Сергей Карпущенко КОРОНОВАННЫЙ СТРАННИК
НЕЧТО ВРОДЕ ПРОЛОГА, ИЛИ ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ
Наталья Петровна Доценко была помещена в психиатрическую больницу № 4 Петербурга в 199… году с диагнозом «маниакально-депрессивный психоз». Шестидесятидвухлетняя женщина на психические расстройства прежде не жаловалась, психических больных в роду не имела, в школе и в институте училась прекрасно, до пенсии работала на одном и том же месте, в Публичной библиотеке. В больнице, на маниакальной фазе, у Доценко отмечалось веселое настроение: она могла в течение нескольких часов демонстрировать соседкам по палате то, как нужно танцевать старинные танцы — контрданс, менуэт, гавот, полонез, мазурку, польку. Закрепив на поясе одеяло, больная показывала товаркам, как поддеживать бальное платье, поднимаясь и опускаясь по лестнице или во время реверанса. В столовой она учила всех правильному поведению, умению пользоваться ложкой (вилок и ножей там не держали), а потом, после приема пищи, пела песни и арии из опер на французском и немецком языке, читала стихи и декламировала наизусть целые страницы из классических романов. И в период пребывания Натальи Петровны на маниакальной фазе болезни её любили все, включая медсестер и врачей, несмотря на крайнюю её назойливость.
Но совсем другого человека видели все в Доценко, когда натупала депрессивная фаза заболевания. Она неподвижно сидела на кровати, крепко сцепив на коленях руки, и смотрела куда-то в угол палаты. Не танцевала, не ела, не замечала ни больных, ни врачей. Но состояние заторможенности внезапно сменялось сильным возбуждением, и Наталья Петровна билась на постели в истерике, кричала, что обделена судьбой, что во всем виноват «коронованный негодяй, лицемерный и трусливый, по вине которого погибли благороднейшие, прекраснейшие сыны России». Наталья Петровна рыдала, утверждая, что если бы не он, то в стране не утвердилась бы на тридцать лет жесточайшая реакция Николая I а большевикам бы потом не было нужды брать власть и заливать страну кровью.
Она металась по палате, кружилась в вальсе, говорила, что слышит позвякивание шпор, шуршание эполет и аксельбантов, разговаривала с кем-то по-французски, произносила слова «господин полковник», «ваше высочество», «соблаговолите выслушать», улыбалась, громко хохотала, а потом зрачки её расширялись, и Наталья Петровна бросалась то к одной, то к другой больной, оторопело смотревших на её буйство. Она называла их хамками, вонючками, кухаркиными дочерьми, кричала, что никто из благородных никогда не подал бы им руки, и только они, равнодушные, черствые и необразованные, виноваты в том, что происходит в стране, и ей приходится терпеть их присутствие, хотя она дворянка, а её отец был академиком, которого расстрелял кровопиец Сталин. И больная пыталась посильнее ущипнуть женщин, схватить за волосы, ударить, плюнуть в лицо.
Но потом психопатка успокаивалась, возвращалась к своей постели, доставала из тумбочки толстую тетрадь с ветхой, но тщательно подклеенной обложкой. Опасливо закрывая её рукой, принималась листать, тихо плакала и все твердила: «Ах, папа папа! Если бы случай не свел тебя с этими проклятыми документами, ты был бы жив, жив!» Так она и сидела день и ночь с тетрадью на коленях, и никто, даже главврач, не мог убедить Наталью Петровну лечь в постель. Только инъекция тофранила делала женщину послушной, и она засыпала, не выпуская из тощих рук свое сокровище с желтыми, замусоленными страницами.
Она умерла от кровоизлияния в мозг, а поскольку родных у покойной не было, то старая тетрадь, которой умершая так дорожила, перекочевала в ящик стола главного врача больницы, потому что психиатру давно уже хотелось взглянуть на записи, так волновавшие пациентку. Врач работал над докторской диссертацией, стемясь доказать ученому миру, что бред сумасшедших по своему содержанию может вести к пониманию некоторых тяжких заболеваннй душевной природы. Но, ознакомившись с записями, врач разорчаровался: для него они интерес не представляли, являясь сухим по форме перечнем этапаов чьей-то исследовательской деятельности на поприще исторической науки.
Судя по подписи, поставленной на последнем листе, тетрадь была заполнена записями, сделанными академиком Петром Мефодьевичем Доценко, отцом Натальи Петровны. Вначале академик сообщал, что его вызвали в Народный комиссариат внутренних дел для изучения дел, обнаруженных в архиве, находящемся в Ленинграде, в период проведения ремонтных работ, когда за снесенной капитальной стеной нашли вместительный тайник. Документы лежали в тайнике более ста лет, но по причине сухого микроклимата совсем не пострадали. Но вовсе не это обстоятельство удивило академика — внимательно изучив бумаги, он был поражен тем, что исторические события конца первой трети XIX века, имевшие место в России, получали иное толкование. Главные действующие лица этих событий действовали не так, как об этом писалось в учебниках и даже в солидных монографиях. Хорошо известные факты, хоть и оставались фактами, но неожиданно приобретали иную окраску, будучи следствием совсем иных человеческих мотивов.
Доценко сообщал, что, по изучении дел, он составил пространную записку с изложением результатов работы, и тут же не преминул высказать свои соображения по поводу того, что найденные документы способны перевернуть привычные представления об историческом процессе, протекшем за последние сто с лишним лет, однако предлагал незамедлительно опубликовать их. Академик считал, что таким образом будет восстановлена истина. В заключение Доценко сообщал о том, что за ним установлена слежка и сетовал на самого себя за поспешное предложение предать гласности содержание найденных бумаг…
Поразмышляв над прочитанным пару вечеров, врач вскоре забыл о тетради и порой вспоминал о ней с улыбкой, уверившись в том, что не академиком Доценко была заполнена она, а психически больной женщиной, бредившей иллюзиями, которые переносили её в иной мир, где шуршали бальные платья, сверкала бахрома эполетов, звенели шпоры, где все говорили по-французски, верили в справедливость и где не оставалось места для хамства торгашей и нищенского подаяния, называющегося пенсией.
А как-то раз, находясь в компании, врач разговорился с одним литератором и с улыбкой., боясь, что тот сочтет его предложение неуместным. порекомендовал ему прочесть записи больного человека, способные дать пищу для размышлений о природе человеческой натуры и, возможно, послужить фундаментом для занимательного романа, не исторического, конечно, а в некотором роде мистифицирующего читателей.
Писатель, давно уже испытывающий некоторый духовный вакуум и дефицит вдохновения, взяв у врача записки Доценко (или его дочери) со снисходительной улыбкой, был тем не менее потрясен прочитанным и, не боясь. что и его самого может постигнуть участь несчастного академика, написал повесть, связав факты, почерпнутые в тетради, мостами воображения, будучи всецело уверенным в том, что сами факты могли быть в истории нашего Отечества.
1 ЗАГОВОР В БОБРУЙСКЕ
Да, недаром Александр Павлович, русский император, в глубине души счиатл себя военным стратегом. Как можно было отказаться от проекта генерал-майора Оппермана, когда последний в 1810 году принес ему проект строительства сильной крепости на возвышенном месте. там, где река Бобруйка впадала в Березину.
— Что ж, генерал, — осветилось приветливой улыбкой лицо царя, — твой план изряден. Построим крепкий опорный пункт в Полесье, и тогда вся Западная граница окажется под нашим неусыпным присмотром.
— Все верно, ваше величество, — расстаял Опперман, — вы — гениальный провидец. При помощи Бобруйской крепости мы запрем ворота Российской империи на замок. Вся Европа станет завидовать вам.
— Ну так возьми на себя дело по возведению крепости. В средствах можешь не стесняться. Речь идет о благе моей страны.
— И Александр, чрезвычайно довольный собой, поднялся. давая генералу понять, что аудиенция окончена. Мог ли знать «гениальный провидец», какую роль в его судьбе сыграет крепость, о строительстве которой он отдал приказ с такой охотой и легкостью?
— Бобруйская крепость росла быстро, как гриб на промоченной дождем земле. Согнали тысячи крестьян, привели полки, и при помощи копеечного да и вовсе бескопеечного труда, при содействии затрещин, зубокрошения и розог появился вскоре на господствующей над местностью высоте вал с целью бастионных фронтов, усиленных равелинами. Не забыл мудрый Опперман вырыть и замаскированные волчьи ямы, пороховые погреба, устроить блокгаузы и казематы для гарнизона. И один лишь Бог ведал, сколько казенных рубликов осело в карманах инженеров и подрядчиков, но состояние казны было вопросом не их заботы — главное бы к сроку поспеть, так и поспели ведь…
В июле 1812 года корпус славного маршала Даву появился в окрестностях Бобруйска, и жерла трехсот тридцати пушек крепости смотрели на французов так грозно и авторитетно, что те прямой атаки не предприняли и только блокировали Бобруйск, что и требовалось русским, чтобы спасти армию Багратиона, сковав французские полки.
Закончилась война. Из шестисоттысячного войска, приведенного в Россию, гордый император Франции после переправы через Березину имел едва ли тридцать тысяч. А русский император был предельно счастлив, вспоминая, что и заложенный по его указу Бобруйск в деле разгрома неприятеля сыграл не последнюю роль. Поэтому и любил Александр Павлович свое детище, как любят только самих себя, видя в удачном творении, как в зеркале, отражение собственных талантов. В 1817 году, будучи в Бобруйске, деловито оглядел окрестности, небрежно бросил:
— Если вон на том холме враг когда-нибудь додумается поставить пушки, то с Бобруйском будет покончено. Укрепите холм, и укрепление пусть будет названо… ну хотя бы в честь Фридриха-Вильгельма Прусского.
Никто не понял, с какой стати император выбрал для новой крепостицы такое прозвание, но не прекращавшиеся доселе работы закипели с утроенной силой, так что округа гудела, как растревоженный пчелиный улей. Все те же крестьяне, солдаты, вольные охочие люди да каторжные, которых пригнали под Бобруйск, спешили исполнить волю царя, не забывая, что гробят здоровье да и жизнь ради покоя России, способного быть разрушенным в одночасье, если какому-нибудь новому Наполеону взбрендится в голову идти воевать державу. Умирали одни — на их место пригонялись другие, чтобы с носилками и тачками, с волокушами и бадьями, с мешками из рогожи и кадушками таскать, насыпать, грузить, перекатывать, трамбовать, рыть землю и песок, возводя все новые и новые постройки Бобруйской крепости: цейхгаузы, блокгаузы, казармы. А вскоре стал подниматься над постройками цитадели и красавец собор, построенный во имя святого Александра Невского.
Брали для строительных работ и солдат из полков девятой дивизии, расположившихся вокруг крепости лагерем. Высокими сугробами белели повсюду солдатские палатки. Офицеры же старались коротать ночи в построенных для них дощатых бараках, в избенках, а то и на квартирах обывателей в городе, огибавшем крепость наподобие подковы. Стояли теплые сентябрьские дни 1823 года, по лагерю упорно ходили слухи, что не сегодня-завтра явится в Бобруйск сам император Александр, и это раздражало многих. Нижние чины по причине спешного выступления к крепости не захватили старых, запасных мундиров, а поэтому работать приходилось в той одежде в которой они вышли бы на смотр. Как, ни береглись солдаты, заляпанные глиной мундиры отстирывать и чистить вовремя не удавалось, а поэтому командиры рот и батальонов про себя материли полковников, желая, чтобы гнев государя пал именно на их головы, когда тот заметит затрапезный вид солдат.
…Сумерки окутали крепость, город и лагерь, но суматоха в нем не утихала. Слышался говор нижних чинов, хриплые команды и ругань унтеров, скрип тележных колес и храм лошадей, а в одном из офицерских бараков молодой мужчина в штаб-офицерском мундире, застегнутом на все пуговицы, мерил шагами тесное пространство своего жилища, а его товарищ, совсем молодой еще, полноватый, въерошенный, сидя в одной крахмальной рубахе на узком походном топчане, лениво посасывал мундштук трубки с длинным чубуком, неодобрительно глядя на ходившего взад-вперед человека. В конце концов ему, как видно надоело смотреть на беспрерывное движение офицера и он раздраженно заговорил;
— Серж, да прекрати ты сновать куда-сюда, будто волк в клетке. Чего растревожился? Застрелим Александра, да и дело с концом. Я, конечно, Пестелю возражал, когда он настаивал на казни всей императорской семьи, но совершенно с ним согласен был, когда он говорил: пленение государя только к междоусобице приведет. Ну, не под силу тебе в Алексашку стрельнуть, так я сам это сотворю, и не моргну даже. Сядь, охолонись! Квасу вон выпей. Твои черниговцы отменный суровец* ((сноска. Кислый квас для окрошки (здесь и далее примечания автора.).)) готовят, не то что мои безрукие полтавцы.
— Да отстань ты, Мишель! — только и махнул рукой тот, кого именовали Сержем. — Дай подумать немного!
— Ну, думай, думай, а я вот выпью…
И молодой офицер плеснул из кувшина в жестяную кружку светлого, пенящегося кваса, а Серж продолжал ходить из угла в угол, бормоча про себя::
— Так какое же правление сходно с законом Божьим? Такое, где нет царей. Стало быть, Бог не любит царей? Нет, они прокляты суть от него, яко притеснители народа, а Бог есть человеколюбец. Выходит, и присяга царям Богу противна? Да, противна! Господи… присяга… да что же я такое говорю? Хотя, все равно, поздно уже сомневаться…
Внезапно противный, надсадный голос, раздавшийся у самого оконца, прервал размышления Сержа. На улице кричали:
— Да где ж ты, сучий выродок, штаны-то свои так изорвал? Знаешь, что я с тобой, гамнюк, сотворю за оные штаны?! Кишку вырву да собакам кину! Вот сволочь!
Послышались глухие удары, чей-то приглушенный стон, а потом и лепет:
— Виноват, господин фельдфебель, так ить сукну уже два года минуло, нагибался, как бревно поднимал, вот и лопнули…
— Требуха твоя сейчас лопнет, гнида! Покажу, как казенные штаны в небрежении держать!
И снова раздались удары, а офицер с эполетами штаб-офицера подскочил к окну, разом отворил его и, высовываясь наружу, закричал:
— Фердюк, собака злая! Доколь тиранить будешь?
И голос, в котором вместе с виной слышалась затаенная насмешка, отвечал:
— Ну, как прикажете, ваша сыкородие, но ить ежели сих варнаков пригляду за мундиром не учить, в срамотном виде на смотр государев выйдут. Опосля сами ж браниться станете.
Серж ничего не сказал, только в сердцах захлопнут оконце и остановился рядом с ним в нерешительности, словно стыдясь своего поступка, а молодой человек с трубкой, улыбаясь, заметил:
— Да, господи Муравьев-Апостол, браниться и ты мастак, Чего на фельдфебелишку-то въезля?
Подполковник Черниговского пехотного полка не ответил, только, досадуя на себя, сдвинул красивые брови, понимая, что и сам обмерзился среди младших командиров, мордовавших солдат из страха, что перепадет от офицеров, увидевших в строю грязных, неприбранных нижних чинов.
«С головы рыба гнить начинает, с головы! — думал он. — Да только не с головы полковых начальников, а с головы, украшенной царским венцом. Так снести её, как хочет Пестель и Мишель Бестужев? Нет, погодим! Народ, Россия нам цареубийства не простит, вечно на нас эта кровь виднеться будет. Иначе с императором разберемся!»
Размышления Сергея Муравьева были прерваны стуком в дверь, и подполковник, давно уж ждавший этого стука. метнулся к выходу, сам дернул на себя дверь, радостный и возбужденный, прокричав: «Да заходи же!»
Пригибаясь, чтобы не зацепиться за косяк султаном кивера, в барак прошел высокий офицер, и Бестужев-Рюмин, сразу вставший, увидел красного карабинера, недоуменно взглянувшего на молодого человека с трубкой и в голландской рубахе с кружевом, пущенным по вороту.
— Серж, — даже не повернул он к Муравьеву головы, — ты говорил мне, что мы будем толковать с глазу на глаз.
— Базиль, не беспокойся. Это — моя правая рука, прапорщик Полтавского полка Мишель Бестужев-Рюмин. И ты будь спокоен, Миша — перед тобой капитан восемнадцатого егерского Василь Сергеич Норов.
Офицеры пожали друг другу руки, хотя Мишель и не сумел скрыть в своем взгляде ревности. Он немало слышал об этом Норове: герой, под Кульмом французская пуля, угодив ему в ляжку, прошла навылет, а Базиль, перевязав рану носовым платком, продолжил атаку — теперь ордена святых Анны и Владимира, о которых Мишель только грезил, украшали грудь Норова, мундир же молодого прапорщика все ещё был девственно чист. Не мог Бестужев-Рюмин, ревниво глядящий на капитана егерей, не вспомнить и того, что послужило переводу Норова из гвардии в армию — вся армия уже целый год толковала об этой истории. А случилось чрезвычайное: во время смотра в Вильне великий князь Николай, придравшись к чему-то, сделал Базилю грубый выговор, и Норов не смолчал, не попытался смущенно оправдаться, а просто вызвал брата императора на поединок, заслав к нему секундантов. Но разве мог великий князь дать сатисфакцию простому капитану? Правда, была задета честь полка, и офицеры договорились, бросая жребий, подавать в отставку через каждые дня дня. Блестящий, хорошо вымуштрованный гвардейский полк стал разваливаться, и даже сам командин дивизии генерал Паскевич не мог успокоить разгневанных офицеров. Сам император узнал об этом скандале и поспешил урезонить Николая, сказав, что грубый тон в обращении с офицерами не уместен. Скрепя сердце, Николай послал за Норовым, попытался обласкать его и утешить, да только позволил себе фразу:
— Ах, Норов, если ты знал, как порою обращался со своими маршалами Наполеон, так не сердился бы и на мою горячность!
Базиль же, усмехнувшись (говорили, что так оно и было), ответил:
— Ваше высочество, но я столь же мало похож на наполеоновского маршала, как вы — на императора Франции!
И теперь этот гордый и смелый Базиль Норов стоял в убогом дощатом бараке перед ним, Мишелем Бестужевым-Рюминым, готовый выслушать то, что хотели предложить ему главари тайного общества.
— А теперь, Базиль, я перехожу к главному… — заговорил Муравьев-Апостол, движением руки приглашая Норова сесть на неуклюжий табурет, но Бестужев-Рюмин, так и не выпустив из руки чубук, сделал порывистое движение в сторону Сержа, будто пытаясь этим прервать поток слов единомышленника, и с приглушенной горячью сказал:
— Рано, Сережа, рано! Или не говорили тебе, что к господину капитану намедни сам Николай Павлович изволил заходить? Так пусть вначале господин Норов нам расскажет, о чем они с ним тары-бары разводили. Али не знаешь, что смолоду они дружны были, в бирюльки вместе играли?
Норов метну на Мишеля горячий взгляд, полупрезрительно сказал:
— Что ж с того, что играли? Да, было дело, когда я ещё в Пажеском корпусе учился. Ну так в чем повинен? Матушка Николая, Мария Федоровна, меня среди прочих воспитанников выделила да и в друзья сынку назначила. Отказаться, что ль? Ну, стал я с Николаем в солдатиков играть, из пушек игрушечных стреляли, крепости строили. Да только однажды стал я побеждать, а Николаша, видя это, губки свои поджал, злостью да обидой весь налился и моих солдатиков возьми да и смахни — спесь великокняжеская в нем взыграла.
— Ну, а ты? — глухо спросил Муравьев.
— Я-то? — усмехнулся Норов. — А в рыло великому княженку так и врезал, он — в мое, покатились по полу, сцепившись, еле нас растащили. Но после случая оного меня от особы августейшей поспешили удалить. А касаемо посещения меня Николаем Павловичем, который как главный по инженерной части прежде императора в Бобруйск приехал, так и впрямь — был у меня, примирения искал, говорил, сколь вольготней жизни гвардейцев петербургских: побалуются летом в Красном Селе, в лагерях, а потом — в столице живи да токмо в караулы дворцовые ходи, нехлопотные и приятные. О кухмистерских роскошных рассказывал, об актерках…
— Или не соблазнились? — не скрывая ехидства, спросил Мишель.
— Нет. Пусть уж грязь белорусская да избушки заместо квартир петербургских, лишь бы только не под пятой державных глупцов сидеть. Не по моей натуре бытие сие.
Муравьев кинулся к Норову, страстно обнял его, голову в сторону Бестужева скосив, сказал, блестя слезами, мигом подернувшими его красивые глаза:
— Ну, Миша, и ты ещё сомневался в этом офицере? Он самодержавно больше нагего ненавидит, деспотию чует не понаслышке, а собственным нутром гадость её прочувствовал. А ты гримасы недоверия корчишь. А все от младости лет да от неопытности. Наш Василий Норов, наш, и так же не приемлет унижение народа, поселения военные, воровство да казнокрадство. Нет, не гони его, Миша, не гони!
— Бестужев-Рюмин сумущенный, устыдившийся собственного злосердечия, проистекавшего, как он сам понимал, от одной лишь зависти к герою-капитану, выколачивая из трубки выгоревший табак, проговорил:
— Ладно, Серж, гнать господина Норова не стану. Выкладывай ему, что от него хотели. Да не велишь ли ты вначале денщику поставить самовар да и водки принести. Беседа, смекаю, долгой да трудной будет.
Муравьев-Апостол, страшно довольный тем, что его молодой соратник проникся наконец доверием к такому нужному для д е л а человеку, как Базиль Норов, кинулся к сеням весь радостный и возбужденный, дверь распахнул и прокричал:
— Федька! Федька! Да где же ты, шельмец?
— Да здесь я, вашесывородие, куды ж мне деться…
— Ставь самовар да в шинок слетай за портером, бутылок десять возьми, а водки уж не надобно! — И, обращаясь к офицерам, с улыбкой добавил: Водка в сем серьезном разговоре только помехой станет.
Скоро в сенях загудел самовар, явился портер в бутылках узкогорлых, зеленого стекла. На столе закуска появилась — хлеб, белорыбица слабого посола, выловленная в Бобруйке. Федька ловко выбил пробки, и по жестяным походным кружкам расплескали темный, духовитый портер. Норов, снявший кивер, примостивший его на соседний табурет, одной рукой проигрывал султаном, другой за ручку мятой, видавшей виды кружки взялся:
— Ну, так за что же выпьем, господа?
Серж, весь говорящий от радости и нетерпения, кружкой своею ударил о кружку Норов так сильно, что расплескалось пиво, но даже и не обратил внимания на это Муравьев-Апостол, заговорил со страстью, но приглушенно:
— Ах, Базиль, не знал бы ты, как рад я! Вижу, что дело наше окончится удачей, и ты этому окажешь содействие прямое.
— Ну так в чем же суть дела? — пригубив потртер и губы облизав, спросил егерский капитан, осознавая свою значимость, хоть и не знал пока, что делать нужно.
— А вот в чем! Ты задачи и цели общества нашего знаешь по тем запискам, что я тебе давал читать. Знаю, что самодержавие тебе ненавистно так же, как и нам, и вот настало время прекратить все пустые разговоры и действовать начать!
Вдруг нервное лицо Муравьев-Апостола как-то внезапно перекосилось, точно от испуга или внезапно явившейся мысли. Он поднялся с табурета, подскочил к двери, что вела в сени, приоткрыл её, прислушался, вздохнул облегченно: «Нет, почудилось…» — назад вернулся, строго заговорил:
— Если не ты окажешь нам содействие, Базиль, то и не на кого больше будет положиться. Завтра, сам знаешь, в крепость приезжает император, и, если вознамерился ты посвятить себя установлению в России республиканского правления, то должен будешь оное совершить. Роту егерей, коей ты командуешь, как известно, поставят на ночной караул в доме, где разместится Александр. В твоих руках судьба державы…
— И все-таки пока не понимаю, — улыбался Норов, потягивая из кружки портер.
— Как не понимаешь?! — вспылил Бестужев-Рюмин. — Да он смеется просто! Эдакое недомыслие изображает!
Прапорщик даже вскочил со стула, с кружкой, расплескивая пиво, метнулся туда-сюда, но сильной рукой Сержа был возвращен на место.
— Сердце свое уйми, Мишель, — властно сказал Серж. — Сейчас Базилю я все растолкую. Ну, слушай… Ночью, находясь на карауле, пройдешь ты в спальню Александра, осторожно, тихо его разбудишь, дуло пистолета ко лбу его приставишь и скажешь так: «Ваше величество, вы арестованы». Уверен, у императора поджилки затрясутся, и он на все пойдет…
— На что же, собственно?
— Во-первых, на отречение. Мы будем держать его в каземате до тех пор, покуда он не подпишет указа о ведении конституции!
— Что-то плохо разумею, — пожал плечами Норов. — Если вначале Александр подпишет отречение, то его указ о конституции и силы-то иметь не будет.
— Да не вяжись к словам, Базиль! — вновь поднялся Бестужев-Рюмин. Вначале он утвердит конституционный строй, а уж потом собственное отречение.
— Ну, а если его величество соблаговолит отказаться?
— Кто? этот трусливый заяц, бальный плясун и паяц? — вскипел уже Муравьев-Апостол. — да он в штаны наложит, когда ты поднимешь на него пистолет! Ты начнешь, Базиль, с императора начнешь, а уж мы потом и великих князей арестуем, командующих двух армий, начальников штабов и корпусных командиров, которые с государем приедут. Это вызовет смятение в полках, мы выиграем!
Норов, сидя с поникшей головой, поразмышлял. Тридцатилетний, опытный в вопросах политики и житейских делах мужчина, не спешил дать положительный ответ. Все покуда в предложении руководителей тайного общества казалось ему неясным и по-мальчишески дерзким.
— Ну, а если полки не пойдут за нами? — спросил он холодно.
— Да я уверен в своих черниговцах! — ударил себя в грудь Муравьев-Апостол.
— Я в своих полставках! — вторил полковник Бестужев-Рюмин. — тому ж и алексопольцы Повало-Швейковского — все наши! И вот, представляешь, когда ты захватишь Алексашку, мы двинемся на Москву — путь недолгий, всего полтыщи верст! Дорогой к нам присоединятся другие части, а в Петербурге одновременно с нашим выступленьем поднимется и Северное общество!
— Как, есть ещё и Северное? — удивленно воскликнул брови Норов.
— Есть, Базиль, есть, и потому я тебе о сем сообщаю, что верю тебе, как самому себе, как вот Мишелю.
— Вы, стало быть, и есть главные начальники общества Южного?
— Нет, есть и поглавнее… Пестель, например, — не сразу решившись сделать это признание, тихо сказал Серж и сразу же заметил, что на красивом, хорошо выбритом лице Норова появилась улыбка то ли презрения, то ли горечи:
— Еще по Пажескому корпусу знаком я с Павлом Пестелем…
— Ну так что же? Чем он вам не по душе? — вспылил уже слегка захмелевший Бестухев-Рюмин. — Если бы не Серж, то я бы его предложение о казни, а не об аресте Алексашки сам бы в исполнение привел!
— Я не о том… — грустно заметил Норов. — В корпусе Пестель всеми уважаем был за необыкновенные способности, но всякий видел в нем недостаток чувственности, что отталкивало от Павла каждого — Пестеля не любили. А ещё поражала всех его чрезмерная недоверчивость, понуждала сторониться, ибо нечего было надеяться на то, что дружба с ним будет продолжительной.
— Ну и что? — вскричал Бестужев-Рюмин. — Всякий имеет свои слабости! Моим вот бесам тоже имя — легион!
Норов возвысил голос тоже:
— Но ведь он же великий деспот этот Пестель! Неужто не понимаете, что в случае удачного переворота получите вы своего доморощенного Бонапарта, да ещё и подвластолюбивией французского! Еще большей деспотией обернется для страны революция ваша!
Бестужев-Рюмин больше не кричал — он, взъерошенный, схвативший себя за горло, будто подавился словом, некоторое время глотал открытым ртом воздух, а потом тихо сказал, обращаясь к Сержу:
— Сергей, дал ты маху, пригласив к нам господина Норова да ещё во всем ему открывшись. Нет надежды на его решимость, суесловит только. Ах, сколько мы уж пустословия наслушались и прежде — вижу, тем же все и закончится…
Эти слова, как видно, задели Норова. Он, оставляя подальше кружку, сказал серьезно и даже с заметной угрозой в голосе:
— А вы, господин прапорщик, со своими резолюциями бы не спешили. Мало вы знаете меня. Я воевал, вы же повоевать, — усмехнулся, — по младости лет не поспели. И во мне не только сомнения толка политического ваш прожект вызывает, а ещё и военного. Что ж я, солдат не знаю? Полагаетесь на преданность их делу вашему? Так ведь они же прежде, чем вам поверить, государю присягу давали. Ну, положим, арестуем мы Александра, под караул его возьмем, в каземат посадив. А охранять-то его кто станет: вы, Серж, или сам Пестель на часах встанет сторожить его величество? Нет, рядовых или унтеров у дверей поставите. А положиться можно на твердость духа нижних чинов, которые трепетать будут, как листочки на осине, зная, что самого императора в неволе держат, коему присягу приносили? Да одного лишь словечка Александра, ласкового, обращенного к часовым, или окрика довольно окажется, чтобы мигом запоры с дверей темницы императорской слетели. Жизнью своей или вечной каторгой поплатятся заговорщики, а солдаты — шпицрутенами. Кровью страна захлебнется в междоусобице в случае ином! Получите вы республику!
Норов посмотрел на обоих офицеров строгим, значительным взглядом. Те молчали, считая доводы Базилия небезосновательными. Но Бестужев-Рюмин опомнился быстро, резко вскочил на ноги, крикнул:
— Федька, Федька! А ну, поди сюда! Слышу, что ты в сенях самоваром гремишь!
Денщик, имевший лицо заспанное и немного пропитое, явился не сразу, встал у двери, переминаясь с ноги на ногу. Муравьев-Апостол же вопросительно взглянул на Мишеля:
— Ну, и чего ты от сего эфиопа хотел?
— А узнать желал, что мнит твой эфиоп об особе государя нашего!
— Да что ты делаешь! — кинул Серж на Норова, который улыбался, поигрывая султаном кивера, испуганный взгляд. — Замолчи!
— Нет, не замолчу! Ну, Федька, отвечай да и не бойся ничего. По сущей правде отвечай!
На глупой роже Феди мелькнула лукавая улыбка, но тут же физиономия его вновь приняла выражение сонного покоя, и денщик тягуче заговорил:
— Его величество есть самовластный монарх, который никому на свете о своих делах ответа дать не должен, но силу и власть имеет свои государства и земли, яко христианский государь, по своей воле и благоизволению управлять — артикул двадцать!
Норов беззаботно рассмеялся:
— Вот, видите, что я говорил?!
— Да ты постой, постой, Базиль! — вскричал Бестужев-Рюмин. — Пусть ответит эфиоп: а что, ежели на особу государя кто-либо покусится? Федька, отвечай немедля!
Денщик вздохнул, но проговорил с заученной готовностью:
— Если кто подданный войско вооружит или оружие предпримет против его величества, или помышлять будет помянутое величество полонить или убить, тогда имеет тот и все оные, которые в том вспомогали или совет свой подали, яко оскорбители величества четвертованы быть. Артикул девятнадцать!
Бестужев-Рюмин к Феде подбежал, схватил за рукава мундира, с мольбою в голосе сказал:
— Федюша! Но ведь сие артикулы глаголят, а ты сам-то что разумеешь?
— Не могу знать, ваше благородие! — отчеканил денщик. — Согласно артикулов и мыслю, никак иначе!
Бестужев-Рюмин толкнул служивого так сильно, что тот распахнул спиною дверь, прокричал:
— А и пошел тогда прочь, колода, дурень недоношенный!
И когда смущенный Федя скрылся за дверью, весь опустошенный повернулся к офицерам:
— У дурака спрашивать не следовало…
Норов с веселым лицом встал из-за стола, взял в руки кивер:
— А они все такие, господин прапорщик. На кого полагаться? О том я вам и толковал недавно.
Помолчали, а после Серж с большой надеждой в голосе спросил:
— Стало быть, Базиль, и не полагаться нам на тебя?
Норов пожал плечами, провел рукой по густым, волнистым волосам, ответил:
— Сам пока не знаю. Может быть, в карауле будучи, явится ко мне… минутка, мгновение такое, да и решусь я на арест царя. А на сей момент план ваш мне неисполнимы кажется, ибо исполнение его не токмо от меня. как видите, зависит. Хотя, скажу, строй республиканский и уничтожение самовласти и мне идеей занятной кажется. Теперь же прошу покорнейше отпустить меня — к полковнику спешу с рапортом.
Кивком головы попрощался он с молчащими офицерами и, не надевая кивер, вышел из барака.
Серж и Мишель молчали, даже не смотрели друг на друга. Потом Бестужев-Рюмин, осушив кружку, со сморщенным от досады лицом, тихо проговорил:
— Не Федор дурак, не Федор, а я! Зачем нужно было при этом… при этом блюдолизе великокняжеском у эфиопа об особе императорской вопрошать? Все дело изгадил!
— Да, напрасно ты это сделал, — задумчиво произнес Мураеьв. — Но только не тревожься — решится Базиль на арест Александра. Он только очень осторожный этот наш Васенька Норов, потому-то прямо и не ответил.
— Нет, не осторожный он! Да и не наш он вообще! Для чего привел ты его? Зачем прожект ему открыл? Почему не проткнул я его шпагой или кинжалом? Вынесли бы ночью да и закопали бы где-нибудь. Теперь же донесет он на нас Николаю или коменданту, и все дело наше насмарку пойдет! Арестуют, и не сумею я в императора на смотре выстрелить, о чем тебе говорил! Ах, натворили делов! Задним умом сильны!
И Бестужев-Рюмин ещё долго сидел за столом рядом с пустыми бутылками из-под портера, подперев обеими руками голову, а Муравьев-Апостол даже не пытался утешить его. Он и сам сомневался в том, что Базиль Норов решится арестовать того, кому давал присягу. Лишь в одном был уверен Серж — Базиль их ни за что не выдаст.
2 «ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО, ПРОСНИТЕСЬ!»
На следующий день ни в Бобруйске, ни в лагере, окружавшем его, не видно было солдат в заляпанных грязью мундирах. Полночи не спали солдатики, под приглядом унтеров и младших офицеров приводившие в порядок свою одежду, чистившие амуницию, оружие. При зажженных фонарях выметали сор березовыми вениками с лагерных улочек, посыпали их песком, укладывали двери, выносили подальше и зарывали нечистоты. Лагерь должен был принять государя императора сверкающим красотой, будто невеста, в дом которой приезжают сваха с женихом. Поэтому матерная брань да стук затрещин, раздаваемых направо и налево унтерами, слышались едва ли не до самого рассвета, и лишь пару часов разрешили солдатам поспать, чтобы уж совсем не выглядели в строю верными курицами. И дружный храп, сопение спящих заглушили трескотню кузнечиков, веселившихся в траве, кое-где окружавшей солдатские жилища.
Капитан Василий Сергеевич Норов в ту ночь не спал тоже, но вовсе не потому, что руководил работами, или их шум мешал ему уснуть. Бродя из угла в угол своего тесного барака он вспоминал разговор с Сержем и Мишелем, и мысли, точно сталкивающиеся в небе облака, перемешались одна с другой, рвались на части или вдруг приобретали четкие, прекрасные формы. И чем ближе был час рассвета, тем взволнованней становился Норов, то кидавшийся на вою походную кровать, то вскакивающий с неё и принимающийся вновь ходить по бараку.
«Вишь, чего от меня захотели господа заговорщики! Самого государя арестовать! А не под его ли знаменами я воевал за Родину свою? Самовластие им не полюбилось! Да разве царь русский безгранично применяет его на деле? Разве деспот он восточный? Нет, Александр оплошностей, кои дедом его и отцом чинились никогда не допускал и палку не перегибал. Он правит по законам! Революцию устроить захотели. Да ведают ли они, к чему это приведет? В Англии казнили Карла — появился деспот Кромвель, во Франции Людовика, так пришел Буонапарте, ещё более страшный деспот. А ведь начали французы прекрасно, с Бастилии начали, а после и пошло и поехало. Мирабо тварью продажной оказался. Камилл Домулен, острое перо революции, на Люссили Дюплесси женился, приданое в сто тысяч франков взял и превратился в буржуа. Дантон, министр юстиции, Тюильри штурмовал, утопил Париж в крови сентябрьских убийств, а потом развратничал с малолетками! Робеспьер, совесть Франции, обоим гильотиной головы сбрил, а после и сам погиб. И начались, то есть продолжались злодейства! Всюду убийства страшные, тысячами, спекуляция, предательство, разврат ужасный, грязный! Продажные твари вершат судьбу страны, и устанавливают буржуазные свободы, согласно которым вельможам позволено в театрах отшлепывать аплодисменты на обнаженных задних частях своим дам! И все сие именовалось словом «революция»! Она ничем не лучше, а, может, много хуже того, что разрушает! И вот приходит Наполеон…
А разве все эти Муравьевы, Бестужевы и Пестели не «наполеоны»? Да и я такой, наверно Все мы из-за границы по кусочку растерзанного Наполеона в себе привезли, вот он и шевелится теперь в нас, покою не дает, все рассказывает, как он из простого офицера артиллерийского в императора превратился. Так, выходит, и я императором бы стал с превеликим удовольствием? Боже милостивый, страшно как — нет, уж лучше республика! Свобода, равенство и братство — не химеры!
Но как дать гражданам свободу? Дозволить через представителей народа издавать удобные и справедливые законы? Но закон — это необходимость, а где есть необходимость, там уже нет свободы. Значит, ни в республике, ни в монархии свободы невозможны. Ведь я читал Спинозу и знаю, что свободой может быть лишь освобождение от собственных страстей, и никакие правительства и конституции не сделают человека свободным, ежели он сам не устремится к свободе!
А крестьяне, томящиеся в рабстве? Но разве я не знаю, что немецкие крестьяне, которых освободил Наполеон, не ведали, что им делать со своей внезапно полученной свободой. А равенство? Это химера или нет? Какое политическое устройство сделает людей равными? Республика? Нет! Так же останутся умные и глупые, сильные и слабые, здоровые — больные, красивые и безобразные. Да, равенство химера тоже! Правда, в республике каждый бы имел возможность для возмещения недоданного природой, что дало бы, наверняка, возможность сравняться хоть как-то с остальными и привести себя к гармонии с миром — искусствами, ремеслами, образованием! Ах, как все сложно, невыносимо сложно Так что же делать? Наводить мне на государя пистолет или… или просто застрелиться?»
И, обхватив голову руками, издавая стоны, боевой офицер, видевший в сражениях изувеченные до неузнаваемости тела, сам без жалости убивавший врагов, качаясь, то ходил по бараку, то неподвижно сидел на своем жестком топчане, не зная, как поступить ему на следующую ночь, и только звук труб, возвестивший о побудке, привел его в чувство, и Норов вновь вревратился в статного, волевого командира роты восемнадцатого егерского полка.
Полки, выстроившиеся шеренгами вдоль дороги, что вела к Бобруйску, в полном снаряжении, с ружьями ожидали приезда императора целый день. Иногда солдатам разрешали присесть, достать из шнабсаков ((сноска. Холщовые сумки, носившиеся под мундиром.)) сухари и перекусить, но вскоре вновь слышалась команда: ««стань-а-ть!»» и служившие резко поднимались на ноги, вытягивали шеи, смотрели туда, откуда должен был явиться император со свитой. Все страшно устали, но каждому хотелось увидеть государя, хотя бы его карету, чтобы потом, в палатке, перед сном обменяться друг с другом фразами, вроде: «Ну что ж, сподобил Господь узреть его величество!» — «Да, таперича и помирать можно…», а потом, уже лежа на тюфяках, набитых соломой, помечтать о предстоящем смотре, где всякий постарался бы выказать перед «светлыми очами все свое мастерство, отшлифованное зуботычинами фельдфебелей и матерной бранью унтеров.
Поезд государя появился в виду крепости только к вечеру, по шеренгам солдат прокатилась волна радостной тревоги, все зашевелилось, но мигом громкая команда, повторенная много раз, сковала ряды одетых в мундиры людей:
— На кра-а-а-ул! Для встречи слева-а-а!
Тотчас с треском, дружным и громким, солдаты вскинули перед собою ружья, вытянули вперед подбородки, выпучили глаза, а ходившие позади них унтер-офицеры били кулаками промеж лопаток тех, кто то ли подался вперед и вылез из шеренги или, напротив, отступил. Шипели им в затылки:
— Ничипоренко, послед свинячий, брюхо убери!
— Таратуйкин, говно бычачье, прямей ружье держи да повыше штык! Замордую после!
Все слышней делался стук копыт. Вот на рысях проехали лейб-гусары императорский конвой, — карета покатилась, влекомая четвертой лошадей, чья-то рука, облаченная в белую перчатку, высунулась из окна, помахала солдатам, даже лицо мелькнуло — не государя ли? Вслед за каретой на прекрасных, но уж взмыленных конях скакали свитские — генерал — и флигель-адъютанты. Белые и черные петушиные перья трепыхались на их шляпах, придавая офицерам свиты вид горделивый и франтоватый. Они с улыбками обменивались короткими фразами, но тут крепости грянули орудийные залпы, салютуя в честь прибытия в Бобруйск его величества, а солдаты, скашивая глаза в сторону кареты, широко разевая рты, сопроводили царский кортеж протяжным, громогласным «ура», и потом уж, как проехала карета их величества, им совсем не интересно было смотреть на коляски и фуры, везшие придворную челядь и походное хозяйство его величества.
Норов, как начальник караула, стоял в вестибюле комендантского дома, где были подготовлены покои для Александра, и не видел, как император выходил из кареты, но слышал все, что происходило подле крыльца.
«Посмотрит или не посмотрит на меня? — думал с трепетом Василий Сергеевич. — Если посмотрит да ещё и кивнет, — ведь он знает меня, — то я никогда не решусь. Если пройдет мимо, не взглянув, непременно сделаю то… то самое!»
Послышались шаги. Норов, в полной форме, при шарфе и офицерском знаке, с орденами на груди, с обнаженной шпагой стоял неподалеку от входа. Он знал, что шпага, приготовленная для салютования, могла бы сослужить сейчас совсем иную службу, но он гнал эту назойливо лезшую в голову мысль.
Вот Александр вошел, слегка поприседал, разминая ноги от долгого сидения в карете — на улице сделать это было неприлично. Норов отсалютовал, и, видимо, его движение заметил Александр. Повернул в его сторону голову, почти лишенную волос, настолько круто, насколько позволял высокий воротник генеральского мундира.
— А, Норов! — немного устало, но все же дружелюбно, негромко молвил Александр. — А я думал, что ты в Красном, в гвардии.
— Переведен в армейский полк, ваше величество.
— Ах, ну да, — наморщил высокий лоб император. — Вспомнил — эта неприятная историйка с братом. Но не печалься, вернешься скоро в Петербург.
И тут же вернул голову в прежнее положение и, уже не обращая внимания на замершего Норова, зашагал по ковру в сторону отведенных для него покоев.
Василий Сергеевич проводил взглядом высокую фигуру императора. Все у него внутри трепетало, стыд жег его нещадно — как мог он помышлять о пленении этого прекрасного человека, соблаговолившего так милостиво поговорить с ним, с армейским капитаном?
«Разве это деспот? — с горечью думал он, вспоминая свои мысли. — Разве тиран? Да такого государя ещё не имела Россия. Он правит ею по законам, его сердце полно доброты, снисходительности. А я — подлец, изменник! Нет, нет прощения!»
Два часа ходил Норов по коридорам дома, где повсюду были расставлены его ребята. Каждый смотрит весело, всякий рад, что довелось охранять особу государя. Карабины, заряженные карабины — у ноги. По первому знаку они пустят свое оружие в дело, и ни один злоумышленник не посмеет посягнуть на любимого монарха, помазанника Божьего. Норов зал, что даже не будь у них карабинов, они бы пустили в ход тесаки, дрались бы голыми руками, но Василий Сергеевич также был уверен в том, что прикажи он им схватить Александра, скрутить ему руки и бросить в каземат, на холодный каменный пол, они сделали бы и это. Ему было ведомо, сколь преданы егеря ему, их любимому капитану, потому что он являлся их отцом, а император был какой-то недосягаемой для понимания персоной, н е ч е л о в е к о м., без плоти, без страстей — просто недоступной для понимания идеей.
В доме царица сдержанная суета. Быстро проходили туда-сюда по коридорам большого дома камердинеры, лакеи, флигель-адъютанты, стараясь выказать усердие, с озабоченными, злыми лицами понукали прислугу. Император хотел есть, а ужин задерживался. Дважды прошел мимо Норова комендант крепости Берг. Почти вплотную придвинул к его лицу свое потное, опушенное густыми бакенбардами лицо, проговорил:
— Смотрите в оба, господин капитан. Мне хорошо известно о брожении умов в среде офицеров расположившихся близ крепости частей. Не приведи Господь обеспокоить как-нибудь особу их императорского величества — многие головы полетят, да и ваша тоже.
— Мои егеря всецело преданы мне, ваше превосходительство, — ответил Норов, и отчего-то злоба вдруг вскипела в нем.
— Вам… преданы? — спросил Берг, точно заметил какую-то насторожившую его деталь в интонации капитана.
— Именно мне, ваше превосходительство, — не моргнув, сказал Василий Сергеевич.
— Ну, ну, — бросил Берг уже на ходу и буквально побежал в сторону зала, где готовили ужин.
Отужинал Александр быстро. Все видели, что его величество утомлен, рассеян. Обычно такой любезный, охотно шутивший с каждым, кто оказывался с ним за одним столом (в особенности с женщинами), Александр молчал, хоть и ел с аппетитом, и все отнесли молчаливость императора к желанию поскорее закончить ужин и отправиться в спальню. Правда, Берг, внимательно следивший за Александром и боявшийся того, что дурное настроение царя связано с усмотренными при въезде в крепость недостатками в строительстве новых укреплений, пожелал успокоить себя и спросил тихонько у сидевшего с ним рядом лейб-медика баронета Виллие:
— Их величество не болен?
— О, нет, — ответил иностранец, так и не выучивший в совершенстве русский язык. — Чуть-чуть ипохондрия, это должно пройти.
Но этот ответ совсем не успокоил коменданта — напротив, Берг встревожился ещё сильнее, решив, что ипохондрия царя вызвана именно неудовольствием.
Покончив с десертом, Александр поднялся, и все поднялись тоже. Не говоря ни слова, одним лишь кивком головы дал всем понять, что ужин окончен, и быстро удалился в свои покои, сопровождаемый лишь генерал-адъютантом Волконским. Присутствовавшие на императорской трапезе гости стали расходиться. Норов, стоявший у входа в столовую, видел, что все выходили в коридор в мрачном расположении духа. Некоторые обменивались короткими фразами, говорили, что государь сегодня был «не в ударе», каждый предчувствовал, что завтрашняя инспекция крепости и скорый смотр частей армии может обернуться для многих немалыми неприятностями. А скоро и в коридоре снова лишь одни лакеи, уносившие на кухню блюда с почти нетронутой едой, чтобы там вдоволь полакомиться кушаньями с царского стола да сдержанно посудачить о том о сем, пообсуждать поведение всех присутствовавших на ужине особ.
Спальня императора располагалась рядом, и от столовой её отделяла лишь стена, но каждый дворцовый слуга знал, что, если уж Александр удалился почивать, то заснет быстро и будет крепко спать, ни разу не повернувшись за ночь. Лакеи, как и многие в государстве, знали, что государь туг на ухо, а поэтому и не пытались даже вести себя потише. Они весело переговаривались, гремели посудой, топали ногами, и Норов понимал, что такое поведение доставляет им особое удовольствие — надо же, в тесной близости с властелином огромной державы его слуга становился как бы выше самого государя, наделенного, знали лакеи, кучей недостатков физического свойства, обладавшего слабостями обыкновенного человека.
«Холопы, скоты! — с ненавистью смотрел на лакеев Норов. — Истинно говорят: не существует для лакея героя, но ведь это происходит только потому, что они — лакеи, с холопскими душонками! Ах, был бы я на месте Александра, поплясали бы они у меня на конюшне, разложенные на лавке голыми задницами вверх!»
И он тотчас поймал себя на мысли: «Как, я мечтаю быть императором? Да нет, чушь какая! Я так и не думал, просто я лакеев ненавижу!»
И Норов, боясь сорваться и кинуться на слуг с кулаками, вновь пошел по коридорам дома, чтобы проверить караулы, заглянул в кордегардию, где отдыхали егеря, уже сменившиеся с постов, вновь пошел по комендантскому дому, скоро успокоившемуся, уснувшему. Теперь в столовой не было даже суетящихся лакеев, и стол был чист, накрыт дорогой парчовой скатертью, и лишь одна китайская ваза стояла на нем. Все было погружено в тишину, и лишь несколько свечей горели в бронзовых бра, выхватывая из темноты затейливый орнамент богатых рам, которые украшали картины, висевшие на стенах.
Вдруг Норову отчего-то захотелось посмотреть, что изображено на этих картинах, и он пошел вдоль стены. На него смотрели лица неведомых ему людей, перед ним открывались виды с руинами замков, столы, заваленные снедью — все оказалось не интересным ему, но какая-то сила все влекла и влекла его вперед, покуда он не остановился возле высокой филенчатой двери и сразу осознал — эта дверь вела в спальню Александра.
«А что, один ли спит император или с камердинами? — подумалось как бы невзначай Василию Сергеичу. — А что, если приоткрыть дверь да посмотреть?»
И его рука в нитяной перчатке, будто сама собой, потянулась к бронзовой ручке и осторожно надавали на нее. Без скрипа язычок запора освободил дверь и она бесшумно отворилась.
«Я — начальник караула и вправе следить за покоем во вверенном мне доме, — подумал, как бы утешая самого себя Норов, просовывая голову в проем между дверью и косяком. — Ничего не будет зазорного, если Александр Палыч увидит меня…»
В спальне царил полумрак. Только три свечи, вставленные в трехрогий шандал, стоящий на столике неподалеку от алькова с постелью императора, освещали комнату. Взгляд Норова приник к белой горке, возвышавшейся над неширокой кроватью. Зоркие глаза капитана видели, что «горка» то немного вырастает, то опадает вновь — понятно, что Александр крепко спал, дыша ровно, так что слышалось его довольно громкое сопение. Кроме него, в спальне никого не было, и Норов, отчего-то испугавших этого обстоятельства, осторожно прикрыл дверь.
Сердце стучали, а почему колотилось оно так бешено, Василий Сергеевич и сам бы не дал себе отчета.
«Вот, он там один, а если б с камердинером спал, все бы проще было. Спит, как самый обыкновенный человек. почти храпит — с презрением подумал он. — И, может быть, правы те холуи, что убирали со стола? Да, конечно, они правы, и я зря ругал их! Это для моих егерей, для всего российского народа, для всей Европы Александр — великий монарх, победитель Наполеона. Все трепещет перед ним, все покорно этому лысоватому человечку, волею судеб вознесенному на недосягаему высоту, а он — храпит, и под его кроватью ночной горшок. Ах, как правы слуги, смеявшиеся, когда этот властелин укладывался спать. Им-то виднее, потому что они ближе к нему. А разве я, к примеру, не мог бы стать императором? Я, прошедший от начала до конца всю страшную войну с Буонапарте? Не я ли заслужил ордена за храбрость? А с какой кстати этому бездарному царишке надели через плечо Андреевскую ленту? За что назвали Благословенным? Не благодаря ли мне? Да, конечно! Так, выходит, я не менее его заслуживаю, чтобы лежать в этой спальне, а завтра ездить по крепости, делать замечания, куда более дельные, чем сделал бы он, а потом смотреть на то, как маршируют передо мной полки! Да во всем этом я разбираюсь лучше, чем это ничтожество! Наполеон был во сто крат талантливее казненного Людовика, а я — этого тугоухого пустопляса, который был не способен даже оставить после себя наследника престола! Да, — я ношу в себе частицу Наполеона, и я должен стать диктатором, я, а не какой-нибудь там Пестель, тщеславный болтун, или Серж Муравьев. Кто решился на такое дело, тот и будет управлять страной, покуда народные представители не скажут, что делать дальше с делом управления Россией! Все, долгожданная минута наступает!
Он вновь решительно взялся за ручку двери и надавил её вниз, дверь отворилась, и, стараясь не скрипнуть сапогами, Норов, вытаскивая из кармана мундира пистолет, не отрывая взгляда от белой «горки», двинулся к алькову. А в голове, точно шестеренки хорошо отлаженных английских часов, крутились мысли, холодные и четкие: «Сейчас я разбужу его, велю одеться и под угрозой пистолета выведу из спальни. Мы пройдем мимо моих ребят, и они даже не заподозрят неладное. Потом я введу его в кордегардию, пошлю толкового унтера или сразу двух к Муравьеву-Апостолу и Бестужеву — пусть своих черниговцев и полтавцв поднимают, ведь они тут же все поймут, поймут, что я сотворил. Я же вначале запрусь в кордегардии, сделав Александра своим заложником. Если кто-то попытается взломать дверь, скажу, что убью императора. Потом мы переведем его в каземат и потребуем вначале подписать указ о введении конституции, а после и манифест об отречении. Вот так-то…»
Он пошел к алькову. Александр крепко спал с полуоткрытым ртом, и слюна стекла на подушку, расшитую кружевами. На голове царя был вязаный колпак, и Норову подумалось некстати: «Елизавета, должно быть, вязала мужу, чтобы головке, волос лишенной, нехолодно ночью было». Он ещё с полминуты смотрел на спящего, а потом, направляя пистолет прямо ему в лицо, потряс императора за плечо…
Александр проснулся мгновенно — Норов даже и не ожидал такого скорого пробуждения от крепко спящего человека. Оторвал от подушки голову, а когда увидел направленный на него пистолет, резко приподнялся, опираясь на локоть.
— Кто здесь?! — испуганно и довольно громко спросил император, а Норов, уже не боявшийся ничего, приложил к губам палец:
— Тише, ваше величество, шуметь не надо!
— Норов, это ты? — словно повинуясь приказу капитана и на самом деле говоря почти шепотом, спросил Александр. — Что ты делаешь здесь и почему у тебя пистоолет?
— Ваше величество, — с холодным злорадством, понимая, что в его власти сейчас находится монарх России, а он его подданный, повелевает им, заговорил Норов, — я пришел к вам от имени тайного общества, задавшегося целью превратить империю в республику. Я арестую вас, и не пытайтесь кричать и звать на помощь. В ином случая я просто… застрелю вас, мне нечего терять!
— Но как ты посмел?
— Не стоит задавать пустые вопросы, ваше величество. Одевайтесь. Вам помочь? И помните: выстрел будет ответом на ваш крик.
Тяжело дыша и хватаясь за левую часть груди, Александр с трудом поднялся, спустил с кровати ноги. Норов видел, что царь сильно возбужден. Обхватив голову руками, он сидел ошеломленный и подавленный, тихие, неясные слова слетали с его сухих губ, и Норову показалось, что он просто сетует на судьбу.
— Да одевайтесь же! — тоном, каким отдают приказы, потребовал Норов. Мне каждая минута дорога! Вам принести одежду? Начнете с панталон или сорочки?
Но Александр был недвижим. Он даже перестал бормотать и убрал с головы руки, опустив их на край постели. Норов видел, что Александр сидит на кровати уже не в прежней позе подавленного горем, оскорбленного до глубины души монарха. Скорее задумчивость наполняла сейчас все сознание Александра. Этого Норов совсем не ожидал, и он отчего-то испугался:
— Да вы оденетесь или нет? Или вы хотите, чтобы я убил вас, что послужило бы поводом к кровавой междоусобице в стране? Нам нужно от вас лишь отерчение.
Сидящий вдруг поднял на Норова свои большие, светлые глаза. Все лицо его выражало спокойствие, почти безмятежное спокойствие, а губы едва заметно растянулись в улыбке.
— Норов, ты хочешь моего отречения? Что ж, я отрекаюсь…
— Ну так и собирайтесь же! — в тревоге воскликнул капитан.
— Нет, постой, — помотал головой, обряженной в смешной колпак, император. — Я отрекаюсь, но не желаю, чтобы власть переходила к бунтовщицам. Сам не знаешь разве, чем кончилась для Франции революция?
— Не к бунтовщикам перейдет высшая власть в стране, а к диктатору. Им будя я, покуда народные избранники не решат, что делать дальше.
И снова царь помотал головой с горькой улыбкой на лице.
— Нет. Норов, не нужно этого, диктаторства не нужно. Я знаю твой характер ещё с тех пор, как ты подрался с Николаем. Ты сам бы не отказался стать… императором…
— Да что вы такое говорите? — молвил Норов, пораженный прозрением Александра. — Одевайтесь…
— Нет, сядь со мною рядом, Норов, — ласково предложил Александр. — Не бойся, я не стану кричать. Я просто должен тебе кое-что сказать.
Не приказ монарха, а просьба человека, имевшего в душе что-то большое, пока ещё непонятное Норову, имевшего какую-то тайну, заставила Норова опуститься на кровать рядом с Александром. Он все ещё держал пистолет наведенным на императора, но тот словно не замечал оружия.
— Послушай, — тихо начал Александр, — престол давно уже тяготит меня, и скрыться за стенами какого-нибудь монастыря было бы для меня величайшей отрадой. Я уже давно решил оставить трон, но можешь представить, как отнеслись бы к этому шагу в России, в Европе, во всем мире? Победитель французов, человек, повелевающий шестью частью суши, вдруг уходит в монахи!
Норов молчал. Вначале он подумал было, что Александр просто собрался усыпить его бдительность, вызвать к нему сострадание или просто обмануть. О лукавстве императора Норов слышал не раз, а поэтому твердо сказал:
— Нет, я не верю вам, ваше величество. От трона не отказываются добровольно, да и каким же образом, скажите, я смог бы заменить вас на троне? Ведь вы именно на это и намекали мне?
— Не намекал, нет! — с горячностью возразил государь. — Я уйду, сейчас же покину этот дом, а ты… останешься.
Норов был ошеломлен. Не веря своим ушам, он спросил:
— Как это… останусь? В каком же качестве? Вы что же, добровольно передадите скипетр мне? Но не вам ли лучше всех известно, что правила престолонаследия требуют передачи царственной власти по прямой мужской линии! Не ваш ли батюшка утвердил такой порядок?!
— Все верно. Норов, все верно! — горячо зашептал Алексадр, продвигаясь к капитану ближе. — Но мы и не станем попирать закон!
— Тогда я вас не понимаю! Вы просто смеетесь надо мной! Вы, государь, уйдете, а я останусь в вашей спальне? Завтра же в неё войдут все те, кто прекрасно знал, что монарх России — Александр, а вовсе не какой-то егерский капитан. Или вы мне предлагаете сослаться на ваше… странное решение и поставить всех перед фактом: страной отныне правит император Василий Норов? Да вы, простите, великодушно, белены объелись!
Александр не обиделся. Он лишь печально улыбнулся, но тотчас его глаза заискрились озорством:
— Нет, не Норова встретят они выходящим из спальни, а меня, то есть вас в обличьи государя!
Норов, не боясь того, что он будет услышан, расхохотался. Разговор принимал престранный оборот, Александр явно издевался над ним, видно, пытаясь выиграть время, но смех капитана внезапно вызвал на лицо царя выражение глубочайшей серьезности, и император сказал:
— Я не шучу, Норов. Теперь же внимаательно послушайте меня и не перебивайте, ведь я все-таки… ваш государь покамест. Так вот, я ухожу, вы же остаетесь. Человек вы благородный и, уверен, умело распорядитесь властью, дабы принести России одно лишь благо. Я немало сделал для своей страны, я устал царствовать, мне не под силу новации вроде введения республиканского правления. Вы же осуществите это от моего имени. теперь о главном, Чтобы никто не смог заподозрить обман нужно сильно изменить вашу внешность, до неузнаваемости. Вы моложе меня, но ростом мы под стать друг другу. Сие немаловажно — вы без труда сумеете облечься во все мои одежды. Теперь же о лице… Вам не доводилось наблюдать, как обезображивает оспа лицо человека?
— Ну как же, видел… — слушал Норов Александра, словно зачарованный. От тихой, но страстной речи царя исходил какой-то могучий поток энергии, обволакивавший сознание капитана.
— Так вот, сейчас я приглашу сюда лейб-медика, господина Виллие. Он чрезвычайно предан мне…
И Александр сделал попытку встать с постели, однако Норов, подумавший, что император так долго улещал его своей речью лишь для того, чтобы уйти из спальни и позвать на помощь, грубо схватил его за руку:
— Нет, никуда вы не пойдете!
— Да пустите же, Норов! — с неприязнью высвободил Александр свою руку и с укором посмотрел на капитана, — Не верите слову императора? Я обещаю вам вернуться с медиком. Это в моих интересах!
— В длинной ночной рубахе, в колпаке, Александр быстро пошел к дверям, отворил их, а Норов так и остался на кровати. Он был уверен, что сейчас явятся флигель-адъютанты, и он будет арестован. «Да как же я мог поверить всей этой галиматье о замене своей персоной государя? — в отчаяньи думал Норов. — Обольстил он меня, как глупую девицу обольстил!»
Минули пять минут, десять, а Александр все не появлялся, и Василий Сергеевич с горечью подумал: «Если сейчас сюда войдут люди, чтобы взять меня под стражу, я не вынесу позора — застрелюсь прежде, чем они потребуют отдать им пистолет и шпагу!» Но не флигель-адъютанты, а Александр и худощавый, сутулый Виллие явились в спальне. Медик нес в руке кожаный чемоданчик с покатыми боками, был заспан, но сосредоточен. Видно, Александр поднял его с постели — доктор пришел в одной рубашке, даже жилета не было на нем.
— Милый Виллие, — обратился к доктору на английском языке Александр, положив обе руки ему на плечи, — вы любите меня?
Норов заметил, что медик смутился. Наверное, царь впервые задавал ему такой прямой вопрос.
— О, государь, — пробормотал Виллие, — если бы вы приказали, я бы своим ланцетом ради вас сейчас же перерезал бы себе вены.
Александр улыбнулся:
— Нет, не нужно резать вены, но обещайте мне, коль любите меня, исполнить все точно так, как я вам прикажу.
— Приказывайте, я все исполню! — И баронет, долгие годы верой и правдой служивший Александру, наклонился, быстро схватил его руку и страстно поцеловал её.
— Итак, я вам верю, — мягко высвободил руку Александр. — Ну, слушайте… меня вы больше не увидите, я удаляюсь в монастырь, ибо давно уже власть меня тяготит, и я хочу послужить Богу в рясе монаха, и пусть меня никто не ищет — богатый вклад, который я собираюсь сделать в избранную мной обитель, станет надежной гарантией того, что архимандрит не раскроет мое инкгнито.
На лице Виллие изобразилось искреннее страдание, было видно, что он готов броситься к императору с мольбами оставить столь поспешное и странное намерение, но Александр, заметив это, сделал предостерегающий знак рукой:
— Я так решил давно, и мое решение непоколебимо.
— Но кто же заменит вас? — сморщив лицо в плаксивой гримасе, спросил лейб-медик.
— Кто? Вот этот офицер, — ответил царь, — Он — очень достойный человек, из старинной дворянской семьи, герой войны. Пусть правит Россией он. Однако… — Александр поднял руку вверх, предлагая Виллие обратить особое внимание на последующие вслед за этим слова, — однако я призвал вас, баронет, затем, чтобы вы постарались придать ему хоть какое-то сходство с моим лицом…
— Лейб-медик, сокрушенно вздохнув, внимательно взглянул на Норова, стоявшего недвижно, ошеломленного.
— Это невозможно, мой государь, — отрицательно покачал головой Виллие, — Молодой человек, хоть и имеет форму черепа, сходную с вашей головой, но черты лица…
— Так исказите их! — нетерпеливо бросил Александр, но тут дар речи вернулся к Норову и он сказал:
— Ваше величество, вы поспешили признать сюда доктора, хотя у меня и не спросили, готов ли я уродовать себя ради короны или нет.
— Александр сложил на груди руки и полупрезрительно взглянул на Норова:
— Нет на свете вещи более притягательной, чем власть! Будь вы просто диктатором, ваши сотоварищи ограничили бы вас в своих стремлениях, а монарху все подвластно. Вы будете парить над всеми, никто не посмеет вам в чем-то возразить. Когда-то я сам наслаждался самодержавной властью, но в конце концов я устал. Так примите же её из моих рук, но действуйте осмотрительно — конституция, о которой вы мечтаете, ограничит ваши возможности, Норов, я уверен, что вы скоро избавитесь от сих молодеческих предрассудков и станете править по заветам старинных русских царей как помазанник Божий! Вам я передаю свое помазанничество! Ну, теперь вы согласны изменить свою внешность?
«Что ж, пусть будет так, — подумал Норов. — Диктаторство или самовластное монархическое правление — не все ли равно? Главное то, к каким результатам приведет страну мое правление. Я стану первым властителем России, освободившим её от ужасов рабства и единовластия посредством разумного управления страной, через умные и благородные законы!»
— Да, я согласен! — твердо заявил Норов. — Врачу не составит труда приживить мне оспу — в детстве, я знаю, мне её не прививали.
— Прекрасно, — кивнул Александр. — Теперь же, Виллие, приступайте. У вас есть все необходимое для того, чтобы сей молодой человек уже завтра страдал от оспы и все его лицо покрылось нарывами?
Никогда прежде баронету Виллие не приходилось заражать человека оспой ради того, чтобы он серьезно заболел ею. Доктор сурово сдвинул брови, открыл свой чемоданчик и, поискав в нем что-то, извлек баночку и ланцет, мрачно сказал, вдруг перейдя на русский:
— Раз вы, государь, приказали мне делать это, я буду делать! Здесь у меня — оспенный соскоб, но не коровий, который я обычно применяю при прививании, то есть инокуляции, а человечий. Господин офицер заболеет сильной оспой…
— Но упаси Боже, не погубите его совсем, баронет! — предостерег эскулапа Александр.
— Пусть ваше величество будет спокойный, — засучивал рукава рубашки Виллие. — Я вылечу молодой человек. Так, я буду приступать. Пусть господин офицер…
Александр снова поднял руку:
— С завтрашнего дня, Виллие, вы уже станете обращаться к господину офицеру, как обращались ко мне — «ваше величество» или «государь император».
— Да, да, но это будет завтра. Сейчас же пусть господин офицер обнажит свою правую руку.
Норов все ещё колебался. Он не боялся оспы, не страшился того, что его лицо может стать уродливым до неузнаваемости. Одна мысль закралась в его сознание: а что, если его обманывают, и Александр, успев договориться с Виллие, введет в его тело смертельный яд?
— Вы не обманываете меня, ваше величество? — спросил Василий Сергеевич. Оспой ли я буду заражен?
— Вы ещё сомневаетесь? — нетерпеливо воскликнул император. — Не верите мне? А я думал, что вы имеете более благородное сердце! Ну, снимайте же мундир — он вам больше не понадобится. Снимайте, снимайте!
Поразмышляв ещё немного, Норов сунул пистолет в карман, расстегнул чешуи кивера и снял его, потом стал развязывать шарф, снял офицерский знак, и начал расстегивать одну за другой пуговицы мундира, снял его и обнажил руку. Смочив корпию спиртом, Виллие протер кожу на предплечье, отточенным ланцетом сделал неглубокий надрез, а после палочкой ввел в ранку немного из того, что хранилось в его банке.
— Теперь ты перевязывай руку, — сказал Виллие будто самому себе, уже через пять минут плотная повязка охватывала предплечье капитана. Выполнив операцию, лейб-медик поклонился государю:
— Я сделал о, что вы просил, ваше величество. Но… но этого мало. Надобно сильно проредить волосы молодого человека. Завтра я всем объявлю, что у государя — оспа, и никто, кроме меня, не пусть смеет заходить к нему. Через неделю, надеюсь, прорвутся выступившие на лице нарывы. Вам же, молодой человек, советую лежать в постели…
Александр был возбужден. Он радостно потирал руки, лоб, точно желая собраться с мыслями?:
— Да, да Виллие! Сейчас же уберите лишние волосы с головы господина капитана. За сим делом вам надобно будет следить постоянно.
Покуда лецб-медик занимался уничтожением богатой шевелюры Норова, Александр, так и не сняв ночной рубахи, в колпаке, сел за стол. Трехрогий шандал освещал его. Достав из шкатулки лист гербовой бумаги, он принялся писать:
«По указу Его Императорского Величества Императора Александра Павловича, Самодержца Всероссийского и прочая, и прочая, и прочая.
Предъявитель сего, восемнадцатого егерского полка капитан Василий Норов уволен в отпуск на два года от нижеписанного числа с тем, что во все время сего отпуска может иметь местопребывание в России там, где пожелает. По миновании же двухгодичного срока не может нигде проживать под строгою за то ответственностью и обязан явиться в полк на службу.
Отпускной билет дан в крепости Бобруйск сентября 13 дня 1823 года.
Александр»
«Тринадцатое число! — подумал император. — День-то какой нехороший для начала сего важного дела. А впрочем, все это одни лишь предрассудки!»
Потом, накапав на бумагу красного сургуча, государь приложил к нему свою печать и вынул из шкатулки другой лист. Необходимо было составить письмо Аракчееву.
«Милейший Алексей Андреевич! — вывел Александр вначале своим красивым, с большим наклоном почерком. — Спешу уведомить тебя, что во время пребывания в Бобруйске постигла меня беда. Несмотря на сделанную мне ещё в младенчестве прививку против оспы, сидя проклятая болезнь поразила меня жестойчашим образом. Все полагали, включая лейб-медиков Виллие и Рожерсона, я о сем знаю, что нахожусь я на смертной одре. Но, хвала Господу Богу нашему, сия напасть отступила от меня благодаря неусыпным стараниям докторов и заступничеству Спасителя. Однако, на мое лицо самому смотреть страшно — глубоко изрыто оно оспой. Прошу тебя, имей усердие и приуготовь к встрече со мною, внешность свою изменившим, милую мою супругу Елизавету Алексеевну и матушку, да и всех высших сановников государства. Токмо пусть сие прискорбное событие не становится притчей во языцах в широких слоях публики нашей, готовой злословить, но не сочувствовать даже нам, монархам.
На сем остаюсь любящий тебя Александр».
Встав из-за стола, Александр подошел к Норову, над внешностью которого все ещё трудился Виллие, и прочел ему написанное, но капитан, прослушав, решительно запротестовал:
— Сие послание к презренному временщику, всеми ненавидимому, я отправлять не стану. Едва я приеду в Петербург, как сразу же отправлю змея. как все его именуют, в отставку!
Александр мягко возразил:
— Господин капитан, то есть ваше величество, а вот сего шагая я вам не рекомендую предпринимать, хотя бы до времени. На шее генарала от артиллерии и начальника над всеми военными поселениями графа Аракчеева — все дела государства. К тому же он предан мне, то бишь вам, до безумия. Он и станет вашей верной поддержкой. Положитесь на него, Неров. Более близких друзей вы не сыщите. Так что отправьте-ка это письмо тогда, когда ваша болезнь уже будет на исходе.
— Хорошо, сделаю так, как вы велите, но уж потом…
Александр не обратил внимания на слова капитана. Он снова ходил по комнате, потирая руки, находясь в состоянии сосредоточенного возбуждения.
— Вилле, я вижу, ваша работа близится к концу. Ну так сходите к моему камердинеру Анисиму. пусть оденется и поскорее идет сюда.
Скоро в спальне появился Анисим. Худой, высокий, бритый, он был похож на Виллие. Молчаливый, неулыбчивый, исполнительный и аккуратный, он нравится Александру больше всего других камердинеров. Именно этому человеку император и хотел довериться в исполнении своего предприятия.
— Голубчик, — ласково обратился он к нему, — вначале пойди в кордегардию и отправь одного из егерей на квартиру капитана Норова. Скажи, что господин капитан просит принести в комендантский дом его шинель, сюртук и фуражку, да не мешкая принести. Сам же после кучера Илью разбуди и вели немедля запрягать трех лучших лошадей, пусть возьмет коляску, ту самую, английскую, что подарил мне принц Вюртембергский. Только пусть вначале вензель мой закрасит так, чтобы его не видно было. Сделаешь, что я велел, собираться в дорогу начинай — три пары моего белья возьми, погребец походынй, посуду кой-какую, еды сбери дня на два, все это уложи в коляску, и близ конюшни оба меня ждите. Ну, все понял?
— Понял, ваше величество, — поклонился Анисим, не показывая виду, что немало озадачен странным приказаньем его величества. Когда камердинер скрылся за дверью, Александр, обращаясь к Норову, сказал:
— Ну, а вы, Василь Сергеич, стаскивайте с себя сапоги и панталоны. Посмотрим, впору ль они будут… бывшему императору России.
Не прошло и получаса, как в спальню принесли узел. В нем — шинель, сюртук, фуражка. Александр был уж в сапогах и панталонах Норова, пришедшихся ему впору. Быстро надел сюртук, поверх него — шинель, надел фуражку. Анисим в спальню заглянул — чуть не охнул от удивления. Не в привычном для него генеральском мундире с кавалерией ((снока. Орденская лента.)) через плечо, не с густыми эполетами на плечах стоял перед ним любимый государь, а в серой офицерской шинели.
— Ну, что оробел, Анисим? — улыбнулся Александр. — Ничего, привыкнешь! Сии вещички, — указал на мундир, шарф и кивер Норова, — в узел завяжи может, в дороге пригодятся.
Норов, уже облаченный в длинную рубаху государя, в колпаке, сделал вперед два шага.
— Ваше величество, повремените. Дайте только от мундира ордена свои отцеплю. Мои сие награды, а не ваши.
— Что ж, ты прав и волен сделать это, Норов.
Покуда Василий Сергеевич возился с орденами, Александр из шкафа достал объемистую шкатулку, обложенную перламутром. На крышке — ручка, чтобы удобней было переносить. Ящик полированного дерева достал — пистолетный ящик. Со шкатулкой и ящиком в руках подошел к Норову, державшему в руке свои награды. Анисим уж выносил из спальни узел. Александр посмотрел Норову в глаза долгим, добрым взглядом. Сказал негромко:
— Спасибо вам, Василь Сергеич. Будто камень с плеч моих упал. Правь Россией, да только правь по правде. Помни, что благо подданных твоих — цель твоей жизни. И ничего не бойся. Никто подлога не заметит. Не посмеют заметить просто…
Хотел обнять капитана на прощанье, да руки занятыми были. Только и блеснул слезой, мелькнувшей на белесых, реденьких ресницах. К Виллие шагнул:
— Тайну эту, баронет, храните до самой смерти. Советом новому государю помогайте, когда понадобится. Вы-то в делах дворцовых поднаторели.
Лейб-медик хотел было прильнуть к государевой руке, державшей пистолетный ящик, но Александр её отвел. Сказал:
— Ему теперь руку будешь целовать. Он твой император! Все, уезжаю, ухожу из мира, Устал…
И вышел из спальни, с надвинутой на глаза фуражкой. Василий Сергеевич и Виллие проводили его взглядом, а после Норов подошел к постели и устало опустился на нее. В ночной рубахе, спускавшейся едва ли не до поля, в колпаке, он выглядел смешным и жалким. Еще несколько часов назад он гнал от себя одну лишь мысль сделаться диктатором, арестовать царя, теперь же он сам стал императором, и головной убор, так не походивший на корону российских монархов, казался Норову, однако, таким тяжелым что не хватало сил держать голову прямо. И он сидел на постели, понурясь, неподвижно, сцепив на коленях свои сильные руки.
3 ГОСПОДА УЛАНЫ
Коляска с Александром выехала из южных ворот крепости на рассвете, и ясное солнечное утро, отличная погода — это показалось беглецу хорошим предзнаменованием. Хотелось мчаться прямо по первым лучам солнца навстречу долгожданной свободе, мечта о которой так давно томила Александра. На сердце было легко, как никогда, душа полнилась счастьем, и Александр мгновенно забыл о том, сколь придирчиво изучал караульный поручик его отпускной билет, долго вглядывался то в лист бумаги, то в лицо сидевшего в коляске офицера. Вначале Александр немного смутился, даже испугался — а вдруг узнает? Но поручик лишь вернул ему билет, взял под козырек и сказал тоном человека, наделенного немалыми правами:
— Проезжайте, господин капитан.
Проехали, не останавливаясь с полверсты, миновали лагерь, открылось пространство большого поля с ещё не убранными стогами. И тут кучер Илья, здоровенный, бородатый мужик, бывший дворовый, сидевший на облучке рядом с Анисимом, одетый в армяк из доброго сукна, в поярковую кучерскую шляпу, поворачивая голову, спросил:
— А куда править, ваше величество?
Александр, довольный уже тем, что покинул крепость, ещё мало думавший о том, по какой дороге ехать, призадумался. Потом сказал:
— Илюша, останови-ка ненадолго лошадей. — И когда тройка встала, Александр, помолчав, заговорил:
— Друзья мои, — так обратился он к кучеру и к камердинеру впервые, объявляю вам, что с нынешнего часа, даже с минуты сей, вы ни разу не обратитесь ко мне как к государю. Я решился добровольно оставить престол, и одежда, что на мне теперь, должна всем говорить, что в коляске едет не император Александр Павлович, а капитан восемнадцатого егерского полка. Помните всечасно, что слова «ваше величество», обращенные ко мне прилюдно, испортят все начинание мое. Именуйте меня так: «ваше высокоблагородие», а звоут меня Василий Сергеич Норов. Тройку же ты Илья погонишь в Киев по Гомельской дороге. В Киеве я навек укроюсь за стенами Киево-Печерской лавры, где проведу остаток отпущенных мне Богом лет, а то и дней. Такова воля государева моя, и никто не смеет помешать мне волю сию исполнить. По приезде в лавру, отпущу вас с миром, щедро одарив за службу. Деньги, врученные вам, верным моим слугам и друзьям, позволят вам безбедно прожить до скончания дней. Впрочем, вольны вы будете, если сердца ваши расположены к тому окажутся, остаться вместе со мною в монастыре, пострижение приняв и надев на себя монашескую рясу.
Анисим, выслушав тираду Александра, промолчал, выказав этим свое обычное послушание, Илья же, немало пораженный, постукивая кнутовищем по сапогу, смотря куда-то в землю, сказал:
— Ваше вели… то бишь ваше сыкородие, да как же так?
На кого же теперь Расея останется? Али на братце вашего, на князя великого Николая Палыча?
— О сем вопросе не трудись и голову ломать, Илюша. В надежных руках правление всей империи будет, — мягко проговорил Александр, ещё и прежде допускавший вольные вопросы со стороны любимого кучера Ильи Байоква.
— Ну, коль так, — резонно, с пожатием плеч подал голос Илья, — то с Божьей помощью в путь отправимся. Что ж, трогать?
— Трогай, Илюша, трогай, — махнул рукой Александр, и, покачиваясь на мягких рессорах, коляска покатилась вдоль полей по хорошо ухоженной дороге.
Чем выше поднималось солнце, тем теплее и радостней становилось на душе. Александра. Ему представлялось, как он въедет в любимый Киев, как увидит золоченые купола лавры, услышит сладкий перезвон монастырских колоколов. В лаврскую казну он сделает щедрый вклад, не меньше ста тысяч рублей серебром, и никто не станет спрашивать его настоящего имени. Вначале — послушник, потом — рясофорный монах, Александр уже представлял, как будет жить в не большой, чистенькой келье. В оконце врывается ветерок, доносящий с Днепра пряный запах воды, аромат тополиной листвы. Он не пропустит ни одного богослужения, ни одного молебна, станет поститься даже в скоромные дни. Потом, возможно, он примет схиму, уйдет из кельи в дальнюю пещеру, вырытую на самом берегу реки, а когда Господь заберет к себе его грешную прежде, но очищенную молитвами душу, тело бывшего императора России погребут рядом со святыми угодниками, может быть, поблизости от святых мощей Феодосия Печерского.
«Ах, как я счастлив! — думал он. — И чему так долго я нес тяжкое бремя власти? Конечно, я правил не напрасно: я уничтожил чудовище-Наполеона, я связал государей Европы обязательствами Священного союза, чем обеспечил на долгие годы покой там, где рекой лилась кровь. Польша и Финляндия — в составе Российской империи, и я утихомирил и поляков и финнов, даровав им конституции. Я реформировал государственные учреждения России, малообразованных чиновников гонят со службы, в деревнях множится применение вольного труда, армия сильна как никогда — военные поселения распространились повсюду, и полки способны обеспечивать себя почти всем необходимым. Да, я немало сделал для своей страны! Вспомнить, хотя бы, изгнание иезуитов, запрещение масонских лож! О чем мне сетовать? О том, что я оставил страну на попечение какого-то смутьяна? Но я. конечно, лукавил, говоря этому Норову, что никто не узнает подмены. Изрытое оспой лицо не спасет его от разоблачения, и короной российских императоров по праву завладеет Николай, ведь манифест о передачи власти именно ему, а не Константину, уже хранится в раке, в алтаре Успенского собора. О чем печалиться мне? О жене, Елизавете? Но я давно уже не питал к ней нежных чувств, две наши дочери умерли во младенчестве, и её величество не станет сильно горевать о моем внезапном исчезновении. Вот только, пожалуй, мать… Но и она успокоится скоро, я уверен в этом. Итак, я разрубил узел, связавший меня с троном в восемьсот первом году. Господи милостивый! Поможешь ли ты мне смыть тот, давний грех?»
Так рассуждал Александр, сидя на кожаном, простеганном сиденье в своей отличной коляске. Рядом покоился чемодан со шкатулкой и пистолетами, и недавний император России бережно придерживал его рукой. Его спокойным, радостным мыслям не мешало и непрерывное бормотание кучера Ильи, который хоть и был поражен до глубины души внезапным превращением императора в армейского капитана, да ещё стремившегося в скором будущем надеть монашескую рясу, но виду не подавал, а ведь прежде был очень горд своим лейб-кучерским званием. Ведомо было Илье, что по табели о рангах звание его приравнивалось к полковничьему чину, и это обстоятельство очень льстило бывшему дворовому человеку, волею судеб ставшему императорским извозчиком, к тому же почитаемым Александром Павловичем за характер и особое проворство в гужевом мастерстве.
А ещё сильнее возгордился Илья Байков, когда всеведущий Анисим пересказал ему историйку, в которой он, извозчик царский, был помянут. А дело заключалось вот в чем: ещё год назад Оленин, президент Академии художеств, желая подольститься к государю, на академическом совете предложил утвердить в качестве почетных членов — графов Гурьева, Аракчеева да Кочубея, к художествам имевшим отношение весьма дальнее. Но вице-президент Академии Лабзин с улыбкой предложил пополнить список ещё и лейб-кучером Ильей Байковым, сказав: «Он, хоть и мужик, но ведь чин полковника имеет». Государю, понятно, об этих словах нескромных донесли, и за наглость Лабзин со всей семьей был законопачен в городишко Сенгилей, Симбирской губернии, откуда выбраться так и не сумел.
Илья же, узнав об случае таком, не подумал, что государь сердился на вице-президента ибо была задета его монаршая честь, но гнев царев принял как повод защитить его, любимого возницу, и гордость Илюшина ещё больше возросла. Иной раз он даже думал, что стать почетным членом Академии художеств ему б совсем не помешало. Впрочем, и в своем кучерском искусстве он видел художество немалое, поэтому недолго огорчался.
Теперь же Илья, погоняя лошадей, погоревав немного о том, что скоро лишится он громкого титула своего, но утешив себя мыслью о крупном вознаграждении за долголетний честный труд и непременно на уж скопленные деньги да на дареные заведет выгодную во всех отношениях винную продажу или настоящий трактир, находился в веселом расположении духа, разговаривая как бы сам с собой:
— Ну что за мужиковской и препустой фамилией наградил меня родитель? Байков! Экое пустое прозвание!
Анисим, все ещё не способный прийти в себя после внезапного превращения государя в офицера, желчно, не поворачивая в сторону кучера головы, спросил:
— Тебе что ж, Разумовским или Нарышкиным именоваться захотелось?
— Не-а! — хлестнул левую присяжную Илья. — Я необычности в фамилии хотел, а не княжеского звучания. А много я знавал людей, кои счастье поимели носить прозвания, коими всечастно гордиться можно было. Общался я с Харитоном Кузнецом, со Спиридоном Мудаком, с Аверкием Старухой, с Евдокимом Затравкой, с Власом Мошонкой, с Ермолаем Борзым, с Дементием Осетринкой, с Ханыгой Севастьяном, с Чесноком Лаврушкой, с Иваном Волком и Аникой Раком. Вот сие — знатные, входящие в память фамилии! Любо-дорого где-нибудь в канцелярии назваться: Спиридон Мудак, мещанин!* ((сноска. немало престранных и преоригинальнейших фамилий и прозвищ автору и впрямь доводилось находить в документах тех времен.))
Анисим только головой повел, не одобряя пустых речей своего соседа по облучку, а Илья продолжал:
— И с именем у меня полный швах получился. Понимаю, что и Спиридон, и Лаврушка, и Харитон, к моей особе прилепленные, такоже части мне ни малой толики не принесли б. А вот ино бы звучало, кабы назвался я где Лукиллианом, Елпидифором, Агофодором, Евтропием на худой конец. Да, невеликой прозорливости был попик, который в святцах мне имя подыскал, хоть и впрямь нехудое имя, пророческое, но негромкое, и звука в нем никакого нет.
Анисим молчал. Он, имевший уж капиталец, под проценты положенный в банке, плохо слушал Илью и все прикидывал: «Да сколько ж государь определит мне пред тем, как за стенами лавры укрыться? Знаю щедрость его, уж не меньше трех тысяч пожалует, пусть даже и ассигнациями. Тогда можно будет и домишко завести, да и ожениться. Нехудо б было, если во дворянстве введет. Тогда и на добрую невесту рассчитывать можно, с капиталистым приданым. Эх, заживу, хоть и не на широкую ногу, но благородно. Можно будет и процентную лавчонку в собственном доме открыть — дело прибыльное».
А Александр, слушая болтовню Ильи, немало веселившую его, все глядел направо и налево, и каждое дерево, каждый кустик или стожок радовали его, и казалось ему самому, что счастливей человека, чем он, и не нашлось бы сейчас в России.
Ехали в сторону Гомеля уже третий день. Редкие деревеньки и села, крохотные городишки встречались дорогой. Две ночи прокоротали на постоялых дворах, где для господина офицера отводились лучшие комнаты, и Алекандр радовался тому, что в этих неопрятных, на его взглядах, комнатах, со старыми, ободранными и изрисованными неприличными рисунками обоями, с тараканами и клопами, ему было куда вольготней, свободней, чем в изысканных апартаментах дворца на Каменном острове, в Зимнем или в Царском селе. Особая легкость ощущалась Александром потому, что не нужно было принимать министров с докладами, ездить на разводы и смотры войск, встречаться и прогуливаться с нелюбимой женой, которой он все-таки должен был оказывать знаки внимания и даже почтительности, разговаривать с фрейлинами, пустыми по большей части и льстивыми, видеть суету камердинеров, лакеев, истопников — всей придворной своры, называемой Александром в глубине души просто сволочью. Теперь все было проще: он — капитан, он — платит за постой, и ему спешат принести наспех зажаренную курицу, плохого вина, накрыть постель сырыми, сырыми простынями из грубого холста. Но все эти обстоятельства лишь радовали Александра, и он радовался за самого себя, ощущавшего в себе веселость и легкость.
Лишь одно обстоятельство пугало его вначале — бывший монарх боялся быть узнанным. Тогда о его присутствии на постоялом дворе непременно бы доложили местным властям, те подали бы весточку в Бобруйск или в Петербург, и тогда — прощай свобода. Но опасение это расстаяло быстро — капитанский мундир заставлял видеть в нем лишь офицера. К тому же, Александр стал подозревать, что все эти встречавшиеся дорогой люди видели его лишь на портретах, часто очень плохих, приукрашивающих его внешность, и робость, являвшаяся вначале на его лице при входе на постоялый двор, вскоре сменилась уверенным выражением, что, заметил он, лишь вызвало к нему ещё большее уважение и даже подобострастие.
Спустя три дня пути, когда время близилось к полудню, Илья, приподнимаясь на облучке, вглядываясь вдаль, заметил:
— Ваше высокородие, кажись, верховые какие-то скачут, навстречу нам! Ишь, пыляку подняли! Полностью прикрылись бы да кузов не прикажете ль поднять?
Но не вид пыльного облака заставил вздрогнуть сердце Александра. Хоть верховые и двигались ему навстречу, но он тут же предположил: «А не за мной ли? Не из Бобруйска ли посланы?» Сам приподнялся, стараясь понять, кто бы это мог быть — и впрясь, в облаке пыли, на рысях, покуда ещё в полуверсте от коляски, скакали кавалеристы. Не будучи зоркоглазым, Александр, тревожась, долго не мог понять, кто это: уж не флигель ли адъютанты? Но по мере того, как отряд приближался, стало видно, что скачут уланы — пики с флюгерками то подстакивали, то опускались при беге лошадей, и Александр ту же успокоился:
«Нет, не из Бобруйска. На смотр улан меня там не звали».
Он даже не отдал приказ Анисиму поднять кожаный кузов, зная, что отряд пронесется мимо быстро, а ему так хотелось посмотреть на лихих улан, форму которых он даже предпочитал государской.
Все ближе, ближе… Вот уж Александр разглядел полковника, скакавшего впереди. С ним рядом — полковник и майор. Топот нескольких сотен копыт становился все громче, и скоро коляску от отряда, — всего-то эскадрон, не больше, — отделяло саженей десять. Тут полковник, совсем уж пожилой и невидный, маленький, почти не заметный из-за головы высокой рыжей лошади, внезапно поднял руку, и уланы, притормаживая, стали натягивать поводья.
«Что такое? — подумал со страхом в сердце Александр. — Неужели по мою честь?»
Полковник, поглаживая по шее своего коня, шагом подъехал к коляске Александра. Вслед за ним — полковник и майор, остальные же уланы, штабс-ротмистры, ротмистры, поручики, корнеты, рядовые, сбились в кучу, поглядывали на человека, сидящего в коляске, о чем-то переговаривались, переглядывались. Было видно, что их развлекает и это ничтожное дорожное происшествие.
— Господин офицер, — обратился к Александру довольно строго полковник, шапка-уланка на голове которого была надвинута так низко, что отдавливала уши книзу, делая его лицо совсем крошечным, — вы находитесь в местности, отведенной под квартирование третьего Украинского уланского полка, а посему соблаговолите удостоверить свою личность каким-либо официальным документом.
Никто прежде не приказывал Александру — отдавал приказания лишь он один, а поэтому требование полковника неприятно поразило «господина офицера», однако он тут же успокоил себя: «Что ж, я сам выбрал дорогу жизни, придется подчиниться. Впрочем, подчиняться куда легче, чем приказывать. Ответственности меньше…»
Александр спрыгнул на землю, достал пакет и вынул из него составленный самим же отпускной билет. Отдавая честь полковнику, протянул ему бумагу. Полковник, морщась и отодвигая лист подальше от своих уже плохо видящих глаз, прочел написанное, прошуршав бахромой эполетов, пожал плечами:
— Самим государем императором подписано, и подпись, и печать. Однако странно — на два года в отпуск. Сие не по уставу, но монаршую волю оспаривать не стану. Правда, позволю вам заметить, господин капитан, что и экипаж ваш не уставной — цивильная коляска! По уставу верхом на лошади должны передвигаться, а скарб — в повозке капитаном переводится. Да и кто на облучке-то у вас восседает? Денщики, что ли? Так почему же не в мундирах полковых цветов?
Тут уж Александр, сам требовавший от нижних чинов беспрекословного подчинения высшим, но прекрасно знавший положения устава, не смог стерпеть напрасных упреков, хоть и помнил, что перед ним — полковник, а он — всего лишь капитан:
— Господин полковник, воле государя вы и на самом деле перечить права не имеете. Что до моей коляски, то замечу: во время отпуска всякий волен выбирать себе экипаж по средствам — иное дело походные условия. А вместо денщиков меня сопровождают два моих дворовых человека, кои на платье полковых цветов посягать и права не имеют.
Озадаченный полковник приподнял за козырек «уланку» совсем уж опустившуюся на его глаза, подумал, улыбнулся усталой старческой улыбкой и сказал:
— Вы, я вижу, в артикулах устава сущий дока. Таких люблю и уважаю, а посему милости прошу пожаловать в нашу слободку полковую. Сегодня третий уланский свой праздник празднует. Два десятилетия верою и правдой служим царю и отечеству. Уж не откажите. Молебен будет, а после — обед. Угостим, чем сможем. Будут, впрочем, полковые дамы. А после, коли понравится, поживете у нас с недельку, посмотрите на уланское житье-бытье. Опыт, опыт вещь великой важности. В полк свой егерский вернетесь, расскажете. Ну, вы решились?
Вслед за словами полковника послышались и просьбы штаб-офицеров:
— Не побрезгайте, господин капитан! — сказал полковник.
— Гостям уланы завсегда рады, не обидьте! — подхватил майор.
Александр не только не собирался отказываться, хоть и спешил в Киев напротив, он был тронут едва ли не до слез предложением уланов. Он как-то внезапно для себя осознал, что можно вызвать в людях расположение и не будучи монархом, и теперь, не видя ни следа лести и угодничества в словах «стоящего над ним человека», с радостью сказал, слегка поклонившись гарцевавшему перед ним командиру полка:
— С превеликой охотой принимаю ваше предложение, господин полковник. Но не стесню ли я вас своим присутствием?
— Да помилуйте! Квартиру мы вам отыщем запросто! Ну, так велите вашему кучеру поворачивать назад. Там, саженях в двухстах будет дорога направо. По ней и правьте — всего с версту и будет. Увидите нашу слободу.
«Ну и что с того, что поживу с недельку среди этих милых вояк? подумал про себя Александр. — Расстаться с миром я всегда успею. Главное, расстался с короной».
И он с удовольствием смотрел на молодцев-улан, проезжавших мимо него: все на рослых рыжих лошадях, в синих куртках с эполетами, в уланках с султанами, портупеи и перевязи белые, синие рейтузы с широкими лампасами до самых шпор, сабли в блестящих железных ножнах, а по углам нарядных синих с красным вальтрапов,* (сноска. Суконный чепрак-накидка, клавшийся поверх седла.)) покрывавших крупы лошадей — императорский вензель. Но уже не его вензель, хоть и первая буква его настоящего имени была главной частью эмблемы.
В клубах пыли, поднятой кавалеристами, коляска с Александром скоро оказалась в виду полковой слободы, въехав прямо на главный двор полка: большой, многооконный дом командира, канцелярия, лазарет, цейхгауз. Отсюда ровные, выведенные, должно быть, по натянутой веревке, шли улочки с одинаковыми деревянными домами, а к ним прилепились хлева, сарайчики, амбары. Вперевалку, стадцами, по улочкам ходили, гогоча и крякая, гуси, утки, доносилось блеяние овец, мычание коров. Александр, сидя в коляске и не зная, куда ехать дальше, умилялся, глядя на полковую слободу, где все было приспособлено для удобств службы.
«И в том моя заслуга тоже! — с восторгом думал он. — Не я ли с таким тщанием следил за справной жизнью моей армии! Да, прекрасную страну оставил я своим последователям!»
Молодой, румяный адъютантик подбежал к коляске, и аксельбант весело прыгал на его груди. Вскинул руку к козырьку «уланки».
— Ваше высокоблагородие, господин полковник велел мне проводить вас на квартиру! Располагайтесь! Велели быть при параде в три часа у полковой церкви — там, за канцелярией!
— Ну, Илюша, трогай! — скомандовал Александр кучеру, и коляска покатилась по ухоженной, посыпанной мелким песком дороге.
Адъютант остановился возле одного из домиков:
— Вот здесь, пожалте, господин капитан. Сосед ваш, хоть и не обер-офицер, но поведения самого благонадежного и тихого. Сами убедитесь. Ну, а я уж побегу.
Александр прошел в «квартиру». Молодой, лет двадцати всего, чистенький и беленький унтер-офицер, с лицом умным и приветливым, в мундире, застегнутом на все пуговицы, встретил Александра, и тот заметил сразу, что добрая улыбка как-то мигом слетела с физиономии унтера. Он как-будто остолбенел, увидев Александра и невольно вытянулся перед ним, даже стал ещё белей лицом.
— Да чего ж вы так испугались? — невольно испугавшись сам, очень ласково спросил Александр. — Определен к вам для временного проживания. Я капитан восемнадцатого егерского Василий Сергеич Норов. И все же, что вас во мне… так поразило? — не удержался Александр, чтобы не задать вопрос, боясь, что унтер-офицер узнал в нем государя.
Офицер, все ещё ошарашенно глядя на Александра, вначале закивал, а потом замотал головой:
— Нет, нет, простите, ничего-с… так, случайное сходство…
— Да с кем же? — стал ещё более ласковым голос Александра, похолодевшего внутри.
— Да нет, простите, я ошибся. Позволю отрекомендоваться: унтер-офицер из вольноопределяющихся Иван Шервуд.
— Из остзейских немцев, видно?
— Нет, из англичан. Отец мой, искусный механик, приехал в Россию ещё при вашем ба… то есть, простите, я ещё не так хорошо говорю по-русски, при императоре Павле Петровиче, завод устроил, да не пошли дела разорился. Мне же поневоле пришлось карьеру делать по военной службе, вот я здесь…
— Ну, мы с вами сдружимся, уверен, — теплым тоном сказал Александр, протягивая Шервуду руку. — А теперь, простите, мне нужно собираться на ваш праздник полковой. Где мои покои?
Умывшись и надев егерский мундир, подпоясавшись шарфом, при шпаге, Александр в прекрасном расположении духа уже через час выходил из своей квартиры. Полковую церковь — собственно матерчатый намет, а под ним алтарь походный, — он разыскал быстро. На обширной площадке перед церковью уже собрался едва ли не весь полк. Офицеры, штаб, стояли ближе к намету, а унтера и рядовые — за ними. Все уже сняли уланки и держали их на согнутой левой руке, но благостное настроение, видел Александр, ещё не вселилось в сердца уланов. Они переговаривались друг с другом, улыбались, похлопывали по плечу пролезавших сквозь толпу товарищей, но самого Александра уже охватило чувство благоговения, в ожидании предстоящего таинства, и он, расстегнув чешуи кивера, снял его и так же, как уланы, примостил на левой руке.
— Сюда, к нам, к нам! — закричал кто-то и даже махнул рукой. Господин капитан что вы там у рядовых-то застряли? Тут ваше место, близ обер-офицеров.
Александр понял, что обращаются именно к нему, и, протиснувшись сквозь плотную толпу, он уже стоял рядом с группой уланских офицеров, и один из них, высокий широкоплечий малый с шапкой густых кудрявых волос на голове, с пышными бакенбардами, переходившими в усы, с жаром схватил руку Алекандра, стал трясти её, так больно сжав, что недавний император непременно вскрикнул бы, если б не находился поблизости от алтаря.
— Севрюгин, штабс-ротмистр Севрюгин, честь имею! — все не отпускал руку Александра обладатель бакенбардов.
— Капитан восемнадцатого егерского, Василий Норов, — улыбаясь через силу, почти шепотом ответил ему Александр.
— Ну, погуляем сегодня, Вася, — тоже шепоток, наклоняясь поближе и окутывая Александра кислым перегарцем, предупредил Севрюгин. — Такой бамферфлюхликхт устроим в честь праздника, что твоим егерям и во сне бы не приведелся.
Александр не знал, что означает слово «бамферфлюхлихт», да к тому же не понимал, почему штабс-ротмистр сходу стал именовать его Васей и обращаться к нему на «ты», но он объяснил это тем, что у уланов, видно, так заведено, а поэтому не стоит обижаться, к тому же никакого недоброжелательства в интонации Севрюгина Александр не заметил — напротив, одно лишь радушие и дружелюбие. А через несколько минут появился полковой батюшка в старом, истертом облачении и, поминутно кашляя, начал молебен. Александр же целиком ушел в таинство церемонии, умиляясь тому, как перекрасно, что «его» армия проникнута высоким религиозным духом, и уже не замечал ни ободренной рясы священника, ни его кашля, ни нестройного пения уланов, ни того, что Севрюгин, стоявший рядом с ним, поминутно зевал, прикрывая, впрочем, рот рукой в нечистой перчатке.
Закончился молебен. Уланы стали надевать шапки, а полковник, стараясь быть услышанным всеми уланами, приподнято заговорил:
— Господа офицеры и вы братцы-рядовые! Отпразднуем же пиром праздник полковой! Всех обер-офицеров прошу к столу, что накрыт близ канцелярии! Все же рядовые получат по чарке водки, дабы выпить всем за славное прошлое и настоящее третьего Украинского уланского полка да здоровье государя императора Александра Павловича Благословенного!
Громкое «ура!» стало ответом на слова полковника, и Александру тоже захотелось прокричать «ура!», но он вовремя догадался, что это станет здравицей в честь какого-то другого императора, не Александра Павловича — в честь человека, ещё ничем не зарекомендовавшего себя на поприще высшего правления. К тому же он заметил, как криво заулыбался Севрюгин, сказавший тихо, глядя в землю:
— Получим мы от тебя пир праздничный, кащей старый!
— Простите, штабс-ротмистр, — удивленно спросил Александр. — Кого же вы назвали… кащеем? Уж не господина ли полковника?
— Его, его, жилу да скупердяя, — откровенно признался Севрюгин. Посидишь на его пиру, сам поймешь. Он, вишь, постник да сыроядец, животом страдает, коликами да поносами, да и всех нас говеть заставляет! — А потом добавил с горячностью: — Да и не называй ты меня штабс-ротмистром, Вася! Я для милых друзей просто Федя, а ты у нас гостишь, стало быть и особливым другом стал. Я слыхал, ты у этого шпиона да ябеды Шервуда на квартире расположился?
— Да, у Шервуда.
— Ну, тогда ухо востро держи — доносчик из первейших будет. Лучше б ты у меня остановился. Переезжай, а?
— Ну да время покажет, Я, может статься, в вашем полку не надолго задержусь. Дела, знаете ли…
— Дела у него! — недовольно морщился Севрюгин, когда они уже шли к полковой канцелярии. — Попробуешь нашего уланского бамферфлюхтера, обо всех своих делах позабудешь, к нам в полку попросишься!
— Может и так случится, что попрошусь, — с доброй улыбкой ответил Александр. Ему сильно нравился Севрюгин, несмотря на грубость обращения. «Ну, видно, у господ уланов так заведено», — опять пришла на ум успокоительная мысль, и Александр уже с нетерпением ожидал и пира, устраиваемого для офицеров, и «бамфефлюхтера», обещанного Севрюгиным.
И вот они уже стояли рядом с огромным столом, заставленным блюдами с явствами. Расположенный под открытым шатром стол был украшен букетами цветов — все показалось Александру благопристойным и не лишенным изысканности. Как видно, в устройстве стола принимали участие жены офицеров. Они стояли здесь же отдельной группой и обмахивались веерами, хотя было совсем нежарко. Александр заметил мельком, что одеты они совсем безвкусно и немодно, зато жеманились вовсю, стараясь произвести должное впечатление на подходивших офицеров.
— Рассаживайтесь, господа! — широким жестом предложил полковниц, забыв, наверно, пригласить к столу и дам, но женщины, как видно, и не ждали особого приглашения — с кокетливым щебетом, уделив немало внимания подолам своих платьев, они первыми заняли места за столом. Господа офицеры, вновь сняв уланки и разместив их на коленях, садились, увидел Александр, с какими-то постными и чуть ли не злыми выражениями лиц, на самом деле не ожидая от предстоящего обеда ничего веселого. Но вот все сидели за столом, и второе действие полкового праздника началось…
Да, стол оказался небогат — жареная рыба, выловленная, должно быть, в ближайшей к слободке реке, мясо, приготовленное на пару, кое-какая зелень. Вина совсем подали немного, и Александр, отведав из некрасивого стакана кислого, похожего на квас вина, подносил стакан к губам лишь из соображений приличия, когда кто-нибудь вставал и произносил речь, обычно длинную и скучную, должно быть, заученную к случаю, да и то по требованию полковника, сидевшего в конце стола с кислой миной на лице, точно и не праздник это был, а поминки.
Не прошло и часа, а командир полка вдруг поднялся, весь скрюченный, с позеленевшим лицом, и то и дело поднося руку к животу, проговорил:
— Покорнейше прошу меня простить — занемог, ей-Богу! Дам и господ прошу продолжить праздник без меня.
Ведомый под руку адъютантом, полковник заковылял к своему дому, и тут Александр услышал вздох облегчения, пронесшийся над столом, лица офицеров оживились, расцветились улыбками. Поднялись и откланялись подковник и майор, и Александр догадался: «Вот сейчас-то и начнется настоящий праздник!» Но за штабом стол стали покидать один за другим и остальные офицеры, а Севрюгин негромко бросал им вслед:
— Через полчаса в моих апартаментах!
А потом повернулся к сидевшему с ним рядом Александру:
— Ну я же говорил тебе, Вася, что от этого жилы-сухоядца праздника не увидишь! Ну да ничего! У меня продолжим, увидишь, как уланы гулять умеют, а это… — кивнул он в сторону полковничьего дома, — не улан, а требуха протухшая. Все, поднимайся, ко мне идем!
Александр, которого покоробили слова Севрюгина, сказанные в адрес полкового командира, между тем послушно встал и надел свой кивер с высоким султаном.
Идти пришлось недолго. Дом, в котором жил Севрюгин, оказался точ-в-точь таким, в каком поселился Александр, только чистоты, которая царила в квартире Шервуда, он не заметил. Едва вошли в сени, как Александр споткнулся о бочку — из неё рядовой улан, как видно, денщик штабс-ротмистра, прямо руками вылавливал соленые огурцы и накладывал их в глиняную миску.
— Побольше, побольше клади, рыбья твоя душа, с горкой, с горкой! строго приказал денщику Севрюгин. — Чуть не три десятка душ заявится, поручиков позвал, а они на огурцы соленые падки, да ещё под ромец! Сейчас в узлах подковничью еду притащат, ту, что на столе была — чего пропадать зазря? Поросят уже зажарил?
— В самом лучше виде вышло, с коркой, как вы любите, вашесыкородие! вытянулся перед Севрюгиным денщик, держа в руках полную миску огурцов.
— Молодчик ты у меня, Тришка! Гастроном! Тебе б в питерской кухмистерской служить — разбогател бы, толстым бы как боров стал!
Веснушчатое лицо рядового засветилось удовольствием:
— Токмо вам одному, отцу и благодетелю, служить желаю, вашесыкородь!
— Ну иди, иди, срам Божий, а ты Вася, — обратился Севрюгн к Александру, — в комнаты без церемоний проходи. Уланы финтифлюшки светские не признают.
Александр не без волнения прошел в покои Севрюгинской квартиры. Табачный сизый дым скрывал детали убранства жилища штаб-офицера, но гостей Александр увидел сразу — человек пятнадцать, все без мундиров, в одних сорочках, сидели на стульях, закинув ногу на ногу, полулежали на двух кроватях, кое-кто устроился и на полу, то ли на подушках, то ли на свернутых половиках.
— Василий Сергеевич Норов, капитан восемнадцатого егерского, представился Александр, сам не веря в то, что так быстро привык называть себя именем, отобранным у человека, которому отдал свою корону.
— Да ведаем мы, что ты Норов! — закричал бесцеремонно кто-то.
— Кивер, шпагу, мундир снимай да в угол куда-нибудь кинь! — крикнул другой. — Жарко будет в сукне-то!
Александр, сам принимавший участие в обдумывании новых форм воинской одежды, относившийся к мундиру трепетно, как невеста к подвенечному платью, решил, однако, подчиниться, и вот уже он стоял посреди комнаты в одной рубашке, прикрывая открывшуюся в вырезке сорочки грудь рукой. А его уже звали изо всех углов:
— К нам, Вася, к нам!
— Трубочку вот возьми! Табак отменный херсонский! — говорил ему кто-то, протягивая трубку с длинным чубуком, и Александр, никогда не куривший, не желая обидеть господ офицеров, взял в руки трубку, присел на освободившийся стул, постарался втянуть в себя дым, но тут же закашлялся, и дружный смех уланов стал подтверждением того, сколь он неловок. Раздались крики:
— Ну и егеря! Нежненькие, как кадеты!
— Ничего! С нами побудет — пооботрется!
Но тут громовой голос Севрюгина перекрыл шум:
— А ну, шалопаи, балясничать кончай! Сейчас вся честная братия соберется, а у нас ещё и конь не валялся. Жженку делать будем! Сабли давай!
— Жжену! Жженку! — раздавались радостные возгласы соскучившихся по настоящему офицерскому напитку уланов, и трое из них кинулись к своим саблям, выхватили клинки из ножен, а Севрюгин уже ставил неподалеку от стола объемистый котел, медный, но луженый.
Он сам принял из рук офицеров сабли, утвердил их вверх остриями, уперев рукояти в пол а денщик уже нес ему большой кусок от сахарной головы, не забыв обернуть его, чистоты ради, тряпицей. Севрюгин наколол сахар на концы сабель и крикнул:
— Трифон, помет куриный, ром тащи, ром!
Денщик не заставлял себя долго ждать — тотчас рядом с котлом появилась корзина, из которой торчали горлышками вверх бутылки с ромом. Зная, что нужно делать, Трифон ловко, одним ударом по донышку, стал выбивать пробки, передавая их Севрюгину, и в котел полилась темная, пахучая жидкость. Александр почувствовал запах, который запомнился ему со времени двух его ночевок на постоялом дворе — пахло раздавленными клопами. Но сколь ни приятен был ему этот запах, Александр с интересом следил за тем, что делал Севрюгин. Впервые к нему явилась одна пугающая мысль: а знал ли он людей, которыми правил больше двух десятилетий?
Между тем котел едва ли не до краев наполнился ромом, и Севрюгин крикнул:
— Трифон, кардамон, корицу имбирь принес?
— Вот здеся, в кулечках, — протянул денщик штабс-ротмистру пряности.
— Сам насыплю! — не без злорадства сказал Севрюгин, будто кто-то претендовал на это. — Здесь особая мера нужна, аптекарская, как у немцев. Ну, а теперь и к последнему этапу подошли.
Он осторожно вылил полбутылки рома на сахар, а Трифон стоявший рядом с зажженной лучинкой, подал её офицеру, и вот уже белый сахар был охвачен язычками голубого пламени, зажег Севрюгин и ром в котле и только после этого поднялся с колен. Не обращая внимания на восторженные возгласы уланов, утирая пот со лба, сказал довольным доном:
— Не жженка будет, а амброзия с нектаром вместе. Будто не для вас, шелапутов, готовил, а для богов олимпийских. А то дал вам полковник кислятины — того и гляди пронесет к ночи. Все, готовьте чары, а ты, скотина, — погрозил кулаком Трифону, — чтоб в пять минут поросят своих достал да порезал. А хрен, хрен приготовить не забыл?
— Не тревожьтесь, вашесыкородь. Уж я ваш вкус-то знаю! Жженный сахар капал в кипящий ром, а серебряный черпак в руке Севрюгина то и дело опускался в горящее варево, чтобы разлить его по уже подставленным офицерами кружкам.
— Ну, господа! — торжественно возгласил штабс-ротмистр. — А теперь, перекрестившись, поднимем чары за два десятилетия третьего Украинского!
И все, в том числе и Александр, осенив себя крестным знамением, принялись за горячим ром, сдувая вначале пламя. Александр ничего не пил, кроме легкого бургундского, а поэтому пряный, едучий, резкий напиток сразу обжег ему горло, и он снова закашлялся, как тогда, когда попытался курить. Уланы насмешливо били его по спине, по плечам, посмеивались, обещали, что «учение» непременно пойдет ему на пользу, коль уж среди егерей не довелось пить жженку. А после того, как каждый осушил по две кружки, принялись за поросят, за принесенную с полковничьего стола закуску, откуда ни возьмись на огромном блюде появился осетр, и Севрюгин важно сообщил гостям, что заранее был не намерен есть пескарей полковника и решил подзапастись рыбкой, пригодной для животов «благородных витязей».
Александр, по телу которого от головы до пят разлилась после выпитого рома приятная нега, поедая куски поросятины и осетрины, с умилением смотрел на шумящих вокруг него уланов. Он любил их сейчас, потому что знал, что они его творение, что эти «витязи» в войне с Наполеоном умирали за него с улыбкой на устах, а поэтому он прощал им сейчас их панибратское отношение к себе, думая при этом: «Ну что ж, вкушу с ними из праздничной чаши — да и поеду восвояси, в лавру поеду. Это моя последняя встреча с полковым миром, и как же радует она меня!»
— Нет доскажи, доскажи ту историйку, Чернышов! — донеслось до сознания Александра. — Я, Федор Севрюгин, и все про-ч-чие ггспода офицер-ры очень даже знать хотят, как веселился бастард, а по-русски говоря, вы-выкблядок змия сего, Ар-ракчеева, будь-будь он неладен!
Александр, несмотря на хмель, окутавший его голову, встрепенулся. Аракчеев был его верным другом, ближайшим помощником во всех государственных делах, а поэтому Александру не хотелось, чтобы здесь говорилось о том, что могло бы задеть его самолюбие.
Но все уже повернулись к ротмистру Чернышову, красивому малому, посасывавшему, сидя на кровати, черешневый чубук.
— Так вот, господа, сами знаете, я недавно из отпуска вернулся, в самом Петербурге был, — заговорил ротмистр, театрально отставляя локоть, да и в Грузине черт меня занес — генерал Клейнмихель по-дружески Аракчееву пакет велел доставить. Так вот, побывал я в компании офицеров гренадерского полка, который пред светлыми очами Алексея Андреевича, по Волхову расквартирован…
— Ну, ну, короче, к Шумскому, к Шумскому переходи скорей! — перебил Чернышова Севрюгин, мигом почему-то протрезвевший, заметил Александр, и случавший рассказ Чернышова с затаенным сердцем.
— Перехожу, коли не терпится. Сей Шумский, надо бы вам знать, незаконно рожденный Настасьей Шумской, бывшей дворовой Аракчеева, от Алексей Андреича рожденный — бастард.
— Не бастард, а выблядок! — проревел упрямо Севрюгин. — По-русски выражайся!
— Ну, пусть по-твоему будет, — кивнул Чернышов. — Но сего мальчишку Аракчеев любил страшно, а поэтому при содействии государя, осыпавшего милостями грузинского негодяя, Мишель Шумский был скоро проиведен во флигель-адъютанты, хоть и рос сызмальства величайшим озорником и прямо мерзавцем, ибо избалован был. Справедливо ли сие?
— При нашем царишке вполне справедливо, ибо у него о справедливости представления свои, — веско изрек кто-то из офицеров.
Александр сидел сам не свой. Краска стыда покрыла его лицо, но он слушал с жадным нетерпением, а Чернышов продолжал:
— И вот сей Шумский в Петербурге. Блистает в мундире флигель-адъютанта, к тому же лейб-гвардии конной артиллерии поручик. Пьяница, кутила страшный, и все ему нипочем, потому что всякий его папаши, как огня боится. Но однажды во время смотра на Царицыном лугу получил он выговор от своего начальника-генерала за то, что явился в шляпе чудной-пречудной — так уж Мишелю захотелось.
— Неужто таким смелым генерал оказался? — удивился один из уланов.
— Да вот, нашелся смельчак, самого Аракчеева не побоявшийся. Но Мишель так расквитаться со своим обидчиком решил: в театре, когда присутствовал на представлении тот генерал, пошел он во время действия в буфет, купил арбуз, на две половики его разрезал и сердцевину из одной из половинок вычистил.
— Ну, и зачем же сей бестии арбуз понадобился? — недоверчиво спросил Севрюгин.
— А вот зачем. Идет он с коркой арбузной в самый зал, встает позади генерала, — а тот, признаться, был совершенно лысым, — да и надевает ему на голову ту половинку как раз в тот момент, когда опускают люстру и зал освещается. Представляете, как хохотали все зрители — арбуз на арбузе!
Уланы дружно заржали, представив возмущенного генерала.
— Ну и что же, сошла Мишелю сия комедия? — спросил кто-то.
— Сошла, да не совсем. Скандал был поднят генералом грандиозный, пожаловались Аракчееву, и тот перевел сына к себе поближе, в тот самый гренадерский полк, в котором я побывал. Видел и его самого, и его пьяные дебоши. А как-то раз в Грузино прибыл сам Алексашка, ну и Аракчеев рад стараться — выстроил перед ним весь гренадерский полк. Мишель же как командир роты фузилеров* ((сноска. Солдаты, главным видом оружия которых было ружье — Фузея.)) едет с докладом к императору, и все видят, что он подъезжает к Александру вдрабодан пьянющий, качается в седле во все стороны. У Аракчеева, мне говорили, чуть глаза не выскочили из орбит — до того минута ужасная была для него-то самого!
— Ну, и отрапортовал? — не утерпел один улан, спросил.
— Нет, не доехал до государя — прямо под ноги его лошади со своего коня свалился, лицо вкровь разбил, шпагу сломал. Государь же только улыбнулся — чай, любимца сынок: «Я, поручик, — говорит, — тридцать лет на лошади езжу, а ни разу не падал». Конфуз для Аракчеева был полнейший, а Мишелю — как с гуся вода! Снова за пьянство да за дебоширство принялся! Слышал, что Алексей Андреич после случая того твердо вознамерился сынка в монастырь сослать. И сошлет, непременно сошлет!
— Да не сошлет, никогда не сошлет! — заорал Севрюгин как безумный. Алексашка сего Мишеля снова флигель-адъютантством пожалует ради любви к своему холопу верному.
Александр слушал остолбенело. Все, о чем говорил Чернышов, являлось чистой правдой, и он не мог встать и возразить ротмистру, да к тому же он чувствовал вину как государь за то, что мирволил к безобразнику, позорившему честь мундира, и тем самым давал предмет для разговоров. И не была ли грубость, пьянство, царившие в этом доме, следствием его же неверного отношения к офицеру, которого следовало бы разжаловать в солдаты или, по крайней мере, отправить в какой-нибудь отдаленный полк подальше от людской молвы. Но было в рассказе Чернышова и то, с чем он согласиться не мог.
— Позвольте, ротмистр, — начал Александр, вставая, — нам всем было интересно выслушать ваш рассказ, но стоило ли вообще передавать его во всеуслышанье? Мы все служим в русской армии, русскому государю, а вы, простите, позволяете себе именовать помазанника, императора Алексашкой? И это спасителя России? Благословенного?
Севрюгин, уже сильно захмелевший, дернул Александра за рукав рубашки так резко, что тот был вынужден снова сесть на стул.
— Это Алексашка-то Благословенный? — закричал он, топорща в разные стороны свои бакенбарды. — Он спаситель России? Да это мы спасители! Мы кровь свою проливали за Родину! Вот я, например, при Лейпциге погнался за одним французским кирасиром. Он от меня наутек, я — за ним, все ближе, ближе! Стреляю из карабина — надо же, попал, да только пуля от его кирасы отскочила, как горошина!
— Надо же! — поразился кто-то.
— Я не отстаю. Вынул из ольстры* ((сноска. Приседельная кобура.)) пистолет, прицелился, палю — и снова пуля в кирасу попадает. Эка жалость! Ну, думаю, не уйдешь ты от меня! Коня пришпорил, нагнал и саблей поверх кирасы рублю по шее — срезал начисто, как сбрил! И поверите ль, сей обезглавленынй французик ещё сто саженей проскакал в седле, точно какой-нибудь петух, который и без головы бегать может! Так что, друг мой Вася, вот кто супостатов бил, а не Алексашка твой! Да и ты, если был под Лейпцигом со своими егерями, из-за кустов палил да, наверное, ещё и плохо попадал!
Уланы загоготали довольные тем, что в их компании находится такой славный рубака. Все офицеры были молодыми, и никто из них не то что не попал в заграничный поход, но и на просторах России по малолетству сражаться с французами не поспел. И никто из них не знал, что рубака Севрюгин о сражении под Лейпцигом только слышал, поскольку в военную службу поступил лишь в четырнадцатом году да только в чинопроизводстве продвинулся довольно скоро. Александр тоже смотрел на штабс-ротмистра с удовольствием, совсем не обидясь на него за егерей, стрелявших из кустов. Он видел в бравом офицере те черты, которых не доставало в жизни ему самому: смелости, резкости, прямоты, и скоро Севрюгин уже сидел рядом с Александром, подливая рома в «Васину» кружку, не забывая между тем и своей. Один из уланов забренчал на гитаре и высоко затянул сильным, но чуть хрипловатым тенорком:
Ах, уланы мы, уланы, пики острые у нас! Нам ли ворогов бояться, нам ли ворогов бояться, Пусть боятся девки нас!И все дружно подхватили, повторив дважды последнюю строчку, которой, как видно, все очень дорожили как отражающей самое главное качество кавалеристов. А гитарист, воодушевленный поддержкой, продолжил:
Страху мы на них напустим, если нападем зараз! Без боязни нападем мы, без боязни нападем мы, Пусть боятся девки нас!Но не успел ещё вступить хор, как Севрюгин вскочил на ноги, подбежал к гитаристу, вырвал из его рук инструмент и швырнул его в угол с такой силой, что две или три струны с печальным звоном лопнули и повисли над декой с витиеватыми вырезами.
— Все, едем, едем! — заорал он, как шальной, округлив мутные, осоловевшие глаза. Ноздри его хищно раздувались, а красивые белые и крупные зубы были оскалены. — К Ганне едем! В корчму её Ах, каких девулек приведет она к нам, а сама-то Ганка — ах, хороша, добра! Спереди — два арбуза, а сзади — огромная такая тыква! Ну просто не бабешка, а бахча какая-то на ногах! Ром туда возьмем, а впрочем не надо рому — денег, денег захвачу! И ты, Васька, с нами поедешь! Увидишь, как уланы гуляют, это не ваши пехтуровские посиделки с институтками, с альбомами, фортепьянами, канарейками! Музыкантов позовем, евреев! Там в сельце знатные есть музыканты, а тебе, голубь ты мой, несмотря на то, что плешив да тих, как пономарь, я такую жидовочку подыщу, такую Суламифь, какой сам царь Давид не пробовал! Как головня горящая всю неделю опосля её лобзаний огнем осветиться будешь, не потухнешь! Ну, едешь?!
Александр, глядя с восхищением на обнимавшего его Севрюгина, поцеловал штабс-ротмистра от всего сердца и, едва держась на ногах, опираясь на офицера, твердо сказал:
— Еде с тобой, Федя! Велю сейчас же коляску закладывать! Пошли денщика к моему Илюхе!
— Трифаа-а-н! — завопил Севрюгин. — Беги, шельма, на квартиру их высокоблагородия да вели кучеру тройку запрягать! Пусть к моему дому через полчаса подгоняет! Только уж, любезный Вася, не Илюха твой кучером у тебя сегодня будет, а я, штабс-ротмистр третьего Украинского уланского полка Федор Степаныч Севрюгин!
… На тройке они мчались в ночи, и Александру казалось, что звезды, испещрившие черный бархат небесного шатра, крутились в беленом танце. Голова кружилась от выпитого рома и от быстрой езды, коляска то и дело подпрыгивали на ухабах, но Севрюгин, как заправский ямщик, приподняв локти, все торопил и торопил лошадей. Рядом с ним на облучке сидел какой-то улан, качавшийся так, что Александр боялся за него — вот-вот упадет в придорожную канаву. Рядом с Александром сидели ещё два кавалериста, то и дело передававших друг другу бутылку рома, из которой порой прихлебывал и Александр, а в ногах у него примостился улан-тенор, не забывший прихватить гитару, и, наигрывая на четырех оставшихся струнах, пел что-то удалое, молодецкое. На душе у Алекандра было так хорошо, так вольготно! Он смутно представлял, куда мчатся они, но был уверен, что там, впереди, его ждет что-то совсем необыкновенное, неизведанное, то, что было заказано для него, государя, в его минувшей, оставшейся где-то позади жизни.
Влетели на окраину какого-то села, и тут Севрюгин, произнеся длинное и громкое «тпру-у-у», резко натянул вожжи, и тройка остановилась, да так резко, что левая пристяжная даже упала на передние подогнувшиеся ноги.
— Все, приехали! — соскочил с облучка Севрюгин. — Покидай-ка карету, господа!
Поднялись по ступенькам высокого крылечка большого дома с освещенными оконцами. Каждый в полной форме, в киверах, при саблях. Севрюгин ногою отворил дверь, и Александр очутился в большой, но по-крестьянски убранной комнате. В комнате — столы, за столами — бородатые люди в армяках домотканного сукна. В сторону вошедших офицеров повернули испуганные лица. Севрюгин же, выхватив из ножек саблю, стал вращать клинок над головой, неистово крича:
— А ну вон отсюда нехристи вшивые, христопродавцы, не то всех в капусту посеку! Пшли, пшли отсюда, али не видите, что господа уланы кутить приехали?!
Люди, тихо и смирно сидевшие до этого с кружками пива, с нехитрой снедью, мигом повскакивали из-за столов, с искаженными от страха лицами, хватая шапки, метнулись к выходу, и тут же их и след простыл. Зато откуда-то из глубины комнаты, покачивая на ходу крутыми бедрами, выплыла толстая молодая женщина с головой, обвязанной нарядным платком. Да и одета она была хоть и по-крестьянски, но празднично, а подходила к офицерам с широкой, сладкой улыбкой на красивом, но порочном лице.
— Ах, шо за гарнесиньки уланчики, да что ладные хлопчики! Да хиба ж треба гам робыть! Уси люди злякались да от вас погибли!
Вместо ответа Севрюгин шагнул к корчмарше, резко обнял её и крепко поцеловал в яркие, точно облитые вишневым соком губы.
— Ганна! — сказал он, нацеловавшись вдоволь. — Тикай сейчас же за самыми ладными дивчинами. Одна нога здесь — другая там! Еще и музыкантов, скрипачей зови — уланы нынче бамферфлюхтер затеяли. Грошай у меня, Ганна, точно вшей на нищем. За все плачу по-княжески!
Александр, находившийся все время в каком-то возбужденно-восторженном состоянии, смотрел на все, что происходило потом, сквозь пелену тумана. Когда уж под утро возвращались в его коляске в полковую слободку, вспоминал, как явились музыканты, как заныли, запели скрипки, загудел контрабас, помнил, что он много пил, целовал уланов, говорил, что лучше их в е г о армии нет, пел, танцевал и корчмаршей Ганной, целовал её, сорвал ей за пазуху ассигнации и серебро, много говорил по-французски. А потом, когда пришли «дивчата», он сразу выбрал одну из них, черноокую и гибкую, как лоза, отплясывал и с нею, удивляясь про себя, как ловко он умеет выделывать такие замысловатые кренделя в танце, которого никогда не только не пробовал танцевать, но даже и не видел. Помнил, что черноокая, обжигая его своим колдовским взглядом, потянула его куда-то, в какой-то коридор или сени, в полной темноте провела в комнату, где пахло чем-то незнакомым. Вспоминал, как упали они с ней вместе на что-то жесткое, наверно, на пол, и он больно ошибся. Но то, что происходило после, он не мог вспоминать без восторга, смешанного, однако, со стыдом. Нет, он не стыдился и тогда, когда живя в Царском Селе, навистывая арию из «Волшебной флейты», походной спокойного, уверенного в себе человека шел между аккуратно подстриженных кустов парка в сторону Баболовского дворца, где ждала его обворожительная баронесса Вельо, полужеманница-полубесстыдница. Но то, что происходило с ним тогда, в темном чулане, обжигало его память восторгом и стыдом, потому что такого с ним не случилось никогда, со сколькими женщинами в прошлом ни встречался Александр.
4 «ВЫ ПОСТУПИЛИ МОНСТРЮОЗНО!»
… Его разбудило щекотание и противное гудение — мухи летали рядом с его лицом, садились на щеку и ползали по ней. Попытался приподнять голову, чтобы понять, где он находится, но не сумел — точно пудовая гиря была привязана к голове, и болела она так, будто он свалился с лошади и ударился о камень.
«Да где же я? — с трудом соображал Александр. — Неужели все там же, в корчме, у Ганны?» Но не разбитую, пухлую корчмаршу увиде Александр, а Севрюгина. Штабс-ротмистр сидел за столом, стоявшем у оконца, в накинутой на плечи шинели. Волосы его и бакенбарды хоть и были всклокочены, но офицер был чрезвычайно серьезн и совсем непьян. Листы бумаги лежали перед ним, стояла чернильница. Севрюгин, лицо которого украшали очки, щелка костяшками больших счетов, хмурился, кусал кончик разлохмаченного гусиного пера, что-то чиркал в толстой тетради. Услышав, что Александр зашевелился, повернулся в его сторону всем телом, мрачно сказал:
— Ага, изволили пробудиться. А ты, брат, того, проказник из забубенных оказался. Ишь, как куролесил-то вчера у Ганки. Скрипку еврейскую сломал, пытаясь на ней играть, Глашку в укромные апартаменты поволок, точно древний римлянин сабинянку, опосля коляску свою заблевал. Ну да ты не думай, я не в укор тебе сие говорю — уланы таких, как ты очень даже уважают. Напрасно вначале институтку из себя корчил…
Александру вдруг стало так стыдно, что захотелось поскорее укрыться с головой шинелью, которой он был накрыт.
«Это я, государь, помазанник, так безобразничал вчера — в ужасе подумал он. — Нет, нет, просто из меня вылезло все то, что я раньше так тщательно от всех скрывал. Так неужели же я по природе своей столь дурной человек?»
— Ах, как голова болит! — со стоном произнес Александр.
— Голова?! — отчего-то с немалой радостью воскликнул Севрюгин и закричал: — Трифон, ирод окаянный, ты в сенях?
— Здеся, вашесыкородь, — донесся голос денщика.
— Баранину холодную мелко нашинкуй да огурцы соленые таким же манером. Все залей рассолом крепким да господину капитану подай немедля с рюмкой рома!
— Сей минут исполню! — откликнулся денщик, и скоро расторопный Трифон уже нес к постели Александра все нужное для его срочного выздоровления.
Как ни противен Александру был запах рома и острого кушанья, он, чтобы не обидеть хозяина, выпив рюмку, принялся черпать из миски баранину и огурцы, и к удивлению заметил, что силы вновь вливаются в него, будто их источник на самом деле содержался в этом варварском блюде.
Между тем Севрюгин серьезным тоном, не отрываясь от занятий, произнес:
— Ты лежи, лежи, а у меня тут дело, знаешь, щекотливое такое запоздал я с третным отчетом по своему хозяйству. Это я вчера был капельмейстер, с позволения сказать, а сегодня — квартирмейстер. Сам ведаешь, должность хлопотная да и сопряженная… Командиры эскадронов сейчас придут, будем вместе с ними мараковать, как обтяпать дельце…
— Занимайтесь, занимайтесь, я мешать не буду, — заверил Александр Севрюгин, продолжая лежать в постели. Ему понравилась деловитость штабс-ротмистра, который вчера казался ему лишь веселым повесой, сильно глуповатым кстати.
Один за другим явились офицеры. Многие с помятыми, бледными лицами, но все сосредоточенные, будто и не присутствовали вчера на бамферфлюхтере. Кивали Александру, рассаживались вкруг стола Севрюгина, доставали из карманов курток исписанные листки бумаги. Штабс-ротмистр, оглядев присутствующих строгим взглядом, начал:
— Итак, господа, дела наши неважнецкие, а пособить делу нужно. За треть сентябрьскую недостача по полку составила суммишку в пять тысяч пятьсот тринадцать рубликов и пять алтын. Чем можем её покрыть? Живем мы дружной полковой семьей, гуляем вместе, так что заединщиками быть должны всегда: сегодня у одного эскадронного недостача, завтра — у другого…
— Да и так все ясно, Федя, — раздраженно сказал ротмистр первого эскадрона. — Долго больно ты толкуешь. Ну так я со своей стороны могу для рапорта твоего такие сведения подать: рейтузам нашим срок носки давно уж минул, но я своим уланам сказал — носите, братцы, ещё полгода, новых не будет. Ничего, подлатают, зато впиши от меня пятьдесят шесть рублей в прибыток.
— Ладно, господин ротмистр, впишу, но сего мало. Как там у тебя с куртками, с уланками, с подковами, торбами, саками, недоуздками, седлами, вальтрапами? Что можешь выжать из сих вещиц?
Офицер вздохнул, глянул на свою бумажку?
— Ну, будь что будет. Запиши на все, что перечислил, ещё рублей сорок. Перетерпим.
— Уже вписал, — чиркнул Севрюгин в своей книге, а потом, обтерев перо о кудри, обратился к другому офицеру:
— Второй эскадрон пошел. Карабины, штуцера, сабли, пистолеты имеются из тех, что срок своей миновали?
— Отыщутся, — кивнул второй ротмистр. — С год или даже с два года ещё послужат, зато в приход тебе даю двести шестьдесят рублей.
— Записано, — деловито буркнул Севрюгин. — О состоянии котлов, палаток, водоносных фляг пускай расскажет нам командир третьего эскадроан…
Таким манером все десять ротмистров отчитались перед ушлым квартирмейстером о хозяйстве вверенных им эскадронов, Александр же, вначале плохо понимавший, в чем суть дела, мало-помалу стал смекать: деньги, что получились от казны на приобретение экипировки, оружия, всех необходимых для полка вещей, частью оседали в карманах командиров. Догадался Александр, на что Севрюгин покупал и ром, и поросят, и осетра. Догадался, но пока лежал и слушал, а штабс-ротмистр говорил:
— Так, господа — копейка, да копейка, да копейка — уже алтын. Дали вы мне в показаниях своих прибытку в две тысячи четыреста рублей, а где, скажите, мне ещё три тысячи сто тринадцать рубликов сыскать? Где, ответьте? Ты, Мефодьев, по ремонтерской части ездил на ярмарку, так неужто не прикарманил тысчонки полторы? Разве по сто рублей ты тех жеребцов купил? Нет, брат — по восемьдесят от силы! Вот и положи на стол хотя б полтыщи!
— Да побойся Бога, Федя! — развел руками Мефодьев, полковой ремонтер. — По сто и покупал.
— Я тебе не Федя! — вскрикул вдруг Севрюгин. — Я Федей для тебя вчера на абмферфлюхтере был, а ныне я господин штабс-ротмистр Севрюгин! Три сотни рубликов клади на стол сейчас же!
И смущенный, красный, как вареный рак, Мефодьев полез в карман.
— Теперь ты, Задырин, говори: всех ли овец задрали волки, когда твой унтер Загорулько ездил к гуртовщикам, чтобы закупить мясца уланам на приварок?
Севрюгин смотрел на Задырина с ненавистью того самого волка, который и мог, как сообщил всем ротмистр, погубить приобретенных на казенные рубли овец. Взгляд штабс-ротмистра был так страшен, что Задырин тут же согласно закивал:
— Нет… не всех, пятьдесят овечек убежали, да Загорулько их словил…
— Ну так хорошо бы было, чтоб и я словил с тебя рублей эдак сто тридцать пять!
Задырин не возражал — трясущейся рукой полез в карман и выудил оттуда пачку смятых ассигнаций. Севрюгин деньги пересчитал:
— Голову мне не морочь, здесь только девяносто восемь!
— После занесу… — виновато промолвил ротмистр Задырин, а Севрюгин уж повернулся к другому командиру эскадрона:
— Ты, ротмистр Гартенблюхер, по моему приказу занимался выпечкой хлебов из муки казенной, полученной из казенного же магазина, а после хлеб на сухри пускал. Так отчего же, скажи мне, милый Гартенблюхер, ты из пятисот пудов муки изготовил только двести пятьдесят пудов сухариков? Дело предивное, однако!
— Да помилуйте, штабс-ротмистр, на усушку половина веса и ушло! развел руками Гартенблюхер.
— Нет, брат так со мной не шути! — грозно потряс пальцем Севрюгин. Квартирмейстер знает, сколько уходит веса на усушку — ровно треть от веса. А посему семь десятков рубликов с тебя. Доставай сейчас же из своего умного немецкого кошелька.
Севрюгин ещё с полчаса выуживал из карманов офицеров деньги, а когда все десять командиров эскадронов вернули то, что им с таким трудом удалось зажилить из казны полка, Севрюгин с великим огорчением сказал:
— И все равно, как ни крути, а полторы тысчонки не достает. Придется, господа, за сентябрьскую треть жалованье рядовым уланам урезать вполовину.
— Не было бы недовольства… — осторожно заметил кто-то, что вызвало у Севрюгина вспышку искреннего гнева:
— Недовольства, говоришь?! А согласно артикулу устава за любое недовольство в случае задержки жалованья солдатам палки полагаются. Нет, никакого ропота не будет — ополовиним их оклады, по пятьдесят копеек за каждый месяц получат в руки! И того с них хватит! Вы на рожи их взгляните, господа — сытые, румяные да круглые, точно масленичные блины. Потерпят! Неведомо вам, что ли, что они в свободное от службы время на вольные работы ходят: кто плотничает, кто канавы роет, кто в поле возится за деньги. Зачем им жалованье? Иждивенцы! Я бы им и вовсе ни копейки бы не дал!
Александр, свято веривший в то, что в полках е г о армии царит порядок полный, нет казнокрадства, все сыты и довольны тем, что дается от казны, все сильнее и сильнее трепетал от негодования. Наконец терпению его пришел конец, и он, не замечая, что обряжен в одной белье, встал с постели и подошел к столу:
— Господа, — растерянно промолвил он, — я, пардон, все слышал, и уж обижайтесь вы на меня — не обижайтесь, но скажу вам откровенно: присваивать принадлежащие полку средства — есть казнокрадство и достойно по рассмотрении суда каторжных работ.
Вы права не имеете носить мундиры офицеров!
Все так и остолбенели. Иные смущенно отвернулись, другие нахально заулыбались, третьи разинули рты. Севрюгин же с улыбкой посмотрел на Александра:
— Вася, у тебя, видать, со вчерашнего бамферфлюхтера голова болит, коль ты такую дребедень изречь сумел. Поди-ка к Тришке, пуст ь он тебе ещё ромцу нальет — ямайский ром, хороший и очень, очень дорогой. Кстати, ты выпил его вчера рублей на пятьдесят. Чего же нас срамить?
— Ах я вам должен?! — так и обожгли Александра слова Севрюгина. — Ну так я же сейчас и верну вам деньги за ром, за осетра да и за поросенка!
Он кинулся к своему мундиру, брошенному у постели, стал рыться в карманах, но к великому огорчению и стыду Александра, карманы, в которых, по его подсчетам, должны были оставаться ещё рублей триста, оказались пустыми 3 лишь два серебряных рубля лежали на его ладони.
Офицеры же, заметив его обескураженный вид, дружно засмеялись, что заставило Алексндра испытать ещё более сильный стыд вперемешку с гневом. Он снова подбежал к столу, весь трясущийся, пылающий от негодования, сбивчиво заговорил:
— Вы воры, казнокрады, а не офицеры русской армии! И не стыдно вам солдатиков обирать? И так уж слышал, что в полках м о и х на тяжкий грех рядовые очень даже часто идут — руки на себя накладывают, а вы тому способствуете! Где же стыд у вас, господа?
Казалось, Севрюгина трудно было пронять укорами. Он сидел подбоченясь и с насмешкой смотрел на блеснувшегося перед ним «Ваську». Ответил он ему спокойно и даже важно:
— Слушай, егерь, ты свои волосы ерошь, да чужих не трожь. Или ты, командир роты, не тем же самым занимаешься? Или сам не знаешь, что господам офицерам, ежели подспорье денежное из имений не получают, на триста сорок рубликов годовых никак не протянуть. Вот и приходится вертеться, как грешникам на адских сковородках. Платили б нам хоть в два раза больше, так не мундиры б. Да и что за странное словечко ты вдруг тут молвил? насторженно спросил вдруг Севрюгин. — В каких-таких «моих» полках? Ты, собственно, тот ли, за кого выдаешь себя? Не шпионить ли в наш славный полк приехал? Уж больно ты на офицера, командира роты, не похож повадками кляузными своими…
Последние слова Севрюгина произнес, однако, с оттенком некоторой робости. Мысль о том, что он принял в своем доме ревизора от комиссариата да ещё так неосторожно открыл перед ним двери своей коммерческой кухни, заставила его струхнуть. Но испугался и Александр. Безусловно, он мог сейчас же открыться, вызвать в дом Севрюгина командира полка, заявить ему, что он — император Александр и требует немедленно арестовать уличенных в казнокрадстве офицеров, но тогда ему пришлось бы распрощаться с мыслью оставить мир, да к тому же история с переодеванием, преданная огласке, навек скомпрометировала бы его в глазах всего народа.
— Нет, нет, я не ревизор, заверяю вас, — сбивчиво и даже как бы прося прощения, заговорил Александр. — Если желаете взглянуть на мой отпускной билет, где прописаны мои звание и имя, то пожалуйста…
И тут Севрюгин, сам трусливый по натуре, но становящийся грозынм и даже величественным, когда видел робость других, сурово сдвинув брови, заговорил сквозь зубы:
— Ну, а коли так, господин капитан, то знайте, что словами своими вы оскорбили не только честь присутствующих здесь господ офицеров, но и достоинство славного третьего Украинского уланского полка. «Воры, казнокрады!» — сие никуда не годистя! Ежели вы не возьмете свои слвоа назад и во всеуслышание в самых вежливых тонах не выразите своего сожаления за сказанное и не попросите у нас прощения, то каждый… заметьте, каждый из присутствующих будет вправе бросить вам свой вызов. Итак, мы ждем!
Еще недавно сконфуженные, а теперь осмолевшие командиры эскадронов, наперебой принялись бросать фразы:
— Да, вы монстрюозно поступили, капитан! Сие смывается только кровью!
— Не позволим честь нашу марать! Мы вас радушно, как гостя, приняли, а вы нас оскорбили! Не позволим!
— Только извинения, иначе — сабли или пистолеты. Решайте!
Александр смотрел своими голубыми глазами то на одного, то на другого, а в голове, точно сноп искр, сверкали вспыхивающие одна за другой мысли: «Попросить прощенья? Драться? Но ведь я только по отпускному билету капитан, а на самом деле — помазанник! Как мне с ними драться? Но тогда придется извиняться, ведь я их и впрямь обидел!» Но в друг одна яркая, точно вспышка зажженного пороха, мысль скрыла своим сиянием все другие мысли: «Это — офицеры моей армии, они — защитники России, и не имеют права быть ворами, казнокрадами! Не имеют!»
— Господа, — со спокойной улыбкой принявшего решение человека сказал Александр, — я, безусловно, был резок в выражениях, но отказаться от них не имею права, ибо они отражают суть того, что вы чинили. Таково мое последнее слово.
Севрюгин хмыкнул. Ему сильно не хотелось драться с каким-то проезжим капитаном.
— Как мне мнится, ваш теперешний тон можно принять за тон вполне извинительный, не так ли?
— Нет, господин штабс-ротмистр, я перед вам не извиняюсь и слова свои назад не забираю! Вы не имели права грабить полковую казну. Ежели вам угодно драться, то я принимаю ваш вызов.
Севрюгин снова озадаченно хмыкнул:
— Полагаю, да и все полагают тоже, что вы сделали мне формальный вызов, а не я вам. Вдобавок ко всему, я являюсь оскорбленной стороной, а посему я вправе выбрать и оружие. Или я, господа, не прав?
Вопрос, обращенный к офицерам, был встречен единодушным одобрением, и Севрюгин, потеребив свой бакенбард, раздумчиво сказал:
— Что ж, господин капитан, коль извиняться вы были не намерены, то мы будем драться, на саблях драться. Думаю, что вам придется пожалеть о сказанных скоропалительно, грубых и, даже я бы сказал, брутальных словах. Желаете ли выбрать секунданта?
— Нет, зачем же, — тихо проговорил Александр, — я обойдусь. Только я вас очень попрошу, господин штабс-ротмистр, откладывать поединок мы не станем. Сейчас же удалимся куда-нибудь в лесок, найдем полянку, а там… там, как Господь рассудит.
Севрюгин, надувая щеки, отчего его бакенбарды стали ещё пышнее, забормотал с напускной важностью:
— Да, дело чести решить наш спор немедленно. Мне ведь ещё и рапорт составить нужно. Дела, знаете ли, неотложные… М-да… и так вот он и скакал в седле без головы двести саженей, славный был бой тогда…
Одетый по полной форме, с шарфом, со шпагой, в кивере, с офицерским знаком на груди, Александр шел в толпе уланов. Он жалел только об одном не успел дать указаний Илье и Анисиму, как им распорядиться в случае его кончины деньгами, что хранились в его шкатулке. Учитывая стоимость драгоценностей, там было не меньше пятисот тысяч.
«Мне просто необходимо победить, зарубить или хотя бы тяжело ранить этого бурбона! — явилась вдруг простая, ясная мысль. — Он оскорбил честь мундира офицера м о е й армии, значит, оскорбил меня, государя, а за оскорбление чести и достоинства императора, помазанника Божия, по закону устава воинского полагается смертная казнь! И я, государь, его казню!»
Но тут вторая мысль столкнулась с первой и мигом прогнала ее: «А какая кара полагается мне, их государю, если я положил этим офицерам такое мизерное жалованье, на которое не то что попировать в честь праздничного дня нельзя, но и мундир справить, прокормить себя, семью нет никакой возможности? Выходит, я толкнул их на воровство? Значит, я, если и не соучастник, то невольный их руководитель, так ведь? И почему казнить я должен одного Севрюгина, а не всех командиров эскадронов? Ах, я совсем запутался, совсем!»
А Севрюгин, покуда шли к лесу, бравировал перед офицерами своей отвагой и умением биться на саблях. Он то и дело выделывал сжатой в кулак рукой разные фортели, делал выпады, «рубил» направо и налево, а сам то и дело косил глаза в сторону Александра, желая увидеть на его лице растерянность, но противник штабс-ротмистра был настолько погружен в свои раздумья, что и не замечал гримасничанья.
Наконец нашли удобную поляну, и Александр стал снимать мундир. Скоро он и Севрюгин стояли на расстоянии десяти шагов друг против друга, а два офицера подали им сабли. Александр отчего-то с интересом взглянул на поданое ему оружие — когда-то на образцовом рисунке этой сабли он написал: «Одобряю. Александр».
Когда противники были готовы к бою, ротмистр Чернышов, тот самый, который рассказывал историю о Мишеле Шумском, обратился к ним с вопросом:
— Господа, не примиритесь ли? У вас есть последняя возможность.
Севрюгин, все видели, драться сильно не хотел, а поэтому сказал с ленцой:
— Ну, если господин капитан возьмет свои слова назад…
Александру вдруг припомнилась вся сцена с составлением фальшивого рапорта, он представил, что такие рапорты поступали в военное министерство ото всех полков и вводили в заблуждение министра, а значит и самого императора, то есть его лично, и страстное желание наказать за этот обман хотя бы одного человека заставило Александра сказать:
— Севрюгин, вы — вор и мошенник, а поэтому извольте изготовиться к бою!
И, отсалютовав клинком, Александр принял позицию для начала дуэли, услышав между тем произнесенное кем-то с грустной обреченностью:
— Что делать, Федя, придется уж драться… Ну, бог с тобой…
Александру никогда не приходилось драться с человеком насмерть, хотя фехтовать на рапирах и эспадронах, стрелять из пистолета в дворцовом тире, он любил ещё с детства. Но там всегда была игра, то есть не было опасности для жизни, поэтому можно было рисковать, делать сложные финты. Здесь же, при наличии остро отточенных клинков, при непременном желании противника убить тебя во что бы то ни стало, хотя бы ради того, чтобы самому не оказаться убитым, тело его было непослушным, скованным и вялым.
В глубине души Александр считал себя не слишком смелым человеком, но ему никогда не нужно было опасаться за свою жизнь, и чувство самосохранения посещало его редко, оттого и своей «несмелости» он почти не замечал. Севрюгин же, несмотря на показной бравый вид заправского рубаки, был трусом по натуре, и теперь его успокаивало лишь то, что егерский капитан окажется в бою ещё трусливее, чем он.
— Начинай бой! — махнул один из офицеров обнаженной саблей, и противники, находясь друго от друга на приличном расстоянии, на согнутых в коленях ногах, стали медленно двигаться по кругу, хотя в этом движении не виделось ни смысла, ни стремления поскорее закончить «дело».
Первым к «делу» приступил Севрюгин — желая устрашить Александра, он дико вскрикнул, скорчил рожу и пострашнее и завертел над головой клинок с такою скоростью, что сабля из виду пропала, а рассекаемый ею воздух загудел пчелиным роем.
«Да он меня боится! — пронеслось в голове Александра. — Он и фехтовать-то не умеет!» И вдруг жалость к этому пустому, жалкому человеку, фату и воришке, заменила чувство страха перед быстро вращавшимся клинком. Зная, что теперь он своей саблей отведет любой удар противника, Александр на своих длинных ногах шагнул к противнику, а потом сделал столь молниеносный выпад, что Севрюгин даже не успел отпарировать удар. Но делая выпад, Александр, очень не желая убивать вздорного штабс-ротмистра, на мгновенье зажмурился и, когда острие сабли вонзилось во что-то твердое, тотчас отдернул клинок назад невольно опустив оружие, смотря на противника широко открытыми глазами.
Севрюгин со сморщенным от боли и от жалости к себе лицом, уронив на землю саблю, стоял, покачиваясь и держась левой рукой за правое плечо, а между пальцев струилась кровь.
— Он ранен! Ранен! — прокричал кто-то. — Холстины бы перевязать!
— Эх, дуралеи, даже корпии не взяли!
— Да пусть же кто-нибудь рубаху снимет — разорвем её да перевяжем рану! Эка незадача!
Офицеры окружили товарища, уже сидевшего на траве и стонавшего. Затрещала разрываемая рубаха, а Александр все стоял и смотрел на суетившихся уланов, а когда плечо Севрюгина было перевязано, он громко произнес:
— Если кто-нибудь из вас так же храбро и умело воевал под Лейпцигом и желает вступиться за честь своего полка — милости прошу!
Но желающих сразиться не отыскалось — никто даже не повернул в сторону победителя лица, и тогда Александр продолжил:
— Господа офицеры, пусть один из вас, к примеру, ротмистр Чернышов, пройдет со мною на мою квартиру. Я передам господину ромистру пятьдесят тысяч с той целью, чтобы полковая казна была восполнена. Изношенные мундиры, негодная амуниция, оружие и прочее заменены на новые. Поверьте, мне не меньше, чем вам дорога честь третьего Украинского уланского полка. Ради сего я и готов пожертвовать личными средствами.
И воткнув саблю в землю, Александр надел мундир, повязал шарф, подвесил шпагу и надел кивер, а уланы с молчаливым недоумением смотрели на странного егеря. Никто из них не понимал, чем вызвана такая щедрость с его стороны, н кое-то вдруг припомнил, как этот лысоватый егерь произнес в доме Севрюгина престранные слова — «мои полки», и удивление офицеров возросло троекратно.
С ротмистром Чернышовым Александр пришел на квартиру унтер-офицера Гервуда. Ни говоря ни слова, отпер ключом шкатулку, отсчитал пятьдесят тысяч ассигнациями и передал их Чернышову.
— Надеюсь, сии деньги будут израсходованы по назначению? — спросил он у ротмистра с доброй улыбкой на лице.
— О, несомневайтесь! — торопливо спрятал деньги Чернышов и, пристально посмотрев на Александра, сказал: — И все же, я вас где-то видел — такое знакомое лицо. Уж не в Петербурге ли?
— Вполне возможно, — отвел взгляд Александр. — Ну да прощайте, ротмистр. Мы вряд ли увидимся с вами когда-либо… даже в Петербурге сего уж боле не случится.
— Чернышов почтительно поклонился и вышел.
— Едва раздался стук сапог спускавшегося с крыльца офицера, к Александру подбежал Шервуд, которого Александр вначале и не заметил, хотя молоденький унтер все время сидел в углу комнаты. Бросившись на колени перед ним, глядя на него полными восторга глазами, Шервуд сбивчиво заговорил:
— Молю вас, выслушайте, меня, молю! Еще вчера, на празднике, я хоть и не сидел за столом, не упускал вас из виду! Сегодня утром, стоя у окошка дома штаб ромистра Севрюгина, я слышал все, что там происходило. Я знал, что творится у нас в полку, знаю, что происходит в других, и если бы вы на самом деле были обыкновенным капитаном, командиром роты, вас бы не ранило все это безобразие! Потом я шел сторонкой, когда вы с офицерами проследовали в лес! Там я следил из-за куста за вашим поединком с Севрюгиным, и, поворьте, мое сердце сжималось от страха за все… за вас, обожаемого мной! Как вы могли так рисковать? Не знаю, что вас заставило надеть мундир обер-офицера — я не вправе пытаться постигнуть волю вашу! Но признайтесь мне, признайтесь, и тайна никогда не будет мной раскрыта!
— Да в чем же я должен вам признаться? — холодея, спросил Александр.
— Признайтесь, — молили глаза Шервуда, — вы… император Александр?
— Несколько мгновений Александр молчал, с полуулыбкой глядя на взволнованного унтер-офицера. «Что ему нужно? Правда, он выглядит искренним, но что стоит за этой искренностью? Простое любопытство?» — думал он.
— Предположим, вы правы, — тихо заговорил Александр, — но что же дальше?
— Лицо молодого человека, углядевшего в словах «капитана» подтверждение своей догадки, засияло. Он быстро поднялся, говоря: «Сейчас, сейчас, одну минуту, ваше величество! «- кинулся к сундуку, вскинул крышку и тащил оттуда что-то — это была тетрадь.
— Ваше величество, — шепотом заговорил Шервуд, подавая тетрадь Александру, — в армии против вас создан заговор с целью уничтожения самодержавия и установления конституционного правления. Пестель, предводитель Южного общества заговорщиков, призывает поднять бунт, уничтожить всю августейшую семью, а потом… впрочем, вы все сами прочтете. Сие — проект устройства политического, Пестелем сочиненный! Прочтите, если пожелаете!
— Александр присел за стол и стал читать проект. Его мало интересовали идеи бунтовщиков — ещё год назад Бенкендорф доложил ему о том, что в стране действуют тайные общества, имевшие целью свержение самодержавия. Сейчас же только горячность юноши заставила Александра приняться за чтение, но постепенно он увлекся и некоторые места немало поразвлекли его. Спустя четверть часа Александр встал из-за стола и с милой улыбкой протягивая Шервуду тетрадь, сказал:
— Молодой человек, вы ошиблись. Я — не государь император. На свете так много людей со сходными физиономиями. Ну представьте сами — император и вдруг в капитанском мундире, без свиты да ещё идет драться с каким-то растратчиком казенных сумм? Что за бред! У вас богатая фантазия, молодой человек. Вам бы сочинительством заняться. А о том, что знаете, напишите рапорт полковому, а то и дивизионному командиру, приложите при оном сию тетрадку да и служите себе спокойно. И пусть вам не мерещутся государи императоры в капитанских мундирах. — И тут же прокричал, уже не обращая внимания на остолбеневшего Шервуда: — Илья! Анисим! Собираемся в дорогу! Довольно погостили у господ уланов.
5 ОСКОРБИТЕЛЬ ДЕВИЧЬЕЙ ЧЕСТИ
Серж Муравьев-Апостол и Мишель Бестужев-Рюмин уже с полчаса сидели за столом в бараке и молчали. Обоим было не просто грустно, а по-настоящему тягостно на сердце. Молчание прерывалось лишь глубоким вздохом одного из них, но наконец Мишель не выдержал, заговорил:
— Ну ладно, и не обещал он нам прямо ничего — так, одни намеки делал о возможности арестования государя, но как могло случиться, что он, едва сдал караул, как тут же удалился в отпуск, да еще, согласно монаршему разрешению, на два года! Неизъяснимо просто! За какую-такую услугу Алексашка Норову милость сию сказал? Да уж… не потому ль, что предал он нас всех?
Эта мысль пришла на ум Мишелю только что, и он даже испугался неожиданного прозрения. Вопросительно взглянул на Муравьева, но тот молчал, словно подтверждая молчаиием своим возможность такого варианта.
— А выздоравливает государь… — в какой-то вялой задумчивости произнес Муравьев-Апостол.
— Что, рад за него? — вскинулся Мишель. — Да хоть бы он подох от оспы.
— Ну, помер бы, и что с того? Другой его заменит, Константин, царствовать покруче станет.
— Ах, да все равно, все равно! А я вот сижу и думаю: ведь наверняка донес на нас твой Норов. Говорил же я тебе — убить его тишком да закопать, а ты: «Нет, нет, сие такой благородный человек, под Кульмом в ляжку ранен был!» Не слушал ты меня, а зря. Ну так сиди и жди, когда придут нас арестовывать!
— Чего же раньше-то не пришли?
— Да потому, что государю с его оспенной горячкой, да ещё к тому же тяжелейшей, — ведь чуть не помер, говорили, — не до нас покамест было, теперь — другое дело. Очухался — и примется за нас! Жди, жди, на каторгу пойдешь в цепях, и делу нашему конец!
Вдруг где-то у входа в барак раздался чей-то властный голос, послышались шаги, дверь проскрипела. Оба офицера устремили взгляд в ту сторону, откуда донесся шум — прозвенев шпорами, простучав каблуками начищенных до зеркального блеска ботфортов, в барак с брезгливой миной на лице вошел флигель-адъютант. Как и следовало флигель-адъютанту, с металлом в голосе спросил:
— Подполковник Муравьев-Апостол и прапорщик Бестужев-Рюмин?
— Офицеры тотчас поднялись из-за стола. Серж кивнул, сильно побледнев:
— Да, вы правы.
— Я и не сомневался, в том, что прав, — отчеканил флигель-адъютант. Соизвольте немедленно одеться по полной форме, но без шпаг, и следовательно за мной. Я вас за дверью подожду. Здесь такой скверный запах… — И поморщившись, флигель-адъютант снова застучал по полу каблуками и зазвенел шпорами, в чем видел, должно быть, особый шик.
— Ну, что я говорил? — с глубокой печалью, но очень тихо промолвил Бестужев-Рюмин, одеваясь, — Но не думай, я так просто им не отдамся… — И он вынул из кармана небольшой, изящный пистолет и показал его Сержу. — Или его застрелю, или…
— И Муравьев-Апостол не сказал ему ни слова.
— Флигель-адъютант, гордо восседая на великолепном жеребце, держал поводья одной рукой, другую же молодцевато упер в бок.
Мишель и Серж шли по обеим сторонам от лошади.
— А что за надобность появилась в нас? — не удержался, чтобы не задать вопрос Мишель — на душе почему-то было спокойно и легко.
— Флигель-адъютант, солидности ради немного помолчав, ответил неохотно:
— Их величество желает видеть вас, а зачем — не знаю. Будьте предельно аккуратны в поведении, чтобы ни единым резким словом, ни единым неловским жестом не обеспокоить их величество, чувствующее себя ещё не слишком здоровым.
Тот же флигель-адъютант провел их по коридорам комендантского дома, только здесь он уже старался совсем не топать и не звенеть шпорами. Что-то шепнул дежурившему у дверей камендинеру, тот кивнул и, осторожно отрыв дверь, прошел в помещение.
— Их величество государь император просят господ офицеров пожаловать к нему, — почти шепотом, но очень важно объявил вышедший в коридор камердинер и поклонился, пропуская Сержа и Мишеля в покои царя.
— Они прошли в небольшую по размерам спальню, скромно убранную, их сердца бились ровно и спокойно, потому что каждый знал, какая участь их ждет, но в то же время сильное любопытство влекло их — хотелось поскорее узнать, почему именно Александр пригласил их к себе, а не комендант Бобруйска или жандармский начальник.
Войдя, они увидели императора сидящим в кресле. На нем был шелковый стеганый халат, и колпак нелепо сидел на его голове. Издалека было видно, что лицо Александра воспалено, изрыто едва зажившими язвами от прорвавшихся нарывов. Они часто видели Александра, теперь же его невозможно было узнать — совсем другой человек сидел и молча смотрел на вошедших.
— Подойдите ближе, господа, — послышался слабый голос государя.
Серж и Мишель сделали по направлению к нему несколько шагов.
— Нет, ещё ближе, ближе, — настойчиво, но в то же время мягко просил Александр, — Не бойтесь, заразиться оспой от меня вы уже не сможете.
Офицеры встали совсем неподалеку от человека с изуродованным лицом. Серж смотрел на Александра, и ему даже чуть-чуть стало жаль его. «Да, подумал он, — болезнь и смерть не щадит и помазанников…»
Александр молчал, а потом, приглушая голос почти до шепота, спросил:
— Неужели вы не узнали меня?
— Муравьев-Апостол присмотрелся к чертам лица императора, и вдруг в его сознании мгновенно соединились воедино явившиеся из глубины памяти детали лица совсем другого человека, и он едва не потерял от неожиданности сознание. Качнувшись, не смог сдержать восклицания:
— Базиль??!
— Тс-с! — поднес к губам «император» указательный палец. — Только тише. Одно неосторожное слово погубит и вас и меня. Ну, так слушайте меня внимательно. Конечно, вы решили, что я предал вас, смалодушествовал, не решился арестовать Александра? Нет, решился! Я вошел в его спальню — тот почивал. Я разбудил его, навел на него свой пистолет, он же обратился ко мне со страстной речью. Оказалось, что Александр давно мечтал оставить престол, и тут такой счастливый явился случай. Он уехал, чтобы скрыться в монастыре, я же остался вместо него. Лейб-медик нарочно заразил меня оспой, чтобы сделать мое лицо неузнаваемым, и я покуда не был разоблачен, да и впредь, я полагаю, меня не разоблачат. А вот и главное: не нужно бунта. Я, находясь на вершине власти, проведу преобразования — уничтожу военные поселения, введу конституцию, отменю рабство крестьян. Я сделаю своими руками все то, что хотели сделать вы. Верьте, я предан вашему делу, но повторяю — не надо крови, междоусобиц, тайных заговоров. Всем нам представился счастливый случай, и будем уповать на Бога. Он приведет меня и вас к полному успеху во всех начинаниях наших.
Ошеломленные, но счастливые, Серж и Мишель стояли и молчали, но вот Бестужев-Рюмин молвил:
— А вы не видите уловки, манера в поступке Александра? Вдруг он вернется, чтобы внезапно арестовать вас, а заодно и всех нас?
— Уверен, что он был искренним со мной, — покачал головою Норов. — В случае ином Александр уже давно б вернулся.
— Ну, Базиль, дай Бог тебе удачи! Как я тебе верил! — горячо прошептал Серж. — Но только бы никто не увидел подмены.
— Не увидят, — улыбнулся Норов страшной улыбкой сделавшей его лицо ещё уродливей. — Не захотят увидеть. А теперь — идите и покойны будьте.
Серж и Мишель поклонились Норову так почтительно и низко, как на самом деле следовало бы поклониться государю. Но в свой поклон они вкладывали сейчас иное — преклонение перед подвигом их верного товарища.
* * *
«Черт бы побрал этих улан со всем их третьим Украинским! — думал раздраженно Александр, когда его коляска, ведомая умелым Ильей, мчалась прочь от расположения кавалерийской части, — Пьяницы, казнокрады, пустомели! Ни к полковому начальству нет почтения, ни даже к особе государя императора! Ах, как я правильно сделал, что покинул престол. И все же, как в то же время обидно, что я совсем не знал своей армии, которой так гордился! Нет, вернись я вновь на престол, навел бы порядок! Всякую сволочь прогнал бы из армии, ввел бы строгий конкурс при получении нового чина. И, конечно же, надзор, надзор! Заведенных мною жандармов мало — умница Пестель, — усмехнулся Александр, — пишет в своем проекте, что Россию нужно наводнить конными и пешими жандармами — пятьдесят тысяч жандармов! Сие мудрая, мудрая мысль! А впрочем жаль мне своих пятидесяти тысяч рублей ведь пропьют все на каком-нибудь бамферфлюхтере, и не дадут ни полушки рядовым уланам, и в рваных рейтузах будут ходить они, а оружие, которому минул срок, если военная надобность явится, негодным в бою окажется. Ах, беда-то какая! Ну да мне теперь все равно — пусть братец мой. Николя, когда престол займет, сей вред искореняет. Рука у него твердая».
И ещё об одном обстоятельстве думал Александр с краской стыда на лице: «Именуюсь именем чужим, не тем, что мне при крещении дано было. Грех-то какой! А в лавру приеду, кем тогда представиться архимандриту? Или открыться ему во всем? Нет, страшно — вдруг проговорится кому-нибудь! Так Норовым к нему и войду да упрошу поскорее пострижение совершить, чтобы от чужого имени избавиться, от мирского вообще. Да, назовут меня при постриге Пафнутием каким-нибудь или Никитой, и все забыто будет за стеной монастырской, да за крепкой стеной имени нового. Скорей бы до Киева добраться! И то ещё дурно, что узнавать во мне императора стали. Не пошел бы распространяться тот Шервуд о сходстве заезжего капитана с государем императором — догонят, вернут, уговорят вернуться, а человек я слабый, соглашусь, вот и возвращусь со стыдом, опозоренный — от обязанностей удрать-де захотел, дезертиром заглазно называть станут. Боже, добраться бы поскорей до лавры!»
Так ехал Александр в коляске с поднятым кожаным верхом, не желая любоваться ни прелестными сельскими видами с рощицами, уже облаченными в золото осенней листвы, с холмиками, на которых сказочными великанами стояли ветряные мельницы, с белыми крестьянскими хатками. Все было безразлично Александру, недовольному собой, спешащему поскорее стать другим человеком.
Но однажды из состояния задумчивости вывел его голос Ильи, замедлившего бег тройки и спросившего у кого-то:
— Эй, мужчина, а что за городишка там вона, впереди виднеется?
— Дак то ж Гомель, сыне! — словно удивляясь вопросу, ответил «мужчина», а Илья тут же повернулся к Александру:
— «Ваше высокоблагородие, переночуем в Гомеле аль нет?
Лошади уж заморились, не кормлены, да и вам отдых-то не помешал бы. Три дня едем, на постоялых дворах ночуем, а здеся, по всему видно, гостиница приличная отыщется. Отоспитесь за милую душу.
Александр, уже готовый было провести эту ночь где-нибудь посреди поля, в коляске, укрывшись теплой меховой полстью, хотел уже отдать приказание не останавливаться в городе, но вдруг подумал: «А что? И впрямь пусть лошади отдохнут, да и Илья с Анисимом устали».
— Ладно, ищи гостиницу, да только поприличней.
— Самую лучшую отыщем, вашесыкородие, — по-военнному, вжившись в роль капитанского денщика, ответил Илья и хлестнул по крупу коренника кнутом.
— Но-о, пошли, доходяги!
«Приличную» гостиницу, однако, искали долго. Уже въехав в город, Анисим и Илья долго расспрашивали прохожих, где сыскать такую, чтобы «хорошему барину» было покойно провести ночь, а перед сном получить вкусный ужин. Наконец дали адрес, и скоро тройка остановилась у двухэтажного деревянного дома с высоким крыльцом. Большая вывеска с коряво выведенными буквами подсказала, что Александр скоротает ночь в самом «Париже». Увидев вывеску, Александр усмехнулся и при помощи соскочившего с облучка Анисима сошел на булыжник мостовой.
Он был одет в сюртук, но погоны обер-офицера тут же привлекли внимание гостиничных служителей, облепивших Александра, едва он вошел в зал, как мухи сахарную голову.
— Благодарим, что почтили нас своим присутствием!
— Вы в лучшей гостинице Гомеля! Наисовершеннейшие удобства! И совсем недорого!
— Апартаменты в три покоя с умывальником и отхожим местом!
Служители кланялись со сладкими улыбками на лицах в ожидании щедрых чаевых. Появился и сам хозяин гостиницы в поношенном фраке с затертыми до белизны швами. Тоже кланялся и улыбался. И Александру все это было неприятно видеть, потому что закралась мысль: «А не узнали ли они меня? Неужели перед капитаном так бы лебезили?»
— Я только на одну ночь. Покажите моим людям, куда снести вещи, — с недовольной миной на лице заговорил Александр. — И ужин приготовьте, покуда я умоюсь.
— Все будет сделано в самом лучшем виде, не тревожьтесь! — так и таял хозяин. — Поросенок с хреном? Уха стерляжья? Кулебяка? Водочки подать?
— Да, все годится только всего понемногу.
— Останетесь довольны, господин офицер!
Когда через полчаса Александр спустился в зал, два половых, чуть касаясь его локтей, по-холуйски согнувшись в поясницах, повели его к столу, накрытому, заметил сразу Александр, давно не стиранной скатертью. Ложка, вилка, хоть и серебряные, но потемневшие, не чищенные уже с полгода.
«Ну, а в монастыре-то лучше разве будет? — утешил себя Александр. Оловянными ложками есть буду, а то и деревянными. Готовиться надо…»
Даже не взглянув на гафинчик с водкой, Александр принялся за уху, в которой вместо стерляжьего мяса плавали несколько хрящей, вдобавок к этому уху была пересолена настолько, что, съев всего несколько ложек, Александр отставил тарелку подальше, хоть и подумал между тем: «А в лавре-то на хлебе и квасе сидеть придется».
А поросенка и кулебяку все не несли. Александр, скучая, стал посматривать на сидящих за соседними столами людей — каких-то мелких чиновников, мещан, скверно одетых, бранившихся, кричавших, уже порядком захмелевших, а из соседней комнаты, где, видимо, находился бильярд, вперемешку со стуком шаров, неслось:
— Карамболем бей, карамболем, ослиная твоя башка!
— Да не учи ты меня хрен еловый, а то кием заеду по сусалам, и будет тебе карамболь с карамелем вместе! Вот так, третьего в лузу!
— А и не попал, косорукий черт, не попал! Говорил же, карамболем бить надо! Ну, полезай под стол, да чтоб пять раз из конца в конец прошмыгал!
Проигравший, видно, и впрямь полез под стол, потому что раздалось улюлюканье, стук кулаков по столу и крики:
«Так тебе и надо, ослиной морде! Не станешь больше в благородную игру играть — ишь, мастак выискался!
Александру стало до того противно, муторно, что он уже хотел сказать половому, чтобы еду принесли в его «апартаменты», но тут в зал буквально влетел огромного роста человек в синем долгополом кафтане с длинной, чуть ли не до половину груди бородой. За ним, семеня. поспевал парень в фуражке, тоже в длинном кафтане. Бородатый же, добежав до середины зала, закричал, не обращая внимания на посетителей:
— Гришка! Гришка! Подь сюды скорее! Сам Поликарп Кузьмич по твою лохматую душу явился!
Подбежавшим к нему Гришкой был тот самый хозяин гостиницы, что рекомендовал Александру «апартаменты» с умывальником и отхожим местом. Хозяин замер перед бородатым в подобострастной позе, а человек в синем кафтане притянул его к себе за лацканы фрака и что-то стал шептать ему на ухо. Хозяин согласно кивал, торопливо говоря:
— Согласен, Поликарп Кузьмич, на все согласен, по рукам, по рукам!
А потом бородатый оттолкнул от себя человека во фраке, и тот быстро скрылся за дверью. Поликарп же Кузьмич с достоинством и даже с презрением обвел взглядом сидевших за столами людей и вдруг замер, увидев Александра. Он смотрел на него своими страшными, втиснутыми глубоко внутрь черепа глазами долго, и Александру стало очень неловко. «Узнал!» — подумал он со страхом и отвернулся. Но Поликарп Кузьмич уже шел к его столу, но не стремительной походкой, а едва ли не на цыпочках, чуть согнувшись. Остановившись неподалеку, он низко, в пояс поклонился Александру, украсив свое широкое, смуглое лицо льстивой улыбкой:
— Позволю себе отрекомендоваться — Поликарп Кузьмич Переделкин, купец второй гильдии и заводчик. Зело приятно зреть в столь гадком месте особу, украшенную воинским мундиром. Премного обяжете, ваша милость, ежели позволите присесть хоть на самый краешек стула близ вашего стола.
Александру было неприятно соседство этого человека, но он с любезной улыбкой кивнул:
— Да, да, садитесь.
Когда купец, точно выученный медведь, осторожно опустился на стул, то вкрадчиво, что давалось ему с великим трудом, заговорил:
— Судя по вашей благороднейшей внешности, в гвардии изволите служить?
— Н-нет, в армейском егерском полку, — и добавил хотя сразу же осознал, что совершил ошибку: — Капитан Василий Сергеич Норов.
— Ах-те-те-те! — покачал головой Поликарп Кузьмич. — А по статской линии какое соответствие сему чину имеет быть?
— Титулярный советник, девятый класс. Впрочем, мне скоро выходит майорский чин, а это уж, согласно табели, коллежский асессор, — невольно солгал Александр, потому что что-то подсказало ему — титулярным советником государю быть совсем уж не с руки.
— Ах-те-те-те! — чуть ли не с восторгом воскликнул купец. — Стало быть, потомственный дворянин?
— Разумеется.
Купец сделал плечами какое-то нетерпеливое движение и придвинулся поближе к Александру.
— А позвольте моему невежеству спросить: и именьецем обладаете?
— Есть небольшое, с полтыщи душ в Тамбовской губернии.
— Ах вы, милый мой батюшка! — весь сиял от восторга Поликарп Кузьмич. — С кем довелось за одним столом-то сиживать. Вовек не забуду милости вашей, господин капитан!
«Знал бы ты, борода, с кем сидишь, так и вовсе бы язык отнялся», — не без самодовольства подумал Александр, а «борода» продолжал:
— А не прогневайтесь, сударь милый, за такой вопросец: семейными узами изволите ли быть обременены?
— Нет, не обременен, — ответил Александр, зная, что и «нестоящий» Норов не был женат. К тому же его занимала игра, которую он сам и затеял, а поэтому Александр с улыбкой добавил: — Вот получу майорский чин, тогда и подыщу себе невесту.
Он не заметил, как волна довольства прокатилась по смуглому лицу купца, а Поликарп Кузьмич, указав на отодвинутую в сторону тарелку с недоеденной ухой, спросил:
— Что ж, не пошла в горло-то?
— Не пошла. Вот сижу да жду поросенка и кулебяку.
— До Страшного суда ждать будете, милостивый государь! — с горячностью воскликнул купец. — Да поросенка, если дождетесь, принесут вам душного. Не ведаете разве, куда попали? Одно слово, что «Париж». На самом же деле срамнее места в нашем городишке и не сыщешь. Уморят вас здесь совсем, ибо хозяина здешнего я как облупленного знаю — подлец из подлецов он, прощелыга! А сие ещё мало, если только пронесет опосля их ужина, — уснуть вздумаете, не уснете ни на минуту, ибо клопы да блохи на вас полезут, точно полчища турецкие. Совсем зажрут. Да и это не все, сударь! — И, оглянувшись по сторонам, зашептал: — Нехорошее место, разбойничий вертеп: или зарежут ночью, или ограбят дочисту, по крайней мере. Им бы, татям, только заманить к себе приличного господина, а там — поминай как звали!
Александр не на шутку перепугался. Похоже, Поликарп Кузьмич был осведомлен о порядках, царящих в «Париже», и Александр с тревогой спросил:
— Так что же делать мне? Уезжать отсюда?
— Непременно, непременно уезжать, сударь золотой! — шептал купец, и глаза его под страшно насупленными бровями, казалось, ушли ещё глубже, так что их и вовсе не видно было. — А уезжать, знаю, куда вам надобно, — ко мне, ко мне. Дом у меня большой, каменный, с мезонином. Устрою вас так, как князя светлейшего, на перину положу, на какой, наверно, сам государь император не почивал. А ужином каким угощу! Здесь вы, вижу, водочку пьете, — он щелкнул ногтем по графину, — так скажу, не пейте — моего заводца вино, худое-прехудое. У себя же в дому попотчую вас шампанским, лисбонским, ренским, мадеркой, лафитом — погреб знатный. Не говорю уж о разносолах всяких — язык проглотите. А поразвлекут вас маленько две дщери мои, Феклушка да Аннушка, не девки, а пряники: первая — пряник медовый, вторая имбирный, просто изюм, а не девки. К тому же выпросили у меня, старика, чтоб одевались по самой наиспоследней моде, француза-учителя, шаромыжника, им в дом привел, музыканта, который их на фортепьянах играть учит, да учителя танцев. Вишь, барынями стать захотели, но я не препятствую — пусть себе! А старшая, Фекла, у меня сегодня именинница — тезоименинство у неё с древнего житья святой, первомученицей Феклой. Так что, ежели пожалуете в мой дом, то премногим и их, херувимов моих, обяжете. А завтра, Бог с вами, отправляйтесь в путь-дорогу, а я вам в путь ещё разных-разностей соберу. А все сие говорю лишь потому, что очинно благородных и военных людей привечаю, ибо сам подлого сословия и невежда полный.
Поликарп Кузьмич вдруг, скривившись лицом, вспыхнул и полез в свой глаз, как видно, убирать слезу обиды на судьбу.
«Вот же какой замечательный человек! — подумал Александр. — Да чтобы я без него делал? И точно, отравили бы меня здесь или ограбили б. Народ-то здесь преподозрительнейший. Что ж, погощу у купца. Ни разу в доме купеческом не бывал».
— Я с удовольствием принимаю ваше приглашение, Поликарп Кузьмич.
Купец, сидевший до этих слов с напряженным, точно окаменевшми лицом, ожидая того, какой ответ дает «сударь милый», подскочил на стуле, азартно хлопнул в ладоши, дотянулся до Александра, облапил его своими огромными ручищами и звонко чмокнул в щеку:
— Ну, ублажили душу старика, милостивый государь! Велите вещи выносить!
Сам же подбежал к стоявшему поодаль юноше в фуражке — наверное, к приказчику — и что-то долго шептал ему на ухо. Тот понятливо кивнул и выбежал из зала. И скоро коляска с Александром уже ехала вслед за бричкой Поликарпа Кузьмича.
Дом купца на самом деле оказался каменным, о двух этажах и с мезонином, правда, строил здание, заметил Александр, архитектор неумелый ни единой детали, ни одного одного украшения не было на лицевом фасаде, а поэтому дом казался похожим на какой-то огромный амбар или дровяной склад. Хозяин помог Александру сойти с коляски, провел его по коридорам, лестницам, прихожим — все без прикрас, без изящной мебели, даже без зеркал. Ввел в большую комнату с очень низким потолком, главным предметом в котором была огромная кровать, и впрямь пышная, с пирамидой положенных одна на другую подушек.
— Здесь и почивать будете, голубь мой любезный, отдохните с дороги, а через часок покличут вас к столу, — сказал купец и, пятясь, скрылся за дверью.
Чемоданы и шкатулка Александра уже были занесены, и он тут же стал готовиться ко встрече с Феклушкой и Аннушкой. Вначале он посчитал необходимым подобрать подарок для именинницы, долго рылся в шкатулке, наконец остановился на серьгах с бриллиантами в обрамлении рубинов. Потом стал переодеваться, чтобы выйти к барышням при всем параде. Мундир немного помялся, но Александр, поморщившись, решил: «И так сойдет, не на придворный же я бал приехал». Опрыскав себя духами и причесав остатки волос, Александр понял, что вполне готов быть представленным купеческим дочерям. А тут за ним и явились, чтобы вести в гостиную.
Он снова долго шел по переходам большого дома вслед за посланным за ним слугой, наконец звуки фортепьяно, фальшивые и неуверенные, подсказали Александру, что он у цели. Слуга отворил дверь, и Александр очутился в большой гостиной, стены которой были увешаны портретами — совершеннейшей мазней, — должно быть, предков и родственников Поликарпа Кузьмича. Он увидел и двух девиц — одна сидела за роялем, а другая рукой оперлась об инструмент. Александру показалось, что девушки нарочно поджидали его, заняв такое положение. Он в некоторой растерянности остановился в дверях, ожидая того, что явится Поликарп Кузьмич и представит его дочерям, но быстро понял, что в этом доме церемонии — вещь излишняя, а поэтому, сделав несколько шагов вперед, поклонился и сказал:
— Имею честь представиться — капитан восемнадцатого егерского полка Василий Сергеич Норов!
— Фекла, — жеманно присела в реверансе девица лет двадцати, богато, но безвкусно одетая, румянощекая и круглолицая.
— Анна, — повторила вслед за сестрой младшая Переделкина то же упражнение. — Папенька нам говорил, что нас почтил свом присутствием какой-то благородный господин…
— Да, очень, очень благородный, — заулыбался Александр, сразу понявший, что с этими девицами-простушками он может принять развязно-благодушный тон. — Но благородный господин к тому ж осведомлен, что госпожа, именуемая Феклой, сегодня именинница, Кто же из двух прелестных созданий будет Феклой?
Старшая зарделась, став ещё красней лицом, и снова присела в неловком реверансе.
— Это буду я, господин капитан.
Александр, страстно любивший женщин, ещё более того любил делать им подарки. Его супруга, возлюбленные, фрейлины, камерфрау ко дню их именин всегда получали из рук государя подарки, часто очень дорогие, и Александр всегда был вознагражден, когда видел на лицах тех, кому он преподносил презенты, искреннюю радость и восторг. Александр Павлович был любезным джентльменом, сам знал о впечатлении, производимым своим галантным поведением на женщин, а поэтому теперь он не хотел расставаться со своей привычкой.
Изящная коробочка с серьгами была извлечена из кармана мундира, и Александр, шагнув к румянощекой Фекле, приподняв крышку, проговорил:
— Сударыня, драгоценнейшая Фекла Поликарповна, я буду счастлив, если вы примете из рук заезжего капитана сей скромный подарок. И да хранит вас Бог.
— Восторг, мигом явиввшийся на лице Феклы, красноречиво свидетельствовал о том, что подарок пришелся по вкусу.
— Батюшки! Василий Сергеич! Да неужто это мне?
— Вам, именно вам, — был польщен произведенным эффектом Александр.
Аннушка, видно, завидуя сестре, раскрыла от изумления рот, а Фекла остолбенело глядела на подарок, выпучив глаза. Вдруг откуда ни возьмись за её спиной возник Поликарп Кузьмич, посмотрел через плечо дочери на серьги и грозно прокричал:
— Кланяйся господину капитану, дура, в ноги, в ноги кланяйся! Тыщ на десять подарок! Кланяйся, говорю!
Он даже пихнул девицу в затылок, и та в пояс поклонилась Александру, которому стало очень неловко, хотя он не попытался удержать девушку, поняв, что таковы были порядки в этом доме. Купец же выхватил из рук дочери коробочку, осторожно опустил её в карман кафтана и, скорчив на лице подобие слащавой улыбки, проговорил, обращаясь к Александру:
— Пущай до времени у меня полежат — чтоб не растеряла да не поломала по дурости своей. Ну, вы тут посидите да покалякайте маленько, а спустя малое время к столу попросим. — И, поклонившись Александру, убежал.
Гостя усадили в удобное кресло, сами девицы сели на стульях напротив, потратив перед этим немало времени на то, чтобы расправить подолы своих пышных платьев. Потом, пожирая Александра глазами, защебетали, перебивая одна другую:
— Ах, Василий Сергеевич, как вам идет ваш мундир! — улыбалась красноликая Фекла. — Эти эполеты, и шарф — все так к лифу!
— А пуговицы-то орленые, сестрица! — восхищалась Анна, маленькая, пухленькая блондинка, курносая и востроглазая. — А шпоры! Как мне нравится, когда они звенят!
— Василь Сергеич, а правда, что некоторые офицеры подвешивают на шпоры бубенцы, и когда идут, то кажется, будто тройка едет!
Александр, совсем не смущаясь от пристальных вглядов девиц, с добродушной улыбкой ответил Фекле:
— Возможно, кто-нибудь и вешает, только сие не по устава будет!
— А жаль! — воскликнула медовый пряник». — Если бы я была на месте государя или самого главного генерала, то издала бы закон, чтобы все офицеры непременно носили на шпорах бубенцы!
В конце концов Александру наскучил разговор о шпорах и бубенцах, и он попытался заговорить с сестрами по-французски, но те, несмотря на занятия с учителем-французом, только пучили глаза или несли полную галиматью, и Александр понял, что не стоит мучить девиц. Зато, как выяснилось потом, сестрицы были весьма начитанными: «пряник медовый» уже успела прочесть «Бедную Лизу», а «пряник имбирный» — «Ивангое» и «Клариссу», и Александр незамедлительно выказал восхищение начитанностью сестер.
Затем Александру захотелось послушать, как они играют на рояле. Оказалось, что учится играть только Анна, и девушка не без ломаний села за фортепьяно и заиграла какой-то вальс, очень вяло и поминутно спотыкаясь. Но Александр хвалил игру и не преминул пригласить Феклу сделать несколько туров. «Пряник медовый» долго упиралась, но в коцне концов сдалась и покружилась немного с Александром, раза три пребольно наступив ему на ногу, однако, «господину капитану» удалось сдержаться, и он не вскрикнул.
Но вот двери, ведущие в соседнюю комнату, отворились настежь, и Поликарп Кузьмич, появившись в зале со своей супругой, такой же высокой, как и он, обряженной в бархатную душегрейку, вновь низко поклонился Александру и стал звать его к столу. Александр не упрямился — ведомый девицами, взявшими его под обе руки, он прошел в столовую. Хозяин усадил гостя на самое почетное место, сестры сели рядом, по обе стороны. Сам же Поликарп Кузьмич с супругой, молчаливой и чопорной, пытавшейся между тем изобразить на своем лице подобие любезной улыбки, уселись напротив.
— Ну, чем богаты, как говорится! — молвил купец, разводя руками, показывая этим жестом на яства, от которых стол просто ломился. Покорнейше прошу простить за то, что в никудышнем нашем городишке не сумел сыскать для вашей милости вустриц, коих так любят вкушать люди благородные, подобные вас. А уж винцом хорошим, балычками осетровыми и И за то приемного вам благодарен, — был пленен радушием Поликарпа Кузьмича Александр, заметивший, однако: — Впрочем, немного удивлен отсутствием гостей…
— О каком отсутствии толкуете, судырь милый? — поразился купец. — А вы разве не гость? Да вы десяти гостей стоите! И что же думаете, я посадил бы вас рядом с мелкотой чиновничьей или близ своего брата, купца? Уж и за то спасибо, что не погнушались в наш дом войти, драгоценнейший вы наш, Василий Сергеич! Ну да позвольте я сам вам шапанского налью, или вам больше херес али мадерка по вкусу? Бургонское есть и ренское, чего желаете?
— За здравие милейшей Феклы Поликарповны я шампанского, пожалуй, выпью.
— Премного обяжете! — уже наполнял купец бокал высокого гостя, и Александр, взяв его в руку, поднялся и произнес витиеватый тост, не забыв похвалить прелести именинницы. Все выпили, и ужин начался.
Еда на самом деле оказалась отменно вкусной, и Александр, желая отблагодарить хозяина за гостеприимство, постарался быть предельно любезным с ним. Расспрашивая о том, как идут дела, входил в мелочи винокуренного производства и торговли, но Поликарп Кузьмич сам спешил выведать как можно больше о жизни «милого судыря», то и дело подливая в бокал Александра вина, «капитан» много пил, много говорил. Поведал между прочим, что принимал участие во многих делах на войне с французами, имеет ордена и золотое оружие, врученное ему за храбрость. Поликарп Кузьмич и сестры не переставали ахать и охать, а купец скоро перевел разговор на дела хозяйственные, просил напомнить, сколькими душами владеет Александр, и захмелевший, упоенный самим собой «капитан» сообщил, что у него полторы тысячи крепостных, забыв о том, что в гостинице хвалился лишь пятьювестами душ.
— Ах-те-те-те! — восхищенно качал головой Поликарп Кузьмич. — За таким-то имением глаз да глаз. В Курской, говорите, губернии имение?
— Точно, в Курской. Места прекрасные — река рядом, луга заливные.
Поликарп Кузьмич не стал поправлять дорогого гостя и напоминать ему, что за столом в гостинице говорилось об имении в Тамбовской губернии. Он все поил и поил Александра вином, и скоро гость поведал Переделкиным, что будучи в Петербурге удостоился монаршей милости и был приглашен в Зимний дворец на бал, где целый час беседовал с государем, и тот подарил ему на память табакерку, осыпанную бриллиантами. Александр порывался даже подняться в свою комнату, чтобы показать табакерку, — у него в шкатулке на самом деле была такая, — но Поликарп Кузьмич попросил не беспокоиться и отложить показ драгоценной вещицы на потом.
Александр видел восхищение, написанное на лицах девушек, даже переставших есть, и всего говорил, говорил. С одной стороны, ему хотелось доставить большее удовольствие этим милым людям, потому что понимал — они будут польщены троекратно, если он предстанет перед ними не просто армейским капитаном и помещиком, а человеком славным, героем, известным самому государю императору. А с другой — Александру и впрямь было мало капитанского чина. Он, не изживший ещё в себе честолюбия первого человека России, сознательно стремился приподняться над заурядностью обер-офицера, а поэтому все врал и врал, увлеченно и самозабвенно, говоря самому себе, что лжет в последний раз, а также последний раз в своей жизни ест в присутствии женщин вкусную, сытную пищу и пьет много вина. И Александр млел, ощущая, как прижимается под столом к его ноге полная, крепкая ножка краснощекой именинницы.
…Провожали Александра до дверей отведенных ему покоев Поликарп Кузьмич, аккуратно поддерживающий «капитана» под локаток, и сестрицы. Александр пошатывался и нес по-французски разный милый вздор, уверенный в том, что все его понимают. Анисим, никогда не видавший государя таким веселым, оправдал поведение Александра, которого боготворил, тем, что он уже стал простым смертным, а поэтому вправе вести себя так же, как все.
Он помог барину раздеться, и Александр с наслаждением утопил свое ослабевшее тело в мягком сугробе перины, зевнул, с удовольствием вспомнил о том, что был сегодня прелестен, и моментально погрузился в сладкий, глубокий сон. Ему снилась Фекла, танцующая с ним вальс, снилась её ножка с упругим бедром и та самая табакерка с бриллиантами, что подарил ему сам государь император, но вдруг явился Поликарп Кузьмич и, беспрерывно произнося «ах-те-те-те-те!», стал вырывать табакерку из рук Александра. Потом ему виделось во сне, что он выхивает перед Феклой и Анной в самогах, и на шпорах висят такие звонкие бубенчики, валдайской, должно быть, работы, что ушам больно от их назойливого и громкого перезвона. А вот уж он мчался куда-то в своей коляске, и Илья погонял лошадей так рьяно, что коляска раскачивалась, и стало страшно — вот-вот упадет в придорожную канаву…
Александр проснулся оттого, что кто-то сильно тряс его за плечо. Ему почему-то показалось, что он снова в Бобруйске, в комендантском доме, и это Норов будит его, направляя в голову пистолет.
— Кто это? Кто это?! — резко приподнялся на локте Александр, но не Норова увидел он, а младшую Переделкину, Анну, державшую свечу рядом со своим лицом. С распущенными по плечам волосами, какая-то встревоженная, точно перепуганная птичка, она в белой ночной кофте, а не в уродовавшем её бальном платье, выглядела сейчас куда более пригожей, чем раньше.
— Василий Сергеич, миленький, вставайте! Беда великая! — заговорила Аннушка голосом, полным неподдельной тревоги.
— А? Что? Что случилось?! — сбросил с себя одеяло Александр, забывая о том, что остается перед молоденькой девицей в одном белье.
— Ах, Феклушка умирает! Худо ей, так худо! За сердце все время держится, губы посинели! Помогите, ради Бога, помогите!
— Надо бы… доктора… — неуверенно ответил Александр, понимая, что мало чем сможет помочь заболевший.
— Да где там доктора сейчас сыскать, Василий Сергеич! — молила Анна. Да и спят все, точно убитые — ни до кого добудиться не могу.
Кавалер и человеколюбец победили в Александре предусмотрительного, осторожного гостя. Он как был в рубашке и портах, соскочил с постели, а Анна все манила его рукой, державшей свечу: «Сюда, за мной идите, судырь, недалече! По коридорчику маленько! Да вы не стесняйтесь, не конфузьтесь никто вас в темноте и не рассмотрит. Ах, только б помогли Феклушке! Эк её прихватило!»
Мерцающий огонек свечи вел Александра по черному чреву коридора. В голове его мутилось от выпитого вина, но он все шел и шел, покуда Анна не остановилась рядом с какой-то дверью:
— Сюда пожалуйста, сюда, Василь Сергеич! Здеся спаленка сестрицы, здеся!
Александр задержался у порога — помещение, к которому его привели, было совсем неосвещено, однако, кто-то в глубине его и впрясь стонал, стонал жалостно и протяжно, и этот стон заставил Александра совсем забыть про осмотрительность. Не обращая внимания на то, что Анна не двинулась с ним к стонавшей сестре, он, исполненный чувствам сострадания и желания помочь больной девице, приблизился к постели. Лунный свет, с трудом протиснувшийся между занавесками небольшого оконца, позволял увидеть фигуру лежащей на кровати девушки — голова запрокинута, волосы распущены, богато рассыпались на подушках, рука на левой груди.
— Ба-тюш-ки! Уми-ра-ю! Ху-до как!
Александр, вне себя от волнения и жалости, прокричал, поворачивая голову к выходу, а сам машинально присел на кровать:
— Анна! Уксус! Щетку!
Но никто не отозвался.
«Наверное, уж побежала…» — мелькнула мысль, но ожидать, покуда отыщется необходимое, чтобы хоть чем-то помочь больной, покуда не явится доктор, Александр не мог.
— Где болит? — спросил он у стонавшей Феклы.
— Здесь, здесь, внутри так и жжет будто уголь!
Сильные руки Феклы схватили руку Александра, и вдруг его голова ещё сильнее закружилась — ладонь ощутила податливую упругость весьма изрядной по размерам Феклиной груди. Желая спросить: «Что, здесь болит?», Александр от волнения поперхнулся первым же словом, но да и оно-то было бы произнесено совсем некстати…
— Ах-те-те-те-те! — услышал Александр вдруг торжествующий, победный и ехидный вместе с тем рев, мигом прогнавший сладкую негу, накатившую было на Александра. — Вона мы какие проворные да всепролазные! Вона какие мы ветрогоны ловкие — и замки, и ворота для нас нипочем, везде, точно глист, проскочим! А я-то его хлебом-солью кормил, тетеревями да кределями! Ему же простого русского человека в его ж дому обидеть — что два пальца обсморкать!
Александр, моргая своими белесыми глазами, открыв от неожиданности рот, все сидел на кровати Феклы (даже рука его покоилась где-то подле груди купеческой дочки, которая, однако, вся сжалась и прикрыла свои обнаженные прелести полотном ночной рубахи). Моргая, он смотрел на хозяина, стоявшего в дверях с пятисвечным шандалом, позволявшим видеть все, что происходило в комнате Феклы.
— Да помилуйте, Поликарп Кузьмич… — забормотал Александр.
— Не помилую, нет, ибо ты, прыщ плешивый, есть никто иной, а именно натуральный бесстыдник, лазающий по девичьим спальням! Или ты спаленку дщери моей с нужником, скажешь, перепутал? Так нет же — отхожее место близ твоей комнаты утверждено!
Александр, оскорбленный до глубины души, обиженный скорее не бранью, которой осыпал его купец, а лишь одним предположением хозяина, что он мог осмелиться покуситься на честь его дочери, пренебречь гостеприимством, вскочил на ноги:
— Поликарп Кузьмич, не забывайтесь! — ринулся он к нему, замахал перед его лицом рукой. — Я — обер-офицер, потомственный дворянин, помещик! Меня сам государь император знает! Я оскорблять себя не позволю! Вы даже не соизволили выслушать меня! Ну так знайте, что я был разбужен вашей меньшей дочерью, сообщившей мне, что ваша старшая дочь сильно заболела, молила ей помочь. Только потому-то я и оказался здесь!
— Ах-те-те-те-те! — насмешливо всплеснул руками Поликарп Кузьмич. — В подштанниках так и бросился дщерь мою спасать? Столь жертвенный поступок свершить хотел?
— Александр не нашел слов для ответа — более непристойной одежды для визита в спальню к молодой девушке нельзя было и придумать.
— А вот мы к тому же у Анны спросим, так ли все происходило, как ты описал, — возвысил голос купец, сделав его и вовсе громоподобным. — Анна! Анна! Подь сюда!
Анна откликнулась откуда-то издалека, давя зевок:
— Туда я, тятенька. Чего изволите? Почто весь дом переполошили?
— А вот почто! Говори, приходила ли ты в спальню к господину офицеру, чтоб звать его в Феклину спальню?
— Свят, свят, батюшка! — испуганно воскликнула Анна. — Прилично ли девице по офицерским спальням ночью шляться? В страшном сне такое токмо и может привидеться!
Купец победно заревел:
— А-а, канальский вылупень, слыхал?! Дщерь моя отцу врать не станет, не таковские у нас порядки, чтоб отцам врать, посему же выходишь ты истинным блудодеем и заслуживаешь самой строгой казни! Покамест же отправишься в градское узилище и будешь там дожидаться, покамест благородный суд участь не решит твою!
Только сейчас Александр осознавал весь ужас своего положения. Он не мог понять, почему же Анна, позвавшая его к сестре, солгала. «Вероятно, мелькнула мысль, — ей и впрямь было бы неудобно сообщать отцу, говорить ему о своем ночном приходе к офицеру…» Однако сейчас не об этом нужно было думать — положение, в котором Александр оказался, требовало принимать немедленное решение. Понимая, что в этом доме было бы бессмысленно пугать хозяина, напоминать ему о своей дружбе с самим императором, Александр поспешил принять тон примирительный и мягкий.
— Послушайте, милейший Поликарп Кузьмич, — заговорил Александр вкрадчиво и ласково, — произошло недоразумение, какой-то неприятный казус. Поверьте, я не хотел оскорбить ни Феклу Поликарповну, ни вас и действовал лишь согласно побуждениям сердца, желая помочь больной. Стоит ли доводить дело до суда? Да и о каком-таком узилище вы говорили? — Александр шагнул к купцу и почти на ухо ему заговорил: — Тысяч пятьдесят ассигнациями, надеюсь, станут достаточным возмещением за хлопоты, которые я вам принес невольно?
Маленькие глазки Поликарпа Кузьмича, продолжавшего держать шандал, забегали. Понятно было, что купец лихорадочно обдумывал заманчивое предложение, но не решался дать ответ.
— Семьдесят тысяч… — шепнул Александр.
Глаза купца заметались ещё быстрее, но вдруг оживившееся было лицо Поликарпа Кузьмича мигом окаменело и он хрипло прошептал:
— Хоть сто тысяч сулить будешь, не соглашусь — денег у меня самого не мерено. Что ж с того, ежели ассигнации твои приму? Дочь ты мою навек опозорил, теперь слава о ней дурная по всему Гомелю гулять станет. Нет, иначе должен ты свой грех исправить, Василь Сергеич дорогой…
— Как же? — поспешил с вопросом Александр.
— А так — в жены её возьми, капитаншей. Венец брачный твой провор исправит…
Только после этих слов и понял Александр, что все случившееся было следствием плана, составленного Поликарпом Кузьмичом ещё в «Париже». Припомнились Александру все вопросы купца, его ухаживание, богатый стол, вино, льющееся рекой, отсутствие гостей. Внезапно вспомнил Александр что именины Феклы приходятся на другой день. Понял он, что заманили его в спальню к «прянику медовому» нарочно, и когда осознал Александр все бедствие положения своего, то закричал вдруг высоким, зовущим голосом:
— Илья! Анисим! Ко мне! На помощь!
Уже через мгновенье где-то в коридоре послышался бас Ильи:
— Иду, Василь Сергеич! Чуяло сердце, что в разбойничий вертеп заманят!
Но не дермал и Поликарп Кузьмич. Как видно, собираясь взять блудливого офицера «с поличным», он позаботился о средствах, поэтому, не мешкая, заорал, повернувшись к открытой двери:
— Кондрат! Ефим! Офицерского холопа задержите да поддайте ему, чтоб неповадно было в чужих домах прыть прявлять свою! Емолай, Данила! Ко мне бегите! Блудодея свяжем, а ты, Ванюха, за жандармами беги! Сейчас проедет молодчик сей по Гомелю в путах!
Александр, сердце которого тут же переполнилось страхом и отчаяньем, жалобно закричал, забился в руках подбежавших к нему слуг купца, пытался вырваться, кусался и плевался, обещал пожаловаться на произвол самому государю императору, но дюжие ребята, быстро связавшие его, только смеялись да приговаривали:
— Буде ерепениться, господин офицер. Чай, не в казарме. Государь-то о-ой как далече — в Петербурге, а здеся Поликарп Кузьмич владыка…
Голубые жандармские мундиры замаячили в проеме двери как-то очень скоро, и лежавший на полу Александр подумал, что и их появление было включено купцом в своей хитроумный план. Жандармский офицер, вставший над Александром, смотрел на лежащего в нижнем белье человека и слушал, что говорил ему Поликарп Кузьмич:
— Сами извольте видеть, господин жандарм — влез ночью едва ль не голый в спальню дочушки моей, девицы, а когда я укорять принялся его, случайно сюда войдя, шум шагов услышав, сей блудодей холопа своего позвал, намереваясь, видно, жестокость проявить свою. Ну, что делать с оными смутьянами?
— Развязать! — коротко приказал жандарм, а когда Александр встал перед офицером, тот, не глядя, будто стыдясь, сказал: — Извольте, сударь, одеться. Я вам препровожу в тюрьму, где вы станете дожидаться решения суда.
Александр тяжело вздохнул и в сопровождении жандарма пошел к своим покоям.
Председатель уголовной палаты, мужчина средних лет с зачесанными наперед бакенбардами и остатками волос на голове, сосредоточенно ковырял карандашом в правом ухе, будто именно там должна была отыскаться верная мысль в отношении дела, затеянного с момента подачи иска гомельского гражданина Переделкина. Перечитав ещё пару раз исковое заявление, приложенные к нему показания, данные дочерьми купца, его слугами, жандармским офицером, председатель изрек довольно веско:
— Дело ясное, господа — Переделкин бестия из бестий и честь своей дочери защищает с мысль дальней, желая пристроить её за обер-офицером, дворянином да ещё помещиком. Но разве можем мы отказать ему в иске? Никак не можем!
— Никак не можем! — сокрушенно вздохнул член палаты, сидевший за столом слева от председателя.
— Никак не можем! — вздохнул член, сидевший справа.
Председатель же, подняв вверх палец, ещё более веско промолвил:
— Но и засудить господина капитана, отпускной лист которого подписан самим государем императором, но можем вдвойне.
— Вдвойне не можем, — закивал член, сидящий слева.
— Не можем, не можем, — поддакнул член справа.
— А не можем потому, что, не дай Бог, дойдет слух до Петербурга, где в Сенате Правительствующем сидят люди прозорливые, каверзы купеческие знающие и за господ дворян радеющие, так нам за строгость в отношении господина Норова, самому царю известного, не поздоровится!
— Не поздоровистя! — вдохнул член слева.
— Ох, не поздоровится, — закивал член справа.
— А посему, судари, нужно пойти по пути третьему, сулящему нам выгоду сугубую… — Председатель в призывом движении крутнул согнутыми пальцами обеих рук, и тут же головы членов палаты приблизились к нему. — Мы и враждующие стороны примирим да и сами в накладе не останемся. Я такого страху на истца и ответчика напущу, что они все готовы отдать будут, лишь бы из сего дела выпутаться целыми да невредимыми.
И, обращаясь уже к секретарю, сидевшему за столом в углу и чинившему перья, приказал:
— Кукин, господина Норова в зал пригласи!
— Слушаю-с! — резво выскочил из-за стола секретарь и с развевающимися фалдами плохонького фрачка, бросился к выходу.
…Александр просидел в дворянском отделении гомельской тюрьмы три дня, и там, в крошечной комнатушке с оборванными, изрисованными обоями, к нему впервые явилась мысль, что он совершил непоправимый поступок, отказавшись от короны. Он понял, что не приспособлен к жизни, что совсем не знает её, что он рос, точно прихотливое оранжерейное растение, не зная жизни настоящей, суровой, где обитают злые, лукавые люди, способные причинить много неприятностей ему, помазаннику. Он рос в обстановке любви, пусть не всегда искренней, но все же любви, он был защищен ото всех бед, за исключением болезней или каких-то нелепых случайностей. Теперь же приходилось защищаться самому, а этого делать Александр пока не мог победа над Севрюгиным ничуть не разрушала такого убеждения.
Он вошел в зал, где за столом, покрытым красным сукном, сидели председатель и члены уголовной палаты и сурово смотрели на вошедшего. Одет он был по полной форме, но в фигуре, в выражении лица сразу ощущалась робость, неуверенность. Вошел и остановился возле барьера с точеными балясинами, положив на него обе руки. Председатель голосом полным мрачного предостережения, потребовал от Александра назвать имя и чин, и когда подсудимый, еле шевеля губами, потупив взор, сообщил суду о том, как его зовут и в каком чине он служит, председатель, хмуря брови, отрывисто сказал:
— Срам! Позор! И сие дворянин? Не верю! Презрев законы приличия общечеловеческие и Божеские законы, в одних подштанниках, босой, крадется ночью в спальню дочери почтенного гражданина, в спальню честной девицы, садится к ней на кровать и будит девственницу своими грязными, постыдными прикосновениями! Потом же домогается от неё большего, но не достигает желаемого, ибо бдительный отец приходит на помощь своей дочери, вот-вот готовой быть оскорбленной гнусным сластолюбцем! Позор! Позор!
Александра так и корежило от стыда, хоть он и не мог принять таких обвинений в свой адрес, зная, что не совершил преступления. Он был унижен сейчас не просто как безвинный человек, а как недавний монарх, вынужденный выслушивать упреки в свой адрес и не имея возможности все поставить на свои места: купчишку велеть отодрать розгами, председателю суда сделать строгий выговор за то, что не разобрался в обстоятельствах дела и поносит сейчас честного человека, безвинно просидевшего в тюрьме три дня.
— Ваша Милость, — заговорил негромко Александр, — я не покушался на честь дочери купца Переделкина. Ее сестрица вдруг разбудила меня посреди ночи и сообщила, что Фекла Поликарповна очень заболела и надобно им помочь. Вот я и бросился на помощь, не успев, конечно, одеться, как следовало бы поступить…
— Не пытайтесь оправдаться! — подаваясь вперед, грозно приказал председатель. — Вот показания Анны Поликарповны — она свидетельствует о том, что мир спала в своей девичьей постели, покуда её не разбудил отец! И Фекла Поликарповна спала! Вы же гнусными прикосновеньями своими оскорбили её, причинив ей физическую боль. Нравственную боль испытала же целомудренная душа Феклы Поликарповны! Если бы не вмешательство отца, то, я уверен, было бы совершено грубое насилие, ибо разве могла бы справиться хрупкая девица с напором мужской, да ещё взъяренной вином плоти? Посему сообщаю вам, сударь, что вас ждет самая строгая кара, ибо нигде и ни в какие времена общество не оставляло безнаказанным покушение на женскую, а особливо девичью честь! И согласно действующим законам, вам грозит лишение всех прав состояния и каторжные работы сроком до семи лет с последующим проживанием на поселениях!
Волна ужаса накрыла Александра. Он, вцепившись руками в дерево барьера, моргая, широко открыв рот, смотрел на председателя суда.
— Да как же… это? Я не виноват…
Но председатель, очень довольный произведенным на подсудимого впечатлением, уже не обращал внимания на потрясенного Александра.
— Секретарь, — приказал он, — позовите пристава. Пусть выведет господина Норова, а гражданина Переделкина попросите пройти в зал.
Судебный пристав, жестко взяв Александра под руку, вывел его в коридор, а вместо у барьера занял Поликарп Кузьмич, который с паточкой улыбкой на лице раскланивался с председателем и членами палаты, но глава суда выглядел ещё более суровым, чем при разговоре с Александром. Не замечая поклонов купца, он сходу начал:
— Как зовут? Звания какого?
— А… гомельский второй гильдии купец, Переделкин-с, ваша милость, закивал Поликарп Кузьмич.
— Ах купец! — с насмешливым злорадством сказал председатель. — Ну так такого ж шута ты, кафтанник бородатый, мужик бывший, хоть и набивший мошну, обирая ближних своих, возымел смелость поклеп на дворянина возводить?
— Как… поклеп? — сильно удивился и очень испугался Переделкин, до этого уверенный в том, что дело его выигрышное, и он сумеет, припугнув господина офицера судом, отдать за него Феклу.
— Так вот, поклеп! — передразнил купца председатель. — Или я не знаю, какой ты плут и жох? Не ведаю, что все это дело затеял лишь ради того, чтобы свое поганство купеческое родством с дворянином облагородить? Думаешь, набил карманы, так и туда, во дворянство прыгнуть можно, будто со стула на пол соскочить? Нет, рогожная твоя борода — таких чудес на свете если и бывает пара на мильон, так не про твою козлиную честь! — Приглушая голос, председатель заговорил: — Не знаешь разве, Поликарп, что сей господин Норов с самим государем императором знаком?
— Знаю-с, ваша милость! — еле шевелил языком Поликарп Кузьмич.
— Плохо знаешь! Мне же доподлинно известно, что господин капитан уже послал в Правительствующий Сенат эстафету с жалобой на тебя, на кляузу неправедную твою. Скоро из Сената приедут следователи и ревизоры, и тогда ты, купчишка, удалой танец станцуешь под их дудку. Девок твоих с пристрастием допросят, как все по правде было, у обеих доктора по их приказанию наличие девства проверят, а если таковое не отыщется, — что вполне даже и возможно, ибо знаю я, что в близкой близости к дочкам твоим были французские учителя, люди любезные и весьма ловкие, — то веры их словам совсем не будет. Заодно булькнет кой-кто ревизорам, что ты, проходимец, акцизы за водку поганую свою не аккуратно платишь, вот и припишут тебе, краснорожему, две вины зараз, за кои ответишь ты десятью годами каторги. А кандалы-то легкими только на первой версте кажутся, а как вторую, третью, пятую прошагаешь, ой как вспомнишь про свое желание невместное сродниться с дворянином. Да, кстати, и имущество твое в казну пойдет, так что жене твоей и дочкам придется или по миру идти, или уж в обитель. Где ж тут дворянство-капитанство?
Заканчивая речь, председателя взглянул на Поликарпа Кузьмича и вновь остался собой доволен — по красному лицу купца струились слезы вперемешку с каплями пота, лицо перекосилось так, что казалось, будто купца хватил кондрашка. Наконец ноги его подогнулись, и Переделкин рухнул на колени, стукнувшись лбом о брусом барьера:
— Не губите, отцы, не губите! Черт попутал! Ночи не спал — видел дочек своих дворянками!
— Да, грех гордыни тебя обуял, Поликарп, — уже не так строго, как прежде, сказал председатель. — Вину же свою ты исправить можешь…
— Могу?! — с великой надеждой в голосе воскликнул купец.
— Да, можешь. Во-первых, исковую челобитную забери сейчас же — видеть её не могу! Во-вторых… ну, во-вторых-то, должен ты маленько отблагодарить уголовную палату за благодеяние, нами оказанное.
Поликарп Кузмич, выбежав из-за барьера, бросился к председательскому столу, схватил челобитную и тут же разорвал её. С глазами, в которых горел огонь радости превеликой, спросил, засовывая руку во внутренний карман кафтана:
— Какой же суммой могу я с палатой уголовною расчесться?
— Да тысяч пять вполне удовлетворят палату, — покручивая на пальце перстень, не глядя на купца, сообщил председатель.
Поликарп Кузьмич удовлетворенно крякнул и раскинул на ладони объемистый бумажник.
Александр же в это время сидел в коридоре под присмотром судебного пристава. Сидел он так близко от приоткрытой двери, что вела в зал заседаний, что слышал все, о чем говорили там. Слезы наворачивались на его глазах — до того обидно было осознавать, что суд, его суд, призванный стоять на защите справедливости, изъеден червем стяжательства и неправды. Еще был жив отец Александра, Павел Петрович, и вот они однажды сели вдвоем в Эрмитажном театре, чтобы посмотреть комедию «Ябеда» сочинителя Капниста. Павел уж сослав Василия Васильевича, услышав от кого-то, что тот допустил в своей комедии крамолу, изобразив чинов суда мздоимцами, но после вдруг сам решил взглянуть на пьесу. И как же они смеялись тогда вместе на представлении! За сосланным Капнистом по приказу Павла тотчас был послан лейб-курьер, и сочинителя вернули…
Теперь же оказывалось, что все, о чем писал Капнист и над чем смеялся тогда, почти двадцать пять лет назад Александр, было правдой. И Александр уже второй раз пожалел о том, что он не император и не может ворваться в зал, чтобы заклеймить позором судей-мздоимцев. Александр утешил себя такой мыслью: «Но, если бы я был императором, то мне никогда бы не удалось стать свидетелем этой неправды. Нужно считать себя счастливцем…» — и он грустно улыбнулся.
А тут появился и сам Поликарп Кузьмич в сопровождении председателя:
— Господа, примириться надо бы! — по-отечески посоветовал он. Гражданин Переделкин иск свой уже изъял…
И тут внезапно пучина негодования, переполнявшего Александра, прорвала плотину осторожности и робости. Он, вставший перед председателем во весь свой рост, закричал, вновь ощущая в себе императора, повелителя России:
— Неправый суд чините, господин председатель! Мзду берете! Сибирью мне грозили? Да вас самих туда упечь надобно!
Но крик Александра, казалось, совсем не смутил главу уголовной палаты. Он, вскинув удивленно брови, пригладив обеими руками височки, спокойно спросил:
— Мзду? Кто ж это, сударь, мзду берет? Или вы, Переделкин, суду мзду давали, а?
— Нет-с, как же можно, никак не давал-с и намерения такого-с не имел-с! — посмеиваясь одними глазами, бробасил купец.
— Ну, видите? — уже строго сказал председатель. — Да и, если быть справедливым судьей, то я вас, милостивый государь, за оскорбление-то суда да за ложные кляузы мог бы сейчас же к ответственности привлечь. Хотите? Сие весьма правым делом будет. Да ещё и иск гражданина Переделкина вернуть можно, с сказки ((сноска. Показания.)) потерпевшей и свидетелей у меня остались в целости и сохранности. Их можно ещё какой скорый ход придать запоете! Ну так будем правый суд чинить?
И грозно сдвинул брови.
— Нет, не будем… — сморщившись, точно получил оплеуху, пролепетал Александр.
— А тогда — счастливого пути, — улыбнулся председатель и добавил тихо: — Благодарите Бога, что благополучно из сего скверного дела выпутались…
И скрылся за дверью зала заседаний, а Александр, униженный, опустошенный, так и остался стоять рядом с Поликарпом Кузьмичом, видевшим, что офицер-то и не так страшен, хоть и знаком самому государю. Поэтому Переделкин, осторожно тронув за рукав стоявшего в оцепенении Александра зашептал:
— Ну дак что, ваше высокородие? Сладим дело? Берете Феклушку? Дам за неё триста тысяч и дом каменный в Гомеле, а не захотите в сей дыре жить, так хоть в Петербург отправляйтесь. Признаюсь, шибко хочу дочушку свою барыней видеть, эге…
Александр посмотрел на Поликарпа Кузьмича с ненавистью и холодно сказал:
— Законным браком имею счастье быть обремененным!
— Ах-те-те-те… — залопотал купец, прижимая к губам согнутый палец, и в его глазках вновь забегали бесенята: — Ну, а тогда, судырь, не поладим ли мы по-мирному? Вы там мне семьдесят тысчонок сулили, если я дело замну, так вот я теперь и за пятьдесят готов по рукам ударить. Годится?
И замет с приоткрытым ртом, теребя бороду и боясь, что офицер закричит сейчас на него, затопает ногами и пошлет ко всем чертям. Но Александр не стал кричать и топать. Он лишь устало улыбнулся, провел рукой по высокому лбу и сказал:
— Годится. К вам сейчас поедем, вещи заберу свои да… рассчитаюсь с вами. Бог вам судья…
6 ЗМИЙ, ПРЕДАНЫНЙ ДО ГРОБА
Еще в Бобруйске Норов уверился в том, что узнан не будет, и если он поначалу, когда сразу после выздоровления стали приходить к нему посетители, очень боялся выдать себя голосом, интонацией, неверным жестом или незнанием каких-то обстоятельств, мелочей, то вскоре понял — болезнь так исказила черты лица императора, что никого опасаться не стоит. Особенно Василий Сергеевич ободрился после визита к нему Николая Павловича. Великий князь, такой же высокий, как и он сам, с сумрачным лицом опустился в кресло напротив, долго молчал, покручивая ус, приподняв бровь, то и дело поглядывал на Норова, тоже молчавшего, а потом сказал:
— Брат, ты сильно переменился…
— Что делать, — развел руками Норов, а сердце так и стучало, — во всем нужно видеть Промысел Божий, и мы не вольны уберечь свое тело от недугов.
— У тебя даже голос изменился, — продолжал Николай, — и иногда, мне кажется, ты становишься несколько… забывчивым.
— Да, признаюсь, временами память как бы оставляет меня, но Виллие утверждает, что эти явления — следствие недуга. Давай порадуемся тому, что я остался жив. Доктор мне признался откровенно, что оспы в такой сильной форме ему никогда не приходилось видеть, а тем более лечить. Я пожаловал баронету часы с бриллиантами — настолько я ему благодароен за заботу.
— Ты правильно сделал, Александр, но все же спешу тебя предупредить: если все мы здесь, в Бобруйске, уже свыклись с твоей… новой внешностью, то в Петербурге твоя супруга да маленька будет в отчаяньи, увидев тебя таким.
— Я уже отправил им обеим письма, в которых предупреждаю, что встреча со мной не принесет им радости. Впрочем, Виллие говорит, что следы нарывов на лице скоро станут менее заметны. Впрочем, что лицо? Лишь бы душа моя не оказалась изрытой язвами. Она же, хвала Всевышнему, пока здорова. Итак, мы осмотрим Бобруйск, а потом куда?
— Ну, ты же сам хотел осмотреть ещё и Брест-Литовскую крепость, — ещё раз, вскинув бровь, внимательно посмотрел на «брата» Николай. — Близ Брест-Литовска ты ещё собирался сделать смотр полкам второй армии. Забыл?
— Ах, да, конечно, — ударил Александр пальцем по лбу. — Я прошу тебя, Николя, подсказывай мне в случае нужды, что я должен делать. Как брат тебя прошу. Уверяю, это пройдет…
Норов ходил по крепости в сопровождении свиты, коменданта, инженеров и деловито осматривал укрепления. «Если я монарх, то страна, которой я управляю, должна иметь все необходимое для обороны, — думал Норов, с каждым шагом проникаясь полезностью и даже своей незаменимостью, потому что он был военным человеком и к тому же страстно любил отечество. — Разве Александр мог отдаваться делу инспекции крепостей с таким пониманием, с такой самоотдачей?» Он делал замечания, выспрашивал у инженеров о том, в какие сроки возводились бастионы, цейхгаузы, какие суммы были потрачены на их строительство, чьими руками осуществлялась постройка, как платили каменщикам, землекопам, столярам. Комендант и инженеры краснели, тяжело дышали, потели, и Норов видел, что укрепления строились впопыхах с применением не вольного труда, а при помощи солдат, которым не платилось ни копейки. Однажды он забылся и, увлеченный, так раскричался на коменданта Берга, что тот стал белее бумаги, схватился за сердце и стал бормотать что-то, извиняясь перед «государем» за упущения. А вечером, едва дотащившись до своей квартиры, Берг, накричав вначале на свою жену, тихую покорную мужу немочку, сказал ей:
— Да, Марта! Не дай Бог царям болеть!
Провели смотр частям, что расположились под Бобруйском, и Норов радовался, видя, как славно делают перестроения и эволюции роты восемнадцатого егерского полка, его полка, а когда мимо него прошагала рота, которой командовал он, но теперь шедшая под командой другого капитана, Норов даже прослезился и не удержался, крикнул:
— Молодцы, егеря!
Потом был Брест-Литовск, и в этой крепости Норов был так же дотошен и придирчив. Ощущение власти над всей империей проникло в него быстро, заполнило все его сознание, но то же сознание подсказывало что власть нужна ему лишь затем, чтобы переменить жизнь в государстве, сделать её лучше, справедливее.
«Александр не умел править, — думал он, — ему не хватало мужества и честности. Я же — смел и справедлив, я знаю, как сделать Россию счастливой и начну преобразования, лишь только возвращусь в Петербург. Конечно, начать нужно с изгнания ненавистного всем Аракчеева, этого змия, жестокого и тупого, необразованного и корыстолюбивого. Он виноват в том, что одна треть всей армии живет в военных поселениях, а это мешает и военному делу и хлубопашеству. Только бы мне добраться до Петербурга! Я одним росчерком пера сделаю то, к чему стремятся Пестель, Муравьев-Апостол и им подобные, не страшащиеся ни убийства царской семьи, ни междоусобиц!»
Смотр под Брест-Литовском прошел гладко для полков и полковых командиров — «Александр» даже похвалил командующего армией за прекрасную выучку. Зато пострадал сам Норов: когда один из командиров подъехал к нему с рапортом и уже повернул лошадь, чтобы возвратиться к своему полку, жеребец взбрыкнул задними ногами, и подкованное копыто ударило Норова в ногу. Он чуть не вкрикнул от страшной боли, но сдержался. Зато уже вечером Виллие обнаружил на ноге воспаление, перешедшее в рожистое, что задержало выезд из Брест-Литовска. Однако Норов радовался этому обстоятельству, видя в нем счастливый для себя знак — в Петербург он прибыл хоть и с опозданием, но зато появилось лишнее время, чтобы зарубцевались следы нарывов. Ему почему-то не хотелось пугать и расстраивать своим безобразием ни супругу, которой как-никак пришлось бы уделять внимание, ни матушку. Но вот болезнь ноги утихла, и теперь ничто не мешало отправиться в путь…
По мере приближения к Петербургу, торжество победителя, въезжающего с триумфом в ворота столицы, начинало все сильнее заполнять сердце недавнего егерского капитана. С одной стороны, он радовался тому, что скоро совершит то, к чему стремились заговорщики, а с другой, он ликовал потому, что преобразователем России станет он, Василий Норов. Ему уже нравилось быть императором, он уже считал себя достойным короны, потому что и прежде очень уважал себя, ощущая свое превосходство над многими, почти всеми товарищами. К чувству радости примешивалась и уверенность в том, что не было бы Божьей воли в деле его превращения, ничего бы не вышло, и теперь сладкое чувство богоизбраничества сладко томило Норова и давало основание не сомненеваться в том, что впереди его ждет слава реформатора России, и чуть огорчало лишь одно — невозможность быть спасителем России, оставляя за собой право именоваться Василием Норовым.
… Конвой лейб-гусар, предшествовавший карете, проскакал мимо крыльца дворца в Царском Селе, куда въехал императорский поезд, а экипаж императора остановился прямо напротив крыльца, по обеим сторонам которого стояли придворные — гофмаршал, обер-шталмейстер, камергеры, камер-юнкеры, камер-фрау, фрейлины. Когда Норов, желая выглядеть здоровым и бодрым, резко выскочил из кареты на землю, глубокие поклоны и реверансы придворных стали знаком приветствия ему, возвратившемуся домой государю. Сам же Норов, наученный Виллие, приветствуя всех кивками и улыбкой, прошествовал мимо замерших в почтительных позах людей, быстро направился к крыльцу, сопровождаемый флигель-адъютантами, и вошел в вестибюль.
Елизавету, супругу того человека, который добровольно передал ему власть, он увидел стоящей посреди дворцовой прихожей в соседстве с двумя фрейлинами. Он немного страшился этой встречи, но, широко улыбаясь, смело направился к жене, на ходу делая взмах ладонями рядом со своим лицом, как бы говоря этим жестом: «Ты видишь, что со мной случилось? Но уже ничего не исправишь, нужно мириться!» Не решаясь прикоснуться губами к щеке уже поблекшей женщины, сохранявшей все же милую прелесть лица, он припал к её руке в долгом поцелуе и сказал по-французски:
— Ты не скучала, Лиз?
— Очень скучала, Александр, — ласково провела Елизавета рукой по бугристой щеке Норова и он в интонации её голоса уловил испуг, но отнес его к тому, что женщина поражена его изуродованным оспой лицом, а не чужим лицом.
— Как маман?
— Все хорошо. Она сейчас в Зимнем. Самое страшное уже позади, она готова увидеть тебя…
— Ну и прекрасно, — весело сказал Норов. — Мы увидимся с ней уже завтра, а с тобой — за обедом!
И он смело, молодой походкой пошел вверх по лестнице, хорошо зная, со слов Виллие, где находятся его жилые покои. Он чувствовал себя во дворце полноправным хозяином, а поэтому сразу же приказал камердинеру готовить ванну и вскоре с наслаждением выкупался в теплой воде с растворенным в ней розвоым маслом, потом умастил свое сильное тело душистыми притираниями, надел тончайшее шелковое белье, но облекаться в мундир не стал — прекрасный стеганый халат с бранденбурами из плетены шнуров смотрелся на его ладной, статной фигуре просто великолепно. Норов взглянул на свое отражение в зеркале, провел рукой по той щеке, которую погладила Елизавета. Он на самом деле был уродлив с воспаленными после купания в горячей воде рытвинами лица.
«Что ж, — с легкой горечью подумал он, — я пожертвовал своим лицом, красотой ради благоденствия России и… ради власти. Пусть я уродлив, но я все-таки император!»
Когда он уселся в кресло рядом с инкрустированным столиком, на котором лежали адресованные ему письма и стал одно за другим читать их, — в основном от коронованных особ Европы, — дверь приоткрылась и камердинер негромко сообщил:
— Ваше величество, к вам их сиятельство граф Аракчеев!
«Ах, вот некстати, — с досадой подумал он, — я хотел разобраться с ненавистным змеем чуть позднее…» И он уже хотел было приказать камердинеру отложить визит всесильного временщика, но голова камердинера исчезла за дверью, а вместо неё явилась голова другого человека. Норов увидел густые, как щетка коротко стриженные волосы над низким волнистым лбом, нос в виде башмака, толстый и крупный, длинный подбородок и плотно сжатые губы. Глаза, жестокие, холодные, вначале взирали на него с изумлением, а потом характер физиономии преобразился — плаксивая грусть, если не отчаяние, выразилась на ней, человек шагнул в комнату, встал у двери и по-бабьи всплеснул руками, точно сильно изумляясь или огорчаясь. На вошедшем была какая-то куртка из серого, грубого сукна, застегнутая до самого подбородка. Вошедший ещё раз всплеснул руками, то ли захныкал, то ли что-то невнятно забормотал и странной походкой, на цыпочках, ссутулившись почти побежал в сторону Норова. Однако он не остановился перед сидящим и взирающим на него с неудовольствием «императором», а бухнулся на колени перед ним, схватил Норова за руки и, зарыдав, стал покрывать их поцелуями.
Слезы, слюна и, как думалось Норову, выделения из носа, вскоре сделали руки остолбеневшего Норова совсем мокрыми, он попытался убрать их, но Аракчеев — ибо это был он! — вновь нашел их и продолжал свое страстное лобызание. Вперемешку с рыданиями произносились фразы:
— Получил, получил, батюшка твое милостивое письмо… в коем извещаешь меня… батюшка… свет… что занедужил… но, прости… не ожидал тебя… таким… узреть… ну да… Богу-то виднее… как с нами… поступать… хорошо и то… что живой… домой… вернулся…
— Ну довольно, довольно, поднимись! — резко выхватил свои руки Норов, постаравшись тут же отереть с них влагу о полы халата.
Аракчеев, всхлипывая, тяжело поднялся с колен. Был он и впрямь сутуловат, а поэтому выглядел, как подобострастно согнувшийся в полупоклоне человек. Выдержав паузу, Норов довольно холодно заговорил, радуясь-таки случаю раз и навсегда разделаться с тем, кого ненавидела вся Россия.
— Послушай, Алексей Андреич, — поднялся и стал ходить по комнате со сцепленными сзади руками, — я, конечно, мог учинить то, что решил учинить, посредством указа именного, о котором тебе бы доложили, но не в моих правилах скрываться и лукавить…
Аракчеев, видно смекая, о чем пойдет речь, выпрямился и, слегка разведя руки, точно принял позу ко всему готовому, подставляющего себя под удар судьбы человека, поворачивался направо и налево в зависимости от направления движения «императора».
— Итак, вот мое решение: ты увольняешься ото всех дел в государстве и, сохранив чин и имущество, выходишь в отставку, имея место пребывания свое в Грузино. Военные же поселения, от коих страдает и армия и население гражданское — твое порождение — я упраздняю. Указы же о том и о другом вопросе подпишу уже сегодня…
Норов не смотрел на Аракчеева, но если бы взглянул, то увидел бы, что временщик так и остался стоять с разведенными в стороны руками, с приотворенным ртом и широко открытыми глазами, похожими на две оловянные ложки. Норов думал, что Аракчеев сейчас же кинется вновь целовать его руки, а поэтому был готов убрать их в нужный момент, но Аракчеев лишь произнес через минуту тоном сильно озадаченного человека:
— Батюшка, али вы запамятовали? А разве поселения не вашего ума порождением явились? Не я ли-то отговаривал вас в начале самом?*
((сноска. Военные поселения на самом деле измыслил Александр I.))
— Как это моего? — натужно улыбаясь, спросил ошеломленный таким сообщением Норов.
— Да так… Еще в шестнадцатом году вы, батюшка, какую-то французскую книжку прочитав, вдохновились мыслию крестьян солдатами сделать, а крестьян — солдатами, ибо видели в том наивящую для российской армии пользу. Я же, сомнений великих полный насчет сиих превращений, пытался было вас урезонить, да вы на своем настояли. Как же-с так-с мое порождение?..
И нижняя челюсть Алексея Андреевича, отпав, стала ещё длиннее, а лицо в целом совсем стало напоминать лошадиную морду.
«Выходит, Аракчеев и не виноват? — подумал обескураженный Норов. Винить нужно Александра?»
Аракчеев же, видя, что «император» озадачен, кинулся к нему, снова схватил за руки и, тиская их в своих руках, что было очень неприятно Норову, горячо заговорил:
— Знаю, что пока были вы, государь мой милый, в отъезде, клеветники свои клеветы выпустили на меня, точно пчел из улья! Не верь, батюшка, никому! Процветают поселения, ибо, хоть и был я поначалу против них, но потом уверился, что лучшего способа армию расейскую содержать и придумать нельзя! Токмо в вашей светлой голове и могла зародиться мысль столь светлая и полезная! Я же всемерно старался о том, чтобы начинание ваше самым лучшим образом в жизнь претворить, потому как предан вам, точно пес! Ведь недаром ещё папенька ваш, графским титулом меня награждая, девиз мне придумал: «Без лести предан!» Процветают поселения, будто репа или свекла, в почву унавоженную посаженные, с каждым днем силу и красу набирают!
— А как же бунт в Чугуеве? — растерянно спросил Норов. — Эти-то поселяне от хорошей ли жизни начальников своих поубивали да от работ отказались?
— Да что Чугуев?! — плаксиво воскликнул Аракчеев. — Разве один Чугуев, где начальники нерасторопными были, а поселяне — тунеядцами да ворами, может, точно ложка дегтя в бочке меда, великое и полезное начинание замарать? Да, получили там от меня затейники бунта по двадцать тысяч шпицрутенов, ну так за дело же, чтоб другим неповадно было! А вы бы, государь любимый, в гренадерский графа Аракчеева полк, что по Воолхову в поселениях размещен, проехали! Вот где порядок и всеобщее довольство изволили б наблюдать!
Смущенный, но все ещё не веривший в справедливость слов Аракчеева Норов, освободив руки, сказал:
— Хорошо, поедем. Завтра поутру и поедем. Если замечу недовольство военных поселян, гренадеров твоих, то поступлю с тобой и с поселениями так, как задумал. И не вздумай вперед нас эстафету посылать, чтобы приготовились ко встрече. Все в таком виде узреть хочу, как оно на самом деле есть!
Аракчеев всем телом произвел какое-то радостное движение и с ликованием воскликнул:
— Узрите, помазанник, узрите! Восхищены будете и в который раз возликуетесь тому, что Господь Бог ниспослал вам мысль премудрую, которую я, как верный раб и пес, в исполнение надлежащее привел ради процветания державы нашей!
Выехали в Новгородскую губернию ранним утром следующего дня, и Норов, поглядывая через окошко кареты на проносящиеся мимо деревья, уже почти потерявшие листву, думал: «Недаром змей зовет меня к себе — уж наверняка послал курьера ночью, чтобы предупредил начальство. Но меня обмануть будет трудно. Я сам все разведаю, всех расспрошу, и когда уличу ненавидимого всеми жестокого временщика, прогоню, лишив не только положения в государстве, когда министры с докладом к нему ходят, но и чина и даже имения».
К вечеру того же дня въехали на земли, отведенные под поселения гренадерского графа Аракчеева полка, о чем узнал Норов, когда карета остановилась и сам Аракчеев бросился открывать дверцу и выставлять подножку.
— Что ж, прибыли? — холодно спросил Норов.
— Еще как прибыли, ещё как! — с елейной радостью, гундосо проговорил Алексей Андреевич, подавая «императору» руку, чтобы тот оперся на нее, сходя на землю.
Норов осмотрелся — он находился в уютной, чистой деревеньке. Вдоль прямой, как палка, улицы стояли по обеим сторонам большие деревянные дома под тесовыми крышами. На фронтоне каждого прибит номер, возле домов толпятся люди, устремив жадные взоры на прибывшего царя.
— Ну, рассказывай! — потребовал Норов. — Да и показывай!
Аракчеев радостно закивал, облизал тонкие губы и заговорил:
— Сами изволите видеть, ваше величество: живут хозяева и постояльцы первые справа от дома, а вторые слева — дружно и мирно. Ротные командиры, изволите наблюдать, стоят вон там, у дома под нумером один.
— Да все это я и сам-то вижу, — осматривая через лорнет деревню, сказал Норов. — Но почему же все на улице? Или ты их нарочно предупредил о моем приезде?
— Никак нет-с, — помотал стриженой головой Аракчеев. — По собственному наитию, восприняв ваше приближение, словно эфир, разлитый в воздухе, вышли поселяне вас встечать, ибо всем сердцем преданы престолу и отечеству…
— Да полно болтать! — резко прервал Норов словоизлияния временщика. В дом веди!
— Непременно, непременно! — закудахтал Аракчеев. — Вот-с, с нумера первого и начнем-с…
— Нет, я, к примеру, с третьего нумера хочу начать!
— А не извольте беспокоиться, — ещё больше ссутулился Аракчеев. — И в третьем будем, да токмо порядка, церемониала ради, давно уж заведенного, вам с первого начать непременно надобно. Позднее узрите, что разницы никакой не имеется.
Вкрадчивая настойчивость временщика убедила Норова, и он, подходя к крыльцу, сам удивлялся и негодовал на себя за то, что поддался уговорам Аракчеева.
В избе, большой и разделенной на несколько покоев, с большой беленой печью в самом «пупе» дома, его встретили хозяева — бородатый красивый мужик в полувоенном кафтане и молодая баба с холеным, лоснящимся лицом, с кокошником на голове, в красивой кофте и поневе. Баба на блюде держала каравай, и низко поклонилась высокому гостю, когда Норов застучал каблуками ботфортов по чистым, хорошо выстроганным доскам пола. Ребятишки, в основном мальчики, обряженные в мундиры гренадерского полка, стоя кучкой у окна, тоже отдали «императору» глубокий поклон.
— Ну, как живется, хозяева? — отламывая корку от каравая и отправляя её в рот, спросил Норов, внимательно осматривая покои дома.
— Христос и полковые начальники-отцы берегут! — радостно улыбаясь, тотчас ответил хозяин. — Да ещё их сиятельство граф Аракчеев пестует. Не житье, государь, а малина!
— Малина, говорите? — не поверил Норов. — А разве мне не говорили, что солдаты-постояльцы вам притесняют всечасно, что работы вы полевые и огородные чинить не можете из-за службы?
Хозяин решительно мотнул головой:
— Никогда такого не бывает, чтобы солдатики, что у нас стоят, мешали нашему жилью — в полном мире и спокойствии проживаем, и в случае чего можем ротному командиру принести жалобу. Работы же все чиним в срок, безо всякого помешательства, а посему, ко сну отходя, благодарим Бога, вас, государя императора, и высшего начальника нашего их сиятельства графа Аракчеева!
— Ну, ну, — был обескуражен Норов. — А каково пропитание ваше? Достаточно ли?
— Ах, более чем достаточно! — всплеснула руками хозяйка, полагая, виднщо, что вопрос касается лично её. — Сами поглядите, батюшка царь!
И молодая женщина, взяв в руки ухват, прислоненный к печи, ловко выхватила из её жерла объемистый горшок, поставила его на широкий стол, сняла крышку, и по избе тут же понесся аромат вкусного, сытного варева.
— Что же это? — подошел к столу Неров.
— Сами извольте отведать — шти! — подала Норову деревянную, расписную ложку хозяйка.
Норов взял ложку, но заперпнуть спервоначалу не смог — такими густыми оказались «шти». Проводил ложкой в горшке, поворочал варево — увидел, что в горшке плавает изрядный по размерам кусок прекрасного мяса. Обнаружил мелконарезанную капусту, овсяную крупу, морковь и свеклу. Попробовал вкусно!
— Ну, только щи одни? — спросил.
— Не токмо, — улыбалась хозяйка. — На одних-то штях и ноги протянешь.
И снова ухват пошел в ход, и уж на столе стояло деревянное блюдо с птицей, покрытой румяной корочкой и поднявшей вверх ножки.
— А это что? — навел на птицу Норов свой лорнет, потому что он знал, что с этим прибором не расставался Александр.
— А гусь! — была довольно хозяйка, видя такую непрозорливость императора России. — Вечерять собрались, вот и зажарила, чтоб своих покормить да и постояльцев солдатиков, коих я жалею да обхаживаю так же, как и детей своих.
Удивленный, если не пораженный Норов, поблагодарив хозяев, отказался от предложения сесть ужинать с ними, распрощался и вышел в сопровождении Аракчеева на улицу. Он молчал, а времещик, замечая растерянность государя, не переставал говорить:
— Вот они отужинают сейчас, в восемь часиков, да в девять уж на улицу им выход запрещен — все по порядку, все по регламенту здесь чинится, чтобы поселяне времени и силы в праздном шатайстве не тратили, глупостями свои головы не заполняли и вели себя благопристойно. Утром же у них побудка в семь часов, так что, видеть можете, выспаться имеют время.
— Что ж, пока мне все нравится здесь, — глядя в землю, сказал Норов. Но показал ты мне лишь один дом, первый, тобой, уверен, для показа подготовленный. Хочу теперь пойти хотя бы… в пятый!
Аракчеев услужливо закивал:
— Хоть в пятый, хоть в десятый — картину сходственную лицезреть будете, ваше величество! — сам же, в упор глядя на государя, за спиной раскинул веером пальцы и даже потряс рукой, что не оказалось не замеченным хозяном «нумера первого», который тотчас бросился в горницу, чтобы с помощью хозяйки схватить со стола щи и гуся да задами, по огородам побежать к «нумеру пятому». Еда была благополучно водворена в нутро печи, только щи перелили из одного горшка в другой, а гуся переложили на другое блюдо и не ногами вверх, а на бочок, так что, когда Норов пришел с ревизией в этот дом, то ему и здесь пришлось удивляться тому, сколь сытно кормятся хозяева и солаты-постояльцы. Он лишь спросил у Аракчеева, когда вышли на улицу:
— Алексей Андреич, сиде, конечно, хорошо, что и тут и там едят на ужин щи и гусей, но как же получается — везде одно и то же?
— И-и, батюшка! — не замедлил с ответом Аракчеев. — Вы по всем домам пройдете — повсюду сегодня вкушают одни и те же кушанья. Таков уж распорядок, чтобы извести зависть и злопыхательство, столь обычные среди людей, когда видят разницу. Завтра же — иное: суп с ячневой крупой ис клецками да поросенок с хреном, а на третье — кисель овсяный. Разуметься должно само собой, что хозяева, по мере сил и при наличии избытка, имеющих, как я знаю, быть, добавляют от себя к писаному рациону что-либо от себя. Я тут уж молчу, даю волю людям поесть всласть, ибо для люда простого вкусная еда — одна из немногих радостей, дарованных им судьбой. Но винишком баловаться запрещаю — токмо по праздникам большим пропустят стаканчик-другой-третий, а так — тишина и покой.
Норов зашел ещё в два дома — везде уют и чистота, в печах горячие щи, гуси, наваренный кисель и хлеб.
«Да что же это говорили о поселениях военных? — был сумрачен Норов, когда выходил из последнего дома. — Бывал я в русских деревнях, повсюду грязь и голод, дети оборванные, в цыпках, скотина в жилых покоях. Здесь все иначе! Все сыты, одеты и довольны, нет пьяных, всюду строгость и порядок…»
Подошел к карете обескураженный, смущенный, неподалеку толпились флигель-адъютанты, а Аракчеев так и юлил перед ним, заискивающе вглядываясь в его лицо.
— Я тобой доволен, Алексей Андреич, — молвил Норов глухо, и слова эти будто помимо воли с губ. — Если бы так везде в России было.
— А так и есть, так и есть! По всем весям необъятной России, государь, проедем — везде порядок и благополучие в поселениях военных увидим, ибо ночами не сплю, только о процветании армии русской и думаю. Оставьте сомнения ваши — внушены они вашей милости сонмом недоброжелателей моих, кои видят меня попранным в грязь. Нет числа завистникам моим!
И Аракчеев громко всхлипнул, Норову же показалось, что он готов, как и вчера, с плачем целовать его руки, а поэтому постарался убрать их за спину. Аракчеев же, похлопав носом, сказал:
— А теперь, ваше величество, не обидьте сирый дом верного слуги вашего. До Грузина рукой подать, сами знаете — затемно доберемся. Вот уж туда-то я и впрямь заслал гонца, чтобы приготовили для вашего величества ужин. Так почтите убогую хижину мою?
— Ладно, едем в Грузино, — махнул рукой Норов, которому как ни был противен ему Аракчеев, нравилась льстивая преданность генерала-от-артиллерии, сулящая поддержку и спокойную жизнь на троне. Норов догадывался, что временщик Александра не признал в нем настоящего царя, но он в то же время знал, что Аракчеев, боясь отставки, опалы, возможно, суда в случае перемены власти, будет во что бы о ни стало убеждать всех сомневающихся, что приехавший из Белоруссии человек с оспененными рытвинами на лице — это истинный самодержец Александр Павлович.
«Ладно, не прогнал его теперь, так прогоню завтра, — утешил себя Норов, когда уже сидел на стеганом диванчике в карете. — Мне бы укрепиться, уверить всех в том, что я — Александр, а за отставкой змея дело не станет».
Приехали в Грузино, когда солнце спряталось за лесом. «Убогая хижина» всесильного Аракчеева оказалась богатой усадьбой, расположившейся на берегу реки. Огромный дом с бельведерами, мезонинами, башенками, галереями походил на великокняжеский дворец. Забабахали пушки, стоящие на площадке перед домом, и скоро Норов уже шел в отведенные ему покои в сопровождении хозяина, нежно поддерживавшего его под локоток. Норов должен был умыться и немного отдохнуть с дороги, а потом его и флигель-адъютантов ждал ужин. Василий Сергеевич с усмешкой вспомнил рассказ о том, что Аракчеев завел манеру приглашать в свой дом на Пасху, на Рождество и в день святого апостола Андрея Первозванного по одному нижнему чину от каждой роты своего полка, а когда достойных не отыскивалось, то посылали и прапорщиков, даже молодых поручиков, и те мучились на приеме, когда приходилось принимать из рук самого Аракчеева крошечную, с наперсток, рюмку с водкой, есть в гробовой тишине жареных карасей, а потом благодарить за обед и уходить, получив в подарок завернутые в бумагу десять медных пятаков. А между тем все знали об огромных богатствах графа, скопленных правдами и неправдами.
Стол, накрытый для императора, оказался богатым, и едва Норов и флигель-адъютанты выпили за здоровье хозяина бокал шампанского, как Аракчеев, который, кривляясь, не «посмел» сесть за один стол с императором «Благословенным», гундосо попросил:
— Ваше величество, батюшка, не дозволите ли рабыне вашей, Настюсьюшке моей здесь в стороне постоять да на вас поглядеть? Шибко скучает по вам, все приезды ваши вспоминает…
Норов вспомнил — Настасьюшкой была Настасья Федоровна Шумская, в прошлом дворовая девка, теперь же — любовница временщика, управляющая всем имением и экономка. Слышал Норов, что и самого Аракчеева она в вожжах держала, а поэтому ему было интересно взглянуть на эту бабу.
«Если Аракчеев — второй по силе человек в государстве, а Настя управляет им, стало быть, выходит, что она после меня первой в России будет», — подумал Норов и усмехнулся.
— Что ж, пусть войдет, не помешает, — сказал, жуя, и через минуту в столовую залу вплыла гренадерского роста бабища, одетая, как мещанка, но богато. Она отдала государю глубокий поясной поклон и встала у стены, по-крестьянски подперев наклоненную набок голову рукой.
— Да что ж вы встали? — желая быть любезным, как сам Александр Благословенный, сказал Норов. — Садитесь, место есть.
Настасья отвечала печальным басом:
— Благодарствую за приглашение, батюшка-царь, да токмо мне, подлой, за одним столом с государем сидеть заказано. Здесь постою.
Норов пожал плечами и снова взялся за еду, но тут же где-то за дверьми раздался шум. Было слышно, что кто-то по-черному бранился, топал ногами. Звенела разбитая посуда. Аракчеев, стоящий рядом с дверью, остолбенел, Норову показалось, что от страха его жесткие волосы поднялись дыбом, став похожими на щетину кабана. Он, разведя в стороны руки, прислонился спиною к двери, желая задержать того, кто, видно, силился войти в столовую, но не долго удавалось сдерживать чей-то ретивый напор. Скоро отлетев вперед из-за сильного толчка резко отворившихся дверей, Алексей Андреевич, вскрикнув от страха и боли, замер посреди зала в позе насмерть перепуганного человека, а тот, кто вломился в столовую, оказался молодым человеком со всклокоченными волосами и горящими воспаленными глазами одетым в одну сорочку да вдобавок пьяным-препьяным. К ужасу вскочивших с мест генерал — и флигель-адъютантов, молодой человек держал в руке обнаженную шпагу, которой довольно смело помахивал. Всем, включая и Норова, вначале показалось, что пьянчужка попросту перепутал залы и вломился в столовую, где ужинал император, по нечаянности, однако человек со шпагой, обведя присутствовавших в зале лиц осоловелым взором, с сильной запинкой заговорил:
— Помазаннику Божьему… го-государю императору… в три приема отсалю-товать х-хотел! Где го-сударь изволит б-быть?
И молодой человек, сильно шатаясь, пошел вдоль длинного стола, пристально вглядываясь в лица присутствующих. Аракчеев же, придя в себя, бросился на колени перед Норовым и запричитал, часто дергая своим длинным подбородком:
— Батюшка, ваше величество, милостивыми будьте! Мишка, сын недостойный мой, проказник и негодяй, совсем уж опаскудился — ни управы, ни удержу нет на него! Пьет беспробудно, страшно! Ротных обязанностей не несет! Сказните его, государь, своей властью — или в солдаты разжалуйте или в монастырь сошлите! Не сделаете сего, так я сам, по-отцовски, кару для него измыслю!
Норов, продолжая есть, усмехнулся. Он в глубине души радовался тому, что у всесильного Аракчеева, наперсника Александра, такой непутевый сын. Мишель как бы являл собой плод полного доверия царя к ненавидимому всеми временщику, с одной стороны, и собачьей преданности Аракчеева к императору, с другой. Норову было известно, что о проказах и безобразиях Мишеля Шумского знают в России, что престол по причине понятной терпимости царя к незаконнорожденному сыну временщика опозорен, и если теперь он бы разжаловал Шумского, сослал его подальше, возможно, даже в монастырь, то заслужил бы признательность со стороны общественного мнения, но… но Василий Сергеевич знал, как любит Аракчеев своего непутевого сынка, а также любит и его самого, предан ему, а поэтому обижать преданного пса Норову было сейчас совсем не с руки.
— Алексей Андреич! — заговорил Норов, продолжая жевать. — Не ты ли в своем доме хозяин? Ну так и разберись с чадом своим по-домашнему. У нас же, у государей, хозяйство пообширней твоего будет — вся держава. Нам ли вникать в дела семейные? А если по делам полковым найдешь упущения, так разберись с поручиком Шумским как полковой командир и начальник над военными поселениями.
— Ах, милостивым вы больно! — совсем по-деревенски, простирая в сторону Норова свои толстые руки, протяжно заговорила Настасья, любившая сынка Мишку беззаветно, избаловавшая мальчишку потворством и потаканием всем его хотениям. — Спасибо, что не прогневались на озорника!
Мишель же, который до этого, покачиваясь, слушал всех, кто говорил, и сам захотел сказать словечко. Опираясь на шпагу, вонзившуюся в паркет, он сказал:
— А за что ж и гневаться-то на меня? Я токмо по полной форме от-салютовать их величеству собрался. И отсалютовал бы, кабы… кабы видел в сей зале государя императора, но нет его здесь… нет!
Аракчеев взвизгнул:
— Как это нет?
— Так нет — не наблюдаю их величество! — упрямо настаивал на своем Мишель. — Некому салютовать!
— Вот их величество, вот! — кинулся к Норову Аракчеев и, уже обращаясь к нему, быстро забормотал: — Не слушайте пьяницу, батюшка! Залил бельмы, вот и мелет всякий вздор, сам не понимая, что несет!
Но Мишель, видно, решивший сыграть роль безнаказанного хама, которому в России позволено делать все, что заблагорассудится, сложив пальцы «лодочкой», нахмурясь и приставляя ладонь к бровям, наклонившись вперед, стал вглядываться в Норова, а потом замотал кудлатой головой:
— Сие их величество? Нет-с, премногоуважаемый родитель мой! Сей, покрытый рябью человече, не есть император всероссийский. Самозванца за стол усадил да потчуешь его в то время, как по нем арестантские шпоры* ((сноска. Кандалы.)) плачут!
Фраза эта переполнена чашу терпения сидевших за столом свитских, многие из которых были особами титулованными. К Мишелю подбежали сразу трое или четверо адъютантв, схватили оскорбителя монаршей чести за руки, вырвали шпагу, и скоро Мишель, отчаянно бранившийся и обещавший пожаловаться на «холуев» самому императору, настоящему, а не какому-нибудь рябому самозванцу, был вытолкан за дверь. Настасья с простертыми к дитяти руками, голося басом, судорожно всхлипывая, в предчувствии погибели Мишеля, бросилась вслед за ним. Аракчеев же, стоя на коленях перед Норовым, осыпал поцелуями его руки и, плача, говорил:
— Предан, предан, до гроба, всеми фибрами души вашему величеству предан… Верю, верю!
Норов почему-то не убирал осыпаемых поцелуями рук, не пытался оттолкнуть плачущего пожилого мужчину, жестокосердного и холодного. Он видел, что некоторые свитские даже не пытаются скрыть презрительных улыбок, и Норов не знал наверняка, относятся ли они только к Аракчееву или имеют отношение и к его персоне.
«Конечно, все они знают, что я — не Александр, но никто из этих лощеных офицеров, столь ценящих свое положение, не осмелится сказать правду. Все будут служить мне, как служили бы Александру или Николаю. А если кто-нибудь из них попытается открыть глаза обществу, то у меня найдется надежная защита. Алексей Андреевич на самом деле истинно и искренне предан мне и… верит, верит! Во что же верит Аракчеев? В то, что я — не самозванец, что я — настоящий царь? Ну это уж слишком! Так откровенно при посторонних заверять меня в том, что он никогда не спросит, кто я такой, не усомнится! Дурак он, конечно, но… весьма полезный дурак. Мы с ним ещё посотрудничаем. Ах, поскорее бы начать реформы!»
И Норов, аккуратно промокнув салфеткой губы, поднялся, давая всем понять, что ужин закончен и император желает отдохнуть, ведь день сегодня был трудным и суетным.
7 «ВЫ НЕ ЦАРЬ, А БУНТОВЩИК!»
Подняв кузов коляски, закрывшись медвежей полстью несмотря на то, что погода ещё была теплой, надвинув фуражку на глаза, Александр мчался подальше от города Гомеля, где человек и император были унижены в нем злокорыстными людьми. «А я верил в справедливость своего суда, мне всегда докладывали, что суды в России стоят на страже закона и порядка, борются с неправдой, защищают обиженных. В действительности же ничего не изменилсоь со времен «Ябеды», но тогда получается, что я, недавний правитель Российской империи управлял страной дурно, и меня вправе ненавидеть мои бывшие подданные — я не оправдал их надежд! А каковы купцы! Я же, доверяя им, отдал разрешение присутствовать купцам высших гильдий на придворных балах! Ах, как же я бал неправ!»
Анисим, молчавший по обыкновению, словно поняв, о чем думает, о чем терзается его барин, резко повернувшись на козлах назад, заговорил с обидой в голосе, и Александр впервые увидел своего камердинера таким красноречивым и страстным:
— Ваше величество, государь император! Уж не гневайтесь, ежели я вас по старинке назову, а не господином капитаном. Сердце в груди, как кубарь, кувыркается, все стонет, забыть не может, как с вами злые люди обошлись! Или уж отпустите меня сейчас, оставив при себе обещанную награду, потому как нет мочи видеть и переносить страдания ваши, или уж послушайте старика: пугайте злыдней настоящим титулом вашим и именем! Авось, доберемся благополучно до Киева, а там и скроетесь за стенами обители, оставив в миру прежнее имя ваше. Не к лицу вам капитаном именоваться. Вот, сказал, что наболело — решайте ж сами, как с грубияном поступить!
Илья, широко протянув кнутом по крупу коренника, крякнул и сказал, не оборачиваясь:
— Я, ваше величеств, Анисиму в сем вопросе полный заединщик. Мы слуги ваши, и скорбями вашими так же болеем, а может, и ещё крепче. Верните себе прежнее имя, если нужда к тому позовет, а то натерпитесь обид от лихоимцев.
Александр хоть и почувствовал в слвоах слуг непозволительную вольность, на которую прежде они бы никогда не отважились, но искренность их речей все искупала, поэтому Александр, тронутый, а не рассерженный, сказал:
— Оставайтесь со мной, друзья. Недолго нам осталось ехать. Даст Бог, не встретим больше препятствий, ведь не одними же каверзниками полнится моя держава. Ну, а если снова попадем в скверную историю, обещаю вам поступить так, как вы мне посоветовали, чтобы честь свою сохранить.
И Александр, умилявшийся собственному человеколюбию и незлобивости, почувствовал, что ресницы его увлажнились и защипало в носу.
… Дорога, ухабистая и пыльная, зазмеилась в редком подлеске; вдруг резкий протяжный свист, показавшийся Александру вначале свистом какой-то птицы, донесся из густых кустов, что стояли впереди, на краю дороги, и не успел смолкнуть этот свист, как с обеих сторон, преграждая дорогу бегущей тройке, выскочили бородатые люди. Двое из них, подскочив слева и справа, на ходу вцепились обеими руками в недоуздки пристяжных, повисли на них так, что лошади, двигавшиеся рысью, проволокли их по земле саженей с десять. Но мужики те, видно, были крепкими и тянули лошадиные головы к земле с такою силой, что левая пристяжная пала на колени, встал и коренник и правая пристяжная. Илья же, быстро смекнув, в чем дело, привстав на козлах, так рьяно охаживал все ещё державшихся за упряжь людей кнутом, что те извивались, как угри на горячей сковородке. Но ещё несколько разбойников уже бежали к тройке, и Александр понял, что здесь, сейчас будет неуместно спасать свою честь объявлением того, что в коляске едет сам император России, по прихоти путешествующий в офицерской шинели, без конвоя и свиты. Совсем иной способ спасения открылся перед ним — никогда прежде он не поднимал на людей пистолет, никогда не сопротивлялся силой силе, потому что прежде не нужно было себя защищать (поединок с Севрюгиным в счет не шел), а поэтому теперь, желая после гомельской истории посчитаться со злом, Александр, видя, сколь успешно отбиваются от наседающих разбойников его слуги сорвал крючки с полированного пистолетного ящика, выхватил из бархатных углублений нижней части прекрасные дуэльные пистолеты с гранеными стволами, тщательно заряженные дней пять назад, и, насколько прицелившись, пальнул в сторону мечущихся из стороны в сторону серых кафтанов.
Куда угодила пуля Александра, знал лишь тот кто издал отчаянный вопль, но вчерашний государь России увидел, что серые кафтаны отпрянули от лошадей, бросились в разные стороны. Один разбойник попытался было напасть на самого Александра, для чего выхватил из-за веревки, служившей ему поясом, топор, но пуля второго пистолета пресекла его намерение. Илья же, положивший на землю ударами кнута двух разбойников, с явным наслежданием потчевал их крутой ременной кашей, крича между тем Александру:
— Ваше высокоблагородие, палите из пистолетов, палите! Никому не дадим уйти! Будут знать, как честных путников на дорогах грабить!
Но заряженных пистолетов у Александра уже не было, поэтому он соскочил на землю с обнаженной шпагой, готовый нешуточно постоять за себя. Погнавшись за одним грабителем, решившим, что, елси быстрая ретирада и не принесет ему богатства, то хотя бы сохранит жизнь, Александр, кольнув убегавшего в тощий зад, принудил его лечь на землю и прокричал, видя, что при других вора тоже лежат:
— Илья, доставай скорей веревки, вожжи — татей сих вязать станем!
Не прошло и двух минут, как из-под облучка были извлечены нужные для пленения грабителей орудия, и скоро все четверо оставшихся в живых воров оказались связанными по рукам одной длинной и прочной веревкой. Александр же, очень довольный собой, прохаживался мимо них, помахивая шпагой в то время, как Анисим вкладывал заряды в стволы опорожненных пистолетов — на всякий случай, а Илья с деловитой невозмутимостью поправлял упряжь, приведенную разбойниками в беспорядок. Воры же, потупив взоры, угрюмо молчали. Все они были разновозрастными мужиками, от тридцати до шестидесяти лет, облаченными в серые полуформенные кафтаны.
— Что, кантонисты?* ((сноска. Кантонист — солдатский сын, который со дня рождения был приписан к военному ведомству.)) — задорно спросил Александр.
— Истинно говорите, к поселениям приписаны, — кивнул один пожилой мужик.
— Так что же вам, поселенцам, богатств что ль неправедным захотелось? — возвысил голос Александр.
— Каких там богатеев, — глухо отвечал другой мужик, помоложе, кинув на победителя огненный взгляд, пущенный из-под косматых бровей. — Хлеб-то не каждый день едим, не говоря уж о мясе, про которое забыли…
— Ну уж, не ври-ка, мне, поселянин! Я ли жизни вашей не знаю? — махнул шпагой Александр, будто сметал в сторону мнение, которому ничуть не верил. Он хорошо помнил, как приезжал в новгородские поселения своего друга Аракчеева, как встречали его там сытые, всем довольные поселенцы, а хозяйки в праздничных одеждах звали его отведать обычной их еды. Александру всегда нравилось пробовать кислые щи, наваристые, густые, ароматные, съедать кусочек жирного карпа, водившегося в устроенных специально прудах, жареной свинины. Он всегда щедро одаривал хозяев и оставался доволен этими простыми людьми, Алексеем Андреевичем и, главное, самим собой, придумавшим для России такую полезную и наинужнейшую вещь — военные поселения. Поэтому и не верил он сейчас поселенцам-разбойникам, говорившем ему о своей нужде.
— Видно, плоховато знаешь, барин, ты жизнь нашу, — ответил ему тот же мужик. — Поедем к нам, здесь недалече. Сам все и узришь.
— Что ж, поедем! — запальчиво воскликнул Александр. — Если окажется, что прав ты и не солгал, всех вас отпущу. Наоборот выйдет — передам полковому начальнику, и уж палок вам не избежать! А ну-ка, Илья, прявжи их к коляске, да только пусть вначале кто-нибудь расскажет, куда ехать.
Через пять минут коляска катилась в нужном направлении, а плененные грабители трусили вслед за экипажем, связанные одной веревкой. Тела же двух убитых так и остались в дорожной пыли, дожидаясь, пока за ними приедут родичи, чтобы с причитаниями везти их в дома, покинутые неудачливыми ворми ради пищи для себя и своих близких, жен, родителей, детей.
Коляска прыгала на ухабах уже с полчаса, вдруг Александр увидел, что по дороге ему навстречу движется солдатская колонна — взвод всего, не больше, но вначале Александр по причине послеповатости не разобрал, почему же солдатики такие низкорослые.
Подъехали поближе, и Александр увидел, что маршируют одетые в мундиры мальчонки лет семи-десяти, возглавляемые капралом и положившие на плечи ружья-палки. Капрал же, завидев офицера, едущего навстречу и желая, видно, показать выучку своих подчиненных, прокричал:
— А ну гусиным шагом — марш!
И тотчас мальчишки присели на корточки и ловко заковыляли, поднимая клубы пали, по-гусиному.
— Здравстуйте, солдаты! — остановив коляску, прокричал Александр, премного умилившись, глядя на будущих защитников отечества. — Хорошо идете!
— Рады стараться, ваше высокоблагородие! — тоненькими голосками пропищали ребятишки.
— А кормят-то вас как? Сыты?
Не замечая того, какие страшные рожи корчит мальчикам капрал, Александр услышал ответы:
— Хлебушка вдоволь!
— Кашу лопаем от пуха!
— Киселек хлебаем! Государя нашего добрым словом поминаем!
Александр, услышав это, ещё более расчувствовался и с негодованием вспомнил слова разбойника о худом житье. «Ну, покажу я им! Великое начинание мое позорят!» — подумал со злостью и ведел Ильев трогать.
Домики военных поселян вынырнули из-за косогора, и Александр вначале не поверил в то, что это жилища кантонистов — уж больно они были не похожи на большие дома Аракчеевского полка, стоявшие под тесовыми крышами, расположенными с обоих сторон прямой дороги «по нитке». Здесь домики были простыми крестьянскими хатками, белеными, под соломой или даже камышом, стояли кучей, однако, подъехав поближе, Александр углядел и главную, наверное, единственную улицу, кривую и грязную, посреди которой в луже разлеглась свинья.
«Ну вот, и живность здесь водится…» — унял вид свиньи беспокойство Александра, проникшее было в его сердце.
А между тем въезд в деревеньку роскошной рессорной коляски, к кузову которой были привязаны четверо поселян, всем хорошо знакомых, произвел на жителей сильное впечатление. Остановившуюся коляску вскоре облепили любопытствующие, хозяева и солдаты-пехотинцы, селившиеся в хатках, и Александр заметил, что многие из них смотрят на связанных разбойников с сожаление, сочувственно качают головами, что-то нашептывают им — они сразу смекнули, по какой причине их соседи оказались в столь плачевом положении.
— Тит! — кинулась к одному из привязанных воров протиснувшаяся сквозь толпу ротозеев молодая женщина. — А Кирюха-то мой где?!
— А на дороге остался, — не поднимая на женщину глаз, ответил разбойник-поселянин. — И Митрофан Козлов тож там оба мертвые…
— Да кто ж убил-то их?! — вскрикнула баба, хватаясь за веревку, опутавшую руки Тита, но мужик молчал, и Александр понял, что пора дать объяснение эти людям. Он, сбросив с плеч шинель, поднялся на коляске во весь свой немалый рост, отправил на голове фуражку, откашлялся и заговорил:
— Поселяне, я ехал по дороге, вдруг из-за кустов бросились на меня шесть мужиков, остановили лошадей, хотели порубить топорами. Разве я был не вправе защитить свою жизнь всеми имеющимися у меня средствами? Так вот, двоих злодеев я из пистолета уложил на месте. Вины за собой не ощуаю и прощения у близких тех разбойников не прошу — сами виноваты. Но приехал я сюда совсем не за тем, чтобы приносить жалобу на воров. Узнал я от одного из них, что на татьбу их толкнули бедствия голодной жизни. Не поверил я ему, признаться, сам решил разведать, так оно или не так. Ну, рассказывайте, как вы живете?
Со всех сторон раздались крики людей, спешивших принести жалобу неведомо откуда взявшему офицеру, который, верно, сочувствовал им и, значит, мог помочь, замолвить перед кем-нибудь словечко. Поселяне перебивали один другого, тут же спорили, кое-кто уже вцепился в бороду соседа, и Александр, не поняв ни слова, поднял руку, и крики постепенно смолкли:
— Пусть вначале кто-то от хозяев скажет, а после — от солдат-постояльцев кто-нибудь заговорит.
Дернув за корнцы платка, завязанного под подбородком, к коляске, поближе, решительно шагнула одна из женщин. Было видно, что она пользуется у всех авторитетом — никто не возразил, когда она заговорила:
— Барин, правда истинная, что жрать нам нечего! И кто замыслил военные поселения?! Граф Аракчеев, балакают, ну так мы все здесь едины в мысли: тому Аракчею-кощею надо кресло по заслугам сделать — кол осиновый вытесать, в землю врыть да Аракчея на тот коол и водрузить головой задницей!
— Полноте, хозяюшка, — краснея, примирительным тоном проговорил Александр. — За что сия жестокость?
— А за то, что деревня наша до шешнадцатого года припеваючи жила, земли у нас черные, тучные, пшеницу, рожь, просо да овес родили по два раза в год, и закрома наши были полны, а мы веселы и сыты, зажиточны и добросердечны. А как сделали поселян из нас, как подселили к нам солдат, все переменилось в корень!
— Да что ж переменилось? Разве не легче стало вам, когда избавились вы от рекрутчины? — с ещё большей мягкосердечностью спросил Александр.
— Куды там! Ну, отдали раньше в солдаты, что приходится так ведь хозяйство от того не страдало. Теперь же — что татарин у нас прошел! Хозяев начальство полковое принуждает в самую страду на учения идти, на маршировку, деток наших нам некогда к земельке приучать — тоже маршируют, чтоб солдатами заправскими быть, вот и пришли земли наши за семь лет в полный разор из-за непригляду. За скотиной тоже, окромя баб, ходить некому, кормов с каждым годом все меньше, а полковник требует, чтоб солдатики накормлены были…
— Но ведь и солдаты, что у вас стоят, должны трудиться в поле, подсказал Александр.
Женщина, снова дернув за концы платка, рассмеялась:
— Эких нашел трудяг! Кто ж, барин, станет спину гнуть на чужой земле, когда знаешь, что хозяева и так тебе в рот кусок положить должны? Нет, солдаты нам не помощники — токмо разорники наши, да ещё озорники!
— Почему ж… озорники?
— Да так… Выпить любят — хлебом не корми, а без женок живучи, разве не зачешется, не позовет, коль в одной избе с хозяевами живут, ночью али даже днем к хозяйской женке прилепиться, а то и к дочке? Так что обид у нас на солдатиков немало! А вот из всего из энтого и выходит, что, не воруя, не сможет ни сами прожить, ни постояльцев наших прокормить. Аракчея-кощея на кол, на кол!
И многие из собравшихся закричали:
— На кол! На кол собаку шелудивую!
Но Александр снова поднял руку, дождался тишины и заговорил:
— Выслушал я сторону хозяйскую. Теперь же пусть от стороны солдатской слово молвят.
Толпа раздвинулась, и на свободном пятачке земли остался пожилой солдат в шинеле и фуражке-бескозырке. Покрякал, прочищая горло, и сиплым сердитым голосом прокричал:
— Нам не легче, чем хозяевам живется! Хозяева все, как один, жилы хлеб, мяско от нас прячут, сами тайком жрут, а нам пихают, что останется, говоря, что и сего нам, нахлебникам, много! От казны же, сам знаешь, ваше сыкородие, ничего не дают, надеясь на закрома хозяйские! И что не помогаем им в поле — враки! Нас в поле офицеры выгоняют и опосля отчет велят давать, что сделали. Учения же воинские из-за сего проходят кое-как, наспех, многие из солдатиков, по пять лет прослуживши, ни разу не стреляли. Какие из них вояки? А что до похабства, нами чинимого, то и тому не верь, ваше сыкородь. Может, кто и не стерпел когда, не спорю, но всех нас одной гребенкой чесать не след! Под конец скажу, что поселения военные — срам земли русской, и измыслил их не иначе, как ярый враг Рассеи, француз али турок, чтоб лет через двадцать взять нас голыми руками. Аракчея же сюда приплетать не надо — Аракчей человек русский, да, видно, другие советники государя — нехристи поганые!
И солдат яростно плюнул под ноги, и тут же зашумела, загомонила, задвигалась, замахала руками народная толпа. Хозяева накинулись на солдат с тяжкими обвинениями, те — на хозяев. Людское море кипело все круче, кто-то кому-то уже заехал в зубы, назревала свалка нешуточная, а поэтому Александр, давно уже поднявший руку, но не умеющий сладить с бурлящим месивом лошадей, выстрелил из пистолета в воздух, и все, услышав выстрел, словно окаменели, застыв в нелепых позах спорящих людей. Александр же сказал:
— Сейчас я сам пройду по вашим хатам да посмотрю. Сих же… злодеев, показал на связанных воров, — пожалуй можно развязать.
Он, ведомый отчего-то радостными хозяевами, прошел по трем домам всюду грязь, мухи, развешанные на веревках латаные сарафаны вперемежку с портками и сохнувшими портянками, худые дети на печи, а в самой печи пустые горшки и чугуны. Солдатское жилье в домах отделено от хозяйской половины тонкой перегородкой, а кое-где — куском холста. С тяжелым сердцем вышел на улицу, глянул нечаянно на рукав сюртука и увидел насекомое, которое мерзко шевеля ножками, карабкалось наверх.
— Да то вошка! — заметив гримасу отвращения на лице Александра, весело сказал поселянин-дурачок и сшиб насекомое с рукава щелчком.
Александр снова взошел на коляску, отправил сюртук и начал:
— Милые мои! Вижу, что и впрямь несладко вам живется, но зря ругаете вы графа Аракчеева — вся беда, я понимаю, в полковом начальстве. Вот если бы заменить его другим, хорошим, расторопным, то и дела бы поправились у вас. Я позабочусь о замене, а покамест хочу помочь вам, потому как видеть страдания ваши мне больно и неприятно. Подходите по одному к коляске…
И Александр открыл свою шкатулку и начал, не считая, подавать ассигнации, серебро и золото тем, кто протягивал руки. Он так увлекся этим делом, что не замечал, как люди, стоявшие подальше, отпихивали один другого, спеша пробиться к коляске, как некоторые, кто был посильней да понахрапистей, подходили дважды. Не замечал Александр и знаков, которые пытался подавать сидевший на облучке Илья. Наконец кучер не выдержал и сказал негромко:
— Выше высокоблагородие, все уж изрядно получили…
Александр глянул в шкатулку и увидел, что она уже порядком опорожнилась, и тогда он захлопнул крышку.
— Все, братцы-поселяне, больше не имею средств, не обижайтесь, — и тут же услышал радостные крики:
— И того довольно, батюшка-милостивец!
— Коровок прикупим, хозяйство поправим! Радостны очинно!
— Да только ты скажи, ответь, как тебя звать-величать! Будем до конца дней Богу за тебя молиться!
И тут что-то сдвинулось в голове Александра. Ему, бывшему невольным, а может быть, и вольным организатором бедствий этих людей, захотелось очиститься перед ними. Не какой-то там капитан Норов должен был стать благодетелем поселян, а сам Александр Благословенный, искренне любивший свой народ.
— Братцы, дети мои, — дрожащим голосом, со слезами на глазах молвил Александр, — видите вы перед собой государя императора России Александра Павловича. Пусть не смущает вас мой скромный облик — так надобно мне было к вам явиться, чтобы узнать всю правду о вашем житье. Иначе кто бы стал показывать всю неприглядность жизни военных поселян? Ничего, сменим начальство, так иначе у вас все будет!
То ли люди, что окружали его, были доверчивы до чрезвычайности, то ли не могли не признать в человеке, способном так щедро наградить их, настоящего царя, но они вдруг, словно повинуясь чьему-то неслышному приказу, стаскивая с голов суконные колпаки и фуражки, пали на колени разом, и чей-то голос, звонкий, со слезой, полетел над склоненными головами:
— Батюшка, государь милостивейший, избавь ты нас от тягот невыносимых!
Александр, расчувствовавший при виде стоящих на коленях людей, хотел было заверить их, что сделает все возможные для облегчения их доли, но ему помешал чей-то гневный, начальственный окрик:
— А вот избавлю я вас сейчас, канальи, от тягот кашей зеленой!
Все мигом поднялись с колен, уставились в ту сторону, откуда донесся начальственный, всем, видно, хорошо знакомый голос. Сквозь толпу в сопровождении штабных офицеров, расталкивая поселян, шел высокий полковник. Подойдя к коляске он, сложив на груди руки, деланно рассмеялся:
— Сударь, или забыли, что со Спасителем случилось, когда заподозрили его, что называл он себя царем Иудейским? По какому праву прибыли в расположение вверенного мне полка? Почему налево и направо раздаете деньги? Зачем говорите о смене начальства?!
Александр понял. что настала именно та крайняя минута, когда он должен действовать от имени государя, от своего имени.
— Молчать, полковник! — прокричал он, продолжая стоять на коляске, но крик получился у него совсем не страшный, а какой-то взвинченно-нервный, высокий, неубедительный. — Я — император Александр Павлович и вправе поступать так, как считаю нужным! Вы же можете себя считать лишенным звания и должности за беспорядки, коим в полку вы стали причиной ввиду преступной нерасторопности!
А полковник стоял перед Александром в горделивой позе и улыбался, потом вдруг резко сдвинул брови и бросил кому-то через плечо:
— Арестовать его! Взять шпагу!
И через несколько мгновений Александр безо всяких церемоний был сдернут с коляски майором и подполковником, из его ножен ловко извлекали шпагу и, как он ни бился, взятый под руки крепко двумя прапорщиками, как ни протестовал, уверяя всех, что арестовавшие его люди оскорбили им императорское величество и за этот поступок их ждет суд и казнь, по меньшей мере каторга, полковник остался равнодушен и спокоен. Он лишь сказал конвоирам Александра, когда его провели сквозь толпу взиравших на него с большим сочувствием людей:
— Ведите за мной… — И сам пошел вперед, беспечно насвистывая мелодию из «Волшебной флейты».
А когда поселяне проводили взглядами уводимого Александра, один из них осторожно спросил у Ильи, сидевшего на облучке с головой, грустно склоненной на грудь:
— Эй, дядя, а что, барин твой и впрямь государь император, ась?
Илья же, находившийся в сильном смятении, нещадно ругавший себя за то, что настаивал на том, чтобы Александр стращал людей своим титулом и именем, сильно ударив по сапогу кнутовищем, ничего не сказал поселянину — только посмотрел на него так страшно, что тот отшатнулся уверенный, что такой суровый и беспощадный взгляд может быть лишь у личного кучера самого батюшки царя.
Когда Александра провели в комнату в полковничьем доме, командир полка, красивый горбоносый мужчина, серьезный и строгий, много читавший, но не любивший либерализма в армии, попросил полковника и майора остаться, а сам присел на краешек своего рабочего стола и, снова сложив на груди руки, уставился на стоящего перед ним Александра, подавленного вновь свалившимися на него неприятностями. Да, полковник, не раз видевший императора, признавал, что человек в капитанском мундире очень похож на него, но доводы рассудка заставляли его не верить сейчас своим глазам. Царь не мог разъезжать по России в коляске в мундире егерского капитана без охраны, свиты, практически без слуг. Главным же контрдоводом было то, что царь не мог выстоупать в роли вдохновителя бунта, призывающего подчиненных свергнуть своего командира. Насмотревшись на Александра вдоволь, полковник резко обернулся назад и взял со стола широкий лист бумаги.
— Господин капитан, я охотно бы поверил вам, что вы являетесь монархом Российской империи, но как быть с сообщением «Санкт-Петербургских ведомостей», доставляемых мне регулярно фельдъегерской почтой?
Александр потупился. За все время своего путешествия он ни разу не осведомился через газеты или каким-нибудь иным путем, что произошло после того, как он оставил Бобруйск. В глубине души он надеялся, что Норов будет разоблачен и на престол взойдет брат Николай. И тут Александру страшно захотелось узнать, что же пишут «Ведомости». Если сообщают о замешательстве, царящем при дворе в связи с исчезновением Александра, то полковник имел бы сейчас все основания отнестись к нему как к пропавшему царю, а если тревоги нет?
— Так и о чем же пишут газеты?
— Да о разном, — ударил полковник по бумажному листу. — Но главное, в последнем нумере сообщается о том, что государь император Александр Павлович жив-здоров, изволил посещать военные поселения в Новгородской губернии и весьма остался доволен увиденным, потом принимал персидского посланника, затем присутствовал на параде гвардейских полков на Царицыном лугу. Вам ещё рассказать, чем изволил заниматься государь?
— Н-нет, довольно, — покраснел Александр. Он понимал, что оказался в ещё более дурацком и даже опасном положении, чем тогда, в Гомеле. Полковник мог вполне предать его военному суду, который быстро бы выяснил, кто он такой на самом деле. Конечно, никакого преступления по выяснении его личности царю бы не вменили, но скандал разразился бы громкий, на всю Европу.
— Итак, — продолжал полковник, — я, признаюсь, замечаю в чертах вашего лица сходные признаки с лицом их величества, но скажите, государь, полковник усмехнулся, — как вы сумели за неделю добраться до Украины из Петербурга?
Нет, настаивать на том, что настоящий император здесь, в этой комнате, а не в столице государства, Александр не смел, но тогда оставалось лишь одно: признать за собой вину, назвавшись Норовым. Александр чувствовал себя сейчас прескверно, однако набрался решимости и заговорил:
— Господин полковник, я на самом деле… не император…
— Я догадывался об этом, — тонко улыбнулся командир полка.
— Просто, обладая внешностью, как мне все говорили, похожей на внешность нашего обожаемого монарха, я иногда ощущал в себе… как бы это выразиться, право немного пофантазировать. Я попал в расположение вашего полка случайно и нечаянно узнал о тяжкой жизни поселян, вот во мне и взыграло… Вот мой отпускной билет, — и Александр вынул из кармана документ.
Полковник взглянул на лист и подал билет Александру:
— Господин капитан, вы, видно, полагаете, что ссылки на случайное сходство с императором и на блажь фантазировать, воображая себя настоящим царем, избавят вас от необходимости ответить перед военным судом? И это в то время, когда армия заражена духом революции, бунта? Нет, сударь никакие уловки вам не помогут, и вы ответите за то, что своими речами прямо призывали поселян к перемене полковой власти, что, согласно Воиснкому артикулу, карается смертной казнью!
Александр слушал, и двойственное чувство переполняло его. Ему нравился полковник, стремящийся пресечь пунт в своей части, стоящий на страже интересов империи, но ему не нравился полковник, который довел своих подчиненных до отчаяния.
— Меня предать военному суду? — неожиданно дерзко, если не грубо, спросил Александр. — Сие за что же? За то, что я посочувствовал страдающим от вашего неуправства людям? Или вы не знаете, как живут люди в новгородских поселениях графа Аракчеева? Здесь же земли куда тучнее, чем там, на севере, а посему и положение поселян должно быть лучше! Вы же, не умеющий управиться со своими прямым обязанностями, посвящающий, как видно, досуг чтению газеток, а не радению о благе вверенных вашему попечению и управлению людей, смеете оскорблять меня угрозами! Только посмейте привлечь меня к суду — узнаете, кто более из нас двоих достоин смертной казни! Не видели разве, что отпускной билет подписан самим государем Александром Павловчием?
Но полковник, воевавший и под Смоленском, и под Бородино, побывавший и в славных заграничных походах, был не робкого десятка, и возможная близость капитана-бунтаря к особое императора его совсем не пугала. Соскочив со стола, на котором сидел, он вплотную приблизился к Александру и с угрозой зашептал:
— Под Чугуевом, сударь, землю тоже богатые, да только и там в поселениях людишкам не сладко жилось — секир башка полковому начальству учинили! Да только, господин капитан, не в начальстве дело, а в системе. Не я военные поселения измышлял, не мне и на казнь идти…
— А… кому же? — поперхнулся словом Александр.
— Тому, — злобно шептал полковник, крутя пуговицу на сюртуке Александра, — тому, кто сии выдумки измыслил!
И Александру вдруг показалось, что полковник смотрит на него с такой ненавистью из-за того, что уверен — перед ним стоит виновник народных бед, русский царь, но он позволяет себе говорить с царем так вольно по причине его притворства. Полковник продолжил спустя полминуты:
— Но мы, сударь, не станем искать виновников — до тех далече! Займемся теми, кто поближе, а именно вами. Вы, господин капитан, сейчас же отправитесь на гауптвахту, а там, чтобы удобнее сидеть было на соломке, застелите её своей горностаевой мантией! — И полковник крикнул, призывая, должно быть, конвоиров-прапорщиков: — Шульце! Переверзев! Ко мне!
Но едва отворились двери и в комнату вошли молодые офицеры, чтобы вести Александра на гауптвахту, как за окном послышалось какое-то нарастающее гудение, точно к полковничьему дому, к самому окну подлетал пчелиный рой.
— Что за оказия! — разом насторожился командир полка и подошел к окошку. Дом его был хоть и просторным, длинным, но низким, одноэтажным, совсем немного приподнятым над уровнем дороги, и полковник сразу же увидел, что к дому подходят вооруженные ружьями и шпагами поселяне, хозяева и солдаты. Все сильно возбуждены, машут руками, лица разгорячены, гневливы. Толпа подвалила к дому, и люди, усилив крики, постреляв немного в воздух, то ли чтобы прогнать остатки робости, то ли с целью постращать полковника, перешли к главному: послышались требования, прекрасно достигавшие ушей полкового начальства:
— Эй, злыдари-мучители наши! Чтоб сей минут выдать нам батюшку-царя, милостивца нашего!
— Цейхгауз мы взяли, ружья у нас и заряды, да людей целый батальон! Крови лишней не хотите — государя нашего, заступника, отдайте тотчас!
Хлопнул выстрел, лопнуло стекло, и пуля рассадила багетовую раму на картине. Полковник бросил на Александра взгляд полный презрения и гнева:
— Вот к чему фантазии ведут, господин капитан! Ну, ответишь за все перед судом!
Сказал и к ковру метнулся, на котором висели ружья, сабли, пистолеты. Несуетливо стал выдергивать оружие из петель, говоря меж тем офицерам, старавшимся, во избежание ранения от шальной бунтарской пули, стоять подальше из окна:
— Вот пистолеты, ружья! Там, в шкафу — готовые патроны, зарядов пятьдесят. Необходимо злодеям дать отпор. Сия сволочь только силу признает — если выпустим этого фигляра с лицом императора Александра, все равно пойдут на приступ, ведь доказал же им кривляка этот, что их беды лишь по нашей вине и происходят. Ну, берите!
Полковник, майор и прапорщики разобрали оружие, ящик с патронами тоже извлекли, поставили туда, где влетевшая случайно пуля не смогла б взорвать весь боеприпас. Полковник ударом ноги распахнул окно, выстрелил в толпу два раза и, услышав стоны раненых, победно прокричал:
— Ага! Так-то вам, ракальям, и надо! Прочь отсюда, оружие — в цейхгуаз, а сами разойдитесь по домам и ждите моего решения! Никакого императора здесь нет, а находится со мною рядом офицер-бунтовщик, коего я отдам под суд без промедления!
Но уговоры полковника не возымели действия, толпа поселян загудела ещё пуще, зацвинькали пули, влетавшие через открытое окно, но послышался крик:
— Робята, не палите! Государя зацепим! Иначе поступить надобно!
Бунтовщики перестали кричать и стрелять, и полковник, следивший за ними из окна, передавал стоящим с ним рядом офицерам:
— В кучу собрались, слушают кого-то. Понятно, со стороны крыльца они в дом вломиться не посмеют, нас испугаются, а вот с задов подойти да на крышу забраться, проломить её да внутрь дома проникнуть — вполне смогут. Не удержаться нам…
— Что ж делать будем? — спросил майор, но вместо полковника ответ ему дал Александр. Он страшился перспективы представить перед судом, который непременно раскрыл бы его инкогнито, и тогда о монашестве, покое нужно было бы забыть. Сейчас в бунтующих поселянах он видел свою защиту, хоть и не одобрял избранных ими способов перемены власти и избавления его самого от суда.
Господин полковник, ваши подчиненные разъярены, вам не избежать расправы подобной той, которая постигла чугуевское полковое начальство. Да, пусть я — не Александр Первый, но эти невежественные люди поверили мне и будут бороться за мое освобождение до конца. Ваше упорство усугубит и жестокость расправы над вами!
— Так вы ещё пугаете меня? — ловко подбросил в воздух пистолет полковник и поймал его.
— Не пугаю, а предупреждаю. Вы все сумеете сберечь себе жизнь, лишь освободив меня. В ином случае готовьтесь к страшному концу. Я же со стороны своей обещаю утихомирить мятежников, потому что и сам не являюсь сторонником бунтов. Я выйду к ним и скажу, что я не государь. Уверен, это сообщение их успокоит. Тем самым я заглажу свою вину перед вами…
Полковник, наморщив высокий лоб, казалось, был погружен в обдумывание предложения странного капитана, так похожего на настоящего императора России.
— Я согласен, — сказал он наконец, — прыгайте в окно или выходите на улицу с крыльца. Но… но, если вы сообщите сей сволочи о том, что не являетесь царем и просто… пошутили, то я уверен, что сия новость настолько разъярит их, что головы лишимся не только мы, но и вы, любезнейший. Вам надобно вновь предстать перед ними в обличье императора, но теперь не к бунту вы станете призывать мятежников, а к смирению. Только вы, как их государь, и сможете сладить с ними!
Александр, страшно довольный тем, что сумел договориться с полковником, что бунт, возникший по его вине, будет вскоре усмирен, вскочил на подоконник, и тут же его узнали — толпа вновь загудела, раздался радостный рев двух-трех сотен поселян, человек десять отделились от людского месива, подбежали к дому, подставили свои руки, и когда Александр соскочил с подоконника, его подхватили и понесли туда, где кипел водоворот радости.
— Наш, наш государь! — вопил один, а другой поселянин силился перекрыть его голос.
— Заступника, милостивца уберегли, сохранили!
— Что прикажешь, батюшка, то исполним! Полковника да штаб его, как мокриц, прихлопнем! Только прикажи!
Командир полка, внимательно следивший из-за занавески за тем, что происходило на улице, видел, как расцветилось лицо господина капитана улыбкой довольства, счастья, когда поселяне тянули к нему свои руки в надежде, что удастся прикоснуться хотя бы к его одежде, как он сам протягивал к этим людям руки, и в голове полковника рождалась одна за другой странные мысли: «Или он сумасшедший, или на самом деле император Александр, третьего быть не может. Но ни в первом, ни во втором случае бунт страдания сего человека усмирен не будет: сумасшедший поведет сволочь на штурм дома, а… государь просто не сумеет удержать сию толпу. В любом случае нужна подмога, а там посмотрим!»
— Шульце! — круто повернулся полковник в сторону стоящих за ним офицеров. — Из кухни дверь ведет прямо на конюшню. Мой Цыган оседлан, выводите его тихонько да и задами скачите в Терентеевку, в расположение второго батальона. Пусть выступают с полной выкладкой, с ружьями и тесаками, да зарядов чтоб у каждого в суме патронной было б не меньше трехз десятков. Часа два мы здесь сумеем продержаться, а там… от вашей сноровки все зависеть будет. Скажете майору Затекайло, чтобы людей дорогой готовил к бою — мой приказ! Ну, идите же, голубчик Шульце. На вас надежда!
… Александр, не имея сил да и желания говорить с поселянами строго, приказывать им что-то, робко старался урезонить их, уговаривая разойтись по домам, но те не слушали его. Сознание того, что они высвободили императора России из плена злого полковника. вселяла в их сердца уверенность в том, что они не такие уж и слабые, если лучший и самый сильный человек страны воспользовался их помощью. Настоящий царь, хоть и становился знаменем их дела, но не более того — во всем прочем они ощущали себя главными, замечали, что Александр Павлович обладает ««тонкой кишкой», слабоват и трусоват. Короче, все видели и понимали, что и царь без них — ничто, да и они без него — пустое место, крылья ветряной мельницы, лишенной вала и жерновов.
— Когда же, батюшка, главных в полку менять будем? — спрашивали у Александра. — Может, сам ты полковником у нас будешь?
— Нет, детушки, — отвечал смущенный и радостный одновременно Александр. — Я вам из Петербурга нового, доброго полковника пришлю, говорил и сам не верил в истинность своих слов. — Только вы старого полковника трогать не могите — за жестокость и бесчинства и я вас по головке не поглажу.
Но поселяне видели, что император всецело на их стороне, а поэтому шутливо отвечали на такое предупреждение:
— Отчего ж? Занозу без боли да крови не вынуть, а мы командиру нашему благодарность принести должны. Или нам к Аракчею двинуть да с него спрашивать?
— Нет, уж ты, государь, с Аракчеем сам разберись, ты к нему ближе, а мы уж здеся миром, собственным умишком решим, кому нами командовать. Дозволение нам на вытаскивание занозов дай!
— Хорошо, даю, — размягчился, расчувствовался Александр от ощущения полного слияния его чувств с чувствами народа, которым он управлял почти четверть века. Народ представлялся ему сейчас сильным и умным, достойным такого правителя, как он, и Александру страстно хотелось побыть императором ещё хотя бы часик, а потом сесть на коляску и покатить в Киев, до которого оставалось совсем недалеко.
… Этот час пролетел быстро, и Александр понимал, что никогда прежде он не слышал так много добрых слов, не ловил такое множество взоров любви и преданности, и ему было жаль того, что единение с подданными произошло так неожиданно, при таких странных обстоятельствах, где он, олицетворявший одним своим именем закон и порядок, вдруг очутился во главе бунтовщиков, ставших таковыми по причине его собственного произвола и неосведомленной поспешности.
И когда кто-то из мальчишек-поселян, взмокший и с высунутым от долгого, быстрого бега языком подлетел к толпе бунтовщиков, чтобы сообщить государю о приближении к деревне батальона из Терентеевки, двигавшегося в сторону мятежного селения с развернутым знаменем, с барабанным боем, с майором Затекайло во главе, Александр уже не сомневался.
— Батальон! Слушай мою команду! — прокричал он и сам удивился тому, что голос его звучит чисто и уверенно. — Рассыпным строем прячься за домами! Ружья держать заряженными! Стрелять по моей команде!
И тотчас поселяне, сразу поняв, что действовать можно только так, как приказывает сам государь, по трое, по четверо встали за углами домов в то время, как треск барабанов становился все громче. Курки у ружей взведены, патронные сумки расстегнуты, люди, готовые перезаряжать ружья, чтобы подать их стрелкам, уже держат бумажные патроны в руке, и зубы их р азорвут бумагу, как только опорожненное, дымящееся ружье будет передано им. А майор Затейкало, брыластый, с остекленевшими от ненависти к бунтовщикам глазами, только вошел в деревеньку, сразу закричал, пугаясь мертвой тишины:
— Ружья, шпаги, палаши в домах ос-та-а-авляй! По одиночке на середину улицы вы-хо-о-оди! Руки за головой дер-жи! Я вам, скотам безрогим, руки-ноги пообрываю, если сей приказ невыполрненным окажется!
Но навстречу Затекайло неспешно вышел Александр, хорошо знавший, что этот бурбон обязан будет подчиниться ему, государю, если уверится в том, что видит перед собой император.
— Майор, — подойдя к командиру батальона, почти по-приятельскии обратился к пожилому офицеру Александр, — здесь все повинуется мне, помазаннику и государю. Вы что же, не узнаете меня? Сейчас же велите своим солдатам маршировать за пределы деревни, где вы получите от меня особые инструкции. То, что ваш командир называет бунтом, вовсе не бунт, а посему извольте покинуть деревню!
Затекайло смотрел на Александра, лицо которого имело сходство с лицом особы, изображенной на многих портретах, но он был воспитанником системы, требовавшей безоговорочного подчинения младшего чина старшему. Приказ же о немедленном прибытии в мятежную деревню отдал Затекайло не император, тем более не этот неизвестный майору человек, а непосредственный начальник, командир полка, а посему Затекайло, помучив свою голову коротким, но плодотворным раздумьем, сказал Александру, тряхнув отвисшими брылами:
— Не извольте-с беспокоиться, сударь! Сделаем все, как надо! Опосля узнаем, государь ли вы, а покамест приказ полкового командира исполню как следует и прибавил, виновато разведя руками: — Если бы вы, не знаю, как вас звать, на моем месте, точно так бы и поступили б, не обессудьте…
А потом Александр, оскорбленный непослушанием какого-то майора, от которого пахло луком и водкой, закричал:
— Мой батальон! По колонне бунтовщиков — беглый а-а-гонь!
Треск ружей, из которых поселяне палили в тех, кого не раз встречали в поле, на учениях, в тех, кто приходился им кумом или даже родственником, заглушил последнее слово короткого приказа Александра, а майор Затейкайло, ещё полчаса назад сидевший за чаем со своей беременной женой и пятью детьми, охнув и неловко взмахнув руками, упал ничком, ухватившись вздрагивающими руками за сапоги Александра. Бунтовщик же император успел заметить до того, как бросился бежать к одному из домов, где прятались смутьяны-поселенцы, что солдаты батальона Затейкало, дав залп и ружей по углам домов, быстро убрав раненых и убитых, по приказу ротных капитанов спешно перестраиваются в каре, ощетинившееся стволами ружей и медленно тронувшееся вперед. Александра внеазапно охватила радость при виде столь быстрого и действенного по своим задачам перестроения.
«Это моя армия! — восторженно подумал он, отбегая за дом, где его тут же спрятал за своей спиной один поселянин. — Только мои солдаты могли бы так быстро составить каре с узким фронтом и длинным фасом!» Но радость была быстро сметена огорчением: мятежники тоже являлись частью его армии и покамест не предпринимали никаких полезных для себя действий.
«А что же моим теперешним соратникам делать?» — в страхе за доверившихся ему людей подумал Александр. Ему почему-то не хотелось отдавать им приказ стрелять в своих товарищей снова. Александр понял: ему следует быть где-то посередине, между враждующими сторонами, потому что те и другие были его подданными, были русскими людьми, он же казался сам себе каким-то шахматным игроком, затеявшим партию, в которой победителя не будет.
— Батюшка-государь, что делать-то?! Прикажи! — с мольбой обратился к нему поселянин — за его спиной и прятался Александр. — Стрелять ли?
— Не стрелять! Не стрелять! — закричал Александр громко, так, чтобы слышали все — и люди, которых он подбил на бунт, и солдаты, приведенные в деревню для усмирения бунта. Он не заметил того, с каким презрением посмотрел на него поселян, ждавший приказаний, с каким раздражением плюнул на землю. А батальон, построенный в каре, медленно двигался по улице, и солдаты, поливавшие свинцом прятавшихся за домами поселян, не слышали того, что кричал им Александр:
— Солдатушки, не стреляйте в своих! Богом заклинаю вас! Не проливайте русской крови!
Выстрелив, они деловито, с хмурыми, серьезными лицами, быстро двигали шомполами, перезаряжая ружья, потому что подчинялись приказу ротных командиров. К тому же они видели, как обошлись бунтовщики с их батальонным командиром, а поэтому спешили отомстить за него. А вскоре они получили другой приказ и бросились на мятежников со штыками наперевес. Александр, прятавшийся за углом дома, увидел, что в его сторону бегут два солдата с глазами, сверкающими лютой ненавистью к нему, их государю, и Александр догадался, что они бегут для того, чтобы убить его.
— Защитите!! — будто сам собой вырвался у него дикий, резкий крик. — Я царь ваш!!
— Не боясь, батюшка! Не выдам! — не поворачиваясь, крикнул поселянин, прицеливаясь, и когда облачко дыма было отнесено ветерком в сторону, Александр увидел, что один из солдат, уронив ружье, стоит на четвереньках и из пробитой груди струится на землю алая кровь.
— Не бось! — во второй раз сказал поселянин, принимая на штык своего ружья налетевшего на него солдата, но взявшийся Бог весть откуда третий служивый сходу вонзил в поселянина острие короткого тесака и тут же выдернул сталь из тела хрипящего, падающего навзничь бунтовщика, чтобы в следующее мгновенье замахнуться тесаком на Александра.
Никогда прежде на Александра не смотрели так злобно, никогда не собирались его убить, а поэтому теперь природа недавнего монарха отказалась было воспринимать и взгляд и жест солдата как сулящие ему немедленную смерть. Александр так и остался с опущенными вниз руками, даже не попытавшись поднять их, чтобы прикрыться, защитить себя. Но, видно, в серьезность намерений служивого верил тот человек, который откуда-то из-за спины Александра, громко крякнув, ткнул солдата в лицо прикладом ружья так сильно, что тот мгновенно осел, повалился на землю да так и остался лежать без движения. Еще не веря в то, что он находился на волосок от смерти, остолбеневший Александр был подхвачен под мышки чьими-то сильными руками, потом его ослабевшее тело с тем же кряканьем кто-то взвалил на плечи и понес в неизвестном направлении. Александр не имел сил сопротивляться, и скоро его довольно грубо бросили на что-то не слишком мягкое и накрыли чем-то тяжелым и не больно приятно пахнущим. Но вот застучали копыта лошадей, послышалось знакомое поскрипывание рессор и раздался голос Ильи:
— Ничо, ваше сыкородие! Улепетнем, пока они там друг дружку резать будут! Эх, втюхались в историйку — почище гомельской будет! А денжиц-то сколько сволочи той пораздавали — тьма тьмущая!
Александр, у которого колотились, как от озноба, зубы, не мог прийти в себя часа полтора. Накрытый медвежью полстью, он лежал на сиденье коляски, боясь высунуть голову, а Илья все погонял лошадей, стремясь увезти «господина капитана» подальше от места расправы с бунтовщиками. Наконец Александр выпростал из-под шкуры голову и слабым голосом сказал:
— Ильюшенька, не надо в Киев! Боюсь, что догонят меня, вернут, суду предадут. Поезжай окольными путями… в Новгород. В Юрьевский монастырь поступлю, архимандрит Фотий меня знает, любит. Он не выдаст…
— Как прикажете, ваше сыкородие! Наше дело кучерское, маленькое, Можно и в Новгород!
Натянул вожжи, останавливая тройку, а потом стал, цокая языком, поворачивать её.
8 ДЕЛА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ, НАИВАЖНЕЙШИЕ…
«Декабрь. Суббота.
В половине 7-го часа утра государь император отъезд изволил иметь с Каменного острова в Царское Село, по прибытии имел выход по саду пеша.
В исходе 2-го часа его величество изволил поехать в Павловск, где за обеденным столом изволил кушать, потом обратно имел отъезд из Царского Села на Каменный остров.
За вечерним столом их величества кушали во внутренних своих комнатах.
Воскресенье.
Четверть 9-го часа утра государь император изволил поехать с Каменного острова на Царицын луг к общему разводу с генерал-адъютантом князем Волконским в коляске. По учинению оного возвратился обратно на Каменный остров. По прибытии в половине 12-го часа их величества имели выход через сад в сопровождении фрейлин княжны Волконской, Валуевой, Саблуковой в церковь к слушанию Божественной литургии, которую отправлял оной церкви священник с диаконом.
По возвращении из церкви их величествам представлены были в Малиновой комнате обер-камергером графом Разумовским мужеска пола особы: отставной вице-адмирал Боратынский. флигель-адъютант крон-принца шведского полковник барон Кошкуль, отставной лейб-квардии Семеновского полка полковник князь Броглио. А потом их величествам в оной же комнате имел счастие откланиваться Бухарский посланник Азимжан уминжанов со своею свитою.
За обеденным столом их величества изволили кушать в Столовой комнате в следующих особах в половине 3-го часа: великий князь Михаил Павлович, фрейлины Валуева, Волконская, Саблукова, генерал-от-инфантерии граф Милорадович, князь Лобанов-Ростовский, генерал-лейтенанты барон Розен, Сукин, Бороздин, генерал-майоры Храповицкий, Бистром, тайный советник князь Голицын, флигель-адъютанты Клейнмихель, князь Лопухин.
Пополудни в 6 часов государь император занимался от министров докладом в кабинете».
(из «Камер-фурьерского журнала»)
… Еще до приезда в Петербург в обличьи императора Норов знал, что Аракчеев, кроме заведования военными поселениями, имел на своей шее дела всего государства. Министры и другие сановники приезжали к Алексею Андреевичу с докладами уже в четыре часа утра. Аракчеев ровно в четыре звонил в колокольчик, в его кабинет из прихожей заходил дежурный адъютант. «Позвать такого-то!», и в кабинет на цыпочках входил министр, думавший лишь о том, чтобы Бог уберег во время доклада от желания зевнуть. Приняв доклады от всех министров и сановников, подписав от имени царя проекты указов, Аракчеев составлял общий рапорт, после чего сам шел к императору с докладом. Всем было известно, что заниматься государственными делами подолгу Александр не любит и его устраивает такое положение дел, при которых тяжкий груз обязанностей по управлению страной висит на шее Аракчеева. Норов же, убедившись в том, что военные поселения отменять не стоит, решил уменьшить влияние Аракчеева на политику как внутреннюю, так и внешнюю тем, что мягко предупредил Алексея Андреевича о том, что доклады министров теперь будет принимать лично он. Аракчеев вновь прослезился, стал было уверять Норова в своей беззаветной преданности, однако Василий Сергеевич на сей раз слабинки не дал, сказав:
— Я верю тебе, только уж боле не изволь беспокоиться — министров выслушивать буду сам, а то мне вдруг показалось, что моя жизнь довольно праздна и пуста: парады, смотры, обеды, прогулки, снова обеды и опять прогулки. Наскучит — вновь передам тебе сию обязанность, а пока не обижайся.
В тот день, когда ровно в шесть часов пополудни Норов должен был принять министров впервые, он с самого утра ходил в приподнятом расположении духа. Сбывалось то, о чем местали члены тайных обществ, к чему стремились они, не боясь пролития крови, насилия, ломки всего старого, привычного.
«С сегодняшнего дня в стране будут совершаться перемены! — не мог успокоиться Норов. — Я, благородный и умный человек, изменю жизнь россиян к лучшему при помощи одних лишь умных и благородных указов. Разве когда-нибудь в прошлом приходил к власти человек, решивший всецело посвятить себя всеобщему благу страны, всех её сословий? Я такой человек и есть, и да поможет мне Господь Бог во всех начинаниях моих!»
Министр юстиции Дмитрий Иванович Лобанов-Ростовский, генерал-от-инфантерии и кавалер, был мужчиной средних лет с умнейшей лукавой улыбкой, прятавшейся в уголках тонких, чуть раздвинутых губ. Раскрыв кожаную тисненую папку, достал два листа бумаги с отпечатанным типографским способом текстом.
— Проекты двух указов, не изволите ли подписать, ваше величество? сгибаясь в пояснице, шепеляво проговорил министр, кладя на стол перед Норовым листки.
— А что здесь такое? — с лорнетом в руке, отодвигаясь от листков подальше, спросил Норов, и Лобанов-Роствоский струхнул — никогда прежде проекты подготовляемых им указов не проходили апробации на таком уровне.
— Дела пустяковые, ваше величество… — начал было министр юстиции, но Норов его строго прервал:
— Знай, что в делах, касаемых государсвтенных нужд, нет пустяков. Ну, прочти, что здесь написано!
Лобанов-Ростовский заметно дрожащим голосом прочел текст одного проекта.
— Так, — кивнул Норов, — о производстве пенсионов вдовам и детям умерших чиновников министерства?
— Точно так-с, ваше величество…
— Подпишу охотно, с подобного рода вещами мог бы и не ходить ко мне, хотя сие, конечно, не пустяк, не пустяк!
И Норов почерком Александра, владеть которым Василий Сергеич научился ещё будучи в Бобруйске, написал на проекте одобрительную резолюцию. Перешли ко второму указу, где предлагалось властям городов решать, какому виду казни подвергнуть преступника: или наказывать его публично, через палача, или при городских полициях, полицейкими служителями.
— Чего ж ты сей мерой хочешь добиться? — спросил Норов, не поняв важности нововведения и несколько раздраженный тем, что министр юстиции не принес ему ничего более существенного.
— Немалого, ваше величество! Некоторые виды воровства, за кои прежде подвергали публичному наказанию, при всеобщем смягчении нравов могут и не наказываться на площадях. Ворам, замечено, все равно, где их секут или клеймят — на людях или в тюрьмах, зато публика, особливо женщины и дети, во многих случаях будут избавлены от тягостного зрелища.
— Все сие верно, — хотел выглядеть Норов дотошным и внимательным, — да только не вижу в твоем указе руководства властям, по каким признакам одних воров считать достойными публичной казни, а каких сечь и клеймить в тюрьме.
— Сие определится по тяжести вины…
— Ах, так, — уже поднял перо Норов. — Что ж, может быть, ты и прав!
И два слова «Утверждаю. Александр» мгновенно явились на поле листка с проектом.
Когда Лобанов-Ростовский вышел в прихожую, пот крупными каплями стекал на шею с отлично выбритых и надушенных щек. Министр внутренних дел Василий Сергеевич Ланской, человек не столь ответственному посту новый, так и кинулся к министру юстиции:
— Что, Митя, беда?
— Беда, Вася, беда! — зашептал Лобанов-Ростовский. — Уж куда со «змеем» тяжко было, так уж знали, на что внимание обратит. Их же величество так и роет, так и роет. Истинно говорю, копает не зря! Или в отставку многих из нас отправить хочет, или снова затевает нечто, как при Сперанском было!
Ланской с видом крайней озабоченности покачал головой, незаметно перекрестился и двинул к дверям императорского кабинета.
— Что у тебя? — спросил Норов у Ланского, едва он вошел.
— Проекты указов по делам, что по-моему ведомству проходят.
— Ну, зачитай! Да помедленней, чтобы и мельчайшая деталь не ускользнула от меня! — потребовал Норов.
Оказалось, что министр внутренних дел пришел к государю тоже с сущими пустяками, которыми, понял сразу Норов, его можно было и не беспокоить. Требовалось утвердить указы об исправлении дорог в Санкт-петербургской губернии, и о воспрещении казенным крестьянам делить большие семьи на малые, а также об устройстве Ботанического сада на Аптекарском острове с наименованием его «императорский».
— Все это я, конечно, подпишу, но впредь приходи ко мне с делами более важными и неотлагательными, — желчно посоветовал Норов, чиркая пером на полях проектов, и когда Ланской, еле шевеля одеревенелыми ногами вышел в прихожую, к нему сразу же подошел министр финансов Егор Францевич Канкрин:
— Что же, их величество не в духе?
— Еще как не в духе, — вытирая платком пот, мрачно сообщил Ланской. Не нравится, когда по пустякам тревожат. Ты-то, Егор Францыч, не с ерундой к государю?
— Да в том-то и дело — взял с собой, что попроще — не хотел утомлять императора. Видать, промахнулся!
— Промахнулся, сие уж точно, — радуясь про себя, что не ему только доводится сегодня выслушивать царские выговоры, сказал Ланской и добавил: Не на пользу нам государева болезнь пошла. Сильно же он переменился. Эх, головы бы сохранить! Если уж самого «змея» от дел отстранил, с нами и вовсе царемониться не станет. Ну, иди Егор Францыч, испей чашу…
— Ну, а у тебя что? Указы? — уже вполне освоившись в деле приема докладов, вскинул Норов строгий взгляд на вошедшего Канкрина. — Докладывай!
И Канкрин, торопясь, дрожащими пальцами откинул верхнюю доску папки. Оказалось, что нужно подписать указ об уступке иностранцам пошлин на ввозимую в Россию соль, однако Норов, быстро смекнувший, что этой мерой в невыгоде окажется русское солеварение, очень довольный тем, что хоть здесь-то он может порадеть о благе отечества, решительно запротестовал:
— Нет. сей указ ты забери! Подписывать не стану! Я бы пошлины на иностранную соль ещё больше увеличил, а ты просишь уменьшить. Чьим интересам служишь, Канкрин?
Егор Францевич хотел было сказать, что он просит об уменьшении пошлин на иноземную соль потому, что собственной соли России не хватает, а поэтому она продается солепромышленниками по высокой цене, что невыгодно особенно простому люду. Но он отчего-то не сказал этого, а также не решился показать государю проект указа о сооружении в городе Ростове гостиного двора для ярмарки. И весь красный, вышел, пятясь, в прихожую, чтобы впустить в кабинет начальника Главного штаба генерал-майора Клейнмихеля, на которого Норов накричал, узнав, что тот принес ему на подпись указ об отпуске в каждую артиллерийскую роту ремонтных денег на тулупы и кеньги.* (сноска. Род валеной обуви.))
— Я, конечно, понимаю, генерал, что ты печешься о здоровье солдат, сказал Норов, несколько успокоившись, — но неужели монарх России обязан входить в такие мелочи? Впредь не изволь меня беспокоить такой пустяковиной!
— Слушаюсь, ваше величество, — раза три низко поклонился Клейнмихель прежде, чем за ним закрылась дверь.
Потом Норов, позвонив в колокольчик, вызвал камердинера и велел ему сказать всем, кто ещё дожидался аудиенции в приемной, что сегодня император докладов больше выслушивать не будет. Он не знал, с каким облегчением «император», отдав такой приказ, погрузился в раздумье: «Нет, при помощи таких указов, мелких и ничтожных по своему значению, я не сделаю Россию счастливой, не приведу народ к благоденствию! Завтра же я соберу Комитет министров и на его заседании сделаю заявление огромной важности. О, это заявление будет похоже на взрыв пудовой бомбы, и никто из министров не посмеет возразить мне! Я видел их сегодня — все они трусливы, ничтожны, каждый, уверен, видит, что из Белоруссии в Петербург возвратился под именем царя другой человек, самозванец, но ни у кого из этих блюдолизов не найдется мужества, чтобы арестовать меня, подвергнуть строжайшему допросу, а потом — казнить или заточить навек в каземате Петропавловской или какой-либо иной крепости! Завтра, завтра…»
«…А после сего государь император имел верховой выезд прогуливаться»
(из камер-фурьерского журнала)
Он ехал на вороном жеребце по хорошо очищенным от снега дорожкам парка, а подле него на холеной рыжей кобыле, в амазонке, отороченной мехом, с куньей пелериной на плечах, скакала фрейлина Лидия Саблукова, и её песочного цвета волосы, завитые старательно, искусно, подпрыгивали на плечах и спине. Норов давно уже заметил, что молоденькая, очаровательная фрейлина за столом или на прогулке порой бросает на него долгий, вопросительный, едва ли не требовательный взгляд, а поэтому, не понимая, в чем же дело, был до холодности вежлив с ней. А сегодня сама Елизавета Алексеевна упросила Норова взять с собою на конную прогулку по парку Лидию, утверждая, что та готова развлечь государя, уставшего после государственных дел, какой-то смешной историей, случившейся с ней, покуда он ездил «в свой» Бобруйск.
— Так что же это за история, сударыня, о которой вы хотели мне рассказать? — начал Норов по-французски, глядя только вперед, на дорогу.
— История? — удивилась Саблукова. — Ах да, эта история! Но я уже поняла, что она будет совсем не интересна для вашего величества, впрочем, могу и рассказать… Один влюбленный в даму кавалер покидает её ради очень важных дел. Она, бедняжка, тоскуя невыносимо, ждет его возвращения, и вот он приезжает. Там, вдалеке от нее, он заболел, его внешность сильно изменилась, но влюбленная дама нашла кавалера ставшим ещё более интересным — будто помолодевшим, не похожим на того, прежнего. Он стал стройнее, остроумнее, решительнее, но его, увы, уже не прельщает ложе любви — он предан государственным делам, даже не слышит вздохов бродящей вокруг него дамы, не замечает её бледности. И даме остается лишь одно — напомнить кавалеру о своей любви к нему, или… или искать покоя на две какого-нибудь пруда.
— Но, сударыня, — все ещё смотрел на дорогу Норов, — та дама забыла, что сейчас зима и все пруды подо льдом.
— О, не сомневайтесь, ваше величество! — мотнула кудрями фрейлина. — Я хорошо знаю ту даму — яд или кинжал вполне заменят ей пруд, правда, она ещё недеется…
— Пусть надеется, — кивнул Норов и с улыбкой посмотрел на Саблукову, завтра, после того, как кавалер уделит время важнейшему в жизни государству делу, он заглянет к той милой даме, если она на самом деле искренне говорит, что изменившаяся внешность кавалера её ничуть не пугает.
— О! — сорвался от восторга голос Саблуковой. — Совсем не пугает наоборот! А если кавалер заглянет в её спальню, то увидит её все в том же платье яблочного цвета, покрытом черным шантилли с вышитой на нем гирляндой смородины!
— Кавалер будет счастлив, увидев даму в таком наряде, — сказал Норов, быстро посмотрел по сторонам и, наклонившись к Саблуковой, крепко обнял её за талию, привлек к себе и крепко, вкусно поцеловал её в раскрытые, дрогнувшие губы.
Когда вечером, незадолго до того, как отойти ко сну, Норов без стука зашел в покои лейб-медика Виллие, служившие ему ещё и лабораторией, то увидел доктора в рубашке с засученными рукавами, в фартуке, кипятящим на спиртовке жидкость бурого цвета в стеклянной реторте. Норов смело уселся напротив, закинул ногу на ногу и заговорил по-английски:
— Наш милый претендент на монашескую рясу не предупредил меня о своем наследстве, оставленном для меня. Да и вы забыли о нем рассказать.
— Не пойму, что вы имеется в виду. Какое наследство? — пробурчал Виллие, не отрывая взгляда от бурлящей жидкости.
— Ну как же! Оказывается Александр Павлович, живучи в миру, был заправским ловеласом. Недавно фрейлина Саблукова довольно решительно. хоть и в иносказательной манере, потребовала от меня, чтобы я восстановил с ней прежние, то есть любовные отношения, прерванные из-за отъезда в Ббруйск. Она даже сказала, что теперешняя внешность того самого кавалера её привлекает больше, чем прежняя. Что делать с таким наследством?
— Это не наследство! — недовольным тоном проговорил врач, позволявший себе наедине с Норовым говорить с «императором» невежливо. — В вашей власти или забраться в постель к очаровательной Саблуковой, ненавидящей своего старого мужа, или отобрать её фрелйинский шифр и сослать в Сибирь. Ведите себя, подобно настоящему властелину, и пользуйтесь властью, неограниченной властью! Впрочем, вам, возможно, придется выдержать атаку и со стороны других фрейлин или даже камер-фрау — ваш предшественник любил женщин.
— И что же, после каждой такой атаки мне сдавать свои позиции? А вдруг кто-нибудь из этих амазонок узнает во мне… другого, или, вернее, не признает во мне Александра? В постели это сделать куда удобнее.
— Верно! — понюхал жидкость Виллие. — Они сразу поймут, что вы — Не Александр, но я также уверен, что ни одна из них не признается в своем открытии.
— Это почему же? Женщины болтливы, им приятно будет похвалиться столь необыкновенным открытием.
— Болтливы, но в то же время осторожны, боязливы, — обмакнул Виллие палец в жидкость и поднес его к носу, а потом и лизнул. — Кому из них захочется потерять ваше расположение? К тому же, я был хорошо осведомлен о мужских способностях Александра, изучил и ваше телосложение. Станут ли ваши любовницы выносить сор из избы, если в общении с вами будут счастливы вдвойне?
— Вдвойне? — улыбнулся и почесал на ухом Норов.
— Именно! С одной стороны, вы — государь, и общение с вами лестно женщине уже само по себе. С другой — вы сильный молодой мужчина, неутомленный долгим скучным браком или множеством случайных романов. Что касается вашей физиономии, то на это обстоятельство женщины обращают меньше всего внимания. Уж каким уродом был Мирабо, а ведь, как известно, даже умер в постели с двумя юными красавицами. Вам же надлежит быть ещё и щедрым любовником, женщины от мужской щедрости теряют рассудок. Блеск бриллиантов, плюс корона, плюс мужская сила — вот три вещи, три кита, способные выдержать на своих спинах тяжесть уродства и… присвоения себе чужого имени.
Норов хмыкнул:
— Вы подозреваете, что многие догадываются о том, что в Петербург вернулся не Александр, а кто-то другой?
— Многие, многие! — снова водрузил на спиртовку реторту лейб-медик. Меня уже не раз расспрашивали, могла ли оспа так исказить черты лица.
— И кто же рассрашивал? — обеспокоенно спросил Норов, который и сам видел, что многие лишь молчат, хотя догадываются о правде.
— Ну, ваши братцы, Николай и Михаил, к примеру. Ваша маменька, генерал-от-инфантерии Милорадович.
— А… Елизавета, моя жена? — отчего-то спросил Норов.
— Нет, ваша жена не спрашивала. Полагаю, её больше всех других женщин двора устраивает происшедшая перемена. С Александром Павловичем она не имела дел уже давно — вернее, он с ней не имел. Что делать, ранний брак охладил их чувства. Она рано поблекла, стала замкнутой, зная о романах мужа. Если вы вернете ей мужа, покажете Елизавете Алексеевне свою силу, вы обретете в её лице преданного друга, а вам без таковых не обойтись. Я слышал, что вы завтра собираетесь выступить на заседании Комитета министров. Это так?
— Все так.
— Посоветую вам не испугать или не насмешить министров. Пугая их, вы создадите партию, подобную той, что уничтожила вашего батюшку. К вам же противники будут ещё более жестоки, потому что их не остановит ваше мнимое помазанничество — они, зная, кто вы такой, свободны от присяги. Насмешив их, вы зарекомендуете себя как человек пустой, не способный к управлению, слабоумный, потерявший способность быть властелином России в результате болезни. Вам придется держаться, подобно канатному плясуну: упадете, наклонившись с избытком либо вправо, либо влево. будьте умнее, сударь! Случай дал вам возможность побыть государем великой страны, лично вы ничем не стеснены, молоды, у вас огромные денежные средства. Чего ещё надо умному человеку? Мой совет: забудьте о своих революционных намерениях. Вы ничего не исправите в жизни этой страны, где каждый элемент бытия — есть результат взаимодействия миллиона элементов. Вам не перебороть старины, силы традиций, устоев, психики этого народа. Право, любить прекрасных, любящих вас женщин, слушать оперу, вкусно есть, путешествовать, собирать коллекции каких-нибудь жуков или камней, эстампов или дамских локонов, куда умнее, покойнее, приятнее. чем что-то ломать, с кем-то ссориться и часто просыпаться ночью, услышав шорох за дверью.
Норов выслушал речь Виллие с волнением, но не радужная перспектива спокойной монаршей жизни взволновала его, а сомнение доктора в его силах, в его уме и честности. Норов резко поднялся и, направился к двери, сказал:
— Вы меня плохо знаете, баронет! Я не ради оперы, дам и вкусной еды пришел с пистолетом в спальню Александра в Бобруйске! Я ради блага России пришел арестовать его!
— Виллие загасил спиртовку, повернулся в сторону Норова и устало молвил:
— С этого начинали многие революционеры… — Потом, прищурив глаза, внимательно взглянул на голову Норова: — Подойдите поближе, ваше величество. Мне нужно тщательно пробрить вам макушку, чтобы господа министры завтра не имели возможности завидовать монархам и за то, что судьба благосклонна к ним и в деле выращивания волос на лысой голове.
— Господа министры! — торжественно, голосом, лишенным нот сомнения, начал Норов, оправив муаровую голубую ленту на мундире. — Я призвал вас сегодня в сей дворец, чтобы донести до вас свое решение, а оно, уверен, имеет огромное значение для моей державы!
Министры, сидевшие за большим круглым столом, покрытым зеленым сукном, затаили дыхание. Кое-кто нервно сглотнул, кто-то ослабил стягивающий шею галстук, некоторые с обреченным видом переглянулись. Все и до этого многообещающего начала знали, что государь, вернувшийся из Белоруссии неузнаваемым, признавал их сегодня к себе ради чего-то экстраординарного, даже оригинального, если не сказать прямо — сумасбродного. И все были готовы к какой-то выходке государя.
— Итак, я решил: крепостное право, позорившее Россию почти два с половиной века, рабство, унижавшее личность человека, налагавшее запрет на её умственное и нравственное развитие, тормозившее рост крестьянских хозяйств, навек отменяется! Нельзя допустить, чтобы людей продавали, точно скот, разлучали родителей и детей, чтобы помещики по своему усмотрению женили и выдавали замуж крепостных! Совесть многих россиян давно уж восстала против сего клейма, горящего на теле России-матушки!
— Норов проговорил то, что давно уж готовился сказать министрам, стоя и тут же опустился на стул, стараясь не смотреть на первых людей государства. Глубокое молчание сановников было ответом на его речь, никто не хотел нарушить тишину ни вздохом, ни скрипом, ни покашливанием, ни сморканием. Норов, однако, не обратил внимания на то, что министры, видя, что император на них не смотрит, бросают то требовательные, то вопросительные взгляды на министра внутренних дел Ланского, ожидая от него ответной речи. Ланской почитался всеми министрами человеком умнейшим. великим дипломатом, обладавшим редкой проницательностью, осторожностью и, кроме того, что было важно сейчас, являлся и сам крупным помещиком. На него-то министры сейчас и возлагали надежды.
— Ну так что ж вы молчите? — окинул беглым взором минзистров начавший волноваться Норов. — Высказывайте мнения! Я не желаю быть деспотом и вынес свое решение, непоколебимое, впрочем, на ваш суд.
Ланской, опираясь на край стола, тяжело поднялся, тяжело вздохнул и голосом покорного слуги заговорил:
— Ваше величество, вот мнение мое, не расходящееся круто, как полагаю, с мнением большинства господ министров. И вот осмелюсь я вам сказать, что решение ваше выслушали все мы с превеликим сердечным трепетом и огромной радостью. Как и прежде, явили вы нам, государь, пример беззаветной преданности делу всеобщей пользы, несказанной доброты и благородства души. Но, ваше величество, как бы ни был я солидарен с вами в сем великом начинании, некоторые сомнения в пользе скорого и удобного для всех сословий освобождения крестьян закрались в мое сердце.
— Да что же за сомнения? — нетерпеливо дернул плечом, которое украшал генеральский эполет, Норов.
— А вот какие, ваше величество. Сами изволите помнить, что предок царственный ваш, Иоанн Васильевич Грозный, переход крестьянам от одного помещика к другому запретил, ибо заботился о благосостоянии дворянсвта, военной силы и главной защиты Руси. Причем, о мелких, слабых дворянах радел, от коих богатые вотчинники людишек, силу рабочую, с легкостью переменивали. Крепостничество России спасением стало. А теперь иначе ли? Ну, дадим крестьянам волю, а кто ж помещичьи поля обрабатывать станет разбегутся же крестьяне! А захиреет дворянство, работника потеряв, и государство в полный упадок придет.
— За жалованье дворяне государству служить станут! — твердо сказал Норов.
— Нет, не соглашусь, — вежливо возразил Ланский. — На одной жалованье ни офицер, ни чиновник долго не протянут. Даже мы, министры, от своих земелек доход получаем, чтоб жить в относительном благополучии. О мелкоте же чиновничей и говорить нечего: нет имения — взятки берут, лихоимствуют. Захиреет Россия и вовсе, ей-ей! А, предположим, что решимся мы и дадим всем помещичьим крестьянам свободу. Но только как их на волю отпускать, с землей или без земли?
— С землей, конечно! — уверенно заявил Норов. — Надел каждому положить по числу душ в семье!
— Верно судите, но тогда придется помещиков, имения получивших от государей русских за военную службу, земли лишать, к тому же земля везде разная — здесь суглином, там — чернозем, цена здесь и там различная. Голову сломаем прежде, чем выведем, в каких губерниях столько-то хлебопашцу давать, а в каких — столько. Придем к тому, что дворянство возропщет и против высшей власти выступит, что к междоусобице приведет.
Норов провел рукой по рябой щеке, нахмурился:
— Ну, сие все обсчитать можно. Да и крестьян обязать нужно будет постепенно с помещиком за землю деньгами рассчитаться. Вот и будут у дворян деньги.
— Пусть так, но мы ещё спросим у вашего величества: а так ли нужна крестьянам эта воля?
— Да что ты говоришь такое? — вскричал Норов, вскакивая с места — даже стул упал, который тут же поднял стоявший у стены лакей. — Личной свободой, волей все обладать должны! В ней залог процветания страны!
— Очень сомнительно, ваше величество, — скромно опуская взгляд, сказал Ланской. — Еще не ведомо, как грубый, необразованный человек, всю жизнь свою проведший на помочах дворянского надзора, отечественных помочах, замечу, распорядится своей свободой. Может, запьет на радостях беспробудно, имущество продаст, свою землю, за чем прежде следили помещик да община. Да и тягостна ли для большинства крестьян неволя? Нет, многие её и не замечают! Ведь в неволе же служебных обязанностей находится чиновник-дворянин или дворянин-офицер, так ведь?
— Да, но там просто дисциплина… — смешался Норов.
— Что неволя, что дисциплина — несвобода! Утверждаете, что помещик крестьян по своему усмотрению женит? Ну как у крестьян никогда и не было свободы выбора при вступленьи в брак: родители за молодых решали, как и когда женить. Помещик же весьма часто благое дело для крестьян чинит, когда берется за устройство их брачной жизни, вспоможение дает деньгами. Ах, не такой уж и злодей помещик — ему выгода прямая не разорять, не мучить крепостных своих, а заботиться о них, чтобы работников иметь исправных да верных слуг. Или он стремится мордовать их, оскорблять крестьянских жен и девок, тем самым призывая землепашцев к бунту? Нет, бунт пугачевский многому русских дворян научил, поспокойней, поумнее стали. Помещик — отец крестьянам, а не враг им!
— Необразованы крестьяне, неграмотны! — стоял на своем Норов.
— Верно, но и то отчасти… — и тут нашелся министр. — Грамотных по селам и деревням России отыщется немало, которые неграмотным могут в часы редкого досуга святоотеческую книжку почитать, Евангелие, Жития святых. А всеобщая-то грамотность зачем крестьянам? Желаете ученость им привить? Чтобы немецких и англицких философов читали? Нет, если сей блажью забьем мы головы крестьян, то отобьем у них охоту к тяжкому труду полевому, когда в страду без передыху работать надо и спать не боле четырех часов. Возгордятся, заумничают, хозяйство бросят да и… сопьются. Опять же Россию уничтожим.
— Нет, воля и образование лишь поспособствует развитию хозяйства, как у англичан! — с азартом воскликнул Норов.
— И здесь я очень сомневаюсь. Чтобы умело пахать и сеять, книжек не надобно. Свое дело крестьяне знают, и крепостное право тому делу не помеха. Могу представить вашему величеству справку о том, сколь многие крестьяне крепостные до того разбогатели, что скупают у помещиков своих землицу, для обработки которой прикупают и крепостных — на имя помещика, конечно. Водяные мельницы заводят, постоялые дворы на дорогах почтовых, засевают земли хмелем, льном и коноплей, обширные луга под сенокосы отдают внаем односельчанам. А сколько хлеба на рынок возят, и он потом за границу купцами иноземными увозится. Многие крестьяне промышляют ткачеством, целые деревни ткут полотна, сукна и миткали на продажу, и часто слышим, что эти крепостные уж землепашество забросили и свои земли отдают в аренду. Большинство же процветают крестьян совсем неграмотны. Так разве кому-то помешал помещик? Нет, ему нужен работящий, умный, богатый крепостной. Зато на казенных землях, где не помещик, а государственный чиновник Бог и царь, отцовской заботы крестьянин не ощущает. Чиновнику ведь безразлично, как живется хлеборобам. Скажу еще, что помещичьи х крестьян всего лишь треть от общего числа. Было б больше — куда вольготней бы жилось крестьянству!
Норов вновь поднялся. Он больше не находил резонов. Речь Ланского казалась веской, убедительной, правдивой.
«Да ведь и я когда-то думал точно так, сомневаясь в необходимости отмены крепостного права!» — пришла ему на ум успокоительная мысль. Он улыбнулся и сказал перед тем, как покинуть зал:
— Да, вы меня почти что отговорили от моей затеи. Надобно ещё подумать да хорошенько взвесить все «за» и «против» прежде, чем кидаться в омут неизвестности, предпринимая реформу, последствия которой столь неопределенны!
Едва заметная улыбка скользнула на лице Ланского:
— Главнейшее из свойств монархов — быть мудрым, предусмотрительным и осторожным. Старина — надежная опора и для государей.
Норов, уходя, кивнул. Спешно поднялись министры и поклонились, а когда дверь за императором закрылась, раздался вздох облегчения, многие сановники, точно мешки с отрубями, обессиленно попадали на стулья, кто-то вытирал ладонью пот со лба, кто-то нервно всхлипывал, кто-то откинулся на спинку стула, держась рукой за левую часть груди.
— Вящее тебе наше спасибо, умница ты и Цицерон российский! — громким шопотом обратился к Ланскому, гордому победой над самим царем, один из министров. — Не ты б — попали бы мы, точно куры в ощип!
И министры один за другим не преминули горячо поблагодарить министра внутренних дел за то, что он спас их от разорения, а страну от междоусобицы, и Ланской, имевший больше трех тысяч душ, без сопротивления, скромно принимал эти благодарности, думая про себя, что с этим императором ещё как можно уживаться и ладить.
Сам же Норов в дурном расположении духа, недовольный собой, два часа провел закрывшись в кабинете. Ему было стыдно, будто рядом с ним находился Серж Муравьев-Апостол и с укоризной качал головой, упрекая на бессилие, проявленное в таком важном вопросе, как освобождение крестьян.
«Но ещё не поздно! — явилась спасительная мысль, разом успокоившая Норова. — Поезжу по России или затребую рапорты от губернаторов о положении помещичьих крестьян. Вот тогда и будет предлог вернуться к моей затее вновь. Ну, конечно — так и сделаю!»
Потом Норов вкусно пообедал в обществе одних лишь фрейлин, часто улыбаясь очаровательной Саблуковой. Вечером в Эрмитажном театре в том же обществе слушал «Орфея и Эвридику» в исполнении заезжей итальянской труппы, ночевать же отправился на Каменный остров. Саблукова приняла его в платье яблочного цвета, с накинутым на плечи шантилли, черным, с гирляндой смородины, в своей спальне ровно в полночь, а скоро и платье, и шантилли уже лежали скомканные на спинке кресла. Спустя два часа красавица-фрейлина, ласково провоодя ладонью по груди лежавшего на спине Норова, с улыбкой восхищения прошептала ему по-русски:
— Как жаль, что вам, ваше величество, приходится уделять так много внимания государственным делам в то время, как иные стороны жизни остаются в забвении у такого прекрасного мужчины, как вы.
— Что делать, я же государь! — вздохнул Норов. — Впрочем, ещё не поздно, я исправлюсь, дорогая.
Он был несказанно доволен собой.
9 КИТАЙСКИЙ БОГ
Александр был крайне недоволен собой. Он полулежал на сиденье коляски, мчавшейся на север, медвежья шкура накрывала его, спасая от холодного ветра, от дождей, а потом и снега, но не погода саднила его сердце.
«Черт знает что такое! — часто повторял про себя Александр. — Просто черт знает что! Казнокрадство в армии, неправый лихоимный суд, нищие военные поселяне, которых нещадно убивают, если они попытаются добиться правды. Но ведь и я сам стал убийцей! За что застрелил я тех несчастных, которых сам невольно и вывел на большую дорогу с топорами! И для чего раздал поселянам так много денег? Ведь все эти ассигнации, это серебро отберет у них полковое начальство, а за мной, возможно, уже отправлена команда! Ах, как я неосторожно поступил, вмешавшись не в свое дело! Как не в свое? Россия — моя страна! Нет, нет, уже не моя! Я — не император!»
Он боялся останавливаться в уездных городах, но ночевал и на постоялых дворах, догадываясь, что погоня в первую очередь станет искать его там, а поэтому ночлегом Александру и его слугам становились крестьянские дома и почище и побогаче, где хоть и водились клопы — признак достатка, — зато не было вшей и блох — признака нищеты. Зима уже обелила снегом поля, ветви деревьев, и Илья не раз говорил Александру, что надо бы остановиться где-нибудь да поставить коляску на полозья, сняв колеса, но Александр, боясь быть пойманным, все торопил и торопил Илью.
Однажды днем где-то позади послышался приближающийся стук копыт, лай собак и звук рогов. Александр, весь сразу помертвевший от страха, у Ильи спросил:
— Кто там… Илюша?
Кучер обернулся, вгляделся вдаль, сказал:
— А верховые! Рядом же с ними пешие бегут, собаки тож. не заню, что и думать.
— Уйдем от них?
— Навряд ли — шибко поспевают!
«Ну, конечно! — защемило сердце. — Перед судом придется отвечать! Уличат и опозорят. Главное же — монастыря мне больше не видать!»
Верховые нагнали коляску скоро. Александр, лежавший ни жив ни мертв под полстью, услышал, как кто-то голосом звучным и густым, как церковный колокол, спросил:
— Эй, кучер, кто там у тебя такой?
— А барин мой, — спокойно отвечал Илья. — Их высокородие, господин офицер. Капитаном будет…
— А ну-ка, пусть твой барин, китайский бог, личико свое покажет! Ездит по дорогам вотчины моей родовой и князя Евграфа Ефимова Реброва-Замостного не пропускает!
Александр, с великим облегчением поняв, что не команда, посланная вслед за ним, нагнала его коляску, сбросил с себя медвежью шкуру и увидел толстого румянощекого и пышноусого барина лет шестидесяти с пуховым картузом на голове и в овечьем полушубке нараспашку. Но едва сам их сиятельство князь Ребров-Замостный присмотрелся к лицу Александра, как глаза и рот его широко открылись, он зачем-то схватился за картуз, точно боялся, что он слетит на землю, и с полушутливым-полусерьезным восторгом, воскликнул:
— Китайский бог! Да сие ж сам их величество император Александр Первый! Его, его лицо! Князь Ребров-Замостный врать не станет, он памятлив да на глазок приметлив! Видал я государя в Петербурге, на балу у их величества во дворце бывал, беседовал с ним пять аль даже семь минут! Он, он родимый!
Александр никогда прежде не видел этого человека, хоть тоже был памятлив на лица, не слышал он и княжеской фамилии «Ребров-Замостный», но тем не менее сильно испугался, и когда барин склонился с седла в глубоком поклоне, Александр забормотал:
— Сударь, вы ошиблись! Я — капитан Василий Сергеич Норов, еду в отпуск из полка. Вот, полюбопытствуйте! — и поспешно достал из кармана отпускной билет. Но Ребров-Замостный запротестовал:
— Нет, ваше величество, и смотреть не стану! Вы всякую бумагу вольны с собой возить, но мои верноподданнические очи обмануть бумажкой никак нельзя! Вы — император, а посему я спешу вас пригласить в свое имение, тут недалече. Погостите у меня денек-другой, а потом катитесь по собственным своим наинужнейшим императорским делам. Токмо в сей момент спешу я в собственный лес. Обложили там егеря мои медвежью берлогу, вот и хочу я себя потешить, медведика поднять, а после уложить его, чтобы на крутом берегу реки отведать жареной медвежатинки. И вас прошу, государь император, принять участие в сем увлекательном, возбуждающем в мужах отважные чувства, действе.
— Как? и мне предложите, Евграф Ефимович, стрелять в медведя? — с улыбкой спросил Александр, не любивший охотиться да к тому же все ещё не понимавший, шутит ли князь называя его императором, или уверился в том, что случайно повстречал на своей земле русского царя в капитанском мундире.
— Нет-с, ваше величество! — расплылось в улыбке жирное лицо помещика. — Вы токмо со стороны посмотрите, позабавите себя, а мы уж сами. Коляска же ваша в сопровождении стремянного моего пусть отправляется к имению — на колесах по лесу не проедешь. Вам же я дам коня! — И прокричал кому-то из своей свиты: — Семен! С седла слезай, подведи Витязя к коляске да их величеству подсоби в седло забраться. — И снова к Александру обратился: Ваше величество, прошу вас, выходите!
Недоумевая, Александр подчинился, сошел на снег. Тут же к нему бросился княжеский холоп в поношенной ливрее с позументом и, подхватив под руки, повел к коню, рухнул на четвереньки, по-холуйски предлагая:
— Ваше императорское величество, ножкой на спину-то мою наступите. Ежели переломится хребет, мне от сего одна приятность будет.
— Но Александр не воспользовался спиной холопа, с легкостью вознес свое тело на седло, опираясь на стремя, и сказал, обращаясь к Реброву-Замостному:
— От предложения вашего не откажусь, ежели не станете больше присваивать мне титул, на который я права не имею. Возможно, я и обладаю сходством… с известной персоной, но не более того. Говорю вам: я капитан Василий Сергеич Норов!
Ребров-Замостный не без притворства испугался:
— Ах, ты, Боже мой! Виноват, виноват, ошибся! Василием Сергеичем именовать стану, простите, ваше… эх, китайский мог!
— Но, но! — предостерегающе поднял палец Александр. — Людей моих велите устроить поудобней, да если есть у вас в имении каретник, пусть помогут кучеру коляску поставить на полозья!
— Еще какой каретник есть! — радостно закивал помещик. — Сделают все в прекрасном виде! — И крикнул: — Кондрат! Сюда!
Еще один холоп в ливрее оказался напротив Александра, и князь что-то прошептал ему на ухо, а тот, растянув в дурацкой улыбке толстые губы, стоял и слушал. — Ну все, вперед! — прокричал потом Ребров-Замостный: — Разбудим мишку, чтоб проплясал он перед… господином капитаном свой веселый медвежий танец!
По лесной дороге, где снега напало ещё немного, княжеская охота стала углубляться в чашу. С четверть версты всего проехали, показались впереди два человека, махавшие руками.
— Спешимся! — натянул поводья князь, соскочил с седла, подал руку Александру: — Придется маленько ножками пройти. Не утомитесь, тут близко! Эх, китайский бог!
Александр протянутой руки будто и не заметил, сам проворно на землю спрыгнул, и все, включая и собак, настороженно смотревших вдаль, жадно тянувших носом воздух, двинулись по снегу вглубь леса. Наконец вышли на полянку с двумя лежащими крест-накрест стволами поваленных деревьев. Снег перед ними был утоптан — постарались те, кто нашел берлогу. Собак уж было не унять — с шерстью, вставшей дыбом, с оскаленными пастями, захлыбываясь лаем, натянув ременные поводки так сильно, что вожатые-холопы едва не падали, обученные, бесстрашные псы рвались к берлоге. Собак спустили, и они тотчас взбежали на холм медвежьего жилища, стали разгребать вход в него, полетели сучки, пожухлые листья, земля. Князь же, воодушевленный предстоящим действом, выпил поднесенную ему на блюде чарку водки, утер усы и сказал:
— Ванька, ты сегодня с медведем станцуешь танец! Отблагодаришь меня за то, что я тебя на Марфушке женил!
— Александр увидел, как невысокий, но кряжистый, широкоплечий парень, сказав: «Ага! Рад постараться, присного благодетеля отблагодарить!», сташил с себя ливрею и остался в одном суконном армячишке, а затем, махнув рукой, снял и его, а после засучил рукава. Александр немного растерялся — он думал, что помещик сам отважится «положить» медведя, тут же выходило совсем иное. Князь же, будто догадавшись о причине растерянности гостя, важно молвил:
— Не много чести будет мне, коли из ружья медведюшку застрелим. Вы, милостивый государь, на моих ребяток посмотрите — увидите, сколь сильны и преданы они. Люблю и потешить свою натуру видом боя человека с диким зверем. Усладу очам своим доставляю, да и вашим, — он поклонился с несколько ироническим почтением. — хочу доставить.
А нож с широким лезвием, зажатый в руке охотника, уже ловил на свою зеркальную поверхность свет солнца, пробившийся сквозь кроны заснеженных деревьев. Охотник ждал, а тем временем под стволами деревьев закопошилось, заурчало что-то, из лаза высунулась вначале одна лапа, потом другая. появилась косматая голова медведя. Собаки отпрянули, выгнув спины, стали лаять в отдалении. Медведь же вылез из берлоги так быстро, ловко, что Александр даже отпрянул назад и срятался за спину князя. Тот же, заметив робость гостя. сказал:
— Не извольте страшиться, Василь Сергеич дорогой, ага! Мои ребята и не таких лохматых клали, китайский бог! Ну, Ванька, приступай! — крикнул он уже холопу, и тот, согнув в коленях ноги, выставив руку с ножом вперед, прорычав по-звериному, стал двигаться навстречу медведю, не чуявшему ещё опасности со стороны этого двуногого существа, — он сонно мотал головой и, видно, совсем не собирался сражаться насмерть.
Ванька ж, видно, войдя в кураж, боясь немилости барина сильнее, чем зубов медведя. приблизился к зверю и с криком: «Эх, гой еси, мать твою ети лесную!!» вдруг с силой ударил кулаком с зажатым в нем ножом медведя куда-то промеж глаз, и Александр увидел, что зверь от сильного удара, раздвинув передние лапы, головой припал к земле, но тут же, поняв, кому следует ответить за причиненное беспокойство, резко поднялся на задние лапы, грозно зарычал и пошел на охотника, мотая головой.
— Так его, так, Ванька! — завопил радостно Ребров-Замостный, и его крик повторили холопы и ещё какие-то люди, стоявшие в сторонке мелкопоместная дворянская мелюзга, приживалы и захребетники, как подумалось Александру. Ванька же, взбодренный этим криком, смело шагнул навстречу медведю, хотел было занесенным ножом пырнуть его в грудь, но произошло то, чего, похоже, не ожидал ни этот отважный человек, ни зрители. Медведь слету отбил устремившееся в сторону его сердца лезвие ножа, другой же лапой обхватил человека за шею, быстро притянул его голову к себе, крутнул, и жалобный крик Ваньки вместе с хрустом костей донесли до зрителей горькую правду — положить медведя не удалось. Зверь же, не обратив внимания на рухнувшего на снег охотника, на четырех лапах пошел прямо к князю и Александру, до которых было шагов двадцать.
— Стреляйте же! Стреляйте! — истошно закричал насмерть перепуганный Александр, призывая не только людскую помощь, но и желая напугать медведя этим громким криком.
— Не бось! — прогудел голос князя. — Тимка, ты-ы! — подал он короткую команду, и вдруг молодой парнишка подбежал к медведю сзади и ловко вскочил ему на спину, занес над спиной медведя руку, вооруженную ножом и вонзил клинок по самую рукоятку в тело зверя, стремясь достать до сердца.
Но, как видно, удар не оказался смертельным для лесного властелина, хоть и причинил ему боль неимоверную. Медведь взревел, всколыхнулся всем своим лохматым телом, крутнулся, прискочил на задние лапы, и вот уже Тимка лежал на спине, тщетно пытаясь защититься ножом от поправшего его медведя. Всего лишь одного малозаметного со стороны движения когтистой лапы хватило зверю, чтобы сделать из лица Тишки кровавую кашу, и короткий слабый стон человека, оборвавшийся, точно срезанный, всем возвестил о смерти юноши.
— Карабин! — прокричал Ребров-Замостный, протягивая в сторону руку ладошкой вверх, и тотчас один из слуг князя положил ему на руку короткоствольное охотничье ружье, весьма богато отделанное, как успел заметить едва не падавший от страха Александр. Князь наскоро прицелился в подбегавшего к нему медведя, почуявшего в этом человеке главного своего врага, выстрел грянул, медведь осел на передние лапы, попытался было ревом напугать перед смертью людей, которым он не сделал ничего дурного, но рык его оборвался скоро, как и крик убитого им Тишки — пуля угодила ему прямо в лоб.
— Положил лохмача ревастого! — с гордостью воскликнул князь, опуская ствол карабина, из ствола которого тянулась вверх тонкая лента дыма.
— Александр стоял обомлевший. Он никак не мог понять, почему так радуется Ребров-Замостный, почему ликую дворянчики, похохатывают холопы, с интересом рассматривают тушу убитого медведя, но не подходят к недвижно застывшим на снегу фигурам мертвых людей.
— Как же так? — разводя руками, будто сам себе, сказал Александр.
— Что сказать изволили? — повернулся к нему счастливый помещик.
— Как же, спрашиваю, — неожиданно возвысил голос Александр, — вы посмели отправить своих людей на медведя с таким негодным оружием, как нож? Ведь вы их на верную смерть посылали?
Князь совсем не обиделся, уловив нотку гнева в голосе гостя:
— Ничуть нет-с, почтеннейший, — заговорил он кротко, заискивающе глядя в глаза Александра. — Во-первых, ножиком таким у нас с медведем воевать дело привычное: что ножик, что пуля — для медведика вещи смертельные, токмо надо изловчиться. Зверь, не попади я в него из штуцера, мог и меня задрать. Во-вторых же, я своих дворовых не насиловал, не приказывал им, но они за счастье почли отличиться передо мной в доблестном поединке с ревуном да удаль свою перед другими холопами выказать хотели. Любят они все меня, как батюшку своего. Не захотели бы опасности, никакими б силами я не сумел бы их принудить к бою с медведем, даже капитан-исправнику на меня за то могли бы жалобу принести. Так что, ваше… то бишь, Василь Сергеич, не извольте об их судьбе тревожиться. Женкам ихним серебра подкину — ещё руки целовать станут! Но бой с рыкуном лесным покажется вам, сударь, детскою забавой в сравнении с «чижиком», коего мои ребята учинять мастаки великие!
— Да что ж за «чижик» такой? — спросил Александр, немного успокоившись.
— А вот сами вскоре наблюдать будете! — чуть не захлебнулся Ребров-Замостный восторгом в предвкушении какой-то особенной забавы. Токмо на берег речки нашей выедем, где нас уж столы дожидаются да вертела! — И прокричал, обращаясь к слугам: Медведя заберите да мертвые тела. Убитых в Ребровку везите, а мишку — на берег Таракановки!
Тут же холопы князя расторопно принялись готовить носилки для тел горе-охотников, для чего потребовались жерди. Медведю же связали лапы, продели между ними палку, и скоро убитых людей и зверя уж несли к дороге, чтобы везти на лошадях, положив на их спины концы жердей. Александр отъезжая с князем вперед, обернувшись, успел заметить, как шарахнулись кони, когда поднесли к ним мертвого медведя, и с горечью подумал: «А ведь я похож на этого убитого зверя! Еще совсем недавно я вызывал в людях чувство глубокого почтения, трепета, даже страха. Теперь же я могу напугать их лишь в том случае, если они увидят сходство моей физиономии с царской. От царя во мне осталась одна лишь оболочка, а внутри — пустота!»
В сопровождении лая собак, гортанно-радостных звуков рогов, охота торжественно выехала на крутой берег реки, лишь начавшей покрываться ледком.
— А вот и мой охотничий стан, китайский бог! — показал Ребров-Замостный нагайкой на копошащихся впереди людей, на дымящиеся костры. Подъехали поближе, спешились. Здесь уже были расставлены несколько столов с закуской. Промеж столов — объемистый бочонок, уже вскрытый. — Ну, попируем, усладим и плоть и душу! Эй, там, гнидочесы! — прокричал князь, обращаясь к холопам. — Медведя чтоб в одночасье освежевали да на вертел его! Зело лютый голод грызет и меня и гостей!
— Холопы забегали, засуетились. Александр, косясь, видел, как сразу трое с ножами склонились над тушей медведя, парок повалил от неостывшего, лишенного шкуры мяса. Резали темную медвежатину и тут же подавали истекающие кровью куски тем, кто стоял рядом с ними с рожнами в руках. Скоро, облизываемое языками пламени мясо зашипело, заскворчало, добрый, но какой-то чуть пряный, лесной дух потек над станом, в Ребров-Замостный серебряным ковшиком черпал из бочонка рябинно-красную жидкость, расплескивал её по чаркам, стоящим на столе и говорил дворянчикам, у которых уж замаслились глаза в предвкушении пира.
— Сие вам, китайский бог, водка по стариннейшему рецепту под моим собственным надзором выкуренная и настоенная. «Перцовка жимолостная, или Ребровка» называется! Пейте, закусывайте, да их сиятельство Реброва-Замостного паки и паки благодарите!
— Благодарим присно, ваше сиятельство! — проблеял кто-то из захребетников.
— И во веки веков благодарить и поминать будем! — паточно пропел другой, но князь его резко оборвал:
— Какое поминовение, китайский бог?! Я всех вас переживу, ерши вяленые! А вы, Василий Сергеич, что ж к нам не подходите? — ещё более елейно, чем дворянчик, проговорил князь. — К нам, к нам идите, водочки перцовой отведайте да вот икоркой с горячим оладушком и закусите! Опосля медвежатинки отведаем да и будем «чижиков» пускать! Эх, полетят, китайский-раскитайский бог!
Александр, от природы вежливый, не способный обидеть хозяина, если он спешил угостить его, выпил чарочку перцовки и закусил, как предлагали, «оладушком с икоркой», а из памяти не уходили убитые на охоте люди.
«Да неужели эти слуги и на самом деле такие покорные, готовые пойти на самоубийство, только бы была выполнена воля барина? Ведь отправлять их на медведя с ножом, имея возможность застрелить его, это жестокость, деспотизм! Ну, пусть жесток этот князишка, но как же мирятся с его деспотизмом слуги? Неужто рабство уничтожило в них и самолюбие, и гордость, и желание жить?»
Не прошло и часа, а гости уж были красны лицами, болтливы и смелы в присутствии Реброва-Замостного, размягчившегося, подобневшего, вравшего напропалую, бахвалившегося вначале борзыми, потом всей псарней, после конюшней, затем дворовыми девками, из которых он «сотворил» танцовщик. Александр узнал, что в Ребровке имеется и театр, и оркестр, и труппа, многие дворовые участся на живописцев, французскому, пению и танцам; все крепостные ради-радешеньки от того, что владеет ими сам их сиятельство Ребров-Замостный, князь, то и дело приглашают его крестить младенцев, что он делает охотно и стал уже крестным отцом не менее пятисот жителей Ребровки и других деревень. На праздники же крестьяне собираются перед домом барина, поэт в честь него здравицы, одаривают всякой всячиной, целуют руки, плачут. И, вспомнив об этом, князь, закрыв лицо пухлыми ладошками, разрыдался от переполнявших его отеческих чувств, и стоявший неподалеку холоп немедленно извлек из походного поставца большой накрахмаленный платок, которым их сиятельство утер глаза и в который громки и со тщательностью высморкался.
— Да скоро ль медвежатина готова будет, китайский бог?! — неожиданно громко прокричал Ребров-Замостный, что Александру после умильных слез показалось странным и неуместным.
— Уже несет, батюшка, уже несем! — послышалось в ответ, и скоро на столах и впрямь появилось мясо, полыхнувшее жаром.
— Кушай, Василь Сергеевич, кушай! — с медовой улыбкой предложил князь. — Душу отведешь, а после я тебе такого «чижика» покажу, что ой-ой-ой!
Заинтригованный Александр принялся грызть мясо, крепкое, темное, волокнистое, с сильной лесной пахучинкой. Видел, что и гости, хоть и нахваливают медвежатину, не желая обидеть хозяина, однако ж морщатся, глотают через силу, давятся, сам же Ребров-Замостный к мясу и вовсе не притронулся, а только понукал дворянчиков:
— Ешьте, ерши вяленые, чтоб помнили князя, щедрость его да хлебосольство!
Но когда один из гостей, схватившись за горло, с хрипением удавленника кинулся подальше от стола, чтобы не испортить аппетит другим, а за ним тут же процедуру совершили ещё два захребетника, князь понял, что гости наелись досыта.
— Ну, буде с вас! — сказал он торжественно. — Теперь же — главным фокусом распотешимся! «Чижика» чинить станем!
Тут со всех сторон налетела дворня — егеря, стремянные, доезжачие, поваришки. Все встали в круг, будто всем давно была знакома забава со странным названием «чижик». Ребров-Замостный, посмеиваясь, достал из кармана кошель, высыпал на столь горсть серебра и заговорил:
— Тому, кто «чижика» исполнит с наилучшей красотой и чистотой, рубль серебром дарю, китайский бог! Только перед началом скажите, ребятушки: добровольно ль вы, без насильства с моей стороны «чижика» делать станете? Потому вопрошаю, что один важный барин испереживался сердцем, жалеет вас!
И Ребров-Замостный подмигнул Александру, который с трепетом ожидал от «фокуса» чего-то страшного, дотоле не виданного. Холопы же, тоже малость восхмеленные, рассмеялись, будто такой вопрос никак не следовало бы им задавать. Послышались бесшабашные крики:
— А пусть барин о нас не печалится! Мы «чижику» с детства обучены, только и ждем случая, чтобы Евграфа Ефимовича, благодетеля и батюшку нашего, порадовать-позабавить!
— За рупь серебряный каждый из нас «чижиком» стать рад, а за два так и «расчижиками» сделаемся!
И толпа холопов задорно стала ржать, потешаясь то ли над глупостью заезжего барина, позволившего допустить в свое сердце жалость к ним, отважным, то ли над собой, над собственным беспредельным бесстрашием.
— Ну, хорош голотать, козлы! — прервал Ребров-Замостный ярый смех холопов. — начинай по одному!
Холопы перекинулись едва слышными фразами, немного поспорили, видимо, оспаривая у друг друга право начать «фокус», и вот уже над толпой замелькали чьи-то руки, взлетела над головой стаскиваемая одежонка, и Александр увидел, что от толпы холопов отделилась фигура совсем голого мужика, который, поеживаясь, подбежал к князю, похлопал себя по груди и сказал:
— Чарочку подайте, как водится, Евграф Ефимыч!
— Пей! — с добродушной улыбкой протянул дворовому человеку чарку Ребров-Замостный, тот метнул перцовку в широко открытый рот, истошно завопил и, согнув в локтях руки, бросился вниз к реке по крутому берегу только ягодицы быстро-быстро задвигались. Добежав до реки, повернувшейся тонким ледком лишь на десять саженей от кромки берега, холоп, ещё громко гаркнув, с разбегу сиганул головой вперед, да ещё как-то хитро изогнулся в полете, и Александр, к ужасу своему, увидел, что, пробив лед, он ушел под него.
«Да когда же он вынырнет? — чувствуя, как сильно трепещет его сердце, подумал Александр. — Неужели это зверство и есть «чижик»?»
И, точно догадываясь, о чем думает гость, Ребров-Замостный беспечно сказал:
— Не тревожьтесь, сейчас вынырнет. Вся идея «фокуса» в том и заключается, что нужно, пробив ледок, уйти под него, проплыть маленько под водой, а после, пробив лед головой в другом уж месте, выйти на поверхность. Сия забава заведена была ещё дедом моим, Аннинских времен кавалером — и жох же он был на всякие такие вот веселые проделки! Дворовые сильно привязались к такой забаве, только и ждут случая…
Но договорить князь не успел, потому что отовсюду раздались огорченные возгласы:
— Спортил «чижика» Серега, мешком на дно ушел, щук кормить!
— Может, выплывет еще?
— Где там! Давно бы выплыл…
— Ну ладно! — закричал князь. — Чего сопли-то рспустили? Не выплыл, значит, сам виноват, такова его, видать, планида! Следующий за чаркой подходи, али нет уж боле смелых да ловких «чижиков»?
— Как нет!
— Есть! Есть!
— Все мы «чижиками» быть хочим!
Дворовые по очереди, оговоренной между ними, раздевались, подходили к князю за чаркой, выпивали и бросались вниз с криками радости, напускной, как казалось Александру, который с искривленным от душевной боли лицом, как завороженный, наблюдал за дикой игрой. Второй холоп, пробив лед неподалеку от полыньи, оставленной несчастным Серегой, взломал головой ледяную корку в двух саженях от своей лунки, радостно заорал:
— Ага! Сотворил «чужика»!
Мотая скукоженным от холода удом, скользя на снегу, поднялся наверх, получил от Реброва-замостного обещанный рубль, поцеловал его в руку и бросился одеваться и отогреваться у костра. Третьему повезло тоже, вместе с рублем он принял от князя и благодарность, и Евграф Ефимович ликовал:
— Ну, ваше величество! — хлопал он себя по толстым ляжкам. — Каково мои ребята имеют «чижика» чинить? Не видал, поди, прежде такой забавы? То ли ещё сегодня в моем доме увидишь — погоди!
Но ликовал Ребров-Замостный преждевременно — четвертый дворовый, с излишней резвостью сбегая вниз, оступился, перевернулся несколько раз через голову да так и остался лежать на косогоре в срамотной наготе, широко раскинув руки и ноги. Оказалось, что он сломал при падении шею. Пятый холоп, хоть и добежал до льда и пробил его, но, подобно Сереге, так и не выплыл, отправившись вслед за товарищем кормить щук в Таракановке.
Ребро-Замостный, то и дело прикладывавшийся к чарке, стал мрачен: из пяти холопов погибли трое. Люди стоили денег, да деньги нужно было давать и женам погибших, и князь, хоть и был помещиком богатым, но счет деньгам вел и пускать их на ветер на старости лет не любил.
— Все! Хорош! Набаловались мы «чижиком» холопским! А вот желание имею сейчас дворянских «чижиков» посмотреть, китайский бог! — и окинул суровым взглядом дворянчиков-приживалов.
— Тоже за рублик-с? — хихикнул один из них, сильно желая увидеть в словах Реброва-замостного шутку.
— Нет, не за рубль! Ваши души дороже стоят, но все равно стоят!
Александр следил за безобразной сценой с краской стыда за своих дворян.
— А чего же стоят наши-с души-с? — уже с интересом спросил тот же мелкопоместный дворянчик.
— Вот чего, китайский бог! — прогудел Ребров-Замостный, вынул из кармана сторублевую помятую ассигнацию, бросил её в серебряный ковшик, которым разливал по чаркам перцовую, и поднял его высоко над головой. — Ну, кто «чижиком» станет?
Некоторое время дворянчики, стыдливо улыбаясь, ковыряя носками сапог снег, молчали, и Александр с надеждой думал, что они помнят о своей дворянской чести, но вдруг кто-то из них, боясь, что кто-то другой вызовется скорее, чем он, быстро проговорил:
— Я «чижика» сделаю!
— И я тоже могу, ваше сиятельство! — выкрикнул второй.
— Нет, меня пустите, благодетель! — подбежал высокий, нескладный человек к Реброву-Замостному и низко поклонился ему: — У меня семеро детей, нужда заела — сто рублей позарез нужны! Сотворите Божескую милость!
Князь, вдоволь налюбовавшись картиной самоуничижения юливших перед ним дворян, веско сказал:
— Я, все знают, добр и благороден, сирых призираю, а посему дозволяю тебе, Левка Свиридов, показать всем на свою удаль.
Свиридов, будто его ужалили, дернулся всем телом в конвульсии радости и стал расстегивать бекешу:
— Спасибо, спасибо, ваше сиятельство! Только уж дозвольте, батюшка, портков не снимать — совестно перед холопами, а?
— Ну, нет, китайский Бог, — мрачно прогудел Ребров-Замостный. «Чижиково» представление ритуал имеет древний, ещё предками моими утвержденный, а посему должен ты, Свиридов, непременно с голой задницей и всем прочим перед нами явиться. Да к тому же тебе без порток способней будет из-подо льда выныривать, китайский бог — как пробка из бутылки выскочишь, ничем не зацепишься.
Александр больше не мог терпеть. Качаясь от сильного волнения и негодования, он шагнул к раздевавшемуся Свиридову, сказал:
— Хотите я дам вам сто рублей?
— Дайте! — перестали дергать одежду руки дворянчика, а глаза с жадной надеждой уставились на Александра.
— Только уж не позорьте рода своего, оденьтесь! Вы ведь дворянин?
— Точно так-с, дворянин-с, — закивал Свиридов. — Токмо я, с удовольствием приняв от вас подарок, никак-с не могу отказаться от «чижика». У меня тогда будет двести рублей! Семья-с, понимаете-с! Я уж нырну, не обессудьте-с!
Скоро дворянчик уже стоял перед всей охотой голый, как Адам. Холопы откровенно смеялись, а другие барские дармоеды-дворяне, напротив, поглядывали на него с завистью. Свиридову дали выпить чарку водки, и он, перекрестив впалую грудь, неловко ринулся вниз по склону, добежав до льда, помедлил немного, но, оттолкнувшись, пал на лед, нырнул под него, мелькнули его желтые ступни — и все…
Постояли, подождали, но лед так и не треснул. Ребров-Замостный снял пуховой картуз, широко перекрестился и сказал со вздохом:
— Хорошим человеком был, да, видно, «чижику» — «чижиково», а Свиридову — Свиридово. Ну, давайте домой собираться. Охотой сегодняшней и представлением я недоволен остался. Похоже, мельчает да хиреет человек русский… китайский бог!
Александр стоял с безвольно опущенным вниз руками — бледный, с бессмысленным голубым взглядом, он сам был похож на человека, минут пять проведшего подо льдом в ледяной воде. Ребров-замостный подошел к нему, по приятельски ударил по плечу. Он уже снова радовался жизни и требовал ото всех, кто окружал его, той же радости:
— Что, твое величество, хандрить замыслил, китайский бог! На хандру разрешения не даю! Сейчас ко мне поедем, с хамами этими отобедаем, порезвимся, а после… — загудел в самое ухо, — после я тебе такую Вальпургиеву ночку покажу, что ты, китайский бог, сон до конца дней своих забудешь. А про людишек тех, что подо льдом остались, и думать забудь. Человечки сии сами себя сгубили, ибо к сребролюбию тягу души имеют. Ну, иди к коню да помни: сбежать не сможешь, так как коляска твоя в моем каретнике полозья обретает. Погуляем на славу — да и дуй себе на все четыре стороны, китайский бог!
Александру сильно не хотелось ехать в дом к этому страшному человеку, погубившему ради прихоти своей за каких-то несколько часов шестерых людей, но без коляски и слуг бежать от Реброва-Замостного подальше, лишь бы поскорей расстаться с ним, было невозможно. К тому же Александру было любопытно, какую-такую Вальпургиеву ночь собрался показать ему самодур-помещик. Новые ощущения, получаемые Александром от жизни, неизвестной ему прежде, хоть и ранили сердце, но и щекотали его боелзненно-сладострастной истомой. Он догадывался, что происходит это потому, что задевается его самолюбие: в нем не признают царя, глумятся над законами, моралью, которые он защищал, будучи императором, а он продолжает оставаться тем, кем был двадцать два года, помазанником, вершителем судеб миллионов граждан страны, их защитником и отцом. Александр спешил в монастырь, но в то же время понимал, что обязан побольше увидеть из того, что было скрыто от него прежде, чтобы в ещё большей степени прочувствовать в себе необходимость полного ухода от мира, покуда державшего его в своих крепких объятьях.
… Въехали на просторный двор перед каменным домом Реброва-Замостного, каменного, украшенного колоннами и античным фронтоном. Два полукруглых низких флигеля, что примыкали к нему с собой, охватывали двор, точно клещами, и Александру, не раз видевшему такие дома и флигеля, сейчас показалось, что он попал в пасть какого-то Левиафана, и с горькой усмешкой Александр поспешил утешить себя: «Иона тоже сидел в чреве кита, но выбрался-таки из него. И, даст Бог, я тоже выберусь отсюда!»
У крыльца князя и его друзей-дворянчиков уже встречали люди, как заметил Александр, того же сорта: в никудышней барской одежонке, низки и часто кланявшиеся, спешившие с вопросами:
— Как поохотиться изволили, ваше сиятельство?
— Не дало ли осечку оружьецо, хе-хе?
Ребров-Замостный, не отвечая на вопросы и на поклоны, спрыгнул с седла, руку подал Александру:
— Милости прошу к моему, так сказать, шалашу, китайский бог! А на сею шелупонь, — кивнул в сторону кланявшихся дворян, — не извольте и внимания обращать — не стоят они того, хоть и столоваться у меня сегодня будут, в честь моей охоты.
Александр, ещё совсем недавно не принявший протянутой руки князя, теперь почему-то послушно подал ему свою и спешился. В вестибюле с бронзовыми люстрами и большими зеркалами тут же подскочил к нему лакей ливрейный: «Ваше высокоблагородие, мне велено провести вас в отведенные для вас покои». Там уж дожидался его Анисим, сообщивший, что Илья не покладая рук трудится в каретнике над коляской. Ему же велено помочь барину одеться во все парадное да и проводить его потом в столовую, где состоится ужин в его честь. Все это Анисим передал Алекандру слово в слово, как требовалось, от себя же заметил:
— Не попасться бы нам снова в какой-нибудь капкан… Перемолвился я наедине с одним дворовым человеком. Поначалу он барина-то своему хвалил-хвалил, а после потемнел лицом, заскрежетал зубами, как грешники в аду скрежещут, да и поведал мне всю правду: барин его зверь зверем, кровь человеческую пьет…
— Неужто? — постарался улыбнуться Александр, да не получилось. — Он, наверное, так фигурально выразился, ради красного словца?
— Не думаю, — ещё более помрачнело скопческое лицо Анисима. — Так прямо и сказал — кровь пьет человеков.
— Н-да, вот ещё история, — пощелкал пальцами Александр. — Ну да, Анисим, готов мундир парадный. Услужу я этому упырю, отобедаю с ним, коли ему приспичило видеть меня своим гостем, да и уедем поутру.
— А хорошо бы и ночью, незаметно, — едва ли не прошептал камердинер. Не было бы хуже, чем у купчишки того, катфанника…
— Хорошо, — тоже совсем негромко и оборачиваясь к двери, сказал Александр. — Может быть, и ночью покинем усадьбу.
…Стол у Реброва-Замостного оказался не богатым — перемен десять всего лишь, но зато всего в изобилии, так что Александр, соскучившийся по хорошо приготовленной еде, отведавший сегодня лишь оладьев с икрой да медвежатины, ел с аппетитом, с интересом поглядывая на гостей. Хозяин сидел с ним рядом, то и дело подливал вино в бокал, был до омерзения ласков и любезен с Александром, зато частенько кричал на гостей, которых собралось человек с тридцать — все те же бедненькие, неустроенные, лебезящие перед грозой местной мелкоты Евграфом Ефимовичем.
— Эй, что за гомон?! — вскакивал хозяин, заслышав спор или громкий разговор. — У меня за ужином-то ни-ни: ешь, пей вдоволь, а орать да спорить не смей! Китайский бог!
И грозил провинившимся ножом или вилкой. Поговорив о том о сем с Александром — говорил-то только он, рассказывая о своем хозяйстве, — снова привставал с места и, хмуря брови, лил через стол колокольное гудение звучного голоса:
— Ах ты лытушник паскудный, Юрка Переверзев! Замечаю, что вином моим брезгуешь?
— Никак нет-с, ваше сиятельство. Потребляю с превеликим удовольствием, — оправдывался Юрка.
— Нет, я вижу — уж полчаса один и тот же бокал не почат. — И кричал лакею: — Петруха, возлияние!
Все уж знали, что означает это слово. Гости, смеясь, поворачивались в сторону Юрки, довольные, счастливые, подмигивающие, а уличенный в непитие напитков дворянчик спешил схватить со стола салфетку и прикрыть ею воротник сюртука, вытягивал шею, потому что лакей, выполняя волю князя, взяв бутылку, уже наклонял её над головой гостя, чтобы совершить «возлияние». С треть бутылки красного вида выливалась прямо на голову под одобрительный смех остальных, потом он убегал мыться, пытаясь скрыть унижение и муку под кривой благодарной улыбкой. Ребров-Замостный при этом не улыбался…
Александр с краской стыда на лице, будто облит вином был сейчас он сам, наконец не выдержал и спросил у князя:
— Постигнуть не могу, ваше сиятельство! Зачем же сажать за свой стол людей, которых не уважаешь, презираешь даже?
Ребров-Замостный нахмурился, постучал ножом по краю тарелки. Такие вопросы задавали ему крайне редко и давать на них ответы князь не любил. Но сейчас заговорил:
— А потому, китайский бог, что не спокоен я сердцем…
— Еще бы вам быть спокойным! — собрался высказать Александр князю все, что накипело внутри. — Уморили за день шесть человек только забавы ради. Экий грех!
— Не в том дело! — проревел Евграф Ефимович. — Несоответствие вижу между богатством и властью, полученных от рождения, и тем, что сам по природе своей представляю. Книги умные читал, а все впустую, ученей не стал, зато уяснил идейку: есть я результат случайного, механического возвышения, коим можно и кусок говна на верх высокой башни положить. В вас же, сударь, через сходство ваше с государем императором, вижу я возвышенность характера метафизического, а посему и позвал я вас к себе и выделяю среди прочих лайдаков. Вы, сударь, государь для меня, ибо с такой физиономией, с такими манерами и чистотой души нельзя не быть первым среди первых! Китайский бог!
— Да что вы говорите такое? — сильно смутился Александр, очень встревожившись.
— Истинно глаголю, ваше величество! — попытался Ребров-Замостный поднести его руку к губам. — А персону свою я презираю, поэтому окружил себя этой сволочью, скотами, дающими мне иллюзию, что я-то сам чего-то стою! По положению и богатству своему мог бы дружить на равных с высшими персонами державы, но не дружу даже с равными. Я все могу! Я властен вершить судьбу своих крестьян, могу забрать в свои житницы весь их урожай, могу мальчишку двенадцатилетнего женить на осмидесятилетней старухе, а захочу, глубокого старца соединю с двенадцатилетней отроковицей. Могу, кого захочу, даже этих лайдаков, что здесь сидят, кошками отодрать, могу обесчестить любую девицу, вытащить из постели мужа жену и положить её в свою постель. Потом я дам мужику три рубля, и он ещё рад будет, сам предложит мне вдругорядь воспользоваться правами барина. Но я не способен и на вершок, даже на полвершка стать умнее, сочинить стихотворение, как господин Жуковский, или хоть даже гаденький романсик. За что же такая несправедливость, китайский бог!
И Александр заметил, что хозяин находится в чувствительном настроении ещё и по причине немалого количества влитого в себя вина. Ребров же-Замостный, вставая с бокалом в руке, на весь зал прокричал:
— Я все могу! Все! Не так ли, господа-поедальщики чужих запасов, а, китайский бог?!
— Все можете, все!
— Ничто вам запретом не будет!
Так кричали гости, а Ребров-Замостный, точно пытаясь испробовать, сколь искренне они, загудел:
— А раз так, пусть принесут сюда золотую корону царя Вавилонского да его царскую хламиду — украсим ими того, кого сам я выберу царем! Пока же пускай Валериашка Путейкин бокал хрустальный сгрызет, ибо я так хочу, китайский бог!
Кто-то бросился вон из столовой, чтобы принести необходимые для какого-то, как подумал Александр, театрального действа, вещи, а один дворянчик поднялся, вежливо поклонился хозяину, держа между пальцев ножку бокала, потом, широко разевая рот, наклонил над ним голову, зычно и долго, как большая труба, проревел в полость бокала, с таким хрустальным звоном треснувшего и развалившегося на несколько частей.
— Чисто сработал Валерьяшка! — не удержался кто-то от восхищенного восклицания, а обладатель стеклодробительного голоса, как оказалось, имел и другие чудные способности. С улыбкой взял кончиками пальцев изрядный кусок хрусталя и отправил его в рот, и громкий хруст возвестил о том, что стекло подвластно не только голосу дворянина, и его зубам.
Но вот принесли и позолоченную картонную корону, мантию и жезл, и Ребров-Замостный крикнул в сторону пожирателя стекла:
— Ну довольно кривляться, Валерка! Царя Вавилонского выбирать станем. Мне, лайдаки, инсигнии высшей власти не предлагайте, китайский бог. Выберем-ка на сегодня в цари гостя моего дорогого. Вот он! Рядом со мной сидит!
И тотчас дворянчики, подобно куклам вертепа, резко повскакивали с мест, зарукоплескали, заулюлюкали. Они были чрезвычайно рады тому, что гость, которого их сиятельство князь не оскорблял, не унижал, подобно другим, которому оказывал знаки подчеркнутого внимания, становится вровень с ними, тем же шутом, хоть и облаченным в царскую хламиду. Александр слышал:
— Его, его царем! Величать станем!
— Плешку свою короной золотой закроет — красивее станет!
— В мантию его завернуть пурпуровую, багряную!
Оскорбленный, испуганный, с трясущими губами Александр вскочил на ноги, бросил на стол салфетку:
— Ваше сиятельство, или как вас там… Я — дворянин, и оскорблять, унижать себя не позволю никому! Я у вас в гостях, не забывайтесь! Не позволю!
Ребров-Замостный ответил Александру с небрежным спокойствием:
— Позволишь, ваше величество, ещё как позволишь. На то власть и сила мне даны, чтобы я в вотчине своей делал то, что захочу. Да ведь и не пороть же я тебя собрался, хоть и сие могу! О каком оскорблении говоришь? Разве ты, дворянин, а… может, и того чище, ни разу на маскерады не наряжался? Вот и у меня сегодня маскерад, Венецианский карнавал в своем роде. И не паянцашута я из тебя сделать хочу, а царя Вавилонского, Навуходоносора! А нужен нам сей древний царь для пещного действа. Не помнишь разве истории Священной, где писано о трех отроках иудейских, о Мисахе, Седрахе и Авденаго, коих злой Вавилонский царь в клетке железной сжечь хотел, да честный иудеев ангел Господень от лютой смерти избавил? А, китайский бог?
— Помню, помню, но при чем тут я? — пытался протестовать Александр, но получалось это вяло и неубедительно. — Извольте выбрать на роль царя иную персону, а меня в покое оставьите!
— А я тебя хочу Вавилонским царем видеть! — ударил Ребров-Замостный кулаком по столу так, что попадали бокалы. — И не смей противиться! Царем маленько побудешь, на пещное действо погядишь да и снимешь корону и хламиду. После таким зрелищем ублажу твои державные очи — ума лишишься от радости, китайский бог! Теперь же пусть облачат моего гостя дорогого в царские одежды, китайский бог!
Дворянчики с шутовскими кривляниями кинулись к Александру, силой усадили его на стул, водрузили на голову картонную корону, бархатная мантия облекла его плечи, а в руки был всунут жезл. Александр не сопротивлялся, понимая, что любая попытка противиться будет воспринята князем с неудовольствием и повлечет за собой последствия непредсказуемые.
«Ладно, царь так царь, — подумал Александр, принимая величавую позу. Хорошо, что не шут в конце концов. Я сыграю свою роль отменно, естественно, потому что я на самом деле царь и знаю свое место в жизни!»
— Так несите же меня туда, где будет маскарад и театральное действо! прокричал вдруг Александр, взмахивая жезлом, и все остолбенело посмотрели на ряженого царя — каждому показалось, что так властно мог приказать только тот, кто привык повелевать. Ребров-же-Замостный, услышав царственный приказ гостя, вначале, всего лишь на миг, сам оробел, а потом весь дрожа от восхищения взбудораженный вином, заорал на весь зал:
— Рабы послушные!! Поднимайте Вавилонского царя вместе с троном его да несите за мною! Иудейских отроков жечь идем, китайский-раскитайский бог!
И тотчас четыре дворянчика подхватили стул с сидящим на нем Александром, подняли его и понесли сопровождаемые шумом, гиканьем и хохотом гостей вслед за Ребровым-Замостным, направившимся к двери и гудевшим:
— Дорогу! Дорогу! Самого царя Вавилонского несем, следующего к месту казни отроков иудейских!
Он сам растворил ударом ноги дверь, и Александр увидел, что его внесли в узкий длинный коридор. Вид, открывавшийся направо и налево через окна, дал понять, что следуют они по крытой галерее, ведущей куда-то в глубь двора, обсаженного плодовыми деревьями. Еще заметил Александр, что на стенах, в промежутках между окон, висят картины, писанные маслом, кисти виртуоза захолустного полета, но зато с такими сюжетами, которых Александр никогда не видел применительно к живописи — бесстыдство наглое, граничившее со скотством беспредельным. Наконец последовал ещё один удар хозяйской ноги в запертую дверь, распахнувшуюся настежь, что дало Александру случай убедиться в справедливости княжеской похвальбы. Его внесли в зал театра, где плафон расписан был, как видно, все тем же живописцев, потому что характер сюжетов да и манера письма несли черты сходства с содержанием и формой картин, висящих в галерее. Ряды кресел были расставлены здесь на возвышениях, амфитиатром, полукругом охвативших небольшую сцену. Занавес, расписанный все так же, с вольным бесстыдством, скрывал, однако, сцену, но едва хозяин и толпа гостей очутились в зале, как занавес полез вверх, и заиграл невидимый оркестр музыку бравурную и громкую, как раз под стать моменту появления Вавилонского царя. Но Ребров-Замостный рубанул по воздуху обеими руками, и музыка тотчас умолкла. И когда стул с Александром опустили рядом со сценой, князь заговорил:
— Вот, ваше величество, гордость моя и боль — театр! — Плавным жестом своей руки князь с гордостью указал на детище свое. — За неимением талантов, но обладая средствами, возмечтал я приблизиться к тому, чтобы сделаться новым Меценаом, нет, берите выше — самим богом Аполлоном Мусагетом. Прислужниц моих, девять муз, увидишь после, государь, а покамест поразвлеку тебя представлением иным. — Обернувшись к дворянчикам, о чем-то переговаривавшимся, Ребров-Замостный крикнул: — Эй, сыны Израилевы! Выбрали трех отроков иудейских да ангелов?
— Бросили жребий, ваше сиятельство! — ответил кто-то из толпы.
— А, ну коли так, начинаем! Пусть иудеи и ангелы спешно костюмы надевают, а мы иным займемся!
И Евграф Ефимович три раза громко хлопнул в ладоши, и Александр понял, что этого сигнала уж дожидались. Оркестр довольно слаженно начал увертюру неизвестной оперы, и вскоре на сцене появился хор, где каждый певец был облачен в престранный наряд, должный, как понял Александр, изображать платье древних вавилонян. Протягивая к Александру руки, что вогнало его в краску, они запели по-русски, умоляя наказать иудеев. Просили они Вавилонского царя об этом, правда, совсем недолго, сами догадались, что нужно делать, а поэтому забегали по сцене, отчаянно размахивая руками, и вот уже, к немалому удивлению Александра, откуда-то сверху на цепях стала опускаться на сцену железная клетка. Бесновавшиеся вавилоняне, жестами отдав должное превосходной работе мастеров, сработавших такую замечательную клетку, отправились на поиски своих жертв, и скоро три иудейских отрока в белоснежных хламидах были пинками вытолкнуты на сцену: руки — связаны, в глазах — печаль. Вавилонян, впрочем, не смутило то, что все трое были несколько староваты для такой роли, обладали усами и бакенбардами, а один из иудеев не мог сдержать громкой икоты, потому что с чрезмерным аппетитом ел и пил за ужином.
С лязгом отворилась дверца клетки, отроков втолкнули в неё и замкнули огромный замок ключом изрядных размеров. Потом Александра поразило то, что клетка с усатыми сынаим Израиля стала подниматься вверх, но остановилась в сажени от сцены, раскачиваясь, а отроки смотрели сквозь прутья с немалой тоской, словно на самом деле являлись лишенными родины евреями.
— Сейчас начнется, китайский бог! — наклонился к уху Александра, так и сидевшего с золоченой короной на голове, Ребров-Замостный. — Видал когда-нибудь, ваше величество, чтобы живых актеров поджаривали на сцене на настоящем огне?
— Как?! — резко повернулся к князю Александр. — На настоящем?
— Ну да! Вот уже жаровни выкатывают твои преданные слуги!
И впрямь — справа и слева вавилоняне, затеявшие казнь не в шутку, а всерьез, выкатили жаровни, из которых валил дым, и поставили их под самой клеткой. Потом в корзинах, не переставая петь какой-то жестокий вавилонянский мотив, они принесли мелко нарубленных поленьев и стали под музыку бросать дерево в жаровни, грозя между тем бедным иудеям кулаками. И тут Александр, к ужасу своему, увидел, что над жаровными полыхнули языки пламени и, кроме того, только сейчас рассмотрел, что все трое отроков были босыми и опирались ступнями лишь на прутья клетки.
— Да они же сгорят! — вскакивая со стула и выбрасывая вперед руку с жезлом, воскликнул Александр. — Я требую сейчас же прервать сие жестокое представление! Вас же, сударь, надобно немедленно отдать под суд! Вы бесчеловечный изверг!
Ребров-Замостный с грубым добродушием дернул Александра за рукав:
— Да сять ты, твое величество! Ничего с оными христопродавцами не будет. Не читал разве Священной истории? И я её правды нарушить не могу, а посему останутся живыми да ещё награду от меня получат щедрую. Ты смотри, смотри, сейчас забавно будет!
Александра несколько успокоили слова князя, он уселся и, хоть с негодованием, но принялся-таки смотреть на сцену, на которой поющие все громче, все азартнее и злее подданные Вавилонянского царя разожгли под клеткой такие костры, что несчастным иудеям совсем уж не было мочи терпеть. Все трое, издавая жалобные вопли, как показалось Александру, весьма искренние, чтобы уберечься от огня, полезли на стены клетки, задирая хламиды выше колен, что дало возможность Александру да и всем прочим зрителям, изрядно смеявшимся, углядеть отсутствие у еврейских отроков порток, что, по мысли устроителя действа, должно было, видно, соответствовать историческому положению дел в Вавилоне.
— Спасите! Спасите! — неслись в зал истошные вопли дергавших ногами иудеев. На одном из них, видел Александр, стал тлеть подол хламиды. «Вавилонский царь» сидел ни жив ни мертв, он хотел было снова начать умолять князя, чтобы тот прекратил безобразное представление, но вот на сцене, шелестя огромными картонными крыльями с наклеенными на основу гусиными перьями, появился актер с усами, но тоже в белой одежде изображавший ангела Господня. В руке у него был ключ от замка, запиравшего клетку, на поясе — меч. Ангел попытался было в сопровождении чарующей музыки подпрыгнуть и уцепиться за нижний край клетки, и наконец ему это удалось, но, поболтавшись в воздухе, ангел, не имея сил взобраться наверх, упал на пол с сильным грохотом, а тут ещё из-за кулис выплыл актер-дворянчик в черной одежде и с черными крыльями за спиной. Изображая ангела тьмы, он набросился с деревянными мечом на Божьего ангела, тот не сумел защититься, и удар пришелся по крылу, сразу свалившемуся на сцену. Это обстоятельство, похоже, так огорчило ангела Божьего, что он, выхватив меч, с такой удалью набросился на Черного ангела, колотя его своим грозным оружием, что тот вначале схватился за ушибленные места, а потом постарался расквитаться с Божьим крылоносцем, забыв, видно, что ему следует поддаться и убежать за кулисы. И покуда шла битва между силами добра и силами зла, огонь в жаровнях горел все так же ярко, как прежде, и несчастные отроки вопили не умолкая, боясь ступить на раскаленный пол клетки. Но битве-таки пришел конец, потому что Божий ангел, как и положено, оказался проворнее ангела тьмы, убежавшего с расцарапанным лбом за кулисы. Вавилоняне, видно, тоже осознали бесполезность казни представителей Богоизбранного племени, а поэтому в такт музыке укатили жаровни, а клетка с Мисахом, Седрахом и Авденаго благополучно опустилась на сцену, ангел отпер её ключом, и отроки, морщась, боясь наступить на обожженные ноги, заковыляли вслед за ангелом, не забывшим подобрать отвалившееся крыло. На сфере вновь появился вавилонянский хор, пропевший здравицу как Богу, в которого они успели поверить, так и своему славному царю. При этом все снова протянули руки в сторону человека в багряной мантии и золоченой короне — к Александру, сидевшему в прескверном расположении духа: более мерзкого, жестокого, бессмысленного представления раньше ему не доводилось видеть. Но когда занавес опустился, тридцать пар рук отбарабанили неистовый, восторженный аплодисмент, и многие совсем по-холуйски выкрикивали слова благодарности в адрес премудрого устроителя и содержателя такого замечательного театра.
Ребров-Замостный, то и дело поглядывавший на Александра. всем своим видом выказывавшего негодование, сам помрачнел. Он искренне хотел доставить удовольствие гостю, которого сильно полюбил за наличие в нем черт характера, отсутствующих как у него самого, так и у столовавшихся в его доме лизоблюдов. Князь вновь был недоволен собой — ему не следовало приглашать в свой дом того, кто мог уличить его в глупости, безвкусии, жестокости, не замечаемых мелкопоместными подхалимами.
— А ну вон, вон!!! Подите!!! — закричал он дико, оборачиваясь к рукоплещущей толпе гостей. — Один хочу остаться, с одним лишь царем Вавилонским! Во0о-н!
Наталкиваясь на кресла, друг на друга, дворянчики заспешили к выходу, и через минуту их след простыл, а Ребров-Замостный, помолчав, спросил у Александра:
— Что ж, ваше величество, не по нраву пришлось тебе опера моя, «Царь Вавилонский»?
— Не по нраву, Евграф Ефимыч, — честно признался Александр. — Скажу, князь, откровенно: злобы в тебе, как у заплечных дел мастера. Со зверем лесным даже сравнивать тебя я не хочу. А потому в тебе такая злоба живет, что воспитан ты на мысли одной: я — богатый помещик, многими крестьянами владею, судьбами их, имуществом, чуть ли не душой, а посему все передо мною трепетать должно. Сам понимаешь, что никчемный ты человек, безо всякого таланта и образования, а при всем при том великой властью и большим состоянием обладаешь. От этого и невзгоды твои, понимаю…
Князь крепко обнял Александра, зашептал ему на ухо:
— Ой, понимаешь, понимаешь, родимый! Вот и оставайся со мною жить! Присным моим приятелем станешь, учить меня будешь добру, укорять, если неправду учиню, даже бить тебе себя позволю! На золоте есть будешь! Анансы у меня в оранжереях растут, дыни, виноград! А погреб винный какой! Ну, а главное-то, главное-то ты сейчас своими очами царственными увидишь — балет мой, балет! Ты посиди маленько, а я распоряжусь! Посиди!
Князь с несвойственной для его лет и полноты расторопностью унес за кулисы свое круглое тело, и уже спустя минут пять вновь послышалось пение скрипок и нежное постанывание английских рожков невидимого оркестра, занавес медленно уплыл вверх, и Александр теперь даже не с изумлением, а лишь с чувством омерзения увидел князя стоящим на обломке античной капители. Короткий хитон позволял видеть его толстые волосатые ноги, обвитые ремнями сандалий, позлащенных, на высокой подошве. Кудрявый парик на голове и венок, а также лук в руке дали Александру повод догадаться, что хозяин имения явился перед ним в обличии покровителя муз, Аполлона. вграф Ефимович покрасовался на своем возвышении, сделал несколько плавным движений, показывая всем своим видом, что натягивает тетиву, а потом Александр увидел, как откуда-то сверху спускаются на сцену девять юных созданий женского пола с ножками, застывшими в позе незавершенного прыжка. Александр понял, что видит спускающихся на толстых канатах муз — в руках у некоторых созданий женского пола имелись бутафорские атрибуты искусств, но главным было то, что одеты девицы-музы были в настолько короткие хитоны, выполненные к тому же из какой-то эфирно-дымчатой ткани, напоминавшей по плотности крылья стрекозы, что Александр даже заерзал на кресле, будучи по-прежнему украшенным короной и мантией царя вавилонян.
Под плавную музыку покровитель муз, поочередно беря каждую из своих воспитанниц за руку, станцевал менуэт, и все выглядело вполне благопристойно, хоть и очень скучно. Однако оркестр убыстрил темп исполняемой мелодии, походившей теперь не на изысканный европейский танец, а на диковатую пляску дикарей, и, к великому изумлению Александра, носительницы нескромных нарядов не только поспешили расстаться с атрибутами своих искусств, но одна за другой, не без помощи усатого Аполлона, расстались и со своими зефирными одеждами, оставшись в чем мать родила.
Александр смотрел на обнаженных танцующих девушек, розово-щеких, как и их владелец, ладно сложенных и выполнявших затейливые па легко и грациозно, и не испытывал никакого желания жадно и бесстыдно пожирать взглядом прелести красавиц. Напротив, ему хотелось отвернуться — он знал, что эти дворовые девки сластолюбивые и властолюбивого князя выполняют его волю и не могут отказаться от показа своего обнаженного тела незнакомому мужчине и, наверное, музыкантам невидимого оркестра.
«Как же можно было так поработить волю этих несчастных созданий, что они уже и не замечают безобразию, ужаса своего положения? — с тоской думал Александр, все ещё глядя на то, с какой простотой и откровенностью, изяществом и естественностью танцуют перед ним нагие балерины. — Неужели во многих родовых гнездах таких вот самодуров-князишек царит разврат, попрание человеческих чувств крепостных, низведенных до положения каких-нибудь древних рабов? И ведь эти рабы и сами-то не сознают, что, подчиняясь своим хозяевам выполняя их волю, потворствуют разврату, преступлению против Бога и Человечества! И почему я, недавний властелин России, не знал об этом безобразии, не казнил таких вот Ребровых-Замостных, не отменил своим указом крепостной зависимости? Значит, и я тоже виноват в том, что происходит сейчас на этой сцене, и меня тоже можно называть преступником и богоненавистником, попирающим в человеке образ Бога!»
А Ребров-Замостный между тем как-то незаметно для Александра тоже растерял в танце свои античные одежды, остался нагим, и нагота его старого тела оскорбила Александра чрезвычайно. Внезапно осознав, что шутовские одежды по-прежнему на нем, он резким ударом о колено переломил скипетр, сорвал с головы корону, а с плеч мантию. Вскочив на ноги, закричал повелительно и грозно:
— Что, ирод бесстыжий, и сейчас говорить будешь, что дворовые девки твои по воле своей да с превеликим желанием нагишом вытанцовывают, а ты между ними, похотник старый, в сраме, точно рыба в воде, купаешься! Э-эй, звание свое позоришь, предков память! А ещё князь! Завтра ж утром капитану-исправнику о поделках преступных твоих и пакостных жалобу подам! Сам в свидетели пойду!
Едва Александр начал свою гневную речь, у него мелькнула мысль, что балет сразу прекратится и музыка стихнет. Но ничуть не бывало: Ребров-Замостный и его голые плясуньи продолжали отчебучивать удалые коленца, и только князь метал на гостя мягкоукоризненный взгляд: «И чего вдруг человек взъерепенился?»
— Да кто тебе сказал, Василь Сергеич, милый, что девчата мои нагишом против своей воли танец ведут? — говорил Ребров-Замостный, чуть притомившись от резких движений. — Может, Терпс и хорочка моя, сиречь Дунька? А ну-ка, Дунька, говори господину офицеру, принуждал ли я тебя к сему бесстыдству?
— Не-а! — задорно ответила плясовица, уперевшая руки в боки и молотившая босыми ногами по доскам пола тай бойко и часто, что быстро-быстро подпрыгивали в такт движениям её изрядного размера груди. Мне дело оное очинно по душе, я перед барином своим или перед тем, на кого укажет он, ходить голая хоть с утра до вечера буду. Сие не черная работа. Или в поле спину гнуть лучше, или лен теребить да холсты ткать? Снимай мундир, барин хороший, да и иди в наш круг. У нас очинно весело! И-и-и-и! пронзительно взвизгнула Дунька-Терпсихора, а Ребров-Замотный наградил её за правильный ответ благодарным звонким шлепком по заду.
— А хоть всех муз опроси, Василь Сергеич, — ликовал князь, — каждая тебе тож самое ответит — хошь Клио, хошь Калиопа. А капитан-исправнику кляузу понесешь, так сам в неловком положении окажешься, потому как сей ответственный чин — мой заветный кум, если не сродственник прямой, и здесь, в театре, не раз гащивал да муз моих своими очесами видывал да руками поглаживал. А, что, музочки мои? Гладил вас Митрофан Никодимыч ручками своими?
Девицы, продолжали танцевать и ластиться к вихляшему бедрами князю, дружно захихикали:
— Еще как оглаживал, Евграф Ефимыч!
— Да и не токмо ручками одними прилаживался!
— Ну вот, видишь?! — радостно воскликнул барин. — И ты, Василь Сергеич, приложишься, ибо почетный ты гость, и никуда я тебя остель не выпущу, покуда не отведаешь моего творца. А готовил я сей товарец со тщанием, для наилучших моих друзей и гостей. Ну, любую выбирай, а хошь двух или сразу трех, да и веди в свои покои. Там найдешь ты усладу и не будешь больше поминать о капитане-исправнике, китайский бог!
Александр весь трясся от негодования, а Ребров-Замостный, видя его состояние, ещё и дразнил гостя:
— Ах, как тебя разобрало-то — весь ажно дрожишь от страсти, как породистый жеребец перед случкой. Ну, скитывай мундир, полезай к нам. А вы, музочки мои, помогите господину офицеру разоблачиться, а то он от волнения-то сам не свой — пуговицы оторвет, гляди!
Подталкиваемые шлепками барина, девицы с хохотом и воплями дьяволиц, обретших беззащитную жертву, стали прыгать со сцены, две из них уже вцепились в мундир Александра, две других принялись целовать обезумевшего от стыда и страха Александра, и вдруг, будто из последних сил, он закричал:
— Мало мне двух или трех, Евграф Ефимыч! Все девок подавай! Хозяином их буду!
Ребро-Замостный, за неимением муз бросивший танец, посмотрел на важного гостя с видом немалого изумления, сел на край сцены, спустив вниз толстые ноги. Такой прыти в белкловатом и лысоватом мужичке он не ожидал:
— А ведь не выдюжишь, Василь Сергеич, скопытишься, будто кляча поганая…
Александр, отлепив на некоторое время прильнувших к нему девок, продолжал кричать:
— Всех, всех хочу! Тебе не оставлю! Единственным хозяином их буду!
— На эти слова, Василь Сергеич, возражений у меня не отыщется. Ты государь, а посему и сила в тебе должна отыскаться такая… что справишься. Но, китайский бог, порхнула мыслишка, мою слабую голову маленько встревожившая. Скажи-ка, государь, каким-таким хозяином возмечтал ты быть, каким Аполлоном? Не видно разве, что поллон тут я?
И замер в улыбке настороженно-презрительной. Александр поулыбался тоже, но его улыбка была насмешливо-победной. Царь в нем встрепенулся вновь, и, освобождая от неволи этих рабынь, он становился вновь не только царем-вершителем закона, но и просто повелителем, имеющим и деньги, и относительно молодые годы и, главное, право повелевать.
— Нет, Аполлоном, Евграф Ефимович, не извольте-ка называться! прокричал Александр снова, негодующе размахивая рядом с его носом пальцем. — Я к капитану-исправнику вас не поведу, но вот хочу — и станут девки твоим моими!
— Да каким-таким манером сие чудесное представление произойдет, китайский бог? — шлепнул по голым ляжкам Ребров-Замостный.
— А вот каким, ваше сиятельство! — находясь на вершине охватившего все его существо чувства, продолжал Александр. — Куплю я у вас танцовщиц, Евграф Ефимыч!
— Купишь?! — со смехом осыпал себя шлепками Ребров-Замостный. — А что, если я возьму да и откажусь тебе их продать? Не продажный, скажу тебе, товар, лелеемый да холимый для одного лишь собственного употребления, а, что тогда, китайский бог?!
— Нет, не откажешься, ваше сиятельство! — усмехнулся Александр. — Знаю я, почем дворовые девки продаются — по пятисот рублей. Я же тебе по две тысячи за каждую музу дам, потому как сам захотел быть Аполлоном, их покровителем.
Ребров-Замостный опешил. Конечно, девки были красавицами да к тому же умели не только плясать под оркестр и творить все, что нравилось ему, их властелину, но, с другой стороны, помножив две тысячи на девять, князь увидел, какой барыш он может получить от их продажи. На восемнадцать тысяч он сумел бы приобресть у соседа деревеньку в сто с лишним душ, а уж в ней наверняка отыскались бы не девять потерянных при продаже девок, а двадцать, не меньше, плюс остальные души, работники, да пахотные земли, да луга, да рощица. Но Ребров-Замостный был ещё и просто повелителем над своими людьми, а поэтому стремление гостя сделаться в сравнении с ним повелителем ещё большего масштаба уязвляло самолюбие князя, давно уже не видевшего равных себе по могуществу во всей губернии. Униженное самолюбие сейчас могло спасти лишь похищение большей части денежных средств чудного гостя.
— Предложение твое, Василь Сергеич, — провел по густым усам Ребров-Замостный, — весьма интересно есть. Но… не таковские мы, и девок, на коих затрачено денег куча, чтоб обучить их искусствам, задаром отдавать не станем, к-хе, китайский бог…
Александр, поуменьшивший богатство своей страннической казны едва ли не на четыре пятых от начальной цифры, чуть призадумался и уже с оттенком робости в голосе сказал:
— Ну, уж не думаю, что пять тысяч серебром и золотом за каждую музу не удовлетворит ваше сребролюбие. Слышал, что отменным по личным качествам крестьянам и пятьсот рублей ассигнациями красная цена.
Неуверенность голоса покупателя была тут же уловлена голопузым человеком, умевшим не только изыскать сотню способов для утоления своих властных притязаний художественного свойства, но и помнившим, что средства к ним должны быть постоянно пополняемы методами совсем не артистическими. И Евграф Ефимович, с подчеркнутой небрежностью почесав у себя где-то пониже брюха, изрек:
— И не извольте-ка трудиться, сударь, называя такие мизерные цены. Музы вообще-то есть товар бесценный.
— Ах, бросьте вы кривляться, полупочтеннейший! — отлично понял линию поведения Александр. — Пять тысяч назначаю за каждую из муз!
Девки, прекрасно знавшие, что и пока ещё молодые груди и ляжки стоят по средним меркам от пятисот до тысячи рублей, так и ахнули, услышав о цене, назначаемой этим лысоватым и голубоглазым господином за их тела. Евграф же Ефимович, видя, что гость, в котором он увидел персону необыкновенную, превосходящую его самого по силе, смекнул, что он сейчас или полностью утешит свое встревоженное самолюбие, услышав отказ гостя, или… или ухватит немалый куш. Желая казаться равнодушным, тихо молвил:
— Десять тысяч за каждую, и ни копейки меньше… китайский бог!
Александр не был бы императором, властелином в душе, если бы позволил сейчас этому ничтожному человеку одержать над ним верх, укрепив за собой право на владение стоявшими вокруг него нагими танцовщицами. Но он также знал, что если бы князь запросил больше десяти тысяч за каждую из них, то у него просто не нашлось бы средств рассчитаться.
— Я согласен, — кивнул вчерашний император. — Деньги я отдам вам теперь же, спустя четверть часа. Пусть девицы оденутся и возьмут все, чем владеют в этом доме.
Ребров-Замостный, ополоумевший от счастья, спрыгнул с края сцены, как и был голым, подлетел к Александру, облапил своими толстыми ручищами и загудел ему на ухо, не желая замечать выражения лица гостям, когда тот силился высвободиться из его объятий:
— Истинный, истинный государь, китайский бог! Владай музами, коли ты самого Реброва-Замостного в прах низверг!
И, меняя тон и выражение лица, гаркнул в сторону девок:
— Ну, чего стоите, сучки драные?! Живо одеваться! Да барахлишко свое возьмите! Князю Реброву-Замостному оно не в надобность!
Еще была ночь, когда Александр сошел с парадного крыльца к своей коляске, поставленной на полозья. Ребров-Замостный, сам державший шандал с горящими свечами, провожал его. По сторонам — несколько холопов с факелами. Вьюжило, и согнанные к коляске своего нового владельца девки-музы, одетые в шубейки и салопы, с головами в платках, жались одна к другой, сонно зевали. Им было холодно и страшно, потому что томило чувство неизвестности: они не знали, куда поведет их новый барин. чем заставит заниматься. В доме Евграфа Ефимовича они хоть занимались постыдным делом, но свыклись с ним, в Ребровке жили и их близкие, теперь же предстоял долгий, судя по всему, путь, неведомо какая кормежка и неизвестно какой по нраву господин.
Александр залез в коляску. Ребров-Замостный бросился к нему:
— За все спасибо, государь милый! — попытался поцеловать он руку Александра. — Девок-то береги — товар первосортный да и нежнейший. А все же зря, что ты со мной жить не остался: ананасы, дыни, виноград…
Александр не ответил. Толкнув Илью в спину, сказал:
— Трогай!
Коляска выехала из двора барского дома. Девки трусили вслед за ней. Проехали деревню, спящую, молчащую. Открылось пространство поля, заснеженного, холодного, и здесь Александр отдал кучеру приказ остановиться. Поднявшись, обратился к девкам:
— Счастливый день для вас, девицы! Купил я вас у князя Реброва-Замостного не за тем, чтобы мучить постыдными домогательствами, заставлять плясать вас голыми! Всем вам дам вольные, а посему уже сейчас можете вы считать себя свободными от крепости! Какая дорога открывается перед вами! Хочешь — паши, хочешь — занимайся торговлей или иди в услужение к честным людям. От вас благодарности не прошу, потому как лишь свой человеческий долг исполнил!
Несмотря на эти слова, Александр-таки ждал хоть какого-то выражения благодарности в свой адрес, но его не последовало. Девки стояли, ежились и не смотрели на освободителя. Им не нравилось обрисованное барином будущее ни пахать, ни торговать, ни служить им не хотелось.
— Ну что же вы молчите?! — нетерпеливо воскликнул Александр, стоявший на коляске, — Вы же получили свободу, радуйтесь!
За всех ответила Дуня, бывшая в театре Терпсихорой:
— Не обижайся, барин, но не больно-то мы свободы твоей искали. Не знаем, что с ней и делать. Но, коли назвал ты нас свободными и ни к чему принуждать не желаешь, так отпусти ты нас назад, к Евграфу-то Ефимычу, слезно тебя просим!
И девки пали коленами в снег, простирая вперед руки, завопили:
— Не надобно свободы! Отпусти к прежнему барину!
— Нам за ним починно хорошо и покойно было!
— Зачем увел нас и Ребровки? Танцевали себе, если всласть, как барыни жили! А таперича-то куда? В землю ковыряться нас заставишь?!
Слезы обиды наполнили глаза Александра. Изумление его было столь огромным, что он несколько минут просто глотал холодный воздух отворенным ртом, а потом, словно лишившись дара речи, выпустил из горла то ли громкий вздох, то ли крик:
— Э-а-а-ах!
Обреченно махнул рукой, толкнул Илью в спину. Коляска в сопровождении бряцанья бубенцов снялась с места, покатилась на полозьях по неглубокому снегу, а девки-музы постояли себе на месте, поглядели недолго вслед припорошеному снегом уезжающему экипажу да и побрели с радостными сердцами в Ребровку, к барскому дому, крестясь и облегченно вздыхая: «Пронесло! Слава тебе, Господи!» А в ушах опустошенного, подавленного Александра ещё долго стоял их просительный вопль, перебираемый лезшим из памяти густым басом Реброва-Запостного: «Ну-у, китайский-раскитайский бог!»
10 ИГРА В СОЛДАТИКИ НЕ В ШУТКУ, А ВСЕРЬЕЗ
Великий князь Николай Павлович любил быть первым. Еще в детстве желание быть победителем в любой игре стало отличительным признаком его натуры, но эта страсть наталкивалась и разбивалась довольно часто об упорство противников, не желающих отдавать Николаю победу, потому что все видели, что великий князь, хоть и упрям но не слишком смел — боялся выстрелов и прятался, когда его пытались учить стрелять из пистолета. Николай знал, что не может быть первым даже в играх, и это обстоятельство сильно огорчало его, а чувство обиды подогревалось уже в отрочестве знанием и того, что он никогда не будет царем. Александр — достаточно молод, здоров, может иметь сыновей-наследников, а если таковых и не будет, то престол в случае смерти Александра займет Константин, способный иметь наследников, то есть соперников его, Николая. И это желание быть первым во всем при отсутствии необходимых к тому данных уже в детстве сделало характер великого князя желчным и недружелюбным. Все понимали, что Николай никого не любит, и, кто насколько мог себе это позволить, отвечали ему тем же. Николай же, видя, что его не любят, ещё более делался неуживчивым, нелюдимым, вымещал обиду на мир в подвластных ему воинских частях. Но вот в 1819 году Николая поразило одно известие, сильно переменившее его отношение к жизни вообще и к себе лично в частности.
Именно в этом году Николаю от самого Александра о нежелании стало известно Константина царствовать, а поскольку Александра не было наследников, после смерти царствующего императора престол мог занять он, Николай. Однако никто в России, в широких её общественных кругах, о такой перемене в судьбе Николая не знал — манифест об отречении Константина, составленный в 1823 году, Александр не только не опубликовал, но и вообще скрыл ото всех при дворе содержание его. Лишь Аракчеев, князь Голицын да митрополит московский Филарет, да ещё вдовствующая императрица были посвящены в эту тайну, но не мог же Николай слышавший о манифесте от матери, заставить брата-императора предать огласке решение, согласно которому он уже не просто великий князь, а наследник-цесаревич! Ковчежец, спрятанный за алтарной преградой Успенского собора в Кремле, скрывал тайну его собственного величия, никем не замечаемого, не признаваемого прежде, но факт которого все должны были когда-нибудь признать. Это «когда-нибудь» и отравляло его сознание, и заставляло Николая ликовать уже почти пять лет! Не имея права отнестись к придворным, к министрам, даже к родственникам как наследник престола, то есть посмотреть на них с высоты ходуль будущего императорства, сын Павла безумно страдал, и только надежда на возможную и не слишком отдаленную во времени кончину брата, дававшую право взлететь на трон, подобно птице, вливала в великого князя силы терпеть положение одного из сыновей умерщвленного царя России, пока только великого князя, командира лейб-гвардии Измайловского полка, заносчивого и не слишком умного, но слишком самолюбивого, а поэтому беззаветно ищущего короны.
В один из студеных февральских вечеров 1824 года великий князь Николай и императрица Елизавета Алексеевна сидели в креслах в одном из уютных покоев, в Аничковом дворце, имевшем окна на Фонтанку, загроможденную по обоим берегам черными тушами вмерзших в корявый лед барж. Императрица, внутренне подготовившись к неприятному разговору, заранее облеклась личиной холодного внимания. Она перелистывала страницы нарочно взятой книги. Николай же, напротив, желал казаться раскованным и непринужденным. На его коленях примостилась левретка с острой мордочкой и выпуклыми глазами. Отдаленно её морда напоминала физиономию самого великого князя.
— Так зачем же вы пригласили меня сюда, ваше высочество? — не вытерпела Елизавета.
Николай помолчал, посмотрел куда-то поверх головы женщины и с деланной улыбкой заговорил:
— Предмет разговора, ваше величество, может быть, покажется вам очень странным, даже, — Николай щелкнул пальцами, подбирая нужное слово, — даже щекотливым.
— И уж, наверное, неприличным…
— Нет, я не способен говорить с женщинами, а тем более с императрицами, о неприличных вещах. Хотя, если взглянуть на дело с определенного ракурса, то может выйти и впрямь нечто… двусмысленное. Но ведь вы — мудрая женщина, к тому же… добродетельная женщина, а уж всем известно, что чистые одежды добродетели замарать невозможно.
— Перейдите к сути дела, сударь, — начала терять терпение Елизавета, сильно не любившая Николая.
— Перехожу незамедлительно, сударыня. Итак — напрямую я имею подозрения, что под именем нынешнего государя России, моего брата и вашего супруга, скрывается личность, выдающая себя за императора Александра Павловича.
Императрица ждала, что ей когда-нибудь заявят об этих подозрениях так откровенно. Она и сама видела, что из Белорусси в столицу Российской империи возвратился совсем другой человек, но признать это Елизавета не могла — тогда бы она перестала быть императрицей, а положение государыни ей было слишком лестно. Поэтому сейчас она насмешливо вскинула брови и сказала:
— Надо же! Самозванец?
— Да, самозванец, — решительно сказал Николай.
— Но тогда я у вас, сударь, должна спросить, где мой муж? Вы были подле него в Бобруйске, спали в одном доме с императором и, выходит, не заметили, как настоящего государя, моего супруга, заменили на какого-то самозванца? вы сами-то отдаете себе очтет о том, что говорите: Ах, фантазии какие, ваше высочество! — Женщина саркастически покачала головой. — Нет уж, я скорее соглашусь с доктором Виллие, утверждающим, что оспа в некоторых случаях способна исказить черты человека до полной неузнаваемости!
Николай, злой на самого себя, не заметил, как ущипнул левретку, собачка звонко тявкнула и небольно укусила великого князя за палец.
— Ах, дьявол! — выругался Николай и сбросил девретку с колен. Потом он резко поднялся и стал ходить по комнате: — Да, ваше величество, в ваших словах много правды! Трудно, почти невозможно поверить в то, что вашего мужа каким-то образом подменили на самозванца, но и поверить в то, что общаешься с прежним Александром, когда видишь этого… рябого, тоже нельзя. Он совсем, совсем другой. Маменька, кстати, тоже не видит в теперешнем императоре своего сына.
— Что ж, и я, может быть, не вижу в нем прежнего супруга, — с твердостью проговорила женщина. — Но ведь и другие доказательства можно отыскать…
— Доказательства чего?
— Того, что нынешний Александр Павлович — истинный император. Например, почерк, манера говорить, двигаться. К тому же самозванцу трудно было бы так хорошо разбираться в тонкостях этикета, знать мельчайшие подробности придворной жизни, детали.
Николай нетерпеливо взмахнул рукой:
— Ах, оставьте, пожалуйста! Как раз все эти детали и подробности можно было бы узнать от какого-нибудь сообщника-придворного. Но вот что касается почерка, то здесь на самом деле история странная. Я носил бумаги, заполненные почерком нынешнего царя, одному ученому французу, мастеру своего дела. Дал ему для сличения и письма Александра которые он посылал мне ещё до болезни. И вот что удивительно: почерки ученый нашел принадлежащими руке одного человека!
— Ну, а я вам что говорила? — не скрыла своего удовлетворения императрица.
— Нет, подождите! И почерк можно отработать, так что нельзя сделать его доказательством. Другое важно! — Николай наставительно поднял вверх палец. — Этот… рябой…
— Прошу вас, не называйте так моего супруга и императора! потребовала Елизавета.
— Хорошо, не буду, — кивнул Николай. — Этот… император действует совсем не так, как прежний: вернувшись из Белоруссии, приступил к решительным реформам, захотел отменить военные поселения — его же детище! отобрал у Аракчеева право принимать доклады министров, задумал было одним махом уничтожить крепостное право!
— И что же удивительного вы находите в этих мерах? — усмехнулась Елизавета. — Александр Павлович смолоду имел пристрастие к реформам. К тому же вы сами знаете, что ни поселения, ни крепостное право он так и не отменил, а прием министров ему наскучил этак скоро, что граф Аракчеев и отдохнуть-то от этого занятия не успел — снова министров принимает.
— Это все верно, ваше величество, верно! — нетерпеливо взмахнул кулаком Николай. — Однако же ходят слухи, что император собирается выступить с докладом перед членами Государственного совета, где объявит о введении в стране конституции!
— И на это он имеет право, — с невозмутимым видом сказала Елизавета.
— Нет, не имеет! — совершенно забывшись, взвизгнул Николай, резко поднявшись на цыпочки и тотчас опустившись. — Да будет вам известно, я тот, кто назначен вашим настоящим супругом, императором Александром, стать его преемником в случае кончины Благословенного, а поэтому не могу допустить, чтобы какой-то там самозванец ограничивал мою власть, а то и вовсе лишал меня императорской короны! То, что чинит этот рябой, простите, похоже на то, как поступил бы якобинец, добравшись до власти! Я уже готов обратиться к министру внутренних дел с предложением организовать комиссию, которая бы тайно занялась сбором сведений, что произошло в Бобруйске и что за человек, выдающий себя за императора, силится толкнуть Россию на путь безрассудных реформ!
— Если его величество император Александр Павлович узнает от меня о том, что вы замышляете, то он и не вспомним о том, что вы — его брат! — с откровенной угрозой сказала Елизавета.
— О, не пугайтесь! — озлобленно взглянул на женщину Николай. — Чего мне терять? Лишь действуя решительно, я приобрету корону, а молчаливая слабость отнимет у меня возможность когда-нибудь стать императором. Все же, сударыня, я и пригласил сюда за тем, чтобы сделать своим союзником. Когда корона достанется мне, и самозванец будет разоблачен, вы можете явиться перед всем миром или в роли разоблачителя, или же в роли соучастника. Представляете, каким позором вы покроете себя, если все узнают, как вы упорствовали, покрывая страшного государственного преступника? Но дело может закончиться для вас не одним позором — чем-нибудь похожу! Власть отомстит сотоварищу самозванца!
— Уж не судьба ли французской королевы ожидает меня? — попыталась казаться беззаботной Елизавета.
— Ну, пусть не гильтотина, а уж заточения вам не избежать, — снова взял в руки левретку Николай и уселся в кресло. — Так вот, помогите мне на первых порах в обнаружении верного доказательства того, что прибывший из Белоруссии человек — не есть император Александр.
— Как же я добуду это… верное доказательство? — улыбнулась Елизавета, не догадываясь, к чему клонит Николай.
— О, это вам будет сделать очень, очень просто! — наклонился в сторону женщины великий князь. — Я знаю, что он пока ещё избегает вашей спальни, делая вид, что является настоящим Александром, давно уже отказавшимся от любого общения со своей царственной супругой…
— А я и не знала, что моя частная жизнь пользуется таким пристальным вниманием при дворе! — побледнела Елизавета, и слезы мгновенно заблестели на её ресницах.
— Какая наивность! — погладил собачку Николай. — Так вот, я хочу просить, чтобы вы, сударыня, очаровали своего муженька настолько, что он воспылает к вам сильной страстью. Ну, пусть всего только на ночь воспылает, на полночи, на час! Я знаю женщин, ведь их в подобных случаях обмануть невозможно. Этот экзамен вы должны будете учинить господину, назвавшемуся императором Александром, ради блага России, своего блага ну… и моего блага тоже.
Елизавета поднималась с кресле медленно, въедаясь взглядом в красивое, серьезное лицо великого князя. Впервые в своей жизни её так тяжко оскорбили.
— Вы подлое, грязное животное! — вытолкнула она слова, которыми никогда прежде не называла людей. — Уйдите прочь отсюда! Сегодня же о нашем разговоре будет передано государю!
Она направилась к выходу, унося в руках книгу, а в глазах — обиду и отчаянье, но Николай остановил её строгими, холодными словами, почти приказом:
— Вы не сделаете этого! Вы сделаете то, чего желаю я. Неужели вам приятно осознать, что вы, императрица и супруга императора, не можете вытащить мужа из постелей фрейлин, прислуживающих вам? Представляете: господин предпочитает служанок госпоже! Об этом говорит весь двор, вы же, наверное, и здесь желаете находиться в счастливом неведении? Поборитесь со своими соперницами, победите их, и двор посмотрит на вас совершенно иными глазами. Ну же, будьте императрицей и… спасительницей отечества.
Елизавета с пылающими щеками — что было ей несвойственно — выслушала всю фразу Николая, отворила дверь и, не закрыв её, вышла из покоев. А Николай, подвергав себя за ус, улыбнулся и сбросил пискнувшую левретку на пол. Он был уверен. что Елизавета Алексеевна сделает все, что было нужно ему.
Событие, о котором Николай предупреждал императрицу и о котором давно ходили слухи, свершилось: император созвал государственный совет, чтобы сделать важное заявление. Оставив Аракчееву бесполезный, на взгляд Норова, труд по приему докладов от министров, отдавшись чисто императорской деятельности, то есть присутствию на парадах, смотрах и разводах, на балах, приемах, открытиях богоугодных и всяких прочих заведений, Василий Сергеевич тем не менее не мог поступиться обещанием, данным им Муравьеву-Апостолу и Бестужеву-Рюмину.
«Да, — говорил он сам себе, — ни с отменой поселений, ни с отменой крепостной зависимости торопиться пока не стоит. Да и нужно ли? А вот свершить главный поступок, прекратить единым росчерком пера существование самовластия, деспотического и ничем не ограниченного, я могу. Введу конституцию, а там уж пусть народные избранники решают, какой быть России. Соберутся в одном зале светлые головы со всех городов и всей Руси, посидят, поразмыслят и придут к решению, которое все сословия устроит. Это будет началом века благоденствия русского народа!»
Мысля в таком именно духе и настроении, Василий Сергеевич немало покорпел над проектом манифеста, желая сделать его убедительным и ярким, искренним и вызывающим слезы умиления и радости. В зал, где в назначенный день собрались все члены Государственного совета, Норов вошел легкой стремительной походкой, рассыпая в разные стороны светлые улыбки приветствия. Ему самому казалось, что сейчас он действительно очень похож на Александра, находящегося в зените своей славы.
— Господа Государственный совет! — звенящим голосом начал он, победно и дружелюбно разом окинув взором всех собравшихся за огромным круглым столом сановников. — С сердцем, замершим одновременно и от радости, и от тревоги, собрался я донести до вас сегодня мысли, волновавшие меня долгие годы. Так послушайте же, господа, проект манифеста, открывающего новый, светлый век в истории государства Российского!
— И Норов стал читать с листа, и так ему было приятно слушать самого себя, осознавать себя великим, способным собственной рукой отречься от власти или значительно умалить её, что голос его дрожал, часто перехватывало дыхание. Нередко он прерывал чтение, глотал оранжад из стоящего перед ним бокала, смотрел на сановников мельком, но видел лишь белые блюда лиц, лишенных и глаз, и ртов, и носов. Он не догадывался, что все члены Государственного совета онемели от изумления и страха, сидят бледные и готовые упасть в обморок или истерично разрыдаться.
Он кончил чтение. Тяжело опустился на стул. Все ждал, что кто-нибудь поднимется и скажет что-то. Молчали вельможи долго, и Норов, весь горя от нетерпения, подбодрил их словами:
— Ну что же вы молчите? Говорите, говорите! Я не хочу быть деспотом, а поэтому вынес свои мысли на обсуждение умнейших людей государства. Говорите, прошу вас!
С большим трудом поднялся старый, дряхлый адмирал Шишков президент Российской Академии наук. Долго не мог сказать ни слова, все шамкал толстыми губами, и всем казалось, что он сейчас заплачет. Но адмирал и не собирался, видно, плакать. Заговорил он хоть и сипло, но громко, хоть и с тоской, но с заметной твердостью:
— Ваше величество, я — старый человек, а поэтому казни меня, секи кнутом, ссылай на каторгу в Сибирь, но я вам все скажу… Веком света назвали вы то время, что принесет с собой реформа ваша? Нет, государь веком тьмы кромешной, в которую неизбежно низренется держава наша.
— Да отчего же? — холодно спросил Норов. — Тиранию вечно терпеть хотите, когда от личного произвола коронованной особы, которая на свет и появиться может, глупой и злой, всякое зло в государстве процветать станет? Нет уж, лучше или выбирать высшего руководителя страны на несколько лет из числа самых умных и честных людей государства, или совсем отказаться от сего руководителя и отдать управление России под власть Конвента, Парламента, Думы — как хотите называйте собрание правителей от всех сословий избранных, пишущих честные законы и следящих за исполнением оных! Вот мысль моя!
Шишков в просящем жесте протянул к государю свою желтую, трясущуюся руку:
— Ваше величество, как спознать-то народу, где тот самый наиумнейший да и наичестнейший человек-то? Вот видел ты такого, к примеру, на должности губернаторской, а стал выборным царем, так и закружилась у него головка от счастья, что власть обрел. Все вкривь и вкось у него поехало, а деньги-то под рукой казенные большие, а срок-то верховной службы невелик. Разные вкруг него советчики так в боки и шпыняют — нам, нам подсоби, мы уж не выдадим тебя! И стал в итоге твой самый лучший, самым худшим, ибо не на свое место попал. Да я бы оцта своего родного на оную должность бы не выбрал, ибо не знаю, как он, прежде хороший хозяин да семьянин, там, наверху, поведет себя.
Про парламенты вы, государь, да про конвенты говорили, ну так сии учреждения и для Руси-матушки не новость. Соборы у нас издавна царями Московскими собирались, чтобы сообща важный и насущный вопрос решить. Предки ваши не затруднялись в оном деле и свое самовластие, когда нужно, всеобщим советом и размышлением ограничивали, да токмо меру в том знали. А в тех странах, где собор-парламент самовластие безграничное приобретал, в Англии, Польше, Франции, беды неисчислимые на страны и народы низвергались. Королей по своей прихоти, часто из интересов своекорыстных, суетных. выбирали или свергали да и казнили, что совсем уж богопротивно…
— А у нас, что ли, не убивали помазанников? — спросил Норов глухо и мрачностью голоса своего давал всем намек на убийство своих деда и отца.
— Что же, случалось, — откровенно ответил Шишков, — коли они того заслуживали, но делалось у нас такое злодейство не в присутствии толп народных, пришедших поглазеть, как казнят Богопомазанника, а тишком, и после объявлялось, что от телесных натуральных недугов государь почил. Государь у нас, ваше величество, это не правитель — а отец, солнце, на которое устремлены все взоры, вождь верховный, вместилище всего народного духа, радетель за всех. Управлять же можно хорошо и не через толпу людишек, наскребанных отовсюду, часто не понимающих, что требуется от них — только б выбранными миром были. Такие друг на друга начнут перекладывать заботы и вины, а уж, пользуясь моментом, зная, что не будут у власти больше, станут грести в свои карманы изо всей мочи. Государь же русский посовестится не только копейку чужую взять, но и сам свою отдаст, ибо всех своими сыновьями чтит. А умный совет ему дадут — в таких людях в России недостатка не было. Главное, чтоб целью правления его, государя, было б благо всей России. И только наследнику тысячелетнего уклада нашего и возможно прочувствовать сию мысль великую. Так что, правьте, ваше величество, как правили, а мы вам и советчиками, и помощниками, как и прежде, будем. Храни вас Христос Бог, Спаситель наш!
При последнем слове своей долгой речи адмирал Шишков закрыл лицо обеими руками и зарыдал по-стариковски, тихо, только узкие плечи его, которым и эполеты не придавали молодцеватый вид, вздрагивали часто и долго. Норов увидел и услышал, что и многие из других сановников, кивая головами, точно полностью соглашались с мнением Шишкова, выдернули из карманов платки, стали прикладывать их к глазам, послышалось хлюпанье, сморкание, всхлипывание, покашливание. Норову, растерянно смотревшему то на одного вельможу, то на другого, вдруг показалось, что все эти добрые люди только и желают ему процветания, прекрасно осознают, какой образ правления нужен России, он же посмел оскорбить их сообщением о каких-то реформах, совсем неумных, не нужных ни России, ни ему лично. И Василию Сергеевичу захотелось заплакать вместе со всеми этими преданными ему мужами и даже попросить у них прощения. Но, сдержав все же этот сильный и горячий порыв, Норов, неаккуратно, торопливо сворачивая и пряча в карман листок с проектом манифеста, над составлением которого так долго бился, глядя в угол зала, где стояла статуя Минервы, сказал:
— Господа Государственный совет. Будем делать перемены во всей жизни страны непременно, но неспешно, осторожно, чтобы и впрямь, не дай Бог, не сотворить для народа какой-либо вред!
Он коротко кивнул и поспешил выйти из зала, в котором сразу стихли и сморкание, и покряхтывание расстроенных предстоящими переменами. А Министр юстиции князь Лобанов-Ростовский, прикладывая ко рту руку, поставленную ребром, очень громко прошептал, обращаясь к военному министру графу Татищеву:
— Не иначе как Мишка Сперанский государю про реформы надудел. Возвратится, сынок поповский…
— Навряд ли, — мазнул рукой Татищев. — Сам государь блажит, дурью мается. Сие у него от болезни получилось. Ничего, пройдет! Поуспокоится…
И Норов успокоился. До этого заседания ему и впрямь было как-то маетно, тревожно, точно он не отдал кому-то большой долг, а долги он привык отдавать вовремя, когда ещё учился в Пажеском корпусе. Теперь, выйдя из зала заседаний Государственного совета, он испытал особую легкость: он, привыкший к положению первой персоны огромного государства, в глубине души и не хотел расставаться с властью, необременительной, нехлопотной, и только обещание, данное заговорщикам в Бобруйске, подталкивало его к свершению перемен. Теперь же он понял, что ни он не желает этих перемен, ни страна. Кроме того, многое из того. что говорил сегодня адмирал Шишков, бродило прежде и в его голове, и теперь чужое мнение лишь вернуло его память к тем далеким сомнениям в надобности всех этих форм.
«Ну что может сделать один человек, даже если он на вершине власти? думал счастливый Норов. — Ничего! Страна живет по давно сложившимся законам, обычаям, все прилажено одно к другому, как в часах, и моя обязанность сейчас лишь следить за работой этих огромных часов, подправлять, подновлять детали, чистить весь механизм. И, главное, быть тем самым вместилищем всего народного духа, радителем и отцом. Все — просто! Я — винтик этой машины или, вернее, часовщик!»
Очень довольный сегодняшним днем, своим остроумием по поводу идеи о часовщике, Норов «имел верховой выезд прогуливаться».
«…государыня императрица Елизавета Алексеевна соблаговолили прибыть с принцессою Вюртембергскою Мариею в Кавалерскую собрания комнату в половине 9-го часа, и тогда бал открыт был в первой паре обер-гофмейстером графом Литта со статс-дамою княгинею Лопухиной».
(из камер-фурьерского журнала)
Все, кто присутствовал на бале, обращали внимание на то, что государыня сегодня как-то особенно обворожительна (чего за ней не замечали уже давно), оживлена и даже возбуждена. Живые камелии украшали её волосы и прекрасно сочетались с повязкой с гребнем из бриллиантов. Статс-дама графиня Ливен, глядя на то, как Елизавета Алексеевна участвует в кадрили с фигурами и туром вальса после каждой ритурнели, шепнула на ухо княгине Голенищевой-Кутузовой:
— Похоже, это последние всплески молодости перед окончательным увяданием коронованной женщины. Увы, и нас это ожидает.
— Нет, милочка, — веско возразила княгиня. — Как видно, причина совсем в другом. Взгляните, как государыня смотрит на их величество, а он — на нее. То, что происходит, похоже, скорее, на государственный переворот, чем на причуды возраста.
Норов же смотрел на танцующую с ним Елизавету и удивлялся. Вот уже полгода он был императором, являлся супругом этой женщины, сторонился её потому, что хотел выглядеть в своей холодности к ней более похожим на настоящего Александра Павловича, встречался наедине с фрейлинами, но теперь перед ним словно распахнулось окно в какой-то иной мир — в мир с чуть увядающей, но блистающей последними красками природы, какой-то манящей, покойной, тихой. Этот мир обещал полное успокоение и надежность, так необходимые ему. А Елизавета, ощущая свою привлекательность, успевала прошептать ему, когда они встречались в туре вальса:
— Неужели вы совсем забыли свою Лиз, мой государь? Так вспомните же, как мы были счастливы когда-то, как я горячо обнимала вас! Зачем вы оставили меня ради каких-то девчонок? Уверяю, я ещё смогу подарить вам немало горячих ночей, таких жгучих и страстных, что вы забудете всех своих возлюбленных! Ах, дорогой, придите после бала к своей бедной Лиз!
«Она что же, на самом деле видит во мне Александра? — пугался и одновременно радовался Норов. — Ну так я проверю, сегодня же проверю Александр ли я? Проверю, не притворяется ли Елизавета! А, может статься, она знает, кто я, но ей просто нужен возлюбленный взамен покинувшего её прежнего мужа. Проверю, обязательно проверю! Впрочем, эта женщина, которая старше меня более чем на десять лет, действительно чертовски хороша и ещё совсем свежа. Так почему бы мне не вернуть ей счастье любви под маской… нет, без маски! Я буду с ней Василием Норовым, который всегда умел обворожить женщин!»
… В спальне Елизаветы камин к утру успел остыть, а поэтому было прохладно, и женщина сидела на кровати с бокалом вина в руке в накинутой на обнаженные плечи ночной кофте. Горели свечи, и Норов видел, что императрица, хоть и не имела сейчас на голове ни бриллиантовой повязки, ни камелий, разбросанных у постели, но выглядела ещё более обворожительной, чем на балу. Прихлебывая вино мелкими глотками, она со счастливой, но чуть лукавой улыбкой, смотрела на лежащего мужчину.
— Надеюсь, вы и ваши друзья не уморили, по крайней мере, моего бедного супруга?
Наров почувствовал, что краснеет, однако отпираться было бесполезно. Понимая, что Елизавета не выдаст его, он сказал:
— Нет, Александр жив, но погиб для мира. Он сам предложил мне… стать императором.
— Ну, и тебя нравится быть им?
— Несколько суетная должность, но не лишена приятности. А в общем все начинания мои, как видно, идут прахом.
— Ты имеешь в виду свои реформы? — усмехнулась Елизавета и пригубило вино. — Постарайся поскорее позабыть о них. Они уже встревожили весь петербургский свет. Ты не догадываешься, что есть люди, подозревающие, что не Александр явился из Бобруйска, а самозванец?
— Догадываюсь, но не боюсь никого. Ты же меня не выдашь?
— Нет, конечно, — Елизавета провела ладонью по ноге мужчины, — но лишь в том случае, если ты будешь и впредь таким же… как сегодня. Завтра я доложу твоему братцу Николаю, что увидела в тебе прежнего Александра. Именно доложу, потому что он пугал меня каторгой и даже виселицей, если я не увлеку тебя на свое ложе и не расскажу ему потом, кого я нашла на нем6 мужа или самозванца.
— Ты, выходит, обольщала меня сегодня, исполняя приказ этого бурбона? — приподнялся Норов.
— Нет, успокойся. У меня на тебя были свои виды. Думаешь, оспа сильно обезобразила тебя как мужчину?
— Но почему же ты не попыталась сделать это прежде? — улыбнулся Норов улыбкой довольного и сытого самца.
— Почему? Хотела разрешить тебе побыть ещё немного Александром. Ведь тебе этого хотелось, правда?
Норов промолчал. На душе стало противно. Он, пришедший с пистолетом в спальню к императору, чтобы арестовать его, позволивший обезобразить свое лицо ради счастья России, как оказалось, не смог ничего, кроме участия в церемониях и балах да в альковных забавах. Ощущение неудачи, катастрофы вдруг коснулось его и тут же исчезло. Нужно было хоть чем-то оправдать свое пребывание во дворце, в спальне императрицы.
«Если уж нет настоящего Александра, — сказал он себе твердо, — то я буду им до конца, иначе Россия, как говорил адмирал, низвергнется в пучину бед. Хоть в этом я послужу делу добра!»
— Лиз, — сказал он вслух, — ты не найдешь к Николя с докладом. Я сам встречусь с ним и поговорю обо всем. У меня с ним счеты ещё с детских лет. Ведь в солдатики вместе играли!»
Он вызвал к себе Николая уже на следующий день, встретил великого князя и брата императора сидя в мундире и с Андреевской лентой через плечо, сесть не предложил и сразу же потребовал дать отчет по всем вопросам, касающимся личного состава, сохранности оружия и состояния хозяйства лейб-гвардии Измайловского полка. Николай хотел было с первой фразы принять тон приятельский, родственный, но Василий Сергеевич тотчас исключил этот тон фразой:
— Извольте докладывать по всей форме, полковник! Я вас позвал сюда дела ради, а не для того, чтобы выслушивать ваш лепет!
Побледнев, Николай довольно сбивчиво, так как не готовился к отчету, принялся рассказывать о положении дел в полку. Собраться с мыслями ему ещё мешало чувство озлобления. Он был уверен, что сидящий перед ним человек не император России, и что-то упрямое, трудно сгибаемое, сидевшее в его сознании, противилось отвечать ему да ещё в такой унижающей достоинство казенной форме.
— Вы плохо знаете свой полк, полковник! — поднимаясь со стула, громко и резко прокричал Норов, влагая в этот крик амбиции командира роты. — За такое-то неведение в отношении вверенной военному чину части командиров понижают в чине, лишают должности, штрафуют! А ведь речь идет не о каком-то армейском полке, а о столичном, лейб-гвардейском! Вы позорите русскую армию, великий князь, зато вам, я знаю, вам куда интересней заниматься грязными интригами, влезать в семейную жизнь высших особ империи, с непозволительной бестактностью пытаться выведать интимные тайны у дам высшего, самого высшего света!
Когда Норов произносил эту фразу, в его памяти вдруг вспыхнула картина детства: два мальчика, построив в ряды две армии оловянных солдатиков, ведут сражение, один из них побеждает, и вдруг другой… И ещё одна: великий князь в полковничьем мундире отчитывает перед строем капитана и делает это так грубо, в таких непристойных выражениях. И теперь вновь один из тех самых противников выводит против старинного врага свой полк, хотя прекрасно знает, что на него могут двинуть не полк, а целый корпус, даже армию, но он отчаянно рвется в бой, потому что его характер требует решительной победы или… полного поражения и смерти со славой.
Николай, слушавший поначалу грозный выговор с лицом побледневшим, с трясущимися пальцами рук, вдруг надменно сложил их на груди и, негромко рассмеявшись, быстро сел на стул, забросив ногу на ногу, будто очень спешил этим жестом выразить свое полное безразличие к словам человека с изрытым оспой лицом.
— Так грубо мой брат со мною никогда не говорил! — покачал он головой. — Стоило ли так явно выказывать свою нелюбовь ко мне… господин капитан?
Николай посмотрел на Норова, желая придать своему взгляду как можно больше многозначительности. Василий Сергеевич не ожидал такого самообладания и такой откровенности от своего врага. Конечно, он мог закричать на Николая ещё громче, мог выгнать его вон, но сделав это, он бы поступил точно так, как обошелся с его солдатиками когда-то великий князь Николай. Поэтому Норов спокойно опустился на стул и широко заулыбался, глядя прямо в холодные серые глаза Николая. Требовалось поскорее дать ответ, и Василий Сергеевич с тихой ненавистью произнес:
— Так потому-то и не говорил он с вами столь грубо, господин полковник, что был вашим братом. А службу-то служить надобно, вы ведь и жалованье полковничье аккуратно получаете!
Теперь уже Николаю пришлось собираться с мыслями, потому что и он не ожидал от человека с оспенным лицом, в котором внезапно, к великой радости своей, узнал Норова, сильно не уважавшего его, такой наглой прямоты. Конечно, он мог кинуться сейчас за караулом, арестовать или только попытаться арестовать самозванца, но что-то мешало великому князю исполнить это намерение. Мешала поразительная уверенность Норова в себе.
— Ну, и где же мой братец? — только и просил он, хмурясь.
— Не знаю. — Откинулся Норов на спинку стула. — В Бобруйске, в комендантском доме, когда я был на карауле, император… сам передал мне право на престол, желая освободить себя от бремени власти. Вот я и несу это бремя…
У Николая вдруг сильно закружилась голова, потому что в ней никак не могла уложиться мысль о том, что его брат, человек рассудительный и осторожный, мог доверить империю какому-то капитану.
— М-да, — произнес он наконец, — просто романная история. Но ведь у нас не Древний Рим, где император мог завещать скипетр кому угодно. Есть же и порядок престолонаследия, установленный моим батюшкой…
— И моим тоже, не забывайте! — вдруг вскинул вверх руку Василий Сергеевич, и благодушие разлилось на его уродливом лице.
— Как это… вашим? — нахохлился Николай. — По какому это праву?
— А по праву случая, господин полковник! Случай даровал мне возможность стать императором, взяв его имя. Я живу и правлю под именем «Александр Павлович», стало быть, покойный Павел Петрович — мой батюшка, а вы, Николя, мой братец. Мы раньше так часто ссорились, вы все время хотели выказать передо мною свое превосходство в происхождении, я же был ловчее и умнее вас, таковым остаюсь и по сей день. Ну так чего же роптать на судьбу? Да и Россия не ропщет! Я попытался было править по-новому, хотел осчастливить россиян реформами, вмешивался в дело составления указов, но все это оказалось для державы делом ненужным. Мне нравится править и я буду продолжать оставаться императором. К тому же, — но это уж пустяк, — я страшно нравлюсь моей супруге Елизавете. Она находит, что я куда более мужественный и нежный, чем Александр — что ни говори, а разница в годах сказывается!
Николай, весь дрожа от бешенства, фыркая что-то нечленораздельное, вскочил со стула:
— Да это… да это… черт знает что такое! Неужели ты, самозванец уверен в том, что тебя не разоблачат? Да я сам сейчас же пойду и доложу всем высшим персонам государства о том, кто находится на престоле! Тебя, Норов, закуют в кандалы, ты будешь допрошен с пристрастием, пытан, а потом и казнен — четвертован! Да, четвертован! Я же, ненавидя тебя, буду стоять рядом с эшафотом и смотреть на то, как тебе вначале отсекут одну руку, потом — другую, потом…
— Николая, ты всегда был только мелким, но жестоким дураком! презрительным тоном прервал Норов задыхавшегося от ярости Николая. — Ну, подумай сам, за что меня будут казнить? За то, что твоему братцу заблагорассудилось поменяться со мной местами? За это не казнят, даже не заковывают в кандалы. Большего порицания, мнится мне, заслуживает Александр, не вынесший тяжести короны. Потом взгляни на дело шире: кому охота признавать во мне самозванца? Аракчееву? Да он, как сам говорит, без лести предан мне! Придворным? Министрам? Генералитету армии? Нет, уже поздно искать во мне самозванца, или придется признаваться в своей глупости — почему-де полгода разглядеть негодяя не могли? А русское, а мировое мнение о России? Так ведь всех вас дураками назовут, пошлейшими дураками и мерзавцами, с которыми и общаться-то никак нельзя, раз вы так долго распознавали самозванца. А царь-то наш, а Александр Благословенный, в каком свете перед всей Европой выйдет?! Ан нет, нехорошо, Николя, нехорошо получится, просто гадко. Ты, конечно, можешь броситься за караулом, приведешь их сюда, а я одним лишь движением глаз заставлю их уйти! Бенкендорфа приведешь? Милорадовича? Татищева Братьев Константина и Мишеля? Я всем им скажу, что ты рехнулся, потому что спишь и видишь себя царем! ты к власти очертя голову рвешься, но вот тебе мой совет — не суетись, подожди немножко. Может быть, я сам уйду отсюда, и тебе власть достанется, тебе одному. Впрочем, — Норов улыбнулся, — ты можешь поступить иначе: возьми да и отрави меня тихонько, и когда меня похоронят, как и нужно похоронить законного государя, ты по праву о престолонаследии, согласно указу батюшки нашего и духовной нашего же братца Александра, пряменько на престол и попадешь. А покамест — не шебурши, не смеши людей!
Николай, слушавший Норова с лицом одеревенелым, неподвижным, с рыбьими, не смотрящими никуда глазами, пошатнулся, но тут же, схватившись за столешницу, выпрямился и стал похожим на оловянного солдатика. На каблуках повернулся к двери, пошел было к ней, но снова качнулся, ноги его подкосились, и он, статный, широкоплечий, грохнулся на пол. Норов же спокойно взял со стула колокольчик, позвонил, и когда вошел камердинер, сказал ему, указывая на лежащего без чувств великого князя:
— Голубчик, позови-ка скорее дежурного медика. Господину полковнику плохо.
Давний враг был сражен без единого выстрела.
11 СТОЛОНАЧАЛЬНИК ПРИЛЕЖНЫЙ И ЧЕСТНЫЙ
— И ничо, ничо, батюшка, удалый наш, ничо! — то и дело говорил Илья, погоняя лошадей. — Ничо! Ничо!
Говорил он это часто, и Александру, забившемуся в глубину кузова коляски, превратившейся в кибитку, едва она заимела полозья, все казалось, что эта пустая фраза, обращенная, нужно было думать, к кореннику, относится только к нему оному. Александр понимал, что сметливые Илья и Анисии знают, что в шкатулке его пусто, а поэтому обещанной награды им не видать, но Илья со своим «ничо» как бы утешает его или этим словом, наоборот, пытается заставить его стыдиться того, что все свои деньги он потратил впустую, да ещё напоминает об обещанном и призывает что-нибудь да придумать.
«Эх, действительно! Надо же было мне ввязаться во все эти дорожные истории! Такая обида и такой срам! Но зато как я узнал свою Россию! Почему мне не показывали всех этих безобразий? Я бы правил совсем иначе. Но теперь поздно об этом говорить — престол занят бунтовщиком, и его никто не сумел или не захотел уличить! Что будет с державой? Но нет, мне теперь все равно — скорее бы добраться до Новгорода, поступить в монастырь, скрыться в нем до гроба, до новой, лучшей жизни!»
Но едва Александр начинал думать о монастыре, его начинало терзать сомнение. Как войдет он к архимандриту Фотию? Кем назовется? Узнает ли он его? Решится ли сохранить его тайну? Конечно, думал Александр, узнает, но тогда понадобится обязательно сделать большой вклад в монастырскую казну бывшему государю неловко явиться в обитель с пустыми руками. Издавна так было заведено на Руси, что богатые миряне, уходя от мира, несли в монастыри серебро, отписывали им земли, чтобы вечно на молебнах поминались их души. И вот теперь приходилось ежится от одной лишь мысли, что он не внесет в казну Юрьевского монастыря ничего.
— А вот и Новгород! — не то чтобы радостно, а как-то удивленно воскликнул однажды Илья. — Евоная застава впереди!
«Новгород! — сжалось сердце Александра. — Монастырь, Фотий, его суровые глаза, а ещё глаза моих слуг, которым…»
— Илья, — позвал кучера Александр, когда кибитка миновала заставу, — к монастырю пока не правь. Заедем в город, в какой-нибудь трактир или в кухмистерскую. Закусим немного…
— Куда прикажете, Василь Сергеич, — весело отозвался Илья, твердо усвоивший в дороге новое имя барина. — Оно-то дело понятное — перед монастырской рыбкой вяленой да хлебушкам надо бы подкрепиться. Ничо! Ничо!
Александр хоть и почувствовал в словах Ильи легкую насмешку, но упрекать кучера и не думал. Он сам понимал, что стал ничем, и теперь даже слуга под видом добродушного участия может указать ему на принадлежащее ему место. Он лишь поплотнее запахнулся полстью, как бы отгораживаясь толстой медвежьей шкурой от мира, казавшегося ему враждебным.
Долгое и громкое «тпру-у-у!» Ильи сообщило Александру, что коляска остановилась там, где было необходимо.
— Пожалте, Василь Сергеич, ресторация «Олимп», первостатейнейшая во всем Новегороде, — повернулся на облучке Илья. — Сам когда-то пил здесь кофий и учился играть на бильярде, да плоховато выходило.
Александр, уже с раздражением слушавший болтовню Ильи, которой кучер все чаще и чаще угощал его на каждой остановке, захватив с собою пистолетный ящик, — так, как-то машинально, считая пистолеты своим главным и последним сокровищем, — сошел на рыжий от конского помета снег. В вестибюле кухмистерской сдал на вешалку шинель, прошел в зал, украшенный даже зеркалами и хрустальной люстрой, со страхом подумал: «А вдруг не хватит денег рассчитаться? Ведь только двадцать пять рублей-то и осталось!» С болью в сердце вспомнил он о том, как рассчитывался с Ребровым-Замостным бриллиантовыми и золотыми вещами, бывшими в его шкатулке, как снижал князь цену каждой вещи. Александр вообразил радость «китайского бога», увидевшего своих девок возвратившимися домой, в его театр, и ему стало больно и стыдно за себя и за Россию.
Сел за стол и заказал половому самый скромный ужин, боясь, что и впрямь не хватит денег. Скоро принесли еду, и Александр, с трудом скрывая чувство голода, стал есть щи с кулебякой, ожидая, что вот-вот принесут жаленую курицу и он с жадностью набросится и на нее. Но второе блюдо почему-то задерживалось, и Александр поневоле, от нечего делать, стал приглядываться к сидевшим за соседними столами посетителям. Были здесь и военные, ужасно громко спорившие, клявшиеся и божившиеся, бившие себя в грудь, но не перестававшие звонко чокаться бокалами, были люди и поприличней, поспокойней. Два таких господина привлекли внимание Александра — оба в дорогах, хорошего сукна фраках, даже модных, в галстуках, подпиравших чисто выбритые подбородки, напомаженные, с перстнями на руках. Но даже не в этом заключалась причина заинтересованности Александра этими молодыми, слишком молодыми людьми. Они с такой приветливостью разговаривали друг с другом, обменивались улыбками и изящными жестами, что выглядели глубоко воспитанными и хорошего общества людьми. Кроме того, они что-то чиркали карандашиками на листках бумаги и показывали друг другу свои записи, и были, по всему видно, очень довольны друг другом. Между тем беседа и чирканье на листках не мешали им есть, тоже очень изящно, и ели они, заметил Александр, какие-то дорогие, изысканные кушанья и пили с большой осторожностью какое-то дорогое вино из бутылки весьма затейливого вида.
«Вот есть же приятные люди! — чуть ли не с завистью подумал Александр, вспомнив, каких мерзавцев довелось повстречать ему на своем пути. Наверное, где-то служат. Возможно, архитекторы или механики. Да, есть ещё приятные люди в России!»
Однако взгляды Александра, бросаемые им то и дело, привлекли внимание молодых людей. Вначале один, а потом и другой улыбнулись ему, а потом и приветливо кивнули головами. Затем они коротко переговорили о чем-то, и оба друга разом поднялись и направились к столу Александра, подойдя, поклонились и один из них с робостью в голосе сказал:
— Боясь нарушить ваш покой, осмелились тем не менее отдать вам, сударь, поклон почтительного внимания, ибо в нашем древнем городе людей благородного воспитания совсем уж не осталось, а может быть, и не водилось никогда. Представиться позвольте: Суржиков, счетовод здешней палаты государственных имуществ, а мой приятель…
— Коржиков, — отдал поклон другой мужчина, — той же палаты секретарь.
Александра вначале немного смутило то обстоятельство, что оба господина имели столь похожие фамилии, но их приветливые лица мигом успокоили его, и Александр, сам стараясь выглядеть как можно более любезным, спросил:
— Да отчего же вы решили, господа, что я человек благородного воспитания? На мне что же, написано сие?
— Именно так-с! — кивнул Суржиков, а Коржиков добавил:
— Ваша физиономия хранит на себе отпечаток старинной русской добропорядочности и глубокого ума. Но с кем же мы имеем честь беседовать, просим покорнейше простить? Впрочем, что же этро мы? Эдак-то, стоя! Не пожалуете ли за наш стол отведать с нами то, что Бог послал!
— Просим, просим! — уже взял Александра под локоток счетовод.
Александр, хоть и опасавшийся немного, что это предложение может повлечь за собой новые неприятности, как это и случалось прежде, просто не в силах был отказать приятным молодым людям. Подхватив под мышку пистолетный ящик, он в сопровождении благоухающих помадами и духами господ пошел к их столу, где тотчас представился, и новые знакомые Александра дружно заахали:
— Ах, так вы в отпуске! — говорил Суржиков.
— Ах, так это замечательно, просто великолепно! У вас, стало быть, есть досуг! — вторил ему Коржиков. — А это что у вас за ящичек, господин Норов? Неужели пистолеты?
— Да, пистолеты, — признался Александр, — не решился оставить их в коляске.
— Ах, покажите, пожалуйста! — всплеснул руками Суржиков. — Я так привечаю доброе оружие. Будете у меня в гостях, увидите мое собрание. Ах, покажите!
— Но здесь, боюсь, это будет неуместно, — несколько смутился Александр, взглянув по сторонам.
— Ну что вы! — скорчил кислую мину счетовод. — Приличным посетителям в «Олимпе» все уместно.
Александр откинул крышку, и сразу же возглас восхищения сорвался с уст чиновников.
— Неужели «Лепаж»?
— Настоящий «Лепаж»?!
— Верно, «Лепаж»… — был вконец сконфужен Александр, видевший, что офицеры за соседним столом притихли и настороженно смотрят в их сторону, будучи недовольными, наверно, что какие-то штатские во фраках знают толк в оружии. А Суриков, сказав: «Позвольте-ка!», извлек один из пистолетов, с шутовской бравадой прицелился в люстру и сказал: «Ба-бах!», а потом с огорченным видом положил пистолет на место:
— Жаль, что в Новгороде нет порядочных оружейных лавок. Я бы непременно купил себе «Лепажа».
Александру до того приятен был этот молодой человек, что он, улыбнувшись, негромко сказал, боясь, что услышат офицеры:
— Право, я бы только польщен был, если бы вы приняли в подарок эти пистолеты, но… но, признаюсь, я в дороге несколько поиздержался и уступлю их вам за умеренную цену. Сто рублей за пару не дорого будет?
Суржикову, казалось, невозможно было сдержать восторга, готового выплеснуться наружу. Он вначале постоял молча с отворенным ртом и выпученными от счастья глазами, потом схватился руками на ящик, вперившись взором в пистолеты, зачем-то схватил Александра за плечи и потряс его, потом полез за бумажником и извлек из него две полусотенные, новенькие, точно выглаженные утюгом.
— Василий Сергеич, обожаемый! Как вы осчастливили меня! Прямо восторг сердца! Да хотите я вам за них ещё пятьдесят наброшу? Хотите?
— Нет уж, и того довольно… — был счастлив Александр при виде осчастливленного им чиновника. Пистолеты ему были не нужны, а вот сто рублей казались совсем нелишними. Суржиков между тем, насмотревшись на покупку, закрыл ящик и уже с очень серьезным видом обратился к Александру:
— Я не имею права вторгаться в дела человека благородного, к тому же до меня касательства не имеющие, но вы, господин капитан, меня несколько огорчили, да-с.
— Но чем же? — удивился Александр.
Суржиков поцокал языком, покрутил сокрушенно головой и сказал:
— Да вот тем, что сказали, будто поиздержались несколько… И вот, знаете ли, какая мысль посетила мою сирую на мысли голову. Думаю, что и господин Коржиков со мною согласится…
— Да-да, — кивнул Коржиков, даже не узнав содержания «мысли».
— Вот что, почтеннейший Василий Сергеевич. Пустует, знаете, в нашей палате местечко одно тепленькое, столоначальника. Ищем, ищем подходящего человека, аккуратного и честного, да все найти не можем.
— Да, да! — снова поддакнул Коржиков.
— Так вот, не окажете ли нам Божескую милость, не возьметесь ли на месяцок-другой на ниве государственных имуществ потрудиться. Вы в отпуску сейчас, а?
— Помилуйцте! — развел руками Александр. — Я же на военной службе — не положено!
— Да и что ж, что не положено-с! На сюртук штатский вам председатель денег отпустит, примет как своего человека, а вы покопаетесь в бумагах, деньжат подкопите да и отправитесь дальше по своей надобности. Оклады, правда, у нас невеликие, зато наградные отменные, весьма изрядные. У вас как с арифметикой?
— Да в кадетском корпусе из первых был, и сейчас, полагаю… покраснел Александр, но тут же засомневался: — Только, простите, как же так — сразу и столоначальником?
— Именно-с! — легонько ткнул Суржиков пальцем в грудь Александра. Говорю вам — нам исправный и честный чиновник надобен, а вы и есть кандидат на это место самый подходящий. Ну, Василий Сергеич, вижу, что согласились, да? Ежели о квартире беспокоитесь, то не надобно! Я вам сейчас же, как из «Олимпа» выйдем, такую тихую да чистую квартирку покажу, недорогую притом, что вы навек новгородцем быть захотите.
И Суржиков, повернувшись на стуле, крикнул проходящему мимо половому:
— Эй, человек! Прибор ещё один неси, шампанского и всяких к нему необходимых деликатесов. — И с радостным лицом оборотившись к Александру, зашептал: — Месяцок-другой — да и поезжайте восвояси!
Нет, Александр не спешил давать согласие. Что-то в обещании чиновника напоминало ему эпизод с купцом Переделкиным, зазывавшим его к себе и тоже сулившим скорый и счастливый отъезд. Но Александру очень нужны были деньги, а поэтому он спросил:
— Но скажите все же, что могу я получить в вашей палате за свою службу?
Суржиков задорно вильнул глазами:
— Предостаточно, хоть, повторяю, оклады наши совсем-то плохонькие. Вот я, к примеру, как счетовод получаю в месяц двадцать пять рублей, но, — он показал рукой на блюда, на свой фрак, — сами видеть можете, проживаю сумму гораздо более значительные. Вам же, столоначальнику, то есть почти что второму лицу в палате после председателя и того больше приплывет.
— Да как же это… приплывет? — наивно улыбнулся Александр. — Взяток я брать не умею, да и не могу их брать. Вам же честный человек нужен, правда!
— Конечно! — ласково ударил Суржиков ладонью по его руке. — Конечно, милый Василий Сергеич. Вам и не надобно уметь брать взятки. Что касается вашей честности, то она останется незапятнанной, а все-таки получите свою прибыль, уверяю вас! О, а вот и «Вдова Клико» собственной персоной! — сам выхватил чиновник из ведерка, принесенного официантом, бутылку шампанского и с шумом расплескал вино в бокалы: — Ну что же, вы уже наш, Василий Сергеич, дорогой?
Александр, весь объятый облаком тепла, исходящим от этой милой обстановки, от этих приятных, радушных молодых людей, захмелев и без вина, несильно ударил бокалом в бокал Суржикова, а потом в бокал Коржикова и решительно сказал:
— Я ваш, господа! Послужу месяц или два, а там видно будет!
Суржиков, состроив на лице самую сладостную гримасу, чмокнул губами, будто собираясь поцеловать Александра, и сказал:
— Душка же вы, Василий Сергеич! Всю палату своим присутствием осветите, будто солнце весеннее! Ну да, как говорили древние греки, произведем возлияние на алтарь государственных имуществ, и путь Фортуна не стряхнет нас со своего колеса!
Изрядно захмелевшего от большого количества выпитого шампанского Александра Илья вез на бричке, катившейся вслед за экипажем, в котором сидели Суржиков и Коржиков, и новоиспеченный столоначальник, счастливый и полусонный, думал о том, как хорошо быть чиновником палаты государственных имуществ — жалованье, наградные, милые сослуживцы, тихая квартирка. Он был счастлив ещё и потому, что служба обещала принести ему недостающее, то есть деньги, необходимые для расчета со слугами и вклада в монастырь.
«Ну что ж, послужу пару месяцев да и уйду в отставку, чтобы навсегда распрощаться с миром. Да мне и любопытно взглянуть на то, как служат чиновники, увидеть их жизнь не со стороны, а как бы изнутри. Ой, хорошо-то как на душе! Вот, ещё несколько часов назад так скверно, гадко было, точно в давно нечищенной конюшне, а теперь — будто сад в душе расцвел! Эх, люди, люди! Я так мало знал вас прежде, все вы были только подданными, а теперь сделались или врагами моими, или друзьями. Нет, нынешняя жизнь мне нравится куда больше, чем прежняя — фальшивая во всем, показная, где я словно заключил с людьми договор: я лгу вам, притворяюсь, а вы лжете мне и тоже притворяетесь во всем. О, я люблю тебя, моя нынешняя жизнь и… и боюсь тебя».
Квартира Александра, к которой привели его друзья-чиновники, располагалась в низеньком, черненьком деревянном домишке, имевшем мезонинчик с полукруглым окном, а стоял тот дом на самой окраине города.
— Ну, вот и прибыли на квартиру, ваше высокоблагородие! — подошел Суржиков к бричке Александра. — Плату я хозяйке-майорше уже за два месяца вперед внес. Дрова и ужин от нее, ну а уж завтрак и обед сами себе отыщите. Завтра поутру к вам заезду — отправимся в палату, надобно вас председателю представить, чтобы на службу принял.
Александр, вконец умилившийся. стал торопиться было рассчитаться с добряком Суржиковым, но чиновник ни за что не хотел брать с нового столоначальника денег, и тогда расчувствовавшийся Александр попросил у него разрешения поцеловать его, на что Суржиков охотно согласился. Заодно Александр влепил долгий поцелуй в свежую, холодную щеку Коржикова, и друзья укатили. Но едва их экипаж скрылся со тьме глухой, уже ночной улицы, как Илья, так и сидевший на козлах, твердо сказал Александру:
— Василь Сергеич, хоть речь меня, хоть в прорубь кидай — не стану во двор заезжать!
— Это отчего же? — очень удивился Александр, ни разу в жизни не видевший, чтобы слуги ему перечили.
— А оттого, что знакомцы новые ваши, выжиги до ерники ещё почище тех, что мы с вами прежде видали! Эк куда вас завезли! На погибель верную! Не заеду во двор, хоть из пистолета в меня стреляйте!
— У Александра уже не было пистолетов, но зато в нем ещё жила уверенность в том, что кучер, бывший дворовый человек, должен подчиняться барину беспрекословно, если не желает быть отлученным от должности, многими дворовыми считавшейся почетной, и наказанным розгами. А поэтому Александр, никогда прежде не кричавший на Илью, заорал:
— Ты, холоп! Как смеешь о господах так рассуждать?! Воли много дал тебе, ну так я и заберу у тебя эту волю! Нет, напротив — прочь тебя прогоню да и награды обещанной не дам! Осмелился барину перечить! И ты, Анисим, такого же мнения о друзьях моих новых?! А?! Говори!
Анисим, в отличие от Ильи надеявшийся на обещанную награду, тем не менее сказал:
— Думается и мне, ваше высокородие, что неспроста люди оные так озадачились подысканием для вас квартиры да ещё и такую скверную присоветовали вам. Осмелюсь заметить, только вы не серчайте, что слишком уж доверчивы к людям вы… будто дитя, а поэтому все невзгоды ваши. Не поспешить ли нам в монастырь? А если, ещё раз простите, нет у вас денежной м?чи, чтобы наградить нас с Ильей за службу, то и не надобно. Лишь бы вы, государь наш, не погубили себя, со всякими жуликами в дружбу вступая.
— Сомнение в необходимости проживания в черном домишке мелькнуло вдруг в голове Александра, но он тут же отогнал это сомнение, потому что не доверял слугам своим. Анисим уже присоветовал ему как-то представляться императором, и что из этого получилось, Александр помнил хорошо. Вот и теперь он подумал: «Слушать холопов? Но ведь они и не разглядели хорошенько моих милых друзей. Просто намытарились Илья и Анисим со мною. Ничего, два месяца осталось. Разрешу Илье заниматься извозом, а Анисим, покуда и на службе, пусть тоже займется чем-то — хоть к ому-то в услужение пойдет. Вот и буду т деньги и у меня, и у них — всем повеселее станет!»
— Поезжай во двор, Илья! — сурово приказал Александр. — Последний раз говорю!
Илья чуток помедлил, будто думая, соглашаться или нет, потом с горечью проговорил: «И-и-иэх!» и ожег спину коренника кнутом, направляя тройку в открытые ворота.
На следующий день Александр, уже облаченный в парадную форму, пригладивший остатки волос, дожидался приезда своих новых друзей. Суржиков явился ровно в восемь и нашел Александра прекрасно выглядящим. Сели в экипаж счетовода палаты государственных имуществ и направились прямо к зданию этого нужного для всей губернии и державы учреждения, оказавшемуся двухэтажным каменным домом с античным фронтоном, угрожающе нависшим над самым входом. Прошли вестибюль, где обоих встретил экзекутор, обладающий внешностью, без которой и нельзя было бы представить экзекутора, проговоривший к тому же тоном, полным угрозы:
— Только три минуты до девяти часов осталось, господин счетовод!
— Ничего, успеем! — весело ответил Суржиков и повел Александра, оставившего шинель на вешалке, куда-то вверх по лестнице, устланной тщательно вычищенным ковром. И Александр, легко поднимаясь по ступеням, думал с восхищением: «Вот, хоть здесь-то, у чиновников, можно найти порядок и благочиние. Да и как иначе? Государственное имущество на их шее!»
Суржиков с величайшей осторожностью, одним лишь пальчиком, постучал или, вернее, поскребся в одну из дверей, из-за которой донеслось важное и звучное «да-а!». Вошли вдвоем и оказались, как понял Александр, в кабинете председателя палаты, сидевшего за столом огромных размеров и занимавшегося в этот момент втягиванием некоторой толики нюхательного табака, так что лицо его было сильно перекошено, и нельзя было сказать, хорош ли председатель собой или дурен, молод или стар. Но едва Суржиков и Александр вошли, как лицо председателя приняло нормальное положение, даже радушная улыбка заиграла на нем, и только табачная каплюшка, застывшая под носом, свидетельствовала о прерванном занятии руководителя палаты.
— Уж не Василий ли Сергеич к нам пожаловал — вставая и направляясь навстречу Александру с разведенными руками почти с восторгом проговорил председатель. — Наслышан, наслышан о вас и о вашем намерении!
Председатель даже слегка приобнял Александра, сильно удивленного тем, что о нем уже знают и встречают с таким теплом.
— Да вот, как-то, решил послужить немного… — конфузясь пробормотал Александр. — Только я ведь на военной службе, да и, виноват, откуда вам обо мне известно?
— Ну, то что вы на службе, сие уладить труда не составит, — махнул председатель рукой. — Вы только мне свой отпускной билет уж покажите, а что до того, как я о вас узнал, так и сие просто — Суржиков, которому я сильно доверяю, вчера просто вытащил меня из постели, чтобы рассказать о вас. Так я его целый час унять не мог — до того он разошелся, расхваливая ваши качества…
— Да-с, сие было-с, — подтвердил Суржиков, не имея в голосе ничего от вчерашней бойковитости.
— Ну и я подумал — вот, слава-то Богу, что послал нам наконец такого нужного человека, буквально спасителя нашего, ибо просто воем мы, точно волки тамбовские, на безлюдии. Ведь сами видеть изволите, Василий Сергеич, до чего ж измельчал, испоганился русский человек!
— Александр вспомнил все, что довелось ему увидеть в дороге, и согласно закивал:
— Полностью с вами согласен, господин председатель. Мне такого в последнее время натерпеться пришлось от всякого лихоимства, самоуправства, неправды и жестокости!
— Понимаю, вас, понимаю, — сочувствующе свесил к плечу голову председатель, — но у нас вы просто отдохновение от тягот прежних найдете. Знаете, мое учреждение — это, не слукавлю, просто храм правды и честности, хоть и трудно бывает, ой трудно! Громы и молнии над нашим домом то и дело грохочут и сверкают, собираясь его разрушить. Столько завистников, клеветников, недовольных тем, что чиним одну лишь правду! Но не будут о горестях — перейдем к хорошему, Василий Сергеич! Идите и приступайте к занятиям. Должность у вас хоть и важная — столоначальник, но не очень обременительная. Станете прочитывать да подписывать бумажки, которые вам подносить станут секретари, советники, делопроизводители прочие, прочие. Ну и, конечно, просителей не забывайте, вникайте в их нуждишки. Сейчас же извольте здесь присесть и присяжный лист, где вы обязуетесь все исполнять по закону и форме, честно и нелицеприятно, заполнить по нужному образцу. Да, вот ещё — форму военную вам, понятно, придется сменить на ту, что нашему заведению прилична, а жалованье я вам положу для начала… эдак восемьдеят рублей, что до наградных, то все от вашего благоразумия зависеть будет. Ну, присаживайтесь здесь, с уголка да и пишите. Вот и вот. А мне на ваш отпускной позвольте глянуть…
— Весь преисполненный строгих чувств, прочувствовав заранее важность возложенных на него обязанностей, Александр красивым, круглым почерком заполнил присяжный лист и подал его председателю, который, едва взглянул, радостно восаликнул, обращаясь к стоящему в сторонке Суржикову:
— Глядите-ка, господин счетовод! Да господин Норов просто золотописец, виртуоз! Такое рондо вывел, что и лучший наш писарь не выведет, хоть семь потов сойдет. Да, сразу видно, замечательного во всех смыслах столоначальника вы, Суржиков, к нам привели. Не забуду! теперь же идите в присутствие, покажите господину Норову его место, пусть посидит, попривыкнет.
И председатель с самым ласковым видом проводил Александра до дверей и, прощаясь с ним, пожелал выдающихся успехов на чиновничьем поприще.
Зал присутствия оказался просторным. Здесь за столами сидело не меньше двадцати человек. Некоторые уже что-то усердно писали, так что обгрызанные и разлохмаченные кончики гусиных перьев так и бегали туда-сюда, другие, закинув руки за голову, сладко потягивались, третьи и вовсе, положив всклокоченные головы на руки, пытались поймать за хвост недосмотренные дома сны. Но только Суржиков вошел с Александром в помещение, как все в несколько секунд преобразилось: перья мелькали уже в каждой руке, и скрип стоял такой, будто по залу двигалась телега с худо смазанными дегтем осями.
— Рад представить вам, господа, нового столоначальника, господина Норова Василия Сергеича! — торжественно представил Суржиков Александра, и все разом поднялись и вежливо поклонились столоначальнику, но не успели чиновники выйти из согбенного положения, как за окнами послышался стук копыт и скрип полозьев. Кучерский окрик послышался тоже, и все чиновники так же дружно, как и при поклоне, бросились к окнам, облепили их, выглядывая на улицу, и Александр услыхал восхищенные возгласы:
— Ах и шельмец, Белобородов! Каких рысаков отхватил!
— Да, сдался, видно, полковник Глазов, не выдержал напора нашего Бовы Королевича! Зря только кучевражился!
Чиновники, взбудораженные, радостные, стали рассаживаться по местам. а вскоре в зал присутствия влетел какой-то развязного вида господин, весь в перстнях и цепочках, и служители палаты приветствовали его дружными криками: «Браво, Белобородов! Браво, наш Бова Королевич!» Господин же, намеренно картавя, небрежно сказал:
— Не стоит, господа, не стоит! Ну может ли Глазов устоять, когда против него такая артиллерия направлена — три тысячи сверху? Сдалась твердыня, сдалась неприступная крепость! Рысаки — мои!
— Александр с интересом наблюдал всю сцену, невольно переживая вместе со своими новыми собратьями по ремеслу радость за какого-то Белобородова, и когда все немного попритихли, он спросил тихонько у стоящего рядом с ним Суржикова:
— Скажите, да кто же этот славный Белобородов? Он, я вижу, занял обычный, как у всех стол, и вдруг — рысаки?
— А что такого? — подернул плечом Суржиков. — Белобородов — наш делопроизводитель, так отчего ж ему рысаков-то не иметь? Потрудитесь у нас немного, и вы заведете, да ещё не таких. Впрочем, давайте я покажу вам ваше место.
— И Суржиков провел Александра к его столу, располагавшемуся за деревянным барьером, что подчеркивало, понял Александр, особенное положение столоначальника в этом заведении.
— Смотрите, — стал показывать Суржиков на предметы, лежащие на столе, — вот очиненные перья, вот нож, карандаш, суровые и шелковые нитки, сандарак…
— А это что такое? — спросил Александр, когда Суржиков показал на маленький мешочек.
— Вы не знаете, что такое сандарак? Сие истолченный ладан, в тряпочку завернутый. К примеру, выскоблили вы в документе ножиком какое-нибудь словечко или цифирку, бумага шершавой стала, подчистку видно, а возьмете сандарак да им то место и потрете, оно и станет гладким, а подчистка неприметной глазу.
— Понятно, — кивнул Александр, уяснив свойства сандарака, но засомневавшись в надобности подчисток в документах, а Суржиков уже выходил из-за загородки, закрывая дверцу и говоря при этом:
— Держите её закрытой, а то в одиннадцать посетители пойдут, так чтоб вас не задавили. Постарайтесь разобраться с тем, о чем просят. Нестоящих гоните в шею, а стоящих — оставьте, посмотрите их дела, отложите до вечера, и тогда мы с вами вместе порассудим, как с ними поступать. Не тревожьтесь, справитесь. А я в особой конторке сижу — вторая дверь по коридору. Нужно будет — приходите.
И ушел. Александр же остался за своей загородкой, из-за которой посматривал на то, что делается в зале: кто-то усердно писал, кто-то хохотал, рассказывая смешную и скабрезную историю, из угла в угол летели бумажные голуби. Александр следил за всем происходящим с большим любопытством, если не с умилением. Ему нравилось быть столоначальником в своей палате государственных имуществ. Скоро довелось услышать кое-что и по существу работы палаты. Один чиновник, смеясь, встал и начал рассказывать всем о деле, которое он уже давно ведет. Оказалось, что от одного волостного правления потребовали завести на их землях запасные хлебные магазины для полков таких-то размеров, с таким-то содержанием в них зерна. Магазины-то в волости завели и нужных размеров, только при проверке оказалось, что заложили туда зерна меньше, чем надобно. Волостные власти оправдались, сославшись на усыпку зерна и на мышеяд, на то им приказали срочно посыпать зерно против мышей ольховым листом, а также впустить в магазины кошек. Но и тут пришел оправдательный ответ: кошки в магазинах почему-то жить не хотят, зато мыши в ольховых листьях ещё пуще развелись, наделав в них гнезд, где благополучно и живут со своими мышатами, продолжая поедать зерно.
— Ну так что же с оными упрямцами поделать? — воскликнул со смехом чиновник.
— С кем? С мышами-то? — весело спросил кто-то.
— Да нет, с наглыми волостными властями, будь они неладны!
— Выход простой! — отвечал тот же чиновник. — Вызвать их сюда на правеж да и пусть из своих кошельков рассчитаются за поеденное теми проворными мышами зерно. А то и управы на таких ловкачей не будет!
Все рассмеялись, Александр же подумал: «Вот молодцы! Вот радеют же о благе государства, хоть и озорники все эти ребята и балагуры, но дело свое знают».
В одиннадцать часов стали допускать в присутствие посетителей. Александр следил за ними. Приходили и дворяне, и мещане, и крестьяне. Каждый, видно, знал, к какому столу направляться, поэтому ни толкотни, ни споров не было. Лица чиновников преобразились. Если ещё пять минут назад они выглядели шаловливыми и веселыми, то теперь неприступная строгость сковала физиономии служителей палаты, зато просители нависали над их столами с елейными лицами, канючили, шептали, лепетали, подобострастно заглядывали в глаза чиновников.
— Не напирай, не напирай, тебе говорят! — слышалось из одного конца зала. — Не в кабак пришел, а в казенную палату!
А из другого конца неслось:
— Ну ты и дерзок же, кафтанник! Сотенную суешь, чтобы свои дела обчикать половчее? Да я тебя сейчас в съезжую отправлю, посидишь в холодной ночь-другую, так опамятуешься и впредь будешь знать, как с сотенными в палату ходить!
«Ну и строгость! — удивлялся Александр. — Никому списку не дают, но, правда, так и надо делать, когда речь о благе государства заходит».
Между тем, пока Александр присматривался к деятельности сослуживцев, он не заметил, как рядом с его барьером давно уже стоит мужичок в крестьянском платье, то есть в нагольном тулупчике, в лаптях. В руках он держал овечий треух и робко мял его, нетерпеливо ожидая, когда на него обратят внимание.
— Тебе чего? — спросил Александр, желая придать голосу как можно больше важности и значительности.
Мужик ещё помялся, потом заговорил:
— Деревни Семиренковой мы, орховского уезду, а пришел я к вам, барин хороший, чтоб помог ты сынка моего, Степку Гаврюнкова, от рекрутства совсем ослобонить. За такую к нам милость передадим прямо в ваши белые руки ассигнациями двести рубликов, как одну копеечку…
Александр опешил:
— Постой, да кто же тебе сказал, что я могу такое дело решить?
Мужик, добродушно моргая, приглушая голос до шепота, сказал:
— А кум мой, Терентий Головин, прошлого года тоже двести рубликов сюды, прямо на энто самое место приносил, так господин, что прежде тута сидел, все за две сотни уладил, и сынок Терентия в рекруты не пошел — дома остался. Вот я за тем пришел — Бог дал в том году урожай на ячмень, вот я и продал его с наварцем, деньга осталась. Возьми, судырь, да и сотвори Божескую милость — Степку Гаврюкова от рекрутства ослобони!
И крестьянин, даже не пытаясь скрыть деньги в кулаке, наваливаясь на барьер, дотянулся до стола Александра и положил ему на стол несколько старых замусоленных бумажек. Тут уж Александр не мог сдержаться:
— Постой! А ты знаешь, что за взятку, которую ты чиновнику даешь, могут наказать тебя розгами, а потом и в Сибирь отправить? Как это от рекрутства освободить? Не знаешь разве, что интересы отечества требуют постоянной заботы об армии российской, набор в которую только рекрутством и осуществляется? Ты, выходит, государственный интерес посечь своими взятками хочешь, а?
Александр даже привстал, когда говорил — до того он был рассержен, потому что никогда не слышал прежде, что от службы в его войске можно избавиться, дав взятку. Теперь же получалось, что кто-то, сидевший на этом самом месте, постоянно занимался ослаблением русской армии. Но мужик, видно, имел на весь этот процесс взгляды отличные от взглядов Александра, а поэтому, пожав плечами и совсем не испугавшись строгой отповеди «хорошего барина», сказал:
— Не знаю, ваше сиятельство, что за государственный антирес, а у нас, в деревне Семиренковой, антирес свой, хозяйственный, крестьянский работника сохранить. А посему возьми ты две сотни, барин милый, да не неволь моего Степку. Возьми, возьми — издавна ж здеся за двести рубликов рекрутов отпускали…
Тут уж Александр не выдержал. Вскочил на ноги, схватил ассигнации, смял их в комок и швырнул в просителя, угодив деньгами мужику прямо в бороду. При этом он закричал, ощущая в себе повелителя всей российской империи, грозного и желавшего своей державе одного лишь блага:
— Вон отсюда! Не позволю рекрутов за деньги освобождать! Если б такие, как ты, старик, Россией управляли, то не прогнали бы мы французов! Вон! Вон отсюда!
Мужик не на шутку испугался. Согнувшись в три погибели, тараща на Александра, бушующего над ним, глаза, он вслепую пытался нашарить разбросанные по полу бумажки, то и дело ронял их снова, ронял шапку, поднимал то деньги, то свой треух. Александр же, продолжая кричать, не замечал, что давно уже привлек внимание как чиновников, так и посетителей, если первые едва сдерживали смех, прыскали в руку, то последние взирали на грозного столоначальника со смятенными чувствами и в глубине своих сердец молили Бога о том, чтобы он избавил их от встречи с таким лютым зверем. Наконец мужик, пятясь к двери задом, ушел, Александр же очень довольный собой, но совсем не довольный положением дел в палате, уселся.
«Да, может быть, пока ещё и не надо волноваться, — успокаивал он себя. — Ну, сидел на моем месте какой-то мздоимец, так ведь нет его теперь. Недаром председатель мне говорил, что учреждение его — это храм честности. Ну, ну! Я-то не позволю измываться над правдой и законом. Никогда».
Вскоре пришел ещё один проситель. Это был дворянин с манерами, за которыми угадывалось отличное воспитание и образованность. Попросив пройти за загородку, дворянин раскинул на столе Александра огромный лист с планом его имения и примыкающих к нему земель. Оказалось, что речка Ольховка, являвшаяся межой между его поместьем и имением некоего Козлова, два года как пересохла, и её русло заросло травой. Посему дворянин решил воспользоваться врученным ему самой природой случаем и несколько передвинуть границу своего поместья на земли Козлова, а за такое важное для него дело обещал щедро наградить посланных от палаты казенных землемеров. Свое прошение он подал в конверте, довольно объемистом, заметил сразу Александр, чтобы содержать один лишь листок бумаги. раскрыл конверт и увидел в нем пачку ассигнаций. Александр со скорбью в голубых глазах посмотрел на дворянина пристально и укоризненно:
— Сударь, а где же ваша дворянская честь? Ведь вы толкаете меня на неправое дело, сами знаете, что поступаете не честно, а поэтому… фу, предлагаете мне деньги…
Но, как ни странно, и дворянин, подобно крестьянину, ничуть не стушевался. Он развел руками, будто и не понимал, в чем суть вопроса. Потом сказал:
— Да помилуйте, если не я, то Козлов уж непременно воспользуется исчезновением старинной нашей, естественной границы. Так отчего же мне не поспешить? Да и дело-то в одном лужке и заключается, поверьте.
Александр, не имея больше сил укорять того, в жилах которого текла старинная кровь, просто выложил деньги из конверта и отдал их просителю. План же и текст прошения оставил, предложив дворянину зайти через неделю. Дворянин, хоть и раскланялся, уходя, очень любезно, но всем своим видом показал, что он недоумевает.
«Ага! — снова успокоил себя Александр. — Ведь все к тому же самому прежнему столоначальнику идут! Вот же бестия какая был — тут и там успевал обчикать дельце, как здесь говорят!»
Через час явился красный лицом, полный и громко пыхтящий горлом человек. Постояв, схватившись за поручень барьера и отдуваясь некоторое время, он заговорил, чуть ли не плача:
— Ведь не успел, не успел, проворонил оного злодея Запольского! Я все потому, что постромки в дороге оборвались! Будь они неладны!
— Да кто вы, сударь, представьтесь? — удивился Александр такой неясной манере изъясняться.
— Козлов я, Козлов! — ударил себя в грудь кулаком краснолицый человек. — А Запольский, которого я по дороге встретил, сосед мой! Что, неужто про пересохшую Ольховку вам рассказывал, признайтесь? И межу за мзду переложить просил, а?
Александр облекся маской непроницаемости.
— Я вам, господин Козлов, ни в чем признаваться не обязан! Вы сами-то, собственно, чего от меня хотели?
— Как чего? — очень удивился Козлов. — Того же самого, что и Запольский. Сколько он вам дал, простите? — полез в карман сюртука Козлов.
— Что значит «дал»? — вскинул брови Александр. — Это вы о чем говорите, сударь? На что намекаете?
— Да и не намекаю, любезный а прямо спрашиваю: сколько он сунул вам в ручку, скажите, а тогда и я вам доброе слово скажу да ещё к нему изрядную прибавочку сделаю. Чего вы, собственно говоря, ершиться стали? Или опасаетесь чего? Не понимаю, постигнуть не могу!
— Это я, сударь, постигнуть не могу! — снова вскочил со стула Александр. — Вы, сударь, куда явились? В лавку овощную? Здесь вам, сударь, палата казенная, где денег не берут с посетителей, ибо все чиновники от казны жалованье получают! Или вам сие не известно?
Козлов стал ещё краснее лицом, чем прежде, растерянно посмотрел по сторонам, словно ища защиты и поддержки у других служителей палаты, но они, давая улыбки, опустили глаза, делая вид, что усердствуют над бумагами.
— Не берут, значит? — пробормотал он. — А прежде брали…
— Ну так то прежде! — сверкал глазами Александр, не зная, как умерть негодование. — Теперь же все иначе будет. Прочь идите отсюда сударь, покуда я жандармов не вызвал!
И Александр царственным жестом указал Козлову на дверь. Дворянин постоял, поморгал и, качая головой, пыхтя, медленно пошел к выходу, все приговаривая дорогой: «Видно, Запольский, шельма, столько дал, что мне теперь и соваться смысла никакого нет. Вот же, объехал на козе Козлова! Шельма! Шельма!»
В шесть часов, когда присутствие закрывалось, к столу Александра подошел сияющий Суржиков:
— Ну, Василий Сергеич, лиха беда начало! Горячо вы за дело взялись, знаю обо всем. Только покажите-ка мне, что за прошение вам дворянчик принес.
В мгновенье ока Суржиков окинул взглядом прошение Запольского и сказал:
— Ну, его просьбишку уважить можно. Разве ж от этого интересы Российской империи в ущерб придут? Сами видите, что Запольский, что Козлов — одного поля ягода, а посему должны мы непременно принять сторону одного из них, чтобы распрю, собирающуюся разгореться, пресечь на самом корню. Не в интересах ли справедливости сие будет? Ну, не стало старой границы, так новую проведем. Отправим землемеров, и они за один день внесут полный порядок в дела межевые. Вы же, Василий Сергеич, самым правильным образом поступили, прогнав Козлова, да и сделали это, как настоящий артист, как Каратыгин, ей-Богу!
Александр и обрадовался и огорчился. Он был рад оттого, что увидел в действиях палаты черты не только законности, но и настоящего благородства желают предупредить распрю! Огорчало лишь то, что Суржиков увидел в его поступке не искренний порыв, а наигранность. Но вскоре и огорчение улетучилось, потому что счетовод сказал:
— Ну, дорогой Василий Сергеич, дела делами, но надобно уму и телу пощаду давать. Сейчас же едем ко мне на квартиру. Там уж стол накрывают вас величать станут! Все наши, чиновничишки-бумагомаратели соберутся. Ваш первый день на службе отметить хотят. Уж не откажите, будьте любезны!
Александр не только не имел ни сил, ни желания отказать этим замечательным, честным людям, но и сам бы с величайшей охотой зазвал бы всю палату, включая и председателя, на свою квартиру, если бы не её скромные размеры да отсутствие свободных денег. Поэтому Александр лишь поклонился Суржикову, благодаря за лестное приглашение. При этом глаза его увлажнились.
Квартира Суржикова оказалась и не квартирой вовсе, а собственным домом, полукаменным-полудеревянным, с фасадом на семь окон с раскрашенными в продольную полоску стенами. Когда на экипаже Суржикова Александр подъехал к высокому крыльцу, то на нем уже стояли в одних сюртуках чиновники, которых он видел сегодня в присутствии. Они, правда, тут же поспешили удалиться вглубь дома, и Александру показалось, что они сделали это нарочно, желая предупредить других. Оказывается, так оно и было на самом деле, потому что, когда Александр и Суржиков поднялись на крыльцо и вошли в дом, новоиспеченный столоначальник даже отпрянул назад от неожиданности двадцать чиновничьих глоток грянули в его честь такую дружную здравицу, что можно было и мертвых поднять не могил. Хором руководил делопроизводитель Белобородов, доморощенный Бова Королевич, и когда взмахом рук он прекратил славословие чиновников, то отдал знаком другой приказ, и тут же явились перед хором три чиновника с бутылками шампанского, пробки взлетели так высоко, что ударились в потолок, вино полилось, но не на пол, а в вовремя подставленные бокалы. Подали Александру и Суржикову, а остальные посудинки разобрали чиновники, и малиновый перезвон хрусталя возвестил о том, что пирушка началась.
За столом с разнообразным набором блюд, когда тосты в честь Александра сыпались из уст чиновничьей братии один за другим, он не переставал удивляться: «Да в чем же дело? Почему так ликуют эти люди? Они, безо всякого сомнения, очень милы, аккуратны, требовательны, щепетильны на службе, главное, честны, но все-таки — чествуют первого встречного, который неведомо почему занял такой важный пост в палате государственных имуществ! Непонятно! Не могли у себя подыскать подходящего человека?»
А пиршество с каждой минутой набирало все больше жара, точно печь, в которую одно за другим кидают сухие поленья. Все уже смеялись, тосты прекратились, но отовсюду Александр слышал долетавшие до него одобрительные высказывания по отношению к его сегодняшнему поведению:
— И вот говорит Василий Сергеич: «Ах ты, кафтанник длиннобородый! За взятку-то чиновнику можно и в Сибирь в кандалах прогуляться!» Каково? Какая смелость!
— Да-а-а! — восхищенно тянул другой чиновник. — Да Василь Сергеич наш — сущий лев или Ахилл! Быть ему нашим председателем, палец на отсечение даю!
В другом месте слышалось:
— А Запольскому Василий Сергеич так прямо и заявил, и смотрел на него при этом случае, как солдат на вошь: «Где же ваша честь дворянская, сударь?» Тот так и осел, чуть кондрат его не хватил от неожиданности, вот так-то…
— Нет, нет, сие все цветочки, цветочки! Не помните разве, как он Козлова расчехвостил, какую трепку ему задал? «Вы, — спрашивает, такой-сякой-разъэтакий, куда заявились? Уж не в зеленную ли лавку? А ну-ка вон пошли из казенного заведения, и чтобы духом здесь вашим не пахло козлиным!» Вот это оборот, я понимаю!
— Н-да, пожалуй нас Василь Сергеич всех за пояс скоро заткнет…
— Заткнет? Нет, братец — уже всех позатыкал, всех до одного! Ну да мы не в обиде — всегда пользу найдешь, когда человек наизеркальнейшей, наихрустальнейшей честности приходит тобой командовать и руководить. Ты тогда, как спица в колесе — крутишься себе, крутишься, и покойно тебе и хорошо, потому что все дело слажено, будто все колесовые части. Нет, возлюбил я Василь Сергеича, будто своего родного отца, и жизнь за него отдать готов, если потребуется, как и за государя своего, вот так…
Здесь Александр встрепенулся, но тут же успокоился да и сам умилился, увидев, что проговоривший последнюю фразу чиновник хлюпнул носом и кончиком мизинца поковырял у себя где-то в уголке глаза.
Тут общее веселие усилилось, когда вдруг с корзинкой с торчащими из неё серебряными горлышками явился перед столом делопроизводитель Белобородов, в расстегнутом сюртуке и сияющий, точно новенький пятак.
— Всем господам-чиновникам от «Вдовы Клико» поклон! — заговорил он, сильно грассируя. — очень просила вдова потешить нашего любезного Василь Сергеича ристалищем в честь его да и в её собственную честь! А ну, выходите на ристалище самые смелые да горластые — посмотрим, кто из вас быстрее осушит шампанского бутылку! Судьей же справедливым пусть станет виновник торжества, премилый и прелюбезный Василь Сергеич! Ну, выходи! Надобно вдове пятнадцать бойцов-удальцов!
Чиновники с такою резвостью повскакивали из-за стола, что многие в своем стремлении принять участие в питейном ристалище даже повалили стулья. Не прошло и четверти минуты, а рядом с Белобородовым уже толпились пятнадцать человек, и делопропроизводитель каждому из них вручал по «привету» от «Вдовы Клико», но покамест не велел откупоривать бутылки. Скоро Александр, умиленно смотревший на чиновников, увидел, как все выстроились в ряд, и Белобородов прошел вдоль этого ряда, внимательно следя за тем, чтобы никто не смел прикасаться к пробке раньше, чем прозвучит его команда. Потом он повернулся к Александру:
— Что ж, Василь Сегеич, прикажете начинать?
— Начинайте! — бесшабашно махнул рукой Александр, весь переполненный счастьем.
Белобородов поднял руку:
— Слухи Бахуса! Извольте приготовиться! При счете «три» срывайте пробку и пейте все до дна, я же и Василь Сергеич строго будем следить за тем, чтоб вы на пол не много проливали. Хитрецов таких из числа участников ристалища выпрем тут же безо всякой пощады! Ну — один, два, три!
Быстро-быстро задергались руки Бахусовых слуг, судорожно пытавшихся вскрыть бутылки побыстрей, один за другим стали раздаваться хлопки, шампанское полилось или на пол, или в глотки соревнующихся, на троих участвующих в ристалище Белобородов тут же со всей строгостью изгнал из рода, один ушел сам — пробка соседа угодила ему прямо в глаз. Александр не мог удержаться от смеха, видя, как давились вином чиновники, как рыгали они, как исторгалась пенная влага из их ртов, как текла на галстуки, на жилеты, а порой вырывалась и из ноздрей, что заставляло участников фыркать и сморкаться. Но вот появился и тот, кто поднял руку с осушенной бутылкой, и Александр охотно признал за ним победу, а Белобородов выдал ему приз ещё одну бутылку «Вдовы Клико», а всех прочих участников действа попросил уж не спешить и допивать свое вино за столом. Потом сказал:
— Да, братцы-чиновники, все вы пить мастаки, но никто из вас, я знаю, не сумеет выпить шампанское с булем…
— Как же это, с булем? — спросил кто-то, смеясь. — Уж научи, сделай милость.
— А вот как с булем» — сказал Белобородов, вынул из корзины последнюю бутылку, откупорил её, а потом, запрокидывая голову назад, стал вливать в себя вино, совсем не двигая кадыком, которое побежало по горлу Белобородова, как по широкой трубе, но тут Александр увидел и услышал, чего не видел и не слышал никогда — где-то в горле делопроизводителя заклокотало, захрипело, заревело, забулькало, и такой чудный, повергающий в изумление, звук продолжался в течение минуты, пока лилось шампанское. Но вот оно иссякло, горло Белобородова издало последний хрип — и смолкло. А замершие было чиновники заорали, захлопали, заулюлюкали, но Белобородов, громко икнув, скромно потупился и сообщил:
— Не стоит, господа, не стоит. Каждый может произвести такое клокотание, или выпить шампанское с булем. Надобно только вливать в себя вино, не глотая, а вливая, кричать погромче. Вот тогда-то и получится, да-с…
«Ах какие же они умницы, развеселые и ласковые, — думал разнежившийся за столом Александр, ловивший на себе приятельские, теплые взгляды сослуживцев. — Вот ведь и поработать на славу умеют, и повеселиться. Если бы я снова стал императором, я бы непременно отдал указ о награждении всех этих трудяг, работающих на благо моего государства, или Анной или Владимиром, а Суржикову и Белобородову даже Андрея бы дал».
Когда чиновники провожали полупьяного, размягченного Александра, он каждого расцеловал, пообещал быть верным чиновничьему братству, говорил, что обязательно оставит военную службу, тяжелую, полную неприятностей и забот, переедет в Новгород и сделается чиновником и новгородцем, чтобы пребывать в таком состоянии до самой кончины. Сказав это, Александр разрыдался, чем заставил расчувствоваться и других. Опираясь на руку Суржикова, Александр спустился с высокого крыльца, уселся в экипаж счетовода, и когда кони пошли, чиновники, толпившиеся на крыльце, махали платками и кричали вслед уезжавшеу экипажу добрые и слезливые слова. Александр благополучно был доставлен на свою квартиру в черненький, деревянненький домик, где был передан на попечение заботливого Анисима.
… День за днем текли быстро, и Александр даже не замечал этого течения. Каждое утро без пяти минут девять он входил в здание палаты, бросал шинель на руки швейцару, кивком приветствовал экзекутора, теперь низко склонявшегося при появлении столоначальника, легко, по-молодому взбегал по лестнице наверх, слегка кланялся встававшим чиновникам и милостиво говрил: «Садитесь, господа, садитесь». Он по-настоящему ощущал себя императором в палате, и даже знание о том, что председатель является его начальником, не могло изгнать этого ощущения.
Начинался рабочий день. Теперь Александр не принимал посетителей, переложив эту хлопотливую обязанность на плечи рядовых чиновников, которым всецело доверял. Доверял он им настолько, что когда кто-нибудь приносил ему на подпись какую-нибудь бумаженцию, он лишь спрашивал скоро: «О чем?» — «О повышении акцизов на табак и чай, Василий Сергеич». — «О чем?» — «О новых правилах питейной торговли, ваше высокоблагородие». Спрашивал — и подписывал: «Столоначальник Норов». И такое распределение обязанностей очень подходило Александру. Когда он подписывал бумаги, ему казалось, что он вновь сидит в своем кабинете или в Царском, или в Зимнем дворце, или во дворце на Каменном острове. Там он тоже далеко не всегда вдавался в существо написанного и поданного для его утверждения. Вот и здесь получалось то же самое, а поэтому ничего, кроме приятности, служба Александру не доставляла.
Однако скоро истек месяц со дня поступления Александра на службу. Сто рублей, полученные им за пистолеты, были прожиты, и Александр однажды, пересилив в себе смущение, осторожно спросил у Суржикова:
— Братец, а когда тут у вас жалованье-то выдают?
Счетовод вскинул на Александра изумленно-вопросительный взгляд, тонко улыбнувшись, спросил в свою очередь:
— А что, нужно?
Удивлению Александра не было границ, но он сумел не выказать его и просто сказал:
— Да, знаете ли, все уж вышли…
— Г-мм… — наморщил лоб счетовод. — Стало быть, жалованье вам? Ну, сие я устрою, устрою. Только к председателю зайду, переговорю с ним. Вечерком, Василь Сергеич, не сочтите за труд да и ко мне зайдите.
Едва закончилась служба в присутствии, Александр зашел в канторку Суржикова, и тот радостно приветствовал его:
— А, милости прошу, милости прошу! Да, господин председатель был рад вам выписать полное жалованье. Вот-с, чиркните свою подпись здесь и получите — ровно восемь десятков рубликов!
Перо застыло в руке Александра, он растерянно посмотрел на Суржикова:
— Так мало?
— Как мало? — широко заулыбался счетовод. — Сие даже слишком много-с! Прежний столоначальник у нас только шестьдесят получал.
Александр все не решался поставить подпись. Он почему-то вспомнил тот вечер в ресторации «Олимп», богатый ужин, пирушку с морем выпитого шампанского, одна бутылка которого, Александр знал, стоила двадцать пять рублей, вспомнил рысаков делопроизводителя Белобородова, и ему стало обидно.
— Так отчего не только восемьдесят? — спросил он с легкой нотой настойчивости и раздражения.
— А сие оттого-с, что у вас оклад такой, милостивый государь, — все так же ласково говорил Суржиков. — вы за жалованье такое подрядились служить, вот-с и получите обещанное.
— Разве же не вы сами, господин Суржиков, мне о наградных говорили? уже без раздражения и настойчивости спросил Александр.
— Ну, положим, и говорил, господин Норов, — чуть дрогнул уголок рта у Суржикова, будто он хотел улыбнуться да скрыл улыбку. — Но ведь мы все здесь сами себя награждаем, а от начальства ничего не требуем да и потребовать не имеем права, ибо ничего такого для нас, мелочи чиновничьей, в Петербурге не заготовили, а коли не заготовили, сами стараемся, иначе никакой мочи прожить на двадцать пять рубликов в месяц нет. А это у меня такой оклад! Спросили бы вы, сколько мой помощник получает…
— И сколько же? — робко, невольно ощущая вину за то, что его чиновники живут так бедно и должны поневоле брать взятки, называемые «наградные», спросил Александр.
— Сколько? А двенадцать пятьдесят, — ответил Суржиков. — Так что сами видите, что оклад ваш несравненно выше моего, выше даже того, что Белобородов имеет. Ну так осчастливьте сей листочек своей подписью да и получите свое жалованье. Ну, а наградные — наградные мы сами как-то ухитряемся для себя добывать, а ежели вы столь чистоплотны оказались, Василий Сергеевич, то не наша в том вина.
Рука Александра машинально, точно это была чужая рука, вывела подпись, так же машинально приняла ассигнации и отправила их в карман сюртука. На ватных ногах вышел Александр в коридор, где уже не слышно было голосов служителей палаты. Спустился вниз, машинально подставил руки, когда швейцар помогал ему надеть шинель. Вышел на улицу и тут услышал чей-то голос:
— Господин столоначальник, за мной пожалуйста!
Кто мог звать его? Кто мог приказывать ему? Александр резко обернулся и увидел писаря палаты, плюгавого с виду недомерка, но на службе тихого и прилежного, всегда смотревшего на Александра с приветливой почтительностью и, как будто, немного с жалостью.
— Чего вам угодно? — почти что строго спросил Александр у писаря, который между тем двинулся вперед по улице, удаляясь от здания палаты. Александр, недоумевая, но чувствуя, что этот человек позвал его не зря, пошел вслед за ним, все спрашивая у него: — Так чего вам угодно? Зачем позвали?
Но тот не отвечал, покуда не свернул в ближайший проулок, где наконец остановился, и Александр остановился тоже.
— Так зачем же вы меня позвали? — уже не без испуга спросил Александр, писарь же, глядя на него с печалью, заговорил:
— А затем, сударь, что больше молчать не мог-с, да-с…
— О чем же… молчать не могли? — совсем перепугался Александр.
— О том, какая участь вам уготовлена, Василий Сергеич.
— Ну и какая же? — затрепетало сердце Александра, а писарь с укоризной покачал головой:
— Сами могли бы судить, сударь, что, ежели вас, офицера, люди, с которыми вы не имели чести быть знакомы, через полчаса начинают в столоначальники прочить, так тут какой-то подвох сокрыт. Вы же, как малое дитя, таким ловкачам доверились, как Суржиков и Коржиков! Да это ж — Гога и Магога!
— Да что вы такое говорите? — пролепетали будто сами собой губы Александра.
— Говорю, что знаю! — нахмурился писарь. — А знаю вот что… Председатель и прочие его сотоварищи, включая Суржикова, давно уж план составили, на кого б свалились все просчеты палаты, все казенные растраты да прочие шалости и безобразия. Вот и удумали найти простачка, который бы невольно принял бы на себя все их грехи, подпись свою поставив под теми бумагами, что о мошенничестве явном говорят. Лицо же это, конечно, ответственными полномочиями обладать должно было, не ниже, стало быть, столоначальника…
— Господи Боже мой! — оперся Александр о плечо писаря — иначе бы упал.
— Так вот, сударь, Суржиков, сам слышал, смеялся, что отыскал в вашей персоне настоящего тюху-матюху, ваню-дураню. «Едва, — говорил, — я на его физиономию в кухмистерской взглянул. так сразу понял, кто нам нужен. Потом мой первоначальный взгляд вполне подтвердился!» Они и пирушку ту затеяли только для того. чтобы вашу бдительность усыпить — усыпили, точно! Стали вы бумаги подмахивать, не глядя, они не только радовались да над вами потешались: «Вот кто в Сибирь-то отправится службу казенную править!» А скоро ревизорская проверка, и если вы даже у нас не будете служить, все равно отыщут вас, ибо присягу вы давали. Ну вот и все… Хотел я, сударь, вам и раньше об этом рассказать, да случая не находил. Постарайтесь больше бумаг, что вам подносят, не подписывать совсем, а ещё бы посоветовал я вам бежать куда подале. Здесь такие волки служат, вы же, простите меня за слово, настоящая овца или… нет! Вы, сударь Дон Кихот Ламанческий, сущий Дон Кихот. И как вы в полку-то служите? Только, уж прошу — меня не выдавайте да и вовсе не ссылайтесь на то, что вам известно правда от кого-то из людей палаты. У меня, Василь Сергеич, семья большая. Мне и десять рублей жалованья терять никак нельзя. Ну, прощайте, и да хранит вас Бог…
Писарь быстро пошел по проулку, а Александр так и остался стоять, будто ноги его приросли к земле. Нет, ему совсем не было лестно, что его назвали Дон Кихотом. Он хотел быть императором, стоящим на страже справедливости, но теперь он им не являлся, хотя и был когда-то монархом России, не сумевшим исправить царящее в стране зло, просто не знавшим о нем.
В ту ночь он почти не спал — все думал, как же поступить ему завтра. Много ходил по спальне, то ложился, то вскакивал, сел за стол и написал два письма: одно — смотрителю придворных конюшен, другое — обер-гофмейстеру. Эти письма поутру он собрался передать Илье и Анисиму, предполагая, что завтра вечером на квартиру он может и не возвратиться. Едва забрезжила заря, умылся и тщательно оделся в парадный офицерский мундир.
Как обычно, без пяти минут девять, вошел в вестюбюль палаты, привычным движением бросил шинель швейцару, поднялся на второй этаж и смело направился прямо к кабинету председателя палаты.
— А-а-а! Василий Сергеич, милости прошу! — сразу поднялся из-за стола председатель, и снова каплюшка табака свисала с его ноздри. — Наверное, по делам служебным, я угадал? А то кто же в такую рань ко мне придет ради праздного словца!
Александр, не желая замечать радушный тон председателя, положил к нему на стол полученный вчера оклад, сказал:
— Возвращаю!
— Что же изволите возвращать, Василь Сергеич?
— Жалованье, восемьдесят рублей. Я их не заслужил.
— Как не заслужили? — прыгали от смеха губы председателя. — Вы исправно отслужили месяц, а посему оные деньги являются вашей законной наградой.
— Нет, сударь! — повысил голос Александр. — Жалованье от казны назначается за труд, а не за игру в болвана или в шута горохового. Ведомо мне стало, какой надобности ради зазвали вы меня на службу, а посему прошу: дать мне на прочтение те бумаги, которые имеют мою подпись!
— Зачем же вам они? — замерла в руке председателя табакерка с откинутой крышкой.
— Хочу прочесть их и рассудить, достойны ли он того, чтобы я их подписал!
Немалое огорчание изобразилось на лице председателя, севшего на стул. Он поднял глаза и осуждающе посмотрел на Александра:
— А вот сие, сударь, уже должностным преступлением назвать можно. Что же это? Являясь ответственным должностным лицом, ставите подпись под тем, чего не читали? А вдруг, Василь Сергеич, вы смертный договор себе подписали? Вдруг изменнический какой лист подмахнули? Ай-ай-ай! Ну что же мне с вами-то делать?
Александр вдруг заметил, что председатель просто смеется над ним. Да, все, о чем он говорил, было сущей правдой, Александр не имел права подписывать бумаг, не прочитав их, но ведь Александр в то же время знал, что подавались ему эти бумаги как раз с расчетом, что читаться они не будут.
— Паяц! Мерзавец! Казнокрад!! — уже не владея собой, прокричал он дико, прытко скакнул за стол и схватил председателя за лацканы фрака. Нет, каналья, мошенник, ты отдашь мне те бумаги! Я их пересмотрю, а уж потом решу, что дальше с ними да и с вами со всеми делать! На каторгу меня упечь собрался, негодяй?! Ну так я тебя вместе с собой туда утащу! Одной цепью, подлец, связаны будем! Отдашь бумаги?!
Председатель, никак не ожидавший от тихого полудурачка, каким почитал Александра, такой прозорливости и резвости, испугался страшно. Господин столоначальник так энергично тряс его, что на стол высыпался весь табак из табакерки, все ещё зажатой в руке, а руки Александра с лацканов фрака переместились на горло председателя, который стал хрипеть и синеть лицом. Но, синея и хрипя, он успевал выдавливать из себя слова:
— Голубчик… пощади… поделимся… пять тысяч… десять…
— Нет, каналья! — кричал Александр, все сильнее сжимая горло того, кто покусился на казну его страны. — Отдашь бумаги, вместе в суд пойдем! Ревизоров из Петербурга вызову! На каторгу вместе пойдем!
Шум возни, крики Александра между тем не остались не услышанными в коридоре. Вскоре дверь распахнулась, в кабинете появились люди — чиновники, экзекутор, два дюжих бородатых дворника. С великим трудом удалось им оттащить Александра от председателя палаты, который, держа руку на горле, весь побагровевший, с распущенным по груди галстуком, хрипя сказал:
— Жандармов позовите… — кто-то кинулся исполнять приказ, но вслед ему понеслось: — Не надобно! Отставить! — И добавил: — Дело домашнее, сами разберемся… — А после прокричал: — Все, все вон пошли, кроме… господина Норова…
Когда чиновники, толкаясь, вывалили в коридор, Александр, уже жалевший о том, что вел себя так безобразно, вполне возможно, с человеком, который был вовсе не причастен к казнокрадству и к плану перевалить все вины палаты на плечи случайного человека, сказал виноватым тоном:
— Простите, сударь, мне очень стыдно. Если вы желаете, я бы мог дать вам удовлетворение. Впрочем, простите…
Председатель, бывший в действительности автором проекта по очищению совести палаты при помощи болвана-столоначальника, махнул рукой:
— В своем полку стреляйтесь, сколько вам угодно! Мы же — люди штатские, негордые… Теперь же домой ступайте, а завтра, поуспокоившись, снова приходите. Потолкуем спокойно, мирно и без рукоприкладства.
И подавленный, сильно смущенный, негодующий на себя Александр, коротко поклонившись, вышел из кабинета председателя.
… А ночью ему снилось, будто сидит он скорчившись за какой-то полупрозрачной преградой, где сильно пахнет вином, так сильно, что кружится голова. Сидит, он догадался, в громадной бутылке из-под шампанского и вылезти из неё не имеет сил. Вокруг же ходят чиновники палаты государственных имуществ, показывают на него друг другу, смеются, называют болваном и тюхой-матюхой, а председатель грозит пальцем и говорит: «Вот и сиди, сиди, покуда не приедет ревизор. А после на каторгу пойдешь, мы же все здесь останемся!» Но вдруг на купленных рысаках подъезжает к бутылке Белобородов, лихо соскакивает на землю. Он велик ростом этот делопроизводитель, он всех расталкивает и зычно кричит: «Не надобно Василь Сергеича на каторгу! Я его с булем выпью! «И наклоняет бутылку Белобородов, чтобы засунуть её горлышко в свою огромную пасть, трясет её, и Александр трясется вместе с ней, и очень боится, что Белобородов и впрямь выпьет его с булем…
— Ах, ваше высокородие! Бед! Беда! Пожар! Скорее поднимайтесь! — тряс его кто-то за плечи, тряс его голову, тормошил.
— Кто? Кто здесь? Что за беда? Пожар?! Где пожар?! — вскинулся Александр, но в силах прогнать остатки сна. — Кто горит?!
— Мы горим, батюшка! Низ уже полыхает! Придется в снег с мезонина сигать! Вам Анисим поможет, а я уж лошадок выводить побегу!
Запах гари, всполохи пламени на оконном стекле, потрескивание огня, Анисим с охапкой одежды в руках, торопящий Александра, все это вывело его из состояния полудремы.
— Бежим! Бежим! — дико заорал Александр, кидаясь к окну, сам сильным рывком растворил раму, заклеенную на зиму. Поддерживаемый Анисимом, влез на подоконник и, перекрестившись, ринулся вниз, туда, где играли на снегу отсветы бушующего в нижнем этаже огня. Бухнулся в сугроб в одном белье и едва выбрался из снега, увидал хозяйку-майоршу, сидевшую в салопе на куче вытащенных из дома вещей и ревевшую по-дурному, жалеючи горевший дом. Где-то в конце улицы, приближаясь, гремела и звенела колесница бранд-майора, несущегося со своей командой и с бочкой к пожару, отчаянно гудел рожок. Анисим натягивал на плечи дрожащего от страха и холода Александра шинель, а откуда ни возьмись очутившийся рядом Илья звал его:
— Идемте, ваше высокоблагородие! Пожарные едут да и жандармы, наверное! Расспрашивать станут, волокитничать. А у меня уж тройка за углом, в переулке! Идемте!
Кое-как натянув сапоги, Александр, влекомый на улицу Ильей и Анисимом, заковылял по снегу. Он знал, что дом загорелся совсем не случайно, что ещё вчера вечером Илья говорил ему об увиденном им на улице потрепанного вида господинчике, приглядывавшемся к дому через щель в заборе. Но сейчас его не занимал вопрос: загорелся ли дом сам собой, или был подожжен. У Александра внутри все было сожжено, как в сгоревшем доме. Мир, которого он боялся, но который любил, вновь обманул его, и рассчитывать на то, что угли души вновь превратятся в цветущий сад, Александр уже не мог.
Накрытый межвежьей полстью Александр отогрелся наскоро, но, не переставая дрожать, он уже думал о том, как сегодня утром войдет под звон монастырских колоколов в тот мир, где нет места ни злобе, ни стяжательству, ни зависти. В узкую щелочку между медвежьей шкурой и сиденьем он видел малиновую полоску зари, казавшуюся ему зарей его новой, спокойной жизни, к которой он так давно стремился, и в сердце застыла такая благость, что хотелось остановить тройку и попросить Илью и Анисима замереть, постоять немного и послушать царящее повсюду безмолвие, разлитый везде покой. И он было выпростал руку, желая дотянуться ею до спины возницы, но вот он сам, Илья Байков, прогудел с козел, ломая покой и тишину, прогоняя сладкое благостное чувство:
— Ну вот и все, ваше высокородие. Юрьевский монастырь…
— Александр выбрался из-под шкуры, увидел черную стену и маковки церквей, преступающих на фоне утренней зари, отбросил полсть и вышел на снег. Для любого, кто посмотрел бы на него сейчас, вид этого человека вызвал бы непременно чувство сильной жалости с желанием подать копейку или, напротив, чувство негодования и страха. Одет был Александр в сюртук с накинутой на него шинелью, но штаны, которые Ансиим впопыхах, впотьмах так разыскать и не сумел, отсутствовали, и белые подштаники казались ещё более в соседстве с черными сапогами.
— Юрьевский монастырь, — повторил Илья напряженно, точно барину давал понять, что вот оно-де то место, ради которого ты так долго ехал, ну так и…
— Братцы! — всхлипнул Александр, видно, только вот сейчас и осознав, что навсегда оставляет мир. — Братцы! Ухожу! Уж не судите вы строго своего… царя! Плохим, плохим царем был, да и барином вашим тоже был плохим! Ведь не оставил же я вам ни копейки, ни полушки.
Илья и Анисим, надеявшиеся хоть в малой мере на то, что их господин запрятал что-нибудь в загашник для них, что обещал, старались не смотреть на Александра. В нем не было ни былого императорского величия, в лучах которого грелись и они, в нем не было и того, что называлось бы человеческим достоинством, добрым лицом, как сказли бы крестьяне, а поэтому ничего, кроме жалости, смешанной с некиим чувством досады, не нудило сейчас сердца слуг.
— Денег не оставил, но письма дал вам! — поплотнее запахиваясь шинелью горячо заговорил Александр, очень испугавшись молчания Ильи и Анисима. Там я прописал, чтобы вас снова на службу дворцовую взяли. Новый царь — мой знакомый хороший. Его увидите, скажите, что успокоился-де Александр в одном из монастырей, а в каком не говорите. А теперь дайте я обниму вас напоследок!
Обнял и расцеловал, слуги же хранили молчание. Он запахнулся поплотнее полами шинели и пошел к воротам монастыря, и уж больше не оглянулся. Илья же и Анисим долго смотрели ему вслед, лейб-кучер хлопотал кнутовищем по голенищу, а камердинер тер слезящиеся глаза. А когда фигура Александра слилась с чернотой стены, Илья крякнул, взлез на козлы и, разбирая вожжи, так сказал:
— Если сам Господь Бог просить будет: «Илья, Илья, стань царем!», я и Богу отвечу: «Что хошь попроси, Спаситель да Создатель, а сего не проси. Дай спокойно, без маетности да суеты век скоротать». Знаю, что тут же отойдет от меня Господь, ибо сам он суеты противник великий!
Чмокнул губами, легонько стегнул норовистого коренника да и повел тройку туда, где начиналась Петербургская дорога.
12 ДЕЛА ПОЛУМИСТИЧЕСКИЕ
Норов и князь Александр Николаевич Голицын, министр духовных дел и народного просвещения, сидели в удобных креслах рядом с камином, в котором полыхал огонь. Встречаться с князем Норов про себя решил едва ли не каждый день, потому что ему все больше и больше нравились беседы с ним. Так они и сидели в кабинете дворца на Каменном острове, друг напротив друга, покойно вытянув ноги так, что чуть не соприкасались их подошвы. Голицын был благодарен государю за такую вольность, а поэтому стремился занять внимание императора в полной мере, прилагая к этому все свои знания, ум и красноречие. Вот и сейчас он, похожий своим чисто выбритым аскетическим лицом то ли на английского комми, то ли на русского скопца, говорил по-французски тихо и вкрадчиво, видя, что государь, сцепивший пальцы рук на животе, погружается в сладкую дрему, иногда согласно кивает, иногда просто вздыхает, поднимая глаза к потолку, а порой смахивает непрошеную слезу.
— Говорю вам, ваше величество, что нет ничего милей, чем личное общение с Богом, с потусторонними силами. Все мы созданы Богом, а поэтому имеем право установить с Ним личный, очень интимный контакт, войти с Божеством в незримую, а, может быть, и в совершенно материальную по характеру связь. Ум развитого человека, истонченный многими тренировками, является таким инструментом, который и приводит нас к единству с Ним. Да не надо и ума! Наши чувства — это та же прямая дорога, лестница к Богу, нужно только уметь пользоваться ими правильно, и тогда ты, доведя себя до молитвенного экстаза, и на земле получишь то, что церковь обещает тебе за гробом. Вспомним великих мистов Филона Александрийского, Дионисия Ареопагита, Бернарда Клервосского, Мейстера Экхарта. Все они были счастливы уже на земле, потому что научились общаться с Богом. Вот и я, занимая пост немалый, хотел бы научить тому же самому русский народ. Пусть мистика переродит людей, не видящих света за тяжким трудом, болезнями, горестями жизни. Представляете, ваше величество, какой радостью будет полниться сердце хлебопашца, гнущего спину от зари до зари, но знающего, что дома, в укромном уголке, он обретет покой и счастье, дарованное лишь ангелам или почившим святым угодникам!
Норов почувствовал, что спустя минуту, если князь продолжит говорить, он не выдержит и заплачет тихими, светлыми слезами умиления. А поэтому он поспешил его прервать, сказав таким же, как и Голицын, негромким, задушевным голосом:
— Ах, Александр Николаич! Как бы и мне самому хотелось достичь того, о чем ты говоришь. Жизнь, знаешь ли, такая суетная, праздная, пустая, и тут являешься ты и говоришь, говоришь о счастье, близком и доступном счастье. Друг, я просто счастлив, когда ты рядом со мной. Говори, говори, а я буду слушать, слушать!
Голицын, тоже тронутый до глубины души, тоже готовый расплакаться, сказал:
— Ваше величество, вы научитесь всему тому, о чем я говорю. Ах, если бы возобновили свои посещения моей квартиры на Фонтанке! Помните, ту маленькую комнатку, где мы обливались слезами… После приезда из Белоруссии вы ни разу не были у меня, а жаль…
— Я непременно буду у тебя, мой друг, буду! — горячо сказал Норов, дотягиваясь рукой до колена Голицына и по-приятельски прикасаясь к нему. А сейчас говори, говори, я хочу тебя слушать!
— Мистика и Библия, которую я хочу размножить в огромном количестве экземпляров, чтобы мог каждый читать и постигать слово Божье самостоятельно, вот два краеугольных камня моей деятельности. Но, ваше величество, у меня много противников, и иногда мне хочется удалиться в частную жизнь, ибо нет сил бороться с клеветниками. Я нуждаюсь в вашей помощи, ваше величество…
— Ты получишь её князь, — еле слышно проговорил Норов. — Говори, говори!
Голицын, умный, как филин, и проворливый, как ласка, отлично видел, что беседует не с Александром Павловичем: из-за испорченной оспой наружности на него смотрели совсем другие глаза, он слышал чужой голос, видел, что человек, выдающий себя за императора, иначе жестикулирует, иначе мыслит, но Голицыну доставляло необыкновенное наслаждение наблюдать, как этот самозванец под влиянием его речей становится похожим на прежнего Александра! Ему удалось сделать то, что сделал он с прежним императором привить любовь к мистицизму, и мистицизм лепил из человека с оспенным лицом подобного Александру меланхоличного, спешившего уйти от мирских проблем индивидуума.
— Я непременно буду говорить, ваше величество, — кивнул Голицын, — но хочу заметить, что я явился к вам сегодня не с пустыми руками. Во-первых, вот книги — Эккартсгаузен и Сведенбор-духовидец. Они для вас. — Голицын поднял с ковра и передал Норову стопку книг. — А во-вторых, я имею для вас другой сюрприз…
— Что же это? — заинтересовался живо Норов.
— Мальчик, кадет… — испуская глазами потоки, флюидов сообщил князь.
— Что, что? — не понял и отчего-то смутился Норов.
— Да, кадет. Воспитанник второго кадетского корпуса. Он здесь, у дверей, только и ждет, когда мы его позовем. Прошу вас, ваше величество, позвоните в колокольчик. Пусть попросят войти этого кадета.
Не понимая, зачем Голицыну понадобился кадет, Норов все-таки послушно позвонил, велел позвать кадета, и скоро в кабинет вошел и робко остановился у дверей подросток с прыщеватым лицом и бегающим, нехорошим взглядом.
— Ну, ну, Гриша, подойди к нам, не бойся, не бойся! — блеющим голоском подозвал его Голицын. — Мальчик подошел. — Ну вот, а теперь низко поклонись их величеству. Вот, хорошо, хорошо. А теперь поведай их величеству, Гриша, о том… видении, которое тебе явилось. Начинай сначала…
Норов с интересом смотрел на мальчика. Судя по физиономии этого пятнадцатилетнего кадета, он принадлежал к тому разряду шалунов, которые вовсю курят табак, тайком от корпусного начальства пьют водку, а в воскресные дни шатаются по Невскому в поисках хорошеньких и сговорчивых девчонок, однако Норов так и впился взглядом в лицо того, кого стоило бы не слушать, а отправить учить фортификацию и арифметику.
— Значит… это… — закатил глаза подросток, — было в ночь со среды на четверг, ой, нет… с воскресенья на понедельник, да, верно…
— Ну, ну, ближе, ближе к делу, — мягко наставлял кадета Голицын.
— Так вот, в ту ночь не спалось мне. Ворочался я, ворочался, потом встал, воды попил, снова лег, потом опять встал, решил трубку покурить…
Голицын снисходительно хихикнул:
— Это они, ваше величество, балуются — мальчишки! Ну, продолжай без остановки.
— Так вот, — продолжал уже более смело Гриша, — пошел я, значит, с трубкой и кисетом к нужнику, а коридор-то темный! Токмо одна лампа посредине и висит. Иду я, значит, в одних портках, и что-то мне вдруг боязно стало — вижу, в конце-то коридора фигура высокая виднеется. На нашего воспитателя издалека похожая. Ну, думаю, Гришка, втюхался ты совсем! Отправит тотчас в карцер! И подманивает фигура меня рукой. Я, маленько портки обмочив, к фигуре приближаюсь, а как подошел, страх меня взял вижу, что стоит передо мною император Петр Великий, вот-те крест! — Гриша яро перекрестился. — Токмо фигура у него чуть-чуть дымчатая, как бы бестелесная, так что косяк двери, что у неё за спиной, хорошо виден. Постоял государь император таким манером минут пять, посмотрел на меня нестрого, а потом легко так ступая, пошел своей дорогой да и скрылся в конце коридора, будто туман исчез. Вот так-то…
Норов слушал с огромным вниманием. Мальчик, судя по бегающим глазам, был отъявленный плут и воришка, но сейчас Норов верил каждому его слову, и его огорчило лишь одно: слушая Гришу, он ожидал, что его царственный прапрадед непременно попросит у подростка трубку и табачка, и они вместе закурят, и станут передавать трубку из рук в руки и молчать. Этого, однако, не случилось, но Норов и тем остался доволен. Он ласково расспросил у кадета, хорошо ли он успевает, а когда услышал откровенное признание, что не слишком изрядно и что его и вовсе собираются гнать из корпуса, пообещал разобраться и на прощанье подарил Грише золотой, хоть и был уверен, что кадет сегодня же пропьет его с товарищем или отнесет гулящим девкам.
— Ну, ну, ступай, Гриша, — ласково сказал Норов, но не успел кадет дойти до двери, как отпрянул от нее, потому что из-за неё послышался чей-то громоподобный голос:
— Не впустишь?! Ну так я сам войду и без твоего дозволения, но перед сим прокляну тебя, мужчина невегласная!
Прозвучали какие-то удары, шум возни, чьи-то приглушенные то ли просьбы, то ли угрозы, и дверь распахнулась настежь. Загораживая весь дверной проем, в кабинет входил длиннобородый человек в черном клобуке, с черной мантией до пола, с осмиконечным крестом на груди, бронзовым, тяжелым, и с посохом в руке. Голицын при виде вошедшего весь покорежился лицом, став похожим не на английского комми, а на гриб-сморчок, согнулся в три погибели и поспешил спрятаться за спину Норова, а кадет Гриша почел за лучшее на цыпочках проскользнуть в распахнутую дверь. А вошедший, ступая величаво, манерно и важно отставляя в сторону руку со стучащим в пол посохом, шагнул навстречу императору и, не кланяясь, забасил:
— Тебе, Александре, победителю нечестия и неправды, вопием: Осанна в Вышних! Благословен грядый во имя Господне!
И Норов догадался, что видит перед собой архимандрита Юрьевского Новгородского монастыря Фотия.
— Зачем пожаловать изволили, ваше преподобие? — спросил он строго, как у нарушителя спокойствия и этикета. — Почему имеете смелость врываться в покои государя без доклада? Или это уже не царские покои?
Фотий много слышал о том, что жестокая болезнь исказила черты лица императора, но увидеть Александра таким он не ожидал. Помолчав немного и посмотрев на рябого человека с минуту взглядом долгим и пронизывающим, совсем нескромным и испытующим, он сразу понял, что перед ним не Александр. Но Фотий, в миру Петр Никитич Спасский, был человеком сметливым, хоть и верил в бесов и носил вериги, а поэтому в его голове тут же мелькнула быстрая мыслишка: «Новый человек, ну так и ладно, и нужнее. Нового-то и пообкатать полегче будет».
— Зачем вторгаюсь в я царские чертоги? — возвысил он смело голос. — А для того, царь православный, чтобы изгнать из них гада-василиска, проползшего сюда, имея надежду проползти и свернуться на веки вечные в церкви русской соборной, кафолической, апостольской!
— Ну, и где же этот гад? — был недоволен Норов витиеватой и темной речью Фотия.
— Зри за своей спиной, царь православный! — внезапно выбросил Фотий вперед свою правую руку, указывая на дрожащего за спиною Норова Голицына. Сей гад великий неверие и мрак вселяет в души православных, глаголит мерзко, что можно и без церкви обойтись, токмо, насуслив палец, надобно за Священное Писание в одиночку взяться или в углу домашнем доводить себя до исступления, пока бесов не увидишь, которые рогами да копытами станут тебя шпынять, шпынять! Говорит, что сим действием можно до самого Господа добраться! Еретик! — воздел Фотий обе руки, а левой, в которой был зажат посох, попытался даже дотянуться до головы насмерть перепуганного князя. Еретик! Тебя я проклинаю и предаю анафеме! Ты слышишь, мерзкий гад?! Чему ты учишь, слабоумный? Человече хилый и бессильный своею волей ни на волосок без разрешения Господня не сможет выше стать, ты же льешь лжи потоки, говоря, что людишки способны Бога самого узреть! Анафема! Анафема тебе!
И Фотий, смело шагнув за спину Норова, ухватил Голицына за ворот так крепко, с такой силой дернул князя на себя, что тот пал на колени, а в следующее мгновенье посох архимандрита опустился на спину министра, и тот истошно завопил:
— Ваше величество, ваше величество! Спасите! Обороните от изверга!
Но покуда Норов, никак не ожидавший, что грозная речь Фотия закончится таким безобразием, соображал, как же поступить ему, Голицын, решив, видно, защищаться самостоятельно, или просто машинально, ухватился обеими руками за лодыжки архимандрита, тот не удержался на ногах и с задранной выше колен рясой, грохнулся на наборный пол, поминая чертей и проклиная «Иудино отродье», князя Голицына. Пока Фотий барахтался на полу, силясь подняться, Голицын успел вскочить на ноги и, отбежав к камину, схватил стоящий рядом с ним экран, загородился им и стал кричать:
— Ваше величество! Не верьте, ни единому слову сего мракобеса не верьте! Он лишь расположения вашего ищет, а на святость ему наплевать! Он, все знает, с Анькой Орловой-Чесменской в блудном сожительстве проживать смеет, а ещё монах! Таких монахов к обителям и на пушечный выстрел подпускать нельзя! Защитите! Защитите!
Но Фотий уже стоял на ногах и с криком: «Богомерзкая утроба! Анна Алексеевна дщерь моя! Не гневи Бога мерзким языком своим!», пошел на Голицына с поднятым жезлом, намереваясь, как видно, обломать его о спину врага. Тут же Норов никак не мог остаться в стороне. Его рука крепко схватила Фотия за запястье:
— Остыньте! Отче преподобный! Вы же в присутствии государя императора!
Фотий мигом опамятовался. Тяжело дыша, проговорил:
— Не злокозненного нрава своего ради, а правды для хотел сломить я посох свой на вые дьявола сего! Царь православный, тебе Богом власть вручена, чтобы восстановил ты церковь нашу во славе былой и красе! Не сделаешь оного, и ты проклят будешь вовеки, а полынь, сор и жуки покроют могильный камень твой, народ же русский и имя твое позабудет!
Сказал, оправил мантию, крест на груди и, часто стукая посохом, пошел прочь.
Спустя неделю Норов в подштанниках и рубахе из тончайшего голлансдкого полотна, скрестив ноги, сидел на краю широкой кровати в спальне Елизаветы. На коленях его стояло блюдо с дыней. Василий Сергеевич медленно отрезал кусок за куском и ел сочные, ароматные дольки, но совсем без аппетита, глядя куда-то в угол, точно находясь в глубоком раздумье. Елизавета, похорошевшая, помолодевшая, в коротком пеньюаре сидела рядом. Коробка с шелковыми чулками стояла подле нее, и женщина, то и дело доставая из неё по чулку, примеряла их. Натягивая чулок на ножку, она поднимала её, вытягивая носок, поводя головой вправо и влево, любовалась то ли ножкой в чулке, то ли самим чулком, иногда косила глаза на Норова — не смотри ли? — и была всякий раз огорчена, замечая, что возлюбленный совсем не обращает внимания на её ножку. Наконец она спросила по-французски:
— Милый, как ты думаешь, мне больше подойдут к тому новому платью с блондами эти розовые или вон те палевые.
Норов, слегка повернув голову, бросал короткий взгляд на ногу в чулке, продолжая жевать, равнодушно говорил:
— Право, не знаю. Я ничего не понимаю в чулках.
— Но ты лукавишь, я же вижу. Просто ты чем-то огорчен. Чем же? Может быть, твоя женушка даст тебе дельный совет.
— Не думаю, — отрезал следующий кусок Норов. — Впрочем, если тебе угодно, я расскажу, что меня беспокоит. Понимаешь, князь Голицын, министр, мне близок и симпатичен. Если хочешь, мы с н им почти друзья. Я даже успел проникнуться его идеями о слиянии с Богом в мистическом экстазе. Но вот Фотий… Этот проклятый Фотий все портит! А ещё ко мне приходил петербургский митрополит Серафим, потом — обер-полицмейстер Гладков, следом за ним — Аракчеев. Все в один голос трубят — уберите, ваше величество, Голицына, он разрушает русскую церковь, он отдаляет от неё людей. Они намекали мне на то, что я, как православный государь, должен быть поддержкой церкви, а если я не есть её поддержка, то я — не государь вовсе. Ну каково? Иногда мне кажется, что я в своей стране совсем не обладаю абсолютной властью, и мною руководят другие. Ну скажи, пожалуйста, у Александра когда-нибудь появлялось такое чувство?
Елизавета, которой очень не нравился серьезный, озадаченный чем-то Норов, а нравился лишь беззаботный, веселый и любвеобильный, сказала сухо:
— Не знаю, Александр мне об этом ничего не говорил. Хотя, если учесть, что он добровольно оставил престол, наверное, и его навещали такие же мысли. Но брось — посмотри лучше на эти белые чулки. Ну, как нога блестит, облаченная в белый шелк, тебе нравится?
Норов снова бросил взгляд на ножку и чуть раздраженно ответил:
— Да, очень нравится. Эти, думаю, будут впору!
— Впору! — передразнила его Елизавета. — Впору, это когда они не малы, не велики и не коротки. А здесь — цвет! Ну ладно, ты не хочешь разговаривать о чулках, тогда выслушай мой совет, — серьезно сказала Елизавета, продолжая заниматься примеркой. — Ты — государь, а поэтому все свои дружеские чувства пусти по боку, сумей подняться над ними, иначе ты не император. Тебе мил мистицизм? Ну так и доводи себя до экстаза дома, когда тебя никто не видит и не слышит, а на людях ты должен быть защитником своей церкви. Я тоже когда-то была лютеранкой, но переменила вероисповедание, став православной. Я — подчинилась! И ты, мой милый, должен подчиниться, и власть императоров и королей возможна лишь тогда, когда они сами станут безвластными, несвободными. Ты думаешь, что являешься властелином? Да! Но ты в то же время и слуга, может быть. более несвободный, чем какой-нибудь истопник. Так что отправь Голицына и все его министерство в отставку — спокойней будет на душе. А с самим Александром Николаевичем ты можешь встречаться столько, сколько твоей душе угодно. Тебя втянули в интригу, все борются за тебя, вернее, за свое влияние на тебя, и так будет до твоей смерти. Таков удел императоров. Ну, а теперь, после того, как я дала тебе такой дельный совет, ты скажешь мне наконец, какие чулки тебе нравятся больше других?
— Вот эти синие, — уже спокойно и беззаботно сказал Норов, с удовольствием посмотрев на ножку Лиз.
— Так и быть! — решительно ударила по колену Елизавета. — Завтра я надену именно эти, а если надо мной станут смеяться, я скажу, что совет дал мне мой царственный супруг. Ну что же, ты доел свою дыню? — спросила Елизавета, отталкивая ногой коробку и обнимая Норова за шею.
— Да, да, только поставлю блюдо, — старался побыстрее покончить с очередным ломтиком Норов. Потом он поставил блюдо на стол и шагнул к ложу, на котором уже лежала нелюбимая, чужая жена, протягивая к нему свои руки. Он прилег рядом, она же прильнула к нему жадным до ласки, начавшем стареть телом, а он, отвечая на ласки женщины, все думал и думал о Фотие и Голицыне, о себе и о России.
«И все же, я обладаю властью или это всего лишь иллюзия, обман, мираж, и я лишь внешне могу повелевать, лишь на словах являюсь абсолютным монархом, а на самом деле мною самим правят давно сложившиеся обстоятельства, люди, спешащие удовлетворить личные интересы, обычаи страны? Даже эта женщина правит мною, хоть и выглядит покорной, не имеет никакого влияния на политические дела. Выходит, я — всего-навсего кукла, которой ловко управляют разные по характерам и склонностям артисты, часто хорошие артисты, а порой бездарные мошенники. Так неужели неспроста ушел с престола Александр? И не придет ли время, когда я тоже последую его примеру?»
Далеко за полночь Норов осторожно снял со своей груди руку крепко спящей Елизаветы, встал с постели. На душе было муторно, пусто и тоскливо. Вспоминалась мать, товарищи по полку, Муравьев, Бестужев, Голицын, Аракчеев, Фотий. Но обо всех он думал сейчас с равнодушием, как и об отмене крепостного права, введении конституции и других реформах, которыми хотел осчастливить Россию. Бросил взгляд на постель. Рядом с ней лежала перевернутая коробка с чулками Елизаветы, и один из них, выпав, показался ему похожим на ползущую змею.
«А вот взять бы сейчас да и удавиться на этом чулке! — с неуместной радостью и каким-то облегчением подумал Норов и тут же спохватился: — Да что я? Ведь офицер же боевой, и вдруг на чулке-то…»
Он горько улыбнулся. Мысли потекли ровнее, они уже не тревожили его. Думалось о разном, и в том числе о том, правду ли говорил Голицын, когда ругал Фотия, что тот-де в блуде с графиней Орловой-Чесменской живет, или поносил его облыжно? Подумав о том о сем, Норов забрался на постель и заснул подле сопящей Елизаветы безмятежным сном до самого утра.
13 ВЕНЦЕНОСНЫЙ ПОСЛУШНИК
В приемной архимандрита Фотия, в Юрьевском Новгородском монастыре, служившей настоятелю обители ещё и спальней, была подчеркнута простая, даже убогая обстановка, которой Фотий тайно гордился: гробо сбитый из плохо выстроганных досок стол с письменным прибором грубой, почти топорной работы, тяжелые стулья, в углу — узкая кровать без тюфяка, за занавеской, но не пестрой, а черной, как грачиное крыло. Только книжный шкаф со стеклянными дверцами, хранящий святоотеческую литературу, да множество образов в богатых окладах с горящими лампадами, придавали этой комнате немного праздничности — настолько, насколько может быть праздничным вид нищего, облаченного по чьей-то прихоти в модный фрак.
С очками, уместившимися где-то на кончике крупного носа, без клобука, с толстой книгой в руках, сидящий за столом Фотий, находившийся после падения министерства Голицына в постоянно благодушной настроении, сейчас походил скорее на университетского профессора, чем на грозного гонителя мистицизма и монаха-аскета. В дверь постучали, но Фотий даже не оторвал от страницы взгляда. Вошел монах, поклонился и тихо, боясь помешать, проговорил:
— Отец настоятель, к вам с утра уж просится какой-то чудного вида человек. Слишком уж чудной… — повторил монах, который был довольно смешливым.
— Чудной? — с недовольством взглянул на монаха Фотий. — Ну так и гнал бы его за ворота. Чего в обитель всяких дураков пускают!
— Сей человек настаивает на том, что является вашим хорошим знакомым, и уверен, что вы, отец настоятель, ни за что не откажете ему в беседе.
Благодушие, хоть и почти покинуло Фотия, рассерженного тем, что ему помешали, но все же ещё теплилось в его сердце. И он, подумав о том, что и Спаситель не чурался общаться с разными бесноватыми, кивнул:
— Впусти, только предупреди о том, что я слишком занят, а поэтому беседа будет весьма короткой.
— Все скажу, как надо, — снова поклонился монах и удалился, а Фотий вновь погрузился в чтение. Однако шум шагов вошедшего вновь заставил его оторвать взгляд от книги, и человек, которого архимандрит увидел, в высшей степени мог соответствовать определению «чудной». Помятая шинель с оторванными пуговицами не могла скрыть отсутствие на вошедшем штанов, лицо было искажено какой-то душевной мукой, руки, придерживающие полы шинели, сильно тряслись. И, постояв немного у дверей, странный человек вначале несколько раз судорожно всхлипнул и, застучав сапогами по дощатому полу, бросился к Фотию, а, подбежав, упал на колени, схватил его руку и стал покрывать её поцелуями.
Архимандрит, дав полобызать свою руку некоторое время, сильно удивленный, убрал её наконец:
— Довольно, сыне! Поднимись с колен. Кто ты? Чего тебе?
Странный человек, продолжая стоять на коленях, поднял на архимандрита кроткий взгляд:
— Отче преподобный, вы не узнаете меня?
Фотий вгляделся в черты лица чудного посетителя. Да, что-тдо знакомое виделось ему в этом лице, но архимандрит постарался прогнать от себя явившуюся мысль.
— Не узнаю, — твердо сказал он. — Так кто же ты? Откройся?
— На Фотия смотрели печальные, широко распахнутые в надежде глаза.
— Я? Я — бывший государь России, отче, Александр…
Только пять дней прошло с тех пор, как Фотий, весь полный чувством победы, торжества над своим врагом возвратился в монастырь. Перед отъездом его принял в Зимнем император, и Фотий страстно благодарил его за радение в защите православной церкви. Но Фотий торжествовал не только потому, что удалось прогнать врага православия. Он, монах, отказавшийся внешне от страстей мира, не мог изжить в себе сильную тягу к власти, и победа над Голицыным отождествлялась Фотием с победой и над государем, сочувствовавшим врагу, бывшим даже его другом. Поэтому Фотий ощущал себя если и не первым, то уж непременно вторым человеком в империи. Теперь же, признавая за «чудным» человеком право называться Александром, Фотий, сделавший союзником неведомого кого, какого-то рябого самозванца, потерял бы право на завоеванную власть.
— Ты, государь? — насмешливо скривив губы и отстранившись подальше, словно чтобы лучше разглядеть чудака, почти презрительно спросил архимандрит. — Окстись, сыне! Еще пять ден назад был я в дворцовых чертогах государя императора Александра Павловича, видел его живым и здравым, благословил его при прощадии. Теперь же являешься ты, утерявший где-то не токмо ум свой, но и штаны, да и крамолу несешь — государь я! И кто тебе поверит? На что сошлешься ты, какие-такие знаки императорства своего предъявишь? Нет, сыне! Ежели ты сам умом двинулся, то не считай других дураками, которые бы поверили поносным твоим словам! Прочь изыди, не то прикажу тебя взашей вытолкать! Прочь, говорю!
Александр быстро поднялся на ноги. Длинная речь Фотия убедила его в том, что архимандрит узнал его, но по каким-то соображениям не желает признаться в этом. Оставалось лишь одно — не настаивать на своем царском происхождении, а смиренно просить убежища. Поэтому Александр, понуро опустив голову на грудь, тихо сказал:
— Отче преподобный, Бог с тобой. Если не желаешь видеть во мне того, кто принимал тебя в дворцовых, как ты говоришь, чертогах, так и пусть. Но дозволь мне остаться в твоем монастыре. Давно я уже мечтал о тихой обители, о монашеской рясе и о служении одному лишь Господу нашему. К милости твоей прибегаю, не прогони. Прости лишь за то, что не сумел довезти до тебя вклад, что прочил твоей монастырской казне. Молю, не гони. Ради Христа, прошу…
— Слезы лились по щекам Александра, и Фотий был тронут, но не одно лишь чувство сострадания к этому, столь похожему на настоящего императора человеку заставило его призадуматься.
«А что, — размышлял Фотий, глядя на стоящего перед ним Александра, ежели в Петербурге обнаружат подмену да станут искать истинного царя, выведают, что он у меня, монах уже? Как востребовать его снова к правлению? Да и на меня гнев властей падет, уж непременно! Надо бы поосторожней с ним…»
Но и другая мысль, страшная, сатанинская, явилась и прогнала все прочие доводы. Фотий, страстно стремившийся к власти, желавший быть в России столь же весильным, как Никон при Алексее Михайловиче, подумал: «Добре! Того петербургского урода я уж усмирил в вожжах он у меня — но то самозванец! А настоящего-то я в ещё более строгие вожжи впрягу, такой хомут на него надену, что пожалеет. Фотий будет над двумя царями сразу: над самозванным и над истинным! Потешусь вдосталь! На власть токмо строгий христианин право имеет, а не вертопрах, которого к правлению высшему лишь случай подвел!»
— Хорошо, сыне! — кивнул Фотий после долгого раздумья. — Снисхожу к слезам твоим — останешься в моей обители. Токмо первый год послушником будешь, таков уж у нас обычай. Посмотрю на тебя, годишься ли. Ты вон, видишь, как много мнишь о себе — государем себя называешь! А монашескому образу полное смирение приличествует, а не гордыня. Гордыню же твою я смирю, не взыщи…
Александр с осветившимся огромной радостью лицом молча смотрел на Фотия и согласно кивал. Архимандрит же, вызвав того самого смешливого монаха, что докладывал о чудаке, приказал ему позвать отца келаря и, когда тот явился, так сказал ему:
— Послушника нового прими, поставь на полное довольствие по нашему уставу, сведи со старцем Никитой да, главное, обремени работой. Сей муж человек норовистый, много о себе мнящий, обители же нужны монаси смиренные. Лошадей знаешь? — повернулся он неожиданно к Александру.
— Как не знать, отче! — радостно закивал Александр.
— Ну так будешь при монастырской конюшне, у брата Никодима в подчинении. Будет жаловаться на тебя, на нерадение твое — в одночасье из обители прогоню. Еще устав наш хорошенько изучи. И — готовься! До пострига твоего ровно год остался — время есть, чтоб всякая блажь из головы повыветрилась.
И Александр, благодарный и расчувствовавшийся, вновь жадно припал к руке архимандрита.
И потекли однообразные, но счастливые дни монастырской жизни. Александр выделили келейку в одном из домиков в пределах обители, в которой он пробуждался вместе со звоном колокола, звавшего к заутрене. Потом скудная трапеза, казавшаяся Александру богаче и вкуснее изысканных дворцовых яств. Затем — работа до обеденной трапезы — в конюшне, где он чистил стойла, выносил навоз, приносил воду, закладывал сено, дробил овес, ячмень. Ему не нужно было приказывать дважды — Александр сам находил себе работу и испытывал огромное наслаждение от возможности всецело подчиняться монаху Никодиму, старшему конюху, который поначалу пытался быть излишне строгим, но видя каждодневно какое-то великое рвение послушника Василия, рвение с излишеством даже, его добрый, тихий взгляд, полностью уверился в добрых качествах подчиненного и стал доверять ему поездки за дровами или даже в город за кое-какими припасами. Но Александр как-то раз стал со слезами на глазах упрашивать Никодима не посылать его больше за пределы монастырской стены, и монах, поудивлявшись, согласился, хоть и почел нужным рассказать об этом архимандриту. Фотий внимательно выслушал монаха и про себя огорчился. Он думал, что Александр с великим трудом будет изживать в себе привычку к власти, с зубовным скрежетом станет привыкать к подчинению, к черной работе. Но выходило совсем наоборот, и грубому сердцу Фотия такое поведение недавнего властелина огромной империи казалось явлением непостижимым. Главное же, что огорчило Фотия, было то, что в покорности и легком послушании Александра не было поживы для удовлетворения его, Фотиевой темной страсти повелевать бывшим повелителем. Фотий не знал, что подчинялся он с такой легкостью потому, что тем самым с огромной радостью изгонял из себя остатки греха гордыни и жажды власти.
Но как ни жаждал Александр самоуничижения, печать былого положения лежала на нем, только увидеть её могли далеко не все. Старец Никита, живший в отдаленном углу монастыряв крошечной избушке, которую монахи не без насмешки называли кто скитом, а кто гробом, тот самый старец, который, по мысли Фотия, должен был подготовить Александра к постригу, как-то раз, внимательно посмотрев в глаза Александра спросил:
— Ты, Василий, каким ремеслом в миру промышлял?
— Офицером был, служил, отец, — улыбнулся Александр.
— Неправду глаголешь…
— Как… неправду? У меня и документ есть.
— Ну, документ твой — бумага, я же на челе твоем, сыне, знаки особые вижу…
— Какие же? — замер Александр.
— Царские знаки. — Старец провел тонкой, почти прозрачной рукой по густой еще, седой бороде и заговорил: — Нет мне дела до того, что у вас в миру творится. Спас Господь, увел от великих соблазнов, но как ты-то в обители оказался, царь России? Ведь ты ещё в зыбке качался, а тебя уж к высшему правлению готовили, к высшей власти. А тут все свои похотения оставить придется. Выдюжишь ли?
— Подчиняюсь всем правилам монастырским без ропота, — не стал опровергать Никиту Александр. — За тем и трон оставил. Мне легко здесь, ибо все в обители безвластны — за грех сие искушение считают.
Никита рассмеялся тихим, почти беззвучным смехом:
— Снова неправду глаголешь, сыне! В обители-то властных да подвластных нет? На власти здесь токмо все и держится. Дьявол, который Христа в пустыне властью искушал, здесь логово свое устроил…
Александр испугался и не поверил Никите.
— Да что вы такое говорите, отче? Не грех ли гордости, что-де живете в отдалении от остальной братии да хлебе и воде, спите на сырой земле, вас на такие речи толкает?
— Нет, сыне — гордость вытекла из меня, как вода из дырявой кадки. Но многие отшельники, ещё с самых древних времен, гордость и жажду власти в себе пересилить не могли. Вспомни и Антония Египетского, Антония и Феодосия Печерских. Сергия Радонежского, Паисия Величковского да и многих старцев из Фиваиды Северной. Вначале уходили они от мира, от греха власти, селились в глуши, акридами и медом диких пчел питались, но узновал об их великой святости мир, приходил к ним за добрым советом, селились люди подле этих святых — так монастырьки образовывались. А где монахов много, там уж порядок нужен, а нужен порядок, нужна и власть. Вот эти отшельники святые уже и не отшельники вовсе, а игумены, уставы заводят, строго следят, чтоб остальная братия уставу подчинялась — то есть им же подчинялась! Был вчера отшельник — сегодня уж властелин, волю других людей попирающий. Земельку в свои монастырские пределы даже и с крестьянами, что на обитель работали, говорят, и Сергий Радонежский от богатых дарителей принимал. Не говорю об Иосифе Волоцком или Пафнутии Боровском. А ведь из монахов только на высшие церковные должности на Руси поверстывали. Где же тут безвластие? Только в скиту, как у меня, можно простоту и безвластие найти. Думаешь, я тобой руковожу? Нет, я — только косноязыкие уста, которыми Бог говорит. Можешь и не слушать меня — Бога будешь не слушать. Вот и ты — поучишься у меня, станешь монахом рясофорным, потом иеромонахом, за примерное поведение келаря из тебя сделают, а потом, если место настоятеля опорожнится, может и главным в обители будешь. Вот и получится, что знаки твои царские и не понапрасну на тебе видны. Оставил ты жезл мирской, возьмешь жезл друховный. А власть-то она одна — наслаждаешься бесовской радостью от знания, что тебе другие подчиняются. Так-то, сыне…
Александр, слушавший Никиту с какой-то болью в сердце, горячо сказал:
— Никогда я в искушение не впаду! Хочу быть скитником, как вы!
— Будь, будь им, сыне! — улыбнулся старец. — Только если ты уйдешь от мира в скит, он сам к тебе потом придет, прознав о святости твоей, да и вытащит тебя из скита за бороду, чтобы сделать тебя своим пастырем. Без пастыря-то овцы безголовые жить не могут. А станешь пастырем, станешь и властителем. Таков твой удел, сыне. Знаки-то, знаки зрю…
Александр ушел от Никиты в смятенных чувствах и дал себе зарок ходить к старцу как можно реже. Он с ещё большим усердием взялся за руд в конюшне, выполнял все предписания устава безукоризненно, был почтителен и кроток даже с простыми монахами. Александр видел, что над его усердием и исполнительностью посмеиваются молодые монахи и послушники, он же не только не выказывал обиды, но стремился быть более ласковым как раз с такими людьми. Александр уже в это время мечтал стать хорошим монахом, когда-нибудь принять схиму, и одна мысль, что к нему тогда смогут обратиться с предложением занять какую-нибудь монастырскую должность и он согласится, казалось Александру отвратительной. Он, обманутый и обиженный миром, бежал от него, гнал от тебя любые мирские помыслы, но мир настиг его в монастыре, правда, случилось это совсем не в том виде, в каком описывал вторжение мира к монаху Никита.
Случилось так, что для монастырской трапезной понадобился работник для вечерней чистки котлов, уборки, колки дров, и Фотий распорядился отправить туда Александра, веселый и счастливый вид которого не давал архимандриту покоя.
«Светел душою? Спокоен сердцем? — думал со злобой Фотий. — Говно конское выносить не брезгает? Ну так мало трудов у оного бежавшего с престола царишки. Тягло на него положу большее…»
Александр же, узнав ещё об одной работе, только поклонился монастырскому келарю и с радостью принялся за черный труд в трапезной, размещавшейся в отдельно стоящем домике, хоть и заметил в первый же вечер, что делом таким занимается он в одиночку. Никогда прежде не занимавшийся чисткой котлов, лишь спросив у уходящего повара, чем отскабливать их, и получив нужный совет, наносил из колодца воды, разыскал песок и золу и принялся за работу. Поначалу неумело, неловко, но потом все сноровистей, быстрее, при свете нескольких лучин отдраил котлы, стал перемывать оловянные миски и ложки. Казалось, что к полуночи Александр управится, но отвлек его от дела раздавшийся в трапезном зале шум, какой-то неуместный, мирской, суетный, совсем не такой, как во время монашеских трапез. Кто-то ходил по залу вольно, слышались чьи-то веселые выкрики, позвякивание, смех. Александр, отчего-то пугаясь этих звуков, осторожно подошел к оконцу, через которое монахи получали миски с рыбным или овощным варевом и хлеб, посмотрел в зал. Здесь и впрямь творилось что-то не свойственное монастырской жизни — со свечами в руках по залу ходили какие-то люди, хоть и в рясах, но возбужденные, готовящиеся сделать что-то противное монастырскому уставу. Один из них, бородатый, со всклокоченными кудрявыми волосами, вальяжно сев на стул перед столом, говорил:
— Ну вот, нашли-таки приют для отдохновения. Здесь и шишки сварим, да и шишку сварим. Или у вас, сыроядцев-сухоядцев, шишки совсем уж от долгого неупотребления иссохли, точно стручки гороховые стали? А?
Кудрявому отвечал один из суетившихся вокруг него монахов:
— Нет, Михаил Алексеевич, не совсем-таки стручки, кхе-кхе, ещё на что и сгодятся!
Говорил он это гадко-подобострастным голосом, и Александр сразу понял, что этот самый «Михаил Алексеевич» в компании за коновода, а кудрявый продолжал ерническим тоном:
— А не иссохли, так спустя часок пошлем тебя, Гордейка, за девками в посад новогородский. Денег я тебе дам, мне батюшка, в обитель вашу отсылая, отстегнул немного, хоть и жаден, как жид. Пока же оросим утробу нашу славным винцом да и закусим порядком, потому как выпить да и не закусить, это все равно, что посрать да не пёрнуть!
— Истинная правда, истинная! — захихикали монахи, выкладывая из сум и ставя на стол бутылки и какую-то снедь, а, наверное, Гордейка со смешком спросил:
— А как же, Михаил Алексеич, девок-то в обитель я проведу? Стена ж, да и ворота на запоре-с?
— Что ж, что стена, что ж, что ворота на запоре? — хохотнул коновод. Я напрасно ль в твоем гноилище живу уж месяц? Зря, что ли, от безделья шлялся здесь и там? Спознал уж, что, как пойдешь в дефилеях между собором и мойней прямо, так непременно в стену воткнешься, где кирпичи повыпали. Твой настоятель-скупердяй денег-то жалеет, чтобы стену заделать, вот и считай, что сам он дал нам повод монастырскую постную тишину маленько поразрушить. Да вы что, сыроядцы! — дико вскричал Михаил Алексеевич. — Сколько ж мне терпеть? Я месяц в вашей жопе гноюсь, а ни вина, ни баб за это время не пробовал! Хотите, чтоб я ума лишился?! Такими лещами вялеными, как вы жрете, питался? Нет, не будет такого! Я, может быть, в России третий по важности человек: вначале государь идет, хоть и рябой он самозванец, потом — батька мой, жила поганая, сославший меня сюда, а после, выходит, я, Михаил Алексеевич, хоть и выблядок я, как на Руси издавна незаконнорожденных детей именуют! Ну, Гордейка, ставь стаканы! Ты ветчину жрать станешь? Или тебе снетков чудских подать, а?
— Буду, ещё с какой радостью буду! — пропел Гордейка, и ему вторили другие монахи:
— И мы все ветчинки отведать не откажемся, барин!
— Хоть по маленькому кусманчику отчикай, Михаил Алексеич! Михаил Алексеич отозвался с важностью:
— Всем достанется, не боитесь! Я и в полку-то человеком щедрым считался, все деньги с товарищами пропивал — не жалел. И любили ж меня! Ну так и вы же полюбите! Вам-то, с вашими засохшими от чудских снетков животами да шишками, много ли надо?
— Мало, ваше сиятельство, мало! — прогундосил по-холуйски кто-то. Вот ветчинки бы отведать — изголодались, постничая!
— Откормлю! — снов заорал Михаил Алексеевич. — Пузо отрастите! Девок, хоть каждый вечер, любить станете! Не бывать такому, чтоб мужики русские себя добровольно радостей жизни лишали! Ну, плещи, Гордейка — гулять братия будет! Коли я пришел к вам, так рай на землю вывести должен. Архимандрита же вашего — к лешему посылаю! Вериги, знаю, носит, а сам с Анькой Орловой сожительствует. Плещи, плещи, Гордейка!
Зашумело разливаемое по стаканам вино, заскрипел нож, захрустел разламываемый хлеб, застучали в дружеском чоканье стаканы, закрякали монахи, заперхали, застучали пальцы по обожженным с отвычками губам. Скоромный, неприличный, недозволенный пир начался. Скоро, слышал Александр, выпивохи закосневшими языками стали молоть всякий вздор, ругать монастырское начальство, порядки, всю жизнь монастырскую, собственную долю. Михаил же Алексеич всех одобрял, говорил, что все исправит, жизнь пойдет на лад, что архимандрит станет ему послушен, потому как и не может не быть таким, ибо зависит от его «батьки», как пчелы от матки. Через полчаса затянул протяжную, удальскую песню, а монахи нестройно, но с большой охотой подхватили. Но вот коновод оборвал пение и прокричал:
— Гордейка, сучий сын! Дуй в посад! За девками до мужиков охочими, дуй! Скажи, что барин гуляет! Каждой сули по серебряному рублю! Наливки тут у меня, конфекты да пряники! Лети, как муха, и чтоб через час доставил нам их сюда! Ну, прытко!
— Задаточек дадите, ваше сиятельство? — проканючил Гордейка.
— Бери, лихоимец, пять целковых, да только девок выбери поядреней, позадастей — я таких привечаю!
Зазвенело серебро, закрякал Гордейка в предвкушении давно забытой радости, Александр же, не имевший возможности уйти, весь сжавшийся, оскорбленный грубыми, растревожившими его разгворами, лихорадочно вспоминавший, чей же такой знакомый голос слышит он, на корточках сидел у раздаточного окошка, не имея сил подняться. А в зале все голосили монахи, и громче всех других голосов звучал голос Михаила Алексеевича, но вот прошел час или больше, — Александр не знал, — и в трапезной раздались смелые женские речи:
— Ай, мужички-монахи, рыбкой-то у вас здесь все провоняло!
— Нет, ладаном, Нюшка, пахнет, как возле упокойника. Пойдем скорей отсюда — чего ж нам в гробу оном делать? С мертвецами-то!
Но послышался сладко-призывный голос Михаила Алексеевича, страстный и наглый:
— Нет, девоньки хорошие, не совсем мы померли, ещё кое-что швелится у нас. Иди ком не, зазнобушка, иди, ладушка, да и приложи свою ручку белую. Ну, покойник ли я? Али тебе спервоначалу наливочки плеснуть да заедочек вкусных дать? Рыбка-то днем по этим просторам плавает, а ночью, гляди, окорок свиной сам к нам сюда притащился.
Вновь потекла по стаканам хмельная влага, зачмокали губами гостьи, зачавкали, поедая закуску, захрустели разгрызаемые орехи. Михаил Алексеевич все подчивал девиц, громко шептал им скоромные, бесстыдные слова, а те визгливо хохотали, радуясь ощущению власти над теми, кто именовался ущедшими от власти мира. Купленные за целковый, они в душе удесетеряли плату, делая похотливых мужчин подвластными себе.
Прошло время, и шум поутих, но громче зазвучало томное шептание, почмокание, постанывание, а к этим звукам внезапно прибавлялся вдруг чей-то чладострастный визг — и пропадал, сопровождаемый чьим-то одобрительным смешком. Вдруг звон разбившегося стекла прогнал все другие звуки, а вслед за ним последовал ленивый приказ:
— Гордейка, на кухню сбегай, кружку принеси…
— Сичас, сичас, Михаил Алексеич! Бегу!
Александр услышал приближающиеся шаги, вжался в стену, отчего-то сильно боясь, что обнаружат его присутствие, но монах, вошедший на кухню со свечой, вначале отпрянув от скорчившейся фигуры Александра, громко проговорил:
— Михаил Алексеич! Тута кто-то затаился!
— Да кто там затаился? — по-прежнему лениво отозвался коновод. Таракана али мышь нашел?
— Не таракана, ваше сиятельство! Послушник здеся, Василий, кажется! Сюда идите!
Не один Михаил Алексеевич, но все монахи и даже девки, — кто в рубахе, а кто и овсе нагишом, — явились на зов Гордейки. Александр же, считая, что не делом будет, если найдут его скорчившимся, будто он подглядывал, выпрямился. Те же, окружив его со свечами, с минуту настороженно глядели на Александра, покуда Михаил Алексеевич не заговорил:
— А, послушник примерный, тихий! Ты, брат любезный, оказывается, высмотрень архимандрита? За нами решил следиь? Ну так, иуда, будешь ты сейчас же живота лишен да и в котле сварен! Вот удивятся-то наутро все монаси, узрев за завтраком вместо постной каши мясо!
И кудлатый блудник, держа одной рукой свечу, другой не глядя взял со стола широкий длинный нож, шагнул к Александру, который, несмотря на темень, чуть вскрикнул, узнав в подходившем к нему человеке сына своего любимца Аракчеева — Мишеля Шумского! Александр уже отрастил бороду, и Мишель стоял перед ним бородатый, но оба, вперившись друг в друга взглядом, сразу же увидели знакомые черты. Мишель широко и пьяно заулыбался, сатанинская насмешка изломала красивое лицо, он с шутовской почтительностью поклонился и сказал:
— Ваше величество, какой сюрприз, какой презент! Вот уж не чаял найти вас на монастырской кухне. Разумеется, кто бы мог поверить в то, что вы, Благословенный, победитель Буонапарте, император, перед кем трепещет вся Европа, окажетесь близ грязных мисок и котлов! Презент, ещё какой презент!
И снова поклонился, трепеща от радости. Александр же взмолился:
— Михаил Алексеевич, я вас прошу, не открывайте никому, что увидели меня! Ну что вам стоит? Вам надобно умножить степень моего унижения? Ну вы видите, я и так унижен. Большего падения для государя и представить-то нельзя. Да, я по доброй воле решил отказаться от мира, я ищу в обители самую черную работу, я безропотен и беззащитен. Не унижайте же меня, прошу вас!
Мишель, продолжая смотреть на Александра со злобной насмешкой, вдруг повернулся к стоявшим позади него монахам и девкам, повелительно сказал:
— А ну, давайте, прочь идите!
Все разом хлынули из кухни в трапезный зал Мишель же, покривлявшись, заговорил:
— Ваше величество, вы сколько угодно можете меня просить — я же поступлю по-своему, потому как в сей жизни привык поступать лишь по-собственному хотению. Кто мне на оные поступки право дал? Вы же и дали! Я был рожден бастардом, но судьбе угодно было, чтобы родился я от семени второго человека Российской нашей империи. Эк, как чудто-то получилось жить с сознанием, что ты сын всевластного мерзавца, но в то же время безвластен вовсе! Вы согревали змея на груди своей, а я — змееныш, но токмо без жала и без зубов. Вот и захотелось мне смолоду кусаться, чтобы оправдать свое происхожденье. Кусаюсь я беззлобно, но все-таки кусаюсь, и таким кусачим решил я всю жизнь свою прожить, а то обидно как-то батька правит, а сынок даже фамилией его и титулом украситься не может. А здесь, в монастыре, куда меня послал папаша, я главным сделаться задумал, ибо Фотий папаши моего приятель, вы — бывший приятель Фотия, так отчего же мне не властвовать? Буду, буду! Теперь же и вы, кто сделал меня змеенышем, в путах власти моей находитесь, но я тиранить вас не стану. Одного лишь сейчас я попрошу от вас — совсем немного…
— Чего же?
— А погуляйте-ка вы с нами, царь-государь, потешьте сердце, станьте приятелем моим. Винцо да мясо сочное, наливки, девки и заедки ждут вас там. Выпьем по чарочке-другой — да и разойдемся. Никто и не узнает после, кто вы такой.
Александр вздохнул:
— Охочи вы до унижения брата своего, Мишель. Охочи!
Бастард смастерил на лице своем ухмылку, сатанея, прокричал, искривив все тело:
— Охоч, ещё как охоч! Же ву при, мон сеньон! Прошу к столу, а завтра как хотите! Мимо пройду и не замечу! Сейчас же с вами пить-гулять хочу! Час такой настал! Мой час! С самим царем гуляю! Идем! Идем!
Александр, понимая, что Мишель в своей необузданной страсти повелевать не отступит ни на шаг, покорно пошел за ним, идущим походкой гордой, радостной. Взбудораженный, с горящими от дикого восторга глазами, Мишель вышел в зал, сам, разливая водку, плеснул в стакан, подал Александру:
— На, пей! Знал бы ты, что подарил сейчас несчастному ублюдку минуту счастья! Ты и я — несчастные счастливцы, дети власти! Ну, выпьем да поцелуемся, Саша дорогой! Долго ль я проживу на свете — не ведаю, а час сей полуночный и на смертной одре буду вспоминать!
Не дожидаясь, покуда выпьет Александр, влил в себя стакан вина, губы рукавом утер и впился своими жадными губами в губы Александра, а после яро закричал:
— А вы, сушеные стручки, почему не пьете?! Каждый пусть за наше с Александром здоровье выпьет! Да и девкам наливайте — притихли что-то! Ну, трясогузки, пейте!
Монахи, не понимая, почему их коновод вдруг стал послушника Василия именовать Александром, с радостной суетой наполнили стаканы, все выпили. Мишель, уже довольно пьяный, песню снвоа затянул, кто-то из монахов пошел наяривать на ложках, другой в дно дубовой кадки стал стучать руками, девки закружились в срамотном диком танце, Мишель пошел плясать вприсядку, и гульба перевалила за те пределы, за которыми гуляк поджидает или совершенное бессилие, или полное исступление, безумное и всепоглощающее. Но чьей-то грозный окрик, раздавшийся неожиданно, некстати, мигом заставил всех остановиться, замереть. В дверях в сопровождении двух иеромонахов, с посохом в руке стоял архимандрит.
— Бесы! Бесы!! — с великим гневом. обидой и недоумением прокричал Фотий. — Святую обитель срамите?! Чистый алтарь калом и мочой срамоделия поливаете?! Никогда прежде не бывало такого греха в сей обители! Преступники вы и заслуживаете самой страшной кары! Говорите, кто зачинщик блудодействия наглого и бесстыдного?! Кто святотатец безумный?! Ответствуйте, иначе всех без разбору на казнь страшную пошлю!
Мишель, желая, видно, довести безобразие сцены до высших пределов, находя в том огромную радость от возможности попрать власть архимандрита, вихляя бедрами, со стаканом в руке, обнимая другой рукой полуголую блудницу, немало, однако, смущенную, пошел к Фотию.
— Кого казнить собрался, ханжишка? Меня что ль, Мишеля Шумского, сынка другого твоего и начальника?! Не я ли сам тебя в кнуты отправить могу, сорвав вначале с позором твой клобук настоятельский?!
Наглая речь послушника, опозорившего монастырь не виданным доселе срамом, отняла у Фотия дар речи. Он стоял, мелко-мелко постукивал посохом об пол, разевал рот, пучил глаза. Наконец изрек:
— Срамник бессовестный! Отца своего начальником моим называешь? Нет, не начальник он мне — иное начальство у меня отыщется! Ты же, щенок, весь в моей власти, и власть сию сам отец твой мне вручил, тебя, бесстыдника, ко мне на поруки отправляя! Но за не виданный досель в обители срам, тобою учиненный, завтра ж отошлю тебя в монастырь Соловецкий, где погодка похолодней да настоятель построже! Бесов изгонять из святых мест безо всякой жалости надо!
Тут Фотий, скосив глаза, нечаянно бросил взор на стоявшего в сторонке понурившегося Александра, которому было безумно стыдно находиться в одной компании с безобразниками.
— А это кто?! — скорее с радостью чем с негодованием воскликнул Фотий. — Послушник Василий, тихушник скромный! Ну-ка, ко мне скорей ступай! А ну, дыхни, дыхни! — потребовал Фотий, когда смущенный Александр приблизился к нему. — Ай, да и дышать не надо! Слышу, как зельем хмельным от тебя разит! Вот аспид-то в овечьей шкуре! Уступчив, работящ и скромен, а на деле что? Вином и девками в обители святой пробавляется с другими блудниками, так что ли?!
Александр просто корчился от обжигавшего чувства стыда, он даже не мог поднять на Фотия глаза, весь трясся. Еле слышно проговорил:
— На кухню я сегодня был отправлен, для мытья котлов… Простите, отче преподобный, ради Бога!
— Нет, не прощу! — чрезвычайно радуясь тому, что находящийся в его власти первый человек державы достоин его гнева, унизил себя до срамотного поступка, уничтожил в себе достоинства, присущие властелину, звонко прокричал архимандрит. — Прочь тебя, Василий, из обители изгоняю! Не достоин ты быть средь братии! Завтра ж собирайся!
Но тут заревел до этого молчавший Мишель:
— Кого гонишь, мракобес?! Святого человека гонишь?! Да ты и ногтя-то сего мужа не стоишь, хламида вшивая! Гордыней упиваешься, властью, а вериги носишь, постишься, ханжишь! Лживая твоя святость! Самого тебя из обители гнать надо грязным веником!
Фотий поднял было посох, чтобы ударить им обидчика или просто погрозить им, но Мишель опередил движение архимандрита, схватил его одной рукой за запястье, другой — за длинную бороду, Фотий по-дурному взвыл, скорее переживая оскорбление, чем страдая от боли, а Мишель, расценив вой отца преподобного как воинственный клик, сам закричал, опрокинул архимандрита на пол и, покуда два иеромонаха силились оторвать смутьяна от настоятеля, сын Аракчеева успел дважды съездить его кулаком по лицу, вырвать изрядный клок из бороды и один раз удружить ударом посоха. Александр, не имея сил смотреть на отвратительное побоище, происходящее в стенах монастыря, где укрывались люди от мирских страстей, поспешил выбежать из трапезной. Он летел к своей келье, чтобы укрыться в ней и предаться горячей молитве. Александр понимал, что мир добрался до него и в монастыре, причем в творении этого ужасного мира был повинен он сам, потому как Мишель Шумский на самом деле был в какой-то мере и его сыном: да, Аракчеев родил Мишеля, но Александр был тем, кто родил Аракчеева как государственного человека, второе после государя лицо.
… Из ворот Юрьевского монастыря Александр вышел поутру. Лил сильный дождь, и скоро его шинель стала намокать. Без шапки, в шинели, в сюртуке и в казенных монастырских штанах, которые ему разрешили оставить себе, Александр выглядел нищим бродягой благородного происхождения. Куда ему сейчас идти, Александр не знал, как не знал ни месяца, ни дня недели, ни числа. Прошел под дождем с полверсты, впереди чернели крыши какой-то деревеньки, слышалось чье-то уханье, злая брань и крики. Вдалеке увидел он копошащихся людей, которые, разделившись на кучки, то набегали друг на друга, то разбегались вновь. Подошел поближе и рассмотрел, что копошащиеся люди дерутся, дерутся яро и серьезно, с намерением ударить противника не просто побольней, а так, чтоб уложить на землю. Бились они, топая по размокшей от дождя земле, жижа чавкала под их сапогами и лаптями, на которых толстым слоем налипла грязь. Бойцы падали в грязь, вскакивали, если имели силы, или оставались лежать в грязи, окровавленные и перемазанные чернотой, как черти. Сажернях в тридцати от дерущихся стоял человек в шляпе приходского священника, в рясе, но с накинутой поверх головы и плеч рогожкой — от дождя. Стоял и молча, но неотрывно смотрел на дерущихся. Александр подошел к нему, с укоризной спросил:
— Батюшка, да что вы с таким интересом смотрите на сию отвратительную драку? Подошли бы, разняли. Эдак они и убьют друг друга!
Священник взглянул на Александра добрым кротким взглядом, улыбнулся и, втянув сопельку, сказал:
— Может статься, что и убьют, да токмо я ничем помочь не смогу. Да и становой пристав, если вдруг, словно по волшебству, здесь явится, тоже не разнимет. Гляди-ка, они ведь в раж вошли! Издавна здесь по праздникам окуловцы на низовцев ходят и наоборот. Стенка на стенку, новогородские обычаи древние помнят. В кабаке каждая станка по ведру вина возьмет, выпьют спервоначалу, а после и махают кулачками. Ладно будет, если за колы не схватятся. Пьяные, знамо дело!
Александр, видевший за время своего путешествия так много пьющего народа, в сердцах спросил:
— Но, батюшка — отчего же пьет русский человек? Неужели ему и без вина не весело?
— Как не весело? — изумился священник. — Человеку рабочему недосуг и соображать — весело ль ему, али невесело. От зари до зари в труде, о баловстве и подумать некогда. Зато о веселье простого человека кабатчики-откупщики заботятся зло. Им вино продать надобно, да и гадкое вино, кислотой али щелоком разведанное, чтоб острее казалось, известностью еще. От кабацких же продаж имеет мзду немалую и казна государственная, а посему ни кабатчикам, ни господам министрам не резон водочную продажу прекращать. Мы же, слуги господни, в проповедях много говорим о вреде пьянства, и действенны проповеди сии — часто целыми деревнями крестьяне, а особливо артельные люди, от водки совсем отказываются. Так что ж? Через епархиальное начальство сделали нам строгое предупреждение, исходящее якобы от министра финансов, чтоб впредь призывали народ не к полному неупотреблению вина, а лишь к умеренному его питию. Не могли мы супротив такого циркуляра пойти — стали говорить, как велели, чтоб токмо частный, виноторговцев, и казенный интерес не страдал. Государеву волю исполняем. Людишки же сии свою волю в высшей степени сейчас выполнить хотят, силой кулаков над братом своим во Христе власть показать спешат. А то над кем властвовать? Над женками, которых иные крутые мужья в телегу запрячь могут да, хлестая плетью, заставят пять верст протащить? Над детками безответными? Над скотиной? И, соколик! Ежели конца света не будет, так и проживет человече, власть хоть над кем-то подыскивая, хоть кого-то, самую малую и беззащитную тварь стараясь принизить, а себя возвеличить. Да, слаб человек, а отсюда и гоньба его за властью! — И священник вдруг радостно и азартно вскрикнул, хлопнув себя по коленям: — Да вы смотрите, сударь, как тот низовец, что в красной рубахе, окуловца срезал! Начисто сработал, не иначе как свинчатку неприметно в рукавицу положил!
Александр, совсем не разделявший восторга батюшка, хотел было побыстрее уйти, чтобы не видеть кровавого, жестокого побоища. Священник уловил желание своего нечаянного собеседника и, поклонившись и поморгав мокрыми ресницами, сказал:
— А на храм, барин, хоть копеечку не подадите?
Александр машинально опустил руку в карман шинели пальцы сразу нащупали случайно оставшуюся, не украденную в монастыре монету. Вытащил серебряный гривенник, подал батюшке. Тот долго благодарил странного вида барина, не забывая поглядывать на продолжавшееся побоище.
Александр пошел прочь. Дождь закончился, в просветы между рваными тучами протиснулось неяркое уже осеннее солнце. Александр шел к дороге на Петербург. Он, уже ненавидевший порядки державы, бывшей совсем недавно его державой, хотел поскорее попасть в столицу империи, хотя и не знал точно, для чего это надо ему и как он попытается изменить российские порядки. Главное, что в нем жила уверенность в необходимости перемен, и он очень жалел о том, что оставил престол, хоть и понимал в то же время, что, не окажись он вдруг просто коронованным странником, многое так и осталось бы неизвестным ему.
Совсем бескорыстно, — лишь за несложную работу в пути, — его приняли в свой обоз новгородские купцы, направляющиеся в Петербург. Они узнали в Александре барина, а жалкий вид, его обтерханная одежда заставили купцов испытать чувство сострадания к благородному нищему. Ему подарили шапку, новые портянки, укрыли рогожами, и некоторое время замерзший, мокрый Александр отогревался. В его сердце жили страстная любовь к людям и сильное желание им чем-нибудь помочь.
14 БЕГУЩИЙ ИМПЕРАТОР
Осенью 1824 года Василий Сергеевич Норов, давно уже осознавший, что он, даже будучи выделенным высшей властью, — ничто в сравнении с армией твердоустоявшихся мелочей, догм, традиций, норм, взглядов, правил, а поэтому нужно лишь стараться быть их заботливым охранителем, отправился в путешествие по России. Побывал в Москве, Рязани, Калуге, Туле, Тамбове, Пензе, Симбирске, Самаре, Оренбурге, на Златоустовских и Екатеринбургских заводах, в Перми, Вятке, Вологде. Везде государю показывали самое наилучшее и интересное — лучшие больницы и тюрьмы, школы и рынки, заводы и земледельческие хозяйства. Он догадывался, что показывают, чтобы успокоить, если не удалить его, но Василию Сергеичу отчего-то самому казалось это очень удобным — он сам хотел лишь по-хорошему удивляться и не беспокоить себя, а поэтому оправдывал такой показ мыслью: «А если бы я был губернатором или городским головой, стал бы я огорчать государя императора видом нечистоты физической и нравственной, картинами нищеты? Нет, каждый хозяин по вполне разумным причинам спешит показать лишь самое хорошее, ну а я, гость, не имею права требовать от него, чтобы он вел меня на задворки и помойки. Они — добрые люди, и я тоже, добрый благовоспитанный человек».
Но по мере того, как Норов приближался к Петербургу, возвращаясь из долгой поездки, в нем все основательнее свивала гнездо тревога. Доводами разума уже невозможно было заглушить упреки совести, твердившей ему: «Ты энергичный и честный человек, добившийся абсолютной власти! Но что ты сделал доброго России, её народу? Спишь с женой Александра, танцуешь на балах, жрешь изысканные кушанья, смотришь на марширующих солдат да разъезжаешь в карете туда-сюда. Да ты подлец, Василий Сергеич!»
По мере того, как приближались к Петербургу, порывы ветра становились все сильнее. Норов в окошко кареты видел, что вода Финского залива, кое-где видневшегося сквозь стволы деревьев, стало темно-синей, почти черной. Ехали по Петергофской дороге, миновали Ульяновку, Красный кабачок, а неподалеку от имения Дашковой Норов велел остановить карету, вышел из нее, чтобы поглядеть на залив, открывавшийся отсюда во всем своем зловещем бурном виде.
— К самому наводнению поспели, ваше величество! — чуть ли не с радостью сообщил кто-то из свитских.
Ветер рвал полы плаща государя, который все смотрел и смотрел на кипящую воду. Недалеко от воды дымили трубами здания какого-то завода. В ста саженях от заводских построек виднелись налепленные без толку жилые строения рабочих. Вдруг Норов с ужасом видел, как синяя кромка воды залива стала двигаться, пахнуть на глазах, точно волна пламени, двигаясь по сухому дереву, съедала его, так и вода съедала берег, подбираясь к домам фабричных. Из них вскоре выбежали женщины и дети, крича, бросились наверх, к дороге, на которой стоял царский поезд, но волна бежала быстрее, и скоро она настигла беззащитных людей и съела их, а рабочие, выскочившие из заводских зданий, находившихся на более высоком месте, падая на колени и простирая к небу руки со сжатыми кулаками, в бессильном негодовании то ли на Бога, то ли на природу, стояли и смотрели, как тонули их близкие. Лишь некоторые бросались вплавь, чтобы помочь несчастным, но по большей части сами тонули…
«Как, я ездил где-то, не зная, не желая знать, что в восьми верстах от Зимнего дворца есть лачуги бедняков, которые может смыть волна? Не я ли преступник? Не ко мне ли должна быть обращена ненависть этих бедняг?!»
Так лихорадочно думал Норов, хотя рядом с каретой и грызя в возбуждении ногти. Он то смотрел на боровшихся со стихией людей, то закрыл глаза и уши, чтобы не видеть их смерти, не слышать их криков о помощи. А потом вдруг сам закричал, прсиедя на корточки в нелепой позе:
— Боже! За мой грех караешь Ты их, невинных! Ну пощади же! Пощади!
А потом, быстро впрыгнув в карету, прокричал вознике:
— Гони! Гони! Бегу-у-у!
Было 7 ноября 1824 года.
4 апреля 1825 года Норов выехал в Варшаву, чтобы присутствовать на третьем сейме. К этому времени он заметно пополнел, был или чрезвычайно весел, или, наоборот, резок, раздражителен, в лучшем случае рассеян. В Варшаве, появившись перед делегатами сейма, он произнес фразу, поразившую и его самого своей смелостью: «Я сочувствую упрочению вашей конституции». Поляки рукоплескали. Норов был собой доволен, но не доволен поляками, когда узнал о наличии в Царстве тайных обществ. Выговорил на эту тему Константину, побрюзжал и отправился в обратный путь. Заехал в Ковно, в Ригу, в Ревель, был в Грузино у Аракчеева, в Новгороде, и в Юрьевском монастыре, где имел беседу с Фотием наедине. 13 июля возвратился в Царское…
В тот же день получил из Грузино нагнавшее его письмо. Писал Алексей Андреевич, что-де некто Шервуд, унтер-офицер 3-го Украинского уланского полка, находящийся у генерал-майора Клейнмихеля, настойчиво добивается аудиенции. Аракчеев писал, что у Шервуда есть наисекретнейшие сведения о заговоре, направленном против императорской фамилии, но открыть их он сможет лишь в личном разговоре с государем.
Норов мог бы и не принять этого Шервуда, потому как о заговоре ему было известно давно, но он не стал этого делать — заговор, рассудил он, спустя почти два года со дня «Бобруйской ночи» может относиться и к нему лично, а не к какому-то Александру Павловичу. А поэтому, попросту опасаясь за свою жизнь, которой последнее время он особенно дорожил, Норов отдал приказ Клейнмихелю прислать к нему унтер-офицера. В своем кабинете на Каменном острове Василий Сергеевич и принял Ивана Шервуда.
Перед ним стоял белокурый молодой человек с благородными чертами лица, совсем не смущающийся, но сдержанный, правда, державший себя с достоинством, которое, видно, полнилось обладанием тайной, важной государю, что придавало Шервуду уверенности. Сам Шервуд давно уж посмеялся над тем порывом, заставившим его некогда броситься к ногам проезжего капитана, так похожего на государя императора. Теперь же он смотрел на пораженное оспой лицо стоявшего напротив человека и был уверен, что настоящий император и не мог выглядеть иначе, тем более после болезни, о которой говорили все.
— Ну так что же, сударь, вы хотели мне сообщить? — по-французски спросил Норов, вдоволь насмотревшись на чистенького, умненького уланского унтера.
— Ваше величество, только мои верноподданические чувства и заставили меня искать высочайшей аудиенции. Спешу вам сообщить, что в армии против вас заговор. Двенадцатого марта двадцать шестого года, как вам хорошо известно — начало празднований в честь вашего четверть-векового юбилея правления. Так вот, мне доподлинно известно, что когда вы, ваше величество, приедете на смотр третьего корпуса, вас убьют в день смотра. Этот план детище Пестеля, человека страшного, в руках которого весь корпус! Я знаю, что Пестель уже заготовил прокламации к войску и народу, и едва вас убьют, как полки корпуса пойдут на Киев и на Москву, где восставшие потребуют решительных преобразований России в духе планов Пестеля! Он уже наметил и физическое истребление всей царской фамилии! Ожидается, что к восставшим сразу же примкнут и гвардия, и флот! А вот и проект Пестеля. Мне удалось сделать копию с копии. Ознакомьтесь, ваше величество! Вы сами убедитесь, что я нисколько не преувеличил опасности! Молю вас, поверьте мне!
— И Шервуд с поклоном протянул Норову тетрадь, Василий Сергеевич молча взял её, повертел в руках. Он хорошо знал Пестеля, представлял, что тот мог придумать ради того, чтобы увлечь офицеров идеями преобразования России и с помощью войск достичь высшей власти под видом диктатора, а поэтому читать проект бунтовщика ему не хотелось. Но вдруг Норов внезапно осознал, что ему грозит смертельная опасность, именно ему, не выполнившему обещаний, почившему на удобном царском троне.
«Бежать! Бежать! — со страхом, который, возможно, впервые в жизни настиг его, подумал Норов, тиская в руке тетрадку. — Пестель сдержит свое слово, и если я даже и не приеду на смотр третьего корпуса, клинок его кинжала или пуля все равно отыщут меня когда-нибудь! А ведь я совсем не виноват перед заговорщиками! Ах, знали бы они…»
— Благодарю вас, Шервуд, — самым искренним тоном сказал Норов, испытывая к молоду человеку настоящую приязнь и глубокую благодарность. Верьте, я не забуду вашего геройского поступка, ведь вы рисковали жизнью…
Шервуд был тронут ласковым тоном человека, совсем не похожего на прежнего государя, но все-таки являвшегося им:
— Ах, ваше величество! Да если бы у меня было три жизни, я бы все их отдал бы вам! Я, вступая в службу, давал присягу, клялся, обещал не щадить живота ради царя и отечества. Я и не мог поступить иначе!
«Вот истинный друг, — с грустью подумал Норов, — возможно, мой единственный друг. Ну, не считая, конечно, преданного Аракчеева. И все же в нем есть что-то отталкивающее. Наверное, сидел вместе с заговорщиками, пил с ними чай, выведывал, а потом пошел да и донес на своих товарищей. Что же делать! Придется дружить с подлецами, если друзья грозят смертью. Ну до чего же гадко на душе!»
И Норов поспешил распрощаться с Шервудом, хоть и сделал это крайне вежливым и любезным образом.
— Милый мой, тебе нужно развлечься. — Сказала как-то раз Елизавета перед сном. — Скука и ипохондрия запечатлелись на твоем лице и без того мало привлекательном.
— Я только и делаю, что развлекаюсь, — раздраженно отозвался Норов, снимавший в это время панталоны. — Я соскучился по делу, настоящему делу, вот в чем причина моего дурного настроения!
Он сказал неправду, и Елизавета уловила фальш:
— Ах, оставь, пожалуйста! Развейся, проветрись — и скуку как рукой снимет. Не начинать же тебе вновь играть во всякие реформы? Слушай, давай устроим при дворе маскарадный бал, пригласим городскую знать, даже небогатых дворян. Развлечемся, а заодно дадим людям повод считать тебя либералом. Знаешь, я уже придумала костюм — являюсь на маскарад в наряде баядерки!
— А я в суконной куртке каторжника, с кандалами на руках и ногах! мрачно пошутил Норов.
— Что ж, тебе пойдет! — весело отозвалась императрица. — Только не забудь клеймо на лоб поставить. Ну, так устраиваем маскарад?
Предъявляя загодя распространенные билеты, публика в маскарадных костюмах входила в Зимний дворец с Иорданского подъезда, и к восьми часам вечерам Георгиевский зал и прилегающий к нему залы гудели разодетой толпой гостей, на хорах гремел оркестр, но танцы ещё не начались — бал должны были открыть государь и государыня, а поэтому гости забавляли себя беседой, шампанским и лимонадами, разносимыми ливрейными лакеями. Но вот распахнулись двери, и в зале появились державные хозяева. Он — в домино, она — как и приличествует баядерке, в шароварах и в короткой курточке, открывавшей живот. Поклонились гостям, те поклонились императору и императрице, оркестр грянул польский, и бал-маскарад начался. Протанцевав с Елизаветой полонез, Норов быстро удалился в свои покои, чтобы переодеваться. Он уже был рад случаю, вручавшему ему возможность под прикрытием маски походить среди веселящихся людей, послушать их разговоры. Он, мнительный и боязливый, дрожал от предвкушения, когда, напоенный чужими тайнами, он станет властелином душ своих подданных. Вскоре Норов уже вернулся в зал, но теперь на нем был костюм Скарамуша, и никто не мог увидеть его рябое лицо под достигшей подбородка маской.
Он стал прохаживаться в толпе гостей, пивших вино, поедавших пирожные, над его головой летели ленты серпантина, падали на плечи, откуда-то сверху сыпалось конфетти, несколько раз Норова сильно толкнули пробегавшие гости в костюмах чертей, многие маски развязно, надрывно смеялись, полагая, видно, что под маской в царском дворце можно делать все, что угодно, и Норов, понимая, что такое поведение льстит тщеславию ничтожеств, проходил мимо них поскорее. Но вот он научился выделять из шума обрывки разговоров. Беседовали, к примеру, две дамы — «королева» и «фея».
— Ну, милочка, — говорила негромко «королева», — с голым животом императрице на люди выходить — моветон, страшный моветон!
— Я бы с тобой согласилась, дорогая, — язвительно отвечала «фея», если бы не знала наверняка, что её величество беременна и живот своей показывает нарочно, чтобы все видели и завидовали ей! А то что бы старым, дряблым пузом похваляться?
К разговору присоединился мужчина в костюме испанского гранда:
— Истинная правда, что Елизавета чревата! Царь же только и ждет появления на свет наследника, хоть он и не от него, да-с! Родится мальчик, и Александр Павлович уйдет в монастырь. Мне сам принц Оранский недавно передавал, что царь-де ещё весной в разговоре с ним сказал: «Уйду с престола, в частную жизнь уйду, только вот Елизавета разродится!» Такие вот, барыни, дела-с!
— Но весной, — заметила «королева», — государыня ещё не могла быть беременной!
— С чего бы это не могла? — удивился «гранд». — Вполне могла! Взгляните на её брюхо — выпирает!
Норову стало до того гадостно на душе, что он поспешил отойти от говорящих, но вдруг он услышал, как кто-то говорил с восточным акцентом:
— Я зарэжу рябого, кинжялом зарэжу вот этим! Слово своего держать не умеет — коварный!
Норов резко обернулся, с испугом взглянул на говорившего — черкес в чекмене с серебряными газырями и в папахе, с лицом, закрытым черной бархатной маской, вынимал и снова впихивал в ножны громадный кинжал, а его собеседник, «тореадор», согласно кивал и говорил:
— Кинжалом мало, дорогой! Я бы его здесь же на балу протнул своей шпагой! Будет знать, как обманывать честных людей! Давай, пойдем искать его. Заколем под шумок — никто и не разберется, в чем дело, отчего человек упал!
Норов, уверенный в том, что речь ведут о нем, в ужасе отпрянул. натолкнулся спиной на кого-то старичка с фальшивой бородой колдуна, тот упал, завизжал от страха и боли. Норов увидел, что многие повернулись к нему, даже те, с кинжалом и шпагой. Сквозь вырезы в масках, он видел, на него смотрели негодующие, ненавидящие глаза. «Черкес» пошел к нему, «тореадор» — за ним следом! Возможно, они шли и не к нему, а чтобы только помочь старику-колдуну подняться, но Василий Сергеич был уверен, что они набросятся на него с оружием, пронзят его тело. Он, успевший позабыть, что когда-то словно воевал с французами, имеет золотую наградную шпагу, издал дикий вопль, вопль ужаса и, расталкивая гостей, бросился прочь, лишь бы поскорее спасти себя, затеряться в толпе, укрыться в своих покоях.
— Караул! — бежал и кричал он. — Лейб-гренадеры! На помощь!
— Гости, думая, что кто-то из их числа или внезапно сошел с ума, или залил за ворот лишку, старались освободить дорогу человеку с петушиным пером на берете и с деревянной кривой шпагой у бедра. А Василий Сергеевич, добежав до своих покоев, весь дрожащий, со стучащими зубами, трясущимися пальцами запер дверь на ключ и, забывая снять маску, бросился к постели, забрался под одеяло и накрылся им с головой. Он долго не мог успокоиться, ему слышались долетающие из-за двери чьи-то злые голоса, угрожавшие ему, но постепенно дрожь унялась, Норов перестал скрипеть зубами, сердце забилось ровно, и только горечь на душе, нестерпимая, тлетворная, жгла его долго, а губы выговаривали сами собой:
— Не по твоей голове Мономахова шапка, Вася! Эх, не по твоей!
30 августа царь посетил Александро-Невскую лавру. Долго молился у раки с мощами святого благоверного князя, Александра, во время молебна, замечали многие, плакал. Потом зашел в келью почитаемого в монастыре схимника, немного поговорил с ним, постоял рядом с гробом, что служил ему постелью. 1 сентября он выехал из Петербурга на юг России, что предпринималось якобы ради здоровья Елизаветы, а когда князь Голицын, осведомленный насчет духовной Александра, намекнул ему о том, что при продолжительном отсутствии царя нельзя акты о престолонаследии держать необнародованным, Норов лишь тихо сказал:
— Положимся в этом на Бога!
15 ЦАРЬ — ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Покуда Александр добирался из Новгорода в Петербург с купеческим обозом, его неотвязно мучила мысль: зачем он едет в столицу и что он там станет делать?
«Если уж еду в Петербург, — размышлял он, — значит, нужно воспользоваться этим в полной мере. Страной правит капитан Норов, это понятно, но никаких реформ не проводит и, видно, упивается властью. Нужно отнять у него власть, чтобы искоренить в стране зло, но разве Норов покинет престол добровольно? Разумеется, нет. Тогда придется всем объявить, что он — самозванец, поднимется скандал, многие сановники будут опозорены, великие князья, Елизавета, маман — тоже. Я сам буду опозорен, потому что выяснится, как Норов получил власть и всю страну на почти двухлетний срок. Нет, это не годится, не годится! Попробую договориться с Норовым по-хорошему, припугну его разоблачением — нет, опять не то: как же появиться во дворце в своем настоящем обличии? Норов — с оспинами, а я — без. Обратиться к Виллие, чтобы и он меня заразил? Нет, чепуха какая-то! Я бред несу…»
Теряясь от мучивших его противоречивых мыслей и порывов, Александр не заметил, как подъехали к заставе Петербурга. Купцы его ссадили, сказав, что теперь ему с ними не по пути, один, сжалившись над оборванным и затасканным костюмом барина да и в благодарность за кое-какую работу, которую делал Александр в пути, — распрягал и запрягал лошадей, поил их, — вручил ему серебряный рубль, сказав:
— Вот тебе целковый. Пуговиц к шинелке купишь, картуз какой… Ну, прощевай, да с голоду, смотри, не окочурься. Да и холода недалече…
Потом махнул рукой — к чему-де это говорю? — да и погнал свой воз вслед за уже отъехавшими товарищами. Александр же послушал доброго купца купил и пришил к шинели недостающие пуговицы, у старьевщика за тридцать копеек приобрел старенькую фуражку, не офицерскую, но издалека похожую на ту, что надел он ещё в Бобруйске. Был конец сентября, погода стояла теплая, но Александр застегнул шинель до подбородка, чтобы не был виден его поношенный сюртук. Поев на пятиалтынный в дешевом трактире, побрел в центральную часть города, хоть и не знал вовсе, зачем он идет туда — ноги так и несли его.
Пришел на Дворцовую площадь, посмотрел на развод караула, но остался равнодушен, видя строгие и слаженные перестроения военных. Вся эта красота показалась ему сейчас ненужной и пустой забавой. Обошел вокруг своего двора, двинулся по набережной в сторону Летнего сада. Все в Петербурге, замечал Александр, осталось прежним, кроме, пожалуй, большого числа нищих попрошаек да пьяных, которых прежде он совсем не видел. Прошел вдоль решетки сада, приблизился к воротам, хотел было зайти и прогуляться по желтым осенним аллеям, но его остановил чей-то строгий приказ:
— Билет соизвольте взять!
— Какой… билет? — ошарашенно посмотрел Александр на стоявшего в воротах человека в бедной чиновничей шинели, красный нос которого свидетельствовал о пагубной страсти стража.
— Какой-какой! — передразнил Александра чиновник, и глаза его воровато забегали. — За вход заплатите: с дам и господ — по гривеннику брать велено, с детей и прочих мещан — пятак-с. С вас, вижу, гривенник. Извольте заплатить!
Вход в Летний сад при Александре был свободным, и новшество, скорее, не удивило, а сильно разозлило его, да и плутоватый вид стража вызывал подозрения.
— Как платить?! — неожиданно громко прокричал Александр. — С каких это пор? Не стану платить! Пусть мне вначале сам обер-полицмейстер о том сообщит. Кто это распорядился публику в Летний сад по билетам пускать? Говори, кому подчиняешься!
Слова эти вырвались у Александра невольно. Если бы у него в кармане не болтался один лишь двугривенный, а было, по крайней мере, рублей пять, Александр безоговорочно отдал бы требуемые деньги, теперь же ему было просто жаль Гривенника. Привратник же, скривив лицо в досадливой гримасе, быстро посмотрел по сторонам, зашептал:
— Ваше высокоблагородие, чего шуметь-то? Для чего гуляющую публику беспокоить? Гривенника, что ли, жалко? Ну так проходите и так, пропускаю, только ораь-то не надобнос-с!
— Как не надобно?! — не на шутку разошелся Александр, поняв, что чиновничек решил немного подзаработать и встал в воротах самозванным образом. — Мзду в свой карман берешь?! Да я тебя, каналья ты этакий, в полицию сейчас отведу, чтоб не самоуправничал! — И Александр, крепко ухватив лже-привратника за шиворот шинели, закричал призывно: — Полиция! Полиция! Сюда!
Офицер и два полицейских унтера, заслышав крик, уже спешили к воротам и глубины сада, а Александр все таскал перепуганного насмерть чиновника за воротник, у того с головы слетела фуражка, волосы растрепались, и руки выпали билеты, дававшие право гуляющим посетить парк, а самому чиновнику возможность пообедать в кухмистерской с бутылкой поддельного бургундского.
— Вот, господин поручик! — заговорил Александр, обращаясь к полицейскому, когда он подошел. — Деньги незаконно за вход берет! Это же самоуправство, воровство! Нельзя такое терпеть!
Полицейский сделал страшное лицо, приставил кулак к носу чиновника, зашипел:
— Жеребятьев, сучий послед! Я ли тебя не предупреждал? ты же клялся мне!
— Ваше благородие! — заскулил чиновник. — Да вы же сами…
— Что сам, что сам? — заорал полицейский, не обращая внимания на удивленных криком прохожих. — В тюрьме сгною! — И тут же приказал унтерам: — Взять сего под арест! В съезжую его!
Потом смерил взглядом Александра с головы до ног:
— А вы, сударь, кем будете? Чем засвидетельствуете свою личность?
Отпускной билет, истасканный и кое-где даже рваный, так и покоился в кармане сюртука, и Александр немедленно его извлек.
— Так, — прочел полицейский, — отпускной билетик-то ваш, господин капитан, уж просрочен. Сие, конечно, благородно, то, что вы за правое дело вступились, но вынужден вас препроводить на гауптвахту. Там разберутся. Следуйте за мной…
Александр шел рядом с полицейским по аллее сада не без радости. Где бы ночевал он сегодня, если бы не такая неожиданная оказия? Правда, он побаивался лишь одного: если его отошлют в полк, то там непременно увидят, что из отпуска возвратился не Василий Норов, а какой-то неизвестный. Но вот подошли к зданию гауптвахты, до которого от Летнего сада было рукой подать. Офицер передал его дежурному майору, и седовласый, строгий служака долго отчитывал Александра как за то, что он не явился в указанный срок в свой восемнадцатый егерский, так и за безобразный внешний вид.
— Позорите русскую армию, господин капитан! — сказал он напоследок. Ну, посидите в одиночной камере ден так с десять — поумнеете! Ступайте следом за конвойном — он отведет вас в ваше новое жилище. Приятных сновидений!
Прошли три дня, пять, семь, а на восьмой заскрипел замок, окованная железом дверь отворилась, и в камеру, сразу наполнив её ароматом дорогих духов, чуть пригибаясь, будто не хватало места, вошел горбоносый, красивый генерал, и Александр сразу же узнал в нем графа Милорадовича! Поднявшись с койки, Александр встал перед военным генерал-губернатором Петербурга, который долго и пристально смотрел на него, то поднимаясь на носки, то вновь опускаясь на пятки, причем сапоги его сочно скрипели. Но вот Милорадович заулыбался и сказал:
— Да что мы стоим? Присядем вместе на вашу койку да поговорим. — Сели, и граф сказал: — Плохо ваше дело, капитан. И так уж вам государь от щедроты души предоставил двухгодичный отпуск, вы же не явились к сроку в свой полк, имеете какой-то затрапезный, вульгарный, я бы сказал, вид. Вы что, видно, пропили все имущество?
— Никак нет, ваше сиятельство, — находя неизъяснимое удовольствия от разговора с честным человеком, героем войны, покачал головой Александр. — В пути со мной случилось много неприятностей. Меня разорили… русские нравы.
— Ах да! — понимающе кивнул Милорадович. — Наверное, именно поэтому вы так горячо восстали против злоупотреблений, замеченных вами у ворот Летнего сада. Что ж, благородное сердце — великая редкость в наше испорченное время. А посему я вот что имею вам предложить. — Граф легким движением провел рукой по густым, кудрявым, хоть и с легкой сединой, волосам. — Вот что… Семи понимаете, что неявка в полк из отпуска — провинность немалая, но я бы мог и вовсе затереть её, написав командиру полка. Но, но… не напишем ли мы полковнику, что вы и вовсе уходите в отставку, по семейным, так сказать. обстоятельствам?
— К чему же это, ваше сиятельство? — недоумевал Александр.
— К тому, что вы сильно нужны мне, господин Норов.
— В каком же качестве я могу быть вам полезен?
Милорадович поднялся и едва не уперся головой в потолок камеры:
— Вы мне нужны в качестве… тайного агента. Разве вы не слышали, что граф Милорадович возглавляет свою, особую полицию?
Негодование мгновенно сковало мышцы лица Александра:
— Вы предлагаете мне стать шпионом, соглядатаем? Мне, прирожденному дворянину, офицеру?! Не оскорбляйте меня, ваше сиятельство, иначе… иначе я попрошу вас покинуть эту комнату!
Милорадович не обиделся. Он снова уселся на койку, весело посмотрел на Александра.
— И этот пыл тоже делает вам честь, капитан. Но к чему мальчишечкая вспыльчивость? Разве у меня вы не станете заниматься тем же, чем занимались в армии — заботой по охране безопасности державы? На полях сражений вы деретесь с врагом явным, здесь же, в Петербурге — с тайным и куда более опасным неприятелем. Страна проедена язвой беззакония, мздоимства, открытого воровства, и, главное, общественная мораль далека от совершенства. А где поражена нравственность общества. там ищи и откровенное зло, ибо от порчи нравов проистекают все беды России да и любой другой страны. Вы сказали «шпион»? Нет! Незаметный ратоборец на поле брани со злом! Именно, незаметный, а то как же подойти к змее, свернувшейся где-нибудь в укромном месте, чтобы убить гада, грозящего своим жалом? Вы же со своим чувством справедливости, со своей… невидной, скажу прямо, невзрачной внешностью, и будете этим незаметным для врагов борцом со злом. Соглашайтесь, капитан! Оставьте предубеждения, созданные в обществе против агентов полиции, в обществе, покрытом плесенью разврата и злокозненности. Ну же, ну?!
Милорадович говорил это с горящими глазами, и, казалось, нос его стал ещё более горбатым, и все лицо графа, негодующее и победоносное, ещё более выделялось своим орлиным профилем.
«Но ведь граф говорит как раз о том, о чем и я так долго думал! закипело в сердце Александра. — Что я потеряю, став слугой закона под маской неприметного для зла полицейского? Корону мне уже не вернуть, зато я верну себе власть над людьми. Я знаю, какими полномочиями обладает тайный агент полиции, а поэтому убью сразу двух зайцев: стану содействовать искоренению злонравия и в то же время буду ощущать себя парящим над людьми. Должность тайного агента откроет мне замки всех домов, то, что было сокрыто от меня, когда я царствовал, — семейные, глубоко личные тайны, даже помыслы людские, тайники их помыслов, побуждений, — станет явным. Я верну себе власть над всеми, включая графа Милорадовича, потому что власть закона сильнее всякой прочей власти!»
— Ну же, ну?! Вы согласны? — нетерпеливо повторил вопрос военный губернатор.
— Согласен! — решительно кивнул Александр.
— Прекрасно! — сказал граф. — Ну, так сразу к делу… Вы французским хорошо владеете? — спросил Милорадович по-французски.
— Не хуже, чем русским. Едва ли не с пеленок меня учили говорить на этом языке, — так же, по-французски отвечал Александр.
— Это как раз то, что мне нужно, — удовлетворенно улыбнулся военный губернатор. — Итак, Василий Сергеич, едва я уйду, вас освободят и офицер, согласно моему приказу, отведет вас на квартиру, где вы будете жить…
— Однако, — усмехнулся Александр, — вы, понимаю, были заранее уверены, что я не откажусь.
— Признаться, я был уверен. Ну так вот. Возьмите эти триста рублей, Милорадович вынул из кармана деньги и подал их Александру, — и приоденьтесь. Купите фрак пошикарней и все, что необходимо, чтобы казаться совершенным бездельником и денди.
— И что ж потом?
— Потом? — заиграло красиво лицо Милорадовича. — Потом вы пойдете в гостиницу Демута, что на Мойке, и поселитесь в номере, уже снятом для вас. Номер этот соседствует с комнатой, где живет один французик, выдающий себя за доктора философии, хотя, как я знаю, он такой же философ, как я — конюх. Многие иностранцы, надеясь на крупный куш, приезжают в наше отечество под видом знатоков разных искусств и наук, но на самом деле они не более, чем фигляры и шарлатаны. Так вот сей мусью Плантен сильно интересует меня… Милорадович потер ладонью о ладонь.
— И чем же, посмею спросить, он вас так заинтересовал? — зажегся невольно Александр, а военный губернатор, придвинувшись к нему поближе, игриво зашептал: — А вот чем… Одна юная особа, дитя почтеннейших родителей, существо домашнее и в высшей степени комильфотное, оказалась в положении весьма интересном, н-да! Когда же родители приступили к ней с угрозами и увещеваниями, выяснилось, что она была соблазнена некиим французом, но это было бы полбеды… Девица наотрез отказалась говорить, при каких обстоятельствах совершилось сие… соитие, но почтенные родители по двум-трем словам, слетевшим с её уст, догадались о чем-то страшном и уж вовсе неприличном. Дитя была обесчещена не одним французом, а… побывала в целом обществе…
— Да быть того не может! — ахнул Александр, нравственные чувства которого немедленно восстали и возмутились.
Милародович же, почесав за ухом, широко улыбаясь проговорил:
— А вот может то быть или не может, и придется выяснить вам, милейший. Коль уж мы с вами решили улучшить нравы россиян, так и попытайтесь войти в доверие к мусью Плантену. Обольстите его, подружитесь с ним, деньги не жалейте, притворитесь полным повесой, распишите свои успехи у дам и вашу чрезвычайную привязанность к нежному полу, и вы окажете неоценимую услугу Российской империи. Смею вас заверить, — подмигнул Милорадович, — сие предприятие хоть и сопряжено с некоторой опасностью для жизни, но ему будет сопутствовать и море прелюбопытных деталей. Но ведь вы же русский офицер, капитан!
— Да, я офицер, — решительно сказал Александр.
— Ну, вот и прекрасно! — поднялся с койки военный губернатор. — Так и за дело! Не страшитесь ничего! Вам вручат хорошие карманные пистолеты. Можете воспользоваться ими в случае крайней нужды.
Он задержался в дверях, метнул на Александра орлиный взгляд и сказал раздумчиво:
— и все-таки, кого вы так сильно напоминаете мне?
— Не знаю — пожал плечами Александр. — Наверное, француза, ловеласа и повесу.
— Может быть, может быть, — согласился Милорадович и, резко повернувшись, так что забряцали ордена, вышел из камеры.
… После второй бутылки шампанского мсье Плантен, обладатель лица умного проныры и домашнего философа, украшенного густыми бровями, покачивая вилкой с наколотой на ней устрицей, с любезной непринужденностью, присущей мужчинам гальской нации, говорил Александру, с которым он ужинал уже третий вечер подряд:
— Не скрою от вас — вы совсем не похожи на француза, мсье Лефоше. В Арле, где вы изволили появиться на свет, совсем другие лица. О, я философ, а поэтому обязан знать типы человеческой физиономии. Но вы, почтеннейший, своим обаянием превосходите любого француза, а поэтому я могу считать вас своим верным другом. Ах, как нужны друзья здесь, в России, так и оставшейся варварской страной. Того и гляди, вас заподозрят в чем-то либеральном и отправят силком на родину или, того хуже, в тюрьму. О, эти русские тюрьмы мне рассказывали! Вонь, клопы и блохи, картофельные очистки вместо еды розги с утра до вечера.
— Неужели? — осторожно наколол устрицу Александр.
— Да! И либеральное правление царя Александра не смогло смягчить дикость нравов этого варварского народа. Но знаете ли, — поглядел по сторонам мсье Плантен, — реформы Петра Великого сумели-таки подарить русской нации одно очень полезное нововведение.
— Какое же? — придавил Александр устрицу между языком и верхним небом, а поэтому спросил невнятно.
— Сей умный царь раскрепостил женщину! — назидательно поднял вилку Плантен. — Русская женщина, очень горячая по своей природе, прежде, в течение тысячи лет, сдерживала свои любовные устремления, но сто лет назад они выплеснулись наружу, и плещутся через край до сих пор. Удержу нет!
— Что вы говорите? — поддельно удивился Александр, внутренне негодуя. Он продолжал в душе оставаться русским монархом, а поэтому всякое обидное слово в адрес своего народа больно ранило его.
— А вы что, ещё не были знакомы с русскими домами? — строго свел брови Плантен. — Ну, много потеряли! Знаете ли, я не раз бывал в наших колониях, и то, что демонстрировали мне в известных положениях чернокожие девки ничто по сравнению с тем, что умеют делать русские барыни.
— Даже барыни? — недоумевал Александр.
— Именно, именно барыни! — наставительно покачал головой француз. — У простого, черного, как здесь говорят, народа нет времени и сил на любовные проявления. Этим людям, работающим с утра до ночи, нужны только водка, еда и сон — для отдохновения. нам же, представителями нации в высшей степени культурной и умеющей ценить наслаждения всякого рода, необходимо отыскивать удовольствия, что мы делаем с успехом. Скажу точнее: мы научили царя Петра наслаждениям, он вывел русскую женщину в свет, и теперь мы пользуемся плодами этой полезной для нас науки, снимая на деревьях, посаженных нами, сочные плоды любви. А плоды вкуснейшие, мой друг Лефоше! У француженок тело плоское, как доска, а русские женщины, особенно купчихи, способны подарить массу удовольствий изголодавшемуся по вкусной любовной пище гурману. Они полны, вот в этом-то и прелесть! Сколько складочек, потаенных уголочков, спрятанных извивов! Везде — тайна, которую приятно разгадывать, хоть каждый день! Любовь и тайна — единство!
Александр, уже ненавидевший француза, изрек сквозь зубы:
— Да вы настоящий философ, мсье Плантен! Не пособите ли мне? Я бы тоже хотел преуспеть в разгадывании тайн такого рода.
Плантен, лицо которого так и таяло от ощущения власти над неопытным профаном, простоватым и таким «нефранцузом», сказал:
— А хотите сегодня же вечером разгадать волнующую всех нас, мужчин, загадку? Да и, возможно, не одну — насколько проницательным окажется, в переносном смысле, ваш ум? — И француз обнажил в улыбке длинные кривые зубы.
— Ничего, кроме признательности, за такое лестное предложение, я не смог бы извлечь из своего сердца, — постарался сказать Александр как можно более галантно.
— Ну так наденьте свежее белье, опрыскайте себя духами пообильней, вденьте в петличку фрака хризантему, и уже сегодня вы станете членом тайного общества «братьев-свиней».
— Позвольте, позвольте? — замер от неожиданности Александр.
— Как это — общество свиней?
— Ну да, именно, свиней! — ещё более оживился философ. — А назвали мы свое общество так потому, что, когда одну светскую даму уговаривали вступить в него и описали ей правила нашей жизни, она с негодованием воскликнула: «Так ведь это же свинство, господа!» Мы же ей спокойно возразили: «Ничуть не свинство. Впрочем, может быть, и свинство, но что в том плохого, если люди, как и свиньи — все те же дети природы? Мы с этих пор будем именоваться «братья-свиньи», а вы станете «сестра-свинья»!»
— И что же дама? — плохо понимая, о чем говорит француз, но едва сдерживая отвращение, спросил Александр.
— А ничего! — восторженным шепотом проговорил Плантен. — Поупрямилась немного да и пришла в наше общество! Ее сегодня вы тоже сможете увидеть, да и не только увидеть!
И француз заливисто расхохотался, предложил Александру побыстрее разделаться с ужином и пойти собираться на заседание общества «братьев-свиней».*
((сноска. Такое общество на самом деле существовало в Петербурге в то время.))
«Да, именно во время моего царствования расцвели тайные общества разного пошиба! — со скорбью и негодованием думал Александр, когда он, сидя рядом с Плантеном в карете, ехал в неизвестном ему направлении на заседание общества «братьев-свиней». — И поэтому я безо всякого сожаления предам этих «братьев» и «сестер» в руки правосудия, если увижу сегодня в их действиях что-нибудь предосудительное. Да, мне отмщенье, и аз воздам! Так вершится воля государей, так осуществляется самим Господом дарованная им власть! Я потерял скипетр и корону, но моя императорская совесть осталась при мне! Вперед! Вперед! Я своей державной рукой спешу искоренить зло!»
Карета остановилась рядом с трехэтажным домом, поднялись на крыльцо, а потом, сняв шинели, на второй этаж. В зале, обставленом богато, со множеством горящих свечей, картин, зеркал, уже прохаживались господа и дамы. Хрустальные бокалы искрились в их руках, слышался беззаботный, игривый смех, и Александр заметил сразу, что кавалеры бесцеремонно обнимали дам, целовали их в шею, в обнаженные плечи, но, главным было то, что мужчины подходили к любой из женщин, легонько отстраняя их кавалеров, но те совсем не обижались и шли к оставленным дамам, которые беспрекословно, даже с радостью принимали ласки новых ухажеров.
— Приветствую вас, сестры и братья дорогие! — воскликнул Плантен при входе. — Вот вам новый брат! Так спойте ж в его честь наш славный гимн!
Все воодушевленно закричали, приветствуя Александра. Одна дама тут же бросилась к нему на шею и, прильнув к нему всем своим гибким молодым телом так, что мурашки побежали по спине Александра, крепко поцеловала его в губы, а братья и сестры стройно запели:
Природа, благодетельная мать! Твои мы дети и приветствуем тебя!А когда весь, довольно длинный и нескладный гимн был пропет, каждая из женщин почла своим долгом подойти к Александру и поцеловать его в губы, и он, хоть и желал казаться раскованным, развязным, как все прочие «братья-свиньи», не мог не краснеть, зачем-то кланялся после поцелуя и лепетал слова благодарности.
— Ничего, освоитесь! — шепнул ему Плантен. — Будьте как дома, здесь все опростились настолько, что приличия считаются верхом неприличия! — И захохотал. очень довольный своей остротой. — Скоро наступит апогей вечера! Мы воспоем гимн Эроту и будем тянуть жребии…
— Зачем же… жребии? — робко спросил Александр.
— О, в этом и состоит соль нашего свинства! — казатил глаза Плантен. Каждый мужчина подойдет к вазе, запустит в неё руку и вытащит свернутую бумажку с именем богоданой на этот вечер сестры. Потом все разойдутся по отдельным комнатам.
— Как прелестно! — изобразил Александр восторг. — И что же, дамы не вправе отказать мужчине, вытащившему бумажку с её именем? Даже если он ей совсем не по нраву?
— Сестрам-свиньям каждый брат-свинья по нраву! — наставительно заметил Плантен. — Вы разве слышали о том, чтобы настоящие свиньи спаривались, проникнувшись перед тем друг к другу любовью или хоть симпатией? Для нас хорошо уж то, что я вот — мужчина, брат, а она — женщина сестра. Подходите к этому действу проще, то есть по-философски! И прошу вас — будьте поразвязней. Здесь не любят кислых физиономий. Ну, кажется, пора начинать! — И Плантен, крутя в воздухе рукой и зачем-то дрыгая ногой, прокричал: Братья и сестры! Пойте гимн Эроту! Пора метать жребии!
— Жребии! Жребии! — закричали восторженно все присутствующие и тоже стали выделывать руками и ногами бессмысленные, судорожные движения, будто подчеркивая или важность наставшей минуты. Раздался гимн Эросу — смесь глупых, неприличных фраз, бессвязных и нелепых, а Плантен уже водружал на стол вазу китайского фосфора, расписанную изощренно-непристойной кистью какого-то восточного блудодея. Александр вспомнил, что он — на службе, и необходимо довести дело до успешного завершения, а поэтому счел необходимым подпеть поющим и тоже сотворить жесты ликования. Потом Плантен пригласил братьев тянуть поочередно жребити, и каждый делал это с ломаниями и кривляниями, а, вытащив бумажнку, громко называл имя «богоданной», и имена, слышал Александр, были какие-то чудные — Филострата, Гуния, Зельпорана. Когда имя произносилось, одна из дам сразу бросалась в объятия своего «богоданного», и они уходили куда-то в обнимку. Но вот наступила очередь Александра, бросившегося к вазе с таким пылом, будто всю жизнь только и мечтал о любви со случайной «сестрой-свиньей», извлек бумажку и громко прочел имя «богоданной», оказавшейся Бруннегундой. Едва это странное имя прозвучало, как к Александру шагнула молодая, очень красивая дама, в которой Александр с некоторым страхом признал одну петербургскую аристократку, супругу титулованного сановника, человека очень уважаемого, почтенного и доброго. Бруннегунда, крепко поцеловав Александра, повела его прочь из зала, и скоро они очутились в небольшой спальне, где широкая низкая кровать была едва ли не единственным предметом мебели. Горели несколько свечей. Дама, едва вошла в комнату, стала смело раздеваться, не глядя на Александра, а тот стоял, смущенно отвернувшись в сторону. В прошлом, вероятно, он бы с удовольствием поиграл в «братьев-свиней», но теперь все перевернулось в его сознании. Он, лишенный короны, хотел властвовать, поднявшись над людскими пороками, за счет своей чистоты.
— Ну что же ты? — услышал он нетерпеливый голос Бруннегунды. Александр повернул голову и увидел, что дама сидит на кровати совсем обнаженная и одна рука её в требовательском жесте протянута к нему ладонью вверх. Богоданный мой, отчего же ты не раздеваешься?
— Сударыня, — отводя взгляд, сказал Александр, — ну почему же вы здесь, среди этих свиней, причисляющих себя к самой культурной нации Европы, Мира? Ведь вы же — русская аристократка, графиня, супруга замечательного человека, мать семейства! Какие нравственные заветы вы сможете оставить своим детям? Вы разрушаете основы жизни, ввергая себя в эту клоаку, в сточную яму! Мне стыдно за вас, сударыня, ей-Богу, стыдно!
Дама сидела на постели похожая на мраморную статую — холодная, гордая. немая. Вдруг её красивое лицо исказила гримаса гнева. Сказав с презрением: «Плешивый дурак! Ты испортил мне вечер! Нет сил, так и не совался бы к нам! Шут гороховый!», она вскочила на ноги, путаясь в белье, юбках стала быстро одеваться, между тем фразы так и сыпались с её изогнутых злобой уст:
— Мораль мне решил читать. проповедник? А ты знаешь, что означает быть повенчанной в пятнадцать лет с полустариком, который теперь уже расслабленный старик, а я молода, красива! Я ли виновата в этом? Не обычаи ли нашей варварской страны сделали меня несчастной, толкнули в эту, как ты говоришь, яму? Где государь, где министры, которые бы законом запретили выдавать замуж насильно, за нелюбимого старика? Их нет у нас, им все безразлично, они подчинены старинным варварским правилам — безвластны! ну так я же сама властна делать то, что мне приятно, и буду, буду это делать!
Торопясь застегнуть на спине крючки платья, она обломила ноготь, чертыхнулась и сказала, обращаясь к Александру:
— Помоги хоть в этом! Застегни!
Александр с детской виноватой улыбкой на лице застегнул крючки, а когда дама уже стояла у дврей, сказал по-русски:
— Софья Николаевна, есть в России государь, есть… Я молю вас, уезжайте отсюда сейчас же и больше не бывайте здесь никогда. Ради вашего же блага даю вам такой совет…
Грубая фраза уже готова была стать ответом Александру, но дама, задержав взгляд на печальном лице Александра, вдруг невольно приподняла брови, рот приоткрылся, а голова качнулась в жесте отрицания и неверия.
— Нет, этого не может быть! — пролепетала она, потом быстро схватила руку мужчины, прижалась губами, нагнувшись, к этой безучастной руке и, прошуршав подолом платья, вышла из спальни. Александр же ещё долго сидел на кровати, на том самом месте, где сидела женщина и очень сожалел о сказанном ей. Во-первых, он был уверен в том, что его упрек был напрасен, ненужен, во-вторых, он страшился того, что дама обо всем происшедшем в спальне растрезвонит своим сестрам и братьям по обществу. Он тогда не знал, что опасения его в том и другом случае оказались излишними. Спустя час он вышел в зал, где его встретил сияющий Плантен в одном жилете.
— Ага, милый Лефоше! Ну как, я оказался прав в отношении русских женщин?
— Абсолютно правы, — сквозь зубы, но с улыбкой на лице ответил Алексанр. — Совершенное свинство…
Плантен не совсем понял смысл слов своего друга, но расценил их как очень тонкую остроту и, обнажая длинные кривые зубы, расхохотался.
… Александр во фраке стоял перед столом в большом, роскошном кабинете Милорадовича, за спиной которого, на стене, висел его портрет, написанный в полный рост. Александр было неловко смотреть на изображение самого себя, тем более излишне льстянее оригиналу, и он принялся изучать письменные принадлежности, разложенные на столе. Но вот Милорадович, что-то быстро писавший с ужасным скрипом, с шумом поставил точку, густо осыпал лист песком и поднял на Александра полный дружелюбного внимания взгляд:
— Вы, Норов, даже вообразить не можете, насколько я счастлив и доволен вами! Какой гнойник удалось вскрыть, и все это лишь благодаря вам, вашей находчивости и умению вести тонкую игру. Вы — превосходный агент, я повышаю вам жалованье вдвое! — Он сел пораскованней, как-то боком, подпер голову кулаком и с веселой угрозой продолжил: — Ах бестии, эти свиньи! Втянули в свой мерзкий орден титулованных дам, купчих, богатых святош, которых только в придворной церкви-то и можно было встретить. Негодяи! Развратители! Оскорбители нравов! Конечно, сестер-свиней я вызвал к себе поочередно, пожурил по-отечески да и отпустил с миром, пытаясь замять скандал. А вот братьев, всех этих иноземцев, художников, аббатов, докторов медицины, профессоров музыки и иже с ними, выслал из России вон с подпиской о неприезде к нам уж никогда. Ну, правильно я поступил, Норов?
Александр. польщенный этим вопросом, наслаждавшийся, как и прежде, лицезрением красавца-генерала, кивнул:
— Двух мнений быть не может, ваше сиятельство…
— Ну да, я тоже полагаю, что сделал это хоть строго, но вполне справедливо. Однако, послушайте… Был в их компании некто Сидоров, один единственный русский, мещанин, говорящий по-французски. После физического увещевания открылось, что он у свиней чуть ли не за главного находился, приискивал для них деньги да и вообще — самая свинья из свиней! Так вот, сей Сидоров, вначале долго запиравшийся, разрыдался как-то и заговорил: «Не теми людьми, господа полицейские, занялись! Есть в Петербурге общество тайное, которое пострашней невинных свиней и всяких прочих масонов будет!» Мы, понятно, уши навострили, ибо Милорадовича всякие вредные обществу людишки интересуют. Сидоров же обещал нашего агента, если смягчим ему кару, в то общество ввести, хоть и через вторых лиц. Я же, подумав, кроме вас, голубчик, среди своих балбесов для такой важной миссии претендентов отыскать не смог. Ну, готовы посражаться ещё с одной гидрой?
— Сие общество, — дрогнул голос Александра, — цели, понимаю, политические имеет?
— А вот сей предмет, братец, и предстоит осветить лично вам! — заиграл Милорадович всеми чертами своего лица. — Ну, за дело, Норов! Россия ждет от вас новых подвигов, и да поможет вам Спаситель! — И, вызвав колокольчиком дежурного адъютанта, приказал: — Пусть поскорее Сидорова, свинью эту, сюда доставят! Учиним ему ещё один допрос, не без пристрастия!
16 СМЕРТЬ РЯБОГО
Император, хоть и переезжал с места на место, осматривал крепости, производил смотры полкам, даже ел солдатскую кашу, но все видели, что он сумрачен, всегда сосредоточен и временами удручен. Никто не находил в государе прежнего любезного и остроумного джентльмена, и многие из свитских замечали в нем признаки какой-то тяжелой, мучившей его болезни.
Сам он, ещё в августе, твердо решил, что царем в Петербург он никогда уже не приедет, но как поступить ему, куда же ехать, если не в столицу, и в качестве кого ехать вообще, Норов не знал. Все чаще он вспоминал ту ночь в Бобруйске, вспоминал радость на лице Александра, который с такой легкостью, поспешностью и охотой передавал ему свой царственный венец.
«Да кому же мне-то передать его? — вскипали на глазах Норова слезы. Николаю? Просто взять да и отказаться от кандалов власти? Нет, я не сделаю этого лишь потому, что он увидит в одном поступке признаки слабости, неспособности управлять! Мой враг посмеется надо мною, ведь я так унизил его! Так что же делать, что же делать?»
Пришло слезное письмо от Аракчеева, который, не находя места от постигшего его горя, сообщал о смерти «любезной сердцу» Настасьи — зарезали дворовые. Норов пожалел преданного ему человека, ещё не зная, что Алексей Андреевич пролил реки крови, мстя за убийство доведенным до отчаянья людям, ненавидевшим лютую Настасью, жестокую и властную. «Ах, какое время страшное! — подумал как бы между прочим Норов. — Бьют в войсках, в школах, в городах, деревнях, бьют на торговых площадях и в конюшнях тоже, бьют в семьях. считая битье нужной деткам наукой. И вырастают битые не послушными и добрыми, а непокорными и злыми, ищущими повода, чтобы бить других самим, а иногда и убивать совсем. Так и с Настасьей…» Подумал об этом — и расстроился вконец.
В Таганроге как-то совершенно неожиданно для свиты попросил показать ему полковой лазарет. Не замечая, как адъютанты едва сдерживают гримасы отвращения и стараются не вдыхать смрадный тяжкий воздух большой палаты, Норов пошел вдоль ряда коек с больными, расспрашивал у сопровождавшего доктора о том, о сем, иногда обращался и к больным солдатам. Вдруг остановился как вкопанный — на одной из коек лежал рябой солдат, и Норова даже поразило то, насколько его лицо похоже на его собственную физиономию. Какая-то неясная, но тревожная мысль забегала в сознании Норова, он, сам пока не зная, зачем, искоса глянул на свитских — те поотстали да и вовсе не стремились вглядываться в небритые, заморенные лица больных. Рябой же солдат, видел Норов, находился и вовсе в плачевном состоянии — дышит часто, с хрипом, по лицу, бледному, почти серому, струится пот, глаза закатились и неподвижны.
— Что с ним? — спросил Норов у доктора, но баронет Виллие, желая, видно блеснуть своей ученостью, опередил лазаретного врача:
— Фебрис гастрика билиоза, а проще говоря — лихорадка.
— Безнадежен умрет? — зачем-то спросил Норов.
— Безо всякого сомнения, умрет, умрет, ваше величество! — с какой-то неуместной радостью подтвердил доктор, не беспокоясь о том, что умирающий может слышать его слова. И добавил: — Не советую, ваше величество, задерживаться подле этого больного. Болезнь страшно прилипчива, не ровен час…
Норов снова кинул незаметный взгляд на свитских. Сердце бешено заколотилось от давно не испытываемой радости, ощущения скорого счастья, свободы.
— Как звать солдата? — спросил у лазаретного врача.
— Если не ошибаюсь, Соколов Григорий, ваше величество! — был ответ.
«Что ж, Григорий Соколов, — в последний раз взглянув на серое лицо солдата, подумал Норов, — жизнь твоя была не сладкой, смерть — до обидного нелепой, зато погребен ты будешь так, как никогда прежде не хоронили простых солдат».
И, приложив руку к своему лбу, чуть качнувшись, Норов повернулся к свитским, очень желая, чтобы его жест был замечен.
— Поспешим отсюда, — сказал он, проходя мимо генерал — и флигель-адъютантов, которые и без того готовы были бежать прочь. — Мне что-то не по себе…
Таганрогский дворец, в котором остановился Норов, представлял собою одноэтажный каменный домик с тринадцатью окнами, выходящими наружу. Покрашенный охрой, с белыми украшениями по фасаду, он имел двенадцать маленьких комнат и домовую скромненькую по убранству церковь. В одну из этих комнат пришел Норов сразу после посещения им лазарета. Виллие, заметивший неладное в самочувствии государя, следовал за ним, и Норов против этого не возражал. Когда же они остались в комнате одни, Норов, какой-то взбудораженный, не способный придти в себя после пережитого волнения, сидя в кресле напротив Виллие, смотревшего на него пристальным взглядом лейб-медика, заговорил совсем негромко, но звенящим от возбуждения голосом:
— Вот и все, дорогой Виллие, вот и все! Два года назад я неждано-негаданно возложил на свою голову венец, но теперь я должен снять его и украсить им… мертвую голову одного совсем незнатного человека!
— Вы бредите? — почти непочтительно спросил Виллие.
Норов, обхватив себя руками, замотал головой:
— Не брежу, доктор, пока не брежу, но очень хочу бредить уже сегодня вечером! Когда-то вы заразили меня оспой, сегодня же вы заразите меня лихорадкой! Да! Два года назад вы сделали из меня рябого императора, но я не хочу больше являться тем, кем не могу быть по натуре своей. Вы возвратите мне капитанский мундир, и я снова буду счастлив!
— Но кто же будет императором и куда денетесь вы? — недоуменно развел руками Виллие с преглупым выражением лица.
— Охотников найдется немало! Всего вероятней, на троне окажется, мой милый братец Николя, который рвется к власти. Я же должен умереть в буквальном смысле этого слова, хотя похоронят того солдата. Помните, в лазарете? Сегодня я заболею — постарайтесь, однако, не уморить меня! Вы же снесетесь с тем врачом и заберете из лазарета тело Григория Соколова. Сохраните его где-нибудь в леднике, покуда я сам не отдам Богу душу! Норов широко улыбнулся. — Вы заметили, как похож на меня этот солдат? Пусть набальзамируют его тело, обрядят в мой мундир и отвезут в Петербург. Петропавловский собор станет его вечной усыпальницей. Уверен, что смерть и вовсе исказит черты его лица, так что никто не увидит подмены. Теперь вот что…
Норов поднялся, подошел к бюро и откинул крышку, взял в руки шкатулку и подал её Виллие:
— Здесь — сто тысяч рублей. Вероятно, новый император не захочет видеть вас в роли лейб-медика, а поэтому возьмите от меня за верную службу, за умение хранить тайну. Прошу вас об одном — потратьтесь лишь на мундир капитана егерского полка да на шинель. Одежду вы должны будете доставить мне как можно быстрее. Ну, так за дело! Вы, я знаю, мастер в своем ремесле. Я жду от вас легкой лихорадки. Она сделает из императора России армейского капитана, бывшего когда-то подполковником гвардии!
Виллие, похмурившись, взял шкатулку и сказал:
— Через пять минут я вернусь со всем необходимым для инъекции, однако, скажу вам по совести, что после вашей смерти моя карьера доктора будет завершена. Кто возьмет меня на службу? Лейб-медик не спас государя от какой-то фебрис гастрика билиоза!
— Ничего! Можете всем говорить, что государь-де по какой-то причине отказывался от всех ваших лекарств, пиявок и кровопусканий, говоря: «У меня свои причины так действовать!» Ну, ступайте же!
Все, кто сопровождал императора, с тревогой узнали, что уже в день посещения государем лазарета, вечером, у него обнаружились первые признаки лихорадки. Те, кто заглядывал в спальню царя, видели его мечущимся по постели, по лицу его струился пот, его бил озноб. Уже ночью государь бредил, и Виллие угрюмо отвечал на вопросы, задаваемые или Елизаветой, или генерал-адъютантом князем Волконским, или бароном Дибичем, спрашивавших коротко: «Ну, как?» — «Плохо, очень плохо! Отказывается от всех необходимых средств. Надеется лишь на одного Всевышнего!» Между тем Виллие уже позаботился о том, чтобы тело умершего к тому времени Соколова было передано ему, но тайно, потому как, объяснил баронет, ему бы хотелось произвести вскрытие. азаретный врач, конечно, не мог отказать лейб-медику, сопровожившему просьбу к тому же передачей небогатому доктору пятисот рублей. Загодя обряженный в одну и рубах государя, Соколов был положен в ледник, где обычно хранили летом пиво и квас. Но вот около одиннадцати часов утра девятнадцатого ноября баронет Виллие с заплаканными глазами вышел к тем, кто с нетерпением — а может быть, и тайным злорадством, ожидали от лейб-медика новостей. Потряс головой, утер слезы и сказал:
— Господу Богу нашему угодно было направить государя императора Александра Павловича по пути к лучшей жизни!
Заплакала Елизавета, сильно любившая страстного и нежного самозванца. Она знала, что теперь никто не заменит его. Сняли шляпы свитские, перекрестились и потянулись в спальню, где лежал тот, кто еще, может быть, четверть часа назад, повелевал огромной страной, а теперь являлся бездыханным телом. Не подходя к постели близко — опасались, что лихорадка может передаться и им, — взглянули на желтое лицо, повздыхали и вышли. И никто, кроме Виллие, не знал, что тот, кто называл себя императором России больше двух лет, этой ночью вышел из дворца в шинели и офицерской фуражке. В кармане его лежала подорожная на имя егерского капитана Василия Норова, подорожная до Москвы. Направлялся же этот человек в имение своих родителей, в Надеждино, что под Москвой, и уже ночью успел добрести до ближайшей станции, где поел холодных щей и жесткой курицы; с легким сердцем, считая себя счастливейшим из смертных, прилег отдохнуть до утра, не раздеваясь, в комнатушке для проезжих, а, когда рассвело, тройка понесла его на север.
Вечером же девятнадцатого ноября тело Григория Соколова, оголив вначале, положили на стол, и доктора Добберн и Рейнгольд с сигарами в зубах, имея в помощниках четырех гарнизонных фельдшеров, принялись потрошить его. Извлекли мозг, подивились его значительным размерам, вынули сердце и все внутренние органы. Все эти столь необходимые живому человеку и совсем ненужные мертвому предметы разложили в разные сосуды и залили спиртом. Потом, делая на мягких тканях тела глубокие разрезы, стали вкладывать нужные травы, лить бальзамические эссенции, чтобы в Петербурге всякий без ущерба для своих чувств мог взглянуть в последний раз на почившего Александра Благословенного. Раны и разрезанную грудину тщательно зашили вощеными суровыми нитками, аккуратно натянули и также подшили кожу лица, обрядили царские останки в белье, в мундир, надели сапоги, а на руки — перчатки, поместили тело в свинцовый гроб, а его поставили в деревянный ящик. И вскоре, установленный на телегу, гроб направился в долгий путь, к своему последнему пристанищу. Вез его Илья Байков, успевший за год службы новому барину так его полюбить, что Александр напрочь был забыт, а если и вспоминался иной раз, то с острым чувством недоброжелательства. Илья по причине неразвитости и природной грубости, конечно, не мог догадаться, что сильно возлюбил он «рябого» за то, что тот был царем, а он, Илья, продолжал оставаться лейб-кучером, что, согласно табели о рангах, равнялось полковничьему чину.
Во время долгой дороги, когда шел сильный дождь или валил снег, Илья забирался под телегу, на которой стоял гроб, где находил надежное убежище…
17 «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ — УБЕЙ!»
Свинья Сидоров оказался прав — когда Александра после тройной проверки ввели в тайное общество, о котором рассказал мещанин, он сразу убедился в том, что «братья-свиньи», в сравнении с этими, — сущие младенцы, хоть и испорченные, конечно. Когда он, сидя в уголке на квартире Рылеева, главаря общества, как понял сразу Александр, слушал горячие речи жадных до крови заговорщиков, его бросало то в жар, то в холод. Можно было уже после первых посещений этой квартиры идти с докладом к Милорадовичу, но несколько противоречивых по характеру доводов мешали Александру сделать это. Заговор против высшей власти, как он понял, был серьезный, охватывал офицерский корпус многих полков русской армии, а поэтому хотелось разузнать побольше. Но главным резоном, удерживавшим Александра от доклада генерал-губернатору, являлось то, что он видел, насколько правы эти люди в своем стремлении перемолоть жерновами революции сложившиеся в стране порядки, которые ненавидел и желал искоренить сам Александр. Он, слышавший о желании заговорщиков расправиться со всей царской семьей, значит, и с его матушкой, женой, братьями и другой родней, хотел крикнуть им: «Опомнитесь! Потомки никогда не простят вам этой крови!», но страх исчезал, когда в представлении Александра возникал сияющий образ новой России, где нет места ни неправде, ни лихоимству, ни палкам, ни безнравственной жизни. Поэтому-то Александр, желая казаться своим, с радостью поддерживал речи иных ораторов и сам говорил много, страстно и красиво, но чаще молчал, не имея сил подняться и выступить против защитников революционной жестокости. Так и не решился бы он ни на что определенное да и ушел бы, наверное, из этой квартиры навсегда, сказав Милорадовичу, что на заседаниях общества ничего предосудительного не говорится. Но вот однажды вечером в квартиру, не сняв в прихожей шубы, влетел один из заговорщиков и, радостно и азартно хлопнув шапкой об пол, прокричал:
— Вот новость, господа! Царь в Таганроге умер…
Вначале, на несколько мгновений, все замерли, потом же посыпались вопросы:
— Как умер? От чего? Когда?
— Кто сообщил? Да врут, поди!
— Нет, не врут! — снова заорал вошедший, сердясь на недоверчивость товарищей. — А ещё говорят, что уже Николай, Сенат и гвардия присягнули Константину.
Послышались возгласы уныния, а человек с повязкой на голове, багровея, срывая повязку, закричал:
— Вот, братцы, посмотрите! Рана ещё не заросла, которую я на верной службе покойному Александру заработал, он же меня из гвардии прогнал да в глушь сослать велел! Я только и жил мыслью об отмщенье, убить хотел обидчика, а он что же, возьми да и помре? Несправедливость какая, господа, великая несправедливость!
— И мужчина, приседая на корточки, громко зарыдал, судорожно дергая плечами. Вдруг Александра что-то будто осветило. Он поднялся, прошел из своего угла к плачущему человеку, положил руку на его вздрагивающее плечо и заговорил негромко и ласково:
— Господин Якубович, ежели вы хотите застрелить своего обидчика, то вы можете сделать это незамедлительно.
— Плечи перестали вздрагивать, и Якубович, все ещё сидя на корточках, медленно повернул голову и посмотрел на Александра снизу вверх:
— Шутки такие бросьте со мной шутить, господин Блинов (под такой фамилией Александр вошел в общество). Я шуток с детства не люблю…
— Но голос его осекся, человек с раной на голове выпрямился и враждебно уставился на Александра. И все другие заговорщики смотрели на него в великом изумлении, окаменело и подавленно.
— Вы все же объяснитесь, что означают ваши слова, господин Блинов! взвинченным, нервным голосом потребовал подскочивший к Александру Рылеев. И Александр, улыбнувшись, заговорил: — Господа, именно теперь я понял, что настал момент, когда я могу признаться: под фамилией Блинов я вошел в ваше общество, чтобы иметь полную возможность хорошенько разведать наши замыслы и донести о них графу Милорадовичу. Я — его тайный агент!
— Кое-кто из присутствующих зашумел, послышались гневные возгласы, Александр будто бы увидел даже блеснувшее жало стилета или пистолетный ствол, но большая часть заговорщиков молчала. Всем им казались дикими слова этого лысоватого человека, какого-то Блинова, о том, что он может утолить ненависть Якубовича к мертвому царю, и о том, что он является тайным агентом.
— Господа! Да он просто сумасшедший! По господину Блинову смирительная рубашка плачет! — с радостью прозревшего воскликнул кто-то. Но Александр спокойно возразил ему:
— Нет, господин Каховский, я не сумасшедший! Вы на самом деле видите императора Александра Павловича, который больше двух лет назад, в Бобруйске, добровольно передал скипетр капитану Василию Норову. Зараженный оспой по моей просьбе Норов правил страной все это время, и вот почил… Я же скитался по России, своими глазами узрел многие неправды и народные тяготы, нищету, безнравственность чиновников и лихоимство. Став полицейским, чтобы бороться со злом, я проник в ваше общество и давно бы мог отправить всех вас, господа, в крепость, если бы не… мое согласие с большинством ваших идей!
Никогда прежде Александр не видел на человеческих лицах такого беспредельного изумления. Казалось, если бы сам апостол Петр с ключами от рая явился перед этими людьми, то они не были б поражены так же сильно, как от признания Александра.
— Итак, господин Якубович, — наслаждаясь произведенным впечатлением Александр, — теперь — стреляйте в меня, если хотите, но все же подумайте перед тем, как спустите курок: может быть, я смогу вам быть полезен?
Якубович, нелепо, бесцельно расмахивая сдернутой с головы повязкой, подскочил к Александру:
— Чем ты можешь быть нам полезен, тиран? Ты правил больше двадцати лет, не желая замечать ни бесправия, ни народных страданий! Сам насадил военные поселения, сделав поселян нищими и голодными, из зверя Аракчеева сотворил лучшего друга своего, ему отдал страну во власть! И ещё говоришь, что можешь чем-то нам помочь? Не верю, ни единому слову твоему не верю! — в совершенном исступлении кричал Якубович, и рана на его лбу стала багровой. Потом все увидели что откуда-то из-за широкого пояса он выхватил маленький пистолет, щелкнул курком, вынес было руку с оружием вперед, направляя дуло в голову Александра, стоявшего спокойно, продолжавшего беззаботно улыбаться, но Рылеев, стоявший рядом, сам громко прокричав что-то от испуга, быстрым движением отвел направленный в Александра ствол, и пуля, вылетев и него в сопровождении грохота и дыма, сшибла несколько хрустальных подвесок на люстре.
— Уймись! Нельзя же так! — с укоризной, качая головой, сказал Якубовичу Рылеев. — Нужно выслушать… их величество, а потом и судить. И, обращаясь к Александру, сухо проговорил: — Сударь, мы вам даем возможность оправдаться за чинимый вами вред России. Извольте рассказать, что имели вы в виду, говоря о своей пользе нашему обществу. Постарайтесь говорить ясно, без обиняков. Вас будут слушать люди умные и вовсе не наивные. Ну же!
Александр кашлянул и начал:
— Господа, если правда то, что гвардия и Сенат уже присягнули Константину как новому царю, то вот прекрасный повод в скором времени начать мятеж.
— В чем здесь вы видите повод? — недоверчиво ухмыльнулся Каховский.
— В том, что Константин давно уже отрекся от престола, который, согласно духовной, мною составленной, но не преданной огласке, должен перейти Николаю. Уверен, что скоро все разъяснится само собой, Константин из Варшавы подтвердит свое отречение, будет назначена переприсяга, а сия акция непременно вызовет недоверие как в армии, так и в народе, любящем ясность и однозначность. Но и сего мало, господа! Я предлагаю, когда вы начнете мятеж при помощи верных вам полков, переманить на нашу сторону сомневающихся солдат из ещё верных правительству частей, но… но объявив им, что жив Александр Благословенный! Я покажусь перед ними, заговорю с солдатами, и они пойдут за нами!
Вдруг язвительно рассмеялся один из присутствующих — в статском фраке, в маленьких очочках:
— Ах, какие кружева вы нам здесь сплели, ваше величество! Ну просто бристольский тюль, а не речь! Ну, объясните, для чего мы вам нужны? Хорошо, не умерли вы в Таганроге, так и ступайте в Зимний, в Сенат ступайте, в Государственный совет! Объявите всем о том, что вновь хотите управлять страной, докажите всем, что вы — это вы. А въезжать на трон на мятежных пушках, бывшему государю на них въезжать — верх бессмыслицы! Я не верю вам, ни единому слову вашему не верю!
— И я тоже!
— Я тоже ему не верю! — раздались гневные голоса, но Александр лишь улыбнулся ласково и сказал (выкрики тут же стихли):
— Те, кто два года раболепно кланялся самозванцу, никогда не признают во мне Александра — иначе им придется признаваться в собственной глупости, в лукавстве, в стремлении служить абы кому, хоть черту, лишь бы служить, а сие уж пахнет государственной изменой. Меня прогонит и Аракчеев, и Милорадович, братья-великие князья откажутся от меня, не признает меня и матушка моя, ибо вынуждена была признавать два года рябого самозванца. Все министры и генералы откажутся от меня, потому что каждый из них врал, кланяясь не помазаннику, а совсем другому человеку. Даже жена, Елизавета, повернется ко мне спиной, ибо ей чудно спалось, как я слышал, с самозванцем, с невинным, впрочем, самозванцем. В лучшем случае во мне, если я буду настойчив, увидят прежнего, истинного царя, но постараются поскорее отправить меня в лечебницу для сумасшедших — то, что я сотворил в Бобруйске, только в состоянии умопомешательства и можно б было совершить. А поэтому, господа, я и решил сегодня стать соратником вашим. Пусть не я буду у власти, а кто-нибудь из вас, но зато мы осчастливим Россию, я так этого хочу! Только, молю вас, господа! Во время мятежа не надо крови проливать! Сие никак несовместно с целью, христианской по сути своей, которую мы все видим. Ну, теперь вы верите мне?
Александр со слезами на глазах, растерянно смотря то на одного, то на другого мятежника, очень боялся, что они снова закричат, может быть, даже захотят его убить как шпиона, в чем он сам признался, но они, помолчав, нехотя, по одному стали подавать голоса:
— Что ж, в полезность его прожекта поверить можно…
— Можно, да токмо уж нельзя Александра Павлыча отсюда никак выпускать. Вдруг к Милорадовичу побежит? Он ведь оттуда к нам явился!
В усталом и неопределенном жесте вскинул руку Рылеев:
— Довольно, господа, все и так понятно. План их величества на заметку возьмем. Иметь на руках козырного… — усмехнулся, — короля — дело важное. Конечно, здесь его надобно оставить, под строгим приглядом. Пока же диктатора мятежа избрать нужно.
И мятяжники, как-то слишком быстро ставшие равнодушными к присутствию в их компании персоны, расправиться с которой многие из них ещё совсем недавно мечтали пулей или кинжалом, занялись выборами подходящего лица для должности диктатора, много кричали, ругались, размахивали кулаками и чубуками и наконец остановились на князе Трубецком. А Александр, снова присевший в свой уголок, с удовольствием смотрел на своих новых товарищей-соратников. Ему было приятно, что эти горячие, во многом наивные молодые люди, каждый из которых с удовольствием бы, хоть не надолго, стал бы властелином России, самодержавным, единоличным, поверили ему, оказали честь, приняв его в свои ряды, и Александр уже видел Россию свободной и счастливой, а поэтому слезы радости струились по его щекам, и он не мешал им течь.
… 13 декабря узнали, что Государственный совет провозгласил Николая императором и что завтра Сенат, присягавший прежде Константину, должен будет присягнуть Николаю Павловичу. Александр видел, как озадачены, обескуражены мятежники. узнавшие об этом. Многие, казалось, были в отчаяньи — ходили, обхватив голову руками, даже стонали. Кто-то бранился, доказывая, что нужно ждать восстания на юге после убийства Николая на смотре войск, но таким отвечали, что царь может и не поехать на юг и необходимо что-то предпринимать в Петербурге — убийство Николая на разводе или на параде. Александр видел, что эти умные, смелые люди оказались в решающую минуту нерешительными, слабыми, отстаивали только свой план действий, не желая слушать мнения других. Он понимал, что, выражаясь фигурально, может связать сейчас в прочную веревку решительных действий все эти слабые, тонкие волоконца отдельных мнений, и в этой задаче Александр уже мысленно ощущал себя гораздо более сильным, чем все эти бунтовщики, собравшиеся опрокинуть тысячелетние устои державы.
— Господа! — вдруг поднялся он со стула и громко обратился к заговорщикам. — Если не завтра, то никогда!
— Да что не завтра, что не завтра?! — кинулся к нему раздраженный, взлохмаченный Рылеев. — О чем смеете говорить нам вы, ваше императорское величество? Царь-якобинец, царь-санкюлот! Уродливая фантазия природы, породившей полуцаря-полубунтаря!
Александр, совсем не обидевшись, застенчиво проговорил:
— Нет, поверьте, я никакая не фантазия природы, я уже объяснял вам. Просто я хотел сказать, что завтра, когда от Сената будут принимать присягу на верность моему брату Николаю, можно будет вывести на Петровскую площадь, к самому зданию Сената, верные вам войска. Тем, кто придет нас усмирять, я скажу, что присяга Николаю незаконна, потому что жив император Александр. Многие, очень многие в войске помнят меня в лицо. Сенаторы — тоже, и Сенат не станет присягать моему братцу Николаю, я уверен в этом! И с Петровской площади вместе с сенаторами и полками, под развевающимися знаменами, под треск барабанов, сопровождаемые ликующие толпой горожан, мы мирно пройдем к Зимнему дворцу, я с вами войду в него, и уже завтра при участии всех вас, господа, мы создадим новое правительство! А там, глядишь, будет у нас и конституция, будут свободы. Россия заживет по-новому, господа! Только уже сейчас надо идти в верные вам полки, готовить людей к тому, чтобы уже утром они стояли на Петровской площади с полным комплектом патронов боевых и с ружьями. Бог даст — нашим завтра будет Петербург, а после и на юге полки восстанут. Да только зачем им восставать, если царь и мятежники объединены одной идеей будут!
Александр думал, что его слова будут восприняты всеми с воодушевлением, радостью, встречены восторженными криками, но никто не кричал, не радовался. Молчали. Только Рылеев через минуту произнес:
— Сами посудите, Александр Палыч — боязно от вас такую помощь принимать. А ну как, выведя нас на площадь Петровскую, окажете вы тем самым услугу Николаю да Милорадовичу? Вот всех нас в сети-то… а?
Александр вздохнул:
— Пусть самый решительный и… жестокий из вас будет к моей особе приставлен. Чуть заметит измену — на месте казнит как предателя. Не думал, что вы, друзья мои, столь маловероятными окажетесь!
Минута сомнений и колебаний оказалась преодоленной, все загомонило, засуетилось, забегало. Подбегали к Рылееву, что-то шептали на ухо, второпях надевали шинели, шубы, на ходу менялись перепутанные одеждами, сталкивались, щелками курками пистолетов, проверяя наличие пороха на полке. К Александру подошел Якубович. Буравя ненавидящим взглядом, тихо сказал:
— Я к вашей особе, Александр Палыч, пристален есть. Уж не промахнусь, коли что. Одевайтесь, к московцам пойдем, а после с ними прямо на площадь Петровскую.
Александр с поднятым воротником шинели, теплой, на лисьем меху, шагал рядом с Якубовичем по черной петербургской улице, полнившейся скрипом их шагов. Недавно шел снег, лежавший сейчас на мостовых толстым слоем, кое-где тускло светились оконца в домах горожан, ещё не знавших, что завтра к ним вернется император, которого они потеряли. Так думал Александр о завтрашнем, очень важном для него дне, но вдруг послышался голос Якубовича, издевательски жестокий и даже глумливый:
— А вот возьму вас сейчас, Александр Палыч, да и пристрелю здесь, а своим скажу, что бежать пытались, да-а…
— За что вы хотите меня убить? За то, что я изгнал вас из гвардии? не поворачивая головы, спросил Александр.
— И за сие, но главное совсем по другой причине, ваше величество, глубоко вдохнул морозный воздух Якубович. — Просто до мурашек приятно представить, как вы, властелин, вновь собирающийся пробраться в свой дворец, станете ползать у меня в ногах, прося прощения, пощады. Я же, ваш подданный, буду тихонько спускать и опускать курок и долго решать, что же мне делать. Сласть как приятно, ваше величество!
И захохотал на весь квартал, а Александр, не желая выводить своего конвоира из состояния заблуждения, промолчал и лишь подумал: «Нет, увечный» Не я в твоей власти, а ты в моей, и вовсе не потому, что могу подозвать сейчас любого полицейского и велеть ему арестовать тебя. Я нужен всем вам сейчас, а поэтому вы в моей власти, а не я в вашей. Ах, как же все интересно в жизни: мы попеременно ходим то в царях, то в рабах, то в палачах, то в верных друзьях правителей, разделяя с ними сладость власти! Все мы от соблазна дьявола не убереглись, хоть и наставлял нас Спаситель искуса власти страшиться!»
… Московский полк, построившись в каре, издалека шевелящейся щетиной султанов и ружейных штыков напоминал грозного вепря, неподалеку от которого чернел утес каре Гвардейского экипажа. То и дело слышались летящие от людских четырехугольников крики:
— Да здравствует Александр!
— За истинного государя порадеем, братцы!
Петербуржский люд, прознавший скоро о чем-то необычайном, что зачалось на Петровской площади, стекался со всех сторон, чтобы позабавиться, поразвлечься необычайным зрелищем. Дворяне и мещане, крестьяне, которые по зимнему времени оставили свои дома и жили в столице на работах, промыслах, уже на подходе к площади слышали, что-де объявился их старый государь, что, объявленный по чьему-то недосмотру или по причине явной каверзы мертвым, он на самом деле жив и здрав и находится там, где простер свою бронзовую руку в сторону Невы его державный прапрадед. Приходя же на площадь, толпились в сторонке, видели только грозные солдатские и флотские ряды, сновавших туда-сюда конных, пеших, с петушиными плюмажами и без них, слышали крики «Да здравствует Александр!», и каждому было неприятно слышать это. От нового правления всякий ожидал лучшей жизни, несмотря на то, что многие из зевак и при александровском правлении жили вольготно.
— Да где ж Алексашка? — слышалось в толпе. — Не тот вон, на вороном коне?
— Не-а, государь наш император рябым был, а сей енерал гладколикий. Может статься, вон энтот, кто на серой кобыле скачет?
— И-и! Оный генерал с красной кавалерией, а государь император Александр Палыч все больше голубую предпочитал. Не тот!
Сам же Александр, совсем не спавший в эту ночь, но счастливый, как никогда, ликовал в душе, слыша, как славят его. Сегодня ночью, когда пришел он в казармы гвардейского Московского полка и Экипажа, объявил всем, что Николай неправ был, провозгласив себя императором, он, хоть и слышал те же приветственные крики, но видел между тем какое-то равнодушие на лицах служивых. Еще тогда показалось ему, кто кричат они здравицы в его честь, точно заведенные часы, которым в положенное время должно давать сигнал два, три или двенадцать раз. Он не понимал, что живут эти люди согласно установленным Богом, Природой и давно сложившимся укладом правилам, а поэтому подспудно знают, что никакие перемены одного царя на другого ни на волос не прибавят, но и не убавят от чаши их бытия. Они будут все так же служить, работать, получать те же затрещины от начальников, или слышать те же слова похвалы, есть те же щи и кашу, по вечерам вести прежние беседы, в праздничные дни пить ту же водку и хмелеть, и получать радость от приема спиртного все так же, по-прежнему. В свободные от службы часы они — будь на престоле Александр или черт лысый, — они будут ходить к зазнобушке, какой-нибудь кухарке, поломойке, торговке или даже к белошвейке. Но славили они ожившего государя потому, что всякая перемена доставляла им радость, приятно будоражила их нервы, как те же самые короткие часы досуга, поход в баню, молебен, праздничная чарка или убогая спальня убогой любовницы.
На площади появились войска, верные Николаю — преображенцы, потом чинно выехали в блестящих кирасах конногвардейцы. Александр давно ждал этого момента. Ему нужно было, чтобы его узнали, чтобы он смог проявить силу своей власти над некогда подвластными ему полками, где любили его, восторженно и беззаветно любили. Николай, посылавший на Петровскую площадь верные ему части, слышал о том, что кричали там бунтовщики. То, что в Таганроге умер самозванец, для него было ясно, а поэтому теперь он трепетал, каждым волоском своих нервов ощущая присутствие рядом, в двухстах саженях от Зимнего дворца того, кто может по праву забрать у него власть, престол, снившиеся ему ночами. И отдать долгожданную власть кому-то, пусть даже законному императору, он не захотел. Он смел бы сейчас любого, пусть и брата своего, лишь бы войска оказались послушным ему. Но он, хоть и был черств душой, груб и зол, знал в то же время, что солдату безразлично, кто им правит. Николай догадывался, что внутри сердца своего служивый подчиняется не полковым начальникам, не царю, а живет по воле независимых от командирских желаний причин, а поэтому боялся…
Александр, в бобровой шапке, в шинели с лисьим воротником, бегал от роты к роте, от эскадрона к эскадрону, говорил солдатам и кавалеристам, что он — Александр, российский император, но те и другие начинали сменяться над ним, показывали ему кукиши, грозили оружием. Из стройных шеренг неслось:
— Гляди-ка, сам царь батюшка ожил! С небес к нам возвернулся!
— Не иначе как сам архангел Михаил его на своих крылах принес, а Господь Бог ему личико почистил, чтоб попригожей выглядел на землице!
— Н-да! А ещё шинелку ему справил, чтоб в рассее не замерз по времени зимнему! Эх, добр же Господь к людям-расеянам! Не оставит их безо присмотру, одарит цариком!
Солдаты и кинногвардейцы хохотали, плевали в Александра, кое-кто брался снегом, потом добродушно-смешливое настроение переросло во враждебное, послышались матюги, угрозы, кто-то сделал полушутливый выпад штыком в сторону бегавшего вдоль шеренг Александра. Офицеры смеялись и матерились тоже. Никто из них даже не пытался пригрозить «придурошму», потому что каждый понимал — никто из солдат не пойдет за ним. Александр же, ещё полчаса назад пытавшийся достучаться до сенаторов, колотивший в дверь молчавшего здания руками и ногами, поплелся прочь от не принявших его шеренг. А скоро послышалась команда, и конногвардейцы с обнаженными клинками палашей, разгоняя лошадей частыми ударами шпор, пошли в атаку, со стороны мятежных каре затрещали выстрелы, загудели разрывающие морозный воздух пули, застучали по кирасам нападавших, захрипели раненые лошади, заорал дождавшийся апогея зрелища народ, и Александр, воздев руки, закричал, кинулся куда-то в прогалину между групп собравшихся убивать друг друга людей, едва не был растоптан горячим конем одного кирасира, стал кричать, поворачивая направо и налево голову, что-де русским нельзя убивать своих соплеменников, братьев по крови и духу. Но никто не слышал его, и он, несколько раз упавший на заснеженную площадь, потерявший шапку, с трудом был уведен в гущу мятежников Якубовичем, который волок его и не переставал шептать:
— Образумьтесь, ваше величество, образумьтесь! Убить я вас ещё успею. Чего ж под копыта лезть-то да на штыки?
А войск, верных Николаю, становилось на площади все больше. Пригнали семеновцев, пришел ещё один батальон преображенцев, Галерная почернела от заперших её павловцев. Александр, как безумный, кидался ко всем вновь прибывшим, молил вспомнить в нем их некогда любимого императора, Александра Благословенного, кричал, плакал, но в лучшем случае угрюмое молчание становилось ответом на его призывы, и чаще брань, хохот заставляли его или уходить с понуро опущенной головой, или посылать проклятия усатым, суровым мужчинам, успевшим перед уходом на площадь подкрепиться наваристой кашей и выпить по чарке водки, выданной им для бодрости и сугреву ради.
Застучали копыта лошадей, затарахтели колеса — на Петровскую площадь вкатилась батарея артиллерии. Сразу закопошились ездовые, канониры, бомбардиры. Лошадей распрягали, уводили, орудия, со страхом видел Александр, готовились к стрельбе, и х черные жерла, грозящие неминуемой смертью, были направлены на восставших, направлены на его полки. Но Александр в то же время понимал, что эти пушки — это и его пушки тоже, и начальствующий от батареей — тоже его подчиненный! Он издалека узнал героя его войны, Сухозанета, тридцатисемилетнего генерала, расторопно, деловито распоряжавшегося установкой батареи. Александр видел еще, что рядом с ним гарцуют какие-то люди с белыми и черными плюмажами на шляпах, но они уже не были помехой для Александра, который заплетающимися ногами побрел в сторону пушек.
— Куда! Куда?! — раздался позади него крик Якубовича, хлопнул выстрел, пуля прогудела где-то совсем рядом, но Александр словно и не заметил ни крика, ни выстрела. Он все приближался и приближался к моложавому генералу, и тот перестал заниматься батареей и, прищурившись, смотрел на подходившего к нему человека в расстегнутой шинели и без шапки. На него же смотрели и люди на лошадях, с плюмажами на шляпах. И вот Александр уже стоял рядом с артиллерийским генералом.
— Иван Онуфрич! — обратился Александр к Сухозанету, тяжело дыша от быстрой ходьбы. — Ты что, не узнаешь меня?
— Кто вы? — настороженно глядя на странного лысоватого человека, спросил Сухозанет строго.
— Я — твой государь, генерал! — так же строго проговорил Александр, понимая, что он может обращаться к своему подданному, а тем более в такой важный для страны момент, только повелительно. С солдатами Николая он разговаривал как отец. Теперь же император пробудился в нем и поднялся во весь рост. — И ты, генерал, сейчас станешь исполнять мои приказания!
Сухозанет, много раз не только видевший Александра, но и часто беседовавший с ним, ясно осознавал, что перед ним на самом деле стоит сын царя Павла, но он также знал, что Александр умер в Таганроге, а также помнил о своей присяге Николаю. В смятении, машинально проведя рукой по лицу, честный артиллерист пробормотал:
— Ваше величество, я — солдат, и мне надобно исполнять приказания той особы, которой я присягал. Сегодня я присягнул вашему августейшему брату, Николаю Павловичу…
— Но прежде ты присягал мне, Сухозанет! — вскрикнул Александр визгливо. — Какие могут быть пререкания, генерал? Кто освободил тебя от присяги мне, ответь?!
— Ваша смерть, государь… — совершенно смешавшись и кося глаз в сторону верховых с плюмажами на шляпах, прошептал артиллерист.
— Моя смерть? Но ведь я жив, Сухозанет, жив! — смеясь, словно на самом деле ликуя по поводу того, что он жив, а не мертв, воскликнул Александр. Так вот, я приказываю тебе: пушки зарядить картечью. В каком направлении произвести стрельбу — скажу потом!
Сухозанет, все ещё стоявший в нерешительности, услыхал, как кто-то из всадников с плюмажами прокричал ему, не решаясь, видно, подъехать поближе:
— Генерал! Не слушайте речи этого мятежника! Вы подчиняетесь лишь приказам их величества Николая Павловича!
Александр закричал так громко и властно, как, наверное, не кричал никогда:
— Нет императора Николая, когда ещё жив император Александр! Александр Благословенный! Сухозанет, если ты сейчас же не зарядишь оружия, я велю сегодня же расстрелять тебя на гласисе Петропавловской крепости!
Тут, словно нарочно, кто-то, видно, фейерверкер, прокричал издалека:
— Ваше превосходительство, заряды из лабратории наконец-то подвезли!
Сухозанет, будто сломав находившуюся в сознании преграду, с глазами, превратившимися от перенапряжения воли в ничего не видящие льдинки, протяжно прокричал:
— Батарея-а! Слушай мою команду-у! Орудия картечью заряжа-ай!
Бомбардиры, канониры, фейерверкеры засуетились рядом с пушками, замелькали банник, прибойники. затлели фитили. Через минуту послышался ответ:
— Готово-о!
Сухозанет повернулся к Александру, сказал:
— Батарея к стрельбе готова, ваше величество. Куда стрелять будем?
… Пушки Сухозанета палили всего четыре раза. Вначале — вдоль западного фасада Адмиралтейства, потом — вдоль южного, третий раз — по Исаакиевскому мосту, и в четвертый — через Сенатские ворота, по Галерной улице, где картечь скакала от дома к дому, разя ничего не понимавших павловцев. Мятежники поддержали артиллерию позднее, когда прошли минуты сильного недоумения и даже страха. Они слышали, как заговорили пушки, видели, как валятся, подобно снопам, солдаты Николая, как бегут они, бросая ружья, переваливаются через гранитный парапет набережной, чтобы убежать от картечи. Вначале мятежники не понимали, почему орудия, направленные было в их сторону, стали разить огнем и железом верные Николаю полки, но скоро громкое «ура!», похожее скорее не на крик людей, а на рев огромной звериной стаи, а потом и дружные ружейные залпы раздались на площади. Каре сами собой развалились, московцы, Гвардейский экипаж, лейб-гренадеры бросились с ружьями наперевес на врагов, которых офицеры пытались построить в колонны, заставляли стрелять в мятежников, идти на них в атаку. Удар восставших по этим расстроенным колоннам был так силен, что и семеновцы, и преображенцы, даже не пытаясь обороняться, бросились кто куда, оставляя на грязном, окровавленном снегу раненых и убитых товарищей. Одни бежали к Неве, чтобы по набережной достичь Зимнего дворца, куда ускакал их император, Николай. Другие — не оборачиваясь, бросив ружья, неслись по Адмиралтейской площади. Было немало и таких, которые перелезали через забор, на стройку Исаакиевского собора, но здесь их нещадно били и даже убивали поленьями, камнями рабочие. Мятежники же, будто это были и не русские совсем, а французы или турки, гнались за ними и приканчивали штыками или тесаками. Через полчаса площадь опустела, ветерок унес пороховой дым, и только убитые люди и лошади лежали кучами и поодиночке с неловко подвернутыми руками и ногами, да стонали раненые. Уэже перебегали от трупа к трупу, роясь в карманах их одежд, какие-то людишки, а бронзовый истукан с растопыренными пальцами правой руки, безучастный ко всему случившемуся, застывший в прыжке через невидимую пропасть, молчаливо парил над полем битвы.
Радость победы оставила Александра быстро. Он бродил по уже погружавшейся в сумерки площади, натыкался на тела убитых по его приказу людей, ещё утром евших кашу, здоровых, собиравшихся жить долго, мечтавших когда-нибудь вернуться в родные дома. Никто не обращал на него внимания, никто не кричал, как это было утром, «Да здравствует Александр!». Он, увлекший на площадь мятежников, приведший их к победе, оказался никому не нужен, и как воспользовались восставшии плодами победы, он тоже ещё не знал. Александр хотел верить в то, что завтра он с главарями мятежников войдет в Зимний дворец, сенаторы, министры, генералитет откажутся от присяги Николаю и поклянутся в верности ему. Но это могло произойти лишь завтра — теперь же здесь царила лишь смерть.
Услышав какие-то громкие крики, несшиеся из-за ближайших к площади домов, Александр машинально пошел в ту сторону. Чем ближе подходил он к жилым строениям, тем явственней слышал жалобные призывы, чьи-то угрозы, крики ярости, выстрелы, звон разбиваемых стекол. Он вышел на Малую Морскую, освещенную по обеим сторонам масляными фонарями. Здесь творилось что-то безобразное, ужасное. По фасадам домов метались черные тени, достигавшие второго этажа, богатая, аристократическая улица была полна народа. Одни люди, часто полуодетые, пытались убежать от других людей, одетых в военную форму, в киверах, с ружьями и обнаженными тесаками. Были среди преследователей и люди в штатском, мещане самого низкого пошиба, с бородами, похожие то ли на торговцев мясом, то ли на городских «ванек». Эти тоже были с оружием. Теперь Александр, подойдя поближе, услыхал и то, что кричали эти беснующиеся:
— Хватай его, Гаврюшка, держи! Секи тесаком!
— Всех изведем под корень, нехристей поганых! Только откупиться золотом и серебром могут!
— Гуляем, братва! Нынче наш день! Наш праздник! Всякого приговорим, и правого и виноватого! Вот, схватил, держу!
— Смотри, не задави прежь того, как укажет, где мошну свою прячет, сычуг коровий! Ну, веди в свою фатеру!
Александр, плохо понимая, что происходит, но отчего-то закачавшись, пошел вперед, к Невскому. В полутемном помещении первого этажа, увидел сквозь разбитые стекла черные фигуры людей. Оттуда доносились пьяные выкрики, радостно-слезливые, бесшабашные и злые:
— Довелось-таки, ребятушки, барского винца отведать! Гулям, гулям, товарыщи любезные, знатно гулям!
— Гулям! Гулям! — заорали в ответ. — Пущай завтра — на каторгу, в кнуты — пущай! Токмо сегодни крепко гулять бум, ребятя-та! А ну-ка, Савватей, пальни в окно! Ишь, кто-то на нашу гульбу смотреть пришел!
Не успел Александр отпрянуть в сторону на два коротких шага, а уж хлопнул выстрел, пуля, рядом пролетев, осыпала его осколками разбитого стекла. Он, задрожав то ли от страха, то ли от холода, только сейчас давшего о себе знать, быстро пошел дальше. Люди, встречавшиеся ему на пути, были в изрядном подпитии, а некоторые, не в силах идти, стояли на четвереньках, блевали с хрипом, пытались что-то петь или говорить, но падали и застываи на истоптанном снегу. Из отверстой пасти одного подъезда доносился высокий, непрерывный женский вой, леденящий душу и дурной. Ему вторили мужские голоса:
— Ваше благородие, вы уж побыстрее постарайтесь, а то и мне охота…
— Рукавицей ей хоть рот заткни, Еременко, вот я и побыстрее…
И крик женщины стал глухим и тихим.
Он побежал. Его хватили за руки, принимая за того, кому этой ночью выгодно бежать. Александру два раза удалось вырваться из жестких объятий озверевших людей, которых, он уже понимал. сам и сделал сегодня такими. А вот и Невский — перевернутые кареты, горланящие толпы пьяных солдат, канцелярисов, мастеровых, приказчиков, извозчиков. Ружья и пистолеты едва ли не у каждого. Палят ради забавы по окнам, по фанарям. По самой середке широкого проспекта под неловкий треск двух барабанов шагают уличные девки с ружьями на плечах. На их штыках — кивера и шапки, тряпье и панталоны с кружевами. Вдруг мчится тройка прямо им навстречу. В санях стоя правит мужчина с бородой, в одной рубахе. Орет с дикой радостью, направляя тройку прямо на колонну девок:
— Всех передавлю, босявки! А ну, ко мне садись!
Смеются, отбегают в сторону, бросают ружья, догоняют тройку, подолы задирая, падают задницами прямо в сани. Гогот, ор, пальба, ужасное, звериное веселье.
— С тех самых пор, как заложен Петербург, срама не было такого, слышит Александр слова стоящего с ним рядом господина, с тоской глядящего на народную гульбу. — А ведь, слышно, в Васильевской и Выборгской частях ещё почище. Чернь режет своих хозяев, всюду грабежи, поджоги. Ах, дождались срама вавилонского. Видно, и у нас такое будет, что во Франции в девяносто третьем, да-а…
Уходит, а Александр стоит.
«Надо теперь же Рылеева найти, Каховского…» — и тут же отгоняет эту мысль. Он вспомнил, как тяжело валился сегодня Милорадович с коня, когда хотел утихомирить бунтовщиков. Каховский же с холодной, сатанинской улыбкой ещё и дунул после на дуло пистолета, отгоняя дым.
«Да они — злодеи, все злодеи! — пронзила мысль. — Но я — самый главный из них! Я начал это дело, я же его постараюсь и закончить!»
Александр повернул голову. Он стоял рядом с разграбленной почтой. Окно — разбито, перевернуты столы и стулья. Только где-то в углу мерцала оставленная грабителями свеча, и огонек её дрожал от ветра, втекавшего в помещение. Александр, увидев, что дверь открыта нараспашку, прошел туда. На полу валялись листы бумаги, конверты. Он поднял лист и конверт, взял свечку. Боясь, что его примут за вора, стал искать чернила и перо. Без труда нашел, сел за стол и стал писать. Вначале подписал конверт: «Их императорскому величеству Николаю Первому». А потом пошел строчить плохим, неочиненным пером:
«Братец, дорогой! Если в сердце твоем осталась хоть капля любви и сострадания к брату твоему, ужасному преступнику, которому нет и не может быть снисхождения, прояви милость, допусти к себе, едва ты прочтешь записку эту. Город спасешь только ты, тебе же и страну спасать. Я же спешу помочь тебе в оном, как только смогу. Знал бы, как страдаю сейчас! Допусти, именем Спасителя тебя заклинаю!
Твой бесчестный и преступный
Александр»
Он снова вышел на Невский. Прошел под аркой на площадь. Света в окнах дворца не увидел, но твердой поступью прошел на Миллионную, вдалеке, у Зимней канавки увидел костры. Понял, что там не мятежники, а караул, охранявший один из подъездов снаружи.
— Стой, кто идет! — послышался окрик, когда Александра отделяли от караульных солдат пятнадцать шагов.
— Мне бы вашего караульного начальника, — проговорил Александр, спокойный и уверенный в себе.
От толпы солдат отделилась фигура человека в офицерской шляпе.
— Чего угодно? — спросил офицер у Александра с нескрываемой угрозой. Кто такой?
Александр внезапно оробел, смутился. Он прежде думал, что откровенно скажет караульному, что к царю Николаю Павловичу явился его брат, но былая уверенность пропала, и Александр вежливо ответил:
— Господин майор, я — капитан Василий Сергеич Норов, тайный агент полицейского управления графа Милорадовича, павшего сегодня на Петровской площади. Вот письмо их императорскому величеству. Мне удалось выведать, где находятся главари бунтовщиков, и если их величество соизволит отнестись к моему сообщению со вниманием, то город уже завтра можно утихомирить. Вот письмо для государя. Соблаговолите как-то передать их величеству. Поймите, сие очень, очень важно!
— Что ж, давайте сюда письмо, — потеплел голос караульного майора. Там вон, у костра погрейтесь, я же преприму все, что от меня зависит.
Офицер уже повернулся, чтобы идти к подъезду, но Александр остановил его словами, сказанными виноватым голосом:
— Только, я уж очень вас прошу — лично в руки государя…
Офицер хмыкнул, пожал плечами, не сказал ни слова и постучал условным знаком в тяжелые двери.
Александр ждал возвращения майора долго, больше часа, отогреваясь у костра. Но вот офицер неожиданно встал рядом с ним, сказал, что ему велено препроводить «господина Норова» во дворец. В вестибюле, деловито извинившись, попросил разрешения проверить, нет ли у Александра оружия, легко провел руками по платью Александра, и тут же забренчали чьи-то шпоры — вниз по лестнице сбегал мужчина в мундире генерала. Александр поднял глаза и узнал Бенкендорфа, сказавшего властно и нетерпеливо:
— Ну что же ты, Князев, так долго возишься? Государь уж меня послал! Нет оружия?
— Никак нет, ваше превосходительство! — чеканно отвечал майор, Бенкендорф же маняще махнул рукой: — Ступайте ко мне, Норов! Нет, вначале шинель свою оставьте здесь!
Александр едва поспевал за широко шагавшим рядом Бенкендорфом, идущим по залам дворца с гордо выпяченной грудью, и удивлялся про себя: «Да как же это Александр Христофорович, прослуживший у меня в генерал-адъютантах четыре года, не может признать во мне государя? Или все они сговорились, все притворяются, потешаются какой-то игрой? Вот и к Николаю войду, а он возьмет и скажет: «Ну, здравствуй, Норов! Ах, все перевернулось в жизни!»
Александр не знал, какая радость охватила Николая, когда он прочел покаянное письмо брата. Он, оскорбленный Норовым, потерявший надежду обрести когда-нибудь власть, узнал о смерти своего оскорбителя с ликованием. Одно лишь пугало — он не знал наверняка, постригся ли Александр; на свои средства, тайно рассылал агентов в монастыри, чтоб те выведали местонахождение венценосного монаха, но отовсюду соглядатаи Николая возвратились с одним ответом — вошедшего в обитель с именем «Александр» и имеющего внешнее сходство с государем, нигде нет.
Николай был счастлив ещё вчера, несказанно счастлив — он был признан царем, но сегодня, когда на Петровской площади собрались полки, кричавшие «Да здравствует Александр!», когда рядом с пушками Сухозанета он увидел человека, очень похожего на брата, трудно было бы сыскать более несчастного человека, чем Николай. Корона, под которой он собирался спрятать свою заурядность, который хотел достичь уважение, признание и любовь людей, ускользала из его рук. И сейчас, во дворце, в городе, где властвовал бунт, он не думал об убитых и ограбленных, о замерзших в пьяном виде. Николай тяжко страдал от ощущения собственного безвластия. И вот — письмо…
Александр по требованию Бенкендорфа сам отворил дверь кабинета, его кабинета, вошел в него и вначале никого не увидел, хотя успел заметить, что все здесь осталось на прежних местах, как тогда, когда иной раз посиживал он здесь за государственными бумагами или просто читая. Недоуменно посмотрел направо и налево, потом — назад: Николай со скрещенными на груди руками стоял у стены, где была дверь, и неподвижно смотрел на него своими выпуклыми глазами. Смотрел и молчал. Александр вначале хотел рухнуть на колени перед братом, но что-то удержало его. Он лишь понуро и виновато склонил голову:
— Вот, я пришел…
— Зачем? — отрывисто спросил Николай.
— Просить тебя, чтобы ты спас Россию.
Николай расхохотался неестественно громко, а потом резким голосом спросил:
— Я-то? А ты на что? Ну, ступай, спасай её, доведенную до бунта собственной блажью и легкомыслием. Ты долго правил, баловался реформами, точно дитя бирюльками. Потом в твою голову вошла идейка сделаться монахом, но, оказывается, ты и в этом не много преуспел! Зачем же ты явился в Петербурге? Снова поцарствовать решил?
— Нет, покуда я странствовал по России, я многое увидел и многое понял. Я хотел сделать людей счастливыми, даровать им свободы, но они…
Николай, влагая в резкое движение всю свою нелюбовь к брату, проистекавшую от зависти к его короне, визгливо закричал:
— Свободу?! Конституцию, наверно?! Какую, медвежью конституцию? Ну так бери те несколько батальонов, что у меня остались, иди в город, вяжи сих пьяных медведей, а после, уже утром, объяви им о конституции, о том, что свободным быть можно, но только помаленьку, чуток совсем, через представителей народных да местное управление! Берешь, берешь батальоны?
— Нет, не беру. Батальоны — это власть, а я устал от власти. Сделай всем сам. У Синего моста, в доме Российско-американской компании ты найдешь главных. А меня отпусти…
— Тебя отпустить?! — с брызгами слюны вытолкнул слова Николай, и глаза его сузились в презрительной и ненавидящей усмешке. — Нет, братец! Кто знает, что взбредет тебе в голову через месяц, через полгода. Тебя прозвали Благословенным, ты же привел Россию к смуте уже одним лишь тем, что не предал огласке содержание манифеста! Или ты уже тогда думал как-либо обыграть сей недочет? Нет, ты не уйдешь с миром, не станешь бродить по дорогам моей державы, мутить людей, смущать их своим сходством с Александром Благословенным! Я подыщу для тебя келью, тихую и чистую, но только не в монастыре, а в каземате Петропавловской крепости! Там ты, уже очень скоро, примешься за одну работу — опишешь все, что с тобой случилось, что привело тебя к решению отказаться от престола и что подтолкнуло тебя стать во главе бунта! Не праздного интереса ради я буду читать твои записки — я хочу узнать, что нужно делать для того, чтобы не стать таким, как ты Благословенным! Пусть меня потомки назовут иначе, но обо мне тоже будет помнить Россия!
Последняя фраза Николая закончилась каким-то плаксивым визгом, он несколько раз судорожно всхлипнул, но тут же опомнился, совладал с собой и уже куда-то в сторону окон. плотно занавешанных сборчатыми шторами, продолжил:
— Сейчас мои батальоны пойдут вязать не способных к сопротивлению пьяных медведей. Потом я сделаю все, чтобы вчерашний день не был моим позором. Потомки будут знать о нем, но я предстану как усмирить буйства, дурных страстей моего народа. Газеты напишут об этом дне так, как это нужно мне, иностранцев, видевших что-то, я постраюсь убедить в своей победе. Правда о прожитом вчера останется в бумагах, но эти бумаги я надежно спрячу, чтобы лишь спустя сто, а то и двести лет все узнали, как случилось это. Власть в России должна быть примером для всех народов мира, и пусть все нации поучатся у нас. Я, Николай Первый, докажу Европе, всем, все, что только сильный самодержец, а не парламент, не конституции, способен даровать стране мир, порядок, благоденствие!
Высказавший то, что прежде было спрятано в глубинах уязвленного сердца, тяжело дышащий Николай, по-вороньи хрипло крикнул:
— Бенкердо-о-орф!
Александр Христофорович, будто давно уж стоявший у дверей и ждавший приказа, тотчас явился. Николай, стуча каблуками ботфортов, с полминуты ходил по кабинету, потирая лоб. Остановился он внезапно и сказал, указывая рукой на Александра:
— Господин Норова до утра запри в одном из дворцовых покоев. Утром — в Петропавловку, в Кронверкскую картину. За сим отправишь с полроты преображенцев к Синему мосту, в дом Российско-американской торговой компании. И пусть Клейнмихель тут же ко мне зайдет. Ему сегодня ночью нескучно будет!
Когда Александр из кабинета выходил, обернувшись, тихо молвил:
— Ваше величество, милосердны будьте. Безрассудные они, но все же… русские.
— Прочь, прочь, юродивый проклятый! — истошно завопил Николай, хватаясь за голову. — А батюшку-то помнишь, помнишь?!
В ту ночь, пока ещё не забрезжил рассвет, Николай послал в разные части Петербурга верные ему войска — оставшихся в живых пребраженцев, семеновцев и павловцев. Солдаты, довольные же потому, что настало время сквитаться за поражение на Петровской площади, шли на дело с веселой серьезностью и были недовольны, увидев, что беспечные и успокоенные победой бунтовщики почти и не оказывают им сопротивление. Покорных и просто пьяных забирали — кого вязали, кого просто клали на телеги, — вели-везли к съезжим, сажали под замок в камеры по десять, по двадцать человек, где и троим бы тесно было, запирали в казармах. Офицеров же, как было приказано, вели по льду в Петропавловскую крепость и размещали в казематах. Тех, кто шебуршил да сопротивлялся, кололи и стреляли безо всякого милосердия, штатских буянов или отправляли под замок, или, отобрав оружие и раскровянив им лица — что делалось не по злобе, а порядку и маленько забавы ради, отправляли по домам, строго потребовав с них присяги государю Николаю Павловичу. Многих таких смутьянов заставляли поставить на колеса и на полозья перевернутые кареты, убрать с мостовых разбросанный хлам. И по причине столь категорично принятых мер горожане проснулись утром и не услышали ничего, кроме скрипа дворничьих лопат и далекого звона петропавловских курантов. Хозяева, чиновники выходили на улицы, и только разбитые стекла витрин и фонарей напоминали им о вчерашнем неспокойном дне.
ЭПИЛОГ
Василий Сергеевич Норов узнал о бунте в Петербурге, когда был в Москве — не успел ещё доехать до родового своего имения. Едва узнал, да ещё с подробностями, — от приятеля своего, — как сразу же понял, что должен явиться с повинной к властям. Он правил страной два года, будучи членом того самого общества, что подняло мятеж, а поэтому встать рядом, перед судом, вместе со своими товарищами, Муравьевым и Бестужевым, являлось для него делом не геройским совсем, а попросту необходимым и простым, естественным и не требующим воздаяния даже со стороны собственной совести.
Его привезли в Петербург, предпроводили в Петропавловскую крепость, доставили в Комендантский дом, где Николай тогда присутствовал на допросах, чинимых следственной комиссией мятежникам. Едва Николай увидев Норова, пошатнулся, цепко схватился за спинку стула, боясь упасть. Из-за гроба к нему явился оскорбитель, тот, кто знал о слабостях его, возможно, больше, чем все другие люди! Нужно было бы сдержаться, но не сдержался:
— Ты был на площади?
— Нет, я только из Москвы.
— Тогда зачем ты здесь?
— Вы сами знаете…
— Нет, я ничего не знаю и знать не желаю! — вскрикрнул Николай. — Если ты не был в числе бунтовщиков, то тебе и незачем здесь быть. Значит, был, был, был!
Подбежал к Норову, пытаясь оправдать перед членами комиссии свою злобу, стал срывать с груди Василия Сергеевича ордена, топтал их, не слыша, как Норов с насмешливым хладнокровием говорил ему: «Святых топчете, ваше величество…» А когда Николай попытался сорвать и Железный Кульмский крест, Норов, багровея оспенными рытвинами, прорычал:
— Не дам! Не вами жалован!
Николай испугался — он осознал, что члены комиссии могут понять, узрев в лице Норова сходство с тем, кто ещё недавно был у власти, почему так безумствует их теперешний государь. А поэтому, оправив мундир, он небрежно сказал:
— Норова допрошу лично, а потом прямая ему дорога в Бобруйскую крепость. Оттуда он к нам явился…
Норов сидел в каземате Петропавловки, страдал от давних ран, потом его перевели в Бобруйскую крепость, арестантом, на каторжные работы. С густыми, но поседевшими волосами, которые уже не прореживал баронет Виллие, он никем не был узнан, хоть некоторые и говорили, что, будь он полысоватей, то очень походил бы на покойного государя Александра. Слышав такие речи, Норов обыкновенно смеялся и старался удалиться. И ещё он не любил вопросов, задаваемых иными простоватыми людьми: «А отчего же, брат, не отправили тебя вместе с другими в Сибирь?» В Бобруйской крепости Норов написал записки «О походах 1812 и 1813 года», в которых показал себя мастером военного исторического мемуара да ещё и ярким литератором. Воспоминания звали его на поле боя, а поэтому, согласно его просьбе, Норова перевели из крепости на Кавказ, в 6-й линейный Черноморский батальон, рядовым. Принимал участие в самых горячих сражениях с чеченами и в 1838 году вышел в отставку унтер-офицером, по болезни, а потом, как потребовал Николай, жил под надзором отца в имении Надеждино. Умер же в Ревеле, в 1853 году, куда поехал лечиться. На юг, за границу Николай его не отпустил.
Александр Павлович был выпущен из каземата, дав клятву Николаю, что никогда и ни при каких обстоятельствах он не объявит своего настоящего имени. Идти же ему при этом разрешалось, куда заблагорассудится. Еще не была установлена виселица на кронверке крепости и его начальник Беркгоф не научил недотеп-палачей, как смазывать салом веревки, чтобы петли легче скользили, а Александр в простой суконной, но опрятной одежде, с бородой, успевшей вырасти в каземате, уже брел подальше от его столицы, чувствуя великую тяжесть за своей спиной и несказанно приятную легкость впереди. Он переходил из города в город, из деревни в деревню, подолгу, добро беседовал с мещанами и крестьянами, с попами и торговцами, и каждый, кто разговаривал с ним, сам проникался какой-то удивительной бодростью и легкостью и, вздыхая, говорил потом своей жене перед сном:
— Вишь, есть же такие легкие люди, ну ажно пух или паутина!
И они замолкали, точно и сами не знали, как бы поточнее выразить переполнявшее их чувство.
Осенью 1836 года в Красноуфимске старец, прозывавшийся в народе Федором Кузьмичом, за бродяжничество был наказан двадцатью ударами плетью, после чего его выслали в Сибирь, в Томскую губернию в деревню Зерцалы, что близ города Ачинска. Здесь Федор Кузьмич прожил без малого двадцать лет, в народе был не только уважаем, но и почитаем, если не боготворим. Учил деток грамоте, разговаривал со всеми по-хорошему, много молился, толковал Священное писание. Жил же в келье, близ часовни. А в 1857 году, по весне, старец засобирался — покидал деревню. Вначале перенес из кельи в часовню образ Печерской Божьей матери и свое Евангелие, а потом пригласил всех крестьян на молебен. Пришедшие же были немало удивлены непонятным действием Федора Кузьмича, который после молебна, не говоря ни слвоа, взял да и поставил перед изумленными поселянами раскрашенный, сделанный из бересты вензель с буквой «А», с короною над ней и летящим голубком в месте буквенного перечерка. Потом сказал едва слышным голосом, тепло улыбаясь:
— Сей вензель храните пуще ока своего…
В пояс поклонился всем и пошел себе, забросив котомочку за плечи, и все, кто смотрел ему вслед, и плакали, и дивились, и жалели ушедшего старца, и никто не мог понять, на что намекал им Федор Кузьмич, устанавливая перед ними вензель российского царя, умершего больше двух десятков лет назад.
— С короною, глянь, титло! — сказал один из деревенских грамотеев, когда Федор Кузьмич скрылся за поворотом дороги.
И кто-то, словно сейчас прозрев, тихим шепотом, прикрывая ладошкой рот, молвил:
— А правда, бают, что и не помрет в Таганроге Александр Палыч? Так и Федор Кузьмич, может статься, коронованный, раз титло с короной выставил, а?
Все озадаченно помолчали, почесали в бородах, в затылках. Всякий был приятно возбужден: в Зерцалах — да вдруг сам государь!
Но приятную чувственность поселян вмиг прогнал всегдашний ерник Тимоха, который провел рукой по сопливому носу и сказал:
— Га-га! Ишь чего измыслили! Федор Кузьмич — да вдруг и государь. Да где ж вы, дурилки, коронованных странников видели? Такое ж токмо в страшном сне, когда много репы наешься али гороху, присниться может!
Эта фраза мигом все расставила по свои местам. Поселяне засуетились с легкой конфузией на лицах стали собираться по домам, шутили, смеялись, говорили о хозяйстве и о погоде, но каждый тайком взял да и бросил короткий, но жадный взгляд туда, где дорога уходила вбок, за пригорок. И всякий думал увидеть в последний раз коронованного странника в сером крестьянском армяке, идущего неспешной походкой куда-то в вечную жизнь.




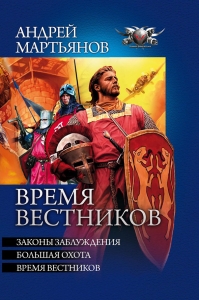



Комментарии к книге «Коронованный странник», Сергей Васильевич Карпущенко
Всего 0 комментариев