АИ • БИБЛИОТЕКА • BORA ЦИКЛ КНИГ • ОДИССЕЙ ПОКИДАЕТ ИТАКУ • КНИГА ТРЕТЬЯ РАЗВЕДКА БОЕМ
РАЗВЕДКА БОЕМ * * * АННОТАЦИЯ
Группа землян вынуждена вмешаться в противостояние двух могущественных космических цивилизаций, ведь ареной для этой «борьбы титанов» является Россия с ее чудовищным большевистским экспериментом.
Попытка исправить ситуацию, сложившуюся в своей «бывшей» истории заставляет героев романа отправиться в двадцатые годы, но уже в другую реальность Земли и начать свою, полную невероятных приключений игру. Смогут ли они создать новую Реальность, будет она устойчивой или превратится в "химеру"?
Что будет, если люди из нашего времени получат возможность помочь генералу Врангелю, из последних сил отбивающемуся от большевиков? Помочь не только деньгами и военными советами, но и оружием будущего.
И какова будет судьба альтернативной России, в результате такого исторического эксперимента оказавшейся поделенной на две части — северную большевистскую и южную врангелевскую?
Тем более, воевать придется на оба фронта, потому что симпатии к «белому движению» разделяют не все «новиковцы» — Левашов скорее на стороне «красных»…
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ПУТЬ КОНКВИСТАДОРОВ * * * Глава 1
Все проходит как тень, но время
Остается, как прежде, мстящим,
И былое, темное бремя
Продолжает жить в настоящем…
(Н. Гумилев).
В большой темноватой комнате, похожей своими высокими потолками, старинной мебелью, стенными панелями резного дуба и стрельчатыми окнами на холл аристократического дома или даже замка викторианской эпохи, находились два человека — мужчина и женщина. Она, одетая в сильно декольтированное атласное платье, сидела в кресле, подперев подбородок изящно изогнутой кистью руки и явно позируя, он — в рубашке с закатанными рукавами и белесых джинсах, короткими точными движениями кисти подправлял какие-то заметные только ему изъяны на почти готовом портрете.
Портрет получился интересный — вроде бы типично салонный, но с легким оттенком импрессионизма. Светлолицая и белокурая дама в бледно-лимонном платье на фоне темных драпировок выглядела особенно хрупкой и воздушной, ее изображение, словно голограмма, как бы выступало над плоскостью холста.
Видно было, что художнику нравится то, что у него получилось, и он, отложив кисть, собрался было потянуться, разминая затекшие мышцы, но вовремя опомнился — как можно при даме…
Эта сцена была бы вполне естественной и даже банальной, если бы действительно происходила в мастерской художника или в доме его заказчицы, где-нибудь среди холмов и вересковых пустошей старой доброй Англии. Но на самом деле мрачный прохладный холл был всего лишь должным образом стилизованной каютой на одной из верхних палуб океанского лайнера, за окном, если отдернуть шторы, не туманный осенний день, а солнечный летний вечер, и для того, чтобы естественно воспринимался камин с горящими в нем поленьями, кондиционер снижал тридцатиградусную жару до более подходящих к антуражу восемнадцати по Цельсию.
Ну, у богатых, как говорится, свои причуды. Куда как интереснее было бы узнать случайному очевидцу этой сцены, что молодая, похожая на графиню, а то и на герцогиню, чем черт не шутит, дама на самом деле — инопланетная пришелица, в недавнем прошлом — глубоко законспирированный резидент галактической суперцивилизации на Земле.
Впрочем, сейчас Сильвия была пусть и не простой, но обыкновенной женщиной, умнее, конечно, и красивее очень многих, но уже утратившей былое могущество.
— Долго еще, Алексей? — спросила она по-русски, но с едва уловимым акцентом, потому что по легенде действительно много лет изображала английскую аристократку. — Я уже устала…
— Минут пятнадцать еще, не больше, — ответил художник, — потерпи, пожалуйста, а то потом мне этот оттенок не поймать, уж больно интересно свет лежит…
— Хорошо, пятнадцать потерплю, раз сама напросилась. Никогда не думала, что позировать так утомительно. Но хоть разговаривать ты мне разрешаешь?
— Ради бога, только постарайся не менять позу.
Женщина вздохнула, легким движением губ и бровей изобразив полную покорность судьбе.
— Знаешь, Алексей, я давно уже собиралась с тобой поговорить откровенно. Раз у нас такие… доверительные отношения установились. С другими мне труднее, сам должен понимать. Как бы там ни было, я для них все-таки враг… — Она заметила протестующее движение Алексея и тут же поправилась: — Хорошо, не в полном смысле враг, мы вроде бы мирный договор заключили, однако и друзья твои, и их подруги ко мне как-то настороженно относятся. Один ты меня воспринимаешь естественно…
Художник с сомнением хмыкнул, но ничего не возразил, увлеченный работой.
— Нет-нет, не спорь, все так и есть. Я в людях хорошо разбираюсь, по долгу… своей бывшей службы. Ты из вашей компании самый толерантный. Наверное, профессия сказывается.
— Это какая же профессия? — снова усмехнулся Алексей.
— Твоя. Художник — человек творческий, должен уметь проникать в суть людей…
— Так я не только, а вернее, не столько художник. У меня живопись, можно сказать, хобби. На самом деле я по образованию офицер-десантник, а волею судьбы сподобился повоевать чуть ли не в маршальских чинах. Причем — довольно успешно. Военный же человек, наоборот, к сантиментам не склонен и предпочитает воспринимать мир и людей в черно-белом изображении. Так и ему проще, и для дела полезнее…
Говорил все это Алексей шутливым тоном, но чувствовалось, что не очень он и шутит.
— Не наговаривай на себя, — возразила Сильвия, — я лучше знаю. Иначе не стала бы делать то, что сделала…
Алексей отвел глаза. Очевидно, последние слова женщины его смутили. Это тоже было странно — мужественное, временами даже суровое лицо художника не давало оснований заподозрить в нем способность по-юношески смущаться от вроде бы невинных слов.
— А чем же тебе Сашка Шульгин плох? — спросил Алексей, старательно смешивая краски на палитре. — У вас с ним, кажется, тоже полное взаимопонимание…
— Никто из вас не плох, просто у каждого свой характер и в силу этого разное отношение ко мне. Да, вышло так, что судьба наиболее тесно свела меня именно с Шульгиным… — Сильвия улыбнулась несколько натянуто. — Только… Ты своего друга лучше меня должен знать. Он ведь, даже если сам это до конца не понимает, никак не может мне простить того, что случилось в Лондоне. И что бы он сейчас ни говорил и что бы почти искренне ни думал, он старается играть по отношению ко мне роль этакого римского триумфатора, заполучившего в наложницы побежденную принцессу.
Алексей с удивлением отметил точность и четкость ее анализа. Он и сам ощущал нечто подобное в поведении Сашки, когда тот бывал рядом с Сильвией. А впрочем, чему тут удивляться? Дама она более чем умная, а оказавшись в положении «варварской принцессы», попавшей в лапы недавнего врага, должна особенно остро воспринимать все оттенки слов и поступков окружающих.
— Вообще-то для меня все это не так уж и важно, — пожав плечами, продолжала женщина. — После того, как я лишилась всего, не только «положения в обществе», — последние слова она произнесла с оттенком иронии, хотя Алексей знал, что положение ее и вправду было более чем значительное, — но и родины, да что там родины, вообще всей реальности, в которой существовала, много ли значит отношение ко мне какого-то человека? Не бьют, кормят вовремя — уже слава богу…
— Ну, ты совсем в минор ударилась, — сказал Алексей, откладывая палитру и кисть. — Случилось то, что случилось, а на нас тебе вообще грех жаловаться…
— Так я же и не жалуюсь, — мило улыбнулась Сильвия. — Я просто объясняю, каково реальное положение дел.
Она встала с кресла, обеими руками убрала с лица длинные пряди распущенных по замыслу художника золотистых волос.
Алексей смотрел на ее высокую и тонкую фигуру, кажущуюся еще выше и стройнее из-за длинного, до самого пола платья, на загорелую грудь, открытую глубоким вырезом декольте не меньше, чем в самых смелых современных купальниках, и вновь почувствовал, кроме понятного влечения к этой необыкновенной женщине, еще и особого рода любопытство.
Тем более что Сильвия вновь затеяла с ним свою эротическую игру, ту самую, с которой началось их близкое знакомство. Двигаясь по каюте, она вдруг на неуловимое мгновение замирала, фиксируя ту или иную позу — словно манекенщица на подиуме или фотомодель при щелчке затвора. И тут же вновь начинала двигаться текуче и плавно, до следующего стоп-кадра, распространяя вокруг ауру завуалированной и в то же время вызывающей сексуальности.
И снова Берестин попался на крючок, хотя и знал уже этот прием, и был не мальчишкой, а тридцатисемилетним, много пережившим и повидавшим мужчиной, и с обнаженной натурой работать ему было не в новинку.
Сильвия подошла к окну и отдернула плотную шелковую штору. По стеклам, обгоняя друг друга, бежали струйки дождя, а близкий берег скрыла туманная дымка.
— Наконец-то, — произнесла женщина с облегчением. — Знал бы ты, как надоедает это солнце и вечно голубое небо.
Здесь Алексей ее хорошо понимал. Он и сам терпеть не мог погоду солнечную и безветренную, предпочитая всяческие природные катаклизмы, будь то снежная пурга или летний дождь с грозой.
— Если ты не торопишься, — сказала Сильвия, поворачиваясь к художнику, — мы могли бы выпить чаю. Как раз время файф-о-клока. Тем более я хочу тебя кое о чем расспросить.
— Великолепно! — обрадовался Алексей. — У меня аналогичное желание. Столько в тебе непонятного для меня, а поговорить откровенно никак не получается.
— Договорились. Только сначала буду спрашивать я. Позволено даме это маленькое преимущество?
— Безусловно.
Предоставив ей заняться приготовлениями, Берестин скрылся в ванной. Оттирая специальной пастой испачканные масляной краской руки, он воображал, что и как у него сейчас произойдет с Сильвией. Он не был чересчур сексуально озабочен, просто за последние полгода, кроме одного, и то не слишком достоверного случая, с женщинами дела ему иметь не приходилось. Если, конечно, не считать сорок первого года. Там, хоть и был он в чужом теле, но с девушкой Леной любовь случилась самая настоящая. Но все-таки — для комкора Маркова. А для него — словно воспоминание о ярком сне…
Алексей представил, что сейчас он появится в холле, а там его будет ждать Сильвия — в каком-нибудь зеленовато-золотистом, отливающем, как надкрылья майского жука, халате, то ниспадающем свободными складками, то вдруг прилипающем к телу, как мокрый шелк. Воображение у него было богатое, и возбудился он достаточно, поэтому картина виделась ему чрезвычайно реально. Она опустит руки, халат распахнется, а под ним — наряд стриптизерки. Длинные чулки, кружевной пояс с резинками, черно-красное, тоже кружевное белье, туфли на высоченных шпильках…
«Вот ерунда, — подумал Алексей, пока еще сохраняя способность теоретизировать. — Ведь явная пошлость же, а все равно волнует. Что-то здесь есть выходящее за пределы здравого смысла. Мало я тех же натурщиц видел во всех позах…»
Он вытер руки махровым полотенцем, еще раз внимательно осмотрел свое отражение в зеркале, зачем-то подмигнул и, пожав плечами, вышел в каминный зал.
И понял, что ошибся. Сильвия сделала нечто совершенно противоположное. Она ждала его, опираясь спиной о дверной косяк, в строгом костюме из василькового, под цвет глаз, велюра. Сильно приталенный жакет, узкая юбка по колено с разрезами по бокам. И туфли были такие же васильковые, с золотыми блестками, узкие ремешки оплетали голени почти до колен. Светло-бежевые кружевные чулки из какого-то искрящегося материала. Она даже прическу поменяла, то есть сняла парик, чуть взбила короткие, едва закрывающие уши, волосы и выглядела теперь моложе и естественнее.
Эффект получился куда больший, чем в ожидаемом Алексеем варианте.
Сильвия это поняла, но ответила на его восхищенный взгляд только медленным взмахом длинных ресниц.
— Чай я приготовила в другой комнате. Пойдем…
Она повела Берестина сначала полутемным коридором, потом по узкой деревянной лестнице. Походка у нее было специально отработана для таких случаев, легкая, летящая, с плавным покачиванием бедрами, а по трапу она шла так, что Алексей вообще не мог отвести глаз.
В небольшой уютной комнате Сильвия накрыла инкрустированный перламутром столик в чисто британском стиле. Серебряный чайник с кипятком и еще один, поменьше, с заваркой. Два кувшинчика — с молоком и сливками. Нарезанный лимон, тарелка с сырами, сахарница, трехсотграммовая бутылка бренди, пепельница. И букет нежнейших хризантем непередаваемого бледно-фиолетового оттенка в хрустальной вазе.
Сильвия села в кресло напротив Алексея, непринужденно забросила ногу на ногу таким выверенным движением, что край юбки пришелся ровно на сантиметр выше края чулка.
«Интересно бы получилось, если б Сашка сейчас вошел», — подумал Берестин и спросил Сильвию, не опасается ли она такого варианта.
— Ну, во-первых, мы пока с тобой не в постели, а во-вторых, это все-таки ваши с ним проблемы, не мои. — Но, увидев его протестующий жест, успокоила: — На вашем пароходе такое количество помещений, что найти в них человека против его воли практически невозможно. И Шульгин здесь еще ни разу не был. Мы с ним встречались в других местах… Однако давай оставим эту скучную тему. Я хотела поговорить совсем о другом. Мы знакомы уже скоро месяц, с того печального дня, когда Шульгин доставил меня из Лондона в качестве «военнопленной». — Она иронически, но и с нескрываемой грустью покачала головой. — С тех пор я все время анализирую, как все это вообще могло произойти. А информации мне не хватает. И картинка, как любит выражаться ваш предводитель Новиков, в одно целое не складывается.
— Андрей нам не предводитель. Он, скорее, первый среди равных, — счел нужным возразить Алексей. — Или, если угодно, по распределению ролей — генератор идей, и не больше…
Сильвия ничего не ответила, только вновь качнула головой и уронила на глаза косую пышную прядь.
— Так вот, чтобы нам впредь больше не возвращаться к нашим баранам и беседовать «без гнева и пристрастия», не разъяснил бы ты мне конспективно, но доходчиво, как вся эта история вообще началась, какую роль кто исполнял, откуда появился тот, кого вы называете Антоном… Вот хотя бы это для начала.
— Запросы у тебя… — потер ладонью подбородок Алексей. — Мы и сами очень многого до сих пор не знаем и не понимаем… Впрочем, попробовать можно. При условии, что ты меня в свою очередь просветишь. Бог даст, кое-как и разберемся, что почем…
Он устроился в кресле поудобнее, достал из нагрудного кармана длинную и тонкую сигару зеленовато-соломенного цвета, взглядом спросил у хозяйки разрешения, тщательно ее раскурил и только потом произнес задумчиво-доверительным тоном: — Итак, я родился в Кордове… — Заметив недоуменную гримаску на лице своей визави, пояснил, окутываясь голубыми, остро пахнущими клубами дыма: — Был во времена нашей молодости такой фильм, «Рукопись, найденная в Сарагосе», с Цибульским в главной роли. Там герой начинает рассказывать историю о человеке, который рассказывает свою историю, персонаж которой тоже рассказывает новую историю, и так далее… Сюжет в стиле русской матрешки. По-моему, уровней двадцать там было, и в конце концов ни один зритель уже ничего не понимал. Чудный фильм, я его раз шесть смотрел. Предыдущая фраза — оттуда. С нее начинается одно из самых интересных приключений…
Глава 2
Алексей Берестин действительно был в молодости офицером воздушно-десантных войск, хотя и дослужился только до командира роты. Но служил хорошо, за участие в боевых действиях против сепаратистов (а может быть, и истинных патриотов) в одной далекой, но «дружественной» стране был даже награжден медалью «За отвагу» и каким-то латунным местным орденом. А потом стал профессиональным художником, и тоже неплохим. В кругах московской богемы слыл конформистом, потому что писал преимущественно романтические городские пейзажи «с настроением», к андерграунду относился без интереса, ни в каких «бульдозерных выставках» не участвовал, зарабатывал достаточно на безбедную жизнь холостяка без особых запросов и был уверен, что ничего чрезвычайного до самой смерти с ним уже произойти не может. И лишь иногда его одолевали сомнения — не совершил ли он ошибки, уволившись из армии? Особенно, когда встречал вдруг старого сослуживца с полковничьими погонами на плечах. Но сомнения быстро проходили, стоило лишь представить, какую цену пришлось бы за подобные погоны платить. Выходило, что на свободе все же лучше — абсолютная независимость и возможность делать только то, что хочешь, приличная мастерская в центре Москвы и всегда десятка-другая в кармане, позволяющая не слишком заботиться о дне грядущем… Чего еще желать в этой быстротекущей жизни?
И уж никаким образом ему не могло прийти в голову, что ждут его в самом ближайшем будущем приключения более чем невероятные, затрагивающие судьбы не только человечества, а целой Галактики, по меньшей мере. Причем ему в этой странной истории отводится роль… Нельзя сказать, чтобы главная, но особенная. Как у запала, от которого детонирует огромной мощности фугас.
Началось все до удивления просто — гуляя как-то по московским улицам, он встретил молодую женщину, поразившую его своей необыкновенной внешностью. Познакомился при довольно странных обстоятельствах, а потом, пожалуй, и влюбился. Да нет, то чувство, что у него возникло к Ирине, следовало бы назвать как-то иначе… Одним словом, он потерял голову, причем настолько, что не особенно удивился, когда она призналась, что представляет на Земле высокоразвитую инопланетную цивилизацию, и попросила выполнить ее маленькую просьбу. Всего-то и дел, что сходить на несколько часов в прошлое, в тысяча девятьсот шестьдесят шестой год и сделать там кое-что, по сути дела, мелочь, но мелочь, от которой зависит чуть ли не существование всей Галактики. Самое смешное, что он действительно побывал в прошлом и все, что от него требовалось, исполнил. И вот тогда…
— Скажи, — спросил он Сильвию после этого краткого вступления, — что там у вас случилось, почему вы вдруг набросились на бедную Ирину, как те самые ежовские энкавэдэшники? Неужели нельзя было разобраться спокойно?
Сильвия вздохнула, чуть заметно дернула плечом.
— Как интересно сравнивать, насколько по-разному выглядят одни и те же события с разных точек зрения. Поставь теперь себя на мое место. Я — резидент, отвечающий за целую планету, у меня масса действительно серьезных дел, о которых твоя Ирина, всего лишь рядовой агент-координатор, понятия не имела и не имеет. И вот я получаю сообщение, одно наряду с сотнями гораздо более важных, что в Москве, курируемой совсем юной агентессой, по сути — практиканткой, происходят некоторые странности. Не слишком существенные, но все равно непорядок. Я посылаю туда двоих контролеров — выяснить, в чем дело, оказать помощь, если нужно, или принять иные меры по их усмотрению. И вдруг происходит невероятное — мои сотрудники сталкиваются с противодействием, причем на уровне, превосходящем человеческие возможности. Их выбрасывают с Земли, и не куда-нибудь, а на нашу же базу, расположенную в полусотне парсеков отсюда. Что я должна была подумать? Вдобавок один агент погибает, а уцелевший сообщает, что «Ирина» вступила в сговор с неизвестной «третьей силой». Потому третьей, что со второй, так называемыми «форзейлями», нашими традиционными противниками, мы давно поддерживали неофициальные, но подчиняющиеся определенным правилам контакты. Как разведчики воюющих стран на нейтральной территории, вроде Швейцарии, например…
Сильвия наклонилась вперед, чтобы долить себе в чашку свежего чая, и юбка сдвинулась еще на пару сантиметров. Алексей отвел глаза, хотя и не увидел ничего особенного. Черная пластиковая застежка, самый кончик кружевной резинки и узкая полоска белой кожи выше края чулка.
Еще один вопрос, который занимал его чуть не всю сознательную жизнь. В чем хитрость? Буквально вчера он видел эту же Сильвию в компании остальных девушек, загорающую в шезлонге. Все они были в купальниках «топлесс». И не вызывали никаких эмоций, кроме чисто эстетических. А сейчас… Очевидно, здесь срабатывает какая-то инстинктивно-генетическая программа. Ситуативно женщина на пляже не должна восприниматься вне означенной роли. И не воспринимается. А наедине, в соответствующей обстановке, малейшее отклонение от принятой в данный момент нормы закрытости тела срабатывает как пусковой сигнал. Когда он был школьником и порыв ветра поднимал девушке юбку выше колен — это же было событие! А через два года настала пора мини, и подсознанию потребовались уже иные стимулы…
— Понятно, — заставил он себя отвлечься от посторонних мыслей. — Антон нам тоже кое-что подобное излагал. Но ты, получается, и так все знаешь, к чему же расспросы?
— Знаю я далеко не все. И в другом преломлении, — ответила экс-резидент, будто и не замечая непорядка в своем туалете. Она его даже еще чуть усугубила.
Берестину поневоле нужно было делать выбор, по-прежнему интересоваться проблемами мирового значения или переключиться на сиюминутные. И вообще интересно — в чем смысл ее тактики? Она сама-то как — действительно хочет восстановить смысл и последовательность событий, лично для него уже потерявших актуальность, либо просто пытается его соблазнить? А если да, то зачем? Чтобы получить нормальное удовольствие или добиться каких-то тайных целей?
Первое и второе не требуют столь тонкой игры. На первое он уже согласился, да и от второго вряд ли стал бы категорически отказываться. А о третьем варианте стоит задуматься, тем более что для этого все равно придется уступить ее деликатным намекам.
— А чего там особенно знать? После возвращения из шестьдесят шестого, сопряженного, правда, с некоторыми осложнениями, мы какое-то время прожили спокойно… — Он не стал акцентировать внимание на том, что вернуться в свою реальность ему удалось лишь через четыре месяца, да и то при помощи старого друга — любовника Ирины, Андрея Новикова, с которым она рассталась года за три до описываемых событий, а потом вдруг встретилась вновь, похоронив надежды Берестина на почти уже состоявшуюся взаимность.
— Спокойно прожили, — с непонятной интонацией повторил он, — пока твои орелики не объявились. Вот тогда все и завертелось… Практически все события уложились в неделю. Налет ваших агентов, появление Воронцова, уход на Валгаллу…
— Подожди, — вновь остановила его Сильвия. — Об этом я почти ничего не знаю, разве что по отрывочным разговорам в Замке. Как и почему все произошло?
— Да тоже как-то так… Зажали ведь вы нас крепко. Сначала те двое, потом нападение на квартиру Левашова, на Воронцова в метро. Антон, с которым Воронцов был давно знаком по журналистским делам и который вдруг тоже оказался пришельцем, ненавязчиво подвел нас к идее передислокации на Валгаллу, оказал необходимое содействие. Нам особенно выбирать не приходилось, а тут такое заманчивое путешествие. Там и в самом деле неплохо было, — в голосе Берестина прозвучала мечтательная грусть. — С аборигенами познакомились, подружились, можно сказать. Опять с вашими воевать пришлось. После танкового сражения в плен мы с Андреем попали. Очередная дама тамошняя тоже, наверное, резидент вроде тебя, нам предложила выбор — или мы начинаем работать на нее, или… — Алексей махнул рукой. Вспоминать о том разговоре ему было неприятно. Что ни говори, они тогда капитулировали. Хоть и не слишком испугавшись, но не пожелав обещанной им, весьма неприятной в случае несогласия участи.
— А вот об этом поподробнее, пожалуйста! — Сильвия неожиданно взволновалась, резко поднялась с кресла, оперлась руками о его высокую спинку. Берестин и не ожидал от нее такой несдержанности. Дела давно минувших дней, казалось бы.
— Ну, дама была весьма эффектная. Постарше тебя, пожалуй, попышнее несколько, но весьма пикантная. Похожа скорее на итальянку. Этакая сорокалетняя Лоллобриджида… Звали ее Дайяна. В переводе на русский — Диана, наверное.
— Дама меня как раз меньше всего интересует, — прервала его воспоминания Сильвия. — Что она вам предложила и что было дальше?
Берестин рассказал, как их переправили в виде субатомных матриц обратно на Землю, теперь уже в сорок первый год, и поместили в чужие тела, его — в командарма Маркова, а Новикова — в самого Сталина. С задачей переиграть Вторую мировую войну и тем самым кардинально изменить ход истории. И они эту задачу почти что выполнили, только вот Антон раньше времени их оттуда извлек и перенес в Замок… После чего была взорвана какая-то информационно-энтропийная бомба, и все кончилось. Для цивилизации аггров…
Когда он произнес слово, которым Антон называл соотечественников Сильвии, она поморщилась, будто светская дама, услышавшая флотский загиб. Может, действительно это просто придуманная форзейлями непристойная или крайне оскорбительная кличка для своих противников? Но сказать ничего не сказала. Помолчала несколько секунд, осмысливая услышанное. Чтобы пауза не выглядела слишком нарочитой, взяла с тумбочки причудливый, в стиле «модерн», бронзовый подсвечник, поставила на стол, зажгла толстые витые свечи.
— Я об этой истории ничего не знала, — сказала она, вновь опускаясь в кресло. — Да и когда б успела? По земному времени все заняло меньше недели. Но выглядит куда как странно. Мало того, что столь радикальное вмешательство в земную историю никак не могло осуществиться без самого детального обсуждения со мной, оно в описанной тобой форме просто не имеет смысла. Ни практического, ни физического. Непонятна роль вашего «друга» Антона. Уж его-то я знаю много лет. Каким образом он смог бы организовать изъятие ваших матриц, находясь на Земле, если они управлялись с Таорэры?
— Он объяснял…
— Ты тоже можешь объяснять папуасу, будто телевизор работает потому, что в нем поселились духи, — презрительно фыркнула Сильвия, не обратив внимания на оскорбительность своих слов для Алексея. — Нет, тут в самом деле есть о чем подумать…
«А не хватит ли дурака валять?» — мелькнуло в голове Берестина. Мало того, что дамочка то и дело сверкает своими прелестями, так еще и хамить начала. Это еще разобраться надо, кто тут папуас.
— Тебе не кажется, что раз уж у нас ситуация Шахразады, хоть и с обратным знаком, так и продолжение должно быть в том же ключе?
— А ты действительно этого хочешь? — Сильвия словно бы даже удивилась его словам и в то же время как-то поособенному зазывно взмахнула ресницами…
Он обошел стол, взял в руки ее узкую прохладную ладонь. В самом деле, сколько можно заниматься скучной болтовней, если все так просто — уютная комната, дрожащие огоньки свечей, тихая музыка, красивая, заведомо на все согласная женщина. Совсем у него крыша поехала, что ли?
Он обнял бывшую инопланетянку за талию, повернул к себе, медленно приблизил губы к ее приоткрывающимся губам. Она тоже подалась вперед, запрокидывая голову и прижимаясь к нему животом и бедрами, привставая на цыпочки и обвивая руками его шею. Целовались долго и увлеченно, словно охваченные первой страстью юные влюбленные.
Алексей даже и не заметил, как они оказались на широком диване в смежной комнате. Падающий сквозь проем двери дрожащий свет только-только позволял различать черты ее лица с прикрытыми длинными ресницами глазами. Обнимая податливое тело Сильвии, расстегивая тугие кнопки прозрачной блузки, целуя приподнятые жесткими кружевными чашками полушария, Берестин не сразу сообразил, какой этюд она с ним разыгрывает. Но все-таки понял, не семнадцать же лет ему. Аггрианка исполняла роль добродетельной жены, впервые в жизни решившейся на супружескую измену. Она то уступала домогательствам соблазнителя, то вдруг спохватывалась и начинала осторожно сопротивляться. Отталкивала слишком уж бесцеремонно проникающие под одежду руки, начинала шептать протестующие, возмущенные слова, прерываемые, впрочем, чересчур страстными вздохами, и тут же сама припадала к его губам своими, мягкими и требовательными.
Алексея такая игра тоже захватила. Слишком она отвечала его собственной склонности. Что за интерес, если партнерша торопливо, как в бане, раздевается и ныряет под одеяло с заранее обдуманным намерением.
Когда он, преодолевая сопротивление, сумел наконец сдвинуть вверх узкую, даже, кажется, лопнувшую при этом по шву юбку и начал на ощупь искать застежки пояса, Сильвия вдруг оттолкнула его, откинулась на спинку дивана, царственным (каким аристократки былых времен подавали для поцелуя руку) движением протянула Алексею стройную, прекрасного рисунка и невероятно длинную ногу. Вновь придя в себя, усмехнувшись даже, Берестин отщелкнул пряжки на ремешках туфель. А усмехнулся он оттого, что вспомнил давний-давний, но почти аналогичный случай. Запутавшись в многочисленных, по тогдашней моде, крючках и пуговичках интимных деталей туалета очередной подружки, курсант-первогодок Леша даже выругался от отчаяния: «Да где ж оно расстегивается?» — и услышал в ответ задыхающийся шепот: «Ой, ой, не надо, пожалуйста… Вот здесь…»
Женская одежда с тех пор значительно усовершенствовалась, и прежних затруднений Берестин не испытывал, однако Сильвия еще раз изобразила отчаянную попытку «сохранить целомудрие». И лишь когда физические и моральные силы, а главное, воля к сопротивлению оставили ее, несчастная женщина, зажмурив глаза и очень натурально дрожа и всхлипывая, позволила освободить себя от последней, пусть и символической, защиты.
— А кого из нас ты хочешь? — спросила вдруг Сильвия ясным голосом, когда они, наконец, лежали рядом, и его ладонь плавно скользила вдоль ее тела от груди к крутому изгибу бедра.
Берестин сквозь зубы выругался. Это она вспомнила их прошлое свидание, когда, зная о его так и не избытой тоске по Ирине, отдавшей предпочтение другому, Сильвия каким-то непостижимым образом сумела внушить Алексею, что она и есть та самая Ирина. И он любил ее со всей копившейся весь бесконечный год страстью и понял, что ошибся, лишь когда все кончилось и аггрианка сняла свое наваждение.
Трудно передать чувство, испытанное им в тот момент, но Сильвия объяснила, что провела всего лишь сеанс психотерапии и теперь он свободен от мучительного комплекса.
Самое смешное — она оказалась права, и с тех пор Алексей смотрел на свою бывшую любовь спокойно, и не сжималось у него сердце от тоски и зависти, когда вдруг доводилось увидеть Новикова, выходящего утром из ее каюты.
— Ну уж нет, — прошептал он. — То — дело прошлое. Теперь я хочу узнать, что ты собой представляешь «о натюрель»…
В своем выборе он не ошибся. Сильвия в естественном виде оказалась гораздо темпераментнее и изощреннее Ирины. Берестин испытал ощущения, которых ему не доводилось переживать за все свои двадцать лет общения с женщинами, хоть было их у него достаточно. И опытных, и не очень.
Но только вот еще какую он понял разницу: Ирину он любил, а с Сильвией — занимался любовью.
Потом она, смахнув пот со лба и поправив растрепанные волосы, села, подоткнув под спину пышную подушку и накинув на бедра край простыни.
Алексей, лежа на спине, курил, приходя в себя после чересчур бурного апофеоза страсти.
— Ну, а как ваш Антон объяснил вам необходимость моего пленения? — спросила вдруг Сильвия совершенно спокойным и деловым голосом.
— Для тебя это важно теперь, когда все давно в прошлом?
— В прошлом ли? Ты так в этом уверен?
Он смотрел на ее лицо снизу вверх, и оно показалось ему сухим и жестким, как у командира подводной лодки в момент торпедной атаки.
И это же вдруг внушило ему непонятную надежду. Неизвестно на что.
— А если уточнить?
— Уточнять пока нечего. Есть только сомнения и определенные мысли по этому поводу. Слишком странны поступки вашего друга Антона…
Здесь он не мог с ней не согласиться.
— Тогда что ты можешь предложить?
— Пока — только одно. Давай заключим союз.
— Союз? Зачем и против кого?
Сильвия рассмеялась, непринужденно и весело.
— Русский есть русский. Не против, совсем не против. Для достижения общих целей. Я проиграла все, вы — не берусь утверждать, но, похоже, тоже немало. Давай вместе и разбираться. Почему именно тебе я делаю предложение? Так это очевидно. У вас все — с кем-то. Ирина с Новиковым, Воронцов с Наташей, Левашов с Ларисой. Андрей, Олег и Сашка старые друзья, Дмитрий и Олег тоже друзья и сослуживцы, только ты — сам по себе…
Анализ Сильвии показался Берестину интересным и убедительным. Она совершенно права, только он, один из всех — сам по себе.
— Так что из этого?
— Можно сказать, что и ничего особенного, а можно… — Сильвия опустилась ниже, вытянулась на постели, придвинулась так, чтобы коснуться Алексея животом и бедрами.
— Давай мы тоже будем вдвоем против известных и неизвестных опасностей и проблем. Будем друзьями…
— Товарищами в борьбе, — по неистребимой склонности иронизировать, добавил Алексей.
— Если угодно, — не поняла или не приняла иронии Сильвия. Погладила его ладонью по щеке, опираясь на локоть, качнула перед глазами упругими, как теннисные мячи, полусферами груди.
— А ты как думаешь, мужчина и женщина, особенно после того, что уже было, могут оставаться друзьями?
— Почему же и нет? — искренне удивилась Сильвия. — Для дружбы главное — общность взглядов и интересов. А если к тому же еще имеется возможность подарить друг другу наслаждение… Разве это может помешать? Мне кажется — напротив…
— Да, интересная точка зрения, — только и смог ответить на это Берестин. А Сильвия, ловя губами его губы, тут же попыталась подтвердить правильность своих слов практическими действиями.
Алексей нашел в себе силы отстраниться.
— Постой-ка, друг, товарищ и брат… Успеется. С Сашкой как ты намерена разобраться?
Сильвия снова села, резко оттолкнувшись от его плеча.
— Ты что, сцены ревности собираешься устраивать? Не рановато ли?
— Какая ревность, о чем ты, красавица? У нас же дружба, ты забыла! Мне просто хочется уточнить вопросы протокола…
— Тогда это целиком мои проблемы. Для наших… деловых встреч всегда найдется и место и время.
— Чудесно. При таком раскладе мне нечего возразить. Осталось только спросить — как, по твоему мнению, Антон действительно вытолкнул нас сюда, чтобы мы спокойно жили в подаренной нам Реальности, или?..
— Хотела бы ответить иначе, но кажется, что или… Не те существа твои друзья форзейли, чтобы закончить столь банально. И вообще у меня крепнет подозрение, что все происходящее имеет совсем другой смысл и значение. Не было уничтожения моей Реальности и моей цивилизации. Случилось нечто другое…
— Эх, — протяжно вздохнул Берестин. — Когда ни помирать, все равно день терять… Завтра Андрей пойдет на контакт с генералом Врангелем. Интересно, есть теперь в этом толк или плюнуть на все и действительно гнать в южные моря? Загорать будем, купаться, на досках плавать научимся, а выпивки в погребах до белой горячки элементарно хватит…
Сильвия резким движением не по-женски сильной руки опрокинула Берестина на спину. Тряхнула головой, обрушив ему на лицо волну своих волос, пахнущих какими-то экзотическими растениями. Раскрытыми мягкими губами и языком коснулась начинающей уже колоться, с утра не бритой щеки.
— Дружок ты мой, — отчего-то вдруг с интонацией владимирской или ярославской бабы прошептала она. — Делай, что должен, свершится, чему суждено…
Переход от среднерусской тональности к чеканной фразе Марка Аврелия в устах английской аристократки был настолько забавен, что Алексей не удержался от смеха, несмотря на вновь неудержимо охватившее его желание.
— И пусть вас не беспокоят эти глупости, — успел он еще достойно завершить ее фразу и лишь после этого позволил аггрианке дать волю своим низменным инстинктам.
Глава 3
Правитель Юга России и Главнокомандующий Русской армией (до недавнего времени она называлась Вооруженными силами Юга России) генерал-лейтенант барон Петр Николаевич Врангель пребывал в несколько противоречивом и даже смятенном состоянии духа. Он сидел на террасе своего Севастопольского дворца, любуясь мрачной, вагнеровской картиной догорающего над морем заката, где солнце садилось в нагромождение синих, серых, розовато-черных туч, радужными переливами набегающих на берег волн и сумеречной зеленью вплотную подступающего к решетчатой балюстраде сада, и время от времени отщипывал крупные виноградины от свисающей с края вазы тяжелой грозди. Врачи после перенесенного тифа рекомендовали есть как можно больше винограда. Липкую сладость черных, подернутых синеватым налетом ягод он запивал терпко-кислым «Ай-Данилем» и мысленно продолжал недавно закончившийся разговор с генералом Шатиловым.
Шатилов, его старый друг и соратник, единственный генерал в белом движении, которому Врангель безоговорочно и полностью доверял, обычно настроенный крайне скептически, сегодня был полон оптимизма.
«Мы сами не отдаем себе отчета в том чуде, которого мы свидетели и участники, — говорил Павел Николаевич, тридцатидевятилетний генерал от кавалерии, начальник штаба армии. — Ведь всего три месяца тому… как мы прибыли сюда. Не знаю, верил ли ты в возможность успеха, принимая командование армией, а что касалось меня, я считал дело проигранным окончательно. С тех пор прошло всего три месяца… А теперь… Что бы ни случилось в дальнейшем, честь национального знамени, поверженного в прах в Новороссийске, восстановлена, и героическая борьба, если ей суждено закончиться, закончится красиво.
Но нет, о конце борьбы речи быть не может. Насколько три месяца назад я был уверен, что она проиграна, настолько теперь уверен в успехе. Армия воскресла, она мала числом, но дух ее никогда не был так силен. В исходе кубанской операции я не сомневаюсь, там, на Кубани и Дону, армия возрастет и численно. Население сейчас с нами, оно верит нашей власти, оно понимает, что мы идем освобождать, а не карать Россию. Поняла и Европа, что мы боремся не только за свое русское, но и за европейское дело. Нет, Петр, о конце борьбы сейчас думать не приходится, надо думать только о победе…»
Врангель не спорил, он тоже хотел бы думать так же. И, казалось, для этого были все основания. Совсем недавно, прижатая к морю на последнем клочке родной земли, армия умирала. Конец казался неизбежен всем, и прежде всего — бывшим союзникам, уже готовым признать большевиков единственной законной властью. А теперь войска победоносно движутся вперед. Воскресшие духом, очистившиеся в страданиях русские полки вновь идут на север, неся с собой порядок и законность. И народ восторженно встречает освободителей. Да и так называемый цивилизованный мир опять начинает видеть в борьбе русских героев решающий фактор европейской политики. Особенно когда красные полчища стоят у стен Варшавы! И откровенно провозглашают своей целью Берлин и Париж!
Однако, веря в победу и страстно ее желая, Врангель здраво оценивал положение. И думал, глядя на карту, как ничтожен маленький клочок свободной от красного ига русской земли по сравнению с необъятными пространствами залитой большевистской нечистью России. Как бедна свободная Россия по сравнению с теми, кто захватил ее несметные богатства. Какое неравенство пространства, сил и средств обеих сторон! Ежедневно редеют ряды Русской армии, раненые заполняют тыл. Лучшие, опытнейшие офицеры выбывают из строя, и заменить их некем. Изнашивается оружие, иссякают огнеприпасы, приходит в негодность техника. Без них армия бессильна. Приобрести все это нет средств. Экономическое положение становится все более тяжелым. Хватит ли сил дождаться помощи, придет ли она вообще и не потребуют ли те, кто ее даст, слишком дорогую плату? А на бескорыстную помощь мы рассчитывать не вправе… В политике Европы тщетно было бы искать высшие моральные побуждения. Этой политикой руководит исключительно нажива…
Возбужденный собственными мыслями, генерал резко поднялся с места, так что упал плетеный камышовый стул. Несколько раз прошелся по веранде, взметывая быстрыми шагами полы черкески.
Доказательств измены «союзников» искать недалеко. Всего четыре дня назад Врангель получил сообщение, что из Одессы под конвоем французского миноносца вышел курсом на Геную советский пароход с пятью тысячами тонн хлеба. И это при том, что Англия и Франция неоднократно заявляли, что никому не позволят нарушить блокаду советских портов. Всюду предательство и обман!
Врангель остановился у заплетенной плющом балюстрады, закурил, сломав несколько скверных, воняющих серой и не желающих загораться спичек. В густеющих сумерках светились редкие огни кораблей на рейде. В полуверсте от берега генерал нашел глазами высокобортный белый пароход, большой даже в сравнении с замершей неподалеку громадой линкора «Генерал Алексеев». Говорят, что американский. Якобы по торговым делам. Пришел два или три дня назад. Узнать точнее было недосуг, Врангель только вчера вернулся с фронта. Да и не дело Главнокомандующего контролировать каждый входящий в гавань корабль. Хотя как сказать. В его-то положении… Англо-французы осуществляют негласный бойкот Крыма, а тут вдруг пришел пароход из ни от кого не зависящей Америки. Надо бы поинтересоваться, не удастся ли через них как-то помочь тысячам семей погибших офицеров, буквально пропадающим без всяких средств к существованию. Решив не медлить, чтобы завтра за суматохою дел не забыть, генерал взял со стола звонок, встряхнул, вызывая адъютанта.
Но не успел еще язычок звонка дважды ударить о серебряные стенки, как на пороге уже возник болезненно-бледный поручик с левой рукой на черной косынке. Словно угадал мысль Главнокомандующего.
— Ваше высокопревосходительство, у вас просит аудиенции господин Эндрью Ньюмен, владелец парохода «Валгалла», прибывшего из Северо-Американских Соединенных Штатов.
Изумившись столь странному совпадению, Врангель немного помедлил, решая для себя — удобно ли вот так, сразу принять заезжего толстосума или стоит назначить встречу хотя бы на завтра, все-таки сказал:
— Просите. И принесите пару бутылок хорошего вина. «Новый свет», если есть…
Поручик чуть слышно звякнул шпорами, четко повернулся и вышел.
Генерал машинально поправил узкий кавказский пояс и постарался придать лицу любезное выражение.
Он ожидал увидеть толстого пожилого господина в визитке и цилиндре, такой образ богатого американца у него отчего-то сложился, хотя лично ни одного из них он до этого не встречал. Однако на веранде появился высокий молодой мужчина в светлом костюме. Мягкую велюровую шляпу он держал в руке. Резко очерченное загорелое лицо украшали короткие, соломенного оттенка усы, светло-голубые глаза смотрели внимательно и словно с любопытством. Мол, каков этот русский Главнокомандующий, пресловутый «черный барон»!
Врангель сделал три шага навстречу, протянул руку:
— Добро пожаловать, господин Ньюмен, рад видеть вас на нашей многострадальной земле. Что привело вас сюда? — старательно выговаривая английские слова, спросил генерал.
— Я также рад видеть столь выдающегося полководца Русской армии, — наклонил голову американец, пожимая поданную ему руку. — Если вы не против, я предпочел бы говорить на вашем языке…
— С удовольствием, — ответил Врангель, скрывая удивление. Иностранец владел языком почти свободно, разве что легкий акцент улавливался. — Присаживайтесь. Курите, если желаете. Ваше знание русского меня восхищает. Приходилось бывать в России? Наверное, по торговым делам?
Сел напротив гостя, тоже взял из палисандровой коробки толстую папиросу «Месаксуди».
— Не поверите, буквально за минуту до вашего появления я смотрел на море и думал о вас, точнее, о вашем пароходе и о целях его прихода. Не правда ли, интересно?
— Пожалуй, — вежливо улыбнулся американец. — Прошу меня извинить, господин генерал, за допущенную бестактность. Мне следовало бы нанести вам визит незамедлительно по приходе в Севастополь, однако задержали обычные в военное время формальности… У вас очень… — он замялся, подбирая выражение повежливее, — строгие портовые власти.
Следующие пять минут занял обмен дежурными любезностями, во время которых Врангель пытался составить представление о госте и догадаться, чего от этой встречи можно ожидать. На первый взгляд американец выглядел человеком открытым и независимым, держался с достоинством, но просто. Как равный с равным. Генерал не заметил в нем высокомерной чопорности англичан и плохо скрываемого французского хамства, которые так бесили Врангеля при встречах с представителями «союзников». Он видел, что и гость изучает его перед тем, как перейти к цели своего визита. На купца (на русского купца) гость походил мало, как и на человека, исключительно из любопытства напросившегося на прием к правителю какого-никакого, но государства, ведущего тяжелую гражданскую войну. Хотя по общеизвестной американской бесцеремонности могло быть и такое. Чтобы потом хвастаться в нью-йоркских или вашингтонских гостиных личным знакомством с «Russian pravitel».
— Прошу прощения, господин генерал, — проронил наконец гость. — Мне кажется, я начинаю злоупотреблять вашим гостеприимством. Понимаю вашу занятость и не хочу показаться праздным болтуном. Обратимся к делу, если вы не против.
— Пожалуй, — согласился Врангель. — У меня действительно не так много свободного времени. Однако я надеюсь, что цели вашего посещения достаточно серьезны, чтобы я мог уделить еще несколько минут столь приятной беседе, не считая это время потерянным зря. Надеюсь, вы знакомы с нашими обстоятельствами?
— Более чем. Потому я и здесь, Петр Николаевич. Вы не против, если я так буду к вам обращаться?
— Пожалуйста, господин Ньюмен, без чинов даже удобнее. Вот, кстати, и угощение подоспело. Откупорьте, поручик, — сказал он внесшему серебряное ведерко с торчащими из льда горлышками бутылок адъютанту и тут же спохватился, вспомнив о его раненой руке:
— Простите, мы сами, можете идти… — И, уже обращаясь к американцу, продолжил: — Отличное шампанское, из погребов князя Голицына. Прошу учесть — намного лучше французского.
— Наслышан, наслышан. Вы тоже называйте меня по имени. Андрей, ну, допустим, Дмитриевич. За победу вашего дела, которому я искренне сочувствую! — Американец поднял бокал с пенящимся брютом.
Отпили по глотку, смакуя действительно великолепное вино. Гость даже прикрыл от удовольствия глаза.
— Изумительно. Не дай бог, если все это достанется… вашим противникам. — Явно имея в виду не только шампанское, Ньюмен сделал рукой широкий жест, охватывая и лежащий внизу сад, и панораму севастопольских бухт.
— Однако действительно перейдем к делу. Я знаю о реальном положении правительства Юга России и возглавляемой вами армии. Оно, безусловно, тяжелое, но пока не безнадежное. И моя цель — оказать вам, Петр Николаевич, всю возможную помощь.
Теперь американец смотрел на Врангеля взглядом прямым и серьезным, не было в нем светской любезности и отстраненного любопытства, и голос его звучал так, словно говорил по меньшей мере посол великой державы.
Генерал тоже подобрался. На шутку слова гостя походили мало. Но, однако, чем же может помочь ему сей странный посетитель? Так он и спросил.
— Думаю, что многим. По моим сведениям, ваша казна пуста, Петр Николаевич. Нечем платить жалованье армии, не на что купить оружие и продовольствие, бумажные деньги дешевеют быстрее, чем вы успеваете их печатать. И так далее. А армия на пределе своих сил. Вы взяли Александровск, Екатеринослав и вышли к Каховке. Пока еще продвигаетесь по Кубани. Но… В строю у вас тысяч сорок штыков и сабель. Красные же, разделавшись с Польшей, могут бросить на вас миллионную армию. И это будет конец. Так?
Врангель затвердел скулами. Пусть этот американец совершенно прав и высказывает то, о чем ему самому приходится думать ежеминутно. Но как он смеет говорить в таком тоне? Словно прибывший для инспекции представитель Ставки с начальником дивизии. Указать ему на дверь? Нет, лучше пока послушать, что он еще скажет.
— Предположим, — сухо уронил генерал. — Однако и положение большевиков далеко не блестяще. Простая арифметика вряд ли уместна при решении задач подобной сложности…
— Как раз это я и имею в виду, — кивнул Ньюмен. — Иначе меня здесь просто не было бы. На пустые шансы я не ставлю. Как уже было сказано, я горячо заинтересован в успехе вашего дела и намерен предоставить вам помощь, необходимую для одоления врага.
— Это, конечно, весьма трогательно, — стараясь, чтобы слова прозвучали в меру язвительно, ответил Врангель. — И в чем, простите, такая помощь может выразиться?
«Черт бы с ним, с этим нахалом, — подумал Врангель, — даже если отстегнет сотню-другую тысяч в валюте, возьму. Хоть снарядов купить для Каховской операции или медикаментов. Но какой апломб! Россию спасать приехал, благодетель!»
Генерал, несомненно, понимал в людях, не зря почти всю жизнь прослужил в армии, от эскадронного командира до Верховного главнокомандующего, однако мимика и манеры гостя ставили Врангеля в тупик. Человек его возраста и положения должен был держать себя иначе.
— Если я что-то понимаю в военной экономике, а я в ней действительно понимаю, — покачивая носком белого шеврового ботинка и улыбаясь несколько двусмысленно, сказал Ньюмен, — для решения ваших первоочередных проблем вам хватило бы что-то около миллиарда…
Генералу показалось, что он ослышался.
— Миллиарда — чего?
— Ну, допустим, долларов. Или же золотых рублей. Как вам будет удобнее. Я располагаю такой суммой и готов предоставить ее в ваше полное распоряжение.
«Сумасшедший, — подумал Врангель с сожалением. — А с виду так похож на нормального человека. Жаль. Надо тактично закончить разговор и выпроводить его. Однако для ненормального он неплохо осведомлен и все-таки владелец огромного парохода. Да так ли это? По-русски говорит чересчур хорошо, и кто проверял его личность? Может, вызвать охрану и отправить его в контрразведку?»
— Я знаю, о чем вы сейчас думаете, Петр Николаевич, — сочувственно кивнул американец. — И не осуждаю. Так сразу поверить трудно. Однако я и в самом деле миллиардер, и деньги у меня с собой. То есть на корабле, а чтобы у нас впредь не возникало недоразумений, готов сегодня же подтвердить свою правоту и искренность намерений. Слова вас не убедят. Сделаем проще. Возьмите охрану, сейчас же поедем в Минную гавань, и прямо там я отгружу вам первый взнос — на три миллиона довоенных рублей золотом. Если это вас убедит — будем беседовать дальше. Нет — можете хоть расстрелять меня, ваше право. А потеряете вы максимум час времени, да заодно и прогуляетесь по свежему воздуху. Ей-богу, ваше высокопревосходительство, я бы рискнул, игра того стоит. — Посетитель расплылся в простодушной улыбке. Врангелю даже показалось, что и подмигнул слегка.
— А документы мои вот, — продолжая демонстрировать проницательность, он протянул большой американский паспорт с орлом на обложке. — Ей-богу, я хоть и люблю пошутить иногда, но не стал бы ради этого пересекать океан и избирать столь неподходящие время и объект для розыгрыша. Вызывайте машину, Петр Николаевич. Это окажется ваша самая удачная в жизни сделка, будь я негром…
…Пока автомобиль Главнокомандующего в сопровождении взвода конного конвоя, скрипя рессорами на выбитом булыжнике окраинных улочек, неторопливо катился к Минной гавани, Врангель, слушая непринужденную болтовню американца, размышлял о том, что поступает более чем опрометчиво, доверившись этому странному человеку. Смешно даже вообразить, чтобы Верховный главнокомандующий воюющей армии, словно начитавшийся Буссенара гимназист, отправился ночью неизвестно куда в чаянии обрести свалившееся с неба сокровище. И в то же время его не оставляла отчаянная надежда, такая же, как минувшей зимой, когда Слащев с полуторами тысяч обессилевших офицеров и юнкеров оборонял перешейки. Тогда бог оказался милостив к нему. Так, может, и сейчас?.. Пристало ли ему, не боявшемуся смерти на фронтах, бояться сейчас показаться смешным, причем всего лишь в собственных глазах? Ведь больше ни одна душа на свете, кроме, конечно, этого самого гостя, не знает и не узнает о его слабости. Ибо, если тот обманет… И плевать на любые международные осложнения, хуже, чем есть, не будет. Да, вот именно…
По мере приближения к морю переулки становились все более узкими и кривыми, домишки по сторонам стояли маленькие, кое-как слепленные из самана, беленого кирпича и старых досок. Уличное освещение здесь совсем отсутствовало, лишь кое-где из не закрытых ставнями окон падал на мостовую слабый свет.
«Подходящее место для покушения», — подумал Врангель и незаметно расстегнул кобуру нагана.
Автомобиль съехал к заброшенному пирсу. Лучи ацетиленовых фар выхватили из мрака ржавые полузатопленные корпуса старых номерных миноносцев и поблескивающий стеклами рубки большой разъездной катер, пришвартованный у стенки. На массивных чугунных кнехтах в какой-то странной неподвижности замерли несколько фигур в белых морских рубахах. Не светились огоньки папирос, не слышно было разговоров и смеха, что составляло обычное времяпрепровождение русских солдат и матросов в отсутствие начальства. Эти же просто сидели каждый сам по себе. Может, просто спят так?
Только когда Ньюмен вышел из автомобиля, его люди оживились, задвигались, построились вдоль пирса, не слишком торопясь.
Американец бросил короткую команду, смысла которой Врангель не уловил, и тут же все пришло в движение. В море, где-то позади катера, вдруг громко затарахтел мотор, раньше его приглушенный стук был не слышен из-за плеска воды о причал и берег. Вспыхнули ходовые огни на мачте, зеленый и красный, и яркий прожектор осветил причал.
Из темноты появилось странное судно, что-то вроде самоходной баржи, с плоским загнутым вверх носом и невысокой надстройкой на корме. Врангелю оно показалось похожим на громадную галошу.
Минуя причал, плашкоут медленно приблизился к берегу, с лязгом цепей его передняя оконечность отвалилась и легла на галечный пляж.
Словно подъемный мост средневековой крепости. И тут же из глубины баржи показался грузовой автомобиль, большой, больше любого, ранее виденного генералом. Осторожно проворачивая огромные колеса, он съехал на берег и остановился.
Ньюмен отдал еще одну команду на английском. Его люди ускорили свой рабочий темп.
— Извольте, Петр Николаевич, — сделал американец приглашающий жест, и генерал наконец отщелкнул дверцу автомобиля, неторопливо спустился на землю с высокой подножки.
Двое матросов сноровисто, с обеих сторон кузова сразу, вскарабкались наверх и подали двум другим деревянный, окованный железом ящик, размером примерно как для винтовочных патронов.
Повозившись с замками, Ньюмен откинул крышку и включил сильный электрический фонарь.
Под деревянной крышкой была еще одна, мягкая, брезентовая или кожаная. А когда поднялась и она, Главнокомандующий увидел отливающие густой и жирной желтизной прямоугольные бруски. Врангель, окончивший в свое время Горный институт, узнал их сразу. Да и любой другой человек не ошибся бы. Ни медь, ни бронза так не блестят.
— Извольте, — снова повторил Ньюмен, протянул генералу один из слитков, и тот, взяв его в руки, едва смог удержать, слишком не соответствовали размер и вес. В бруске было пуда полтора.
— Теперь вы наконец поверили? — В голосе Ньюмена не было торжества, только едва уловимая ирония. — В машине ровно тридцать ящиков, по сто килограммов в каждом. Куда прикажете доставить? В ваш дворец или в другое место? За сохранность можете не опасаться, мои люди хорошо вооружены. Так как?
— Пусть едут за нами, — внезапно охрипшим голосом произнес Врангель.
…В кабинете Главнокомандующего, освещенном только настольной лампой, густо плавал сигарный дым. Американец курил очень длинную и толстую сигару, причем вначале несколько раз звучно пыхал, чтобы получше разгорелась, и лишь потом глубоко затягивался.
Генерал сидел напротив и внимательно слушал, не отводя глаз от лежащего у письменного прибора, словно пресс-папье, драгоценного бруска. На боковой грани глубоко выштампованы буквы: «SOUTH AFRIKA», порядковый номер и вес — 795 унций.
— Таким образом, — говорил Ньюмен, — уже за счет моей первой ссуды вы сможете полностью погасить задолженность по выплате денежного содержания войскам, начать закупки за наличный расчет продовольствия у местных крестьян. Ну и произвести определенное впечатление на «союзников». Англичане и французы очень живо реагируют на наличные деньги в руках партнера. Как говорил один мой приятель: я воспринимаю каждый доллар в руках другого как оскорбление, если не могу воспринять его как добычу…
— Вот именно, — мрачно кивнул Врангель. — Возможно, как раз это и погубило адмирала Колчака. Слишком много золота он возил с собой…
— Надеюсь, здесь мы этого не допустим. А вообще для надежности можно разместить следующую партию «товара» на линкоре «Адмирал Алексеев». Уж там-то он будет в полной безопасности.
У Врангеля, несмотря на давнюю, непроходящую усталость и бессонную ночь, настроение было приподнятое, эйфорическое, и он не хотел поднимать сейчас вопрос, чего это вдруг неизвестно откуда появившийся американец надумал помогать Белому движению да еще в размерах, превышающих всякое разумение. Какая ему в этом выгода и какой личный интерес? Что он есть, не может не быть, генерал не сомневался. Но об этом будет время поговорить и позже, соглашаться или нет на предложенные условия, спорить и торговаться, а сейчас было достаточно и того, что есть — ощущения свалившегося с сердца камня, веры, что и дальше теперь все будет хорошо. Пусть и трудно, но к трудностям не привыкать. В восемнадцатом году было не легче. Исчезло тоскливое чувство бессилия и безысходности, а остальное не страшно. Его состояние можно было сравнить с чувствами человека, уже на эшафоте получившего Высочайшее помилование. Замену повешения на каторгу.
Ньюмен, понимая это, держался раскованно и благодушно, словно сам получил внезапно дорогой подарок. Извлек из крокодилового, с золочеными уголками портфеля квадратную бутылку редкого, якобы пятидесятилетней выдержки, шотландского виски с винокуренного заводика, поставляющего свою продукцию ко двору британских королей не то пятьсот, не то шестьсот лет подряд.
— Одним словом, где-то между их Хартией вольностей и вашей Куликовской битвой начали свой бизнес, — сказал американец, продемонстрировав глубокие познания в мировой и российской истории.
Генерал сделал два мелких глотка, из вежливости почмокал губами и состроил понимающее лицо. Шедевр, мол…
— А вы что, настолько интересуетесь Россией, что и дату Куликовской битвы знаете?
— Отчего же нет? Уж если я чуть не весь словарь Даля наизусть выучил, то сотню-другую дат… Вы же, к примеру, помните, когда сражение на Каталаунских полях состоялось?
— В 451 году, — машинально ответил Врангель. — Так мне по должности положено, а вас что заставило?
— Будем считать, что любопытство. Язык изучил, потому что вообще к лингвистике склонен, а раз язык знаешь, книги начинаешь читать, что с ним еще делать? Начитавшись Лермонтова, Достоевского и Ключевского, не можешь больше относиться к этой стране как к чужой. Тем более что Америка ведь довольно скучная страна, по сравнению с ней Россия — как чужая планета. А итогом всего явилось мое нынешнее путешествие и эта вот беседа. Не правда ли, странно, Петр Николаевич, что желание никому не известного юноши из Сан-Франциско двадцать лет назад изучить русский язык теперь может способствовать спасению великой державы? От каких пустяков зависят подчас судьбы мира, а?
— Да уж, пути господни неисповедимы, — согласился Врангель, отодвигая от себя рюмку.
— Неужели не понравилось? — простодушно изумился американец. — Впрочем, конечно, без содовой и льда… Хотя сами шотландцы содовой не признают, предпочитают разбавлять виски чистой родниковой водой.
— Нет, совсем не плохо. Есть этакое своеобразие, оригинальный вкус, просто я избегаю крепких напитков…
— Ну не бывает же правил без исключений. Сегодня такой повод! А может, прикажете подать водки, и выпьем мы с вами как следует. За успех нашего безнадежного предприятия… — и громко засмеялся своей шутке.
— Рад бы, как во времена гвардейской молодости, но увы… Сердце после тифа беспокоит, и голова нужна постоянно свежая. Разве что шампанским могу компанию поддержать.
Откупорили бутылку, чокнулись, послушали тонкий, долго не стихающий звон. Чтобы отвлечься, Врангель стал вдруг вспоминать свое участие в японской войне, а Ньюмен сказал, что побывал на Англо-бурской и еще кое-где, чем значительно поднял свой авторитет в глазах генерала. Естественным образом перешли к перипетиям войны нынешней.
— Что меня у вас удивляет, Петр Николаевич, так это абсолютная безответственность высшего командования. Русский генерал может отказаться выполнить приказ старшего начальника, может его публично оспаривать, равнодушно наблюдать, как неприятель громит соседа, и не прийти на помощь. Это очень неправильно…
— Зачем же обобщать, — обиделся Врангель, принявший слова гостя и на свой счет тоже. Он ведь резко конфликтовал с Деникиным и по военным, и по политическим вопросам, добивался его смещения, — кроме того, надо же учитывать специфику гражданской войны…
— Не в гражданской войне дело. То же случалось и на германской, и на японской, и на всех прочих. Не обижайтесь, но причина в том, что Россия все-таки держава военно-феодальная. И названные мной особенности суть пережитки феодального устройства, не слишком изменившиеся со времен битвы на Калке. У немцев бы вам поучиться… Ну, бог даст, этот вопрос мы тоже порешаем в свое время…
Часы в углу кабинета, равнодушно махавшие маятником со времен обороны Севастополя, больше полувека подряд, прозвонили три раза.
— О, как поздно уже! — поразился Ньюмен. — Утомил я вас, простите великодушно. Позвольте откланяться. Завтра я, если не возражаете, заеду к вам часиков так в одиннадцать. Тогда и поговорим серьезно, по-деловому. Не возражаете? Других планов у вас нет?
— Если бы даже и были, нетрудно и поменять. У меня к вам тоже найдется несколько вопросов…
Генерал лично проводил гостя вниз по лестнице и вышел с ним в сад. Густо пахло можжевельником, высокие, в два человеческих роста, кусты которого образовывали темную прямую аллею. Трещали цикады, и опускающаяся к горизонту луна освещала зеленоватым светом вытертые мраморные плиты.
С непривычки генерал выпил, по его меркам, многовато, голова слегка кружилась, но приятно, и хотелось говорить еще и еще. Больше-то ему, не роняя достоинства, по душам поговорить не с кем. Разве что с женой, но это совсем другое. Ну и с Шатиловым иногда.
Он положил руку на локоть американца. Сказал как бы в шутку:
— А признайтесь, Эндрю, вы случайно не посланец князя тьмы? Как-то странно у вас получается. Три тонны золота, без расписки, без условий… Так ведь не бывает, согласитесь. Ну и пусть, в конце-то концов. Если речь пойдет о моей душе — пожалуйста! Эту цену за освобождение Родины я заплатить согласен…
Ньюмен весело рассмеялся, хлопнул генерала по мягкому парчовому погону с черным зигзагом и тремя звездочками. Выглядел он куда пьянее Врангеля.
— Ладно, ладно, мон женераль, завтра разберемся. Душу за какие-то три тонны презренного металла? Многовато будет. Да и тем более в таком варианте вы, пожалуй, не слишком бы и рисковали. Я не силен в богословии, но думаю, что господь имел бы все основания признать сделку недействительной и, напротив, даровать вам вечное блаженство… Помнится, в одном из Евангелий сказано: «Больше сея любви никто же не имать, да кто душу свою положит за други своя». Нет, для дьявола это была бы невыгодная сделка… — Он опять рассмеялся и начал прощаться.
— Подождите, я провожу вас до ворот. Там автомобиль, он отвезет вас, куда прикажете.
— Куда ж я прикажу? До катера, конечно, а там на корабль. Слушайте, а может, вместе поедем? Там еще добавим. Я вас с женой познакомлю, с друзьями… Чудесно время проведем.
Еле-еле генерал сумел усадить разгулявшегося гостя в автомобиль. Дождался, когда скроется за поворотом отблеск фар на брусчатке, и медленно, приволакивая ногу, пошел к дому. Остановился на верхней площадке лестницы и долго курил, глядя на море, где вдали сияли огни американского парохода…
Глава 4
На прием к Врангелю Новиков собрался лишь на третий день после прибытия в белый Крым. Он специально решил не спешить, нужно было сначала хоть немного обжиться в новой для себя обстановке. Впрочем, новой она могла показаться только на первый взгляд, а чем больше он в ней осваивался, тем больше знакомых черт всплывало из-под верхнего слоя повседневности.
Мало того, что очень многое начинало восприниматься как знакомое и почти родное при воспоминании о старых кинокартинах, фотографиях, открытках, когда-то прочитанных книгах, но еще чаще Андрей испытывал пронзительно-грустное чувство узнавания эпизодов собственного детства, мелких и мельчайших деталей, казалось бы, давно и прочно забытых.
В начале пятидесятых годов, оказывается, сохранялось еще очень многое из реалий нынешней жизни, особенно в маленьких провинциальных городах, где Андрею приходилось бывать в гостях у родственников отца.
И, бродя по улицам Севастополя, он вдруг ярко и отчетливо вспоминал — то пыльный, мощенный булыжником переулок и запах дыма от летних печек во дворах, на которых тогда, по причине отсутствия газа и дороговизны керосина для примусов, готовили обеды, то надраенную бронзовую табличку «Для писемъ и газетъ» над прорезью в двери, то особой формы латунную дверную ручку или деревянные ставни с кованой железной полосой и болтом для запирания на ночь… Да и просто старые, кривые, пожухлые от летней жары акации, которые с шестидесятых годов вдруг перестали высаживать на городских улицах, непонятно почему. Милые такие, трогательные детали, но за день бесцельного хождения по улицам их набиралось множество, и Севастополь в отдельных своих частях постепенно становился таким же близким, как запечатленные в памяти уголки Геленджика, Пятигорска или Сухуми… Так отчего-то нравившиеся ему в детстве именно своей «старинностью», будто он догадывался о будущем возвращении в безвозвратно потерянный для всех остальных мир.
Гораздо большим потрясением оказалось знакомство с населяющими город людьми.
Новикова поразила невероятная концентрация в не таком уж большом городе умных, интеллигентных, несмотря на тяготы гражданской войны, — независимых и гордых лиц. Только здесь он окончательно убедился, насколько изменился за послереволюционные годы фенотип народа, к которому он сам принадлежал. Ведь даже в Москве в семидесятые и восьмидесятые годы он, живший в окружении людей со сплошь высшим образованием и занимавшихся исключительно интеллектуальной деятельностью, редко-редко встречал подобное. А если и да, то как раз среди чудом уцелевших и доживших, вроде старого, как Мафусаил, преподавателя латыни…
Он даже сказал сопровождавшей его в прогулках Ирине, что Крым является сейчас неким «Суперизраилем», в смысле пропорции образованных и талантливых людей на душу населения.
— Создать здесь соответствующие бытовые и экономические условия, так Югороссия процветет исключительно за счет интеллектуального потенциала не хуже, чем Венеция эпохи дожей или Тайвань… Вон, посмотри, — он кивнул в сторону группки молодых людей в студенческих фуражках, о чем-то оживленно спорящих под навесом летнего кафе. — Из них половина наверняка будущие Сикорские или Зворыкины…
Неизвестно, из чего Новиков сделал вывод именно о таком направлении дарований этих юношей, но лица у них действительно были хорошие, открытые и умные, а главное, даже на исходе гражданской войны они оставались именно студентами, а не командирами карательных отрядов, сотрудниками губернских ЧК или секретарями уездных комитетов РКСМ. Следовательно, имели иммунитет к охватившей Россию заразе.
И таких людей попадалось им достаточно много. То есть — освобождать и строить новую Россию было с кем. Оставалась главная трудность. Для решения ее Новикову предстояло вновь напрячь все свои способности психолога, а кое в чем припомнить и навыки товарища Сталина, с которым они не так давно пытались переиграть Великую Отечественную войну.
И снова они, пять мужчин и четыре женщины (из которых две являлись в какой-то мере инопланетянками), оказались вброшены волей неведомых сил и с неизвестной целью в Реальность, пока еще ничем не отличающуюся от тысяча девятьсот двадцатого года по Рождеству Христову. На самом ли деле это так или снова их окружает вымышленная кем-то действительность, еще предстояло узнать.
Удастся им воплотить в жизнь свой план или нет — пока сказать невозможно, однако делать то, что задумали, нужно в любом случае. Они, за исключением Олега Левашова, имеющего собственные взгляды на проблемы социализма, решили попытаться дать России еще один шанс.
А для этого необходимо сделать своим союзником последнего вождя антибольшевистской России — генерала Врангеля.
Безусловной удачей было то, что им удалось уйти из Замка, операционной базы пришельцев-форзейлей, не просто так, голыми, босыми и с котомкой за плечами, а вместе с пароходом, трансатлантическим лайнером в тридцать тысяч тонн, внешне похожим на знаменитый «Титаник». На «Валгалле» можно было без особых лишений прожить жизнь, оказавшись даже в мезозое. Корабль их был оснащен всякими интересными приспособлениями, вроде молекулярного дубликатора и установки внепространственного совмещения. Конечно, проще всего — удовлетвориться имеющимся и провести остаток дней в том времени, куда довелось попасть, наслаждаясь покоем, комфортом и непредставимым для всех прочих обитателей Земли богатством. Но… какой нормальный русский интеллигент оказался бы в состоянии существовать в эмиграции, зная не только то, что происходит в твоей стране в данный момент, и то, что произойдет с ней в ближайшие шестьдесят лет, а еще и сознавая, что ты в силах был, но не захотел все это предотвратить. И, таким образом, все 60 или 100 миллионов жертв (кто как считает) приходятся, прямо или косвенно, и на твой счет тоже…
Петр Николаевич оказался похож на свои фотографии не больше и не меньше, чем любой сорокалетний человек. Правда, на снимках он не пытался скрыть, что позирует все-таки для истории, а не для семейного альбома.
Разговор у них получился полезный и плодотворный, причем Новиков с долей неприятного удивления заметил, что привычки и характер Сталина застряли у него не только в памяти, но и в подсознании. То есть он, оставаясь самим собой, вел смысловую часть переговоров, а Иосиф Виссарионович словно подсказывал, как, когда и о чем умолчать, а в какой момент нанести резкий жалящий удар прямо в болевой центр партнера. Это было полезно дипломатически, но не слишком совместимо с характером Андрея.
Явившись в резиденцию Главнокомандующего под маской американца Ньюмена, Новиков понимал, что делает рискованный шаг. Мистификация такого масштаба, раскройся она раньше времени, способна была безнадежно испортить дело, но и другого пути Андрей не видел. Соотечественник, даже очень богатый, вряд ли смог бы поставить себя так, чтобы говорить с Верховным правителем на равных, а подчас и с позиции силы. Тут как минимум нужно быть князем императорских кровей, а такую роль перед бароном и гвардейским генералом Новиков исполнить не брался. То ли дело заокеанский толстосум. Его можно изображать хоть на грани пародии, руководствуясь, на первый случай, схемой милейшего графа Монте-Кристо. И личными воспоминаниями о встречах с американскими журналистами и дипломатами в Никарагуа, Панаме, Гватемале.
Первая встреча, по всем признакам, прошла удачно. Голову генералу он заморочил основательно, а любые промахи и стилевые просчеты надежно маскировал «бриллиантовый дым», точнее — блеск двадцатичетырехкилограммовых слитков южноафриканского золота. И наживку Врангель проглотил. Спать, несмотря на пожелание гостя, он до утра не будет. Новиков мог бы подробно воспроизвести ход его возбужденной мысли, все приходящие в генеральскую голову «за» и «против» и с девяностопроцентной уверенностью спрогнозировать его дальнейшие действия. Десять процентов он относил на счет издерганной за годы войны психики Верховного и «неизбежных на море случайностей».
Остаток ночи Андрей провел в непринужденной, но важной для определения дальнейшей стратегии беседе с Берестиным и Шульгиным.
Прочих членов их команды происходящее, как выяснилось, волновало мало. Что и неудивительно. Это в условиях неопределенности предстоящей судьбы, когда они не знали, что и как с ними будет, проблемы грядущего дня волновали каждого, а теперь все обстояло иначе.
Наталья Андреевна с Ларисой, убедившись, что ситуация на ближайшее время определилась, полностью погрузились в предвкушение ожидающей их светской жизни. Белый Крым, перенасыщенная концентрация аристократов, включая природных Рюриковичей и иных весьма знатных особ, перспектива приключений в духе пресловутой Анжелики, а в случае неудачи нынешних планов — возможность продолжить подобное существование в любой другой точке цивилизованного мира совершенно избавили их от интереса к скучной технологии жизни. Что, с одной стороны, было удивительно, а с другой — вполне объяснимо, ибо женщины любого исторического периода, убедившись в способности близких им мужчин регулярно убивать мамонтов или обеспечивать бесперебойную оплату счетов из модных магазинов, более не считают себя обязанными руководить их повседневной деятельностью.
Левашов, заявив о несогласии с намерением своих друзей поддержать Белое движение, целиком отдался проблемам теоретической хронофизики и текущими вопросами решил не заниматься принципиально.
Воронцов продолжал исполнять свои капитанские обязанности и в нынешней Реальности испытывал интерес только к остаткам Черноморского флота, который с удовольствием бы возглавил, чтобы не допустить его бесславной гибели в Бизертской луже.
Ирина полностью разделяла нынешнюю позицию Новикова, но считала, что не вправе как-то вмешиваться в земные дела, если они ее не касаются непосредственно, а Сильвия загадочно молчала, изображая абсолютный нейтралитет.
Посему вся тяжесть активной дипломатии и практической геополитики легла на плечи Новикова, Шульгина и Берестина, которые приняли такой расклад с плохо скрываемым удовлетворением. Ведь, как известно, еще Джером Джером сформулировал, что серьезные дела лучше всего вершить втроем — вдвоем скучно, а четверо и больше неизбежно разбиваются на группы и партии…
В начале двенадцатого Новиков появился во дворце. Врангель встретил его у дверей, одетый во все ту же неизменную черкеску, хотя, с точки зрения психолога, ему следовало бы для такого случая надеть летний белый китель с одним или двумя высшими орденами.
Стол для легкого завтрака был накрыт в саду, в заплетенной виноградом беседке. Начал генерал с того, что порадовал гостя последними сообщениями с фронта. Наступление развивалось успешно, разрозненные и нерешительные попытки красных войск контратаковать были отбиты почти без потерь.
— Это отрадно, — вежливо кивнул Новиков. — И еще раз подтверждает необходимость действовать решительно и быстро. Обстановка ведь может и измениться. Принимая во внимание развитие событий в Польше. Так что чем раньше мы с вами придем к соглашению…
— Надеюсь, что так и будет. Но вы пока не изложили ваших условий, а без этого с чем же соглашаться?
Сегодня Новиков сменил маску, держался ровно, вежливо, но холодновато. Меланхолически позванивал ложечкой в стакане чая с лимоном, равнодушно жевал бутерброд с икрой. Отказался от вина и коньяка.
— Вы удивитесь, Петр Николаевич, но я не потребую от вас ничего. Да вы бы и сами могли догадаться — ну что вы, в вашем нынешнем положении, могли бы предложить мне, во-первых, настолько богатому, чтобы бесплатно предоставить вам неограниченный кредит, а во-вторых, являющемуся всего лишь частным лицом и, значит, не имеющему возможности претендовать на какие-то экономические и политические преимущества, соразмерные объему моей помощи. Я же не король и не президент… Нет, я не исключаю, что после победы не попрошу вас о некоем мелком знаке внимания. Например, пожаловать мне титул князя или сдать в аренду озеро Селигер для постройки родового замка… — Новиков развел руками, как бы давая понять, что слова его следует принимать с долей юмора.
— И только? — спросил Врангель, не приняв предложенного тона. Новиков вздохнул. Ну что, мол, с тобой поделаешь…
— Пусть будет по-вашему. Не только. В качестве ответной любезности с вашей стороны я бы просил позволить мне и моим друзьям принять участие в войне.
На лице генерала отразилось недоумение:
— Личное? И в каком же качестве?
— В двояком. Во-первых, на основании джентльменского соглашения я беру на себя обязательство оказывать вам любую финансовую и техническую помощь, а вы признаете меня своим политическим и военным советником. Разумеется, строго конфиденциально. О моем легальном статусе мы условимся позже. А так вы просто будете прислушиваться к моему мнению, а принятые нами совместно решения — оформлять в виде своих приказов. Иногда нам, наверное, придется спорить, и даже остро, но аргументированно. Без амбиций и взаимных обид.
— Н-ну, допустим, — постукивая пальцами по столу, выдавил из себя Врангель. — Дальше…
— Во-вторых, мой друг и компаньон генерал… назовем его Берестин, получает статус главного военного советника. С правами, аналогичными моим в отношении стратегических вопросов ведения кампании…
Генерал шумно вздохнул.
— Я не нуждаюсь в военных советниках. Тем более не имею чести знать названное вами лицо. В известных мне войнах такой генерал своего имени… не прославил.
— Само собой. Вы только упускаете, что были и… малоизвестные вам войны. А также и то, что не всегда одни и те же люди входят в историю под одним и тем же именем. Но это к слову. А главное — ваши слова звучали бы убедительно в случае, если бы мы с вами завтракали сейчас не в Севастополе, а в Гатчине, большевики же рыли окопы на Пулковских высотах…
— Знаете, господин Ньюмен…
— Знаю, все знаю, господин генерал. Оставьте амбиции. Или вы хотите спасти Россию, и тогда мы вместе сделаем это, или вам желательно еще пару месяцев побыть единовластным и непогрешимым правителем. Хозяин — барин, как говорится. Я могу уплыть по своим делам сегодня же. То, что вы уже получили, останется вам. На пару месяцев хватит, и в эмиграции первое время бедствовать не будете. Ну, а все остальное, включая золото, валюту, тысяч двадцать винтовок, сотню пушек, боеприпасы на полгода войны и много других интересных вещей, разумеется, уплывет со мной. Есть много мест, где на них имеется спрос…
Андрей понимал, что негоже так грубо ломать человека, с которым собираешься сотрудничать, но знал и то, что авторитарные лидеры подобного типа склонны поддаваться именно бесцеремонной и грубой силе. В этом, кстати, отличие американской (которую он в данный момент олицетворял) политики от русско-советской. Американцы давали своим сателлитам все, что они хотели, но взамен требовали безоговорочного подчинения. Посол США в любой банановой республике вел себя, как пахан в зоне, советские же вожди от лидеров стран, «избравших некапиталистический путь развития», мечтали добиться того, чего Остап так и не добился от Корейко. То есть искренней любви. На кой хрен она им была нужна — до сих пор непонятно. А взамен получали… Причем во всех «братских» странах одинаково, независимо от их географического положения и уровня развития. Дураков не любят нигде.
— Грузоподъемности моего парохода и моих связей с командованием оккупационных войск в Турции хватит и для того, чтобы за пару недель перебросить в Крым все имущество Кавказской армии, оставленное в Трапезунде, и тысяч тридцать солдат и офицеров, интернированных там же…
И замолчал, давая Врангелю время подумать и принять решение, не теряя лица. Сам налил себе полбокала чуть зеленоватого сухого вина, извлек из портсигара первую в этот день сигару.
Расчет его оказался верным. Что Врангель примет его предложение, он не сомневался, не смог угадать только, в какую форму тот облечет свое согласие. А Врангель сумел за краткие минуты проявить и самообладание, и определенное остроумие.
Барон как-то сразу согнал с лица раздражение и неприязнь, разгладил жесткие складки у рта.
— Кажется, я понял, о чем вы говорите. Вам хочется поучаствовать в своеобразном сафари? И вы согласны уплатить за это развлечение определенную сумму. Думаю, на таких условиях мы можем прийти к соглашению. Егерь находит зверя, охотник стреляет. После окончания охоты они расстаются, довольные друг другом…
— Браво, генерал, лучше я и сам не смог бы сформулировать. На том и поладим.
Наблюдая Врангеля, разговаривая с ним уже второй день, Новиков вдруг понял, что все это время он понимал генерала неправильно. Попав в плен навязанных литературой и историческими исследованиями стереотипов, он не уловил в нем главного. Врангель ведь по натуре — авантюрист и романтик. Учился в престижном Горном институте, потом вдруг пошел вольноопределяющимся в гвардию, сдал экзамен на офицерский чин, с блеском окончил Академию Генерального штаба, в тридцать семь лет стал командиром кавалерийской дивизии, умело и рискованно сражался во главе Кавказской армии, в сорок лет свалил Деникина и стал Верховным правителем, в момент, когда не оставалось надежд не то что на победу, а и на то, что Слащев удержит крымские перешейки, лютой зимой, в чистом поле, с горсткой офицеров и юнкеров. Что же это, как не авантюризм пополам с неукротимой верой в свою счастливую звезду?
Вот на этих чертах его характера и надо играть, а не убеждать его с позиций американского прагматизма!
Новиков придвинул кресло к столу, подался вперед и даже поманил генерала рукой, приглашая его к себе поближе.
— А знаете, Петр Николаевич, я теперь, пожалуй, раскрою вам свою главную тайну. Она проста, хоть и не совсем обычна по нашим меркам. Я ведь тоже по происхождению русский. Тут вы почти догадались. Иначе зачем бы мне, в самом деле, тратить деньги на столь сомнительное дело? Проницательный вы человек. Другого я бы еще долго морочил болтовней про бескорыстную мечту о спасении чужой страны. Да кому мы нужны, кроме нас самих! Все эти иностранцы только радуются гибели настоящей России. А с большевиками они договорятся. Вот и нам нужно договориться, пока не поздно.
Он еще налил себе в бокал шампанского, залпом выпил (это тоже входило в рисунок образа).
— А откуда столько денег, спросите вы. Отвечу. В Америке о таком не принято спрашивать, а здесь можно. Никаких страшных тайн и старушек-процентщиц. У нас сейчас какой год, двадцатый? Ну вот, значит, в самом конце девяносто девятого мы с друзьями, четыре гимназиста последнего класса, юноши с романтическими настроениями, сбежали из дома. Поездом до Одессы, пароходом до Каира, оттуда в Кейптаун. Великолепное путешествие, доложу я вам. Англо-бурская война, как вы помните, всеобщий подъем, песня еще была: «Трансвааль, Трансвааль, страна моя, ты вся горишь в огне…» Да, повоевали. Мой друг Алексей Берестин, которого я вам в советники предложил, до фельдкорнета дослужился. Это у нас корнет — обер-офицерский чин, а у буров фельдкорнет — почти генерал. Но война и сама по себе дело не слишком чистое, а там… Причем с обеих сторон. Буры — они колонизаторы и расисты еще почище англичан. В общем, когда дело к концу пошло, решили мы, что с нас хватит. Тем более с кафрами местными подружиться успели. Мы-то, русские, народ ужасно жалостливый и склонный ко всяким инородцам с сочувствием относиться, как к братьям меньшим. Они это оценили…
Импровизация увлекла самого Андрея. Он повторял сейчас кое-что из того, что рассказывал при вербовке капитану Басманову, и попутно добавлял новое, компилируя ранее читанные авантюрные романы и свои еще детские фантазии. Получалось, именно за счет этого, убедительно. Он не излагал заученную легенду, а словно бы вспоминал, привирая по ходу, как это свойственно охотникам и солдатам. Врангель, стихийный психолог, поскольку вождь по призванию, обратил на это внимание и поверил, особенно по контрасту с прежним, как бы заранее отрепетированным поведением странного гостя.
— Короче, — продолжал Новиков, — отступили мы на север, с месяц прожили у кафров в деревне, и они, наконец, то ли в благодарность, то ли чтобы от нас отделаться, показали нам дорогу к тамошнему Эльдорадо. Про Клондайк знаете? Полная ерунда тот Клондайк. Столби участки, потом неделями промывай песок… Мы нашли ЖИЛУ! Вы б ее видели! Самородки — от фунта до пуда. И их там было… Тонны и тонны! Забота одна — как все вывезти. Но сейчас не об этом. Чтоб не думали, будто я так, болтаю, я вам самородок подарю. Вы ж горный инженер, вам интересно будет, он у меня вместо пепельницы в каюте стоит. Восемь фунтов и сколько-то унций, а по форме — будто морская раковина. В самый раз, одним словом. Ну так вот, разобрались с золотом, почувствовали себя состоятельными людьми, решили заняться алмазами. В Южной Африке их тоже навалом. Буссенара читали? А когда деньги несчитаные имеются, все остальное — вопрос техники. Сейчас мы владеем десятью месторождениями с урожайностью до пяти тысяч каратов в год с каждого.
Причем алмазы не технические, а ювелирные, почти каждый можно сразу в перстни вставлять… Живи и радуйся. Но мы же молодые тогда были, едва за двадцать, и вдруг стали богаче Креза. Даже неизвестно, насколько богаче. Если бы выбросить все нами добытое на рынки, получилось бы, как у испанцев в ХVI веке — под американское золото элементарно не нашлось в Европе товаров. И тогда мы решили просто жить. То есть использовать свои деньги для обеспечения интересного и абсолютно свободного существования. Но большие деньги имеют загадочное свойство — они как бы деформируют вокруг себя реальность…
Новиков и сам не заметил, как начал говорить серьезно, то есть в аллегорической форме излагать Врангелю некую философскую квинтэссенцию того, что произошло с ними на самом деле. Да и неудивительно. Генерал был первым посторонним человеком в этом времени, с кем ему довелось беседовать на подобные темы. Причем личностью Врангель был далеко не ординарной. Независимо от оценки, данной ему не слишком добросовестными интерпретаторами истории.
— Деформируют реальность… Или, проще сказать, наличие возможностей, выходящих за пределы нормы, как бы повышают уровень этой самой нормы. Да вы и по себе можете судить — с человеком вашего возраста и профессии, но застрявшим в подполковничьем чине, и приключения случаются соответствующие, примеры сами придумайте, а вот вы стали генерал-лейтенантом, и вокруг вас завертелись совсем другие шансы. Один знакомый поэт так выразился: «А рядом случаи летали, словно пули… Одни под них подставиться рискнули, и ныне кто в могиле, кто в почете…» В общем, не успели мы обратить какую-то мизерную долю наших сокровищ в доллары и фунты, приобрести приличные дома и замки, пароход вот этот — подвернулась информация о сокровищах ацтеков. Снова совсем как в романах. А романы, кстати, тоже не на пустом месте создаются. Был я знаком с одним настоящим американцем, писателем, рассказывал ему о своих приключениях, Джек Лондон его звали, так он, творчески их переработав, именно роман и написал. «Сердца трех» называется. Увлекательный, хотя там многое совсем по-другому изложено, и главных героев он американцами сделал. Но в основе все верно. В общем, собрались мы, поехали. И нашли, что тоже поразительно. Правда, заодно пришлось почти год в Мексике повоевать. У них, как вам известно, тоже гражданская война происходила. То на одной стороне мы сражались, то на другой. Пока нужную нам провинцию и от тех и от других освободили. Проникли в затерянный в джунглях древний город. А там…
Врангель не сразу стряхнул с себя навеянное рассказом Новикова наваждение.
— Да, есть многое на свете, друг Горацио… Так, а что же сюда вас привело? Внезапно пробудившийся патриотизм? Желание, подобно Кузьме Минину, достояние свое на алтарь отечества положить?
— И это тоже, несмотря на ваш скептицизм. Но — не только. Я же намекнул — вокруг нас все время странные события происходят. Недавно нам стало известно, что в России в определенном месте хранится нечто настолько заманчивое… Вот угадайте, ваше превосходительство, к чему такому могут стремиться люди вроде нас, если и так в состоянии купить любой мыслимый товар или услугу. Подумайте, подумайте, Петр Николаевич, а я пока покурю.
— Так что же? — спросил генерал, не расположенный играть сейчас в загадки.
— А вот, например, здоровье можно купить за самые большие деньги, когда его уже по-настоящему нет, или тем более вечную жизнь?
Новиков, попыхивая сигарой, насладился реакцией Врангеля на свои слова.
— Что, опять усомнились в моей нормальности? И снова зря. Пора бы уж привыкнуть. Неужели вы думаете, будто такого умного человека, как вы, я стал бы сказками морочить? Или, прожив двадцать лет вдали от Родины, именно сейчас голову и на самом деле немыслимые деньги просто так, ради абстрактной идеи, на кон поставил? Большевики мне категорически не нравятся, и Россию от них, не считаясь с затратами, избавить нужно, что мы с вами, даст бог, сделаем. Однако жизнь, пусть не вечная, но неограниченно долгая, цель куда более заманчивая. А способ ее обеспечить как раз и хранится в той части России… И я с вами этой тайной поделюсь. Нет-нет, сейчас никаких подробностей. Достаточно вам будет знать, что не только капиталы мы наживали, по Африкам и Америкам скитаясь, но и многими тайнами допотопных (в буквальном, хронологическом смысле) жрецов и мудрецов овладели. Эзотерическими, как принято выражаться, знаниями. Я вот, к примеру, не только осведомлен, что после перенесенного в прошлом году тифа вы до сих пор еще не оправились, и ноги у вас отекают, и сердце частенько перебои дает… Я и день вашей безвременной кончины знаю… Нет, вы еще поживете, и не год, и не два, но куда меньше, чем следовало бы…
Врангель на слова Андрея отреагировал спокойно. Человеку военному и мужественному, если бы он и поверил предсказателю, куда важнее узнать, что его не убьют в ближайшие дни, а что там через годы будет… Совсем несущественно.
— Вы не тревожьтесь, болезнь вашу мы вылечим. Быстро и навсегда. Тогда до глубокой старости проживете, если несчастного случая не приключится… Сегодня же вечером, если позволите, нанесу вам визит в сопровождении некоей молодой дамы, в совершенстве владеющей искусством древних магов. Она за один сеанс вас полностью излечит. Под наблюдением вашей супруги и личного врача, если угодно, чтобы лишних разговоров не было.
Расчет Новикова был в принципе беспроигрышный. Сколь бы скептически ни был настроен человек, он вряд ли откажется от шанса на излечение от мучительного недуга, тем более если чувствует, что болезнь серьезна, а врачи обыкновенные могут лишь облегчать страдания.
Ну а после успешного сеанса терапии Новиков рассчитывал повести свою политику по распутинской схеме. Маг, целитель, да еще и финансист сможет добиться политических успехов в пока еще крошечной белой России куда быстрее, чем апеллирующий к чистому разуму и здравомыслию заокеанский советник. Вам тут, чай, не Швейцария.
— А вот когда все у нас будет в порядке, и в личных отношениях, и на фронтах, тогда и к Главной тайне обратимся. Удивительнейшая, я вам скажу, история. Во всех отношениях невероятная, но процентов на девяносто подлинная…
— Вы мне тогда еще вот какой момент проясните, — не утратил скепсиса генерал, — для чего все так сложно? Сами же говорили, что большевики куда практичнее нас, несчастных идеалистов. Приехали бы к ним в Москву под той же самой личиной, что и ко мне явились, предложили им сумму в тысячу раз меньшую, и они бы вам позволили делать, что заблагорассудится. Искать свое тайное сокровище в тверских лесах или устроить раскопки на Красной площади… Особенно, если бы вы еще и протекцию в деловых кругах Америки посулили…
— Упрощенно рассуждаете, Петр Николаевич. Мало того, что с большевиками мне по чисто эстетическим соображениям сотрудничать не хочется, так они, исходя из своих моральных принципов, с куда большей вероятностью шлепнули бы меня у первой подходящей стенки, нежели отпустили восвояси с добычей…
— А у нас того же не опасаетесь? — Губы Врангеля чуть скривились в намеке на усмешку.
— У вас — нет. По ряду причин. В том числе и потому, что у меня имеется небольшая личная гвардия. Несколько десятков бойцов, но таких, что каждый стоит взвода, если не больше, а отряд целиком — как бы не дивизии. Красные мне со своим вооруженным отрядом к ним приехать не позволят, а у вас… Мои ребята и на фронте полезными будут, и от разных других неожиданностей подстрахуют. Я их вам покажу в деле, сами поймете.
— Иностранный легион?
— Нечто вроде, хотя там и русских много. В случае необходимости я с этим войском и без вашей поддержки до Москвы и дальше смог бы прорваться, где по-тихому, где под повстанцев или бандитов маскируясь. Но если с вами вместе, да попутно и гражданскую войну прекратить — гораздо полезнее будет.
— Хорошо, Андрей Дмитриевич, я еще раз обдумаю ваши предложения. Жду вас в восемь часов вечера у себя дома. Вместе с вашей спутницей. Да, кстати, что вы там о двадцати тысячах винтовок говорили? И еще о боеприпасах. Не буду скрывать, в передовых частях у нас жесточайший патронный голод.
Глава 5
Вернувшись на «Валгаллу», Новиков сообщил друзьям о результатах очередной встречи и начал готовиться к вечеру. Они с Ириной полистали соответствующую литературу, чтобы уточнить, в каких туалетах прилично появиться на ужин к Верховному. Но, к сожалению, протокол и этикет ситуацию гражданской войны не предусматривали, и они решили ограничиться приличными, но скромными костюмами темных тонов, ориентируясь на американские, а не российские придворные стандарты. Заодно обсудили режиссуру обряда исцеления. После этого Андрей зашел за Берестиным, и они по крутым трапам, резко отличающимся от пологих, устланных коврами лестниц парадной части корабля, спустились в недра корпуса, где под защитой бортовых коффердамов и трехсотмиллиметровой керамико-титановой брони размещалась епархия Олега Левашова.
Здесь, в нескольких смежных отсеках был оборудован компьютерный зал, примыкающий к нему рабочий кабинет с библиотекой, установка пространственно-временного совмещения, работающая, впрочем, после известных событий в Замке только для создания внепространственных переходов в пределах Земли, а также два больших ангара с изготовленными из массивных медных шин контурами дубликаторов.
Чтобы не испытывать габаритных ограничений, доставивших им немало неудобств на «Валгалле», Олег сделал контуры такими, что в них свободно поместился бы и товарный вагон. И теперь любой предмет, имеющийся хотя бы в одном экземпляре на Земле или на складах корабля, мог быть воспроизведен в виде молекулярных копий в каких угодно количествах.
Но с этим тоже оставались сложности, не практические, психологические всего лишь, а то даже и идеологические.
Олег, старый и верный друг, благодаря невероятным техническим способностям которого и стала возможной вся предыдущая история, каким-то необъяснимым озарением создавший чуть ли не из старых консервных банок и допотопных электронных ламп первый действующий макет своего аппарата, превратился сейчас в тихого, но непримиримого противника. Он, никогда не афишировавший своих политических пристрастий, демонстрировавший, скорее, разумный нонконформизм в отношении к советской власти, проявил себя вдруг ортодоксальным коммунистом. Или консерватором, если угодно.
Как только «Валгалла» пересекла межвременной барьер и стало очевидно, что двадцатый год надолго, если не навсегда будет их единственной Реальностью, Новиков со товарищи решили устроить этот мир более разумно, чем в прошлый раз, то есть не допустить окончательной победы красных в полыхающей гражданской войне.
И, неожиданно для всех, Олег встал на дыбы. Мысль о том, чтобы выступить на стороне белых, показалась ему настолько чудовищной, что он на некоторое время утратил даже элементарную корректность по отношению к друзьям. Что дало повод Шульгину, знатоку и поклоннику романов Дюма, напомнить ему аналогичную коллизию среди мушкетеров из «Двадцати лет спустя». А Новикову предпринять более сильные меры психологического плана.
Левашов вернулся в определенные их прежними отношениями рамки и признал, что исконные ценности дружбы выше любых идеологических пристрастий, но выторговал себе право Неучастия. В полном соответствии с канонами одной из ветвей буддизма. И он же, принципиальный и потомственный атеист, самостоятельно сформулировал одно из положений, содержащихся в трудах отцов Церкви — «Зло неизбежно, но горе тому, через кого оно приходит в этот мир». Короче, он объявил о своем полном нейтралитете и отказе каким бы то ни было образом участвовать в затее своих сумасбродных приятелей. Последнее слово употреблено здесь не случайно — после решительного объяснения Олег настолько отдалился от повседневной жизни компании, что их отношения действительно можно было назвать всего лишь приятельскими.
Он даже к обедам и ужинам выходил не всегда, ссылаясь на напряженные научные занятия, и лишь одна Лариса знала, чем он занимается в свободное от этих занятий время, если оно у него вообще было.
Вот и сейчас Новиков с Берестиным застали его в рабочем кабинете, похожем на лабораторию сумасшедшего алхимика со средневековой гравюры. Разве что вместо реторт и тиглей на столах мерцали экранами одновременно пять мониторов, кучами валялись книги, стопки исписанных и чистых листов бумаги, какие-то осциллографы, генераторы стандартных частот и прочий электромеханический хлам, ни об устройстве, ни о назначении которого Новиков с Берестиным не имели никакого представления.
Ввиду отсутствия иллюминаторов в кабинете горели лампы дневного света, пахло озоном, канифолью, застарелым табачным дымом. Такая же атмосфера, как в его московской квартире в те далекие и безмятежные времена, когда Олег создавал свою машину.
В расставленных где придется пепельницах кучами громоздились окурки, валялись пустые и полные пачки «Честерфильда», который только и курил Левашов, пристрастившись к нему еще в своих загранплаваниях. На верстаке бурлил и хрюкал стеклянный кофейник.
Увидев посетителей, Олег развернулся в винтовом кресле, поднял голову, моргнул несколько раз воспаленными глазами.
— Привет. Случилось что-нибудь?
— Почему вдруг — случилось? — удивился Новиков. — Так зашли, поинтересоваться, куда ты пропал и жив ли вообще. Над чем это ты так заработался?
Берестин обошел кабинет, с высокомерно-недоуменным выражением разглядывая непонятно что делающие машины, потом нашел свободный стул, сел, закинул ногу на ногу, сделал непроницаемое лицо. Будто понятой на обыске.
— Если вам интересно — пытаюсь рассчитать закономерности, о которых говорил Антон. Насчет узловых точек реального времени, в которых возможны взаимопереходы…
— Это ты имеешь в виду перспективу возвращения домой?
— В какой-то мере да, но это уже побочный эффект, главное — установить физический смысл феномена.
— А получается, хоть в первом приближении?
— Брось, а… — неожиданно проронил усталым тоном Левашов. — Тебя же это совершенно не интересует. Зачем пришли?
— Да просто выпить с тобой. Душа болит смотреть, как ты мучаешься, — вместо Новикова ответил Берестин. — Умножая знания, умножаешь скорбь. Глядя на тебя, убеждаешься в справедливости этой истины.
Алексей извлек из внутреннего кармана плоскую серебряную фляжку.
— У тебя стаканы есть?
Левашов принес из ванной три тонких стакана. Андрей счел это хорошим признаком. Похоже, Олег и сам уже устал от своей конфронтации. Нельзя жить в обществе и быть свободным от общества, тут классик прав.
Выпили грамм по семьдесят очень старого коньяку. Закусить было нечем, обошлись крепким кофе без сахара, закурили.
Поговорили немного как бы и ни о чем. Андрей с юмором пересказал некоторые моменты своей дипломатической миссии, а Берестин поведал о впечатлениях, которые у него оставило посещение ресторана «Медведь».
— Тебе тоже стоило бы рассеяться. Ты же так еще на берегу и не был? Бери Ларису и сходим, прямо сегодня. Она не против…
— Пока нет настроения, — отрезал Левашов. — Потом как-нибудь.
— Боишься идеологическую невинность потерять? — неудачно сострил Берестин и чуть все не испортил. Новикову пришлось долго и осторожно исправлять ситуацию.
— Ну так что вам все-таки конкретно надо? — вновь спросил Олег, когда выпили по второй и глаза его наконец засветились прежней живостью.
— Двадцать тысяч винтовок, — рубанул Берестин.
— И только-то? А как же договор?
— При чем тут договор? — удивился Новиков. — Речь шла о том, что ты не будешь принимать участия в боевых действиях…
— И выступать на вашей стороне.
— Стоп, братец. — Новиков вновь попал в любимую стихию софистики. — Мы договорились, что ты не будешь выступать на стороне красных, а мы не будем принимать личного участия в боях. Сейчас же мы просим помочь лично нам. Винтовки нужны для осуществления моих собственных планов. Допустим, экспериментально-психологических. Куда я их дену и за сколько — мой вопрос.
— Но ты же их все равно передашь Врангелю…
— А вот это тебя не касается, по смыслу договора. Кроме того, если тебе интересно, моя сделка будет только способствовать уравнению шансов. В распоряжении красных все оружейные заводы России плюс запасы царской армии, а у белых ничего. Да вдобавок Антанта прекратила поставки, по тайному сговору с большевиками. Неспортивно получается. Как если бы на соревнованиях по лыжам или велосипеду одной команде на трассе можно было заменять сломанный инвентарь, а другой нет…
После мучительных раздумий и колебаний, во время которых Новиков благоразумно молчал, а Берестин наполнил и вложил в руки Олега еще один стакан, Левашов обреченно махнул рукой.
— Ну вас к черту! Сделаю. Но все-таки сволочи вы. Это ведь наших с вами дедов из этих винтовок убивать будут…
— Как сказать, — с растяжкой и словно бы с угрозой в голосе ответил Берестин. — А без этих винтовок сколько наших же русских людей погибнет? В том числе и тех, вообще ни в чем, кроме происхождения, не виноватых детей, женщин и стариков, которых после взятия Крыма твои братья по классу, белы куны и землячки всякие без суда перестреляют?
Левашов скрипнул зубами, но промолчал на этот раз. Давясь, выпил коньяк.
«Не спился бы от чрезмерной принципиальности», — подумал Новиков, раздваиваясь душой между сочувствием к другу и злостью на его бессмысленное упрямство.
— Только ведь двадцать тысяч винтарей — это на четверо суток работы, — слегка заплетающимся языком сообщил Левашов. Спиртное всегда действовало на него удивительно быстро.
— Ты как считаешь, математик? — удивился Алексей.
— Элементарно. По двадцать секунд на винтовку, если дубликатор без перерыва работать будет, как раз четверо суток…
Берестин расхохотался.
— Точно, доработался. До ручки. А ну, шевельни мозгами… Во-первых, делать будем не по одной, а ящиками, это уже пять сразу, а во-вторых, зачем их из дубликатора вытаскивать? Первый ящик изготовить, а потом удваивать всю произведенную продукцию прямо в камере… Посчитай еще раз.
Левашов хлопнул себя ладонью по лбу.
— И правда, крыша едет. Вы кого хочешь доведете. В этом варианте получается, что управимся за пятнадцать минут. Ну, их же еще выгружать из контура придется, в штабеля складировать, к лифту подавать. Для этого можно электрокар приспособить. Короче, за два часа все сделаем, не сильно упираясь…
Радость от решения технической задачи явно пересилила в нем идеологические соображения.
— А какие винтовки будем штамповать?
— Лучше всего — карабины трехлинейные, сорок четвертого года, с откидным штыком. Я Сашке скажу, он тебе образец принесет. Только вот что — ты как-нибудь звезду и год выпуска с казенника спили, во избежание ненужных вопросов. А когда с винтарями закончим, надо будет еще тонн десять золота отшлепать. На этот раз в монетах. Царских и двадцатидолларовых. Идет?..
— Идет. — Левашов тер глаза рукой и всем своим видом показывал, что больше всего ему хочется лечь и отключиться ото всех творящихся в мире безобразий. — В конце-то концов, когда мы с Воронцовым на пароходе оружие возили, то на Кубу, то в Анголу или Мозамбик, нас оно каким краем касалось? Кто стреляет, тот и отвечает, а наше дело ящики в Одессе принять, в Луанду доставить… Я правильно рассуждаю? — Он привстал и направил на Новикова указательный палец.
— Абсолютно. Причем учти еще, что истинным владельцем дубликатора является именно Воронцов, а конструктором — Антон. Так что ты всего лишь для нас с Лешей кнопки понажимаешь, потому как мы в этом деле люди темные. Считаем, что шабашку сбил за поллитра. К судьбам мировой революции данная акция отношения не имеет.
— Ну и хорошо. Я сейчас пойду прилягу, чего-то развозит меня. А потом займусь…
Новиков с Берестиным остановились на площадке трапа, ведущего в палубу кают второго класса.
— Так, товарища успокоили, как любил говорить твой альтер эго, теперь и самим можно отдохнуть, — мрачно пошутил Алексей. — Признаться, я думал, с ним будет сложнее…
— Лишь бы он не передумал, отоспавшись. А сейчас пойдем взглянем, чем наша преторианская гвардия занимается.
Офицеры штурмового батальона изнывали от скуки в своей плавучей тюрьме, хотя она не шла ни в какое сравнение с лагерем для интернированных в Галлиполи, где многим из них пришлось провести по месяцу и больше. Одно- и двухместные каюты, бильярдные, кинозал, библиотека, сауна, хорошая столовая с баром, где, впрочем, подавали только пиво и сухое вино в умеренных количествах, и напряженный график боевой и физической подготовки оставляли не так много времени для праздных мыслей. Однако вид близкого крымского берега, городских огней ночью и прогуливающейся по набережным публики днем, до которых, особенно через оптику мощных биноклей, было рукой подать, вызвали у отвыкших от Родины офицеров естественное желание побыстрее покинуть опостылевший пароход.
Выслушав рапорт исполнявшего обязанности командира батальона капитана Басманова, Берестин предложил пройти в штабной отсек. Туда же пригласили подполковника Генерального штаба Сугорина.
— Считаю своим долгом доложить, что состояние личного состава оставляет желать лучшего, — сказал Басманов, когда все расселись вокруг стола с картами Северной Таврии. — Люди ведут между собой нежелательные разговоры…
— Михаил Федорович слегка драматизирует, — попытался смягчить слова Басманова подполковник. — Хотя, конечно, для поддержания боевого духа полезнее было бы поскорее занять их серьезным делом. Желательно на берегу.
— Для этого мы вас и пригласили. — Новиков нашел комплект карт Северной Таврии. — По смыслу достигнутых с генералом Врангелем соглашений в ближайшее время мы получим возможность испытать батальон в боевой обстановке. Красные силами до трех дивизий с большим количеством артиллерии переправились через Днепр в районе Каховки и захватили плацдарм на левом берегу, который сейчас спешным образом укрепляется. Попытки руководимых генералом Слащевым войск выбить противника с плацдарма успехом не увенчались. Причина — почти десятикратный перевес неприятеля в живой силе и технике и несогласованность действий белых генералов… — но об этом вам полнее и грамотнее сообщит господин Берестин.
Алексей вновь ощутил себя почти так, как в сорок первом году на совещании высшего комсостава округа в Белостоке. Коротко и четко он обрисовал характер и дислокацию противостоящих войск, показал на картах этапы развития операции.
— В настоящее время Слащев планирует предпринять еще один штурм плацдарма.
— Ничего не выйдет, — категорически возразил Сугорин. — Врангель никогда не подчинит ему войска фронта, а без этого одним своим корпусом он ничего не сделает. На двести верст у Слащева три с половиной тысячи штыков и полторы тысячи сабель. Этого достаточно для маневренной обороны перешейков, но не для наступательной операции с решительными целями. Силы будут растрачены напрасно, а в итоге, когда красные создадут на плацдарме мощный ударный кулак, отразить его будет уже нечем.
Анализ Сугорина поразил Берестина своим полным соответствием тому, что произошло в предыдущей исторической реальности спустя всего два месяца.
— А если Врангель все-таки пойдет на то, чтобы подчинить Слащеву корпус Кутепова и конный корпус Барбовича?
— Вряд ли это возможно. Но если допустить, пусть теоретически, тогда шансы у него есть. И все же стратегической перспективы этой кампании я не вижу…
— Естественно, — согласился с ним Берестин. — С точки зрения генерала Леера, при отсутствии мощного главного резерва такая операция перспектив не имеет. Однако вы тоже кое-чего не учитываете.
— Позвольте мне вмешаться. — Новиков не хотел сейчас допустить долгого и по сути бессмысленного спора. Слишком разными категориями оперировали его участники. — Вы, Петр Петрович, насколько я вас знаю, выдающийся знаток военного искусства, однако ваши способности нынешним руководством Белого движения не востребованы. В свою очередь, добившиеся серьезных успехов белые генералы не более чем способные тактики. Вы видите выход из такого положения?
— Не вижу, — твердо ответил Сугорин. — Вся беда в том, что на протяжении более чем века в Русской армии господствовал негативный отбор. В результате уже в мировую войну армия вступила с отличными полками, посредственными дивизиями и плохими армиями.
Из старых командармов, слава богу, в белой армии нет никого. Ее вожди составились из начальников дивизий и полковых командиров. Поэтому они нередко добивались значительных успехов. Но ни один успех не стал победой. Так будет и дальше… Даже и любимый вами Слащев — как только блистательно выигранный им бой потребует стратегического развития, он закончится в лучшем случае оперативным коллапсом. И переходом к обороне на более-менее выгодном рубеже. А потом — тем, чем закончился прорыв Деникина к Орлу. Беспорядочным отступлением…
— Спасибо, полковник. Ваше мнение мы непременно учтем. И постараемся выйти из порочного круга. Вот, допустим, если в ходе развития спланированной Слащевым операции мы сначала… Ну, убедим Врангеля сделать то, что вы считаете необходимым, а потом… — Берестин остро отточенным красным карандашом показал на карте то, что придумал, сидя над планшетом своего компьютера.
— А что, — Сугорин с интересом и вдруг пробудившимся уважением посмотрел на Берестина. — Такой ход будет весьма неожиданным для обеих сторон… Если о нем раньше времени никто не узнает.
— Об этом мы позаботимся.
— Только учтите, господин генерал, у вас будет один-единственный шанс. Либо выйдет по-вашему, либо…
— А чтобы никакого «либо» не было, вот тогда-то здесь мы и введем в бой ваш батальон… — Берестин подробно изложил свой замысел.
— А теперь обсуждение считаю законченным. Вас, господин полковник, я прошу составить боевой приказ батальону, исходя из моего плана. Вы, капитан, на основе этого приказа займитесь практической подготовкой. Разбейте батальон на взводы и боевые группы, определите потребность в оружии и боеприпасах, проведите командирскую учебу на картах и начинайте тренировки личного состава. Срок — двое суток. В восемь ноль-ноль двадцать девятого доложите о готовности. Если возникнут вопросы — разрешаю обращаться в любое время.
— И еще, — добавил Берестин, вставая. — Если все пойдет, как я рассчитываю, придется вводить здесь обычаи и порядки японской армии. Чтобы выпрямить палку, надо ее перегнуть в обратную сторону. За малейшее неисполнение приказа и даже за неоправданную пассивность в боевой обстановке будем карать беспощадно, вплоть до отстранения от должности и разжалования… — Он чуть ли не с ностальгическим чувством вспомнил, как хорошо обстояло дело с дисциплинарными взысканиями на руководимом им под личиной Маркова Западном фронте.
— А еще у японцев есть хороший обычай. Там фельдфебель или унтер бьет солдата бамбуковой палкой, а потом предлагает объяснить, за что последовало наказание…
— И вы что же, думаете, что такие меры помогут?
— Господин полковник, — Берестин даже развел руками от полноты чувств, — вам что, мало всего пережитого и одной эмиграции, чтобы во второй еще раз на досуге порассуждать о роли сознательной дисциплины в гражданской войне? Удивлен, честное слово, удивлен вашей позицией… Ну, ничего, у нас еще будет время обсудить эту тему, а пока прошу вас вместе с капитаном подготовить схему действий батальона в предложенном мной варианте.
…Пока Ирина одевалась, Новиков спросил ее, сможет ли она не только разыграть роль целительницы, наследницы жрецов майя, но и внушить Врангелю некоторые истины, которые он должен будет счесть собственными, выстраданными мыслями.
— Боюсь, что нет. Я немного владею способами логического воздействия на собеседника, да и то не в полной мере. Берестина я сумела убедить сотрудничать со мной, а тебя вот нет, хотя мы с тобой были гораздо более близкими друзьями…
— Наверное, именно поэтому. — Новиков вздохнул, вспомнив о прошлом, виновато опустил глаза.
— Для этого тебе лучше обратиться к Сильвии. Она владеет невербальными методами внушения в совершенстве.
Пришлось Новикову разыскивать Сильвию в лабиринтах шести верхних палуб корабля. Благо, что он и без помощи Воронцова имел возможность получать нужную информацию.
Бывшая аггрианка встретила его на пороге своей каюты одетая по-домашнему, в джинсах и клетчатой рубашке с закатанными рукавами.
Если бы он не знал, то никак не смог бы заподозрить в этой женщине, похожей на американку из Северо-Восточных штатов, даму, на протяжении сотни лет принадлежавшую к наиболее аристократическим кругам Великобритании.
— Чем я обязана столь неожиданному и приятному визиту? — спросила Сильвия, скромно приопустив длинные ресницы.
«Ах ты, стерва рыжая», — беззлобно, скорее даже уважительно подумал Новиков, еще не зная о ее сговоре с Берестиным, просто чутьем профессионального психолога догадываясь о претензиях этой проигравшей, но не побежденной женщины на лидерство. Пусть пока даже в прекрасной половине их компании.
— Войти вы меня пригласите?
— Конечно-конечно, прошу меня извинить. — Она провела Андрея в тот самый холл, где позировала Берестину. Указала на глубокое кресло у камина.
— Что-нибудь выпьете?
— Спасибо, до заката солнца не употребляю. Разрешите говорить без преамбул?
— Пожалуйста. Случилось что-нибудь серьезное?
— Думаю, что пока нет. Просто не хочется тратить время на протокольные фразы, не нужные ни вам, ни мне.
— Возможно, так действительно будет лучше. А то даже странно получается — вы как бы негласный лидер здешнего общества, а мы с вами даже ни разу не говорили по душам…
— Наверное, это моя вина. Постараюсь ее загладить. Итак, Сильвия, вы действительно сознательно и чистосердечно решили стать членом нашего… э-э… коллектива? Вот черт, никак не могу избавиться от стереотипных выражений.
— У вас есть в этом сомнения?
— У меня лично нет. Но я хотел бы услышать ваш ответ.
— Если вам нужно это услышать, то да. Клятвы требуются?
— Клятвы — нет. А вот практическое подтверждение, пожалуй, потребуется. Сейчас мы с Ириной собираемся на ужин к генералу Врангелю. Постараемся обсудить с ним ряд важных вопросов. Прошу вас поехать со мной.
— С вами к Врангелю? — искренне удивилась Сильвия. — Зачем я вам? Подтвердить вашу близость к британскому королевскому двору?
— И это было бы невредно. А заодно удивить генерала красотой наших дам. Вы вместе с Ириной — достаточно яркая пара, согласны?
— Мы — это вы, она, я, и кто четвертый?
— Правильно. Четвертый нужен. Если это будет Берестин?
— Почему он? — насторожилась Сильвия, и Новиков, уловив ее эмоцию, подобрался тоже.
— Возможно, вы предпочли бы общество Шульгина, но для пользы дела я бы хотел представить Врангелю именно Алексея. Поскольку он должен занять должность главного военного советника.
— Ах, вот как, — в ее голосе послышалось облегчение, и Новиков сделал в памяти очередную зарубку. Будет о чем подумать на досуге.
— Согласны?
— Не имею оснований возражать. И это все?
— Почти. Вам придется сыграть еще одну роль — этакой роковой женщины, владеющей древними секретами врачевания. Неплохо бы вам надеть черный парик, подвести глаза, подкрасить губы бордовой помадой…
Сильвия надменно вскинула подбородок.
— Уж если мне придется играть такую роль, я сама в состоянии подобрать подходящий образ…
— Ради бога, — поднял руки Новиков. — Конечно, не мне вас учить, это я так, исходя из вкусов текущего времени. Но в принципе вы согласны?
— Вы же сами сказали, что считаете меня членом своей команды.
— Отлично. Теперь дальше. Вы проводите сеанс лечения с помощью браслета, одновременно производя всякие пассы и бормоча заклинания… Но мне еще нужно, чтобы вы внедрили в подсознание пациента некоторые идеи. Что он действительно считает Берестина своим советником, настолько умным и авторитетным, что любая его рекомендация по кадровым и стратегическим вопросам должна приниматься не только без сопротивления, но и ценой конфронтации с любым другим генералом белой армии. И еще — чтобы любой сотрудник Врангеля, который попытается внушить ему недоверие ко мне, Берестину, Шульгину, вообще любому из нас, воспринимался им как агент большевиков или Антанты, мечтающий лишить генерала единственных верных и бескорыстных друзей…
Сильвия, до того стоявшая перед Новиковым, опершись локтем о каминную полку и словно нетерпеливо ожидавшая, когда он выскажет все, что намеревался, и оставит ее в покое, сейчас вдруг посерьезнела, опустила голову, подошла к креслу и села, положив на колени ладони со сплетенными пальцами.
— Знаете, Алексей, а ведь вы требуете от меня почти невозможного.
— Отчего же? Мне казалось, вы не останавливались и перед более радикальными вмешательствами… Не только в психику отдельной личности, но и в человеческую историю.
Сильвия сожалеюще покачала головой.
— Не так. Вы ведь знаете Ирину довольно давно?
— Восемь лет, с некоторыми перерывами.
— Ну вот. А позволила она себе хоть раз вмешаться в вашу психику, даже имея куда более веские основания? Когда вы не отвечали на ее чувства, когда отказались помогать ей в ее миссии, когда, наконец, нужно было спасать из временного сдвига вашего соперника Берестина?
— Вы все это знаете? — не смог скрыть удивления Андрей. — Преклоняюсь. Не зря вы занимали свой пост…
— Наверное, да. Так вот, она убеждала вас, как могла, страдала, унижалась даже, но внушать вам что-либо помимо вашей воли не сочла возможным. У нас это как бы категорический императив. Убить противника в случае необходимости допускается, но вторгаться в глубины его личности… Да что далеко ходить — Шульгина ведь мы хотели сломать, сами находясь уже в отчаянном положении, исключительно методами внешнего воздействия. Почему и проиграли…
— Тогда зачем вам вообще способности к невербальному воздействию?
— Исключительно для самообороны. На случай, если противник применит такие методы первым.
Новиков задумался. Чтобы собраться с мыслями, обвел взглядом холл, в котором оказался впервые. Хотя выглядел он достаточно сумрачно из-за темных дубовых панелей, мебели, обтянутой мягкой шоколадной кожей, персидских и афганских ковров кровавых оттенков, все равно чувствовалось, что хозяйка этого жилища — женщина. Витали здесь запахи изысканных терпких духов, стояли на полках разные безделушки, да и зеркал было многовато для такого помещения, обитай здесь чопорный джентльмен соответствующих интерьеру времен.
Разговор с Сильвией его озадачил. Плоская картинка начинала приобретать объемность. Раньше он думал, что только Ирина оказалась такой «человечной», прочие же аггры — монстры, какими их рисовал Антон. А вот теперь и Сильвия…
Надо придумать довод, способный ее переубедить. А то ведь беда — слишком много в его окружении появилось персонажей с принципами. Олег, эта инопланетянка… Кто следующий?
— Понимаю, — осторожно сказал он. — Но сейчас, по-моему, особый случай. Во-первых, стоит ли держаться за устаревшие принципы? Обстоятельства изменились довольно резко. Вы уже не резидент, обязанный соблюдать дипломатический протокол, а просто земная женщина, и вам следует исходить из этого. Мы теперь с вами люди одного клана, и интересы этого клана имеют приоритетное значение. Во-вторых, мое предложение не подразумевает вмешательство с какими-то враждебными целями. Планируемое мною внушение должно облегчить достижение жизненно важной для самого субъекта вмешательства цели и избавить его от опасного раздвоения личности… Так сказать — превентивная терапия. Вы должны это учесть, когда будете взвешивать «за» и «против».
Сильвия смотрела в пол, машинально покачивая ногой. Андрей изучал ее омраченное тяжелыми раздумьями лицо и вновь удивлялся, насколько не соответствует реальность нашим о ней представлениям. Как все было понятно в начале этой истории, и как все смешалось теперь. Даже на примере сидящей перед ним красивой женщины. Неужели всего месяц назад он воспринимал ее как смертельно опасного монстра?
— Я попрошу вас, Андрей, — наконец сказала она. — Оставьте меня на какое-то время. На час, на два… Потом я сама зайду к вам.
— Хорошо. Вы знаете мою каюту?
— Знаю.
— Тогда буду ждать. Имейте в виду, что генерал нас пригласил к восьми. Катер отойдет от трапа в семь.
Глава 6
Сильвия пришла вовремя. Новиков открыл дверь и буквальным образом обалдел. Она не воспользовалась его советом и придумала себе совсем другой облик. Наверное, она знала лучше, как должна выглядеть жрица майя или еще какой-нибудь забытой цивилизации. Когда Андрей говорил с ней, он держал в воображении экстрасенсшу (или экстрасенсорку?) типа пресловутой Джуны, а тут перед ним стояла красавица из легенд. Чьих? Возможно, даже атлантских.
Лицо и открытые выше локтей руки покрывал нежный, персикового оттенка загар. Пышные, цвета красного дерева волосы стягивал золотой обруч, украшенный сапфирами. И такого же сапфирового тона глаза с поблескивающими в них искрами сияли на ее невыразимо прекрасном лице.
Одета Сильвия была в свободную бледно-фиолетовую тунику.
— Потрясен, — только и сумел сказать Новиков, отступая в глубь каюты. Там ждала Ирина, тоже готовая к поездке, но ее туалет не мог соперничать с тем, который изобрела Сильвия.
Соотечественницы обменялись вежливыми полупоклонами и острыми, кинжальными взглядами.
— Генерал, конечно, будет сражен, но не слишком ли тяжело вы его контузите?
— Думаю, все будет в порядке. Я постараюсь, чтобы он воспринял меня должным образом. — Лицо Сильвии осталось почти неподвижным, шутку Андрея она как бы не поняла.
— Вам виднее. Только, пожалуй, вам стоит накинуть сверху какой-нибудь скромненький плащ. Нам же придется ехать через центр города, а там достаточно зевак.
— Хорошо, — коротко кивнула аггрианка. Почти тут же раздался гудок телефона. Берестин сообщал, что он уже на палубе и разъездной катер подан.
…Врангель, как человек, мыслящий рационально, решил подстраховаться и пригласил своего личного врача, статского советника Чуменко, сообщив лишь, что некий специалист по древним методам лечения обещает ему быстрое и радикальное исцеление от всех болезней.
Доктор внимательно посмотрел на генерала сквозь толстые стекла очков, побарабанил пальцами по подлокотникам кресла, вздохнул.
— Не смею вас отговаривать, Петр Николаевич, но лично я отношусь ко всякого рода знахарям крайне отрицательно. Если бы их методики имели положительный эффект, современная научная медицина просто не возникла бы. Даже самые могущественные владыки экзотических стран предпочитают лечиться у европейских врачей.
— Разделяю ваше мнение, Николай Валентинович. Однако сегодняшний э-э… сеанс будет иметь скорее дипломатическое, чем медицинское, значение. Поэтому я прошу вас сейчас же внимательно меня обследовать, составить подробное заключение, а также присутствовать при имеющей быть процедуре. После чего повторить осмотр…
— Ах, вот так? Хорошо. Особой необходимости в осмотре нет, я и так прекрасно осведомлен о вашем состоянии, но если вы находите это нужным… Я, разумеется, буду присутствовать и, если сочту необходимым, немедленно прекращу сеанс. А из каких краев целитель, позвольте полюбопытствовать? Из Тибета?
— Я и сам точно не знаю. Якобы откуда-то из Мексики…
— Не слышал, не слышал… Надеюсь, это будет забавно.
…К ужину Врангель намеренно не пригласил никого, кроме доктора Чуменко и генерала Шатилова с женой. Он не хотел, чтобы раньше времени по армии и тыловому «обществу» пошли ненужные разговоры. И убедился в собственной правоте, когда гости поднялись по парадной лестнице. Ирина, конечно, была очаровательна, но подобных женщин он повидал немало на петербургских балах. На его вкус, там бывали красавицы и поэффектней. А вот Сильвия, когда сбросила на руки лакея плащ, ошеломила и Главнокомандующего, и Шатилова, и их жен. Только старый мизантроп-доктор сохранил самообладание.
Экзотическую даму он воспринял скорее как конкурентку и шарлатанку, нежели просто женщину. И, приложившись к ручке, вновь удалился в глубокий эркер, утонул в подушках обширного дивана и задымил папиросой, изображая полное безразличие. Однако к разговорам прислушивался внимательно.
Сильвия, по легенде, русским не владела, поэтому за столом сидела молча, и лишь когда беседа касалась каких-то уж очень интересных тем, Ирина исполняла для нее роль синхронной переводчицы на испанский. Когда мужчины выходили на балкон покурить, Берестин обсуждал с генералами практические вопросы. Благодаря сохранившейся у него памяти командарма Маркова, который участвовал в гражданской войне, а потом изучал и сам преподавал стратегию в академии имени Фрунзе, он легко убедил Врангеля в своей высокой квалификации.
Но и сам ужин, и застольные беседы были лишь прелюдией к главному номеру программы.
Часов около одиннадцати, еще раз уточнив у Новикова согласие пациента на участие в сеансе, Сильвия пригласила генерала в отдельное помещение. Врангель встал и наклонил голову, но выражение лица у него было такое, что трудно было понять, идет ли он на предложенную процедуру с удовольствием и надеждой или считает себя жертвой очередного розыгрыша.
За генералом, направившимся в малый салон, потянулись его доктор, жена, Новиков, как организатор всего этого дела, и последней — Сильвия, с отстраненно-сосредоточенным видом.
Комната была не очень большая, метров двадцать площадью, середину ее покрывал текинский ковер, вдоль стен стояло несколько кресел, две бамбуковые этажерки с книгами, пальма Хамеропс в кадке…
Из земли, как наметанным взглядом заметил Новиков, торчало несколько папиросных окурков. Это неожиданно вызвало у него теплое чувство — и его отец так делал иногда, если не успевала заметить и пресечь такое кощунство мать…
Он представлял себе, что сеанс, устроенный Сильвией, будет выглядеть примерно так, как их обставляли известные ему по Москве восьмидесятых годов знахари и экстрасенсы. Но она сразу же поломала традиционную схему.
Сильвия предложила генералу сесть в кресло у восточной стены, предварительно сняв черкеску с серебряным поясом и кинжалом. А также шейный крест ордена Святого Владимира.
Затем она извлекла откуда-то, скорее всего из рукава, несколько свечей, которыми окружила кресло генерала. Свечи вспыхнули словно сами собой.
Взмахом широко разведенных рук она заставила всех присутствующих опуститься на пол, кто где стоял.
От горящих свечей по комнате распространился густой, тяжелый, пряный запах, вызывающий головокружение и одновременно странную легкость в теле.
Новиков, готовый к подобным фокусам, внушению не поддался и успел заметить, как Сильвия застегнула на запястье генерала черный браслет-гомеостат. Это изобретенное агграми устройство обеспечивало своему носителю поддержание и стимулирование приспособительных реакций организма на уровне его генетической программы, устраняло воздействие любых факторов, нарушающих постоянство внутренней среды организма, гарантировало стопроцентную регенерацию тканей в случае механических, термических, химических и прочих повреждений.
В этом и заключался смысл лечения, все остальное должно было создать необходимое настроение и обстановку, подходящую для внушения.
Здесь Сильвия сумела себя показать. Ритмично двигаясь в подобии волнообразного, колеблющегося танца, обладающего, в дополнение к гипнотическому запаху свечей, собственным психологическим воздействием, Сильвия запела какую-то песню. Вернее, Андрей классифицировал как песню это сочетание высоких и низких диссонирующих звуков, подчиняющихся трудноуловимым закономерностям, совершенно чуждым человеческому, по крайней мере — европейскому, слуху.
Вьетнамская или китайская музыка в сопоставлении с этой казалась родной и понятной.
Сильвия то кружилась вокруг кресла впавшего в полную прострацию Врангеля, то замирала над ним, совершая немыслимой сложности пассы перед его полузакрытыми глазами.
Новиков с огромным трудом ухитрялся не поддаться воздействию этого камлания, которое, наверно, представляло из себя элементы культовых плясок аггров. Или с тем же успехом могло быть вполне рядовым танцем из репертуара тамошней самодеятельности.
Время остановилось. Когда сеанс закончился, никто из присутствующих не мог бы сказать, часы прошли или минуты.
Опять-таки, кроме Новикова. Да и он ощутил себя так, как бывает в болезненном полусне — вроде бы ты и бодрствуешь, и способен оценить свое состояние, и одновременно на трезвые мысли накладываются искажающие действительность то ли грезы, то ли бредовые иллюзии, после которых страшно вновь закрыть глаза.
Вдоль стены, стараясь не привлекать внимания Сильвии — а была ли в данный момент эта жрица неведомого культа знакомой ему Сильвией, — он переместился к окну и присел на подоконник, вдыхая струйку прохладного воздуха, сочащегося из-за приоткрытой створки.
Все оборвалось внезапно. Последний экстатический вскрик, уходящий в ультразвук, — и тишина. Присутствующие в комнате люди очнулись, как бы и не подозревая о только что случившемся наваждении. Похоже, что вообще они не заметили чего-то необычного и даже танца Сильвии не помнили.
Первым поднялся из своего кресла Врангель.
— И что же? В чем заключалось лечение? Свечи, запахи и три взмаха рук? — спросил он брюзгливым тоном. И вдруг замолчал, будто прислушиваясь к чему-то внутри себя. Лицо его отразило недоумение. Он повернулся к доктору.
— Николай Валентинович… Вы знаете, я себя чувствую как-то иначе! Нет, в самом деле… — Он выпрямился, резко повел назад плечами, глубоко вздохнул несколько раз. — Совершенно другое ощущение. — Генерал провел ладонью по груди в области сердца. — Не давит. И дышать легко.
Врач скептически пожал плечами.
— Вдыхание многих курений и фимиамов способно вызвать эйфорический эффект. И обезболивающий. Не вижу в этом ничего удивительного.
Сильвия сидела в стороне, и Новиков видел, что она обессилела, полностью выложившись в действе, которое, как он раньше считал, не должно было стать более чем имитацией сеанса знахарской терапии. Наверное, все обстояло не так просто.
— Доктор, — обратился он к Чуменко. — Я бы на вашем месте воздержался от не совсем этичных высказываний. Хотя она вас и не понимает. Вы же коллеги, в конце концов. Кажется, речь шла о том, что вы должны засвидетельствовать состояние пациента до и после лечения. Так сделайте это. А потом сообщите нам свое мнение.
— Хорошо. В таком случае прошу оставить нас с генералом наедине.
Все, кроме генерала и доктора, вернулись к столу, но разговор, который попытались возобновить Новиков и Берестин, не получался. Не только жена Врангеля, но и все остальные словно бы прислушивались к тому, что происходит за закрытой дверью комнаты.
Наконец она открылась. Главнокомандующий выглядел бодрым и веселым, а врач — растерянным.
Новиков поманил его пальцем, указал на стул рядом с собой.
— Прошу вас, не говорите сейчас ничего. Я знаю, что вас удивило. Но не делайте опрометчивых выводов. Мы с вами образованные люди и должны сохранять здоровый скепсис. Однако завтра повторите самый углубленный медосмотр. И если положение не изменится…
— А отчего бы нам не выпить вина, господа? — провозгласил Врангель. Андрей понимал его состояние. Когда сам он впервые испытал на себе действие браслета, ему тоже хотелось бегать, прыгать и совершать всякие несовместимые с возрастом поступки. Потому что впервые после раннего детства он ощутил тогда состояние полного телесного и душевного здоровья, остроту и яркость чувств, давно забытые, стертые серой повседневностью жизни и накопившейся в организме необратимой усталостью. Врангель, очевидно, из-за отсутствия привычки к рефлексиям не мог так четко определить случившиеся с ним изменения, но само изменение ощутил и отреагировал на него доступным ему образом.
Да и чему удивляться — на взрослого человека браслет действовал так, что после даже получасового воздействия пациент физически чувствовал себя, как Гагарин на последнем перед стартом медосмотре.
Причем, как начал догадываться Андрей, сам по себе браслет — не более чем «аптечка первой помощи», настоящее же лечение требует участия специалиста, роль которого исполнила Сильвия.
Доктор Чуменко жадно выпил большой бокал хереса.
— Нет, завтра я, конечно, проведу углубленное обследование. Рентген, все анализы, может быть, даже соберу консилиум. Но все равно это поразительно! У генерала исчезли отеки, нормализовался пульс, я не слышал шумов в сердце. А самое главное — шрамы! Два шрама пулевых и один осколочный… Они-то куда пропали? Вы должны помочь мне побеседовать с этой дамой. Как переводчик. Я, видите ли, только немецкий знаю, учился в Данциге…
— Это не беда, доктор. Мисс Си и по-немецки говорит свободно. Проблема только — захочет ли?
— Вы непременно должны это устроить. Это необыкновенно важно. Интересы науки…
— Хорошо, хорошо, я постараюсь, но вы должны обещать полную конфиденциальность. Нам не нужны лишние слухи, и к частной практике мисс Си не стремится…
Глава 7
«Брак по расчету бывает удачным, когда расчет правильный», — вспомнил Новиков услышанную когда-то фразу. Его расчет тоже оказался правильным, и Врангель, наверное, проникся бы к нему абсолютным доверием и уважением даже и без вмешательства в его подсознание, только по результатам лечения. Слишком они были убедительны.
Своим здоровьем, как и жизнью вообще, Петр Николаевич не слишком дорожил, оно было нужно генералу как инструмент, обеспечивающий достижение главной цели — победы в войне. Теперь он этот инструмент получил и вновь мог, как во времена учебы в Академии и японской войны, сутками подряд работать с документами и картами, по многу часов не слезать с седла, бегом и с полной выкладкой подниматься на сопки.
И ощущать при этом лишь легкую, быстро проходящую усталость. После основательной командно-штабной игры, в ходе которой Берестин продемонстрировал и обосновал свой план летней кампании в Северной Таврии и ее стратегические перспективы, Врангель подписал приказ: «Зачислить Берестина Алексея Михайловича, российского подданства бригадного генерала Национальной гвардии САСШ, на службу в Русскую армию с производством его в чин генерал-майора со старшинством в сем чине с июля 30-го дня 1920 года. Назначить генерал-майора Берестина на должность генерала для особых поручений при Главнокомандующем…»
На совещание были приглашены командующий Первым армейским корпусом генерал Кутепов, Вторым корпусом — Слащев, конным корпусом — Барбович, братья генералы Бредовы: Бредов 1-й, Николай Эмильевич, и Бредов 2-й, Федор Эмильевич, а также начальник Корниловской дивизии генерал Скоблин. Все — люди интересные. Не только своими заслугами в гражданской войне и немалыми воинскими талантами, но и последующей (в ранее уже состоявшейся Реальности) судьбой. И Берестин наблюдал за ними со странным и сложным чувством. Каждый из них уже вошел в историю, их фамилии упоминались в энциклопедиях и сотнях беллетристических и мемуарных книг. Врангель и Слащев сами издали воспоминания и мемуары. И в то же время они сидят сейчас перед ним, переговариваются, спорят, часто курят, и ничего пока в их судьбах не решено. Невозможно даже представить, какая новая жизнь, какая слава или бесславие, какие чины и должности их еще ждут…
Вот Слащев Яков Александрович, тридцатитрехлетний генерал-лейтенант, гений тактики, куда там до него прославленному Жукову, не выигравшему ни одного сражения без пятикратного перевеса над врагом. Изображенный Булгаковым под именем Хлудова, заклейменный в советской истории как «Слащев-вешатель», эмигрировавший, вернувшийся в Советскую Россию, амнистированный, преподававший в Академии РККА и при загадочных обстоятельствах в 1929 году убитый.
Кутепов Александр Павлович, последний командир славного лейб-гвардии Преображенского полка, вечный соперник Слащева, после эмиграции — преемник Врангеля и глава Российского Общевоинского Союза. В том же двадцать девятом году похищенный агентами ГПУ из Парижа, привезенный в Ленинград и тайно там расстрелянный.
Скоблин Николай Владимирович. В 1914 году добровольно пошел на фронт в чине прапорщика, корниловец, участник Ледяного похода, ныне — генерал-майор и начальник пресловутой Корниловской дивизии. В эмиграции входил в состав руководства РОВС, был завербован чекистами, участвовал в похищении из Парижа сменившего Кутепова на посту начальника РОВС генерала Миллера, бежал в Москву, где в тридцать седьмом году был без суда расстрелян.
Барбович Иван Гаврилович, командующий всей белой кавалерией, герой боев с махновцами, вечный недоброжелатель и соперник Слащева. Из-за его пассивности и бесконечных дискуссий о старшинстве и подчиненности был упущен последний шанс разгрома Красной армии под Каховкой. Эмигрировал, активно участвовал в деятельности РОВС, бесследно исчез. Скорее всего был убит агентами ГПУ.
Много интересного можно было бы рассказать и о других участниках этого совещания. Но это не важно сейчас, важно то, что эти люди вновь держали в руках судьбу России и свои собственные судьбы.
Врангель выслушал доклады генералов и приступил к постановке боевой задачи:
— Предупреждаю, господа, условием успеха этой операции, на которую я возлагаю величайшие надежды, является полная, абсолютная секретность. Ни единая душа, кроме здесь присутствующих, не должна посвящаться в ее общий замысел. Исполнители должны знать лишь свою непосредственную задачу. Как величайшей тайной является и та помощь, которую мы получили и еще получим от наших друзей из Северо-Американских Соединенных Штатов. Это уже высокая дипломатия. Касающаяся отношений между нашими так называемыми «союзниками».
Ни в оружии, ни в боеприпасах нужды отныне мы испытывать не будем. Но об этом не должно узнать не только красное командование, но и представители Англии и Франции. Надеюсь, всем все понятно… Теперь — непосредственно к делу…
В основу своего плана Берестин положил стратегию Армии обороны Израиля в шестидневной войне 1967 года. В условиях абсолютного превосходства противника в живой силе и технике успех могла обеспечить только точнейшая координация действий войск, стремительный маневр ударными частями по внутренним операционным линиям, тщательно разработанная система дезинформации противника.
А главное, учитывая психологию белых генералов, жесточайшая исполнительская дисциплина. С ней обстояло хуже всего. Как правильно заметил Новиков еще при первой встрече с Врангелем, армейские военачальники все время, наподобие бояр удельных времен, считались со старшинством, постоянно держали в памяти негласную табель о рангах, по которой подполковники, произведенные в чин Высочайшим указом, а ныне генерал-майоры, считали себя выше нынешних генерал-лейтенантов, но капитанов по царской армии. Независимо от занимаемых должностей.
Поэтому, когда Врангель объявил, что общее командование операцией возлагается на Слащева, генералы взроптали.
Главнокомандующий гневно ударил по столу рукой.
— Прекратить! Впредь подобную реакцию на мой приказ буду расценивать как неповиновение в боевой обстановке. С немедленным отстранением от должности. Генерал Слащев-Крымский (Врангель специально подчеркнул присвоенное ему за беспримерную оборону Крыма зимой двадцатого года почетное именование) является с сего момента исполнителем моей воли, и именно в таком качестве следует воспринимать возложенную на него обязанность. Для координации действий и наблюдения за неукоснительным исполнением боевого приказа я прикомандировываю к штабу генерала Слащева генерала Берестина в качестве моего личного представителя. С правом незамедлительного принятия всех мер, которые он сочтет необходимым… Разумеется, окончательное утверждение его решений я оставляю за собой.
Внезапная вспышка начальственного гнева обескуражила генералов. Раньше барон себе такого не позволял, предпочитая более тонкие способы поддержания порядка. И последние его слова были приняты с угрюмым молчанием. Только Слащев удовлетворенно улыбался, но в глубине души тоже недоумевал. Он знал настороженное отношение к себе Главкома и не ждал, что тот пойдет настолько далеко навстречу его желаниям. Яков Александрович не слишком скрывал, что считает большинство белых генералов бездарностями и лишь себя видит в роли спасителя России.
Промолчали все, кроме резкого и грубоватого генерала Кутепова. Внешне очень похожий на Столыпина, только с более темными усами и бородкой, он звучно хмыкнул, машинально, а может, и намеренно провел ладонью по Знаку 1-го Кубанского похода — серебряный меч в терновом венце на Георгиевской ленте — и спросил утрированно подобострастным тоном:
— А не позволено ли будет осведомиться, в каких войнах и сражениях участвовал господин Берестин, за какие заслуги произведен в генеральский чин и отчего он служил в американской, а не Российской армии в столь тяжелые для Отечества годы?
Врангель хотел было ответить очередной резкостью, но Берестин кивнул успокаивающе:
— Я сам скажу. В причины, приведшие меня в американскую армию, вдаваться сейчас не будем, это вопрос сугубый. Чин же получил за участие во многих делах, начиная от Филиппинской кампании и англо-бурской войны. Смею надеяться, имею специфический боевой опыт именно в гражданских и партизанских войнах, например, в Мексике, где руководил операциями, которые можно приравнять и к фронтовому масштабу… Думаю, что в ближайшее время смогу это доказать. Но заодно, раз уж на меня возложены определенные обязанности, прошу сообщить потребности возглавляемых вами войск в оружии и иных предметах снаряжения. До начала операции нужно довести снабжение до штатных норм. И выплатить задолженность по жалованью.
…Поставив свой БРДМ на вершине заросшего густым кустарником кургана, Берестин через мощную стереотрубу рассматривал правофланговые позиции красных войск. Их расположение было нанесено на подробную крупномасштабную карту, но личная рекогносцировка все равно позволяла с гораздо большим эффектом провести предстоящий бой. Одно дело — значок на карте, обозначающий шестидюймовую батарею на позициях, и совсем другое — отчетливо видимые в угломерной сетке орудийные дворики, выложенные на землю снаряды для первых выстрелов, подъездные пути и командно-наблюдательные пункты.
Видно было также, в какой невыгодной позиции окажутся полки слащевского корпуса. С высокого правого берега красная артиллерия сможет их накрыть еще на дальних подступах к рубежам развертывания, сама оставаясь практически недоступной для огня полевых трехдюймовок. И, напротив, когда удастся захватить эту и остальные батареи армейской артгруппы, в безнадежном положении окажутся уже красные. Под фланговый огонь попадут части их 15-й дивизии, наведенные через Днепр мосты и полки двух переправившихся на левобережье дивизий.
«Это какая же у меня война? — думал Алексей. — Получается, что пятая. Не так уж я и врал генералам. Первая — это та, в которой участвовал лично как лейтенант Берестин. Вторая — та, на Валгалле, третья — Великая Отечественная, где я командовал Западным фронтом в теле командарма Маркова, и, наконец, четвертая, эта же самая гражданская, которую я помню памятью Маркова, тогда девятнадцатилетнего взводного в 11-й дивизии Первой конной. Или четвертая не считается? Но ведь помню я ее хорошо, как собственную молодость…» Пусть и привык он уже к парадоксам межвременных переходов, а все равно, когда начинал задумываться, вникать в тонкости, голова служить отказывалась. Как при попытках понять принцип действия компьютера. Но все равно, как бы там ни было, а он снова занимается делом, для которого, скорее всего, и создан. Зря, что ли, именно его выбрали аггры для осуществления своих планов?
С напарником ему тоже повезло. Сколько на него было навешано собак и врагами и «соратниками», а оказался он вполне нормальным человеком, даже — приятным собеседником. Издерганным, конечно, нервным сверх меры, склонным снимать стрессы вином и кокаином. Но равного ему все равно здесь не было.
Их стратегический замысел отличался простотой и даже примитивностью. Как известно, в первых числах августа двадцатого года Правобережная группа Красной армии под командованием Эйдемана форсировала Днепр и начала наступление в направлении Перекопа, имея целью отрезать врангелевским дивизиям пути отхода в Крым и разгромить их в чистом поле. Контрудары Слащева предотвратили эту опасность и позволили удержать Северную Таврию, однако Каховский плацдарм ликвидировать не удалось. Бои за него продолжались до конца октября, после чего началось последнее, закончившееся взятием Крыма наступление Красной армии. Хрестоматийно, с детства знакомо, читано в талантливых и бездарных повестях и романах, изучалось на кафедрах тактики и военной истории. И совсем не так очевидно, как принято считать.
Проиграв варианты на своем компьютере, Берестин поразился, насколько близок был Слащев к победе и насколько осложнилось бы положение Советской России, сумей он убедить Врангеля в необходимости перенести центр тяжести летней кампании с Кубани на правобережье Днепра. Даже без вмешательства потусторонних сил (к которым он относил себя) белые могли бы удерживать фронт как минимум до весны, а за это время всякое могло бы случиться. Достаточно вспомнить Кронштадтский мятеж, восстание Антонова, Махновщину…
Вечером 31 июля они со Слащевым объехали на двух «доджах» расположение готовящихся к сражению войск.
Все, что видел Алексей, странным образом напомнило ему картины сорок первого года. Измотанные в боях полки численностью от ста до трехсот штыков, артиллерийские батареи с десятком снарядов на орудие, дивизии, равные батальонам, растянутые на семидесятиверстном фронте, отсутствие нормальной связи, абсолютно невыгодная местность. То есть воевать в таких условиях как бы даже и нельзя, бессмысленно, тем более что у противника огромный перевес в силе и, по идее, подавляющее моральное превосходство.
А вот Марков тогда же, но с другой стороны фронта, считал, что все наоборот — белые сильны, отлично вооружены, от пуза накормлены и горят жаждой перевешать всех рабочих и крестьян, вернуть себе дворцы и имения, вновь посадить на трон царя.
Нет, боевой дух солдат и офицеров, с которыми успел перекинуться парой слов Берестин, был высок на удивление. И еще он обратил внимание, что вопреки распространенным, не без помощи пресловутого графа Алексея Толстого, представлениям о белой армии, в некоторых полках офицеров не было совсем — только унтер-офицеры, рядовые и вольноопределяющиеся из гимназистов и студентов, кадеты и юнкера.
— Еще раз вас прошу, Яков Александрович, — сказал Слащеву Берестин, когда они возвратились в Черную долину, где сосредоточивалась предназначенная для нанесения главного удара корниловская дивизия, — выполняйте наш план с немецкой пунктуальностью. Упаси вас бог поддаться азарту. Нам нужно только одно — связать красных боем на намеченном рубеже, удерживать позиции до сигнала, контратаки только имитировать, в случае особенно сильного нажима — медленно отступать. И точно по моему сигналу поднять в атаку корниловцев. На связь я не совсем полагаюсь — сигналом будет серия ракет черного дыма с правого берега. Еще — старайтесь всемерно беречь людей. Даже один к десяти — для нас неприемлемая цена…
— Будьте спокойны, Алексей Михайлович, это-то я сумею сделать. Лишь бы у вас все получилось.
В голосе генерала Берестин уловил некоторое сомнение. Ударного батальона Слащев в деле не видел и не знал, можно ли рассчитывать, что тот успешно осуществит намеченное. Да и новоиспеченного коллегу он пока уважал только как теоретика. Грамотного, несомненно, и с характером. Еще Слащев оценил, что каким-то способом Берестин сумел раздобыть карту с полной картиной расположения и численности красных войск на утро сегодняшнего дня. На прямой вопрос тот ответил, что и у большевиков обычные люди служат. Одни до сих пор прикидывают, как все повернется, а другие любят деньги больше, чем коммунистическую идею…
У поваленной ограды заброшенного хутора немцев-колонистов их встретил худой, высокий, в заломленной черно-красной фуражке генерал Скоблин. Отрапортовал, подбросив к козырьку ладонь.
Корниловцы готовились к утреннему бою. От ближайшей железнодорожной станции Шульгин пригнал колонну грузовиков с оружием. Вначале намечалось вооружить ударный отряд карабинами «СКС», но в последний момент Алексей передумал. Все-таки промежуточные патроны образца сорок третьего года создавали дополнительные проблемы. В случае непредвиденного развития событий войска могли в самый ответственный момент оказаться безоружными.
Остановились на винтовках «СВТ». Скорострельность и емкость магазинов такая же, огневая мощь и дальнобойность выше, и всегда можно воспользоваться трофейными патронами. Вдобавок в случае рукопашного боя винтовка с длинным ножевым штыком куда удобнее карабина.
Ящики с винтовками выгружали с машин, разносили по ротам, и тут же инструкторы из числа басмановских рейнджеров объясняли их устройство и приемы обращения. Опытным солдатам требовалось пятнадцать-двадцать минут, чтобы обучиться разборке, сборке и настройке газового регулятора. Со всех сторон раздавался металлический лязг и щелчки затворов, голоса задающих практические вопросы и обменивающихся мнениями людей.
Особого удивления новинка не вызвала, многие уже встречались с самозарядными и автоматическими винтовками Манлихера, Маузера, Мондрагона еще на мировой войне. Разве что обращали на себя внимание простота и отработанность конструкции. И, может быть, количество полученного оружия. Но это не те вопросы, которые могут взволновать людей накануне боя. Преобладала радость, вернее — злорадство при мысли, как удивятся «краснюки», попав под огонь, считай, что тысячи пулеметов сразу.
Берестин ходил между взводами и ротами, уже получившими оружие и американские суточные рационы в картонных коробках, где, кроме сбалансированного по жирам, белкам, углеводам и витаминам пайка в пять тысяч калорий, имелась даже туалетная бумага защитного цвета, такие же салфетки, по пачке сигарет «Лаки страйк» без фильтра и картонные спички. Еще было выдано по бутылке водки на троих, чтобы снять усталость после тридцативерстного марш-броска по выжженной солнцем пыльной степи.
Алексею казалось, что он попал в лагерь последних легионеров Рима. Какого-нибудь V или VI века, когда варвары уже сокрушили империю и разграбили Вечный город, когда неизвестно, есть ли вообще на престоле император, и воевать уже не за что, но и бросить оружие тоже невозможно.
Составив новые винтовки в козлы, солдаты сидели у разожженных из наскоро разломанных ружейных и патронных ящиков костров не ради тепла, а чтобы вскипятить в помятых котелках чай и просто так, бездумно смотреть на живой огонь.
Берестин не слышал разговоров о доме, семье, вообще о каких-то посторонних по отношению к войне делах. Грубые, почти лишенные остроумия шутки, воспоминания о боях, даты которых не имеют значения, все равно — Перемышль ли четырнадцатого года, озеро Нарочь шестнадцатого или хутор Верхнебаканский зимой двадцатого, вдруг всплывающие имена товарищей, павших в боях или бесследно сгинувших в круговерти жизни и подвалах губернских чрезвычаек.
Поношенное, разномастное обмундирование — редко на ком увидишь пресловутую, столь любимую кинорежиссерами черную с красными кантами форму, все больше добела выгоревшие и застиранные гимнастерки, кителя с обтрепанными обшлагами, разбитые сапоги, нередко — самодельные погоны с нарисованными химическим карандашом звездочками…
Ни на ком нет орденов — или потеряны, или спрятаны, завернутые в тряпочку, на дне вещмешков.
Люди — так ощущал витающую над расположением корниловцев ауру Берестин, — которые явно, решительно обрекли себя на смерть, давно разочаровавшись в жизни. Неизвестно, остались ли среди них те, кто плакал в восемнадцатом году над гробом генерала Корнилова, ужасался охватившему обе сражающиеся стороны кровавому озверению, стрелялся от бессмысленности происходящего, искал достойный выход из безвыходной ситуации… Алексею казалось, что вряд ли. Этим — уже все равно. Они будут сражаться с десяти-, стократно превосходящим противником, даже не надеясь на победу. Судьба против них? Отечеству и богу не нужен их подвиг? Тем хуже. Есть какая-то извращенная радость — назло Року погибнуть за безнадежно проигранное дело. Последние оставшиеся у них ценности — сознание своего боевого мастерства, спокойный фатализм, чувство фронтового товарищества и желание уничтожать врага, пока остаются силы и патроны в подсумках. Больше ничего — ни надежды уцелеть, ни планов на мирную жизнь, ни страха ранения и смерти.
Жутко… И вот что еще заметил Алексей, пройдя весь лагерь насквозь. Его словно бы никто вообще не воспринял как живого человека. Как будто бы и не было его здесь. Он останавливался возле офицерских бивуаков, слушал их разговоры и песни, даже задавал кому-то вопросы, они на них отвечали — и тут же переставали видеть и помнить нежданного гостя.
Берестин вернулся к машинам, где ждал его закончивший раздачу оружия Шульгин. В небольшой ложбинке на склоне холма он разложил у задних колес «урала» вынутые из кабины сиденья, открыл консервы, нарезал хлеб и помидоры. В дорожном холодильнике, кроме водки и пива, у него были припасены несколько бутылок «Боржоми», и Алексей долго и жадно пил ледяную пузырящуюся воду.
Небо на западе еще отсвечивало нежным зеленовато-розовым тоном, сильно пахло пылью, полынью, дымом костров и откуда-то, наверное с недалеких населенных хуторов, коровьим навозом.
— А где Слащев? — спросил Шульгин, когда Алексей отбросил в траву пустую бутылку и вытер губы, стряхнул капли воды с подбородка.
— Поехал на левый фланг. Обещал через час-полтора вернуться.
— Ну и как твои впечатления? — Шульгина, очевидно, занимали сейчас те же мысли, что и Берестина.
— Ты о Якове или вообще?
— Вообще.
— Если вообще, то Каховку мы завтра возьмем. И отбросим противника километров на пятьдесят, если не дальше. — Он непроизвольно избегал употреблять термины «красные», «большевики» и им подобные, словно переводя тем самым стоящую перед ним задачу в некую абстрактно-теоретическую плоскость.
— Что касается остального… — Берестин передернул плечами. — Бойцы они, конечно, запредельные. Я марковской памятью кое-что помню. Как такие же, как эти, двумя ротами сутки держали кубанскую переправу против нашей дивизии, притом неоднократно переходя в штыковые контратаки. Такой ерунды, как в кино, чтобы парадными колоннами на пушки и пулеметы переть, себе не позволяли. Так то же чужая память, а сейчас я наяву посмотрел. Что они после войны делать будут?
— Да, может, и ничего особенно. Дальше в армии служить, водку пить, в карты играть. Если победят — чего им горевать? Спасители отечества. Вьетнамские и афганские синдромы обычно после проигранных войн проявляются. Ты когда-нибудь слышал, чтобы у евреев после их войны что-то такое случалось?
— То шестидневная, а то шестилетняя…
— Брось. — Шульгин плеснул в серебряные стаканы водку. — Солнце село, теперь и выпить можно. Что касается евреев, так они тоже больше тридцати лет воюют, и весьма успешно. Четыре миллиона против ста миллионов окрестных мусульман. И нормально себя чувствуют. Но я не об этом. Ты со Слащевым обо всем договорился?
— Обо всем. Будешь при нем находиться, связь обеспечивать и следить, чтобы никакой самодеятельности…
— Нормально. Комендантский взвод при мне имеется, БТР с пулеметами тоже. И еще полмашины водки. Будет чем боевой порыв поддержать.
— Лишь бы у тебя получилось, — дословно повторил он пожелание Слащева. Берестину отвечать не хотелось, вообще не хотелось говорить ни о чем накануне решающего всю кампанию и вообще дальнейший ход здешней истории сражения. Вечер был хорош, воздух тих, на небе загорелись первые звезды, с корниловского бивуака донеслась негромкая песня. Голос певца звучал чисто, но слов было не разобрать.
— Ты вздремнуть не хочешь? — угадал его настроение Шульгин. — Еще всю ночь крутиться, и день будет долгим.
— Не тянет. Разлей еще грамм по сто. Так посидим, расслабимся. Похожая ночь вспоминается, на целине. Я еще курсантом был. С одной девчонкой тоже так вот на кургане сидели.
— Ну и? — с интересом спросил Шульгин.
— Ну и ничего. «Киндзмараули» из горлышка пили. Его там в сельпо навалом было, и никто не брал.
Простившись с Сашкой и генералами, Берестин проехал более пятидесяти километров на юг, вывел свою колонну в заранее намеченном месте на берег Днепра. Грузовики оставили здесь, а четырьмя БТРами за три рейса на правобережье переправились сто человек рейнджеров с необходимым снаряжением.
За следующие полтора часа отряд поднялся на сорок километров к северу и незадолго до рассвета занял позиции, господствующие как по отношению к противоположному, низменному берегу Днепра, так и к тыловым позициям красных войск.
Сражение началось в десять минут седьмого. День обещал быть жарким в обоих смыслах.
В бледно-голубом утреннем небе лопнули, расплываясь желтоватыми облачками, первые шрапнели. Затрещали далекие пулеметные очереди, по огромной дуге боевого соприкосновения белых и красных частей хлопали винтовочные выстрелы, гулко рвались снаряды полевых пушек.
По понтонной переправе двинулись на левый берег густые колонны красной пехоты. Направление главного удара Эйдемана наметилось еще вчера — силами четырех дивизий он начал наступление в районе Черненька — Большие Маячки. Введя в бой свои главные силы, он вполне мог надеяться к исходу дня сломить сопротивление Слащева, разрезать белый фронт надвое и выйти на оперативный простор. От Перекопа и крымских перешейков их отделяло меньше сотни верст. Жуткий соблазн для большевистского командования — в три дня закончить невыносимо затянувшуюся войну.
Берестин продолжал наблюдать. Над его окопом была натянута маскировочная сеть, подпоручик с радиостанцией ждал приказа. В соседней ячейке устроился капитан Басманов, которому и предстояло начать акцию реванша. Оттуда доносились обрывки слов, тоже посверкивали стекла оптики.
Сражение разворачивалось классически. Как в кино. Колонны красных войск, силами не менее пятнадцати тысяч штыков, почти не встречая сопротивления, быстрым шагом, иногда переходя на бег, продвигались вдоль чаплинской дороги.
По самому шоссе пылили, угрожающе шевеля пулеметными стволами, двухбашенные броневики, не меньше дивизиона, скакали на рысях конные батареи, за ними телеги со снарядами. Фланги наступающих войск прикрывали конные разъезды. Слева и справа от главных сил, теряясь в жаркой солнечной дымке, веером расходились пешие и конные отряды. Совсем далеко, за пределами видимости, все чаще и яростнее била артиллерия.
По всем теоретическим канонам, если исходить из численности и дислокации войск, а особенно из справедливости того дела, за которое сражались героические рабоче-крестьянские полки, белогвардейцам следовало бы сейчас начать планомерное отступление, переходящее в паническое бегство.
Очень это красиво смотрелось в свое время на цветном широком экране (кажется, в 1962 году, в фильме «Хмурое утро»), когда белые офицеры, непременно в новенькой, почти парадной форме, при орденах и с сигарами в зубах (откуда же сразу сигар столько набрали?), попытавшись испугать революционных бойцов психической атакой, вдруг попали под шквальный огонь красных батарей и в панике разбегались по голой степи, сотнями падая в красивых фонтанах взрывов. На самом же деле даже дураку, а не только кадровому офицеру, должно было быть ясно, что единственный в подобном случае тактически грамотный выход — развернуться в редкую цепь и взять батарейцев на штык. И любой подпоручик знал это с первого курса училища. Со ста или двухсот метров тут и делать нечего. Самая легкая пушка — не пулемет, против отважной и обученной пехоты она беззащитна.
Но пацаны в зале кричали «ура», свистели в два и четыре пальца, а потом расходились из кинотеатра, довольные торжеством справедливости. Ну, бог им судья, тем сценаристам и режиссерам. Сталинские и ленинские премии дороже абстрактно понятой правды жизни. Хотя Берестину, как человеку, самому не чуждому искусства, всегда было интересно — а вот Алексей Толстой, граф и великий советский писатель, он как, искренне писал то, что написал, или, наслаждаясь немыслимыми для других в советской стране благами жизни, полученными от страшного режима, утонченно издевался над заказчиками и потребителями своей эпопеи? Особенно Берестина занимала та сцена, где сначала Рощин спасает переодетого в белогвардейскую форму Телегина, а потом тот, в свою очередь, собирается сдать в ЧК Рощина, заподозрив в нем белого шпиона. Так вот, искренне ли Толстой восхищался «новой моралью» Телегина, или таким образом замаскировал свое к переметнувшимся на красную сторону офицерам презрение?
Но сейчас обстановка на театре сражения выглядела несколько иначе. Редкие цепи белых, отстреливаясь, отходили на заранее намеченные рубежи. Несколько полевых батарей, оставленных для прикрытия, вели беглый огонь картечью. Время от времени отступающие слащевские полки переходили в контратаки, отбрасывали наиболее вырвавшиеся вперед красные части и снова начинали медленное, планомерное отступление. Какие-то фазы боя Берестин видел отчетливо сквозь стекла стереотрубы, какие-то просто угадывал в дрожащем солнечном мареве. Заметно было, что основной успех красные планируют на левом фланге, куда торопливо сворачивали двигающиеся через два наплавных моста колонны полков Латышской и 51-й дивизий. Против восьми полков корпуса Слащева на левый берег уже переправилось 18 красных, и движение не прекращалось, а на очереди уже теснились для выхода на мосты еще несколько легких батарей.
«Вот он, мой Аркольский мост, — с яростным весельем подумал Берестин. — Не дали в сорок первом войну выиграть, так я вам сейчас покажу…»
Прославленный советской литературой бывший царский подполковник Карбышев очень грамотно организовал оборону каховского плацдарма. Не учел он только одного — что четыре шестидюймовые батареи красных, расположенные на господствующих высотах правобережья, южнее Берислава, могут быть захвачены с тыла. Пока что они без суеты и торопливости открыли огонь на больших углах возвышения. Их снаряды ложились за пределами видимости и, наверное, должны были предотвращать маневр резервами в глубине обороны белых.
Больше всего Берестина интересовал сейчас правый фланг. Там наблюдалось относительное затишье. Два или три полка 52-й дивизии красных продвинулись километров на пять и почти остановились, встретив упорную, усиленную большим числом пулеметов оборону корниловцев. Да, очевидно, они и не стремились к решительному успеху, имея задачей просто связать боем противостоящие им части. Это было хорошо, соответствовало замыслу Берестина и Слащева, но одновременно показывало и тактическую неграмотность эйдемановского штаба, фактически предварившего ошибку Тимошенко во время Харьковской операции 1942 года. Глубоко вклинившись в оборону противника, они просмотрели сосредоточение мощной ударной группировки у себя на фланге.
Отстранившись от окуляров стереотрубы, Берестин подозвал к себе связиста. Вызвал по радио Шульгина.
— Привет. Доложи обстановку.
— Все пока нормально, фронт держим. Потери даже меньше плановых. Конный корпус Барбовича сосредоточение закончил. На левом фланге противник проявляет слабую активность. Огонь ведет сосредоточенный, но малоприцельный, без корректировки. Из района Любимовки наступают до трех тысяч человек пехоты при поддержке шести броневиков. Глубина вклинения в центре обороны километров пять. Но везде держимся. Когда планируешь начать?
Берестин посмотрел на часы, потом на карту в планшете. Картина сражения, по сравнению с той, что должна была бы сложиться в соответствии с «исторической правдой», отличалась настолько, что выходила уже за пределы случайных отклонений. Можно сказать, что «стрелка» уже переведена. Только пока неизвестно, в чью пользу. Если вдруг красные, усилив нажим, сумеют прорвать оборону второго корпуса, то сдержать их будет нечем. Все боеспособные части сосредоточены на флангах у самого берега Днепра. Свернув ударные дивизии в походную колонну, обеспечив их тылы за счет пока еще находящихся на правобережье мощных резервов, уже завтра красные войска смогут выйти к Перекопу. А если наоборот?
— Начну прямо сейчас. Через десять минут исполни четыре выстрела одним орудием на следующих установках… — Берестин продиктовал данные угломера и целика. — После моей поправки дашь беглый огонь по пять снарядов из всех наличных стволов. И жди ракеты. Успеха, полковник!
— Тебе успеха, генерал! — Алексей снял фуражку, расстегнул китель. Из всего батальона он один был здесь в уставной форме Русской армии, и высоко поднявшееся солнце жгло его немилосердно. Вот еще одна загадка этого времени. Можно подумать, что люди здесь менее чувствительны к погодным условиям. Врангель в разгар лета ходит в суконной черкеске и папахе, офицеры — в шерстяных гимнастерках или кителях с высокими глухими воротниками. В такую же точно погоду пятьдесят лет спустя Берестин и его товарищи чувствовали себя более-менее нормально только в зеленых рубашках с короткими рукавами, а отстоять час или два на плацу в шерстяном кителе казалось египетской пыткой.
Он подозвал Басманова.
— Принимайте командование, капитан. Теперь все шансы — ваши. Работайте по плану, а уж я — только на подхвате… — Берестин слегка кокетничал. Он все равно оставался командующим всей фронтовой операцией, но непосредственно здесь передавал власть Басманову, чтобы не отвлекаться на чисто тактические вопросы. Его полководческий опыт подсказывал, что захват батарей будет лишь началом. В ближайший час Эйдеман поймет смысл происходящего и бросит оставшиеся в его распоряжении резервы на спасение попавших в огневой мешок дивизий. И тогда здесь станет очень жарко.
У них с Басмановым план боя был намечен четко. И отработан на картах и макете местности. Стремительным ударом с тыла рейнджерам предстояло захватить тяжелые гаубичные батареи красных и сразу же произвести мощный, а главное — совершенно неожиданный огневой налет по их наступающим войскам и предмостным укрепленным позициям.
Послышался шелест первого, идущего по высокой траектории снаряда, гулкий разрыв, и лишь потом донесся звук выстрела.
— Недолет, два больше, — опередил Берестина подсказкой Басманов, капитан гвардейской конной артиллерии. Ему, в отличие от Алексея, даже не нужно было задумываться. Поправки он выдавал автоматически.
Берестину осталось только сдублировать команду в микрофон. Следующие снаряды легли как надо.
— Ну, орелики… — Капитан сдернул с плеча ремень автомата, выпрямился на секунду на краю заросшего боярышником и терновником ската, чтобы его увидели изготовившиеся к атаке рейнджеры, взмахнул рукой и длинными прыжками рванулся вперед и вниз.
Батареи были взяты за несколько минут. Батальон Басманова потерь не имел. Да и откуда бы им было взяться, если оглушенные грохотом собственных пушек канониры ничего не понимали, даже когда непонятные люди в диковинных пятнистых одеждах и круглых железных шлемах, появившись неизвестно откуда, заполнили, беззвучно крича, орудийные дворики. Тычками автоматных прикладов, подзатыльниками и просто недвусмысленными жестами они стали сгонять их в ложбинку позади огневых, где прямо на землю были выложены снаряды первых выстрелов и штабелями громоздились ящики с полузарядами.
Пострелять басмановцам пришлось только на командном пункте артдивизиона, расположенном в полусотне метров впереди и правее огневых позиций, над самым днепровским обрывом. Скопившиеся там возле стереотруб и буссолей командиры батарей, штабисты и наблюдатели успели заметить непонятное шевеление на огневых, кое-кто опрометчиво схватился за наганы.
К Басманову подвели одного из пленных, белобрысого и курносого парня лет двадцати восьми, в отличие от рядовых обутого в хорошие сапоги и с большими часами на запястье.
— Ты кто? Комбатр, комдив? — спросил капитан, внимательно глядя ему в светлые глаза.
— Командир батареи…
— Дальше, дальше говори. Какая батарея, как фамилия?..
— Ничего я тебе не скажу, шкура белогвардейская. Стреляй сразу… — Видно было, что в горячке парень действительно готов рвануть на груди гимнастерку, подставляясь под пулю.
— Ну герой, герой… — не то одобрительно, не то насмешливо протянул Басманов и хлестко, открытой ладонью ударил артиллериста по щеке так, что голова у него мотнулась к плечу и он еле удержался на ногах.
— Смирно! Смирно стоять перед офицером! В старой армии кем служил? Бомбардиром, фейерверкером?
— Старший фейерверкер Новогеоргиевского крепостного гаубичного дивизиона Иван Петелин.
— Слава богу, опомнился. До конца боя будешь старшим на батарее. Сумеешь себя показать — про службу у красных забудем…
Петелин помолчал, глядя в землю.
— По своим стрелять не стану…
— Не станешь? — опять удивился Басманов. — По своим? Красные тебе свои, а мы кто? Может, немцы? Не в одной армии четыре года воевали? Смотри, мне с тобой возиться недосуг, Иван Петелин. Я сейчас прикажу тебя верхом на ствол посадить и пальну для пристрелки. Знаешь, что с тобой будет? Не человек, а бурдюк с дерьмом. Кожа целая останется, а все, что внутри, — в мелкие дребезги… Кости, мышцы, внутренности — все в кисель. Пять секунд тебе на размышление…
Под дулами коротких автоматов и рядовые бойцы, и их командиры дружно начали ворочать тяжелые лафеты, подносить снаряды, рассчитывать новые установки для стрельбы. Еще через десять минут восемь шестидюймовых гаубиц опустили свои кургузые толстые стволы и, подпрыгнув на окованных железными шинами деревянных колесах, выбросили первую очередь двухпудовых фугасных снарядов по готовящимся к маршу полкам вторых эшелонов 15-й, 51-й и 52-й дивизий. Остальные две батареи Басманов начал спешно разворачивать на север.
Ничего особенно странного в недопустимо предательском, по меркам более позднего времени, поведении артиллеристов не было. Гражданская война — война особая, и красные и белые широко практиковали зачисление в строй пленных солдат противника. В разгар боев другого способа пополнения войск зачастую просто не было. А иным «счастливцам» довелось по три-четыре раза менять красную звездочку на погоны и обратно.
Тем не менее половину своих офицеров Басманову пришлось отвлечь на роль надсмотрщиков и конвоиров — приглядывать, чтобы не разбежались ездовые и подносчики снарядов, проверять, верно ли телефонисты передают команды корректировщиков, а наводчики устанавливают прицел. Сам капитан взял на себя командование дивизионом — больше некому было доверить. Стрельба одновременно по нескольким целям, с постоянно меняющимися установками целика и угломера требовала особой квалификации.
Берестин знал, что максимум через полчаса штаб правобережной группы опомнится, сообразит, что происходит, и бросит все наличные силы против захваченных позиций. А в его распоряжении едва полсотни автоматчиков и четыре БТРа.
…От тяжелого грохота бьющих беглым огнем гаубиц Берестин почти оглох, хотя до огневых было больше сотни метров. Повернув стереотрубу вправо, он видел, что укрепления красных войск на окраине Каховки затянулись дымом и пылью. Горит и хутор Терны, где, по его данным, должен был находиться штаб латышской дивизии. Одной батареей Басманов обстреливал дорогу, служившую главной коммуникацией наступающих войск, а второй вел огонь по площадям на подходах к переправам. В масштабах фронтовой операции — что такое две батареи, пусть и тяжелые, однако эффект их внезапного удара оказался несоизмерим с реальными потерями красных дивизий.
А со стороны Берислава второй час малоприцельно, но сосредоточенно били полевые трехдюймовки красных. С закрытых позиций они стрелять не умели, а на прямую наводку выдвигаться опасались, поэтому Берестин с Басмановым и могли держаться на захваченном рубеже. Однако шрапнели и осколочные снаряды время от времени до них все же долетали, и расчеты несли потери. Удивительное дело, но бывшие красные батарейцы, ввязавшись в бой, перестали думать о том, на чьей стороне они воюют. И под огнем своих бывших соратников вели себя неплохо. Два взвода рейнджеров, на которых была возложена задача обороны дальних подходов к левофланговой батарее, держались только за счет боевой выучки и огневого превосходства. Конечно, на тридцать пять человек, находящихся в линии боевого охранения, у них было шесть станковых «ПК» и двенадцать ручных «РПК», значительно превосходящих по своим тактическим возможностям пресловутые «максимы», и почти неограниченное количество патронов.
Но психологически было трудно. Известно, что финские пулеметчики на линии Маннергейма теряли самообладание от количества убитых ими советских солдат. Когда каземат дота выше щиколоток завален стреляными гильзами, и плавится уже третий запасной ствол «гочкиса», а эти сумасшедшие все идут и идут густыми цепями по пояс в снегу, выставив перед собой штыки никчемных винтовок, даже люди с сильным скандинавским характером начинали съезжать с катушек. Есть в любой войне предел, который нормальный, цивилизованный человек преодолеть почти не может. Здесь, правда, до такого пока не дошло, хотя заросшее желтеющим бурьяном поле, сколько видел глаз, было покрыто застывшими в разнообразных позах телами красных бойцов.
Эйдеман (Роберт Петрович, латыш, царский прапорщик, двадцатипятилетний командующий Правобережной группой войск Юго-Западного фронта, в сорок лет комкор, в сорок два расстрелян как враг народа) еще не успел до конца понять сути происходящего, однако бросил, как это было принято в Красной армии, для отражения внезапной угрозы с тыла все наличные резервы, включая подготовленную для развития успеха стрелковую бригаду, охрану штаба группы и тыловиков из обоза второй очереди.
Несколько батальонов пехоты и два эскадрона кавалерии, отважно бросившиеся в атаку, были полностью вырублены внезапным и шквальным пулеметным огнем в упор.
Следующий полк, увидев печальную судьбу авангарда, попытался отойти, неся чудовищные потери от беспощадно-снайперской стрельбы рейнджеров, но получил положенное изменникам пролетарского дела предостережение в виде длинных очередей заградотрядовских «МГ-18», изобразивших пунктирами пыльных фонтанчиков черту, переходить которую не рекомендуется.
Если кто-нибудь из зарывшихся носом в пыль красных бойцов еще имел способность соображать, то ситуация для размышлений об исторических и классовых предпосылках данной войны была самая подходящая.
Однако нашлись еще и еще вооруженные трехлинейками энтузиасты, которые, подчиняясь приказу и мечте об «экспроприации» последних, нагло засевших в Крыму со своими богатствами «экспроприаторов», надеялись пробежать версту по душной полынной степи и вцепиться в горло ненавистным «кадетам». (Причем никто из них, даже и умирая, не знал, что имеется в виду под этим словом — ученики среднего военно-учебного заведения или члены партии конституционных демократов.)
Басманову пришлось (а может быть — довелось) еще раз использовать лично им разработанный способ стрельбы на рикошетах, не применявшийся с шестнадцатого года ввиду того, что маневренный характер гражданской войны и отсутствие в его распоряжении орудий подходящих калибров не предоставили капитану соответствующих возможностей.
Смысл же приема был в том, что у пушки (или, как сейчас, у гаубицы) с опущенным до предела стволом лафет поднимался на упор, хотя бы и из наскоро заполненных камнями патронных ящиков. Точка прицеливания определялась на два деления угломера меньше необходимой. И тогда двухпудовый осколочно-фугасный снаряд врезался в землю под очень острым углом, разбивая ударный взрыватель, успевал вновь, неестественно медленно, подняться в воздух и лопнуть как раз там, где требовалось. На высоте трех-четырех метров над головами атакующей пехоты.
Эффект был удивительный. Иногда одним снарядом сдувало в небытие целую роту штатного состава.
Сейчас, в отличие от мировой войны, по причине резкой убыли пушечного мяса, пехота ходила в атаки гораздо более редким строем и по фронту, и в глубину, но полсотни выпущенных Басмановым снарядов отбили у красноармейцев охоту наступать как минимум на час.
И позволили Берестину перебросить два взвода рейнджеров на крайний правый фланг, где обозначилось еще одно опасное направление.
Около батальона арьергарда 15-й дивизии, заканчивавшей переправу, каким-то начальником, самостоятельно понявшим смысл происходящего, было развернуто фронтом на запад с задачей уничтожить прорвавшегося в тыл неприятеля.
Удивительно, но Алексею, вроде бы полностью осознавшему себя как чистого профессионала, вдруг стало искренне жаль этих дураков, карабкающихся вверх по крутой, ограниченной справа откосом, а слева глубоким оврагом дороге.
О чем думали взводные и ротные командиры заведомо обреченного батальона? Что против их сотни штыков у белых не найдется ничего, кроме нескольких наганов? И, стреляя из пушек, они понятия не имеют о так называемом боевом охранении?
Со стометровой дистанции залп пяти пулеметов производит тот же эффект, что и хорошо отбитая коса на росистом лугу.
«Карма, — сказал себе Берестин, сняв фуражку и вытирая ладонью потный лоб. — Любой из них имел выбор. Пойти не к красным, а к белым. Дезертировать, стать махновцем… Как и я, впрочем».
У них с Басмановым нашлось время покурить, выпить полуостывшего кофе из термоса.
И снова с окраин Берислава начали выдвигаться пехотные цепи, на гребнях холмов завиднелись группы кавалеристов. Зашелестели в покрытом редкими облаками небе очередные шрапнели. Алексей сказал капитану:
— Я думаю, пусть те батареи продолжают беспокоящий огонь по левобережью. А главная опасность здесь намечается. И стрельба от вас потребуется снайперская. Красные пошли ва-банк. Сейчас нас сбить не успеют — труба им. Хоть один-то грамотный офицер у Эйдемана в штабе должен быть?
— Сделаем. Только снаряды кончаются. Штук по пятнадцать на ствол осталось…
— Прикажите паузу сделать, стволы остудить. Нам еще штурм переправ поддерживать придется…
— Если доживем, — блеснул зубами на пыльном лице Басманов.
…Из наскоро отрытых по склонам холмов ячеек остававшиеся на западном фасе обороны и возвратившиеся с днепровского откоса рейнджеры вели редкий, но точный пулеметный огонь по приблизившимся на километр, а кое-где и ближе цепям красной пехоты. Басманов, расстреляв все фугасные снаряды, приказал вскрыть передки и подавать к орудиям картечь — последнее оружие самообороны тяжелой артиллерии.
— Не пора, господин генерал? — спросил, спрыгивая в окоп, капитан.
— Сейчас. Свяжусь с Шульгиным, что он скажет.
Отвлекаясь на секунду от реалий ближнего боя, Берестин подумал, что интереснейшее у них получается сражение. Вполне сравнимое с Курской битвой по значению для судьбы не только летней кампании, но и всей войны. И удивительное смешение стилей. На правом фланге сосредоточен для сабельной рубки с кавалерией красных конный корпус Барбовича, на левом — готовится к атаке при поддержке самоходок времен второй мировой корниловская дивизия, здесь вместе с гаубицами прошлого века стреляют пулеметы и автоматы семидесятых годов.
Он нашел в эфире волну Шульгина:
— Ну, что там у вас, Саш? Мы тут с полчасика еще продержимся, и все…
— Я только что приказал Скоблину начинать. От его позиции до окраины Каховки десять километров. Будут атаковать с ходу, на «уралах»… Через пятнадцать минут увидишь.
— Тогда и я пошел! — Воткнул в зажим телефонную трубку, повернулся к Басманову: — С богом, Михаил Федорович!
Берестин поднял вверх ракетницу и нажал спуск. Взревев моторами, из капониров начали выбираться БТРы. Сначала они двинулись вдоль линии стрелковых ячеек, подбирая на ходу уцелевших десантников, потом развернулись и, набирая скорость, подпрыгивая на рытвинах, пошли на сближение с как раз поднявшейся в рост для очередного броска пехотой.
На башнях засверкали вспышки тяжелых «КПВТ», из бортовых бойниц потянулись отчетливо видимые даже при полуденном солнце трассы «ПК» и автоматов.
— Ну вот и все, судари мои, — процитировал Берестин любимую книгу. — Лишь бы на шальной снаряд не нарвались… — и отвернулся.
Вновь, как и при сцене расстрела в упор атакующего по каховской дороге батальона, он не захотел быть очевидцем.
Не слишком приятное зрелище даже для военного человека. Чрезвычайно похожее на то, что бывает, когда стая осатаневших от голода волков настигает в степи овечью отару. Пехотинцу на ровном месте от стремительной и верткой машины не убежать, а трехлинейка броню не берет…
Но и офицеров, водителей и стрелков он осуждать не мог. Это их война и их право.
С дивизионного НП они с Басмановым направили бинокли на левый берег. Со стороны Больших Маячков, таща за собой гигантские шлейфы рыжей пыли, показались мчащиеся на семидесятикилометровой скорости «уралы». Корниловцы теснились в кузовах, лежали на крыльях, облепили подножки. В километре от линии красных окопов машины начали тормозить. Остановились с крутым разворотом, сбросили десант и так же стремительно понеслись обратно.
Первый полк, на ходу примыкая к винтовкам длинные ножевые штыки, разворачивался в ротные колонны.
— Ах, черт, красиво! — выдохнул Басманов, наблюдая, как быстрым, переходящим в бег шагом корниловцы сближаются с полуразрушенным проволочным заграждением.
С фланга длинными очередями застучал «максим», нестройные хлопки винтовочных выстрелов показали, что и после артподготовки гаубичными снарядами в окопах кое-кто уцелел.
Но это уже было, как принято говорить в ультиматумах, «бессмысленное сопротивление».
Ничего страшнее штыкового удара корниловского полка Алексей в своей жизни не видел. Четыреста тех самых, обрекших себя на смерть офицеров, юнкеров и вольноопределяющихся отчаянным броском преодолели последнюю сотню метров. За две версты был слышен слитный, ничем не похожий на хрестоматийное «ура» рев. На позициях первой линии они почти не задержались. Красноармейцы из окопов основной и предмостной полос обороны, бросая оружие, кинулись к переправе.
Берестин наблюдал за боем в полевой бинокль, стереотруба не давала возможности видеть его во всей полноте.
Да и можно ли было назвать то, что творилось на переправе и вокруг нее, боем?
Искаженные яростью лица корниловцев, взмахи штыков и прикладов, торопливый перестук выстрелов. Безжалостная мясорубка, в которой профессионалы высшей пробы столкнулись с неорганизованной, едва обученной держать в руках винтовку массой насильно мобилизованных новобранцев. Каждый из корниловцев знал, как и что он должен делать, и мастерство, помноженное на ненависть, в считаные минуты сломило даже подобие организованного сопротивления.
Красные бойцы готовы были бежать или сдаваться, но бежать было больше некуда, а пленных здесь не брали.
Спаслись только те, кто успел перевалиться через перила мостов, да вдобавок умел плавать.
И одновременно Слащев бросил в бой трехтысячный корпус Барбовича, развернувшийся в лаву за левым флангом 15-й стрелковой и латышской дивизий красных, наиболее глубоко вклинившихся в оборону 2-го армейского корпуса. Пути отхода к Днепру отрезали самоходки с десантом на броне.
К исходу дня победа была полной. Каховку заняли передовые батальоны тринадцатой дивизии генерала Ангуладзе. Первый и подошедшие второй и третий корниловские полки выбили неприятеля из Берислава и перешли к преследованию разрозненных и потерявших управление частей четырех красных дивизий, отходящих на Херсон. Окруженные на правобережье войска рассеялись по степи и сопротивления практически не оказывали. По предварительным данным, число пленных превысило 12 тысяч человек, и их колонны под конвоем казаков Терско-Астраханской бригады тянулись в сторону Перекопа. Который и был недавно их главной целью.
Возглавляемый Басмановым штурмовой отряд на трех БТРах (четвертый провалился в глубокую промоину и вышел из строя) в районе села Шлагендорф перехватил и полностью уничтожил спешно снявшийся с места штаб армейской группы Эйдемана. Самого командующего среди убитых и пленных обнаружить не удалось.
Берестин туда не поехал. Измотанные жарой и боем полки слащевского корпуса нашли в себе силы продвинуться километров на пятнадцать на север вдоль Днепра и на десять по херсонской дороге, после чего остановились. Не участвовавшая в дневном бою 4-я Кубанская кавдивизия (500 сабель) выслала дозоры еще на десять километров к северу и западу, но в боевое соприкосновение с арьергардами вступать не стала, увлекшись инвентаризацией сотен брошенных повозок дивизионных и полковых обозов.
В целях дальней разведки и бомбометания по отступающим колоннам были подняты в воздух все семнадцать исправных самолетов.
За час до заката Слащев приказал войскам прекратить наступление и вызвал к себе командующих корпусами, начальников дивизий и командиров бригад. А сам сел на крыльце мазанки со снесенной снарядом крышей писать победную реляцию Врангелю.
Потери его корпуса за день боя составили 619 человек убитыми и более двух тысяч ранеными. Батальон Басманова похоронил шестнадцать офицеров.
Когда Слащев сообщил Берестину эти данные, Алексей вздохнул:
— Многовато все-таки…
— Но мы ведь практически выиграли летнюю кампанию!
— Мало ли… Евреи за всю шестидневную войну потеряли чуть больше пятисот.
Арабо-израильская война шестьдесят седьмого года, как уже было сказано, еще с училища оставалась для него образцом стратегического и тактического искусства. Там небольшая, но великолепно обученная армия вдребезги разгромила соединенные силы трех государств, вдесятеро ее превосходящие численно и вдобавок поддерживаемые военной и политической мощью СССР.
— Какие еще евреи? — с недоумением вскинул голову Слащев.
— Самые обыкновенные. Иосифа Флавия читать нужно. «Иудейская война»…
Шульгин поливал Басманову на голую спину теплую воду из канистры, капитан фыркал, отплевывался и радостно ухал. Берестин подошел к ним и начал расстегивать свой пропотевший китель.
Глава 8
За три следующие недели обстановка в России изменилась разительным образом. Даже удивительно, сколь мало усилий для этого потребовалось.
Впрочем, почему же удивительно? На шахматной доске ведь не требуется вводить какие-то новые фигуры, даже не нужно бить партнера доской по голове, всего-то и следует, что немного подумать, должным образом разыграть миттельшпиль, и ситуация изменится сама собой. Алехин, как известно, умел и даже любил делать такие штуки — доведя противника почти до мата, поворачивал доску, начинал играть за него, восстанавливал положение, вновь ставил партнера на грань поражения и так далее… До трех раз и больше, пока на доске просто не оставалось фигур.
Вот и здесь получилось так же. За счет грамотных тактических решений и своевременной перегруппировки сил.
К исходу вторых суток после каховской победы три корпуса Русской армии совершили фланговый марш, частично по железной дороге, частично на автомобилях, и нанесли внезапный таранящий удар по северному фасу фронта, взяли Кременчуг, Славянск и Лозовую, вышли на ближние подступы к Полтаве. При этом батальон Басманова, действуя десятком диверсионных групп, заблаговременно перерезал линии связи, атаковал расположения дивизионных и корпусных штабов 4-й армии красных, взорвал железнодорожные и шоссейные мосты на основных путях сообщения.
Замешательство и дезорганизация в красном тылу были таковы, что началась стихийная эвакуация Харькова и массовый отход войск к границам Украины.
Но и тут Слащев и Берестин предприняли неожиданное решение. Следующий удар был спланирован от Александровска на юго-запад, на Николаев. Здесь войска вступили в повстанческие районы, где богатые хуторяне и немцы-колонисты уже целый год удерживали территорию от проникновения регулярных красных войск и продотрядов. Рассчитывать на их мобилизацию в белую армию было нереально, но должным образом поддержанные оружием и средствами, они вполне могли прикрыть фланг 2-го армейского корпуса от каких-либо неожиданностей.
На очереди была Одесса. Для этой операции Воронцов вместе с начальником штаба флота адмиралом Бубновым подготовил десантную флотилию в составе линкора «Генерал Алексеев», крейсера «Генерал Корнилов», трех эсминцев и транспорта с войсками.
Во второй половине августа занятая Русской армией территория увеличилась более чем втрое по площади и в шесть раз по населению. Мобилизационные возможности возросли еще значительнее. По многим причинам. Во-первых, победоносная армия всегда имеет приток добровольцев во много раз больший, чем проигрывающая войну, во-вторых, очень многие успели пожить под коммунистической властью больше полугода, и даже те, кто еще зимой сочувствовал красным, теперь предпочитали умереть в бою, но не допустить их возвращения. В-третьих, Врангель начал активно проводить военную реформу. С прежней вольностью было покончено — отныне ни один военнослужащий не мог добровольно подать в отставку или отсиживаться в бесчисленных тыловых учреждениях, которых в белой армии было больше, чем строевых подразделений.
Об этом еще в июне Слащев писал Главнокомандующему: «Приехав в войска, я застал 256 штыков, 28 орудий и при них 2 штаба дивизии и 1 штаб корпуса, укомплектованных полностью!»
Теперь с подобным положением было покончено, и в дивизии первой линии влилось около двух тысяч пополнения только офицерами.
Немаловажное значение имело и то, что на фронте жалованье выплачивали золотом, по ставкам довоенного времени. Желающих заработать оказалось предостаточно. Почти две дивизии полного состава были переброшены пароходами из Трапезунда, Константинополя и с Кавказского побережья. По проведенным Берестиным вместе с Врангелем подсчетам, на 30 августа 1920 года численность Русской армии составила более 120 тысяч штыков и 50 тысяч сабель. С такими силами исход осенне-зимней кампании сомнений не вызывал.
Однако на почти чистом политическом небосводе внезапно обрисовались тучки угрожающего вида.
Представители Антанты, весь предыдущий год упражнявшиеся в благожелательной риторике и одновременно саботировавшие все мероприятия, способные хоть как-то облегчить положение изнемогающей армии, вдруг, при обозначившемся успехе, резко сменили тон.
Французский представитель адмирал Леже и английский — генерал Перси посетили Врангеля и передали ему плохо замаскированный любезными фразами ультиматум своих правительств. Смысл его был прост.
Немедленно остановить наступление, начать переговоры с московским правительством о заключении мира и установлении, на основе взаимного согласия, приемлемого для обеих сторон способа государственного устройства России. С соблюдением интересов объявивших свою независимость окраинных государств, демократических свобод для всех слоев населения, обеспечения созыва в ближайшее время Национального собрания, которое и определит форму правления в новой России и т. д. Кроме того, в случае непринятия данного предложения и сохранения претензий Правительства Юга России на правопреемство бывшей Российской империи союзные державы поднимут вопрос о немедленной выплате долгов и кредитов. В случае продолжения боевых действий союзные правительства предпримут блокаду всех портов и сухопутных границ участвующих в гражданской войне сторон.
У Врангеля, выслушивающего этот беспрецедентный по любым меркам ультиматум, побелели губы.
Стоявший за его правым плечом Новиков легонько тронул его за локоть.
— Соглашайтесь, Петр Николаевич, — прошептал он. — Только добавьте, что мы принимаем все условия, одновременно требуя созыва международной конференции по вопросу царских и нынешних долгов, а также решения судьбы отправленного в Германию по Брестскому миру золота.
Врангель не совсем понял, в чем смысл слов его советника, но послушно их повторил. После одержанных на фронте побед доверие его к Новикову и Берестину было безграничным. И еще — генералу очень хотелось вновь встретиться с очаровательной знахаркой.
— Второе, — продолжал суфлировать Андрей, — пусть они потребуют от большевиков демилитаризации прифронтовой полосы на пятьдесят верст. Создадут четырехстороннюю комиссию по соблюдению перемирия. В случае согласия Антанты на наши условия мы готовы завтра же приостановить наступление…
Генерал Перси, который до последнего времени относился к борьбе белой армии крайне сочувственно, а сейчас обязанный исполнять неприятное поручение, воспринял твердую позицию Врангеля как достойный для себя выход из нравственно сомнительной ситуации. И, невзирая на побагровевшего от возмущения французского представителя, начал в обтекаемых фразах выражать готовность передать мнение уважаемого Правителя своему премьер-министру.
— Вас же, достопочтенный адмирал, — обратился Врангель к французу, — прошу сообщить правительству республики, что мы готовы свою часть долгов выплатить незамедлительно, при условии подтверждения вами условий соглашения 1915 года о праве России на Босфор и Дарданеллы. Правительство Юга России Брестского мира не подписывало.
— Еще добавьте, — вновь зашептал Новиков, — что мы настаиваем на участии в конференции представителя Соединенных Штатов. Их позиция по отношению к большевикам бескомпромиссна…
Союзники покинули Большой дворец с гораздо худшим настроением, чем вошли в него полчаса назад.
— Великолепно, ваше высокопревосходительство! — поздравил Андрей генерала. — Недели две мы с вами точно выиграли. Пока они будут прорабатывать варианты, ждать ответов из Парижа и Лондона, торговаться с Москвой, мы как раз успеем выйти на рубежи, гарантирующие устойчивую оборону, и заодно решим махновскую проблему.
Глава 9
Впервые за две недели пассажиры «Валгаллы» смогли собраться вместе. Вернулись с фронтов Берестин и Шульгин, после завершения Одесской операции пришел в Севастополь на миноносце «Жаркий» Воронцов. Позволил Врангелю отдохнуть от своего постоянного присутствия Новиков.
В банкетном зале на шлюпочной палубе накрыли праздничный стол. Задувающий сквозь отдраенные с обоих бортов иллюминаторы бриз шевелил кремовые шторы. Женщины надели подходящие к случаю наряды. Что там ни говори, а война есть война, с нее не всегда возвращаются даже генералы.
У всех четырех героев посверкивали темным полированным металлом Кресты 1-й степени вновь учрежденного ордена Святителя Николая Чудотворца на широкой бело-сине-красной шейной ленте. Этой редкостной награды они были удостоены за выдающийся вклад в разгром врага. Поверх лаврового венка, окружающего образ святого, выгравирован славянской вязью девиз ордена — «Верой спасется Россия».
Шульгин поймал иронический взгляд Левашова и ответил на него неожиданно серьезно. Что расходилось с его обычной манерой.
— А зря, кстати, смеешься. Ты, помнится, какую-то кубинскую железяку получил за перевозки их солдатиков в Анголу, и ничего, носил. Так мы хоть свою землю помогли защищать, а не на чужой войну раскручивали. Тебе, кстати, такой же крестик полагается, только Андрей решил погодить, не давать Врангелю наградной лист на подпись, чтобы скандала не вышло. Он подпишет, а ты откажешься получать из рук палача трудового народа. Неловко выйдет…
— Правильно решили, — кивнул Олег, зачем-то разглаживая салфетку лезвием столового ножа.
— Видишь, — обратился Сашка к Новикову, — а я что говорил? — И снова повернулся к Левашову. — Зря, между прочим. Выдающиеся успехи в снабжении армии ты проявил, а кресты наши по номерам — из первой десятки. После победы обязательно за них потомственное дворянство дадут, а то и чего побольше. Жалеть будешь…
— Хватит тебе трепаться, — остановил его Андрей. Углубляющаяся трещина между ними причиняла ему душевную боль. С первого класса школы дружат, и вот, после всего…
— Ты, Олег, учти, — решил он свернуть дискуссию, — условий мы не нарушили, никто ни разу лично не выстрелил. А людей и с той и с другой стороны не меньше десятка тысяч спасли. Уже на сегодняшний день. Вспомни, какая мясорубка при штурме Перекопа была, а потом при эвакуации, а еще потом сколько расстрелов… Теперь же, возможно, все совсем иначе будет. И как бы оно ни повернулось, даже вооруженное принуждение к миру все равно гуманнее самой справедливой гражданской войны. Я не настаиваю, но сам прикинь, в каком случае жертв больше и кто из нас в историческом плане более виноват…
— Да ладно вам… — примирительно проронил Левашов. — Что вы никак не успокоитесь? Я же ничего не говорю. Давайте лучше поднимем бокалы за счастливое возвращение. Не стоят эти проблемы того, чтобы друзьям из-за них собачиться.
— Точно. Мы больше в этот мир вовеки не придем, вовек не встретимся с друзьями за столом, лови же каждое летящее мгновение, его не подстеречь уж никогда потом!
— Слава тебе господи, наконец-то! — С самого начала разговора настороженно переводящая взгляд с Левашова на Новикова Лариса облегченно вздохнула. — Все вроде умные мужики, а хер знает чем занимаетесь… Действительно, лучше уж напейтесь как следует. И чтобы больше никаких разговоров о политике. Наслушались…
Разошлись по каютам за полночь.
— Тут без вас знаешь, что творилось, — говорила Ирина сквозь полуоткрытую дверь своей спальни, — совершенно женский монастырь получился. Ну, Лариска хоть на Олега время от времени отвлекалась, а мы вчетвером…
Новиков сидел, удобно развалившись в кресле, слушал ее болтовню и с интересом наблюдал за происходящим. Полотнище двери скрывало от него Ирину, но зато в высоком, почти до потолка трюмо, стоящем в глубине спальни напротив платяного шкафа, ее фигура отражалась полностью. Не подозревая о предательском законе оптики — «угол падения равен углу отражения», — она неторопливо переодевалась и вела себя при этом непринужденно. В дверце шкафа у нее было еще одно зеркало, и она вертелась перед ним, рассматривала себя то в фас, то в профиль, выбирала из многочисленных пеньюаров, халатов, ночных рубашек нечто, ей самой неведомое. Прикладывала их к груди, набрасывала на плечи и разочарованно отправляла обратно на полки. Не совпадало все это с ее подсознательной моделью.
В зеркалах ее творческие искания выглядели весьма увлекательно, интереснее, пожалуй, чем прямой стриптиз.
Андрей не был с ней наедине уже десять дней и сейчас с трудом сдерживался. Однако говорил ровным голосом, поддерживая светскую болтовню подруги:
— И что же вы вчетвером? Последовательниц Сафо изображали?
— Не можешь без гадостей? — Ирина сбросила белый кружевной бюстгальтер, закинула руки за голову, прогибаясь в талии, гордо повела высокой грудью безупречных очертаний. — Мы тут тоже политикой занимались. Только местного масштаба. Наташка с Ларисой свой комплот составили и поочередно то меня, то Сильвию в свой лагерь вербовали. Боятся, что мы с ней тоже объединимся…
— А им-то что? Даже если и объединитесь? Какие у вас точки противостояния? У них свои мужики, у вас свои. Или они рассчитывают еще и Берестина поделить?
Ирина, балансируя попеременно то на одной, то на другой ноге, стянула чулки, взялась за резинку кружевных панталончиков, но вдруг раздумала. Распустила прическу, побрызгалась духами из пульверизатора и, сокрушенно вздохнув — мол, не совсем то, но делать нечего, — надела через голову длинный, насыщенного цикламенового цвета пеньюар с кружевной пелериной. Звонко рассмеялась.
— Берестина? Так ты что, ничего не знаешь?
— А что я должен знать?
— Так Сильвия уже и его охмурила. Не знаю, как Лариска пронюхала, но клянется, что все железно… Он у нее ночевал, и не один раз…
— Нормально. А мне откуда же знать? У мужиков на такие темы говорить не очень принято. По крайней мере у воспитанных. Вроде нас.
Ирина вышла наконец в гостиную. Духи у нее были какие-то новые, с тонким эротическим запахом.
— И как же теперь с Сашкой будет, вы не анализировали?
— Что-нибудь будет. В конце концов, она ему не жена и обязательств никаких не давала…
— Это теория, а на практике опять проблемы. Не передрались бы под горячую руку… — Он привлек Ирину к своему креслу, посадил на подлокотник, положил ладонь на гладкое горячее колено.
Она, тоже соскучившаяся за время разлуки и обычно всегда очень охотно и даже сторицей отвечавшая на его ласки, деликатно, но решительно отстранилась, сдвинула колени и прикрыла их пусть и прозрачной, ничего не скрывающей, но все же преградой из текучей искристой ткани.
Андрей посмотрел на нее удивленно. Безусловно, что-то произошло. И ее предыдущие слова — просто не слишком удачный способ перейти к главному. Ему же ни о чем серьезном говорить не хотелось. Хотелось поскорее увлечь Ирину в постель и потом уже ни о чем вообще не думать, хотя бы до утра.
Достаточно он потрудился для общего дела и истории, имеет право и на маленькие радости личной жизни.
Однако же… Новиков встал, пересел в другое кресло, напротив, чтобы не давили на психику запах ее духов и возбуждающая близость едва прикрытого тела.
— Ну говори, что еще у вас стряслось?
— Нет, Андрей, я правда не хотела до завтра тебя беспокоить. А сейчас подумала, что лучше сразу сказать, чтобы потом больше не отвлекаться. Волей-неволей мне с Сильвией общаться приходилось…
— Ты так говоришь, словно общение с ней для тебя представляет сложности. С чего бы теперь-то?
Ирина гримаской изобразила недоумение:
— Как будто не понимаешь. Как бы там ни было, она психологически остается для меня существом словно бы высшего порядка. Умом я понимаю, что никакой роли это сейчас не играет, а где-то в подсознании такое отношение сохраняется. Ну вот как для лейтенанта отставной генерал все равно остается чем-то таким… Но я не об этом сейчас. Мы с ней разговаривали, она женщина чрезвычайно умная и обладает многими недоступными нам талантами.
— Уж это я видел, — согласился Новиков.
— Не перебивай, пожалуйста. Так вот она мне позавчера сказала, что обстановка стремительно меняется, и далеко не в нашу пользу…
Андрей промолчал, но выразил свое отношение удивленным движением брови.
— Она вообще считает, что вы совершили ошибку, ввязавшись в войну. Вам на самом деле следовало бы укрыться в отдаленном уголке Земли и хотя бы несколько лет сидеть там тихо-тихо. Пока не сгладятся вызванные межвременным переходом и всеми предыдущими событиями возмущения Реальности.
— Чего же она сама обо всем не сказала? Еще до Стамбула, в океане, с изложением всех доводов, научно или хоть эмоционально обоснованных?
Ирина пожала плечами, рефлекторным жестом попыталась плотнее закутаться в пеньюар, словно в каюте внезапно похолодало, а на ней не почти эфемерное одеяние, а как минимум байковый халат.
— Она считает, что это не ее дело. У вас с ней пока всего лишь перемирие, а не военно-политический союз. И раз вы ее победили, то сами вправе решать, что и как вам делать.
Андрей отметил, что Ирина сейчас вдруг начала говорить «вы», а не «мы». Скорее всего оговорка, но оговорка многозначительная. Все же она где-то на уровне инстинктов проводит грань между истинными землянами и собой.
— Допустим. Но это пока все так… Слова. Есть что-то конкретное?
— Конкретно Сильвия сказала, что вы… мы, — она наконец поправилась, — взбудоражили какие-то весьма могущественные силы, и земного, и не только земного происхождения. А Антон вам всей правды не сказал и по-прежнему только свои цели преследует…
Новиков внезапно догадался, о чем идет речь. Гиперреальность, к которой он самым краем сознания прикоснулся в тот последний вечер в Замке, когда Антон отправлял их сюда и давал прощальные наставления. И во время того краткого мига соприкосновения узнал, что имеет потенциальную возможность управлять ходом мировых событий не грубо физически, а словно перемоделируя их в воображении, как драматург и режиссер. Он не успел только понять, как именно это возможно, каков алгоритм входа в «пространство принятия решений».
И еще одна истина тогда ему открылась. Гипотетически возможны Реальности, которые он и Сашка Шульгин, может быть даже каждый из их компании (не зря же судьба свела вместе именно их, а не других каких-то индивидов), в силах смоделировать усилием воли, но не смогут удержать. Если, создав их, войти в них, словно в сюжет и пространство кинофильма, то существует опасность провалиться сквозь собственный вымысел, как в пропасть сквозь снежный мост. Только неизвестно — куда. Теоретически допустим другой слой Реальностей, в которых можно существовать без всяких вроде бы усилий, но постепенно растворяясь в них, словно кубик сахара в кипятке, ибо нет там для людей ни почвы, ни материала, кроме того, из которого состоят их личности. Незаметная, но неминуемая деградация и развоплощение.
Но, как дано было ему узнать, существуют еще и Реальности, конгениальные именно им. В них можно плыть, как в морской воде над Марианской впадиной, или бежать, как по тонкому, но выдерживающему вес бегущего льду…
Дано было узнать, но не сказано, как сделать. Пользы от такого знания примерно столько же, сколько Робинзону, на острове которого обнаружился вертолет, а он имеет лишь смутные подозрения, что эта штука способна перемещаться в пространстве.
Но какое отношение ко всем этим потусторонним истинам имеет Сильвия? Или?.. Пришедшая ему в голову идея выворачивала наизнанку всю картину происшедших с ними событий. Но выглядела не более безумной, чем все уже случившееся.
— Она не сказала ничего насчет степени опасности и возможных сроков?
— Знаешь, из ее слов я поняла, что все, от нас зависящее, мы уже сделали, и теперь… Канат обрублен, — так она витиевато выразилась, — и теперь лодку несет течением. Далеко ли водопад — скоро узнаем.
— Ишь ты, прямо поэтесса. А о своей роли в грядущих событиях она не намекнула? Может, знает, где весла взять или подвесной моторчик?
— Сказала, что она в той же лодке. А так, как ты сейчас сформулировал, я спросить не догадалась.
— Это хоть немного, но утешает. Слушай, может, мне прямо сейчас к ней пойти? Дела-то и вправду серьезные, не зря у меня тоже душа все время не на месте была. Только я относил это на счет фронтовых забот.
— Вряд ли… Сегодня ей точно не до разговоров будет. И мы с тобой тоже, если со стороны посмотреть, стра-анно выглядим.
— Точно. Как в анекдоте — жена смотрит в потолок и думает, не пора ли его побелить?
— Это я-то?
— Ты, ты, не я же начал. — Андрей мысленно махнул на все услышанное рукой. Уж как-нибудь до утра потерпит. Совсем идиотом нужно быть…
Ирина, правильно все поняв, потянулась к пульту встроенного в стенку бара музыкального центра, включила. Кассета была подобрана и вставлена заранее. С первого дня их встречи эта мелодия служила им и паролем, и катализатором. Новикову осталось только дернуть шнурок выключателя торшера.
В темноте, слегка рассеиваемой светящейся шкалой радиоприемника и разноцветными лампочками индикаторов, сплетались тоскливые и волнующие душу эмоциями давно минувших лет звуки тенор-саксофонов и кларнета.
…Ирина была не совсем права. В тот момент, когда она скользнула под пуховое, почти невесомое одеяло, Сильвия еще не спала и даже не занималась любовными играми с одним из своих поклонников. Более того, оба они находились сейчас в каминном зале ее каюты и наперебой развлекали даму. Внешне все выглядело вполне пристойно — только они трое не имели официально (де-факто или де-юре) признанных пар, и в то время, когда их более положительные друзья после парадного ужина разошлись «по домам», продолжали «холостяцкую пирушку». В Англии, конечно, Сильвия предпочла бы делать это в одном из клубов, подходящих для посещений особами ее круга, но здесь приходилось жить по русским обычаям, и она пригласила приятелей к себе.
Выставила на столик все необходимое, разрешила мужчинам курить и с удовольствием погрузилась в атмосферу остроумных шуток, тонких комплиментов и сдержанно-нескромных взглядов, скользящих по доступным обозрению частям ее тела.
Кроме всего, Сильвии было интересно, какой выход найдут Шульгин и Берестин из создавшегося положения. Рано или поздно бой часов и чувство приличия напомнят им, что пора и честь знать. Как решат они, кому остаться здесь, а кому уходить. Или уйдут оба, а вернется кто-то один? Или, наконец, этой ночью не вернется никто? Такой вариант был бы самым печальным, потому что она уже настроилась подарить себе «ночь любви». Если бы пришлось решать ей, она предпочла бы Алексея, но вмешиваться в игру случая не собиралась.
За проведенные на Земле сто двадцать лет Сильвия научилась извлекать удовольствие из самых неожиданных ситуаций. Вот, например, и сегодня — нечто вроде тотализатора или рулетки. А ее друг сэр Уинстон Черчилль, герцог Мальборо, говорил как-то, еще до Первой мировой войны: «Ситуацию мало уметь использовать, ее надо уметь создавать».
Шульгин, который попал в ее каюту на «Валгалле» впервые, заметил, что она очень напоминает своим интерьером лондонский особняк Сильвии.
— Более того, здесь он воспроизведен полностью. Со всей обстановкой. Спасибо капитану Воронцову, он предоставил мне такую возможность. К сожалению, не удалось перенести сюда главную особенность моего дома, но нельзя же требовать всего и сразу…
— Кстати, Сильвия, я хотел тебя спросить еще тогда, в Лондоне, когда фотографии рассматривал — что-то много на них попадается дам, на тебя похожих. И еще в прошлом, скорее всего, веке, и в начале нынешнего. То в Индии, то в Африке, и на королевских приемах…
Сильвия рассмеялась звонко и весело.
— И ты, конечно, подумал…
— Подумал. Если наш друг Антон смог проработать на Земле со времен отмены крепостного права, так отчего же и тебе…
— Я такая старуха, по-твоему? И тебе не страшно со мной общаться?
И Шульгин и Берестин поняли, что она имеет в виду. Не испытываешь ли ты комплексов, ложась в постель с полуторастолетней красоткой?
Нет, Шульгин не испытывал. Все ж таки он был психиатр и психоаналитик и в Сильвии воспринимал прежде всего форму — прекрасное, гибкое, умелое, покрытое бархатистой загорелой кожей тело тридцати— (с небольшим) летней женщины. Содержание, впрочем, его тоже устраивало: умная, эрудированная, умеющая быть парадоксальной, решительная, бесстрашная, иногда — ну, что поделаешь, беспощадная к тем, кого считает своими врагами. И весьма темпераментная любовница. При чем тут возраст?
— Теперь я спрошу, — вступил в разговор Берестин. — Смысл и главное свойство вашего дома — то же, что и московской базовой квартиры, где я побывал? Вневременное убежище?
— Да, конечно! — Сильвия словно бы даже обрадовалась его догадливости. — Не в самом же деле я непрерывно прожила там больше сотни лет, если точно — сто восемнадцать. В реальности я жила ровно столько, сколько требовали обстоятельства. Иногда неделю в месяц, а иногда три дня в год. Благо, Англия чрезвычайно удобная для такого образа жизни страна. Частная жизнь — святыня. Никому и в голову не приходило интересоваться, где я бываю и зачем. Получив приглашение на раут, всегда можно удалиться к себе и, переодевшись, выйти из дома три недели спустя… А когда подходил возрастной рубеж, я уезжала в ту же Индию, благополучно там «умирала», оставив завещание, а в Лондон через год-другой приезжала моя «дочь» или «племянница» со всеми необходимыми бумагами…
— Интересно люди живут, — вздохнул Шульгин.
За вином и разговорами незаметно подошло время прощаться.
К разочарованию Сильвии, все произошло до крайности просто. Она ведь не знала предусматривающие такие коллизии правила российского этикета.
Шульгин, поднося к сигарете Алексея огонек зажигалки, чуть заметно ему подмигнул и коротким движением подбородка указал в сторону двери. Тот, не торопясь, докурил, аккуратно закруглил свою часть общей беседы и встал.
— Извините, что ломаю компанию, но вдруг вспомнил кое-что. Да ты-то чего подскочил, сиди, если не гонят, я бы тоже с удовольствием, да вот…
Сашка и Сильвия остались одни.
Глава 10
Новикову все же удалось уговорить друзей поближе познакомиться с жизнью местного общества. И однажды по-южному теплым вечером, напоминавшим такие же вечера где-нибудь в Ялте или Геленджике полвека спустя, они съехали на берег. Из татарских шашлычных доносился чад горящего бараньего сала, столики многочисленных кафе вдоль набережной, прикрытые пестрыми матерчатыми зонтами, все были заняты местными жителями и полуэмигрантами с Севера.
За чашкой кофе или стаканом крымского вина текли многочасовые беседы и жаркие споры о судьбах России и планах дальнейшей жизни. Не так уж сильно все это отличалось от реалий курортной жизни безмятежных семидесятых годов, если не вдаваться, конечно, в тонкости исторического момента и не обращать внимания на особенности мужских и дамских туалетов.
Заранее был заказан стол на веранде лучшего из приморских ресторанов «Виктория», откуда открывался прекрасный вид на Южную бухту, Корабельную и Северную стороны, Графскую пристань. Здесь не ощущалась утомительная духота и шум общего зала, не доносились раздражающие кухонные запахи, однако хорошо была видна сцена, на которой выступала с новой программой кабаре труппа, составленная из знаменитых в то время актеров императорских театров. Вынужденных волей обстоятельств изменить своим амплуа ради добывания хлеба насущного.
Программа, впрочем, была вполне хороша. Опять же применительно к обстоятельствам.
И вообще ничего похожего на картины пьяного разгула, истерического веселья и атмосферы пира во время чумы, с таким смаком изображаемые в любой почти книге и фильме о гражданской войне, здесь не наблюдалось.
Гости вели себя прилично, как и подобает воспитанным и достаточно состоятельным, чтобы посещать дорогие рестораны, людям. Официанты исполняли службу профессионально, вежливо и без какого-то подобострастия. Фронтовые и тыловые офицеры отнюдь не орали «Боже, царя храни» и не палили в потолок из наганов и маузеров, а если и напивались, то в пределах, допускаемых количеством просветов и звездочек на погонах. Возможно, где-то они и вели себя согласно предписанным соцреализмом канонам, но не здесь.
Так что вечер удался вполне. Особенно для девушек, отвыкших в своей почти монастырской жизни от такого количества восхищенных взглядов посторонних мужчин.
Пили за ужином исключительно марочные вина исчезнувших в годы советской власти сортов, сухие и десертные, слушали классические и цыганские романсы, а также злободневные куплеты (невысокого, надо заметить, качества), полюбовались крайним проявлением тогдашнего эротического искусства — «настоящим парижским канканом».
О сиюминутных проблемах и заботах старались не говорить, чтобы не портить впечатления от ностальгического аттракциона «Встреча с прошлым».
А может, не аттракционом это следовало назвать, а пробным погружением в подобие грядущей мирной жизни.
Расплатившись по счету, который оказался весьма солидным (не для них, а по меркам здешней, и так непомерно дорогой, жизни), вышли на бульвар.
На пароход решили не возвращаться. Как-то всем вдруг не захотелось опять оказаться внутри хоть и комфортабельной, но железной коробки, когда на берегу так хорошо пахнет поздними цветами из обывательских палисадников, успокоительно шуршат под легким бризом ветви деревьев, и от земли исходят живительные токи вместо наполняющих пространство внутри корабля электромагнитных полей.
Один лишь Воронцов сказал, что до конца своим роботам не доверяет и надолго бросать «Валгаллу» без капитанского присмотра не имеет права. Остальные, в том числе и Наташа, решили заночевать в предоставленном Врангелем под резиденцию своих советников особняке.
…Воронцов поднялся на верхний ходовой мостик парохода. Двухсотметровый корпус «Валгаллы», увенчанный посередине надстройкой размером с шестиэтажный дом, с тремя колоссальными дымовыми трубами, над которыми вздымались стройные, чуть наклонные мачты с белыми якорными огнями на реях, спокойно лежал на фосфоресцирующей глади бухты.
Стояночной вахтой командовал один из входящих в инвентарь корабля биороботов. По заказу Воронцова их инопланетный покровитель Антон изготовил более тридцати исполнительных механизмов главного бортового компьютера, имеющих вполне человекообразный вид, способность членораздельной речи и возможность программирования для выполнения функций любого члена экипажа, от стюарда до старшего помощника капитана.
Чтобы не нарушать какие-то их форзелианские этические нормы, Антон ввел единственное ограничение — роботы могли действовать лишь на палубе корабля и в непосредственной близости от него, не далее километра. Этим он хотел исключить возможность использования неотличимых от людей механизмов вне их прямого назначения. Своеобразный суррогат трех законов робототехники. Впрочем, со свойственной ему изобретательностью Левашов быстро нашел способ обойти запрет. Не потому, что в этом была практическая необходимость, а из принципа.
Вахтенный начальник сейчас выглядел, как типичный моряк американского флота с иллюстраций художника Луганского к собранию сочинений Жюля Верна (Москва, 1954 год).
Воронцов не испытывал желания вступать с ним в какие-то разговоры, поэтому отошел к ограждению левого крыла мостика, облокотился на фальшборт, стал рассматривать перспективу дрожащего бледными огнями по берегам бухты города, где был совсем недавно.
Наверное, проникшие в самые глубины личности рефлексы военного моряка позволили ему среагировать на внезапное изменение ситуации быстрее даже, чем несущим вахту роботам, скорость прохождения нервного сигнала у которых раз в тысячу больше, чем у человека.
В пяти кабельтовых от «Валгаллы» стоял у бочки французский контрминоносец «Лейтенант Борри». Давно устаревший кораблик, примерно класса русских послецусимских 600-тонных эсминцев типа «Финн».
Дмитрий скользнул по нему взглядом. Просто так, как по еще одному элементу окружающего пейзажа. И увидел, что миноносец снялся со швартовов и медленно движется к выходу из бухты. Без огней. Это его насторожило. Не потому, что он ощутил какую-то угрозу, а из-за нарушения незыблемого морского порядка. Еще через секунду-другую между фок-мачтой и первой трубой миноносца блеснула оранжевая вспышка.
Воронцов метнулся к двери штурманской рубки, столкнулся с роботом, который, напротив, перемещался ему навстречу, захватив своими анализаторами потенциально опасное явление.
«Вот в чем разница между человеком и компьютером, — успел подумать Дмитрий, — из одинаковых посылок мы делаем противоположные выводы».
Влетев в рубку, он с маху, всей ладонью надавил кнопку ревуна боевой тревоги.
Почти тут же пароход встряхнуло. Не очень даже и сильно. Двадцать пять тысяч тонн обладают огромной инерцией. Но у борта взлетел вверх до верхушек мачт грохочущий столб воды, смешанной с огнем и дымом.
Прозевавшие торпедную атаку роботы (в чем не было их прямой вины, готовность номер один им не объявлялась) реабилитировали себя четкостью и скоростью дальнейших действий. Еще, кажется, не опал фонтан взрыва, как на пульте вспыхнул красный трафарет: «Цель захвачена. Жду команды».
Воронцов не колеблясь нажал тангету «Огонь».
Не позже чем через секунду с левого борта беглым огнем замолотила замаскированная раструбом котельного вентилятора скорострельная стотридцатимиллиметровка.
До цели было, считая по-сухопутному, метров шестьсот, и первые же снаряды, без всякой пристрелки, сразу пошли в цель.
Но Воронцов проявил себя еще и стремительно мыслящим политиком. И его следующая команда была: «Стрелять только по корпусу под ватерлинию. Десять выстрелов — отбой».
Этого хватило вполне. Вспыхнувшие прожектора раненой «Валгаллы» осветили несчастный миноносец. Мощные, изготовленные в конце двадцатого века снаряды, предназначенные для борьбы с суперсовременными фрегатами типа «Шеффилд» и крылатыми ракетами, в клочья разнесли его правый борт от форштевня до мидельшпангоута. Из машинного отделения струей хлестал перламутровый в галогеновом свете пар. «Лейтенант Борри» быстро кренился и садился носом. И лишь сейчас на его палубе вспыхнуло освещение и зазвенели сигналы водяной и пожарной тревоги.
Еще через минуту загорелись боевые огни линкора «Генерал Алексеев», почти тут же — фортов крепости.
— Прямо тебе — Порт-Артур в январе четвертого года, — успокаиваясь, проронил Воронцов. — Так что у нас случилось?
Робот, демонстрируя хорошую морскую выучку, четко доложил свою точку зрения на инцидент.
— Вот мудаки, — почти беззлобно выругался Дмитрий в адрес своих комендоров. — Могли бы торпеду еще на ходу расстрелять. Но тут скорее я виноват. Всему учил, а такого не предусмотрел…
И тут же стал вслушиваться в корабль. Вроде бы самого страшного не случилось. Ни треска ломающихся переборок, ни гула разливающейся по отсекам воды. И палуба не кренится под ногами. А самое главное — роботы из нижних помещений не подают сигналов тревоги.
Воронцов вызвал на дисплей компьютера информацию о полученных «Валгаллой» повреждениях.
Пароход не подвел. Многослойная, титаново-керамическая, усиленная кевларовыми прокладками бортовая броня выдержала удар 450-миллиметровой торпеды. Отмечался только прогиб листов, деформация ближних к месту взрыва шпангоутов, незначительное смещение на фундаментах котлов и машин.
Мостик и палуба в течение следующих пяти минут заполнились вырванными из постелей офицерами резервного взвода, пока еще остававшегося на корабле.
— Постройте людей на корме, — приказал Воронцов взводному командиру. — Только сначала пусть приведут себя в порядок. Срок — пять минут. А у меня и без этого забот хватит.
Воронцов, отставной капитан-лейтенант советского ВМФ, старший помощник капитана стотысячетонного балкера флота торгового, не имея, в отличие от Новикова, высшего психологического образования, практическими основами этой науки владел виртуозно.
— Принять в отсеки левого борта пять тысяч тонн воды, крен довести до пятнадцати градусов, дифферент на нос до пяти… — отдавал он команды центральному компьютеру. — Зажечь дымовые шашки за второй трубой. Потребовать с берега буксиры, семафором и гудками подавать сигналы «Терплю бедствие».
Пусть те, кто организовал предательскую атаку, считают, что цель их достигнута. Хоть на первое время. А там будем разбираться.
…Особняк стоял в глубине сада, отделенный от тихой окраинной улицы оградой из местного камня-ракушечника. Принадлежал он адмиралтейскому чиновнику довольно высокого ранга, предусмотрительно отбывшему со всем семейством за границу еще весной, и был временно секвестрован для нужд штаба флота, почему и сохранился почти неразграбленным.
Десять его комнат были богато и со вкусом обставлены модерновой мебелью, напоминали о недавней спокойной и размеренной жизни. В них еще не выветрились запахи непременного утреннего кофе, хозяйского табака, мастики для натирания полов, а в женских помещениях — каких-то тогдашних благовоний.
Хозяин, судя по фотографиям на стенах, был человек положительный и не чуждый сибаритства, даже в парадном мундире выглядевший благодушно. Жена и три дочки, не отличаясь красотой, смотрели с группового овального портрета на нежданных гостей доброжелательно, с одинаковыми непринужденными улыбками.
— Тоже вот, жили люди, — элегически заметил Шульгин, когда дамы разошлись по спальням, а они вчетвером решили завершить вечер, как встарь, пулечкой до двадцати, чтобы не засиживаться слишком долго.
— Они и сейчас где-нибудь живут, и даже, наверное, неплохо. Статский советник, да по интендантской части, вряд ли с пустыми карманами уехал…
Электричество в этот удаленный от центра район провести в царское время не успели, и играли они при свечах, задернув шторы. Новиков терпеть не мог ощущения, которое возникало, когда он находился на свету, а в окна, тем более первого этажа, заглядывала ночная тьма. Чтобы не было душно, открыли дверь в коридор, ведущий на обширную веранду.
— Что-то тревожно мне, — сказал вдруг Шульгин, только что успешно сыгравший мизер. По традиции за это дело выпили по рюмке «шустовского».
— Чего тебе-то тревожиться? Амнистер, и уже под закрытие идешь… — спросил Левашов, тасуя карты. — Вот я на шести застрял, и никак.
— Не в том счастье. А в воздухе такое что-то… Как перед грозой. Пойду-ка я осмотрюсь во дворе.
— Воров боишься?
— Знал бы чего — сказал. — Сашка вышел из комнаты.
— Вообще-то он прав, — заметил Берестин. — Неплохо было бы охрану при доме иметь. Глушь тут, и время военное.
— Да чего там, — отмахнулся Левашов. — Кому мы нужны? А если и что, так четыре мужика, вооруженные… Не Чикаго же здесь…
Оружия у них действительно было достаточно. Возвратившись с фронта, и Новиков, и Шульгин с Берестиным оставили здесь всю свою амуницию, включая и автоматы с солидным запасом патронов. Да еще и в карманах у каждого было по пистолету.
— А хорошо на дворе, — сказал, возвратившись, Шульгин. — Тишина, и полынью пахнет…
Еще через полчаса встал из-за стола Левашов. Гальюн здесь располагался в дальнем углу сада, куда вела узкая дорожка из плитняка.
«Вот вроде бы богатые люди, — думал он про хозяев, — а в доме не сообразили ватерклозет соорудить. Летом-то ничего, а зимой не набегаешься…»
У перил веранды он остановился, залюбовавшись пересекающим угольно-черное небо Млечным Путем. И не услышал, вернее, не обратил внимания на едва слышный из-за треска цикад шорох за спиной.
Чья-то рука с размаху опустилась ему на лицо, зажимая рот. Олег ощутил тупой толчок в спину и мгновенную острую боль под сердцем.
Инстинктивно он резко присел, выворачиваясь из захвата, и, уже теряя сознание, изо всех сил закричал.
Негромкий вскрик Левашова услышал только Шульгин. И тут же включилась его инстинктивная боевая программа. В подобных случаях он оценивал обстановку и собственные действия только задним числом.
Взмахом руки он погасил все три свечи в канделябре и стремительно метнулся к выходу. Не поняв сразу, что происходит, но зная, что Сашка ничего не делает зря, Берестин потянул из наплечной кобуры «стечкин», а Новиков стал нашаривать в темноте лежавший на диване «АКСУ».
Шульгин приостановился у выходящей на веранду двери. В голубоватом смутном свете ущербной луны заметил в трех шагах от себя бледную двоящуюся тень. Кто-то стоял за растущим посередине веранды старым абрикосом.
«Стрелять? Не стоит…» — Он остановил дернувшуюся было к карману руку и с почти неуловимой для постороннего взгляда скоростью прыгнул вперед. Развернувшись в полете, приземлился позади прячущегося за деревом человека, коротким тычком выпрямленных пальцев под ребра опрокинул его на кафельный пол веранды. От момента, когда он услышал вскрик Олега, прошло едва ли больше пяти секунд.
Со стороны моря донесся мощный даже на расстоянии взрыв. И тут же, словно это было сигналом, по всему саду загремели выстрелы. Целились в него, Шульгина, и по окнам дома.
«Черт, фонаря нет», — посетовал Сашка. Рядом с ним, отбивая пластами толстую морщинистую кору, ударило в дерево сразу несколько пуль. Присев на корточки, Шульгин тоже выстрелил трижды, каждый раз на два пальца правее вспышек, и, вопреки тому, что от него ждали нападавшие, рванулся не назад, к дверям, а навстречу неприятелю, в темноту сада.
Распластавшись горизонтально, перелетел через балюстраду, упал на четвереньки, с быстротой краба боком отбежал в буйную поросль золотых шаров.
Из проема двери короткими очередями, прикрывая его, застучал автомат.
Тактический перевес перешел теперь на сторону Шульгина. Только патронов в его «беретте» оставалось всего пятнадцать. И запасной обоймы в карманах не оказалось. А нападение осуществлялось крупными силами. По вспышкам направленных в сторону дома выстрелов он насчитал семь человек. Восьмой валялся на веранде. Наверное, были и еще, с другой стороны сада и на улице.
«У ребят патронов завались, надо, чтобы они не давали этим головы поднять…» — подумал Сашка. Но Берестин с Андреем сообразили это и без него. Новиков продолжал бить короткими очередями из проема двери, а Алексей перебежал в конец коридора и открыл фланговый огонь. Вот в чем просчитались организаторы налета. Они ожидали, даже в случае утраты внезапности, что им ответят максимум три пистолета, и сейчас были в растерянности, приняв выстрелы «АКСУ» за пулеметные. А это совсем другое дело — атаковать через открытый двор под огнем двух ручных пулеметов. Через минуту к двум автоматам присоединились еще два. Проснулись и вступили в бой Ирина и Сильвия, имевшие спецподготовку не хуже, чем у «зеленых беретов».
Привстав на колени, Шульгин, как на траншейном стенде, начал посылать пулю за пулей в заранее отмеченные по отблескам дульного пламени цели.
— Сашка, ложись! — услышал он перекрывший грохот перестрелки командирский голос Берестина.
Разрывая тьму оранжевым огнем, одна за другой полыхнули три гранаты. Раздался отчаянный вопль смертельно раненного человека.
Еще через несколько минут бой прекратился.
В «тревожных чемоданах» нашлись сильные аккумуляторные фонари, вроде тех, которыми пользуются путевые обходчики.
— Седьмой, — сказал Новиков, за ноги подтаскивая к веранде последний труп. — Остальные, похоже, сумели сбежать…
Пока они осматривали поле боя, Ирина с Сильвией, не замечая, что выскочили из постелей в ничего не скрывающих прозрачных ночных рубашках, хлопотали вокруг Левашова. Наташа, сама вся в крови от многочисленных, но мелких порезов — ее осыпало осколками оконного стекла, — успокаивала рыдающую и рвущуюся из ее объятий Ларису.
Длинный морской кортик вошел Олегу в спину по рукоятку, к счастью — на два пальца ниже, чем требовалось для мгновенной смерти, и браслет-гомеостат показывал, что он еще жив, а, значит, к утру будет в полном порядке.
Неудобством, которое могло иметь роковые последствия, было то, что по неизвестной причине браслеты не поддавались дублированию. Очевидно, они были квазиживыми объектами, дубликатор же, хотя и мог воспроизводить органику, но только мертвую, например, консервы или фрукты. И имеющиеся три гомеостата, хоть и передавались из рук в руки тем, кто в данный момент находился в зоне максимального риска, не могли обеспечить должной защиты каждому и постоянно. Вот как сейчас. Попади убийца чуть-чуть точнее, и спасти Олега уже бы не удалось.
— Неужели все напрочь мертвые? — спросил Берестин, осматривая тела. — Слишком ты, Саша, метко стреляешь!..
— Ты бы сам поменьше гранатами швырялся. Наташку вон посекло… Да вот этот, кажется, еще дышит, — показал Шульгин на кудрявого, пронзительно-рыжего парня в черной толстовке, с развороченным осколками животом.
— Тогда давай быстрее, оживи его чуток, порасспрашиваем…
Через полчаса к дому на «додже» примчалась высланная Воронцовым группа поддержки из шести офицеров в касках-сферах и бронежилетах. Еще через пятнадцать минут — конный взвод врангелевского личного конвоя.
Прочесывание местности ничего, разумеется, не дало. Пленный, придя в сознание, показал, что в налете участвовало двенадцать человек, друг с другом якобы малознакомых. Половина — бывшие матросы-анархисты, другая — из разгромленного Слащевым отряда бандитствующего «капитана» Орлова. Руководил всем человек лет сорока, по виду грек или обрусевший татарин. Звали его Иван Степанович, но имя, конечно, вымышленное. Сам «язык», задыхаясь и всхлипывая, говорил, что пошел на акцию не из идейных соображений, а за большие деньги. Причины налета не знает, ему сказали, что «надо кое-кого пощупать на предмет золотишка и камушков». В подобных делах он участвовал и раньше, когда грабили особняки и дачи московских и питерских богатеев…
Убедившись, что по горячим следам выяснить ничего не удастся, пленного, перевязав, отдали в контрразведку для дальнейшей разработки.
Когда вернулись на «Валгаллу», уложили Левашова в лазарет для окончательного выздоровления, узнали здешние новости и рассказали Воронцову о своих делах, Новиков зашел в каюту к Сильвии.
Она только что вышла из ванной и встретила его в пушистом банном халате.
— Что, леди Спенсер, напугались маленько?
Сильвия пожала плечами, села на диван, поджав голые ноги.
— Вы пришли, чтобы спросить именно это?
— Не только. Я хотел узнать ваше мнение — данная акция, ее можно считать тем, что вы подразумевали, или это на самом деле инициатива местных бандитов?
— Не знаю. Если бы только нападение на дом, а ведь одновременно и попытка взорвать «Валгаллу»… Но даже если сейчас и вправду самодеятельность, она вытекает из обстановки. Кто отдал команду французам, мы выясним, но исполнитель не мог действовать самостоятельно. Вы поедете к Врангелю с протестом?
— Через час. Переоденусь в визитку и отправлюсь.
— Возьмите с собой меня. Я буду вам полезной. Тем более что генерала Перси я знаю лично. Возможно, он скажет что-нибудь интересное…
— Слушай, — перешел Новиков на «ты». (Он вообще очень тонко чувствовал грань, как, когда и к кому следует обращаться.) — Я тебя возьму. Поговорим. Только как ты это понимаешь — в Лондоне сейчас живет одна леди Спенсер, здесь — другая? Я не вникаю в тонкости парадоксов времени, меня интересует практическая сторона. Вдруг генерал Перси видел тебя перед отъездом в Россию и очень удивится твоему здесь присутствию или нам вдруг придется послать тебя в Лондон с дипломатической миссией, как оно будет?
— А пусть тебя это не волнует. Я разберусь. Скорее всего, Антон был прав, с момента вашего перехода сюда, там, — она показала рукой на запад, — меня более не существует. Но исчезла я из той Реальности всего месяц назад — когда Шульгин забрал меня в Замок.
— Ну и умеете вы заморочить мозги простому человеку, — искренне возмутился Новиков. — Однако сейчас ты меня интересуешь как личность, присутствующая здесь. Сообрази — почему именно французы устроили эту пакость? Они же вроде лояльнее относились к Врангелю, чем англичане. И вообще — это же додуматься нужно — так открыто напасть! Или крыша у них поехала, или ждать не могли?
— На дураках воду возят, — переставив ударение с третьего слова на второе, ответила Сильвия, показав тончайшее владение русским языком. — А удивляешься ты зря. Расчет был не так уж и глуп. Представь — был бы вместо «Валгаллы» обычный пароход. От торпеды или даже двух он затонул бы почти мгновенно. Миноносец вполне мог после выстрелов незамеченным проскользнуть в море. А одновременно в доме перебили бы нас. И все! Если бы даже Врангель назначил расследование, оно постепенно заглохло бы, ничего не дав. О последствиях акции можешь сам судить. Нет, не дураки здесь работали…
Глава 11
Паника в высших эшелонах власти раскручивалась стремительно. Не успел Новиков с Сильвией приехать во дворец и представить русскому командованию официальный протест по поводу неспровоцированной торпедной атаки гражданского судна в российских территориальных водах, как там появился уже известный адмирал Леже, пышущий гневом и галльским гонором, с нотой противоположного содержания.
— На вашем месте, адмирал, — холодно и надменно заявил Новиков, вновь обратившийся в мистера Ньюмена, — я принес бы самые глубокие извинения, немедленно назначил строжайшее расследование по выявлению виновных и примерно их наказал, ну и, само собой, принял на себя обязательства по возмещению материального и морального ущерба.
— О каком возмещении вы говорите! — От лица адмирала можно было прикуривать. — Это ваш пароход открыл ураганный артиллерийский огонь чуть не в центре города, в двух шагах от набережной. Наш миноносец превращен в груду железа, убито и ранено почти тридцать человек, и вы еще имеете наглость…
— Имею, господин адмирал, еще как имею. Я сегодня же сообщу об инциденте Конгрессу САСШ и лично президенту Вильсону. Мы обратимся в международный суд. Думаю, французскому правительству проще будет отдать под суд адмирала, чьи моряки стреляют торпедами в пароход союзной державы, нежели искать иные способы нормализации возможного конфликта. Американское общественное мнение очень чувствительно к такого рода проявлениям агрессивности.
Наблюдая за перепалкой, Врангель не скрывал удовлетворения. Высокомерные французы попали в очень неприятную ситуацию, это очевидно. Тем меньше у них будет времени и настроения вмешиваться в его внутренние дела.
Спустя полчаса приехал и генерал Перси, невысокий человек лет пятидесяти с невыразительным лицом и щеткой седоватых усов.
Инцидент взволновал его по той же причине, по которой обрадовал Врангеля, а еще и потому, что акция очевидным образом не удалась. Пароход хотя и поврежден, но не потоплен, французы схвачены за руку с поличным, и теперь предстоит долгое, малоприятное разбирательство. Впрочем, кое-что положительное в ситуации все равно имелось — вляпались все-таки не англичане, а французы, и теперь им придется вести себя потише. Не только здесь, но и вообще. А ему, британскому представителю, надо продумать как следует свою теперешнюю позицию.
— Прошу прощения, господа, — Главнокомандующий, точнее, Верховный правитель Юга России, счел нужным вмешаться. — Я не совсем понимаю, какова в данный момент моя роль? Инцидент произошел хоть и в наших водах, но между представляющими союзные державы кораблями. Оба они, по реалиям текущего момента, пользуются правом экстерриториальности по отношению к правительству Юга России. Мы можем оказать необходимую помощь в ремонте поврежденных судов, принять раненых в морской госпиталь, но вот и все, кажется. Могу еще направить для участия в следствии своих представителей. (О нападении на особняк Новиков с Врангелем условились здесь не вспоминать. Дело семейное.)
— Благодарю вас, господин генерал, — поклонился Врангелю Новиков. — С признательностью приму вашу помощь. Мне, кажется, придется просить вашего разрешения воспользоваться севастопольским доком. Что касается остального — от вас потребуется только засвидетельствовать сам факт агрессии и скрепить своей подписью акт о нанесенном ущербе.
Француз же и англичанин от посредничества и какой-либо помощи русских, кроме медицинской, категорически отказались и предложили перенести переговоры на «нейтральную территорию», то есть в здание британской миссии.
Там Сильвия, словно бы почувствовав себя дома, немедленно перешла с генералом на дружеский, чуть ли не панибратский тон, а он внимал ей с почтением, поскольку относилась она к столь высоким кругам аристократии, что генерал, хоть и имел рыцарский титул, в Лондоне почитал бы за честь, если, оказавшись на каком-нибудь приеме, она удостоила его парой нейтрально-любезных фраз.
Он только осведомился, в роли частного лица присутствует здесь достопочтенная леди Спенсер или же…
Сильвия на мгновение приложила палец к накрашенным по последней европейской моде губам и, придерживая генерала под локоть, увлекла его в глубь кабинета.
— Разумеется, для всех я частное лицо, путешествующее вдобавок инкогнито, но вам, сэр Аллен, могу сказать. Сэр Уинстон дал мне некоторые инструкции, предупредив, что в случае необходимости я могу консультироваться именно с вами.
— Но мое назначение состоялось лишь месяц назад, и с сэром Уинстоном я не встречался…
Сильвия сделала значительное лицо.
— А вот я с ним встречалась три недели назад…
— Понятно. — Генерал проникся ощущением собственной значительности. Он-то считал, что назначение на пост начальника британской миссии в Крыму является родом замаскированной ссылки, но оказывается, что имеет место большая игра, в которой участвуют столь высокопоставленные особы, и ему в этой игре отводится значительная роль.
— И еще одно, генерал. Мне поручено передать вам вот это… — Сильвия расстегнула висящий у нее на руке бархатный с бисером ридикюль и передала Перси пачку стофунтовых банкнот. Весьма толстую пачку.
Тот, опасливо оглянувшись, сунул ее в ящик стола.
— На специальные расходы, которые нельзя оплатить из официальных сумм. Отчета в их использовании не требуется. Двадцать пять тысяч гиней.
Деньги по тем временам громадные. Только на проценты с них генерал до конца своих дней мог бы существовать хоть и скромно, но безбедно. Или купить себе в Англии весьма приличное поместье. А назвала Сильвия сумму взятки не в фунтах, а в гинеях потому, что традиционно это звучало благороднее. В гинеях исчисляется цена драгоценностей, кровных лошадей и иных изысканных товаров и услуг.
— А теперь, милый генерал, объясните мне смысл этой вполне дурацкой интриги…
Пока Сильвия работала с начальником британской миссии, Новиков продолжал препираться с французом. В отличие от своей партнерши, он действовал напористо и грубо:
— Вы понимаете, адмирал, как вас подставили? Вы теряете все — честное имя, чин, а может, и кое-что посущественнее. Я не остановлюсь ни перед чем, я вас просто раздавлю… Вы меня еще не знаете, но вы меня узнаете, слово чести. Мне плевать на позицию вашего правительства по отношению к русским, но я никому не прощаю неуважения к себе лично и к американскому флагу…
Он решил прикинуться не слишком умным, но агрессивным янки, представителем тех финансово-политических кругов, которые решительно порвали с былым изоляционизмом и, пользуясь блистательной и почти бескровной для САСШ победой в мировой войне, ринулись в Европу за своей долей пирога. В полном соответствии с ленинской теорией нарастания противоречий между капиталистическими странами в эпоху империализма.
— Если же вы сообразите, в чем ваш личный интерес, я соглашусь на вывод комиссии о том, что имел место случайный выстрел. Самовозгорание вышибного заряда или глупость плохо обученного матроса…
— Но нанесенный вашим ответным огнем ущерб…
— Как говорят у нас в Штатах — это ваши проблемы. Мои люди действовали в условиях отражения неспровоцированной агрессии. Разбираться в ее причинах и уж тем более соразмерять силу ответного удара им было некогда. Я, кстати, нисколько бы не жалел, утопив ваш паршивый миноносец со всем экипажем. Взрыв нашего крейсера «Мэн» в Гаване стоил испанцам всего флота и всех колоний. Вам нужно напомнить сюжет той войны? — Андрей сделал до невероятности самодовольное и наглое лицо. — И признайтесь, адмирал, для вас было неожиданностью узнать, что мой пароход неплохо вооружен…
— Да уж, — буркнул адмирал, сообразив, что как-то договориться с американцем можно.
— Одним словом — вы сообщаете мне, от кого вы получили инструкцию уничтожить мое судно. И, наверное, вместе со мной? Глубокая ночь, торпеда в упор. Обычный пароход мог бы затонуть довольно быстро, как, например, «Лузитания». И какова цель вашей акции?.. Только упаси вас бог начинать врать.
— В каком тоне вы позволяете себе говорить?!
— Бросьте изображать оскорбленную невинность! Вы для меня сейчас не адмирал союзной державы, а обыкновенный бандит, подкарауливший прохожего в темном переулке и воткнувший ему нож в спину. Вот когда вы мне все расскажете и я пойму политический смысл ваших действий, тогда, возможно, мы вновь станем разговаривать, как уважающие друг друга противники. А то и союзники, если сумеем договориться. Не хочу верить, что эта подлая выходка понадобилась лично вам для достижения собственных целей. Итак, адмирал, начинайте ваше повествование. Полную конфиденциальность гарантирую, а возможно — и солидное пожертвование. Для помощи пострадавшим морякам…
…Вернувшись на «Валгаллу», Сильвия сказала Новикову, когда они обменялись полученной информацией:
— Теперь вы видите, дорогой друг, насколько опрометчивым было ваше, пусть и благородное с точки зрения русского патриота, решение — ввязаться в эту войну. И пока мы зацепили только вершину айсберга. Эти украшенные позументами пешки знают слишком мало.
— Вы можете что-нибудь предложить?
— Знай я, что вы меня послушаетесь, я предложила бы немедленно поднять якорь и взять курс… Не знаю, на островах Южных морей тяжеловатый для европейцев климат. Я предпочла бы Новую Зеландию, там можно прекрасно устроиться в безлюдных бухтах Северного острова… — Голос ее прозвучал мечтательно. Что-то, наверное, с этими островами у нее было связано. Не замешан ли здесь пресловутый сэр Говард Грин, в качестве личного представителя которого Шульгин попытался войти к ней в доверие, начиная свою лондонскую акцию?
— Не далековато? — поинтересовался Новиков.
— Там, возможно, нас не так скоро найдут… Впрочем, я же вас знаю, от своей идефикс вы не откажетесь.
— Угадали. Да и ведь не я один решаю. Надо с друзьями посоветоваться. Но если не откажемся — что бы ты предложила? — снова изменил он стиль обращения.
— Наверное, следовало бы съездить. Вам — в Москву, мне — в Париж и Лондон. А самое главное — крайне необходимо вновь повидаться с вашим «другом».
— Он сказал, что мы прощаемся навсегда…
Сильвия пренебрежительно усмехнулась.
— Таким, как он, верить следует только в самом крайнем случае. Можете на меня положиться. Мы познакомились на Берлинском конгрессе в известном вам году. (Как истинная женщина, Сильвия не стала акцентировать внимание на том, что означенный конгресс состоялся в 1878 г.) И имели массу возможностей убедиться в деловых качествах друг друга.
— Антон, кстати, тоже характеризовал тебя как даму чрезвычайно коварную и беспринципную.
— Ну еще бы! — Выражение лица аггрианки показало, что она считает слова Антона заслуженным комплиментом.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ ЧУЖОЕ НЕБО * * * Глава 12
Все мы, святые и воры,
Из алтаря и острога,
Все мы смешные актеры
В театре Господа Бога.
Множатся пытки и казни…
И возрастает тревога:
Что, коль не кончится праздник
В театре Господа Бога?!
(Н. Гумилев).
Огромный пароход, предназначенный для перевозки с рекордной скоростью через Атлантический океан трех тысяч пассажиров ради завоевания голубой ленты Атлантики, был пугающе пуст.
Ибо что еще можно сказать о сооружении большем, чем занимающий в длину целый городской квартал пятнадцатиэтажный дом, во всех бесчисленных квартирах которого проживает постоянно не более чем девять человек. А сейчас вообще шесть.
Вдоль третьего сверху этажа, называемого моряками верхней палубой, тянулся длинный, слабо освещенный коридор. Этот коридор упирался в огромный зал, который мог использоваться и для банкетов, и для танцев, а сейчас был темен и безлюден. Только в дальнем его углу, на эстрадном возвышении стоял с поднятыми крышками старомодно-черный концертный рояль «Стенвей». В бронзовых канделябрах над его клавиатурой горели восковые свечи, и печальный человек сам для себя или для заполненного гулкой темнотой зала играл 14-ю сонату. По стенам бегали ломаные тени. В борта корабля громко били волны, заставляя резонировать гигантскую стальную коробку.
Над палубой частыми, почти не стихающими раскатами громыхал гром. Завершалось лето, и с юга, от турецких берегов, уже третий день чередой накатывались грозы.
Тихая задумчивость первой части сонаты переходила в беззаботное аллегретто второй. Светлые, вроде бы радостные ноты звучали в зале, а за иллюминаторами хлестал дождь и сгущался грозовой мрак. И вдруг внезапный трагический аккорд разорвал иллюзию покоя и счастья. Колеблющиеся язычки пламени над розовато-прозрачными столбиками свечей освещали резкие черты лица пианиста и закушенную губу. Отчего бы вдруг повлажнели щеки музыканта под полуопущенными веками? Неужели от той трагической муки, которой гремел рояль? Тяжкими волнами продолжал катиться над головой гром. На предназначенной для нот подставке пустел стакан со слабо разбавленным виски, в чашечке канделябра дымилась сигарета. Из-под гудящих струн рвалась задыхающаяся мольба о счастье или хотя бы покое и вдруг сменялась очередным взрывом отчаяния, словно бы даже криком ужаса перед будущим…
И нет никого, кто слышал бы надрывную, превосходящую обычные способности музыканта игру.
Для кого она? И зачем трепещут в сквозняке огоньки свечей?
Левашов уронил руки на клавиатуру и замер, опустошенный, не понимающий, как ему жить дальше. Сохранять верность усвоенным с первых лет сознательной жизни, ставшим сердцевиной его личности принципам и потерять друзей, остаться совершенно одному в чужом и чуждом ему мире? Предпочесть принципам дружбу, и тогда… Стать палачом своего народа, искренне принявшего революцию и защищающего ее от… Здесь его мысль запнулась. Назвать тех людей, с которыми он познакомился в последние дни, белогвардейских офицеров и генералов, просто гражданских, бежавших в Крым от… от народной революции? Назвать их белой сволочью, наймитами мирового империализма, врагами трудового народа Левашов теперь тоже не мог. Как сказала ему Лариса в ночь их первого знакомства: «Тупик, милый? Оба мы в тупике. Оба не знаем, что говорить и делать дальше…»
Олег жадно прикурил от догорающей сигареты следующую, поднял руки, пошевелил пальцами в воздухе и вновь заиграл. Вагнера.
…Рассуждая сейчас о событиях лета двадцатого года, трудно отделаться от мысли, что игры с Реальностями, перемещения во времени и вмешательство в ход исторических событий подчиняются гораздо более сложным закономерностям, чем известные Левашову, Ирине с Сильвией и самому Антону, окажись он сейчас здесь.
Если только не предположить, что, инструктируя уходящих в неведомый параллельный мир друзей, форзейль намеренно ввел их в заблуждение, преследуя свои, только ему известные цели.
Или — ему самому тоже неизвестные. Иначе чем объяснить, что развитие событий здесь почти сразу же пошло совсем не так, как в предыдущей Реальности, и даже не так, как можно было планировать с учетом всех уже состоявшихся вмешательств и воздействий.
При очередном обмене мнениями с друзьями Новиков высказал предположение, что и в самом деле волевое воздействие на Реальность может играть куда большую роль, чем непосредственные физические акции. Если это не так, то отчего же обстановка на фронтах начала меняться совершенно неадекватно реальному соотношению сил?
Все введенные в бой части, включая полторы сотни рейнджеров, десять стомиллиметровых самоходок и несколько дополнительно сформированных дивизий и бригад белой армии, не должны были, по теории, оказать сколько-нибудь значительного влияния на войну, по крайней мере — на этом этапе. При сохраняющемся пятидесятикратном перевесе Красной армии над Вооруженными силами Юга России. Как ничего не меняли позднее перебрасываемые из Африки или с Западного фронта немецкие дивизии на фронте Восточном.
А Красная армия отреагировала так, словно численное и техническое превосходство полностью перешло на сторону белых.
Берестин, только накануне возвратившийся в Севастополь из-под взятого стремительным ударом 1-го корпуса Харькова, возразил высказавшему эту мысль Новикову. В том смысле, что рассуждения Андрея не учитывают один достаточно простой фактор. Именно — любые вооруженные силы государства, ведущего затяжную войну, имеют предел психологической устойчивости. Казалось бы, все в порядке пока, есть и подготовленные резервы, и боевой опыт, и материально-технические средства, но наступает момент, когда не слишком значительные с теоретической точки зрения неудачи вызывают вдруг обвал. Как это произошло с кайзеровской армией в тысяча девятьсот восемнадцатом. Или с русской летом семнадцатого. Вот и сейчас. Мы из истории знаем, что Красная армия легко разгромила Врангеля осенью двадцатого, но никогда не задумывались, что вышло бы, сумей белые и без нашей помощи продержаться еще два-три месяца. Кронштадтский-то мятеж случился уже после «блистательной победы» в Крыму! А если бы до?
Ну а сейчас срыв наступил раньше, когда начались пусть и не столь значительные в масштабе всей войны, но необъяснимые поражения. И прежде всего — на уровне верховного командования. В Реввоенсовете и Главкомате не так уж много по-настоящему крупных и волевых полководцев. Там либо талантливые дилетанты, вроде Троцкого, способные побеждать за счет стратегической слабости противника и предельного напряжения сил своих войск, либо царские генералы и полковники из посредственностей, пожелавшие путем смены флага получить недобранное раньше. Они сейчас просто растерялись, не понимая, за счет чего практически разбитая врангелевская армия нашла в себе силы вновь перейти в наступление, причем используя совершенно новые тактические приемы. То, что красные командармы и комдивы знали и умели, внезапно потеряло всякую ценность.
Одно дело — бросать против рот и батальонов корпуса и дивизии, аналогично вооруженные, пользуясь вдобавок тем, что сражения происходят в чистом поле, где огневому и численному перевесу красных белые могут противопоставить только личную храбрость и высокую боевую подготовку. И совсем другое — столкнуться с ситуацией, когда противник перешел к тактике стремительных фланговых ударов, глубоких охватов с прорывом на всю глубину стратегического построения, массированному использованию артиллерии и авиации и прочим достижениям военной науки отдаленного многими десятилетиями будущего.
— В конце концов, — констатировал Берестин, блаженствуя в почти забытом комфорте кают-компании стоящей у стенки морзавода и ремонтирующейся после не совсем удачного покушения «Валгаллы», — сейчас сработал фактор, который мог бы проявиться и без нашего участия. В силу своего образовательного и интеллектуального уровня белая армия могла бы выиграть войну еще в девятнадцатом. Уцелей Корнилов, окажись сразу Врангель на месте Деникина, а Слащев на месте Май-Маевского, сумей Колчак вовремя разобраться с чехами и Семеновым… В этом смысле хороший пример — гражданская война в Испании. Так что, Андрей, не обязательно ссылаться на сверхъестественные силы… Принцип Оккама забывать еще рано. Да и заметь, нас с тобой сейчас нет на фронте, а Слащев с Кутеповым продолжают одерживать впечатляющие победы…
— В твоих словах, безусловно, присутствует резон, — кивнул Шульгин. — Да только не совсем. Сослагательное наклонение. Если бы Деникин не был Деникиным… А почему не наоборот? Если бы Ленин не был Лениным, все решилось бы еще проще. Однако тогда было то, что было тогда, а теперь все иначе. И я не могу согласиться, что наше участие в этой войне так уж несущественно. Не боевое участие, а вот именно психологическое. Когда я оказываюсь на передовой, я просто физически ощущаю, что мое присутствие меняет саму, если угодно, ауру Реальности. Я заведомо знаю, как должны развиваться события, и будто заставляю их происходить в соответствии с этим знанием. Хотелось бы выяснить, что в подобном случае происходит на той стороне фронта. Как себя чувствует противостоящий субъект? Осознает ли он, что повинуется чему-то, давящему на него извне, или же нет? Вот о чем надо бы подумать…
— А ты уверен, что все происходит именно так? — спросила доселе молчавшая Сильвия. — Или просто ощущаешь? Пробовал сознательно принять определенное решение и посмотреть, как оно воплощается? Экспериментально выяснить, что есть следствие твоих прямых действий, а что развивается само по себе?
— Не уверен. В том-то и дело. Пока просто догадываюсь. Ну а вот хотя бы…
Новиков нажал кнопку, включающую большой настенный экран. Яркая зеленая линия обозначила на карте Европейской России положение фронта на текущий момент. Упираясь правым флангом в Дон, она поднималась к Харькову, через Полтаву шла к Днепру и, немного не достигая Киева, резко сворачивала на юг, к Одессе.
— Для двух месяцев совсем неплохо, — сказал Андрей. — Мы так планировали, и так получилось. На этом фронте можно и остановиться. До весны. Провести мобилизацию, накопить резервы. За зиму очистить Кавказ. А большевики пусть окончательно доведут на своей территории народ до ручки. Пока война не окончена, никакого НЭПа у них не получится, а без него Совдепия способна развалиться и сама собой.
— Если вам это позволят, — меланхолически произнесла Сильвия.
— Опять ты о том же! — вскинул голову Шульгин. — Ну, знаешь правду, так скажи, сколько же можно каркать, как Сибилла!
— Сибилла — Сильвия, очень похоже, — без улыбки вздохнул Берестин. — И у той и у другой смысл предсказаний становился ясен только задним числом. Вперед они не умеют…
— Отчего же. Смысл моих предсказаний очевиден заведомо. Я просто не знаю пока, откуда и в какой форме придет ваша очередная беда. Разве так трудно понять, задолго до вас и без вашего участия все «исчислено, взвешено, предрешено». Наивно думать, будто вы вчетвером способны что-то изменить, даже если сейчас вам все удается. Тем трагичнее будет итог.
— Как у вас, аггров? — спросил Новиков с живостью.
— Не так, как у нас, иначе, но тем не менее…
— Ну и пусть. — Шульгин посмотрел ей в глаза своими, широко раскрытыми и откровенно наивными. — Пусть. А там посмотрим, что почем.
— Не через Владимира ли Ильича придет им спасение, а нам печальный конец? — спросил Берестин. — Он как бы воплощение противостоящей нам идеи, мужик безусловно неглупый и, наверное, превосходит нас в способности к политическим играм. Прошлый раз НЭП изобрел, а вдруг и сейчас нечто неожиданное выдаст, о чем мы пока не догадываемся?
— Он такая же игрушка в руках куда более могущественных сил, как вы были в руках Антона.
Ответом Сильвии был искренний смех Шульгина и в разной степени скептические усмешки Новикова и Берестина. Воронцов остался невозмутим.
— И ты прав, сын мой, и ты тоже прав, — процитировал он царя Соломона, причем с таким акцентом, будто тот был персонажем не Библии, а Шолом-Алейхема. — Знать истины мы не можем, и вряд ли даже компьютер нам ее подскажет. Как там, Андрей, того циника в твоем романе звали?
— Никомед. — Новиков удивился, что Воронцов, оказывается, запомнил ситуацию из его недописанного романа, в котором ему удалось, пусть и несколько иначе, предсказать многое из уже случившегося. И Никомед там присутствовал, но не в роли персонажа, а как кодовое наименование одного из этапов крайне хитрого плана военного переворота в раннебрежневском СССР. Сопряженного с использованием логических связей третьего порядка и многослойных, иногда и в самом деле цинических провокаций.
— Вот-вот. И у меня есть некоторые наметки. Раз уж нас тут так не любят. А вы вот, леди, не по-товарищески поступаете. Ну, знаете что-то интересное, так и поделитесь без всякого…
— Я вас понимаю, Дмитрий. Только извините, принципы у нас разные. Если будет что-то реальное — скажу немедленно. А сейчас что же говорить? Предположения, ощущения, озарения… А вы ведь все рационалисты. Как это писал ваш любимый Марк Аврелий — «Делай, что должен, случится, чему суждено…» Ничего лучшего я вам не могу посоветовать. А Москву вы, Андрей, навестите, как собирались, это правильная мысль… Хуже не будет.
Глава 13
Тихим и неожиданно теплым сентябрьским днем, чуть пасмурноватым, но все равно светлым — от огненно-желтых и багрово-алых деревьев Бульварного и Садового колец — над Москвой появился аэроплан.
Ничего особенного в этом вроде бы и не было, с Ходынского аэродрома самолеты летали часто, и легкие «ньюпоры» с «моранами», и двухмоторные бипланы «бреге» и «де хэвиленды». Только сегодняшний «Илья Муромец» оказался белогвардейским, о чем говорили трехцветные розетки на крыльях и разрисованный добровольческой символикой фюзеляж. Ровно гудя моторами, он сделал круг над самым центром города, сопровождаемый взглядами тысяч глаз — и испуганных, и ненавидящих, но по большей части обрадованных и восхищенных.
Загомонила, задрав к небу головы, Сухаревка, гигантский толкучий рынок на пересечении Садового кольца, Сретенки и Первой Мещанской, у подножия одноименной башни, где торговали всем на свете, от скверных спичек и армейских револьверов до сахарина и поддельных бриллиантов из императорской короны.
Слухи по этому стихийному средоточию экономической жизни столицы РСФСР и так давно уже ходили самые разные: что большевиков бьют на всех фронтах и они стремительно откатываются к Москве, что армии Буденного и Тухачевского не просто отступают, а наголову разбиты поляками, хуже, чем Самсонов в четырнадцатом, что сам Буденный застрелился, а Тухачевский бежал в Германию, что Антанта и финны не сегодня-завтра возьмут Петроград, что в тамбовских лесах появился какой-то Антонов, не то бывший большевик, обиженный Троцким и поднявший двести тысяч мужиков против Советов, не то засланный из-за границы новый Лжедмитрий…
Как и полагается, интенсивность и содержание слухов немедленно нашли свое отражение в финансовой сфере — вторую неделю, как пошел вверх курс царских денег, особенно пятисотрублевых «Петров» и сторублевых «Катеринок». За «Петра» сегодняшним утром просили четыре миллиона совзнаками, а теперь, конечно, запросят еще больше.
Невольно приосанились бывшие офицеры, ухитрившиеся избегнуть мобилизации или расстрела, а ныне перебивающиеся случайными заработками, и так же дружно приуныли их коллеги, оказавшиеся на советской службе.
Они-то лучше других знали реальную обстановку и догадывались, чем может грозить им лично дальнейшее развитие событий.
По рукам образованной части населения ходили вырванные из школьных атласов и томов Брокгауза и Ефрона карты Европейской части России с «самой точной» линией фронта. В зависимости от степени информированности и оптимизма владельца карты она проходила то где-то между Харьковом и Курском, а то и прямо через Тулу.
«Только вчера приехавший (бежавший) оттуда» зять, брат, свояк, в самом сдержанном варианте — «один знакомый» рассказывал якобы, какую огромную помощь получил от Антанты Врангель, что белые войска, словно и не было столько тяжелых поражений, бьются отчаянно и беспощадно, а у красных, наоборот, «лопнула становая жила» и что даже вольный батька Махно перекинулся «на ту сторону» и буквально вчера взял Киев!
Как бы там ни было на самом деле, общественное мнение сходилось на мысли, что на сей раз Врангель взялся за дело всерьез, о чем свидетельствовало сравнительно медленное, но планомерно-неудержимое продвижение его войск на север и по Украине, ничуть не похожее на отчаянный, закончившийся новороссийской катастрофой прошлогодний рывок к Москве Деникина. И что большевикам, уж на этот-то раз наступает непременный конец!
Газеты «Правда» и «Известия» писали о положении на фронтах глухо, стараясь не упоминать конкретные географические пункты, а больше напирали на примеры массового героизма красноармейцев и неизбежность восстания европейского пролетариата. Верили им, разумеется, мало. Русский народ стремительно постигал науку чтения между строк.
Стало известно об экстренном прибытии в Москву Троцкого с двумя эшелонами охраны из мадьяр и китайцев и еще одним эшелоном, груженным краденым церковным золотом, о том, что ЦК заседает непрерывно и обсуждается отъезд правительства не то в Кострому, не то в Вологду, поближе к морю и пароходам.
Чрезвычайка свирепствовала, как никогда. Прокатилась очередная волна облав на заложников, все больше из семей военспецов, даже тех, кто служил большевикам не за страх, а за совесть…
И вот теперь появился аэроплан. Знающие люди тут же принялись объяснять всем желающим, что фронт, получается, совсем уже рядом. Верст двести, не больше. Аэроплану больше не пролететь.
…Новиков, заросший трехдневной щетиной, в стоптанных и сто лет не чищенных солдатских сапогах, в суконном бушлате и картузе с треснувшим козырьком сидел на ступеньках проходного подъезда углового дома, через который в случае внезапной облавы легко было скрыться в лабиринте дворов между тремя Мещанскими улицами. Рядом примостился Басманов и еще один офицер, поручик Рудников, до войны служивший репортером по уголовным делам в «Ведомостях московского градоначальства» и знавший город не хуже самого Гиляровского.
Они закусывали ржаным хлебом, салом и печеными яйцами, скучающе озирая раскинувшуюся перед ними панораму Сухаревки. Даже появление аэроплана, неведомо что предвещавшее, не вывело троицу… не то дезертиров, не то мешочников средней руки из сосредоточенного процесса насыщения. И не такое, мол, видали…
И действительно. Они сами принимали участие в подготовке «Ильи Муромца» к полету. На старом бомбардировщике заменили двигатели на куда более легкие и мощные «М-17», полотняную обшивку — на кевларовую, проволочные растяжки — на титановые трубчатые стойки, и в итоге получилась совсем другая машина.
Пилотировал ее прославленный ас Первой мировой и этой войн, лично сбивший восемнадцать немецких и тринадцать красных самолетов, поручик Владимир Губанов по прозвищу Кот. Происходило ли это прозвище от изображаемого на борту каждого очередного самолета черного зверя с выгнутой спиной и свирепо встопорщенными усами или, наоборот, — не знал никто из ныне живущих.
— Кремль бомбить прилетел! — пронеслась неизвестно кем пущенная догадка, и в толпе началось возвратно-поступательное движение. Часть ее устремилась в сторону центра — посмотреть, как это будет, а часть, из тех, кто поосторожнее, потянулась от греха подальше, под прикрытие глубоких подворотен.
«Илья Муромец» тем временем завершил свой первый медленный круг над ржавыми крышами и облупленным золотом куполов московских «сорока сороков».
Со стороны Кремля действительно загремели нестройные винтовочные выстрелы, несколько очередей с Никольской башни дал в сторону аэроплана пулемет. Скорее со злости, нежели надеясь попасть.
…Новиков с группой из пятнадцати прошедших специальную подготовку офицеров появился в городе утром, в районе Павелецкого вокзала. Все они были одеты разнообразно и пестро — в домотканые поддевки, старые шинели и ватники, с расчетом ничем не выделяться из общей массы, и изображали кто огородников из ближних сел, доставивших на рынки свою продукцию, кто артель плотников или печников, кто пильщиков дров с козлами на плечах и завернутым в тряпки инструментом. Замаскировавшись таким образом, каждый, не привлекая внимания заградотрядников, нес под видом невинного груза по паре пудов необходимого снаряжения.
Одновременно с ними в Москву просочились еще две аналогичные группы, одной из которых командовал Шульгин, а другой — коренной москвич штабс-капитан Мальцев.
Заранее поделенные на пятерки и тройки, каждая с хорошо знающим город офицером во главе, рейнджеры рассеялись по дворам и улицам, имея все необходимые инструкции и постоянно включенные на прием рации. Детального плана действий у Новикова пока не было, все зависело от конкретной обстановки. Решающий ход был сделан самим фактом этой экспедиции, теперь нужно было ждать ответного.
Берестин назвал их рейд разведкой боем. А Андрей добавил, что, возможно, правильней будет — «Вызываем огонь на себя». …Снизившись до трехсот сажен так, что отчетливо стали видны фигуры пилотов в застекленной носовой кабине, оглушая москвичей ревом моторов, бомбардировщик пронесся над самым центром барахолки и выбросил из брюха облако похожих на пух из распоротой перины листовок.
Вторую серию он сыпанул прямо внутрь кремлевской ограды. Переглянувшись, Новиков с товарищами не спеша завернули в не слишком чистые тряпицы остатки своей трапезы, затянули шнурки вещмешков, разом поднялись.
Кружась и колыхаясь в потоках нагретого многочисленной толпой воздуха, листовки, может быть, несколько быстрее, чем следует, опускались в гущу людского моря, на плечи и головы продающих и покупающих, на мостовую, на ветки деревьев и крыши окрестных домов.
Первый листок достиг земли, и тут произошло непонятное. Гражданин в поношенной темно-серой паре и не идущей к костюму шляпе-канотье, любопытствуя, поймал спланировавшую прямо в руки бумажку, скользнул по ней без особого интереса глазами. И вдруг рот его полуоткрылся, глаза странным образом округлились…
Неуловимым движением он сунул смятый в кулаке листок в карман и метнулся вперед, расталкивая окружающих.
Листовки этот странный гражданин, через секунду потерявший свое канотье, хватал обеими руками, пихал их в карманы и за пазуху, подпрыгивал, чтобы поймать очередную бумажку на лету, припадал к земле, лягался и яростно работал локтями.
Пока растерявшийся народ с изумлением наблюдал за хрестоматийной картиной внезапного помешательства, «несчастный» успел ухватить никак не меньше двух десятков листовок.
И тут неподалеку раздался вопль, еще один, еще. По толпе прокатился слитный гул, сквозь который то там, то тут прорезались отдельные, наиболее пронзительные крики и возгласы — яростные, испуганные, истерически-отчаянные.
Сухаревка забурлила. Такое обычно случалось здесь лишь во время устраиваемых чекистами массовых облав.
Толпа кружилась и раскачивалась, в ней возникали водовороты и разрежения, народ то сбивался в кучу там, где листовки ложились гуще, то бросался в стороны.
Приливная волна выкатилась на тротуар — часть листовок нанесло на стены окружающих площадь зданий, и они тихо, как осенние листья, скользили, прижимаемые ветром к облупленной штукатурке, вниз, к сотням рук, жадно протянутых навстречу, застревали на карнизах и подоконниках, попадали в водосточные желоба.
Трое разведчиков отступили в глубь подъезда. Смешиваться с теряющей человеческий облик толпой им было явно не с руки. А неподалеку вдобавок вспыхнула свирепая потасовка.
Хорошо еще, что почти никто из торгующих не раскладывал свои товары на земле, иначе в возникшей сутолоке не обошлось бы без жертв. Но драки тем не менее вспыхивали теперь уже повсеместно — все за те же листки бумаги. Еще миг — и наиболее проворные и сообразительные кинулись в окрестные дворы, оттуда по пожарным и внутренним лестницам — на крыши.
А в небе наконец появились два красных «фармана». Можно представить, сколько криков и ругани по начальственным телефонам их появлению предшествовало!
Отпугивая истребители огнем из всех своих восьми пулеметов (да не каких-нибудь старомодных «льюисов», а надежных скорострельных «ПКТ») — малиновые огоньки трассеров были снизу хорошо видны, — «Илья Муромец» круто пошел вверх, причем настолько быстро, что «фарманы» сразу начали отставать. Само по себе это было невероятно. Истребитель, даже с изношенным мотором и на плохом горючем, должен превосходить устаревший бомбардировщик по скорости километров на сто в час. Разве что красные летчики сознательно не хотели лезть под пули, из страха или по идейным соображениям. Они ведь наверняка видели знаменитую эмблему на борту «Ильи Муромца» и знали, что сулит встреча с обладателем этого «рыцарского герба».
Поднявшись версты на полторы, белый аэроплан высыпал над Замоскворечьем третью порцию листовок и, покачав крыльями, еще прибавил газу. Под самой кромкой облаков развернулся на юго-запад, блеснул на прощание серебристыми ореолами винтов и исчез, растворяясь в густеющей дымке.
«Фарманы», поняв бессмысленность преследования, с раздраженным жужжанием тоже повернули восвояси.
Новиков, Басманов и Рудников, закурив «козьи ножки», с видом людей степенных и на всякую ерунду не падких, наблюдали за овладевшим москвичами психозом, изредка обмениваясь мнениями о действиях охотников за листовками. Пока наконец один, самый азартный, стараясь дотянуться до повисшего в раструбе водосточной трубы листка, сорвался, мелькнул со сдавленным вскриком вдоль краснокирпичного брандмауэра и исчез за крышами дровяных сараев.
— Кхм! — подавился дымом Басманов. — Это уже и лишнее.
— Жадность фраера сгубила, — не согласился с его мнением Рудников.
— Что уж тут… Глупо, конечно. Так черт ли его понес? — Новиков раздраженно дернул щекой и отвел глаза. — А вы могли бы предложить лучший способ?
Басманов пожал плечами и ничего не ответил. А Новиков в очередной раз удивился странной чувствительности прошедшего все круги гражданской войны капитана. Но, может, потому он и капитан, когда люди младше его по выпуску уже и генеральские погоны носят?
— Это еще что, — ухмыльнулся Рудников. — Подождите, скоро по второму разу дележка пойдет, вот тогда…
С треском распахнулась перекошенная балконная дверь на третьем этаже, и краснорожий дебелый мужик заорал дворнику, который ручкой метлы гнал перед собой прошмыгнувших в щель под запертыми воротами беспризорников:
— Никитич, какого… они там с ума посходили? Чего с крыш сигают?
Дворник, изгнав посягнувшего на его законную добычу врага, ответил, с трудом сдерживая торжество, поскольку карманы его фартука оттопыривались:
— Да вот слышь, листки с неба падали… А на кажном листке десятка николаевская пришпандорена. Не иначе клеем столярным, не оторвешь!
— Да ну? Врешь небось. Я сбегаю сейчас, погляжу-ко!
Дверь так и осталась открытой, а мужик исчез.
— Поглядишь, поглядишь… Хрен в сумке ты поглядишь… — пробурчал дворник с отчетливым владимирским выговором, скрываясь в свою нору слева от подворотни. Слышно было, как лязгнул наброшенный крюк.
…Идея принадлежала как раз Новикову. Это он придумал таким способом отвлечь внимание ВЧК и милиции от движущихся сейчас по городу разведгрупп. Наверняка все наличные силы будут немедленно брошены сюда, в центр, на охоту за счастливыми обладателями листовок с врангелевским подарком.
Ну а вдобавок не вызовет излишнего внимания и то золото, которое завтра же появится в Москве уже по другим каналам. Андрей собирался использовать его широко — в целях подкупа должностных лиц, для финансирования нужных людей и просто для дезорганизации красного тыла.
Заодно и создать в обнищавшем за три года до последней крайности городе нужное настроение тоже следовало. Как любил повторять к месту и не к месту В. И. Ульянов-Ленин: «Коль воевать, так по-военному».
Кстати, листовки, сброшенные на Кремль, золотого обеспечения не имели. Тоже с психологической целью.
…Попозже, когда «золотая лихорадка» стихла, поскольку в радиусе двух километров не осталось ни одной, хоть раз не подхваченной с земли дрожащими руками самой замызганной бумажки, врангелевские листовки, пусть далеко и не все, были заодно и прочитаны.
Подкрепленное, словно гербовой печатью, монетой с царским курносым профилем, содержание отпечатанных изящным шрифтом лазерного принтера листков чересчур уж сенсационным не было, но кривотолкам конец положило.
Прежде всего в них сообщалось, что линия фронта проходит сейчас от Ростова до Одессы через Курск. Взятие Москвы обещалось к исходу следующей недели. Экономическое и военное положение «Свободной России» было названо блестящим, что подтверждалось Указом Верховного правителя о восстановлении отмененного в четырнадцатом году размена на золото билетов Государственного банка и приравненных к ним денежных знаков правительства Юга России.
Врангель, сочувствуя бедственному положению москвичей, счел возможным накануне освобождения послать эту небольшую денежную помощь в надежде, что хоть какая-то ее часть дойдет до истинно нуждающихся. Для сведения остальных было сказано, что гарантируется поставка ста тысяч пудов продовольствия на следующий же день после установления в Москве надлежащего порядка, участвовать в чем призывалось все законопослушное и здравомыслящее население. Также было обещано немедленное возобновление свободной торговли без каких-либо налогов и сборов.
Особо обращаясь к служащему у большевиков офицерству, генерал-лейтенант Врангель гарантировал полную амнистию всем, кто с сего дня перестанет исполнять приказы кремлевских узурпаторов. Остальных ждал суд, скорый, но справедливый…
Неизвестно, какое число жителей Москвы в те дни искренне поддерживало большевиков, но вряд ли больше десяти-пятнадцати процентов. Если уж в пролетарском Петрограде то и дело вспыхивали волнения и забастовки, подавлявшиеся со всей возможной свирепостью, и совсем немного времени оставалось до Кронштадтского восстания, то мещанская и купеческая Москва тем более не имела оснований любить бессмысленно жестокую власть. Ее лишь терпели от безысходности, считая непреодолимым злом и божьим наказанием, надеясь, что рано или поздно она как-нибудь да исчезнет, а до того дня необходимо любой ценой выжить и перемочься. А вот теперь народ по-настоящему воспрянул духом. И многие, может быть, даже слишком многие начали готовиться к сведению счетов. Да ведь и было с кем. В воздухе ощутимо запахло Вандеей и чем-то вроде очередной Варфоломеевской ночи.
…Новиков снова, как совсем недавно, в девяносто первом году, шел через Сретенку, Большую Лубянку, Охотный ряд к Кремлю.
Во-первых, все равно нужно было скоротать время до темноты, во-вторых, пройти намеченные планом контрольные точки, да и просто немыслимо интересно вновь прогуляться по улицам родного города за три десятка лет до собственного рождения.
Погода неожиданно быстро начала меняться. Легкий облачный покров на глазах уплотнялся и темнел, опускаясь к самым шпилям кремлевских башен, вдоль улиц потянулись полосы тумана, первые порывы шквального ветра взметнули пыль на перекрестках. Похоже, бабьему лету приходил конец.
«Оно и к лучшему, — думал Новиков, оглядываясь по сторонам. — Туман, дождь, хотя бы и метель. Чем мерзее на улице, тем спокойнее».
Басманов, ссутулившись и засунув руки в карманы, шел метрах в двадцати сзади. Рудников настолько же впереди по другой стороне.
Оба в любую секунду готовы броситься на выручку. Огневой мощи даже их маленькой группы вполне достаточно, чтобы прорваться сквозь любой заслон. Но пока ничьего внимания они не привлекали. Да и с чего бы? Таких, как они, здесь тысячи и тысячи.
А таких ли? Андрей с самого утра начал присматриваться к московским жителям. И все более поражался. Подобных лиц он не видел ни в своей нормальной жизни, ни в сорок первом, ни только что во врангелевском Крыму. Конечно, в Севастополе, Ялте, Симферополе собрался сейчас цвет той, дореволюционной, России, и процент интеллигентных людей как бы не выше, чем при царе в центре Петербурга, но все же…
Нельзя сказать, чтобы Москву сплошь заполняли дегенераты, однако количество физиономий, не отмеченных даже намеком на интеллект, вгоняло в оторопь. Лишь постепенно он начал понимать, в чем тут дело.
Само собой, число людей не слишком умных и образованных здесь после трех лет гражданской войны и красного террора непомерно велико. Однако, если бродяга, нищий или босяк осознает свое место в обществе, соответственно одет и держится, его облик и воспринимается более-менее адекватно, без побочных эмоций. Но когда тысячи подобных типов одеты в военную форму или партикулярный костюм «ответработника», толпами ходят по улицам или разъезжают в автомобилях, произносят речи на митингах, а вдесятеро большее их число создает массовку, заняв экологическую нишу нормального обывателя, то картинка выходит пугающая.
Да и вот еще что — люди поумнее, недорезанные буржуи, купцы и интеллигенция в том числе, успели понять, что в целях мимикрии лучше не выделяться среди новых хозяев жизни, надели маски: кто тупой покорности — только что слюни изо рта не пускает, а кто безудержного, агрессивного люмпенского хамства. И еще многие, уже непроизвольно, приобрели постоянное выражение горестного недоумения — что, в конце концов, происходит и как жить дальше?
«Жаль, — думал Новиков, — что я не сообразил этого раньше, не приказал, как приказывают перейти на соответствующую форму одежды, сделать наиболее модные в этом сезоне морды и носить, не снимая. А то вон Басманов! И не брит, и одет, как безлошадный извозчик, однако… До первого патрульного физиономиста…»
Что касается остального — центр Москвы не слишком и удивлял. Грязновато, конечно, как на улице Горького после октябрьской демонстрации. Характер мусора, правда, другой. Здесь преобладает шелуха от семечек, конский навоз, махорочные окурки. Движение довольно оживленное. Непрерывными вереницами люди бредут от центра и к центру, грохочут телеги ломовиков, попадаются пролетки и фаэтоны начальников средних, рычат моторами и воняют выхлопами проносящиеся на бешеной тридцатикилометровой скорости автомобили начальников крупных, нещадно подпрыгивая на разбитых мостовых.
Разруха, конечно, наблюдается, запустение. Дома вокруг, шесть лет не видевшие ремонта, с посеченными еще во время ноябрьских боев семнадцатого года стенами. Витрины магазинов почти сплошь заколочены досками. Редкие трамваи чуть не разваливаются от набившихся внутрь и облепивших вагоны снаружи пассажиров. Трудно понять, зачем, рискуя жизнью, висеть на подножке или буфере, если в итоге скорость передвижения не превышает тех же пешеходных пяти верст в час.
Но всё это отличия, так сказать, ситуационные. А архитектурно большинство улиц, по которым шел Новиков, были вполне узнаваемы. Особенно Сретенка и Кузнецкий мост с прилегающими переулками. А вот Тверскую он сразу даже и не разглядел, чуть не проскочил с разгона. Такая же узкая, как соседняя Пушкинская, и знакомых домов раз-два и обчелся.
Впрочем, бог с ней, с архитектурой. Куда интереснее то, что сейчас происходит внутри домов, за стенами бесчисленных наркоматов, исполкомов, парткомов и прочих контор с дикими аббревиатурами вроде: «ГУКОСО при МОСО»! Не слабо.
А вот как там служилый народ себя ведет? О чем говорит и что испытывает? Интересно.
И вот эти прохожие, что они на самом деле ощущают, спрятавшись под масками олигофренов? Новиков чувствовал себя, как водитель в городе, где дорожные знаки изменили в одночасье и вид и смысл. По выражению лиц уличной толпы он, профессиональный психолог, не мог больше судить о мыслях и настроениях людей. Сплошные черные ящики, у которых неизвестно не только то, что внутри, но и то, что на входе. А уж на выходе — полная бессмыслица.
Так же, наверное, ощущали себя на улицах сталинско-бериевской Москвы редкие иностранцы.
Но сейчас лучше на время забыть о психологических упражнениях. Есть конкретная цель — найти место и организовать операционную базу. В его распоряжении сорок человек. Хотя пока и неизвестно, сколько из них благополучно доберется до пунктов сбора.
Заранее проработанный и вроде бы приемлемый вариант размещения имелся, но следует дождаться ночи. Да и уверенности особой он Андрею не внушал. Слишком далек был от его личного опыта. И зависел от одного-единственного человека.
Новиков решительно свернул направо. Неподалеку от Иверских ворот его должен ожидать Шульгин со своей тройкой. Вступить в зрительный контакт, найти подходящее для разговора место, пивную, скажем, и еще раз обменяться мнениями, теперь уже сообразно с реальной обстановкой. А потом вместе обойти другие контрольные точки. Ближайшая — Александровский сад.
Шульгин избрал для себя в качестве маскировки не скромный наряд дезертира, как Новиков, и даже не безупречную в классовом смысле блузу пролетария, а совершенно вызывающе оделся «под Троцкого» — кожаная, поблескивающая, как паюсная икра куртка, кожаная же фуражка со звездочкой, высокие кавалерийские сапоги с подколенными ремешками и зауженными каблуками. Через плечо маузер в лакированной коробке, и на груди, чего уж скромничать, орден боевого Красного Знамени на алой розетке!
Ходить в таком виде по городу, конечно, безопаснее, но и внимания он привлекает больше, хотя бы и благожелательного, со стороны сотрудников власти. Впрочем, наплевать, подумал Новиков. Как-то до сих пор он еще не адаптировался к новой Реальности настолько, чтобы воспринимать все всерьез. Умом-то знал, что жизнь вокруг настоящая, а не кино, эмоционально же настроиться пока не получалось, несмотря на все, в этом мире уже пережитое.
Однако эмоции эмоциями, а дело делом. Оставив сопровождающих прогуливаться в Охотном ряду, они порознь прошли в глубину сада, выбрали скамейку поукромнее, присели. Над головой нависала грязно-рыжая Кремлевская стена, а за ней, где-то там, в глубине будущего здания Верховного Совета, в своем еще не ставшем музейным кабинете, «милел к товарищам людскою лаской» — он. Вечно живой. Сейчас — в особенности.
Глава 14
ЦК РКП(б) действительно заседал непрерывно. Появление «Ильи Муромца» по странной случайности совпало с перерывом, и самолет видели практически все участники расширенного Пленума.
Председательствовал Ленин. Он собирался произнести очередную, на горе многим грядущим поколениям студентов, программно-историческую речь, которую надо будет заучивать наизусть. Вроде той, где «учиться, учиться и учиться»! Однако и дерзкий полет, и листовки, а особенно золото, которое ему уже успели доставить с нарочным из ЧК, совершенно выбили вождя из колеи.
Скомкав процедуру, он возбужденно потребовал у Предреввоенсовета республики Троцкого и Главкома Каменева (не того, который «и Зиновьев»), а у другого, Сергея Сергеевича, бывшего полковника Генштаба, объяснений, как стала возможной столь наглая демонстрация, которая архиопасна не так даже в военном, а именно в пропагандистском плане!
— Сколько сил и изворотливости пришлось нам приложить, чтобы убедить партийцев и пролетариат в том, что польская неудача является на самом деле крупным успехом в деле воздействия на революционное движение Европы, особенно Англии! А что прикажете говорить теперь? Что сдача Курска бесценна для пробуждения рабочего движения в Сиаме?
Владимир Ильич говорил раздраженно, в голосе проскакивали истерические нотки, и картавость была особенно заметна.
— А эта глупейшая история с червонцами! Кто утверждал, что врангелевская казна пуста? Может быть, товарищ Дзержинский способен объяснить? Или это как раз то золото, которое якобы отбито вашими людьми у Колчака? Снова очковтирательство? Тут кто-то заявил, что на Москву сброшено чуть ли не сто тысяч листовок! Это что же, миллион рублей золотом? Я требую немедленно выяснить точную цифру. И принять все меры к изъятию… Не останавливаясь перед расстрелами! И кстати, почему все деньги оказались в городе, почему золото не сбросили и на Кремль? Враг хочет еще и таким образом внести раскол в наши ряды?
Пока Дзержинский, нервничая и оттого говоря почти бессвязно, пытался объяснить ситуацию с колчаковским «золотым эшелоном», в которой действительно было очень много странного, Ленин выпил воды и, уловив в общем шуме неосторожно брошенную кем-то из президиума фразу, стремительно повернулся, выбросил вперед обличающим жестом руку.
— Что?! Вы заявляете, будто Врангель оказался сильнее, чем мы рассчитывали? Вздор! Я всегда говорил, что у него слабые, даже ничтожные силы, он силен только быстротой, наглостью офицеров, техникой снабжения и вооружения! Мы гораздо сильнее врага! Надо просто биться до последней капли крови, держаться за каждую пядь земли, и победа будет за нами! Нам не нужно ваших псевдоученых объяснений, товарищ Каменев. Буденный никаких наук не изучал, а если бы ему не мешали, давно бы взял Варшаву без всяких царских полковников егоровых и генералов гиттисов!.. И Варшаву и Берлин! Германские трудящиеся ждали нашу армию с нетерпением и надеждой! Если вы не в состоянии обеспечить перелом, замена всем вам найдется. И обратите внимание, товарищ Троцкий, мы были правы, когда осуждали ваше увлечение так называемыми «военспецами»…
Троцкий, криво усмехаясь и поблескивая сиреневыми стеклышками пенсне, не вставая с места, посоветовал Ленину лично возглавить Реввоенсовет, а на место Каменева назначить… ну, хотя бы Сталина, что ли.
На скулах предсовнаркома выступили красные пятна, он с размаху ударил по столу раскрытой ладонью и чуть было не заявил о том, что, если его позицию не понимают и не поддерживают, он готов сам подать в отставку со всех постов и обратиться непосредственно к массам. Подобные штуки он проделывал не раз, но сейчас политическое чутье вовремя подсказало, что номер может и не пройти.
Засыпавшие кремлевские площади листовки немало способствовали идейному разброду в и так далеко не едином ЦК. В отличие от тех, что предназначались населению, эти содержали сжатый, но реалистический анализ военной и экономической обстановки по обе стороны фронта, указывали советскому руководству, что в силу тех-то и тех-то факторов кампания двадцатого года выиграна ими быть не может, и фактически представляли собой предложение прекратить боевые действия и начать мирные переговоры, исходя из стратегической реальности.
Отличавшийся быстрым умом и развитым инстинктом самосохранения Бухарин уже шепнул одному из близких друзей, что, кажется, пришло время забирать «пети-мети» и смываться, лучше всего — в Аргентину. Чем ровно на двадцать пять лет предвосхитил идею деятелей «Третьего рейха».
Взяв себя в руки, Ленин обратился к Троцкому тоном ниже и почти дружелюбно:
— А вот скажите, Лев Давыдович, в этой белогвардейской мерзости есть хоть доля правды?
— Все правда, Владимир Ильич. Наш Южный фронт действительно сейчас не в силах разгромить Врангеля. Хуже того, сейчас это не армия, а сброд, деморализованный непрерывными, а главное — непонятными успехами противника. В самом лучшем случае можно надеяться до зимы удержать нынешние позиции. Тем более, что товарищи Сталин, Буденный и Тухачевский сделали все, чтобы оставить нас без резервов. Революционизация европейского пролетариата дело, безусловно, архиважное, но на позиции мы его пока послать не можем. Нам нечего перебросить под Курск. Разве что… Снять войска из Сибири и Туркестана, развернуть Кавказский фронт на север, попытаться нанести фланговый удар от Ростова к Перекопу. Но тогда придется надолго отказаться от надежды завершить войну даже и в будущем году. Или… Смириться с тем, что граница РСФСР надолго останется на линии Урала и предгорий Кавказа.
— Пусть! Пусть так! Разгромить Врангеля — вот сегодня дело архиважнейшее! Вы обязаны устранить опасность для Москвы, для самого существования Советской власти. Вы обязаны это сделать любой ценой! Мы пошли на подобный шаг в Бресте, можем, если надо, и сейчас. А подумать об остальном у нас еще будет время. История работает на нас. А если… Если не удержим Москву, вот тогда! Нам придется бежать в Самару или Екатеринбург… — Произнеся последнее слово, он вдруг замер с полуоткрытым ртом, лицо его конвульсивно дернулось. Ленин закрыл глаза и сильно надавил на них пальцами. Опомнился, вскинул голову и закричал фальцетом: — Немедленно развернуть самую бешеную подготовку к наступлению! Мобилизуйте всех, абсолютно всех, способных носить оружие. У нас в Красной армии четыре миллиона человек, а вы не можете разбить этих мерзавцев, которых едва сто тысяч! Позор!
— Воюют не числом, а умением, — буркнул себе в длиннейшие усы Каменев. — Если снова дать покомандовать Тухачевскому, нам и пяти миллионов не хватит. Очень бы сейчас пригодились дивизии, которые он интернировал в Германии.
И Ленин опять его услышал обостренным до крайности слухом.
— Вздор! Товарищ Тухачевский — один из лучших наших полководцев. Абсолютно преданный делу мировой революции, не то что ваши спецы, которые делают все, чтобы мы проиграли. Перебрасывайте боеспособные части откуда угодно, плевать на дашнаков, на мусаватистов, на этих… грузинских меньшевиков и прочую сволочь! Пусть живут, пока их не сметет собственный пролетариат.
В заднем ряду кто-то сдержанно хихикнул, очевидно — товарищ, знакомый с настроениями тамошнего «пролетариата».
— Отзовите Фрунзе, — продолжал свои стратегические импровизации Ленин. — Бухарский эмир — не та фигура, чтобы держать против него нашего лучшего военачальника. А военспецов расстреливать без пощады, при малейшем подозрении, и с широким распубликованием в печати. Расстреливать чем больше, тем лучше. И выйдет лучше меньше, да лучше…
Он переждал вызванные каламбуром смешки, довольно редкие, впрочем, потому что по понятным причинам товарищи не могли оценить всей тонкости шутки вождя, предвосхитившего сейчас один из пунктов своего политического завещания.
— Но и Дальний Восток мы тоже обязаны сохранить. Ни одного бойца не снимать с Амурского фронта. Да вот еще — необходимо немедленно созвать десятый съезд партии. Срок — неделя. И потом всех делегатов — тоже на фронт. Комиссарами и политбойцами! Чтобы личным примером. Надеюсь, ко дню открытия съезда вам уже будет чем порадовать товарищей и партию, Лев Давидович…
К сожалению, Новиков не знал, что сейчас происходило за Кремлевскими стенами, он как раз в это время, простившись с Шульгиным, стоял напротив «Метрополя» (в описываемый период — 2-й Дом Советов) и изучал длиннейший лозунг на выцветшем кумаче, натянутом поверх врубелевской «Принцессы Грезы»: «В мире есть только одно знамя, под которым стоит сражаться и умирать. Это Знамя III Интернационала! (Л. Троцкий)».
— Ну-ну, — сказал он с легкой иронией и, забывшись, вместо махорочной самокрутки прикурил от латунного патрона-зажигалки «Кэмел». Не в тот карман руку сунул. Но заметить этот анахронизм было некому. Впрочем, в Москве двадцатого года курили и не такое.
…В самом центре города, между Солянкой и Покровским бульваром, располагался знаменитый, прославленный в литературе и устном народном творчестве Хитров рынок. Не просто рынок как место торговли продовольственными и иными товарами, а гигантский общегородской притон, неприступная крепость уголовного мира, где с удобствами, соответствующими рангу, устроены все — от аристократии, вроде налетчиков, медвежатников и иных классных специалистов, до последней шпаны и рвани. Десятки трактиров, ночлежек, подпольных борделей и опиекурилен еще с середины прошлого века располагались в лачугах и огромных доходных домах, самые знаменитые и самые страшные из которых имели собственные имена — «Утюг» и «Сухой овраг».
По словам поручика Рудникова, в царское время полиция там предпочитала не появляться. И жили хитрованцы в свое удовольствие. За годы мировой войны и революции Хитровка как бы пришла в упадок — закрылись трактиры, угасла частная торговля. Большевики разом ограбили тех, кого хитровские аборигены десятилетиями стригли, как рачительный овцевод свое стадо. Но зато никогда в ее разрушающихся бастионах не собиралось такое мощное и беспощадное воинство — кадровые уголовники, дезертиры из царской и Красной армий, новые люмпены из бывших и такая мразь, которой даже в новых совструктурах и прочих комбедах не нашлось места.
Да и милиция в первые три года советской власти, кроме отдельных, по наводке надежных агентов, операций, никаких целенаправленных действий против Хитровки не предпринимала. Ни сил, ни, похоже, желания у нее для радикального решения вопроса не было.
Тем более что в отличие от дворян и интеллигентов, уголовники были официально объявлены «социально близкими», сиречь — почти союзниками.
И человек, которому вдруг потребовалось бы бесследно затеряться в столице, всегда имел такую возможность. Если он, конечно, не боялся при этом сгинуть навеки в зловонных лабиринтах. Здесь, правда, имело значение и то, на какое место в новой жизни он рассчитывал. Щель под нарами или угол сырого подвала голому и босому находились всегда и практически даром. А за право жить в тепле, есть сытно и пить пьяно принято было платить…
В десятом часу, когда пасмурный день сменился туманным, промозглым вечером, а на столицу первого в мире государства рабочих и крестьян опустилась глухая тьма, лишь кое-где пробиваемая мерцанием редких уличных фонарей и красноватым светом керосиновых ламп и свечей за грязными стеклами окон, четыре понурые фигуры брели от Политехнического музея через слякотную площадь.
Сторожко озираясь, они направлялись к шестиэтажному, действительно напоминающему утюг своим заостренным торцом домине.
Обойдя его справа, углубились в щель между рядом зловещих, зияющих пустыми оконными проемами корпусов, темных и безмолвных, от которых на много сажен тянуло мерзким смрадом. В кулаке идущего впереди на короткий миг блеснул луч карманного фонаря.
— Сюда…
По облепленным грязью ступеням спустились в полуподвал. Удушливая темнота, настолько липкая, что хотелось тут же вытереть лицо, густо пропитанная вонью махорки, прелых портянок, мочи и растоптанного дерьма, охватила вошедших, будто они погрузились в некую жидкость, не такую плотную, как вода, но намного концентрированнее обыкновенного воздуха.
Точнее всего было бы назвать эту субстанцию перенасыщенным гнилым туманом.
А из невидимых дверей и просто из каких-то проломов и щелей в стенах — дым, крики, многоэтажный мат, визг не то избиваемых, не то насилуемых женщин, керосиновый чад коптилок. Где-то верещала терзаемая неумелой рукой гармошка, где-то пели дурными голосами.
Проводник, все тот же поручик, вновь на мгновение включил фонарь. Даже он, бывавший здесь неоднократно, в темноте дорогу найти был не в состоянии.
— Гаси огонь, падаль, чего рассветился! — раздался из темноты голос, одновременно гнусавый и шепелявый.
— Сгинь, паскуда, — в тон ему огрызнулся Рудников и прошел мимо, предупредительно придержав под локоть Новикова, который думал только о том, как бы не вляпаться сапогами в какую-нибудь мерзость. Брезгливость — единственное чувство, которое он не научился подавлять волевым усилием.
Дважды спустившись и вновь поднявшись по скрипящим лестницам без перил, сделав чуть ли не десяток поворотов, четверка разведчиков добралась, наконец, до цели. Толкнув облупленную, но на удивление тяжелую и крепкую дверь, они сначала оказались в просторной прихожей, а потом вошли в большую, метров тридцати, комнату, разгороженную на две неравные части бархатным театральным занавесом.
Здесь было намного чище и, главное, светлее, чем в подземных переходах. Горели сразу три семилинейные лампы, освещая середину помещения, где за облезлым, но все равно величественным овальным столом выпивала, закусывала и резалась в карты компания человек в десять. Для здешних мест если и колоритная, то как раз своим относительным человекоподобием.
Примерно половина из них сильно напоминала марьинорощинскую шпану, какой ее застал и запомнил с раннего детства Новиков, все в возрасте между двадцатью и тридцатью годами. Среди остальных выделялись мордастый жлоб в матросском бушлате и бескозырке без ленточек, франт с усиками а-ля Макс Линдер в хорошем кремовом пальто и еще трое были облика неопределенного, темными грубыми лицами похожие не то на мастеровых, не то на бывших городовых с не самых центральных улиц.
На столе — сугубое для тогдашней голодающей столицы изобилие — белые калачи, громадная чугунная сковорода, явно не с перловкой, миска соленых огурцов, пара литровых штофов и стаканы.
Все это Новиков охватил единым взглядом и тут же прикинул, что ежели Рудников не знает какого-нибудь пароля, то сговориться с такой компанией будет трудновато. Тем более что поручик так и не раскрыл до конца свой замысел, сказав только, что знает надежное место для предстоящего дела.
Кому и как себя вести, он тоже не объяснил. Оставалось полагаться на универсальное правило: «там видно будет».
Еще Андрей отметил, что в буру резалась только молодежь, а левый край стола с «матросом» во главе беседовал почти степенно, помаленьку при этом выпивая.
Рудников, небритый и мрачный, с кривоватым носом и тяжелой нижней челюстью, козырек надвинут на глаза, руки в карманах поддевки, очень, надо сказать, подходящий по типажу к здешнему обществу, и не скажешь, что человек образованный, а в офицерской форме даже и благообразный, вразвалку направился к столу. Новиков и Шульгин с Басмановым остались у стены, почти сливаясь с ней и с пляшущими изломанными тенями. Шульгин по пути сюда перевернул свою кожанку наизнанку, бурой байковой подкладкой вверх, отцепил звезду с фуражки, а маузер спрятал сзади под ремень и сейчас тоже мог вполне сойти, скажем, за шофера, если бы не ухмылочка на губах, совсем не свойственная в то время людям столь почтенной профессии.
— Здорово, народ честной! — сипло провозгласил поручик. — Пал Саввич дома?
Картежники его как бы не заметили, а остальные ответили хмурыми взглядами и недобрым молчанием, только из полутьмы по ту сторону стола кто-то спросил высоким — то ли баба, то ли скопец — голосом:
— А ты-то кто будешь? И какого…. тебе надо?
— Не видишь — человек. А раз пришел — дело есть. К хозяину, не к тебе. Покличь, что ли…
— Хозяев теперя нету. Теперя все хозяева. А что ты за человек, щас позырим…
От стола отделились, бросив карты, безо всякой команды, двое плотных парней, одетых по-фартовому, шагнули разом, потянулись руками — один к мешку Рудникова, второй — чтобы обхлопать карманы.
Не слишком торопясь, поручик извлек из кармана тяжелый американский «кольт» на плетеном кожаном шнуре (когда в пятнадцатом году стало не хватать наганов, этими пистолетами вооружали на Кавказском фронте новопроизведенных офицеров, так с тех пор и сберег его Рудников) и почти без замаха ударил подошедшего справа парня между глаз. А левого пнул юфтевым, подкованным с носка сапогом. Блатной, захлебнувшись воем, упал и скорчился. И тут же рванулись вперед Шульгин, Басманов и Новиков.
Драки не было, такой, как их любят снимать наши и заграничные режиссеры в фильмах из бандитской жизни.
Успел вскочить и схватить штоф за горлышко «матрос» — Сашка снес его подсечкой. Взвизгнул что-то матерное, чиркая крест-накрест перед собой финкой золотушный шкет — его тычком ствола в зубы отбросил с дороги Рудников, вывернул кому-то челюсть ребром ладони капитан Басманов.
Грохнул вдруг выстрел — усатый по-пижонски пальнул через карман пальто, и на правой поле возникла дыра с обожженными краями.
Его пришлось успокоить Новикову броском десантного ножа. И все. Непонятно даже, как это, по всему судя — опытные, битые воры отважились на неподготовленную схватку с четырьмя незнакомыми, но никак не похожими на фраеров мужиками.
Впрочем, не все так просто оказалось.
— Товарищи, товарищи, не стреляйте, тут свои!.. — тем самым бабьим голосом вскрикнул один из «мастеровых», введенный в заблуждение комиссарским нарядом Шульгина.
И тут же его призыв перекрыл командирский рык забывшегося Басманова:
— Живьем брать, поручик!
Поняв свою ошибку, «мастеровой» на карачках метнулся к занавесу, шмыгнул под его нижний, украшенный бахромой и кистями край, затопотал ботинками по половицам, удаляясь.
Рудников, остановленный было криком Басманова, бросился следом, наугад стреляя в темноту.
За ним, выхватив маузер, рванулся Шульгин. После шестого или седьмого выстрела раздался отдаленный грохот. Потом — тишина. Андрей, подавив желание бежать на помощь Сашке, стал вместе с Басмановым укладывать уцелевших бандитов на пол, мордой вниз, руки за голову.
Шульгин, светя мощным галогеновым фонарем, догнал Рудникова в конце длинного коридора. Поручик хладнокровно перезаряжал пистолет, а беглец скорчился у его ног с разнесенным крупнокалиберной пулей затылком.
— Поспешил, Виктор Петрович, — упрекнул Сашка Рудникова.
— Никак нет. Едва успел. Смотрите-ка…
Шульгин только сейчас, подняв луч фонаря, увидел, что «мастеровой» едва не спасся. Бамбуковая этажерка, стоявшая у стены, была повалена, по полу раскатились жестяные банки, скорее всего — с краской, а рядом в стене зияла черная щель, откуда тянуло сквозняком.
— Извольте. Я предполагал, что тут есть запасный выход, и, возможно, не один…
— Молодец, поручик, четко соображаете! А что это он про своих кричал?
— Да как бы не агент ихнего сыскного, то есть угро по-нынешнему. Или вообще все они тут «товарищи». Я слыхал еще в восемнадцатом, что есть у них такие, под налетчиков работают.
Шульгин фыркнул. В свое время ему приходилось читать книжки из серии «Подвиг» про бандитов, которые маскировались под чекистов, чтобы грабить буржуев и разжигать ненависть к советской власти. Но если верна прямая теорема, то так же верна и обратная…
— Тогда нужно и остальных поспрашивать. Сумеете?
— Делов-то…
Знаток уголовного мира, поручик Рудников у Деникина служил в контрразведке. Для допроса он отобрал троих. «Матроса» и двух других, подходящих по внешности. Прочие у Рудникова интереса не вызвали. «Раскололись» его пациенты быстро, ему даже бить как следует никого не пришлось. Быстрота, агрессивный напор и тычки в зубы благоухающим свежим дымом стволом.
В своей принадлежности к губрозыску признался только один, напарник убитого, с которым они внедрились на Хитровку еще в прошлом году. Из сбивчивых и путаных слов трудно было понять, чем они больше занимались, «освещением» замыслов преступного мира или собственным обогащением. «Матрос» и в самом деле был из гельсингфорсской братвы (одичавшей и озверевшей от безделья на шестой год) стоящих без дела у стенки линкоров, а третий — «мастеровой» — оказался бывшим приказчиком молочного магазина Чикина, соблазненным возможностью широко пожить в голодное время под надежной милицейской «крышей».
Они даже и не грабили по-настоящему, а просто выезжали на обыски по добытым у наводчиков адресам и выгребали подчистую то, что состоятельным людям удавалось укрыть от предыдущих изъятий и реквизиций. А заодно распродавали и делили выручку за имущество того самого Пал Саввича, к которому и шел Рудников. Сам же хозяин квартиры недавно умер.
— Все ясно, господа? — Шульгин сказал «господа», но смотрел только на поручика, справедливо считая, что от гвардейца Басманова сейчас пользы будет мало.
Рудников молча кивнул и указал «кольтом» в сторону коридора.
— Пошли, соколики. А ты со мной, Михаил Федорович, рядом постоишь, мало ли что…
Басманов без удовольствия, но понимая необходимость происходящего, встал с табурета. Против ожидания Новикова никаких неприятных сцен с мольбами о пощаде, паданием на колени и размазыванием соплей по щекам не произошло. Смертники покорно, хотя и на подгибающихся ногах, поплелись в указанном направлении. И вправду, к концу гражданской войны жизнь человеческая сильно подешевела. И чужая и своя.
Выстрелы из подвала прозвучали едва слышно. Все это время Андрей, оставаясь в передней комнате, держал под прицелом лежащих на полу воров. Для них все происшедшее было не совсем уж неожиданным, к осложнениям в трудной бандитской жизни тут все привыкли, но стремительность и беспощадность пришельцев ошеломляли.
Все-таки в первых десятилетиях века темп жизни был значительно медленнее.
Но их еще ждала отдельная мизансцена.
— Встать! Подойти к стене! Мордой, мордой… Руками опереться, ноги подальше. Вот так… Ну, шелупонь, кто тут у вас главный? — проверив карманы и загашники хитрованцев на предмет оружия, спросил продолжающий играть роль пахана новой банды Рудников. На него обыскиваемые смотрели со страхом и почтением. Быстрота и жестокость расправы произвели должное впечатление.
Нынешнего, послереволюционного блатного языка поручик не знал и настоящего вора разыгрывать не пытался, да и необходимости в том не было. К уголовному миру за последнее время прибилось столько случайного люда, от бывших гимназистов и офицеров до попов-расстриг и аптекарей, что все давно смешалось, верх брал тот, кто «круче», невзирая на происхождение и стаж. Ничего не поделаешь, здесь тоже вступили в свои права «либерте, эгалите, фратирните».
— Вон наш главный лежит, Хряк его звали, — указал один из парней на незадачливого стрелка.
— Хряк! — презрительно сплюнул поручик. — На подсвинка не тянет, а туда же… — Наклонился над убитым, перевернул на спину, без усилия выдернул из-под ключицы нож. Вытер об его же пальто, протянул Новикову рукояткой вперед.
На вид Хряку было лет двадцать пять, лицо почти интеллигентное, особенно когда смерть стерла с него томно-наглое выражение. Откуда вдруг у этого парня такая нелепая кличка?
В руке он сжимал никелированный пистолетик калибра 6,35. Действительно пижон, что тут скажешь.
— А по профессии вы кто здесь? — продолжал спрашивать Рудников. — Портяночники все?
— Обижаешь, кореш, — прогудел дьяконский бас из середины строя. — Домушники мы тут, природные. А тех и не знали почти, так уж не к ряду вышло. Хабар толкнуть зашли, ну и обмыли чуть…
— Кореша твои в подвале валяются, — осадил фамильярность Рудников. И повернулся к Новикову: — Покараульте их еще, а я тут осмотрюсь по закоулкам, мало ли что…
Вернулся поручик минут через десять, обойдя все примыкающие комнаты, коридоры и чуланы.
— Порядок. — И засунул свой устрашающего вида «кольт» под ремень. — Однако загадили они квартиру и распотрошили все. Пал Саввич полвека наживал, аккуратист был. Куда старика подевали, хевра, дядьку моего?
— Да не трогали мы его, ей-бо, вот те крест! — снова ответил дьяконский голос. — Помер он, сам помер, от старости, скоро уж сороковины. У Хряка с ним дела были, да у того, Копченого, что вы шлепнули, он вроде как и наследство принял. Хабар стал скупать. Ну а наше дело какое — украл, продал на блат, выпил, и вся радость…
— Кончай базарить. Знач так, сявки. Теперь мы тут жить будем. Забирайте свою хурду — и у… Сами запомните и другим передайте, кого в ближнем коридоре увижу, замочу без понта. Вы меня в деле видели. Узнаю, что языком ляскаете, — в сортире утоплю…
— Обожди, Мизгирь, я лучше придумал, — вмешался в игру Шульгин, который тоже рос в воровском квартале, хоть и на сорок лет позже.
— Вы, убогие, жить хотите? Хорошо жить, я имею… Тогда вот так — очищайте себе хавиру напротив нашей и живите. Кто из соседей пасть разевать станет — заткните. У нас на подхвате будете. За службу поимеете больше, чем от Копченого. Но делать все будете, что я скажу. Кликуха моя — Пантелей. Не слыхали? Ничего, еще услышите. Или у питерских поспрашайте, те уже хорошо знают. Я — Пантелей, он — Мизгирь, это — Князь, это — Таракан…
Басманов, услышав, как его назвал Шульгин, поморщился. А тот, разбрасывая клички, не имел никакой задней мысли, говорил, что в голову пришло, лишь бы без запинки.
— А тут будет наша хаза. По делу, без дела, но чтобы двое-трое ваших сявок всегда на стреме стояли, только свистну. Местная рвань ошиваться станет — гнать в шею, чужого увидите — перо в бок и в аут. Сами не справитесь, кого из нас позовите, но это вам уже в глупость будет. Не одобрю. А позовем — на цырлах сюда. И ни в каком разе больше. Теперь — так…
Он по очереди развернул к себе лицом каждого, буквально на секунду фиксируя взглядом глаза очередного «пациента», и, словно теряя интерес, небрежно отталкивал. Но они этот взгляд запомнили…
— Ну и все. Узнаю каждого хоть в Сухуме, хоть в Одессе. Теперь, Мизгирь, пригляди. Всю хурду, а первей всего жмуриков из хазы долой. Лучше всего — в реку. И полы выдраить, как в Бутырках учили… Потом еще глянь, где квартировать будут. И за труды дай чего-нито.
Через полтора примерно часа, когда домушники, обращенные в шестерок, закончили уборку и удалились, тихие и вежливые, не совсем еще понимая, повезло им или наоборот, прихватив с собой массу всякого тряпья и прочей дряни, имеющей тем не менее определенную рыночную стоимость, Рудников устроил экскурсию по квартире.
— Я ведь давно ее в виду имел, сам не зная, для чего, — повествовал он. — Павел Саввич, еще с восьмидесятых годов (прошлого века, ХIХ, разумеется) съемщиком этого корпуса состоял и главным хитровским «каином», скупщиком краденого, одновременно. Деньги жуткие зарабатывал. Я у него с десятого года, как в газету поступил, бывал здесь иногда. Очень ему мечталось в книгу попасть, он книги уважал, особенно Крестовского и Гиляровского любил почитывать. Ты, говорил, Витя, и про меня что-нибудь такое изобрази, вроде как в «Парижских тайнах». А вот не дождался, помер. Однако живы будем, непременно напишу, колоритнейшая был личность. А помер, скорее всего, действительно своей смертью, хоть и крепкий был, но уж за семьдесят. Про Хряка с Копченым еще выясню, что да кто, однако обратите внимание, полы не взломаны, подоконники на месте. Значит, или знали, где старик деньги свои прятал, или, наоборот, знали, что искать нечего…
— А может, Виктор Петрович, после победы сам его место займешь? Куда как прибыльно, а я уж прослежу, чтобы тебя и новая полиция не трогала? — Шульгин вроде как пошутил, но и Рудников, вежливо хохотнув, словно бы задумался.
Квартира же Павла Саввича на самом деле была недурна. Специально ли ее так спланировали, или она образовалась в процессе многочисленных перестроек? Четырехкомнатная, метров в сто полезной площади, она отличалась длиннейшими, изломанными, вдоль и поперек ее пересекающими коридорами. Все комнаты были расположены на разных уровнях, соединенные то крутыми, то пологими, от десяти до трех-четырех ступенек лестницами, с окнами, выходящими на все четыре стороны света. И решетки на окнах из прутьев в вершок толщиной, и ставни дубовые тесаные на болтах.
Обшарпанные, конечно, стены, штукатурка кое-где отстает пузырями, и масляная краска шелушится, но в целом жить можно. Из кухни с закопченными печью и потолком над ней, оттого что четыре зимы топили черт знает чем, вплоть до газет и соломы, железная дверь черного хода вела на задний двор, а та, потайная в коридоре, соединялась кирпичным тоннелем с подвалами соседнего корпуса, а люк из чулана вел вообще неведомо куда, возможно, и в кремлевские подземелья.
Даже ватерклозет в квартире действовал, хотя ржавая вода еле-еле сочилась из склеротических труб.
Правда, из былой обстановки в квартире осталось только то, чего не удалось вынести или спалить в буржуйках — дубовый стол, титанических размеров диван, разностильные стулья и табуретки, наверняка принесенные позже, и резной буфет с остатками посуды.
— Живем, господа. Вам, Виктор Петрович, особливая благодарность и рукопожатие перед строем…
— Да что ж… Рад стараться, если пригодилось. И вы молодцом, Александр Иванович, в жилу мне подыграли. Словно сами из этих… А Пантелей — это кто? Я вроде не слышал.
— Есть такой в Питере налетчик знаменитый. В полную силу еще не вошел, но знающие люди считают — через пару лет королем будет. Ежели не остановит кто…
Новиков извлек из вещмешка предусмотрительно упакованные баллончики мощного универсального дезинсекталя.
— Давайте, братцы, санобработку проведем. Каждый аршин протравить, клопов да блох со вшами тут наверняка тьма. Хорошо хоть публика эта, не искушенная прогрессом, даже про ДДТ не догадывается, так что мы их разом. И будем обживаться. Павел Саввич надежно устраивался, в случае чего неделю можно обороняться. Крепость…
В маленькой дальней комнате, выходившей единственным окном на примыкающий к Москве-реке пустырь, Шульгин бросил на пол свой и Новикова матрасы, надул их с помощью ножного насоса, притащил сюда же табуретку и два стула, растопил чугунную, заводской работы буржуйку, стал разбирать и раскладывать принесенное с собой имущество.
Мешки не выглядели слишком тугими, но поместилось в них немало, да еще и под одеждой, в карманах и подсумках, кроме оружия и боеприпасов, удалось спрятать массу полезных в здешней жизни предметов.
На вбитых в стены еще прошлыми постояльцами гвоздях развесили «АКСУ», сумки с запасными магазинами и гранатами. Недельный продовольственный запас отнесли на кухню. Пригодится на крайний случай, а вообще они заметили, что за золото даже в голодающем городе можно приобрести все, включая икру и балык, невзирая на «военный коммунизм».
В чуланчике Басманов обнаружил две ведерные бутыли довольно чистого самогона.
— Пойдет гвардейцам нашим с дорожки для сугрева.
— Я бы и сам не прочь, двенадцать часов на ногах, да барахла на себе чуть не два пуда потаскал… — Шульгин со стоном потянулся. — И что там у нас сегодня будет на ужин?
Рудников, с которым они раньше и знакомы-то были едва-едва, оказался человеком во всех смыслах незаменимым.
— Готово уже. Минуток пять — и все. Калачи свежайшие, в сковородке колбаска…
Новиков поднял крышку огромной, как автомобильное колесо, чугунной сковороды. Действительно, колбаса зажарена прямо полукольцами, в застывшем тускло-белом сале.
— Нет, я воздержусь. — Он с сомнением покачал головой. — Она, может, собачья, если не хуже…
— Да что вы, Андрей Дмитрич! — Рудников засунул в рот порядочный кусок, вдумчиво разжевал.
— Чудесная колбаса, крестьянская, с чесночком. Стали б фартовые собачатину жрать. Я ее сейчас разогрею. Дрова вон даже наколотые…
Коньяк во фляжках решили пока поберечь, выпили по полстакана самогона. Вполне ничего на вкус оказался, лучше того, который приходилось пить в студенчестве на сельхозработах.
С опаской Новиков попробовал шкворчащую и стреляющую жиром на раскаленной сковороде колбасу. Нет, на самом деле, вкуснятина!
После второго полустакана Басманов вдруг спросил:
— Простите, Андрей Дмитриевич, что за нужда была вам лично на дело идти? Рисковать зачем? Неужели мы б сами не справились? А вы уж потом, на подготовленные позиции…
— Ну, Михаил Федорович, — ответил Новиков, хрустя огурцом, — я же не спрашиваю, на кой ляд вам потребовалось в эти добровольческие дела ввязываться, по кубанским степям с винтовкой по колено в снегу бродить. От Петрограда до Гельсингфорса совсем близко, куда ближе, чем от Питера до Ростова и Екатеринодара. Свободно могли бы со всем семейством к Маннергейму перебраться, он ведь сослуживец ваш? Не иначе полковником сейчас были бы, по Эспланаде шпорами звенели… Вы нас до сих пор за патрициев каких-то держите. Мол, дружина пусть воюет, а мы на веранде чайком будем баловаться…
— Оно, конечно, кому как, — вмешался Шульгин. — А вот я так просто развлечься намереваюсь. Заскучал, можно сказать. После Африки совсем ничего интересного в жизни не случалось. — Сашка посмотрел на часы.
— Однако пора.
В своей комнате он выставил в окно антенну рации, передал короткий условный сигнал, дождался ответов от командиров рассеянных по городу групп:
— Я третий, нахожусь в Сокольниках…
— Я пятый, на Рогожском кладбище…
— Одиннадцатый, иду дворами вдоль Ордынки…
Никто не потерялся. Указав место сбора и включив непрерывную подачу пеленга, Шульгин послал Рудникова с фонарем обеспечивать встречу.
К трем ночи прибыли все. Зря большевики пугали комендантским часом и бдительностью своих патрулей. Сорок вооруженных бойцов пересекли Москву насквозь по всем азимутам и обошлись не то, что без стрельбы, а даже и без ножей. Но при этом и изобретательность проявили… Одна из групп раздобыла где-то бочку золотаря и провезла на ней все снаряжение плюс десять ящиков патронов и гранат. Другая воспользовалась кладбищенскими дрогами, командир третьей просто провел своих людей строевым шагом от самой Таганки, нарочито не пряча оружия.
Отдав последние распоряжения, Новиков с Шульгиным наконец остались одни. Чертовски усталые, но довольные собой. Их коварный план начал удаваться.
В оконное стекло барабанил всерьез разошедшийся дождь. И это почему-то успокаивало. Гудел жаркий огонь в буржуйке, насыщаемый сухим до звона мебельным деревом. Ореховым или грушевым.
— Ну вот и снова мы дома, Андрюх, самая малость осталась, — произнес элегически Сашка, с усилием стащил узкие, отсыревшие сапоги, белые шерстяные носки и протянул к печке сопревшие ноги, блаженно шевеля пальцами.
— Только уж дом-то больно загажен…
— Какой ни есть, а наш. Другого теперь не будет. С утра пойдем, налегке прогуляемся. Только тебе надо бы поприличнее одеться. Комбригом каким-нибудь. Автомобиль раздобудем, покатаемся, местность изучим…
Шульгин задул лампу, предварительно раскурив у верхнего обреза стекла сигару, густыми клубами дыма заполнил комнату, чтобы перебить запахи дезинсекталя и прежних хозяев.
В плотной гуталиновой темноте, которую почти не рассеивали багровые блики из поддувала, огонек сигары полыхал, словно сигнальный фальшфейер.
— Возьми рацию, пока не лег, — попросил его Новиков, уже заползший в спальный мешок. — Попробуй с Берестиным связаться. Что там у них новенького случилось?
— Успеется. — Судя по голосу, можно было представить, как Сашка пренебрежительно махнул рукой. — Давай лучше еще по граммульке примем, в узком, значит, кругу. А то я заметил, после наших космических приключений людское общество меня утомляет. С трудом выношу, когда больше трех человек рядом суетится…
Слышно было, как он гулко глотнул из фляжки, словно не коньяк пил, а воду через край ведра, передал посудину Андрею.
— Я вот сегодня целый день в одиночку гулял, мыслей всяких передумал уйму. Поначалу все удивлялся — отчего это я чувств никаких таких не испытываю? Вроде бы черт знает что — прошлое все-таки, и вокруг родные в будущем места… А я хожу — ну словно просто в какой-нибудь захолустный Усть-Сысольск случайно заехал. Помнишь, как первый раз в Суздаль попали… А чтобы как следует проникнуться — по нулям…
Новиков не отвечал, предоставляя Сашке возможность выговориться. Наверняка он не просто так разговор затеял, что-то поважнее, чем впечатления от встречи с Москвой, его волнует. И не ошибся. Еще немного порассуждав об увиденном в городе, коснувшись совершенно безнадежной картины с женским вопросом, Шульгин подошел к главному.
— Вокруг Кремля я тоже побродил. И вот что надумал — а на кой нам ждать? Совершенно свободно можно произвести десантно-штурмовую акцию… Запросто. Ночью, с трех сторон, через стены. Потом блокировать изнутри ворота — и делай, что хочешь…
Идея эта в первый момент показалась Новикову дикой.
— Ты что? Нас сорок человек. А там одного гарнизона тысячи полторы. Да в городе войск уйма…
— А наплевать! Рабочих ворот там трое. На каждые по пять человек нужно, чтобы захватить и удерживать. В башнях бойницы, все подходы простреливаются насквозь. Патронов хватит. А остальные двадцать пять захватывают дворец со всем содержимым. Как в Кабуле…
— И что?
Шульгин в темноте фыркнул:
— Что-что! Чего ты девочку из себя корчишь? Как захотим, так и сделаем. Когда мы всю компашку захватим, тогда и будем решать. Тем, кто снаружи останется, ультиматум предъявим. Или капитуляция, или…
Андрей лежал, вытянувшись, в своем мешке. Уставшее за день тело медленно расслаблялось, выпитые самогон и коньяк на голову совсем не подействовали, просто мысли стали быстрее и легче. И Сашкино предложение вдруг показалось вполне разумным. Только с другой стороны.
— Нормально. Это ты здорово сообразил. Мы здесь для чего? Разведка боем, правильно? Вот и проверим. Если нас кто-то пасет и в состоянии наши действия контролировать, пусть так и воспримет… Зачем мы сюда пришли? А вот за этим. Кремль взять, Ленина шлепнуть… Будем готовиться, не слишком даже маскируясь. Засекут, меры какие-то примут — хорошо. А если нет — доведем замысел до конца. Белые начинают и выигрывают…
Шульгин, вскочив с матраса, отобрал у Андрея фляжку, устроился на подоконнике, под струей вливающегося в форточку сырого и холодного воздуха.
— Я о таком сначала не думал. А теперь очень мне захотелось раз и навсегда с ними разобраться, особенно как по городу погулял. Не знаю, что ты увидел, а я насмотрелся. Нельзя им позволить жить на свете. Ты поэзию лучше меня знаешь. И Ахматову знаешь. Что мужа ее, твоего любимого Гумилева, они скоро расстреляют ни за что, ты помнишь? А я недавно узнал, что у нее еще и брат был родной, морской офицер. Его в Крыму убили, в ноябре двадцатого. Она стихотворение тогда написала:
Не бывать тебе в живых,
Со снегу не встать.
Двадцать восемь штыковых,
Огнестрельных пять.
Горькую обновушку
Другу шила я.
Любит, любит кровушку
Русская земля.
— Вот так вот. А ты говоришь! Я поначалу как игру все это воспринимал, и когда с Антоном договаривались, и когда с Олегом спорили. А пожил здесь месяц — все! Я теперь в натуре готов и стрелять, и вешать… Не должны они в России существовать ни в каком качестве!
— Да что ты меня агитируешь? — удивился Новиков. — Это ж я твой идейный отец и учитель. Ради бога — сумеешь эту кодлу живьем захватить, делай, что хочешь. Военно-полевой суд учини или на усмотрение народного веча передай. Я о другом размышляю. Мне интереснее до корней добраться. А так что ж, почему и не побаловаться?
Андрей обсуждал с Сашкой детали и все больше убеждался, что замысел вполне реален. Не только по чисто военным параметрам, а просто психологически. Тут ведь что важно — в двадцатом году и у рядовых, и у командиров стиль мышления принципиально иной, чем к концу века. Это они уже отметили во время боев в Таврии. Никто понятия не имеет о тактике спецназа, о действии малых групп в уличных боях и внутри зданий. Оказавшись под внезапным ударом неизвестного противника, да еще и спросонья, защитники Кремля инстинктивно будут сбиваться в кучу. Все, кто не потеряет голову совершенно, станут стремиться организовать оборону на заранее намеченных рубежах и позициях, группироваться вокруг взводных и ротных командиров. И правильно, их так учили.
Но тем самым они полностью отдадут инициативу атакующим, для которых чем плотнее боевые порядки противника, тем лучше.
Само собой, ничего не зная о тактике и целях напавших, красные командиры не смогут предпринять разумных контрмер. А если вовремя приоткрыть одни из ворот, многие защитники с удовольствием разбегутся…
И все это пока даже без учета подавляющего огневого превосходства. Три-пять автоматов в скоротечных схватках на лестницах, в коридорах и многочисленных внутренних двориках куда эффективнее, чем полсотни трехлинеек. Да ведь, и кроме автоматов, есть еще много всего…
Как это обычно с ним бывало, Андрей уже зрительно представлял планируемую операцию.
Ночь, темнота, туман, желательно — ветер посильнее. Забросить кошки на стены в нескольких местах сразу. Через ноктовизоры караульные, если они вообще окажутся на стенах и башнях, будут как на ладони, а рейнджеры останутся невидимками. Пока будет возможно — работать без шума, ножами и штыками…
Он вообразил, как бежит с автоматом наперевес по длинному-длинному коридору, распахивает ногой пятиметровой высоты дверь в зал, где заседает ЦК или Совнарком. Отчего-то во всех фильмах про революцию съезды и прочие сборища проходили непременно глубокой ночью. Словно на них собирались какие-то морлоки…
Очередь в потолок, сверху — дождь штукатурки и хрустальных подвесок от люстр. «Которые тут временные — слазь…»
Очень эффектно. Какою мерою мерили, такою и отмерилось вам.
Глядишь, новый, а может, и тот же самый Эйзенштейн уже про это фильм снимет. Или про штурм Зимнего не он, а Эрмлер расстарался?
— Хорошо, Саш, считаем, что идея принимается. Только так — ты работаешь на ее практическое осуществление — рекогносцировку провести, расположение постов узнать, хоть примерную численность гарнизона… А я со стороны посматривать буду — вдруг да и клюнет кто?
Слышно было, как Шульгин громко плюнул снизу вверх в открытую форточку.
— Знать бы только — существуют ли вообще те, о ком ты думаешь, и если да, то не в состоянии ли они читать наши замыслы, как прошлогоднюю газету?
— Почему — прошлогоднюю? — не понял Новиков Сашкиной ассоциации.
— Ну, без особого интереса, потому что и так все давно известно.
— Изящная посылка. Только, исходя из нее, лучше сразу мешки в охапку и — на Палм-Бич…
— А вот этого не дождутся. Иль погибнем мы со славой, иль покажем чудеса. Еще коньяк будешь или я допью?
— Не буду, и тебе хватит. Ложись, утро скоро, хоть часика четыре соснем…
Глава 15
Сразу после заседания Председатель Совета Народных Комиссаров Владимир Ильич Ульянов-Ленин уединился в своем кабинете. Возвращаться в кремлевскую квартиру ему было омерзительно. Две маленькие комнатки, обставленные сиротской мебелью и общество Наденьки казались сейчас непереносимыми. В кабинете гораздо лучше. В том самом, известном всему прогрессивному человечеству по миллионам открыток, картин и фотографий. Но сейчас кабинет выглядел совсем не по-музейному. Стол завален грудами бумаг, советскими и иностранными газетами, на единственном свободном углу — тарелки с остатками позднего ужина, стакан с остывшим чаем. Лампа под зеленым стеклянным колпаком освещает не все помещение, в углах кабинета притаился мрак. Мрак и за окнами, только где-то вдалеке светит сквозь туман одинокий раскачивающийся фонарь. Если бы открыть створку рамы — был бы слышен и тоскливый скрип жестяного абажура. Моросящий дождь постукивает едва слышно по козырьку подоконника. Отвратительно, противно, тоскливо на улице, а особенно — в душе.
Ильич раздраженно кружил по кабинету, от стены к стене, потом к окну, потом снова поперек и по диагонали.
Правильно писал этот мерзавец Аверченко: «Власть хороша, когда вокруг довольные сытые физиономии, всеобщий почет и уважение. А если сидишь за каменными стенами, под охраной китайцев, латышей и прочей сволочи, и нос боишься на улицу высунуть — какая же это власть?»
Кажется, у него немного по-другому написано, да какая разница? Главное, что по смыслу совершенно верно. На самом деле, мечтая всю жизнь о безраздельной власти над Россией, он имел в виду совершенно другое — воображал себя на месте Александра, потом Николая… Во главе великой, по-настоящему демократической, без дурацких буржуазных штучек России. Без похабного парламента, продажных газетенок, омерзительных обывателей, воображающих, что их жалкие права что-то значат. Но с теми великолепными удобствами жизни, библиотеками вроде лондонской, где можно читать миллионы бесцензурных книг, с дешевизной квартир и чистенькими пивными. И безукоризненным порядком, и вышколенной полицией, когда король имеет возможность кататься на велосипеде по аллеям общедоступного парка, а культурная публика отводит глаза, уважая его «частную жизнь». Вот какой судьбы для России и какой власти для себя он хотел.
Но здесь сразу же все пошло наперекосяк. Как там у Пушкина: «Догадал меня черт родиться с умом и талантом в России».
Ленин остановил свой суетливый бег по противно трещащему и поскрипывающему паркету. Уперся лбом в оконное стекло, словно стараясь рассмотреть что-то в слякотной ночной темноте, но увидел лишь свое смутное отражение.
Нет, все поначалу получалось совсем неплохо. Скорее, даже хорошо.
Всю его жизнь ему удавалось абсолютно все. Да он и не сомневался никогда, что должно быть так, и только так.
Он всегда знал, что любая его идея, любая мысль обладает невероятной, почти сверхъестественной силой, имеет свойство непременно воплощаться в реальность.
Как всякий великий человек, Ленин пребывал в непоколебимой убежденности в собственном предназначении, в своем праве распоряжаться судьбами мира и населяющих его людей, ничуть не интересуясь их собственными желаниями и намерениями. Люди вообще интересовали его только в одном смысле — являются ли они его сторонниками или нет. Если их взгляды расходились с его собственными хоть в малом, человек превращался в злейшего врага, по отношению к которому переставали существовать какие-либо принципы. Независимо от того, какие отношения связывали их в прошлом.
И, что самое интересное, его убеждение в собственной гениальности имело под собой почву. Пусть и не ту, о какой принято думать.
Он был гением в осуществлении желаний. На протяжении тридцати с лишним лет ему удавалось абсолютно все. Причем неважно, зависело ли осуществление этих желаний от его личных возможностей и способностей, или нет.
Даже если его построения и замыслы объективно являлись полным абсурдом.
Создание партии нового типа — сколько умнейших вождей мировой социал-демократии: Каутский, Бернштейн, Плеханов, Струве и иже с ними — называли эту идею абсурдом. А он так решил и сумел подавить все фракции, расколы, оппозиции, и к Октябрю создал монолитный инструмент захвата власти при полном отсутствии общенародной поддержки. Вон кичившиеся своей связью с массами эсеры — набрали на выборах в «Учредилку» почти 70 процентов голосов — и где теперь те эсеры? Кто в могиле, кто в тюрьме, а кто в эмиграции.
Или взять русско-японскую войну. Он страстно желал поражения России, надеясь на порожденный этим поражением революционный взрыв и ничуть не беспокоясь тем, что достижение этой мечты невозможно без гибели сотен тысяч людей, представителей того самого народа, о благе которого он на словах пекся всю жизнь, попутно бурно радуясь любому случающемуся бедствию — голоду, холере, Ходынке…
Так вот — с японской войной все вышло по его. Россия ее проиграла. Причем не в силу каких-то непреодолимых исторических закономерностей и объективных факторов, а так…
С первого дня все складывалось парадоксально: реализовывалась любая, сколь угодно маловероятная случайность, если она была России во вред, и не осуществлялись возможности, куда более закономерные, но идущие империи на пользу.
Примеров можно привести массу. Да вот наиболее яркие. Абсолютно случайная гибель адмирала Макарова, который, несомненно, имел почти стопроцентные шансы выиграть войну на море и, соответственно, сделать невозможной победу Японии на суше. Не зря автор книги об адмирале Макарове, вышедшей ровно полвека спустя, то ли от глупости, то ли от слишком большого ума написал: «Макаров и не мог уцелеть, потому что В. И. Ленин в своей исторической статье «Падение Порт-Артура» обосновал неизбежность поражения прогнившего царского режима, а останься Степан Осипович жить, данная статья оказалась бы ошибочной, что невозможно». (И это не шутка, так и написано.)
Не менее случайна и гибель адмирала Витгефта в практически выигранном бою в Желтом море, и столь же чудесное спасение адмирала Того десятью минутами раньше.
Загадочна завязка Цусимского сражения, когда только низкое качество отпущенных на эскадру снарядов не позволило закончить побоище в первый же час и с противоположным результатом.
Необъяснимы с рациональной точки зрения приказы Куропаткина на отход в практически выигранных Мукденском и Ляоянском сражениях.
И так далее, и тому подобное. В результате — Первая русская революция.
Дальше — то же самое. Царский манифест и столыпинские реформы, чуть не лишившие Ильича его социальной базы, и тут же — выстрел Богрова, катастрофическая для всех, кроме твердокаменных ленинцев, смерть премьера и конец реформ.
Первая мировая, которой, как следует из исторических хроник, не хотел никто и которая тем не менее произошла. И снова здесь история работала на него. В этой войне проиграли все — Сербия, Австрия, Германия, Турция. Франция и Англия тоже проиграли, хоть пока и думают, что победили. Выиграли Ленин и немножко САСШ.
Словно тотальное умопомрачение охватило тогда Россию снизу доверху. Жаждавшая барышей и политической власти буржуазия трудилась изо всех сил, чтобы подготовить падение самодержавия, и лишилась всего, включая огромное количество собственных голов.
Генералы саботировали приказы своего Верховного и требовали его отречения, чтобы всего через год стреляться в своих кабинетах, как Каледин, брести с винтовкой в метельной степи, как Корнилов, или давиться пайковой перловкой и ржавой селедкой, как последний герой царской России Брусилов…
Солдаты, не пожелавшие досидеть в окопах или запасных полках полгода до видимой уже невооруженным глазом победы, получили возможность повоевать еще пять лет, теперь уже на своей земле и друг с другом, да еще и под командой вождей, перед которыми самый свирепый офицер или унтер выглядел эталонным толстовцем.
И так далее, и так далее… Факты общеизвестны. А вывод из них только один — этот невысокий рыжеватый человек, с трудом сдерживающий сейчас переполняющее его бешенство и отчаяние, обладал нечеловеческой силой воли, которая позволяла ему деформировать Реальность в желаемом направлении. С начала девяностых годов прошлого столетия эта неизвестно откуда взявшаяся способность достигла такой силы, что начала определять судьбы мира.
А еще — его литературные труды. При внимательном их изучении становится очевидным — никаких гениальных прозрений и теоретических откровений в них нет. Возникает даже сильнейшее недоумение — как этот набор банальных фраз, прямых подтасовок и фальсификаций общеизвестных фактов, провокационных призывов и человеконенавистнических лозунгов, маловразумительных рассуждений на темы философии и физики мог так долго восприниматься вполне нормальными и зачастую неглупыми людьми как свод высшей мудрости и окончательных ответов на любые вопросы.
А дело и здесь обстояло достаточно просто — для автора полусотни увесистых томов большая часть их содержания была лишь разновидностью заклинаний. Формулируя и перенося на бумагу свои мысли и эмоции, он придавал им завершенность и определенность, позволяющие с максимальным эффектом влиять на действительность. А уже во вторую очередь — информировать своих адептов, как следует думать и поступать в данный конкретный момент, без всякой связи с реальным положением дел и с тем, что он же говорил и писал год, месяц, неделю назад.
Но вдруг все неожиданным и пугающим образом изменилось. Ленин понял это сразу, тем же самым сверхчеловеческим чутьем. Как если бы он, неплохой, хоть и непрофессиональный шахматист, гоняя легкую партийку с каким-нибудь Луначарским, вдруг заметил в миттельшпиле, что партнер заиграл в силу Алехина или Ласкера.
Это невозможно, но если бы… И сразу ходы его стали бессмысленно жалкими, попытки что-то рассчитывать и планировать — безнадежными, а действия противника не то чтобы даже неудержимо победоносными, а просто ему, Ленину, непонятными. Он, покрываясь липким потом, тупо смотрит на доску и не в силах сообразить, что абсолютно вроде бы безвредный ход ладьи с а-3 на с-3 означает неизбежный мат на десятом или двенадцатом ходу. Зато он великолепно знает, что поражение в этой партии обещает не легкую досаду, а новую, теперь пожизненную, эмиграцию в лучшем случае и пеньковую веревку — в худшем.
И вдобавок он хорошо помнит, когда все началось. Еще накануне ничто не предвещало катастрофы. Он, как всегда, был полон сил и оптимизма. Война шла к концу, наметилось взаимопонимание с Антантой, ЦК послушно выполнял все, что от него требовалось, с мест поступала не внушающая тревоги информация.
И вдруг! Он проснулся с чувством отвратительной разбитости и слабости в теле, тупо ныла левая сторона головы, мысль о том, что нужно вставать и что-то делать, казалась непереносимой. Укрыться бы с головой и снова заснуть, не потому, что спать хочется, а просто чтобы отдалить необходимость жить и думать, встречаться с кем-то, произносить ненужные уже слова…
Такого с ним не бывало много лет, а может быть, и никогда. И ведь не обманули предчувствия. С того июльского утра не было больше ни одного спокойного дня. Польские рабочие и крестьяне почему-то не пожелали восстать при приближении Советской Армии. В тамбовских лесах объявился Антонов — новоявленный Пугачев с многотысячной и неуловимой крестьянской армией. Вдруг выполз из Крыма Врангель и неудержимо двинулся вперед, походя громя еще недавно победоносные красные дивизии. Омерзительный Махно, столько раз обманутый большевиками и все же продолжавший исполнять отведенную ему роль и сковывавший немалую часть белогвардейских войск, внезапно повернул свои тачанки на север, круша и дезорганизуя красные тылы…
Но страшнее всего то, что ОН, ЛЕНИН, не знает, как быть и что делать. В самые трудные дни восемнадцатого и девятнадцатого годов знал, не терял присутствия духа и веры в скорую победу. А сейчас не знает. Все, что он сейчас говорит и делает, — это так, инерция. Вдобавок и соратники это замечают. Совершенно обнаглел Троцкий. Неизвестно что замышляет Сталин. Юлят Зиновьев с Каменевым. Дзержинский не в силах заставить своих людей работать по-настоящему. Вот, может, только Арсений — Фрунзе по-прежнему надежен, да и то от неспособности к политическим интригам. Пожалуй, все же следует немедленно вызвать его в Москву, назначить Предреввоенсовета вместо иудушки? Тот ведь и к Врангелю переметнуться готов, если сочтет это выгодным. Врангель его, конечно, не примет, не такой дурак, а вот Антанта вполне может счесть Троцкого более привлекательной фигурой. Вдобавок у того и связей за границей больше. А его, Ленина, как Столыпина… Предсовнаркома — это тот же премьер. Ставший ненужным правящей камарилье…
Не зря Блюмкин никак не наказан за убийство Мирбаха, а, наоборот, состоит в штабе Троцкого. Каплан, идиотка, не убила, а этот убьет…
Владимир Ильич даже взвыл, не сдержавшись, представив, как гнусный Блюмкин с жирными, вывернутыми еврейскими губами стреляет в него из маузера… Или — приоткроется сейчас дверь, и из темного коридора влетит в кабинет пироксилиновая бомба. Какой взорвали Александра Третьего. Брат Саша такие бомбы делал…
Нет, надо немедленно что-то предпринять! Сломать судьбу. Прямо сейчас!
Но он же совершенно не в состоянии ничего придумать — наедине с собой Ленин мог это признать. Тогда как быть? Махнуть на все планы и с таким трудом достигнутые успехи рукой, отозвать войска из Польши, с Украины, Кавказа и Туркестана, окружить Москву пятимиллионной стеной штыков, продержаться до зимы? Обороняться на выгодных рубежах, надеясь, что жалкие врангелевские сто тысяч застрянут в вязкой, как глина, массе, просто не прорубятся сквозь десятиверстную толщу человеческого мяса? Интриговать, играя на противоречиях Англии, Франции, САСШ, будоражить униженную Германию и охваченную кемалистской революцией Турцию? В надежде, что со временем вновь вернутся к нему силы и удача и все снова образуется? Он, наверное, просто переутомился, надорвался за три года. Назначить Фрунзе диктатором, загнать всех соперников на фронт, а самому уехать? В глушь куда-нибудь, в ярославские леса или в Белозерье. В Шушенское бы… Вволю спать, купаться в ледяных озерах, охотиться на зайцев, париться в бане. Ни о чем не думать, убедить себя, что ничего страшного, если даже придется бежать. Разве плохо было в Швейцарии? На хороший домик денег найдется. Наденьку с собой тащить нет смысла, надоела до судорог, найдется кое-кто и получше. Пить пиво, гулять по горам, кататься на велосипеде, писать мемуары. Ему есть что вспомнить…
Вот если обо всем думать ТАК, то, глядишь, и вправду через месяц-другой вернутся и силы, и уверенность в себе. И тогда они узнают…
Ленин не замечал, что снова бегает по кабинету и говорит, говорит, торопливо, невнятно, сбивчиво, высказывая вслух самые сокровенные мысли…
Выдохся, замолчал, переводя дыхание, почти упал на жесткое деревянное кресло. Он чувствовал разбитость и слабость, словно после эпилептического припадка. И в то же время — некоторое облегчение. Как если бы в разгар вечеринки с неумеренными возлияниями отошел за кустик и прибегнул к помощи двух пальцев…
Покой, сейчас нужен покой. Раздеться, лечь в кровать, сжаться калачиком, натянув до глаз одеяло. И чтобы за окном пошел снег вместо этого подлого дождя. Снег, вой ветра в дымоходе, треск дров в печи.
Или — еще лучше: немедленно вызвать машину — и в Горки. Только там он почувствует себя здоровым и полным сил…
Ленин надавил и не отпускал кнопку звонка, пока в дверях не появился до смерти перепуганный секретарь.
Глава 16
Высокие часы в углу неторопливо отзвонили одиннадцать. Начальник секретно-политического отдела ВЧК закрыл глаза, стиснул ладонями виски. Голова у него тупо болела, в затылке часто и неритмично тюкало, словно там обосновался маленький злой дятел.
Вздохнув, начальник встал, запер массивный, раскрашенный под дуб сейф с музыкальным замком, подошел к выходящему на Кузнецкий мост окну, откуда через полуоткрытую створку доносился ровный шелест дождя, перебиваемый гулом моторов и кряканьем клаксонов отъезжающих от наркомата иностранных дел автомобилей. Неплохо бы и самому вызвать машину, подумал он, и поехать домой или хотя бы в «Бродячую собаку», где, несмотря на военный коммунизм, можно выпить пива, а если знаешь буфетчика, то и чего покрепче, расслабиться, послушать споры об искусстве нового мира. После полуночи туда забредает в сопровождении друзей и прихлебателей Есенин, бывают Маяковский, Вахтангов, Мейерхольд. Чекист считал себя знатоком поэзии и в богемном кругу отвлекался от неизбежных реальностей классовой борьбы.
Но сегодня никак не получится. Дела не отпускают. Черт его знает, как у царских чиновников выходило. Работали с десяти до четырех и все успевали, огромная империя крутилась, был порядок, а тут хоть целые сутки напролет сиди, все равно никак не управляешься.
Тем более что как раз сегодня случилось экстраординарное.
Огромный кабинет на шестом этаже дома бывшего страхового общества «Россия» освещался дрожащим язычком пламени внутри закопченного и треснувшего стекла семилинейной керосиновой лампы. Большую часть помещения скрывал полумрак, но в круге света можно было различить его суровую, аскетическую обстановку. Буржуйка с трубой, выведенной в форточку высокого венецианского окна, обшарпанный канцелярский стол, ряд разностильных стульев вдоль стен, массивный колченогий сейф, с левого угла подпертый кирпичом. У двери деревянная вешалка, на колышках которой солдатская шинель, фуражка со звездочкой и маузер, подвешенный за длинный ремешок. (Как коммунисты отчего-то любили маузеры! Словно бы его длинный ствол и десять патронов в магазине могли помочь, если что… Или из него расстреливать удобно?)
Обрезанная на вершок от донца шестидюймовая снарядная гильза полна махорочных окурков.
Электричество, как повелось в последнее время, выключилось без четверти девять, и город за окном тонул во мраке, словно сразу за пределами Лубянской площади начинались глухие подмосковные леса. Лишь кое-где светились тусклые огоньки в незашторенных окнах ближайших зданий.
Начальник секретно-политического отдела (СПО в дальнейшем) вернулся к столу и снял трубку телефона.
— Зайди ко мне, Вадим.
У него было заведено, чтобы подчиненные не расходились, пока сам он оставался на службе. Неважно, есть у них работа или нет. Пусть ищут, если на фронт не торопятся. Да ведь и клиентура у них такая, что предпочитает по ночам из нор своих выползать. Днем-то они все честные спецы и безобидные спекулянты.
Начальник СПО дело свое любил, вел его мастерски, можно сказать, талантливо, хоть и окончил всего шесть классов гимназии и к политическому сыску раньше отношения не имел даже как поднадзорный.
Особое пристрастие он питал к работе с интеллигенцией. Каждая более-менее заметная фигура из не успевших сбежать или умереть была у него на контроле. Но, к сожалению, заниматься приходилось не только ими.
Не прошло и двух минут, как дверь приоткрылась и в кабинете возник молодой человек совершенно пролетарского обличья. Старенький черный пиджак, сатиновая под ним косоворотка, заправленные в сапоги с галошами суконные штаны. Если бы не лицо, неуместно чистое и с внимательными, умными глазами. Числился он по отделу рядовым сотрудником, но фактически был правой (и левой одновременно, которая не ведает, что творит правая) рукой начальника. Выражаясь по-старорежимному — чиновником для особых поручений.
— Слушаю вас, Яков Саулович. — И непринужденно остановился в трех шагах, опершись рукой о спинку стула.
— Ты дверь-то за собой притвори, а…
Несмотря на имя-отчество, ничего национально-специфического во внешности начальника не было. Он скорее походил на итальянца из северных провинций и по-русски говорил без характерного акцента, слегка даже утрируя московское произношение.
Пока вошедший задвигал блестящий медный шпингалет, хозяин с лампой в руке пересек кабинет, заставив задергаться по стенам изломанные тени, открыл потайную дверь напротив, надежно спрятанную в ряду высоких резных панелей.
В смежной комнате пролетарским аскетизмом уже не пахло. Причем в буквальном смысле, потому что вместо запаха прогорклого махорочного дыма и несвежих портянок (отчего-то неистребимого, хотя нынешние обитатели здания на работе, как правило, не разувались) здесь витали ароматы классово чуждые: свежезаваренного чая, хороших папирос и выделанной кожи.
Обстановка в этом мужском будуаре, похоже, не претерпела изменений с времен «доисторического материализма» — изящный письменный столик с перламутром, на гнутых ножках, еще один стол, круглый, на котором посверкивал недавно закипевший самовар, обтянутые светло-коричневым сафьяном диван и полукресла, два книжных шкафа с морозным узором на застекленных дверцах.
— Садись, Вадим. Чайку попьем, голодный небось?
— Да уж не иначе, Яков Саулович. Как в обед в столовке вобляжьего супчика похлебал да черпак чечевицы на ружейном масле, так и все…
— Война, брат, ничего не поделаешь. Социальное равенство опять же. Феликс Эдмундович сам аскет и от нас того требует. Про картошку с салом слыхал, наверное? Но нам-то до него далеко. Такие раз в столетие рождаются. И пытаться ему подражать — м-м-м… — Начальник сокрушенно помотал головой, словно у него разболелись зубы. Попутно он достал из шкафа и поставил рядом с самоваром тарелку с уже нарезанной колбасой, банку рижских шпрот, приличный кусок голландского сыра и краюху белого хлеба фунта на три.
— Стаканы вон там, в тумбочке возьми. И сахарницу.
В завершение сервировки на столе появилась четвертинка настоящей поповской водки.
— Прими, не пьянства ради, а здоровья для. И закусывай, закусывай. Удивляешься? И напрасно. Тебе никогда в голову не приходило, отчего это мы все два года пустую баланду хлебаем, да селедку ржавую, да хлеб с мякиной? Нет, что до полной победы социализма всего на всех все равно не хватит, я и сам знаю. Но вот почему такой узкий ассортимент? Понятней было бы, когда на паек выдавали, пусть и понемногу, и мясца, и яиц с курятиной, да хоть бы и осетринки. Астрахань вон еще когда освободили, так закаменевшая вобла — пожалуйста, а икры с осетриной нет. Оно ж никуда не делось, мужики как разводили скотину и птицу, так и сейчас разводят, но раньше всем хватало, а сейчас нет. Заинтересовался я этим из чисто служебного любопытства и убедился — на самом деле все есть! Тогда что мы имеем — саботаж или, напротив, взвешенную политику? Чтобы мы с тобой злее были с голодухи?
Агент, слушая разглагольствования своего начальника, старательно жевал, запивая деликатесы крепким кяхтинским чаем. Отвечать что-либо он считал ненужным, а то и опасным. Мало ли какие цели тот преследует и какие выводы может сделать? Но при этом внутренне соглашался, потому что и сам не раз задумывался, отчего на территории, занятой белыми, проблем с продовольствием не существует, а с приходом красных все исчезает на следующий день и навсегда. Так что даже им, коммунистическим опричникам, приходится исхитряться, чтобы без свидетелей съесть свой кусок колбасы.
Однако, похоже, никаких задних мыслей на сей раз за словами начальника не таилось, он, скорее, как бы оправдывался за неприлично роскошное угощение.
И лишь когда Вадим, отдуваясь, вытер пот со лба и откинулся на спинку стула, начальник встал, поскрипывая блестящими сапогами, отошел к письменному столу и извлек из ящика кожаную папку с серебряной табличкой в правом нижнем углу. На табличке изящным рондо с завитушками было выгравировано: «Надворному советнику Н. В. Носко въ день юбилея отъ сослуживцевъ».
Вадим знал, что в этой папке хранились самые важные бумаги. А на вопрос, отчего бы не сорвать не слишком уместное украшение, начальник в свое время усмехнулся: «Пусть будет. Она меня развлекает. Смотрю вот и думаю — как же все-таки этого советника звали? Николай Васильевич, Никодим Варфоломеевич или вообще Наум Вольфович? Развивает воображение. Иногда такое придумаешь…»
Он так и не понял тогда, в шутку говорил Яков или нет, но больше к этой теме предпочитал не возвращаться.
— На вот, посмотри матерьяльчик, а потом мнениями обменяемся…
Начальник протянул агенту папку, а сам расстелил на столе большую карту Европейской России и с карандашом в руке погрузился в какие-то, судя по выражению лица, невеселые размышления.
Оснований для них, по мнению Вадима, было достаточно. Он и со своего места видел, как опасно приблизилась к Москве пологая дуга фронта.
Но и засматриваться на стол начальника тоже негоже, в их отделе такое не принято. Лучше заняться своим делом.
Читал он быстро, со стороны казалось, что лишь заголовки просматривает. Минут через пятнадцать Вадим перелистнул последнюю бумагу и захлопнул папку, достаточно громко, чтобы привлечь внимание начальника.
— Изучил? — поднял тот голову. — Так что говоришь, амбец нам приходит, да?
Удивленный столь неожиданным поворотом темы, агент пожал плечами.
— Да я как-то, Яков Саулович… Больше практическими вопросами последнее время занимался. Стратегия не по моей части проходит. А если вы про то вон, на карте… Так мало ли… В прошлом году летом куда хуже было. И ничего.
— Ой, ну ладно, брось! Чересчур ты в образ вжился. Совсем паренек-дурачок с окраины. Все вы только об этом думаете и говорите. Ты же учти, я тебя самым умным в отделе считаю. После себя, конечно, — начальник сочно хохотнул. — И доверяю тебе полностью. Тут в чем соль вопроса — если дело совсем труба, то своевременно сообразить нужно, а если всего лишь очередные временные трудности, так определить, чем по нашей линии Республике помочь должны. Посмотрел ты мою подборку — и что скажешь?
— Да ведь, Яков Саулович, подборка здесь совсем не по нашим вопросам. Тут контрразведке занятие, иностранному отделу, экономическому, может быть.
— Эх, Вадим, когда ты научишься шире смотреть на вещи? Как это — не наши вопросы? Наша с тобой главная и непосредственная задача — сохранение и укрепление Советской власти путем беспощадного уничтожения ее врагов. Способ ее достижения — секретная оперативная работа на всей территории РСФСР. Выявление в том числе врагов скрытых и даже таких, кто еще и сам не догадывается, что он — враг! Вот показалось тебе, что отдел контрразведки умышленно или просто по глупости упускает то, что может оказаться важным, — сразу на карандашик, своевременно мне доложи, а потом подумаем — просто подсказать товарищам, руководству ли доложить, или иные меры тут уместны…
— Ах, вот вы что имеете в виду… — В голосе агента прозвучала досада на собственное недомыслие и сдержанное восхищение глубиной начальственной мысли. «А я-то, дурак, не сообразил», — как бы сказал он своей интонацией.
На самом деле Вадим был куда догадливее, чем даже предполагал его начальник. Закончил он, как-никак, четыре курса Петроградского университета и специализировался по математической логике. А прикидывался всего лишь недоучившимся преподавателем геометрии и алгебры.
— Впрочем, контрразведку я так, для примера привел, не в ней дело, хотя… Владимир Ильич как-то правильно сказал, что в любом явлении нужно найти главное звено и за него вытащить всю цепь. А вот по этим бумажкам, — он кивнул на папку, — выходит, что нет никакого главного звена. Вообще ничего нет. Все хорошо, соввласть крепнет, беляки вот-вот рухнут под тяжестью своих преступлений, пролетариат и трудовое крестьянство на занятых Врангелем территориях разворачивают подпольную борьбу и ждут не дождутся нашего победоносного наступления. А отчего мы вдруг, после всех наших побед, так энергично отступаем — бог весть. Ни фактов, ни предположений, ни объективного анализа обстановки. Возможно такое? Невозможно, дураку ясно. Следствий без причин не бывает. Остается эту причину найти и устранить. Или — собирать чемоданчики и адью! Желательно — куда подальше, потому что в Европе коммунистам сейчас неуютно будет… Понял?
— Чего же не понять? Только вот неясно мне, как это мы с вами вдвоем такое дело поднимем?
— Вдвоем или впятером, не твоя забота. Мне от тебя нужна конкретная работа. А все остальное я говорю, чтобы ты проникся. Не очередной заговор извозопромышленников в Мытищах раскрыть требуется, а так действовать, будто завтра — к стенке, ежели ушами прохлопаешь. Или грудь в крестах, или… Поэтому на отвлеченные темы больше рассуждать не будем. У тебя никаких вопросов не возникло по поводу того американского парохода?
— Обратил внимание. Ну и что ж? Пароход, он и есть пароход. Если на нем даже оружие привезли, так много ли? А могло его появление на тактику со стратегией повлиять? Тут в другом направлении искать нужно, мне кажется. В самый их главный штаб человека заслать бы надо и выяснить, что там творится. Отчего они иначе воевать стали?
— Какой догадливый! — саркастически произнес начальник. — Надо тебя в военную разведку перевести. А я надеялся, что ты мне поможешь факты и фактики сопоставить, дедуктивным методом воспользуешься и такую идею предложишь, чтобы она все разом осветила… Я вот просто нюхом чую, что все тайны и загадки общую причину имеют. Эту вот бумажку внимательно прочитал? — И протянул исписанный с обеих сторон отчетливым, даже щеголеватым почерком, каким часто пишут не слишком образованные, но много о себе понимающие люди, листок бумаги.
— Не знаю, Яков Саулович, — безнадежно вздохнул Вадим, словно признавая полную свою несостоятельность. — Ну, очередная банда объявилась, ну, похоже, бывшие офицеры в ней есть. Да кто только сейчас в бандиты не идет? Тут же и зацепиться не за что. Какие за ними дела, с кем контакты поддерживают? Клички названы, так самые обычные клички. По моим учетам, среди тех, кто с политикой связан, такие не значатся. Хотите, через угро старые дела подниму, еще дореволюционные?.. Ей-богу, не знаю, чем они вас заинтересовали, особенно применительно к тем вещам, про которые вы сейчас говорили.
Начальник СПО поморщился, словно уловил в комнате скверный запах.
— Мелко, мелко берешь, Вадим. Смотри, как интересно складывается: Крым, пароход из Америки, внезапное изменение хода войны, переход на сторону белых Махно, который их люто ненавидит и всех врангелевских парламентеров вешал без разговоров, непонятно откуда взявшееся золото, и вдруг еще эта «банда». Информатор — человек опытный — сообщает, что как минимум четверо выглядят кадровыми офицерами и в немалых чинах. Насколько я знаю, полковники-подполковники, да еще дворяне, не так уж часто в грабителей переквалифицируются. Да и время их появления, накануне, можно сказать, решающих событий. Притом, что для солидной банды в Москве и работы подходящей нет. Что и у кого сейчас грабить? Картошку и муку у мешочников? За два года все остальное мы уже изъяли…
— Это еще как сказать, — опять возразил Вадим. Заметил вновь мелькнувшее на лице начальника неудовольствие, попытался пояснить: — Я сейчас принципом Оккама руководствуюсь, в том смысле, что сначала нужно все наиболее вероятные версии проработать, а уже потом к менее вероятным переходить. Что, если они на Оружейную, к примеру, палату нацелились? Или на Гохран? В предвидении, как вы правильно заметили, возможных событий. Белые подходят, начнутся бои за город, не исключена эвакуация, беспорядки. Самое время солидный куш оторвать… Нет, это вполне даже объяснимо. А если вы хотите сказать, что перед нами белая разведка или диверсионная группа… Возможно и такое, конечно, только зачем бы им так грубо засвечиваться? Толпой появились, подняли стрельбу, блатных шестерок себе завели, пьянствуют… Самые дурные разведчики чище б сработали. Мало у них конспиративных квартир и явок? Мы и то полсотни знаем, а на самом деле?..
— Достаточно! — подкрепил интонацию еще и резким взмахом руки начальник. — Мне последнее время кажется, что зря я с тобой откровенничаю и полную волю спорить даю. Как-то ты неправильно моей снисходительностью пользуешься. Нет-нет, не бойся. Я не в смысле практических выводов, это я скорее себе в упрек. Короче — банду берешь на себя. Срок — три дня. Представишь полную картину: кто, откуда, зачем, почему… В методах не ограничиваю. Докажешь, что чистая уголовщина — бог с ними, перебросим по назначению. Только я, от души говорю, предпочел бы чего-то поинтереснее. Ты меня хорошо понял?
— Да, конечно, Яков Саулович. Будьте в уверенности. Если хоть штришок какой замечу — зубами вцеплюсь. И подходы у меня к Хитровке есть. Только, Христа ради, не надо меня подстраховывать, а то все дело провалить можно.
— Смотри сам. Три дня я не вмешиваюсь, слово. Через три дня, если не объявишься, я там большую облаву устрою… Так что ты уж постарайся, мне твои мозги еще потребуются. И вот тебе, для представительности… — Начальник покопался в глубине ящика, подвинул Вадиму по синему сукну стола несколько пресловутых золотых десяток, толстую пачку советских и царских бумажек и, подумав, присоединил к ним беловатую десятифунтовую купюру.
— Отчета спрашивать не буду. Рискуй лучше деньгами, чем головой. И давай иди. У меня еще и других забот… И помни — я подгонять не люблю, но у нас совершенно нет времени.
Глава 17
Освоились в революционной Москве Новиков с Шульгиным неожиданно быстро. Впрочем, удивляться тут особенно нечему — город все-таки для них родной, и после краткого момента нестыковки с нынешней Реальностью началось узнавание и привыкание. Люди вокруг, как они вскоре сообразили, были почти те же, ведь многих из них, пусть и постаревших на тридцать лет, они могли в детстве встречать на этих же улицах, а постараться, так и знакомых, наверное, удалось бы обнаружить. Многое было памятно по книгам, фотографиям, документальным фильмам, а главное — все больше открывалось уголков, без изменения просуществовавших до конца шестидесятых годов, пока не пошли под слом целые улицы и кварталы в центре и близ Садового кольца.
На следующий день они снова наведались на Сухаревку. Следов вчерашнего беспорядка здесь не наблюдалось, толкучка шумела и волновалась по-обычному. Так же продавали, покупали, крали и привычно разбегались при появлении милицейских нарядов.
Андрей без труда подобрал себе предметы обмундирования красного командира, в которого он решил преобразиться — синие русские бриджи, не то английский, не то польский френч табачного цвета с огромными накладными карманами, серую буденовку шинельного сукна. Все не новое, но вполне приличное. Даже сапоги удалось купить по размеру — с высокими присборенными голенищами, на спиртовой кожаной подошве, подбитой березовыми шпильками.
Теперь он мог ходить по улицам спокойно, в случае проверок предъявляя справку, что командир батальона такого-то полка славной Железной дивизии (недавно вдребезги разгромленной на польском фронте) находится в долгосрочном отпуске по ранению и направляется в Петроград для консультации в клинике Военно-медицинской академии. Диагноз по-латыни, штамп полевого госпиталя, подпись, печать.
Обсуждая свой новый план, друзья несколько раз обошли по периметру Кремль, изучили все возможные пути подхода к стенам и удобные места для их форсирования, исходные позиции штурмовых и отвлекающих групп. Постарались определить, имеются ли постоянные огневые точки на башнях. Присмотревшись к поведению постовых у Спасских и Боровицких ворот, Шульгин решил, что и проникнуть внутрь для рекогносцировки особого труда не составит.
— Идиотизм, конечно, — рассуждал Сашка, когда они присели перекурить на паперти Покровского собора. — По левашовской прихоти изображай теперь картину Сурикова «Штурм снежного городка». У него принципы, а что через них в десять раз больше людей угрохать придется, ему наплевать.
— Взятие, — не поворачивая головы сказал Новиков, внимательно рассматривая Красную площадь, грязную и в колдобинах, с пересекающими ее трамвайными путями. Из-за отсутствия Мавзолея и трибун она совсем не походила на настоящую. Могила жертв октябрьских боев слева у стены, лишенная гранитных надгробий и ограждения, тоже впечатления не производила. Провинциально все как-то, словно не в Москве они находятся, а, к примеру, в Ярославле.
— Что — взятие? — недоуменно спросил Шульгин, прерывая свою филиппику.
— Картина называется — «Взятие снежного городка», отнюдь не штурм. А Левашов по-своему тоже где-то прав. Во-первых, действительно принципы, никуда не денешься. Ну не желает человек участвовать в свержении Советской власти, которая ему дорога…
— Исключительно как память, — вставил Сашка.
— Даже и так. Скажи еще спасибо, что он нас с тобой, по старой дружбе, вообще не ликвидировал как врагов народа. Папаша его уж точно бы не колебался, а Олег, видишь, терпимее. Прогресс…
— Общение с нами даром никому не проходит, — фыркнул Шульгин.
— Это еще как сказать. И, во-вторых, мне тоже моментами кажется, что победить, соблюдая его условия, как бы и честнее будет. Войну ведь и не выходя из каюты выиграть можно, если кое-через что переступить. В элементе. Отрегулируй должным образом пространственное совмещение, открывай канал в любую нужную точку и стреляй, как в тире. Вдвоем за полдня можно весь старший армейский комсостав и ЦК с Совнаркомом перебить. И еще полдня на все губкомы… Патронов хватит, только стволы почаще менять, чтобы не перегревались. И ни одной напрасной жертвы. Нормально?
— До абсурда любую мысль довести легко, — уклонился от прямого ответа Шульгин. — Охотник и то по сидячей птице не стреляет.
— Вот-вот, и коррида кое-чем от мясокомбината отличается.
— Правильно, — легко согласился Шульгин и тут же нанес ответный удар: — Но ведь матадор ради спортивного интереса только своей собственной головой рискует, а мы, получается, за ради чистых рук в свои игрища еще десятки тысяч людей втягиваем, чтобы, упаси бог, бездушными палачами не выглядеть. Ежели ты, уничтожая врага, дивизии в мясорубку бросаешь, своей головой не слишком рискуя, — ты солдат, а если имеешь возможность противника уничтожить, а потерь своих избежать — палач! Где логика? Тот полковник, что радиомину за двести километров взорвал и сотню немецких офицеров в клочья, — он кто?
— А Хиросима?
Новиков видел, что они опять втянулись в привычный спор ради спора и способны до бесконечности изобретать взаимоисключающие доводы, чтобы за потоком слов спрятать равно очевидную для них обоих истину — стоящая перед ними проблема нравственно безукоризненного решения не имеет в принципе. Как только они очутились здесь, в двадцатом году, причем в своем физическом облике, ловушка захлопнулась. Нельзя было укрыться на тропических островах и жить безмятежно, зная, что в России полыхает гражданская война, а они в силах ее прекратить, избавив страну от исторической и демографической катастрофы. Одновременно — нельзя было нечувствительно отбросить своеобразный «комплекс Руматы», почти подсознательное ощущение, что отчего-то нельзя, недопустимо извне, из другого времени, силой вмешиваться в как бы чужой конфликт. Тем более — используя военно-техническую мощь совсем другой эпохи.
Андрей также понимал, что в сугубо объективном плане проблема эта надуманная, проистекающая из дикой смеси исторического материализма, фрагментов иных философий и этик, сдобренной вдобавок интеллигентскими рефлексиями подчас стоящих на противоположных позициях, но равно почитаемых авторов еще в юности прочитанных книг.
Умом они вышеуказанную антиномию вроде бы решили, но все равно испытывали постоянную потребность убеждать друг друга в правильности своего выбора. Левашову на самом деле было легче, он себя избавил от терзаний, причем сравнительно дешевой ценой.
— А с бабами в Москве полный абзац, — произнес неожиданно Шульгин, меняя тему. Кивком головы он указал Андрею на фигуру женского рода, торопливо семенящую через площадь. Одета она была в длинную темную юбку, шнурованные ботинки со сбитыми набок каблуками, кожаную куртку, а на голове — красный платок.
— Как Райкин говорил: «Зинка у меня красивая, морда как арбуз, глазки маленькие и все время поет…»
— М-да, похоже, — согласился Новиков. — И ведь много молодых, а рожи у всех на одну колодку.
— Где б ты других увидел? Которые в нашем вкусе, те или сбежали давно, или по домам сидят. В Севастополе-то совсем другая картина.
— Там — да. Там они вполне на людей похожи. Что и огорчает…
— Ничего, победим — снова сюда вернутся. Тогда и погусарствуешь, в ореоле спасителя России.
Догоревшие до фильтров окурки зашипели в ближайшей луже, и друзья разом поднялись.
— Пойдем еще раз мимо Лубянки пройдемся, посмотреть кое-что хочу, — предложил Шульгин, как бы давая понять, что никаких деморализующих разговоров вести далее не намерен.
Пробираясь между заколоченными, наполовину разломанными на дрова ларьками и лавками Охотного ряда, они поднялись к площади, обошли вокруг знаменитый дом, втрое меньший, чем они привыкли его видеть. Но оттого, что рядом не было «Детского мира» и здания, где размещался известный «сороковой» гастроном, смотрелась чекистская резиденция не менее внушительно, чем в будущем.
— Я о чем думаю, — негромко говорил Шульгин, внимательно осматривая все подходы к объекту, — имеет смысл за полчасика до штурма устроить здесь небольшую заварушку в смысле отвлекающей операции? Или, наоборот, втихую в Кремль лезть?
— Интересный вопрос. А ответ на него — пятьдесят на пятьдесят. Поскольку мы информацией не владеем, какие у них схемы реагирования на обострение обстановки. Но вообще я бы воздержался. То есть здесь шум начнется, а в Кремле тревогу сыграют, и весь наличный гарнизон в ружье и на стены. А так они, кроме дежурных нарядов, спать будут…
— То-то и оно, — с сомнением проронил Шульгин. — Можно, конечно, генеральную репетицию провести. Кому-то в Кремль забраться, на колокольню, к примеру, и посмотреть, как у них реагировать принято.
Они проходили мимо заднего фасада лубянского дома, и в тот момент, когда поравнялись с глухими высокими воротами, те неожиданно начали открываться.
Из двора выехал открытый синий «рено», трещащий мотором не хуже газонокосилки. Позади шофера, в напряженной позе, не касаясь спинки, сидел молодой, лет тридцати, мужчина с почти красивым, тщательно выбритым лицом, в плаще-пыльнике и чуть набекрень надетой мягкой шляпе. Облик его разительно отличался от ставших уже привычными типажей совпартработников, которых можно было видеть на улицах. Это была персона совсем другого класса.
Либо очень большой начальник, либо иностранец. Какой-нибудь деятель Коминтерна. Да и то вряд ли. Уж больно уверенный у него вид, жесткий рисунок рта и тяжелый взгляд. Не иначе — член коллегии.
Автомобиль проехал в трех шагах от Новикова, и, встретившись с его пассажиром глазами, Андрей испытал неприятное, тревожное чувство.
Что увиденный человек опасен — это не все. Любой обитатель «Большого дома» опасен, каждый на свой лад. А конкретно этот опасен именно им, даже если сам он об этом пока не подозревает.
Иначе не отвел бы равнодушно взгляд от двух почти заурядных краскомов.
Андрей же, обостренной после прямого контакта с Галактической Сетью интуицией понял, что какая-то информационно-эмоциональная связь между ним и этим человеком существует. Словно бы тень из будущего, в котором им еще предстоит встретиться, подобно тени от набежавшего на солнце облачка, коснулась Андрея на мгновение.
Он толкнул Сашку локтем, но Шульгин успел увидеть только затылок незнакомца. Автомобиль круто повернул, окутался вонючим дымом скверного бензина и запрыгал по булыжникам Большой Лубянки.
— Чего ты?
— Странный персонаж нарисовался. В машине. Не знаю отчего, но аж сердце заныло. Или вокруг него черная аура в сто лошадиных сил, или он лично на меня замкнут.
— Вполне возможно. Тут и свои, природные экстрасенсы могут быть, особливо в данной конторе, а может, и оттуда хвостик потянулся…
Шульгин дернул головой вправо-вверх, и Андрей понял, что он имеет в виду.
— Не его ли мы и ищем? — невесело усмехнулся Новиков. Затея изобразить из себя подсадную утку показалась ему вдруг не такой уж и мудрой. — Я говорил тебе, что мы на Хитровке верняком засветились. А сейчас словно звоночек тренькнул. Если нас пока еще под колпак не взяли, так завтра возьмут. Барометр падает, и собаки воют… И у меня какие-то фибры завибрировали. Кстати, что за штука такая — фибры души? Ни в одном словаре не встречал. Ты не в курсе?
— Нет. А размотать нас и без всяких чудес могут. Как в том рассказе, где полицейский пришельца чисто оперативным путем вычислил.
— Такого нам не нужно. Вся соль, чтобы подставиться именно тем, кто нас интересует…
Погода на улице начала понемногу улучшаться. Туман приподнялся, сквозь разрывы в облаках заголубело небо. Только на западе клубились низкие грязно-сизые тучи, обещая очередной дождевой заряд, а может, и первый осенний снег. Друзья неторопливо, аккуратно проверяясь, не появился ли за ними, чем черт не шутит, «хвост», направились в сторону Китай-города.
— Подождем день-два и, если ничего не заметим, придется обострять ситуацию… — продолжал рассуждать Шульгин. — Только надо бы насчет запасных позиций подумать. На случай непредвиденных осложнений. Оставить на базе человек десять покруче, понахальнее, во главе с тем же Рудниковым. Пусть живут широко, буянят, скандалят, морды бьют, как и положено. Остальных по трое-пятеро рассредоточить в соседних корпусах, чтобы и все подходы, и окна квартиры просматривались. А нам с тобой и еще подальше переместиться.
— От группы отрываться не стоит, — возразил Новиков.
— Ничего страшного, связь у нас надежная, а если бы поближе к центру найти незасвеченную точку — самое то…
— Был бы здесь хоть двадцать второй год, тогда без проблем, а с нынешним военным коммунизмом квартиру разве найдешь?
— Всегда какие-то варианты бывают. Думать надо. О, смотри, тут и книги продают. Пошли посмотрим.
— Я бы лучше пожрал чего, так где? Разве на вокзал сходить, в питательный пункт?
— Дадут тебе там каши неизвестного происхождения на машинном масле. Надо было с собой взять. А теперь до ночи терпи, в наших мундирах днем на Хитровку соваться не стоит.
Перебирая выложенные на крапивных мешках книги, среди которых попадались и весьма интересные, Новиков вдруг присвистнул от удивления. Снова совпадение или все-таки начали работать непознанные закономерности? Прелесть ситуации заключалась еще и в том, что увиденная им книга попалась на глаза сразу после разговора о захвате Кремля, да вдобавок продавалась чуть не под окнами ВЧК, чьей обязанностью было сразу после переезда правительства в Москву узнать о существовании данного труда и принять меры к его немедленному и повсеместному изъятию. Потому что назывался он «Московский Кремль в историческом и архитектурном описании» и содержал, кроме массы сведений пусть и интересных, но неактуальных, подробнейшие чертежи и планы территории, соборов, дворцов, башен… Перелистывая веленевые страницы, проложенные папиросной бумагой акварельные рисунки и фотографии, Андрей думал, что для простого совпадения это слишком маловероятно.
— Сколько? — небрежно спросил он у похожего на артиста Гердта букиниста. Тот наметанным глазом уловил странную для нынешнего времени заинтересованность возможного покупателя, предположил в нем коллекционера из бывших, которому и исторические катаклизмы не отбили вкус к любимому занятию, и заломил цену: «Два фунта сала и пять — хлеба». Склонил к обсыпанному перхотью бархатному воротнику пальто голову и стал ждать ответа. Сам понимал, что цена непомерная, но мало ли что? У человека в военной форме и достаточно интеллигентного, чтобы заинтересоваться такой книгой, может найтись хоть половина запрошенного. Или приемлемый эквивалент.
— Ну где я вам сейчас сало искать буду? Может быть, деньгами?
Пока букинист задумался, переводя цену продуктов в совзнаки, Шульгин тоже успел прочесть выпуклые золоченые буквы на переплете и взял инициативу на себя. Молча сунул книгу Новикову под мышку, а в костлявую ладонь букиниста вложил золотой.
— Тихо, дед. Быстренько прячь, а когда станешь разменивать — не пролети…
Пока старик ошеломленно смотрел на монету с царским профилем, о которой слышал столько разговоров и вчера и сегодня, странные покупатели растворились в толпе.
— Интересно, а сколько сейчас вообще червонец стоит? — спросил Андрей, когда они уже шли по Никольской.
— Кто его знает… При царе на него двести килограммов белого хлеба купить можно было. Сейчас вряд ли меньше…
— Повезло деду. Да я б ему и десять червонцев дал. Тут на планах все размеры проставлены, длина и высота стен, разрезы башен и прочее… Знать бы, кто ее нам подкинул?
Шульгин внимательно посмотрел на Андрея, но промолчал.
Глава 18
Синий «рено» остановился у неприметного особнячка с мезонином в кривом и грязном переулке неподалеку от Смоленской площади. Десятки таких переулков, неотличимо похожих друг на друга, сбегали по косогору к Москве-реке, и только старожилы да бывшие городовые Арбатской части уверенно ориентировались в их хитросплетении.
Велев шоферу ждать, пассажир, он же начальник СПО ВЧК Агранов, отпер своим ключом парадную дверь. Ему навстречу из примыкающей к прихожей каморки появился человек дворничьего обличья, но с револьверной кобурой на поясе.
— Как он там? — не здороваясь, бросил Агранов, быстрым шагом проходя через прихожую к ведущей наверх узкой лестнице.
— Спокойно, Яков Саулович. Утром чаю попил, до ветру два раза просился, а больше и не слыхать.
— Хорошо. Иди к себе. Нужно будет — позову.
Лестничная площадка делила мезонин пополам. Направо вела обычная двустворчатая крашенная суриком дверь, а налево — массивная, обитая железом, закрытая на длинный кованый засов.
Но за ней оказалась просторная и довольно уютная комната, разве только решетка на выходящем во двор окне слегка портила впечатление.
На низкой деревянной кровати, подоткнув под спину подушки, полулежал бородатый мужчина лет шестидесяти в буром байковом халате, читал толстую книгу и курил трубку. Курил он здесь давно и много, под потолком слоями висел дым, а от застарелого прогорклого запаха у гостя запершило в горле.
— День добрый, Константин Васильевич. Как поживаете?
— Вашими молитвами. Впрочем, не уверен, что православный может благоденствовать молитвами иудея…
— Ну, опять вы за свое. — Агранов ногой подвинул к себе табурет, сел, снял шляпу. — Я уже не раз вам объяснял, что иудеем называть меня неправомерно. Во-первых, я крещеный, а во-вторых, являясь интернационалистом, вообще не признаю национальность как таковую…
— Да мне, собственно, и наплевать. Пожрать чего-нибудь привезли? И табаку. Уже кончается, а без курева я не могу. Без хлеба обойдусь, без табака нет.
— Все привез. И еду и табак. Но вы ж и меня поймите. Революционный народ голодает, а вы — старый народоволец — требуете ветчины, колбасы, сыра, яблок… Это сложно, когда даже предсовнаркома довольствуется рабочим пайком.
— Яков! Мне и на это тоже плевать. Вы хоть все там подохните за свою идею. А я не желаю. Ты меня заточил в узилище — ради бога. Оно как бы и лучше. Лежу, читаю, курю, с тобой вот беседую и избавлен от проблем жизни при вашем военном коммунизме.
Сторож отворил дверь и подал Агранову туго набитый саквояж.
Узник мезонина отщелкнул его замки, вывалил на стол завернутое в промасленную бумагу содержимое, осмотрел, обнюхал даже, отодвинул в сторону.
— Так. Считаем, что свое слово вы пока держите. И что дальше?
— А дальше потребуется конкретная работа. Теоретические собеседования отложим до следующего раза, как бы они ни были увлекательны. Постарайтесь доказать, что я не зря вас кормлю провизией, словно и не существующей в природе для граждан Советской республики, обеспечиваю совсем неплохой пансион, а также спасаю от военного трибунала, приговор которого нам обоим очевиден…
— Витиевато выражаешься, Яков, что, впрочем, неудивительно для достигшего высоких чинов недоучки.
Как ни странно, но казалось, будто агрессивное поведение собеседника совершенно не задевает Агранова. Похоже, ему это даже нравилось.
А тот продолжал, вновь разлегшись на кровати:
— И не от большого ума ты пытаешься меня пугать трибуналом. Напугать меня вообще невозможно ничем. Я сотрудничаю с тобой исключительно по своей доброй воле. Ты мне интересен, а вдобавок — полезен. Если угодно, я на тебе паразитирую. Положение же паразита, наряду с явными преимуществами, имеет и ряд недостатков. Один из них — некоторое ограничение личной свободы. Но опять же — есть ли это в полном смысле недостаток? — Судя по появившимся в голосе Константина Васильевича ноткам, по особым образом заблестевшим глазам, случайно подвернувшаяся тема его увлекла, и он явно готов был углубиться в тщательное и неторопливое изучение проблем паразитизма в биологическом и социальном планах.
Агранову пришлось его вежливо, но решительно остановить:
— Сейчас меня интересует несколько другое. Практическое применение ваших изысканий в области этих «Воображаемых миров»… Насколько я понял и запомнил своим слабым разумом, вы говорили, что, проникнув в один из них, способны наблюдать наш действительный мир как бы извне, с точки зрения более высоких уровней.
У Агранова явно не хватало слов, он помогал себе жестами, мимикой, междометиями:
— Ну, как если смотреть на географическую карту сверху, мы видим всю местность сразу, а находясь на ее поверхности, поле зрения ограничено горизонтом и деталями рельефа…
Константин Васильевич наблюдал за его мучениями с интересом, но попытки как-то помочь не предпринимал.
— И вот если это действительно так, то, наблюдая хотя бы не весь мир, а некоторую ее часть из вашего «Воображаемого мира», способны вы проникнуть в какие-то тайные для всех обычных людей вещи, пронаблюдать за сочетанием причин и следствий?..
После еще нескольких столь же корявых и одновременно обтекаемых фраз собеседник не выдержал:
— Да хватит тебе, Яков, вокруг да около… Не пытайся рассуждать о чуждых тебе категориях. Спроси просто: «Константин Васильевич, владеете ли вы даром ясновидения, способны вы предсказывать будущее и объяснять смысл настоящего?» И я тебе отвечу: «Да, но при определенных условиях. Я не жрец, не Пифия и не Оракул. Я проник, нет, вернее прикоснулся к таким тайнам бытия, для которых в русском языке не существует и терминов. Мне еще предстоит систематизировать известные факты и гипотезы, создать для них понятийный аппарат. Скажи, что тебя интересует, тогда я подумаю, возможно это или нет».
Ответ старика, похоже, не удовлетворил Агранова. Раскрывать свои тайны без гарантий успеха ему не хотелось. Но и выбора у него тоже не было.
— Меня твои дела не интересуют. Мне куда больше хочется заниматься собственными исследованиями. Однако, даже не располагая фактами, только наблюдая за эманацией астрального тела, я догадываюсь, какого рода заботы тебя гнетут, — поощрил чекиста на откровенность Константин Васильевич. — И готов тебе помочь. Только без конкретных фактов мои слова окажутся тебе не более полезными, чем прорицания Дельфийского оракула. Или гадание цыганки.
— Что ж, попробуем. Только уж вы постарайтесь. В случае чего цыганка действительно дешевле обойдется. Сначала подумайте вот о чем… — И Агранов почти дословно повторил старику то, о чем говорил с агентом. Исключая, конечно, рассуждения о перспективах советской власти.
— Так-так… Посмотрим, что тут можно сделать. Только ты, Яков, спустись-ка вниз. Там подожди. Мне минут на сорок нужно одному остаться.
— Откуда это вы знаете, что именно на сорок? А не на десять, не на два часа?
— А не в свое дело не лезь. Если не заладится, и до утра ничего не узнаем. Иди, одним словом…
Ждать Агранов умел. Вернее, с толком использовать время ожидания. Спустившись в по-мещански обставленную гостиную, он улегся на диван с круглыми валиками и подушечками в кружевных наволочках, сбросил шевровые ботинки на резинках, положил у изголовья снятый с предохранителя пистолет и почти мгновенно заснул, едва слышно посвистывая носом.
Проснулся он тоже мгновенно, взглянул на стенные часы, удовлетворенно кивнул. Прошло именно то время, что он себе назначил.
Старик выглядел встревоженным. Он больше не сибаритствовал на кровати, а ходил из угла в угол комнаты, размахивая зажатой в кулаке трубкой и что-то бормоча.
— Черт тебя надоумил связываться с этими людьми?! — без предисловия набросился он на Агранова. — Другого занятия себе не нашел? Ловил бы своих саботажников и контру…
— Да что случилось-то? — Чекисту передалась тревога «ясновидца».
— Хотел бы я сам это знать. Я, как обычно, вошел в транс, включился в Мыслесферу Земли… Тебе не понять, как это грандиозно. Это как симфонии Скрябина. Море света, море огня. Видишь, чувствуешь, понимаешь неизмеримо больше, чем в состоянии объяснить. Растворяешься в мыслях и эмоциях… Да что я тебе говорю, я вижу сейчас и твой мысленный фон, ты, как старое бревно в лесу, темен и неподвижен. Но и в тебе есть толика нужной силы, и ты в состоянии включиться в игру высших сфер. Только на пользу ли тебе это будет? А эти? Да, я проник… Я не понял, куда. Сгущение энергий, фиолетовые и синие водовороты… Миры сдвигаются… Возникают новые вероятности. К нам пришло чужое… Я не знаю, как это объяснить… Ты вмешался в непонятную жизнь. То, чем ты сейчас занялся, настолько превосходит мое понимание… Нет, это тоже неправильно. Те, кого ты мне назвал, — они не люди. Потому я так легко их нашел. Как в зоопарке — в клетке с обезьянами — медведь, его увидишь сразу. А откуда он там, почему?
— Вы что, бредите, Константин Васильевич? Вам плохо? — спохватился Агранов, увидев, что его собеседник начинает трястись, словно перед началом эпилептического припадка.
— Отойди, Яков, не мешай… Ты понимаешь — другое, другое приходит в наш мир, неправильно, все неправильно, не так…
Агранов ударил его по щеке, плеснул водой из графина в лицо.
Минуту-другую старик еще пребывал в своеобразном трансе, как шаман в процессе камлания, а потом медленно вплыл в реальность.
— Вы что-нибудь помните, что с вами было?
Старик помотал головой. Неверным движением сгреб со стола выпавшую из руки, еще дымившуюся трубку, несколько раз шумно, с чмоканьем затянулся, пока не извлек нужную порцию дыма.
— Ох, Яков, и вправду… Что-то плохо мне стало. Валерьянки бы или лучше водочки…
— Сейчас!
Он крикнул охранника, тот, невзирая на царивший в республике «сухой закон», принес бутылку разбавленного спирта, и прорицатель жадно выпил больше полстакана.
Порозовел, успокоился, вновь приобрел способность говорить здраво.
— Удружил ты мне, Яков, прямо скажем — удружил. Никогда я такого не переживал. Понять ты меня не поймешь, и стараться нечего, однако интересно. Людишки-то твои — нездешние, совсем нездешние. Не представляю, откуда они взялись, может быть, вроде меня, из других миров проникли, только связываться тебе с ними… Нет, не могу сказать, тут еще думать, изучать надо. Ты мне время дай, я поразмыслю, еще понаблюдаю. Нет, я тебе благодарен, совсем новые стороны в моих идеях открываются. Слушай, Яков, ты же все можешь, тебе такие силы подчиняются. Доставь мне одного из этих человечков, век буду благодарен. В нормальном мире они самые обычные люди, в духовных только сферах другие. Сможешь ты… Смерти, пули они так, как и мы, боятся. Постарайся. А уж я бы с ними поговорил…
Агранов видел, что старик, выйдя из транса психического, так же стремительно впадает в самое обычное алкогольное опьянение. То ли с голодухи — не ел он как минимум сутки, то ли по свойству организма. Но сказал он достаточно. Меньше, чем чекист рассчитывал, но и того, что стало известно, хватит, чтобы строить дальнейшие планы.
Главное, он был прав, угадав в появившихся на Хитровке «бандитах» необычное.
И сам Константин Васильевич сказал, что обладает он, Агранов, психической силой. Ну, вот и посмотрим, у кого ее больше.
Пусть Вадим поработает, а там поглядим…
Агранов вышел из особняка в приподнятом, боевом настроении, что и неудивительно. Человек, сумевший за каких-то два года создать мощнейшую в мире тайную полицию (а его секретно-политический отдел занимал в структуре ВЧК положение, абсолютно аналогичное немецкому гестапо, что есть сокращение от гехаймештатсполицай — Государственная тайная полиция, она же — 4-е управление РСХА), не мог не испытывать склонности к острым ситуациям и именно в борьбе и интригах находить радость жизни.
Теперь у него появилась еще одна точка приложения сил.
Но лишь еще одна. Были и другие, может быть — куда более важные. Например — его очень волновала загадка сбоя в давно и тщательно спланированной «системой» акции по международной изоляции последнего серьезного очага белогвардейского сопротивления. О меркуловском Владивостоке пока можно не беспокоиться. Туда уже направлены надежные люди. А вот что происходит вокруг Крыма? Врангель — никто. Меньше, чем пешка. А узнать, кому он вновь понадобился, кто решил разыграть его против «системы», не знающей и не терпящей оппонентов, — это задача. Для чего в это дело решили вмешаться американцы? И на каком уровне — государственном, в пику союзникам, или проявился чей-то частный интерес?
И узнать нужно раньше, чем это станет понятно всем прочим. Узнать и понять, не пора ли менять флаг.
Эта мысль вдруг отозвалась тошнотным чувством внизу живота. Еще вчера ему и в голову не пришло бы, что можно рассчитывать сыграть даже не против, а просто отдельно. Что же изменилось теперь?
«А ведь изменилось», — подумал Агранов. Он еще не знал, кто повлиял на него сильнее — полусумасшедший профессор Удолин, частнопрактикующий маг, или мысли о тех неведомых людях, в логово которых он послал своего лучшего агента.
«Они не отсюда» — что-нибудь да значит это выражение?
Глава 19
Вечером в комнате с занавешенным окном Новиков развернул перед капитаном Басмановым сложенный гармошкой общий план Кремля и предложил на досуге подумать о вариантах действий, если вдруг появится необходимость захвата данного объекта наличными силами. Прикинуть состав и задачи боевых групп, ожидаемую потребность в боеприпасах и снаряжении, рассчитать по времени фазы операции.
Басманов, приподняв бровь, какое-то время молча смотрел на Андрея, постукивая папиросой о край заменяющей пепельницу консервной банки, потом произнес с неопределенной интонацией:
— Я всегда считал, что вы человек рисковый, Андрей Дмитриевич. Однако не до такой же степени! Ваш замысел я вроде бы понимаю. Не тут ли клад спрятан, о котором вы на корабле говорили? А что же до естественного конца большевиков подождать не хотите? Недолго уже, кажется. Или не уверены? Сроки какие-нибудь поджимают?
Новиков снова, в который уже раз, удивился, насколько «несвоевременный» человек этот гвардейский капитан. Самый ему близкий из всех офицеров батальона по интеллектуальному уровню и типу психики, словно действительно родом из середины двадцатого века, а не конца девятнадцатого. И в то же время таящий в глубине души какие-то совсем чуждые Андрею черты. В том ли дело, что представляет он совсем другую генетическую ветвь русского народа, связан эйдетической памятью с пресловутым оппонентом Ивана Грозного князем Курбским и его соратниками?
— Впрочем, не мое это дело. — Басманов моргнул, глаза его вновь стали спокойно-безразличными. — Договор я помню. Только вы уж, пожалуйста, уточните — подумать на досуге или вплотную заняться подготовкой операции? Для меня тут есть разница.
— Второе. Однако хотелось бы сначала узнать ваше личное мнение. До того, как приказ отдать.
— Задача сложная, конечно, но с нашим снаряжением и подготовкой выполнимая. Правда, если ее предстоит выполнять мне, считал бы целесообразным согласовать начало действий с генеральным наступлением на Москву. И суматохи у красных побольше будет, и в осаде меньше сидеть придется.
— Вы были бы совершенно правы, Михаил Федорович, но при двух условиях. Если генеральное наступление вообще в этом году начнется, в чем я пока до конца не уверен. И если бы нам знать подлинные оборонительные планы красных. А вдруг с началом наступления Московский гарнизон займет позиции на внутренних обводах, в том числе по бульварам и непосредственно на Кремлевских стенах? Вот тогда захватить их без шума будет действительно трудно. И еще — правительство Совдепов наверняка предусматривает возможность эвакуации. А вот это как раз неплохо бы предотвратить…
— Ах, даже таким образом? — с очевидной заинтересованностью сказал капитан. — То есть в случае успеха длительная оборона Кремля не является обязательной? — На его губах появилась недобрая усмешка. Что тоже было неожиданным, поскольку Басманов казался Новикову человеком, удивительно для своего нынешнего положения и биографии мягким и неозлобленным. Отнюдь не забывшим, что такое дворянская и офицерская честь.
— В тактическом смысле, конечно, выгоднее бы удержать Кремль до подхода главных сил. А в политическом — нет, не является. Если сумеем сделать то, на что вы, кажется, намекаете.
— А я, знаете ли, Андрей Дмитриевич, как-то так полагал, что вы всякими либеральными идейками увлекаетесь. Насчет Гаагских конвенций, правосудия и прочей ерунды.
— Ошиблись, получается, господин капитан?
— Тем лучше, Андрей Дмитриевич, тем лучше… Да, вот еще что я вам хотел сказать. Сейчас это приобретает особую важность. Надо вам с Александром Ивановичем отсюда уходить…
Слова Басманова настолько точно совпали с их собственными рассуждениями, что Андрей понял — время действительно пришло.
— Ежели что случится, когда вас здесь не будет, — ничего страшного. Наше дело солдатское. Прорвемся и красных накрошим бессчетно. А вот если, не дай бог, вы под пулю попадете, я и не знаю… — Капитан спохватился, что слова его могут быть истолкованы как слишком подобострастные, и он, как сумел, поправился.
— То есть нам-то ничего, в городе повоюем, при необходимости к фронту пробьемся, а дела того не выйдет… Я же к вам не просто так служить пошел, мне ваши замыслы очень интересны. Жалко будет, если не осуществятся. Одним словом, подыскал я кое-что. У корнета Ястребова тетушка здесь живет. Вдова довольно известного врача. Домик у нее свой в Самарском переулке. Большевики ее не реквизировали и не уплотнили… — Эти вошедшие в обиход термины Басманов произнес с брезгливостью. — Ее муж какого-то Семашку лично знал, тот и выдал охранную грамоту. Мы там вчера были. Очень милая дама. Согласна вас на постой принять. Одеты вы сейчас подходяще, подозрений не вызовете. А корнет при вас останется для охраны и связи. Согласны?
Шульгин, не принимавший участия в разговоре, незаметно подмигнул Андрею, мол, а я тебе что говорил, и ответил Басманову, не став изображать оскорбленное благородство: — Зачем же спорить, если для пользы дела? Только сначала нужно и нам туда сходить, познакомиться, присмотреться. Чтобы и женщину не подставить, и самим не влезть, куда не надо.
Новиков корнета Ястребова помнил. Аккуратный, миловидный, слегка даже похожий на девушку. В отряде выделялся тем, что был единственным из последних, семнадцатого года, выпускников Пажеского корпуса, сумевшим после октябрьского переворота бежать из Петрограда на Дон и получившим офицерский чин лично от генерала Корнилова. Кроме того, корнет славился как непревзойденный стрелок. Из обычной драгунки, без всякой оптики попадал в цель с первого выстрела чуть не за версту. Почему и был включен в состав московского спецотряда.
За обсуждением вариантов, своеобразным «мозговым штурмом», просидели почти до утра. Наметили основной план и два запасных, которые показались бы совершенно невозможными нынешним командирам кремлевского гарнизона, если они вообще предполагали возможность прямого военного нападения на резиденцию советского правительства.
По первоначальным прикидкам боеприпасов должно было хватить до момента перехода на трофейное снабжение. А уж дальше, как любил выражаться по каждому удобному случаю Берестин, бой покажет.
Проснулись они от осторожного стука в дверь. Часы показывали половину одиннадцатого.
— Тут, прошу прощения, — сказал, осторожно вдвигаясь в комнату, исполнявший обязанности коменданта базы поручик Рудников, — такое дело. Прибежал Штырь, ну, один из шестерок наших, говорит, что появился серьезный человек, вроде как из московских деловых, ищет выход на нашего пахана. Плотные люди, мол, его рекомендуют…
— Ага! — Шульгин торопливо натянул сапоги, потер руки, словно человек, предвкушающий выпивку в хорошей компании. Стал сбоку от окна, приподнял край занавески, выглянул на улицу.
— Не беспокойтесь, вокруг все чисто, мы уже проверили, — успокоил Рудников.
— Видишь, Андрей, интуиция — великая вещь. И делать ничего не пришлось, без нас сладилось. Что за человек, кто его видел? — спросил он поручика.
— Да этот, что прибежал, он и видел. Говорит — молодой, фартовый. Портрет его здешнему народу незнакомый, однако вроде за марьинорощинского канает.
— Лексика у вас, Виктор Петрович, — барственно поморщился Шульгин.
— Иначе невозможно. Необходимо соответствовать-с.
— Я понимаю. И где он сейчас?
— Я велел пока попридержать. Не совсем внаглую, а так, аккуратно ребята вола пасут, то есть время тянут. Просят распорядиться — перо в бок или по-другому как?
— М-да… Знаешь, Виктор Петрович, давай вот что сделаем. У нас здесь свободных людей сколько?
— Да человек пятнадцать. Остальные в городе, как вы велели. Присматриваются, знакомых ищут…
— Значит, так. По одному человеку в полном боевом выставьте ко всем дверям и окнам, ко входу и выходу из подземного хода. А вы с капитаном и еще двое-трое, у кого вид подходящий, ну, с похмелья вроде, организуйте примерно такую мизансцену, как здесь к нашему приходу была. Самогонкой рты прополощите, можно и глотнуть, но только по чуть. Пусть этого человека к вам приведут. Побеседуйте с ним, без грубостей, но жестко. А мы с Андреем Дмитриевичем из-за занавесочки послушаем. Надо будет — вмешаемся. Я так понимаю, что ВЧК знакомиться пришла.
— Да откуда ЧК, Александр Иванович? Я, наоборот, считаю, в натуре от солидной шайки парламентер прибыл.
— Дай бог. Вот вы и выясните. А мы поглядим…
Появление «человека со стороны», хоть и входило в их планы, как раз сейчас было совершенно некстати. Новиков надеялся, что дня два у них еще есть, и хотел за это время подготовку к штурму закончить. Чтобы в случае чего Басманов мог захватить Кремль самостоятельно. И вообще он предполагал, что выход на контакт интересующей их организации будет обставлен несколько иначе. Но выбирать не приходилось.
Вошедший в комнату человек на простого, затрапезного вора и в самом деле походил мало. Сразу чувствовалась в нем определенная культура, образованность и большая уверенность в себе. Так держатся люди, за спиной которых стоит серьезная сила. Одет он был не с чужого плеча. Не слишком новый, но аккуратный шерстяной костюм, расстегнутое полупальто в клетку и большая английская кепка сидели на нем привычно. Ходить в таком виде по городу и то надо иметь смелость — если не разденут в подворотне, так бдительные патрули заметут. И руки у него, как заметил Андрей, были чистые и несуетливые. Такие могли принадлежать опытному карманнику или шулеру.
Войдя, он поздоровался, внимательно и цепко осмотрел комнату, почти не поворачивая головы, потом без приглашения подсел к столу и снял кепку.
«Решительный товарищ, — подумал Новиков. — Цену себе знает и не боится, хотя и пришел один, и должен понимать, что здесь ему никто в случае чего не поможет. Интересно, на какие-такие собственные таланты он рассчитывает? Правда, если он настоящий вор и считает, что к ворам пришел, тогда бояться ему в самом деле почти нечего».
Рудников за отпущенное короткое время сумел проявить себя недюжинным режиссером. Стол красноречиво говорил о длящейся не первый день пьянке. Кроме огрызков и объедков, разбросанных по столу и вокруг, он раздобыл где-то целую кучу окурков, которые заполнили все подходящие посудины. Статисты тоже были подобраны со вкусом. Лишь Басманов, пристроившийся с уголка, несколько выделялся неискоренимой гвардейской статью, но и у него свисала из-под усов изжеванная папироса и подрагивал в руке недопитый стакан самогона. Этакий подполковник Pощин в исполнении артиста Гриценко в сцене ужина с Левой Задовым.
Гость назвал себя. Не кличкой, как ожидалось, а обычным, хоть и не слишком распространенным именем — Вадим.
— Ну и что? — дернув шеей, спросил страховидный Рудников. — Мы тебя не звали. Нам чужих не надо, своей швали полно. А коли пришел и по дороге не подрезали, говори зачем. Только у нас так — за вход рупь, за выход два.
— Подрезать меня, скажем, не так и просто. Деловые меня без правежа не тронут, а с мелочью я уж как-нибудь. Но это разговор сейчас ненужный. Я себя назвал, хотелось бы обоюдности. Иначе неудобно получается.
— Что и когда неудобно, мы без тебя знаем. Нам твои удобства до того места. Ладно — я Мизгирь. Приходилось слышать? Остальных тебе знать ни к чему. Базарь дальше…
— Мне кажется, господа, в таком тоне у нас беседа не получится. У вас кликухи, у меня тоже имеется. Только ведь мы не на малинах родились, умеем и по-другому говорить. Может, и не стоит язык ломать, тем более у вас по фене, как у меня в гимназии по-латыни получается.
Рудников поперхнулся, побагровел лицом, плюнул с досады на пол. Басманов едва заметно усмехнулся.
— Насчет латыни — твое дело. Нам оно пока без интереса. Я, может, вообще на попа обучался. Выпьешь? — Он подвинул Вадиму полный, обдуманно налитый с мениском стакан.
Гость легко выпил, не расплескав, подцепил вилкой квашеной капусты, прожевал неторопливо.
— А вы что же?
— Нам пока хватит. Глядишь, на поминках еще пить придется. Дальше говори.
— Хозяин — барин. Покурим? — Вадим протянул через стол деревянный портсигар.
— У нас свои.
Гость сделал медленную, глубокую затяжку, выпустил дым сразу ртом и носом. Здесь это, очевидно, считалось шикарным.
«Переигрывает, — продолжал анализировать поведение гостя Новиков. — Он сейчас вообразил, что первый контакт налажен, и будет форсировать предполагаемый успех».
Так и вышло. Вадим начал уверенно, с напором объяснять, что представляет очень серьезных и авторитетных в Москве людей, которые заинтересовались появлением в городе новичков и считают, что у них могут найтись взаимные интересы. Предлагают встретиться, поговорить, обсудить намерения, возможно, предусмотреть разделение сфер влияния или, наоборот, договориться о совместной деятельности. Москва большая, дела в ней всем хватит, и без нужды дорогу друг другу переходить не стоит.
— Смутно говоришь, парень. — Рудников кашлянул, как бы давая понять командирам, что не слишком понимает, как дальше строить беседу. — Имеешь что предложить — давай прямо. Что за люди, какими делами занимаются, нам что хотят отдать, что с нас поиметь? Выкладывай все, а мы думать будем.
Басманов, подперев щеку кулаком, слушал, не вмешиваясь в разговор и даже, похоже, борясь с одолевающим его сном. Трое остальных офицеров на самостоятельные роли не претендовали, пользуясь случаем, выпивали как бы между прочим, отхлебывая самогон, словно чай. В отряде по приказу соблюдался «сухой закон», а тут сам бог велел. Опять же и для полной сценической убедительности.
— Скажу все, что нужно. Только говорить мне приказано с вашим самым старшим. Как он прозывается — пахан? Или атаман? — улыбнулся слегка, предлагая оценить юмор ситуации и одновременно давая понять, что ни Рудникова, ни статистов он всерьез не воспринимает.
Басманов чуть заметно наклонил голову и сделал рукой короткий жест, повинуясь которому три офицера дружно поднялись и вышли, демонстративно покачиваясь и сбивая по пути табуретки. Один из них непринужденным движением прихватил с собой почти полный штоф.
— Ну? — не повышая голоса, спросил Басманов.
Он, кажется, показался гостю более убедительной фигурой.
— Я понимаю, господа, что ошибка может мне дорого обойтись, но другого выхода нет. Вы ведь здесь все офицеры?
— Кто мы и что, тебя не касается, — отрезал Рудников, хотя в признании или отрицании этого предположения не было никакого смысла. Среди бандитов и грабителей происхождение в то время роли не играло.
— Согласен. Как представителя пославших меня людей действительно не касается. Но я тоже бывший офицер, правда не кадровый, а всего лишь прапорщик военного времени, производства шестнадцатого года. Служил в Самурском полку, на Галицийском фронте. Имею «клюкву» (то есть орден Святой Анны 4-й степени, обозначавшийся красным темляком на шашке).
— Хороший полк, — кивнул Басманов, — однако сей факт вашей биографии отнюдь не объясняет ныне происходящего.
— В некоторой степени объясняет. Меня потому и прислали, предполагая, что с бывшими товарищами по оружию мне будет говорить проще, чем кому-то другому. Так что предлагаю окончательно отказаться от блатного антуража и поговорить серьезно.
— Да ведь с тобой, господин бывший прапорщик, никто и не шутит, — не захотел принять предложенного тона Рудников. — Условие остается прежним: ты четко объясняешь, какого… тебе здесь надо, или… — он развел руками. — Причем объяснения должны быть оч-чень убедительные.
— Будь по-вашему. — Вадим повернулся к Басманову и обращался теперь только к нему одному. — Если вы на самом деле теперь просто бандиты, мои дела плохи. Если нет — мы должны найти общий язык. Дело в том, что я к вам пришел по поручению действительно весьма серьезных людей… — Он сглотнул, и с расстояния в пять или шесть шагов Новиков отчетливо увидел, что сейчас гость занервничал по-настоящему. — Самых серьезных в Москве. Из ВЧК…
— Миленький! — расцвел в широченной улыбке Рудников. — Какой ты молодец, что сам пришел! Уж кого я люблю кончать, так это вашего брата. Я вот, дело прошлое, в контрразведке раньше работал, чего уж теперь скрывать, между своими-то! Думал, если еще придется встретиться, так там только, у вас, ан нет… Славненько!
— Подождите, поручик, — остановил его Басманов. — Пусть заканчивает. Не самоубийца же он, значит…
— Совершенно верно, господин… подполковник? Да, работаю в ВЧК. Числюсь в секретно-политическом отделе. Если вы в курсе, то понимаете, работа там чисто умственная, кровью не запачкан…
«Похоже, правду говорит, — продолжал фиксировать идеомоторику гостя Новиков. — Книжек про шпионов ни он, ни его начальники пока не читали, значит, сами придумали. Круто рискнули, расчет на весьма серьезного противника. Однако первый прокол уже есть».
— Вы, наверное, не учли, — стараясь говорить размеренно, не суетиться и не нервничать, раскручивал свою заготовку Вадим, — вся Хитровка под нашим контролем. Сообщение мы получили в тот же вечер. И сделали выводы. Источник у нас опытный, да теперь я и сам вижу. Вы меня простите, но, глядя на вас, невозможно поверить, будто вы способны грабежом промышлять…
— Ну, кто из нас грабежом промышляет, мы сейчас уточнять не будем, — спокойно ответил Басманов. — Вы лучше четко, не отвлекаясь, изложите свою легенду. После чего мы «сине ира эт студио», что на малоизвестной вам латыни означает «без гнева и пристрастия», определим вашу личную судьбу и судьбу ваших предложений. Итак?
Шульгин толкнул Новикова локтем в бок. Да Андрей и сам увидел, что пора вмешаться. Самодеятельность закончилась. Теперь требуется иной стиль и уровень, чем у фронтовых офицеров, а одна-две неудачные фразы могут испортить перспективную игру. Но все равно, не ко времени она сейчас. Разве только… Совершенно неожиданно ему пришла в голову мысль оригинальная и, пожалуй, могущая привести к той же цели совершенно с другого конца.
Причем на первую роль следует выдвинуть Сашку. Он проведет партию поизящнее, вернее, более иезуитски.
— Давай, работай, — шепнул ему Новиков и отодвинул занавеску.
Шульгин поправил чуб, решительно подошел к столу, коротко кивнул всем присутствующим.
— Михаил Федорович, — обратился он к Басманову, — вы извините, ради бога, но мне кажется, что этот товарищ скорее по нашему ведомству, чем по вашему.
Басманов с готовностью и видимым облегчением встал, несколько преувеличенно вытянулся, прищелкнул каблуками. Пошел к дверям, за ним молча и послушно — Рудников. Лишь Вадим остался сидеть, переводя взгляд с Шульгина на Новикова.
Сашка задвинул за офицерами массивную щеколду, вернулся, брезгливо поморщился при виде неэстетичной сервировки стола.
— Прошу, — указал он в сторону своей комнаты. — Там будет удобнее. И вот что — не нужно так старательно изображать невозмутимость и хладнокровие. Расслабьтесь, легче думать будет.
За окном сильный ветер гнал по небу рваные тучи, солнце то проглядывало на минуту, то вновь скрывалось, и от этого освещение в комнате все время менялось, создавая ощущение неуверенности и тревоги.
Новиков учел этот эффект и усилил его, сев на подоконник спиной к свету, чтобы выглядеть темным силуэтом с неразличимыми чертами лица. Достал из кармана трубку, принялся ковырять в ней пружинным ножом. Все лишнее из комнаты было заблаговременно убрано, осталась только одежда на гвоздях да небрежно брошенная на матрас карта Москвы.
Шульгин любезно подвинул Вадиму табурет, сам сел напротив, опершись спиной о стену. Получилась классическая композиция, разве без направленной в глаза лампы, но и так чекист оказался в психологически неудобной позиции: за спиной полуоткрытая дверь, впереди окно и Новиков на фоне решетки, Шульгин сбоку.
— Вот теперь и поговорим. — Сашка достал свой золотой портсигар, пустил невзначай «пациенту» зайчик в глаза.
— Угощайтесь, получше ваших будут. Пепел можно прямо на пол, здесь так принято. Так на чем вы остановились? Получили информацию о подозрительных офицерах, доложили по начальству, проработали варианты — и вперед? Рисково, даже слишком. Легенда, скорее всего, простейшая — бывший офицер, в ЧК пришел из романтических убеждений. Народная революция, свобода, необходимость защитить власть трудящихся от царских сатрапов. За два года, столкнувшись с кровью и грязью красного террора, осознал ошибку, искал выхода, а тут такой удачный случай… И вот он я, господа, в вашей полной власти. Можете казнить, но имейте в виду, что лучше не спешить, я вам еще пригожусь. Да, нет?
И, не дожидаясь ответа, продолжал в стремительном темпе, чуть подавшись вперед и глядя на чекиста с усмешкой, вполне добродушной и сочувствующей:
— На что вы с вашими начальничками рассчитывали? Ну, они-то ладно, они сейчас в кабинетах сидят, за толстыми стенами и охраной, а вам каково? Мизгирь, он же поручик Рудников, человек страшный, жестокий, от вашей власти натерпевшийся, вдобавок — почти лишен положительных эмоций и фантазии. Он бы вас независимо от легенды и даже вопреки собственной пользе ликвидировал. И был бы совершенно прав. Профессионально. На кой вы нам? Мы же не стратегическая разведка. И далеко не толстовцы. Ваша помощь нам просто не нужна, тем более что и легенда не проверяема. Начинать сейчас с вами игру — бессмысленно. Риск не окупится, тем более что через неделю белая армия все равно возьмет Москву, и начнутся совсем другие игры. Поэтому вопрос — вы дурак? Не пославшие вас начальники, а вы лично? Или у вас действительно есть идея, против которой не устоит даже наш поручик? Отвечайте!
Чекист вздохнул, щелчком сбил пепел с папиросы.
— Что отвечать? В вашем варианте вы совершенно правы. Все почти так, как вы сказали. И риск того, что меня убьют без особых разговоров, я предусматривал. Но и на свой шанс тоже рассчитывал. Жизнью я дорожу не слишком. Человек, который добровольцем идет на фронт, уже в какой-то мере самоубийца. Прапорщик, как вы помните, жил на передовой до смерти или ранения в среднем двенадцать дней.
Если ваши Москву займут, мне тоже рассчитывать особенно не на что. По чердакам и подвалам скрываться? Или в леса уходить? Это не по мне. Не тот характер.
— Ну-ну, — не то поощрительно, не то насмешливо проронил Новиков со своего подоконника. Вадим повернулся к нему, ожидая продолжения, но Андрей ничего не добавил, шумно продул вычищенную трубку и принялся ее старательно набивать из кисета.
— Это нам как раз понятно, — кивнул Шульгин. — Только разница все же есть. И мне интересно, какой вы с вашим руководством придумали ход, чтобы даже такого костолома, как Мизгирь, удержать от естественного душевного порыва?
— Вы не поверите — никакого. Во-первых, на Мизгиря расчета вообще не было. Мы знали, что в группе есть люди другого уровня. Хотя бы давешний подполковник. А во-вторых, я не имел задания выходить на прямой контакт, должен был работать нелегально, под прикрытием здешней агентуры, и лишь после специальной подготовки… сделать так, чтобы вы сами мной заинтересовались. Я же решил сразу раскрыть карты. Тем более в листовке генерала Врангеля обещано полное прощение бывшим офицерам, которые немедленно перейдут на вашу сторону. Вот я и рискнул.
— Неубедительно, юноша. Не тот случай. Не спорю, ребята у вас в ЧК рисковые попадаются. Знал я одного, но тот работал куда чище…
— Но вот вы же со мной пока разговариваете, значит, не все потеряно.
Шульгин очень естественно рассмеялся.
— Вот-вот. Это у вас уже второй вариант пошел. Да, разговариваю. Потому что я специалист совсем в другой области, чем вы с вашим… Кто у вас начальник?
Вадим ответил.
— Яков Саулович? Как же, как же, слышал. Вот с ним вы и планировали, и расчет у вас был примерно на капитана Басманова, которому идея использовать настоящего чекиста, даже не доверяя ему, могла показаться заманчивой. Правильно? Но я нечто другое и разговариваю с вами исключительно из любопытства. Изучаю, если угодно, методику работы и психологию таких, как вы. Для чего вы мне можете пригодиться?
— Да хотя бы для того, что я могу вам изложить подробные характеристики на большинство руководящих работников ВЧК и МЧК, раскрыть многие явки, секретную агентуру, вывести на архивы. Все это вам будет очень полезно, когда ваши возьмут Москву и придется чистить город. И о методике, которая вас интересует, могу много чего рассказать…
— Так. Уже теплее. Значит, мы можем сделать вывод, что цель вашего визита — попытка глубокого внедрения на случай падения соввласти. И лица, вас пославшие, готовы сдать многих, кто уже не потребуется в обозримом будущем. Интересно… — Шульгин, весьма довольный собой и собеседником, закурил следующую папиросу, устроился поудобнее на табуретке, что было непросто. — Обратите внимание, это я вам сейчас изображаю реакцию человека, на порядок умнее тех господ, с кем вы начинали беседу, — пояснил он. — В таком варианте я мог бы сохранить вам жизнь, получив кое-какую достоверную информацию, нужную мне сейчас, и нашел бы способ изолировать вас до взятия Москвы, исключив, естественно, какую-либо возможность связаться с начальством. Но это пока лишь второй уровень…
Новиков с увлечением наблюдал не за работой Шульгина, а за поведением чекиста. По едва заметным признакам видел, что тот начинает терять остатки самообладания. Вряд ли он и те, кто помогал ему отрабатывать легенду, не то чтобы учитывали, а хотя бы предполагали существование противника такого класса. И сейчас чекист мучительно соображал — принять ли одну из подсказок или поиграть еще. Парень он, конечно, не слишком заурядный, но партия его проиграна еще до начала. Однако пусть побарахтается. Сейчас он попытается взять тайм-аут.
— Простите, а не могли бы вы назвать себя? — спросил Вадим, облизнув губы. — Крайне неудобно говорить, не зная, как обращаться.
— Называйте меня просто — полковник. Он, кстати, тоже, — Шульгин указал на Новикова. — Очень удобно, не ошибетесь, и имен запоминать не нужно. Однако вернемся к нашим баранам. Уровень второй мы отработали, подумаем о третьем. Оставаться с нами, точнее, в заключении в каком-нибудь подвале на неопределенный срок, вам явно неинтересно. Вам бы лучше сохранить свободу личную и свободу действий. Неплохо, если бы добиться статуса агента-двойника, то есть работать под надежные гарантии на нас и одновременно выполнять задания своего руководства, под нашим же контролем. Из чего вытекает, что с тем же успехом вы можете оказаться агентом-тройником. Это термин несколько искусственный, я под ним подразумеваю, что вы, изображая агента-двойника, все же остаетесь настоящим чекистом. Роль это трудная, требующая тщательной проработки, постоянного учета массы параметров и ситуаций, которые заранее предвидеть невозможно. Обычно такие вещи можно затевать исключительно в стратегических целях, и к ним привлекаются целые группы специально подготовленных людей. В вашем случае это безнадежно. У диверсионного подразделения, вроде нашего, просто не может быть цели, требующей подобной игры. Передать же вас кому-то, в таких играх заинтересованному, у нас нет технической возможности. Чтобы вас через фронт переправить, нужно отдельную операцию планировать.
Вадим выглядел человеком, решившим прокатиться на карусели и вдруг понявшим, что остановить ее он уже не в силах. И голова кружится, и тошнит, и знаешь, что будет еще хуже, а скорость такая, что не спрыгнуть.
Новикову в какой-то момент стало его даже жаль.
— Зачем человека мучаете, полковник, — спросил он Шульгина почти искренне. — Сказать ему явно нечего. Позовите Мизгиря, и пусть кончает. У нас с вами неотложные дела в городе, вы не забыли?
— Воля ваша, — обреченно сказал чекист. — А я все же надеялся, что хоть чем-то смогу быть полезным. Ну, давайте я вам все же расскажу, что знаю, а потом… Ну, как хотите.
— Браво, прапорщик. Это — четвертый вариант. Но ты снова ошибся, к сожалению, в последний раз. В чем тебе не повезло — собеседники попались совершенно нелюбопытные. Этого вы учесть не смогли. Мне ведь глубоко наплевать и на твоих начальников, и на тебя, и вообще на все, что случится в этой стране дальше. Советская власть мне противна, вот я и взялся помогать белым. При их подходе устроим в городе шороху побольше, беспорядков, взорвем что-нибудь. Постараемся не позволить вашим вождям разбежаться с награбленными ценностями. А старая власть восстановится — я снова уеду. Приключений искать. А с тобой мне просто так поболтать захотелось, время скоротать. Что, думаю, за парни такие, от всего человеческого отказавшись, в красные опричники пошли? Оказывается, ничего особенного. При Иване Грозном, пожалуй, поинтереснее персонажи встречались…
Шульгин разочарованно махнул рукой, встал, с меланхолией во взгляде повернулся к Новикову.
— А Мизгиря вы, полковник, сами зовите, мне он тоже скучен…
Андрей сунул в карман так и не использованную по назначению трубку, соскочил с подоконника, вышел из комнаты.
Шульгин сел на его место. Лицо его было спокойным и как бы даже печальным.
«А вот кинется он сейчас на меня или нет? — подумал Сашка. — Лучшего момента ему не представится…»
Вадим продолжал сидеть, как ни в чем не бывало, только сжимал и разжимал пальцы.
— А жили-то вы где, прапорщик? Адресок оставьте. После победы, если сам в живых останусь, могу родственникам сообщить. Так, по-человечески. Могилы от вас не останется, но хоть день и обстоятельства знать будут.
— Из Петрограда я. Мать на Литейном живет. Дом 16, квартира четыре. Самойлова Варвара Диомидовна. Напишите, если вправду такое намерение имеете.
— Чего уж, напишу, раз сам предложил. Вот старушке радости будет — сын умер собачьей смертью за хамскую власть. Лучше бы действительно на Галицийском фронте.
Вернулся Новиков:
— Сейчас будет Мизгирь. А вы, полковник, плесните прапорщику чарочку. Держится он неплохо.
Пока Шульгин доставал из вещмешка припрятанную фляжку, Андрей снова занялся трубкой. Теперь он проверил качество набивки и приготовился ее раскурить, одновременно насвистывая популярную в конце шестидесятых мелодию песенки «Здравствуй и прощай».
— Пейте, Вадим, коньяк хороший. Все, что могу лично, как говаривал один известный генерал. Вы, если б пришлось, мне, скорее всего, не налили?
— На фронте непременно бы налил, а в ЧК и вправду не принято.
За дверью застучал сапогами Рудников. Чекист не справился с дернувшим щеку тиком, судорожно вздохнул и залпом выпил.
Новиков поднял указательный палец.
— А знаете, полковник, мне вот что в голову пришло. Если мы прапорщика все же стрелять не станем?
— Чего ради? Жалко стало или как?
— Или как. Вы ему тут мозги прилично заморочили. Не на всю катушку, но достаточно. А чем другие хуже? Неплохо бы и их поразвлечь. У меня такое предложение — давайте его отпустим. Пусть идет к своим и все расскажет. Что было и не было — на сколько фантазии хватит. А они голову поломают — что это за белобандиты такие, чего им нужно и в чем их настоящий интерес?
— Так через час тут половина ЧК будет…
— Ну мы ж его не сразу отпустим. Нас и след простынет, пока он отсюда выйдет.
— Можно и так. Мне, вы знаете, совершенно ведь одинаково, больше одним красным на свете, меньше… Как комаров в лесу. Только интереса в вашем предложении не слишком много. Мы ведь не узнаем, как там у него с начальством выйдет. Соответственно — нет никакой разницы, уйдет он живой или его здесь прикопают.
— Да и то. — Краем глаза Новиков наблюдал за Вадимом. — Резон в ваших словах есть. Тогда еще предложение. Давайте проиграем самый первый вариант. Мы ему, значит, поверили, якобы завербовали. Даем задание — вернуться на Лубянку, доложить. Что именно — на его усмотрение. Как можно ближе к тому, что они от этой акции ожидали. А завтра в условленном месте он сообщит нашему связному, как все получилось и что думает делать дальше. Устраивает вас, юноша, такой выход?
Цели своей они, безусловно, добились. И заморочили голову чекисту основательно, и нервы на кулак намотали. Разве что выпитые без закуски триста грамм уберегли его от слишком глубокого стресса.
Вытирая со лба крупные капли пота, он сумел-таки выдержать марку:
— Слава богу, господа. Только вы ошибаетесь, я на самом деле хотел вам помочь, ко взаимной пользе.
— Тем лучше, прапорщик, тем лучше. Хоть это и в пустой след. С тем же успехом вы могли бы сейчас выкрикнуть нам проклятие и добавить что-нибудь этакое, р-революционное. Но раз вы искренне с нами, у вас есть возможность слегка подправить свою карму. Поручик!
Вошел Рудников, подбрасывая на ладони десантный нож.
— Тут у нас кое-что изменилось. Сейчас вы с прапорщиком уединитесь, и он вам расскажет, кто тут у них такой спец по белым офицерам. Потом найдете стукача, вместе с Вадимом допросите. И только если абсолютно убедитесь, что тот человек — агент Чека, дадите прапорщику нож или пистолет, на выбор, и пусть он его… — Шульгин сделал рукой характерный жест.
— А вы, Вадим, постарайтесь без глупостей и резких движений. Виктор Петрович человек опытный. Я у вас заранее прощения прошу, поскольку задачу вам ставлю не слишком приятную, но тут уж ничего не поделаешь. Вы себе сами такую роль придумали. Если все удачно пройдет, завтра в восемь вечера кто-то из нас будет прогуливаться по перрону Николаевского вокзала. Приходите лично вы и один. Желаю всего наилучшего и не смею более задерживать. Берегите себя…
Глава 20
Очередной дежурный офицер, фамилию которого Новиков не помнил, посторонился, и они вошли в обложенный кирпичом потайной ход. Стены его облицовывались явно в спокойное, неторопливое время, кладка была четкая, с едва заметными швами. Плавно закругляясь, коридор закончился еще одной дубовой дверью, а за ней в душном туманном мареве плескалась и хлюпала теплая, вонючая подземная река. Протекала она сквозь проложенный, наверное, еще в XVIII веке тоннель диаметром около трех метров. Дышать там можно было, но с тем же удовольствием, что в месяц не мытом вокзальном клозете. По счастью, вдоль подземной реки тянулся приподнятый деревянный настил, по которому можно было идти, почти не пачкая сапог. Новиков вспомнил тоннели другой канализации, в которых он сам, конечно, не был, но видел и представлял по фильмам и книгам о Варшавском восстании. В них люди жили и воевали неделями. Вообразить это было трудно. Луч фонаря расплывался в струях зловонных испарений, сверху гулко капало, стены покрывала отвратительная фосфоресцирующая слизь. То и дело на пути попадались высокие кучи ила, под которыми неизвестно что таилось. Возможно, что и трупы, если вспомнить Гиляровского.
К счастью, метров через пятьдесят жирная, нарисованная копотью горящей резины стрела указала на ржавую железную дверь по ту сторону потока.
Наверх они выбрались в подвалах бывшего Воспитательного дома на Солянке.
Здесь все было иначе. Населяли его бесконечные этажи и коридоры тоже не лучшие представители общества, но все же не воры и грабители, а люди трудовых профессий — портные, перешивающие краденые вещи, сапожники, слесари, исполняющие не только воровской инструмент, но и всякие мелкие заказы для окрестных обывателей, бедные извозчики, пильщики дров, сторожа и подсобные рабочие, не удостоенные чести считаться истинным пролетариатом.
Из этого здания Новиков с товарищами могли уже выйти на улицу, не опасаясь привлечь к себе ненужного внимания.
В ближайшей луже ополоснули сапоги от налипшей дряни, вдохнули свежего, чуть ли не курортного воздуха.
В Самарский переулок пришли, когда уже начало смеркаться. Двухэтажный деревянный дом располагался неподалеку от того места, где находился снесенный вместе с прилегающими кварталами при подготовке к Олимпиаде стадион «Буревестник». Тишина и покой здесь царили, более свойственные какому-нибудь уездному Осташкову. И вполне можно было забыть о революции, гражданской войне и прочих сиюминутных проблемах.
В глубине двора, полускрытый уже потерявшими листву кустами сирени стоял совсем маленький, в два окна флигилек, отведенный для жительства Новикову с Шульгиным. Корнет, чтобы не стеснять их, поселился вместе с родственницами.
Познакомились с тетушкой, Елизаветой Анатольевной, дамой лет пятидесяти, в меру полноватой и по-старомосковскому радушной, а кроме того — с кузиной, Анной Ефремовной, двадцатилетней девушкой с правильным, холодноватым лицом скорее скандинавского, чем среднерусского типа. Пожалуй, ее можно было назвать и красивой, не будь она так демонстративно неприязненна к гостям.
За чаем, к которому Ястребов выставил массу давно забытых в голодной Москве деликатесов, на фоне которых приготовленные хозяйкой из темной муки пироги с капустой выглядели трогательно жалкими, говорили сравнительно мало и на темы нейтральные. Женщины из естественной в красной столице осторожности, а Андрей с Сашкой просто оттого, что не совсем представляли, какой стиль общения будет в данной ситуации наиболее естественным.
Корнет о своем нынешнем положении ничего конкретного родственницам не сказал, и они, не видевшие племянника и брата больше двух лет, в основном радовались, что их Сережа жив-здоров, расспрашивали, что ему известно о судьбах родителей, многочисленных дядьев, теток, сестер и братьев всех степеней, разбросанных, как можно было догадаться, от Пскова до Ростова и от Риги до Иркутска.
Шульгин, по застарелой привычке, почти бессознательно старался произвести впечатление на Анну Ефремовну, используя приемы студенческой поры. Девушку же очевидно раздражала его большевистская экипировка. Однако после осторожно выпитых двух рюмочек ликера она раскраснелась, впервые за вечер чуть ли не через силу улыбнулась, а потом спросила Ястребова, каким образом он, столбовой дворянин и паж, оказался в столь странной компании?
— Аня! — тетушка произнесла это с осуждением и предостерегающе.
Корнет рассмеялся и приобнял кузину за плечи, потом извлек из нагрудного кармана гимнастерки и показал ей на ладони тускло блеснувший серебром «Орден тернового венца».
Очевидно, и в красной Москве значение этого высшего знака отличия Добровольческой армии было известно, а если и нет, то Георгиевская лента не оставляла сомнений. Аня порывисто обняла брата, поцеловала его в щеку и тут же начала внешне спокойным голосом высказывать все, что накипело у нее на сердце за три минувших года. Слова этой девушки вполне могли бы соперничать со строками из дневников Зинаиды Гиппиус или воспоминаний Бунина «Окаянные дни» степенью своей ненависти к коммунистической власти и не по возрасту здравыми политическими оценками.
Она высказала все, что ее так долго угнетало, не только своей сутью, но и невозможностью откровенно излить собственные чувства. Тут же ее лицо стало юным и беззащитным. В присутствии настоящих мужчин ей больше не нужно было быть сильной.
Висящие на стене между двумя окнами часы с оттяжкой пробили десять.
— Ну, вроде пора и честь знать, — сказал Андрей, так ничего и не ответивший на слова девушки. Он только пожалел, что не было с ними рядом Левашова. Отодвинул чайную чашку. — Мы пойдем, если позволите, а вы уж без нас, по-родственному.
Ястребов пошел их проводить до флигеля.
— Смотрите, Сергей, если вы уверены, что никакого риска… А то ведь подставить женщин под пули за неделю до конца… Может, нам лучше уйти все-таки? — спросил Новиков скорее для порядка.
— Зря вы об этом, Андрей Дмитриевич. Меня тут все соседи помнят, и документы у нас лучше настоящих…
Документы Новиков делал сам и тоже был в них совершенно уверен, но его по-прежнему томили смутные опасения, что каким-то образом чекисты могли выследить их и здесь.
Впрочем, кажется, в эти годы филерская служба еще не достигла совершенства, позволяющего без часто сменяющих друг друга автомобилей и иной спецтехники провести подготовленных людей по городу из конца в конец, ничем себя не выдав.
— Ладно, будь по-вашему. Только если что — никакой стрельбы. Собачка тут голосистая, тихо не войдут, а там уж будем отрываться садами и переулками. — Он потрепал по мохнатому загривку крупного шпица, с которым успел подружиться. — Тетушке оставьте заранее свой мандат — якобы для предъявления в уличный комитет или что тут у них, и накажите на допросах держаться твердо: племянник, с восемнадцатого года в Красной армии, приехал на побывку, а с кем был и почему ушел — знать не знаю…
Во флигиле, состоящем из небольшой прихожей и единственной комнаты с низким дощатым потолком, Шульгин занавесил окно и лишь после этого зажег лампу типа «летучая мышь», но в корпусе из красной меди.
— А что, довольно уютно. И можно наконец выспаться в настоящей постели. — Он попробовал, насколько упруга панцирная сетка на узкой железной кровати. — Терпеть не могу, когда провисает. А ты на диване устраивайся.
Новиков, настраивавший рацию, молча кивнул. Он думал, что и тем еще хороша жизнь разведчика в нынешнем времени, что не нужно беспокоиться о вражеских пеленгаторах и возиться с шифрами. Берестин откликнулся минут через десять. В Харькове у него стояла мощная стационарная радиостанция, и слышно его было, как по городскому телефону.
Обменялись текущими новостями, Алексей изложил внутриполитическую обстановку и положение на фронтах.
— А мы тут решили с Сашкой вам изнутри подсобить, — и объяснил Берестину замысел операции, пока без подробностей.
— Интересно. — Голос Алексея не выразил эмоций. Он за последний месяц полностью вжился в роль и мыслил только стратегическими категориями. — Только ведь при малейшем просчете вас там перебьют. Найдется грамотный командир, блокирует в том же Большом дворце и размолотит артиллерией. Терять им все равно нечего…
— Это еще посмотрим. Если б ты нам подкрепления перебросил. Еще человек с полсотни, со средствами усиления.
— Людей найду. А как? Опять с Олегом затевать дискуссии? У него помощь выпрашивать, это как у Черчилля Второй фронт…
— Ты все подготовь, а мы с ним сами разберемся.
Обсудили еще ряд практических моментов, Новиков передал приветы друзьям и подругам. Потом микрофон взял Шульгин.
— Привет, Леша. Ты сейчас с Олегом свяжись и доложи, что мы здесь круто влипли и нуждаемся в экстренной помощи. На нас вправду ЧК охоту затеяло. Мы сами их трогать не собираемся, честно, но если до нас доберутся, поневоле такую мясорубку устроим, куда там Румате в Арканаре.
— Понимаю. Попробую, но заранее знаю, что он ответит. Пусть, скажет, сматываются, пока не поздно, я их туда не посылал.
— Точно, так он и скажет. А ты ему от моего имени передай — по достоверным данным, большевики заминировали Кремль, мосты и много чего еще. И непременно их рванут. Число жертв можешь посчитать сам. На переговоры они идти не собираются, так что пусть товарищ Левашов или прямо переходит на их сторону и принимает на себя ответственность за все, что случится, или включает канал, чтобы перебросить нам подкрепление. Не сделает — начнем сами, как майор Вихрь. А он за нас с Андреем свечку поставит, и на том спасибо. Вот так вот!
— Давай я тебя с ним через мою станцию свяжу — и сам уговаривай.
— Меня нет. Я с тобой говорил, убегая по крышам от чекистов, непрерывно отстреливаясь. Ты сам слышал свист пуль и мое хриплое дыхание. Следующий сеанс связи после полуночи. Так что адью. И девушкам мой поклон. Ну, бывай.
— Ты думаешь, на него это подействует? — спросил Новиков, когда связь прекратилась.
— Не обязательно. Но теперь он все время будет терзаться, что лучше: остаться при своих принципах или всю жизнь корить себя, если он сохранит нейтралитет, а нас по сей причине угрохают.
— Тонко, хоть и жестоко, потому что нас могут угрохать и так и так.
— Не более жестоко, чем мы обошлись с чекистом.
Новиков прищурил глаза:
— А в чем жестокость? Нормальная работа. Чем этот агент лучше остальных? Если для пользы революции они чужих жизней вообще не считают, отчего мы должны переживать, что заставили Вадима своего кончить? Багрицкий писал: «Если нужно предать — предай, если нужно убить — убей!»
— Да бог с ним. Интересно, как он со своим начальством разбирается? Мозги мы им залепили крепко, хотелось бы знать, какой будет следующий ход?
— Покрутим варианты. В любом случае они сообразят, что цель наша — не мосты взрывать. Предполагаю, что к завтрему они какую-нибудь хитрую, на их взгляд, операцию придумают. Вот и давай подготовимся…
Глава 21
Вадим сделал все так, как потребовали от него эти странные «полковники». Шульгин напрасно беспокоился — стреляя в голову сексота, чекист не испытал угрызений совести. Здесь прав оказался Новиков. Раз требовали интересы дела, то что значит жизнь одного человека? А здесь информация оказалась настолько неожиданной и важной, что стоила жизни дюжины мелких агентов.
Оказавшись на улице, он, не оглядываясь, быстрым, но не производящим впечатления торопливого шагом прошел несколько переулков в сторону Покровского бульвара и только там остановился, чтобы перевести дух.
Сел на скамейку перед воротами проходного двора, вытер рукавом вспотевший лоб и лишь теперь словно заново увидел окружающий мир. С наслаждением вдохнул пахнущий дождем и мокрой палой листвой воздух.
Честно сказать, он почти не надеялся уйти живым, особенно когда первый полковник затеял свою дьявольскую игру.
За три года работы ему приходилось разрабатывать и лично проводить не одну операцию по внедрению в контрреволюционные организации, но ни разу он не встречался с подобным противником.
Не кривя перед самим собой душой, он признавал, что первый раунд проиграл вчистую. Не потому, что не достигнута цель — тут как раз формально все в порядке. Контакт состоялся, задание Агранова он выполнил — убедился, что в Москву действительно проникла группа врангелевских разведчиков, обеспечена возможность их дальнейшей разработки. Дело в другом — нет ни малейшего намека на цель их появления. Для фронтовой разведки, диверсий, даже организации восстания силами уцелевшего белого подполья присутствие в городе как минимум двух специалистов высочайшего класса просто не нужно. Каждый из них мог бы быть не меньше, как начальником всей белой контрразведки. А их двое сразу! Персоны такого ранга лично через фронт не ходят. Тем более когда их победа почти неизбежна.
С любой мыслимой в подобной ситуации задачей прекрасно справился бы и тот симпатичный подполковник, и даже, наверное, громила Мизгирь.
Вадим потер пальцами виски. От пережитого и от того, что пришлось смешать коньяк с самогоном, еще и без закуски, у него разболелась голова.
Перед тем, как идти докладывать Якову Сауловичу, неплохо бы выспаться. И выпить крепкого чаю. Благо, до конспиративной квартиры на Трубной рукой подать.
Услышав за домами дребезжание трамвайного звонка, он вскочил и напрямик, через двор, выбежал к остановке «Аннушки».
Как раз в то время, когда объекты их интереса чаевничали в гостях, Вадим закончил свой доклад Агранову.
Внимательно выслушав и не задав ни одного вопроса по ходу рассказа, начСПО задумался, откинувшись на спинку стула и скрестив на груди руки. Сообщение агента его более чем встревожило. Хоть и был уже Агранов признанным специалистом, заслужившим авторитет у самого Дзержинского, но оценивал свои силы здраво.
Одно дело, создав гигантскую сеть агентуры — осведомителей и доносчиков, при малейшем намеке на крамолу хватать подозреваемых сотнями и потом просеивать их сквозь мелкое сито, исходя не столько из доказанных фактов, сколько из теоретической возможности и классовой принадлежности, и совсем другое — вот в этих конкретных обстоятельствах выяснить цели и задачи противника. Вадиму он верил и понимал, что с подобным ЧК еще не сталкивалась. Самые сложные из проведенных операций отнюдь не требовали тонкой интеллектуальной игры. Скорее беспринципности и беспощадности. А вот здесь… Да если еще совместить имеющиеся факты с туманными пророчествами профессора Удолина.
— Арестовывать их, ты считаешь, бесполезно? — спросил Агранов, проверяя свои предварительные построения.
— Нет, это как раз было бы крайне полезно, но невозможно. Уверен, что их там просто больше нет. Несколько боевиков, может, и осталось, для отвода глаз, но и тех без большой стрельбы не взять. — Вадим улыбнулся бледно. — Головорезы на подбор, особенно, который Мизгирь. Говорил, что в контрразведке работал, и я ему сразу поверил. Законченный садист.
— И что же это за странное сочетание — аристократ, чуть ли не профессор философии — и дюжина головорезов?
— Вы забыли про второго полковника и еще того, подполковника или капитана. Вылитый флигель-адъютант.
— Допустим, что так. Значит, трое непонятных людей. А остальные — просто исполнители. Но чего?
— А если не исполнители, а просто охрана при этих?
— И так может быть. Но все равно непонятно, зачем они именно на Хитровке появились, зачем так демонстративно? Неужели в Москве для трех таких людей тихого приюта не нашлось? Думай, Вадим, думай, или мне Мессингу брякнуть, пусть себе забирает дело? Строго говоря, ты ведь прав оказался, а не я. Не наш профиль, мы с гражданами РСФСР работаем, а не с армейской разведкой белых. Как?
— Вот если совершенно честно, Яков Саулович, так бы лучше всего было. Да только меня гордость заела. Вы шахматными задачами не увлекаетесь?
— Некогда мне такой ерундой увлекаться. Тут к бабам сходить времени не выберешь… — Агранов доверительно понизил голос, ухмыльнулся эдак по-свойски, и Вадим кивнул сочувственно, хотя знал, что начальник регулярно бывает в «Бродячей собаке» и в театре Вахтангова, не оставляя без внимания ни одной более-менее смазливой девицы.
— Значит, сами будем продолжать. Постараемся кое-кому нос утереть. А как думаешь, что от завтрашней встречи следует ждать?
— Завтра они проверять будут, как мы их поведение поняли…
— А мы его пока никак не поняли, правильно? Твой полковник нам все ходы забил. Он же аристократ, он нас с тобой презирать должен, быдло мы для него, и если мы таковыми себя и изобразим, то он проглотит. Понимаешь, о чем я? Делаем вид, что поверили, будто он тебя за своего признал, ты скажешь, что получил задание продолжать заслуживать их доверие и что твоему начальству нужна какая-нибудь информация. Правдоподобная. Вместе с ним вы придумаете, что сообщить чекистам, а уж мы потом посмотрим, какую дезу он станет нам давать. По крайней мере, будет над чем работать…
Судя по лицу и тону Агранова, ему собственный план понравился. Он действительно был почти что единственно возможным в данной ситуации. Если бы Шульгин с Новиковым действительно были белыми разведчиками, по направлению дезинформации можно было бы установить круг их истинных интересов. Но Вадиму, который несколько раз встречался с Шульгиным взглядом, не слишком верилось, что он сумеет обмануть полковника. И постепенно у него стал складываться собственный план, делиться которым с Аграновым он считал преждевременным. Ведь если белые на самом деле возьмут Москву…
А Агранов, в свою очередь, произнося вполне уместные в его положении начальника слова и выстраивая схему многоходовой операции, на самом деле подразумевал нечто другое.
Вадиму он верил, и если тот говорил, что встретился со специалистами высочайшего класса, то так оно и есть. Но, передавая свой с ними разговор, Вадим не обратил внимания на важнейшую деталь, запомнил ее механически, но не оценил. «Я приехал сюда из любопытства и снова уеду, когда все кончится». Явно не для красного словца сказано. Скорее всего, тот полковник просто проговорился в азарте. Иначе эта фраза была бы как-то замотивирована и имела бы развитие. Для него же, Якова Агранова, она как раз и есть главная во всей истории. Необходимо любой ценой встретиться с «полковниками» и поговорить откровенно. Он-то не рядовой агент, ему есть что сказать и что предложить. В обмен на соответствующие гарантии и выход на круги и сферы, имеющие возможность вмешиваться в ход мировой истории.
Только беседа должна состояться на его территории и на его условиях.
А на всю подготовку, и теоретическую и техническую, — меньше суток.
Глава 22
Новиков вышел во двор. Время по другим меркам было еще совершенно детское, но здесь стояла уже глубокая ночь. Никаких свойственных большому городу шумов и звуков, не сияют огнями проспекты, бросая на небо бледно-багровые отсветы, и если бы не посвистывали на близких вокзалах паровозы, можно бы было посчитать, что сидишь где-нибудь в уездном городишке, откуда хоть три года скачи, никуда не доскачешь.
Дождь опять прекратился, однако собравшаяся на крыше вода скапливалась в жестяном желобе и время от времени короткая очередь капель звонко плюхала в стоящую возле угла флигеля бочку.
Глаза постепенно привыкали к темноте, и Новиков стал различать ведущую от ворот к флигелю дорожку, побеленные стволы деревьев в саду, навес над дверями каменного сарая, который вполне мог быть каретным. Под этим навесом Андрей и устроился на изрубленной сотнями ударов колоде для колки дров. Место было удобное, даже уютное, не только потому, что защищало от тянущего между постройками сквозняка, но и оттого, что представляло собой удобную огневую позицию на случай внезапного нападения. Расстегнутая кобура «стечкина» привычно оттягивала ремень, зажатая в кулаке трубка в отличие от сигареты не могла выдать его присутствия предполагаемым визитерам, и Новиков мог спокойно отдаться течению мыслей.
Впервые за последние дни он имел возможность подумать о происходящем абстрактно, не отвлекаясь на сиюминутные проблемы.
Настроение у него было смутное. Похожее на то, что бывает утром, в момент пробуждения после новогодней ночи. Вроде и посидели прилично, натанцевались, весело было, никаких глупостей и безобразий не случилось, а вот томит что-то, гнетет. Как бы даже стыдно неизвестно за что, и предстоящий день кажется ненужным, предвещающим неясные пока неприятности. Синдром этот носит название «адреналиновая тоска», но оттого, что известны название и причина, в данный момент не легче.
Бояться ему в обычном смысле было особенно нечего. За исключением, естественно, оговоренного в инструкции к гомеостат-браслету «одномоментного полного разрушения организма». Но такая опасность, хоть и была теоретически возможной, как реальная не воспринималась. Нравственных терзаний он не испытывал тем более. Проведенных в двадцатом году двух месяцев оказалось достаточно, чтобы окончательно утвердиться в правильности своего выбора. То есть при тесном общении с представителями и того, и другого лагеря он удостоверился, что белые, при всех их недостатках, если и заслуживают осуждения, так только за свою недопустимую мягкость и нерешительность в ведении войны. Извиняло их только то, что даже за три года они так и не смогли до конца понять, с какой нечеловеческой силой имеют дело и что на самом деле произойдет, если они эту войну проиграют. Даже красный террор воспринимается слишком многими как явление, пусть и страшное, но ограниченное во времени. А подавляющее большинство населения вообще думает, что если остаться в стороне, уберечься сегодня от риска и тягот личного участия в боях, то дальше как-нибудь обойдется. Да вот хотя бы маленький пример: в Советской России везде расклеены плакаты, с которых неандертальского вида красноармеец свирепо вопрошает: «Ты записался добровольцем?!» А на белой стороне усталый юноша в юнкерских погонах недоумевает: «А почему вы не в армии?»
А сколько сил, нервов и денег потребовалось Шульгину, чтобы убедить Нестора Махно занять пока хоть нейтральную позицию в этой войне за выживание русского народа. Уж он-то, казалось, имел возможность, и не одну, на собственной шкуре испытать коварство и беспринципную жестокость своих «классовых союзников». Да и Врангель, как он сопротивлялся, не желая дать Махно гарантии широкой автономии его «Крестьянской советской республике без коммунистов». Но получилось, слава богу, у Сашки. Два чувала червонцев, десять тысяч винтовок и два миллиона патронов на первый случай вождя анархистов удовлетворили. Теперь такая же работа предстоит с Антоновым, пусть только Берестин пробьет надежный коридор к Тамбову.
Впрочем, все это задачи не сегодняшнего дня. Сначала нужно решить главный вопрос — с Москвой. Новиков в своих планах не исключал, что после свержения советской власти могут возникнуть не менее острые проблемы. Например, попытка Врангеля или, скорее, его ближайшего окружения избавиться от ставших неудобными благодетелей.
Этого варианта Новиков сейчас тоже не особенно опасался.
Больше всего его занимали ближайшие планы чекистов. Забросив свой крючок, он и Шульгин должны были привести в действие силы, им самим неизвестные и до конца непонятные. Кое о чем Новиков догадывался, вспоминая свое пребывание в сталинском обличье. Жаль только, что тогда, поглощенный сиюминутными задачами и слишком тяжелой психологической нагрузкой, он не попытался проникнуть в глубины памяти и даже подсознания «великого гения». Сейчас бы это очень пригодилось. Не мог Иосиф Виссарионович не знать каких-то сверхтайных деталей борьбы за власть. Не зря же он с таким упорством вырубал на протяжении двадцатилетия всех участников октябрьского переворота и гражданской войны. Вспоминая имена уцелевших, Андрей убеждался, что выжили тогда только те, кто не был причастен к большой политике вообще. Или те, кто в силу своей крайней примитивности просто не в состоянии был хоть что-нибудь правильно оценить и понять: Калинин, Ворошилов, Буденный…
Плохо, что не было у него ни времени, ни достаточной историографической подготовки, чтобы поискать какие-то материалы, наверняка сохранившиеся в западных архивах. Если бы Антон на месяц раньше намекнул о возможном повороте судьбы…
Но сейчас не время горевать об упущенных возможностях. Есть то, что есть. Есть же интуитивное, однако основанное на знании основных исторических закономерностей убеждение, что сегодня ход событий контролирует организация, условно или в какой-то своей части именуемая ВЧК. Иначе просто не может быть. Допустим, что сейчас ее интересы совпадают с интересами Ленина и Дзержинского, который пока еще держит силовую (или периферийную?) часть «комиссии» в руках. Что есть и не только силовая, Андрей не сомневался. Факты, выстроенные определенным образом, доказывали, что происходившие с весны семнадцатого года события настолько расходились и с декларируемой политикой партии, и с интересами самой правящей элиты, что наличие еще какого-то «центра власти» исключить было невозможно.
Да что далеко ходить, блестящее подтверждение гипотезы — судьба самого Сталина, особенно последние годы его жизни.
«А ведь жаль, что Антон помешал мне пожить с ним еще лет пять», — запоздало посетовал Новиков.
Андрей еще не мог выстроить четкой схемы, но ему хватало и ощущений. Да он просто и не видел в стране другой структуры, достаточно мощной, информированной и всепроникающей, чтобы держать в руках раздираемую не только внешними и внутренними фронтами, но и непримиримыми теоретическими позициями ее основателей страну.
Ленин и ЦК РКП(б) — смешно! Троцкий с армией и карательными отрядами — в какой-то, но отнюдь не решающей мере. Стоит прозвучать команде, и его личный бронированный поезд с помощью транспортной ЧК полетит вниз с первого же подходящего откоса. И где был тот Троцкий, когда, вопреки его яростному сопротивлению, заключался Брестский мир или сотнями ставились к стенке лелеемые им военспецы?
Значит, они с Сашкой все сделали правильно. Наверняка самая верхушка организации последние два месяца бьется над загадкой, отчего пошли наперекос столь выверенные и обеспеченные необходимой поддержкой расчеты?
Бьется и ничего не может понять, ибо достоверную информацию им получить неоткуда. Здесь Новиков с Шульгиным постарались — полной картинки, кроме них, не знает никто из аборигенов данной Реальности. Даже Врангель, который знает больше других. Остальные же обладают такими мелкими кусочками мозаики, что даже если собрать всероссийский симпозиум посвященных, вряд ли сумеют ее слепить в осмысленное целое.
А что же, к примеру, все-таки сможет сегодня понять о происходящем очень умный человек или группа аналитиков, располагая наличной информацией? Исходя из реальностей текущего момента? Постаравшись, можно посчитать количество полученного белыми оружия. Неожиданно много, но не чрезмерно. Причем оружия только классического для данного времени. Ни один экземпляр вооружения спецбатальона в руки красных не попал, как и ни один пленный. Правда, ходят по Красной армии слухи о таинственных и страшных бойцах да о быстроходных новых танках с мощными пушками. Но это категории относительные. Проигравшему победитель всегда страшен.
Дальше. Белые вдруг изменили тактику. Ну, так одумался Врангель, позволил Слащеву и Кутепову проявить свои таланты, вопреки сопротивлению старых и косных генералов. Вдобавок распущены слухи о нанятых немцах, о таинственном спасении Колчака вместе с золотом (молодцы иркутские ревкомовцы, расстреляли адмирала у проруби, не оставив доказательств его смерти), о помощи Брусилова, прикинувшегося лояльным новой власти (это может стоить старику головы, так знал, на что шел, покорившись большевикам).
Еще. Белые резко поменяли внутреннюю политику на освобожденных территориях, обратили, наконец, внимание на интересы рабочих и крестьян, включая и просоветски настроенных украинских повстанцев.
Ну, во-первых, реальный интеллектуальный потенциал врангелевского окружения красным просто неизвестен по причине их собственной ограниченности, а во-вторых, и в той, реальной, истории премьер правительства Юга России Кривошеин разработал и начал внедрять вполне прогрессивную экономическую модель, только не успел.
И, наконец, главное. Внимания ЧК не мог миновать тот факт, что в окружении Врангеля появились представители богатейших и влиятельнейших финансовых и военных кругов Америки, а также английская аристократка леди Спенсер, близкая к королевским кругам. И что какие-то лица (если не сами чекисты), попытавшиеся этих «волонтеров свободы» уничтожить, закончили свои дни печально.
Вот над таким объемом вопросов должна сейчас работать чекистская контрразведка, если у товарищей Дзержинского, Менжинского, Трилиссера и кто там у них еще достанет ума и квалификации связать указанные факты воедино и грамотно их проанализировать на предмет соответствия причин и следствий.
Советский Наркоминдел помочь им не сможет, у ведомства товарища Чичерина связи только в Афганистане да кемалистской Турции, поэтому информацию о принадлежности «Валгаллы» придется искать по каналам загранразведки, возможности которой в вопросах экономического шпионажа на сей день нулевые, а в Америке, скорее всего, их людей и вообще нет.
Другое дело — те круги, что привели большевиков к власти.
Если это только немцы — одно дело. Но только немцами тут не может ограничиться. Кто-то же занимается сейчас тем, чтобы сорвать любые попытки хоть Антанты в целом, хоть отдельных стран оказать северным, южным, дальневосточным антибольшевистским силам мало-мальски последовательную помощь.
В версию Юлиана Семенова, что все это делал Максим Максимович Исаев и коммунистическое подполье, с трудом верилось даже при первом, еще детском чтении «Пароля…», «Бриллиантов…» и прочих тогдашних бестселлеров. Они для того и писались, чтобы отбить желание задавать неудобные вопросы.
И даже если аналогичный Максим Максимович у красных действительно есть, так и то ему придется очень нелегко, не имея доступа к судовому сейфу или не похитив кого-нибудь из членов экипажа «Валгаллы».
Новиков даже нарушил ночную тишину коротким смешком, представив, как красные разведчики попытаются взять в плен одного из биороботов.
И вот, исходя из всех этих допущений, всесильная ЧК просто не может не ухватиться за подброшенную ей наживку. Очень уж хорошо стыкуется в схему внезапное появление до отвращения неординарных «полковников» в столице победившего социализма.
Андрей встал, с удовольствием потянулся, разминая затекшую от долгого сидения в не слишком удобной позе спину. Прошел по вымощенной круглым булыжником дорожке к воротам, не открывая калитки, прислушался к тишине переулка. Ни звука, полное молчание, если не считать шороха ветвей под ветром. На обратном пути потрепал по мохнатому загривку вылезшего ему навстречу из будки пса, через сад вернулся к заднему забору. В соседском дворе тоже никакого шевеления.
Да и смешно было бы предполагать, что их уже выследили даже здесь. Однако ведь не оставляет его эта мысль. Если только Ястребов не болтнул о своей тетушке в присутствии очередного агента ЧК. Да и в таком маловероятном случае он, Новиков, на месте чекистов не стал бы рисковать. Если только уж совсем дураку в руки дело попало. Но ни Вадим, ни, соответственно, известный из литературы его начальник, в будущем душевный друг Маяковского и Лили Брик (или наоборот), впечатления дураков не производили. Скорее — напротив. Рисковал Вадим крепко. И неплохо бы при случае побеседовать с ним откровенно, какие такие причины заставляют его служить красным? Неужели действительно всепоглощающая идейность, как у Исаева-Штирлица? Андрей постарался примерить это на себя, в самый разгар своей веры в коммунистические идеалы, подогретой романами Ефремова и Стругацких.
Пожалуй, настолько они его не захватывали. На фронт бы да, пошел и погиб при неудачном стечении обстоятельств. В той же Никарагуа были подобные варианты, но в идею он уже не верил. Служил по необходимости и для разнообразия. А вот изобразить из себя Матросова или Смирнова, на костер взойти с проклятием палачам — скорее всего нет.
Галилея он всегда понимал лучше, чем Джордано Бруно.
Вот и узнать бы, что на самом деле думает тот Вадим…
Новиков вновь разжег трубку, поправил сползший назад по ремню пистолет.
Предполагая, что противник все же должен мыслить логично, Андрей считал, что, перебрав все варианты, неизвестный ему пока человек придет как раз к тому выводу, к которому они с Шульгиным и надеялись его подвести: поскольку практического военного смысла в появлении здесь таинственных незнакомцев нет, значит, они присланы для наведения мостов.
«Я бы, несомненно, решил именно так. Сами по себе белые свои возможности исчерпали, им оставалось сопротивляться месяц-другой. Раз они вновь наступают, значит, вмешалась третья сила. Вернее — четвертая. Явно преследующая свои собственные цели, причем такие, которые возможно достичь только в Москве. Об этом и пойдет разговор во время завтрашней встречи. Так что в перспективе — переговоры с очень важными персонами».
И снова Новиков усмехнулся. В очередной раз возникает ситуация из комедии недоразумений. Как в случае с агграми. Опять совпадение или непознанная закономерность? Буддисты, те считают, что случайностей и совпадений в мире не бывает вообще.
Откинувшись на стену сарая, он прикрыл глаза. Ему очень хотелось сейчас ощутить связь с той космической силой, которая посетила его в последние минуты пребывания в Замке. Он смутно, как эпилептик приближение приступа, ощущал ее неуловимую ауру, но не знал, как пробить разделяющий их барьер.
Он верил в неравнодушие этой силы, как мог бы верить в бога, если бы дана ему была вера, помнил не облеченную в слова мысль о возможности, праве и опасностях участия в игре Реальностями. И мучительно пытался понять, тот ли сейчас момент? Вошел ли он уже в Гиперсеть или пока еще находится в рамках исторического материализма?
Кое-какие намеки уже были. Не зря ведь с момента появления в этом мире им удавалось абсолютно все.
Легко сумели добиться влияния на Врангеля. Впервые после шестнадцатого года военное счастье повернулось лицом к Русской армии, и она начала выигрывать все сражения, даже если победа была крайне маловероятна. Как в преферансе, когда к любому, даже самому ловленному, мизеру в прикупе приходят единственно нужные карты, а у партнеров оказывается худший из возможных раскладов.
Конечно, каждый белый генерал не превратился в одночасье в Слащева и Корнилова, но в пределах своих возможностей они перестали совершать грубые ошибки и просчеты, не ковыряли в носу, когда требовалось внезапно бросить в бой последний резерв или фланговым ударом поддержать соседа… Новиков допускал, что первые успехи, надежда на своевременную поддержку рейнджеров и предчувствие победы могут окрылять, но не до такой же степени! А красные полководцы, и до того не блиставшие талантами, наоборот, вдруг будто все сразу преобразились в некоего усредненного Ворошилова. Только совершенно осатаневшему Троцкому еще удавалось держать расползающийся, как прелая портянка, фронт.
Все это могло быть помощью Высших, а могло и не быть, оставаясь в пределах собственных талантов и способностей его небольшой группы. Тогда, чтобы не запутаться в догадках, не обольщаться надеждами и не бояться на каждом шагу наступить на мину, остается единственное — вспомнить завет Марка Аврелия: «Делай, что должен, свершится, чему суждено».
Ну а если, вдобавок, неизвестно, что именно ты должен, значит, делай просто то, что хочется сделать в данный момент.
Андрей прислушался к себе. Прежнего чувства тоски и тревоги, кажется, не было. Обычная, не слишком сильная усталость, желание лечь и хорошенько выспаться.
И погода, кажется, опять стала улучшаться. Глухие дождевые тучи раздернулись над головой, открылся порядочный кусок усыпанного звездами неба. Звезды крупные, искристые, отчетливо различается полоса Млечного Пути. Никогда раньше его не было видно над столицей. То есть позже, конечно.
Засмотревшись на звезды, Новиков пропустил момент, когда небо вдруг начало стремительно снижаться, или он сам, наоборот, воспарять в его черную высь.
Ему не приходилось бывать в космических полетах, но теперь он смог почувствовать, что такое подлинная невесомость.
А в следующую долю секунды его тело и мозг взорвались, будто Сверхновая, разбрасывая на миллионы километров осколки сознания.
Такого вхождения в связь с Великой Сетью прошлый раз не было, произошел некий качественный скачок. Или повысилась плотность барьера, разделявшего нынешнюю Реальность и операционное поле Сети, или его вбросило на более высокий энергетический уровень.
Зато и открывшаяся Новикову истина оказалась значительно более универсальной. Если прошлый раз ему была показана самая общая «принципиальная» схема и структура Гиперреальности, внутри которой существовала наша, «человеческая» Вселенная, то теперь Андрею стали понятны куда более сложные закономерности.
Механизм проникновения в тайну оставался ему непонятен, и после возвращения он был способен объяснить то, что ощущал и воспринимал, не более чем пигмей из конголезских джунглей, посетивший Центр управления космическими полетами. Однако в отличие от пигмея, находясь внутри Центра, Новиков мог хотя бы догадываться о назначении окружающих его предметов и смысле мелькающих на бесчисленных экранах цифр, графиков и символов.
Он увидел и понял, что в многомерной, бесконечной по каждой из осей Гипервселенной существует адекватная ей Гиперцивилизация, создавшая то, что в доступных человеческому разуму понятиях можно было назвать Суперсетью компьютеров галактических масштабов. Вернее, эти «компьютеры» представляли собой искусственные топологические инварианты из глюонных, кварковых и еще более странных конструкций, суперструнных и гравитационных компонентов, фридмонов и «нормальных» звездных систем.
В тот момент картина мироустройства показалась Андрею немногим сложнее изображения принципиальной схемы лампового радиоприемника с пояснительными надписями.
Неведомая цивилизация создала также связанную с Суперсетью «компьютеров» Суперсеть эффекторов, способных на мгновенное преобразование структуры, свойств и размерности окружающих их пространственно-временных континуумов.
Минуя многие и многие уровни Истин, столь же недоступных осмыслению Новиковым, как программа мягкой посадки лунного модуля — пресловутому пигмею, Андрей узнал (или осознал?), что, как только достаточно высокоорганизованный мозг — биологической или иной природы — сумеет вступить в контакт с Великой Сетью, он получит и теоретически неограниченную власть над Вселенной. Если он сможет сформировать в своем сознании непротиворечивую и связную модель желаемой Реальности, суперэффекторы ее мгновенно реализуют. Независимо от масштабов. Грубо говоря — юный Саша Корейко мечтал найти туго набитый бумажник. Как известно, мечта его не осуществилась. Но если бы он сумел достаточно точно представить себе его, вишневый, скрипящий, как седло, лежащий у водосточного желоба, осыпанного цинковыми звездами, вмещающий в себя две тысячи пятьсот рублей, а вдобавок и весь комплекс условий, определяющих появление в нужном месте означенного бумажника, предмет его вожделения там бы и оказался.
В идеальном же варианте возможно изменение всей аксиоматики Вселенной.
С точки зрения создателей Великой Сети, статус любого «мыслящего» существа определяется его способностью устанавливать мыслесвязь с Сетью (низший уровень, назовем его первым), создавать непротиворечивые, логически и тополого-семантически связанные системы Мыслеобразов (второй уровень), уметь их удерживать (третий). Под удержанием в данном случае понимается усиление энергии мышления до уровня, не позволяющего Системам Мыслеобразов, созданным другими мыслящими, разрушить вашу систему. Далее, если волевая энергия мышления достаточно велика, субъект получает возможность либо блокировать в Великой Сети конкурирующие системы, перекрыв информационные входы, либо вообще трансформировать и их тоже желательным образом.
Новиков «увидел», как в недрах Гиперцивилизации тысячелетиями шли ожесточенные Игры Реальностями, которые Сверхцивилизациями уровня аггрианской и форзелианской воспринимались как Информационные войны.
Колебались и рушились самые основы Мироздания. И тогда путем естественного отбора (как в схватках запертых в канатном ящике крыс выводится «крысиный волк») Гиперцивилизация породила Клан Держащих Мир. Это были существа непредставимой природы, научившиеся держать Полный контроль над Великой Сетью, создавать собственные Мыслеформы любой степени сложности и подавлять чужие.
Убедившись в своей полной победе, они замкнули входы Гиперцивилизации, дабы исключить возможность проникновения извне каких-либо гипотетических конкурентов. (Что значит извне по отношению к Вселенной, Новиков представить не смог.) И, вдобавок, запустили в Великую Сеть Ловушки сознания, которые, циркулируя в ней, перехватывают и разрушают любую постороннюю Систему Мыслеобразов.
Одновременно (условное, не имеющее физического смысла понятие) Держащие Мир предусмотрели спонтанное, по типу датчика случайных чисел, включение отдельных Гиперэффекторов, чтобы парировать естественное нарастание энтропии и вырождение циркулирующей в Сети информации.
Продолжалась достигнутая идиллия достаточно долго. Вечность, две или три… (Как американские судьи дают преступнику два пожизненных срока плюс десять лет.)
Пока не возникла на третьей планете, позже названной Землей, раса людей как следствие очередного сброса энтропии. Раса, генетически наделенная потенциалом разума, позволяющим не только выходить на контакт с Сетью, но и обходить Ловушки сознания (что считалось их создателями принципиально невозможным), и создавать Системы Мыслеобразов, конгениальных системе Клана Держателей.
На протяжении веков, не слишком часто, но регулярно появлялись индивиды, умевшие реализовывать заложенные в них способности. В той или иной мере, сознательно или непроизвольно. Чем, кстати, объясняется немотивированное возникновение цивилизаций древнего Двуречья и Египта, когда после десятков тысяч лет первобытно-общинного строя практически мгновенно появляется государство, науки, техника, письменность и вполне структурированное гражданское общество.
Очевидно, неведомый гений именно таким образом реализовал посетившее его творческое озарение.
Все последующие мистики, маги, пророки, «потрясатели вселенной», создатели религий, основатели империй, бодисатвы и «сыны Неба» относились к той же породе.
Контакт прервался так же внезапно, как и возник. Новиков вновь увидел перед собой темные кусты, белеющую за ними стену флигеля, услышал плюханье дождевых капель в бочке на углу сарая.
Голова была ясная, самочувствие вполне нормальное.
А вернувшийся в привычное состояние мозг отсек из пакета поступившей в него информации все, выходящее за пределы его повседневной разрешающей способности. Как поступает монохромная фотопленка с многоцветием летнего пейзажа.
Андрей понимал, что мгновение назад был силой разума равен тем самым Держателям, но сейчас вспоминал пережитое, как только что просмотренный научно-популярный фильм, причем на не слишком знакомом языке.
За кадром осталось главное — как самостоятельно выходить на контакт с Сетью.
Без этого пользы от очередной порции информации не больше, чем от знания о богатейших возможностях левашовского компьютера без умения с ним работать.
И еще одна мысль его волновала. Он специально прислушался к своим ощущениям — нет, ничего особенного с ним не случилось, он тот же, что был полчаса назад, ни мании величия, ни желания немедленно включаться в Игры Реальностей… Даже странно. Умом, как психолог и социолог, он считал, что хоть какие-то изменения произойти должны были. Или они проявятся позднее? А может быть, как раз особая невозмутимость и свобода от суетной эмоциональности являются непременным профессиональным качеством кандидата в Держатели? Причем не патологическая «эмоциональная тупость», а именно способность без удивления и внутреннего протеста воспринимать Высшее знание.
Самое же главное разочарование, которое он испытал — он не узнал ничего существенно нового. Космогонических построений он наслушался и от Ирины, и от Антона с Сильвией. А чего-нибудь фактического, имеющего практическую пользу прямо сейчас, ему не сообщили. О его роли в нынешней Реальности, о раскладе сил в том и этом мире, о друзьях и врагах…
Сашка Шульгин в то же самое время лежал на узкой деревянной кровати, смотрел в крашенный голубоватой масляной краской дощатый потолок, на котором дрожали пятна теней от керосиновой лампы с прикрученным до предела фитилем.
И вспоминал девушку Аню, Анну Ефремовну, как она представилась, несмотря на свои двадцать лет. Чем-то она вдруг и сразу запала ему в душу. Хотя вроде бы ничего особенного. Нет, она красивая, конечно. Без всякой косметики, с гладко зачесанными волосами, в узком скромненьком платье, а некий неуловимый шарм в ней имеется. Может, манера разговора? Особое выражение глаз? Или, как выражается Новиков, конгруэнтный психотип?
Шульгин еще не понял, что его привлекло ощущение исходящей от девушки чистоты и наивности (в лучшем смысле). Так как-то вышло, что попадались ему девушки изначально порочные. Ну, пусть не так, пусть — чересчур опытные. Начиная от лаборанточек, соглашавшихся скрасить его суточные дежурства и досуг на природе, и заканчивая слишком уж цинично-агрессивной Сильвией. А тут вдруг встретилась девушка, похожая на Дашу из «Хождения по мукам». Здраво оценивая свои способности, он знал, что охмурить Аню ему труда не составит, было бы время, но дело ведь не в этом…
Может быть, впервые за истекший в скитании по временам и планетам год Шульгин задумался о жизни всерьез. Не как об арене для отважных эскапад и романтических приключений в стиле Дюма, а о чем-то совсем ином… Смешно вроде бы, а ведь так — тридцать пять лет прожито, как месяц в турпоходе. И вдруг — эта девочка!
Кандидат медицинских наук и старший научный сотрудник весьма серьезного НИИ, Александр Иванович Шульгин неплохо разбирался в тайнах человеческой психики. Правда, в основном больной психики, но кое-что знал и о норме.
Как-то даже попытался написать статью о феномене любви с первого взгляда. Напечатать ее, конечно, не удалось, но умные мысли в ней были. И главная из них — каждый человек несет в подсознании матрицу собственного генотипа и, встречая женщину, любую, автоматически оценивает ее внешность (фенотип, по-научному), по фенотипу определяет ее генотип и накладывает матрицы друг на друга. Обычно совпадения не происходит, и тогда оценка ведется по другим параметрам, эстетическим или меркантильным, неважно. В случае же совпадения матриц происходит нечто вроде вспышки, возникновения вольтовой дуги. Таковая вспышка и называется любовью с первого взгляда, а с генетической точки зрения означает не более чем распознавание идеального партнера для продолжения рода. Чтобы столь редкая возможность осуществилась, эндокринная система вбрасывает в кровь массированную порцию естественного наркотика — эндорфина. И уж тут все! Клиенту деваться некуда. Причем обычно подобная ситуация бывает взаимной (раз матрицы конгруэнтны!). А остальное происходит в меру образовательного и культурного уровня субъектов процесса и их темперамента.
Причем, что особенно интересно, статью Шульгина отвергли с обеих сторон сразу. Цензора шокировал недопустимый, механистически-идеалистический подход, исключающий процесс коммунистического воспитания, а даму-редактриссу из крутых шестидесятниц (физики-лирики, ветка сирени в космосе и т. д.) — наоборот, циничный материализм подхода к трепетным тайнам…
Так не случилось ли с ним сейчас нечто похожее?
А ведь он обменялся с этой девушкой из совсем другого времени едва ли тремя-четырьмя фразами. И вот поди ж ты…
Шульгин уже и не думал, что в его годы и с его опытом такое возможно. Хотя был перед ним пример Берестина и его мгновенной влюбленности в Ирину.
Он вскочил с кровати и подошел к окну. Новикова можно было различить в глухой темноте сада только по красноватому отсвету трубки, вспыхивающему во время глубоких затяжек.
Сашка включил рацию и настроился на волну Левашова.
Олег ответил минуты через две непрерывного вызова. Спал, наверное.
— Привет, командир, как поживаешь?
— Пока еще ничего. А вы?
— Хуже чем было, но лучше, чем будет. Тебя рана не беспокоит?
— Да я уже и забыл. Так что вы опять хотите? Я с Берестиным уже разговаривал…
— Нет, я совсем не об этом. Тут понимаешь, какая штука… — и начал необычным для себя, неуверенным, словно бы извиняющимся тоном говорить. Он не хотел сейчас темнить и искать подходы, просто поделился со старым другом, как делал это пятнадцать лет назад, что сложилась такая-то вот ситуация, и есть здесь совсем случайно попавшая в эпицентр их забав девушка… Так чтобы Олег настроил свою машинку на данные координаты и, если с ними чего случится, не оставил Аню с ее матушкой без помощи. А то, не ровен час, чекисты могут и их в соучастницы определить…
— Сами дураки, так еще и посторонних людей подставляете, — сурово ответил Левашов. — Может, прямо сейчас их сюда переправишь?
— Рано еще, глядишь и обойдется. Ты просто пригляди, если мы на связь не выйдем, а так-то я и сам… И вот чего еще — сделай уж по дружбе, запеленгуй меня и переправь к нам во двор «додж» с аварийным запасом. Он на транспортной палубе стоит, по правому борту, недалеко от аппарели. Зеленый такой, в кузове два десантных контейнера. И брось туда же ящик с полевыми рационами, ящик патронов 7,63 «маузер» ну и… ящик червонцев. Так, на всякий случай…
В динамике раздался тяжелый вздох Левашова.
— Саш, — почти просительно проронил он. — А может, ну его на… Возвращайтесь. И без вас разберутся…
Шульгин ощутил, как у него защипало в носу. Проклятая сентиментальность.
— Да ладно. Ничего не будет. Прорвемся. Так сделай, а?
— Сейчас сделаю. Минут через пятнадцать. Пока дойду, пока погружу. Рацию не выключай…
Шульгин вышел во двор. Постоял у порога, вдыхая сырой ночной воздух. Андрей по-прежнему сидел у стены сарая, Сашке показалось, что он задремал. Но когда подошел к нему по узкой кирпичной дорожке, Новиков поднял голову.
— Чего не спишь? — спросил он ясным голосом.
— Так. Олег сейчас появится. Гостинец передаст…
— А я опять с высшими сферами пообщался. — Новиков произнес это тем же тоном, каким мог сообщить о том, что в одиночку выпил бутылку пива.
Его интонация подсказала Шульгину, что расспрашивать пока не нужно.
Левашов появился не через пятнадцать минут, а несколько позже.
Посреди двора возникла сиреневая светящаяся арка, за ней перспектива слабо освещенного грузового трюма, и по ребристому металлическому настилу на влажную землю скатился пофыркивающий мотором «додж-три четверти».
Левашов, по-летнему одетый в джинсы и рубашку с закатанными рукавами, перебросил ноги через вырез в борту машины. Соскочил на землю, повертел головой, осматриваясь.
— Это маленький шаг для одного человека, но огромный для всего человечества, — процитировал Шульгин слова Армстронга, сказанные им у трапа лунного модуля.
Левашов предпочел не ответить. Поздоровался за руку с Новиковым, потом с Шульгиным.
— Неплохо у вас тут, воздух свежий, и вообще… тишина.
— В Крыму воздух хуже? — съязвил Сашка.
Олег махнул рукой. Мол, сам все понимаешь, и нечего дурака валять. Он-то впервые оказался в родном городе за тридцать лет до своего рождения.
— Все сделал, — Левашов показал на машину. — Я там еще добавил пару ящиков гранат и бочонок коньяку. На всякий случай…
Он еще что-то хотел сказать, но сдержался. Незачем было. Сейчас они стояли рядом, все трое, словно в тот последний вечер в квартире у Олега, когда в дверь позвонили пришедшие за Ириной аггрианские боевики. И когда все кончилось, разом и навсегда. Нормальная вроде бы, привычная жизнь с ее смешными, если смотреть отсюда, заботами и проблемами. А началась совсем другая. Ни в сказке сказать, ни пером описать…
Были они трое, с детства неразлучные, хоть и расставались иногда на годы, друзья. А сейчас их что-то начало разделять. Неужели же только идеологический спор?
— Так кто у нас за королеву, а кто за Мазарини? — точно угадав смысл молчания Левашова, спросил Шульгин.
— Да пошел бы ты… Какой мы херней занимаемся, ребята… — с тоской ответил Олег.
— Не бери в голову, Олег. Все нормально… — тихо сказал Новиков, кладя руку ему на плечо.
Больше говорить было нечего. Особенно здесь. И в положении, когда Левашов через несколько минут вернется под прикрытие надежных бортов и переборок «Валгаллы», в теплую постель Ларисы или в свою лабораторию «алфизика», а Андрей с Сашкой останутся на припахивающем смертью московском сквознячке…
— Я сейчас… — Шульгин похлопал себя по карманам, не обнаружил фляжки, сбегал во флигель.
— Давайте, за удачу. И чтоб все было о'кей… Невзирая… — Сашка пустил по кругу тяжелую фарфоровую кружку.
Выпили без закуски, молча покурили.
— Ну так я пойду? — словно извиняясь, спросил Левашов.
Новиков и Шульгин приобняли его за плечи с двух сторон и, не сговариваясь, легонько подтолкнули к порталу внепространственного перехода.
— А хреново ему сейчас… — полувопросительно предположил Сашка.
— Хозяин — барин, хочет живет, хочет удавится…
— Да чего ты злишься, мы ж по-хорошему договорились.
— Не злюсь я, а так… — Новиков махнул рукой. — Чего он тебе привез?
— Надо бы сначала «доджа» в сарай загнать, а потом посмотрим.
Глава 23
— Вы, Андрей Александрович, стойте вот здесь и, ради бога, будьте внимательны, — указал Шульгин место у ограды Казанского вокзала поручику Юрченко, который считался большим специалистом по стрельбе из подствольного гранатомета и охотно откликался на кличку Хилл. Поинтересовавшись ее происхождением, Шульгин узнал, что так его прозвали еще в кадетском корпусе за привычку к выражению «не хило», в смысле высшего одобрения. Вторая буква «л» прибавилась позже, под влиянием английского языка. С назначенной поручику позиции хорошо был виден и вход в Николаевский вокзал, и площадка перед ним, на которой стояло пять или шесть легковых автомобилей.
— Ваша задача — не реагировать ни на какие наблюдаемые зрительно события, а дождаться меня с полковником Новиковым, вместе или как выйдет, либо персонально вам адресованного приказа по радио. Я знаю вас как человека исключительного хладнокровия, потому и поручаю этот пост. Возможно, придется уничтожить или обеспечить захват вон тех самобеглых колясок. Разумеется, в случае непосредственного нападения на вас действуйте по обстановке, однако желательно, чтобы и после этого вы оставались в пределах устойчивой связи. И в состоянии ее поддерживать. — Произнося это, Шульгин сохранял абсолютную невозмутимость и ровный, слегка занудливый тон, так что поручик остался в недоумении, сострил ли в конце своего инструктажа командир, или всего лишь максимально точно поставил боевую задачу.
Обойдя все прикрывающие район операции посты, Шульгин вернулся в зал ожидания первого класса, теперь ничем, кроме роскошных люстр и дубовой с бронзой буфетной стойки, не напоминающий о недавнем великолепии бывшего главного вокзала Империи.
Новиков, закончив осмотр места встречи изнутри, пристроился в углу зала на подоконнике, из-под козырька надвинутой на лоб буденовки наблюдая за бестолковым броуновским движением масс, мечтающих попасть на вечерний поезд.
Большинство потенциальных пассажиров, судя по их виду, направлялись не в сам Питер, а по тверским и новгородским городишкам и деревням. Были среди них москвичи, рассчитывающие разжиться каким-нибудь продовольствием, аборигены, прибарахлившиеся в столице, просто сообразительный народ, не желающий рисковать головами в чаянии грядущих уличных боев, военнослужащие, похожие на дезертиров, и дезертиры, прикидывающиеся красноармейцами.
Стоял утомительный гул голосов, воняло все теми же неистребимыми портянками, хлоркой, сырым сукном армяков и шинелей, к высоченным сводам зала поднимались облака дыма от бесчисленных самокруток.
То и дело толпу рассекали армейские патрули, наряды железнодорожной «заградиловки» и агенты трансчека в кожанках. Присматривались, намечали будущие жертвы, но особо пока никого не трогали. Все входы и выходы перекроют перед самым началом посадки — если таковая сегодня вообще состоится. И вот тогда уже — как кому повезет.
К Андрею Шульгин не стал подходить, у каждого своя задача. Замаскированный под старенького земского врача, в пенсне, шляпе с обвисшими полями, драповом узком пальтишке и с потрескавшимся докторским саквояжем в руке, он растерянно озирался, выискивая место, где можно бы присесть. Заметил, как поднялись с дубовой лавки, украшенной резным вензелем «ИНЖД», два балтийских матроса, устремился и сел, опередив коренастого мужика в нагольном полушубке и кое-как сшитых, похоже, что на одну ногу, юфтевых сапогах.
Тот потоптался рядом, потом буркнул:
— А ну-ка, подвинься, дед, — умостился рядом, водрузил между коленями мешок пуда на два, тут же стал сворачивать козью ножку.
Шульгин посмотрел на часы. До назначенной встречи еще тридцать пять минут, спешить некуда, есть время присмотреться к публике, прикинуть на местности, какую пакость могли изобрести чекисты.
Вот, к примеру, сосед. Просто так он оказался рядом или тоже из их «наружки», осуществляет дальнее прикрытие? А тот уже и сам затеял разговор:
— Хорошие у тебя часики, дед. Не продашь? — и потянулся рукой, поближе рассмотреть. Шульгин торопливо и испуганно сунул часы во внутренний карман пальто.
— Да ты не бойсь, я не мазурик городской, я по-честному. Половину окорока дам, хочешь? Ха-арошего, провесного. Хлеб еще есть, самогонки штоф. Бери, после жалеть будешь.
— Простите, не продаю. — Сашка старался придать голосу дребезжащие нотки, держа в уме, как образец, профессора Полежаева из «Депутата Балтики». — Мне по моей работе без часов невозможно…
— А кто ж ты такой будешь? Не духовного сословия?
— Нет, не духовного, врач я.
— Ну? А зачем тебе часы? Попу я понимаю, службу править. А порошок дать, в трубку слушать и без часов спокойно можно.
Собеседник начал Шульгина забавлять. Такое впечатление, что тоже изображает «типичного представителя». Вопросы глупые, а речь почти грамотная, без всяких фольклорных «чаво», «ась» и «кубыть». И откуда у него провизия, если он не в Москву, а из Москвы? Съесть не успел?
— В трубку слушать — действительно. А к больному вовремя успеть, лекарство в срок дать, пульс посчитать?
— Пульс — это что?
Шульгин объяснил.
Мужик кивнул уважительно:
— Тогда конешно. Раз по науке требуется. А в наши края зачем? На заработки? Хорошее дело. У нас только в Торжке фершал остался, а больше на весь уезд никого. Хошь, со мной и поедем? У меня изба большая, лошади есть, трое. Моих домашних бесплатно попользуешь, ну, за харчи, само собой. А потом я тебя по деревням повезу. Там уж делиться будем. И тебе прибыток, и опчеству польза. Сам знаешь, как оно сейчас…
— Благодарю за участие, только я не к вам. Мне в Петроград надо.
— А-а, ну смотри. Самогонки хочешь? Поднесу…
— Как же? Прямо здесь? Милицейских не боитесь разве? У них ведь с этим строго.
— Пошли б они! Сглотнем разом, и все. Заморятся каждого хватать. Это вот когда продотрядники по домам шарят да аппарат найдут, вот тогда не приведи бог…
— Благодарю покорно, только куда уж мне. Возраст. Я и так не знаю, сумею ли в поезд сесть…
— Ну, было б предложено. — Мужик порылся в мешке, извлек коричневый полуштоф с литым орлом, оглянулся по сторонам и трижды гулко глотнул. Шумно выдохнул густой сивушный запах, разгрыз неизвестно как оказавшуюся в кулаке, уже очищенную луковицу.
Сосед внушал Шульгину все больше подозрений. Уж слишком картинно себя ведет. С выпивкой этой… Нормальный мужик до посадки бы дотерпел, а уж в вагоне, со вкусом… Хотя у него, может, другой жизненный опыт — сейчас не выпьешь, заградиловка отберет. Или для храбрости.
— Да ты, дед, не дрейфь, — сказал мужик, подождав, пока самогон начнет действовать. — На поезд вместе пойдем. Держись за мой пояс, и влезем. Куда там…
Шульгин снова взглянул на Новикова. Тот слегка кивнул и поднялся, стряхивая с брюк оконный мусор. Пора, значит, выдвигаться на исходные.
— Вы тут будете? — спросил Шульгин соседа. — Подержите место, будьте любезны, я схожу только кое-куда.
— Ходи-ходи. Чемоданчик оставить можешь, я присмотрю.
— Хорошо, спасибо, не затрудняйтесь. — Сашка сделал движение, будто и вправду ставит саквояж на скамью, но вместо этого зажал его под мышкой, снизу придержал локтем и засеменил на полусогнутых на перрон. По его расчетам, для девяноста процентов окружающих старый интеллигент должен выглядеть именно так, а если какой-нибудь проницательный чекист и заметит наигрыш, так это только к лучшему.
Идти на контакт с Вадимом должен был Новиков, а Шульгин осуществлял непосредственное прикрытие. Под докторским пальто на нем был облегающий, «дипломатический» кевларовый жилет, в карманах две восемнадцатизарядные «беретты» с глушителями, а в саквояже — замаскированный под врачебные инструменты и медикаменты комплект приспособлений прямо противоположного назначения, из арсенала ниндзя и иных спецслужб.
Среди них и такие примитивные орудия, как смертоносные звездочки — сюрикены, и новомодные изобретения, вроде фотоимпульсных гранат, пирожидкостные патроны с газом «си-эн» и кое-что еще более эффективное.
Если чекисты вздумают начать грубую игру, они будут в должной степени изумлены.
Новиков при обсуждении встречи не хотел допускать, что на Лубянке сидят дураки, способные пойти на заведомо проигрышную комбинацию, но Шульгин заверил его, что дураки есть везде. Вдруг как раз такой и подвернется, решит, что проще выколотить из партнера все необходимое в застенках внутренней тюрьмы, нежели плести психологические кружева в условиях жесткого цейтнота. Исходя из «острого варианта», он и взял на себя тактическое обеспечение контакта, резонно предположив, что в любом другом случае его предусмотрительность вреда не принесет.
Людей на заплеванном перроне, продуваемом стылыми сквозняками, было пока немного, а те, кто решил быть поближе к грядущему поезду и выиграть при посадке драгоценные минуты, в основном устроились со своими мешками и чемоданами вдоль стен, где было позатишливее.
Прохаживаясь по краю дебаркадера в своем обличье красного командира, резко выделявшем его из общей, понуро-агрессивной массы, он ощущал себя в шапке-невидимке. Потому что все внимание стражей революционного порядка в форме и в штатском сосредоточивалось как раз на людях толпы, из которой наметанный глаз легко вычленял «подозрительные элементы», с него же, вызывающе позвякивающего шпорами, взгляды патрульных и сыскарей соскальзывали, как брызги воды с хорошо начищенных сапог.
Заложив руки за спину, он скучающе поглядывал по сторонам и, несмотря на напряженность момента, с легкой печалью вспоминал, как они с Сашкой и Олегом отъезжали с этого вокзала в шестьдесят девятом году, когда впервые выбрались на Селигер. Шульгина тогда провожала подружка с длинными, ниже плеч соломенными волосами, а он, Андрей, наблюдал со стороны за сценой прощания и тут же, на месте, сочинял романтические стихи…
Новиков дошел до конца перрона и повернул обратно. Ничего подозрительного он пока не заметил. Все же, скорее всего, Сашка паникует. Наиболее вероятен сравнительно пустой разговор вокруг да около, после чего Вадим должен предложить встречу на более высоком уровне, может быть, прямо сегодня.
Круглые вокзальные часы показали, что до назначенного времени осталось семь минут. Оглянувшись, он попытался разглядеть поблизости Шульгина, но безуспешно. Да и странно, если б было иначе.
Хоть и не опасался Андрей каких-то крупных неприятностей, но перед походом на вокзал провел беседу с Басмановым. Главное, он предостерег его от опрометчивых, импульсивных действий.
— Нам ведь ничего реально не угрожает и угрожать не может, Михаил Федорович. Перейти к самостоятельным и решительным действиям вы должны в одном-единственном случае — если мы с Александром Ивановичем будем неожиданно и достоверно убиты. Тогда вся полнота власти переходит к вам. Делайте, что сочтете нужным. Отомстите за нас, если вам захочется. Штурмуйте Кремль, Лубянку или уходите из города… Воля ваша. Не забудьте только немедленно сообщить о происшедшем и своих планах на «Валгаллу».
Если увидите, что мы захвачены в плен — освобождать не пытайтесь. Немедленно выходите на связь с Берестиным или Воронцовым, доложите все и выполняйте их приказы. Они сообразят, как быть…
На самом ведь деле, и Новикову от этого было даже немного скучно, риск сводился только к возможности крайне маловероятной смерти от разрывной пули в голову. Чтобы мозги разлетелись по окрестностям. Попади он или даже они с Сашкой оба — что тоже маловероятно — в руки ЧК, в ближайшие час-два Левашов сможет настроить пространственный канал по пеленгу и выручит из любого подвала или каземата.
Его размышления прервало появление на перроне Вадима. Теперь тот тоже был в военной форме. Увидев Новикова, широко улыбнулся, как старому знакомому протянул руку. Наверное, до последнего опасался, что встреча сорвется или на нее придет заведомо подставная фигура.
Форма ему шла, и заметно было, что начал он ее носить действительно еще в старой армии.
— Пойдем куда-нибудь? — спросил Новиков. — Или здесь поговорим?
— Если никуда не пригласите, можно и здесь.
— Пригласил бы. В вокзальный ресторан. Тут до вашего эксперимента совсем неплохо принимали, — сказал Новиков наугад, но безошибочно, ибо не мог быть плохим ресторан в первом классе связывавшего две столицы вокзала.
— Да уж, — согласился Вадим. — Вы без сопровождения?
— Сами смотрите. Только я думаю, если вы чего затеяли, два или три человека охраны ничего не изменят. Вы же сюда хоть полк привести можете.
— Правильно думаете. Одним словом, доложил я своему начальству, как у нас с вами все получилось. Я снова рисковал, пусть и не в той мере, однако здравый смысл у моего еврейчика восторжествовал. Заинтересовали вы его чрезвычайно. И так и этак он ваши варианты поворачивал. Он ведь далеко не глуп, я бы сказал — талант в своем роде…
Новиков и не мог увидеть Шульгина на перроне, потому что тот уже отыскал великолепный наблюдательный пункт на площадке второго этажа какого-то служебного хода. Через выходящее на перрон полукруглое низкое окно он, как из ложи бенуара, видел и всю прилегающую территорию, и момент встречи, и их неспешный променад вдоль путей — словно и вправду два сослуживца коротают время в ожидании поезда.
Пока все было спокойно. Мимо Шульгина несколько раз проходили вверх и вниз люди в путейских шинелях и фуражках, но никого не заинтересовал усталый и озябший старик. У одного железнодорожника с сигнальными флажками в руках он даже спросил, будет ли состав на Питер хоть к полуночи, и тот ему ответил неопределенно, но обстоятельно.
Предчувствие неприятностей по-прежнему не оставляло Шульгина, и особенно оно усилилось, когда вдруг у дверей в торце перрона возникли парный пост с винтовками у ноги и еще два таких же у боковых выходов. Впрочем, это могло означать лишь подготовку к предстоящей посадке, тем более что и среди ожидающих поезда обозначилось некоторое суетливое оживление. Еще чуть позже появился человек в красной фуражке дежурного, внизу глухо загомонили, кто-то ломился в боковую дверь, а его не пускали, несколько групп военных в хороших шинелях начали оттеснять перронных сидельцев от края платформы в дальний конец галереи. Только вокруг Новикова с его собеседником сохранялось разреженное пространство. Шульгин привычно подобрался.
Любое изменение обстановки чревато опасностью, хоть и похожа эта суматоха скорее на подготовку к некоему спецмероприятию, вроде перевозки заключенных или отправки особо важного груза. Вон и лапа входного семафора поднялась. Действие, явно предвещающее прибытие поезда. Однако мало ли…
Новиков тоже обратил внимание на эти приготовления, даже будучи увлеченным интересно складывающимся разговором. Оказывается, не для пустой болтовни явился чекист.
— Что за беготня? — спросил он, на полуслове прервав Вадима.
Тот пожал плечами.
— Кто его знает? Поезд ждут, наверное. А что же еще? Нам какое дело?
— Если поезд, тут сейчас не до разговора будет.
— А, ну конечно. Уйдем, раз так. Хотите, ко мне поедем, там и продолжим. У меня еще много чего сказать имеется…
— Куда к вам? На Лубянку? — усмехнулся Андрей, вполне успокоившись.
— Зачем? У меня квартира отдельная, и недалеко, на углу Трубной.
Новиков не стал возражать. Вокзал ему надоел. Слишком много отвлекающих и нервирующих факторов. Надо только подать Сашке сигнал, чтобы организовал сопровождение и двигался следом, как он умеет, в трех шагах и невидимкой. Чтобы разговор фиксировать.
— О, смотрите, что за явление? — дернул Новикова за рукав Вадим.
Сквозь остекленную до половины арку главного пути в вокзал въезжало нечто, чуть более короткое и низкое, чем «нормальный пассажирский вагон образца 1911 года», но побольше трамвая, сверкающее полированным деревом корпуса, бронзовыми накладками на бортах, стеклами широких окон. И без паровоза.
— Нечто вроде шикарной моторной дрезины, — сказал Андрей. Он видел подобную в свои журналистские времена. На такой дрезине разъезжал по БАМу замминистра путей сообщения.
— Кто бы это мог быть? Неужели Зиновьев на съезд прикатил? — предположил Вадим. — Тогда давайте взглянем. Любопытная фигура. Лучший друг Ильича и соперник Троцкого.
Новикову тоже было любопытно вблизи увидеть легендарного, вернее, пресловутого вождя Петрокоммуны, председателя Коминтерна и кандидата в члены Политбюро.
Но о каком съезде помянул Вадим? Он вроде из истории партии подобного не помнит. Девятый прошел, десятый как раз под Кронштадт подгадает. Разве что в связи с обстановкой внеочередной объявили? Тогда вообще чудесно, к нему бы и приурочить акцию…
Роскошный экипаж, замедляя ход, плыл вдоль платформы. И когда он поравнялся с тем местом, где стоял Новиков, Андрей машинально, по приобретенной в метро привычке, сделал два шага назад, не отрывая глаз от окон дрезины, пытаясь разобрать, кто же там внутри.
И тут его резко и грубо схватили за руки, выворачивая их к лопаткам.
Глава 24
Шульгин, увидев въезжающую в вокзал дрезину, подался вперед, опершись коленом и одной рукой о подоконник. Пусть он и не имел подготовки профессионального телохранителя, но хорошо знал, насколько опасной может быть внезапно тормозящая рядом машина.
Когда от стены за спиной Новикова отделились двое парней в пиджаках и картузах и бросились на Андрея, Шульгин не потерял ни секунды.
Еще разлетались осколки стекла и сыпались вниз переплеты рамы, а он уже мягко приземлился на плиты перрона, в левой руке по-прежнему сжимая саквояж, а правой выдергивая из-за отворота пальто пистолет.
Парни, заламывая Андрею руки, пригибали его к земле. Вадим метался сбоку, пытаясь ухватить Новикова за шею. Со всех сторон набегали еще какие-то люди.
Водитель дрезины ошибся при торможении на какие-то несколько метров. Это и поломало чекистам все расчеты.
Новиков, опомнившись, врезал каблуком с подковкой под колено выкручивавшему его правую руку агенту. Тот, вскрикнув, чуть ослабил хватку, чего Андрею было достаточно. Силой и ростом он превосходил любого из своих противников, не слишком вдобавок тренированных и плохо кормленных. Разгибаясь с поворотом, головой попал Вадиму в подбородок. Освободив руку, наотмашь хлестнул налево, не успев даже сжать кулак. Кисть сразу онемела. Попал, кажется, по зубам или по углу челюсти. И тут часто захлопал пистолет Шульгина. С десяти шагов он не промахивался даже в подброшенную спичечную коробку.
Стреляя дуплетами с интервалом в секунду, он опрокинул навзничь первого чекиста, вдребезги разнес череп второму, все еще цеплявшемуся за руку Новикова.
Не обращая внимания на стекающее по щеке липкое и горячее, Андрей ухватил Вадима за отворот френча и от всей души, апперкотом, как когда-то учили в секции, ударил чекиста в печень.
Хотел крикнуть Сашке, что делать дальше, но тот в советах не нуждался. Его время, наконец, пришло.
Развернувшись на месте, как матадор перед рогами быка, Шульгин вложил прозвучавшую, как треск рвущегося брезента, очередь на пол-обоймы в проем распахнувшейся вагонной двери, перепрыгнул через рухнувшее на ступеньки тело, оттолкнул плечом еще не успевшие упасть два других, помог Новикову втащить в тамбур обвисшего, как пустой водолазный скафандр, Вадима.
Бросив на пол свой саквояж, упершись спиной в раму двери, а ногой в поручень, Шульгин навскидку бил уже из двух стволов вдоль перрона, не разбирая, в любого, кто бежал в его сторону.
Андрей, на ходу выдирая из кобуры свой «стечкин», пронесся по салону, в упор выстрелил в мелькнувший навстречу белый овал чьего-то лица, ткнул стволом в бок едва начавшего привставать со своего сиденья машиниста, совершенно обалдевшего от мгновенного поворота событий.
— Гони, сволочь, вперед! — махнул для понятности рукой, показывая направление, потому что если тот сдуру или намеренно дернет дрезину в глубь вокзала, в тупик, им конец.
— Гони, три секунды тебе! — громыхнул, подтверждая угрозу, пулей в потолок и снова наставил дымящееся дуло в вытаращенные страхом глаза.
«Черт, и Сашку поддержать надо, и этого не оставишь…» — промелькнуло в голове без слов, на уровне ощущения.
Водитель, к счастью, не впал от страха в ступор, оказался сообразительным, плюхнулся на сиденье, перекинул реверс и поддал газу. Дрезина дернулась, скрежетнула ребордами и пошла на выход.
Несколько уцелевших, но оставшихся с носом чекистов, рассыпавшись по перрону, били вслед уходящей дрезине из наганов. Оглушительно бабахнула трехлинейка, за ней еще и еще.
— Ну я вам, бля, сейчас… — Шульгин расстегнул саквояж и неудобно, с левой, швырнул одну за другой фотоимпульсные, оформленные под перевязочные пакеты — не ошибешься на ощупь — гранаты. Присел, зажмурившись, спрятав голову за глухую стенку тамбура.
Миллионносвечовые вспышки затопили прикрытый стеклянным куполом объем перрона невыносимым ярко-фиолетовым цветом. Словно прямо в него угодили несколько гигантских молний. И тут же ударил гром, от которого у попавшего под звуковую волну человека сутки и больше стоит в голове низкий непрекращающийся звон. Если уцелели барабанные перепонки, конечно.
Дрезина, как пуля из ствола, стремительно набирала ход, будто брошенная вперед настигшей ее энергией взрыва.
Убедившись, что выходной семафор станции остался позади, Новиков осмотрелся. Дрезина действительно предназначалась для весьма высокопоставленных особ. Отделка салона — как на яхте миллионера: дерево не то красное, не то розовое, кожа, бархат, атласные занавесочки, хрустальные пепельницы и вазы для цветов, на полу хоть и замызганные, но настоящие ковры и до сих пор не выветрившиеся запахи, напоминающие о прошлой жизни, пусть и основательно перебитые свежим пороховым и застарелым махорочным дымом. Этот махорочный дух уже достал его в Советской России. За потерей традиционных табаководческих районов страна перешла на отечественный продукт, и здешние снобы смаковали кременчугскую и поругивали елецкую, находя оттенки вкуса и аромата с той же изощренностью, что их потомки в «Житане» по сравнению с «Кентом». Впрочем, особенно разглядывать интерьер было некогда. Дрезина разогналась уже километров до шестидесяти. Напуганный механик, как двинул рычаг газа до упора, так и сидел, оцепенев, не замечая, что скоро двигатель пойдет вразнос. По сторонам мелькали темные контуры одноэтажных строений и редкие фонари.
Насколько Новиков помнил, эта дорога должна пройти мимо Рижского вокзала, нырнуть под Крестовский мост, а потом мимо Останкина, на Химки, Зеленоград и так далее… Он не знал, как быстро современная техника позволяет передать по линии приказ задержать дрезину. А она ведь не автомобиль, в сторону не свернешь!
С момента их прорыва прошло, наверное, уже минуты три. Исходя из ситуации и возможностей человеческой психики, способность предпринимать осмысленные действия у чекистов, если кто-то из руководителей операции присутствует на месте и вдобавок остался цел и невредим, появится еще через три-четыре минуты. Ну а дальше будет зависеть от скорости прохождения информации, наличия в нужном месте нужных людей, их личных способностей… Двадцать минут — вот реальный оперативный запас времени.
Еще раз для острастки покрутив перед носом машиниста стволом и приказав ему сбросить скорость километров до тридцати, Новиков, хватаясь рукой за спинки кресел, переступив через лежащее поперек салона тело, прошел в следующий отсек. Там Шульгин как раз закончил стягивать ремнем локти лежащего носом в ковер Вадима.
В тамбуре подрагивали и, казалось, шевелились четыре трупа. Стрелял Сашка, как всегда, точно. Да и сам он не промахнулся, полчерепа «своему» снес. Правда — в упор, гордиться нечем.
Одеты железнодорожниками, под тужурками кобуры наганов. Не повезло «товарищам», так их и вина. Если уж взялись, надо было еще на ходу спрыгивать, как это нормальные путейцы всегда делают, и с разгона набрасываться, а не толпиться кучей в дверях.
Входная дверь по-прежнему болталась незакрытая и лязгала от каждого удара колес по стыкам. Чисто машинально Новиков собрал оружие, а тела поочередно сбросил в темноту. Какие церемонии, через полчаса сами неизвестно, где будем.
— А этот чего? — спросил он про Вадима, вернувшись в салон.
— Да не пойму, — ответил, подмигнув, Шульгин. — Похоже, не жилец.
Как раз в этот момент Вадим пришел в себя, но глаз не открыл, желая, как водится, сначала разобраться в обстановке. А то ведь последнее, что он помнил, это ощущение радости. Операция, против которой он сначала резко возражал, все-таки удалась, мастерски поставленная Аграновым. Дрезина — вот она, сейчас втолкнем туда «полковника», и готово! Потом вдруг удар, боль, темнота, и сразу же снова — боль, темнота, дробный металлический перестук под левой щекой, чужие голоса и перед приоткрытым глазом — старомодные ботинки и обтрепанные обшлага брюк.
Движение его ресниц и чуть приподнявшееся веко сразу и заметил Шульгин, в своей врачебной практике поднаторевший разоблачать уловки пациентов, симулирующих эпилепсию.
— Так его вслед за теми, под откос? — спросил Новиков.
— Куда же еще? Не хватало нам по городу ночью с покойником таскаться. Счас посмотрю, что у него в карманах — и за борт…
Вадим вздрогнул и открыл глаза. «Полковник» сидел напротив, на полукруглом диванчике, а рядом с ним старичок в штатском, чьи ноги он и увидел, приходя в себя.
— Ты гляди, очухался, сука! — с веселым удивлением воскликнул старичок, и Вадим по голосу узнал второго полковника, который, строго говоря, был первым. А тот наклонился, толчком в плечо перевернул чекиста на спину, спросил участливо: — Что, допрыгался, падла? Мы с тобой по-людски, а ты вот как. Значит, извиняй, если что…
Вадим с тоской и отчаянием понял, что вот теперь-то пришел настоящий амбец.
Чутье не обмануло. Знал ведь он, что добром не кончится, до последнего сопротивлялся Агранову, но не смог убедить. Да ведь, если разобраться, и задумано-то было вроде и хорошо, остроумно, с размахом. За день добыли дрезину бывшего генерал-губернатора, ныне числящуюся за Совнаркомом, ввели в операцию больше полусотни человек, специальную дачу подготовили, где сейчас Яков ждет…
Не поверил он, видишь ли, что «полковник» сам, добровольно придет и хвост за собой не приведет. А тот ведь уже согласился. Ну вот и пожалуйста. Захотелось взвыть от отчаяния и биться головой об пол… Как при крупном и неожиданном проигрыше в карты.
Новиков вернулся в кабину машиниста.
— Ты тоже чекист? — спросил он, прикрывая за собой дверь, чтобы свет из салона не отблескивал в лобовом стекле, мешая видеть дорогу. Но и после этого понять, где они сейчас находятся, не смог. Сплошная темень да изредка мелькающие путевые огни.
— Нет, нет, только машинист. Пришли, сказали, что нужно ехать, больше ничего. Больше ничего… Велели подать к перрону, остановиться по команде. Куда, зачем — ничего не знаю.
— Молодец, что плохо команду исполнил. — А правду говорил механик или врал, Новикову разбираться времени не было. И не имело никакого значения.
В кабину плечом вдвинулся Шульгин:
— Выскакивать надо…
— Ясное дело, я и прикидываю.
— Слышь, шеф, где едем? — спросил Шульгин, словно у шофера такси.
— Сейчас Останкино будет.
— Ну вот ты притормаживай потихоньку, примерно напротив дворца Шереметьевского остановишь. Мы соскочим, а ты снова по газам, на полную. Чем дальше уедешь, тем для тебя лучше. А где мы спрыгнем — забудь.
Машинист с готовностью закивал головой, забормотал что-то. Шульгин внимательно наблюдал за его манипуляциями с рычагами управления. Гул двигателя стих, дрезина начала замедлять ход.
— Вон там дворец будет, направо через пустырь и кладбище…
— Вот и хорошо. Стоп. Давай, Андрей, высаживай клиента.
Машинист очень старался, и дрезина остановилась плавно-плавно. Новиков, толкая перед собой Вадима, спустился на насыпь. Шульгин рачительно сложил в саквояж брошенные Андреем на диване револьверы чекистов. Вернулся, обхлопал карманы железнодорожника. Оружия при нем не было. Может, и вправду машинист.
— Бог с тобой, дядя. Езжай. Зря ты с Чекой связался… — И совсем уже собрался выстрелить ему в затылок, но вдруг передумал. Нет же никакой необходимости, только привычка к простым решениям. Опасный симптом…
Без размаха ударил рукояткой по околышу замасленной фуражки, только чтоб отключить ненадолго. Двинул вперед рычаг газа, одновременно освобождая тормоз. Подхватил саквояж и выпрыгнул через переднюю дверь на слабо освещенный откос.
Гудя набирающим обороты двигателем, дрезина покатилась вперед, все чаще громыхая колесами на стыках.
Оступаясь в темноте и то толкая перед собой, то таща под локти не сопротивляющегося, но словно бы пьяного чекиста, они вскарабкались по пологому склону дорожной выемки. Привыкнув к темноте, увидели покосившуюся ограду и кресты кладбища, а дальше, в полукилометре примерно, чернеющий массив дворцового парка. Где-то здесь через сорок пять лет поднимется знаменитая башня с рестораном «Седьмое небо».
Сквозь полураскрытые ворота прошли на территорию усадьбы, нашли укромное место на опушке, среди густых зарослей орешника.
Новиков посмотрел на светящиеся стрелки часов. С момента начала заварушки прошло двадцать три минуты. За половину академического часа чуть не десяток человек лишились жизни, а история, возможно, опять изменила свой ход.
— Вот сейчас там бардак творится, — предположил Шульгин, раскуривая папиросы себе и Новикову. Андрей включил рацию. Басманов отзвался сразу.
— Я Новиков. Что у вас?
— Андрей Дмитриевич! — Обычно бесстрастный капитан не смог сдержать удивления и радости. — Где вы? Живы? Тут черт знает что творится. Я на крыше ракгаузов Ярославского. К Николаевскому подойти невозможно. Паника, стрельба. Из наших, кто внутри, на связь никто не выходил. Наружные посты обстановки не знают, ждут приказа. Я думал, вам конец, когда гранаты рванули. Как вы пробились? Целы? Отвечайте…
Новиков еще только собирался придумать, какой приказ отдать Басманову и каким образом добираться в Москву с пленником, лишающим их свободы маневра, как Шульгин отобрал у него рацию, сунув взамен светящуюся алым огоньком папиросу.
— Капитан. Здесь Шульгин. У нас порядок. Находимся в районе Останкина. Начинайте общий отход. Три-четыре группы направьте переулками через Каланчевку в сторону Лубянки, на остальные вокзалы. Пусть устроят как можно больше шума, имитируя прорыв мощной войсковой группировки. С остальными силами уходите на базу, приготовьтесь к возможному отступлению по подземельям. Отвлекающие группы через полчаса прекращают бой и тихо присоединяются к вам. Поручик Хилл по моему приказу наблюдает за автомобильной стоянкой. Все автомобили, кроме одного, уничтожить. Один захватить и организовать автогонки со стрельбой по важным правительственным объектам, исключая Кремль. Подсадите к нему человека, хорошо ориентирующегося в городе ночью… Пусть не рискуют, в серьезный бой не ввязываются. Отход обязательно к югу, выше линии Мясницкая — Арбат не подниматься.
— Кого же, кроме Рудникова? Он недалеко.
— Значит, его. Выйду на связь часа через два. У меня все.
— А вы как же?
— Видно будет. С нами важный «язык». Попробуем спрятать его в надежном месте. Прежний приказ остается в силе — если до утра на связь не выйдем, принимаете командование. У меня все.
Выключив рацию, Шульгин двумя затяжками докурил папиросу.
— Ну и что дальше? — спросил он Новикова.
— Я думал, ты уже все сам решил…
— Меньше половины. До утра в городе будет очень весело. Под это дело мы можем проскочить…
Новиков промолчал, ожидая продолжения. Без церемоний стянул с Вадима френч плотного сукна, расстелил на бугорке. Снова связал пленнику руки.
— Садись. Этот герой и так не замерзнет, а я мокрых штанов страсть не люблю.
— Сяду. Только кореша нашего подальше оттащу, чтоб не подслушивал. Мало ли что.
Сашка усадил Вадима спиной к дереву метрах в пятнадцати, для надежности привязал капроновым шнуром.
— Так куда же ты проскакивать собрался? — вновь спросил Новиков.
Видно было, даже в темноте, что Сашка мнется, не находит подходящих слов.
— Может, за пределы города? Отскочить на полсотни километров к северу, в деревню глухую забраться, пересидеть пару дней до выяснения, с этим вот как следует разобраться…
Смысл в Сашкиных словах был. На Самарский к тетушке с таким грузом не поедешь, неудобно просто. На Хитровке к утру может начаться большая война. И вообще… ВЧК сейчас на ушах стоит, а через полчаса и все военное начальство тоже на них встанет. Когда Басманов подключится. Десяток способных парней с автоматами и гранатами свободно могут изобразить высадку в центре Москвы стратегического десанта.
— Можно. Но… Неизящно как-то. А если внаглую сработать — заставить нашего хмыря показать свою явку? Наверняка уж там его ни в каком варианте искать не станут…
— Интересная мысль. А мне еще интереснее в ум пришла. И, кстати, не первый раз. Как с Иркиной квартирой? На Столешках. Блок у меня с собой. Сработает или нет?
Новиков не знал ответа. Он и сам, еще в Севастополе, спросил у Ирины о судьбе аггрианской межвременной базы. Она только руками развела. Неизвестно ведь, на какой временной линии они сейчас находятся. И какова по проекту «глубина погружения» квартиры в толщу времен. Ирина по своему статусу и уровню подготовки не слишком отличалась от японских летчиков-камикадзе, умеющих взлетать и вести самолет к цели, но садиться, за ненадобностью, не обученных.
А Сильвия, которая по идее должна бы знать все, тоже отговорилась, мол, в теории, зона действия базы ограничивается физическим сроком существования здания, в котором она размещена, а практически… Неизвестно, куда и почему исчез предыдущий резидент и как была им настроена управляющая автоматика. Тем более что в самом деле не выяснено, на какой мировой линии и в какой Реальности они сейчас пребывают.
— Ну, а если все же попробовать? Что мы теряем? Не выйдет — не надо. Помнишь, как в Замке? Насчет новых сущностей? Вдруг удастся? Блок плюс волевое усилие плюс еще что-то… Тебе же видение было… — Энтузиазм Сашки разгорался на глазах. — Делать нам все равно почти нечего.
— Попробуем, — устало согласился Новиков. — А как добираться туда будем, придумал?
— Нет ничего проще. Вызову Ястребова. Для чего-то же я у Олега «додж» выпросил? Пусть сюда едет. Главный сабантуй сейчас внизу пойдет, а мы тихонько, переулочками…
— Убедил. Вызывай Ястребова. Ну, а вдруг да не получится? Обратно прорываться, с боем?
— Не дрейфь, должно получиться. Нутром чую…
…А заварушка и вправду вышла нешуточная. Когда Шульгин бросил свои гранаты, из сотни примерно людей, находившихся на перроне, большая часть, в том числе практически все участвовавшие в операции чекисты и заградотрядники, оказавшиеся в радиусе двадцати метров от вспышек, были выведены из строя, кто на несколько минут, а кто и надолго.
Паника началась в отделенном от перрона застекленными дверями зале ожидания. Много чего повидавший за годы войны народ вообразил, что полвокзала уже уничтожено чудовищным взрывом, и не стал ждать следующего. Многотысячная толпа рванулась через окна и двери наружу, сминая охрану и топча упавших. Рев, вой, крики и стоны, беспорядочная стрельба в воздух.
Находившиеся на перроне двое офицеров тоже были контужены, но, имея представление о действии фотоимпульсных гранат, головы не потеряли. Тем более что оказались они довольно далеко от места взрыва, и через несколько минут зрение и слух у них восстановились. В давку они не полезли, а спокойно выбрались наружу вдоль путей.
Остальные посты прикрытия тоже строго выполнили инструкции. В чем и проявилось преимущество хорошо обученных офицеров — умение следовать приказу, а не эмоциональному порыву, каким бы оправданным он ни казался.
Нервничал только Басманов, не знавший, что предпринять. Он со своего КП слышал только выстрелы и видел отблеск вспышки, которую принял за настоящий взрыв. А это могло означать и гибель его командиров. Наблюдая за толпами разбегающихся по площади, дико кричащих людей, суетливыми и беспомощными действиями красноармейских патрулей, капитан собирался уже дать команду прорваться в вокзал со стороны депо, найти Новикова с Шульгиным, живых или мертвых, и в любом случае устроить большевикам побоище, которое они долго не забудут. У него хватало сил и возможностей взорвать и сжечь все три вокзала… Двадцать готовых на все рейнджеров, у каждого по шесть автоматных магазинов, и еще пистолеты, и много гранат. Чертям жарко станет!
Только сигнал вызова рации остановил его порыв.
Четыре тройки он направил веером в сторону Красных ворот и Садового кольца с заданием перекрыть основные подходы к Каланчевской площади от центра, две вызвал к себе и указал им позицию в переулке за Казанским вокзалом. А сам отправился туда, где спокойно дожидался распоряжений поручик Юрченко. Тот по-прежнему сидел на обшарпанном помятом чемодане в тени забора и наблюдал в бинокль за доверенной его попечению стоянкой. Теперь было ясно, что все автомобили на ней принадлежат ВЧК. Возбужденные общей суматохой шоферы сбились в кучу. Один из них, вытащив наган, кинулся внутрь вокзала, остальные, как и поручик, скованные ранее полученным приказом, оставались на месте, но в попытках выяснить, что же случилось, преграждали дорогу то одному, то другому бегущему.
Некоторые уворачивались, обуреваемые стремлением как можно скорее покинуть опасное место, пока не началась непременная облава, другие начинали что-то сбивчиво объяснять, размахивая руками и путаясь в словах. Со стороны смотреть на происходящее было даже интересно. Как немое кино без титров.
— И уничтожить и одновременно захватить? В одиночку? Не хило… — с веселым удивлением сказал, выслушав Басманова, поручик.
— Подожди, сейчас Рудников подойдет. Он машину угоняет, ты остальные жжешь. А потом тоже в машину — и повеселитесь…
Поглядев на действия Рудникова, и Басманов и Юрченко убедились в правильности выражения Козьмы Пруткова: «Каждый человек необходимо приносит пользу, будучи употреблен на своем месте». Бывший репортер уже не раз демонстрировал свои недюжинные актерские способности. И сейчас он нашел великолепный способ выполнить задание. Одетый в поношенную красноармейскую форму, в обмотках, фуражке блином, с выбивающейся из-под ремня гимнастеркой, он обошел площадь по периметру, таща на плече пулемет «ПК» с пристегнутой патронной коробкой, и не привлек ничьего внимания. Что могло быть естественнее вооруженного человека в подобной обстановке. Вообразить же, что столь открыто может разгуливать неприятель, никому не пришло в голову.
Выйдя на стоянку, он осмотрелся, потом крикнул зычно, обращаясь к водителям:
— Эй, шоферня, которая тут машина номер 237?
— Моя, а что? — отозвался шофер черного или темно-синего «роллс-ройса», стоявшего крайним.
Он купился на примитивную хитрость. Так человек, у которого на пальцах крупно выколото «Ваня», не понимает, откуда его может знать обратившийся по имени незнакомец. Номера-то у тогдашних машин были только на переднем бампере, а Рудников подошел сзади.
Поручик свалил на заднее сиденье пулемет, залез на широкую подножку.
— Вон туда, к воротам подъезжай, — показал пальцем. — Требуют тебя…
Шофер машинально завел мотор, включил конус и скорость. Тронулся и только потом спохватился:
— А кто требует-то? Мне приказано здесь стоять…
Рудников молча ударил его громадным кулаком пониже уха, отбросил на левое сиденье. Придержав руль, перешагнул через край невысокой дверки. Резко прибавил газу, разворачиваясь по широкой дуге.
Как только он удалился от стоянки на достаточное расстояние, Юрченко выстрелил из подствольника. Басманов подал ему следующую гранату.
Сделав последний, пятый выстрел, поручик прощально махнул рукой Басманову и запрыгнул на подножку чуть притормозившего рядом «роллс-ройса». Капитан забросил в салон машины чемодан.
Они уносились с площади под аккомпанемент рвущихся бензобаков, озаряемые оранжевыми отсветами столбов гудящего пламени.
— Нормально, Витя! — давясь встречным ветром и восторгом, кричал Юрченко. — Гони по Мясницкой, а там посмотрим! — Передернул затвор пулемета, установил его на гармошке опущенного тента за задним сиденьем. Рядом положил автомат. Откинул крышку чемодана, набитого гранатами и патронными рожками. Забавляясь, подпрыгнул на высоких подушках, проверяя мягкость пружин. В таких автомобилях ему еще не приходилось ездить.
— Гуляем, мать вашу! Эй, ямщик, гони-ка к Яру!.. Лошадей, блин, не жалей!..
Рудников, пригнувшись, с усилием удерживал рвущийся из рук руль. Усмехался щербатым ртом. Резвится паренек. Ну, пусть порезвится. Неизвестно, доведется ли до утра дожить.
Глава 25
Новиков сидел под кустом, устало уронив руки на колени. «Получится или нет?» — думал он, но как-то равнодушно. Напряжение последних суток сменилось вялостью и апатией. Слишком много всего сразу. Опять судьба заставила его стрелять и убивать. А он давно уже не испытывает даже боевого азарта. Но и угрызений совести тоже. Не он первый начал.
Так получится отпереть спасительную дверь? Провожая их в автономное плавание, Антон сказал, что дарит им нетронутую Реальность, в которой не будет ни форзейлей, ни аггров. Он слишком поздно сообразил, что такого не может быть — ведь здешнее время неотличимо от того, что было на самом деле. А разве оно стало бы таким, если бы в нем не действовали пришельцы? Без их вмешательства историческая линия непременно должна уклониться, неизвестно куда, но сильно. Или Антон хотел сказать, что перемещает их в Реальность, ответвившуюся от основной как раз в момент перехода? Чьим же воображением она создана — Держателей, самого форзейля или кем-то из них — им самим, Сашкой, Берестиным? Пока это за пределами разума.
Но раз ему открылась тайна Великой Сети, так, может, и База откроется? Избушка-избушка, стань к лесу задом… Глядишь, так пойдет, и для них игра в Реальности станет повседневным времяпрепровождением. Новиков зябко поежился. Перспектива заманчивой не казалась. Или это просто с непривычки?
Вдалеке послышался звук автомобильного мотора. Низкий, пофыркивающий, какой не спутаешь с гулким рокотом здешних машин, он четко выделялся в ночной тишине, нарушаемой только лаем деревенских собак. По вершинам деревьев заплясал свет сильных фар. Шульгин вышел навстречу, показать дорогу.
Как они ехали, Новиков не запомнил. А Ястребов ориентировался почти свободно. Чтобы не попасться раньше времени на глаза патрулям, он сначала взял еще круче к западу, выехал к Петровско-Разумовской академии, потом переулками Верхней и Нижней Масловки вывел машину к Савеловскому вокзалу. Ехали медленно, почти со скоростью извозчичьей пролетки, включив лишь подфарники. И дорога была не приведи бог, и чтобы лишнего внимания не привлекать раньше времени.
Вадим лежал лицом вниз на ребристом металлическом полу и лишь глухо покрякивал на выбоинах мостовой. Брезентовый тент был поднят, и в таком виде «додж» мог сойти за небольшой грузовик — тогда по дорогам России колесили автомобили десятков моделей, почитай со всех стран Европы. Впереди справа сидел Шульгин с автоматом на коленях. Новиков с пистолетом — позади Ястребова.
Где-то в районе будущей станции метро «Новослободская» корнет остановил машину.
— Как дальше поедем? Можно напрямик — по Тверской. Быстрее будет. Или опять переулками, через Грузины, а то по Дмитровке… Хоть так, хоть этак, а в самый центр лезть придется…
Шульгин привстал с сиденья, выглянул наружу, прислушался. Ночь тихая, глухая, обыватели затаились за стенами одно-двухэтажных домов, ни огонька в окнах, ни прохожего на тротуарах. А где-то далеко рассыпается сухая, отчетливая в неподвижном воздухе дробь.
— «АКМы», — сказал Шульгин. — Не пойму, на вокзалах это или уже на Хитровке…
Андрей тоже вышел из машины. К треску автоматов примешивались похожие на щелчки кнута выстрелы винтовок, то редкие, то вдруг сливающиеся в суматошный перестук. Фронт стрельбы занимал по горизонту сектор градусов в тридцать.
— Где-то там. Хоть бы без потерь наши выскочили…
— Должны суметь, — вздохнул Ястребов. — Ученые, зря под пули лезть не станут.
Гораздо правее и дальше вдруг послышались гулкие очереди пулемета.
— Тоже наши. Не «максим» бьет, «ПК»…
— Хватит стоять, будем прорываться, пока ребята нас прикрывают, — сказал Шульгин. — Садись назад, корнет, дальше я поведу, а ты бери автомат, только без команды не стреляй…
Поехали, все так же медленно и осторожно, освещая булыжники перед капотом подфарниками, лишь изредка и на мгновение включая ближний свет.
Единственное утешение, что сейчас не те времена, когда город научились перекрывать за десять минут. Если даже поднят по тревоге весь гарнизон, то от казарм до места боя пехоте добираться не меньше часа. А с момента, когда Басманов начал операцию, прошел как раз час.
— Давай на Горького, на Тверскую то есть, — предложил Новиков. — И на предельной скорости. Если улицу не загородили баррикадой, прорвемся!
— А чего не по Пушкинской?
— Узкая, маневра меньше…
— Тогда держитесь!
Сашка вдавил педаль акселератора, включил третью скорость и дальний свет. На бешеных для этих улиц сорока километрах промчался через несколько параллельных Садовому кольцу переулков, выдерживая направление чисто интуитивно, и едва не прозевал Тверскую, настолько непохожа она была здесь на запечатленный чуть ли не в подсознании образ асфальтовой, с гранитно-мраморными «сталинскими» восьмиэтажками улицы Горького.
Круто, с заносом, заложил левый вираж, чуть не врезался бортом в похожий на телевизионную антенну, унизанный белыми фарфоровыми изоляторами столб, вышел на осевую, еще прибавил газу.
— Пять минут — и дома! — крикнул Шульгин Андрею, когда нырнули под Триумфальные ворота на будущей площади Маяковского.
Накаркал Сашка, забыл морской закон. В сотне метров от Пушкинской площади на мостовую выскочили несколько темных фигур с винтовками, замахали руками, требуя остановиться.
Может, пока не думая ничего плохого, просто выполняя приказ, то ли документы проверить, то ли реквизировать транспорт для выполнения ответственного задания.
Но Шульгину уже некогда было вникать в тонкости, а у патрульных отсутствовала привычка соразмерять скорость автомобиля со своим поведением на дороге.
Один из них, в плакатной позе, с винтовкой в поднятой руке возник в свете фар и через секунду, отброшенный кованым бампером, глухо плюхнулся на асфальт тротуара. Лязгая и кувыркаясь, отлетела на середину улицы винтовка.
Чисто рефлекторно Сашка затормозил, а уже через пару секунд сзади бабахнул первый выстрел.
— Газуй, ты что?! — заорал Новиков, а Ястребов уже откинул задний полог тента и ответил беглой серией коротких очередей.
— Направо крути! — В этих местах Андрей уже ориентировался, а все переулки оставались на своих местах, только дома другие.
«Додж» вывернул на Тверской бульвар, ломая кусты.
— Теперь налево! — Шульгин едва вписался в щель Елисеевского переулка.
— Теперь потише…
— Сам знаю, — огрызнулся Сашка.
Тихонько, будто на цыпочках, подкрался к выезду на Тверскую чуть пониже нынешнего (то есть будущего, конечно) Моссовета. Ничего подозрительного. Рывок вперед, крутой разворот с погашенными фарами, сто метров до Скобелевской площади с Обелиском Свободы на месте Юрия Долгорукого, и опять направо, в долгожданный Столешников. Выключив мотор, по крутому спуску вниз, накатом.
Обшарпанный фасад нужного дома, как и всех остальных в переулке, был темен, лишь в нескольких окнах верхних этажей мелькали отблески свечей или коптилок.
Совсем вроде недавно Андрей с Ириной бежали к этому подъезду по свежевыпавшему пушистому снегу, только с той стороны. И тоже был у него в руке еще теплый пистолет, только год на дворе стоял совсем другой, девяносто первый, но так же пахло в воздухе гражданской войной.
— Загони машину сюда, в подворотню, — сказал Новиков Шульгину, — а ты, корнет, постереги этого, — он указал на скорчившегося под продольной скамейкой Вадима. — Надо узнать, примут нас здесь?
По знакомой лестнице Новиков и Шульгин поднялись на третий этаж. В подъезде было совершенно темно, воняло, и не только кошками.
«Разруха», — вспомнил он Булгакова. Невозможно было представить, что лишь три года назад на мраморных ступенях лежали ковровые дорожки, прижатые медными прутьями, сверкали люстры, и входящие оставляли зонты и калоши внизу, в специальных ящиках.
Подсвечивая фонарем, Андрей нашел дверь явочной квартиры. Кожа с нее была не слишком аккуратно срезана, и больше половины войлочной подкладки тоже.
— Ну, давай, командир, дерзай… — прошептал Шульгин, доставая из кармана золотой портсигар Сильвии, который одновременно являлся универсальным блоком управления всевозможной аггрианской техникой, средством связи и своеобразным оружием.
Новиков отщелкнул крышку и набрал нужную комбинацию на скрытой под сигаретами планке со штифтами. Приложил портсигар плоскостью чуть выше замочной скважины, нажал рубиновую кнопку и взмолился мысленно: «Откройся же, ну, откройся…» Ничего не произошло. А когда Ирина делала это, дверь распахивалась немедленно. Может, и напрасна их попытка, нет здесь никакой секретной квартиры, а лишь обычная коммуналка, сиречь — рабочая коммуна пролетарских жильцов имени какого-нибудь борца за права аборигенов Западного Калимантана. Гнездо переселившихся сюда из подвалов гегемонов, которым интереснее набиться по тридцать человек в комнаты, где раньше жило четверо, чем заработать на собственную квартиру или домик, маленький, но отдельный. Сидят там сейчас, топят буржуйки чужими книгами и мебелью. Надо же, при царе на всех дров хватало, а сейчас, перебив эксплуататоров, от холода мрут… Будто раньше их помещики и фабриканты топливом снабжали.
«Вот ерунда в такой момент в голову лезет», — досадливо сплюнул Андрей, стараясь сосредоточиться. За плечом взволнованно и шумно дышал Шульгин, однако молчал, не вмешивался, а может, и сам пытался как-то повлиять на автоматику.
Но пришедшая в голову Новикова мысль из курса антисоветской политграмоты оказалась нелишней. За нее зацепилась другая, о том, что, если ничего не выйдет, придется возвращаться на Хитровку, в доведенную до наивысшего предела сверхкоммуну, и от омерзения, отчаяния, сознания безвыходности своего положения, загнанности в угол и еще от того, что представилось, как сейчас в переулке появится наряд чекистов (а до их логова совсем недалеко), и тогда…
От всех этих мыслей он с последней надеждой вообразил себе аггрианскую базу в виде лифта, скользящего вдоль решетчатой прозрачной трубы, пронзающей горизонты лет, словно этажи. Такие лифты он видел в Манагуа, в отеле «Центавр». Открытый на высоту всех десяти этажей холл, заменяющие колоннаду трубы и внутри них тоже прозрачные, светящиеся сиреневым неземным светом кабинки… Так он сейчас и представил себе квартиру, всю сразу, какой она была в ту их с Ириной ночь. Освещенную неярким интимным светом торшера в гостиной, спускающуюся откуда-то сверху и пощелкивающую контактами на каждом этаже. Он даже увидел светящееся окошко над дверью шахты, только вместо номеров этажей в нем выскакивали цифры, складывающиеся в даты.
Увидев все это, он, скривившись от почти физического усилия, зажмурив глаза, как бы подтягивал ее к себе, на уровень, где ярко сиял трафарет: «1920».
И, когда похожий на макет театральной сцены куб оказался рядом, Андрей сделал что-то еще, непонятное ему самому, и инстинктивное, как пируэт внезапно поскользнувшегося, но сумевшего устоять человека.
В тот же момент он словно провалился в смертельную темноту, как в открывшийся люк эшафота. И так же, как умирающий, по слухам, видит божественный свет, увидел распахивающуюся дверь и за ней освещенную электричеством знакомую прихожую. Действительно, уходя отсюда с Ириной, повернуть выключатель они забыли.
— Получилось! Тудыть твою мать, получилось… — потрясенно прошептал Шульгин. — Держи ее, держи, чтобы не исчезло, а я сейчас…
С грохотом каблуков он ссыпался вниз по лестнице. Новиков шагнул вперед, оперся спиной о косяк и подставил ногу под дверь, будто надеясь таким способом удержать межвременной проход. Словно и в самом деле перед ним был обыкновеннейший лифт.
Шульгин вернулся буквально через минуту, от полноты чувств непрерывно матерясь и подгоняя пинками Вадима, со связанными руками и веревкой на шее, будто у пленного раба с египетского барельефа.
За ними Ястребов тащил продолговатые мешки десантных контейнеров. Заглянул в прихожую, свалил груз на пол, вернулся с патронным ящиком.
— Все? Тут остаетесь? А мне что прикажете? — И, не скрывая любопытства (все же на третьем году революции увидеть столь нетронутый, ухоженный интерьер в самом центре красной столицы), спросил: — Хозяева надежные? Не слишком опасно будет?
— Все в порядке, корнет. Благодарю за службу. Берите машину и возвращайтесь на Самарский. Только уж смотрите, расшевелили мы осиное гнездо. «Хвост» за собой не притащите…
— Проскочу. Опять переулочками. И что дальше делать?
— Сидите дома, отсыпайтесь, ждите приказа. Завтра свяжемся.
Дверь наконец захлопнулась, отделяя их от порядком опостылевшей революционной столицы не только своей двухвершковой толщиной, но и непроницаемой пленкой смещенного времени.
Сил у Андрея не осталось совершенно. Хотелось прямо в сапогах упасть на широкий диван и отключиться. Неужели столько энергии ушло на то, чтобы открыть дверь? Или просто релаксация за все пережитое разом?
Зато Сашка был полон радостного возбуждения, энергии и любопытства. Наскоро избавившись от старческого грима и одеяния, он скрылся в недрах квартиры, через пять минут вернулся уже с бутылкой виски «BAT-69». Выбрось его с парашютом над Южным полюсом, он и там сумеет отыскать выпивку. Хотя с полюсом пример неудачный, на нем американская база «Амундсен-Скотт», и виски наверняка имеется. Ну тогда пусть будет пустыня Атакама… — Аллес! Этого кадра я привязал в клозете. Посадил на унитаз и штаны расстегнул, чтобы потом возиться не пришлось. Хай сидит, падла, и думает о своей печальной судьбе. А мы пока это самое…
Новиков сидел в кресле, вытянув ноги в грязных сапогах, и водил по сторонам глазами. Все точно так, как было.
Вон и пластинка лежит возле проигрывателя неубранная, и их с Ириной окурки в пепельнице. Свежие… он опять принялся считать, шевеля губами:
— Шестьдесят шестой год Берестина, потом девяносто первый наш, теперь вообще двадцатый, а сколько же в промежутках? Или действительно нисколько? Чистый солипсизм: открыл глаза — мир есть, закрыл — его нет. А на самом деле что? Мы существуем внутри Реальности или Реальность внутри нас? Абсурд. Берестин входил сюда из 1966 года нашей первой жизни, мы с Ириной из Замка, сейчас — из двадцатого года совсем другой исторической линии… И все мы — постоянные жильцы квартиры и ее посетители за плюс-минус полвека, все толпимся друг за другом, как в час пик на эскалаторе, разделенные промежутками в квант времени толщиной, но непрозрачными и непроницаемыми, как бетонная стена…
Шульгин снова появился, разыскав на кухне в дополнение к виски еще и кое-какую закуску.
— Со жратвой тут слабовато, — сообщил он. — Консервы, правда, недурственные есть, как мы во время оно в Елисеевском брали. Колбасы полпалки есть, с килограмм сыра. Три сырых яйца и шесть бутылок пива «Старопрамен». Все. Хлеба йок.
Часы в соседней комнате мелодично, с подголосками, пробили двенадцать. Новиков машинально взглянул на свои часы. На них было четверть одиннадцатого.
— Время местное, — прокомментировал Шульгин. — Давай по первой. За твой титанический успех. Значит, правда — мы теперь покоряем пространство и время исключительно силой разума. Неслабо… — Посмотрел вдруг на Андрея внимательно. — Ты это, сходил бы умылся сначала…
Новиков включил свет в огромной ванной комнате. Увидел в зеркале свое лицо, осунувшееся, с красноватыми, как от долгой бессонницы глазами и проступившей на подбородке и скулах щетиной. Волосы на левом виске слиплись колтуном, и ниже до самого воротника засохли крупные бурые сгустки крови. Он подавил подступившую тошноту, открыл горячую воду и стал яростно тереть лицо намыленной губкой.
«Неужели за полтора года я стал таким монстром? Стреляем, стреляем. По людям, как по перепелам. Промажешь — и огорчаешься. Или они все-таки не люди для нас? Живем среди них, едим, пьем с ними, воюем тоже в конце концов ради них же, а людьми не считаем? Сколько я лично уже народу пострелял?.. — Хотел посчитать, но тут же отогнал эту мысль: — А может, и не так страшно все? Кажется, Аммиан Марцеллин писал: «Когда человек много страдает, утешением ему служит целесообразность тех причин, из-за которых он страдает…» Можно сказать, что я страдаю оттого, что приходится убивать людей, о которых я ничего не знаю? Наверное, можно, иначе такие мысли мне просто не пришли бы в голову. А целесообразность?»
Он промокнул лицо махровым полотенцем, налил в ладонь хозяйского одеколона, растер по щекам и шее. Вернулся к Сашке. Тот уже принял грамм сто в одиночку, раскраснелся, бродил по комнате, перебирал пластинки.
— Повторим, сказал почтмейстер… Нет, тут вполне нормально. Если больше ничего не произойдет, точка у нас теперь железная. Можно сидеть в тепле и только команды по радио отдавать, самим руки не пачкать. — Лицо у Шульгина коротко дернулось, и Андрей понял, что сегодняшние дела и Сашке даром не прошли.
Он поставил на диск проигрывателя пластинку. Свой любимый романс «Ямщик, не гони лошадей». Пригорюнился, налил еще по рюмке.
«Напиться, что ли, до упора, до полной анастезии? — подумал Новиков. — Только раньше помыться бы в ванне, переодеться в чистое исподнее…»
— Мы вот сидим сейчас, тепло, уютно, выпиваем, и мне по случаю вспомнилось… — Оказывается, пока он думал о своем, Сашка начал рассказывать какую-то историю. Новиков прислушался.
— Призвали нас в Хабаровске на трехмесячные сборы. Служу. А тут обозначились окружные соревнования по стрельбе. Я назвался. Проверили, говорят, подойдешь. Привезли на какой-то полигон. Под Красной речкой. Со мной еще был такой лейтенант Константинов, кадровый, из кадетов, и училище Верховного Совета кончал. Нормальный парень. Ну, первый день мы отстреляли, прямо с дороги, ни в гостинице не устроились, ничего. Уже вечером какой-то майор из спорткомитета говорит — и куда я вас дену, в гостинице мест нет. Потом, правда, сжалился, позвонил, есть, говорит, генеральский люкс свободный. Деньги имеете — поселяйтесь. Нам что, еще и лучше, оба холостые, десятка не деньги. Действительно, номер — класс. А погода мерзейшая, весь день то дождь, то снег, то все сразу. Мы в пэша, сапоги — насквозь. И набегались… Константинов говорит, давай, раз мы вроде генералов, ужин в номер потребуем. И за телефон. Точно — минут двадцать прошло — стук в дверь. И въезжает тележка. Все как положено, пол-литра, салатики, бефстроганов. При тележке же, заметь, девица! Ну, я тебе дам! Длинная, с ногами и вообще. Смех же в чем — она, когда въезжала, генералов настроилась увидеть, раз люкс. И морду сделала соответственную, и так это, подобралась вся. Тоже небось шансы ловит. А тут мы… Сидим, курим, сапоги хоть и обтерли чуть, но все равно. За сменой ее эмоций очень забавно было наблюдать. Ну, потом разговорились, два рубля на чай дали. Константинов ее за задницу словчился ущипнуть. Звали ее после конца работы в гости заходить, пообещала. И не пришла, зараза… — Видно было, что непорядочность официантки, проявленная десять с лишним лет назад, его глубоко огорчила.
— И к чему ты это рассказал?
— Да так. Вспомнилось. Ковер вот, сапоги твои, и рюмки на столе… А вот как там фраер наш? Чегой-то тихо сидит. Не помер?
— А ты пойди и посмотри, — лениво предложил Новиков.
— Запросто, — согласился Сашка, но сначала произвел некоторые приготовления.
Вид у чекиста был более чем понурый. Шульгин усадил его на массивный стул, обернул шнур вокруг горла, привязал к спинке. И руки затекшие отдохнут, и особо не рыпнется.
— Таким вот образом, братец, попал ты, выходит, к нам в гости. Интересно тебе? — Он заметил, что, несмотря на свое печальное положение, Вадим не сумел скрыть удивления при виде окружающих его предметов, вроде стереокомбайна, телевизора, мебели необычного дизайна. Вообще всей обстановки гостиной, яркого электрического света, устойчивого тепла паровых батарей, приятных запахов.
— Скоро будет еще интересней, — пообещал Сашка, радушно улыбаясь. — Особенно, если затеешь и дальше ваньку валять, господин раскаявшийся прапорщик. Что же это такого обнадеживающего произошло, что ты снова решил на родную контору поработать? А нас с полковником побоку. Подумал и решил, что учение Маркса всесильно, потому что оно верно? Или как?
Новиков закурил, сцепил пальцы на коленях, зафиксировал взгляд на ушной раковине чекиста. Говорят, такой прием хорошо нервирует пациента. Хотя и без того мандражит парень. Да и правда, на что ему теперь надеяться?
— Давай, земляк, колись, — посоветовал Сашка. — Скажи и облегчи душу. Для начала — как тебя зовут по правде, подлинная должность, и в чем смысл этой вашей хохмочки? Дурацкая ведь затея, согласись. Только вот не надо из себя героя изображать. Как там этот художник, ну, картина «Допрос коммунистов…»
— Иогансон, — подсказал Новиков, стряхивая пепел щелчком пальца.
— Во-во. Была б тут «Всеобщая история искусств», в шести томах, я тебе ее в натуре показал бы. Трогательно, аж мороз по коже. Однако бог с ней, с живописью. Чего ты губы закусываешь, переживаешь, значит? Неужто совесть мучает? Или наоборот, горюешь, что не так мы сидим? Меня бы на твое место, да?
Андрей решил пресечь Сашкины упражнения. Надоело ему напрасное словоблудие.
— Знаете, Вадим, или как вас там… Я действительно не могу понять, как сравнительно умный человек, с образованием, может служить там, где вы. Либо вы циник и мерзавец, либо психически неполноценны. Среди ваших много маньяков, но вы как раз такого впечатления не производите.
Чем-то его Новиков задел или просто внутреннее напряжение стало невыносимым, только Вадим разлепил губы и хрипло спросил:
— А настоящей идейности вы не признаете? Вам такое неизвестно?
Шульгин хлопнул себя по колену, хотел что-то сказать, но сдержался.
— Как же не признавать, признаю. Тех же народовольцев взять. Тоже дураки были, исходно, но хоть мучились, спорили, имеют ли право на теракт идти, и решили, что могут, но только ценой собственной жизни. Царя Александра убили, так или сами сдались, или после ареста вины не отрицали, кололись до донышка. Можно уважать. Да и Плеханов, Кропоткин, Лопатин. Поумнее вас с вашим Лениным были люди, однако от большевизма с презрением отвернулись. Идейность потому что… А вы? Офицер какой-никакой, превратились в дешевку панельную! Человек к вам на переговоры пришел, думал, может, и правда кое-какая совесть прорезалась… Хозяева-то ваши люмпены, сволочь Петра Амьенского, с них взять нечего, а я ж вас живым отпустил, мамаше обещал поклон передать… Стыдно, прапорщик, мерзко…
Вадим зло оскалился:
— Законы классовой борьбы не признают вашей так называемой морали!
— Знаем, и это читали. Но я же обращался к вам как к разумному человеку. Вы действительно убеждены, что в компании с абсолютно безнравственными вождями, опираясь на тупую, распаленную возможностью безнаказанных грабежей и убийств толпу, уничтожив или оттолкнув от себя и так немногочисленную национальную элиту, возможно построить какое-нибудь общество, кроме деспотии древнеассирийского типа?
— Что ты с ним, Андрей, с подонком, в философию ударился? — подал голос Шульгин. — Не видишь, ему просто свое паскудство отмазать хочется?
— Вижу, конечно. Потому и говорю. У него стержня-то нет, в душе он понимает, что желание из прапорщика полковником за год стать и отожраться за свое, допускаю, не слишком сытое детство, вслух высказывать вроде и стыдно. А на идейной базе уже проще. Как опять же их Ленин писал, им достаточно десяти процентов населения, чтобы с ними коммунизм строить. Остальных можно и в распыл. Вот наш приятель и старался в девяносто процентов не попасть…
— Совершенно верно, — кивнул Шульгин. — И раз желание жрать и грабить не есть высшая духовная ценность, Джордано Бруно из него не выйдет.
— Господа полковники хорошо подготовились. — Вадим еще пытался держать фасон. — Только мы такие разговоры уже от своих меньшевиков и левых эсеров слышали. И куда красноречивее к тому же.
— Несомненно, — с готовностью согласился Новиков. — Нормальный человек другого и не скажет. И все же интересно, вы хоть спорить пытались, когда ваш начальник такой вот план предложил? Неужели не объяснили, что начало-то хорошее было, перспективное, и мы, если вы в характерах понимаете, людьми оказались доверчивыми, старого закала, последнему дерьму в праве на совесть не отказываем, верим, что и в нем духовное возрождение произойти может… Совершенно по Достоевскому.
— Легко оскорблять связанного человека…
— Да мать же твою! Ты посмотри на него, Андрей! Они толпой на парламентера кинулись, получили по соплям, а теперь обижаются, что в них джентльменов видеть не хотят! Наши хитровские друзья про таких, как ты, говорили: «Ты никто, и звать тебя никак. Брысь под нары». Я, бля, тебя сейчас развяжу и посмотрю, на что ты вообще годишься… — Шульгин, похоже, действительно вышел из себя. Новикову пришлось его успокаивать:
— Ну так что, прапор? Согласен ты с полковником в честном поединке свою правду доказать или признаешь, что очередной раз дурака сваляли? А может, это мы чего-то не поняли?
— В этом да, признаю. Неладно вышло. Был план на серьезную игру. Мой план, чего скромничать. Однако… Нет, я вам ничего не скажу, не ждите. А остальное вы сами видели, скрывать нечего. Тут тоже могло получиться. Вокзал мы плотно перекрыли, на перроне человек двадцать наших было. И с дрезиной неплохо задумали. Как сорвалось? Конечно, вашим жандармским штучкам сразу не научишься. Ребята хорошие были, проверенные, а вот дали маху. Сразу бы кучей навалиться…
— Вот-вот, кучей, и вся ваша тактика со стратегией. Жандармы, конечно, поумней вас были. И что, воображаешь, притащили вы меня на Лубянку, и я сразу бы колоться начал?
— Куда б вы делись? — презрительно фыркнул Вадим.
— Ну-ну, поглядим, куда ты деваться будешь… — не скрывая интереса, сказал Шульгин. Встал, открыл нижнюю дверцу серванта.
— Вот эту штуку видишь? Называется — электрический утюг. У тебя какое образование, напомни?
— Петроградский университет, математический факультет…
— Прелестно. Значит, и физику хоть чуть знаешь. Данный утюг — чудо техники. По замыслу — ничего особенного, прототипы еще в начале века появились, но есть некоторые усовершенствования. Терморегулятор, увлажнитель, автоматический выключатель. — Шульгин повертел прибором перед лицом Вадима, потом воткнул вилку в розетку. — Загорелся красный огонек на изгибе рукоятки. — Вот я тебе его поставлю на спину, пока он еще холодный, включу таймер. И пусть стоит. Это похоже на ту крысу в горшке, что где-то там в Китае на живот привязывали. Он будет греться, просто припекать поначалу, потом, естественно, ожоги первой, второй, третьей и третьей «А» степени. Четвертая — это уже обугливание тканей. Повоняет, само собой. И заметь, мы с полковником — люди гуманные и нравственные. Сами к тебе и рукой не притронемся. Зато когда ты в болевой шок впадать начнешь, я утюг сниму и окажу тебе медицинскую помощь. Может, даже и морфий кольну. Потом, если тебе мало покажется, успевший остыть утюг на другое место поставлю. Холодный, заметь. Греться он сам будет, а я за железку безмозглую не отвечаю. Так что не потребуется даже самоутешаться концепцией отличия пролетарской нравственности от общечеловеческой… Да я, пожалуй, опять же из человеколюбия, и музыку тебе заведу. Отвлекает. Чего желаешь — Бетховена, Вивальди, Баха или лучше оперетку какую?
Глава 26
Агранов был не только в ярости, он был почти в истерике. Получив сообщение о бездарнейшем провале так тщательно спланированной операции по захвату таинственного полковника, он вначале просто не поверил. Вадим об этом не знал, но на прикрытие Агранов выделил вдвое больше людей, чем было намечено, именно в расчете на то, что «объект» явится на встречу в сопровождении охраны. На всех, кого успел увидеть на Хитровке Вадим, были составлены словесные портреты, а умелый художник изготовил по ним очень похожие рисунки. Восемь опытных сотрудников осуществляли близкое прикрытие места встречи, еще два десятка блокировали входы и выходы с платформы. Четверо находились в дрезине, специально для такого случая истребованной у АХО Совнаркома. И, наконец, три взвода стрелков НКПС и Трансчека оцепляли перрон по периметру внутри и снаружи. Идущая в ловушку дичь того стоила. И такой крах!
Полковник скрылся. Угнал дрезину. Захватил в плен Вадима. А его боевики устроили вдобавок побоище в центре города. И скрылись бесследно, не оставив на поле боя ни одного своего трупа. Зато погибло несколько десятков чекистов и бойцов поднятого по тревоге латышского ударного полка, не считая убитых при обстреле городского, районных комитетов РКП и штаба Московского округа.
Снова и снова Агранов по одному допрашивал участников операции. Не сдерживаясь, кричал, матерился, как русский дворник, колотил кулаком по столу, но толку-то?
Лишь один агент заметил в зале ожидания человека, более или менее подходящего под описание, но тут же его и потерял в возникшей суматохе. Те же, кто был на перроне, в один голос утверждали, будто главным действующим лицом оказался какой-то плюгавый старик. Ничего себе старик — в самый критический момент возник, как черт из табакерки, в пару секунд застрелил четверых сотрудников, вместе с напарником скрутил Вадима и был таков. А в дрезине находились еще четыре опытных агента. Убиты. Дрезина, кстати, тоже разбита. Чтобы ее задержать, пришлось перевести стрелки и направить в тупик. Теперь еще нужно как-то оправдываться перед Совнаркомом. Слух о неудаче непременно дойдет до Феликса. А уж тот спросит…
Вдобавок этот взрыв. Агранов еще раз шарахнул кулаком по столу так, что чернила из прибора выплеснулись на бордовое сукно. Говорят, полыхнуло так, словно полпуда магния разом. Это он мог вообразить, сам не раз фотографировался. Так там щепотка…
Вот разве на взрыв и свалить? Беляки, мол, использовали неизвестного рода оружие, отчего и сумели скрыться?
А если не сумели? Предъявить пару подходящих трупов и выдать их за… Нет, не пойдет, слишком уж много людей знают правду. Так что же теперь делать? Постой, так ли уж много? Надо прикинуть…
Черт его дернул попробовать свой вариант. Сам же других учил не увлекаться экспромтами, а вот не удержался. Больно уж выигрыш жирный светил. Упал на мизер без хозяйки, а в прикупе два чужих короля.
Старик Удолин ему голову заморочил. Подай обязательно этого человечка, мы с ним до таких тайн докопаемся… Докопались!
«Ну, ладно, как-нибудь выкручусь, не впервой», — успокоил себя Агранов и взял лист хорошей довоенной бумаги. Принялся рисовать стрелки, кружки и прочие геометрические фигуры, ставя возле них бессмысленные, на посторонний взгляд, закорючки.
Прежде всего — перекинуть всю грязную работу на МЧК и командующего гарнизоном. Прорыв в город крупной вооруженной банды, уличные бои, теракт на вокзале, по наглости и числу жертв превосходящий взрыв комитета РКП в Леонтьевском переулке — их забота. Секретно-политический отдел может только поднять на ноги всю негласную агентуру, всех осведомителей из домкомов, взять на заметку каждого нового человека, не упустить ни одного словечка из обывательских разговоров. На Хитровку пока не соваться, только наблюдать, вдруг беглецы объявятся там? Ни одному дураку такое в голову бы не пришло, но, может, как раз поэтому?
И еще надо хорошенько просчитать, что именно может сказать на допросе Вадим. Что он знает, о чем догадывается, какой ценой станет покупать жизнь?
Привычная работа успокаивала, но надолго решительное объяснение не оттянуть. Агранов бросил карандаш. Наверное, лучше будет самому перейти в наступление. Но с кого начать, с Артузова, с Трилиссера?
И сразу задурить им головы — ничего особенного не произошло. Вышел на подпольную офицерскую организацию, внедрил своего агента. Для убедительности пришлось организовать шумную инсценировку на вокзале. О прочем пока молчок. Раздробить правду на множество кусочков, одному один, другому другой и так далее. Дрезина — из иной оперы, стрельба в городе — вообще не по нашему ведомству. И работать, работать. Ведь важность и значительность «полковников» от всего происшедшего только возрастает.
Начать лучше с Трилиссера. Для него шило в задницу готово — слова Вадима о том, что «офицеры» прибыли из-за рубежа и почти наверняка имеют отношение к американскому пароходу и тем, кто за этим стоит.
Артузову тоже щелчок по носу — куда смотрит контрразведка? Из Крыма только что не сам Врангель в Москву явился, устроили, понимаешь, осиное гнездо, чекистов пачками убивают. За вечер потеряли людей больше, чем за год. А на улицах, где бой шел, — целые кучи гильз неизвестного образца.
Мессингу вообще утереться и не высовываться, он за одну Москву отвечает, а не за всю Республику, а сам, пока по городу не начали на автомобилях носиться и из пулеметов стрелять, вообще ничего не знал.
Выходило так, что во всей ЧК один СПО мышей ловит… Довольный собой и почти успокоившийся Агранов вышел из кабинета и зашагал по бесконечным коридорам. У начальника Иностранного отдела Трилиссера собралась не то чтобы дружная, но понимающая свои взаимные интересы компания. Молодые начальники ведущих отделов и даже один зампред ВЧК, которых совсем не устраивало нынешнее руководство в лице фанатика Дзержинского и сибаритствующего, мало вникающего в практическую работу Менжинского. Эти «молодые волки» имели свои взгляды на роль организации и собственное в ней место. Через десять лет (в предыдущей истории) они захватят в ней все ключевые посты, превратят ВЧК — ГПУ в НКВД, подготовят достойный плацдарм для Ежова и Берии и все до единого сгинут в жерле столь тщательно отлаженной ими же мясорубки.
Но пока они были только в самом начале взлетной полосы, и небо было перед ними голубое и манящее. Если б только не омрачали его невесть откуда взявшиеся тучи…
Об этом они и решили поговорить как бы приватно, поскольку официально такое сборище без ведома руководства выглядело непозволительно.
Артузов очень заинтересовался намеком на иностранное происхождение «полковников». Поскольку располагал свежей информацией из Севастополя о том, что Врангель приблизил к себе странных людей, якобы из Южной Африки, которые не только снабжают его деньгами и оружием, но и вмешиваются в политические и военные вопросы.
— Южная Африка? — Трилиссер недоуменно пожал плечами. — Совсем не входит в сферу наших интересов. Далековато. И вообще это английский доминион. Кто там может проводить самостоятельную политику, а главное — зачем? Алмазы и золото у них свои, моря куда больше, чем в Крыму. Наши железные дороги, угольные шахты и хлеб для них тоже не предмет первой необходимости…
— А там ведь не только англичане, — блеснул познаниями Артузов. — Там еще и буры, не забывшие о поражении. Что, если это их люди? Англичанам насолить, ну я не знаю, что там еще за мечты могут быть. Но факт имеет место. Вот ты и напряги извилины, Михаил Абрамович.
— Обязательно. Может, в Лондоне об этом знают. А может, и не только там. Меня твои полковники заинтересовали, — вновь обратился он к Агранову. — С моими делами слишком подозрительно пересекаются.
— Те люди, что прибыли в Москву, — русские. Хотя и из-за границы. Мой агент отметил — говорят не совсем правильно, и манеры не здешние. Умны и хитры дьявольски.
— Что значит — дьявольски? — спросил зампред ВЧК Ягода. — Мы тут не в церкви, нам поточнее определения требуются. Умные — как кто? Одно дело профессор математики, другое — философии, совсем третье — офицер генштаба. У каждого свой круг знаний, манера выражаться, привычки. Хороший агент такие вещи должен примечать. А ты ведь не самого плохого к ним посылал?
— Как бы не лучшего. Другой бы не подметил. У нас ведь такие кадры, что для них, если у собеседника пять классов гимназии, то уже и профессор. Нет, мой агент тоже в университете учился. Проверенный. Он считает, что эти — на уровне очень и очень опытных жандармов. Вроде, скажем, Джунковского. Много специфических выражений, умение вести допрос, проницательность, неожиданные ловушки в самых невинных фразах. Вот еще что, — вспомнил Агранов, — хорошо знают марксистскую литературу, Ленина наизусть цитируют…
— Еще интереснее! Зачем бы сейчас в Москве жандармы? Да еще такого класса. Много ли их вообще в живых имеется? А если это из загранразведки? После революции там остались, а сейчас их кто-то нашел и использует…
— Потому я и послал своего человека на повторный контакт. И они его — того-с. — Он сделал рукой хватающий жест.
— Прискорбно. И опрометчиво до крайности.
— Ничего, — попытался подсластить пилюлю Агранов. — У него хороший запасной вариант есть, возможно, и выкарабкается…
— Хотелось бы. Ну, это дело на твоей совести, Яков. Сделай все возможное. Помощь какая требуется — скажи. Дело у нас одно.
— Нужна помощь. От Феликса меня, Генрих, прикрой. Если настучат, обязательно прицепится.
— Не дрейфь. Спросит — скажешь, что я санкционировал. Да ему сейчас не до таких пустяков. С фронта Грузин приехал, из Туркестана Фрунзе. Они сейчас у Старика с Троцким друг другу чубы рвут, кто виноват и кто соввласть спасать должен.
— Они спасут. Я, пока не поздно, вот что думаю, — сказал Агранов, будто только сейчас ему в голову пришла оригинальная идея. — У меня там сидят несколько богатых евреев, никак не хотят признаться, куда свои деньги спрятали. Так не выбрать ли из них подходящих да переправить на запад через Эстонию? Тут кое-кого из родни заложниками придержать, чтобы не сбежали с концами. Пусть они нам совсем новый канал связи наладят. Как считаешь?
Генрих Ягода, человек в обычном смысле почти невежественный, но необыкновенно хитрый, тщеславный и решительный в острых ситуациях, изобразил на лице раздумье.
— А ты как считаешь, Михаил? — спросил он Трилиссера.
— Можно. И это можно, и другое можно. Все что угодно надо делать, но выяснить, что вообще происходит. Иначе конец нам. Как можно что-то планировать, если неизвестно, по каким правилам игра пошла?
— Вы, боюсь, до конца еще не поняли, что происходит. Это, как если бы в шестнадцатом году царская охранка кайзера перевербовала, и он бы начал большевиков давить и с Николаем планы против Антанты строить. Такая картина получается.
— Ну, это ты хватил! — жирно рассмеялся Ягода. Трилиссер посмотрел на него с сожалением. Зато Артузов и Агранов слушали его внимательно.
— Ты, Генрих, с большой политикой мало сталкиваешься, — стараясь быть деликатным и не задеть самолюбия мстительного Ягоды, сказал Трилиссер. — А положение ведь и вправду архистранное. Новый мировой порядок уже сложился. Версальский мир все точки расставил. Все, кому положено, решили считать, что Советская Россия — объективный факт, и ориентироваться нужно на нее. Белых со счетов списали. Японцы на востоке еще пытаются самостоятельность изображать, но и это ненадолго. Наши люди там уже работают. Оставалось добить Врангеля, и нас бы признали официально, подписали договоры, гласные и негласные. Я знаю, о чем говорю. И вдруг все меняется. Как, почему, зачем? Врангель сам не мог ничего сделать. Значит, нашелся некто, столь уверенный в себе, что решился бросить вызов… — Он вдруг замолчал, спохватившись, что и так сказал слишком много. — Одним словом, появилась сила, сравнимая со всей мощью Антанты. Сила, у которой есть собственная программа… И пока мы этого не узнаем… Смотри, Яков, от тебя сейчас столько зависит. Найди нам этих людей! У нас своя работа, мы ее делать будем, но «полковников» поймать можешь только ты…
Глава 27
— Уберите, — едва пошевелил губами Вадим, выгибаясь назад, чтобы хоть на несколько сантиметров отстраниться от поднесенного к его лицу пышущего жаром утюга. — Я буду говорить. Только развяжите и водки дайте.
Почему-то спокойный и обстоятельный рассказ Шульгина о методике использования утюга подействовал на чекиста куда сильнее, чем те предполагаемые пытки, которые он себе представлял, сидя в удивительно чистом, пахнущем сосновым экстрактом ватерклозете. Может быть, как раз своей нечеловеческой жестокостью. Когда тебя допрашивает, бьет шомполом или ломает пальцы человек, ты видишь его ярость, искаженное злобой лицо, капли пота на лбу, слышишь тяжелое дыхание — это понятно и можно стерпеть. (Его самого еще не пытали, но как это делается, Вадим видел неоднократно.) А сверкающий дьявольский прибор его сломал.
Но, возможно, он подсознательно давно решил капитулировать, а нарисованная Шульгиным перспектива просто позволила ему найти подходящее самооправдание.
Оставив пристегнутого цепочкой к батарее отопления чекиста немного успокоиться и прийти в себя, друзья вышли в кабинет.
Новиков нервно курил. Вздохнув тяжело, спросил Шульгина:
— Черт знает до чего мы дошли. Ты действительно смог бы?
— Смог — не смог… Важно, что он мне поверил. И поверил же. Сами они виноваты, что довели до этого.
— Так, может, бросим, пока не поздно? А то действительно крыша поедет.
— Война. Не мы начали. Состояние крайней необходимости. А уйти не проблема. Олег давно ждет. То-то ему будет подарочек. Я про другое думаю. Раз ты сюда квартирку подтянул, может, и обратно сможешь? К исходной точке. Если постараться…
— И я думал. Не смогу. Не верю потому что. Антон четко все обрисовал. Будущего на этой линии просто нет. Поскольку неизвестно, куда все повернется. С нами туда, без нас туда, — он показал рукой в два противоположных направления.
— Тогда откуда она к нам приехала? Разве не из будущего же?
— Знать бы. Ниоткуда, наверное. Как та записка в «Фантастической саге». Я предполагаю, что, раз база эта вневременная, она и болталась вне всякой Реальности. Или — когда мы здесь появились, так и она тоже. Можно же предположить, что наши девицы, эти портсигар-блоки и квартира — детали одной системы. Порознь не существующие. Мистическая это связь или сугубо материальная — понятия не имею. Настолько же, как и о том, существуем ли мы с тобой непосредственно или в виде персонажей сна тех самых Хранителей, что мне привиделись. Когда нам что-то снится, оно существует в данный момент или нет?
— Готово, приехал. Философ, которому снится, что он бабочка, или бабочка, которой снится, что она философ? Значит, еще до ручки не дошел, раз философствуешь. И, знаешь, в этом что-то есть. Мне понравилось. Ты додумай, когда спать пойдешь. Интересно. Тем более что, раз хата вневременная, мы здесь сколько хочешь сидеть можем…
— Наоборот, — возразил Новиков. — Судя по путешествию Алексея и моему с Ириной походу, пока внутри квартиры люди, время здесь и снаружи идет одинаково. Час в час. А время ноль здесь, только если она пустая.
— Бредятина, одним словом, — кивнул Шульгин. — Тогда пойдем с объектом беседовать. Хоть что-то конкретное. И магнитофон надо включить. На дикарей такие фокусы действуют.
Вадим — как ни странно, но это было его подлинное имя, — говорил уже почти час. И, похоже, говорил правду. Только пользы от его откровений пока было мало. Это, может, настоящим белым интересно было бы. Наводящих вопросов Андрей почти не задавал, предоставив чекисту возможность выговориться. Вот когда он исчерпает запас считающихся секретными сведений и перед ним вновь встанет перспектива утюга, можно будет перейти ко второму акту.
Андрей пока не слишком представлял, как использовать пленного. Завербовать его всерьез теперь труда не представляло. Но с какой целью?
Выйти на Агранова? Реально. Для чего им может пригодиться начальник секретно-политического отдела ВЧК? Помочь в штурме Кремля? Допустим. Использовать для очистки Москвы после победы? Несколько теплее, но еще неактуально. Новиков пока не видел подходов к самому главному, ради чего и пришли они в Москву.
А на Вадима новиковская рассеянность и явная скука, с которой он вел допрос, оказывали как раз нужное действие. Подследственному на определенной стадии зачастую становится необходимым внимание, даже сочувствие следователя, и он пытается всеми силами расположить его к себе. Чем и объясняется вроде бы совершенно непонятное поведение преступников, начинающих признаваться в эпизодах, им не предъявленных и следствию вообще неизвестных.
— Стоп-стоп, парень! — прервал вдруг Шульгин многословные откровения Вадима. — Вот об этом давай подробнее. Ты слышал, Андрей?
— А? О чем ты? — Новиков стряхнул с себя вялую истому, в которой голос чекиста незаметно превратился для него в убаюкивающий шум.
— Да вот это! Клиент намекнул про какого-то загадочного узника Агранова.
— Как? — сразу напрягся Новиков. — Что за узник? Почему загадочный? А ну, сначала и подробно…
— Сдается мне, что к какой-то разгадке мы подбираемся, — говорил Андрей Шульгину, наливая третью или четвертую чашку кофе. Вадима, утомленного событиями дня и долгим допросом, уложили спать в дальней комнате, которую неведомый хозяин использовал, наверное, как гостевую. Накормили, дали выпить полстакана виски и оставили наедине с собственной совестью, приковав наручниками к раме кровати и посоветовав не предпринимать действий, могущих сделать остаток его жизни совсем уже невыносимым. Сами приняли душ, переоделись в чистое белье и пижамы. В гардеробе хозяина обнаружились огромные запасы самой разнообразной одежды, не только мужской, но и женской.
И теперь сидели в креслах, слушали тихую классическую музыку, неторопливо обмениваясь мнениями.
— Судя по словам Вадима, таинственный узник — фигура интересная. Прорицатель, ясновидец да вдобавок еще и профессор. Мне странная мысль пришла — а вдруг это тоже какой-нибудь пришелец? Заблудившийся в лабиринте Реальностей и попавший в лапы Чека?
Шульгин откинулся в кресле, вращая на пальце за спусковую скобу тот самый браунинг «хай пауэр», который обнаружил в ящике стола Берестин, потом видел там же Новиков, а теперь попал в руки Сашке. Ко всякого рода пистолетам он испытывал почти сексуальное влечение, они для него были своего рода гипноглифами, и он мог вертеть в руках полированные железки часами, как мусульманин четки.
— С тем же успехом сей профессор может быть психом или шарлатаном.
— Психи как раз по твоей части, но не думаю, что такой спец, как Агранов, не разобрался бы за полгода. Тут сложнее. И надо бы нам этого ясновидца раздобыть. Вдруг повезет…
В гостиной было уютно. Торшер с розовым гофрированным абажуром на латунной изогнутой штанге освещал только низкий треугольный столик, камерный квартет играл Сибелиуса, и все это так вдруг напомнило один из вечеров пятнадцатилетней давности, что у Андрея защемило сердце. Было же когда-то безмятежное время, пронизанное ощущением неясного, но непременно светлого будущего… Не в идеологическом, а исключительно в личном смысле.
— Хорошо бы. А то мы так запутались. И ведь никто не желает объяснить, что вообще все это значит… — Шульгин сделал руками движение, будто обводя ладонями невидимый шар. — И твои видения. Для чего? Кто их насылает? Что хочет сказать? Меня твоя космогония совсем не вдохновляет. Какая принципиальная разница, бог ли в классическом варианте, или Держатели Мира? Тогда кто аггры, кто форзейли, какая их роль, фантомы они или вправду объективно существуют? И при чем тут вообще мы? — Шульгин не опьянел от нескольких рюмок, просто перешел в иное эмоциональное состояние, ему срочно потребовалось решить все загадки бытия.
Новиков видел, что пора заканчивать. Четвертый час уже. Утешало то, что утром можно спать до упора, никуда не спешить и ничего не опасаться. А вопросы онтологии оставить до более подходящего случая. Не философские основы бытия обсуждать, а совершенно конкретными делами заниматься предстоит, чтобы бытие это самое себе реально обеспечить. А потом уже все остальное. Ибо если даже все бросить и на шикарном пароходе в окружении прелестных женщин в отдаленные южные моря уплыть, никуда не денешься от мысли, что существуешь ты только по настроению никому не ведомых существ, которым стоит кнопочку (условно говоря) нажать, и следа ни от тебя, ни от всей истории человеческой не останется. При такой перспективе жить — что в камере смертников расстрела ждать, от каждого звука в коридоре вскидываться, не за тобой ли пришли…
Утром Шульгин проснулся хотя и довольно поздно, но все равно первым. И Новиков, и измученный дневными хлопотами и ночными переживаниями Вадим еще спали в полутемных от задернутых плотных штор комнатах.
Не торопясь, Сашка поставил на огонь чайник, собрал кое-что для завтрака, нашел на подоконнике «Знание — сила» за декабрь 1965 года. Листать страницы журнала, который он уже один раз читал, было и интересно, и грустно. А в то же время и скучно как-то. Глуповатый пафос, несбывшиеся пророчества, споры о вещах, казавшихся тогда необычайно важными. И вдруг попадаются материалы безусловно талантливые и по тем временам смелые, но все равно настолько далекие… Как сегодня читать телеграммы с фронта Балканской войны 1912 года.
Покурив и выключив закипевший чайник, Шульгин пошел будить Андрея. Отдернул штору в спальне, увидел панораму крыш и дождь, переходящий в снег. Рановато вроде бы. Сентябрь еще не кончился. Прочая же обстановка за окном от вчерашней не отличалась. Так же пусто в переулке, редкие прохожие, нахохлившись, торопятся по неизвестным делам, такие же обшарпанные дома напротив, и бессмысленно кружатся над крышами стаи ворон.
Позавтракали втроем, ни о чем существенном не разговаривая, словно не слишком близкие знакомые, старательно обходя все, что могло напоминать о вчерашних событиях. Но думать все равно думали, каждый по-своему, отчего атмосфера сохранялась напряженно-печальная, словно в семье на второй день после похорон дедушки.
Только когда допивали чай, Шульгин как бы мельком посоветовал Вадиму вспомнить все, могущее подсказать местопребывание профессора, даже самые незначительные детали.
Потом он вновь посадил чекиста на цепь подальше от окна и вручил ему карандаш и блокнот для записи мыслей и изображения схем.
— Еще и профессию тюремщика осваивать приходится, — раздраженно ворчал Шульгин, возвращаясь в холл. — А как его к делу приспособить, ума не приложу. Сбежит ведь, гад, при первой возможности. А он нам теперь позарез нужен.
— Отсюда не сбежит, — успокоил его Новиков, — а попозже мы все равно что-то придумаем. Ты на связь пока не выходил?
— Утром еще, в шесть часов, ты только заснул. На Самарском полный порядок, тишина, я корнету велел вообще на улицу сегодня не показываться, машину в сарае получше замаскировать. Басманов отступил в подземелье, наверху оставил группу прикрытия. У него есть идея переместиться в Новодевичий монастырь, послал туда человека на разведку. Потерь у них нет, только патроны почти все расстреляли, и человек шесть раненых.
— И слава богу. — При этом Шульгин внимательно смотрел через открытую дверь в прихожую, где так и лежали сваленные Ястребовым в угол ящики и мешки. — Что там у тебя? — спросил он.
— Обычный комплект Робинзона на всякие случаи жизни. Надо ж, как я сообразил! Не догадался бы с Олегом переговорить, сидели бы сейчас голодные и безоружные…
— А пластит там есть?
— С килограмм, наверное… — Тут и до Шульгина дошел замысел Андрея. — А вот радиовзрывателей нет. Только огневые, электрические и с таймером…
— Годится. Та же улыбка, только без кота. Или — как брать клиента на куклу. Он у нас уже столько интересного видел, что любой туфте поверит.
Радуясь возможности развлечься, друзья за пятнадцать минут сделали все нужные приготовления. Шульгин привел Вадима.
После вступительного слова, в котором Новиков сообщил чекисту все о его незавидном настоящем и еще более печальном будущем, он высказал осторожную надежду, что ситуация еще может измениться к лучшему. И при его искреннем желании сотрудничать…
— Ну о чем ты, Андрей, говоришь! — возмутился Шульгин. — Он нам такую подлянку устроил, а теперь мы ему снова верить должны? Я не согласен.
— А мне кажется, что кое-какие понятия в нем еще остались. Как, Вадим? Если мы тебя опять в игру введем, по той программе, что ночью обсуждали, сразу нас заложишь, или, как русский офицер, пусть и бывший, поможешь в делах твоих начальничков разобраться? Ты же, как я надеюсь, за счастье трудового народа сражаться намеревался, в ЧК нанимаясь, или только чтоб в грабеже Родины поучаствовать?
Вадиму после ночных переживаний и вполне подлинного страха мучительной смерти не требовалось каких-то особых артистических данных, чтобы изобразить лицом и голосом полную и безусловную готовность к сотрудничеству. Он и сам почти верил, что если ему сохранят жизнь и вернут свободу, то он сделает все, что прикажут. Даже забавно будет оставить в дураках Агранова. Надоел своим барством и хамством. Чего, в конце концов, ради он, русский дворянин и офицер, должен прислуживать недоучке-выкресту? Уж если служить, то таким людям, как эти полковники! Тем более что потребуется от него не слишком многое. Зато свобода, перспектива уцелеть при очередном повороте жизни. А там видно будет…
Его мысли и чувства Новиков читал без труда. Слишком они были элементарны. И не осуждал Вадима. Он и сам когда-то, слушая по телевизору покаянное выступление одного видного диссидента и зная, как оно было получено, задумался, как поступил бы в предлагаемых обстоятельствах он сам? Несколько слов — причем никого не предавая, а лишь признавая собственные заблуждения — и свобода! Отказ — и пять-семь лет лагерей. Ради чего? Задумывался и не находил окончательного ответа. Но признавал право того, на экране, выбрать свободу. «Надо уметь вовремя извлекать принципы из кармана и вовремя прятать их в карман», — говорил Дизраэли. «На любую принципиальность следует отвечать беспринципностью», — развивал его мысль Троцкий.
Одновременно он уже прикидывал, каким образом обставить появление Вадима в ЧК, чтобы это вызвало минимальное к нему подозрение. Или — наоборот…
А Шульгин, выслушав пылкие заверения чекиста, саркастически рассмеялся.
— И чем же ты, парень, гарантируешь, что не врешь? Прибежишь к своему шефу и тут же расколешься. Мы-то опять успеем смыться, тем более ты даже не знаешь, где сейчас находишься, а тебя потом найдем и все равно шлепнем, однако… Мы тебе, выходит, бесплатно сколько-то дней жизни подарим, а сами в дураках? Нет, так не пойдет…
И, не слушая сбивчивых уверений, ничего не стоящих гарантий, крутнулся на каблуках и вышел из комнаты с видом зловещим и решительным.
— Да-а, — вздохнул Новиков. — Александр Иванович — мужчина скептический. Я вот — доверчивый, романтик, можно сказать, всегда в людях лучшее ищу, а он — нет. Кстати, если бы не он, вы со мной что сейчас делали бы?..
Расстроенно закурил, протянул портсигар Вадиму. Тот с трудом попал вздрагивающим концом сигареты в огонек зажигалки.
Столько раз за минувшие сутки его бросало от надежды к отчаянию, что нервы сдали окончательно. Все же, за исключением нескольких месяцев на фронте, всерьез рисковать жизнью ему не приходилось, а определенная отвага и решительность, проявленные в борьбе с контрреволюцией, в немалой степени зависели от авторитета стоявшей за ним организации и почти полного отсутствия действительно серьезных противников. У «заговорщиков «и «классово чуждых элементов» и завалящий наган имелся не всегда. Так что Вадимову смелость с достаточным основанием можно было назвать и наглостью самого сильного в зоне бандита. Те тоже в разборках, бывает, на нож идут…
А сейчас, наконец, гонор с Вадима слетел. Остался человек, осознавший свою ничтожность перед лицом сил, которым безразлична магия трех- или четырехбуквенных аббревиатур.
Тут как раз вернулся Шульгин. Сел рядом, показал на раскрытой ладони несколько аккуратных, в мизинец величиной золотистых цилиндриков.
— Знаешь, что это такое, господин бывший прапорщик?
— Похоже на детонаторы.
— Почти угадал. Это радиовзрыватели. Что такое радио, ты тоже знаешь. По соответствующей команде такую штуку можно взорвать верст за десять. Запомнил? Молодец. Теперь вот, — Шульгин показал ему рацию величиной с сигаретную пачку.
— Если когда видел полевую радиостанцию, так это она и есть. Только чуть меньше обычной. Прогресс потому что. Смотри. — Шульгин вышел в коридор и стал у двери в кухню, метрах в пятнадцати от холла. Новиков включил здоровенный, отделанный кленовым шпоном «Hi-Fi» приемник пятидесятых годов «Телефункен».
Нагрелись лампы, из динамиков послышался негромкий гул.
— Раз, два, три, настройка. Раз, два, три, как слышно? Ну что, студент, убедительно? — Сочный голос Сашки заполнил комнату.
Впечатляющая демонстрация для человека, которому даже радиостанция весом в десять пудов, на пароконной повозке, — чудо техники.
Остального можно было и не делать, но для полноты внушения Вадима отвели в ванную, при нем замотали взрыватель в старое одеяло и для надежности накрыли сверху подушкой.
После чего Новиков удалился в коридор и отчетливо произнес в микрофон:
— Взрыв.
Ахнуло не слишком громко, но в срезонировавшей чугунной ванне все равно убедительно. Удушливо завоняло сгоревшей взрывчаткой и паленой шерстью.
— Как человек с военно-университетским образованием, — наставительно говорил Шульгин, когда они снова сидели в комнате, — ты понимаешь, что если взрыватель пристроить к ста — больше не надо — граммам тола и полученную мину закрепить стальной цепочкой у тебя на поясе, то в любой нужный момент может произойти что? Правильно угадал. Причем при попытке расстегнуть или распилить цепь будет то же самое. А чтобы знать, правильно ты себя ведешь или не очень, кому и что говоришь, во внутренний карман тебе кладется рация. И если что не так, то — хлоп… Последствия сам дорисуй. А если мы прицепим к тебе не сто грамм тола, а тысячу, получим бомбу, что и пол-этажа разнесет…
Сашка ерничал в своей лучшей манере. Новиков слушал его с печальным лицом уставшего от жестокостей этого мира человека. Вадим же сидел совершенно раздавленный. Не столько даже крушением последних надежд на какой-то в его понимании достойный выход, а мыслью о том, что столкнулся он с чем-то невообразимым. Университетского образования и умения строить силлогизмы для этого хватало.
Ему хотелось спросить в лоб, кто же такие его собеседники и откуда они здесь появились, потому что в их принадлежность к белой и вообще к какой угодно армии он больше не верил. Разве что действительно они представляют здесь сверхтайный орден, оснащенный изобретениями сумасшедших ученых, вроде доктора Калигари.
Но спрашивать он ничего не стал.
— Не только потому, что ваши слова крайне убедительны, — сказал он, сглотнув слюну, — но и потому, что ваши цели представляются мне гораздо более достойными и важными, чем я думал вчера, я буду с вами работать. А это, — он показал на раскатившиеся по столу взрыватели, — пусть будет по-вашему. Я понимаю…
— И слава богу, — облегченно вздохнул Новиков. — Я всегда говорил, что с умным человеком договориться можно.
— Особливо, если система доказательств выбрана правильно… — добавил Шульгин.
Несколько позже приободрившийся и повеселевший Вадим спросил у Новикова (к Шульгину он по-прежнему впрямую обращаться избегал): — Ну, а вот если представить, чисто условно, что я все же решил бы вас обмануть? Стал бы говорить одно, а при этом на бумаге писал своему начальнику все как есть?
— Ты не поторопился его умным назвать, господин полковник? — лениво осведомился Шульгин.
— Нет, просто человеку сразу трудно проникнуться. Допустим, он так и сделает. И что? Оставим в стороне простейший, но неспециалисту малоочевидный факт, что одновременно говорить и писать противоположные вещи он не сможет. Обязательно возникнут паузы, изменения интонации, замедленная реакция собеседника… Психологу через минуту все станет ясно. А там на выбор — хочешь, сразу взрывай, хочешь — играй дальше с учетом очередного поворота. Но это уже высший пилотаж. Для дураков можно проще объяснить. Где он найдет такого аса разведки, да и просто нормального человека, который по нескольким словам торопливой записки поверит ЗДЕСЬ, что возможна радиопередача через коробочку в кармане, взрыв мины за десять верст, и не только поверит, а и мгновенно в игру включится на высоком профессиональном уровне? Ваш Агранов похож на такого человека? — обратился Андрей непосредственно к чекисту. — Он тебе громко, да еще и с матом скажет: «Что ты тут, такой-сякой, корябаешь? Умом тронулся или меня за такого держишь?» И в самом лучшем для тебя случае вызовет фельдшера. Похоже?
Вадим обреченно кивнул. Его волновал и еще один момент — не может ли адское устройство сработать самопроизвольно, но он хорошо понимал, что вопросов — ни умных, ни глупых — больше задавать не следует.
Глава 28
Времени до вечера было еще много. Появляться в городе по-светлому не имело смысла — весь центр наверняка плотно перекрыт и патрулями, и агентами в штатском. Идут сплошные проверки документов, повальные обыски во всех подозрительных, с точки зрения чекистов, домах, возможно и взятие заложников. Вполне нормальная практика властей в подобной ситуации. А вот когда наступит комендантский час, тогда самое время. На улицах темно, тихо, безлюдно, и любые шаги слышны за квартал, и точно знаешь, что вокруг только враги, не рискуешь принять случайного прохожего за чекиста, и наоборот…
Значит, есть время собраться на дело.
— Саш, так что там у тебя в мешках? — спросил Новиков.
— Я же говорил — коллекция Робинзона, или ящик капитана Немо. Необходимый набор для выживания в экстремальной ситуации. Припоминаешь?
— Почему же нет? Хвастайся. — Новиков заранее обрадовался Сашкиной предусмотрительности, потому как остаться сейчас совсем без ничего, лишь с парой пистолетов, да и то почти незаряженных, было немногим лучше, чем колонистам острова Линкольн с карманными часами и ножом из собачьего ошейника. Искать же сейчас Басманова, неизвестно где, тоже не вариант.
А Шульгин был как-то особенно доволен собой и расшнуровывал контейнер с видом демонстрирующего новый трюк Игоря Кио.
— Я как будто чувствовал, что очередная пакость нам еще предстоит, — разглагольствовал он, стоя возле мешка на коленях. — Надо, думаю, в случае, если мы вдруг от своих отобьемся, в окружение попадем или Олег заартачится и кислород нам перекроет, быть готовыми ответить на вызов судьбы. Аксушки наши хороши, слов нет, а только где к ним в автономном плавании патронов найдешь? Вон и у Басманова уже кончаются. А здесь не придумали еще таких патронов. — Он наконец расшнуровал мешок. — Так в итоге и вышло. Ан нет, мы и тут в полном порядке… — И протянул Новикову автомат, показавшийся ему смутно знакомым.
— Патроны вообще главная проблема, — продолжал свой монолог Шульгин. — В случае чего, если патроны есть, какой-никакой самопал напильником и молотком под них сварганить можно, и хоть гвоздем и резинкой от трусов выстрелить, а без патронов самую шикарную машинку спокойно выбрасывай… Я еще в Замке догадался, когда Антон про двадцатый год заикнулся.
— Подумаешь, гениальное озарение, — буркнул Андрей, осматривая автомат с нарастающим интересом.
— Не скажи. Тут голова нужна. Какое в наше время приличное оружие было, чтобы к нему здесь боеприпас нашелся? В теории, конечно, и «Томпсон», и «МП-38», «узи» опять же. Так то в теории, а где ты в каком-нибудь Мухосранске кольтовский «45 АПК» найдешь или парабеллумный? А для этого вот — как грязи…
Тут Шульгин был, конечно, прав. И решение нашел едва не идеальное. Потому что держал сейчас Новиков в руках нечто, отдаленно напоминающее пистолет-пулемет Судаева, «ППС», известный как лучший автомат Второй мировой войны. Стреляющий патронами 7,62 «ТТ», в девичестве они же — 7,63 «маузер». И было их в гражданскую войну действительно немерено по обе стороны фронта. Уж ящик-другой раздобыть всегда можно.
Только поупражнялся Сашка с прототипом вволю. Кто когда-нибудь держал в руках «ППС» или хотя бы видел в музеях, знает, что выглядел он так, словно клепался в деревенской кузнице — грубая штамповка, даже заусеницы не зачищены, про качество сварки и говорить нечего, да оно и понятно, фэзэушники да голодные блокадники в сорок третьем году в Ленинграде делали, однако и при всем том машинка была безотказная и бой приличный.
Этот же экземпляр смотрелся произведением искусства. Кожух и крышка ствольной коробки не железные, а из углепластика, цветом и фактурой имитирующего необработанный гранит, рукоятка вместо неудобной бакелитовой — от нольвосьмого «борхарт-люгера», с мелкорифлеными деревянными щечками, в ладонь ложится так, что выпускать не хочется, и скоба спусковая аккуратненькая, тоже как на «восьмерке».
Магазин подлиннее и потолще, патронов на сорок пять, а то и на пятьдесят, опять же пластиковый и со специальными защелками по бокам, чтобы второй горловиной вниз пристегивать, а не изолентой или пластырем, как в Афгане делали. Ну и еще всякие удобные мелочовки, прицел передвижной на пятьсот метров, мушка в кольцевом намушнике фосфорная, рукоятка затвора на левую сторону перенесена и так далее…
А Шульгин продолжал объяснять и комментировать:
— Кроме ствола и пружин, все остальное или титан, или пластика. За счет чего при том же весе ствол почти вдвое толще. Баллистика, сам понимаешь, и греется меньше. Подгоночка деталей прецизионная, и вообще… Нравится? Есть и второй такой же, так что огневая мощь у нас теперь на уровне.
— А чего раньше не показал? В секреты играешься?
— Какие секреты? Делал так, для забавы, вроде от скуки, а показать не собрался, сам помнишь, сколько всего сразу навалилось. Тут другое интересно. Когда сюда шли, я этот НЗ скомплектовал, вот точно как чуял. И пригодилось, да?
— Нет слов…
— Тут и еще полезный в хозяйстве инвентарь наличествует.
Шульгин стал раскладывать на ковре свое богатство. Восемь гранат в сумках, шесть снаряженных магазинов, два прибора ночного видения и запас аккумуляторов с зарядным устройством, два мощных фонаря, тоже аккумуляторных, пластиковая взрывчатка с детонаторами, бинокль, в отдельном тючке комплект снаряжения ниндзя, а также спецнабор для изменения внешности.
— Гений. Рукопожатие перед строем. А во втором мешке что?
— Аналогично. Спецтехника, карбоновые жилеты, химия всякая… Денег немного. Проживем, даже если совсем одни останемся.
— Наше будущее светло и прекрасно. Но ничего не могу поделать с привычкой к дурацким вопросам. Если ты просто запасливый и предусмотрительный мужик — все хорошо и понятно. А ежели тебе сия мысль внедрена свыше?
— Отрицать не могу, а что из того следует?
— Например, нас хотят подтолкнуть к неким действиям, при которых именно это снаряжение необходимо…
— Ага. Не суббота для человека, а человек для субботы. Остается угадать, к каким действиям нас желают подтолкнуть.
— И поступить наоборот?
— Отнюдь. Именно так и поступить. Пусть они думают, что такой ход значит…
— Достойная задачка. Скучно не будет.
— И я о том же…
…Уходя, Вадима снова прицепили наручником к сливной трубе в туалете.
— Посиди. Здесь тепло и уютно. И поспать можно, и бегать никуда не потребуется. Мы тебе уже доверяем, но не настолько, чтобы на хозяйстве оставить. А вздумаешь сбежать и цепочку вдруг перегрызешь, мы к двери снаружи гранату пристроим. Нам обоев не жалко, нам обидно будет с тобой не попрощаться. Так что дверь трогать ни в каком варианте не советуем.
Чтобы не скучал, вручили ему том Салтыкова-Щедрина из библиотеки хозяина, с предварительно вырванным титульным листом и выходными данными. Ни к чему чекисту знать, что книга издана аж в 1954 году.
Из дому вышли около девяти вечера. По-здешнему — глухая ночь. Идти было не слишком далеко — километра четыре по прямой, переулками и дворами, конечно, дальше. Если никто не помешает, два часа в один конец.
Вадим, хорошенько подумав, вспомнил, что как-то при нем Агранов сболтнул, что «объект» содержится в Шубинском переулке. Ни Андрей, ни Шульгин такого не знали, хоть и считали себя коренными москвичами. Пришлось Вадиму рисовать. Оказалось, в двух шагах от Бородинского моста, на крутом спуске от Смоленской площади к реке. Там в будущие времена откроется неподалеку фирменный магазин «Дели».
Маршрут проложили сложный. Самым опасным на первом этапе было форсирование Тверской. До и после нее почти весь путь можно пройти скрытно, а магистраль наверняка контролируется. Хорошо еще, что она пока не подверглась сталинской реконструкции, и ширина ее ровно вдвое меньше. Ну и освещение послабее.
Шли в два эшелона. Впереди Шульгин, в тонком черном костюме в обтяжку, вроде легководолазного, только не резиновом, а кевларовом, покрытом сверху чем-то вроде чешуи. Под каждой чешуйкой силиконовая смазка. Если нажать посильнее, смазка выдавливается и из любого захвата можно вывернуться. И кевлар хоть и тонкий, но прочный. Пулю удержит не всякую, а ножом не пробить. Остальное снаряжение у Шульгина тоже из арсенала ниндзя. Для аккуратной, тихой работы.
Есть еще пистолет с глушителем на крайний случай, но в магазине только шесть патронов. Остальные он расстрелял на вокзале, а запасных не оказалось, не рассчитал немного Сашка. Про автоматные подумал, а для «беретты» не взял. Ну, даст бог, и без стрельбы обойдется. А на голове закреплен бинокулярный прибор ночного видения с активной подсветкой.
Метрах в двадцати позади Шульгина двигался Новиков. Для него спецкостюма не нашлось. Хорошо хоть ноктовизор есть, в его окулярах ночная тьма превращается в зеленоватые предутренние сумерки, а если в поле зрения попадется редкий уличный фонарь, то глаза слепит, как в солнечный полдень на пляже.
Андрей изображал группу огневой поддержки. У него автомат, на поясе пять полных рожков, гранатная сумка, в левом внутреннем кармане браунинг, к бедру пристегнут десантный нож. Лучше, конечно, чтобы до боя не дошло, по крайней мере, в первой фазе операции. Если на отходе, это еще ничего, от двух-трех десятков вооруженных винтовками солдат он отстреляется. Или от чекистов с наганами. Он-то их будет видеть, как на ладони, а они — только вспышки от его выстрелов. Так что шансы хорошие. Но легкий мандраж все равно присутствовал.
Против ожиданий, через Тверскую перешли спокойно. Минут пять наблюдали вправо и влево по улице и не заметили никакого движения. Может быть, патрули перекрывают только перекрестки у бульваров и Охотного ряда. Перебежали по одному на самом темном пролете между Столешниковым и улицей Огарева, там где будет построен Центральный телеграф.
И дальше, выбирая переулочки поглуше, к Суворовскому бульвару, мимо Арбата, на Сивцев Вражек. На всем пути — ни души. Словно и вправду вымерла Москва. Только собаки яростно лаяли за глухими заборами купеческих особняков и обывательских домишек.
На Смоленской площади патруль они все же увидели. Только несерьезный какой-то патруль. Три красноармейца или милиционера с винтовками за плечами стояли, курили козьи ножки, переговаривались громко. Будто сами напрашивались, чтобы их кто-нибудь «снял». Или наоборот, сильно умные бойцы. Как бы заранее предупреждают — вот они мы, смотрите, обходите нас подальше, если вам погулять в комендантский час требуется, только и нас не троньте…
Потянуло сыростью от реки, переулки круто пошли вниз.
— Черт, где тот Шубинский искать, ни фонарей, ни табличек, — выругался Шульгин.
— Давай в любую дверь постучим да спросим… — предложил Новиков.
— Да, может, и придется. — Шульгин достал из-под манжета бумажку с планом. — Вот набережная, вот Плющиха, вон мост виднеется. Похоже, что следующий переулок наш. Теперь тихо… Пойду дом искать. Куда б тебе спрятаться? Собаки, сволочи, опять разгавкались. Давай вот под этим крылечком, а я вперед. Охрана при доме наверняка имеется, только какая? Я, наверное, круга два сделаю, с тыла зайду, через соседние заборы понаблюдаю. Если шума не будет — тут меня и жди. Не выйдет тихо — действуем по обстановке. Ну, давай…
Шульгин растворился в темноте (с точки зрения постороннего наблюдателя, а Новиков продолжал видеть его серовато-зеленый силуэт на фоне угольно-черных заборов и более светлых фасадов домов).
Слегка изогнутый переулок, образованный двумя десятками типичных старомосковских особнячков, заканчивался тупиком, другого выхода из него не было, разве что по крышам дровяных сараев и огородами. По описанию Вадима, искомый дом был четвертым по правой стороне. И действительно, только он увенчивался мезонином, что и отличало его от соседних, одноэтажных. Более ничего примечательного в этом доме не было — фасад, обшитый тесом внахлест, три окна первого этажа, парадная дверь и железный козырек над ней на узорных кованых подкосах, дощатый забор с калиткой. Ставни на окнах открыты, но за стеклами темнота. В полукруглом окне мезонина тоже не заметно даже отблеска огня. На московских окраинах всегда принято было ложиться рано, а уж в нынешние времена — тем более.
Прижимаясь спиной к стене дома напротив и сливаясь с ним своим матово-черным костюмом, Шульгин присел на корточки и несколько минут наблюдал за окнами, не мелькнет ли там чья-нибудь тень. Выглядывая из помещения на неосвещенную улицу, человек непроизвольно приближает лицо к стеклу, и тогда его можно заметить. К сожалению, разрешающая способность прибора не позволяла обнаружить людей, находящихся внутри дома.
Вадим не знал и не мог рассказать им, какова система охраны дома. Исходя из логики, вряд ли к ней привлечено много людей. Если там содержится всего один пленник, причем, в силу возраста и, так сказать, профессиональной подготовки, неспособный к дерзкому побегу, сторожат и обслуживают его максимум четыре человека, возможно — посменно. Нейтрализовать их труда не составит. Главное, обойтись без шума.
Сашка прошел до конца переулка, перемахнул через забор двора, в котором не было собаки, и убедился, что отсюда можно без труда выйти на Смоленскую набережную. Между покосившимся, давно пустым курятником и оградой соседнего участка утоптанная дорожка вела к «туалету типа сортир», окруженному зарослями бузины. В одном месте ветки кустов были обломаны, а две доски забора держались только на верхних гвоздях и легко отодвигались в стороны. Видимо, хозяева часто пользовались этим проходом. Еще Суворов отмечал характерную черту русской натуры: «Пусть по колено в грязи, но на аршин ближе».
Возможно, освобожденного узника удобнее будет вывести здесь.
В соседних дворах собаки расшумелись не на шутку, почуяв чужака. Во втором по счету дворе Шульгину пришлось даже запрыгнуть на крышу сарая и залечь там, пока разбуженный лаем хозяин стоял на крыльце, всматриваясь в темноту, а потом цукал на рвущегося с цепи пса и швырял в него комьями земли с грядки, требуя убраться в будку.
Здешнему псу отвечали соседние, и скоро возбуждение охватило несколько окружающих кварталов. Беды в этом не было, попробуй догадайся, что послужило первопричиной паники — вор, подгулявший прохожий или просто кошка.
Добравшись наконец до цели, Шульгин снова залег на крыше невысокого, едва двухметрового сарая, с которого двор и задний фасад объекта просматривались во всех деталях.
Тут тоже все было спокойно, а главное — отсутствовала собака. Это, между прочим, его удивило. Хороший, свирепый пес, а еще лучше — пара значительно бы облегчили работу охранников. Спускай их на ночь и спи на посту спокойно.
Объяснений могло быть два: база эта временная, и охранники люди случайные, собаку заводить им просто в голову не пришло. Или — хозяин просто не любит злых собак и не понимает их нужности. Для выросшего в многоквартирных доходных домах Агранова это неудивительно. В те времена моды держать собак в квартирах придерживались только барыньки преклонных лет, ограничиваясь, впрочем, болонками да левретками.
Шульгин заранее не планировал своих действий, полагаясь на интуицию и результаты рекогносцировки, и сейчас прикидывал, с чего начать. Прежде всего — где может содержаться пленник? Он сам разместил бы его в мезонине, вон там, где решетка на окне. Интересно ведь, в первом этаже решеток нет, а наверху есть. Жаль, что не видно отсюда, давно она там поставлена или только что?
Действовать можно по-разному. Например, спуститься во двор и просто постучать в дверь. Внаглую. Сторож спросит — кто? Ответить — из ЧК, или — от Агранова, еще лучше — от Якова Сауловича.
Дверь хоть чуть приоткроется, даже если она на цепочке, не страшно. Цепочку перебить, сторожа отключить и вперед!
Не пойдет. Сторож может откликаться только на пароль и, такового не услышав, поднимет тревогу или сразу начнет стрелять. В зависимости от инструкций. А нам этого не надо.
Второй вариант — проникнуть в одно из окон первого этажа. Тоже не очень сложно снять с петель раму или вынуть стекло, тихо или как получится, убрать всех обнаруженных в доме лиц, после чего уводить пленника.
Против — те же доводы плюс риск, что в ходе внезапной перестрелки может пострадать и «профессор».
Остается самое сложное, но и надежное — пробраться в дом сверху.
Беззвучно спрыгнув на мокрую траву, Шульгин стремительным и плавным броском пересек двор и замер у невысокой, в пять ступенек, лестницы черного хода, рядом с водосточной трубой. Это место не просматривалось ни из одного выходящего во двор окна. Прижал ухо к двери, прислушался. В доме царила полная тишина. И снова не видно даже отблеска света в оконных стеклах. Что-то в этом есть ненормальное. Неестественное даже. Трудно представить, будто охрана настолько беспечна, что ложится спать вместе со своим подопечным.
«А не слишком ли я усложняю? — постарался быть объективным Сашка. — Не Бутырскую же тюрьму собираюсь штурмовать. Иначе взглянуть — высокопоставленный чекист заинтересовался профессором с какими-то необыкновенными способностями. Извлек его из тюремной камеры, где тот сидел по причине дворянского происхождения и неподходящего образа мыслей. Создал ему условия для научных занятий, а себе — возможность непринужденного общения. Приставил к нему сторожа-камердинера, чтобы заботился о старике, кормил его и не позволял уйти, убежать, просто отправиться на несанкционированную прогулку. И не более. Мы же вообразили, что идем брать частную тюрьму с полным штатом надзирателей и продуманной системой обороны. Опять нарушили принцип Оккама…»
Успокаивая себя таким образом, Шульгин подпрыгнул, ухватился за железный, глубоко вбитый в стену крюк, поддерживающий водосточную трубу, и через секунду уже сидел на краю влажной и скользкой жестяной крыши.
Внизу под легким ветром шумели остатки желтых мокрых листьев на деревьях, над головой нависало низкое небо. Там, где обычно висел над центром Москвы багровый световой купол, сейчас ничто не намекало на существование двухмиллионного города. Так, взблескивали кое-где слабенькие огоньки стосвечовых лампочек в уличных фонарях.
Шульгин вспомнил, как ему пришлось когда-то красить крышу старого дома, заросшую вдобавок скользким зеленым мохом. Так вот там жесть крепилась отнюдь не гвоздями к стропилам, а просто чеканилась на сгибах и фиксировалась маленькими железными треугольничками.
Он вытащил тяжелый десантный нож, начал неторопливо и аккуратно отгибать швы на кромках листов.
Через десять минут Сашка уже проник на чердак. Впереди сквозь едва заметные — без ноктовизора и не увидеть — щели пробивались лучики света. Он прислушался. Вроде бы звук голоса. Но не диалог, кто-то монотонно и тихо бормотал, как бормочет в пустой квартире невыключенное радио.
Даже прижавшись ухом к стене, смысла слов разобрать было невозможно.
Шульгин прошел вдоль всей стены, ощупывая ее руками. Двери не было. И чердак был пуст, только толстый слой шлака на полу и обрезки брусьев и горбыля, оставшиеся, наверное, еще со времен строительства.
Стенка из доски-сороковки, прибитой гвоздями к вертикальным стоякам. Сашка вспомнил роман Майна Рида «Морской волчонок». Как там запертый на дне трюма двенадцатилетний парнишка месяц пробивался с помощью матросского ножа на волю через много ярусов всевозможных грузов, включая рояль. А тут всего-то…
Чтобы не беспокоился Новиков, Шульгин включил рацию и условной комбинацией пощелкал ногтем по решетке микрофона.
…Ощупав пальцами края прорезанных в досках бороздок, он подцепил клинком верхнюю доску и слегка нажал. Только треснули рвущиеся обои.
Сидевший за столом бородатый мужчина вскинул голову. Перед ним на столе лежала книга, дрожала желтым огоньком керосиновая лампа, отбрасывая блики на большую темную бутылку, дымилась в консервной банке самокрутка. Шульгин прижал к губам указательный палец и шагнул в комнату.
— Вы кто? Откуда здесь? — громко и испуганно спросил человек, ошеломленный внезапным появлением в его каморке похожего на Ихтиандра (если бы он видел этот фильм) незнакомца.
Шульгин еще раз повторил жест, призывающий к молчанию. Но было уже поздно. Дверь комнаты распахнулась, и в нее ввалилось сразу много людей во главе с высоким, темноволосым, одетым в распахнутую кожаную куртку. Сашка никогда его не видел живьем, но сразу догадался, что это как раз Агранов и есть.
Шульгин не был лордом, который называет кошку кошкой, даже споткнувшись об нее в темноте. Он выразился проще и энергичнее.
Случилось как раз то, о чем он в глубине души догадывался, но отметал, как слишком тонкую для здешних времен интригу.
Оставалось действовать на автопилоте. Агранов, все правильно рассчитавший, в первый миг ошалел, увидев появившееся абсолютно бесшумно и непонятным образом существо, обтянутое черной шкурой, с огромными, отблескивающими алым огнем глазами. Он ожидал сегодня вторжения и подготовился к нему, но на подобное не рассчитывал.
Секундное замешательство стоило ему проигранной кампании.
Шульгин левой рукой снизу швырнул тяжелый нож рукояткой вперед, и сорокасантиметровый «Джангл Кинг» ударил чекиста между глаз бронзовой головкой. Агранов упал ничком без звука. Из плечевого кармана Сашка выхватил пружинный метатель, заряженный десятком граненых стрел с зубчатыми наконечниками. На его счастье, чекистов было слишком много. Они мешали друг другу в том деле, за которым пришли. Первые трое, вломившиеся в тесную комнату вместе с Аграновым, повалились на пол — десятисантиметровые стрелы входили в тело, как гвозди, по шляпку, зато остальные сумели сориентироваться и рванулись назад, вниз по крутой лестнице.
«Тихо не получилось», — отметил про себя Шульгин.
Агранов лежал лицом вниз, растянувшись до середины комнаты, из-под вздернувшейся куртки у него высовывалась коробка «маузера». Сашка взял пистолет, взвел длинную спицу курка с рубчатой головкой сверху.
— Эй, там, сдавайся, стрелять будем! — кричали с первого этажа.
— Вы кто? — снова спросил как бы не понявший происшедшего обитатель комнаты.
По существу вопроса Шульгин отвечать не стал. Некогда.
— Ты со мной? Или с этими? — кивнул он на распластанные под ногами тела. — На волю хочешь?
— Хочу…
— Стрелять умеешь? Держи. — Из еще теплых пальцев ближайшего чекиста вывернул тяжелый «манлихер», у второго — наган.
«Старик», которому даже при свете керосинки Шульгин дал бы не больше пятидесяти, просто борода его старила, взял пистолет.
— Только я стреляю… не очень. Из дробовика разве…
— Да хоть в воздух, лишь бы шум был. Когда я скажу… — он приоткрыл дверь.
— Вы там, мудаки! Кончай базар. Не успокоитесь, сейчас гранату брошу… И вашего начальника шлепну…
В ответ часто загремели выстрелы, откалывая пулями щепки от потолка и стен.
— Вот кретины, — обернулся Шульгин к своему теперь уже напарнику. — Я сейчас их немного попугаю, а вы бейте окно и, хоть вон табуреткой, вышибайте решетку…
— А как же… — профессор указал на дырку в стене.
— Я что сказал? — Сашка выскочил на лестничную площадку, навскидку разрядил вниз половину обоймы, потом приподнял за поясной ремень тело лежавшего поперек порога чекиста и столкнул по крутым ступенькам.
Навстречу ударил недружный залп из полудесятка стволов.
— А до хрена их там, — удивился Шульгин.
Включил рацию, сообщил, словно Новиков сам не слышал поднявшейся пальбы:
— Андрей, тут заварушка-таки началась. Попытаюсь прорваться с грузом к реке. Минуты через две-три дай огоньку по фасаду. Если сумеешь, подберись поближе. Гранату в окно невредно. Буду отходить через дворы. В задах последнего дома выход на набережную… Прикрывай… Сбор под мостом.
Снова сунул рацию в карман, пару раз выстрелил для порядка и перевалил через перила вниз еще одно тело. Смысл в этих странных действиях был.
Падающие сверху трупы, во-первых, отвлекали судорожный огонь еще не успевших прийти в себя чекистов, а во-вторых, создавали у входа на лестницу баррикаду, которую не так просто будет преодолеть при попытке новой атаки.
— Что смотришь, папаша? Бей.
Удолин размахнулся и швырнул табуретку в окно. Звон бьющегося стекла слышен был и в доме, и на улице.
— А ну еще!
Вошедший во вкус профессор с натугой поднял дубовый стол и изо всех сил шарахнул по решетке. Вздрогнул весь мезонин.
— Молодец! Еще! А теперь… — Шульгин обмотал запястья Агранова ремешком маузерной коробки. — Тащи его туда… — он показал на пролом в стене.
Огневой мощи у него хватало. Маузер, «манлихер» и два нагана чекистов с двумя боекомплектами каждый, еще и своя «беретта». Он не видел, в кого стрелять, но по направлению полета вражеских пуль ответил полным барабаном.
Швырнул револьвер вниз, надеясь, что хоть на секунду его примут за обещанную гранату. И нырнул вслед за профессором в пролом стены. Приладил на место сорванные доски. В первое мгновение в глаза не бросится, тем более что налицо разбитое окно и вывернутая наружу решетка.
Вместе с Удолиным подтащили Агранова к отверстию в крыше.
Шульгин потрогал у чекиста пульс. Живой, как он и рассчитывал, соразмеряя силу удара.
— Вы скажете, наконец, кто вы и зачем все это? — прошипел освобожденный узник на ухо Сашке.
— Наш человек, — неопределенно, но убедительно ответил Шульгин. — Сейчас те ворвутся в комнату, нас там не обнаружат, на улице начнется еще одна стрельба, они кинутся обратно, и мы аккуратно спустим вашего приятеля во двор. Понятно?
— Понятно. Вы мне нравитесь…
— Комплименты потом. Внимание…
Все вышло точно так, как Шульгин и спланировал. Топот ног и матерная ругань за стеной, и через пару секунд — короткие прицельные очереди новиковского «ППС». Под его пулями зазвенели стекла выходящих на улицу окон.
— Ну все, дед. У нас теперь от силы минут десять осталось, а потом такое начнется…
Он вылез наружу. Надвинул на лоб ноктовизор. Увидел, как три фигуры, выскочившие было во двор, очевидно, на поиски выпрыгнувших в окно пленника и налетчика, метнулись обратно. Опасность с улицы показалась им более серьезной. По неопытности они приняли «ППС» за настоящий пулемет. А хоть в малой степени знакомый с тактикой человек соображает, что пулемет — оружие групповое, самостоятельно обычно не употребляется и, значит, поддерживает действия как минимум отделения, а то и взвода.
О вчерашних событиях наслышаны были все, и предположение, что действующие в городе белобандиты всей силой навалились на секретную точку, абсурдным не казалось.
Из распахнувшейся парадной двери в ответ на выстрелы Новикова гулко загремел «льюис». Агранов солидно подготовился к делу.
И умный же, гад, оказался! Да не умнее нас.
Пулемет чекистов бил вдоль переулка, кроша пулями заборы, стены, окна обывательских домишек.
А Новиков уже переместился в мертвое пространство, залег в водосточной канаве между булыжной мостовой и тротуаром в десяти метрах от аграновского дома.
Шульгин спрыгнул на землю.
— Подавай…
Удолин ногами вперед просунул вниз длинное тело Агранова.
Сашка принял его, уложил на траву.
— Прыгай…
Профессор замешкался.
— Быстрее, мать… Придержу!
Прыгнул и даже удержался на ногах. Да и всей-то высоты едва три метра.
— Сумеешь через двор пронести? Или мне взять?
— Донесу. В нем и пяти пудов не будет.
Удолин с Аграновым на спине, Шульгин с маузером и «манлихером» в руках побежали к забору. За спиной полыхнуло оранжевым, грохнул взрыв гранаты. За ним другой.
Профессор уперся в забор, оглянулся растерянно.
— А, что теперь чикаться… — Шульгин ударом ноги свалил целиком секцию ограды. Отбросил с дороги кинувшегося навстречу пса.
— Вперед, не зевай, если жизнь дорога!
В доме рванула еще одна граната и пулемет, подавившись очередным патроном, смолк. Только трещали револьверные выстрелы.
Интересно, о чем будут говорить завтра окрестные жители?
Добрались до последнего перед спуском к набережной двора. Шульгину показалось, что за спиной у него происходит какое-то движение. Развернулся, толкнул к проходу в заборе тяжело, с хрипом дышащего профессора, упал на одно колено. Сначала он подумал, что их догоняет Новиков, но нет, в окулярах мелькнули совсем другие фигуры.
«Даже неинтересно, — подумал Шульгин, — как в тире». И выстрелил ровно два раза. Сколько и оставалось патронов в маузеровской обойме. Чекисты, один навзничь, другой боком, повалились в бурьян.
«Но до чего настырные, бегут в темноту и думают, что им ничего не будет! А куда деваться, с другой стороны? Пленника упустили, да еще и начальник украден. Забегаешь тут…»
Спустились по мокрому глинистому откосу к самому берегу Москвы-реки. В сотне метров ниже по течению темнели опоры Бородинского моста. Того еще, старого. Между урезом воды и настилом моста обнаружился глубокий треугольный карман. Там и устроились.
Еще несколько раз коротко протрещал автомат, грохнула четвертая граната. И потом уже хлопали только разрозненные револьверные выстрелы.
Удолин никак не мог успокоить дыхание, в груди у него свистело и хлюпало.
— Отвык бегать и курю много, — словно извиняясь, сказал он. — Так кто же вы все-таки?
— Друзья, если так можно выразиться. Давайте отсюда живыми выберемся, потом и поговорим.
Застонал, заворочался, приходя в себя, Агранов.
— Еще и этот… — выругался Сашка. — Чем бы тебя успокоить? Да хоть бы так… — отхватил ножом кусок сукна от полы аграновского френча, затолкал ему в рот вместо кляпа.
— И не дергайся, а то сразу замочу…
Шульгину хотелось курить после эмоционального взрыва, но сигарет с собой не было.
Прошло не больше трех минут, и снаружи послышался тихий свист.
Сашка ответил. С автоматом в руке в щель просунулся Новиков.
— Вы здесь? Живы? Все в порядке?
— Более чем. Начальничек с нами. Все рассчитал, курва, кроме этого…
Новиков уважительно прищелкнул языком.
— Здорово. Теперь бы сообразить, как отсюда выбираться. Как говорится — не пройдет и часа… А у меня только два рожка осталось.
— Да уж. С боем не прорваться, тем более с таким грузом. У тебя курить есть?
— Есть, а стоит ли? Заметить могут…
— Я аккуратно. Никто нас здесь не заметит, а уши пухнут. Придется Ястребова вызывать. Риск, а куда деваться? Без него не уйдем.
— Оно конечно. По большому кругу, через Новослободскую и Пресню должен проскочить. Весь шмон опять в пределах Кольца будет…
— Тогда вызывай. Я сейчас докурю и двинем по бережку в сторону Калининского…
Они так и не привыкли к новой (старой) топографии Москвы и здешним названиям, говорили, как раньше, и прекрасно понимали друг друга.
Глава 29
Профессор Удолин, в своем засаленном, бурого оттенка халате, похожем на тюремный, возбужденно и беспорядочно перемещался по тридцатиметровому холлу. Как будто в заточении у Агранова ему не хватало пространства, и теперь он наверстывал накопившуюся потребность в движении. От ужина он отказался, зато с жадностью выпил две большие чашки крепчайшего кофе, причмокивая от удовольствия, словно извозчик за чаем.
— Три года настоящего кофе не пил, это надо же! Уф-ф, какое блаженство. Выходит, жизнь не кончена, нет-нет, не кончена… И папиросы, чудесные папиросы! Что, фабрики Асмолова? Странно, «Ява», никогда не слышал. Да неважно, зато какой аромат… Нет, господа, вы это прекрасно задумали, мне там у Якова чертовски надоело. Главное, он мне совершенно не позволял выходить в город. Как будто я собирался сбежать. А куда мне было бежать, скажите на милость? Чтобы с голоду подохнуть? Благодарю покорно. И он еще мне трибуналом угрожал…
Видно было, что этот человек поговорить очень любит и, похоже, не особенно важно, о чем именно. Просто время от времени в нем накапливалась критическая словесная масса, и требовалось немедленно ее сбросить, как пар через предохранительный клапан. Когда давление приходило в норму, профессор начинал говорить по делу и вполне здраво.
— Давайте же наконец познакомимся, господа. Удолин, Константин Васильевич, экстраординарный профессор по кафедре всеобщей истории.
Друзья тоже представились, причем Шульгин назвался доктором медицины, что было почти правдой, поскольку советский кандидат наук этому званию соответствовал, а Новиков сообщил, что он полковник и журналист.
— Весьма, весьма рад. Правда, для врача вы, уважаемый коллега, слишком хорошо владеете навыками э-э… противоположного рода. Однако… время такое, да. Я, кстати, успел заметить, что в нынешних условиях люди образованные, аристократы крови и духа, приспосабливаются к жизни куда лучше этих… пролетариев. Те и характером пожиже, и от голода мрут чаще. Статистикой я располагаю. Потому, кстати, белая армия в состоянии сражаться при таком огромном перевесе красных. Они в своих газетках пишут, белоручки, мол, эксплуататоры, выродившееся сословие. Вот уж вздор! Дворяне — военное сословие, и война их естественное состояние. Другое дело, что бывают исторические закономерности, когда дворянство проигрывает плебсу. Битва при Азенкуре, например.
— А с чего вы взяли, профессор, что белые проиграли?
— Ну как же? У Врангеля остался только Крым, на Дальнем Востоке тоже лишь полоска Приморья. Эта война проиграна, увы. Но не все так просто. В ХIII веке Русь пала под натиском татаро-монголов, но в тех боях ударная сила азиатских орд, предназначенная для захвата Европы, была сломлена. Точно так же белые армии потерпели поражение в России — но, не сумев отстоять Россию, они все же остановили ударный отряд революционного Интернационала, нацеленный на Европу. Белое движение не пустило большевизм распространиться далее границ бывшей Российской империи. Щит под ударом разлетелся вдребезги, но он сломал и разбившее его копье.
— Красиво сказано, Константин Васильевич, только… Да вы когда последний раз газеты читали?
— Не помню. Кажется, в мае. Или в июне? Агранов мне перестал их носить, да и я не настаивал. Ничего там хорошего. У меня были более интересные занятия…
— Понятно. Дело-то в том, милейший профессор, что положение нынче несколько иное. Врангель не в Крыму, а почти под Москвой, большевики разгромлены в Польше. И мы здесь непосредственно с фронта… — Новиков улыбнулся и наклонил голову.
— Ах, даже так! Совсем прелестно. История, выходит, на сей раз проявила больше здравого смысла, чем ей обычно свойственно. Смутное время заканчивается. Большевики надорвались, слава тебе, господи! Я и это предвидел, предсказывал, но позже, значительно позже. Я отводил им еще лет десять-двенадцать, после чего их власть должна была выродиться, деградировать и мирным путем раствориться в мелкобуржуазной массе и частнособственнических инстинктах…
«Ишь, и правда умный, — удивился Новиков. — Если бы не сталинский переворот, так бы и вышло, ничем иным НЭП закончиться и не мог…»
— Да, а я ведь так и не спросил, господа, чем обязан столь приятному знакомству? Вы специально прибыли, чтобы освободить меня из узилища? Не могу поверить. Неужели моя персона столь известна и представляет для кого-то интерес даже в разгар решительной битвы? Или же вы преследовали цель захватить в плен Якова? Разумеется, он для вас гораздо более заманчивая добыча. А вы не боитесь, что его будут искать всей мощью той ужасной организации и обнаружат наше убежище?..
Манера разговора профессора начинала уже утомлять. Возможно, лектор он был талантливый, но в нормальном общении поток его красноречия воспринимался с трудом.
— За вами, за вами мы прибыли. А Агранова прихватили попутно. Нельзя было и такой шанс упускать. Давайте сегодня мы дадим вам возможность отдохнуть, а завтра побеседуем обстоятельно.
Невзирая на возражения, что он совсем не устал и готов беседовать хоть до утра, Удолина препроводили в спальню, снабдили коробкой папирос и кофейником и пожелали спокойного сна.
Пришло время познакомиться с Аграновым.
Вид у него был импозантный. Хотя и несколько помятый после не слишком бережной транспортировки. Лоб и переносица распухли от удара, нижние веки посинели и набрякли.
— Здравствуйте, Яков Саулович. Как вы себя чувствуете? — вежливо поинтересовался Новиков.
— А как, по-вашему, я должен себя чувствовать? — огрызнулся чекист.
Андрей рассматривал его с интересом. Богатой судьбы человек. В недалеком будущем должен стать главным специалистом ВЧК — ГПУ по делам творческой интеллигенции и вообще идеологии. Близким другом и верховным надзирателем советских писателей. Увлекательную жизнь ему предстоит прожить. Только короткую. Обидно даже — достичь неограниченной и бесконтрольной власти над миллионами людей, большей, наверное, чем у Гиммлера и Мюллера, вместе взятых, абсолютного личного благополучия в голодающей нищей стране (для многих именно в этом особая сласть — чтобы у тебя все, а вокруг нищие), получить четыре ромба на петлицы и в миг наивысшего взлета — пулю в затылок. А может, и не в затылок, и не пулю, а просто забили ногами в цементном подвале малограмотные румяные мальчики, пришедшие на смену по-своему рафинированным питомцам Менжинского и Ягоды. Была у них такая инструкция — практиковать избиения до смерти, в целях нравственной закалки личного состава.
— Думаю, что плохо вы себя чувствуете, Яков Саулович. И физически и нравственно. Голова болит? Чего желаете, на выбор, таблетку анальгина или рюмку коньяку?
— Стакан.
— Чего стакан? Ах, да… Александр Иванович, не сочтите за труд.
Шульгин подал Агранову требуемую емкость, но налил не доверху. Кто его знает, может, он алкоголик, выпьет, и сразу в отключку.
— Так. С болью телесной мы разобрались, а вот с душевной как быть? Если это вас порадует, отмечу — с засадой вы хорошо придумали. Умеете мыслить перспективно. Вот вроде все предусмотрели с дрезиной, по всем параметрам сбоя быть не должно было, а вы все же и о неудаче подумали, подбросили Вадиму информацию о домике в переулке. Очень грамотно. Однако все равно прокололись. Отчего бы?
Агранов молчал, прикрыв глаза, ждал, когда подействует алкоголь и вернется способность мыслить легко и раскованно.
— Не вижу необходимости сейчас об этом говорить, — ответил он наконец. — Вы для себя знаете, а мне свои ошибки анализировать уже незачем.
— Признаете, значит, что проиграли вчистую?
Агранов пожал плечами.
— Тогда пойдем дальше. Вы действительно уверены, что профессор Удолин владеет какими-то сверхчувственными способностями? И эти способности применимы в практической оперативной работе?
Агранов откинулся на спинку стула, поерзал, пытаясь устроиться поудобнее.
Новиков предложил ему пересесть в кресло или на диван, что больше нравится. Вообще чувствовать себя как дома. Традиционно угостил папиросой.
— Долго, интересно, вы будете в благородство играть? — криво улыбнулся чекист.
— От вас зависит. Дилемма ведь простейшая. Вы желаете с нами сотрудничать, тогда возможны многие, для вас благоприятные варианты. Или не желаете, и довольно скоро ваш труп подберет на улице патруль. Пауза между этими событиями может быть заполнена весьма неприятными для вас процедурами. И все… Терцио нон датур.
— Какими же гарантиями может сопровождаться первый вариант?
Вмешался Шульгин, до этого с полным безразличием разбиравший на журнальном столике трофейный «маузер». Агранов знал толк и в оружии, выбрал себе наилучшую из существующих моделей — образца 1912 года, и пользовался пистолетом редко, он был практически новый. Удачное приобретение.
— Что вы дурака перед нами изображаете? Какие гарантии? Вексель вам выдать или расписку, нотариально заверенную? Сами же в разведке работаете, понимать должны несуразность своих претензий. Только вера в нашу порядочность и свое счастье. А если считаете, что мы вас обманем, так останется надежда на легкую смерть… Короче — сами решайте. Есть у вас что сказать и предложить — поработаем. Вообще-то такие, как вы, при любой власти нужны. В этом же, кстати, историческая ошибка вашего Ленина. Не придумал бы идиотскую теорию насчет полного слома старой государственной машины, все бы у вас было нормально…
— Тут я с вами полностью согласен. Рабочие должны работать, сыщики воров ловить, инженеры руководить производством…
— А недоучившиеся гимназисты и аптекари возглавлять тайную полицию, — съязвил Новиков.
И дальше у них продолжался вроде бы ни к чему не обязывающий, почти салонный разговор. Вопрос о гарантиях и сотрудничестве не поднимался, однако обе стороны понимали, что соглашение достигнуто. Только Агранову по-прежнему пришлось мучиться вопросом, что конкретно хотят от него «полковники». Новиков то и дело демонстрировал свои якобы глубокие познания в деятельности ВЧК, почерпнутые из учебников истории, мемуаров и романов Семенова, Ардаматского и Льва Никулина. Конкретных фактов он избегал, понимая, что писаная история сильно отличается от подлинной, но двух десятков имен и некоторых деталей, в данный момент считающихся строго секретными, ему хватило, чтобы убедить чекиста в своей абсолютной осведомленности.
Эта тактика настолько деморализовала и запутала Агранова, что и главный вопрос, ради которого Новиков затеял свою мистификацию, он сглотнул, как щука блесну.
— Хотелось бы вот еще что уточнить, Яков Саулович, как функционирует система принятия решений и связи с вашими заграничными покровителями? Или лучше их назвать иначе? Ею только вы занимаетесь, или…
— В основном — Трилиссер… — и спохватился. Об этом говорить нельзя ни в коем случае. Даже в своем кругу они избегали называть вещи своими именами, в случае необходимости предпочитали иносказания. Не дай бог, кому-то покажется, что соратник знает слишком много. Но полковнику и это известно…
— До Трилиссера очередь тоже дойдет, — как о само собой разумеющемся сказал Новиков. — Пока меня ваша точка зрения интересует. Общая схема взаимоотношений, ближайшая и последующие задачи, механизм функционирования организации. Вы же не будете отрицать, что Ленин, Дзержинский, ЦК и Совнарком посвящены далеко не во все тонкости внешней и внутренней политики? Или, лучше сказать — не в полной мере представляют общую картину во всей ее диалектике.
Агранов уставился на носки своих сапог, лихорадочно просчитывая варианты. Из того, что он успел узнать и понять, «полковники» являются представителями не менее могущественной организации, чем та, замыслы которой реализуют в России он сам и другие посвященные. Нет, наверное, все-таки за ними стоит более могучая сила. Куда более законспирированная, раз о ней вообще никто ничего не слышал, и не менее богатая, судя по деньгам, которые вдруг брошены на стол. Так делают в покере — удваивают или утраивают ставку в решительный момент. И партнерам остается отвечать или бросить карты.
Как быть? Прикинуться ничего не знающим? Поздно. Одним упоминанием Трилиссера он уже подтвердил принадлежность к посвященным. Врать и выкручиваться? «Полковник» достаточно информирован и силен в психологии, чтобы разоблачить ложь, да и физически невозможно на ходу выстроить правдоподобную конструкцию… Что лучше — отказаться говорить и получить пулю сейчас, или все рассказать, рискуя навлечь на себя неотвратимую месть? Но зачем думать о мести, когда еще неизвестно, кто победит? Может быть «эти» разгромят «тех» наголову, и некому будет вспомнить какого-то Якова Агранова, который, кстати, вообще может исчезнуть бесследно.
Остается постараться сделать так, чтобы его не ликвидировали «эти», узнав все, что им надо, а приняли в свои ряды, и не на последние роли…
Пока он просчитывал варианты, Новиков рисовал на бумаге рожи одноглазых пиратов, выражающие последовательную гамму эмоций, от глупого добродушия до алчной свирепости.
— Хорошо, — проронил, наконец, Агранов, приняв решение. — Я согласен сотрудничать с вами, как говорится, не за страх, а за совесть. — И постарался придать лицу выражение, подходящее для одной из высоких договаривающихся сторон. — Но давайте обсудим сначала некоторые условия.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ГРЕЗЫ ЛЮЦИФЕРА * * * ИЗ ЗАПИСОК АНДРЕЯ НОВИКОВА
Но что мне розовых харит
Неисчислимые услады?!
Над морем встал алмазный щит
Богини воинов Паллады.
(Н. Гумилев).
«Если бы в этот трагический момент нашей истории не нашлось среди русского народа людей, готовых восстать против безумия и преступлений большевистской власти и принести свою кровь и жизнь за разрушаемую родину — это был бы не народ, а навоз для удобрения беспредельных полей старого континента, обреченных на колонизацию пришельцев с Запада и Востока. К счастью, мы принадлежим к замученному, но великому русскому народу».
А. И. Деникин.
«Если бы три года русские люди не сражались против большевиков, если бы не было Степного и Ледяного походов, если бы не защищалась Сибирь, если бы не восстали Дон, Терек, Кубань, если бы в Крыму после Новороссийска не было снова поднято Русское знамя, — мы, русские, были бы вынуждены признать, что у нас, русских, нет чести и что Родина действительно не более чем предрассудок. И если честь спасена и если идея Родины — идея России — не умерла до сих пор, то этим мы обязаны безвестным героям, положившим жизнь свою у Пскова, у Омска, у Новороссийска, под Орлом, под Казанью, на Перекопе — во всей земле Русской. Этим мы обязаны Корнилову, Алексееву, Колчаку, Деникину, Врангелю. Вечная слава им!»
Б. Савинков. «О русской Вандее». 1921 год.
«Эти цитаты я нашел совсем недавно и включил их в свои заметки как еще одно оправдание и подтверждение правильности наших действий. Но меня одновременно тревожит тот факт, что мне требуется такое оправдание. Раздвоение личности или просто нормальная рефлексия? Но это сейчас представляет лишь академический интерес. Все то, что мы планировали, практически уже осуществилось. Пусть мы нарушили все навязанные нам с детского сада нравственные принципы, пусть потом найдутся люди, которые назовут нас безродными космополитами и не помнящими родства иванами (да и то, если мы снова окажемся в предыдущей Реальности), а я окончательно убедился, прожив здесь два месяца, — мы все делаем правильно!
…Не только Россия, но и весь цивилизованный мир в конце сентября 1920 года застыли в состоянии неустойчивого равновесия.
Русская армия генерала Врангеля с предельным напряжением сил за два месяца непрерывного наступления вышла на рубеж Ростов — Воронеж — Курск — Киев — Одесса, освободив территорию площадью свыше 600 тысяч квадратных километров. Причем она могла бы наступать и дальше, но Берестин убедил Верховного остановиться. На своем стратегическом компьютере он рассчитал оптимальную линию фронта, исходя из критерия максимальной пригодности к обороне. На всем протяжении демаркационная линия, которая в случае необходимости могла бы стать и границей между двумя Россиями, проходила по высоким, западным берегам рек, господствующим высотам, другим естественным преградам. Получившие передышку войска производили перегруппировку сил, строили оборонительные позиции, прокладывали полевые железные дороги к стратегическим опорным пунктам. В освобожденных от Советской власти губерниях проводилась мобилизация.
Южная Россия со столицей в Харькове смотрела в будущее с оптимизмом. Располагая наиболее плодородными землями, многочисленным и богатым крестьянством, Донецким угольным бассейном, развитой промышленностью, первоклассными морскими портами и судостроительными заводами, а главное — высокопрофессиональной и победоносной армией, она могла свободно выбирать между войной и миром.
Совсем другие настроения царили в России Советской. Несмотря на колоссальное превосходство в территории и населении, перспективы для нее вырисовывались мрачные. Четвертого года войны она выдержать не могла. Разруха, охвативший десятки губерний голод (еще не тот страшный, который наступит в двадцать первом году и унесет десятки миллионов жизней, но уже весьма ощутимый), пятимиллионная армия, чуть не половину которой составляли озлобленные на всех полуанархические банды, постоянно вспыхивающие крестьянские восстания и самое крупное из них — Антоновское, для подавления которого нужно было бы снять с фронта десятки регулярных дивизий. Надвигающийся призрак Кронштадтского восстания, активизация вдохновленных успехами Врангеля антибольшевистских сил Приморья и Забайкалья. А главное — все обостряющиеся противоречия внутри кремлевского руководства.
Надежды победить Русскую армию в полевых сражениях почти не оставалось, но и пойти на мирные переговоры большевикам было невозможно. Вместо обещанной мировой революции — сначала катастрофическое поражение в Польской кампании, а потом еще и признание права на существование демократического, сильного и, главное, сытого Российского государства… Советский режим терял единственное оправдание своего существования.
Тем более что умный и дальновидный премьер врангелевского правительства Кривошеин провел закон о признании фактически состоявшегося передела земли, а высшей мерой наказания за уголовные преступления была объявлена высылка в Совдепию.
Происходящие на территории бывшей Российской империи события неожиданным образом отразились на всей политической системе послеверсальского мира.
Правительства стран Антанты, уже списавшие Белое движение в расход, вновь оказались поставлены перед необходимостью не только экстренно реагировать на перспективу появления государственного образования, юридически являющегося правопреемником Российской империи, но и пересматривать уже сложившийся баланс сил и интересов в Европе.
Франция вдруг сообразила, что появляется перспектива восстановить свои экономические интересы на Юге России и вернуть в той или иной форме царские долги по кредитам и займам, а в дальнейшем, если вовремя подсуетиться, воссоздать Франко-Русский союз против Германии, а возможно, и Англии.
Соединенное королевство, соответственно, вынуждено было решать — вступать ли в политическую борьбу с Францией за доминирование в будущей независимой Югороссии, или рискнуть поддержать большевиков. В геополитическом смысле тут открывались интересные возможности для вечного британского политического покера.
Зашевелилась и раздавленная аннексиями и репарациями Германия. Для нее тоже появился свет в окошке — если врангелевская Россия будет восстановлена в правах участника Антанты, то Ленину ничего не останется, как вспомнить о старых друзьях и в какой-то форме вернуться к идеалам Брестского мира (в духе будущего Рапалльского соглашения). А возможен и обратный вариант — Германия поддержит Францию против Англии ценой отмены наиболее тяжелых и унизительных статей Версальского договора (тогда исчезнут причины возникновения национал-социализма, а Гитлеру придется-таки заняться архитектурой и живописью всерьез).
Само собой, новые идеи и планы появились у США, Японии, Турции, Польши, Румынии. Может быть, и еще у кого-то, но прочие сопредельные страны самостоятельной политической роли в те времена не играли. Хотя отчего же? Приготовившиеся к неизбежному вторжению 11-й армии Армения и Грузия тоже оживились. С предложениями военного союза и договоров о любой форме конфедерации в Харьков выехали послы Эривани и Тифлиса.
Но это только видимая часть геополитической ситуации. А еще ведь существовала и невидимая. Не буду здесь повторять набивших оскомину, а главное — крайне непрофессиональных разглагольствований об иудео-масонском заговоре. Вообще-то теория подкупает своей определенностью и простотой. Вначале означенные иудео-масоны (по приказу тайного мирового правительства) полностью захватывают экономическую и политическую власть в царской России. По некоторым «источникам», к 1917 году девяносто процентов высших сановников, многие члены царствующего дома, все командующие армиями и фронтами, лидеры оппозиции — Керенский, Милюков, Гучков, князь Львов, Родзянко — все сплошь масоны. Остальные власть имущие — иудеи.
Не желая допустить существования независимой и сильной России (в которой им, по той же теории, принадлежит вся власть, заметим), они сначала втягивают ее в мировую войну, потом добиваются поражения в войне (действуя вместе с Лениным и его партией, очевидно) и отречения царя. Власть передают большевикам, а сами бегут в эмиграцию, где из идейных соображений (или для маскировки) перебиваются с хлеба на квас и постепенно вымирают в безвестности.
Но история продолжается. Захватившие Россию масоны-интернационалисты второй волны развязывают террор против русского народа и православия, одновременно проводя индустриализацию и прочие экономические преобразования. К концу тридцатых годов Россия (то есть уже СССР) вновь становится великой и могучей. Приходит пора масонов третьей волны(?), которые натравливают на СССР теперь уже гитлеровскую Германию (тоже находящуюся под их тайной властью). Погибают еще 50 миллионов человек и неисчислимые материальные ценности. Однако СССР побеждает, становится еще более великим и могучим, Мировая Закулиса (опять же иудео-масоны?), захватившая власть теперь уже в США, начинает «холодную войну», чтобы вновь сокрушить СССР, к власти в котором после смерти Сталина вновь пробрались собственные иудео-масоны… Сказка про белого бычка продолжается…
Всю эту бредятину я вычитал в процессе подготовки к нашей московской акции из многочисленных «трудов», имевшихся в библиотеке «Валгаллы». Создавали их авторы, казалось бы, не имеющие между собой ничего общего, и изданы были эти «исследования» в целом ряде стран. Случайностью сие быть не могло — у сумасшедших идефикс обычно не повторяются. Значит, рассудил я, кому-то такая теория необходима и выгодна. Да, я же забыл еще упомянуть и «Протоколы сионских мудрецов»!
Короче — какая-то тайная организация действительно существует. Цель ее — не мифическое мировое господство. Как говорят в Одессе: «Зачем мне еще и эта головная боль?» Тогда что? Какая сверхзадача может объединять безусловно могущественных людей (или лучше сказать — субъектов?) на протяжении веков и заставлять их вмешиваться в исторические процессы? Деньги, вообще материальные блага? Любой дурак понимает, что какую угодно степень власти и благосостояния можно обеспечить себе как раз в условиях стабильности и предсказуемого миропорядка. Я до последнего времени грешил на пресловутых аггров, но с помощью Берестина и путем личного сыска от этой мысли отказался. Компьютер у Алексея мощный, Олег разработал программу, и, проанализировав несколько цепочек исторических последовательностей, мы пришли к выводу, что разгадку нужно искать в Москве. Что, похоже, пока подтверждается… Ниточка у меня в руке, и клубочек покатился. Правда, Тезея он привел куда? Правильно, в логово Минотавра. Ну да бог не выдаст, Минотавр не съест…
…В пользу моей теории говорит хотя бы торпедная атака на Севастопольском рейде. И одновременный налет на нашу дачу. В первый момент мы на союзников грешили. А потом я вдруг взял да и посчитал. Без всякой техники, на пальцах. Ни из Лондона, ни из Парижа, ни даже из Москвы, если предположить, что представители союзников куплены Кремлем, такая команда поступить просто не успела бы. Скорость прохождения и обработки информации, ее анализ, выработка решения, отдача соответствующего приказа, его подготовка и исполнение — все это заняло бы впятеро больше времени, даже если бы целый спецотдел занимался только этим. Вот тогда и возник вопрос. Как известно, Антон «подарил» нам эту Реальность, передал в пожизненное наследуемое владение. Но как-то туманно при сем предостерег от некоей опасности. Аналогичный намек поступил и в процессе первого контакта с «Высшим разумом». Так кто еще претендует на Реальность, «данную нам в кормление»? Антона бы порасспрашивать с пристрастием, да где ж его теперь найдешь? Наслаждается небось вновь обретенным рангом Тайного посла на шикарной цивилизованной планете в центре Галактики. Остается обходиться подручными средствами. Как любил говорить мой брат: «За неимением гербовой пишем на клозетной». Ну-ну, в запасе у нас тоже кое-что имеется…»
Глава 30
Агранов проснулся рано. За окнами было еще темно, и в квартире стояла глухая тишина. Впрочем, откуда-то издалека доносился непонятный звук. Прислушавшись, он понял, что это обыкновенный храп, прерываемый посвистыванием и бормотанием. Переходить от сна к бодрствованию Агранов умел мгновенно и сразу все вспомнил. Какого-либо раскаяния или хотя бы огорчения по поводу происшедшего он не испытывал. Его интересовали только практические вопросы — можно ли верить словам «полковника» Андрея Дмитриевича, сумеет ли он, Агранов, извлечь для себя ощутимую выгоду из новых обстоятельств и каким образом вести себя с коллегами по ВЧК? Сразу ли рассказать им все или пока повести игру втемную?
И еще — какие существуют запасные варианты? Американской поговорки он не знал, но то, что все яйца в одну корзину не кладут, чувствовал интуитивно.
«А нельзя ли отсюда попросту сбежать?» — подумал Агранов. В комнате он один, вышибить стекло и прыгать. Этаж, правда, третий, но можно. И — дворами. Только зачем? Своим так и так объяснять придется, где был да откуда синяк, неприятности останутся теми же, подозрения развеять если и удастся, то козырей на случай поражения — никаких. А «полковники», черт их знает, могут и на Лубянке достать.
Нет уж, «вино откупорено, надо его пить…».
Сомнения рассеялись сами собой, когда дверь приоткрылась и в комнату неслышно вошел Новиков.
— Не спится, Яков Саулович? Чего так? Шесть часов только, самый сон…
— Какой уж с вами сон. Всю ночь проворочался. Нелегко такие решения даются.
— Ах, оставьте! — Новиков всплеснул руками, словно актриса в мелодраме. — Вы мне еще про муки совести расскажите, люблю чувствительные сцены…
Потом сразу посерьезнел, сел было на стул возле стенки, вновь поднялся:
— Прошу прощения. Раз вы окончательно проснулись, тогда вам лучше одеться. И выходите в кухню. Чайку сообразим. А на окно не смотрите, стекла там все равно небьющиеся. …Одним словом, — продолжал он, разливая по большим фарфоровым чашкам крепкий, пахнущий жасмином чай, — я вас сейчас отпущу. Езжайте в свою контору, то есть идите, конечно, машины у меня здесь нет, чтобы вас возить, придумывайте, как объяснить случившееся, если остались живые свидетели…
— Отпустите? Просто так? — с недоумением спросил Агранов.
— Ну а как? Сложно я отпускать не умею. Расписки брать тоже не собираюсь. Деваться вам некуда. А если потребуется подтверждение… вашего грехопадения, материал у меня есть. — Новиков нажал кнопку плоского «Грюндига», лежавшего на краю стола. Чекиста больше удивила техническая сторона вопроса, чем сам факт звукозаписи. И голос свой он узнал не сразу.
— Как это? А рупор, валики, пластинки? В чем здесь фокус?
— Наука постоянно прогрессирует. Граммофоны без рупора уже видели? А это то же самое, но теперь и без пластинок. Впрочем, повышение вашего культурного уровня не входит в мои нынешние намерения. С вас достаточно и того, что данная запись в случае необходимости может быть предъявлена заинтересованным лицам. И все об этом. Мои предложения сводятся к следующему…
Закончив изложение своей программы, Новиков вопросительно посмотрел на Агранова. Какое впечатление произвели его слова?
Агранов долго молчал. Конечно, условия предложены щедрые. Гораздо больше того, на что можно было рассчитывать высокопоставленному деятелю советской тайной полиции в предвидении краха советской власти. Попади он в плен обыкновенным врангелевцам — петля. В лучшем случае пуля в лоб или затылок. Но ведь поражение еще не предрешено, и Красная армия по-прежнему насчитывает пять миллионов штыков, и неизвестно, какие шаги предпримут «зарубежные друзья», вдруг они окажутся все же сильнее тех, кто стоит за Новиковым? И тогда все выглядит иначе. Ему, по-старому выражаясь, начальнику департамента МВД, генералу, отводится роль банального платного агента-провокатора. Не слишком ли?
— Не слишком, — тут же ответил Новиков. Его способность моделировать ход мыслей собеседника и отвечать на невысказанные вопросы удивляла даже преподавателей психологии в университете. На прочих же граждан это подчас производило потрясающее впечатление.
— Начальник австрийской разведки работал на наш Генштаб, и ничего. Тем более что вы будете больше на себя работать, чем на нас. Дальше. Вы возьмете под контроль Новодевичий монастырь. Там сейчас разместились мои люди. Нужно, чтобы их никто не тревожил. Выделите сотрудников, прикажите обеспечить соответствующий режим. Никаких притеснений к монахам и настоятелю со стороны партийных, советских и прочих комитетов не допускать, внутренней жизнью монастыря и его посетителями не интересоваться. Мотивировка — на ваше усмотрение. Связь будем поддерживать по телефону или иными способами. Сообщите мне номера — служебный, домашний, конспиративной квартиры, вообще всех мест, где вы регулярно бываете. Адреса, само собой…
— А если мне нужно будет с вами связаться?
— Уместный вопрос. Мой телефон я вам не скажу. Или скажу позже. А в случае крайней нужды отправите человека в тот же монастырь. Пусть спросит Князя. Сообщение передадите на словах или запиской. Через час я буду знать. Вот пока все. Да, эту квартиру искать не пытайтесь.
— Не совсем понял. Зачем мне пытаться, я и так это буду знать. Или вы меня с завязанными глазами выведете?
— Проще. Я вас слегка загипнотизирую. Вы дойдете до ближайшего угла и забудете, из какого дома вышли. И все.
— Про гипноз я кое-что знаю. Сам немного занимался. Предупреждаю, я невнушаем. Видите, признаюсь, а мог бы и скрыть…
Новиков пренебрежительно махнул рукой.
— И ведь чисто практически разве трудно оцепить весь квартал, обыскать каждую квартиру…
— А вы попробуйте. Разрешаю. Возможно, это даже прибавит вам авторитета среди своих. Или наоборот, если ничего не найдете. В общем, достаточно разговоров. Чай допили? Не смею более задерживать. Ах, чуть не забыл. Вам деньги нужны?
Агранов посмотрел на собеседника с интересом.
— Зачем в РСФСР деньги? Особенно мне.
— Дело хозяйское. А то возьмите. Может, в вашем окружении не все такие бессребреники… — Новиков приподнял салфетку на другом конце стола. Под ней лежали две толстые, с вершок, пачки — одна долларов, другая фунтов, и пять банковских свертков с пресловутыми царскими десятками.
Стараясь не выглядеть алчным, Агранов подвинул их к себе.
— Наверное, вы правы. Кому-то придется и дать… — Рассовал деньги по карманам. — Так я пойду?
— Конечно. Я вас даже провожу.
Уже на пороге Агранов спросил:
— А маузер не вернете?
— Вряд ли. Александру Ивановичу он сильно понравился… Желаю успехов.
…Часом позже Шульгин заканчивал инструктаж Вадима. С ним он разговаривал не столь вежливо и деликатно, как Новиков со своим клиентом.
— Будешь присматривать за своим шефом. Станет тебя вдруг отстранять, предлоги разные придумывать, говори в лоб — я к вам приставлен телохранителем и связным. На людях держись как с начальником, чтоб вопросов не возникало, а наедине можешь и пожестче. Мол, мы в одной упряжке, и нечего хвост задирать… Чтоб ты знал — я тебе пока не доверяю, мое доверие заслужить надо. Поэтому прежнее условие в силе: сейчас я тебе бомбочку пристегну. Она маленькая, мешать не будет. Правда, в баню ходить не советую, дома из тазика помоешься, если что… И упаси бог в ней ковыряться. Заслужишь доверие — сниму.
Шульгин достал из ящика письменного стола нечто похожее на ладанку или крупный медальон на стальной цепочке (позаимствованной со сливного бачка в ватерклозете), сам надел Вадиму на шею, плоскогубцами зажал замковое звено.
— Видишь, тут проводок синенький пропущен. Попробуешь перекусить или выдернуть — рванет. Заряд — как раз, чтобы голова метров на десять отлетела. Радиостанцию в карман положи и тоже носи постоянно. Я проверять буду. Договорились?
Чувствуя себя крайне неуютно с бомбой на шее, Вадим кивнул.
Шульгин тоже предупредил его о бессмысленности попыток найти квартиру, откуда его сейчас выпустят.
И лишь на прощание позволил себе улыбнуться простодушно и почти дружелюбно.
— Ты, главное, без мандража. Заслужишь, я тебя наркомом просвещения сделаю.
На недоуменный вопрос, почему именно просвещения, Шульгин проявил покладистость:
— Не хочешь, можем другую должностишку подобрать. Президентом академии сельхознаук. Все в наших руках. За богом молитва, за царем служба не пропадет.
Запер за Вадимом дверь, вздохнул облегченно. В смысле — ох, и надоела мне вся эта дипломатия…
…Над Москвой еле-еле разгоралось утро. Моросивший два дня подряд дождь отчего-то кончился, и в светлеющем небе в направлении Лефортова висела над крышами голубоватая искристая Венера.
Агранов свернул на Петровку, оттуда на Кузнецкий. Шел по середине скользкой булыжной мостовой и чувствовал себя странно. Вроде бы он наконец избавился от унижающего даже высокопоставленного работника ВЧК комплекса абсолютной подчиненности системе и стал не только от нее не зависимым, но и способным извне влиять на все в ней происходящее. Это наполняло душу злым весельем. Вы, председатель и члены коллегии, разговаривая со мной, ставя мне задания, по-прежнему будете думать, что я ваш покорный слуга, ан нет! Теперь я только выгляжу актером в поставленном вами спектакле, а на самом деле в любой момент могу стать его режиссером, а вы об этом даже не догадаетесь…
Но одновременно он ощущал и новую степень несвободы. Пока неясной, сулящей многие острые ощущения и радости жизни, но очень жесткой, грозящей совсем иными опасностями. Как писал Маркс в одной из своих бесчисленных статей: «Свобода бывает от чего и для чего». Со второй частью этого тезиса предстояло разобраться.
Он прошел мимо часового в третьем подъезде, надвинув на лоб козырек фуражки, чтобы не видно было его заплывшего синевой глаза. В кабинете перед зеркалом низко, по самые брови, обмотал лоб немецким розовым бинтом, чтобы выглядеть раненым, а не пострадавшим в кабацкой драке (почему-то любой кровоподтек под глазом вызывает именно такую ассоциацию у окружающих).
Хотел позвонить Трилиссеру, но, посмотрев на башенные часы, сообразил, что еще слишком рано.
Отдернул плотные шторы, обычно глухо отделявшие его от окружающего мира, и сел на подоконник. За окном быстро светлело, и лучи еще невидимого солнца уже окрасили кремлевские башни и стены в густо-розовый цвет.
Удивляясь самому себе, Агранов с усилием повернул ручки шпингалетов, обламывая засохшую краску, и распахнул створку.
Поразительно — с ним и вправду творилось нечто странное — хлынувший в душный кабинет свежий воздух вдруг напомнил, что ему всего лишь двадцать семь лет, что он уже очень давно не видел утренней зари и что ему просто хочется жить. Не в роли начальника секретно-политического отдела, а обыкновенного Яши Агранова, больше власти любящего веселую компанию, вино и девушек, красивых, но сговорчивых. Он-то думал, что именно власть даст ему возможность пользоваться означенными благами, а получилось наоборот. Даже когда он эти блага получил в разоренной и воюющей стране, вышло так, что платить за них пришлось непомерную цену. Пить вино и помнить, что через час или два придется возвращаться на Лубянку, где советский Торквемада — Феликс способен устроить жуткий скандал за легкий алкогольный запах. Обнимать девушку в постели и вздрагивать от ее стонов, которые так отвратительно похожи на стоны недобитых смертников в подвале. Болтать с друзьями-поэтами, запоминая каждое крамольное слово и чересчур остроумный анекдот, чтобы при случае «дать им ход».
Оказывается, все это способно испортить удовольствие даже от дарованного ему права расстрелять почти любого гражданина республики по собственному усмотрению.
Теперь, возможно, все будет иначе. Он не читал пока что записных книжек Ильфа, который десятью годами позже напишет: «В такое утро хочется верить, что простокваша на самом деле вкуснее и полезнее белого хлебного вина», но ощущал нечто подобное.
Однако прошло десять или пятнадцать минут, солнце вынырнуло из-за деревьев Покровского бульвара, и очарование утренней зари исчезло, как туман над рекой. Загремели железные шины водовозных бочек, подъезжающих к фонтану посередине площади, донеслись снизу отчетливые матерные слова ломовиков, треньканье трамваев и гудки направляющихся во Второй Дом советов, Наркомат иностранных дел и ВЧК автомобилей.
Агранов затворил окно, задернул штору и лег на диван, укрывшись шинелью. Пусть все они как хотят, а у него болит голова. Пару часов еще можно поспать, позже видно будет.
…Трилиссера он сумел поймать только после обеда. Начальник иностранного отдела уставился на его повязку и отливающее багровой синевой подглазье с нескрываемой иронией. Но промолчал. Спросил ровным голосом:
— Успехи имеются? Или?
— Более чем. А у тебя? Сумел выйти на связь?
— О чем ты, Яков? Тебе нужно на пальцах объяснить, что даже самый быстрый курьер не обернется и за две недели?
— Ты думаешь, нам эти две недели дадут? А если белые перейдут в наступление завтра? Мы успеем нагнать твоего курьера в Ревеле? Или только в Лондоне?
Трилиссер встал и по длинной вытертой дорожке пошел к двери своего огромного кабинета. Во времена страхового общества «Россия» здесь был зал заседаний правления. Пятиметровой высоты потолки, ряд стрельчатых окон и два десятка стульев вдоль стола, в торце которого стояло кресло хозяина. Очевидно, он страдал клаустрофобией.
Резко открыв дверь, Трилиссер выглянул в приемную, сам себе кивнул удовлетворенно и вернулся на место.
Агранов наблюдал за его действиями с любопытством. У всех в этом доме с головой непорядок.
— Ты что-нибудь узнал? Действительно готовится генеральное наступление?
— А что, если да?
Не обратив внимания на нарочитую интонацию собеседника, Трилиссер ответил серьезно:
— Тогда нам нужно внушить Феликсу и через него Старику, что все обстоит еще хуже, чем на самом деле. Заставить их поверить, что эвакуация правительства экстренно необходима. Лучше всего — в Вологду. Надежные крепости-монастыри, недалеко до моря и не так наглядно, как Архангельск. В Москве оставить чисто военное командование и особую группу ВЧК. Во главе с одним из нас. Лучше всего — с Ягодой.
«Оказывается, — удивился Агранов, — Михаил уже тоже все продумал. И излагает свой план как решенное дело».
— Мы это сумеем, надеюсь, — сказал он. — Но какова цель?
— Уверен, что две-три недели мы город удержим. А к тому времени… Врангеля смогут убедить остановиться. Пусть даже под Тулой. Чего еще желать? Россия от Польши до Тихого океана — чересчур большая страна. На ней поместится штук двадцать Франций. А нам с тобой хватит одной-двух. И глупости про мировую революцию можно оставить Старику и Лейбе. Я, например, ничего не имею против, если Врангель возьмет себе все, что захочет — или что ему позволят, — оставив нам кусочек с Москвой, Петроградом и тем, что между, с выходом к Балтике и Белому морю. Вполне цивилизованный вариант…
— Умный ты, Михаил, только неужели думаешь, что мы сумеем продержаться на таком вот кусочке земли, с враждебным населением, без единственно понятной народу идеи о всемирной республике рабочих и крестьян? Да они через полгода нас сметут, увидев, что грабить больше некого, а надо просто работать…
— Так уж и сметут… Поработать, конечно, придется. Нам. Чтобы народ поверил, будто только так и надо. Высовываться мы с тобой не будем. Найдем какого-нибудь Калинина или Ворошилова, плоть от плоти трудового народа. И чем теснее капиталистическое окружение, тем крепче они будут цепляться за «свободу» и «власть трудового народа». Продразверстку отменим, конечно, какую-нибудь «новую экономическую политику» придумаем, вроде как в ДВР. Ничего, проглотят. Зря, что ли, кровь три года проливали? И Советы без коммунистов подойдут, и «анархия — мать порядка», если угодно… Что ты так на меня смотришь, — вдруг прервал свой монолог Трилиссер. — Не нравится? Может, предпочитаешь «как один умереть за власть Советов»?
— Нет, Миша, нет. Просто все, что ты сейчас наговорил, прошлой ночью уже сформулировал мне тот человек, которого я так старательно ловил. Получилось немножко наоборот, но это неважно. Именно на этих условиях он предложил мне всемерную помощь и поддержку от имени своей организации.
Трилиссер снова добежал до двери, выглянул, как будто ему не давала покоя мысль о толпах соглядатаев, заполняющих коридоры ВЧК и ловящих каждый звук, доносящийся из его кабинета.
«Да у него же мания преследования, — догадался Агранов. — Укатали Сивку крутые горки. Закончим дело, надо будет его лечиться послать. С билетом в один конец».
— Давай, давай, рассказывай…
Агранов рассказал то, что считал возможным и нужным. Это произвело на Трилиссера должное впечатление. Он словно бы понял, что сейчас инициатива перешла от него в чужие руки.
— Так. Это меняет все наши расчеты…
Глава 31
Ленин пригласил к себе Троцкого, только сегодня утром вернувшегося с фронта. Он его боялся и ненавидел. И одновременно считал единственным человеком, способным в безвыходной ситуации найти приемлемое решение. Как в октябрьские дни, когда сам предпочел спрятаться с Зиновьевым в Разливе, доверив Льву Давидовичу руководить захватом власти.
Троцкий вошел, весь сияя, как новый гривенник. Похрустывающая и блестящая антрацитом кожаная куртка, сверкающие синим огнем скрипучие сапоги, широкий ремень перетягивает гимнастерку фрачного сукна, на ремне миниатюрная кобура, скрывающая никелированный, отделанный перламутром пистолет. И еще вдобавок он сразу же начал вертеть в руках громадный золотой портсигар, усыпанный алмазами.
Ленин с трудом сдержал раздраженную реплику, когда жирный солнечный зайчик от полированной крышки попал ему в глаз.
Троцкий прочел на лице Предсовнаркома обуревающие того чувства и самодовольно усмехнулся. Он тоже имел собственное мнение о друге и соратнике. На «проститутку» и «ренегата» он не обижался, ради красного словца и сам не пожалел бы родителей, его больше задевала определенная инерционность мышления Владимира Ильича. Обычно тот вникал в ситуацию несколько позже, чем требовалось, и многое на этом проигрывал.
Троцкий взял толстый красный карандаш и развернул на столе собственную карту, проигнорировав ту, что висела на стене напротив.
Докладывая обстановку, Наркомвоенмор и Председатель Реввоенсовета откровенно злоупотреблял полной неосведомленностью Ленина в стратегии и его неумением внимательно читать карту. И вдохновенно обманывал вождя, повествуя, как неимоверными усилиями воли не только остановил наступление белых, но кое-где сумел их потеснить с захваченных позиций. (Как раз там, где Берестин отвел свои полки на удобные для обороны рубежи.)
— Вы видите, Владимир Ильич, уже третий день ни на одном направлении они не в силах продвинуться ни на метр! Более того, сейчас мы планируем развернуть Одиннадцатую армию фронтом на север и нанести сокрушительный удар под Ростовом. Уверен, успех будет полный. Почти пятьдесят тысяч штыков при десяти бронепоездах. Наступая вдоль берега Азовского моря, мы сможем отрезать белую армию от Крыма и впоследствии разгромить ее, преследуя по сходящимся направлениям.
На карте это выглядело красиво. Особенно для такого дилетанта в военном деле, как Ленин.
— Да, вот именно, Лев Давидович! Как раз об этом я говорил на заседании Совнаркома. Добровольческие полки, полные негодования и бешенства, исчерпали свои последние силы. Здесь мы видим то же, что видели на примере Колчака, одержавшего вначале огромные победы. Но чем дальше шли бои, тем более редели ряды офицеров и кулачества, которые составляли главную силу Колчака, и тем больше ему приходилось брать в армию рабочих и крестьян.
Они умеют воевать лишь чужими руками, они не любят жертвовать собой и предпочитают, чтобы рабочие рисковали головой ради их интересов. И когда Колчаку пришлось расширять свою армию, это расширение привело к тому, что сотни тысяч его солдат перешли на нашу сторону. Так кончил Колчак, так кончит и Врангель. Я знаю, в тылу у Врангеля начинаются восстания. Мы имеем сообщения, что местное население, доведенное до отчаяния, отнимает у белых оружие и снаряжение. Наступает момент, когда Врангель бросит все на карту. Он теряет в боях наиболее обученных, наиболее бешеных в своей ненависти к рабочим и крестьянам офицеров, защищающих прямое восстановление своей помещичьей власти. Перелом наступает! Готовьтесь переходить в наступление. Нам надо, чтобы мелкие успехи были превращены в массовые, огромные, доводящие победу до конца…
«Невероятно, — подумал Троцкий, — как же он глуп! Такую ерунду можно нести с балкона перед уходящими на фронт солдатами. Но мне-то зачем? Он что, действительно верит в магию своих заклинаний?»
Троцкий удивлялся зря. Ленин не только верил, он умел превращать свою веру в материальную силу. Просто сейчас он впервые столкнулся с эффективным противодействием. Ни Николай, ни Колчак, ни Деникин не смогли подкрепить наступательный порыв своих войск соответствующей астральной энергией. И потеряли все. Первые два — вместе с головами. А вот сейчас вождь мирового пролетариата произносил привычные заклинания, но чувствовал, что прежнего влияния на события они не имеют. И видел это даже по глазам своего собеседника.
— Лев Давидович, вы должны добиться перелома. Бросьте на фронт все. Курсантов военных школ, делегатов съезда, пленных офицеров из концлагерей. Мобилизуйте еще тысяч 20–30 питерских и московских рабочих плюс тысяч 20 буржуев. Поставьте позади них пулеметы, расстреляйте несколько сот и добейтесь настоящего массового напора на Врангеля. Хотите, я обращусь к немцам? Мы можем попытаться перебросить пароходами из Гамбурга на Петроград несколько дивизий их рейхсвера. Генерал фон Сект наш человек, он не должен отказать в помощи. И еще там есть фон дер Гольц, он давно предлагал мне помощь.
Троцкий снял пенсне, подышал на стекла, протер их пахнущим лавандой платком.
— Обратитесь, Владимир Ильич. Только одновременно придется обратиться и к Черчиллю, чтобы он вывел из Балтики свои крейсера. Они вряд ли пропустят пароходы с немецкими войсками. Тогда уж лучше просить о помощи Маннергейма. В обмен на Петроград. Не знаю почему, но финнам он очень нравится…
— Вы надо мной издеваетесь?
— Увы, нет. Я просто подумал, что эта идея того же плана…
Ленин несколько раз пробежал по кабинету от окна к двери и обратно, наклонив голову и громко дыша носом, чтобы успокоиться.
— Вы меня не любите, Лев Давидович?
— А разве вы девушка, чтобы вас любить? В данный момент мы единомышленники, вам этого мало?
— Да, да, да… Вот это сейчас архиважно. Мы единомышленники. Друг без друга нам не выжить. Больше мне положиться не на кого. Победим, тогда и будем разбираться в тонкостях наших разногласий. А кстати, что за стрельба была вчера в городе? Я слышал, будто бы активизировались какие-то банды. Это опасно?
— Не думайте об этом. Пустяки. Десяток уголовников затеяли перестрелку с патрулями. Все уничтожены.
— Правильно. Так и следует поступать. Систематически. Съезд откроем завтра? Вы готовы выступить с речью?
— Всегда готов. Только следует согласовать позиции. Я настаиваю на необходимости немедленно отменить продразверстку, принять меры к освобождению из концлагерей всех бывших офицеров, а потом уже призывать их в армию, безусловно запретив их притеснение со стороны политкомиссаров, дать им очень приличное жалованье, обеспечить приемлемые условия жизни для членов их семей… Этим мы значительно укрепим фронт и тыл…
— Ни за что! Тут я непреклонен, Лев Давидович! Прекратив репрессии против классовых врагов, мы утратим доверие трудящихся масс и одновременно потеряем единственную гарантию лояльности ваших военспецов. Они немедленно перебегут к Врангелю. Может быть, лучше наоборот, заблаговременно расстрелять всех заложников?
— Тогда я снимаю с себя всякую ответственность за происходящее. Воюйте с вашими самородками сами. Кухарка, конечно, может управлять государством, но самый преданный идее слесарь не может командовать дивизией или корпусом.
— Ну как же, как же… А товарищ Буденный, товарищ Ворошилов, многие другие талантливые коммунисты, которых мы выдвинули на руководящие посты?
Троцкий чуть было не сплюнул на ковер от возмущения.
— Как только ваши самородки почувствовали волю, они немедленно и с треском проиграли польскую войну. Двести тысяч убитых и триста тысяч пленных, по-вашему, недостаточный довод в нашем споре?
Ленин физически не выносил споров, в которых партнер начинал оперировать цифрами и фактами. Больше всего ему нравилось обращаться к толпе, настроения и желания которой были заранее известны. И исключалась возможность диалога.
— Допустим, — с неохотой кивнул он. — В конце концов, я вам полностью доверяю. Делайте что хотите. Можете поставить на все руководящие посты царских генералов, если найдете достаточное их количество. Судьба революции важнее. Но предупреждаю, рано или поздно нам все равно придется их расстрелять.
Слово «расстрелять» он произносил с особенным чувством, как влюбленный юноша при каждом удобном случае произносит имя предмета своей страсти.
— А пока я считаю — нам нужно немедленно обратиться к странам Антанты. Предложить им заключение полноценного мирного договора на любых условиях. Возврат царских долгов (но потом мы все равно их не отдадим), предоставление концессий, право беспошлинной торговли, может быть, возвращение бывшим иностранным владельцам контрольных пакетов акций находящихся на занятой белыми территории заводов. Совершенно неважно, что мы им пообещаем. При сохранении командных высот в политике и экономике всегда можно пересмотреть любые договоры и соглашения. Давайте шантажировать Антанту возможностью союза с Германией…
Троцкий кивал, соглашался, смотрел в пол, отходил к окну и разминал папиросу, но закурить ее не решался, чтобы не прервать течения ленинской мысли. То, что говорил вождь, начинало ему нравиться.
— Да вы курите, Лев Давидович, не стесняйтесь. Я сам покуривал когда-то, запах хорошего табака мне нравится. Но главное, нужно придумать, как нам быть с партией. Давайте введем пост Генерального секретаря и назначим на него вас, Лев Давидович…
— А зачем нам это? Есть ЦК… И не совсем правильно политически, с учетом моей национальности. Лишний довод антисемитам. Хотя… — Он рассмеялся и пересказал дошедшие до него слова одного казака Первой конной (переданные, кстати, служившим в той же армии Бабелем): — «Троцкий — не жид! Троцкий — боевой. Наш, русский. А вот Ленин — тот коммунист, жид. А Троцкий — наш… Он есть отчаянный сын тамбовского губернатора и вступился, хотя и другого звания, за трудящийся класс…»
Ленин вежливо хихикнул и вернулся к прежней теме:
— ЦК мне надоел. Собираются, говорят, спорят. Попробуйте их убедить. Надо сделать иначе. Расширить ЦК до ста, даже ста пятидесяти человек за счет рабочих от станка, собирать их четыре раза в год, чтобы одобряли уже принятые решения и выслушивали отчетные доклады бюро… Вы же помните, сколько трудов нам стоило проводить нужные решения на тех, прежних съездах? А так вы будете все координировать. Назначим десять секретарей, отвечающих за конкретный участок работы, и будем с них беспощадно спрашивать! В ваших руках сосредоточится власть, и военная и партийная, что может быть лучше?
Троцкий почувствовал смутную угрозу в столь вроде бы лестном предложении Ленина.
— А вы, Владимир Ильич?
— Я буду почетным председателем партии и председателем Совнаркома. И мы с вами будем все решать только вдвоем. По-моему, это великолепно придумано. Надо это немедленно воплотить, пока еще не поздно. Я предвижу огромные потрясения, к ним нужно быть готовыми. Вспомните французскую революцию. Что вам предпочтительнее, оказаться в роли Робеспьера или Наполеона?
— Наполеона, пожалуй, лучше, — сверкнул великолепными зубами Троцкий.
— Вот-вот. Настоящий коммунист должен всегда диалектически подходить к теории и практике. Я, например, на днях полностью пересмотрел свои взгляды на социализм. Хотя об этом позже. Я задумал цикл статей, прочтете и все узнаете. Вы мне вот что скажите, Лев Давидович, пресловутый Антонов действительно так силен, что Антонов-Овсеенко ничего с ним не может сделать? Смешно, правда, фамилия у второго длиннее, а воюет хуже…
— Воюет он, наверное, не хуже, но у первого Антонова такая армия, что разгромить ее в открытом бою почти невозможно. Или нужно сжечь всю Тамбовщину целиком, не останавливаясь перед использованием ядовитых газов…
Ленин, постукивая пальцами по столу, смотрел на Троцкого со своим знаменитым прищуром.
— А что вы скажете, Лев Давидович, на такую идею? Чтобы прекратить Тамбовское восстание, можно либо дать Антонову и повстанцам все, что они просят…
— Это абсолютно невозможно. Это просто ликвидация советской власти!
Лицо Ленина лучилось уже совершенно радостной и лукавой улыбкой.
— …Либо — сдать Тамбовщину белым! И пусть Врангель сам думает, что делать с двухсоттысячной армией голодных и озлобленных крестьян. Он может с ними воевать или снабжать их продовольствием, как хочет… А мы будем смотреть и смеяться!
«А вот это он здорово придумал, — признался сам себе Троцкий. — Это — сильный ход. Рано списывать Старика со счетов. В тактике он по-прежнему гений».
…Троцкий возвратился в свое маленькое экстерриториальное владение, возникавшее везде, где Предреввоенсовета приходилось остановиться хоть на час.
В Кремле ему было неуютно. Толстые стены, напоминающие о тюрьме зарешеченные окна, а главное — не подчиняющийся ему гарнизон из чекистов Дзержинского и курсантов школы ВЦИК. То ли дело в поезде. Четыре броневагона, стоящий под парами локомотив, сто человек непосредственной охраны, еще один состав с двумя батальонами латышей и мадьяр, прикрывающие подъездные пути спереди и сзади тяжелые пушечные бронепоезда… И оцепление по окружности со стометровым радиусом.
Кортеж автомобилей остановился на задах Курского вокзала, охранявшие подходы к временной деревянной платформе бойцы взяли на караул. Лев Давидович взбежал по ступенькам в тамбур салон-вагона. Отстранил властным движением попытавшегося отрапортовать дежурного адъютанта — бывшего поручика-конногвардейца (к этим высоким, лощеным, непроницаемо-вежливым молодым людям он испытывал откровенную слабость. Ему хотелось бы, чтобы именно так выглядели и так себя вели граждане будущей всемирной коммунистической республики). Не останавливаясь, прошел через штабной отсек первого салон-вагона. Задержался только в закутке телеграфиста.
— Вызовите к прямому проводу Фрунзе. От моего имени прикажите постоянно проводить разведку боем на всем протяжении линии фронта. О результатах докладывать каждые шесть часов. Меня до утра не тревожить. Независимо ни от чего.
Если первый вагон раньше принадлежал бывшему Главковерху великому князю Николаю Николаевичу, то следующий — самому тоже бывшему императору Николаю Александровичу, где тот любил отдыхать от непосильных государственных дел и где подписал отречение в марте семнадцатого года.
Второй адъютант, до октябрьского переворота — лейтенант гвардейского флотского экипажа, непонятным образом не убитый во время матросских бесчинств в Кронштадте и столь же необъяснимо попавший в ближнюю свиту, принял у Троцкого кожанку и ремень, поставил на стол поднос с легким ужином и беззвучно исчез в своем купе.
В кабинете Ленина Троцкий не выпил и глотка чая. А сейчас жадно съел несколько бутербродов с икрой, густо посоленный на разрезе помидор, не спеша выцедил большую рюмку коньяку, разжевал пару маслин без косточек.
Откинулся на спинку дивана, вытянул ноги. Нет, полного удовольствия не получалось. Он, упираясь носком в каблук, стянул сапоги. Стало лучше.
Полюбовался собой в овальное зеркало напротив. Мужчина в самом расцвете сил. Если не красив, то интересен. Достиг мыслимых высот жизни. И это не предел. Ленин сегодня проявил государственную мудрость. Сделал достойный выбор. Понял, что почем. Троцкий его предавать не будет. Он его уже переиграл. И пока Ильич будет жив, причитающиеся почести получит в полном объеме. А вот насчет всех прочих. Они тоже свое получат. Мягко, без крови и скандалов. Зиновьеву оставим Коминтерн, но и только. Ни капли реальной власти. Каменеву — идеологию. Писать статьи и программы он умеет. Бухарину… Что же Бухарину? Пожалуй — оргработу. Справится. Все равно в теории и практике революции он полный профан. Сталина… Сталина… Что-то в нем настораживает. Прикидывается бездарью, наверное, и польскую кампанию для этого проиграл. Чтобы его полководцем не посчитали. И Старика незаметно унизил, то есть хрен тебе, а не мировая революция. А в тигриных желтых глазах моментами такое проскакивает… Хитер. Был бандитом, им и остался. Может быть полезным, но все равно бандит. Куда бы его пристроить, пока не поздно? Найти пост, который ему покажется значительным, но на самом деле — тупиковый в смысле карьеры. Председателем ВЧК вместо Дзержинского? Опасно. Начальником морских сил республики? Забавно, но не стоит. Догадается, что издевка.
О, идея! Наместником Дальнего Востока и Сибири. Назначить Президентом Дальневосточной Республики, вассального буфера, где существует широкая многопартийность и незыблемость частной собственности. И одновременно секретарем Сиббюро РКП. Пусть делает там что хочет. Отвоевывает Приморье, громит Семенова и Унгерна, объявляет себя новым Кучумом — царем Сибири… Ради бога. Взорвать байкальские тоннели, и как минимум год о Сталине никто не услышит. А как раз грядущий год будет решающим для судеб России и их со Стариком лично. Каков бы он ни был, Владимир Ильич Ульянов, они друг другу подходят. Взаимодополняют. Все остальные «товарищи по партии» — враги бескомпромиссные. Члены Политбюро в особенности. А главное — никто ничего не понимает в текущем моменте…
Троцкий отодвинул шторку на окне. Унылые кирпичные стены, покрытые копотью стеклянные крыши депо, слоняющиеся по перрону фигуры часовых, вечереющее небо с тревожным багровым окрасом понизу. За что ему досталось начинать мировую революцию в этой стране, а не в Швейцарии, например?
А если все получится так, как намечено? Надо будет придумать себе красивую форму. Погоны, или эполеты, или другие впечатляющие знаки отличия, чтобы издалека было видно. Можно вот так — белый френч, голубые бриджи, коричневые лакированные сапоги, голубое кепи с рубиновой звездой. Или золотой свастикой, тоже имеет сакральный смысл. На боку — саблю. Нет, с саблей он будет выглядеть смешно. Лучше кортик.
Однако внешний вид — пока не актуально. Есть вопросы поважнее. Он несколько раз ударил ладонью по кнопке звонка.
— Вызовите ко мне Тухачевского. Немедленно, — приказал вбежавшему адъютанту. — Пусть оставит все и выезжает…
Тухачевский бездарь, конечно. Был поручиком, им и остался. Храбр, этого не отнимешь. Беспощаден. Послушен. Ради благосклонности начальства готов на все. В стратегии знает только один прием — как немцы под Верденом — гнать в бой войска одним эшелоном в надежде, что у противника воля к обороне исчезнет раньше, чем у тебя силы для наступления. Пока этих талантов достаточно. Поручить ему в глубочайшей тайне формировать сверхударную армию в тылу, где-нибудь за Тверью. Никаких комиссаров, направить туда вернейших военспецов, еще живых наемников-«интернационалистов», собрать в частях царской выучки унтер-офицеров. Белые пока наступать не станут, это очевидно. Будут зимовать. Здесь Врангель мудро рассудил. Надо его в этих планах поддержать. Дать команду Фрунзе атаковать непрерывно, но слабыми силами. И Одиннадцатую армию в бой не вводить. Пусть нависает с тыла и фланга, пугает белых и готовится к весенней кампании. А секретная армия — хоть для генерального наступления пригодится, хоть на случай внезапного прорыва белых, а скорее всего — для внутренних разборок.
— Не-ет, не думайте, Троцкий все равно войдет в историю как организатор и спаситель революции…
Он снова позвал адъютанта.
— Передайте на паровоз, пусть трогается. Куда? Прямо. До Скуратова и обратно. И пригласите ко мне Зиночку. Я буду диктовать…
Глава 32
Профессор отправился в ванную. Горячей воды в квартире он не видел уже не меньше двух лет, да и то нужно было греть ее в дровяной колонке, а чтобы просто так, из крана… Это, кстати, сильно интересовало и Новикова с Шульгиным. К каким системам отопления, электро- и водоснабжения подключена квартира, если все это в данной Реальности отсутствует? Допустим, что к все тем же, в Москве шестьдесят шестого или девяносто первого года. Тогда каким образом вода и электричество поступают сквозь межвременной барьер, а телефонная связь туда же не действует? Или… Чтобы проверить, Шульгин тут же снял трубку.
— Центральная слушает, — раздался голос барышни. — Назовите номер…
— Спасибо, я ошибся, — машинально ответил Сашка и дал отбой. — Каково? Мне все чаще кажется, что они над нами издеваются.
Еще больше друзья упрочились в этой мысли, когда Шульгин приступил к тотальному, как предписано в учебниках криминалистики, осмотру квартиры — из левого угла по часовой стрелке.
Шульгин хорошо помнил мемуары Берестина, где тот описал свое посещение этой базы в шестьдесят шестом году. Андрей же и сам здесь побывал с Ириной в декабре девяносто первого года. Поэтому они были крайне удивлены, открыв стоявший в кабинете секретер. В прошлый раз его верхний ящик заполняли бланки документов, применявшихся в СССР, — от паспорта и партбилета до удостоверения машиниста башенного крана и охотничьего билета. И все необходимое для их оформления — спецчернила, печати, штампы, соответствующие инструкции.
В нижней секции хранились деньги — заклеенные пачки рублей, долларов, фунтов, марок (ФРГ и финских), а также, неизвестно для чего, «валюта» соцстран.
Теперь там было все то же самое, но с поправкой на время: вместо советских полусотен и двадцатипятирублевок — николаевские, тех же номиналов, а иностранная валюта ограничивалась только фунтами стерлингов и долларами, остальная, наверное, была сочтена недостаточно солидной.
— Ну и что ты скажешь? — спросил Шульгин, будто Новиков каким-то образом имел к происшедшему отношение.
— Ответа может быть два, и оба равно неправильные. Или я настолько сильно пожелал, чтобы квартира приехала к нам в той же функции, что исполняла там… — и показал пальцем вверх, непроизвольно подтверждая восприятие времени, как вертикальной оси, — или все решается за нас и без нас…
— Но с благожелательных для нас позиций?
— Я бы не стал этого утверждать с определенностью. Обрати внимание, что изменение коснулось только документов и денег. Остальное, включая мебель, одежду, продовольствие, даже патефонные пластинки, осталось прежним. Это говорит в пользу второго предположения.
— А не Антон ли по-прежнему нам благоприятствует, на свой сомнительный манер?
Они занимались обыском около двух часов, пока из ванной наконец не появился Удолин, распаренный, с тщательно подбритыми щеками и заметно укоротившейся бородой, благоухающий шампунем и одеколоном. Помолодел он лет на десять и выглядел весьма импозантно. Наподобие вольнодумного старшего научного сотрудника гуманитарного НИИ. Его только немного смущало отсутствие в приготовленной для него одежде привычных кальсон, и он старался прятать торчащие из-под махрового банного халата жилистые волосатые ноги.
Поняв его затруднение, Шульгин принес синие шерстяные брюки от тренировочного костюма.
Расположившись за накрытым для раннего ужина журнальным столиком, профессор, словно бы совершенно не интересуясь окружающими чудесами техники, наполнил свой бокал бледно-золотистой «Монастырской избой» и немедленно начал философствовать, воображая себя участником древнегреческого симпосиона.
Слушать его было интересно вообще, даже независимо от конкретной информации, которую он сообщал. Но и информация тоже была нелишней. Особенно, когда Новиков спросил, какая же отрасль несомненно обширных научных познаний Константина Васильевича привлекла пристальное внимание человека столь специфической профессии, как Агранов?
— Я вижу в вас достойных собеседников. С вами мне не требуется подбирать слова, вы способны понимать без лишних объяснений. Этого достаточно. Хотя Яков тоже многое понимал. Но культуры ему не хватало. Вот, например, что вы знаете о предыстории человечества?
Шульгин хотел было сказать, что их интересуют более практические вопросы, особенно сейчас, но Андрей взглядом велел ему помолчать. Спешить им некуда, а такие люди, как Удолин, могут рассказать гораздо больше интересного, если им позволить отдаться потоку сознания.
Действительно, начал он издалека. Причем ухитрялся одновременно курить, отхлебывать вино, жестикулировать, моментами даже вскакивать с дивана и маневрировать между предметами обстановки, а то и внезапно замолкать, погрузившись в созерцание одной из развешенных по стенам картин, скорее всего, хороших копий Бенуа и Сомова. Но с тем же успехом они могли оказаться и подлинниками.
При этом внутренняя логика повествования не прерывалась.
Профессор говорил о том, что история цивилизованного человечества насчитывает минимум триста веков, а не пятьдесят, как принято считать, и что знания людей далекого прошлого значительно превосходили все, что известно нам сейчас. По крайней мере, им было известно электричество, книгопечатание, особый вид воздухоплавания и то, что в изложении профессора, не имеющего представления о компьютерах, сильно напоминало что-то вроде кибернетики и информатики. Еще он говорил о необыкновенных психических способностях древних и о том, что в зашифрованной форме эти знания и умения передавались от протоцивилизаций (атлантов?) к шумерам, халдеям, древнеегипетским жрецам и так далее. Происходили потопы, землетрясения, жуткие эпидемии, падения астероидов и прочие ужасы, с раздражающей постоянностью стиравшие с лица земли могучие царства и великие культуры. Однако же какие-то базовые пакеты информации сохранялись, передаваясь от мудрецов одной цивилизации к мистикам следующей, от адептов рационального знания к отвергающим любой здравый смысл эзотерикам, удивительным образом искажаясь при передаче и перекодировке (с языка узелкового письма в китайские иероглифы, затем на перфокарты и далее в изустные заклинания шаманов, условно говоря).
При этом эстафетно передаваемые познания и откровения древних дополнялись толкованиями, адекватными меняющимся временам и вновь добытой информации, приспосабливались к идеологическим требованиям текущих моментов (а сколько их было за десятки тысяч лет!), подчас неузнаваемо преломлялись в зеркалах и призмах невероятно чуждых друг другу менталитетов. И результаты моментами получались поразительные.
В качестве примеров Удолин приводил то поразительные озарения древних греков-атомистов, то тибетские тексты вроде известной «Книги мертвых», откровения адептов высших ступеней йоги и космогонические знания впавших в дикость племен экваториальной Африки.
Новиков внимательно слушал, задавая иногда краткие уточняющие вопросы, чтобы повернуть поток красноречия профессора в интересующем его направлении.
При этом ему тоже приходилось заниматься своеобразной перекодировкой, поскольку многие вещи, о которых говорил Удолин, не имели соответствующих семантических аналогов в современном русском языке.
Как бы между прочим стала вырисовываться интересная картина. Сначала Удолин излагал вроде бы вполне умозрительную теорию, но постепенно начинало казаться, что о некоторых вещах он говорит, если и не как очевидец, то как человек, близко знакомый с достоверными источниками.
Вот он упомянул о том, что египетские жрецы еще в эпоху Древнего царства овладели искусством особым образом группировать составляющую основу личности информацию и переносить ее в сознание других людей. Это подозрительно напомнило пресловутые аггрианские психоматрицы, с практикой использования которых и Новиков и Шульгин познакомились на собственном опыте.
Еще — теория о девяти уровнях сознания, по мере овладения которыми человек приобретает способность воздействия сначала на собственный организм, затем на окружающий материальный мир, а дальше и на гораздо более таинственные сферы бытия.
— На объективную реальность можно влиять субъективной волей, не выраженной в действии. Усилием воли создать «магическую линзу, через которую можно как рассматривать «нечто», определяющее суть и смысл происходящего, так и концентрировать пучок собственной энергии. Полное знание о «линзе» недостижимо, но достижимо познание практических эффектов ее использования…
— Вы подразумеваете возможность управления Реальностями? — спросил Андрей.
— Какой смысл вы вкладываете в данный термин? — Удолин наклонил голову и направил в грудь Новикова палец с длинным, желтым от табака ногтем.
Новиков, как умел, объяснил. В духе полученных от общения с «Высшим разумом» намеков.
— Так-так… Это близко. Вы пришли к этой гипотезе умозрительно или…
— Пожалуй, что умозрительно. А вы? Нельзя, кстати, предположить, что описанная вами схема смены цивилизаций может быть результатом такой вот «игры Реальностями»? А ваши «психоматрицы» — это способ сохранения личностей «игроков» при коррекциях или полной смене Реальностей? Как спасательная шлюпка или парашют? — Помолчал секунду и, как иногда у него случалось, неожиданно для самого себя спросил: — Да вот и вы, Константин Васильевич, сколько раз таким способом меняли оболочку?
Нет, профессор не удивился и не возмутился. У него просто изменился взгляд. Это трудно объяснить словами, но выглядело примерно так, как если бы человек разговаривал с ребенком, стараясь его занять и развлечь, а тут его окликнул бы внезапно подошедший знакомый, причем равного возраста и положения. Вот такую смену мимики и выражения глаз уловил Новиков.
— Интересно, интересно, — как-то задумчиво произнес Удолин. — Мне начинает казаться, что не я вас «просвещаю», а вы решили использовать мою болтливость в собственных целях. Каких, хотелось бы выяснить?
— А разве вы уже забыли, с чего начался наш товарищеский ужин? Я вас спросил — что именно в вас лично или в ваших научных разысканиях заинтересовало красного жандарма Агранова? Его что, волнуют проблемы древних цивилизаций? Или он бескорыстно увлечен эзотерикой? Поклонник мадам Блаватской в свободное от политического сыска время? Или все же ему требовалось получить от вас нечто конкретное? Может быть, как раз способ сменить материальную оболочку? Вы готовы рассеять наше с Александром Ивановичем недоумение?
— Ваша ирония, коллега, мне понятна, но он действительно изучал в свое время труды не только Блаватской, но и кое-что посерьезнее и обладает некоторым природным даром, так что и здесь есть тема для разговора…
А Шульгину вдруг неожиданно и до ломоты в скулах надоело слушать эти разговоры. Вообще в последние дни разговоров было слишком много. Несмотря на некоторые динамичные повороты сюжета. Но в основном все разговаривали, с непреодолимой и глупой страстью, как купчихи у Островского или персонажи новелл Джером Джерома: «Присядьте, я расскажу вам мою историю…» Он решил это дело хотя бы для себя прекратить.
Встал, никого не отвлекая, вышел из гостиной. В кабинете достал из ящика письменного стола пистолет. Лежавший там еще со времен посещения Берестина «браунинг хай пауэр». Его можно было тоже посчитать мистическим элементом этой квартиры. Отчего-то ни Алексей, ни Новиков при всей склонности к оружию и даже при действительной в нем потребности отсюда его не забрали. Ну а он возьмет, предрассудки ему не свойственны, в город же выйти без надежного, причем не бросающегося в глаза оружия было бы странно.
Кстати, как раз Сашке пистолет не особенно нужен. Его умения управлять внезапной ситуацией, а также способностей к малоизвестным боевым искусствам вполне хватило бы на любой жизненный вариант, но даже великий русский поэт Твардовский сказал: «А все же, все же, все же…» Пусть и по другому поводу. Шульгин надвинул на ремень френча кобуру из тщательно выделанной толстой кремовой кожи на левую сторону, по-немецки. Проверил, насколько легко выдвигается из пенала под крышкой запасная обойма на тринадцать бочкообразных девятимиллиметровых патронов. Убедился, что и остальные нужные для прогулки по революционной столице предметы у него при себе. Заглянул в гостиную.
— Андрей, я тут схожу, прогуляюсь…
Новиков, увлеченный беседой, кивнул. Давай, мол, гуляй, не маленький. И только когда щелкнул замок выходной двери, крикнул вслед, спохватившись:
— Далеко ли?
— Да так, в район Самарского…
— Ладно, позвонишь…
Новиков не имел оснований волноваться еще и на тему Сашкиной безопасности.
На улице сегодня было тихо и солнечно. Словно опять вернулся август.
Шульгин шел сначала вверх по Петровке, потом, сокращая путь, мимо будущего «Будапешта» вывернул на Неглинную.
На всякий случай он имел при себе мандат уполномоченного Особого отдела Южного фронта, да орден, да тяжелый пистолет напоказ, таких людей патрули не трогают. Он шел и думал о девушке Анне, кузине корнета Ястребова.
Многим это покажется странным, но Шульгин, невзирая на возраст, ученую степень кандидата медицины, вполне приличный жизненный опыт и даже события последнего года, оставался тем же романтически настроенным юношей, что и двадцать лет назад (опять же, уточняя, сорок пять лет вперед, где-то в прекрасном шестьдесят пятом, когда бутылка портвейна стоила рубль двенадцать, пачка «Шипки» четырнадцать копеек, а джинсы — пять рублей. Китайские, конечно).
И отношение к женщинам у него сохранилось прежнее: трогательное и возвышенное. Как-то он их считал существами, чуждыми реалий сурового мира, и если попадались ему (постоянно) иные особи, практичные, жесткие, склонные отвечать резкими и нелицеприятными словами и поступками на искренние душевные порывы, то он относил это на счет общего огрубления нравов и продолжал грезить о других, ласковых и в меру наивных. Наконец его мечты, кажется, сбылись. В Анне он увидел то, что требовалось. Двух часов общения для этого вполне хватило.
Обуреваемый надеждами, Шульгин пересек совсем не изменившуюся Трубную площадь и по Цветному бульвару вышел к Самотеке.
Внезапно его затошнило. Кирпичное мощение тротуара как бы покачнулось под ногами. Ощущение, которое было бы понятным после бессонной ночи с водкой и картами. Но ведь после нескольких рюмок, выпитых еще вчера, ничего не было. И поспал он, впервые за много дней, как следует. Часов десять, не меньше. Так в чем же дело?
Из-под бетонной эстакады вывернулись два длинных открытых автомобиля, первый из них резко затормозил на перекрестке бульвара и Садовой, а второй проскочил еще метров на тридцать за спину Шульгина, еще на ходу распахивая дверцы с обеих сторон сразу, и из них начали выскакивать, разворачиваясь в цепь, люди в разномастной полувоенной одежде, но одинаковых фуражках с красными жестяными звездочками.
— Стой! Руки вверх! Бросай оружие!
Не оставляющие сомнений в смысле происходящего крики и отблескивающая в поднятых руках сталь наганов вызвали у Шульгина единственно возможную реакцию. Причем — противоположную требованиям нападавших.
Три секунды, чтобы, упав на панель, откатиться к чахлым кустикам газона, одновременно сдергивая застежку кобуры. И еще секунда на первый прицельный выстрел из положения лежа.
Никогда не стоит дилетантам демонстративно предупреждать профессионала о своих намерениях. Если собрались убивать — стреляйте из засады в спину. А надумали брать живьем — сто раз проиграйте возможные варианты. Как будто мало показалось истории с дрезиной.
Не вполне понимая, что происходит — то есть факт нападения с попыткой ареста он осознал, но не мог сообразить, как такое смогло стать возможным, ведь даже Агранову, пожелай он отказаться от всех договоренностей, на организацию нападения, а главное — на определение места, где его произвести, времени никак бы не хватило, — Шульгин продолжал делать то, что умел.
Отскочив к чугунной бульварной скамейке, он, как на соревнованиях по скоростной стрельбе, вел оксидированную мушку вдоль фронта бездарно, в рост, бегущих чекистов и плавно выжимал спуск, легкими движениями руки компенсируя броски отдачи.
Суматошная дробь ответных выстрелов, свист пуль и взвизги рикошетов его не отвлекали.
Убивать незнакомых ему людей он не хотел, надоело, тем более что действия их были на удивление бестолковы, а эффективность огня была такой, что с одинаковым успехом они могли бы просто швырять в него своими револьверами. Если людям дают для тренировки три зачетных патрона в год, то чему удивляться?
Сашка целился исключительно по ногам, и каждая его пуля попадала то в колено, то в бедро, уж как кому повезет. А удар в четыреста килограмм-метров выбивал из строя надолго. Это только в кино раненые лежа, истекая кровью, продолжают бой. В натуре они валяются на земле, теряя сознание от шока, или озабочены тем, чтобы остановить кровотечение и отползти в безопасное место. Если, конечно, что бывает достаточно редко, не впадают в боевую ярость берсерков.
Чем-то данная ситуация напомнила заварушку на вокзале. Столь же бессмысленная и непродуманная.
Под беглым и убийственно-точным огнем нападающие залегли. Шульгин стремительно сменил в пистолете обойму и сделал в очередной раз то, чего они не ждали.
Перепрыгнул через спинку скамейки, со скоростью олимпийского чемпиона рванулся к перекрестку, где один из автомобилей стоял так, как нужно, передком к Сухаревской улице, и мелко подрагивал, выбрасывая из выхлопной трубы клубки сизого дыма. Водитель даже не успел ввязаться в перестрелку или ему не было соответствующей команды.
Шульгин упал на сиденье и удивительно спокойным голосом сказал:
— Трогай, — будто ждущему пассажира извозчику.
Наверное, так и нужно было. Истерический крик или тычок стволом в бок подействовал бы противоположным образом. А здесь шофер, словно под гипнозом, выжал сцепление и включил скорость.
Автомобиль уже начал разгоняться и пошел в правый поворот, когда предназначенная Шульгину пуля ударила водителя в бок, чуть повыше поясного ремня.
Машину занесло, и, хотя Шульгин в последний момент постарался перехватить и удержать толстое деревянное колесо руля, она налетела передним колесом на опору эстакады. Треснули обод и спицы, автомобиль перекосился и застыл. Снова отстреливаться из-за машины, пока есть патроны, подумал Сашка, или лучше рвануть зигзагами через Садовое кольцо, вряд ли с их спортивной подготовкой догонят его в переулках.
И только тут до него дошла неестественность окружающего. Пока шел бой, Шульгин не обратил внимания на то, что вокруг не видно ни одного прохожего. И откуда здесь эстакада, построенная после войны? Да ведь и окружающие здания выглядят странно — как в авангардистском мультфильме. Искаженные пропорции, кое-как нарисованные окна, уродливые деревья. И небо, будто намалеванное грязно-голубой акварелью…
Не выпуская из руки пистолета, он повернулся к преследователям. Они еще сохраняли человекоподобие, продолжали двигаться, но прямо на глазах их фигуры тоже начали терять определенность, смазываться, рассогласовываться с перспективой. Так тоже бывает в мультипликации или в не очень крепком сне, когда сохраняется связь с Реальностью.
Но и сам он тоже пока оставался внутри этого «сна», почему и несоразмерно вяло удивился его алогичности.
Снова накатила волна тошноты и головокружения. Цепляясь за дверцу машины, Шульгин начал падать лицом вниз на расчерченный белыми полосами асфальт.
Ударился плечом и щекой, будто бы даже на мгновение потерял сознание, потому что, пытаясь подняться, услышал крики неизвестно откуда возникших рядом людей. Сначала ему показалось, что до него добрались-таки уцелевшие чекисты, он рванулся в сторону, намереваясь принять боевую стойку, и лишь потом осознал, что никаких чекистов нет, а его пытаются поднять с тротуара худой пожилой красноармеец и похожий на дворника парень.
— Что с тобой, товарищ командир? Не падучая, часом?
— Нет-нет, все в порядке, — ответил он, испытывая стыд и неловкость. — Голова закружилась, после контузии…
— Ну-ка, иди сюда вот, на лавочку, посиди. За водой, может, сбегать? — заботливо спрашивал красноармеец, ладонью отряхивая пыль с его френча.
Парень же, увидев, что упавший посреди бульвара военный жив, махнул рукой и заспешил по своим делам.
— Спасибо, товарищ, ничего не нужно. Посижу, вправду, немного.
— И слава богу. Контузия, она такая подлость. Рана даже лучше. А коли полегчало, может, махорочка найдется?
Шульгин протянул бойцу портсигар. Одну папиросу тот сунул за ухо, вторую — в рот.
— Где контузило-то? На каком фронте?
Машинально отвечая на вопросы общительного красноармейца, думал он о другом. И вздохнул облегченно, когда тот, докурив, попрощался, старорежимно козырнув.
Шульгин потрогал кобуру. Она была застегнута. И окружающая картина вновь выглядела обычно. Никакой эстакады над Самотечной площадью, не видно и многоэтажных домов вдоль Садовой.
Себя он знал хорошо. Психика в норме, причин для галлюцинаций никаких. ЛСД или аналогичных препаратов принять не мог даже случайно, в этом мире их просто нет, мексиканские грибы и кактусы — на другом краю света. Скорее, случившееся больше походит на фокусы с обращенным временем, какие продемонстрировала ему Сильвия на своей горной вилле. Но там все было как-то иначе. Намного реальнее. А это…
Он осмотрелся. Редкие прохожие не обращали на отдыхающего командира никакого внимания. Шульгин достал из кармана рацию, вызвал Новикова.
— Андрей, у тебя все в порядке?
— Абсолютно. В чем дело?
— Так. Странности в окружающей среде. Что вы делали пять минут назад?
— Ничего. Разговаривали. Проф пытался объяснить мне свои методы медитации…
— Про Агранова не вспоминали?
— Было. Удолин упомянул, что и его он пытался научить выходу в астрал…
— Надеюсь, успехи были скромные?
— Вроде так. Но к чему разговор? Ты где?
— Отдыхаю на Цветном… Наблюдал нечто вроде попытки конструирования очередной псевдореальности. Примитивно, но весьма агрессивно. Однако обошлось. Ну ладно. Продолжу путь, чтобы не привлекать внимания аборигенов. Доберусь до места, позвоню еще.
Прогулка по безлюдным улицам весьма способствует философическим размышлениям. Ритм шагов дисциплинирует мысль, не позволяет ей теряться на развилках ассоциаций.
Шульгин вспомнил свои попытки изучения дзен-буддизма. В одном из коанов говорилось, что действительность не отличается от воображения. Вариант солипсизма, пожалуй. Шопенгауэр опять же. Мир как воля и представление. И согласуется с тем, что сообщил им с Андреем чей-то «Высший разум». Вообразить новую Реальность можно, но очень трудно вообразить ее настолько полно, чтобы удержать и зафиксировать. Возможно, это попытался сделать Агранов. Специально или случайно? Очень ярко вообразил, как берет реванш за поражение на вокзале. Но не сумел создать ничего, кроме самой картинки захвата, причем чересчур живо помнил, как умеет стрелять его противник. И подсознательно думал о неудаче и этой акции. На фоне того, что с ними уже случалось, ничего невероятного в такой гипотезе нет. Однако…
Стройности в его гипотезе не хватало. Откуда Агранов мог взять образы грядущей Москвы? Виадук, асфальт на улице, сталинской архитектуры дома… Да и автомобили. Они ведь были скорее из конца двадцатых годов, из гангстерских фильмов про Аль-Капоне и Диллинджера. Так, может, это не аграновские фантазии, а его собственные? Материализация подкорковых ожиданий? Или вправду отсроченный, незапомнившийся сон?
Шульгин решил, что материала для построения законченного силлогизма явно недостаточно, а раз так, то лучше пока отставить это дело. Но держаться настороже. Глупо будет в следующий раз принять реальное нападение за галлюцинацию. Но и противоположный вариант не совсем ясен. Что случится, если моделирование очередной мизансцены будет удачней? А если бы та пуля попала не в шофера, а в него? Это предположение потянуло за собой следующее: вдруг он-то сумел удержаться в данной Реальности, а его аналог остался в той? Ведь только декорации выглядели условно, себя Шульгин помнит вполне реалистично, и пистолет стрелял на самом деле, а не так, как во сне бывает. Пуля тоже вошла в бок чекисту очень натурально, с характерным звучным шлепком. Он негромко и удивленно вскрикнул, сразу обмяк и стал заваливаться на бок, и после нескольких судорожных вздохов на губах его запузырилась розовая пена. Клинически все достоверно. Так на то он и врач, чтобы знать, какие последствия вызывает проникающее ранение грудной клетки. Пробитые легкие, пищевод, возможно, и аорта…
…Хорошо, что от Цветного бульвара до Самарского переулка всего двадцать минут ходьбы, а то индуктивный метод мышления завел бы Шульгина слишком далеко. Не зря один мыслитель сказал, что не все возвращаются обратно даже из учебного полета воображения. А кто гарантирует, что данный афоризм имеет только переносный смысл?
Но за поворотом он увидел знакомые, выкрашенные охрой ворота и решил, что для восстановления душевного равновесия неплохо будет пригласить Анну прокатиться на «додже». Лучше бы, конечно, на «мерседесе» или хотя бы на «волге», но по нынешним временам… Она, возможно, вообще никогда на автомобиле не ездила. Шульгин, правда, не знал, как девушка отнесется к его предложению, не сочтет ли за грубое нарушение этикета, но отчего не попробовать?
Глава 33
Капитан Басманов сидел на кольцевом балконе третьего яруса колокольни Новодевичьего монастыря, любовался излучиной Москвы-реки и панорамой Воробьевых гор. Все получилось более чем удачно. После вонючих трущоб Хитровки, где его угнетало не только соседство с гнуснейшим человеческим отребьем, но и отсутствие оперативного простора на случай возможного боя, монастырь казался поистине райским местом. Он усмехнулся. В смысле близости к богу — безусловно. Да и обороняться здесь куда как удобнее. Без стенобитных машин и подтянутой на прямую наводку артиллерии их отсюда не выкурить. Игумен отец Никодим принял нежданных гостей без восторга, но в общем радушно. Видимо, ориентируется в политической и военной обстановке. Уверен, что красным скоро конец, а полсотни хорошо вооруженных офицеров смогут защитить обитель, если большевики перед сдачей города вздумают ее разграбить или просто использовать как опорный пункт. Кроме того, игумен отнюдь не разделял, несмотря на свой монашеский чин, толстовских идей непротивления и в разговоре с Басмановым сказал, что путь силы и меча в противоборстве со злом обязателен и справедлив. Неоказание сопротивления злу надо расценивать, как его принятие, предоставление ему свободы и потакание. «Вся история человечества состоит в том, что в разные эпохи и в разных общинах лучшие люди гибли, насилуемые худшими, причем это продолжалось до тех пор, пока лучшие не решались дать худшим организованный отпор. Посему дело ваше благое и святое, сыне…»
— А как же с божьим провидением, батюшка? — поинтересовался капитан. — Отчего господь не карает злодеев, даже совершающих такие зверства, как большевики, в том числе против церкви и ее служителей? Преосвященного Вениамина и то расстреляли…
— Не нам судить, — строго возразил игумен. — Сказано: нечестиво возлагать на бога то, что может быть сделано хорошею полицией.
А теперь вдобавок Новиков по радио заверил Басманова, что опасаться внезапного вторжения ЧК или иных представителей власти не следует. Капитан имел возможность убедиться, что командир зря не скажет, хотя и не понимал, как можно утверждать такое, находясь во вражеской столице. И, во избежание неожиданностей, послаблений в несении караульной службы не допускал.
В «каптерке» монастыря нашлось с десяток старых подрясников, которые надевали заступающие в боевое охранение офицеры. На стенах и башнях Басманов разместил огневые точки, с вершины колокольни наблюдатель просматривал все подходы к воротам. Береженого бог бережет.
И очень много времени оставалось на размышления. А поразмыслить было о чем.
С каждым днем происходящее становилось все более загадочным и непонятным. Поступая на службу, он принял изложенную Новиковым легенду без лишних рассуждений. Другого выхода у него просто не было. Если не хотел подыхать в стамбульских подворотнях или вербоваться в Иностранный легион. Но теперь, когда он многое узнал и поближе познакомился со своими хозяевами…
Сказка про фамильные сокровища отпала сама собой. Хотя он верил в нее довольно долго. Полковник Сугорин, к примеру, предположил, что их интересует таинственная библиотека Ивана Грозного. Но это тоже чушь. Если даже очень приблизительно посчитать, сколько средств уже потрачено на эту экспедицию, то станет очевидно, что ни древние рукописи, ни бриллианты царской семьи не стоят их десятой части. Бывают, конечно, вещи и другого сорта. Так сказать, нематериальные. Вроде Гроба Господня или чаши Грааля, за которые сражались крестоносцы. Только времена сейчас другие.
Представляя самый научный по тем временам род войск, капитан Басманов был стихийным материалистом и мистические объяснения происходящего заведомо отсекал. Тезисом «Все действительное разумно» он руководствовался инстинктивно. Поэтому сейчас он задумался о личностях тех, чью волю исполнял, надеясь подобраться к истине с этой стороны.
— Господин капитан! — крикнул с верхнего яруса дозорный. — Кто-то из наших едет. На «додже»…
«Легки на помине», — удивился совпадению Басманов и побежал вниз по крутой лестнице.
Александр Иванович Шульгин прибыл не один, а в обществе девушки, которая показалась капитану очаровательной. Конечно, годы, прожитые под властью коммунистов, наложили свой отпечаток, она была чересчур худа и бледна, но уж лучше бледность, чем чахоточный румянец. Зато взгляд, черты лица, фигура! Порода чувствовалась сразу. Басманов и без представления догадался, что это и есть кузина Ястребова, дочь действительного статского советника, принадлежащая к весьма знатному, пусть и не титулованному роду, раз корнета приняли в Пажеский корпус.
Держалась девушка просто, и видно было, как она счастлива вновь оказаться в «приличном обществе».
Басманов, считая себе комендантом крепости, доложил Шульгину, что в отсутствие начальства происшествий не случилось, в строю тридцать шесть человек, раненых пятеро, больных нет. Из числа монахов добровольно вступить в ополчение получили благословение игумена девять, каковые и проходят сейчас первоначальную подготовку.
Шульгин выслушал рапорт, пожал Басманову руку.
— Спасибо за службу. Рад сообщить, что приказом Главнокомандующего за отличие в боях вы произведены в следующий чин. Поздравляю. Вечером можете отметить, а пока покажите мне систему вашей обороны…
Обойдя стены и убедившись, что придраться не к чему — да и странно было бы, — Шульгин спросил, где им удобнее будет побеседовать наедине.
— В моей келье, если угодно. Или на колокольню подняться. Вид оттуда красивый. Анне Ефремовне будет интересно.
— А нельзя ли на кладбище пройти? — спросила девушка. — Я там еще в детстве любила бывать. Вы поговорите, я памятники посмотрю.
На кладбище действительно было хорошо. Тихо, благостно, сквозь золотые и багровые кроны деревьев на дорожки падал мягкий рассеянный свет. Под ногами шуршали опавшие листья. Посвистывали какие-то птички, порхая между склоненными к могильным холмикам ветвями. Анна пошла искать могилу Гоголя, а Басманов с Шульгиным присели возле памятника мичману, погибшему на испытаниях подводной лодки «Окунь» в 1911 году, сняли фуражки, закурили.
— Обстановка опять поменялась, господин полковник, — сказал Шульгин, наблюдая, как завивается в косом солнечном луче синеватый дым. — Ждут нас новые, забавные дела…
Коротко обрисовал случившееся за последние дни и поразил Басманова сообщением, что теперь на них работает верхушка ВЧК.
— Так что штурм Кремля пока откладывается, но не отменяется. Да и не штурм теперь это будет, надеюсь. Живите здесь, набирайтесь сил для очередных подвигов, тренируйте людей. Скорее всего, нам предстоит в ближайшее время своеобразная партизанская деятельность. Начнутся разборки в советском руководстве, и мы в них тоже поучаствуем…
— Но цель, Александр Иванович, конечная-то цель?
— «Движение — все, цель — ничто», как любит повторять один из наших будущих клиентов товарищ Троцкий, — ответил Шульгин благодушно, расстегнул верхние пуговицы френча, откинулся на спинку скамейки, заложив руки за голову. Погода совсем разгулялась, уже заблестели под лучами солнца летящие паутинки, да и атмосфера кладбища действовала расслабляюще.
— Вам что, перспектива свержения большевизма кажется не стоящей внимания целью? Тогда считайте это своей ближайшей задачей. В ходе ее выполнения вы уже достигли значительных успехов. В том числе и для себя лично. А что дальше будет… — Шульгин зажмурился, и непонятно было, то ли от удовольствия в предвкушении того, что будет дальше, то ли просто от солнечного блеска в просвете между кронами деревьев. — По крайней мере, генеральский чин, графский титул и приличное состояние я вам гарантирую…
— Александр Иванович, — решившись, спросил Басманов. — Надеюсь, вы меня дураком не считаете?
— Я вам дал основания к такому вопросу?
— Вы как бы негласно исходите именно из этого. Я не знаю, доживу ли до победы, возможно, что и нет. Судьба и так хранит меня неоправданно долго. А мне не хотелось бы уйти, терзаясь мучительными сомнениями. Я дам вам слово чести, что сохраню вашу тайну. Но хоть немного ее приоткройте. У Андрея Дмитриевича я бы спрашивать не стал, с вами говорить проще.
— Имеете какую-нибудь гипотезу или только мучительные сомнения? — Шульгин по-прежнему говорил тихим и расслабленным голосом. — И учтите, есть много вещей, в отношении которых разумному человеку предпочтительнее оставаться в неведении.
— Поступив к вам на службу, я уже показал, что не принадлежу к числу чрезмерно рассудительных людей. Да и вы к таковым вряд ли относитесь.
— Базара нет, как выразился бы поручик Рудников. Но вернемся к нашим баранам. Вас удивляет необъяснимость, путем использования примитивной логики, смысла наших поступков?
— Именно. Не только удивляет, но и смущает…
— Соответствуют ли они принципам чести и долга, как вы их понимаете?
— Да, это я тоже имею в виду.
— А были у вас основания усомниться в объективной полезности для России и Белого дела наших действий со дня прихода в Севастополь? И в нашей личной порядочности тоже? — Шульгин перестал изображать нежащегося на пригреве кота, сел прямо, взглянул в лицо Басманова чуть прищуренными глазами.
Подполковник не отвел взгляда.
— Если бы так…
— То вас бы и контракт не остановил. Понимаю. Но, может, бросим околичности? Скажите, что вы успели про нас придумать, а дальше обсудим… — При этом Шульгин ловил глазами мелькающее между зарослями бледно-голубое платье Анны. Пускай вокруг кладбища возвышалась кирпичная стена и тяжелые деревянные ворота были закрыты, а за ними вместо новой территории для высокопоставленных советских деятелей простирался заросший травой луг, он все равно опасался, как бы не случилось чего с этой неожиданно встреченной девушкой.
Басманов тоже проследил направление шульгинского взгляда.
Увлекся Александр Иванович. Понять можно. Девушка мила, пусть и не соответствует его, Басманова, вкусам. Для постели слишком тощая, а для семейной жизни чересчур умна и явно с крутым и капризным характером. Но, может, для Шульгина это и нужно. У них у всех там женщины очень непростые, даже странно, какие они все одинаковые подобрались, словно из специального училища…
— Если вы обещаете не придавать в дальнейшем нашему разговору значения… Многие офицеры, с которыми приходилось говорить запросто, считают, что вы связаны с какими-то потусторонними силами. Рационалисты, вроде полковника Сугорина, склонны верить вашей легенде — насчет затерянного в горах или лесах города, где процветают науки и техника, далеко опередившая общий уровень. Совершенно по роману Жюля Верна «Пятьсот миллионов бегумы». Придумано неплохо и снимает почти все недоуменные вопросы…
— А ваша личная точка зрения? — спросил явно заинтересованный Шульгин.
— Как раз посередине. В колдунов и ведьм я не верю с детства, о чем сейчас, возможно, и жалею. Вторая идея тоже объясняет почти все, кроме главного — кто и зачем такое устроил. Двадцатилетние, внезапно разбогатевшие гимназисты, искатели приключений? Ерунда, прошу прощения. Тут должны быть замешаны куда более серьезные силы…
Шульгин молчал, чуть склонив голову, и вертел в пальцах незажженную папиросу. Его реакция поощрила Басманова.
— Я, Александр Иванович, человек вообще начитанный. В последнее время, правда, возможностей не было, а так я Ключевского, и Соловьева, и Моммзена с Тацитом и Светонием изучил… Аналогии напрашиваются. Вы о завещании Серафима Саровского слышали?
— Нет, — легко и совершенно искренне ответил Шульгин.
Это как бы ошеломило Басманова.
— А что тут странного? Я нерелигиозен, в России давно не был, в западных газетах об этом, по-моему, не писали. Откуда ж мне знать?
— Да, действительно… Ну, все равно. По слухам — сам я, конечно, возможности его прочесть тоже не имел — Серафим Саровский, умерший восемьдесят лет назад, оставил завещание, адресованное будущим российским самодержцам. И, вступая на престол, каждый из них с ним знакомился. Когда дошла очередь до Николая Второго, он — опять же по слухам — вышел из кабинета, где хранилось завещание, весь в слезах. И с тех пор пребывал в постоянной печали, все двадцать три года своего царствования…
— И что? — с любопытством спросил Шульгин.
— Когда государь был в Японии, вы помните, его там еще саблей по голове ударили, один знаменитый прорицатель тоже предсказал ему тяжелое и мучительное царствование до возраста пятидесяти лет, а там — небывалую славу, причисление к пантеону святых и грандиозные успехи возглавляемой им державы. А как раз в пятьдесят его и расстреляли…
Шульгин усмехнулся, прикурил папиросу.
— Ну что же, нимб святого он заслужил и вскоре будет канонизирован. Ах, извините, я перебил. Продолжайте…
— Так отчего бы не предположить, — продолжил Басманов с искренней убежденностью в голосе, — что либо император Александр, человек умный и решительный, тоже, безусловно, с завещанием и японским пророчеством знакомый, либо, в крайнем случае, кто-то из старших великих князей, имеющих на него влияние, решил принять соответствующие меры… Известно также, что старший брат Николая, цесаревич Георгий, умер якобы от туберкулеза во время морского путешествия по Средиземному морю… А если не умер?
— Да-а… — протянул Шульгин, с изумлением глядя на Басманова. И непонятно было, абсурдности предположения он удивился или невероятной проницательности новоиспеченного полковника. — И у вас, значит, при введении в гипотезу данного параметра, все остальное сходится? Остроумно, весьма остроумно. Георгий не умирает, а скрывается в дебрях южной Африки, где тайно готовит материально-техническую базу для спасения династии и трона. Николая, как личность… э-э, не совсем соответствующую своему предназначению, подставляют в качестве жертвы Року… Пророчество формально сбывается, а то, что сказано о славе и процветании, относится к двум людям сразу? Николаю — нимб Великомученика, Георгию — слава спасителя России. Вы гений, Михаил Федорович! Это настолько в русских традициях, что непременно сработает! Царевичи Димитрии, старец Федор Кузьмич, а теперь — царь Георгий! Да ведь и имя-то какое, Георгий Победоносец! Все! Аксельбанты генерал-адъютанта вам теперь железно обеспечены. Да… А вот вопрос — кто из нас пятерых более всего на роль тайного царя подходит?
Басманов покачивал носком начищенного сапога с видом человека, который все понимает правильно и принимает предложенные правила.
— Георгию Александровичу сейчас должно быть пятьдесят пять. И никого из вас я, конечно, за него не принял. Ему появляться пока еще рано. А вот когда вы Москву освободите…
— Точно. Мы берем Москву, он въезжает на белом коне, коронуется и объявляет возвращение к истинно народному самодержавию времен Алексея Михайловича… Знаете, полковник, не будем сейчас вникать в скучные подробности, так оно было или не совсем так, а договоримся… Вы предположение высказали, я ответил по-английски: «No comment»… Я даже не буду брать с вас слова хранить тайну о нашем разговоре. Вы автор гипотезы, ну и поступайте с ней, как знаете. Договорились? А теперь мне пора идти, господин… — Шульгин улыбнулся двусмысленно, — ладно, пока еще полковник. Честь имею кланяться. Провожать меня не нужно. Но — готовьтесь. Как любил говорить один мой друг — не прошло еще время ужасных чудес…
Лавируя между могилами по порядочно заросшим дорожкам, — последнее время мало кто тратил силы и время на поддержание кладбища в порядке, — Шульгин подошел к стоявшей в задумчивости над вросшим в землю камнем Анне.
— Вы чем-то опечалены? Так, кроме Николая Васильевича, тут есть и еще вполне заслуживающие вашего сочувствия люди. — Шульгин хотел сказать, кто именно, и вдруг запнулся. Да и ведь вправду, чуть правее должен быть памятник Алексею Толстому, а он еще и из эмиграции не вернулся, слева — Аллилуевой, и ей жить еще двенадцать лет, остальные известные ему обитатели кладбища тоже пока не скончались или похоронены пока что в других местах. Выходит, что даже наизусть знакомое кладбище готово его подвести при неосторожном выражении. Однако вон, неподалеку, тоже памятная ему из других времен могила двух братьев-близнецов, двух подпоручиков, павших в один день в сражении при Сольдау в четырнадцатом году. Он вдруг подумал, что это скромное надгробье — неожиданное подтверждение реальности окружающего мира. Уж такую-то деталь ни один режиссер не догадался бы воссоздать специально…
— Давайте все это оставим. Сказано ведь: «Мертвый, в гробе мирно спи, жизни радуйся, живущий…» Предлагаю сесть в автомобиль и прокатиться по достопримечательным местам Первопрестольной. Или же за город, если предпочитаете. Осенние окрестности города сейчас довольно красивы.
Анна посмотрела на него не по возрасту проницательно.
— Пожалуйста, Александр Иванович, давайте покатаемся. За город. А насколько далеко?
«Хоть до самой белой территории», — хотел было сказать Шульгин, но предпочел удержаться от чрезмерной напористости или излишней проницательности.
— От вашего желания будет зависеть, уважаемая Анна Ефремовна.
— А зачем вы, уважаемый Александр Иванович, — с возможной язвительностью в голосе сказала девушка, — разговариваете со мной в таком тоне? Как будто действительно хотите на наших здешних людей похожим показаться. Но ведь не получается у вас. У меня не только слух хороший — и я ваш разговор с полковником Басмановым слышала, так я еще за три коммунистических года, за неимением иных занятий, много всяких книг прочитала. Вы ведь и вправду совсем другой человек, чем пытаетесь изобразить. Так и отлично же! Я давно о чем-то подобном мечтала и готова быть вам верной помощницей…
— Да в чем же, Анна Ефремовна? — стараясь оставаться в образе, воскликнул Шульгин.
— В чем угодно. Мне неважно. В попытке убить Ленина, захватить императорский престол или ограбить патриаршую ризницу. Просто я давно надеялась встретиться с необыкновенным человеком, вроде вас. Когда Сергей привел вас в дом, я вначале подумала, что он продался большевикам, и вы как раз из них, а потом поняла — вы совсем другие… С вами мне по пути!
Шульгин увидел, что за три года девушка действительно поняла многое, оказавшись в эпицентре практического воплощения в жизнь «вековой мечты человечества». Отчего приобрела некоторую экзальтированность и склонность к экстремизму. Нельзя сказать, чтобы это его не устраивало, он сам третий день соображал, какой бы подход к ней найти. Если она сама предлагает вариант — так ради бога.
— Хорошо, милая Аннушка. Вы готовы вступить в наш рыцарский орден? Со всеми соответствующими обетами, ритуалами, обязательным самоотречением и непредсказуемыми результатами? Невзирая на опасности, как реально-бытовые, для физического существования, так и трансцендентные, в рассуждении вашей православной души?
— Готова? — с внезапным блеском в глазах и резко вскинутой головой переспросила Анна. — Готова ли я? Да я только об этом и мечтала!
«Ну вот, — грустно подумал Шульгин, — очередная Софья Перовская. Неважно зачем, неважно за что, абы живот на подходящий алтарь возложить. Разве что, по Фрейду, данную политическую акцентуацию в несколько другую сублимировать? Не с бомбой же ее на теракт посылать…»
Глава 34
— Я, Андрей Дмитриевич, — излагал свои построения Новикову профессор Удолин, — изучил все доступные теории черной и белой магии, десяток лет постигал практику дзен-буддизма и еще многое, рассказ о чем заведет нас в глубокие и не имеющие практического значения дебри. Сейчас нам важно другое. Вы владеете практикой без теории, я — наоборот. Мне жаль, я даже испытываю определенный комплекс неполноценности, однако что поделаешь? Остается поделиться с вами известными мне навыками и надеяться, что в результате мы оба выиграем…
— Это так просто? — удивился Новиков. Ему казалось, что предметы, о которых они с профессором рассуждали уже третий час, сложны для постижения не в силу даже их нарочитой запутанности, кое-что он постиг за время учебы в МГУ и аспирантуре, а как раз практически.
— Более чем. Если человек имеет соответствующие предпосылки, практику он в состоянии постичь даже и за пять минут. Я в своих исследованиях выявил девять уровней сознания. Первые три свойственны людям от рождения, если они не олигофрены. Еще два можно постичь путем размышлений, имея медицинское или философское образование. А дальше — совсем другое. Медитации, углубленное и замедленное дыхание, практика дзен подведут вас к шестому уровню. С него, если удастся, доступен седьмой… Ну а куда ведет он — я не знаю. И боюсь заглянуть в сии бездны…
— Отчего же бездны? — с любопытством спросил Новиков. — Насколько я в курсе — дальше нирвана. Благорастворение, высшее блаженство небытия, неделания и неучастия. Мне не по характеру, кому-то нравится, а ужасного-то что?
— Нет, нет и нет! — вскричал профессор, и даже борода его вздыбилась от возмущения или от страха, Андрей не понял.
— Бездна — это… Если вы слишком долго всматриваетесь в бездну, бездна начинает всматриваться в вас!..
— Ну, Ницше это писал, почитывали…
— Ницше… — Удолин посмотрел на Новикова с уважением. — Да, писал, и он тоже относится к пророкам, а вот не продолжил же. Что именно случится, когда бездна всматривается в вас слишком пристально…
— А вы знаете?
— Догадываюсь. Но можно узнать и точно, если вы этого возжелаете.
Андрей задумался. Все, что он услышал от Константина Васильевича, было интересно ему как психологу, кое в чем приоткрывало новые точки зрения на вещи, над которыми он задумывался или постигал интуитивно еще в школьные и студенческие годы, что использовал в сотрудничестве с Ириной и Антоном или в противоборстве с агграми, а некоторые моменты услышал впервые, но протеста они у него тоже не вызвали. Теперь же вопрос переходил в другую плоскость. Практическую. Согласиться на эксперимент, надеясь сознательно войти в сферы, к которым до сих пор прикасался случайно и не по своей воле, и рискуя, в случае «неудачи», всем, вплоть до потери личности, жизни, а то и чем-то большим…
— И как это будет выглядеть? — спросил он, решив исходить из универсального правила.
— Ничего особенного, Андрей Дмитриевич. — Возбудившись, Удолин выхватил из хозяйской коробки чуть ли не двадцатую за час папиросу, забегал вокруг стола, переводя потенциальную энергию мысли в нормальную кинетическую.
— Я сообщу вам несколько мантр и дыхательных приемов, вы с вашей огромной силой духа освоите их буквально немедленно, войдете в состояние «самадхи», а уж там… Там все будет зависеть от вас.
— Самадхи — это как?
— В состоянии «самадхи» вы увидите мир в его истинном свете. «Алмазная сутра» говорит: пусть желание появится в уме, только не разрешай уму быть связанным своим желанием. Не пребывая ни в чем, дай ему действовать. Став Буддой, забудь, что ты Будда. Если же осознаешь тот факт, что ты Будда, то в действительности ты не Будда, потому что попал в ловушку идеи…
— Нормально, — позволил себе улыбнуться Новиков. — Такими хохмами мы развлекались в вузе. «Будьте реалистами — требуйте невозможного…»
— О! Великолепно! — восхитился Удолин. — Кто так сказал?
— А, — махнул рукой Андрей. — Кто-то из нас в стиле Сартра… Так давайте ближе к делу. Ну, я войду с вашей помощью в самадхи, так где гарантии, что в данной фазе вы меня без всякой мистики по голове молотком или стулом не грохнете?
— Ну, Андрей, разве это философский подход? — всплеснул руками Удолин.
— Вполне философский, в стиле Агранова. Или вообще ваши мантры — билет в один конец… Мое предложение. На эксперимент я согласен. На его время я вас пристегиваю наручниками к трубе в клозете или ванной, на ваш выбор. Гарантия от агрессии раз, и гарантия, что ваше заклинание не есть формула самоуничтожения, поскольку голодная смерть на цепи — достойная компенсация за мой невыход из нирваны. Как?
— Разве я должен отвечать за ваше неправильное поведение ТАМ… — профессор бессистемно повертел перед своим носом прокуренным пальцем. — Однако научная ценность… Вы готовы рисковать, так давайте и я рискну. Слушайте…
Новиков вошел в транс, как в сон — с ощущением естественности и неизбежности этого процесса, с балансированием сознания на его грани и с мгновенным провалом в ирреальность, которая тут же стала восприниматься как вполне нормальная и единственно возможная.
Действительно, что же тут странного: какие-то дворы и дома, похожие на послевоенные, и он сам среди друзей. Некоторые из них так и остались для него десяти-двенадцатилетними, никогда с тех пор больше не встреченными по разным причинам, другие, наоборот, помнились ему уже взрослыми, а то, что теперь они снова пацаны — так почему и нет?
Понимать, для чего он снова присутствует в своем детстве, не требовалось, хоть он и помнил, что побывал уже и в более зрелом возрасте. Он просто радовался узнаванию каких-то пустячных и милых подробностей, вроде пионерской комнаты, например, где горны отчего-то всегда стояли без мундштуков. Наверное, чтобы неизвестный злоумышленник не смог протрубить несанкционированную тревогу…
Для чего-то они собирались вечером у подножия возносящейся к самому небу пожарной лестницы, большой, человек в десять-пятнадцать, компанией. Да зачем же еще — чтобы залезть на теплую от дневного солнца железную крышу, лежать на ней вокруг кирпичных дымовых труб, покуривать невзатяжку папиросы «Север» ценой в один, еще дохрущевский, сталинский рубль и двадцать копеек, не для удовольствия, а из самоутверждения…
Так… Ситуация безусловного, еще не подверженного рефлексиям, счастья. На темнеющем небе появляются первые звезды, кто-то из самых начитанных (или богатых, ему ведь выписывают домой «Технику — молодежи») затевает разговор о «Сокровищах Громовой луны» Гамильтона.
В очередной миг обстановка начинает меняться. Тоже естественно, не вызывая удивления. Среди дворовых друзей появляется, но уже не на крыше, а внизу, в салоне брошенного на заднем дворе без колес и мотора трофейного итальянского автобуса, местный «вор в законе» по кличке Кыла, парень лет двадцати, отсидевший по пустякам не больше «трешки». В то время его титул означал не то, что сейчас, а просто принадлежность к одной из каст: «ворам» и «сукам», отличавшимся друг от друга не сильнее, чем католики от гугенотов, но столь же яростно воевавшим — на полное физическое уничтожение. И Кылу вскоре где-то зарезали. (Все эти оценки Новиков тоже вспомнил уже в ходе сна, а тогда дворовых зачаровывал сам титул.)
Андрей учил вора играть в шахматы, тонкости которых на вид туповатый, со шрамом во всю щеку парень схватывал на лету. А сам Новиков за это был избавлен от стояния на стреме и прочих подходящих возрасту дел, которые его менее интеллигентных ровесников приводили сначала в страшную «трудколонию», а потом и дальше.
— Послушай, Андрюх, — говорил вор, внимательно глядя на доску, — а интересно, бля, получается. Я вот так хожу, думаю твою туру побить, а тут же оно, бля, мой офицер через ход под боем будет, и эта пешка тоже, а ты сюда пойдешь, и твоя королева тут, ее конем… можно, а тогда твой черный офицер мне шах… — Он вдруг задумывался, по-модному жуя окурок и перекатывая его из угла в угол фиксатого рта. — Это ж как в жизни, а? Я на зоне с корешем покентовался. Когда освободились — ему наколку на дело дал, он пошел, погорел, легавого по нечаянности грохнул, и его легавые грохнули… Так, значит, если б мы со Сталькой и Ермолом еще аж в позапрошлом году бутылку пить не стали, ларек не подломили, так и я бы не сел, и тогда получается, все сейчас живые были? Из-за нашей бутылки «Карданахи» две души на распыл?
Не успела еще удивить юного Новикова стихийная телеология малограмотного вора, как ему в голову сам пришел ответ:
— Оно так, Кыла, да только игрок — это одно, а фигура на доске — другое, и важно вовремя догадаться, кто ты сам есть…
И вдруг на месте вора уже сидел, поддернув щегольские чесучовые брюки над сандалетами из лакированных ремешков не кто иной, как шеф-атташе форзейлей на планете Земля, пресловутый Антон. Фамилии которого никто никогда не слышал, а лично знавший его задолго до описанных событий капитан Воронцов так и не смог вспомнить.
— Ну как, лидер, — спросил он с неприятной интонацией, — начал понимать, что почем?
На доске Новиков увидел странную позицию, какая бывает только в шахматных задачах — белый король находился под шахом сразу с четырех направлений. Невзирая на вроде бы надежное прикрытие, его атаковали черный ферзь, ладья и два коня.
— Я ничего не знаю, и твои варианты меня не волнуют, — ответил Андрей. — Ты никогда не желал играть со мной впрямую. Мало ли что ты здесь расставил…
Он сейчас говорил Антону зло и раздраженно, пользуясь случаем, как никогда не говорил раньше, потому что и ситуация была другая.
— Ты морочил голову моим парням, вкручивал им всякие идеи насчет спасения мира ценой наших голов, но для твоей пользы. Чего ты хочешь сейчас, зачем ты пришел? Мы с тобой в расчете, разве не так?
И снова все это было, как во сне, когда понимаешь, что спишь, и даже слегка пользуешься этим. Мол, что бы я ни сказал и ни сделал, значения не имеет.
— Ошибаешься, друг, и самое главное — не в том, о чем думаешь… — спокойно ответил Антон.
Черные и белые поля картонной шахматной доски сменились белым снеговым покровом, из которого слева и справа торчали источенные ветрами и временем надолбы скал, изогнутые и перекрученные стволы сосен, похожие на те, что любили рисовать старые японские мастера; пронзительно гудел ветер, а они с Антоном, упираясь, тащили за собой развалистые крестьянские сани. Новиков помнил, что идут они уже давно, что лошади пали два или три часа назад и спасение зависит от их упорства. Невзирая на разделяющую их вражду, выжить они могут только вместе.
— Вот оно, — просипел сквозь обросшие льдом усы Антон, указывая на врезающийся в лощину, подобно корабельному форштевню, розовато-черный утес.
— Что — оно?
— Наше место…
Вспоминая с мысленной матерщиной такие романтические в детстве страницы «Смока Белью», Андрей вскарабкался на площадку перед зияющей в стене треугольной нишей.
— Стой!
Сбросив с груди постромки, посидели несколько минут, приводя в порядок дыхание.
За спиной была опасность, близкая и смертельная, это Новиков понимал. Почему и решил подчиниться воле напарника.
В два топора они свалили ближайшую сосну, умершую не меньше года назад, из тонких ветвей с остатками хвои связали десяток факелов.
Пещера была обширная, пол покрыт мелким щебнем, слева и справа от входа громоздились осыпи из обломков зернистого плитняка.
В какой-то момент Новикову показалось, что для сна картина уж больно реалистичная, пот со лба катился до чрезвычайности натуральный, и ноги дрожали от усталости.
При свете трещащих факелов они рубили пятнадцатиметровый ствол на подходящих размеров поленья, разводили таежный костер. Потом заволокли в пещеру сани и заложили вход до самого верха в изобилии валявшимися вокруг обломками плитняка.
— Слава богу, управились, — сказал Антон, сбрасывая полушубок и забитые снегом пимы. Новиков тоже присел на обрубок дерева, нащупал во внутреннем кармане кисет. Козья ножка получилась кособокая, заклеилась кое-как, зато дым махорки оказался сладостен.
— Пурга начинается. Мы тут и неделю сидеть можем. Жратвы хватит, дров тоже, а там поглубже и родничок есть, не пропадем, а им на воле — концы… — Антон говорил спокойно, уверенно, в роли опытного таежника смотрелся так же убедительно, как в свое время — рафинированным дипломатом или владельцем роскошного замка.
— Сними, Андрей, с саней пулемет, пристрой напротив входа, тогда и отдыхать можно…
Еще потом они ели замерзшее сало с крестьянским хлебом, крутые до синевы яйца, жуткой горечи чеснок, запивая все это самогоном из деревянной баклаги.
В голове чуть-чуть поплыло, и Новиков с невиданной остротой вдруг ощутил абсурдность происходящего, при том, что чисто по жизни оно ему нравилось.
Это же ведь вообще идеал человека, начиная с каменного века — только что пережитая опасность, счастливое избавление, надежное убежище, жаркий огонь, обильная еда, долгий и спокойный сон впереди.
«А как же просветление и разъяснение всех тайн?» — всплыла посторонняя мысль. Неизвестно откуда взявшаяся.
— Об этом мы тоже поговорим, — кивнул ему Антон. — А ты понял, наконец, что твоя былая гордыня здесь неуместна? Как вы старались доказать мне и друг другу, что вы сильны, самостоятельны, и сам черт вам не брат… И что в итоге?
— Ты разве черт? — спокойно поинтересовался Новиков. «А что, даже и неплохо бы было».
— Исходя из уровня мышления клиентов, таких, как я, называли по-разному. Можно и чертом, если понимать его в образе Мефистофеля, а не поросенка с рогами и хвостом. Но ты ведь хотел узнать что-то другое?
— Хотел. Кто мы и что здесь делаем?
Антон кивнул, правильно поняв вопрос.
— В шахматы играл со своим приятелем? Так вот с момента, когда ты понял разницу между игроком и фигурами, ты уже понял и все остальное.
— Это я всю жизнь понимал. Оттого и ваша игра все время не получалась. Столько всякой трепотни, демагогии, рассуждений о судьбах галактики, а в итоге, как я теперь сообразил, — американский летчик, сбитый над Соломоновыми островами, вкручивает папуасам всякую туфту, чтобы они помогли ему спастись от японцев…
Новиков опять сделал усилие, пытаясь очнуться. Как-то ему томительно было, словно в тяжелом сне на третьей полке общего вагона. Он помнил, что собирался говорить с форзейлем о вещах высоких и сокровенных, не договоренных при прощании в Замке, выходила же нудная жвачка, как та смола в детстве, от которой болели десны.
— Где мы? Кто за нами гонится, для чего? — спросил он против воли.
— Как кто? Отряд иркутской ЧК. Забыл неужели? Раненого адмирала повезли впереди, а ты остался прикрывать отход. Все твои люди погибли, потом пали кони. Если бы я не подоспел, лежал бы и ты сейчас в снегу с пулей в затылке… Или отвечал на настоятельные вопросы охочих до истины товарищей.
— О чем ты, Антон? — Новиков вообще потерял нить мысли. — Какой адмирал, какие люди?
— Колчак, разумеется. Выхватили вы его из-под расстрела лихо. Отчаянной дерзости операция. Только не рассчитали немного…
Увидев растерянное лицо собеседника, который только тем и гордился, что никогда не терял самообладания, Антон поцокал языком сочувственно.
— Так вот, друг мой. Теперь вспомни, что тебе пытались объяснить. Вспомни, вспомни. Наши последние минуты, когда «Валгалла» выходила в море, а мы стояли на мостике. Ну, напрягись…
Новиков вспомнил. Черное, вскипающее мутными гребнями валов море, с натугой выгребающий против шторма пароход, захлестываемый даже на десятиметровой высоте над палубой мостик, они с Шульгиным, цепляющиеся за леера. Антон, с мокрым от водяных брызг лицом, на прощание приобнимает их за плечи и кричит, а кажется, что шепчет: «Ребята, все будет хорошо, только бойтесь ловушек сознания…»
— Что это такое, как узнать, чего бояться? — отплевываясь, тоже кричит ему в ухо Шульгин.
— Я объясню, если успею, — отвечает Антон, делает шаг в сторону и исчезает в просеченной дождевыми струями мгле. Словно за борт прыгнул…
Так живо это вспомнилось, что ветер за входом в пещеру показался тем же самым штормовым ветром Северной Атлантики тысячу лет назад.
— Ловушки сознания, да, ты говорил, ну и что? У Шекли тоже было: «Только не политурьте»… Допустим, я пытался, а результат?
— Тогда слушай. Только сначала посмотрим, как там на улице…
На улице было плохо. То есть для них — хорошо. За какой-то час пурга разгулялась, словно в Антарктиде. Ветер выл и гудел так, будто рядом с пещерой проносился бесконечный состав порожняка. Сквозь оставленную между сводом и верхним краем стенки полуметровую щель намело уже порядочный сугроб. Казалось даже, что сама корявая, но прочная стенка вздрагивает от снеговых зарядов.
Андрей подумал, что без Антона он непременно замерз бы, застигнутый на открытом месте пургой. А может, то, что творится сейчас снаружи, лучше назвать бураном. Теперь же замерзать придется преследователям. А у них здесь уютно, тепло, топлива хватит на пару суток, если рубить чурбаки потолще. Но что там еще за история с адмиралом?..
Проверив, надежно ли упирается сошниками в камень пулемет, хорошо ли лежит лента в приемнике, они вернулись к костру. Выступ скалы надежно прикрывал от гуляющих по пещере сквозняков, устойчивое пламя горящих с торца бревен прогрело выбранную ими для ночевки нишу достаточно, чтобы можно было раздеться до нижнего белья, развесив остальную одежду для просушки.
— Как многие до тебя, ты был лишь фигурой на доске, более или менее сильной, всю сознательную жизнь. И в таком качестве представлял интерес, но не представлял опасности. Пока вдруг не вздумал почувствовать себя игроком. Еще даже и не стал, а только почувствовал и тем самым перевел себя в другое качество. На тебя обратили внимание. А это страшно. Вселенная существует, пока все предписанные роли соблюдаются. Так установлено от века…
— Установлено — кем? — Андрей смутно помнил свои видения насчет играющих Реальностями высших сил. Теперь он хотел убедиться, правильно ли понял давешнее озарение.
— Теми, кто равно непостижим тобою и мною, — спокойно ответил Антон. — Однако я остаюсь фигурой, пусть даже ферзем, образовавшимся из достигшей последней горизонтали пешки. И моя сущность меня устраивает. Ты же из пешки решил стать игроком…
— Ничего я не решал. Я просто жил в пределах существующих обстоятельств. И не делал ничего, чтобы их изменить сознательно. Отвечал, в меру сил, на вызовы судьбы. Какие и у кого ко мне претензии? И не сам ли ты просил нас о помощи?
— Просил. Но процесс вышел из-под контроля. В какой-то момент произошел качественный скачок. Стало ясно, что ты с твоими друзьями способен препятствовать исполнению предназначенного. В пространстве исчисленных и согласованных Реальностей возник некий экстерриториальный сгусток чуждой энергии. Кто-то из вас придумал абсурдно вроде бы звучащий термин: «Гамбит бубновой дамы». А он оказался удивительно точным для объяснения сложившегося положения.
— Антон, сколько можно? — воззвал к инопланетянину (а заслуживал ли он теперь такого названия?) Новиков. — Уже год ты морочишь нам голову бессмысленными словесами. Скажи конкретно — кто мы, кто ты и что такое эти самые «ловушки сознания»? Чьего сознания и зачем?
— Ты хочешь, чтобы я объяснил словами нечто малопредставимое даже сверхмощными разумами? Кое-что вам было приоткрыто. Долю процента из этого вы сумели осознать. Как случайно встреченное знакомое слово в тысячетомной энциклопедии на чужом языке. Остального не поймете еще века и века. Что не мешает вам совершать смертельно опасные для судеб Вселенной поступки. Я был послан помочь вам и предостеречь. Частично это удалось. Но лекарство, увы, оказалось опаснее болезни. Те, кому до последнего «времени» было безразлично существование не только ваше, но и всех пяти вариантов человеческой истории, внезапно заметили вас. Выражаясь словами Гоголя, Вий поднял веки…
Сон есть сон. Наяву Новиков отнесся бы к словам Антона спокойно, мало ли что форзейль успел наболтать за год их знакомства, но сейчас он ощутил леденящий ужас ночного кошмара, когда больше всего хочется проснуться и увидеть мутный в предрассветном освещении интерьер привычной комнаты. Ну в самом деле — он со своими друзьями и — Вий… В отличие от прочей нечисти и даже Панночки, Вий страшен был как раз абсолютной непонятностью и необъясненностью.
— Возьми себя в руки, — понял его состояние Антон. — Здесь ты в безопасности. Собственной волей ты создал совершенно новую, только тебе принадлежащую Реальность. Для внешнего мира она не существует, здесь ты как за меловой чертой.
— А ребята? — спросил Андрей.
— Они пока там, в Реальности первого порядка. Скорее всего, им непосредственная опасность не угрожает. Раз твой ментальный образ скрылся из поля зрения «локаторов». Но возможно и другое — ту Реальность просто сотрут, как неудачную картинку на дисплее. Тогда… — Антон развел руками.
— А могу я их забрать сюда? — с надеждой спросил Новиков.
— Если сумеешь мысленно воссоздать каждого из них во всей полноте личностей… Но это вряд ли.
— Как же, — не понял Новиков, — я создал целый мир и не могу ввести в него еще несколько человек?
— Вся разница в том, что остальной мир по отношению к тебе объективен. Он существует сам по себе, и тебе не слишком важно, насколько убедителен «по большому счету» каждый из его элементов. Твои же близкие друзья слишком конкретны, и даже малейшее отклонение от прототипа будет нестерпимо фальшивым. На сцену театра можно смотреть издалека и испытывать эстетическое наслаждение, но жить на ней нельзя. И так далее… Ты хочешь еще что-нибудь спросить?
— Раз я не могу включить в этот мир своих друзей, то что мне делать в нем одному? Надо возвращаться. Имеешь возможность помочь чем-нибудь реально? Или…
— Право выбора за тобой. Давай попробуем порассуждать вместе…
Глава 35
Телефон на столе Агранова затрещал. Непроизвольно вздрогнув, он взял причудливо изогнутую трубку с роговым раструбом микрофона.
— Яков Саулович? — раздался знакомый голос, причем настолько четкий, будто собеседник находился в двух шагах, а не по ту сторону крученого провода. — Жив-здоров? Тогда садись в свой мотор и езжай к Калужской заставе. Охрану можешь не брать, я о тебе позабочусь. Да-да, прямо сейчас и выезжай, чего время терять. Ну, будь здоров, и без фокусов у меня…
Испытывая тревожное, но в то же время и приятно щекочущее нервы чувство (не зря в документах царской охранки он не раз читал откровения провокаторов о том, что, работая и на полицию и на подполье, они испытывали необъяснимое наслаждение, отказаться от которого не могли даже под страхом смерти), Агранов, развалившись в каретке своего «рено», цепким взглядом фиксировал картинки неспешно проплывающих мимо улиц и пытался угадать, для чего вызвал его новый хозяин.
В начале Калужского шоссе он увидел стоящий у обочины знакомый угловатый автомобиль с поднятым зеленым тентом. Велев шоферу оставаться на месте и быть настороже, спрыгнул на грязный булыжник и пошел через площадь наискось, по пути придавая лицу доброжелательное и беспечное выражение.
— Садись, Яков Саулович, покатаемся немного. — Сидевший за рулем Новиков поприветствовал Агранова поднесенными к козырьку двумя пальцами и без помощи заводной рукоятки включил мотор. — Твоя машина может тут постоять, через полчасика вернемся.
Некоторое время ехали молча, Агранов с интересом осматривал внутреннее устройство незнакомого автомобиля, Новиков небрежно покручивал руль, выбирая путь между выбоинами и лужами.
— Так что интересного слышно? — спросил Андрей и, пока Агранов соображал, что и как ответить, шутливым тоном добавил: — Только не ври, все равно сразу увижу…
Агранов стал рассказывать, что к Трилиссеру вернулся посланный в Лондон связной, передавший инструкцию от неизвестного лично ему, но весьма значительного лица, контролирующего внешнюю политику стран Антанты. Рекомендовано было, причем в настоятельной форме, принять все доступные меры для засылки в ближнее окружение Врангеля надежных людей. Задача — любым путем, вплоть до физического устранения всей верхушки военного командования и гражданского правительства, сорвать предстоящее наступление, выяснить источники военной и прочей помощи, подготовить условия для окончательного разгрома Белого движения. В средствах предложено не стесняться (имея в виду оба значения этой фразы). Международная поддержка тоже обещана, однако…
— Круто берутся, — присвистнул Новиков. — Но сами вмешаться открыто побаиваются. Или нет у них пока такой возможности, не все схвачено. Да и год сейчас отнюдь не семнадцатый. Ну и как, имеются у Трилиссера «надежные люди»?
— Чтобы попытаться убить Врангеля, найдутся. Для остального — вряд ли. Вы правильно сказали, что время другое.
— Еще что?
Агранов сообщил о ходе подготовки к съезду партии и значительных трениях между Лениным и его ближайшим окружением.
— Когда открытие съезда?
— Через три дня.
— Отлично. Тогда успеем…
— Что успеем? — позволил себе осведомиться Агранов. Новиков обратил внимание на форму его вопроса и удовлетворенно хмыкнул.
— Провернуть операцию под названием «Никомед». Это был такой грек, представитель кинической школы философов. Слушай инструкции, товарищ Агранов…
…Днем раньше Новиков вышел на связь с «Валгаллой» и попросил Левашова немедленно организовать канал прямого перехода.
Шагнул из московской квартиры в прокуренную, загроможденную аппаратурой непонятного назначения и похожую на лабораторию алхимика со средневековых гравюр каюту. Олег, сидевший у стола, на котором мерцали экранами сразу три работающих компьютера, встретил его неожиданно радушно. Похоже, после той ночи он действительно изменил свое отношение к Новикову и его поступкам.
Андрей бросил на спинку стула френч — здесь было куда теплее, чем в осенней Москве — недовольно осмотрелся.
— Как-то у тебя здесь… неуютно. Пойдем в бар, что ли. Пивка холодного попьем. Соскучился я по цивилизации.
За кружкой светлого бочкового Новиков обрисовал Олегу изменения в обстановке и свои дальнейшие планы. Левашов слушал спокойно и почти не задавал вопросов. Даже на рассказ о встрече с Антоном отреагировал без удивления. Ему, на голом месте придумавшему практическую методику пространственно-временных совмещений, идея галактической Суперсети и игры в Реальности не показалась заслуживающей сильных эмоций.
— Теперь ты понял, что наши разногласия насчет «идеалов Октября» и пределов морального релятивизма значения больше не имеют?
— Пожалуй. Если Антон не врет, то это и вправду ерунда. И что ты думаешь делать?
— Хотел бы я и сам знать. Второй год мы крутимся, как черт на сковородке, и дела с каждым днем… — Новиков сокрушенно махнул рукой. — До последнего я думал, что мы все-таки люди, пусть и попавшие в необыкновенные обстоятельства, а теперь…
— А что, собственно, произошло? — с ненаигранным спокойствием спросил Левашов. — Каким образом означенная информация повлияла на твое мировосприятие? Тебя задевает, что ты произошел не в результате акта божественного творения, не от первичной коацерватной капли и не в итоге борьбы производительных сил с производственными отношениями, а как побочный результат антиэнтропийных процессов в компьютерных сетях? Ну и что? Данный факт влияет на вкус вот этого пильзенского пива, на развевающий занавески утренний бриз или на прелесть общения с Ириной, которая тебя заждалась?
— Оно, конечно, так, — согласился Новиков и на самом деле вообразил, как, закончив беседу с Олегом, войдет в каюту любимой женщины. — Только постоянно думать, что какой-то галактический монстр, наскучив игрой, через секунду может просто стереть программу… А то даже и не сам он, а просто антивирусная ловушка сработает…
Левашов пожал плечами.
— Да и наплевать. От мгновенного инсульта люди тоже помирают, но это же не повод впадать в мировую скорбь. Кто тебе сказал, что субъективные идеалисты не правы? С тем же успехом можешь воображать, будто с твоей смертью исчезает весь материальный мир. — Он сделал два больших глотка, захрустел ржаным, посыпанным солью сухариком. — Деловые предложения есть?
— Имеется кое-что. Играть так играть. Охота мне проверить, может, и вправду мы с теми ребятами на равных можем…
— Тут я полностью «за». От меня что требуется?
…После Левашова Андрей собирался вызвать из Харькова Берестина, но не выдержал и пошел искать Ирину. Она, на его счастье, оказалась «дома», то есть на пароходе. А могла ведь, пользуясь положением «соломенной вдовы» и соответствующей оперативной подготовкой, тоже отправиться на поиски приключений. Сидела в шезлонге на шлюпочной палубе и читала какую-то книгу.
Увидев Андрея, она улыбнулась приветливо, встала навстречу, подставила щеку — все так, будто расстались сегодня утром. Только чересчур резко отброшенная книга намекнула на ее истинные чувства.
Порыв ветра взметнул колоколом подол ее белого, с синим матросским воротником платья. Инстинктивно-испуганным жестом она прижала его к ногам.
— Пойдем куда-нибудь… — сказал Новиков, беря ее за руку. За первым же поворотом пустынного коридора он обнял ее, чересчур порывисто прижал к себе, стал целовать, не сразу поймав губами ее с готовностью приоткрывшиеся губы.
— Что ты, что ты, подожди… Сюда давай… — Она вывернулась из объятий, потянула за собой к двери ближайшей каюты. На этой палубе их было много — пустых стандартных двухсекционных полулюксов, словно бы постоянно готовых к приему неожиданных пассажиров.
Сама повернула медную головку замка и замерла, прижавшись спиной к двери. После нескольких проведенных в разлуке лет, ее бессмысленно странного замужества и неожиданно вдруг случившегося «нового знакомства» на них часто накатывались внезапные порывы почти неконтролируемой страсти. Обостряемые еще и тем, что на людях они держались друг с другом «по-ремарковски»: подчеркнуто сдержанно, чуть ли не безразлично.
Он снова стал ее целовать, скользя ладонями по гладкому муслину, коснулся тугого полушария груди, и его прострелило электрическим разрядом, словно в юности, когда вот так же, будто невзначай, дотрагивался до манящих бугорков под тонким свитером подружки.
Не расстегнув до конца пуговиц, потянул вверх длинное и узкое платье. Ей пришлось помогать ему движениями тела и рук. Под платьем на ней были только простенькие трикотажные плавки. Действительно — не ждала, потому что обычно, зная его вкусы, Ирина надевала какое-нибудь экстравагантное, разжигающее воображение белье из самых элитарных каталогов.
Несмотря на задернутые бежевые шторки, в каюте было слишком светло. Ирина в подобные моменты света не выносила, и Андрей, разжав объятия, закрыл иллюминатор броневой крышкой.
Она ждала его, откинув покрывало и присев на край широкой деревянной кровати, и думала, что он снова начнет с долгих, нежных и изобретательных ласк, однако сейчас Новиков с непривычной резкостью сжал твердыми пальцами ее плечи, опрокинул на подушки, прижался лицом к груди, то ли целуя, то ли кусая, одной рукой обнимал за шею, а другой старался сдернуть вниз плавки. Ирина не понимала, что с ним происходит. Испуганная его порывом, она машинально сжала колени.
Так бывало в юности, когда девушка, вроде бы уже согласная на все, в последний момент пугается предстоящего и начинает отчаянно отбиваться.
Андрея внезапное сопротивление Ирины только еще больше распалило. И, заставив ее подчиниться, он овладел ею грубо, торопливо, но со страстью, которой она еще не знала. Причем неожиданно и она сама повела себя так, как раньше не умела. Привыкшая к довольно сдержанному поведению в постели, сейчас она вонзала ногти в его плечи, упиралась ногами в кровать, выгибая спину, и тот экстаз, который обычно Ирина испытывала лишь две-три последние восхитительные секунды, теперь длился бесконечно, волнообразно, достигая немыслимой, казалось бы, остроты, стирая последние проблески сознания, и вдруг сотрясал тело новым тысячевольтным разрядом. Очнувшись, она услышала чей-то низкий, прерывистый крик, но будто издалека, через ватную стену, и закончилось для нее все подобием эпилептического припадка. Изнеможение, слабость во всем теле, удивительная легкость в голове и тот же стыд, который испытывает человек, застигнутый приступом в людном месте. Похожее, но в гораздо меньшей степени, она пережила только однажды, семь лет назад, когда этот же Андрей, в которого она целый год была безумно влюблена, наконец-то «соблазнил» ее звездной ночью на берегу Плещеева озера.
Ирина отодвинулась в угол кровати, кутаясь в простыню.
Через щель не полностью прикрытой двери в каюту падал узкий луч света.
— Что с тобой… с нами случилось? Мы с ума сошли? Мне даже страшно… А вдруг кто-нибудь слышал? — спросила она, все еще прерывисто дыша. И без того разгоряченное лицо ее густо покраснело.
— Извини. А тебе что, плохо было?
— Нет, не плохо, наверное, даже восхитительно, только — непривычно… И стыдно. Ты никогда таким не был. С тобой там что-нибудь случилось? Я никогда не верила, когда слышала, что женщинам нравится, когда вот так, грубо… Я… правда… громко кричала?
Андрей нашел на полу свою рубашку, достал из кармана пачку сигарет. Сидел на краю постели, жадно курил, поглаживал Ирину по внутренней стороне бедра от колена и выше.
«Вот тоже, — думал он, — сколько уже всего было, а не знал, что способен на такое… И она… Оказывается, когда баба теряет голову — это… непередаваемо. Я никогда не верил мужикам, что говорили, будто есть такие, из-за которых можно бросить все, и семью, и карьеру, только ради вот этого…»
— Все хорошо, Ирок, все хорошо. Я тебя люблю… А насчет этого… Прости, если что не так. Есть такое понятие, Ира, — инстинкт смерти. Когда он срабатывает, человек ли, животное или растение поглощены одной лишь мыслью… Ладно, мы не животные, однако мне вдруг показалось, что я вижу тебя в последний раз. Ну и… Не думай больше об этом. Мы разрядились, я теперь снова могу мыслить ясно и поступать разумно. Считай, что мы — поклонники древних тантрических культов, где секс — форма приобщения к божеству. А ты — одна из жриц Кибелы, которые в мистических целях отдавались в храмах…
— Ты, как всегда, ужасно деликатен…
— Прости, я глупости говорю, конечно, только все правда. Я как подумал, что можем и не встретиться…
Забыв о своей обиде, Ирина подвинулась к нему, погладила по щеке:
— Ну что же с тобой случилось?
От обычной женщины она отличалась тем, что по профессии была инопланетной разведчицей, эмоциональный порог был у нее повыше, и она умела держать себя в руках и говорить почти спокойно там, где другая уже забилась бы в истерике.
Он рассказал о внезапной встрече с Антоном.
— Ох, не выношу я его. Ненавижу!
— Потому, что форзейль — твой природный враг?
— Нет. Это меня давно не интересует. Как человека терпеть не могу. Если бы не он, мы жили бы сейчас на Валгалле, как Адам и Ева в Эдеме, и вообще ничего не знали. Ни о чем. Мне бы хватило…
Андрей подумал, что ничего больше ей говорить не стоит. Слишком много сил Ирине стоило забыть о своем аггрианском прошлом, заставить себя жить и чувствовать, как простая земная девушка. Начни она сейчас снова вникать в тонкости межгалактических отношений, и неизвестно, чем это закончится. А все практические вопросы гораздо проще решать со свободной от комплексов Сильвией.
…Постояв минут десять под жесткими струями контрастного душа — от пяти до сорока градусов Цельсия и обратно, Новиков переоделся в подчеркнуто нейтральный костюм — цветная рубашка, шейный платок, светло-синие брюки, белый пиджак — и отправился наносить визит вышеупомянутой леди Спенсер.
Избавившись с помощью Ирины от сексуального напряжения, он мог не бояться попасть под обаяние чар Сильвии, против которых не смогли устоять ни Берестин, ни Сашка. Что и неудивительно, аггрианка умела себя подать, и отстраненно Андрей понимал, в чем суть и сила ее приемов. Понимал и старательно подыгрывал, дабы лишить ее желания придумывать что-то более тонкое и сложное.
Для переговоров он избрал кормовой балкон парохода, где стюард накрыл столик с кофе, фруктами, мороженым и бутылкой «брюта» в ведерке со льдом.
— Твоя подруга не будет ревновать? — спросила Сильвия, отработанным жестом поправляя падающую на глаза прядь волос и одновременно закидывая ногу на ногу так, чтобы и это не осталось незамеченным.
— Да зачем ей? — простодушно улыбнулся Новиков. — Есть французское выражение: «Ля плю белль фий не пе донне плю ку элле а», — с ужасным прононсом произнес он, — что, как я догадываюсь, означает: «Даже самая красивая девушка не может дать больше, чем она имеет». Так чего же ей ревновать?
— Вот как? — Сильвия, кажется, слегка растерялась.
— А чего? Если я хочу быть с ней, я буду с ней. Захочу уйти — она меня не удержит. Пожелаю провести с тобой в постели час или два, если ты согласишься, конечно, — Новиков изобразил полупоклон, — а потом снова вернусь к ней же, она ничего не потеряет. Посему оставим эту тему. Поговорим по делу. В результате проведенных мною оперативных действий я выяснил, кто и зачем работает против нас на Западе. Да если бы только на Западе. Вопрос вообще стоит так, жить нам или превратиться в информационный пар…
И он изложил положенную ей часть информации. Наученный горьким опытом, и не только своим, Андрей решил сделать так, чтобы никто, включая ближайших друзей, не располагал всей полнотой картины. Для их личной и общей безопасности.
— Ты согласна съездить в Лондон и поработать там по своим старым каналам? Нужно будет выйти в круги Ллойд-Джорджа, Черчилля, старой аристократии, самых серьезных финансистов. Разместить в банках такие суммы, чтобы Ротшильды, Куны и Леебы, прочие братья Бруксы бегали за тобой и спрашивали: «Что вам угодно, леди Спенсер? Чем можем служить вашей милости?»
Ему нравилось демонстративно, к месту и не к месту называть на «ты» эту рафинированную аристократку, надменную и очень красивую женщину. Привыкшую совсем к другому обращению.
Она положила на столик руки с покрытыми золотой пылью ногтями, долго смотрела на Андрея молча, подрагивая загнутыми ресницами.
— Разумеется, согласна, — сказала наконец, переведя взгляд на маслянисто блестящие волны под кормой парохода. — Только ведь ехать до Лондона не меньше недели. Можем не успеть.
— Старые игры кончились. Пойдешь через прямой канал. Будешь все время на связи. Золото и деньги через него же перебросим. В твой особняк. Только вот, твоя… Как сказать — «двойница», «предшественница», — она не помешает?
— Думаю — нет. — Сильвия снова улыбнулась странно, с каким-то ускользающим выражением. — Только хотелось бы более подробных инструкций. Замысел, конечная цель, допустимые средства.
— Средства — любые. Не до сантиментов сейчас. Замысел ты в общем представляешь, не надо изображать девичью наивность. Цель — чтобы в ближайший месяц ни одна сволочь и не подумала предпринять какие-то практические меры против врангелевской России. Под страхом отставки, полного разорения или физического устранения…
— Скажи, Андрей, ты специально так грубо себя ведешь? — спросила Сильвия не то чтобы с обидой, но расстроенно. Будто и вправду искренне пыталась с ним флиртовать, преодолевая гордость, а он дал понять, что ее чувства ему безразличны.
— Конечно. Я рассчитываю на тебя, как на жесткого и закаленного бойца, эксперта по тайным операциям. И не желаю поддаться твоим женским чарам. А то какая же может быть война, если командир ставит задачу направляемой в тыл врага разведчице, а сам думает не о деле, а о том, какова она в постели…
— Хм, — покачала она головой, — ты и вправду абсолютно честен, говоришь, что думаешь. Я это ценю. Можешь на меня рассчитывать. И в том и в другом смысле.
Новиков рассмеялся.
— Спасибо, леди Спенсер. Я тоже ценю ваши добрые намерения. Закончим с первым, поговорим и о втором. Спасибо за приятную беседу. — Он приложил руку к сердцу и встал с намерением откланяться.
— Подожди, Андрей. Ты даже и шампанское не откупорил. Невежливо. Надо бы поднять бокал за успех…
— Конечно, конечно. Увы, я и вправду стал крайне бестактным…
Они сдвинули краями нежно зазвеневшие бокалы.
— И последний вопрос. Ты действительно принадлежишь к старой русской аристократии?
— Твой род с какого века ведет отсчет? — вопросом на вопрос ответил Новиков.
— С тринадцатого. Первый сэр Спенсер участвовал в шестом Крестовом походе…
— Забавно. Мой род чуть постарше, очевидно, но, согласно документам, один из моих достоверных предков сражался на Калке, а это почти одновременно с твоим — тысяча двести двадцать третий, тысяча двести двадцать восьмой… Интересно… Ну так я пошел, дел слишком много. Сейчас появится Берестин, мы тебе подготовим все необходимое. Не прощаюсь.
Новиков легко коснулся губами тонкого запястья Сильвии и, не оборачиваясь, скрылся за дверью, ведущей в кормовой салон.
Аггрианка (а почему, кстати, аггрианка, если так легко ассоциирует себя с родом, послужившим базой ее личности?) осталась одна. Положила подбородок на сцепленные замком пальцы и замерла, глядя на синеватый холмистый берег. То ли размышляя о предстоящей работе, то ли грустя неизвестно о чем…
…Берестин шагнул в каюту прямо из будки штабного «урала», в котором объезжал участок фронта, намеченный для демонстративного отвлекающего удара. Требовалось показать красным, что обольщаться им не стоит и стратегическая инициатива полностью принадлежит Русской армии.
Генеральская форма, уже достаточно обношенная, сидела на нем столь естественно, что в войсках его принимали как своего. А то, что никто не помнил Берестина по дореволюционной службе, как бы и не замечалось. Мало ли в армии генералов, выслужившихся за три года из капитанов и подполковников. А Россия велика, и офицеров в ней достаточно, в том числе и пришедших из запаса и отставки.
Поздоровались, сели в кресла по обе стороны низкого журнального столика, закурили располагающие к неспешной беседе сигары. Вначале поговорили о войне, так, как воспитанные люди говорят о погоде. Новиков в шутливой форме рассказал о своих делах с чекистами. Алексей, в свою очередь, сообщил забавные эпизоды из жизни ставки Верховного.
— Ну и? — первым не выдержал Берестин.
— Чего тут «ну»? Отвлеклись слегка, и слава богу. Помощь мне твоя нужна. И твой хваленый компьютер. Сможешь подготовить материал на пару десятков самых опасных для нас и наиболее способных деятелей красных? Чтобы в результате обрисовалась картина широкого антисоветского заговора, вроде как дело Тухачевского в тридцать седьмом?
— Без проблем. Только мне надо знать, кому материал будет адресован, чтобы сработать все абсолютно убедительно. И что требуется — голый оговор или конкретные доказательства? — Новиков увидел, что Алексей с ходу понял его замысел, хотя и не мог знать, насколько далеко простирается интрига. Он, скорее всего, вообразил, что Новиков решил просто выбить из игры верхушку военного руководства для облегчения последнего этапа войны.
Пришлось объяснять.
— О, это и вправду здорово! Изящный поворот, скорее в восточном, чем в европейском стиле.
— Еще бы! Византийцы мы, чать. Равно как и скифы, если верить Блоку. Посему давай документы готовить на полном серьезе. С перехваченными письмами, доносами особистов, телеграфными переговорами, какими-то выкраденными из штаба Врангеля документами. Чтобы в случае чего и для трибунала хватило. Только мы и без трибунала обойдемся…
— Пошли. Сразу и займемся. Правда, помощь Олега потребуется, сам я так компьютер не запрограммирую, он же у меня на решение чисто военных задач настроен.
Часа через три, которые Левашов провел за клавиатурой, а Новиков с Берестиным за пивом с таранью, принтер начал выдавать требуемые бумаги. Причем совершенство форзейлианского аппарата было таково, что документы он создавал безукоризненные. Рукописные на листках школьных тетрадей, отпечатанные слепым шрифтом на оберточной бумаге, оттиснутые аппаратом Бодо на телеграфных лентах…
Доносы агентов и «доброжелателей», собственноручные показания якобы арестованных изменников и пленных сотрудников белой контрразведки. Короче говоря, собранных в клеенчатую папку материалов хватило бы, чтобы подвести под расстрел всех красных командармов и начальников Губчека, половину членов Политбюро и дюжину наркомов. Такую бы машинку в свое время товарищу Ежову, и незачем было бы держать в НКВД десятки тысяч костоломов.
— Что-то мне сдается, наша затея начинает погано пахнуть, — сказал вдруг Берестин, пролистав пачку бумаг. Новиков воззрился на него с изумлением.
— Ты же только что восхищался моей идеей. И передумал? Убивать солдат на фронте, по-твоему, лучше, чем устранить чужими руками их командиров?
— А… На словах ты прав, конечно, а вот все равно с души воротит. Солдат и стукач — все ж таки две большие разницы. И когда я весь материал целиком увидел, жутковато стало.
— Брось, Леша, — неожиданно вмешался Левашов. Неожиданно для Берестина, который не знал всего того, о чем успел договориться с Олегом Новиков. И позиция еще вчера просоветски настроенного товарища поразила Алексея. — Ничего тут такого нет, о чем ты страдаешь. Не стукачество это, а стратегическая дезинформация. Сечешь разницу? — Левашов выключил компьютер и развернулся на винтовом кресле. — Тем более что эта деза — только первый этап. Дальше еще интереснее будет…
— Ну-ка, ну-ка. Что вы там еще придумали, поделитесь, Талейраны…
Выслушав, Берестин отодвинул от компьютера Левашова, начал набирать команды теперь уже по своей, военно-стратегической программе, вводя новые параметры в отработанный план кампании.
— Как раз сейчас уместно будет произвести отвлекающую операцию на тамбовском направлении. Силами одной-двух дивизий нанести внезапный удар с имитацией далеко идущих целей. Если красные примут его всерьез, им придется перегруппировывать войска и разворачивать их фронтом в обратную сторону. Тогда Антонов получит свободу действий в уже занятых им районах. В любом случае на пару недель красные тылы будут дезорганизованы…
— Вот и действуй. Только сначала подготовь к переброске в Москву всех оставшихся «басмановцев» и десяток БТРов с боеприпасами. А ты, Олег, сделай на всех по комплекту красноармейской формы, самого нового образца, с красными и синими «разговорами» (на тогдашем жаргоне — поперечные клапаны на гимнастерках и шинелях).
— А оружие?
— Да черт с ним, давай те же самые «СВТ». На фронте они уже знакомы и здесь к месту будут.
— Нет, в кремлевских коридорах и закоулках не пойдет, длинная, неудобная. Почти полтора метра… А иногда секунда все решает. Пока поднимешь, пока прицелишься…
— Согласен. Тогда пусть будет «СКС». И патронов выдать штук по двести на ствол, уже в обоймах…
…По большому кругу, через Воробьевы горы, Новиков выехал к монастырю. В пути он подробно проинструктировал Агранова и вручил ему коричневую папку.
— Запомни, Яков Саулович, я вполне уважаю твои классовые и национальные чувства, но упаси тебя бог снова начать двойную игру. Если сделаешь, как приказано, и себе обеспечишь достойную жизнь, и миллионы людей спасешь от того, что хуже обыкновенной смерти. Мне о грядущих перспективах даже рассказывать не хочется. Ты, конечно, большая сволочь, только не обижайся, это просто диагноз, а не личное оскорбление. Ни в чем не повинных людей вы перебили бессчетно, но все это цветочки. Знал бы ты, какие газовые камеры, крематории и душегубки вас ждут, сегодня же от тоски на собственном ремешке повесился бы…
Удивительно, но Агранов поверил ему сразу. Тон, которым Новиков говорил, и выражение его лица подсказывали, что все это непонятная пока, но правда. И холодок пробежал у чекиста между лопатками.
— Можешь у Константин Василича спросить, если ему больше, чем мне, доверяешь. Я устрою вам встречу. Через год-другой твои начальнички передерутся, как пауки в банке. Не знаю, сам не видел, как натуральные пауки себя в такой ситуации ведут, но с вашими так и будет. Ленин, Троцкий, Зиновьев, Каменев, Сталин и прочая и прочая… начнут мочить друг друга в лучших традициях древней Византии. Вашими, между прочим, чекистскими руками. Что потом бывает с преторианцами, знаешь? Но и это все семечки. В ответ на ваши здешние подвиги в мире такое начнется… Нет, кто не видел, не поверит…
Новиков передернул плечами, одной рукой придерживая руль, сунул в рот папиросу. Агранов поднес огоньку.
— Я все-таки тебя за сравнительно нормального человека считаю, почему и разговариваю. Можешь себе вообразить устроенные с учетом всех достижений науки фабрики уничтожения, где ежедневно перегоняют через трубу на небо десяток тысяч человек, причем в основном — евреев? За пять лет — шесть миллионов. И виноваты в этом будете вы. Ты лично и твои коллеги… В том, что впервые в мире массовый террор развязали и другим показали, что такие вещи в двадцатом веке вполне возможны, а еще в том, что все остальное человечество до смерти перепугали, настолько, что оно на любые зверства само стало способно, лишь бы у себя победы коммунистов не допустить.
— Как это можно — шесть миллионов? Через трубу… Какую трубу? — Услышанное от Новикова действительно было за пределами даже его чекистского воображения.
— Крематория. Технически очень просто. Сначала людей свозят поездами в заранее подготовленное место, потом ведут якобы в баню. Вместо воды через душевые рожки пускают газ. Называется «Циклон-Б». За один раз травят двести-триста человек. Трупы отвозят в крематорий — и в трубу. Газовую камеру моют, проветривают — и новый заход. Мужчин, женщин, детей — всех вместе. И так круглые сутки, исключая воскресенье. В воскресенье кандитаты на ликвидацию отдыхают, лучшие музыканты Европы играют на скрипках и прочих инструментах, детишки между клумбами прогуливаются, а цветы на клумбах красивые, человеческим пеплом удобренные… Это вы людей грубо кончаете, неэстетично, по-хамски, прямо скажем, а в Европах люди с пониманием, там и убивают с использованием всех современных достижений прогресса…
Новиков повернул голову, и Агранов увидел на его губах страшную, кривоватую улыбку. Такая иногда возникает на лице человека, вынужденного говорить непереносимые для психики вещи.
— Да ты не расстраивайся, Яша, сам ты этого не увидишь. Тебя свои шлепнут, вполне тривиальным способом, из нагана в затылок. Помучиться, конечно, перед тем придется, но в пределах нормы. Шлангом там резиновым побьют, пальцы дверью раздавят… Могу и дату назвать, только незачем, нервы и у тебя не железные. А будешь правильно себя вести — обойдется. Помрешь в почете, в собственной постели и в преклонном возрасте…
И снова Агранов ему поверил. Был бы он верующим, хоть в Христа, хоть в Яхве, подумал бы, что рядом с ним сидит, небрежно управляя автомобилем, попыхивая папироской, тот, кого называют дьяволом. Но в потусторонние силы он не верил, и это было еще хуже.
— Язык отнялся? — сочувственно спросил Новиков. — Понимаю. Вы, ребятки, только в начале пути, а к таким вещам постепенно привыкают. Ладно, не мандражь. Я для того и приехал, чтобы этого не произошло. Слушай меня внимательно. Сегодня вечером организуешь мне встречу с Трилиссером. Обсудим, как с вашими заграничными партнерами быть. А вот это, что в папочке, внимательно прочитай и сообрази, как товарищу Дзержинскому поднести. Мне надо, чтобы он в негодование пришел и немедленно Владимиру Ильичу докладывать кинулся. Доложил, напугал его до полусмерти, а на обратном пути из Кремля попал в засаду…
— Чью засаду?
— Естественно, контрреволюционеров-заговорщиков. Долго ты в обстановку врубаешься, а еще контрразведчик. Заговорщики, узнав, что их планы раскрыты, убивают товарища Железного Феликса. В ответ придется ввести в Москве осадное положение. На место Дзержинского надо поставить Менжинского, пусть это будет общая инициатива членов коллегии. Тебя, Трилиссера, кто там еще в вашей компании, назначить заместителями. С Мессингом как, договоритесь по-хорошему или его тоже ликвидировать?
Начальника Московской ЧК Агранов знал давно и считал умным человеком, но вот удастся ли его привлечь на свою сторону, уверен не был. Выглядел тот правоверным большевиком, чуждым личных интересов и непримиримым к врагам революции. А там — кто его знает…
— Я попробую с ним поговорить. Но ведь не обязательно говорить ему все и сразу? Можно сначала убедить его в подлинности заговора, а уже потом…
— Молодец, правильно мыслишь. Но если начнешь говорить и не сагитируешь… Да, кстати, вот мы и приехали. Я тебя познакомлю сейчас с одним хорошим человеком. Он у вас будет командиром отряда быстрого реагирования. Должны же быть в распоряжении заместителя председателя ВЧК лично ему верные части… Как только враги трудового народа Дзержинского злодейски убьют, ты с нашими стойкими товарищами-интернационалистами под охрану возьмешь и здание на Лубянке, и подходы к Кремлю. Да вы сейчас с товарищем Басмановым все и обсудите, как коллеги-специалисты…
Новиков посигналил, и перед автомобилем начали раскрываться глухие ворота Новодевичьего монастыря.
Глава 36
Все получилось точно так, как и планировалось. Агранов ознакомил с новиковской разработкой не только Трилиссера, но и начальника контрразведывательного отдела Артузова, и начальника фронтовых особых отделов Петерса, во многом разделявших взгляды заговорщиков на дальнейшие судьбы России и ВЧК. Информация должна исходить из разных источников, в пределах компетенции каждого.
Латыш Петерс, обстоятельный и неторопливый, долго листал документы, особо тщательно вчитывался в те, что были составлены от лица его службы.
— До чего же хитрый человек делал, — сказал он с едва заметным акцентом. — Везде, где требуется, оговорки сделаны, что данные «источника» нуждаются в дополнительных проверках, а кое-где вообще обозначено, что подозревается провокация против надежных товарищей. А в другом месте и совсем из других источников все эти «сомнительные места» находят полное подтверждение. От-чень умно все сделано. Кто же это так постарался, неужели ты, товарищ Агранов? Хотя ты-то как раз и можешь, клиентура у тебя образованная, что закажешь, то и напишут, не так, а? — Он запрокинул голову с длинными, вьющимися черными волосами, придававшими ему сходство с поэтом-декадентом, и не слишком весело рассмеялся. — Может быть, следующий раз они и на меня такое напишут?
— Как себя вести будешь, Яков Христофорович, — без улыбки ответил ему Артузов. — Известно, что заговоры часто проваливались как раз потому, что их руководители слишком мало доверяли друг другу. Всем советую об этом помнить. Не передраться бы нам раньше времени…
— Поэтому я и предлагаю — никому из нас к представительным постам не стремиться. Гораздо лучше управлять событиями, оставаясь в тени, — сказал Агранов. — Случится, не дай бог, конечно, что-нибудь с Феликсом Эдмундовичем, которого все мы глубоко уважаем, давайте все дружно ставить на его пост Вячеслава. Он человек очень способный и… управляемый. Главное для всех нас — полная победа мировой революции. И каждый, кто этому мешает, должен уничтожаться беспощадно, невзирая на прошлые заслуги. Все согласны?
— Разумеется, — кивнул Петерс. — Контрреволюция развивается везде, во всех сферах нашей жизни, она проявляется в самых различных формах, поэтому очевидно, что нет такой области, куда не должна вмешиваться ЧК. А что в каждый данный момент является контрреволюцией, будем определять мы. А вот когда с ней будет покончено окончательно, тогда и подумаем, каковы заслуги каждого и чем они должны быть вознаграждены. По справедливости.
— Говоришь, как по писаному, тезка, — похвалил его Агранов. — Так и нужно будет объяснить в газетах, когда мы устраним всех действительных и потенциальных мятежников. Без последней фразы, конечно…
— Сообщить же Дзержинскому о наличии антисоветского заговора поручим Ягоде. Ему Феликс поверит…
— Только надо добавить, что выступление намечается на день открытия съезда. Тогда им некогда будет перепроверять разведданные. И будем настаивать, чтобы аресты начать немедленно, — сказал Трилиссер.
— Можно даже начать их, не ожидая санкции. За исключением самых важных лиц. И кроме того, я бы хотел добавить в списки еще десяток фамилий. Они там почему-то пропущены, — поддержал его Артузов.
— Такую инициативу мы приветствуем, — снова засмеялся Петерс.
— У кого-нибудь еще есть подобные пожелания?
Расставались, распределив обязанности, в приподнятом настроении. Лишь на прощание Агранов, как бы между прочим, спросил у Петерса, есть ли в его распоряжении абсолютно надежные воинские подразделения, на случай непредвиденных обстоятельств.
— Есть в Алешинских казармах три конвойные роты, которые будут выполнять любые мои приказы. Муралову они не подчинены.
Муралов, командующий Московским военным округом, был фанатичным сторонником Троцкого, и сказать с уверенностью, какова будет в предполагаемых событиях его позиция, было трудно.
— Не беспокойтесь, с Троцким побеседуют другие люди. Твои конвойцы потребуются для другого. У меня тоже есть абсолютно верная рота, подготовленная к боям в городе, — если вдруг контрреволюция выступит раньше времени.
— А у тебя-то откуда, Яков? — удивился Петерс. — Из стукачей и шпиков сформировал?
— Завербовал среди военспецов. Чем я хуже Льва Давидовича? — отшутился Агранов.
Часом спустя взволнованный, даже забывший побриться Ягода перехватил Дзержинского у дверей его кабинета.
— Совершенно неотложное дело, Феликс Эдмундович. Второй час вас караулю. Разрешите войти и доложить.
— Нет у меня времени, Генрих Григорьевич. Скоро совещание в Кремле, а мне еще доклад писать надо. Завтра коллегия, там и доложите. Или к Менжинскому идите.
— Никак невозможно, Феликс Эдмундович. Если вы не выслушаете меня, вынужден буду через вашу голову обратиться к Владимиру Ильичу. Или к Троцкому.
Упоминание о Троцком было точно рассчитанным ходом. Дзержинский дернул головой, зло сжал губы.
— Хорошо, заходите. Даю вам пять минут.
Ягода в отведенное время уложился.
— Вы понимаете, о чем говорите? — медленно спросил Председатель ВЧК, как всегда при сильном раздражении резко побледнев. От волнения польский акцент стал особенно заметен.
— В такой сложный, почти критический момент вы заявляете, что половина руководителей партии и армии — предатели и заговорщики. При сохраняющейся опасности наступления белых и накануне открытия съезда…
— Вот именно, Феликс Эдмундович, вот именно. — Ягода изогнулся над столом подобострастно, и лицо его выражало неприкрытое волнение, растерянность, но и упорство стоять на своем до конца. — В том-то и дело. Мы раскрыли и обезвредили за годы революции множество заговоров. Но там были настоящие классовые враги, а сейчас заговор составили бывшие наши товарищи, имеющие бесспорные заслуги. Их толкнул на это страх перед победой Врангеля, неверие в способность вождей революции уберечь Советскую власть. И личные амбиции тоже. За ними могут пойти многие. Такой мятеж будет пострашнее левоэсеровского. Я вас умоляю, Феликс Эдмундович, немедленно доложить Ленину и принять решение. ВЧК готова действовать, нужна лишь команда.
— А почему я узнаю так поздно, буквально в последний момент?
— Мы работали, Феликс Эдмундович, без сна и отдыха. Очень боялись ошибиться, все перепроверяли. Каждый начальник отдела головой ручается за достоверность своей информации…
Ягоде даже не нужно было актерствовать. Страх перед Дзержинским, страх провала был вполне искренним, но внешне он не отличался от паники не слишком умного, старательного сотрудника, перепуганного свалившейся на него ответственностью за судьбы революции.
— Если прикажете, я их всех сейчас вызову к вам…
— Некогда. Раз вы ручаетесь… Сейчас же еду. А вы поставьте в известность Менжинского и поднимайте людей. Возможно, начнем немедленно. И еще — звоните, нет, езжайте в штаб округа, от моего имени прикажите Муралову выделить в ваше распоряжение тысячу наиболее надежных красноармейцев… — За два минувших года Дзержинский не забыл пережитого 6 июля восемнадцатого года, когда бойцы спецотряда ВЧК арестовали его, своего Председателя, и почти сутки продержали заложником. Могли бы и расстрелять…
— Введите их во двор здания, пусть будут в резерве. Да, Петерс на месте?
— Так точно.
— Передайте, пусть действиями армейских частей руководит он. Ждите, я скоро вернусь…
Почти бегом Дзержинский спустился к автомобилю.
Ленин возбужденно метался по кабинету. Дзержинский и Троцкий сидели напротив друг друга по обе стороны приставного столика. Феликс отслеживал взглядом перемещения Председателя Совнаркома, а Троцкий едва заметно улыбался в усы. Ничего лучшего, чем внезапное появление Дзержинского с целой папкой убийственных (в буквальном смысле) материалов, он и желать не мог. Он столько размышлял, как бы поаккуратнее провести на съезде свой замысел, а тут такой подарок. Гордиев узел разрубается, причем чужими руками. Феликсу он поверил. Во-первых, слишком прямолинеен, чтобы самостоятельно задумать и осуществить столь тонкую и сложную интригу, а во-вторых, в списке Дзержинского больше половины обвиняемых — как раз те фигуры, от которых сам Лев Давидович мечтал избавиться. Не подвела, значит, безошибочная интуиция.
Ленин тоже поверил. Для того он и поставил Дзержинского на его пост, чтобы тот беспощадно искоренял контрреволюцию. И Феликс его ни разу не подвел, если не считать недолгие колебания по поводу Брестского мира. Зато с левыми эсерами, ярославскими и рыбинскими мятежниками он разделался быстро и решительно. И если сейчас созрел новый нарыв — вскрыть его со всей возможной радикальностью. Он всегда чувствовал, что без внутренней измены Врангель никогда не добился бы нынешних успехов. Временных, безусловно временных. Вот сейчас отсечем пораженные гангреной оппортунизма и измены ткани и с удесятеренными силами обрушимся на золотопогонников!
— Действуйте, Феликс Эдмундович. Со всей быстротой и беспощадностью. И лучше пересолить, чем недосолить. На то и диктатура, то есть никакими законами не стесненная, непосредственно на насилие опирающаяся власть. Кого успеете — изолируйте немедленно. Остальных будете изымать прямо на съезде. Это будет иметь огромное воспитательное значение. Делегаты увидят, как наша власть, наша партия умеют очищаться от скверны, невзирая на лица. Да, Лев Давидович, обсудите с Феликсом Эдмундовичем, как поступить с военспецами. Они ведь тоже есть в его списках? Чтобы аресты не отразились на боеспособности войск.
— В списках нет моих военспецов, — с видимым удовольствием отчеканил Троцкий. — Всю необходимую работу мы провели заблаговременно, в рабочем, так сказать, порядке. И те, кто служит сейчас, абсолютно надежны… — Лицо Предреввоенсовета и Наркомвоенмора сияло самодовольством.
— Да? А я, признаться, подумал… Ну, тем лучше, тем лучше. Но я, заметьте, тоже прав. Разве я не говорил, что в партии надежен лишь тончайший слой старых большевиков? Нет, на съезде обязательно надо принять решение о проведении беспощаднейшей чистки всех партячеек, снизу доверху. Я набросаю тезисы…
Автомобиль Дзержинского ехал по Никольской улице, покрякивая медным клаксоном на лениво расступающихся перед радиатором прохожих.
Сжимая худыми пальцами заветную папку, в которой прибавилась всего одна бумажка — листок с грифом «Председатель Совета Народных Комиссаров» и крупной карандашной надписью: «Тов. Дзержинский! Быстрейшая и полная ликвидация всех мерзавцев-заговорщиков — дело абсолютной важности. Примите все необходимые меры. Осведомляйте меня часто и точно о ходе дела. Ленин».
Говорят, что Дзержинский был очень добрым человеком. Страдал от необходимости производить репрессии, не раз будто бы повторял, что даже кратковременное заключение человека под стражу является невыносимым злом, которое следует применять только в самом крайнем случае, болел душой о несчастных детях-беспризорниках, и вообще, как написано в его дневниках: «Я хотел бы обнять все человечество, поделиться с ним моей любовью, согреть его, отмыть от скверны современной жизни». И что за беда, если «скверна жизни» зачастую смывается только вместе с кожей и нижележащими тканями, а «отмытый» таким образом человек почему-то вдруг умирает в страшных мучениях (кто сомневается, может сходить на экскурсию в ожоговый центр), если любящий человечество бывший польский шляхтич создал самую мощную и самую страшную тайную полицию в мире, которая даже при его жизни уничтожила больше ни в чем не повинных людей, чем все инквизиции до него и гестапо после него, вместе взятые… В душе он их всех любил.
Может быть даже, он был совершенно искренен, за полчаса до своей странной смерти на пленуме ЦК ВКП(б) в 1926 году, заявляя об опасности сталинской диктатуры. Может быть…
Но сейчас, на коротком пути из Кремля на Лубянку, Феликс Эдмундович не отвлекался на прекраснодушные мысли, он прикидывал, с кого начать, в каких камерах размещать арестованных и каких следователей бросить на самый важный сегодня участок работы. А незадолго до этого он еще и выторговал у ЦК для своей любимой ЧК право выносить внесудебные приговоры и на месте приводить их в исполнение.
Поскольку хорошо знал на личном опыте, что от идиотской практики, когда следствие ведут одни, а приговоры выносят совсем другие, ничего в текущей политике и задачах момента не смыслящие, проку мало. Он бы сам в свое время, доведись ему служить в жандармерии, любого из нынешних своих соратников, и Владимира Ильича тоже, законопатил бы в бессрочную каторгу, чтоб неповадно было вести антимонархическую пропаганду. А то отвешивали им по паре лет ссылки в приятные для жизни места и получили в благодарность ипатьевский подвал и многие тысячи безымянных рвов. Потому и проиграли, что о «законности» и «справедливости» думали, а настоящий марксист-ленинец должен понимать, что «мы не ищем форм революционной справедливости. Нам не нужна сейчас справедливость. Я возглавляю орган для революционного сведения счетов с контрреволюцией».
Ничего этого не знал в недавнем прошлом корнет, а со вчерашнего дня штаб-ротмистр Ястребов. Он был корнетом гвардии, генерал Врангель произвел его в следующий чин поручика, но поскольку гвардейских частей в Русской армии пока не существовало, то по петровскому еще указу он автоматически стал армейским штаб-ротмистром.
Его не интересовали тонкие душевные движения главного советского инквизитора. Он о них даже и не подозревал по молодости лет и политической малограмотности. Ястребов знал только, что все невинные жертвы и бессудные казни в его любимой России связаны с именем этого худого человека с мушкетерской бородкой, восседающего на заднем сиденье открытого автомобиля. И что пуля от патрона образца одна тысяча девятьсот восьмого года навылет пробивает железнодорожный рельс.
Штаб-ротмистр пристроился на корточках за парапетом китайгородской башни, запирающей выход с Никольской улицы на Лубянскую площадь.
Рядом лежала винтовка «СВД» с четырехкратным оптическим прицелом и магазином на десять патронов с утяжеленными, специально сбалансированными пулями.
Ястребов принял позу для стрельбы с колена, вжал приклад в плечо и сдвинул вверх флажок предохранителя. На дистанции в двести метров лицо объекта заполнило почти все поле зрения прицела. Штаб-ротмистр мог бы попасть в цель и из кремневого ружья, условия простейшие, даже упреждения брать не надо. Ястребов плавно выбрал свободный ход курка, задержал дыхание и легонько двинул пальцем.
Во лбу Дзержинского, чуть-чуть ниже козырька знаменитой фуражки появилось круглое отверстие. Он привстал на сиденье, сделал жест, будто пытался закрыть лицо руками, и резко опрокинулся назад. Сидевший с ним рядом порученец секунду смотрел на кровь, толчками выплескивающуюся из раны, потом отчаянно, срывая голос, закричал.
…Следующие два дня происходящее в Москве можно было бы назвать своеобразным хеппенингом. Специалисты, вроде Агранова и его друзей, занимались своим делом спокойно, скрупулезно и целеустремленно, Шульгин же устроил из него маленький праздник. На открытом «додже» с установленным в кузове пулеметом «ПК» на турели он носился по городу в сопровождении кортежа из двух «роллс-ройсов», нескольких легковых «рено», набитых веселыми, слегка выпившими и продолжавшими поддерживать указанное состояние умеренным отхлебыванием из фляжек рейнджерами, а также наскоро приспособленных под «черные вороны» автобусов, производил аресты согласно проскрипционным спискам и, не стесняясь, сообщал всем случайным свидетелям акций, что настало время Советов без коммунистов.
Чем-то все происходящее напоминало картинки латиноамериканских «пронунсиаменто», то есть военных переворотов, в которых больше карнавала, чем политического ожесточения. И еще раз Сашка убедился, подтвердив свой опыт тридцать седьмого года, что коммунистические функционеры, насмерть отравленные идеей «демократического централизма», поднимали руки и шли в тюрьму, не делая ни малейших попыток к сопротивлению или бегству. Партии виднее…
Анна неизменно сопровождала его на правом сиденье «доджа», являя собой воплощенную фурию контрреволюции, своеобразный антипод пресловутой женщины-комиссара из «Оптимистической трагедии». Правда, пистолета ей Шульгин не давал, несмотря на просьбы.
И откровенно торжествовал полковник Басманов, возведенный в ранг командира спецотряда ВЧК.
— Изумительно, Александр Иванович. Никогда не думал, что доживу до такого. Мотаемся по Москве, арестовываем коммунистов, делаем, что хотим, и все без стрельбы, без потерь… Гениально. Видели бы это друзья, умиравшие в Кубанских степях зимой восемнадцатого! Никогда бы не поверил, что такое возможно…
— Все нормально, Михаил Федорович. Как раз так все и делается. Переворот семнадцатого года в Питере никто и не заметил. Власть большевики взяли тихо. А вот когда толпы на улицы выходят, демонстрации всякие устраивают, флагами машут, стреляют без толку — дело проиграно — как в Будапеште в пятьдесят… Тьфу, в смысле — в девятнадцатом году. Сейчас только вы да я знаем, что на самом деле происходит. Оно и к лучшему. В нужное время сообщим кое-что в газетах, и ладно… Народу слухами даже интереснее обходиться.
Однако Новиков все равно вынужден был сделать Сашке внушение.
— Ты, брат, слишком увлекся. К чему вся эта показуха? Не дразни гусей. А то какой-нибудь дурак невзначай опомнится раньше времени. Когда заканчивать думаешь?
— Да мы и закончили уже. По спискам все намеченные изолированы. И на самом деле почти никто ничего не заметил. Мало ли в Москве облав было? То бандитов ловили, то заговорщиков, то просто заложников брали. Все путем… Тут утром сценка была, лично наблюдал. Вроде забавная, а то и плакать хочется. Послушай для разрядки. …Во внутреннюю тюрьму на Лубянке привезли очередную партию арестованных. Послали за комендантом, в ожидании его Шульгин с Басмановым, случайно оказавшиеся в одно время в одном месте, закурили, присев на подножке автобуса.
Комендант появился и с ходу начал протестовать, заявляя, что у него все камеры переполнены и новых арестантов принимать некуда. Везите, мол, в Бутырки. Заранее надо было предупреждать, тогда он расчистил бы площади.
— Иди-ка сюда, дорогой товарищ, — ласково улыбаясь, сказал Басманов. — А что там у тебя за клиентура сейчас сидит?
— Нормальная клиентура. Какую привозили, такая и сидит…
— Ну, неси нам списки. Тех, что до вчерашнего дня посадили…
— А кто ты такой, чтобы мне приказывать? Я, может, только товарищу Менжинскому подчиняюсь… — коротконогий рыжий комендант только что на носочки не привстал, чтобы выглядеть достойно против высокого, пока еще сдерживающего злость, но уже начавшего раздраженно втягивать воздух сквозь сжатые зубы Басманова.
— Эт-то я тебе сейчас обозначу, кто я есть… — Рука в лайковой перчатке сжалась в кулак.
— Спокойнее, Михаил Федорович, — предостерег его Шульгин. — Товарища пока не поставили в известность. Тебя, товарищ комендант, эта бумага устроит или вправду за Менжинским послать? — Он протянул ему соответствующий мандат, подписанный Аграновым.
— Уяснил, товарищ? Врубайся дальше. Операция настолько ответственная, что придется всех твоих предыдущих клиентов выпустить. До следующего раза. Кроме уголовников. Уголовники есть?
— Откуда? — обиделся комендант. — Только контра… И заложники, само собой.
— Вот, значит, контру пока выпускай. Потребуется — еще раз наловим. — Басманов явно упивался своей новой ролью.
Комендант пребывал в тяжком раздумье.
— А оформлять как будем? — наконец спросил он.
— Я же тебе человеческим языком сказал — неси списки или что там у тебя есть. Напишу распоряжение, поставлю дату — и адью. Что тебе еще надо, мать твою через семь гробов с присвистом в центр мирового равновесия…
— Интересно выражаешься, товарищ, — с уважением сказал комендант. — Боцманом на флоте служил?
— Ага. На самоходном пароме товарища Харона.
— Как же, слышал…
Из открытых дверей тюрьмы плотно повалил арестантский люд. По стандартному советскому обычаю не проинформированный ни о чем, кроме двусмысленного «выходи с вещами».
Квадрат двора-колодца, низкое небо с быстро летящими серыми тучами, автобусы у ворот, цепь вооруженных людей — о чем может подумать проведший в лубянских застенках несколько месяцев нормальный человек?
Из плотной массы арестантов выбился, расталкивая их плечами, худой, обросший седеющей бородой мужчина в потрепанной офицерской шинели.
— Басманов, сволочь, ты тоже с ними?! Стрелять нас будешь? Ну, стреляй, иуда…
Шульгин на секунду растерялся, а Басманов — нет. Схватил человека за борт шинели, рывком подтянул к себе.
— Заткнись, дурак. Стой здесь, смотри!
Офицеры басмановского отряда, оттеснив охранников ВЧК, распахнули ворота. Ошеломленная, не верящая в свое счастье толпа хлынула на волю.
— Капитан барон фон Лемке-второй, — шепотом представил Басманов Шульгину узника, похожего на Эдмона Дантеса. — Вместе служили в гвардии. Ты как, Генрих, сюда-то попал?
— Как все, — отмахнулся барон. — Объясни лучше, что здесь происходит, да ты сам-то сейчас кто?
— Кто был, тот и есть. Будешь с нами порядок наводить? Или отдых требуется?
Шульгину не то, чтобы интересно было смотреть на происходящее, сказать так было бы кощунством, он испытывал сочувствие и даже некоторую зависть к людям, которые переживали момент исполнения самых сокровенных и невероятных желаний. Хотел бы он на минутку оказаться в положении этого барона…
Комендант тюрьмы чувствовал нутром, что происходит нечто неправильное. И лица одетых в новую красноармейскую форму людей, оккупировавших святую святых Лубянки, внушали ему классовую неприязнь. Уж слишком они были непереносимо породистыми. В подвалах их место, а не на воле с оружием. Настоящий красноармеец должен быть в меру бестолковым, исполнять команды с длительной выдержкой, хлопая глазами и мучительно пытаясь понять, что следует делать, а эти — как на пружинах. И уже почти собрался комендант бежать к телефону, как особенно неприятный ему человек, прикинувшийся революционным боцманом, сам поманил его пальцем.
— Ты, товарищ, не знаю, как тебя, рассади тех, что в автобусах, по камерам, а потом поднимись к Ягоде. Спросишь, что с кем делать. Мы еще сейчас привезем, так разберитесь, кого сразу в распыл, а кого и подержать. И распишись, что принял. Сто двадцать голов… Пусть Генрих Григорьевич, против кого нужно, кресты поставит. А уж за нами не заржавеет…
Отошли к воротам. У барона тряслись руки.
— Миша, так что это? Вы что, Москву взяли? Почему тогда стрельбы даже не было и в тюрьме все тихо? Они же нас расстрелять должны были при вашем приближении. Или как?
— Успокойся, Гена. Водки хочешь? Я тебе потом все объясню. Контрреволюция, которой так долго боялись большевики, совершилась. Ты уже и историю забыл? Все настоящие крепости берутся именно изнутри. И высший шик — чтобы защитники этого даже не поняли. А ты давно здесь сидишь?
— Полгода, не меньше. Два раза на расстрел выводили, да почему-то передумывали… Дай мне хоть наган, Миша, я их видеть не могу…
— Что, господин полковник, — повернулся Басманов к Шульгину, — может, назначим барона комендантом тюрьмы? Вот уж потешится. Пойдешь, Гена?
— Ты что, ты что, Михаил? — Фон Лемке словно испугался предложения. Взял протянутую ему флягу, дважды глотнул. — И покурить, покурить дай, а?
Задохнулся крепкой папиросой.
— Я, наверное, там одурел. Ничего не понимаю. Мысли путаются. — Ноги у офицера подкосились, Басманов его поддержал, посадил на цементное ограждение подвального окна.
— Видите, Александр Иванович, что с людьми сделали…
Барон, отдышавшись, встал.
— Мне бы поспать пару часиков, Миша, и можешь на меня рассчитывать. Хоть ротным возьми, хоть рядовым. Господи, дожил все-таки…
…Шульгин закончил рассказ, и Новиков с удивлением увидел, что глаза у Сашки как бы даже увлажнились. Это у Шульгина-то, который всю жизнь демонстративно избегал любых проявлений слабости духа.
— Так это же всего один человек из ихних застенков, которого я лично вблизи увидел, а сколько их…
Операция закончилась. Ко всеобщему удовольствию (за исключением тех, кто оказался в числе «изъятых»). Как-то так интересно получилось, что компьютер Берестина отобрал жертвами данного переворота как раз тех, кто восемь лет спустя оказался главной опорой Сталина в его «Великом переломе», а потом все равно получил свое. Все эти молотовы, шверники, шкирятовы, ярославские, постышевы, косиоры, чубари и прочие эйхе. Зиновьев, Каменев, Троцкий, Рыков, Бухарин были не лучше, конечно, но в них просматривалась хоть какая-то человеческая индивидуальность.
Ленин после смерти Дзержинского впал в прострацию. Он, как известно, был довольно трусливым человеком, лишенным вдобавок способности адекватно реагировать на сложности реальной жизни. Не зря комфортно чувствовал себя только в эмиграции. А в июле семнадцатого сбежал в Разлив, где Зиновьев утешал его и успокаивал. В течение восемнадцатого года он тоже несколько раз порывался бросить все и рвануть в Финляндию или Германию. Когда бандит Кошельков остановил на улице его автомобиль, покорно отдал тому и удостоверение, и пистолет, и машину, истерически предупреждая шофера и охранника, чтобы не вздумали сопротивляться. А при первом же намеке на мозговой удар отъехал в Горки и, окруженный заграничными профессорами, просидел там до самой смерти, которой тоже панически боялся. Там он то просил у Сталина яду, то тоскливо выл на луну от страха перед неизбежным концом.
Зато Лев Давидович блаженствовал. Что бы о нем ни говорили, человек он был талантливый, созданный как раз для острых ситуаций. «Нужно — значит возможно», — любил повторять Лев Давидович. Неизвестно, насколько он доверял чекистам, но все их действия принимал как должное.
Обеспечив, правда, Кремль надежной, по его мнению, системой обороны.
Пригласив к себе Менжинского, долго слушал его путаные объяснения и понимал, что с таким начальником ВЧК каши не сваришь. Интеллигентен, знает семь языков, но и ничего больше… Никого из евреев, окопавшихся на Лубянке, Троцкий тем более не хотел видеть в этой роли. Лев Давидович был истинным интернационалистом, брал пример с Багратиона, считавшего себя не грузинским князем, а русским генералом. Его бы больше устроил обрусевший швейцарец Артузов или лишенный национальных предрассудков Петерс. Но это дело будущего — переставлять кадры в ВЧК и на местах. Пока же все шло так, как надо.
Новиков был с ним согласен. Все выходило более чем великолепно. Господин Ленин и его ближайшие «твердокаменные товарищи» (почему-то у них такое считалось комплиментом) сделали все для запуска процесса негативного отбора в РКП(б), ВЧК и республике в целом. Желаемого результата они добились. Теперь их, без всякого личного сопротивления и без протестов со стороны пока еще занимающих значительные посты соратников, начнут гноить в камерах, выбивать из них никому, по большому счету, не нужные показания, а потом на основании четко выраженной воли партии приводить в исполнение приговоры, соответствующие потребностям текущего момента.
— Что же ты делаешь, Андрей? — спросил его вдруг совершенно аполитичный, но чуткий ко всяким намекам на классовые и клановые интересы капитан «Валгаллы» Дмитрий Воронцов. — Кого ты наверх тянешь? Троцкий же, он негодяй и мерзавец хуже всех прочих. Расстрелы он придумал, особые отделы, борьбу с линией партии и космополитизм. Меня от одного его имени дрожь прошибает. Историю КПСС я наизусть знаю: «Троцкий опять навязал партии дискуссию», — глава восьмая, страница триста шестьдесят шестая. А ты собрался ему верховную власть в России отдать, помимо нашего любимого Ильича…
Воронцов был слишком умный человек, даже с точки зрения Новикова, и невозможно было сообразить с достоверностью, ерничает ли он или выражает свою мировоззренческую позицию. Имя Троцкого и у самого Андрея вызывало привычную идиосинкразию, но путем изучения архивов он постепенно понял, что проблема стоит несколько шире.
Это романтик революции Ленин и жесткий термидорианец Сталин склонны были сражаться до последнего солдата, но не поступиться принципами (каждый — своими), а с Львом Давидовичем можно было иметь дело, договориться на определенных условиях, минуя очередное кровопролитие.
Обстановка в Москве на вечер описываемого дня стороннему наблюдателю представилась бы парадоксальной.
Власть уже фактически перешла в другие, контрреволюционные руки, но внешне все оставалось так, как надо. В Кремле заседал ЦК, отшлифовывая последние резолюции съезда, по-прежнему призывали к немедленной победе над Врангелем «Окна РОСТА». Вооруженные патрули контролировали улицы, не подозревая, чем они занимаются на самом деле.
В бывшем «Метрополе» размещались по комнатам прибывающие с фронтов и из провинций делегаты съезда.
…Перед решающими событиями все снова собрались на «Валгалле».
Шульгин привел с собой Анну. Познакомившись с ней поближе, он решил, что уже можно раскрыть ей кое-какие тайны, для начала — возможность внепространственных переходов.
Пришлось, конечно, провести подготовительную работу, путем долгих и нарочито туманных разговоров о грандиозных достижениях современной науки, сотворившей не только радиосвязь, кинематограф и летательные аппараты тяжелее воздуха. И девушка в результате действительно почти не удивилась, из квартиры на Столешниковом перенесясь в один из салонов корабля, где Левашов развернул приемный терминал СПВ.
Гораздо сильнее ее потрясла невиданная ранее роскошь и гигантские размеры «Валгаллы». До этого она всего раз в жизни прокатилась с родителями на колесном пароходике по Волге до Нижнего Новгорода.
И еще — великолепные, царственно красивые дамы, с которыми ее познакомил Александр Иванович. Рядом с ними она показалась себе жалкой замарашкой, очередным воплощением Золушки. Впрочем, по просьбе Шульгина женщины приняли ее со всем возможным радушием. Им и самим было забавно повозиться с юной девушкой из нынешних времен. Особенное участие в Анне приняли Наташа с Ларисой, давно мечтавшие о подобной роли. Правда, они планировали помочь с устройством судьбы Берестину, а получилось наоборот. Алексей утешился с Сильвией, зато невеста-аборигенка объявилась у Шульгина.
Часа три, а то и больше дамы потратили на то, чтобы с применением самых эффективных и ароматных шампуней отмыть гостью в турецких банях, сделать ей маникюр, изготовить подходящую прическу, благо волосы у нее были густые и пышные. Разложили перед ней полсотни комплектов современного им белья и иных необходимых в женской жизни аксессуаров, объяснили, как всем этим пользоваться. В гардеробной подобрали элегантные и подходящие к ее типу внешности платья, туфли, украшения и в заключение нанесли на лицо легчайший дневной макияж.
Анна взглянула в огромное, занимающее всю стену зеркало и задохнулась от восторга. Пока любезные, веселые дамы, обмениваясь непонятными выражениями, хлопотали вокруг нее, она не могла представить, что именно они делают, теперь она увидела результат.
Тонкая девушка, с пышной гривой платиновых волос, огромными, оттененными краской и накладными ресницами глазами, лаково поблескивающими бледно-алыми губами, одетая в невесомое светло-сиреневое платье, отражалась в волшебном зеркале, и потребовалось усилие воображения, чтобы понять, что это она так выглядит теперь. Сказка Гауфа или из «Тысячи и одной ночи»!
Только вот открытые выше колен ноги ее ужасно смущали. Да и там, где их прикрывал короткий подол, они все равно бесстыдно просвечивали сквозь тонкую ткань. Почти то же самое, что появиться в обществе в одних панталонах. Здесь-то на нее смотрят только женщины, а показаться в таком виде перед мужчинами…
Но почти сразу же Анна успокоилась. Если Наталья Андреевна, явно дама из высшего света и лет на десять ее старше, отнюдь не стесняется своей еще более короткой юбки и блузки, вообще ничего не скрывающих, так о чем говорить? Значит, здесь принято одеваться именно так. Наподобие Древней Греции. Скромная девушка еще не догадывалась, насколько она близка к истине и какие увлекательные открытия ее ждут.
Шульгин, увидев результат трудов Наташи и Ларисы, только развел руками и закатил в немом восхищении глаза.
Анна его увлекла даже в «исходном облике», но того, что из нее получилось сейчас, он не мог представить своим внутренним взором. И уж теперь-то он точно ее не упустит. Хотя, насколько он понимает в женщинах, проблемы у него вряд ли возникнут. Шульгин только совершенно пока не представлял, каким образом сделать первый практический шаг. Вряд ли, с ее воспитанием, она правильно воспримет обычные для конца XX века приемы. Но, с другой стороны, как-то же ухитрялись соблазнять даже высоконравственных замужних дам и в этом и в прошлом веке? Вспомнить того же Пушкина с его бесчисленными пассиями… Ладно, бой покажет. И девчат попросить можно, чтобы и в этом направлении ее просветили, кино какое-нибудь показали, что ли…
С фронта прибыл Берестин, из Лондона Сильвия. Новиков, который единственный из всех владел в данный момент всей полнотой информации об осуществляемом стратегическом плане, вначале побеседовал с каждым из друзей по отдельности и лишь после ужина, прошедшего в непринужденной и праздничной обстановке, пригласил соратников в каминный зал, чтобы расставить необходимые точки над соответствующими буквами.
Стюарды подали фрукты, ликеры, кофе, курительные принадлежности. С удивлением Шульгин увидел, что и Анна взяла из портсигара Ирины тонкую сигарету. Он как-то упустил из виду, что еще перед мировой войной в кругах аристократок и просто интеллигентных дам курение стало считаться шикарным занятием. А уж в гражданскую курили чуть ли не поголовно, и не мексиканские пахитоски, а банальную махорку.
Начал свою речь Новиков с того, что принес извинения за слишком долгое и в принципе недопустимое политическое лицемерие. Проявленное им, Андреем Новиковым, отнюдь не из неуважения к друзьям и не оттого, что он преследовал какие-то свои личные цели. Извиняет его то, что он опасался дать могущественным врагам хоть один лишний шанс.
— Точно так, как было в начале нашего поединка с агграми, — он сделал извиняющийся полупоклон в сторону Сильвии. — Мы не знали их реальных возможностей и перестраховывались в меру своей фантазии. Сейчас была аналогичная ситуация. Но даже в этих обстоятельствах я никого из вас не обманывал. Просто старался говорить правду такими дозами и в таком преломлении, чтобы полноту картины по моим словам составить было бы невозможно…
— Да хватит тебе оправдываться, — перебил его Воронцов. — Не на партийном собрании. Говори по делу, если время пришло.
— Разгон нужен, без преамбул у меня плохо выходит. А если по делу, то вот что получается. Теорию Гиперсетей и так называемых «Держателей Мира» я сейчас излагать не буду. Сам ее пока плохо представляю. А вот следствия из нее более-менее понятны. Тут и профессор Удолин нас с Сашкой немного просветил, и Антон, с которым я то ли во сне, то ли наяву опять пообщался. Получается так, что мы, по неизвестным для нас причинам, оказались наиболее продвинутыми не только для прямого контакта с пресловутой Гиперсетью, но и для того, чтобы активно в ее деятельность вмешаться. Может быть, мы из себя какую-то мутацию представляем, а может, просто время пришло. Человечество как единый организм для такого созрело. Напряженность земного психополя, ноосферы тоже достигла критического уровня. А мы с вами оказались на гребне, как серфингисты на волне.
Еще я понял, что означенная Гиперсеть настроена так, что, если вероятность включения в Игру новых участников становится достаточно высокой, происходит своеобразный сброс потенциала. Реальность меняется таким образом, что вся психоэнергия людей переключается на внутренние проблемы. Или, по другому сказать, нам устраивают короткое замыкание… — Андрей не готовился к своей лекции и сейчас на ходу приводил эмпирические озарения и полуоформленные мысли в более-менее логически непротиворечивую форму.
— Древний Рим взять, крушение Киевской Руси, Возрождение, перешедшее в религиозные войны, Реформацию… Ну и наш родимый двадцатый век — эпоха войн и революций. Весь пар уходит в свисток. Люди сами себе устраивают такое кровопускание, столько душевных и физических сил тратят на разрушение и восстановление разрушенного, что на ближайшие века им становится не до галактических проблем…
— А что, очень убедительно, — поддержала его историк Лариса. — Тем более убедительно, что все названные тобой катаклизмы логическому и научному объяснению никак не поддавались. Даже исторический материализм здесь спасовал. Я вот первопричинами первой мировой занималась, так ведь точно — все дружно пишут об охватившем цивилизованный мир иррациональном безумии…
— Правильно, Лариса, благодарю. Все это больше похоже на массовые самоубийства китов и леммингов… Так вот, продолжаю. Если согласиться с Антоном, говорившим, что нас поддерживает благожелательная к нам сила, то есть тот из «игроков», кому существование Земли и землян выгодно, сила, которая надоумила или обязала Антона втянуть нас в войну с агграми, запереть в Замке, а потом спихнуть в двадцатый год, то остальное понятно.
— Мне непонятно, — резко сказала Сильвия. — Выходит, что мы с Ириной представляем исконно враждебную землянам силу? У нас по этому поводу особое мнение…
— Да какая разница, леди Спенсер? — развел Новиков руками. — Я уже как-то сравнивал и вас и нас с шахматными фигурами и одновременно игральными картами. Ну, когда мы в преферанс играем, и при очередном раскладе фишки по-другому ложатся, они что — врагами становятся? Сейчас дама с королем марьяж составляют, а через десять минут на разных руках друг друга ловят и бьют. Так что забудьте про идеологию. Я вот о чем — долго мне было непонятно, чего это вдруг загорелось нам гражданскую войну переигрывать? Занимались мы этим, вон с Олегом чуть насмерть не разругались, а все как-то внутри дискомфорт присутствовал, как-то с души воротило. То вдруг ваши коллеги с планеты Таорэра нас на вторую мировую отправили, то Антон намекнул, чтобы мы на этой войне душу отвели… Непонятно было, оттого и разлады между нами начались…
После этих слов спонтанно вспыхнула общая дискуссия, участники которой с облегчением освобождались от тайных сомнений и явных комплексов.
Андрей только сейчас в полной мере постиг, насколько близко от рокового рубежа находился их маленький социум. Еще немного — и началась бы цепная реакция конфликтов и распада.
— Однако я продолжу, с вашего позволения, — вновь взял он инициативу, когда страсти поутихли. — Не претендую на гениальность, скорее даже могу предположить, что и эта идея была нам внушена свыше. Чтобы не допустить очередного сброса. В нашей исходной Реальности он случился, мир вообще подошел к рубежу физического уничтожения, что входило в замысел одного из игроков. Тогда другой, который якобы за нас, сделал сильный ход. Вроде как Остап в Васюках. Замысел — резко и неожиданно изменить геополитическую и психологическую обстановку на Земле. Внезапное прекращение гражданской войны — не победа белых, как мы поначалу задумали, а именно прекращение. С ничейным, если угодно, результатом.
Вместо дальнейшей раскрутки противостояния, бесконечного повышения накала страстей, сначала в России — со всеми предполагаемыми коллективизациями, репрессиями против дворян, крестьян, интеллигенции, Большим Террором, потом в Германии с приходом Гитлера, с ее концлагерями и Холокостом, второй мировой, холодной войной, национально-освободительными движениями и тэдэ и тэпэ, — мы все это устраняем одномоментно. Психополе Земли меняется практически мгновенно. Я не знаю, в каких единицах можно измерить отрицательную энергию миллиардов людей, но уровень ее упадет в тысячи раз. Эффект будет такой, как если бы Солнце вдруг изменило свой спектральный класс. Для инопланетных наблюдателей оно как бы исчезнет. Их «телескопы» продолжают искать его в видимых лучах, а оно уже инфракрасное..
— И что из этого? — спросил Воронцов.
— Есть основания полагать, что мы тоже как бы «потеряемся» для наших «игроков». А в масштабах Галактики и при темпах их «жизнедеятельности» такое выпадение может продлиться века. За это время мы, в смысле человечество, вполне можем как следует овладеть «правилами игры «и посоревноваться с «большими дядьками» на равных…
Вот в чем, как я представляю, главный смысл нашей с вами работы.
Опять начались споры, посыпались реплики и провокационные вопросы. По сути никто не возражал, потому что гипотеза оставалась чисто умозрительной, а знание, полученное Новиковым во время трансов, ни проверке, ни критике не поддавалось. Но весь совокупный опыт собравшихся на очередную «тайную вечерю» друзей говорил, что случится может все, что угодно, и из всех перипетий их выручала как раз готовность к самым неожиданным решениям и поступкам. Вкупе с доведенным чуть ли не до уровня инстинкта единодушием в острых ситуациях.
Анна сидела в уголке, внимательно слушала, не понимая двух третей сказанного ее новыми знакомыми, но все равно ей было интересно и просто хорошо. Невозможно поверить, что одновременно существуют на свете захваченная большевиками, полувымершая Москва и этот зал, с великолепной мебелью, крахмальными скатертями, никогда не виданными фруктами в серебряных вазах, а главное — не похожие ни на кого из известных ей люди. Действительно, словно сошедшие со страниц романа Уэллса «Люди, как боги». Хорошо бы остаться с ними навсегда. Вдруг, предположим, Александр сделает ей предложение? Она не раз уже замечала, какие взгляды он на нее исподтишка бросает. Ведь и то, что он взял ее с собой сюда, говорит о многом. Да вдобавок она стала теперь такой красавицей… Непонятно даже, что он в ней нашел там, в Москве, как заметил, имея возможность вращаться в обществе таких изумительных дам, как Наталья Андреевна, Ирина Владимировна, англичанка леди Спенсер… Лариса попроще, да и моложе, почти ровесница ей, хотя тоже очень хороша.
Вот только мысли о маме заставили Анну загрустить. Каково ей сейчас дома одной. Конечно, там Сергей, он защитит и поможет, но он же офицер, ему воевать надо. А если попросить, чтобы маму тоже взяли сюда? Неужели откажут?
Знал бы Шульгин о ее мыслях…
— Ну а практически, практически ты как себе все это представляешь? — допытывался у Андрея Воронцов, откручивая задрайки иллюминатора. Дыма в салоне набралось столько, что через трубу камина он уже вытягиваться не успевал.
Получилось так, что Дмитрий оказался наименее информированным в подробностях и деталях кампании. С одной стороны, слишком много времени у него отнимали чисто капитанские заботы, да еще он со своими роботами помогал адмиралу Бубнову приводить в должный порядок остатки Черноморского флота, состоявшие сейчас из одного линкора, старого броненосца, такого же старого крейсера и полудюжины миноносцев, а с другой — по причине их давнего, почти подсознательного соперничества, Новиков не то чтобы избегал его, а как-то не находил времени пообщаться по душам. После попытки торпедирования «Валгаллы» и боя в особняке они, почитай, и не разговаривали наедине.
— Практически мы уже все главное сделали. Если еще вот Сильвия добьется, чтобы союзнички нас в покое оставили хоть на полгода, вообще отлично будет. Как, леди Спенсер, дипломатические успехи имеются?
— Скоро только кошки любятся, достопочтенный сэр, — с очаровательной улыбкой ответила Сильвия. — А я пока восстанавливаю забытые связи. Будут, будут успехи, не беспокойтесь. Я планирую направить активность британской дипломатии на Дальний Восток. Пусть попытаются посоперничать с японцами и американцами. Процесс дележки германских колоний в Африке тоже сулит много интересного. А там посмотрим…
— Ну и отлично. Обязуюсь ходатайствовать о награждении вас орденом Подвязки…
— Не пойдет, — развеселился, услышав его слова, Шульгин. — Энтот орден Сильвии придется исключительно при мини-юбке носить, а сие при дворе не допускается…
Сильвия обожгла своего бывшего любовника взглядом, но ничего не сказала. Возможно, до более подходящего момента.
— Главное, считай, сделали, — повторил Новиков. — Остались детали. Стройплощадку в Москве мы, так сказать, расчистили. Теперь нужно руками Троцкого задвинуть Владимира Ильича, прочие и сами не дернутся. И уже с ним начинать серьезные мирные переговоры. Цель — создать две России. Если и не союзных, то хотя бы лояльных друг к другу. Вроде как ГДР и ФРГ. Сумеем это сделать — психополе народа станет почти нейтральным. Вместо войны и ненависти — экономическое соревнование, исключение террора, возможность свободного обмена людьми. Кто хочет капитализма — на юг. Утописты-коммунисты пусть попробуют на севере свои идеи воплощать… Можем даже и им золотишка подкинуть. С немцами тесный контакт наладить, им это в самый раз сейчас будет, и для нацизма всякая почва исчезнет.
— Ну это ты хватил… — Воронцов пренебрежительно махнул рукой. — Так тебе Троцкий и согласится. Ему мировую революцию делать надо, а не социализм в отдельно взятой половинке России строить…
— Куда он на… гм, к черту денется? Есть у меня и для него кнут, совмещенный с пряником. Расскажу чуть позже. А знаешь, чем я Олега на нашу сторону перетянул?
— Хотел бы узнать. Меня, кстати, эта метаморфоза сильно озадачила. Ортодоксы обычно перевоспитанию не поддаются, а тут вдруг…
— Ничего загадочного. Попервой я ему ту самую теорию про Гиперсеть и Игры Реальностей изложил, с пояснением, что весь коммунизм — просто очередная «Ловушка сознания». — О! — удивился Новиков. — Опять игра слов получилась! Олег, как специалист по теории игр, сразу врубился. А второй мой ход — предложение, с целью непоступления идеалами, занять пост нашего наместника в Советской России. Будет сидеть в Москве, вроде как Председатель Союзной контрольной комиссии в Берлине после той войны, и наблюдать, чтобы большевики от «ленинских норм партийной жизни» и «социалистической законности» не отступали. Заодно и проверим, возможно ли построение коммунизма по Ефремову и Стругацким.
— А они его не грохнут там, чтобы не возникал?
— Ничего, как-нибудь… — вставил Левашов, до этого молча слушавший версию Андрея о своем «перевоспитании».
— Это уже вопрос технический. Резиденция будет в Столешниковом, там его никто не достанет, а в город выезжать потребуется, басмановские орлы защитят. Да и Троцкий — ненадолго. Заменим на какого-нибудь коммуниста с человеческим лицом, вроде Бухарина, а то и самого Олега в Генсеки кооптируем.
— Ну ты прямо точно прогрессором себя вообразил… — Новиков не совсем понял, всерьез говорит Дмитрий или тонко иронизирует.
— Почему нет? Стругацкие, кстати, вроде бы к тому пришли, что прогрессорство невозможно и как бы даже аморально. Ну а чем американцы в Германии и Японии после войны занимались? Прогрессорство в чистом виде. Кого нужно — повесили, остальных — позитивно реморализировали. И без всяких стонов и сомнений по поводу — а имеем ли мы право лишать людей их истории? Лишили — и все о'кей.
— Так это вроде как свои, сопланетники, а там…
— Не вижу разницы. Японцы даже дальше расово от американцев, чем земляне от арканарцев. Но это уже схоластика. В целом тебе моя схема нравится?
— Ага. Сейчас начнем друг друга хвалить, восхищаться… Попробуем, да. Тут я согласен. А там видно будет.
— Господа-товарищи! — вдруг провозгласил удивительно веселый сегодня и по-хорошему раскованный Левашов. — Отчего бы нам дружно не отправиться в сауну? Сто лет мы уже, как белые люди, не отдыхали. Все дела, войны, революции…
— Во разошелся, — подмигнул Воронцов Андрею.
— Да и вправду — отчего бы нет? Голосуем?
Противников идеи не оказалось, за исключением Ларисы, которая сослалась на известное недомогание.
— Дело хозяйское, — словно бы даже обрадовался Шульгин. — Как раз и Аней займешься. Ей по молодости лет спать пора, да и вообще…
Анна сначала не поняла, в чем дело, и стала возражать, пока Лариса не объяснила ей смысла предстоящего мероприятия. Девушка вспыхнула от смущения. Для первого раза нагрузка на ее пуритански ориентированную психику оказалась великовата.
Лариса повела Анну вниз. Предложила сегодня переночевать в ее каюте, а уж завтра подобрать собственную. И мгновенно сдружившиеся девушки проболтали почти до утра. Ларисе пришлось трудно — каким образом объяснить гостье нравы и обычаи ограниченного корабельными бортами мирка, не слишком ее шокируя, и как увязать здешнюю свободную мораль с ханжескими порядками «Большой земли»? Ненамного легче, чем ввести девушку из хомейнистского Ирана в сообщество каких-нибудь амстердамских хиппи…
Из сауны возвращались часа через три, распаренные, умиротворенные, довольные вновь вернувшимся ощущением давних уже, общинных эмоций жителей «фронтира», которые они испытывали на планете Валгалла, она же и Таорэра, когда позади были безжалостные боевики аггров, а впереди и вокруг — чужой неисследованный мир и очередные местные «пришельцы», кванги, которых правильнее считать аборигенами. Перед тем, как разойтись в разные стороны, Берестин, Воронцов и Новиков подзадержались на площадке трапа.
— Так все же, Андрей, ты окончательно решил на Троцкого ставку делать? Фигура уж больно мерзостная… Может быть, еще кого поискать? — спросил Дмитрий. Отчего-то именно эта проблема его сейчас занимала, будто ничего важнее не было.
— Мало ты фигур видал, — возразил ему Берестин. — Я, когда в виде Маркова в Первой конной служил, на этого Троцкого только что не молился. И вся армия так. Это уж потом на него Сталин и компания собак навешали. Жестокий он был, не возражаю, но в отличие от прочих большевистских вождей — прагматически жестокий. В отличие от Ленина и Сталина для собственного удовольствия никого не расстреливал. Потому и пришлось после тридцатого года всю верхушку армии выбивать, что за исключением Ворошилова и Буденного, все они были чистыми троцкистами.
— Да и не в том еще дело, — добавил Новиков. — Нам сейчас на моральные проблемы вообще наплевать надо. Сталин при необходимости с Гитлером союз заключил, с Черчиллем… На моральный облик партнера только на Нюрнбергских процессах внимание обращают, а так и людоеда Бокассу Брежнев награждал орденом Дружбы народов, и Пол Пота верным ленинцем величали. Нормально, да?
Распрощались, увидев, что по коридору приближаются задержавшиеся в предбаннике женщины.
Андрей подождал Ирину, взял у нее из рук сумку с банным инвентарем. Но у дверей каюты она его остановила:
— Пойди лучше к себе. И вечер был хороший, и баня. А сейчас половина третьего, и я просто хочу спать. До завтра, а?
Новиков хотел было возмутиться — чем, мол, помешает он ее отдыху? В двенадцатиместной каюте всем места хватит. Но сдержался. Наверное, и вправду лучше тихо, молча, спокойно отправиться в собственные апартаменты. Набиваться в гости к женщине стоит лишь тогда, когда сама она подпрыгивает от нетерпения. А иначе это… Он не подобрал подходящего эпитета, махнул рукой, подчеркнуто галантно с Ириной раскланялся и побрел по бесконечно длинным палубам и многочисленным трапам между ними, пока не добрался до своей каюты.
Глава 37
Артузову Артуру Христиановичу, начальнику контрразведывательного отдела, Новиков при личной встрече вручил короткую, очень продуманно составленную докладную.
— Это вот вы должны немедленно передать Менжинскому для совершенно срочного доклада Троцкому. Здесь сказано, что в ближайшие двое суток три корпуса белых под общим командованием Слащева начнут наступление на Москву через Орел — Калугу с решительной целью. Одновременно будет наноситься отвлекающий удар в направлении Тамбова…
— А на самом деле? — спросил, повертев в руках пакет, Артузов. Новиков помнил его со времен фильма «Операция «Трест», где роль Артузова исполнял молодой еще Джигарханян. Внешнее сходство просматривалось, но не более. Киношный Артузов был фанатиком и романтиком революции, этот — нормальным прагматиком, как и положено международному авантюристу. Не понимающим своей пользы идеалистам Андрей не верил.
— На самом деле может быть все, что мне заблагорассудится, — ответил Новиков. — Вас же должна интересовать совсем другая проблема. Остаться вам в числе высших руководителей ВЧК с перспективами на будущее или вместе со своим неуместным любопытством пополнить ряды ваших же собственных клиентов. Помните, как это делается?
Андрей иногда сам поражался, как легко ему, в прошлом достаточно деликатному и даже застенчивому человеку, стала удаваться роль беспощадного и насмешливого циника.
— Вы ведь уже должны были убедиться, Артур Христианович, что для нас нет невозможного и в практическом, и в нравственном плане. Я доходчиво объясняю?
— Более чем. Я немедленно доложу Менжинскому. Как информацию, поступившую из абсолютно достоверных источников во врангелевском штабе.
— Правильно поняли. Желаю успеха, Артур Христианович.
Новиков ощущал исходящие от чекиста волны острой неприязни и с трудом сдерживаемой агрессивности, но одновременно чувствовал, что подвоха от Артузова ждать не следует. Обычным здравым смыслом или сверхчувственным восприятием Артузов, как в свое время спасенный Новиковым из бериевских застенков Главком ВВС Рычагов, понимал (или вспоминал, однажды уже расстрелянный по приказу Сталина), что опасность для него исходит не от этого человека… А некоторый ущерб для самолюбия он переживет. Голова и пост дороже гонора.
…Х съезд РКП(б) начинался, как и положено. Делегаты съезжались и подходили пешком к зданию Большого театра, украшенному соответствующими лозунгами и оцепленному тройным кольцом охраны. Предъявляли свои мандаты и проходили в фойе, где без карточек и талонов старорежимного вида девушки в фартучках и наколках угощали чаем, бутербродами с колбасой, сыром, икрой, красной и черной, а в полуподвальных помещениях работали столовые, где можно было поесть и поплотнее. Щи мясные, куриная лапша, котлеты с жареной картошкой, мясные и рыбные пироги. А хлеба, ситного и ржаного, вообще от пуза. На питание делегатов специальным решением было выделено по три усиленных наркомовских пайка. Чтобы товарищи знали, за какое светлое будущее они сражаются.
Правда, не все товарищи перед началом заседания сумели добраться до пиршественных столов. Кое-кого из делегатов у стола мандатной комиссии вежливо просили пройти в соседнюю комнату для уточнения чего-то неясного в документах. А там они попадали в руки не менее вежливых сотрудников секретно-политического отдела. И, накопившись в достаточном количестве, отправлялись для дальнейшего выяснения в ту самую, заботливо очищенную для них внутреннюю тюрьму. Большинству из них ничего особенно страшного не грозило. Ни расстрел, ни даже допрос с пристрастием. Просто — превентивный арест. С последующими извинениями или вручением предписания о немедленном отбытии в действующую армию на мелкую комиссарскую должность.
Тщательно изучивший историю компьютер выбрал из списков делегатов тех, кто сейчас или в следующие годы склонен был выступать против линии Троцкого — Ленина, оголтело поддерживать Сталина, вообще отличался ненужной ортодоксальностью. Требовались разумные конформисты, люди, которые, не слишком раздумывая, проголосуют за любую предложенную резолюцию.
Председатель мандатной комиссии торопливо пробубнил, сколько делегатов избрано на съезд, сколько не смогло прибыть по уважительным и прочим причинам. Неорганизованные выкрики из зала, что такой-то и такой-то прибыли, но куда-то вдруг делись, во внимание приняты не были.
Ленин сидел у края длинного стола, рядом с обтянутой алым ситцем трибуной, украшенной серпом, молотом и римской цифрой «Х». Как бы даже юбилей. Низко наклонившись и опустив правое плечо, он быстро писал что-то на узких полосках бумаги и, кажется, совсем не слушал ритуальных фраз и речей. Из партера был виден только его куполообразный, поблескивающий мелкими каплями пота лоб. Изредка он поднимал голову от своих записей и навскидку простреливал огромное пространство зала настороженными, привычно прищуренными глазами. Наконец он взял слово. Пошел не на трибуну, а к рампе, постоял пару секунд, то ли настраиваясь, то ли пытаясь уловить настроение темного, тоже замершего перед его выступлением зала.
Начал он с сообщения о текущем моменте. Момент оказался вроде бы не таким уж трагическим, в начале девятнадцатого года было не в пример хуже, но и поводов для оптимизма не просматривалось. Что и понятно — надеялись взять Варшаву и Крым, а получили линию фронта севернее Курска. Неприятно. Но на то мы и большевики, чтобы трудности нас сильнее сплачивали и мобилизовывали. Троцкий сидел, откинувшись на спинку стула, скрестив на груди руки, поигрывая жевательными мышцами. Перед ним лежала только что полученная сводка с фронта. Беспартийный Главком Каменев (Сергей Сергеевич, а не тот, который «и Зиновьев»), на время съезда поставленный осуществлять общее руководство обороной Орла, докладывал, что на южном направлении вместо ожидавшегося генерального наступления Слащева отмечаются только многочисленные вклинения подразделений противника силами до роты, хотя и сопровождаемые ураганным артиллерийским огнем. Таковые действия на данный момент могут быть расценены как отвлекающие. Или как разведка боем.
Однако, исходя из данных ВЧК, на орловское направление были спешно сосредоточены практически все боеспособные части Южного фронта и Московского округа. Десять стрелковых и три кавалерийские дивизии. В то же время сегодня около восьми часов утра врангелевцы внезапно, без артподготовки, перешли в наступление на тамбовском направлении. При поддержке большого количества танков и бронемашин прорвали фронт в полосе шириной более десяти километров и форсированным маршем продвигаются вперед. Остановить их нечем.
Далее главком просил разрешения начать переброску войск к Тамбову, одновременно извещая, что на такую перегруппировку потребуется не менее двух суток.
Троцкий, с трудом сдерживая желание вскочить, плюнуть на все и немедленно мчаться на фронт, заставил себя сохранять внешнее спокойствие. Не торопиться. Подумать. Оказался ли Артузов жертвой дезинформации белых или Врангель решил повторить замысел Брусилова в Галицийской операции? Прорыв к Москве через Тамбов стратегически бессмыслен. И расстояние почти вдвое больше, и удобных дорог нет, а главное — белые скоро окажутся в охваченных антоновским восстанием районах. Ровно год назад по аналогичной причине сорвалось наступление Деникина. Он оставил в своем тылу банды Махно, которые перерезали коммуникации и обрекли Добровольческую армию, готовую триумфально вступить в Москву, на беспорядочное отступление. Врангель не может повторить такую ошибку. Значит — хитрый расчет. Заставить Каменева перебрасывать войска к Тамбову и Рязани, и уже потом ударить на Орел! Поэтому — выдержка. В ближайшие сутки все станет ясно.
Троцкий отодвинул телеграмму и переключился на сиюминутные дела.
Ленин торопливо и невнятно бубнил с трибуны о назревшей необходимости «хорошенько перетряхнуть ЦК РКП», «бороться с идейным разбродом и с нездоровыми элементами в партии, которые погубят партию скорее и вернее, чем капиталисты Антанты, эсеры и белогвардейцы», что текущий момент «требует от всех больше дисциплины, больше выдержки, больше твердости. Если мы выкинем из ЦК и из партии несколько сот или несколько тысяч полностью разложившихся «товарищей», партия не только не ослабнет, она окрепнет…».
Зал ничего не понимал, в президиуме началось шевеление и нечто вроде ропота. Особенно засуетились члены Политбюро и Секретариата. Ничего подобного они не ожидали, не обсуждали и не санкционировали. Да вдобавок, осмотревшись, каждый из них наконец заметил, что ряды бархатных кресел зияют слишком уж заметными проплешинами и маловато среди делегатов знакомых лиц.
Ленин же словно ничего не замечал. Увлекшись собственным красноречием и омываемый накатывающимися из партера и амфитеатра волнами разнонаправленных эмоций (возможно, он был от рождения энергетическим вампиром?), Предсовнаркома безостановочно перемещался по просцениуму, то засовывая руки в карманы брюк, то зацепляя пальцы за вырезы черного жилета. Его, что называется, несло.
Непонятно как (у него это получалось здорово), Ильич сменил пластинку, и делегаты вдруг сообразили, что говорит он совершенно о другом. О необходимости мирной передышки в стране, которая совершенно истощена и измучена непрерывной шестилетней войной, о тяжелейшем положении с продовольствием и топливом, о хозяйственной разрухе, крестьянских бунтах, моральной деградации пролетариата, который оказался совершенно не готов к своей исторической миссии, и даже вообще не пролетариат, а черт знает что. А также и о еще более неприятных вещах в государственной и внутрипартийной жизни. Выходило так, что вроде и успехи накануне трехлетия Октября неоспоримы, и в то же время РСФСР стоит на пороге неминуемой катастрофы. В этом Ленин обвинял сразу всех — Антанту, белогвардейцев, пронизанных мелкобуржуазным духом крестьян, рабочих, забывших о классовых интересах, пробравшихся в партию классовых врагов и оппортунистов, впавших в комчванство руководителей, бездарных красных полководцев и деморализованных красноармейцев.
Звучали убийственные характеристики членам ЦК и Политбюро, очень похожие по смыслу и духу на те, что он изобразил в своем предсмертном «Письме к съезду».
И сидящим в зале становилось даже непонятно, кто они здесь есть — делегаты высшего органа большевистской партии или сидящая на скамье подсудимых банда преступников и мародеров.
Впечатление усиливали стоящие у всех входов и выходов, на ярусах и в ложах вооруженные винтовками и револьверами красноармейцы в щеголеватой новенькой форме (изготовленной по эскизам Васнецова для царских гвардейских полков), в надраенных по-старорежимному хромовых сапогах. Даже в ватерклозет делегатам можно было пройти только сквозь строй расставленных через каждые десять метров часовых, следящих напряженными тяжелыми взглядами за каждым их движением. О том, чтобы подойти к телефону или, упаси бог, свернуть с предписанного маршрута в один из многочисленных полутемных коридоров, не могло быть и речи.
Мотивировалось все это необходимостью предотвращения терактов и провокаций. После злодейского убийства Дзержинского и разоблачения свившего змеиное гнездо в самом сердце партии клубка скорпионов и ехидн такое объяснение казалось правдоподобным.
Дождавшись окончания ленинской речи, Троцкий, не теряя темпа, вскочил и, перемежая свою речь посулами и угрозами, начал один за другим ставить на голосование «организационные вопросы», умело пресекая попытки возразить с места или взять слово «к порядку ведения».
Через час все было кончено. Замороченный ленинской речью и агрессивным красноречием Троцкого съезд открытым голосованием принял все резолюции по кадровым перестановкам в ЦК и Политбюро. Теперь можно было разрешить и прения…
После второго перерыва из-за кулис прошмыгнул на сцену адъютант и положил перед Троцким четвертушку бумаги.
«Прошу тов. Ленина и Троцкого немедленно приехать в Кремль по делу, не терпящему ни малейшего отлагательства. Менжинский».
— Что это значит? Разве Менжинский не на съезде? — удивился Ленин, которому Троцкий передвинул по красному сукну странную записку.
— Был на съезде. Очевидно, вызвали. Так едем?
— А по телефону нельзя узнать? — недовольно пожевал губами Владимир Ильич. Оставлять без присмотра постепенно опомнившихся и начавших задавать неудобные вопросы делегатов ему очень не хотелось. Мало ли что они тут нарешают. Он не забыл Седьмой съезд, где ему едва-едва удалось протащить резолюцию о заключении Брестского мира.
Троцкий вышел позвонить. Вернулся встревоженный.
— Надо ехать, Владимир Ильич. Прямо сейчас. А съезд пусть Фрунзе ведет. Я ему скажу, чтобы переключился на чисто военные вопросы и немедленно лишал слова, если начнут болтать лишнее, пока мы не вернемся. Не думаю, что надолго отлучаемся…
Ленин подозрительно наморщил лоб. Фрунзе он тоже вдруг перестал доверять. Сказали ему «доброжелатели», что Арсений накануне всю ночь просидел в номере у Зиновьева, пил с ним и о чем-то, несомненно, сговаривался. Кругом разврат и измена…
— Все равно не нравится мне это. Как будто Вячеслав сам сюда не мог приехать…
— Не мог, Владимир Ильич. Нам к прямому проводу нужно, а в театре его установить не догадались. На фронте обстановка осложнилась до крайности…
В Кремле их вместо Менжинского встретил Агранов. И повел по длинным коридорам, односложно отвечая на встревоженные вопросы Ильича. На всех лестницах и поворотах стояли вооруженные чекисты с сумрачными лицами. Это несколько успокоило Ленина, любившего, чтобы места его пребывания охранялись как можно надежнее, вроде как Смольный в семнадцатом году, однако заставило насторожиться Троцкого, предпочитавшего видеть возле себя преданных лично ему китайцев или мадьяр. Но все они остались в театре, за исключением конвоя из шести человек.
В коридоре, ведущем к кабинету Ленина, Троцкий спохватился:
— Куда вы нас ведете? Телеграф на втором этаже…
— Вячеслав Рудольфович ждет там, в приемной.
Агранов распахнул дверь кабинета, пропуская вождей вперед, и сразу же ее захлопнул, отсекая адъютантов и охрану Троцкого.
Тут же, возникнув словно бы ниоткуда, опешившую свиту окружили люди настолько решительного и угрожающего вида, что никому даже в голову не пришло хвататься за оружие. Покорно подняв руки, охранники Наркомвоенмора позволили обхлопать себя по карманам и извлечь из их кобур парабеллумы и маузеры. Так же покорно они побрели в жестко (тычками прикладов) указанном им направлении. Профессиональное чутье подсказало им, что с подобными «специалистами» не то чтобы драться, а и спорить смертельно опасно.
Войдя в кабинет, вожди мирового пролетариата увидели, что за письменным столом, на ленинском месте сидит неизвестный, одетый в странную, зеленую в черных и желтых разводах куртку, курит сигару, чего Ленин в своем присутствии категорически не выносил, и смотрит на них насмешливо прищуренными глазами. Второй человек в таком же одеянии устроился на подоконнике, свесив ноги в высоких черных ботинках, и держит на коленях что-то, похожее на большой, отливающий синей сталью пистолет. Или, наоборот, короткое охотничье ружье. Умея почти гениально мыслить стратегически, в стрелковом оружии Предреввоенсовета разбирался слабо.
— Что? Что это значит? Кто позволил? — визгливо-растерянно вскрикнул Ленин, а Троцкий инстинктивно схватился за лакированную кобуру.
— Не балуйся, Лев Давидович, — добродушно сказал человек с подоконника, приподнимая толстый решетчатый ствол. — Проиграв войну, поздно пистолет лапать. Разве чтоб застрелиться. Но это успеется.
Громыхнув подковками по паркету, он соскочил с подоконника, отобрал у Троцкого аккуратный браунинг образца девятисотого года, подкинул на ладони:
— Сувенир, однако, — и спрятал в карман.
— А у вас, господин Ульянов?
Ленин растерянно развел руками.
— Тогда присаживайтесь. Разговаривать будем.
— Кто вы? — спросил, сохраняя остатки самообладания, Троцкий. Хотя понимал уже обостренной интуицией политического деятеля, что именно сейчас все хорошее в его жизни кончилось.
— С вашего позволения — полковник Шульгин Александр Иванович. А это — полковник же, но Новиков Андрей Дмитриевич. Уполномочены провести с вами дипломатические переговоры.
Ленин, сообразив, что немедленно их убивать не станут, тоже немного успокоился. Переговоры — его стихия. Путем переговоров он всегда добивался, чего хотел.
— Кем уполномочены, о чем говорить?
Новиков наконец положил сигару на край письменного прибора, растянул губы в улыбке.
— Вообще-то мы представляем здесь так называемую «Мировую закулису». Ту силу, которая якобы направляет все исторические процессы во имя достижения никому неведомых, но коварных целей. Заменяем собой весь исторический материализм сразу. Но это вообще. А в частности, нам поручено побеседовать с вами от имени Верховного правителя Юга России Петра Николаевича Врангеля.
Изощренный в софистике Троцкий мгновенно уловил тонкость: «Правителя Юга России». То есть претензии на власть во всей стране словно бы и не заявляются.
Одновременно Лев Давыдович убедился, что на Ленина рассчитывать нечего, он растерян и напуган настолько, что под дулом пистолета согласится на все. В период Бреста он сидел в семистах верстах от фронта и то засыпал его телеграммами, требуя соглашаться на любые условия немцев.
— О чем вы хотите вести переговоры? Учтите, что я заявляю протест по поводу столь бесцеремонного, не имеющего примера в дипломатической практике вторжения в резиденцию Советского правительства. Это не дипломатия, а бандитизм…
Новиков, подавшись вперед, слушал Троцкого с таким видом, будто страдал глухотой и еле-еле разбирал слова собеседника. Даже рот приоткрыл.
Дослушал, сжал губы, кивнул. Помолчал еще, взял сигару, затянулся. Выпустил дым, целясь в лицо Троцкого.
— Что же ты несешь, товарищ Предреввоенсовета? У тебя хватает наглости в таком тоне разговаривать с приличными людьми? Офицерами, дворянами… Неужели не сообразил еще, что я вообще могу тебя и товарища Ленина тоже шлепнуть просто так вот. — Он вдруг вытащил из-под стола массивный пистолет и направил его в лоб Троцкому. — Одно движение пальца, и все. Даже ледоруба не потребуется. А еще через десять минут и от съезда вашего ничего не останется, кроме четырех сотен покойников. Крайне мало по сравнению с тем, что вы за три года наработали. Протесты он заявляет, ты только подумай, Саш… — Новиков развел руками, изображая на лице глубочайшее возмущение и даже изумление перед наглостью собеседника.
— Запомни, Лев Давыдович, вы нас как личности совершенно не интересуете. С момента, как вы оказались в этом кабинете, ваша функция чисто декоративная. Надо будет — на других поменяем…
— Тогда почему вы все-таки желаете говорить именно с нами? — попытался перехватить инициативу Троцкий.
— Уместный вопрос. Потому что считаем — России смут достаточно. Договорившись с вами, мы надеемся сохранить несколько десятков или сотен тысяч людей, которые могут погибнуть, если продолжится война. Давайте так — забудем все сказанное мной и вами раньше и начнем с чистого листа. Как будто и мы и вы — обычные дипломаты, представляющие равноценные и равноправные державы. Как Наполеон и Александр в Тильзите.
Новиков спрятал пистолет, провел ладонью по лицу, надавил пальцами на глаза, снимая усталость.
— И ты, Александр Иванович, отложи автомат, садись. Товарищи благоразумные, дурака валять не будут.
Дальнейшее и в самом деле стало напоминать, ну, если и не дипломатические переговоры в чистом виде, то разговор равноправных партнеров в какой-то серьезной коммерческой сделке.
Троцкому мешало то, что он никак не мог отвлечься от мыслей, каким образом вообще стала возможной такая дикая ситуация. Предательство ЧК во главе с Менжинским — это очевидно. Убийство Дзержинского, о котором он нисколько не жалел, из этого же ряда. А вот чего он никогда не ждал, не мог даже вообразить, так это то, что с такими трудами и жертвами построенное государство может рухнуть в мгновение. Ни Юденич, ни Деникин, ни Колчак вместе с «четырнадцатью державами» (почему именно четырнадцать, кто их считал и кто внес такое число в учебники истории? Держав-то вообще до первой мировой на Земле насчитывалось пять, остальные так, государства.) не могли ничего сделать с Советской Россией, а тут вдруг раз — и конец. И, значит, конец надеждам на мировую революцию, на Интернационал? Только внезапность происшедшего позволяла Троцкому сохранять некоторое самообладание. Так смерть близкого человека в первые часы осознается только разумом, но не чувствами.
Ленин же думал о другом. Ум у него был действительно неслабый, невзирая на абсолютный имморализм, почему он и сумел мгновенно отвлечься от эмоционального восприятия момента и переключиться на его рациональную оценку.
Нежданных гостей он сразу отказался воспринимать как реальных представителей Врангеля. Такого просто не могло быть. Это люди совершенно другого плана. Еще точнее — таких людей в России, царской, белогвардейской или Советской, быть не может. Вот этот, Новиков, по внешности на царского полковника похож. Хотя и не совсем. Исходящей от него аурой полного пренебрежения к окружающему миру он скорее напоминает члена британской палаты лордов. Человека, который никогда не признавал права хоть кого-нибудь не то чтобы руководить им, а даже сделать ему самое невинное замечание. В России, с ее историей, так не могли себя ощущать даже великие князья. Значит, он прав, заявив, что представляет некую «Мировую закулису». Термин непривычный, но понятный.
Ленин знал те круги, которые поддерживали его с момента, когда созданная им партия стала представлять реальную силу, противопоставившую себя русскому самодержавию. В тысяча девятьсот четвертом-пятом годах они персонифицировались в представителях Японии, плативших ему сотни тысяч золотых иен на организацию «первой русской революции». Потом — в офицерах германского генштаба, субсидирующих «борьбу за поражение в империалистической войне» и превращение «войны империалистической в войну гражданскую». Отчего же не допустить, что нашлись какие-то другие люди, решившие в очередной раз сменить наездника? Почему вдруг пришел ему в голову такой образ? Он же не наездник, он лидер партии коммунистов и глава государства. Ах, да! Этот, как его, Маяковский, написал же: «Клячу истории загоним…» А он, Владимир Ленин, оказался именно тем, кто сумел оседлать эту клячу…
Да, о чем там идет речь? Каков Лев Давыдович, снова спорит и торгуется, будто не о судьбах мира речь идет, а о партии зерна со складов его папаши. Кожанку сбросил, воротник расстегнул, глазки азартом пылают…
— Нет, вы мне скажите, господа, какие вы основания имеете предъявлять столь неумеренные требования? — вопрошал Троцкий.
Шульгин, которому по сценарию слова пока не полагалось, все же не сумел сдержаться и молча постучал пальцами по ствольной коробке автомата. Троцкий понял.
— Только вот этого не надо! Мы же с вами политики. А у нас пятимиллионная армия, резервы и ресурсы, поддержка мирового пролетариата. Да, допускаю, нас вы можете расстрелять хоть сейчас. Это неприятно, но вам принесет только лишние заботы и головную боль. Разоружить озлобленных, привыкших умирать и убивать людей, вновь загнать в подвалы тех, кто только что из них вышел… Вам придется трудно, чтобы не сказать больше…
— «Товарищ» Троцкий, вы ведь заблуждаетесь, — мягко, увещевающе отвечал ему Новиков. — Нам, вот лично нам, глубоко безразлично то, что вы имеете в виду. Не нам воевать, не нам умирать. Не хотелось бы повторять столь грубых доводов, однако в чем-то мой коллега прав. Представьте такое печальное зрелище — на полу остаются два тела с дырками в головах, а мы отправляемся по своим делам… У нас будут трудности, а у вас? Вот «товарищ» Ленин куда реалистичнее подходит к проблеме компромиссов. Написал же, что глупо сопротивляться, если бандит требует у вас кошелек. Считайте, что кошельком в данный момент является ваша идея полной победы социализма в одной, отдельно взятой стране… и перманентной революции.
Не первый уже раз Ленин отметил, что «полковник» свободно цитирует многие из его статей, а также проявляет недюжинное знание Маркса, Энгельса и иных философов. И был с ним полностью согласен. Дело проиграно, спорить не о чем. Поставил на революцию всю свою жизнь, как на зеро в рулетке. Не выпало. Что поделаешь… Надо думать, как выйти из положения с минимальным ущербом для дела и тела. (Даже сейчас не оставила его любовь к плоским остротам.)
Он чувствовал себя как-то странно. В голове ощущалась непривычная звенящая пустота, а непослушные мысли разбегались, путались, и требовалось специальное усилие, чтобы понимать, о чем в данный момент идет речь. Кисти рук стали холодными, вялыми, в пальцах покалывало, будто он их отсидел…
За окном вдруг гулко ударил винтовочный выстрел. Недалеко, в районе Арсенала. За ним другой, третий… Частая, беспорядочная стрельба многократно усиливалась эхом от стен дворцов и соборов. Вскоре стреляло не меньше десятка стволов — судорожно, почти без пауз, наперебой. Так ведут себя люди, которым некогда и неизвестно куда целиться. Шульгин, приподнявшись, с интересом вслушивался.
Вот, наконец, сухо протрещала первая автоматная очередь. Экономная, на пять патронов. Еще одна, и еще. Из разных мест, и наверняка по делу. Рейнджеры в белый свет палить не приучены. По звукам свободно можно было представить развитие событий. Заметив, что происходит неладное, бдительный часовой поднял тревогу. Или пленный ухитрился сбежать, что тоже случается. Придется сделать Басманову серьезное внушение. Проснулся дежурный наряд, кинулся во двор, стреляя, скорее всего, в воздух. Для собственного успокоения. Как сторожа на бахче. Рейнджеры поняли, что тихое дело кончилось, осмотрелись, сориентировались и начали работать всерьез. Секунд пятнадцать им потребовалось, чтобы надвинуть на глаза окуляры ноктовизоров, рассыпаться по двору, перебить самых глупых и азартных кремлевцев. Рассчитались за наивных юнкеров, беспощадно исколотых красными штыками в ноябре семнадцатого.
Чего еще Шульгин никогда не мог понять — как сумели русские мужики, серьезные, тридцати-сорокалетние солдаты, отцы семейств по преимуществу, до всего: до красного и белого террора, до охватившего страну кровавого безумия, когда еще сохранялись стереотипы дореволюционной жизни, спокойно и деловито убить две сотни семнадцатилетних пацанов, не дворян даже и не помещиков, детей городских мещан, попытавшихся исполнить свой первый в жизни долг.
Ну отнимите у них винтовки, ну надавайте по шеям и по задницам, хоть прикладами, хоть шомполами, но колоть штыками всех и насмерть… Или правду писали в западной прессе, что не русские солдаты захватывали Москву и Питер, а выпущенные Лениным из лагерей немецкие пленные «спартаковцы»?
Трехминутный огневой бой завершился серией гранатных разрывов. Чьим-то отчаянным воплем, гомоном резких голосов. И все. Точка. Раз эту короткую попытку вооруженного сопротивления больше никто не поддержал, значит, остальные части кремлевского гарнизона блокированы и разоружены без шума.
— Поняли, товарищи большевики? — спросил Новиков, тоже молчавший, пока длился инцидент. — Что это с вами? — обратил он внимание на остекленевший взгляд и перекосившую рот Ленина ухмылку.
— Ох, — поднес руку к виску Ленин. — Какая боль. По… — и упал грудью на стол.
— Саш, глянь быстро, что с ним? Вроде рано для инсульта, срок не пришел.
Шульгин взял Ленина за руку, посчитал пульс. Поднял веко, похлопал по щекам.
— Вряд ли инсульт. Мозговой спазм, скорее всего, или придуривается.
Шульгин с помощью Троцкого перенес вождя на диван, присел рядом, наблюдая. Вызвал по рации кого-нибудь из десантников с аптечкой. Использовать браслет он не хотел — зачем им вождь мирового пролетариата со здоровьем космонавта? Еще на сорок лет проблем…
— Хватит, Лев Давидович. Вот наши условия. Завтра на съезде вы объявляете о начале мирных переговоров с достойным представителем российского демократического движения Пэ Эн Врангелем. Объясните, как вы умеете объяснять все на свете, что он никакой не монархист, а просто заблуждающийся в методах правый социалист. После чего съезд можете закрывать. В связи с текущим моментом. Если найдутся несогласные — товарищ Агранов им все объяснит. Переговоры начнем через неделю. И вы останетесь лидером своей части России… Я доступно все изложил?
— Вполне. Но хотелось бы узнать, независимо от моей личной судьбы — на что вы рассчитываете объективно?
— Эх, «товарищ» Троцкий… Вы сегодняшнюю сводку прочли? Завтра наши войска вступят в контакт с Антоновым, Слащев признает автономию его крестьянской республики, бесплатно передаст его «бандам» сотню тысяч винтовок и полсотни пушек, после чего прекратит наступление. Вы же получите еще одну голодную зиму без всяких надежд. И двухсоттысячную пугачевщину рядом с Москвой. А мы просто будем наблюдать за развитием событий. Продовольствие вам взять неоткуда. Людоедства в Москве еще не видели? Увидите. Посидите в Кремле, как Наполеон, а что дальше? Бежать вам некуда… Мы позаботимся.
Троцкий молчал долго. Смотрел в стол, дергал себя за эспаньолку. Новиков даже начал проникаться к нему уважением. Палач-то палач, а все же не сдается на милость победителя. Держит фасон. Вспомнились слова, сказанные в свое время Есениным: «Ленин растворил себя в революции, а Троцкий несет себя сквозь революцию, как личность. Троцкий — вождь, а Ленин — своего рода «эфирная сила революции». Поэт общался с обоими, ему виднее…
— Знаете, Лев Давидович, я вас успокою, — решил помочь Троцкому Новиков. — Мы вас оставим во главе РКП, чтобы вы смогли продолжить дело своей жизни — борьбу за мировую революцию. Но там, на Западе. Рассылать агентов Коминтерна, организовывать забастовки и восстания, создавать коммунистические партии. Это нам очень пригодится для проведения гибкой внешней политики. Договорились?
— Договорились! — Троцкий встал и гордо вскинул бороду. — Пусть Врангель направляет свою делегацию. Но переговоры будут трудными.
Сказал так, как деревенский богатей швыряет на пол картуз: «Черт, мол, с вами! Засылайте сватов!»
— Учтите, я намерен драться за каждое слово и каждую запятую!
— А вот это, как говорят американцы, уже ваши проблемы… — Новиков тоже поднялся, застегнул кобуру «стечкина». — Сигару хотите?
— Не откажусь. Вы знаете, господин Новиков, я бы охотно в свободное время побеседовал с вами просто так — о жизни, о смерти, о мировой политике…
От неожиданности Андрей рассмеялся. Надо же, почти дословная цитата из телефонного разговора Сталина с Пастернаком… Впрочем, кроме политики, Троцкий был и неплохим литературоведом.
— Поглядим, Лев Давидович, поглядим. Как любил говорить один мой сослуживец: «Ты сначала доживи…»
Почти идиллическую картину нарушил Шульгин. Подошел к столу, вытирая руки платком.
— А этот-то… Того… Помер.
— Вот как? Странно даже. Жил-жил, и вдруг… — Андрей действительно испытал не более чем удивление. Три года еще полагалось прожить Владимиру Ильичу. Войну выиграть, НЭП изобрести. А вот не сумел. Не привык к стрессам такого рода. Неуместно при покойнике, а вспомнилось: «Сходил бы с бубей, еще хуже бы вышло…»
— М-да, Лев Давидович… Рассудила история. Он пробовал, Сталин пробовал, теперь ваша очередь… Придется вам завтра траурный пленум собирать. Пункт первый повестки: «О создании комиссии по погребению». Пункт второй: «О назначении тов. Л. Д. Троцкого Председателем Совнаркома с сохранением за ним постов Наркомвоенмора, Предреввоенсовета и Председателя Совета Труда и Обороны». Как, хватит сил справиться или другие кандидатуры предлагать будем?
Глава 38
Сильвия, далеко опередив своего спутника, первой вынеслась на вершину холма и сдержала коня. Ее тонкая фигура на высоком, поджаром гунтере четко вырисовывалась на фоне закатного неба. Подъехав к женщине, Новиков заботливо спросил:
— Не боитесь шею сломать, леди Спенсер, здесь все-таки не манеж?…
— Ничего, — ответила Сильвия, слегка запыхавшись. — Подготовка у меня хорошая. И стаж езды тоже. Я занимаюсь стипль-чезом с восемнадцати лет. Вас ведь обогнала… Правда, у меня и конь лучше. Посмотрите, как красиво. Вам нравится пейзаж?
Вид с вершины действительно был неплох. Лежащая перед ними равнина пологими волнами убегала вдаль, освещенная косыми лучами заходящего солнца. Разбросанные по ней старинные усадьбы, окруженные багряными и золотыми купами деревьев, казалось, вот-вот вспыхнут от этого осеннего огня. Далеко, у самого горизонта, тусклым оловянным блеском отливали волны Дуврского пролива. В хороший бинокль можно было бы разглядеть французский берег.
— Попробуем еще раз? Может, теперь вам удастся взять реванш? — Сильвия тронула шпорой бок своего Кромвеля. — Только будьте осторожнее, тут могут попадаться кротовые норы. Победителя ждет достойный приз.
— Ну давайте. А какой приз?
Сильвия загадочно улыбнулась и с места послала коня в галоп.
…Новиков разыскал аггрианку в ее загородном поместье, расположенном в сотне километров от Лондона, между Брайтоном и Истборном, где она проводила уикенд. Андрею нужно было выяснить, каких дипломатических успехов она добилась, обсудить международное положение и передать ей очередную партию золота и драгоценностей. Конечно, все это можно было сделать, оставаясь на «Валгалле», совместив пространства каюты и комнаты в ее доме, но Новикову захотелось немного рассеяться, отвлечься от российской действительности и провести пару дней в «доброй старой Англии».
Ирина возражать не стала, но Андрей понял, что в душе она его визит не одобряет. Обычная женская ревность тому причиной или соображения политические, он выяснять не захотел, предпочел сделать вид, что просто не заметил ее реакции.
Поместье Сильвии оказалось как раз таким, какое и подобало иметь представительнице древнего аристократического рода. Усадьба в полсотни гектаров, на которых еще в позапрошлом столетии был разбит типичный английский парк с живописными аллеями, ручьями и искусственными водопадами. Двухэтажный дом из дикого серого камня, с черепичной крышей, похожий на уменьшенную копию рыцарского замка. Конюшня с полудюжиной чистокровных лошадей. Небольшая псарня. Молчаливые вышколенные слуги. Занимающий половину первого этажа каминный зал, украшенный рыцарскими латами и средневековым оружием на стенах. Словно не молодая элегантная дама здесь обитала, а суровый джентльмен, отставной полковник королевской гвардии, к примеру.
Сильвия встретила его радушно, Андрею даже показалось, что она искренне обрадована. Такая реакция его удивила, Новиков привык считать, что аггрианка его недолюбливает, а сотрудничает только по безвыходности своего положения. А чуть позже он заметил, что Сильвия откровенно флиртует с ним. Весьма тонко, конечно, как и подобает в ее положении. Забавно, подумал он. Что бы сие значило? Начало собственной игры, преследующей пока неясные цели, или просто желание присоединить к списку своих любовных побед и его тоже, до сего момента демонстративно равнодушного к ее чарам и прелестям? А что? Его неожиданное посещение вполне можно истолковать как намек на желание перевести их отношения в личную плоскость.
— Я вас не ждала, — сказала Сильвия, увидев его, — и собралась на верховую прогулку. Не хотелось бы от нее отказываться. Составите мне компанию?
— С удовольствием. Только одет я неподходяще…
— Это не проблема. У вас какой размер обуви?
— По-нашему — сорок второй. Не знаю, как у вас считают.
— Тогда — никаких проблем. Такие сапоги у меня есть. Слуга проводит вас в гостевую комнату и принесет все необходимое.
…Во время стремительной, сумасшедшей скачки Новиков несколько раз чудом удержался в седле, хотя вообще-то считал себя неплохим наездником. Но до Сильвии ему было далеко. Да и в самом деле — если она не врет, то ее кавалерийский стаж насчитывает десятки лет! Она опередила Андрея почти на сотню метров и ждала его у ворот усадьбы, уже спешившись. Заметила его стиснутые от напряжения зубы и неровное дыхание, подмигнула ободряюще.
— Не расстраивайтесь, скакали вы великолепно, только шансов у вас никаких не было. С моей стороны нечестно было и предлагать. Пойдемте ужинать.
— А как же с призом? Любопытно. Вы себя сами будете награждать?
— Потом узнаете.
Сильвия передала повод подбежавшему конюху и колеблющимся шагом, напоминающим походку Юла Бриннера в «Великолепной семерке», направилась к крыльцу дома.
Пока слуги накрывали стол, Сильвия налила в стаканы не английскую, а скорее русскую дозу выдержанного, пахнущего ячменем и дымом виски, добавила ледяной воды из запотевшего графина.
— Простите, у вас принято, чтобы мужчина разливал спиртное, но здесь я хозяйка, лендлорд, можно сказать, и в таком качестве…
Пригубила стакан, села в деревянное дубовое кресло, положила ногу на ногу, покачивая носком сапога и чуть слышно позванивая колесиком шпоры.
«Почему, интересно, она не пошла переодеться? У них вроде не принято в костюме для верховой езды за стол садиться?» — подумал Новиков.
Угадав его мысли, Сильвия ответила:
— Ужин будет готов примерно через час. Время у нас есть. А я люблю так вот посидеть после прогулки, отдохнуть немного, позволить себе несколько глотков виски или джина. А теперь еще и в обществе интересного собеседника. Расскажите что-нибудь занимательное. Вы со своим другом Антоном встречались после моего ухода?
— Да, встречались. Разговор действительно получился весьма примечательный… — ответил Новиков, а сам подумал, что аггрианка выбрала нестандартную линию поведения. Ну-ну, посмотрим, что из этого получится… — Я расскажу, о чем мы беседовали. Только сначала вот что — вы можете помочь мне приобрести здесь по-настоящему хорошую океанскую яхту?
— Конечно, могу. Нет проблем. В средствах вы не стеснены, — при этих словах Сильвия улыбнулась, — так что можно купить яхту тонн на сто — сто пятьдесят прямо на королевской верфи. Король у нас личность прагматическая, за хорошие деньги уступит… А зачем вам вдруг яхта потребовалась? «Валгаллы» вам недостаточно?
— Надоело мне все, май бьютифул леди. Навоевался я до упора. Войну мы-таки да, закончили. Эту, гражданскую, на европейской территории. Чем завершится дальневосточная — туман. Да мне пока и неинтересно. Я хочу взять Ирину и вместе с ней исчезнуть. Уйти в море на парусной яхте и адреса не оставить. На полгода, а то и год. Как капитан Чичестер, а точнее — Джек Лондон с какой-то из своих жен. Переходить от острова к острову, купаться в лагунах, загорать на коралловом песке, зная, что от ближайшего человека нас отделяет минимум сотня морских миль. Заниматься любовью под звездами на горячей от дневного солнца тиковой палубе. Не пить ничего, кроме фруктовых соков и изредка — пива. Раз в два-три месяца заходить в экзотический порт, как «Летучий голландец», чтобы провести ночь в прибрежной таверне среди контрабандистов и торговцев копрой и живым товаром. Постепенно приобрести сомнительный авторитет среди отбросов общества и малайских пиратов… Заново перевести на русский Лондона и Стивенсона и литературно обработать собственные мемуары. Вот цель жизни на ближайший год. И непременно, сразу по выходе в море, выбросить за борт радиостанцию. Хватит!
А что будет с миром, Галактикой, Вселенной? Да что угодно. Я все же надеюсь, что они оставят нас в покое. Не тревожься о дне грядущем, грядущий день сам позаботится о себе, каждому дню достанет своей заботы. Будем жить по Хайяму: «Вина налей мне, и можешь уходить, куда — мне все равно».
— Я вас понимаю, — задумчиво произнесла Сильвия. — Но мне кажется, что ваши планы несколько… преждевременны. Еще ничего не закончилось. Сейчас подадут ужин, я пойду переоденусь. И вы переоденьтесь тоже…
К столу Сильвия вышла в длинном, до пят халате алого китайского шелка, расшитом черными с золотом драконами. Ткань была настолько тонкой, хотя и непрозрачной, что Андрей смог увидеть — под халатом на ней нет больше ничего. Игра продолжается, господа, подумал он, сохраняя на лице полную невозмутимость. Посмотрим, как она поведет себя дальше.
— Я готова. Так что там у вас получилось с Антоном? Рассказывайте подробно, у нас масса времени…
— На третий? Да, на третий день после похорон Ленина, без всякого мавзолея, разумеется, просто в могиле рядом с Инессой Арманд (Крупская очень возражала, но Троцкий настоял на своем, да и сестры поддержали), я снова с помощью профессора вышел в астральное пространство. Удолин на своем языке называет его Универсальным психическим полем Вселенной, а Антон — Гиперсетью. В нем, в этом поле, меня уже ждал Антон. В той же пещере, у того же не успевшего прогореть костра. Пещера, как я понимаю, своего рода терминал, конечная станция на пути из мира материального в идеальный. Или черт его знает какой. Со всеми этими игрищами я утратил марксистское видение истории, а заодно и представление, как правильно отвечать на основной вопрос философии.
Антон объяснил мне, как сделать следующий шаг. То есть уже находясь внутри сна, ввести себя в транс следующего порядка. И что, оказавшись в нем, следует делать.
Сколь бы ни был могуч мой человеческий мозг, даже задействованный на все сто процентов своей потенциальной мощности, воспринимать непосредственно абстракции высших степеней он не в состоянии. Он должен их хоть как-то адаптировать. Словно бы самому себе словами пересказать содержание бетховенской симфонии. И если там я видел и понял пусть десятую часть истины, то сейчас хорошо бы осознать не половину, куда там, а процентов хоть бы двадцать от того, что мне открылось… Но все же, все же… Все то, что раньше мне сообщалось отрывочно, в виде наобум перелистываемых страниц книги на полузнакомом языке, сейчас предстало как реферат ее же, но по-русски.
Таким образом я узнал практически все, что меня касалось. И, как я уже говорил, в доступной для меня форме. Если бы на моем месте оказался Сашка, он увидел бы и осознал все это как-то иначе. Например — в виде гигантской модели нервной системы, со всякими нейронами, аксонами, периферическими нервами и многомерной послойной разверткой мозга. А я — философ и психолог по образованию, с художественным способом восприятия, переформировал идею Гиперсети в зримое, мультипликационное изображение Вселенной, с Галактиками, Туманностями, Звездными скоплениями, наблюдаемыми словно из ее физического центра. Острота зрения позволяла видеть на миллионы парсек и фокусировать взгляд на любой выбранной точке.
Вдобавок вся картина была многослойной и многомерной. Реальности, существующие в данный момент, обозначались нежно-голубым флюоресцирующим светом. Бывшие, но стертые — всевозможными оттенками красных тонов, от бледно-розового до багрового. Гипотетически возможные в будущем — зеленые, причем интенсивность окраски означала степень вероятности. Суперпространство Вселенной пронизывали сплошные и прерывистые линии, символизирующие причинно-следственные связи. Они непрерывно перемещались, исчезали и возникали вновь, пульсировали… Конечно, никакого представления о том, что я видел на самом деле, мои жалкие слова передать не в силах, говорю я все это лишь для того, чтобы ты знала — я там был, я это видел.
Мне стало понятно, как вести себя внутри Сети, что и зачем нужно делать. Как если бы вдруг Левашов научил меня обращаться с его Большим компьютером, и для меня внезапно приобрели смысл мелькающие на экране слова и символы.
Я узнал, нашел на «схеме» нашу Галактику и нашу Реальность, увидел твой мир аггров и Конфедерацию форзейлей. Понял их взаимоотношения внутри и вне нашей Реальности. И в самом деле, если Земля — это данность, инвариант, то они — продукт и инструмент «Игры». Как на шахматной доске. Есть король, которого запрещено бить, а можно только гонять по полю до того или иного исхода партии, а есть все остальные фигуры. Мир форзейлей, допустим, ферзь нашего цвета, а агрры — ладья противника. Или тоже ферзь. Пока что наш ферзь побил чужого. Убрал с доски, но не более. Тот существует и ждет своего часа. В коробочке. Это наводит на размышления…
При этих словах Сильвия, слушавшая его спокойно, вдруг вскинула голову, даже приоткрыла рот, собираясь что-то сказать, но не сказала. Шумно вздохнула и сделала рукой жест, предлагая продолжать.
— Ну вот. Узнал я все это, и начались мои странствия по Сети. Мне было сообщено, наверное, что существует некий «Узел», который заключает всю информацию о земной Реальности, о ее существовании, о месте внутри всей этой Гиперсети. Я воспринимал его как участок мозга, ведающий зрением, слухом или еще какими-то конкретными способностями. Или, по-другому сказать, как микросхему в памяти компьютера. И я его нашел, этот «Узел». Но не понимал, что я должен делать дальше. То есть я чувствовал — идеальным решением было бы как-то его блокировать, устранить из Сети или перерезать ведущие к нему «провода» причинно-следственных связей. Тогда мы на самом деле выпали бы из поля зрения «Игроков». Может быть, и навсегда, причем сохраняя за собой возможность самим вмешиваться в ход «Игры».
Сам же я не мог до такого догадаться, значит, кто-то мне такую мысль внушил? Гроссмейстер, играющий белыми? Не есть ли это разновидность шулерства? Точно по Ильфу — Петрову: «Остап украл ладью и спрятал ее в карман».
Но ладья ведь не может украсть сама себя, значит, действительно… Да что действительно? Пусть я не фигура, но и не игрок тоже. Скорее, соседский пацан, которого взрослый дядя подучает пошутить с другим дядей…
Хотел бы я знать, а как такое совершить? Я чувствовал себя диверсантом, рассматривающим карту. Вот вражеская территория, вот мост, который нужно взорвать. Я вижу его изображение, могу представить, как он выглядит в натуре. А дальше? Стереть его с листа резинкой? Безнадега? Пожалуй — нет. Карта — реальность, мост — реальность. Остается что? Придумать, как перейти фронт, как добраться до моста и снять охрану. С помощью инженеров рассчитать, сколько нужно тола и куда его закладывать. А потом крутнуть ручку индуктора или чиркнуть спичкой. Трудно, иногда почти невозможно, однако из истории известно, что тем или иным способом нужные мосты обычно все-таки взрывались.
И тогда меня вынесло обратно. В пещеру. Антон сидел, протянув ноги к костру, и, кажется, дремал. Или медитировал. Не удивлюсь даже, если он каким-то образом сопровождал меня «там».
— Привет, вот я и вернулся…
— Привет. Тебе понравилось?
— Нормально. Почти как в планетарии. Незабываемые впечатления. Скажи мне только, будь любезен, не новая ли интрига вами, братцы, затевается? Который раз уже ты нам намекаешь, что есть, мол, парни, небольшая работенка. Для настоящих мужчин. Как в рекламе для белых наемников: «У нас ты можешь повидать весь мир. Встретить много интересных людей. И убить их».
— Как знаешь, Андрей, как знаешь. Я ничего тебе не предлагаю. Ты сам все видел. И кое-что понял, надеюсь? Мы с тобой в разных весовых категориях. Мы могучая цивилизация, форзейли, умеем делать почти все в пределах материального мира, а вот играть нам не дано. Мы и в самом деле только фигуры на доске…
— Обидно? — спросил я.
— Не совсем то слово. Тебе же не было в прошлой жизни обидно, что ты — не Юрий Власов и не президент США? Вот когда начальником отдела назначили не тебя, а другого, тогда обидно было. С нами так же. Однако… — Антон вдруг стал ускользать взглядом, прикуривать сигарету от головешки, и я догадался, что был прав.
— «Информационный узел» ты видел? — прозвучало это хоть и как вопрос, но риторический. Я к нему так и отнесся.
— Для нас он важен не менее, а может, и более, чем для вас. Мы, я повторяю, инструменты. Инструменты балансировки Реальностей. Смысл нашего существования — вспомогательный. Но есть предположение, даже уверенность, что, если «Реальность Земля-1» выпадет из Сети, мы тоже обретем свободу. Исчезнет «сверхзадача» нашего существования, и мы станем обычной, никому особенно не интересной галактической расой.
— Надолго ли? — спросил я с некоторым злорадством, что ли. — Фигурка закатилась под диван, игрок ее поднял и вновь поставил на доску…
— Может быть, очень может быть, — ответил мне Антон. — А может, и нет. Игроки смахнут фигуры в коробку, пойдут выпить пива, а потом надумают сразиться в нарды или в бильярд…
— Или вообще двинут по девочкам…
— Допускаю. И пока они вновь вспомнят про свои шахматы, и ваша и наша цивилизации спокойно доживут до естественного конца.
Сказал он это и вздохнул.
— Впрочем, нет. Мы, может, и доживем, а у вас карма другая… Однако я готов оказать вам всю возможную помощь, если вы согласитесь не выходить из игры. Уверен, что будут еще обстоятельства, в которых я тебе пригожусь.
— Как в известной русской сказке. Только знал бы ты, как все уже обрыдло. Век бы тебя не видеть…
— Век не век, но определенный люфт по времени у вас еще есть. Отвлекающий удар вы нанесли, по моим расчетам, год-другой они вашего выпадения из Реальности не заметят. Ну а дальше — дальше как бог даст…
— Ежели ты правду говоришь, — обрадовался я, — так крайне был бы тебе обязан, если хоть на год ты меня в покое оставишь. Давай договоримся по-джентльменски: мы живем здесь, как можем, решаем свои мелкие человеческие проблемы, ты тоже занимаешься своими делами. И отслеживаешь ситуацию. Как только заметишь, что в нашу сторону вновь начинают поглядывать — приходи. Тогда все и обсудим. Устраивает?
— Будь по сему. Отдыхайте. А я, значит, на страже… Каждому свое. Давай прощаться. И по-прежнему опасайся «Ловушек сознания».
— Так ты же сказал…
— Это вещи разноплановые. Охотник с ружьем — одно, капкан в лесу — другое. Заметишь резкое и немотивированное изменение обстановки — всеми силами уклоняйся от столь же резкого ответа. Любой ценой старайтесь удерживать статус-кво. Тогда обойдется…
И за секунду до того, как вернуться «домой», я у него спросил:
— А что же означает то, что снаружи?
Там по-прежнему завывала пурга и брели по нашему следу враги.
— Вариант. По какой-то причине недореализовавшийся. Но и не отмененный, раз мы в нем побывали. Как раз из разряда ловушек. Вдруг тебе покажется, что непреодолимо тянет в Иркутск, Колчака спасать, так лучше воздержись…
— А не выйдет так, как в истории с рабом и смертью? Раб увидел на базаре в Багдаде смерть, она погрозила ему пальцем. Раб в страхе прибежал к хозяину. Тот дал ему денег и отправил в Басру. На другой день уже хозяин встретил на базаре смерть и спросил: «Зачем ты напугала моего раба?» — «Я не пугала, — ответила смерть, — я просто удивилась, что он тут делает, ведь я должна забрать его в Басре…»
— Не знаю, Андрей, не знаю. Как мог, я тебя предостерег. Желаю удачи…
И я вернулся в Москву…
Дослушав его долгий рассказ, Сильвия ничего не сказала. К этому времени они покончили с десертом. Дав знак слугам убирать со стола, аггрианка поманила Новикова за собой.
В каминном зале был накрыт столик для кофе. Когда Сильвия садилась, полы халата на мгновение распахнулись, подтвердив предположение Андрея. Оба сделали вид, что ничего не заметили. Хотя сердце Новикова зачастило, и он подумал, что устоять против ее провокаций будет трудновато.
— Ты знаешь, Андрей, я пока не до конца разобралась в том, что ты мне рассказал. Но одно могу сказать сразу — слова Антона могут иметь совершенно противоположный смысл.
— Как это — противоположный? — не понял Андрей.
— Да вот так. Все наоборот. И в отношении наших с форзейлями ролей, и в отношении той функции, которую вы якобы призваны исполнять во Вселенной.
— Не понимаю, — повторил Новиков.
— Я тоже, — успокоила его аггрианка. — Но постараемся разобраться. Попозже… Ты ведь любишь вашего поэта Гумилева? — Она улыбнулась очень двусмысленно. Отчего-то у Андрея пробежал по спине мгновенный холодок. — Я его знала лично. Когда он приезжал в Лондон в качестве сотрудника русской военной миссии. Интересный мужчина. У него есть гениальная строчка — «Огненные грезы Люцифера». Так вот вся наша жизнь, возможно, эти самые грезы. Не нравится? А что делать? В любом случае, разведка боем прошла успешно. Это ты очень правильно выразился. Разведка боем… А я тут времени даром тоже не теряла. Ты интересовался, как я буду разбираться со своей «альтер эго»? Не пришлось разбираться. Я вернулась в лондонский дом, предварительно убедившись, что ее там нет. Меня встретил дворецкий. Джон. На самом деле его зовут по-другому, но в служебное время у меня все дворецкие — Джоны. Моя маленькая причуда. Он очень обрадовался, хотя человек обычно сдержанный, хорошо вышколенный. В крайне деликатной форме посетовал, что я не нашла времени, уезжая, предупредить его и сообщить, как он должен отвечать на вопросы, когда леди вернется. Ему пришлось взять на себя смелость отвечать, что я уединилась в одном из своих поместий и не велела беспокоить… Оказалось, что я отсутствовала почти месяц. Сам же Джон очень тревожился и уже подумывал, не обратиться ли в полицию.
Видимо, я была права — она исчезла синхронно с моим перемещением из лондонской Реальности восемьдесят четвертого года в ваш Замок.
— То есть ты исчезла из нашего времени и автоматически из отрезка времени, непосредственно предшествовавшего нашему переходу, — спросил Новиков. — Но это же абсурд…
— Почему?
— Да как же… Логично было бы предположить, что ты исчезнешь из всего временного отрезка, в котором находилась с момента твоего появления на Земле. И никакого дворецкого, никакого дома леди Спенсер просто не существовало бы… А так полный бред получается.
Сильвия звонко рассмеялась. Словно забывшись, привычным движением закинула ногу за ногу. Перехватила взгляд Андрея, нарочито медленно прикрыла оголившиеся до самого верха бедра.
— Ох, простите ради бога, мне показалось, что я по-прежнему в брюках. А насчет свойств времени вы заблуждаетесь. Новая Реальность сформировалась только в момент моего прихода в Замок. И отличалась от прежней единственным параметром — моим в ней отсутствием. Вот в эту новую Реальность Антон вас и переместил, а совсем не в ту, которую он якобы сформировал специально для вас. И над этим тоже придется поразмышлять. Специально он так поступил или действительно следовал чужой воле? А пешка он или ферзь — не столь уж важно.
Но я продолжу. Поднявшись в комнаты, я обнаружила, что моя предшественница исчезла действительно мгновенно, ничего не поняв и не почувствовав. В кабинете на кресле лежало платье, внутри него — белье. Под столом — домашние туфли. По ковру раскатились перстни, которые я в те годы любила носить. То есть растворилось в мировом эфире только тело…
— Мне трудно это вообразить, — признался Новиков.
Сильвия пожала плечами.
— Затем я пригласила своего адвоката. У меня с собой, как ты помнишь, был чемодан фунтов. Около двадцати миллионов. Сначала я хотела просто положить их на свой счет, а потом вдруг решила сама стать банкиршей. Это гораздо удобнее. Возникли некоторые затруднения, слишком большая сумма наличными, но я сумела объяснить адвокату их происхождение. Все-таки в начале века нравы были попроще, не существовало законов против «отмывания грязных денег». Но сейчас почти все мое состояние ушло на подарки и взятки. Вы не представляете, как дорого себя ценят честные люди. Зато теперь Ллойд-Джордж мой лучший друг и половина членов кабинета тоже. Южной России больше ничего не угрожает. По крайней мере — до очередной смены здешнего правительства. Ты мне привез еще денег?
— Денег пока нет. Не можем же мы третий раз дублировать банкноты с теми же номерами. Я привез всего сто тысяч в золотых долларах и килограммов двадцать бриллиантов, от одного карата до десяти. Более крупные трудно будет реализовать. На первое время хватит?
— Надеюсь. Но можно ведь еще раз настроить пространственный канал и переправить сколько-то золота прямо в хранилища моего банка. Тонну или две.
— Сделаем, конечно. Я все-таки остаюсь при своем мнении — лечь на дно и посмотреть, как все будет складываться. Давай завтра съездим в Лондон, попробуем к яхте прицениться. Потом я заберу сюда Ирину, переправлю тебе золото — и в моря.
— Хорошо, поедем. А что будет с остальными?
— Что-нибудь будет. Сашка, глядишь, возьмет и женится на Анне. Политические игры ему пока еще не надоели — будут вместе с Берестиным врангелевский режим укреплять. Олег и Лариса, как и договаривались, серым кардиналом при Троцком поработают. Воронцов… Воронцов с Натальей, может быть, вслед за нами в плавание отправятся… Были у них такие планы. Да это же все условно… Пока левашовская машинка работает, в любую секунду все снова вместе собраться можем.
— А для меня ты какую роль наметил? — с интересом спросила Сильвия.
— Я уж и не знаю… Ты женщина взрослая. Как пожелаешь, так и сделаешь. Я думаю, тебе и в прежней роли неплохо. Молодость, богатство, положение в обществе и никаких служебных забот. Захочешь — к Алексею в Россию отправишься, захочешь — его сюда пригласишь…
Сильвия капризно надула губы и взмахнула ресницами, изображая манерную девицу.
— А с чего ты взял, что ваш Алексей меня так уж привлекает?
Андрей развел руками.
— Впрочем, ты почти прав. Как мужчина он меня устраивает. Может быть, закончив свои дела здесь, я его навещу…
Она встала, прошлась по залу. Остановилась возле камина, взяла с мраморной полки длинный, слоновой кости мундштук с уже вставленной сигаретой, прикурила по-солдатски, от огненно рдеющего уголька.
— А ты, князь, не забыл о своем проигрыше? — спросила она, прищурив глаза.
— Каком проигрыше? — не сразу понял Новиков. Слишком о многом они переговорили в этот бесконечный вечер.
— На скачках. У русских аристократов принято платить долги?
— Конечно. И в чем мой долг заключается?
Смутно улыбаясь, Сильвия села на распростертую перед камином шкуру гигантского бенгальского тигра. Такую гигантскую, что можно было предположить, что она мастерски сшита из двух или трех.
Приняла позу памятника андерсеновской Русалочке на набережной Копенгагена. Повела плечами.
Невесомый халат медленно соскользнул на пол.
— Я выиграла приз. Который сама учредила. Мой приз — ты. Иди сюда, князь…
Андрею вдруг стало неуютно. Оттого, что находится он неизвестно где. Что темнота по углам как-то неожиданно сгустилась, а тусклое пламя догорающих дров в камине, отразившись в глазах аггрианки, придало им нечеловеческий алый блеск. Будто изнутри зрачков включился сильный фонарь. Однако эта иллюзия длилась всего лишь мгновение. Новиков сдвинулся в кресле, меняя точку зрения, и наваждение пропало. Осталась молодая женщина с надменным, но одновременно и ждущим отклика на свой поступок выражением лица.
— Вот уж… — медленно сказал он. — Кем-кем, а призом я себя никогда не мыслил. Тебя в качестве приза я воспринял бы с восхищением. Потому что ты… действительно неотразима. Но не в таком вот варианте.
Андрей говорил чистую правду. В тщательно срежиссированной ситуации Сильвия выглядела изумительно. Фон, обстановка, освещение, линии ее умело обнаженного по пояс тела и как раз там, где нужно, брошенного на колени халата способны были вывести из равновесия почти любого мужчину. Его в том числе. И мгновенно трезвые мысли исчезли из его головы. Он почувствовал невероятной силы возбуждение и влечение к сидящей перед ним женщине. Во рту стало сухо, и сердце тяжело заколотилось не на своем месте, а прямо под горлом. Такое он испытывал только однажды в жизни.
В семидесятом, кажется, году он поехал в студенческий альпинистский лагерь в Домбае и влюбился там в великолепную девочку, поразительно похожую на юную Брижит Бардо. Но лучше, с поправкой на славянский тип. И она вроде бы его ухаживаний не отвергала. Ходила с ним на танцы и в бар «Горных вершин», даже позволила однажды себя поцеловать, но не давая воли рукам.
Это ему тоже понравилось. Скромная девушка. Все идет, как надо. Через неделю они вернутся в Москву, и уже там…
А потом случилось невероятное… Невероятное статистически совпадение.
Он залез на гребень скалы и рассматривал в двенадцатикратный морской бинокль подходы к вершине, которую предстояло завтра штурмовать. Потом повел объективами по ущелью, где далеко внизу возвышался на берегу реки громадный камень, напоминающий в миниатюре плато Мепл-Уайта из романа Конан Дойла. (Он был книжным мальчиком и во всем находил соответствующие литературные ассоциации.)
Мощные стекла приблизили плоскую, окруженную густыми кустами площадку на расстояние чуть ли не протянутой руки.
Благородному человеку, конечно, полагалось бы тут же отвернуться.
Он этого не сделал. Да и можно ли было его осуждать, пораженного в самое сердце?
Его подруга сидела на траве, на том единственном месте, которое можно было увидеть тоже из одной-единственной точки и именно в сильный бинокль.
А рядом с ней находился тридцатилетний инструктор, на взгляд Андрея — тупой и грубый парень, с пышной гривой волос, начинающихся прямо от бровей.
В обморок Андрей не упал, хотя нечто похожее почувствовал. Смотрел и смотрел, как альпинист положил ее на спину, стянул с нее тренировочные синие брюки. Не успевшие загореть ноги девушки сверкали на солнце, а главное, ракурс наблюдения позволял Новикову видеть ее лицо.
Потом инструктор равнодушно курил, пока она приводила себя в порядок у него за спиной, но тоже на глазах Андрея. Ушли они с площадки порознь.
И еще Новикову показалось, что, одеваясь, она будто бы с опаской взглянула через объектив бинокля прямо ему в глаза. Неужели что-то почувствовала? А что, вполне. Заряд эмоций тогда от него исходил колоссальный.
Мало того, что Андрей вообще впервые наяву наблюдал известный процесс, так ведь и разочарование в женщинах он испытал тоже впервые в жизни!
Вот и сейчас он едва-едва удержал себя в руках. Но опыт и самодисциплина позволили сохранить невозмутимое выражение лица.
И еще — он догадался, что воспоминание старательно стертого из памяти эпизода было далеко не случайным.
Сильвия поняла, что прием не сработал.
Вздохнула, чуть откинулась назад, опершись рукой о шкуру и поведя плечами.
— Ты что, мой дорогой князь, настолько моногамен? Моногамен, как осел? — Сильвия презрительно скривила губы. — Твоя Ирина, думаешь, идеал женщины, и ты не желаешь проверить, так ли это?
Новикову стало легко на душе. Партнерша совершила очередную ошибку, избавляющую его от вполне естественных в данной ситуации буридановских терзаний.
— Отнюдь и отнюдь, май бьютифул леди. Совсем не в моногамности дело, тут я как раз вполне свободомыслящий индивидуум, и тем более не в Ирине…
— В чем же тогда?
— А в тех же, мною упоминавшихся словах Антона. Не делай того, что выглядит немотивированно. А твой жест к таковым и относится. Не верится мне отчего-то, что такая женщина, как ты, вдруг воспылала неудержимой страстью… Да если бы так случилось на самом деле, все равно… Потом — я действительно боюсь потерять в твоих объятиях голову. Настолько, что ты сможешь внушить мне любые мысли и поступки.
— Вот ты о чем, — протянула Сильвия со всей доступной ей степенью иронии в голосе. — Ловушки сознания. Поверил, значит? И в то, что я по-прежнему веду свою игру, тоже веришь? Как же мне тебя разубедить? — Она переменила свою неудобную позу на более свободную.
— Вот этого я более всего и хочу. Сумеешь — нам с тобой куда легче станет общаться.
— Но разве я еще не доказала свою лояльность? Я все проиграла, искренне перешла на вашу сторону, три месяца мы союзники, да и вообще деваться мне просто некуда. Ирине же ты веришь безоговорочно… А чем она лучше меня?
Новиков на всякий случай встал, смотреть в упор на как бы между прочим поигрывающую самыми выразительными частями своего эталонного тела, то вызывающе, то печально улыбающуюся Сильвию ему было трудно. Отошел к окну, за которым медленно растворялся в вечерней дымке не по-русски изысканный пейзаж.
— Ничем, наверное. Кроме десяти с лишним лет близкого знакомства. А тебе поверить? Я и верю в допустимых пределах. Знаешь, на меня вредно влияет наш российский исторический опыт. Сам не знаю, отчего так происходило и происходит, но… Америка и Англия умеют побежденных противников делать зависимыми, но искренними друзьями. Германию взять, Японию, даже Индию и другие бывшие колонии. Россия же всегда получала в лице побежденных и даже бескорыстно спасенных государств тайных врагов, только и ждущих случая. Турция, Восточная Европа, Кавказ, Средняя Азия… Нам слащаво улыбаются, по мере сил предают и всегда готовы воткнуть нож в спину. Наверное, как раз за то, что мы такие простодушные придурки…
— Ты хочешь сказать, что и я…
— Почему — хочу? Я уже сказал…
Сильвия окончательно помрачнела, легко вскочила на ноги, но и тут рассчитанно помедлила перед тем, как снова скрыть свои прелести алой тканью. У стойки бара налила себе розового джина, бросила в стакан пять или шесть кубиков льда. Но разочарованной она не выглядела. Скорее — сосредоточенной на каких-то новых мыслях.
— Может быть, нам с тобой все же есть смысл и способ договориться? — сказала она, сделав маленький глоток.
— О чем?
— Да все о том же, господи! Как вы мне надоели с вашей славянской подозрительностью и византийским стилем мышления. Вечно ищете врагов вокруг и готовы месяцами толочь воду в ступе там, где достаточно нескольких конкретных пунктов соглашения и джентльменского слова.
Андрей улыбнулся поощрительно и сочувственно.
— Ведь ты же телепатка и экстрасенска, разве нет? Неужели не видишь, что я сказал тебе все, что знал и думал? Так, может, хватит? Давай договоримся, если есть о чем, или плюнем на все, допьем свои бокалы и завтра уедем в Лондон…
Сильвия опять глубоко вздохнула.
— А в то, что я просто захотела провести с тобой ночь любви, ты все же не поверил?
Новиков неопределенно дернул плечом.
— Ну, может быть, ты об этом еще пожалеешь… Поскольку сам не знаешь, сколь многое рискуешь потерять.
— Догадываюсь, — успокоил ее Андрей. — Тем более ничего ведь не решено окончательно. Ты же вот ходишь вокруг да около, словно тебе, по известной русской поговорке хочется… и того, и другого сразу. Так давай, решайся.
— Я уже давно решилась и прямо сказала об этом. А ты все время верил Антону. И даже сейчас продолжаешь меня подозревать в каких-то коварных замыслах. А все обстоит совсем не так… Ты мне действительно очень симпатичен, как человек и… как мужчина тоже. Мне показалось, серьезные разговоры на сегодня закончились, вот и решила предложить тебе слегка рассеяться. Ты же… — аггрианка безнадежно махнула рукой. — Только зря ты ждешь сейчас каких-то откровений, страшных тайн и контрактов, подписываемых кровью. Я хотела сказать тебе одно — не повторяй ошибок, которые почти невозможно исправить. Вынужденный союзник нередко хуже врага. Я вот ощущаю себя природной англичанкой и все-таки убеждена — по смыслу и логике истории в первой мировой России следовало бы воевать на стороне Германии. Улавливаешь аналогию?
— Даже в большей мере, чем ты имеешь в виду. И что из этого проистекает? Что впереди война под номером два? Тогда намек не по адресу.
Сильвия досадливо закусила губу.
— Да не ходи ты вокруг да около. Давай попросту — ты предлагаешь наш с тобой союз против Антона? — Новиков решил взять инициативу в свои руки. — И какова будет его цель?
— Что такое Антон? Сам же был там и все видел… — она указала пальцем в потолок.
— Значит — сразу против его «хозяев»? — Андрей даже и не удивился. Он давно ждал, что рано или поздно Сильвия предложит нечто подобное.
Аггрианка едва заметно качнула головой.
— Слишком у тебя все однозначно — «за», «против». Абсолютное добро, абсолютное зло. Манихейский образ мира. Пора учиться мыслить шире. Нет постоянных друзей, нет постоянных врагов, есть постоянные интересы. Я долго вас изучала, никак не могла угадать, кто же первый постигнет смысл своего предназначения…
— Вот оно что… — Новиков едва удержался, чтобы не хлопнуть себя ладонью по лбу. — А я-то думал, ты у нас действительно нимфоманка! Сашка, Берестин и, наконец, я. Неглупо. Приятное с полезным. И что теперь? В чем заключается наш с тобой постоянный интерес?
— Вот этому я тебя и собираюсь научить. Надеюсь, что у нас получится…
— А ежели доступнее? Для дураков чтобы. А то я никак не врублюсь в твои построения.
Сильвия резко поставила стакан на стойку. Похоже было, что он-таки сумел вывести ее из себя.
— Я предлагаю тебе на короткое время забыть обо всем, что тебе вколочено в мозги Антоном, Ириной, не знаю, кем еще. Попробуй впервые за долгий срок пожить своим умом. Обратись к Реальности. Узнай то, чего ты еще не знаешь. А уж потом и суди. Ничего больше мне от тебя не нужно.
Андрей захотел было, подчиняясь ставшей сутью его натуры привычке, съязвить или вновь начать плести долгие, ни к чему не ведущие, но позволяющие ощущать себя тонким софистом, словесные кружева. И вдруг решил, что не стоит.
— Хорошо, леди Си, я слушаю тебя, — сказал он спокойно и тихо.
— А если слушаешь, я предлагаю тебе посмотреть на Реальность чуть-чуть другими глазами…
Новиков подумал, что делает глупость, что лучше было бы, не вдаваясь в мировоззренческие дискуссии, сжать эту наглую, но все равно ужасно привлекательную бабу в объятиях, отомстить ей за все, и за юношеское разочарование совсем в другой девушке тоже, однако вместо этого облокотился о край столика, взял из пепельницы почти догоревшую сигарету, затянулся как бы на прощание и сказал:
— Черт с тобой, дорогая. Давай посмотрим.
Сильвия неуловимым движением извлекла из-под столика, с полки, ранее не замеченной Андреем, свой пресловутый портсигар.
— Так что, пойдем в неизведанные миры?
— Пойдем, май бьютифул леди…
Женщина медленно протянула вперед руку, с улыбкой, в которой Андрей вдруг увидел сочувствие и нежность — вот именно — нежность, направила ему в лицо искрящуюся монограмму и, секунду помедлив, нажала рубиновую кнопку…





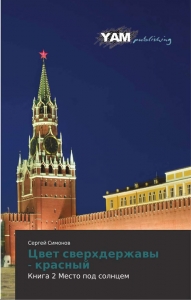




Комментарии к книге «Разведка боем», Василий Дмитриевич Звягинцев
Всего 1 комментариев
гога магога
07 дек
в сущности ни чего нового...Рассуждения с позиции "РЕШКА" ИЛИ "ОРЕЛ" приводит цель в "тупик". Нет другого понятия жизнеспособности сообщества.. Кругом "геноцид под другой личиной... А где "РЕВЕРС"??? А если глубже "СФЕРА", а если ещё и "неосфера"... Всё притянуто и не ново.... А так, для приятного времяпровождения, чтиво посредственно, даже в сюжете нет интриги особой.... ЕСТЬ ТОЛЬКО ГИПОТЕЗА....Я таких накидаю с мешок и вагончик....