Анатолий Матвиенко Эпоха героев и перегретого пара
«…Очевидно, что только русской ленью следует объяснить поразительные успехи этой страны, которая справедливо считалась тёмной окраиной Европы и медвежьим углом. Ради возможности ничегонеделания русские способны на невероятную изобретательность. Они готовы трудиться до кровавого пота, лишь бы наградой была праздность. И когда восточные дикари вздумали переложить работу на паровые механизмы, они буквально костьми легли ради этой перспективы, опередив цивилизованные государства Запада».
Лорд Траффорд Брейни, первый баронет Йоркширский Из выступления в Палате Лордов. «Таймс», 6 марта 1873 годаЗабавная заметка в газете, третьего дня присланной из Лондона, сообщила о новых и тщетных потугах британских джентльменов раскрыть тайну «русского чуда». Лорды, так и не поняв своеобразия нашей страны и её народа, по-прежнему изрекают глубокомысленные суждения о необычных чертах, якобы присущих русским людям. Правда проста и незатейлива — однажды владение паром стало условием: без паровых машин держава не выжила бы. Привёл же страну на край гибели и оттого предрешил её успехи не русский, а совершенно немецкий человек по имени Пауль Пестель, далёкий от инженерных и прочих научных дел. В декабре 1825 года он услышал о гвардейском бунте в Санкт-Петербурге и тотчас поспешил в столицу, желая облагодетельствовать Отечество сочинённой им конституцией, именуемой «Русская Правда». С тех пор история Государства Российского нежданно свернула с привычного русла и понеслась в направлении, никак не предсказанном западными знатоками.
Часть первая. Русский Рейх. Das Russische Reich
Глава первая, в которой граждане графы знакомятся с новой русской действительностью
По польской дороге неспешно катилась карета с двумя ветеранами наполеоновских войн.
— В Бородинской баталии тоже участвовали, Павел Николаевич? Осмелюсь спросить, сколько же лет-то вам было?
Бывший граф, а ныне заурядный гражданин Российской Республики Павел Демидов загадочно улыбнулся, вспоминая юность.
— Четырнадцать, любезный Александр Павлович. В кавалергардский полк меня в начале войны зачислили. Не столько протекции благодаря, сколько росту высокому, не глядя на юный возраст. И — да, отрицать не стану, батюшка мой Николай Никитич постарались, снарядив конный полк за свой счёт.
Напротив Демидова на мягких подушках роскошной кареты восседал другой бывший граф. О чудодейственном превращении собственной светлости в обычного гражданина и городского обывателя Александр Павлович Строганов узнал, находясь в Париже. Он ничуть сему факту не расстроился. Не мудрено — и при Бурбонах парижские улицы, пропитавшиеся вольнодумством, якобинством и революцией, каждому проходящему норовили в ухо шепнуть: свобода, равенство, братство.
По матери Елисавете Александровне, урождённой Строгановой, бывший кавалергард Павел Николаевич Демидов приходился дальним родственником второму путешественнику и искренне обрадовался, встретивши того в Варшаве. Дорогу до Москвы бородинские ветераны коротали в беседах, пока демидовский кучер погонял четвёрку отличных лошадей, а лакеи двух господ тихо злословили про хозяев.
— Сдаётся мне, кавалергарды знатно там отличились, — Строганов продолжил близкую обоим ратную тему.
— Было дело, да-с. С бригадой генерал-майора Шевича аккурат перед батареей Раевского рубили кавалерию де Груши́. Поверите ли, Александр Павлович, строен я был тогда и проворен, — с нескрываемой грустью Демидов опустил очи к жилетке, заметно подпираемой плодами чревоугодия. — А вы?
— Не без этого, изящество фигуры поутратил малость. Бог, как видите, росточком не обидел, но в кавалергарды выбиться не довелось. При Бородине также пороху нюхал. Первый лейб-гренадерский Екатеринославский полк, чай слышали?
— Непременно-с. Так что мы оба, как говорится, огнём опалённые. Позвольте полюбопытствовать, в Москву надолго или сразу в родные пенаты — во Владимир?
— Что значит — во Владимир? Нет у меня в нём дел.
— Выходит, вы не в курсе Александр Павлович, что Владимиром нынче зовётся бывший Нижний Новгород. По личному повелению Государя нашего и председателя Верховного Правления Павла Ивановича Пестеля.
— Не скрою, удивили. Более, нежели отделением Польши. Так что — на Руси два Владимира?
— Прежний нарекли Клязьминском. Река там протекает — Клязьма.
— Стало быть, Петербург поименуют Невском, а Киев — Днепровском.
— Сие не ведомо. Только купечество нижегородское, кое ныне владимирским зовётся, за подсчёт барышей принялось. Пал Иваныч перенос столицы во Владимир замыслили. Оттого купеческие обчества скупают дома в городе, землица каждый день дорожает. Шутка ли — столица российская. Потом продадут сам-три, а то и сам-пять.
— Лопнут от барышей, — усмехнулся Строганов. — А Пестель-Государь, небось, отгрохал себе палаты с видом на Волгу?
— Не успел, сердешный. Переезд затеял из ненавистного ему Питера, да и застрял в Москве. Нет пока во Владимире казённых зданий, пригодных вместить Верховное Правление, коллегии да войсковой штаб. Фискалы с Синодом перебрались, Адмиралтейство, Почта и Презрение в Санкт-Петербурге замешкались. Так и правит наш вождь на три столицы.
— Pardon, Павел Николаевич, разъясните другое. Ладно Санкт-Петербург, вотчина романовская, ему не люб. Чем Москва плоха?
— Владимир народнее. Пестель нижегородцев почитает, Минина с Пожарским. Кстати, как в Республику въедем, извольте попридержать pardon и s'il vous plaît. Язык оккупантов двенадцатого года под запретом, потрудитесь по-русски говорить. А в Верховном Правлении немецкий уважают. Вы же помните Пестеля, Кюхельбекера, Дельвига. У них с русским языком… не очень, знаете ли.
— Как же, поэтические опусы Дельвига и Кюхли читывал. На благо Республики запретил бы им Пестель по-русски писать, не позориться.
— Недооцениваете Павла Ивановича. Запретили-с, и давно, и слава Богу.
За окнами кареты проплывали последние аккуратные польские маёнтки. Летний ветер лениво шевелил шторку на окне, экипаж покачивался на рессорах, да кучер покрикивал на лошадей. Александр Павлович, давно в Восточной Польше не бывавший, поглядывал в окно. Удивительное дело, даже сидя он сохранял особую ровность стана, и в сером английском рединготе продолжал выглядеть лейб-гренадёром, снявшим мундир по недоразумению и не надолго. Его спутник, напротив, ощутил, что недавно строенный по фигуре сюртук уже несколько стесняет по-купечески раздобревшее тело. Расстегнув опасно натянутые пуговицы, гражданин граф удобно развалился на сиденье и засвистел в такт сонному дыханью.
Мирная и несколько ленивая даже атмосфера сохранилась до времени, когда упряжка поравнялась с хвостом очереди из телег и карет у русского кордона.
Строганов выглянул из окошка.
— Павел Николаевич, накажите Прохору проезжать. Неужто мы стоять будем?
— Извольте сесть, дорогой родственник. Вперёд нас толпятся такие же граждане. Мы не из Верховного Правления, к Повелевающим не причислены. Посему полно вам волноваться, и поспешать не след. Кликну Егорку обед сообразить.
Кордон меж Россией и Привисленскими землями казался форменной нелепицей. Однако польская независимость потребовалась новому государю незамедлительно и всенепременно. Оттого он поторопился исполнить данные полякам обещания, одарив их Гродненской и Брест-Литовской губерниями. Когда четвёрка поравнялась наконец со шлагбаумом, пассажиры кареты успели потрапезничать и задремать. Посему солдатский окрик: «Хальт! Аусвайс!»[1] ворвался в их грёзы ружейным выстрелом.
Строганов и его лакей Гришка протянули российские заграничные пашпорты, выданные ещё Министерством иностранных дел Российской империи.
— Найн! Не действительны! — рявкнул солдат пограничной стражи.
У Демидовских приключилось не лучше. Лишь паспорт Павла Николаевича не вызвал нареканий постового. Лакей Егорка и кучер Прохор ко времени выезда в Варшаву состояли дворовыми крепостными. Граф на основании ревизской сказки справил им как сельским обывателям покормёжные и пропускные письма. Однако за время отсутствия Егорка с Прохором обрели свободу от крепостных оков, а Варшава обернулась заграницей. Оттого документы новообращённых в российское гражданство дворовых превратились в недействительные.
Строганов выбрался из кареты, шагнув начищенными антрацитовыми сапогами в мелкую летнюю пыль. Окинул взором стража кордона и подумал себе, что попадись ему эдакое расхристанное чучело в бытность службы в лейб-гренадерском полку, не побрезговал бы сквозь строй прогнать. Сапоги в гармошку, несвежие рейтузы пузырями, зелёный мундир сохранил свой колер лишь частию — позор, а не защитник Отечества.
Пугало унесло кипу бумаг в караулку. Демидов и Строганов потащились следом.
— Хер цугфюрер! Кайн папире![2]- доложил страж кордона на отвратительном немецком, качнув давно нечищеное ружьё со штыком в сторону путешественников.
— Чево? — тот поднял мутный взгляд от стола, на котором для виду лежала горка бумаг, а главное украшение составила пара раздавленных мух.
— Так что это, господа хорошие бумаг не имеют.
— Мятежники?! Под арест!
— Никак нет, хер цугфюрер. Просрочены бумаги-то. Имперские пашпорты да крепостные подорожные.
— Ага, — заключил постовой начальник и принялся думу думать. Сие дело заняло минут десять. И с польской, и с русской стороны к посту стянулись недовольные ожиданием. Наконец герр офицер выдал плод раздумий собравшимся.
— Вона как. Тадыть в Варшаву надо.
— Как в Варшаву? — задохнулся в недоуменьи Строганов.
— Известно как — поспешая. Там к русскому консулу, он вам временный пропуск да и выправит.
— Нету доколе в Варшаве консула, — подсказал Демидов.
— Извиняйте, господа, тут уж ничем не подсоблю. Консулы в ведении Посольской коллегии, — сторож границы печально руками развёл, потом нагнулся и заговорщически шепнул. — Али платите сто рублёв и езжайте с Богом.
Они возмущённо переглянулись. Конечно, оба не бедны, за вечер и по тыще на зелёном сукне оставляли. Однако на сто рублей семья мелкого чина месяцами живёт — не тужит.
Сомненьям положил конец громкий шум с менской стороны. По-первости шествовал солдат в таком же мундире, как и у кордонного, но чистый, подтянутый, лоснящийся. На рукаве форменки алела повязка, в белом круге чёрный двуглавый орёл.
— Разойдись! Цурюк, граждане. То бишь — назад все.
За энергическим военным важно протопал синий мундир генеральского вида. Цугфюрер резко вскочил, чуть стол не опрокинув. Заметив, что двое господ по-прежнему отираются у караулки, махнул им дланью — скройтесь с глаз от греха подальше.
Пока высокий фюрер песочил маленького, Демидов шепнул Строганову:
— По две беленьких с каждого и поехали, Александр Павлович?
— Не куковать же до морковкина заговенья.
Синий мундир удалился, весь в усах и шпорах, однако пограничник с грустью глянул на четыре ассигнации и покачал головой.
— Извиняйте, господа хорошие. Никак нельзя-с. Разве что завтра.
Вернувшись в Барановичи, путники отужинали в трактире, а потом местный еврей всего за десять целковых провёл экипаж по полю, минуя заставу. Так что пробрались они на Родину аки тать в ночи. К губернскому городу подъехали через пять дней, по пути расставшись с сотней — повстречался патруль. Созерцая, как унтер хапужисто прибрал купюры, Строганов заметил спутнику:
— Ныне Россия — самая дорогая страна для путешествий.
Старинный друг отца Павла Николаевича, получивший от республиканской власти кресло губернского начальника, радостно встретил пару товарищей и зазвал в свой кабинет. Там половину стены занял огромный портрет Пестеля.
Поспособствовать с документами менский глава решительно отказался.
— Никак не могу-с, при всём уважении и доброй памяти о юных годах с вашим батюшкой. «Русская Правда» и законы революционные однозначно велят: новые бумаги справлять по месту жительства. Особо касаемо бывших крепостных — только в волости, к коей приписаны были согласно подушным спискам.
— Как же быть, ежели новшества в дороге застали? — огорчился Демидов.
— Пока перемены не улягутся, во благо дома сидеть. Там, глядишь, и наладится.
Не решивши дело с «папире» и заночевав в жидовском[3] трактире в нижнем городе неподалёку от собора Петра и Павла, путники наутро двинулись в Смоленск и Москву. Увиденное по пути вселяло и тревогу, и надежду. Да, народ вздохнул свободнее, а такие люди трудятся радостней и плодотворней, нежели подневольные. Однако порядку, коего на Руси и ранее не хватало, ещё поубавилось. Вернее сказать, порядок совсем исчез.
Под самой первопрестольной карету пытались ограбить. Демидов сплоховал, замешкался чуток, а Строганов извлёк два двуствольных пистолета, всыпал порох на полку и выскочил наружу. Там бородинский ветеран, не долго думая, дважды спустил курок, без разговоров застрелив двух налётчиков с ружьями. Разряженный пистолет кинул Гришке, а сам заорал на лихих людей:
— А ну убрать бревно с дороги! Живо! Не то в каждом дырок наколочу!
С другой стороны грянул одиночный выстрел. И Демидов убедил кого-то упёртого.
Дивная штука — человеческое стадо. Только готовы были наброситься на пятерых путников, распаляясь близью лёгкой добычи. А как отпор встретили — сникли, хоть и осталось разбойников дюжина против пяти. Под пистолетными дулами сосну откатили, приговаривая: «не серчайте, баре, бес попутал». Потом проводили экипаж голодными глазами.
— По закону положено заявить в отделенье Общего Благочинья, — толстый Демидов отёр нервный пот платком.
— Окститесь, сударь. Мы, документов не имеющие, словно рябчиков постреляли полноправных российских граждан. Тут ста рублями не отделаемся. Я начинаю понимать новую логику, хоть и давно на Родине не был. Лучше другое скажите — вы с Пестелем знакомы?
— Не выпало счастья, хотя заводы демидовские — главные казённые поставщики. Пенька, сукно, парусина, пушки, порох, ядра — всё от нас идёт. Так что причин для знакомства хватает. А вы?
— В юности дружны были и весьма. Потом служба развела. Знаю, он тоже на Бородино отличился изрядно. Интересно, каким ныне стал Павел? Власть меняет людей.
— Уж точно. Вконец зачерствел, видать, коль две дюжины казней утвердил, сотни три душ в ссылку отправил, сплошь друзья по Южному обчеству да по Сенатской.
— Как иначе, Павел Николаевич? Видел лиходеев дорожных, мздоимца прикордонного? С ними по-другому не выйдет. Или жёстко, или никак.
— Правда ваша, слов нет, Александр Павлович. Да только горестно мне. С двенадцатого года никого не убивал, даже на дуэли. Тут на тебе — селяне голодные.
— Не корите себя. А как мы лежали бы на дороге, вилами заколотые? Свечку поставим за упокой и отмолим.
Путники расстались в невесёлом душевном настрое. Демидов далее покатил к нижегородскому Владимиру, а Строганов у московской родни задержался, поражая столичных барышень знаньем последних парижских новостей и мод. Особенно про изобретенье Жозефа Ньеса, именуемое «гелиограф». Больше не нужно сутками сиднем сидеть, позируя художнику. Каких-то два часа в недвижении, и портрет готов на пластинке! Александр Павлович не стал уточнять, что французская картинка цветов не передаёт, а хороший рисовальщик всегда чуть-чуть подправит видимое, дабы портрет удался лучше натуры. Гелиограф как зеркало — беспристрастен.
Меж тем Строганов получил ответ на просьбу о высочайшей аудиенции. Государь Руси и глава Верховного Правления, строгий и неподкупный, что аппарат Ньеса, изволил пригласить Александра Павловича в Кремль.
Глава вторая, в которой Строганов восстанавливает старую дружбу с новым русским вождём
— Гутен таг, Александр! Иди же ко мне. С Бородина тебя не видел. Меня как ранили, унесли, с тех пор не про всех знаю, кто уцелел, а кто… В моём полку половина осталась.
За приветственной речью Пестель пожал руку другу детства, потом обнял без церемоний.
— Проходи, не чинись, камарад.
Обширная зала Большого Георгиевского дворца, отстроенного после наполеонова пожара, превратилась в кабинет нового отца нации. На непредвзятый взгляд, за время с войны двенадцатого года Пестель изрядно подурнел, лицо расплылось, волосы съехали назад, приоткрыв белёсый череп. Ранее чисто брившийся, он отпустил короткие жёсткие усики. Сальная щётка под носом его не молодила, да и мужественности не добавила.
Дабы казаться ближе к простому, «чёрному» люду, народный вождь выдумал особый мундир — чёрного цвета, но с серебристыми эполетами и аксельбантами. Главный революционер оставил на виду имперские регалии за Отечественную войну, пришпилив к угольно-тёмному сукну, прибавив к ним парочку новых республиканских, с коими грудной иконостас Государя казался солиднее и значительнее.
Взгляд остался живым, горящим. В нём прибавился неприятный лихорадочный блеск. Спокойный ранее Павел Иванович резко жестикулировал, часто вскакивал, начинал суетно носиться от окна к двери, будто сжигаемый неуёмным внутренним пламенем.
Говорил он, как и жил — дёргано, отрывисто, втыкая русские слова в немецкую речь и наоборот. Пестель витийствовал подолгу и пустопрожно, затем возвращался к практическим мыслям.
— Прискорбно, камарад, рядом со мной разумных и толковых людей не осталось. Все они — Муравьёв-Апостол, Рылеев, Бестужев, Каховский, Одоевский — больше к власти рвались, а не о народе думали. Пришлось их… Душа кровью обливается.
— Другого выбора не было, Павел, — не очень искренне заметил Строганов.
— Да. Да! Или они, или Россия. Кого мог — пощадил. Урал, Сибирь, власть окрепнет — верну окаянных. Пусть его. Но не сейчас.
— А Кюхельбекеры?
— Господи, что с них взять. Младший — куда ни шло, оставил на Балтийском флоте. Касательно Вильгельма… Знаешь, как лицеисты его звали? Кюхля!
— Точно. Помню, мне про пушкинскую эпиграмму рассказывали. Сейчас… Вот!
За ужином объелся я, Да Яков запер дверь оплошно, Так было мне, мои друзья, И кюхельбекерно и тошно.Пестель расхохотался.
— Точно! Я тоже вспомнил. Кюхля, про неё прослышав, вызвал Пушкина на дуэль. Пистолеты им зарядили клюквой. Представь, он и клюквой попасть не сумел! С пяти шагов! Потом его Ермолов выгнал с Кавказа. И я обречён с такими дело иметь. А что поделать? Надо хоть кого-то из героев Сенатской площади во власти держать.
— Если про лицеистов… Павел, помнишь дьячка Мордана? Модеста Корфа. Математика, финансы — по его части.
— Превосходно, Александр! Вижу, сама судьба тебя привела. Только вот Модест — такой же германец, как и я. Единственный министр остался с прежних времён, Карл фон Нессельроде. Негоже выходит — Верховное Правление сплошь из немцев состоит, пусть и обрусевших. Мне надо в приближённые русского, верного, без камня за пазухой. Чтоб народ видел — коренная нация в правительстве есть. Короче, Александр, мне ты нужен во власти.
— За высокую честь благодарствую. Только неожиданно весьма.
Пестель подбежал к креслу, на котором сидел Строганов, ухватился руками за подлокотники и низко наклонил потное усатое лицо.
— Будешь главой Коллегии Государственного Благочиния. Фюрером над Бенкендорфом, Дибичем и прочими старшими ляйтерами.[4] А заодно и над другими присматривать. Осилишь, я верю. А то мне и Рейхом, и К.Г.Б. править — сил больше нет. Помоги!
— Тебе помочь готов, и России стократ. Согласен! — о впечатлении, что благо для страны и польза для вождя могут весьма и весьма разойтись, Строганов умолчал, уповая разобраться в дальнейшем. В жизни не всё таково, коим кажется на первый взгляд.
Отправив родным письма в Нижний Владимир и в надежде вернуться к слиянию Камы и Волги вместе с коллегией, когда перенос столицы завершится, Александр Павлович принялся за дело. Перво-наперво познакомился с заместителями — Иоганном Карловичем фон Дибичем, именовавшим себя в русских документах Иван Иванычем, и Александром Христофоровичем Бенкендорфом. Волею Пестеля Дибич принял бразды правления полицией, не слишком от имперской отличавшейся, только переименованной в Обыкновенное Благочиние.
А вот с республиканской жандармерией русский вождь начудить изволили. Название она получила пышное и старомодное — Вышнее Благочиние. Доказывая себе и другим надобность сего установления, Пестель мудро написал:
«Законы опредѣляютъ всѣ тѣ предметы и дѣйствія, которыя подъ общія правила подведены быть могутъ и слѣдовательно издаютъ также правила долженствующія руководствовать дѣяніями Гражданъ. Но никакіе законы не могутъ подвести подъ общія правила ни злонамѣренную волю человѣческую ни природу неразумную или неодушевлённую».
Лучше бы Государь сочинил сие по-немецки и без затей, а на русский язык приказал кому-то перевести. Из путанных слов его получалось, что со злонамеренными личностями по закону обходиться не следует; выход один — переводить смутьянов из природы неразумной в природу неодушевлённую. Обещанная отмена смертной казни отложилась, а для исполнения наказаний Пестель повелел внутри К.Г.Б. особый приказ основать — Расправное Благочиние, призванное к решению дел, по маловажности своей могущих затруднить судебные места Государственного Правосудия и не требующих точности судебного обряда.
А что может быть проще разбирательства о противлении Верховному Правлению? Какая требуется точность? Не собирать же присяжных по пустяку. Росчерк пера — и в Сибирь, ежели бунтарю повезёт отделаться столь незначительно.
Строганов представить себе не мог на посту главы Вышнего Благочиния личность более соответственную, нежели Бенкендорф.
— Гутен таг, майн фюрер! — при виде нового начальника в здании Благочиния на Лубянской площади он вытянулся как в высочайшем присутствии.
Очевидно было, что закоренелый служака, на одиннадцать лет старший, не сгорает в восторге от назначения. Он сам на то место заглядывался и, понятное дело, Строганову не рад. Точно так же Александр Христофорович не любил прежнее начальство, особенно императора Александра I, упорно не видевшего графские таланты. И Пестеля не жаловал, таланты Бенкендорфа признавшего, но недооценившего. А раньше французов ненавидел, оттого бивал их геройски в Отечественную войну. Почему-то лучшие жандармы — личности, которые никого не любят и сами не любимы никем.
Строганов важно опустился в кресло, давно и тщетно облюбованное Бенкендорфом, потребовав доклада. Тот снова вытянулся во фрунт, что новобранец перед унтером, и по пунктам доложил недельное исполнение службы.
— Айн. Раскрыто бунтов противозаконных, вооружённых, во вред обществу направленных — четырнадцать. Цвай. Разогнано обществ злоумышленных, собраний запрещённых, несущих всякого рода разврат и в души разброд, тридцать семь. Драй. Лихоимств да корыстолюбия в частях Правления изобличено девяносто восемь.
— Почто ж не сотня, Александр Христофорыч?
— Девяносто семь в разнарядке, Александр Павлович. И так бывает, что на службе Правлению на отдельных постах раз в две недели стяжателей садим в острог. Новый лишь к делам приступит, его снова в острог.
— Понятно, — Строганов осознал, что без твёрдой руки порядок в державе не поставить, однако же не видел глубины сей напасти. Кордонные да дорожные побирушки показались ему досадными, но мелкими казусами рядом с общей картиной российских беспорядков, нарисованной ляйтером Вышнего Благочиния, которое вдобавок хватало людей по разнарядке, а не по свидетельствам виновности.
— Тайный розыск доносит, мой фюрер, что писаки наши угомониться никак не желают. И пишут, и пишут, и пишут. Революция им не нравится, строгость мер лишнею обзывается. Гражданам вредно правительство обсуждать. Поверите ли, Александр Павлович, искренне в толк не возьму, что потребно сим бумагомаракам.
— Так-так, — глава К.Г.Б. рассеяно глянул письменный рапорт Бекендорфа, от количества ошибок в коем лицейский наставник упал бы в беспамятстве. — Давайте уж по-немецки, герр генерал. А куда смотрит Государственный приказ печати и культуры?
— Осмелюсь доложить, господин Дельвиг есть лицо поверхностное и безответственное. На циркуляр об упорядочении книгоиздательства и укорочении вольнодумства он ответствовал, что загружен нынче подготовкой полного собрания сочинений вождя; иными авторами заниматься ему недосуг.
— Вот как. Кто же, по-вашему, ныне особенно вреден?
— Как обычно, мой фюрер, Пушкин. Извольте почитать его пасквиль про бунтовщиков против революции, коих вождь помиловал, петлю ссылкой заменив.
В доносе Тайного розыска, тщательно переписанном на русском языке, содержалось стихотворение, которое мятежный поэт зачитал на одной из разогнанных злоумышленных сходок.
Во глубине сибирских руд Храните гордое терпенье, Не пропадёт ваш скорбный труд И дум высокое стремленье. Оковы тяжкие падут, Темницы рухнут — и свобода Вас примет радостно у входа, И братья меч вам отдадут.— Печально, — заключил Строганов. — А ведь так хорошо начинал Александр Сергеевич. Здесь же каждая строчка дышит Вандеей и контрреволюцией. Особенно про меч. Явный призыв к свержению Верховного Правления.
— Так точно. Возмутительно.
— Знайте, Александр Христофорович. Вольнодумство и якобинство хороши только один раз. Ни одна держава не вынесет революции каждый год. Французы убедили нас, мы не повторим их ошибок. С нас хватит декабря двадцать пятого года, и больше никаких революционеров. Кстати, как там другие смутьяны поживают? Я про иудейский вопрос.
— Прошу простить, — Бенкендорф метнулся в канцелярию и наказал доставить еврейскую папку. Доклад по памяти не был сильным его местом. — Вождь державы повелел создать специальные огороженные поселения на юге Малороссии для некрещёных. Там ныне расквартированы двадцать тысяч внутренней стражи под началом генерала Дубельта.
Глава Вышнего Благочиния замер в ожидании начальственного ответа, высокая чёрная глыба в мундире, подобном пестелевскому, но с меньшим числом побрякушек. Как бы ни был он хорош на своём месте, где острый ум вреден, а главное — нюх и хватка, внешний вид генерала удручал. Он совершенно зря под стать верховному вождю зарастил губу чёрными усами, без которых отлично обходился в войну двенадцатого года; потную лысину Александр Христофорович тщетно пытался прикрыть, зачёсывая на неё редкие чёрные кудельки, росшие над ушами. Разве что остричь его налысо под каторжанина, вздохнул про себя Строганов и уточнил:
— И как дело продвигается?
— Трудно, мой фюрер. Евреям Палестину обещали, да только там Османская империя. Никто добром принимать их не хочет. Государь повелел дать оружие да в Палестину отправить, государство иудейское себе отвоёвывать.
— Мудрое решение, — заключил Строганов, представивший Чёрное море и восторг османских властей при виде судов с евреями, кочующими к Палестине через Босфор. Однако же осуждать вождя не следует. Новое дело всегда такое — трудное. Лучше пробовать, ошибившись, чем по русскому обычаю на печи лежать и годами рассуждать, отчего не хочется за ту работу браться.
— Дабы не было мора среди евреев, Государь наш постановил работу им придумать в лагерях концентрации, чтоб плоды их труда на продукты менять.
— Вот как? Но евреи не всякий труд приемлют. Им бы торговлю, ростовщичество, мелкий промысел на худой конец.
— Теперь не раввины, а Дубельт решает, какая работа им пристала, — осклабился Бенкендорф. — Он даже лозунг выдумал: Арбайт махт фрай[5].
— Хорошие слова, — согласился Александр Павлович.
Только на воротах концетрацьёнс-лагеря несколько двусмысленные. Если часть евреев умрёт от труда, они воистину станут свободными от забот. Но концлагеря и жидовские смерти — не самоцель. Потребно просто освободить республику от чуждого ей народа. Оставлять их судьбу на откуп господам вроде Дубельта и Бенкендорфа не гоже. Доблестные генералы К.Г.Б. склонны решить иудейский вопрос… несколько прямолинейно. Ежели не вмешаться, не укоротить ретивых — вопрос сам по себе развеется. За отсутствием евреев.
— Я подумаю, как ускорить процесс, — пообещал он заместителю. — Вернёмся к поэту. Ваши предложения?
— Какому поэту? — удивился Бекендорф, и Строганов понял, что сплетни о короткой памяти Александра Христофоровича не на пустом месте выросли.
— Не важно. Смутьяном я сам займусь.
Глава третья, в которой появляется Александр Сергеевич Пушкин
В московском особняке главы Коллегии образования Александра Семёновича Шишкова, дарованном ему Верховным Правлением из отобранного у бунтовщиков имущества, собирались любители русской и польской словесности. Александр Семёнович, сменивший министра образования Голицина, известного содомией и иными пороками, являл собой образец наилучшего русского и консервативного. Служение Отчеству он посвятил, дабы оберегать молодое поколение от заразы «лжемудрыми умствованиями, ветротленными мечтаниями, пухлой гордостью и пагубным самолюбием, вовлекающим человека в опасное заблуждение думать, что он в юности старик, и через то делающим его в старости юношею». Овдовев, он в семьдесят два года женился на вступающей в пору первого расцвета польской красавице Юлии Осиповне, урождённой Нарбут. Интересуясь пледом и тёплым чаем с вареньем, а не супружескими утехами, называя себя нетребовательным гостем в собственном доме, он снисходительно взирал на развлечения прелестницы, собиравшей молодёжь в гостиной.
Александра Павловича на шишковские посиделки приглашать не собирались. Но коль выразил такое желание член Верховного Правления, отказа не последовало.
Весть о его назначеньи на пост главы Коллегии Благочиния долетела до московских салонов, но ещё не улеглась, не стопталась от частого применения в виде темы бесед и сплетен; оттого молодые люди, сохранившие в душе осколки либерализма, куда более страшились сурового Бенкендорфа, нежели нового и покуда непонятного Строганова. Надевши фрак и приняв цивильное выражение лица, он явился в богемный кружок совершенно не страшный, отнюдь не карающим ангелом.
— Bonjour, Александр, — приветствовал его тёзка, невысокий курчавый поэт с необычно смуглой кожей.
— Гутен таг, — чуть нахмурился Строганов. Понятно, что в разрешённом очаге вольнодумства возможно многое, на улице немыслимое, но чтобы шефа Коллегии Г.Б. встречали по-французски — извините, перебор.
— Полноте, друг мой. Долой сомненья — с твоим приходом на Лубянку в прошлое уйдут мрачные времена Бенкендорфа, — Пушкин перешёл на заговорщический шёпот. — А то поговаривают, что при Республике жандармы лютуют строже, нежели при царях.
— И что прикажешь мне делать, Александр Сергеевич? Новая власть от горшка два вершка. Ей критику принять — смерти подобно. Не то снова переворот, жертвы и кровь. Ты же не хочешь такого для России. Поэтому заклинаю: умерь пыл. Следи за словами и не доводи до греха.
Поэт прихватил бокал с лакейского подноса.
— Что ж грозит мне, коль друг мой Алекс — глава Благочиния?
— Не надо, прошу. Знаешь, брат — не полиция ведёт дело, бумага ведёт. Я перед Верховным Правлением и Пестелем в ответе, а уж кляузничают на меня сверх всякой меры. Поэтому — увы. Чем смогу подсоблю, но на эшафот заместо тебя не стану.
Худой и взъерошенный молодой человек распрямился тем временем среди гостиной. Разговоры умолкли. Тонким от напряжения голосом он прочитал крымский сонет на польском языке и получил признание собравшейся публики.
— Саша, кто это?
— Адам Мицкевич из Вильни, друг Юлии Осиповны.
— Друг или…
— Нет, mon cher ami. Хозяйка — дама общительная, но строгих правил. При живом муже ни-ни. Хотя пытались многие-с.
По печальному тону поэта Строганов догадался, что Александр Сергеевич состоит в числе сломавших саблю при штурме сего редута.
— Мой черёд. Ты «Евгения Онегина» слышал? Ну, не беда. Ещё не все главы написаны. Сегодня впервые шестую прочту.
Не умаляя талант Мицкевича, Александр Павлович ощутил, что рядом с Пушкиным и великий Шекспир — школяр. В эпоху, когда любой грамотный дворянин умеет сочинять элегии не хуже, чем стрелять из дуэльного пистолета, гордый коротышка, размахивавший рукой среди шишковской гостиной, возвысился над всеми поэтами мира как скальная глыба над морской равниной. Строганов решил было замять дело с нелепым доносом о провокационном «Во глубине сибирских руд…», как услыхал следующие вирши.
Исполня жизнь свою отравой, Не сделав многого добра, Увы, он мог бессмертной славой Газет наполнить нумера. Уча людей, мороча братий, При громе плесков иль проклятий, Он совершить мог грозный путь, Дабы последний раз дохнуть В виду торжественных трофеев, Как наш Кутузов иль Нельсон, Иль в ссылке, как Наполеон, Иль быть повешен, как Рылеев.При звуках последних слов Юлия Осиповна, раскрывшая ладони для хлопка и прелестные губки для «брависсимо», уронила руки, с немым вопросом взирая на Строганова. Тот вцепился в пушкинский локоть и утащил безумца к гардеробной.
— Ты с ума сошёл! Одним лишь «братья меч вам отдадут» на Сибирь наработал, и вот — на тебе.
— Арестуешь? — прищурился Пушкин.
— Всенепременно. А чтоб тебя от Расправного Благочиния уберечь, сей же час отправлю в Нижний… Что это я? Во Владимир. У тебя ж там имение есть, Болдино, чай в карты не проиграл? Вот и сиди в том Болдино, стихи пиши. Соснам да берёзам хоть про Рылеева, хоть про Бестужева читай.
— Соснам да берёзам говоришь… За четыреста вёрст от Москвы.
— До сибирских острогов три тыщи. А во Владимир столица переедет, — глядя в строгие тёмные глаза нелепого русского карбонария, Строганов добавил. — Время минёт, Рылеев и прочие цареубийцы в историю уйдут. Тогда и шуми про них на каждом углу.
— Что ж. И на этом благодарствую… друг, — с тем словом Пушкин принял у лакея цилиндр, трость и плащ-крылатку, а его тюремщик понял, что другом поэт назвал его в последний раз. Неблагодарен мир, такие в нём и люди.
Евреи тоже оказались существами неблагодарными. Как не клялись, что страждут обрести землю обетованную, на юг Малороссии ехать добром не захотели. Каждый раз, сгоняя христопродавцев с насиженного местечка, казаки рубились с ними как с вражьим войском, а отселение всегда перерастало в еврейский погром. Ладно — свои, российские, но тьму иудеев из земли Привисленской в Крым понагнали, до польской независимости.
Строганов доложил Пестелю, что еврейская экспедиция в Палестину терпит крах. В лагерях да стихийно возникших местечках собралось их тысяч триста. По сусекам поскрести — разве что столько же наберётся, из них крепких мужчин десятая часть. Никак войско не складывается, способное турка за Палестину воевать.
— Павел Иванович, дозволить польским домой вернуться? А то, глядишь, мы от евреев не избавились, зато польскими приросли. Шум и стыд на всю Европу, часть-то помёрла в пути.
Вождь пробежался кружок-другой по зале Георгиевского дворца и отказал.
— Найн! Выходит, иностранным больше даём прав, нежели собственным, хоть и негодным гражданам.
Осторожно, словно около неразорвавшейся пушечной гранаты с догоревшим фитилём, Строганов сделал попытку воззвать к здравому смыслу.
— А ежели… ну их всех! По домам, до лучших времён?
Пестель нервно дёрнул головой. Для здравого смысла день выдался негодный.
— Пусть там и живут, крымских татар в иудаизм склоняют.
— Так две трети в лагерях, их десять тысяч войска сторожит. Как с ними прикажете?
— В Сибирь. Непременно в Сибирь. Или к Киргизам. Куда мы буйных с Кавказа везём? Вот, пусть выбирают — степи или леса. Архиважно. У нас демократия и право выбора. Так, решено. Какой следующий вопрос, партайгеноссе?
К этому разговору Пестель справил Строганову партийный мандат. Маленькая до поры партия «Союз Спасения», названная по имени дореволюционного малороссийского кружка Южного общества декабристов, объединила Верховное Правление, с ним — глав коллегий и приказов, включая Дельвига и Кюхельбекера. Устав её перевели на русский язык, сократив название до двух букв — С.С. Меж собой партийные товарищи общались по-немецки, называя друг друга «камерадами» или «партайгеноссе». Народ именовал сподвижников Пестеля эсесовцами, а бывшие графы и князья стояли в очереди, жаждая попасть в ряды С.С. или К.Г.Б.
Вторая напасть после евреев приключилась от крестьян, вполне себе православных. Вождь с революционной решительностью поделил землевладельцев на мелких и крупных, постановив — у мелких землю отобрать всю и без остатка, у крупных половину. Угодья, как обещано, крестьянам раздать. Само собой, при разделе участков злоупотреблений не счесть, брат на брата с вилами кинулся. Заодно полыхнули помещичьи усадьбы, точь-в-точь как при Разине да Пугачёве. Что поделаешь, народный обычай.
Бывшим владельцам угодий Пестель повелел деньгами урон оплатить. Земли описали, цену вывели, счета предъявили. Сумма намного превысила годовой приход казны. Кайне проблем, отрезал государь и отправил Корфа печатать деньгу. За два месяца рубль упал втрое.
Зато с русификацией России дела наладились удивительно и гладко. Поляки, остзейские немцы, татары, киргизы и всякие прочие кавказцы были осчастливлены предписанием: в земских установлениях владенье русским наречием подтвердить и получить паспорт русских. А коль нерусскими чают остаться — пусть их. Да только в казённых департаментах служить нельзя, землю иметь нельзя, торговое дело иметь нельзя… Живи себе тихо как-нибудь и на глаза не попадайся, странный нерусский человек.
Приведя обывателей к русским и нерусским, партайгеноссе Пестель взялся за религию. Вождь сию проблему обдумывал долго и пристально, оттого решение принял серьёзное. Собрав Верховное Правление, он объявил свой манифест, по особому случаю сразу по-русски отпечатанный:
— Народы татарские, заволжские и киргизские исповедуют веру магометанскую. Им дозволяется продолжать оной держаться и всякое насилие воспрещается. Не менее того надобно всяким случаем пользоваться дабы дружелюбием и кроткими убеждениями их склонять к воспринятию святаго крещения; на каковой конец полезно посоветоваться с их духовными чинами.
Главы коллегий переглянулись. Что задумал мудрый вождь? Завсегда сами решали, ни у каких мусульман не спрашиваясь. Неспроста, ох неспроста Александр Павлович сие дело учиняет.
— У них заведено многожёнство, — продолжил Государь. — А так как обычай сей противен православной вере, то и должно многожёнство быть на будущее время совершенно запрещено. Содержание жён взаперти есть большая несправедливость противу сей половины рода человеческого. А посему надлежит употребить средства кроткие, дабы магометане обычай сей оставили.
Сразу понятнее Правлению. По кротким мерам у нас Строганов и Бенкендорф мастера. Так укоротят… Ежели никак магометанство без многожёнства богопротивного невозможно — конец магометанству.
— Так как татаре и вообще магометане, в России живущие, никаких неприязненных действий не оказывают противу христиан, то и справедливо даровать им все частные гражданские права наравне с русскими и продолжать возлагать на них одинаковые с ними личные и денежные повинности, распределяя их по волостям на основании общих правил, — завершил Пестель.
— Прошу простить великодушно, герр Государь, — вылез Бенкендорф, которому всегда и всё требовалось растолковывать буквально. — С распределением как? Поелику нет магометан в Прибалтике да у северных морей, туда их, равномерно?
— Яволь, мой славный Александр Христофорович, — вождь обрадовался понятливости соратника. — Натюрлих, к белым медведям их, на Севере — хоть по три медведицы в гарем.
Затем Пестель сокрушённо посетовал, что самые несчастные народы в Республике суть те, которые управляются Американскою компаниею. Она их угнетает, грабит и нимало о существовании их не заботится; почему и должны непременно сии народы от неё быть вскорости освобождены. Половина Правления слыхом не слыхивала о такой компании, но раз вождь решил — так тому и быть. Америка пополнила список врагов России.
Вернувшись мыслями на Родину из зловредной заокеанской страны, вождь вспомнил о страшном наследии царской эпохи — военных поселениях, добраться до коих времени не сыскалось.
— Одна мысль о военных поселениях, прежним правительством заводимых, наполняет каждую благомыслящую душу терзанием и ужасом. Сколько пало невинных жертв для пресыщения того неслыханного зловластия, которое с яростью мучило несчастные селенья для сего заведения отданные и сколько денежных сумм на сей предмет растраченных: все силы государства нарочито соединяя для гибели государства! И всё сие для удовлетворенья неистового упрямства одного человека.
Строганов оглядел присутствующих. Партайгеноссе единодушно осудили царское злосердечие, назвали «за» и «против» военных поселений, не найдя выгоды от их упразднения; решили наконец оставить их временно, но без срока. Пусть себе будут.
Наконец, они заслушали петицию земств о созыве Всероссийского Собора для учреждения постоянной власти взамен временной.
— Не готова ещё Русь-матушка к представительному управлению, — огорчился Пестель. — Лет десять-пятнадцать потребно, там посмотрим. А вы, Александр Павлович, на заметку возьмите земских предводителей, коих особенно нынешняя власть не устраивает.
Строганов очеркнул фамилии подписантов. С недовольными Благочиние потом разберётся.
Глава четвёртая, в которой празднуется первая годовщина Великой Декабрьской Революции
До Рождества Христова с очевидностью стало понятно, что переезд Верховного Правления во Владимир-на-Волге откладывается до неопределённости. Посему вождь повелел отмечание главного державного праздника затеять в Москве и покинутой столице.
Придворный государев художник написал портрет Строганова, высокого, осанистого, в парадной форме обер-фюрера К.Г.Б. Малые копии того портрета отправились к Бенкендорфу, Дибичу и Дубельту, а также в кабинеты пожиже, дабы мелкие столоначальники не только главного вождя знали, но и указующий строгановский перст.
К праздникам Белокаменная украсилась. Особенный шарм придали ей кумачовые полотнища со словами Пестеля из «Русской правды», у церквей развешенные и в присутственных местах. Люд московский ходил, голову задрав, грамотные вслух читали, неписьменные прислушивались.
«Правительство есть принадлежность Народа, и оно учреждено для Блага Народнаго, а не Народъ существуетъ для Блага Правительства».
«Народъ имѣетъ обязанность Правительству повиноваться».
«Благоденствіе общественное важнѣе Благоденствія частнаго».
Избранные истины из «Русской правды» Коллегия Священного Синода наказала читать на проповедях с амвона; в школах и лицеях они заучивались наизусть.
В морозный день 14 декабря Государь с соратниками по партии поднялся на парадное кремлёвское крыльцо и зачитал приветственное слово перед солдатами московского гарнизона, полками внутренней стражи и приглашёнными статскими служащими. Затем по брусчатке дворцовой площади маршем прошли праздничные полки.
— Айн… Айн… Айн-цвай-драй, — отсчитывали шаг унтеры, разворачивая ротные коробки лицом к обожаемому фюреру.
— Хайль Пестель! — кричали полковые командиры, проходя у крыльца.
— Зиг хайль! — орали солдатские глотки, а тысячи сапог складно лупили по брусчатке.
Вождь приветствовал их поднятием руки. Вечером отгремела салютация, по-русски — огненная потеха; праздник удался.
Иначе завершился день в брошенной столице — Санкт-Петербурге, а именно в Петропавловской крепости. На подёрнутые инеем булыжники кронверка солдаты вывели десяток арестантов в ручных и ножных железа́х. Заместо торжественных речей злоумышленники слушали ляйтера Расправного Благочиния, огласившего приговор и высочайший рескрипт.
— Пётр Иванович Борисов, двадцати шести лет, обыватель города Житомира, умышлял на убийство вождя державы, вызывался сам, дал клятву на совершение онаго и умышлял на лишение свободы главы Коллегии Государственного Благочиния; учредил и управлял тайным обществом «Спасение республики»; приуготовлял способы на совершение сих злодеяний. Указом Расправного Благочиния от тринадцатого декабря сего года приговорён к повешенью.
— Мерзавцы! — изошёлся криком Борисов, влекомый к виселице парой солдат, по случаю празднества парадномундирных. — Революцию продали, утопили в крови! Падёт проклятие на головы ваши!
Голос прервался, удушенный тряпкою, а на голову смутьяна водружён был мешок; тело вздрогнуло раз-другой на верёвке и затихло.
— Барятинский Александр Петрович, двадцати восьми лет, отставной штаб-ротмистр и обыватель Тульчина, умышлял на убийство главы Вышнего Благочиния и приуготовлял способы на совершение сего злодеяния. Указом Расправного Благочиния от тринадцатого декабря сего года приговорён к повешенью.
Мрачный усатый кавалерист не огласил криками кронверк, молвил просто:
— История нас рассудит, господа.
С тем словом ступил на эшафот; тело дёрнулось его и упало, не удержанное слабой верёвкой. Двое солдат потащили Барятинского на исправную виселицу.
— Что ж это деется, Господи? — шепнул молодой, недавний рекрут.
— Известное дело, верёвка потёрлась от частой работы, — ответствовал бывалый солдат, прилаживая новую петлю. — Помню, Рылеева вешали, дважды срывался. Так что штыками докололи.
— Ду хаст штилльцушвайген![6] Молчать! — рявкнул унтер, и бывший штаб-ротмистр беззвучно обвис в пеньковых объятиях.
Далее расправный чин огласил приговоры остальным бунтовщикам, коим казнь в петле высочайшим рескриптом заменена на гражданскую с двадцатью годами каторги и вечным поселеньем в Сибири. Так что годовщина Революции декабристам запомнится.
А в провинции иначе день праздничный проходил. К слову сказать, провинция — вся Россия, кроме разве что двух столичных городов; да и то, как Пестель часть видных людей в Москву вывез, неугодных выслал, Петербург немедленно опровинциалился, прежний блеск растратив.
Во Владимире-на-Волге купеческие старшины да заводчики праздничный день пропустить не могли. Когда ещё вместе собраться и чарку опрокинуть, не оглядываясь на Вышнее Благочиние, усматривающее в любом собрании тайное общество. Павел Николаевич Демидов принял гостей с Урала и всей губернии.
— Александр Сергеич, душа моя, вы с Болдина съехали? Надзор же за вами! А как в Сибирь приговорят?
— Пустое, Пал Николаич, — ответствовал чуть пьяный поэт. — Иль не имею я права во имя праздника вседержавного кутнуть за здравие вождя? Куда шампань унёс, лакей-каналья?
К вечеру демидовский особняк близ слияния Камы и Волги наполнили выходцы из славных нижегородских семей — Блиновы, Бугровы, Курбатовы. Строгановы, вестимо, тоже, дальние родственники всемогущего предводителя К.Г.Б. Купеческие жёны, яркие, румяные, худобой не обременённые, в отдельный кружок сбились, судача. Степенные их мужья, как водится, разговоры завели о торговле.
Александр Петрович Бугров, наследник мукомольного дела отца и самый юный из купечества, сокрушался о ценах.
— Четыре рубля сегодняшних не стоят и рубля прошлогоднего. Мы на муку цену втрое подняли и всё одно за зерном не поспеваем. Хоть мельницы закрывай али в убыток торгуй.
— Есть слово заграничное — инфляция, — просветил Павел Демидов, последний из здешних обывателей в европах гостивший. — Пестель с Корфом без меры деньги печатают, оттого ассигнации дешевеют быстрее, чем снег весной тает.
— В чём же корысть за никчёмные бумажки торговать? — возмутился кто-то из железоделательных заводчиков. — Али в золото их обратить и сидеть сиднем, пока в страну порядок не вернётся?
Купцы оглянулись. Упоминать отдельные грехи Правления, сиречь временные трудности, не возбраняется. А вот объявлять, что в России после декабря порядка не стало — прямая крамола, известно чем чреватая. Однако в тот вечер европейская шипучка да русское хлебное вино языки на волю выпустили, посему Пестелю сотоварищи икаться полагалось изрядно.
— Раньше торговал, как хотел, только подати плати. Ныне каждый чиновник влезть норовит, то соточку просит, а то и целую тыщу. Где на всех напасёшься?
— У меня две тыщи душ крепостных рабочих на заводе трудилось. Как вольную дали, половина разбежалась; они же и вернулись — за корку хлеба батрачить готовы. Да нет у меня дела для них: завод день работает, два стоит.
— Нижегородские банки лопнуть готовы. Деньги в рост давали царские, додекабрьские, и процент божеский. Возвращают нынешними, подешевевшими, и то с неохотой. Хоть половину города в долговую яму сажай, денег от того не прибавится.
— По весне осемь домов скупил, как о новой столице услыхал, перестроил их солидно, под казённые присутствия. И где та столица? В Москве! Хоть картошку в домах разводи…
Бывшее дворянство обманутым себя сочло. От любви к добрым лошадям, жизни широкой, дамским нарядам модным и карточным играм половина семейных усадеб в банк заложена. Должники как один новую власть поддержали, обещаниям поверив, что царские долги спишутся. Дудки! Землю отобрав, из премии кредит вычитают. За должниками приставы охотятся из Судебной коллегии и Расправного Благочиния: деньги давай. А как отдать-то, ежели они на парижских кокоток трачены?
— Слыхали, господа? Казначейство новые деньги печатает. Тысячные.
— Пестель на коне?
— Нет, Корф верхом на кукише!
Опасно позубоскалив и прослышав о вояже Демидова со Строгановым из Варшавы в Москву, постановило купечество после Рождества заслать Павла Николаевича в Кремль, с Александром Павловичем разговор иметь. Хоть малость удавку на горле ослабить.
Уверовав, что трудные времена вскорости пройдут, Строгановы, Демидовы, Блиновы и Бугровы рукоплескали любимому поэту.
Пока свободою горим, Пока сердца для чести живы, Мой друг, отчизне посвятим Души прекрасные порывы! Товарищ, верь: взойдёт она, Звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, И на обломках самовластья Напишут наши имена!Именно сии строки глава Благочиния напомнил Павлу Николаевичу, когда тот переступил порог его жарко натопленного лубянского кабинета.
— Павел, друг мой, как вам не стыдно. У Республики вдосталь врагов реальных, действительных, опасных. А мне выпадает заниматься сей чушью и вас спасать, благородных идеалистов. Александру Сергеичу передайте моё наипоследнее предупреждение. Один шаг из поместья — в Сибирь. Что он в Болдине за осень накропал? Пришлите мне, полюбопытствую. Но в гостиных да в присутственных местах читать ни-ни. Ферштейн, любезный? Самовластье, как он изволил выразиться, далеко от обломков, а ваши имена переписаны, вот они. Стоит чиркнуть в этом уголке — в Расправное Благочиние, и не придётся нам больше свидеться, Павел Николаевич.
Заученная в памяти петиция владимирского купечества застряла в горле. Вот как дело повернулось. Тут не о лучшем мечтать, а на своём бы месте усидеть. Демидов осмелился лишь о лихоимстве чинов нижегородских рассказать.
— В чём же трудность, дорогие мои? Пишите отношение в Вышнее Благочиние, они враз за сребролюбцами надзор учинят. Как что заметят — в острог и ауфидерзейн. Каждый гражданин Республики бдить и доносить обязан.
— За доброе слово спасибо, — Демидов поднялся. Потом не удержался и добавил. — Изменились вы с весны, Александр Павлович.
— И вы, Павел Николаевич. Совсем по-купечески растолстели. Где осанка кавалергарда? Шучу-шучу. Ступайте с Богом, а коли трудности — непременно ко мне, не чинясь. Делом ли, советом — помогу.
У кабинета Строганова купец прочитал белую надпись на широком красном кумачовом полотнище:
«Тайные розыски, или шпіонство, суть посему не только позволительное и законное, но даже надёжнѣйшее и почти, можно сказать, единственное средство, коимъ Вышнее Благочиніе поставляется въ возможность достигнуть предназначенной ему цѣли. Пестель».
Сочинять кляузу Демидову показалось не с руки. Не хотелось уподобляться в средствах служащим здесь господам. Он покинул Лубянку и забрался в сани, запахнувшись полостью от январского мороза. Добрые кони потрусили по утоптанному снегу, а сидящие на облучке бывшие демидовские крепостные лакей Егорка и кучер Прохор примолкли, дабы их бормотание не отвлекало барина от высоких дум.
Ежели Прохор провёл революционный 1826 год подле бывшего графа, то обученный грамоте Егор по возвращении из Польши справил пашпорт и подался в город за счастьем. О том он поведал, пока Демидов искал правды в К.Г.Б.
— Так что семейство моё получило кус подле выселок. На меня, с барином ездившего, землицы не отмеряли. Дай Бог, чтоб с того наделу мои присные ног с голодухи-то не протянули. Перебрался я во Владимир-Нижний, да. Пробовал по-старому наняться, в лакеи, токмо втуне. Гэбэ часть барства за Урал сослало. Кто у них в услуженьи был — ныне рады за кусок хлеба живот рвать, не то что за рупь. К шорнику нанялся, твои уроки памятуя, — тут Егорка получил весёлый взгляд Прохора, знавшего, что из лакея мастер по сёдлам и уздечкам никакой. — Да по миру пошёл мой Савельич. Как сбрую продаст, тех денег не достаёт кожу купить. В рекруты не записали, тощим обозвав. А как не быть худым, ежели пятую седьмицу впроголодь? Воровал, взяв грех на душу. Барин наш меня заметил, когда я на паперти Христа ради просил. Сто лет здравия нашему Павлу Николаичу!
— Стало быть, не дала свобода тебе счастья? — спросил Прохор, разглядывая толпу нищих, коих солдаты Благочиния пытались вытолкнуть хотя бы с Лубянской площади, почитай — из центра Москвы. Видать, не у одного Егорки свободная жизнь пошла вкривь и вкось.
— Окстись! Какое счастье! О холопах баре заботились, чтоб не окочурились мы. А тут…
— Зато теперича мы — равноправные граждане свободной Расеи, — кучер вспомнил слышанные с амвона слова, и слуги Демидова горько засмеялись в понимании, что на барина уповать могли, а на подарившую волю державу — вряд ли.
Глава пятая, в которой Павел Демидов решил ослушаться добрых советов
На Крещенье Александр Строганов застал Юлию Шишкову выходящей из церкви.
— Дзень добжы, пани Юлия. Как здоровье Александра Семёновича?
— Здравствуйте, Александр Павлович. Хворает, но держится с Божьей помощью.
Дама зябко спрятала руки в муфточку. Крещенский мороз оправдывал славу. Пар от дыханья замёрз, посеребрил усы и брови московского тирана, как обозвала Строганова молодёжь. В локоток Шишковой вцепилась польская родственница-приживалка, посетившая обедню с компаньонкой и с лёгким ужасом узнавшая грозного собеседника.
— Не навещал вас давно, да и вы не зовёте.
— Ни Боже мой, Александр Павлович, кто ж вам в приглашении откажет.
Он грустно усмехнулся в усы.
— Так-то оно так. Однако позвольте заметить, боязнь мне отказать и радушие — разные материи, любезная Юлия Осиповна. Неужто страшен я, что ваши гости от меня шугаются?
— Нет, что вы… Хотя говаривают разное, и слава дурная порой идёт.
— Тиран, палач?
— Зачем же так…
Лакей открыл дверцу кареты, Юлия подняла строгие глаза, чуть скрытые вуалью.
— Прощайте, Александр Павлович.
— Постойте, погодите минутку. Отчего-то важно мне, чтобы вы не думали обо мне дурно. Ваша правда, на этой службе приходится делать жестокие, гадкие вещи. Может, благородного человека недостойные. Только бросить их нельзя, ибо стократ хуже будет. И на другого перевесить нет никакой возможности; пусть уж моя душа горит в аду.
— Вы… Вы — странный человек. Порой в самом деле меня пугаете.
— Пригласите на чай. Объяснюсь. Лучше, когда в доме не слишком много гостей, — Строганов печально улыбнулся. — Меньше распугаю.
Он направился к своему экипажу, оставляя тростью дырки в снежном ковре. Прекрасная полячка скоро овдовеет. Наследство не слишком богатое, да и на докторов ныне много уходит. Муж её в отставку вышел, пенсион куда меньше жалованья, да и рубль изрядно упал.
Странно, почему его так преследуют загадочные серые глаза? Полна Москва невестами для семьи, а захотеть — и молодыми вдовушками для утех, кои не устрашатся репутации К.Г.Б. Кольнуло — сподобился ли Александр Семёнович супружеский долг исполнить или целина там непаханая? Отогнав бесстыдные мысли, Александр Павлович опустился на подушки кареты и велел кучеру погонять на Лубянку. Вечером ждёт его дома одинокий ужин, грог, пунш и столь же одинокая постель. Отчего так Бог неровно делит? Престарелый и немощный Шишков счастливей его — молодого, богатого и знатного.
К Крещенью Павел Демидов поспел домой, огорчив купечество вестью о нелёгком разговоре со Строгановым. Тут бы и сдаться, и тихо переждать новое смутное время. Но не таков был Павел Николаевич. Недельку отдохнувши и с женой Авророй Карловной обменявшись холодными поцелуями, отправился он в Нижний Тагил на Выйский завод, где затребовал к себе двух мастеров — Ефима и Мирона Черепановых.
Умельцы стали бок обок, друг на друга похожи, невысокие, крепкие, бородатые, скорее братья на вид, нежели отец и сын, неловко капая тающим снегом в избе заводоуправляющего.
— Наслышан о вас от батюшки, что на выдумку горазды.
— Так ежели нужно… — начал старший, Ефим, младший молча замер, шапку терзая.
— Непременно нужно. Только скажите вначале, как до паровой машины додумались.
Черепановы переглянулись.
— Так это… англицкие машины давно известные. А как пожар у нас случился, водяные колёса спалились, я батюшке вашему и отписал-то, мол, и у нас оные употребить можно и должно. Они поначалу — ни в какую. Не верили, стало быть, без математических расчислений сделать оное немыслимо. Коли машина и будет построена, за первой же малой неполадкой непременно остановится.
— Узнаю батю. Каждый целковый в верное дело вкладывал, по-пустому не рисковал. Согласился как?
— Трудно. Да чего говорить, гляньте сами, барин.
— Непременно-с. А пока познакомьтесь. Пётр Иванович Кулибин, инженер. Прошу любить и жаловать.
— Фамилия знатная, — впервые подал голос Мирон. — Не того ли Ивана Кулибина…
— Сын, — подтвердил приезжий. — Отцовского гения не наследовал, но тоже кое-что можем.
Чёрная сажа из заводской котельной изрядно испачкала заснеженный двор. Черепановы повели гостей к малой трубе, дымившей у пристройки. Внутри как в преисподнюю попали — и горячо, и шумно. Рабочий споро кидал сосновые поленца в топку под высоким котлом, машина ровно плевалась паром, раскручивая огромное колесо, от которого вглубь завода уходил длинный приводной ремень.
— Немудрёная штука, — с показной уверенностью произнёс Ефим. — Ежели доглядывать, никаких неполадок не случается.
— Здорово! — восхитился Демидов, взопревший в дорогой шубе поверх крупных телес. — Скажи, Ефим, а самобеглый экипаж ты б сделал? Дилижанс какой.
Мастер почесал затылок.
— Можно-то оно можно. Но трудно зело. Повозка машину везти должна, поворачивать.
— От батюшки записи остались, — вмешался Кулибин. — Там похожая повозка есть. Только машин паровых он не стал рассчитывать. А вам как, Павел Николаевич, для забавы или в дело приспособить?
— Прошу в заводскую управу, — пригласил Демидов. Он хотел было добавить «господа», благо Черепановы скоро год как не крепостные, однако какие ж они господа! И республиканское «граждане» не прижилось. По дороге спросил отца и сына. — Вы свободные теперь. Отчего не уехали? Вашим рукам цены нет.
— Куда ехать-то? — качнул косматой головой Ефим. — Нынче плохо везде да дорого. А на заводах Демидовских всегда на хлеб наработаем.
— Прав он, — вздохнул Кулибин. — Даром что я горный инженер, при царях уважаемая работа. А ныне половина шахт алтайских закрылась, народ там с голоду пухнет. Вот и вернулся в Нижний… во Владимир. Без вас и не знал бы чем завтра семью кормить.
Год назад обывателей оторопь брала. Как можно Императора Российского, помазанника Божьего с семьёй, да князей и княжон великих с малыми детьми как одного всех убить? Конец наступил Руси православной.
Потом попривыкли и надежда пришла — Республика равенство объявила, крепостным свободу посулила, раздачу земель, рекрутчину урезала. Но на деле иначе повернулось. Народная дума не избиралась, исчезла даже из речей, будто и не говорилось о ней вовсе. Из ниоткуда вылезло пресловутое Временное Верховное Правление, и жизнь тяжкая, но привычная и веками налаженная, рухнула в тартарары. Каждый день горше и горше, и не видно тому конца.
— На Волге крестьянские бунты, под Москвой, Тулой, Рязанью — тоже. Османы урок забыли, при императорах даденный. Не удивлюсь, ежели поляки затребуют правобережье малоросское, с ним Белую Русь до Смоленска. Присаживайтесь. В ногах правды нет, — Демидов по-хозяйски штурхнул кочергой горящие угли и подкинул пару сосновых полешек. По стенам заводоуправной избы заиграли красные огненные отсветы.
Волшебная штука — огонь. Глядишь, минуту назад на уральском морозе и в сумерках одни только печальные думки в голову шли, о российской безысходности. А в тепле, сухости да у огня жизнь, кажись, налаживается. Ещё б водочки шкалик… Но о серьёзном — лишь трезвые разговоры.
— Так вам скажу, — начал Демидов. — Самоходный дилижанс не для потехи, но и не для купеческих дел. Новая смута близится. Потому у вас спрашиваю: возможно ли сей механизм железом обшить от ружейных пуль и мортирку на нём сообразить?
Отец с сыном переглянулись озадаченные, Кулибин сомнение выразил.
— Пусть и возможно. А много ли даст на поле брани один дилижанс да с одной мортиркой?
— Изрядно. Как на Бородине побывавший, я точно знаю — половина победы проистекает от духа воинского, куража, отваги. Много ли армии призовём, чтоб Урал или Нижний сберечь? А ежели впереди войска дилижанс пойдёт, из пушки паля, которого пуля не возьмёт, совершенно иное дело. Нашим подспорье, страх врагу. Смекаете? А лучше пару или три.
— Далеко сей экипаж не уедет, — практично сказал Ефим. — Дрова, а даже и уголь много пудов весят. Вода в пар убегает. И поначалу неполадки случатся, дело-то новое. Добро, коли версты три одолеет.
— Мало! Требую десять вёрст. И чтоб разборный был, по реке частями возимый и на подводах, а собрать перед битвой. Деньгами не обижу, но дилижанс к лету потребен.
— Слова какие нерусские — дилижанс, экипаж. — Мирон взлохматил и без того кудлатый чуб, подумал и присоветовал. — На пару ходит, стало быть, пароход.
— Да хоть паролёт, — засмеялся Демидов. — Хоть Змей Горыныч. Абы по полю двигался да огнём плевался.
— В отцовских бумагах видел я рисунки мортирной батареи Нартова под трёхфунтовые гранаты, — задумчиво добавил Кулибин. — И польский многоствол «шмыговница». Оружие для Змея Горыныча видится мне не шибко мощное, но часто палящее.
— Вижу, не ошибся в вас. Дерзайте. Только, тс-с-с! — заводчик понизил голос. — Чтоб за стены Выйского слух о пароходе не вышел. Поначалу дилижанс сочиняйте, многоствол отдельно. И да поможет нам Бог.
Из Нижнего Тагила он выехал в смешанных чувствах, сознавая, что сделал первый и незаметный пока шажок к русской Вандее. Когда последующие шаги станут миру известны, ни Пестель, ни троюродный брат Строганов пощады не выкажут.
Черепановы да Кулибин — люди с Божьим даром. Однако прав был отец, расчёт здесь нужен. Пётр Иванович, спору нет, человек грамотный, образованный, но и ему паровые машины да пушки в новинку. Далеко наука вперёд шагнула, не угонишься. Нет больше всезнаек, каждый лишь в своём огороде корифей. А как о земляке забыл нижегородском? Позор! Лобачевский Николай Иванович, светлая голова, непременно подсобить может. Расчёты — его вотчина. Осталось привлечь его, интерес пробудить. За дело!
Россия бурлила, но вяло пока. Бунтари вроде Демидова ожидали до поры, козни задумывали. Бунты крестьян, военных поселенцев да бывших крепостных рабочих, на свободе оказавшихся, зато без куска хлеба, пресекались жестоко и быстро. Казачья сотня К.Г.Б. налетала шашки наголо, и немногие в живых оставшиеся враз утрачивали вкус к смуте. Оттого Строганов позволил себе сбросить напряженье последнего полугодия. А в конце февраля получил чуть пахнущее парижскими духами письмо отобедать в субботу в доме Шишковых.
В пять вечера темнота подкрадывалась к Москве, принося ранние зимние сумерки, пусть день и стал длиннее, нежели на Рождество. Поскрипывая снегом под полозьями, чёрный экипаж Строганова лихо завернул к парадному крыльцу, на котором зажглись уже фонари.
— Григорий, неси в дом пакет, — велел Александр Павлович и лёгким шагом взбежал на ступени, кинул шубу, цилиндр и трость лакею у гардеробной; он шагнул в холл навстречу обворожительной хозяйке.
— Гутен абен, герр Строганов.
Вместо приветствия всесильный глава Благочиния поклонился и припал губами к её пальчикам, скрытым тончайшей перчаткой.
Глава шестая, в которой Строганов рассказывает о душевных терзаниях палача
Старик Шишков, посёрбывая чай с вареньем, время от времени совал в рот леденец. К происходящему вокруг сделался безучастен; лишь на громкий прямой вопрос к нему сводил очи в кучку и ответствовал: «Ась?» Не считая сей глуховатой и изрядно поношенной особи, Строганов оказался наедине с Юлией Осиповной.
— Давно, давно не выпадало счастье мне с вами беседовать. Не в укор это, а в сожаление о бесцельно траченных месяцах. Посему позвольте мне презент вам вручить, сущую безделицу. Григорий!
Тот, ожидавший у дверей, внёс в гостиную прямоугольный свёрток, размотал его и явил живописное полотно с пасторальным пейзажем.
— Вспаньале! Великолепно! Это же фламандская школа… Бог мой, Александр Павлович, я не вправе принять столь дорогой подарок.
Ну, умеренно дорогой, подумал Строганов. Картина из особняка Шереметьевых, конфискована после ареста семьи, а имущество распродано. Партайгеноссе выкупили понравившиеся вещи по цене, которую сами назначить изволили.
— Отказа не приемлю, сударыня. Вот, есть замечательный выход. Александр Семёнович!
— Ась?
— В благодарность за долгую службу России примите сей знак признательности.
— Ась!
— Вы всегда добиваетесь своего, не правда ли?
— Да, Юлия Осиповна, — ловко орудуя столовыми приборами с истинно французским изяществом движений, Александр Павлович развил мысль свою подробнее. — Главное не в том, чтоб всего добиваться, а задачи ставить благие и цели светлые. Я уж привык к словам «тиран» и «палач» за спиной, а что делать? Согласен, творящееся сейчас в России — ужас и казни египетские. Но главные беды, бунт на Сенатской и романовское истребление, выпали на время, когда я в Париже обретался. Наша империя слыла не образчиком добродетели, но всё ж лучше республиканского чудища. Увы, империю не воскресить, как сие не понятно? Только вперёд, чрез тернии и пустоши.
— Какой ценой? И неужто нет иного пути, кроме как с виселицами и казачьими рейдами? — Юлия Осиповна отложила вилку, не в силах есть при мыслях о терроре.
— О, способов обустроить Россию изобрели великое множество. Увы, большей частию негодных. Предлагают выборы во Всероссийское учредительное собрание провести не через лет десять-пятнадцать, как Пестель обещал, а немедля, — Строганов также сдвинул приборы и салфетку снял. — Только нету в стране представительского опыта. Кого депутатом изберут мужики сиволапые? Такого же. Или сына кухаркиного. Они уж нагородят. Поверьте, фюрер наш — меньшее зло.
— Коли так рассуждать, и через пятнадцать лет не будет того опыта.
— Но образованность растёт! Республике тяжко, однако же школы открываем, сельскую молодёжь просвещаем. Грамотного проще убедить в сложных уму материях. Чернь одно знает — отнять и поделить.
Александр Павлович открыл засургученную бутылку, не приглашая лакея, наполнил два бокала.
— Любой ценой надо единство державы хранить, иначе османы и шведы начнут куски от неё отгрызать, словно от пасхального кулича. И что прикажете делать, когда отечественные наши карбонарии увещеваний не замечают, доводов разума не слушают и знают только наш корабль изнутри раскачивать? Что поразительно — ни один не разумеет, что во вред суетится! Все как один — патриоты российские, за Родину готовы на эшафот да с песней. Глаза фанатизмом горят, точь-в-точь белены объелись. Какая польза, что лучшие души к Богу отлетают на Петропавловском кронверке или в Сибири прозябают? И кто бы обо мне подумал… Кто поймёт, что с каждым убиенным я сам умираю стократ.
Над столом повисла тягучая пауза. Юлия Осиповна застыла, Строганов словно нырнул в чёрную ночь своих мрачных будней. Он же первым прервал молчание.
— Бога ради простите меня. Я давно у вас не был, в печаль ввожу, а не развлекаю разговорами. О другом хотелось — о вас, о поэзии, музыке.
— Да, о поэзии, — очнулась хозяйка. — Как там Александр Сергеевич в ссылке?
— Ссылка — несколько сильное слово. Скажем так, он уступил моим настояниям пожить в родительском имении в Болдино, пока не смогу в столице строгости унять. Вы же знаете характер его пылкий, несдержанный — истый поэт. В Болдино изумительно сочиняется, особенно по осени. Вот послушайте.
Я вас люблю, хоть и бешусь, Хоть это труд и стыд напрасный, И в этой глупости несчастной У ваших ног я признаюсь! Без вас мне скучно, — я зеваю; При вас мне грустно, — я терплю; И, мочи нет, сказать желаю, Мой ангел, как я вас люблю!Читая пушкинские строки, Александр Павлович так страстно и нежно жёг взором Юлию Осиповну, будто сам те стихи сочинил и ей посвятил. Почувствовав приближенье опасного рубежа, хозяйка смутилась, окрасилась румянцем на щеках и, дабы сгладить неловкость, пригласила Строганова в музыкальный зал, оставив мужа гонять чаи в одиночестве. Там сыграла известное сочинение Михаила Огинского «Прощание с Родиной».
— Намекать изволите, что пан Огинский Родину покинул, когда мы польский бунт в крови утопили? — грустно пошутил гость.
— Езус Мария, нет, конечно. Мелодия грустная и за душу берёт, как раз в тон беседам нашим. Позвольте, я что-нибудь веселее сыграю?
Они музицировали по очереди и в четыре руки, спели вдвоём. У Юлии оказалось не сильное, но чистое сопрано, Строганов звучал неожиданно приятным тенором.
Затем явилась приживалка, разрушив тет-а-тет.
— Юлия Осиповна, молю о новой встрече. Вы бываете на балах, приёмах; но наши пути до прискорбия редко пересекаются. Не соизволите записочку чёркнуть, как в свет соберётесь? Зачастить к вам не вправе, к замужней даме — некомильфо.
— Oui mon cher, — игриво подтвердила она на запрещённом французском. — Au revoir.
Однако на том их встреча не прервалась. Из-за кареты к крыльцу бросился молодой человек, бледный в свете фонарей. Он воскликнул «смерть тирану!» и выстрелил в Строганова; тот упал, поражённый пулей.
Свистнул хлыст. Кучер Строганова стеганул стрелка, сбив очки и повалив на снег. Спрыгнув с облучка, добавил ещё, не причиняя, впрочем, особого увечья через шубу. Григорий увидел, что барином занялись шишковские люди, метнулся к карете и достал пистолет.
Душегубец тем временем поднялся и, потеряв шапку под ударами кнута, кинулся бежать под крики «стой!» Свинец впился ему меж лопаток, снова швырнув на снег. Оставив пистолет, слуга бросился к графу, чтоб не уронили, не обеспокоили раненого.
— Как он? — спросила Юлия Осиповна, глядя в побелевшее лицо Строганова, внесённого в дом.
— За доктором послали, — ответил Илья Титович, справляющий в доме Шишкова роль дворецкого. — Но мыслю так, жить будет. Пуля в плечо угодила. Рану промыть-перетянуть, чтоб кровью не истёк, и Богу молиться. Помню, под Смоленском кум хранцузскую пулю чревом поймал. Думали — отойдёт, болезный. Нет, оклемался.
— Скажите, — она повернулась к Григорию. — А стрелявший где?
— Кажись, представился, прими Господь его грешную душу, — строгановский слуга стянул мохнатую шапку.
— Илья Титович, барина в гостевые комнаты несите. А того… человека — сюда. Не по христьянски ему на улице лежать.
Скоро дом наполнился городовыми, околоточным да верхними ляйтерами Вышнего Благочиния. Пестель и Бенкендорф лично пожаловали, хоть и ночь опустилась. В той суете Юлия Осиповна минутку нашла и в прихожей зале с лица злоумышленника покрывало сдёрнула, открыв знакомые черты.
На глаза накатились слёзы. Федя, Фёдор Иванович дорогой, зачем? В памяти всплыли читанные им стихи, никак сей печальной мизансцене не соответственные.
Вам, вам сей бедный дар признательной любви, Цветок простой, не благовонный, Но вы, наставники мои, Вы примете его с улыбкой благосклонной.Строганов, принявший в плечо дар тютчевской любви, пришёл в себя.
— Избави Бог Россию от фанатиков-патриотов. Как он там? Сбежал?
— Нет, Александр Павлович. Застрелил его ваш Григорий.
Она произнесла это с осуждением?
— О да, у тирана и слуги сатрапы. Может, оно и к лучшему, дорогая Юлия Осиповна. Злоумышленник умер, расследование не требуется. А то Бенкендорф нынче в ударе. Бедный поэт у него в подвале ещё б три десятка сообщников назвал.
— Так вы узнали его!
— Конечно, Федя Тютчев — молодой, надежды подававший. Чем чище душа, тем мрачнее в ней фантазии; таков русский путь. Простите, любезная пани Юля. Врач запретил меня трогать. Коли я у вас задержусь на неделю, не уроню вас в глазах вольнодумствующих поэтов? Палача выхаживаете.
— Порой на мненье света лучше не оглядываться. Оставайтесь сколь нужно долго и быстрей выздоравливайте, — произнесла хозяйка, поправила одеяло на раненом и покинула гостевую опочивальню.
В доме погасли огни, стихло всё, и только шаги часового во дворе тревожили ночное безмолвие. На время лечения Строганова его надёжный помощник Бенкендорф приказал у дома Шишковых поставить охрану. Без верных людей с оружием сам Александр Христофорович по Москве давно не хаживал.
Ранение имело хорошие стороны. За время нежданных вакаций Александр Павлович отогрелся душой, каждый день ведя лёгкие беседы с Юлией Осиповной. Уверовал в её благоволение, заодно прояснил сложные отношения панны с мужем.
Действительно, очаровательная полька из обедневшей семьи вышла замуж за престарелого Александра Семёновича, исключительно желая вырваться из бедности. Русская армия, преследуя остатки наполеоновых полчищ, вела себя хуже ордынских татар. На Радзивилах, Огинских, Чернорыйских и прочих богатых семействах отыгрались, припомнив Понятовского и помощь Бонапарту. Словно с того, что огонь охватил Несвижский, Мирский да Новогрудский замки с окрестными деревнями, Москва восстала бы из пожарищ. Малым шляхетским родам тоже досталось от души.
Она никого не винила — ни поляков, легковерно присягнувших корсиканскому демону, ни русских, безудержно мстящих. Вшистко едно, в войне не бывает только правых и только виноватых, говорила Юлия Осиповна, а горя хватает обеим сторонам. В тихой пристани шишковского дома она внезапно привязалась к старику. Понятное дело, Александр Павлович об утехах постельных хозяйку не спрашивал, да только ясно — детей у них нет и быть не могло. А коли такое случается у стариков на восьмом десятке, редко чудо сие обходится без гусарского штаб-ротмистра.
Она не из таких; строгое воспитание у ксёндзов да боязнь позора, вряд ли прикрытого неравным супружеством, стали неодолимым барьером на пути плотских утех. Впрочем, годы Александра Семёныча явно к концу шли. Строганов, можно сказать, вызвался ждать овдовения пани Юлии. Вслух не произносили, ибо грех это. Однако к отъезду из дома Шишкова раненый ухажёр сильно подозревал, что она тоже возжелала вдовьего чепца.
Сердечные дела Павла Демидова устроены были без драм вроде пистолетных ранений, прозаично и не слишком romantische. Женился он по искренней любви на отчаянно прекрасной шведке Еве Авроре Шарлотте Шернваль, которой пылкий Евгений Баратынский посвятил стихи:
Выдь, дохни нам упоеньем, Соимённица зари; Всех румяным появленьем Оживи и озари!Однако Ева в замужестве страсти не проявила, пеняла «друга Павлушу» за чрезмерную тучность и непременно жаловалась на головную боль да женские напасти на пороге опочивальни. Демидов страдал, краснел и терпел. А нерастраченные силы пустил в народное ополчение родного края, объяснив местным офицерам Вышнего Благочиния, что призваны оные для усмирения бунтов и прочих врагов внешних и внутренних при всепокорнейшей верности Верховному Правлению и лично его главе великому Пестелю. О броненосных пароходах, обрастающих железом на Урале, прежде времени никто не прознался.
Глава седьмая, в которой Государь перегибает палку уж слишком сильно
Неблагодарность народа русского, во имя которого Пауль Пестель положил на алтарь душу свою, эту душу весьма ранила. Ежели поначалу новый Государь российский нёс радость народу, приговаривая: коли не понимаешь счастия своего — тебе же хуже, ныне заметался он в сомнениях.
Как-то Строганов, от раны оправившийся, прошествовал в свой кабинет на Лубянке мимо толпы просителей у приёмной. Средь привычных родственников арестантов, чающих вымолить смягчение участи для своих присных, Александр Павлович вдруг увидел хорошо знакомое лицо военного врача и героя войны Михаила Андреевича, фамилию коего запамятовал. У ног эскулапа отирался худой мелкий отрок с испуганным выраженьем на лице. Не успел доктор выразить, как водится, искреннее почтение и прочая и прочая, как его прервали самым решительным образом. Здание Благочиния огласилось выкриками на русском и немецком языках, предвещавшими появление грозной и властной фигуры. Солдаты сдвинули просителей в сторону; Павел Пестель в раздражении крайнем влетел в приёмную, подхватил оберфюрера под локоть и увлёк его в кабинет, с силой хлопнув дверью. От удара она вновь открылась, её и затворить никто не решился — раз великий вождь так поступил, не гоже менять.
— Бунт! Всюду бунт! Заговоры… Крамола…
Из сумбурных речей Государя Строганов уяснил следующее. В Георгиевский дворец проник некий обыватель с флягой лампадного масла, которое он объяснил для наполнения ламп в местах, свечами не освещаемых. Обыскав его и оружия не найдя, охрана пустила беспрепятственно. Близ резиденции вождя тот облился, поджог себя, написав на стене «сатрапъ» и в мучениях отдал концы.
— Безумец, — только и сказал Строганов.
— Натюрлих! Но не только, партайгеноссе Алекс. Смутьян в мою душу плюнул, но свою навеки сгубил в геенне огненной. Грех смертный, несмываемый, неискупаемый. Да и как искупит — помер он.
— На всё воля Божья.
— Мелко смотришь, друг, — вождя натурально колотила дрожь. Приговоры с повешеньем он утверждал недрогнувшей рукой, а обгорелая тушка в обрамлении чёрного пятна, наполнившая коридор смрадом горелого мяса, взволновала его изрядно. — Не может человек, в Бога верующий, сам себя порешить. Это Божий промысел — когда жизнь дать, когда отнять. Самоубийца равен Богу! Стало быть, в Бога нашего, в Господа Иисуса Христа он не веровал! Атеист проклятый! Однако же верно всё — как мог до сих пор атеист знать, что нет Бога и не убить себя тотчас же? Ежели не себя, то соседа или старуху-процентщицу. Как иначе докажет — тварь ли я дрожащая или право имею?
Строганов принял вид, что участливо внемлет. Сквозь приоткрытую дверь в приёмную проглядывали смятенные лица граждан, впервые услыхавшие подобные речи фюрера. Сын доктора замер истуканом, не смея шевельнуться. Меж тем глава державы, страшащийся вернуться в Кремль, пропахший палёным человечьим мясом, продолжил вещать.
— У нас православие; наш народ велик и прекрасен потому, что он верует, и потому, что у него есть православие. Мы, русские, сильны и сильнее всех потому, что у нас есть необъятная масса народа, православно верующего. Единый народ «богоносец» — это русский народ. Я верую в Россию, я верую в её православие… Я верую в тело Христово… Я верую, что новое пришествие совершится в России… Я верую… — Пестель захлебнулся криком, отдышался и продолжил, развернувшись в совершенно ином направлении. — Если пищи будет мало, и никакой наукой не достанешь ни пищи, ни топлива, а человечество увеличится, тогда надо остановить размножение. Наука говорит: так природа устроила, стало быть, нужно сжигать младенцев. Вот нравственность науки. Теперь посмотрите: если вы верите, что Бог непосредственно имеет с человеком сношение, — то тогда, предавшись христианству, вы никогда не примиритесь с чувством сжигания младенцев. Вот вам совсем другая нравственность.
— Поясните, Государь, — Строганов обмакнул перо в чернильницу, — стало быть, в текущем, тысяча осемьсот двадцать седьмом году мы сжиганье младенцев из планов вычёркиваем?
— Да! — Пестель успокоился, выговорившись, и втянул носом воздух, будто жирный смрад мог донестись сюда из Георгиевского. — Надо думать, убрали и проветрили уже. Ауфидерзейн, камарад.
После фюрера Строганов тоже проветрил немного, затем зазвал врача с отроком, остальных велел гнать прочь. Военный врач Михаил Андреевич приготовил surprise — он не на Благочиние сетовал, а на супругу.
— Поверите ли, любезный Александр Павлович, сил моих нет. Пестует она сына словно барышню кисейную. Растёт форменный идиот, точь-в-точь как её дядюшка князь Мышкин. Я-то в трудах. Бывает подчас — нету времени уделить для мальца, пресечь, оградить, напутствовать. И сёк его розгами, и всяко поучал — сладу никакого. Преступленье и наказанье в одном ребёнке.
— Что ж от меня хотите?
— В Пестельюгенд отдать. А только там с десяти годков берут.
Строганов глянул на синие круги под глазами докторова отпрыска, на дрожание губ и неожиданно сердцем дрогнул. От таких отцов, над детьми глумящихся, до Пестеля, подумавшего о сжигании младенцев и лишь верою сдержанного, один шаг.
— Оставьте. Я найду, как его воспитать.
Добрый врач вышел, отрок вжался в стену.
— Не бойся, не обижу.
— Яволь, — прошептал мальчик. — А только не вас я боюсь, больше дядьку страшного, что сперва заходил. Он про Бога и прочее говорил, словно бесы в него вселились.
Бесы? Правильное слово, решил Александр Павлович и велел подать карету. Они покатили по московским улицам к дому Шишковых, разглядывая толпы нищих, наводнивших столицу.
— Бедные люди, — сказал малыш. — Униженные и оскорблённые.
— Смотри, об услышанном сегодня — никому не слова.
— Да… Только и забыть не смогу. Разве что напишу когда-нибудь обо всём. Про бесов и старуху с процентами. Как взрослым стану. Непременно напишу! Все узнают…
В знакомом особняке, можно сказать — до боли в плече знакомом, Строганов сдал юное дарование Юлии Осиповне на руки, вручив стопку ассигнаций на содержание и загадав обходиться с ним ласково. Впрочем, последнее — лишнее. Панна взъерошила непослушные детские кудри и спросила:
— Как звать-то тебя?
— Федя… Фёдор Михайлович Достоевский, — не без важности ответил приёмыш.
К лету бунт охватил Владимирскую, то бишь Клязьминскую губернию, грозя перекинуться к Москве. Даже столь опытный губернский голова как Пётр Иванович Апраксин, бывший питерский полицмейстер, не справился и подмоги запросил.
Клязьминский поход возглавил сам Леонтий Васильевич Дубельт, растеряв в нём половину двадцатитысячного войска. Сколько полегло обывателей, никто посчитать не смог. То ли тридцать, то ли пятьдесят тыщ — мало ли что клевещут.
Павел Иванович в конец нервным стал, пугая соратников и оглашая залы Георгиевского дворца криками «аллес штрафен! аусроттен! эршиссен!», сиречь наказать, истребить и расстрелять всех… Соответственно Вышнее Благочиние денно и нощно трудилось, наполняя расплывчатое «всех» чётко прописанными именами, фамилиями и адресами.
Верховный фюрер Рейха затребовал перечень губерний, где подобный клязьменскому бунт возможен. Бенкендорф положил на стол Строганову лист со списком республиканских земель к западу от Урала.
— Стало быть, восточные губернии держим в узде?
— Найн, герр оберфюрер. Однако далеко туда казаков из центра слать, — практично рассудил ляйтер Вышнего Благочиния.
В данном виде «папире» попала к Пестелю, раздосадованному тридцать седьмым с Рождества покушением на его обожаемую народом особу. Прикрыв ладошкой ужаленное пулей ухо, он повелел издать приказ Верховного Правления о взятии заложников в склонных к бунту губерниях и волостях. Отныне везде заключить в лагеря видных граждан, коих казнить немедленно по случаю бунта. Лишь Клязьменская округа получила пощаду — ныне там и заложников трудно набрать.
Через выжженные земли в междуречье Клязьмы и Оки Дубельт повёл пятитысячное войско из казаков, пушкарей и пехоты внутренней стражи к Владимиру-на-Волге, заложников поволжских прихватить и соединиться с ополчением Павла Демидова. Затем через Волгу переправиться и навести шороху до Урала. Вот только вернулся Леонтий Васильич необычно рано, с казачьей полусотней и в порванном мундире, да так и вбежал в Большой Георгиевский фюреру на доклад.
— Вас ист дас? — рявкнул вождь. — Вы что, с ополчением не соединились?
— Так точно, мой фюрер. Даже слишком соединились. Пехота и пушкари к ним перешли, казаков они частью побили, частью рассеяли.
— Бунт?! Подавить! Расстрелять! Нижний Владимир сжечь! Архиважно!
— Яволь, мой фюрер. Только не бунт уже там, а война. Войско дайте большое, не казачьи зондеркоманды.
Пока копилась армия достойного размера, дабы раздавить крамолу до осенней распутицы, пришли тревожные вести с южных и западных рубежей. Османы заявили о непризнании соглашений с Российской империей, ибо таковая приказала долго жить, и высадились в Крыму. Круль Польский Михаил Гедеон Радзивилл, известный тем, что уже в шесть лет воевал с русскими в армии Тадеуша Костюшки, собрал полки на западной границе Республики. Пестель созвал Верховное Правление.
— С трёх сторон враги. Революция в опасности! — возопил вождь и предложил высказаться каждому партайгеноссе.
Дубельт счёл лучшим крепить оборону, Бенкендорф — бить поляков, почему-то считая их слабым врагом. Строганов осторожно высказался за переговоры с Демидовым, дабы объединить русские силы перед иностранным нашествием. Но фюрер остался непреклонен.
— В единстве нации — сила. Поволжский мятеж рушит единство. Так что изведём крамолу, потом истребим внешних врагов.
Соратники крикнули истребителю «Хайль Пестель!» и разошлись по установлениям готовить войну. 30 сентября 1827 года республиканская армия числом тридцать тысяч штыков и сабель о пятидесяти пушках встретилась с втрое меньшим войском демидовского ополчения близ города Муром на берегу Оки.
Александр Строганов, старший по близости к фюреру, возглавил поход. Рядом крутился Бенкендорф, верный Республике и как всегда недовольный, что вождь не его главным отправил, опытом пренебрегнув. Дубельт командовал конницей.
— Как думаете, господа, заслать ли к Демидову офицера? — вопросил командующий, оглядывая в подзорную трубу войско бунтовщиков за рекой. — Мы не жаждем крови, силы полагаю сберечь для осман и поляков.
— Нам нужно подавление бунта! — отрезал Бенкендорф. — Нас втрое больше против партизан. Пусть они просят у нас прощенья.
Дубельт опасался, что демидовцы сбегут, и тогда ищи-свищи их по всему Поволжью. Так что никто с белым флагом во вражий стан не поехал; войско разбило лагерь в ожидании завтрашней битвы. За ночь повстанцы переправились на левый берег, явно налаживая полки для атаки.
В утренней суете отчётливо зазвенел ясный мальчишеский голос.
И только небо засветилось, Всё шумно вдруг зашевелилось, Сверкнул за строем строй.— Миша! А ну марш в обоз! Шнель! — прикрикнул на него Дубельт, и обиженный юный поэт поплёлся к повозкам.
Тем временем Строганов снова навёл стекло на врага.
— Нечто новое, господа.
Впереди марширующих колонн двигалось упомянутое нечто, коему эсесовцы не смогли слова подобрать. С виду оно походило на железный дом с высокой печной трубой, из которой валил чёрный дым. Странный круг наверху с поблёскивающими бронзовыми стволами маленьких пушек явно ничего хорошего не сулил солдатам Республики. Вдобавок этих «нечто» катилось в количестве двух штук.
— Вроде как англицкие речные пароходы, только по земле ходячие. Другое скверно, — Дубельт повёл трубой вдоль строя мятежников. — Гляньте на хоругви их.
Строганов с Бенкендорфом поняли, что имеет в виду Леонтий Васильевич, и оба посмурнели. На двух пароходах и над шеренгами огромные полотнища с ликом Спасителя да русские триколоры. Армию-то на другое готовили — с изменниками земли нашей воевать, с антихристами.
— Александр Христофорович, к орудиям. Как приблизятся, непременно шесты посбивайте. На несущих Иисуса у наших рука не подымится, — про себя глава похода проклял день, когда Пестель пресёк созданье «дикой дивизии» из кавказцев. Мол, не слишком они русские. Сейчас бы диких в центр пустить, порубали б смутьянов в капусту, не взирая на хоругви.
Среди крамольников гарцевал Демидов. «Что ты творишь, Павел?!» — простонал внутри себя Строганов. Сейчас Бенкендорф как даст залп…
И орудия грянули, но странно. Ядра да гранаты в сторону унеслись или запрыгали мячиками пред коптящими самоходными избами. Глава Вышнего Благочиния завопил про измену, повелел зарядить орудие и задрал в небо ствол, самолично подпалив фитиль.
Пушка грохнула; ядро пролетело над крышей парохода, попав в Святой Лик. Меж бровями Иисуса прорвалась дыра.
— Ладен! Фоер! — скомандовал Бенкендорф, призывая пушкарей заряжать и стрелять; тут почувствовал толчок в спину и узрел трёхгранный кончик штыка, раздвинувший ордена на груди. Уронил шляпу, скрывавшую смешной зачёс на лысину, и упал на лафет усами вперёд.
— Братцы! — закричал солдат, выдернув штык из генеральской спины. — Оне по Христу палить загадали! Бей нехристей!
На глазах изумлённых вождей Благочиния орудия повернулись в сторону казачьей гвардии и командования… Строганов кинулся наземь, на миг чувств лишился, когда гранаты рванули, оглушая близким разрывом. На мундир просыпалась земля. Он скатился с холма, пытаясь найти лошадь. Заговорили пушки и ружья бунтовщиков. Верные Республике части ответили вяло и вразброд.
Поймав, наконец, полубезумную от грохота кобылу, Строганов с трудом укротил её, вскочил в седло; верхом погнал на левый фланг, к казачьей коннице Дубельта. Лишь один удар её сбоку к повстанцам — и битве конец. Но не случилось.
Демидов разделил своё и без того невеликое войско. Каждая половина с одним пароходом во главе ударила во фланг, обтекая смолкнувшую артиллерию Республики.
Строганов впервые увидел адскую машину вблизи. В передней части медленно крутилось колесо с малыми пушечными стволами. Как только пушка смотрела впёред, она палила картечью, а ствол уезжал назад на половину длины. Солдаты попадали в неё, но куда там! Пули не несли ей никакого вреда. А мятежники шли под христовыми ликами, стреляли, порой падали, но всё одно — казались частью несокрушимого парохода, не ведающего жалости.
Капут, осознал командующий и двинул назад, к обозам. Его обгоняли конные, бегом неслись пешие. Армия Республики расползалась, как гнилая тряпка, быстрее, нежели умирала под пулями и картечью.
Испуганно заплясала лошадь под Дубельтом, уронившим голову на чёрную гриву. Красное капнуло с синего мундира на белые рейтузы. Рванула граната, кобыла заржала и встала на дыбы, сбросив седока под копыта драпающей казацкой полусотни.
Эх, Леонтий… Но горевать о товарище не с руки, и Строганов озаботился своим спасением. Чуть не загнав лошадь, он за день и остаток ночи выбрался к волостному посёлку Гусь верстах в шестидесяти от Владимира, где расквартирован верный Республике гарнизон. Ну, пока верный…
Демидов тем временем оглядел ошмётки строгановского воинства.
— Граждане! Россияне! Отчего деспотам служили, православную кровь проливали? Османы русскую землю топчут, ляхи чают на престол русский нового самозванца усадить! Кто со мной, за веру нашу православную и Отечество? Силой никого неволить не буду. У кого кишка тонка — все по домам. А мы пойдём на Москву! Долой богопротивное Правление! Долой палачей из Благочиния! Кликнем царя нового, народу любого! Виват, Россия!
Из парового бронехода вылез Ефим и с уваженьем глянул на передний лист, весь в пулевых занозах, но целый. Слава Богу, никто не сподобился ядром ударить. Подошёл чумазый от пароходного дыма Мирон.
— Как машина-то, батя?
Черепанов-старший глянул на жирный закопчённый бок, огромное заднее колесо и чёрные борозды на влажной осенней земле.
— Ремонту дня на три. Шестерням конец, ось мортирной батареи разбита вся.
— Так и в моей не лучше. Вода кончилась, под пулями не долить. В котле дыра, да и шестерни как у тебя. Час баталии — неделю ремонта.
— Зато добыли победу-то, богатыри! — Демидов услышал конец разговора мастеров, спрыгнул с коня по-молодецки, словно кавалергард, и обнял Черепановых, не чураясь замарать камзол о смазочный жир. — Дальше — легче. Разбежалась гвардия фюрера. А пароходы сохраните. Даст Бог, на басурман их направим. Бить своих — грех, хоть и пришлось.
Приняв с благодарностью начальственную похвалу, застенчиво улыбаясь в лопатистую бороду, Мирон вдруг потемнел лицом, от минутной радости не осталось и искорки. Посечённые пулями из картечниц впереди пароходов лежали люди.
— Батя…
Ефим стянул с головы измазанный углём картуз. У горячей топки и в тесноте он вперёд не глядел, хоть понимал, что бронные дилижансы не для потешного дефиле выделаны. Ясно же, не распугай невиданные машины республиканских молодцов, море крови бы пролилось, и куда большее. Однако то лишь в предположении да в уме, а тут мёртвые тела, страшные свидетели, что на душу лёг грех несмываемый.
Схоронив погибших, не разбирая, за чью сторону голову сложили — все люди русские, православные, да трофеи разобрав, армия Демидова отдохнула чуток и двинула к Первопрестольной.
Нежный лицом отрок, спасённый Дубельтом отправкой в обоз, глянул на сборы перед маршем и сложил новый стих.
Вот смерклось. Были все готовы Заутра бой затеять новый.Войска до самой Москвы не встретили сопротивленья. Сломанные в первом же бою пароходы остались до поры под Муромом, не затрудняя движение. Однако слава о них бежала быстрее конницы. А в Кремле и на Лубянке жгли бумаги, в тюрьмах срочно казнили задержанных. Пестель собрал вокруг себя последний не разбежавшийся казачий полк, нагрузил карету золотом и думал было сказать столице: «жди меня, всенепременно вернусь», когда Строганов встретил его в коридоре, наставив пистолет.
— Алекс! Вас ист дас…
Звук выстрела заглушил последнее слово.
— Правильнее взять тебя под арест. Однако Демидову пришлось бы руки марать. Мои и так по локоть в крови.
Пестель шевельнулся, Строганов выстрелил из второго ствола, снеся фюреру полчерепа. Затем повернулся к двум офицерам.
— Протоколируй, Кюхля, свергнутый вождь пытался сбежать, однако застрелен был. Не забудь по-русски писать. Боюсь, немецкий больше не в чести.
Глава восьмая, в которой некоторые персонажи поправляют личную жизнь
Осенний ветер гонял по Москве не только жёлтые листья, но и обрывки плакатов. «Всѣ на борьбу съ врагами православія!» Или: «Пятилѣтній планъ желѣзныхъ и бочарныхъ издѣлій выполнимъ за четыре года!» А лучше: «Православный! К.Г.Б. и С.С. ждутъ тебя!» И даже такой: «Народъ и Благочиніе едины». Прохожие наступали на них; самые дальновидные обыватели собирали плакатики, дабы сберечь на память о короткой, но яркой эпохе.
Павел Николаевич Демидов короновался на царствие в Успенском соборе Московского Кремля. В день коронации Павел Второй даровал подданным Конституцию, в коей обещал равенство для исповедующих разные верования, запрет на репрессии, всероссийские выборы в Государственную Думу, не сразу, понятно, а когда-нибудь, и прочие хорошие дела. Ну, хотя бы обещал.
Слегка похудевший от многодневного пути в седле да овеянный славой спасителя Руси, он вдруг был обласкан ненаглядной Евой Авророй Шарлоттой, проявившей нежданную пылкость. Посему отвергнутым воздыхателям и нелюбимым мужьям можно дать отличный совет: дамы весьма неравнодушны бывают, когда их кавалер внезапно становится владельцем одной седьмой части земной суши.
Строганову, пребывавшему в ножных железах и спавшему отнюдь не на перинах, о личной жизни задуматься не пришлось, пока Император Всероссийский не повелел доставить узника в кабинет, на коридоре близ которого никак не исчезало горелое пятно самосожжения.
— Присаживайся, родственничек… Хотя что это я, ты, верно, насиделся уже.
— Десять дней — не срок, Ваше Императорское Величество.
— Тут ты прав. И срок тебе придётся отмерить.
Александр Павлович опустился-таки на стул. На каторге хоть будет о чём рассказать — как позволили ему сидеть в монаршем присутствии.
— Итак. Против тебя — исполненные смертные приговоры, составленные Расправным Благочинием в количестве ста тридцати семи штук, десятки тысяч загубленных душ в Клязьменском побоище, полторы тысячи под Муромом, где ты войсками лично изволил командовать. Сселение евреев на юг, потом в Сибирь, они на полста тысяч погибших жалуются…
— Евреи завсегда свои горести преувеличивают.
— Не перебивай царя, Александр. Пусть не пятьдесят, даже одна тысяча. Добавим кавказцев. Итого православных, иудейских да магометанских душ под сотню тысяч набирается. Поэтов великих уничтожил, Нестора Кукольника и Фёдора Тютчева. На единственную петлю хватит? Али пару тысяч не досгубил?
— Всё оно так. А будь в моём кресле Бенкендорф, Пестелем науськиваемый и никем не сдерживаемый, ты бы не десятки — сотни тыщ считал. А то и мильён!
Государь иронически скривился.
— Да видел я твои показанья. Будто лазутчиком себя счёл, во вражий лагерь засланным. Вроде как продолжал работу расправную, а вроде и тормозил. Но ложь это! — Демидов швырнул на столешницу маленький декоративный ножик. Ныне он ничуть не напоминал вальяжного барина, путешествующего из Варшавы иль просящего купеческих вольностей. — Никто тебя к фюреру не послал, стало быть — ответ тебе держать.
Император прошёлся к окну, глянул поверх кремлёвских зубцов, обернулся.
— В твою пользу, Саша, казнь Пестеля. Облегчил мой труд, ибо зарёкся я казнить. Указ о том издам, наверное. Посему умерщвлять отныне могу лишь тайно, внешне к душегубству отношения не имея. Но Пестель что — дрянь человечишко. Сгноили бы его в остроге; та же казнь.
— Выходит, меня там сгноишь? — Строганов неловко повернулся, железки звякнули на ногах музыкой тюремных подземелий.
— Нет, — через паузу заявил Павел Второй. — Тысячи погибших — огромный грех, не искупить его. Однако услуга мне с Пестелем не главная. Ты Пушкина спас, от Бенкендорфа прикрыл. Может, Александр Сергеич всего нашего поколения стоит. И за это тебе спасибо.
— Так что теперь?
— Пока Сибирь. Пишу в бессрочную каторгу, а через пять лет видно будет, — прямо поверх смертного приговора Верховного Трибунала он чёркнул визу о высочайшем помиловании и замене кары. — Отвезут тебя на Енисей, там раскуют. Понятное дело, никаких шахт, живи себе.
— Спасибо, Государь.
— Свечку за здравие поставишь. Кстати, в Сибирь с жёнами можно. На деле не каторга — ссылка у тебя.
— Извини, не успел. Злодейства много времени отняли, — кисло улыбнулся осуждённый.
— Что, и вообще никого?
— Отчего ж. Шишкова Юлия Осиповна. Но в трауре она по усопшему супругу, не время пока.
Демидов качнул головой.
— Вот и пробуй. Я конвою скажу: пусть до этапа к шишкову дому тебя свезут. Уговоришь её бросить жизнь столичную и ехать за каторжанином вслед — считай, брат, повезло тебе. За таким счастьем и в Сибирь не грех.
Как назло, Юлии дома не случилось. Конвойный офицер велел немедленно вернуться в повозку и ехать на Казанский тракт.
— Государь Император велел мне с госпожой Шишковой встретиться! — в отчаяньи взвыл арестант.
— Ничего не знаю, — отрезал есаул, недавно ещё подчинённый Строганова во внутренней страже и оттого особо начальственный. — Мне сказано сюда отвезти, потом на этап.
С тоской глянув на знакомое крыльцо, Строганов сделал шаг к тюремной карете, звякнув кандалами, как вдруг услышал мальчишечий голос.
— Дядя Саша!
Мишка Достоевский нёсся вприпрыжку, разбрызгивая ноябрьскую грязь.
— Здравствуй! А барыня где?
— Да вот она идёт. С обедни мы.
Юлия, покрытая чёрным платком, спросила только:
— Далеко?
— В Сибирь, на Енисей. Село Шушенское. Там Фаленберг и Фролов, их освобождают, меня на их место… Зачем говорю эти подробности… На пять лет. Потом, наверно, высылка… Будешь ждать?
— Да! Но только в трауре я по мужу. Перед Богом — не свободна ещё.
— Тогда и я не вправе. Хотел бы замуж позвать. Но траур… Да и вряд ли я ныне видный жених. Имения не отобрали, что за пять лет с ними станется — неведомо. А пока меня ждут тайга, глушь, казачий острог и медведи.
Юлия ничего не ответила. Взгляды иногда говорят больше, нежели слова, особенно дополненные поцелуем.
Нетерпеливо вмешался есаул, но главное сказано уже было. Любовь сильнее, чем медведи и революция.
Часть вторая. Купец на троне
Глава первая, в которой Государь Император Павел Второй осознаёт, насколько сложнее управлять державой, нежели демидовскими предприятиями
Придворные, близко знавшие нового помазанника Божия в бытность принадлежности его к новгородскому купечеству, единодушно твердить принялись: изменился наш Павел Николаевич. Злые голоса поддакнули: тяжела шапка Мономаха, не по Сеньке шапка.
Многие глупости, наделанные Пестелем сотоварищи, исправились просто, одним только росчерком пера. Нижний Владимир вернул имя Новгорода, город на Клязьме стал Владимиром, «Русская Правда» упала в камин на растопку. Незадачливые мятежники, сосланные за Урал Расправным Благочинием, давно возвращены.
Однако как вернуть Крым и Бессарабию, бессовестно под шумок османами захваченные, когда Русская Императорская Армия распущена, а республиканские скоморохи ни на что не годны, кроме парадов с криками «хайль»? Как поляков обуздать, коим Малой и Белой Руси недостаточно? Шведы зарятся на Финское княжество, персы — на Кавказ до Тифлиса. Как торговлю и заводы наладить, ежели купеческие предприятия порушены, кумпанства развалились, а на новые золота нет? Как земледелие вернуть, когда хозяева угодий перетасованы, словно колода перед раздачей, а крестьянство и баре остались в обиженных? Как финансы отстроить в государстве, где рубль меньше стоит, нежели бумага, на его печать траченная? Как зазвать иностранных негоциантов, что после заварухи в Россию носа не кажут?
Бывало, Павел Николаевич, за половину 1828 года ещё больше в теле опавший, к вечеру уговаривал графинчик горькой и подумывал даже найти завалящего какого Романова, пусть бастарда или самозванца, готового ухватиться за державный штурвал, да перевалить ношу сию на его плечи. Однажды поведал об этих мыслях Еве Авроре, императрица в ужас пришла, в гневе отлучила супруга от опочивальни. Императорская корона России — лучшее украшение на женской головке, как её снять?
Побранившись с мужем, уехала в Санкт-Петербург, объяснивши, что воздух морской для её здоровья благотворен. Где это видано, чтоб сырость Северной Пальмиры кому-то на пользу шла? Верно, по примеру иной императрицы, Екатерины Великой, возжелала гуляний и веселья, коих не сыскать подле мужа.
А его другое давило не меньше, нежели тяготы управления и новые семейные невзгоды. Отдать престол — великого ума не надо. А деться куда? В Нижнем Новгороде жизнь не сахар, как и везде на Руси. Можно, конечно, всё продать, рубли хоть как в золото да английские фунты обернуть и в Европу уехать. Сколько бы ни вышло в остатке, на жизнь точно хватит. Но батюшка не переживёт, а дед в гробу перевернётся. Не для того предтечи столетиями вставали ни свет ни заря, считали каждый грош, самому завалящему рублику дело находили, чтобы сгубить это разом. Поэтому для демидовского наследия нужна цветущая Русь, а вернуть её на путь истинный некому более.
Важный поворот в настроении печального мужа и Государя произвести смог лишь Пушкин, о котором Император услышал — великий поэт, в Республике опальный, почтил Москву визитом по пути в Санкт-Петербург. Появившись в Кремле, он шутовски вытянулся во фрунт, военные манеры передразнивая, и отрапортовал:
— По вашему приказу явился, Всемилостивейший Государь!
В поблекшей роскоши дворца усталый монарх обнял поэта за плечи и велел не фиглярничать, а общаться накоротке, как на посиделках в Нижнем Новгороде, запросто именуя Императора Павлом Николаевичем.
— Искренне рад, mon ami. Знавал тебя прежним, но боялся, что трон испортит да спеси добавит.
— В будущем, быть может. Уберу зло, Пестелем России принесённое, тогда и возгоржусь без меры. Сейчас увы — гордиться нечем, брат Пушкин. Расскажи лучше, что поделывал с прошлой осени?
— Путешествовал всё больше, как строгановская ссылка в Болдино отменилась, — Александр Сергеевич с удовольствием пригубил коньячку из императорских запасов. — Чаял вот в Париж податься.
— Передумал али денег не хватило?
Нужда — вечная спутница поэтов. Среди них принято наделать долгов, карточных и обычных, заложить имение и голодать подобно Шекспиру, пока лондонская публика не оценила его пьесы. Но не таков был Пушкин, любитель хорошей жизни и не терявший голову до безрассудства… кроме как из-за любви, но и эта потеря его не настигла ещё.
— Да вот, приятель мой Шереметьев из Парижа писал, уговаривал. Он туда до Революции съехал.
Отступник света, друг природы, Покинул он родной предел И в край далёкий полетел С весёлым призраком свободы.Декламируя столь же свободно, как и разговаривая обыденным языком, поэт хитро прищурился и вспомнил о шалостях, коими манит Париж.
— Приглашал всячески — поселиться на Монмартре, стишки пописывать, черпая вдохновение у парижских доступных красоток, памятуя о моей слабости к прекрасному полу. Но добавил потом: «Худо жить в Париже: есть нечего, чёрного хлеба не допросишься!» Какая же столица Европы, коли без горбушки человек там не чувствует счастья? Лучше уж в родных пенатах.
— Я о Париже лучшего мненья, — усмехнулся Павел. — Однако же и в твоих словах зерно истины есть. А здесь кого посетил?
— Перво-наперво съездил к Ермолову. У Пестеля он в опале был. Выйдя в отставку, засел в своём имении.
— Вот оно что? И как там наш Алексей Петрович? Орёл или крылья повесил?
— Такой и в клетке в курицу не превратится. Он принял меня с любезностию. Будучи знакомым по переписке лишь, с первого взгляда я не нашёл в нём ни малейшего сходства с его портретами, писанными обыкновенно профилем. Лицо круглое, огненные, серые глаза, седые волосы дыбом. Голова тигра на Геркулесовом торсе. Когда же генерал задумывается и хмурится, то он становится прекрасен и разительно напоминает поэтический портрет, писанный Довом. Он, по-видимому, нетерпеливо сносит своё бездействие.
— Хорошо… Замечательно! — Император энергично шагнул к окну, оттуда повернулся к Пушкину, внимательно глядя через круглые линзы очков. — Он был настоящим хозяином Кавказа и не пришёлся Пестелю ко двору. Тот немцем Ермолова заменил.
— Людвиг Адольф цу-зайн Витгенштейн, — подсказал Пушкин.
— Германского выскочку я тотчас убрал, — отмахнулся Павел. — Но мало этого, нужен достойный человек. Скажи, Александр, ты чутьём поэтическим людей насквозь видишь, сможет Ермолов на службу вновь заступить? Верным мне быть, как и Романовым?
— Ни вам и ни им, а России, — поэт посмотрел тем долгим, особенным и немного грустным взглядом, перед которым таяли и дамы питерского света, и неукротимый палач Строганов. — Прости за столь высокопарный слог, Государь, генерал и есть таков. Лучшего не сыскать.
Странно, я советуюсь с поэтом, а не с министром или иным державным мужем, подумал Император. Узнают — засмеют. Однако здесь не столько государственный опыт, интуиция надобна.
— Кавказ предстоит в крепкую руку взять, держать в ней да быть готовым укоротить персидские да османские поползновения.
— Знаю, Павел, бывал я там. Кавказцы, особенно магометане, нас ненавидят. Разве что на армян и грузин, на христианские народы есть опора. Мы вытеснили диких горцев из привольных пастбищ; аулы их разорены, целые племена уничтожены, других Пестель за Урал переселил. Оставшиеся час от часу далее углубляются в горы и оттуда направляют свои набеги. Дружба мирных мусульман: они всегда готовы помочь буйным единоплеменникам. Дух дикого их рыцарства заметно упал. Они редко нападают в равном числе на казаков, никогда на пехоту не бегут, завидя пушку. Зато не пропустят случая напасть на слабый отряд или на беззащитного. Русская сторона полна молвой об их злодействах. Почти нет никакого способа их усмирить, пока их не обезоружат, что чрезвычайно трудно исполнить, по причине господствующих между ними наследственных распрей и мщения крови. Кинжал и шашка суть члены их тела, и младенец начинает владеть ими прежде, нежели лепетать. У них убийство — простое телодвижение. Пленников они сохраняют в надежде на выкуп, но обходятся с ними с ужасным бесчеловечием, заставляют работать сверх сил, кормят сырым тестом, бьют, когда вздумается, и приставляют к ним для стражи своих мальчишек, которые за одно слово вправе их изрубить своими детскими шашками. Помню, поймали мирного черкеса, выстрелившего в солдата. Он оправдывался тем, что ружьё его слишком долго было заряжено. Что делать с таковым народом? Мягкостью с ними нельзя, иначе как с Грибоедовым выйдет. Он погиб под кинжалами персиян, жертвой невежества и вероломства.
— Отрезать Кавказ от осман и персов, прекратить торговлю с ними. Евангелие способно воевать лучше пушек. Горские народы, принявшие Христа, нам не враги. И понимать должны, что Россия принесёт им богатство и роскошь. Одно только удобство самовары пользовать расположит их больше, чем тысяча казаков. Убедил, Александр, вызову Ермолова. А что в Москве говорят? Ты же по салонам ходок!
— Больше стихи читаю, нежели слушаю, — развёл руками Пушкин. — Свет соскучился по свободному поэтическому слову. Не далее как третьего дня был у Шишковой Юлии Осиповны.
— И как наша прелестная вдовушка поживает? Весной с ходатайством приходила, просила Александра Павловича быстрее из Шушенского вернуть. Но не могу, не могу, рано! Пусть даже его светлая голова здесь пригодилась бы. Так что ясная пани Юлия?
— Charmante fleur![7] Сему прелестному цветку молва приписывает любовников, но по снисходительному уложению света она пользуется добрым именем, ибо нельзя упрекнуть её в каком-нибудь смешном или соблазнительном приключении.
— Но не бывает неприступных бастионов? Или по-прежнему по Строганову грустит?
— Разве ты не знаешь, что долгая печаль не в природе человеческой, особенно женской? Грусть пройдёт, Александр Павлович задержится. Обязательный траур по мужу-покойнику закончен. Не из тех она пылких дамочек, что за декабристами в Сибирь уехали.
Скоротав часок за разговорами с Пушкиным, Государь немного воспрянул душой, а затем с удвоенной силой бросился на державные дела, как гренадёрский полк на редуты. Словно не хватало ему некого внутреннего точка, дабы одолеть хандру и апатию. Ближайшие дни он провёл особенно плодотворно: пригласил в Москву Ермолова, сместил генерала Карла Бриммера, последнего немца из пестелевских протеже, и поставил на место командующим южной армией Ивана Фёдоровича Паскевича.
Всё вернулось на прежний лад? Как бы ни так! Различие с временами дореволюционными есть, и чрезвычайно важное. Ранее генерал брал под командование готовую армию, чуть правил её по своему разумению и — хоть в бой, хоть на парад. Ныне Ермолов и Паскевич обязаны себе эту армию создать, что называется, с чистого листа. Есть отряды республиканские и оружие, с времён Романовых оставшееся. Но крестьяне с ружьями и в военных кафтанах — ещё не войско, а лишь похожий на него сброд. Превратить эту массу в дивизии, достойные наследия победителей Наполеона, трудно и долго. Для того новым командующим даны будут полномочия диктаторов на Кавказе, на Кубани и в Малороссии, с правом выбирать офицеров, в прошлых баталиях заслуженных и несправедливо обиженных «народным» правительством Пестеля.
Возвращению прославленного героя Отечественной войны на сложный южный пост Пушкин посвятил торжественную оду.
Но се — Восток подъемлет вой! Поникни снежною главой, Смирись, Кавказ: идёт Ермолов!В сентябре в Москву вернулось посольство, отправленное в конце прошлого года в Англию. Наверно, более пёстрого состава русская дипломатия не знала. Не доверяя корифеям старой закалки вроде Грибоедова, который и себя не уберёг, и государственный вопрос не решил, Император отрядил на британские острова Кулибина, обоих Черепановых, Лобачевского. По военно-политическим делам Государь выбрал посланником генерал-майора Сухтелена Павла Петровича, не германца, а голландца по происхождению. С ними — полдюжины других видных подданных, больше по материям торговым сведущих. Понимая, что Россия после кровавого Декабря отброшена чуть ли не к временам допетровским, Павел Николаевич поступил точно так, как Пётр Алексеевич: чем изобретать давно известное, лучше в Европе подсмотреть и самое удачное дома привить как культурный яблоневый черенок на русскую дичку. Даром что сам не отважился топором на верфи махать — возраст и телеса не те, что у славного самодержца.
Все возможные английские предприятия да мануфактуры, в кои удалось проникнуть, посетил Павел Петрович Аносов, горный начальник из Златоуста, внук и воспитанник самого Льва Фёдоровича Сабакина, а также старинный знакомый семьи Демидовых. Тёзка Императора и рассказал ему о паровых премудростях, подсмотренных на туманном Альбионе.
— Разумеется, Ваше Императорское Величество, англичане не склонны секретами делиться. Тем паче, ни единое британское изобретение патентами у нас не защищено. На одном заводе какую деталь подглядел, потом на другом подсмотрел, книжки прикупил, не думаю, что остались хитрости, мне не известные. Дед, когда в Англию ездил, по той же методе всё срисовал, доложил самой Екатерине, однако воз и ныне там.
— Времена изменились, Павел Петрович. Что при царице-матушке смотрелось досужим развлечением, теперь насущно требуется. Если бы не два парохода черепановских, здесь бы до сих пор фюрер заседал. Рассказывай вкратце, что увидел.
— Далеко их инженерия продвинулась. Паровые машины уже не одинарного, а двойного действия, с подачей пара на обе стороны поршня. Из первого цилиндра с высоким давлением пар снова работает в цилиндре под малым давлением. Это они компаундом зовут. А то, бывает, и третий цилиндр остаток пара принимает, потом он в специальный агрегат идёт, «конденсатор», где пар снова в воду обращается, не требуется бочки за собой возить. И котлы не простые, как в пароходах, а с трубами внутри для доступа жара…
— Погоди, не трещи. Я хоть и купеческий кровей, но Император. Не царская это работа в ваши всякие цилиндры вникать. Ты дело говори, что можно с тех «компаундов» у нас приспособить.
— Как машины получились размерами меньше, а для работы им не потребна теперь такая масса воды и угля, ставят их на самодвижущиеся по рельсам и по дороге повозки, на корабли, а на заводах их уйма. Раньше только насосы, что уголь из шахт вверх подымали да воду откачивали. Сейчас пар всё вытесняет.
— Так уж и всё?
— Наука целая появилась в Англии, политэкономия называется, Государь. Объясняет, что и откуда в торговом устройстве берётся. В любом товаре заложен труд рабочего или землепашца.
— Ой ли? — купеческая смекалка Демидова, привыкшего считать цену товара с издержками, чтобы сам-два продать и не ошибиться, сразу нашла загвоздку. — Как же с углём, деревом, железной рудой? Земные блага — Богом данные.
— Политэкономия учит, Ваше Императорское Величество, что пока уголь и руда в земле, ни стоят они ничего, по крайней мере — для расчёта цены товара. Владелец шахты записывает издержки по добыче руды и угля в среднем на каждый пуд, прибавляет свой интерес. А издержки те — плата рабочим. Так же и цена хлеба — оплата труда крестьянина.
— Ну, допустим. Ежели крайне просто, сойдёт.
— Стало быть, от издержек на труд себестоимость товара зависит. Но человек хуже работает, чем лошадь. Проще одну в плуг запрячь, нежели десять крестьян и прокормить их. А сила угля и пара изрядно дешевле лошадиной. Там, где одна паровая машина работает, да три-четыре мастеровых на её обслуге, польза та же выходит, что от десяти лошадей или сотни людей. Оттого вывод простой и немудрёный: кто первым в мире заменит машинами рабочую силу, тот и победитель.
— Скажешь тоже. Что, заводы без людей, одни мастеровые да кочегары?
— Нет, Государь. Действия тонкие только человечья рука сделает. Однако где сила нужна и скорость, машины способнее. Кажется, на Руси и земель, и людей много. Но на квадратную версту куда меньше по сравнению с Англией или Германией. Чем людей заселять да своих растить, быстрее машины поставить. Они революцию не замыслят, Пестеля на штыках в Москву не приведут. А если потребность пропадёт на время, довольно лишь топки погасить — год и два обождут, есть не просят. Как только у нас будут тыщи машин, то железа, угля и оружия куда больше окажется, нежели у осман или персов. Им наши старые пушки продадим, а себе новые отольём, лучшие!
Павел Второй рассмотрел диковинные рисунки паровых агрегатов из Англии, пароход, движущийся по рельсам, называемым «рэилроад», и корабль с огромными гребными колёсами — «стимшип». Рядом с ними самоходки Черепановых, ставшие на вечную стоянку около с Царь-пушки в Кремле — как ладья ушкуйников в сравнении с фрегатом.
— Обидно! Говаривали, что Ползунов первую паровую машину построил. Что же мы англичан вперёд упустили?
— Нет, Государь, — произнёс Аносов, стараясь сдержать улыбку, точно взрослый, услышавший из уст отрока нелепость; нельзя обижать царя. Пусть в неведении, однако тянется он к знаниям, тогда как в двери Павла Первого и Александра Первого дед Сабакин бился что о скалу. Для прежних самодержцев паровые дела остались забавами, средств и внимания не требующими, а русские купцы торговали по старинке, не рискуя кровно накопленными капиталами. — Паровой насос в России первый был английский, его Пётр Великий купил для фонтанов в Петергофе. Ползунов ранее всех у нас построил машину о двух цилиндрах, похожие в Англии и Франции сооружались. Современный аппарат, что и на заводе может работать, и на «рэилроад», и в «стимшип», создал Джеймс Уатт, получив изрядное число патентов. Его детище именуется «юнивёсал энжин», универсальный двигатель. Признаюсь, не уповая на свои лишь способности и других русских из нашего посольства, я сманил в Москву английского инженера, ученика самого Уатта. Каюсь, много ему платить выйдет.
— Торговые предприятия завсегда рисковые, дорогой ты мой Павел Петрович. Однако если паровое дело для нас главное, то нельзя, зажав рубль, терять годы. Хвалю!
— Спасибо, Ваше Императорское Величество. А касательно истории паровых машин позвольте вам один раритет презентовать. Прижизненное издание моего деда, перевод на русский язык трудов английского механика Джона Фергюссона.
И Аносов торжественно вручил Императору увесистый том с надписью:
«Лекціи о разныхъ предметахъ касающихся до механики, гидравлики и гидростатики, какъ то: о матеріи и её свойствахъ, о центральныхъ силахъ, о механическихъ силахъ, о мельницахъ, о кранахъ, о телѣжныхъ колёсахъ, о машинѣ колотить сваи и о гидравлическихъ и гидростатическихъ машинахъ вообще».
Внизу солидной обложки потёртая надпись — Санктъ-Петербургъ, 1787 годъ.
Павел Второй срочно повелел патентную службу основать и главные паровые секреты отписать на Черепановых, Кулибина, Лобачевского и Аносова. Пусть англичане не ворчат — у нас всё по закону, права надлежащим чином оформлены.
О политических выгодах и опасностях, исходящих от Альбиона, рассказал другой посол, тоже Павел Петрович.
— Присаживайтесь, — пригласил его Государь, задорно блеснув очками. Казалось, даже этот бездушный предмет, угнездившийся на маленьком мясистом носу, выглядел ныне веселее, нежели в первые месяцы правления; некая, пусть не совсем ещё ясная перспектива вытащить Россию из ямы словно влила жизненных сил в монарха. — Павлам у нас привилегия, позволение сидеть при Императоре Павле Втором. Что-то складывается одно к одному, и Аносов — Павел. Скажут, я окружение подбираю, исходя из имени, как Пестель — германцев.
— Покойный фюрер тоже был Паулем, то есть Павлом, Всемилостивейший Государь, — усмехнулся генерал Сухтелен, однако с благодарностью присел. — Изрядно познавательным вышел наш вояж.
— Не вижу причин, чтобы случилось иначе. Повествуйте, как англичан нам одолеть, ежели выйдет столкнуться впрямую.
— Простите, Государь, сие невозможно. По крайней мере — на сей момент, — увидев, что правдивое заявление не вызвало вспышку монаршьего гнева, продолжил. — Сильна империя и флотом, и армией, как на острове, так и в колониях. Главное — золотом богата, на которое можно купить и оружие, и людей. Поэтому не соперничества с Англией надобно искать, а договариваться и блюсти интересы.
— Ну-ка, ну-ка. Необычный подход. Раньше дипломаты больше грозили или просили, торговаться по-купечески, к взаимной выгоде, брезговали. Не стесняйтесь, генерал.
Голландец, человек военный, но умный, в рассуждениях гибкий, смекнул, что Британия не стремиться стать владычицей мира, а только той её части, что привычно считается под английской короной и приносит доход. Излишнее рвение в науськивании на Россию её ближайших южных соседей происходит не от зловредности, лишь от коммерческих интересов.
Император Александр задумал поход в Индию; смерть не позволила его начать, как и Николаю, убитому декабристами. Но в Лондоне об этих устремлениях знают и опасаются за главный бриллиант в колониальной короне. Оттого и тратятся немалые средства, чтобы персы напирали на Кавказ, а ослабевшая русская армия, отражая их нападки, не имела времени даже дыхнуть в сторону Индии. По той же причине Османская империя, у которой англичане понемногу отрезают земли в Северной Африке, отчего между двумя странами невозможна никакая дружба, подстрекается к захвату Черноморского побережья, дабы ослабить Россию и запереть выход в Средиземное море.
— Позвольте предположить, Ваше Императорское Величество, британскую корону устроит полный раздел Азии и Ближнего Востока. Северная Африка, кроме французских колоний, Египет с Синаем, Палестина, Южная Персия и страны далее на Восток — пусть навек остаются английской вотчиной, а ежели у них трудности, то и подсобить не грех. Чёрное и Каспийское моря — российские, Англии не интересные. Вот Новый Свет важен, более того, утрата североамериканских колоний по-прежнему болезненна. Ежели намекнуть, что возможности Русской Аляски и калифорнийские русские купцы к услугам Альбиона, то персидский шах надолго лишится британского золота. А то и страны.
— Вот как! — Павел Второй заметил себе, что кабинет стоит украсить подробными картами Руси и глобусом. Глядя на заморские страны, лучше думается, как отрубить от них кусочек. В докладе Сухтелена есть безусловное здравое зерно. А что часть названных им земель принадлежит Турции и другим странам, не имеет особого значения, если великие державы договорятся. Надо лишь вернуть России статус великой империи. — Постановляю: принимаем всемерные усилия к наведению мостков к англичанам.
— Они будут нашими верными союзниками, Государь, — поклонился Сухтелен. — Но только пока им это выгодно.
Как всегда — не хватает капитала. Пестель опустошил казну до донышка и напечатал кучу рублёвых никчёмных бумажек. Стало быть, за неимением своего пристало звать иностранные деньги, обещая концессии, продавая земельные угодья европейским толстосумам. Задорого не предложишь, ибо в стране, где нет ещё устойчивости и спокойствия, да армия слаба для защиты от внешних напастей, велика опасность потерять вложенное. Но под лежачий камень вода не течёт. Оттого — шпаги вон и на врага вперёд, как в двенадцатом году! С нами — Бог!
Глава вторая, начинающаяся с визита к Государю Юлии Осиповны Шишковой
— Всемилостивейший Государь!
Прекрасная вдова исполнила книксен на европейский лад и замерла с чуть опущенной головкой, слегка прикрыв глаза длинными ресницами.
— Дорогая Юлия Осиповна! Не надо без конца повторять про Государя и Императорское Величество. Эти слова я слышу каждый Божий день и прекрасно выучил, на какой должности тружусь.
О! не обманывайся, сердце, О! призраки, не увлекайте!.. Нас цепь угрюмых должностей Опутывает неразрывно.Продекламировав Грибоедова, снова располневший Павел Николаевич жестом услал лейб-адьютанта, подвижным шариком выкатился из-за стола и приник губами к тончайшей перчатке, не скрывавшей сладостную мягкость женской руки.
— Искренне сожалею, что не бывал в шишковском доме, проезжая через белокаменную, да и ныне недосуг: взвалил на себя непосильные хлопоты. Говорят, у вас собирался цвет московского общества — писатели, поэты?
— Смотря кого считать цветом, а кого сорняками, Государь. Иные больше ценят происхождение от Рюрика, а не писательские таланты.
— Вот! Опять вы меня обижаете. Не Государь, а просто Павел Николаевич. Известно же, купеческого мы племени, ваше родовое дерево по польской линии куда древнее и почётнее. Присаживайтесь, не чинитесь. Приказать чаю?
— Спасибо, Павел Николаевич. Только неловко мне от державных дел отрывать, да в самый разгар дня.
— Отчего же? — легкомысленно заявил Император, с откровенным удовольствием разглядывая гостью. — Их все не переделаешь. Да и Бог знает, какие важнее. Императрица нас покинула, да и брак неудачен: Господь не подарил нам ребёнка. Ныне преемник мой — не сын, а младший брат Анатолий Демидов. Не общаясь с прекрасным полом, отцом не станешь… Разве что какой фаворит поможет.
Павел остановился напротив кресла, в которое усадил Шишкову, заполнив панораму перед ней своим массивным телом.
— Тогда вы замечательно поймёте меня. Осенью двадцать восемь исполнится, а с престарелым мужем, увы, тоже детей не случилось.
Глаза Императора заинтересованно блеснули под линзами.
— Оттого припадаю к вашим ногам, — продолжила вдова совершенно не в том направлении, которое ожидал Государь. — Помилуйте Строганова. Когда он вернётся из ссылки, боюсь — поздно уже будет думать о детях.
«Ай да Пушкин, ай да сукин сын. Как же, долгая печаль не в природе человеческой… Знаток! Самого, небось, дамы тоже вокруг пальца обводят». Спрятав эту неприятную мыслишку поглубже, он развёл пухлые ручки.
— Дорогая Юлия Осиповна, рад бы помочь, да не всесилен я. Лишь год без малого минул, не могу бередить неуспокоенную память народную о К.Г.Б. и Расправном Благочинии. На беду, после усопших Пестеля и Бенкендорфа Александр Павлович — живое олицетворение тех несчастий. Вы же знаете, как неспокойно в столице и в Санкт-Петербурге.
— Но что же мне делать? Хотела к нему, но он пишет — и думать не смей. В Шушенском ужасно! Никогда не простит, если из-за него подвергнусь лишениям.
— Да, — участливо наклонил голову Император, отчего второй подбородок опасно свесился за расшитый золотом воротник. — Шушенское безусловно не то место, где сосланный революционер может спокойно проживать со своей женой. Не место для надежды. И для любви тоже.
— Посоветуйте, Ваше Императорское Величество! — Юлия Осиповна встала и предприняла попытку упасть на колени, впрочем, достаточно плавно, чтобы Павел Николаевич успел её подхватить, с удовольствием вцепившись в дамские руки и обнаружив её взволнованное лицо подле своего, внезапно покрывшегося испариной.
— Есть же другие мужчины! Достойные, перед державой не запятнанные. Посмотрите возле себя… Совсем рядом!
Он даже чуть подался вперёд, полуприкрыв глаза и искательно выпятив полные красные губы. Но его ждало разочарование — упрямая полька освободилась и шагнула в сторону.
— Простите, Ваше Императорское Величество. Стало быть, единственный способ — самой отправляться в Сибирь.
— Но позвольте! Вас к нему даже не пустят! — отвергнутый и разочарованный, он не подумал, что в его власти обеспечить ей пропуск… Но осталось вне царских возможностей привязать к себе женщину, которая вдруг показалась невероятно желанной, до вожделения и безумия.
— Всё равно поеду. Насколько возможно близко. Там буду ждать и молиться, что государево сердце смягчится. Прощайте, Ваше Императорское Величество.
Она сделала книксен и упорхнула, оставив в воздухе неуловимый аромат неосуществимой мечты. Царь почувствовал, что кровь прилила к лицу неимоверно, горло душит, но не от жёсткости воротника, а от безмерной досады. Да, Строганов — красавец. Он высок, породист и ни в малейшей степени не похож на купеческого сына. Но при этом — обычный граф, обречённый на опалу, ссыльный, чьё пребывание там ограничено лишь устным обещанием, приговор на бумаге куда суровее. А Император только что предложил… точнее — намекнул, но чрезвычайно определённо, желает, мол, отношений тесных, близких и далеко идущих. Ради счастливого соперника Шишкова отказалась стать нежным другом, а в будущем, быть может, императрицей и матерью наследника короны?!
Павел действительно подумывал, что Строганова надо вызвать в Москву. Первый восторг от низвержения фюрера давно улёгся, нарастает недовольство, что многие русские пороки, ещё с романовских времён унаследованные, при Республике лишь умноженные, не изжиты до сих пор. Государственная дума только из оставшейся знати избрана и потому покорна, но не популярна, народ избирательных прав требует, крестьяне, иудеи, магометане! Нужна твёрдая строгановская рука, пусть даже не во главе возрождённого Благочиния в виде Тайной канцелярии. Хотя бы посадить его товарищем Министра внутренних дел, за государственную безопасность ответственного.
Но после подлости неслыханной, когда он удерживает за тысячи вёрст женщину, которой не может обладать и не позволяет этого никому, графа нельзя прощать! В этаком русле Павел Николаевич побурлил недельку и успокоился, снова кинувшись с головой в государственную круговерть. Сколько побед одержано, когда неутолённые на амурном фронте монархи проявляли себя на другом доступном поприще? Пожалуй, не меньше, чем у героев, вдохновлённых пылкой взаимной любовью.
Ещё дней через пять Император не выдержал и велел узнать, чем занята Шишкова. Она и впрямь отправилась в Шушенское! Как жаль, что по свободной России всяк езжай куда хочет, не нужны подорожные. Наконец, глядя на остатки сморщенных жёлтых листьев, печально и мокро прилипших к брусчатке Кремля, Павел Николаевич понял, что единственный способ хоть изредка видеть прекрасную пани состоит в скорейшем помиловании Строганова, дабы он вернул её в Москву. Там, глядишь, пылкая страсть разобьётся о прозу повседневности, и у Юлии снова появится шанс на императорскую корону. Развестись с бесплодной Авророй Шарлоттой церковь разрешит непременно; патриархи понимают, что правящему дому нужен наследник. Договориться же с будущей матерью цесаревича куда сложнее.
Дела сердечные по природе своей немного расплывчатые, ибо в них присутствует ужасно переменная величина — женская благосклонность. В инженерии всё более конкретно, практично и оттого уважаемо мужчинами, особенно когда в наличии цель и средство, чтобы сдвинуть горы, даже если они до этого правильно стояли.
Шотландский инженер Джон Мэрдок, о безумном отце которого Уильяме Мэрдоке рассказывал Сабакин, выглядел подобно английскому дэнди, если типические черты последнего вывернуть наоборот. Невысокий, плотный, рыжий, с вечно всклокоченными волосами, неухоженными бакенбардами и пылающим злым взглядом из-под кустистых бровей, шотландец приглянулся Аносову неуёмной энергичностью и страстным желанием утвердить, что Мэрдоки — самая важная фамилия в британской паровой инженерии, на фоне которой Джеймс Уатт не более чем жалкий подмастерье. Ради этой идеи-фикс он решился на поездку в дальнюю холодную страну, купившись заодно на весьма расплывчатые посулы русских; важно лишь, что восточные варвары понимают величие паровой перспективы и не собираются ставить палки в колёса.
— Примитивно, чёрт побери, но здорово! — заявил он при виде пароходов, которые по царскому указу сочтены были памятью об укощении декабристских бесчинств, а не практическим оружием, оттого водружены на постаменты. — Так-так, простейшая одинарная машина на каждое колесо, отдельный регулятор давления на правый и левый цилиндр, передние колёса поворачиваются сами… Нет конденсатора Уатта, посему сзади бочки для воды, ручной насос для закачки в котёл, угольная яма, — последние реплики зазвучали глухо, потому как Джон нырнул внутрь железного корпуса, рискуя окончательно перепачкать шотландский плащ-разлетайку. Он словно пытался доказать окружающим, что аккуратность в одежде отнюдь не числится среди малого перечня его достоинств. — Вижу, предохранительный клапан есть, а манометра нет. Рисковали отчаянно, доложу я вам. И трансмиссия разрушена основательно. А орудие? Целая батарея!
Аносов, в строгой шинели горного инженера, аккуратный и подтянутый как флотский офицер, ожидал снаружи, делая знаки потерпеть солдатам Кремлёвского батальона, негодующим, что иностранец непочтительно залез в историческую достопримечательность.
— Снимаю шляпу. Но перед смелостью и находчивостью, а не инженерным искусством. Держу пари, сие художество проехало не более мили?
— Около того, мистер Мэрдок.
Шотландец спрыгнул с высокой подножки и отряхнул руки, потемневшие от угольной пыли. По чести сказать, его шляпа и плащ тоже нуждались во встряхивании.
— Я понял, что приехал куда следует, мистер Аносов. Вы, русские, готовы ставить паровой мотор на дилижансы, даже закованные в панцирь. Вам нужны эффективные и экономические паровые машины для дилижансов, локомотивов и морских судов, о'кей? А также для заводов и шахт. Я помогу сделать их правильно, по-английски. И даже лучше, чем у меня на Родине. Вы, русские, не придерживаетесь британских правил, которые могут быть абсолютно дурацкими. Я вам рассказывал историю локомобиля моего отца?
«Двести раз», — взвыл про себя Аносов, без иллюзий полагая, что не отвертится выслушать её в двести первый. И не ошибся.
— Не желая пугать сограждан, отец пробовал испытать его ночью и на улице городка случайно встретил пастора. Тот, увидав самоходную повозку, пышущую огнём и жаром, плюющуюся паром и дымом, вдобавок — воняющую горелой смазкой, решил, что на грешную шотландскую землю пришёл сам дьявол, и кинулся с палкой изгонять его.
— Интересное представление у ваших соотечественников о нечистом, — вежливо поддержал разговор Павел Петрович. — Его можно изгнать палкой?
— Дикари!
Первый раз это слово Аносов услышал применительно к французам, потом — к русским, англичанам, немцам… Постепенно усвоил, что «дикарями» в понятии шотландского инженера не являются лишь носители фамилии Мэрдок.
— Отца избили, — продолжил тот. — Повозку разломали, не дали работать нормально. Он умер в нищете, несмотря на премии от использования Уаттом его изобретений. Мизер! Мошенник озолотился, нам остались крохи. Услышав про самоходные повозки на британских улицах, парламент принял специальный билль, гласящий, что перед такими машинами обязан идти человек, размахивающий красным флагом и дующий в сигнальную дудку, а скорость в городе не может превышать двух миль в час! Оттого ничего подобного вашим пароходам в Англии не построят, а потом будет поздно. Я покажу этим лондонским снобам! Увидите, мистер Аносов.
Из Москвы инженерно-изобретательская компания отправилась в Нижний Тагил на Выйский завод, на родину пароходов. Там, где вдосталь металла и немного привозного угля, есть печи для плавки, Государь постановил строить цех по выделке паровых машин, котлов, конденсаторов и прочих премудрых штук, в кои вникать не изволил, приставив к делу смышлёного, хоть молодого ещё младшего брата, великого князя Анатолия Николаевича, надзирать и ума-разума набираться.
Увидав после вояжа по российской глубинке оснастку Выйского завода, Мэрдок тридцать раз выкрикнул любимое «сэведжес» (дикари) и засел за перечень потребного. Свой составили Черепановы, Аносов, Кулибин, оттого полная «сказка» с описью снастей, чуть не на пуд золота ценой, легла под светлы очи великого князя. Он погрустил и принялся писать челобитную брату, растолковывая, что без новейших токарных станков, а также вальцов, резцов, тисков, напарей, долот прямых да желобчатых, пуда варовых верёвок, молотков разных специальных, и прочего, и прочего Европу никак в паровом деле не перегнать.
Пока медленно и неторопливо, как многое на Руси делается, «срочно» возводился цех да ожидались снасти заграничные и местные, Пётр Иванович Кулибин свою лепту внёс. В отличие от хамоватого шотландца, застенчив он был и шепнул о замысле на ухо Аносову, тот — великому князю. И уж только после вынесли они это на общую думу, переводя Мэрдоку на английский язык.
— Мельничное колесо в Спровстоне упирается не просто в лунку, а в желоба, на которые шарики всыпаны, — робко начал Кулибин. — Стало быть, тяжёлый шип жернова о камень или железо не трётся. Он катается подобно тому, как в старину на переволоках корабли тащили — не по земле, а катили на брёвнах. В пароходах валы шестерён крутились в обыкновенных отверстиях, часть работы растрачивая. А отверстия уширились, расточились, стало быть, точность посадки механизма ушла.
— Иес! — сказал шотландец, услышав перевод. — Подушка под ось у нас называется «берин», а катающиеся кругляши — «ролл». Я знаю, о чём говорит мистер Кулибин. Только для двигающихся экипажей даже в Англии «берины» не использовали.
— Подушка под шип, — прокомментировал иностранный опыт Аносов. — Слова «берин» и «ролл» не приживутся у нас. Выходит — подшипник. Господа Черепановы, пришла пора! Получайте самое лучшее железо и дерзайте. Токарный станок в вашем ведении.
— Извольте опробовать два способа. Ежели ось стоит стоймя, этот узел полный вес её принимает, как у мельничного жернова в Спровстоне. В пароходе есть валы, подобные тележным осям, плашмя лежачие, — Кулибин извлёк заранее заготовленные наброски. — Этот, как вы назвали, Павел Петрович, подшипник — половину веса держит, он давит не по оси вращения, но поперёк её.
Русские долго запрягают да быстро едут. Лобачевский бесконечно обсчитывал криволинейные плоскости деталей и снастей, Кулибин продолжил удивлять нежданными озарениями, достойными кипучей фантазии его батюшки, Мэрдок сверял придуманное русскими дикарями с изобретениями англичан, а отец и сын Черепановы воплощали в металл и здравое, и вздорное, поминая недобрым словом барские чудачества и дополняя их прожекты тысячей своих улучшений. Только Аносов немного в стороне остался. Он понял, что корифеев в механике и без него собралось довольно, оттого вернулся к любимому делу — железным сплавам, ибо грош цена изобретательской выдумке, ежели нет прочного материала, дабы опробовать её в металле. Английское слово «стилл» постепенно превратилось в русское «сталь», а усилиями горного инженера сие понятие наполнилось твёрдым и матово блестящим содержанием.
Неприметно и неизвестно для Запада, ибо Мэрдок никого не уведомил о месте своего нахождения в России, росла на Урале новая столица металлургического и парового дела.
Когда после крещенских морозов 1829 года великий князь Анатолий Николаевич приехал в Москву к венценосному брату, похвастаться было уже чем, однако и препятствий возникло немало. Точнее сказать, трудности сии с первого дня присутствовали, но не все видны в начале пути, а открываются на каждом следующем шагу.
Князь, такой же круглолицый и увенчанный стёклышками на носу, но куда более тщедушного сложения, нежели окончательно расплывшийся монарх, для начала рассказал пару потешных историй.
— Знай же, брат, наш Аносов оказался любителем Пушкина, к месту и не к месту привычным цитировать. Я говорил тебе, как первый раз котёл порвало? Господь уберёг, только Павлу Петровичу по голове изрядно приложило, с ног сбросило. Уж испугались за него, а он глаза повернул и прямо с полу говорит: «Когда великий Глюк явился и открыл нам новы тайны, глубокие, пленительные тайны»… Смотрит странно, взгляд мутный. Спрашиваю — о чём ты? Павел головой встряхнул, меня заметил, будто за день впервые увидал. Объясняет: это просто кусочек из «Моцарта и Сальери». С тех пор, ежели что в Нижнем Тагиле криво выходит, мы говорим — «Глюк явился». Либо попросту — «глючит». Великий композитор, верно, в гробу переворачивается.
— Весело живёте, — порадовался за брата Император. — Что же ещё он учудил?
— Как-то отрезал самый кончик пальца, кожицу одну. Тут же продекламировал Александра Сергеича:
…И больно и приятно, Как будто тяжкий совершил я долг, Как будто нож целебный мне отсёк Страдавший член!— Своего гусара — с приятностью отрезал?
— Нет, брат. Палец лишь, самую малость. Люди, до поэзии охочие, часто раздувают нестоящее дело до небес. Но то, с которым я тебе приехал, действительное и важное.
— Излагай, я весь внимание.
— Паровая машина есть уже, с котлом, конденсатором и прочими частями. Однако задумался я над прибыльностью. Вокруг Тагила много лесов, дрова с которых в топку идут. Не по-хозяйски получается. Нету угля рядом, издалека подвозится. Мэрдок говорит — паровое дело в Англии с шахт началось, где уголь добывали, там же и товар, и топливо для машин. Локомотив мы построим, не хуже британского, что на «рэилроад» их трудится, да только на дровах чистое разоренье выйдет. Стало быть, нужны Луганск, Лисичанск и Бахмутовка. Там дороги из железа прокладывать, локомотивы с тележками пускать, да соединить такой дорогой донецкие земли с Москвой, а уж от неё тянуть пути на Урал, к Санкт-Петербургу.
Павел Второй подпёр щёку кулачком, в той щеке наполовину утонувшем.
— Правду говоришь. Захирели шахты на Дону, ибо Николаеву и Черноморскому флоту угля столько не надо, пока османы в Крыму сидят, а татары бал правят.
— Когда же ты сдюжишь поганых изгнать?
— Не знаю, — вздохнул Государь. — Дай казне малость наполниться. Торговля ожила, с землёй разобрались. Грядущей весной, наконец, по уму угодья распаханы и засеяны будут. Но и без конца тянуть нельзя. Сколько товара можно везти локомотивами?
— Больше, чем купеческими судами по реке. Вдобавок, не замерзает на зиму дорога.
— Здорово! — Павел хлопнул пухлой ладонью по стопке бумаг. — Испокон веку где становились города, росли и богатели? У морских портов, широких рек, на перекрестии торговых путей, верно говорю? Ты, братец, поспособствуешь тому, что в России мы где хочешь дорогу построим, угольные шахты с железорудными соединим, добычу с заводами. С нашими просторами, дистанциями огромного размера, земля пухом Александру Сергеевичу…
— Так жив Пушкин!
— Про дистанции другой Александр Сергеевич сказал — Грибоедов. Не перебивай Императора! Так, на чём прервался? Значит — повелеваю учредить новое казённое заведение. Пусть будет Министерство дорог из железа. Ты предложил, тебе и карты в руки.
— Смогу ли я…
— Придётся, брат. Не забывай, в Тагиле — наши, демидовские заводы. Кому машины, локомотивы, снасти для железных путей продавать они будут? Империи, то бишь нам с тобой.
— Спасибо за доверие! А только думается мне, что дороги лучше за приватный капитал строить и деньги за перевозку брать. Где рек и морей нет, соперников не видать.
— Вижу, не ошибся в выборе. Дерзай. Но учти — за каждую копейку спрошу, и казённую, и демидовскую.
К весне Император почувствовал, что если и не вернул державе дореволюционный блеск, то остановил её сползание в овраг. Жизнь помалу наладилась.
Вернулся Строганов, коему сибирская жизнь даже на пользу пошла — свежий сосновый воздух да гимнастические движения укрепили тело, а возвращение в Москву, да с ненаглядной Юлией Осиповной и намного ранее установленного Государём срока, подняло дух. Он поклялся быть верным Императору, но только нехорошее чувство в душе Павла Николаевича угнездилось. Граф легко принял смерть Николая Романова и стал под знамёна Пестеля, сам застрелил его, теперь новому хозяину служит. Ума — палата, но куда далее повернёт человек-флюгер? А Шишкова видеть не хочет сего порока, любовь глаза застит, не даёт перевести их на мужчину, во всех отношениях куда более достойного. Ну да — женатого; сие поправимо.
Скромный образ жизни, более похожий на спартанский, нежели привычный графу и заводчику, Павел Второй понемногу сменил на полагающуюся по статусу придворную суету. В Москву в полной мере вернулась светская суета, сюда перебрались знатные семейства, не истреблённые Расправным Благочинием и не попавшие в опалу, когда Демидовы разгоняли патрициев Республики. Хоть злые языки утверждают, что двор нового императора слишком купеческий и провинциальный, уступает романовской утончённости — пусть. Новой династии позволено. Михаил Романов никак не был похож на prince charmant[8], а Рюрик вообще слыл пиратом и дикарём. Время лечит, оно же и шлифует.
Новосветские дамы тут же окружили царя, пребывающего вдали от супруги и в досадном воздержании от плотских утех, кое тотчас было нарушено. Аврора Шарлотта, узнав о сплетнях про похождения мужа и убедившись, что он отказался от глупых мыслей бросить трон, немедленно вернулась в Москву, оставив полный Петербург расстроенных поклонников. Здесь она разогнала фавориток и прочно оккупировала мужнину спальню, чтобы ни-ни, ни шагу влево, а излишне энергические красотки были удалены от двора.
Созерцая скромные успехи свои в становлении новой Империи, Павел Второй тихонько страдал. Ни фаворитки, ни жена не ценят его как мужчину, лишь корону на пробивающейся лысине. Единственная женщина, безразличная к его царственности, отвергла предложение сердца, и он более не повторял намёков. К чему? Юлия Осиповна благополучно обвенчалась с Александром Павловичем; теперь графиня Строганова часто бывала во дворце, блистая на балах и возбуждая глухую ревность монарха, которую не могли погасить, искупить и вытеснить холодные ласки Императрицы.
Как сон, неотступный и грозный, Соперник мне снится счастливый, И тайно и злобно Кипящая ревность пылает…Бессмертные строки убиенного декабристами Нестора Кукольника безжалостно бередят душу. Нет в жизни совершенства!
Глава третья, в которой Россия покрывается первыми линиями железных дорог
В приближении поезда есть нечто завораживающее. Гул слышен издалека, наполняя мелким дрожанием землю, холмы и отвалы пустой породы. Затем из-за поворота выплывает дивный зверь, коего Бог создал руками человеческими. Длинный хобот, завёрнутый к небесам, исторгает жирный дым, беспечно марающий низкие небеса Луганщины. Выдох зверя окутывает землю клубами пара, осаждающегося обильной росой.
Первая железнодорожная ветка, соединившая угольные выработки с причалом у Северского Донца, вызвала поначалу волну недовольства малороссийских обывателей и купечества. К тому времени река сплошь перегородилась водяными мельницами, а устроительство шлюзов для переправки угля водным путём стало в копеечку, тем паче шлюзовые расходы царским указом легли на мельничных хозяев, тут же поднявших цены на муку. Однако возмущенье быстро улеглось. Стараниями и манёврами Сухтелена, с подачи Императора ласками и сказками заманивающего ухватистых людей вкладывать в транспорт, развитие дорог принесло краю быстрый расцвет.
Обещание вернуть магометанам, выселенным за Урал при Пестеле, право селиться на прежних местах, Государь обставил теперь непременным условием: отработать на строительстве железных дорог, куда и православных перебралось множество, бывших крестьян, оставшихся не у дел из-за чудесной земельной реформы фюрера.
Прибывшие в Малороссию англичане с удивлением увидели, что здесь и не думают заказывать выделку локомотивов у легендарного Стефенсона. Русское подобие его «Ракеты» с жаротрубным котлом и прямым приводом от поршней к ведущим колёсным парам весело тягало вагонетки с углём, а демидовский Тагильский пароходный завод сулил новый локомотив, по цене куда приятнее английского, если присовокупить доставку и немалый мытный сбор.
К тому же главные изобретения Уатта и Стефенсона в России запатентованы на иных господ. Без выплаты отступных в их пользу английские машины здесь работать не смогут. Таковы условия в этом медвежьем углу, однако и перспективы изрядные, оттого промышленники, давно поделившие в Англии каждый дюйм, принялись обживать здешние просторы, благо и на самом высоком уровне Россия и Альбион перестали считать друг друга врагами.
Король Великобритании Вильгельм IV, занявший престол в весьма зрелом 64-летнем возрасте, не горел желанием вступить в очередную войну, только если она не сулит исключительных выгод империи. Русские сумели убедить его в полезности союза, пусть временного и не всеобъемлющего. Оттого Персия, лишённая европейской поддержки, потерпела жестокое поражение от армянских и грузинских дивизий генерала Еромолова, отдав в откупное Юго-Восточный Кавказ. В высшей степени примечательно, что Алексей Петрович, отныне — некоронованный король Кавказа, в персидской кампании не применил ни пароходов, ни иных новомодных штучек, рождённых в Тагиле, не запросил помощи у Государя, обойдясь проверенным оружием и полагаясь на мужество казаков да горцев-христиан.
Иван Фёдорович Паскевич, с ревнивой завистью внимавший вестям с берегов Каспия, рычал в бессилии, не имея возможности выбить басурман из Крыма. Османы — куда более весомый враг, и Государь велел терпеть да силы копить.
А Мэрдок, убедившись, что всего лишь за год превзошёл британских соотечественников в локомотивном соперничестве, вдруг к этому делу остыл, но и к самоходным дилижансам не вернулся. Уцепившись в Аносова, Кулибина, Черепановых и пытаясь найти ключик к сердцу расчётливого Лобачевского, шотландец выволок на свет Божий кучу рисунков, убеждая срочно озадачиться созданием водного парохода особенного вида.
— Глядите, господа: русские и европейские стимботы имеют движителем гребные колёса, напоминающие тяговую колёсную пару локомотива. Эти дикари не видят разницы между водой и железными брусьями дороги! Однако я читал про некого американца Джона Фитча, который паровую машину соединил с архимедовым винтом. Но он вскоре умер, а никто не сподобился использовать идею, она даже не запатентована. Мистер Николай Иванович, как вам этот прожект?
Лобачевский долго крутил лист, потом вынес осторожное резюме.
— Очень, очень смелая мысль. В действительности, ничего нового, каждая лопасть мельницы есть отдельный сектор винта Архимеда. Здесь тоже — подвижная упругая среда… Откровенно скажу вам, дорогой Джон, недостаточно данных для точного расчёта. Полагаю лишь, если верить вашим эскизам, нам потребно судно длиной не менее дюжины саженей и паровая машина в пятнадцать-двадцать сил. Остерегусь опережать события, однако кажется мне, что таковое механическое судно изрядно обгонит колёсное. Но с парусом тягаться не сможет. Разве что под парусом по ветру, на машине — против ветра.
Аносов, старший на нижнетагильских заводах в отсутствие великого князя, послал письмо Государю с прошением ассигновать на опытовый баркас. Чрезвычайно скоро, двух месяцев не прошло, получил всемерное одобрение. Павел Второй направил алчное око на южный берег Каспия, да и к кампании вокруг Крыма флот нужен. Корабль, движущийся в штиль и против ветра, как нельзя ко двору окажется. Пусть и не сразу: суда столетиями улучшаются, от поколения в поколение, а парусно-паровые едва появились. Но пробовать нужно, даже рисково, иначе опять плестись в хвосте у западных заводчиков. Оттого к лету 1830 года невеликая уральская речка Тагил приняла в свои мелкие воды диковинную лодку с одной мачтой и трубой, вызвав массу домыслов у местных обывателей.
Творческие метания Мэрдока внесли сумятицу. Государь и владелец частного Демидовского завода в одном лице велел Аносову не распыляться на излишние новшества. У предприятий есть задания, под которые трачены деньги, ударено с покупателями по рукам. Поэтому шотландец принялся порхать эдаким мотыльком с гаечным ключом в лапках, оправдывая денежное довольствие каскадом идей, а заводы продолжили работать по разнарядке, отправляя сотни паровых машин со снастями по всей России, заменяя непостоянные и не слишком благонадёжные ветряные и водяные механизмы на мощные паровые приводы. Да и с наземными пароходами дело не осталось на месте. Один подобный аппарат весьма поразил Императора, когда тот со свитой оказал честь лично явиться в Тулу и узреть соединение двух отрезков железной дороги Москва-Луганск.
— Прошу Вас, Всемилостивейший Государь, — перед монархом угодливо склонился путейский инженер, к вящему высочайшему неудовольствию — с германской фамилий, будто своих не хватает. Он протянул Императору молот, призывая лично забить последний костыль и тем самым соединить Москву и Орёл. — Сюда извольте ударить.
На беду Государя, основательно выехавший августейший живот начисто перекрыл обзор того, что помещается впереди и ниже. При посещении ватерклозета возникали у царя некоторые трудности, ибо только на ощупь… Впрочем, здесь сие неуместно обсуждать.
Павел Второй уцепил длинную рукоятку за кончик, грохнул куда-то, отчего мелкий щебень разлетелся по радостным лицам придворных, стерев улыбки и оставив грязные пятнышки, а молот вырвался и упал на железный брус, именуемый путейцами по-иностранному «рельса». Император тщетно попробовал снова ухватиться за ручку, но вспомнил, что последние полгода без помощи посторонних с пола ничего не подымал.
— Довольно! Не царское это дело — молотом махать.
Государь поймал взгляд Строганова, не злой, а скорее сочувствующий, отчего ещё более выводящий из равновесия. Граф достал платок и смахнул с генеральского мундира невидимую пылинку, очевидно занёсенную случайным камушком. Юлия Осиповна отвернулась.
— Александр Павлович, справитесь?
Строганов не принялся рассуждать, что дело не графское тоже, а легко согнулся в талии, ничуть не раздавшейся со времён совместной поездки из Варшавы, и столь же легко забил костыль в шпалу. Тем окончательно уверил Императора, что пора его отправлять в отставку; ловкий царедворец умудрился бы кувалдой ногу отбить и тем афронтом заслонить монаршую косорукость. Верхом же несправедливости Павел счёл, что у Строгановых появился наследник, а Аврора Шарлотта пустая; эта отнюдь не новая мысль окончательно расстроила чувства.
И только южнее Орла, когда рельсы оборвались, Государь увидел картину, несколько успокоившую израненное сердце. Там могучий пароход, раза в полтора выше хранящихся в Кремле и увенчанный спереди широкой стоячей лопатой, сгребал землю, устраняя неровности насыпи, как, наверное, не справились бы и две сотни крестьян или переселённых магометан. Император соизволил прогуляться к нему, окунувшись в клубы пара и копоти, чтобы вблизи послушать размеренное «буф-буф-буф» могучего мотора. Главное — на серой железной боковине глубоко выдавлен штемпель «Старый соболь», демидовская нижнетагильская марка.
Пусть недалёкие бабы смотрят на глупости, императрица с презрением толкает в чрево, попрекая тучностью, имя основателя царской династии Павла Демидова, давшего России пароходы, навечно останется в истории страны, куда всякие графы Строгановы не попадут даже мелкими буквами.
Один из газетчиков вынес и установил дагерротипную камеру для получения «моментальных картинок». Впрочем, момент длинен — надобно позировать добрый час не шевелясь, что неуместно Государю, чрезвычайно занятому державными делами. Умелец не растерялся и запечатлел грандиозную стройку с землекопным пароходом. Такая машинерия в дремучей России — подлинная сенсация.
Да, газеты ликуют, но есть и другие голоса. Находятся подданные, осмеливающиеся высмеивать главный державный прожект. Поэт Дмитрий Струйский, личность ветреная и не устоявшаяся, заявил о гибели богоносной Руси, ежели пароходы заполнят не только дороги, но и реки, а потом в воздух поднимутся.
И я молю благое провиденье, Чтоб воздух был на вечность недоступен Бессмысленным желаньям человека. Зачем туда, где блещет это солнце, Переносить железный пароход С его промышленностью жадной? Пусть на земле для бедной, пошлой цели Влачится он, как червь презренный…Император, до поэтических новшеств охочий, прочитал сей стихотворный опус и в который раз пожалел о свободе слова в дарованной народу Конституции. Это же не значит — можно болтать всё, что Бог на душу положит!
В то время как Мэрдок носился по реке Тагил, бесконечно опробуя на «стимботе» винты разного вида, Лобачевский, насколько это возможно было среди лавины заданий по расчётам, замкнулся и часами не выходил из флигеля демидовского дома, для проживания ему предоставленного. Шотландец ворвался к нему в конце августа, с всклокоченной мокрой головой, кровавой ссадиной на лбу и огнём в глазах, безумных даже для семейства Мэрдоков.
— Получилось! Чёрт побери, получилось!
Математик, спокойный как таблица логарифмов, воззрился на Джона.
— Говорите толком. И почему вы такой мокрый?
— Ерунда, — отмахнулся изобретатель. — Как только этот дикарь Данила резко клапан дёрнул, лодка рванула, словно за ней дьявол погнался! Я вылетел в воду.
— Потому что смотрели не за машиной, а свесились к винту у кормы. А ежели б вас лопастью порубило?
— Чушь, — беспечно заявил тот, к которому композитор Глюк являлся чаще, нежели к остальным тагильцам, вместе взятым. — Жаль, бот уплыл.
— Куда?!
— Известно куда — ниже по течению.
— А Данилка?
Мэрдок развёл руками.
— Тоже в воду упал, надеюсь — выплывет. Я распорядился лодку поймать, где-нибудь к берегу да приткнётся. Не важно, цифры последнего винта наличествуют. Можете считать его идеальным, коллега! Ваш труд окончен!
— По-моему, только начинается, — Николай Иванович указал рукой на заваленный бумагами и книгами стол.
— Ну-ка, поделитесь! А то кроме как о винтах мы с вами месяца два не разговаривали.
— Охотно. Толчок мне дал арифмометр, из Англии привезённый. Как подручное средство хорош, но не более: на нём только четыре арифметических действия доступны. Стал я думать, как механическую машинку сделать, да похитрее. Лучше — чтобы аппроксимацию выводить, например, для замены криволинейной поверхности близкой к ней ломаной линией. Тот же гребной винт описать и рассчитать. Попались мне в руки труды Чарльза Бэббиджа по теории функций и механизации работы с ними. Вы в курсе, он машину для табулирования построил, удачную?
— Краем уха. Меня всегда более паровая механика интересовала, нежели чистая математика. О'кей, слушаю дальше.
— Далее Бэббидж описал принцип дифференциальной машины, а затем и аналитической, но, насколько я знаю, построить их не смог. Главное — он доказал, что возможен механизм, в котором не только исходные числа, но и манипуляции с ними задаются положением рычажков. Ваш соотечественник назвал это непривычным для русского уха словом «программирование». Раньше во всех механических аппаратах для изменения программирования надо было шестерёнки менять. Да и другие термины сложно на русский язык перевести, разве что крайне приблизительно — склад (store), мельница (mill), управляющий механизм (control), вход-выход данных (input/output).
— Вспомнил! — воскликнул Мэрдок. — Чтобы каждый раз рычажки пальцами не двигать и тем самым избежать ошибок дикарей, вводящих программу, он предложил картонные карты с пробитыми отверстиями, которые автоматически приведут кулисы рычагов в заданное исходное положение. Отличное начинание, мог дорогой друг Николай Иванович. Что же вас останавливает?
Тот улыбнулся своей особенной улыбкой, не застенчивой, как у Кулибина-младшего, и не радостно-самодовольной как у шотландца. Математики витают в воздушном мире цифр и оттого тешатся иллюзией, что им открыто секретное и другим недоступное тайное знание.
— Теоретически я понимаю, как построить этот аппарат. Но он будет состоять из тысяч шестерён. Все вычислительные машины вроде арифмометра приводимы в действие мускульной силой одной руки, оттого на механизмы давление малое. Если на дифференциальный агрегат, требующий пудового нажима, подать крутящий момент с мощного внешнего привода, с той же паровой машины, зубья обломаются. То есть нужна точность часового механизма и прочность парохода…
— Или совет товарища, который в этих делах разбирается больше вас, — перебил Джон. — Во-первых, закажем у Аносова лучшую сталь, крепче оружейной. Во-вторых, дифференцированно посчитаем размер первичных шестернёй. В-третьих, это в Англии надо экономить объём и вес металла. В России главное — размах! Если приводной вал сделать толщиной с руку, соединить его с паровой машиной сил на сорок, а всё сооружение займёт сколь угодно пространства, пусть трёхэтажный дом, вас это устроит? — Мэрдок доверительно склонился к присевшему за стол Лобачевскому и положил влажную ладонь ему на плечо. — Перфокарты вырежем из железных пластин, по-русски основательно. Только обещайте мне: употребите ваше умное детище на расчёт идеальных винтов для судов любого водоизмещения, о'кей? Тогда — я с вами.
Новые паровые машины, пароходы, а теперь ещё стимботы и дифференциальный вычислитель потребовали не только металлов, угля, рабочей силы. Возросла нужда в точных станках — токарных, фрезерных, сверлильных, зуборезных. А как появились первые нижнетагильские, тут же спрос со стороны появился, и не только для российских заводов.
Аносов жалел, что в сутках лишь двадцать четыре часа, и те использовал как мог. В свободную минуту бомбил Государя и великого князя депешами, умоляя ускорить железную дорогу к Волге и от неё — к Уралу. А также соединить Волгу с Доном, если не каналом, то опять-таки железной дорогой, ибо поток угля, железа и прочего возрос неузнаваемо. Россия, пусть и с запозданием, шагнула в промышленную революцию, сила потрясения от которой не уступает декабрьскому бунту на Сенатской.
О том времени, неуловимо напомнившим энергические реформы Петра Великого и сулившим столько надежд на счастливую жизнь и лучшее будущее, в славе и богатстве, много позже писал Николай Алексеевич Некрасов:
Благодатное время надежд! Да! прошедшим и ты уже стало! К удовольствию диких невежд, Ты обетов своих не сдержало.В том, что не всё удалось как задумалось, вряд ли виноват был Государь Демидов и его нижнетагильские мастера. Страна не жила за неприступными горами и широкими морями, а неожиданный взлёт её торговли и промышленности изрядно обеспокоил соседей-недругов, такого роста не ощущавших.
Глава четвёртая, в которой османский султан желает устроить в России явление Глюка
В строгановском особняке на левом берегу Яузы, щедром презенте фюрера, оставленном Александру Павловичу и после шушенской ссылки, собрались гости. Лилось шампанское, играла музыка, кавалеры приглашали дам на круг вальса, учреждались висты, искушённая публика обсуждала новую Итальянскую оперу, Юлия Осиповна царила как всегда… Но в разговорах, танцах и даже в молчании угадывалась мрачная тень, из-за которой обрывались остроумные эпиграммы, гасли улыбки и даже самые легкомысленные из присутствующих — юные девицы на выданье — ощущали близость трагического и неумолимого поворота, о коем неуместно напоминать вслух, ибо матушка тут же возбранит за mauvais ton[9]. Только мужчины в курительной о предстоящей войне судачили громко и подробно, где первую скрипку ныне играли военные, даже ни разу на поле боя себя не испытавшие.
Султан Блистательной Порты заявил о притязаниях на Грузию, Кубань и Приазовье, намереваясь как встарь превратить Чёрное море во внутренний османский бассейн. Павел Второй ответил предложением немедля убраться из Крыма и объявил мобилизацию.
— Александр, любезный, совсем не юн ты, как в Бородине — уже ли дома не сидится? И как бы ни был против я жандармского засилья, но в час войны московский плебс всенепременно всколыхнётся, особенно в отсутствие узды.
Хозяин приёма отвлёкся от устных баталий. Сырые и нерифмованные строки великого поэта, складывающиеся уже в некоторый стихотворный размер, подтвердили известный слух — он не отдыхает, творит всегда, без передыху жонглируя словами, подбирая их подобно крупицам мозаичного полотна.
— Прав ты, брат Пушкин, только выхода нет иного. Павел до сих пор зверем смотрит, уж год я на грани отставки. И шушуканье за спиной изрядно надоело. В речах о Бородине меня разве что ты вспоминаешь, остальные норовят попрекнуть конфузом под Муромом, где я под знамёнами Пестеля пробовал воевать Демидова.
— А сейчас царь-батюшка глаз не сводит с Юлии Осиповны и оттого к тебе неровно дышит, — добавил поэт. — Нет справедливости у государей. Меня он тоже в Крым решил отправить.
— Господи, тебя-то зачем?
— Чтоб патриотическая муза снизошла, и я, подобно Державину, отписал хвалебную оду Императору.
Строганов расхохотался, привлекая лишнее внимание.
— Что-то совсем Пал Николаич от земли оторвался, хоть и сложно ему при изрядной-то массе. Пушкина — в придворные лизоблюды! И что ты ему ответствовал?
— Государей не принято посылать на срамные уды. Сказал ему уклончиво, что искать вдохновения всегда казалось мне смешной и нелепой причудою. Вдохновения не сыщешь, оно само должно найти поэта. Приехать на войну с тем, чтоб воспевать будущие подвиги, было бы для меня, с одной стороны, слишком самолюбиво, а с другой — слишком непристойно. Я не вмешиваюсь в военные суждения. Это не моё дело, — Александр Сергеевич хитро прикрыл один глаз. — А чтоб не докучал мне он более, я принял с благодарностью приглашение Ермолова. Алексей Петрович — мой друг, а новая турецкая война Кавказ не обойдёт. Так что обрету в горах и вдохновенье, и толику рискованных предприятий, кои мне по сердцу.
— Мудро решил. Стало быть, до окончания войны больше не свидимся?
— Мужчины меж собой легко переносят расставание, брат. А как же с дамой сердца? — тёмные пушкинские очи качнулись в сторону малой залы, где блестящая хозяйка развлекала гостей. — Чем заменишь ночи, полные неги и страсти? Разве что этим:
Я научил послушливую руку Обманывать печальную разлуку И услаждать безмолвные часы…— Нехорошо пошутил-то, Александр Сергеич! — граф неподдельно возмутился скабрёзной вольности поэта. — У самого, баловня женщин и судьбы, небось не завелось сердечной привязанности, чтобы в кавказской дали сердце ёкнуло? Твой вечный стиль — стихи сложить о любви неземной, «я помню чудное мгновенье», назавтра посвятить другие вирши иной властительнице дум.
— Вредно тебе с поэтами общаться. Сам строфой заговорил. Но ты не прав. Пройдём в зал, и там непременно познакомлю с Натальей Николавной Гончаровой, истинной belle femme. Поверишь ли, но когда впервые увидал её, она не вошла — взошла подобно звезде, затмив другие светила, — тут Пушкин взгрустнул. — И, увы, с её маменькой, которая на помилуй Бог не хочет видеть подле дочери ветреного поэта. Сие зловредное существо рассудило, что дочь интересна и модна, и для многих желанная партия, оттого скорее тщится выдать её замуж, ибо война убивает женихов. Посему, мой толстокожий друг, убегаю на Кавказ от любви возвышенной и неразделённой.
Закончился приём у Строгановых, и следующий тоже, а в воздухе таяла весна, несущая на этот раз не предчувствие легкомысленного лета, но ожидание просохшихся дорог, по которым пойдут войска, дабы вернуться в куда меньшем числе. Ермоловская победа над персами, поднявшая боевой дух в новой Империи, здравомыслящим людям не застила взор обманчивыми надеждами — османская армия не в пример сильнее шахской. Это поняла и Юлия Осиповна.
— Если с тобой что-то случится, я не переживу!
— Генералов редко убивают, душа моя. Скажи лучше, когда сама Москву покинешь. Дородный сластолюбец непременно начнёт домогательства.
— Сразу же, милый. Отправлюсь в Питер с Володей и Федей.
— Лучше к родственникам в Варшаву.
— Понимаю тебя. Верно, так будет лучше.
В первых числах мая на амбаркадере московского Южного вокзала генерал-майор Александр Строганов обнял жену, наследника Владимира Александровича и воспитанника — Фёдора Достоевского. Храня тепло их объятий, выехал в Луганск по железной дороге, главному детищу Императора, которая обещала стать главным козырным тузом в войне. Тонкая нитка из пары рельс связала центр страны с будущим Южным фронтом, дабы перевезти огромное количество людей, коней, оружия и припасов, что без водных путей ранее невозможно было бы. Она оборвалась в степях малороссийского юга, не дотянутая до Таганрога из-за турецко-татарской напасти. Западная ветка закончилась среди шахт у слободы Александровки. Её чаяли продлить в Одессу и дальше, но куда там! Не под самым же османским носом затевать строительство.
Генерал от инфантерии Иван Фёдорович Паскевич, в распоряжение которого Строганов получил предписание явиться, показался начальником огромного улья. В том улье сбилось несколько роёв, и толково управлять ими нет никакой возможности. Собранные в мирное время полки ещё находились в исправном виде, почти готовые к смотру в высочайшем присутствии, в подогнанной и единообразной форме, начищенным оружием и бравыми молодыми офицерами, для коих война служит шансом проявить себя на бранном поле, а не потерять на нём голову. Здесь, у берегов безвестной речки Кальмиус, они как по нитке разбили шатры, радуя глаз уставным благолепием и услаждая слух звуками привычных армейских дел.
Однако были и другие, и в превосходящем множестве. Запасные батальоны, где на четыре сотни недавно призванных солдат приходятся два унтера и один офицер, срочно собирались в пехотные полки, сразу же испытывающие недостаток всего: оружия, формы, инвентаря, а главное — умелых командиров.
Казалось бы, с начала нашего беспокойного XIX века Россия воевала почти непрестанно, и понюхавших порох должно остаться вдосталь. Однако роспуск фюрером Императорской Армии привёл к тому, что большинство офицеров западных кровей, исключая германскую, тотчас отбыли на родину либо вышли в отставку в России. Павел Второй — наоборот, немцев обидел, в том числе стране верных и ничего против не злоумышлявших. Часть сосланных при Пестеле от службы отказалась наотрез. Из числа повешенных Благочинием, быть может, многие и согласились бы, но точно уже не в состоянии. Оттого чистенькие лакированные офицерики удивлённо смотрели на скачущих донцов и вопрошали друг дружку: «Le cosaque?», потому что казаков кроме как на параде не видывали, а в Москве да Петербурге они иначе выглядят. Солдатскую массу, амфорную и едва необученную, салонные вояки называли презрительно — пушечным мясом, chair a canon.
— Ваше высокопревосходительство! Генерал-майор…
— Входите, Александр Павлович, и не утруждайтесь лишними церемониями. Я сейчас освобожусь.
Низенький, широкий и до странности пыльный особняк, принадлежащий местному шахтовладельцу Ивану Ивановичу Шидловскому, ныне превращённый в штаб развёртывающейся армии, гудел от топота офицерских ног, при этом накалялся подобно русской печке — май в тридцать третьем году по жаркости соперничал с июлем.
Коротконогий толстячок, протолкнувший мясистое тело в сером сюртуке среди зелёных военных мундиров, всучил Паскевичу стопку неких бумажек и настойчиво потребовал «незамедлительнейшего их рассмотрения», после чего генерал просто отправил всю пачку в корзину для мусора.
— Довольно, Иван Иванович! Дурно сетовать на невзгоды, когда Россия в опасности не меньшей, нежели в двенадцатом году. Да и цифры вы изволили написать, Бога не убоявшись, — Иван Фёдорович глянул строго на Шидловского, который под генеральским оком стал словно бы скромнее ростом, ещё более напоминая внешностью свой дом. — Живы будем, пишите сразу на высочайшее имя. Не смею вас задерживать.
Командующий армией выразительно кивнул адъютанту, отчего тот ухватил просителя за локоток. Затем Паскевич крепко пожал руку Строганову.
— Право, не ждал здесь вас увидеть. По жандармским делам или как?
— Именно или, Иван Фёдорович. Подал прошение Государю об освобождении меня с должности товарища Министра. Здесь я вроде волонтёра. Готов командовать бригадой, а ежели не доверите — хоть в первые ряды со штыком наперевес.
— Дивны дела твои, Господи. Офицеров ни у тебя, ни у Императора не допросишься, а генералы сами в пекло лезут. Так что и не знаю, — Паскевич глянул на возроптавших штабистов, те примолкли.
Строганов кожей почувствовал осуждение. Командование К.Г.Б. да позорный поход против армии Демидова уронили его авторитет до земли. И служба при новом Императоре не добавила престижу — армейцы не жалуют жандармских. Но слова, что готов на передовую, сказаны были неспроста, обдуманно. Здесь его не ждут развёрнутые знамёна и громкие фанфары.
— Вот что, Александр Павлович, — вымолвил, наконец, Паскевич. — Располагайтесь, осматривайтесь. Завтра к десяти прошу на военный совет. Там и решим, где больше всего не хватает командующего… с вашим опытом.
Хотя на круглом малороссийском лице его не отразилось насмешки и густые бакенбарды, спущенные на щёки до губ, не двинулись в улыбке, Строганов нутром почувствовал эту колкость. А повернувшись к двери — и спиной. Но не время возмущаться, время искупать ошибки. Турецкая война даёт возможности не только юнцам, не видавшим казаков.
— Задача, — произнёс генерал, когда закрылась дверь за бывшим обер-жандармом. — В двенадцатом году он храбро воевал, помню-помню… Но, господа, я представить не могу, как назначить его над офицерами, с таким-то послужным списком!
— Сие совершенно невозможно, — подтвердил Евгений Александрович Головин, начальник штаба. — Придумаем ему какой-нибудь невидный пост, пусть отирается поблизости. Потом станет соучастником нашей победы.
Или в числе виновных поражения. Генерал Головин это вслух не произнёс, однако же неясность ближайшей баталии здесь ни для кого не секрет. Но Евгений Александрович, давая подобный совет Паскевичу, не учёл настрой опального жандарма. В годы, минувшие после возвращения из Шушенского, Строганов постоянно слышал кривотолки: Демидов его по-родственному пощадил, Шишкова упросила Императора быстрее жениха из ссылки отпустить. А уж число невинно пострадавших дворян Владимирской губернии, недолго именовавшейся Клязьминской, было воистину значительным. Положим, зондеркоманда Дубельта не слишком Строганову подчинялась — кто теперь вспомнит об этих деталях? Несколько тише вели себя декабристы с Сенатской, успевшие попасть под тяжёлую руку К.Г.Б., ибо понимали, что не без их стараний Россия получила страшные два года Республики.
Денщик помог обустроиться Александру Павловичу в доме Шидловского, начистив сапоги и прибрав форму к утреннему совету, на котором Строганов к некоторому своему удивлению узнал великого князя Анатолия Николаевича, вспомнив невольно, что при Романовых было много великих князей. Новая династия купеческого Императора не успела обзавестись батальоном августейших родственников.
Анатолий, унаследовавший демидовскую круглость лица и пухлость щёк, удержался от дородности, столь невыгодно отличавшей его венценосного брата. Впрочем, железнодорожному Министру и председателю Государственного Совета всего лишь двадцать один год, есть много времени предаться порокам. Раннее, небывалое для прежних правителей назначение на высшие посты державы странно подействовало на великого князя. Занимаясь множеством дел и будучи самым доверенным лицом Государя, он отличался крайне замкнутым складом характера, проявляя общительность лишь с близкими. И на этом военном совете, не обладая особыми полномочиями, но имея возможность в корне изменить дело, он не издал ни звука, впитывая сказанное другими.
Генерал Головин доложил общую диспозицию.
— Располагаем сведениями, что армия Махмуда II под командованием генерала Девлет-Гирея силами до ста двадцати тысяч конными и пешими ударит по русским пограничным крепостям за Перекопом и двинется на север к Днепру и Херсону. Ежели выступить немедля, предстоит марш в пятьсот вёрст, последние полторы сотни по безводной степи. За переход силы наших войск истощатся, а развёртывание на глазах неприятеля побудит того напасть в самый дурной для нас момент. Оттого имеет выгоду иной путь — севернее, к Херсону, перегородив османо-татарскому корпусу дорогу на Днепр. Тогда безводная степь — наш союзник, ибо измотает их переходом.
Слова генерала встретил глухой ропот, однако никто не высказался. Потом высказался Паскевич.
— Сожалею, господа, гарнизоны приграничных фортов при сём манёвре обречены. Я приказал оставить по плутонгу в каждом из них лишь для видимости и отправки гонцов на случай, если турок перейдёт границу. Жертвуя двумя плутонгами, сбережём дивизии.
Понятно, даже сдавшись в плен — гарнизонные защитники приговорены. Однако ничего лучшего никто предложить не смог, оттого штабной план был принят. Удовлетворившись, Паскевич объявил, что видит залог победы в артиллерийском оружии, потому велел рассказать офицеру о бронеходах, никогда против внешнего врага не использованных.
Инженер-майор Мирон Ефимович Черепанов боком встал, показав полное отсутствие выправки и неловкость, что он, недавно ещё крепостной, чуть не на равных говорит на военном совете с генералами.
— Стало быть, пароходы, бронёй покрытые, велено бронеходами называть. По железной дороге прибыла их дюжина. Аккурат до конца недели сборку закончим, — уральский умелец развёл руками. — Тады и двигаться можем.
Командир танкового полка, на язык не в пример бойчее, поведал подробности. Главная часть железной повозки — рама с бронёй и колёсами, запряжённая в восьмёрку лошадей, движется на конной тяге, за ней куча повозок с остальными частями машины и углём. Оттого на один бронеход в полку без малого сотня людей и полста лошадей. А инфантерии, обученной действию в строю с пароходами, нет ещё, и служба в них куда как опаснее, нежели в других местах: турок главный пушечный натиск именно сюда направит.
Паскевич спросил о развёртывании новых полков инфантерии, выслушал, нахмурив брови. Собранные с бору по сосёнке, они и вправду chair a canon, причём мясо не только для пушек, но и турецко-татарской конницы. А Строганов, впитывая номера и названия частей, фамилии командиров дивизий и бригад, понял вдруг, что генеральские должности заняты и новых не предвидится. Оттого по окончании совета подошёл к командующему и попросил назначения в полк смертников, прикрывающих бронеходы.
— Не положено генерал-майору полком командовать, Александр Павлович, — удивился Паскевич.
— Увы, Иван Фёдорович, баталия под Муромом развенчала меня как командующего армией. Полк — самое подходящее. Разжалуйте меня в полковники, коли препятствие в этом.
— Не могу-с, генеральские звания Император утвердил. Хотя… — Паскевич хитро приподнял ус, сросшийся на щеке с бакенбардом. — Железячные наши воины просят сотню пехоты на экипаж, так что полка мало им. Усилю его и нарекаю отдельной бригадой, как раз вам по чину.
— Благодарю, князь.
— Как только примете сие нестроевое воинство, раздумаете благодарить. Ну да Бог вам в помощь!
Он с сомнением глянув вслед Строганову, у которого даже спина неким непостижимым образом выразила торжество, выпрямившись под небывало строевым углом. Верно ли доверять всецело охрану машин едва слепленной бригаде, которая первой поляжет под турецкой шрапнелью и сабельными ударами? Поэтому в бою за спиной бронеходного полка и строгановского заслона Паскевич решил двинуть ординарную бригаду инфантерии, солдаты которой заменят павших смертников, а удача не оставит — и в атаку перейдут.
В оставшиеся пять дней до намеченного выступления всё прибывали в Александровку поезда с рекрутированным пополнением, запасами и лошадями. Император, казалось, решил выжать государство досуха, только бы выставить под Крымом победоносную армию.
Худшие опасения Строганова сбылись. Впрочем, попросившись на командование бригадой, лёгкой жизни он и не ждал.
Полки инфантерии в обновлённой Российской Империи построены по образцу, в армии именуемому «трижды три». Три плутонга в сотне, три роты в батальоне, три батальона в полку — или тысяча человек, включая штабных, нестроевых и приданных. Паскевич велел влить в охрану бронеходов ещё четыреста душ во главе со старым штабс-капитаном, ветераном наполеоновских войн, тремя паркетными шаркунами в офицерской форме и двумя дюжинами унтеров. Тем самым нарастил полк до подобия бригады, в которой на деле полагается быть двум полновесным полкам. На первом же офицерском собрании нашёлся молокосос, посмевший попрекнуть Александра Павловича в республиканском и жандармском прошлом.
— Прапорщик, ежели считаете ниже своего достоинства подчиняться генералу, извольте подать рапорт на имя главнокомандующего о переводе. До его удовлетворения потрудитесь соблюдать дисциплину и выполнять приказания.
Юный офицер Бобров, наследник некогда громкого титула, но без состояния, особо ревностно относящийся к вопросам чести, так как иного капитала просто нет и не ожидается, нетерпеливо вскочил, опрокинув стул. Предмет немногочисленной мебелирации шахтоуправления, где с печального разрешения Шидловского разместился штаб бригады, стукнул по полу, а недовольный прапорщик выкрикнул, заглушая падение стула:
— Я подал рапорт, ваше сиятельство, — обращение к графу молодой князь издевательски выделил голосом, не упомянув полагающееся «превосходительство». — Смею предположить, все офицеры бригады, для коих честь — не пустой звук, последовали или последуют моему примеру.
— Вы на службе, прапорщик, а не в цирке. И перед боем чаете, чтобы бригада осталась без офицеров?
— Отнюдь. Я желаю, чтобы бригаду покинули вы.
Слово прозвучало, и в комнате повисла тяжкая тишина. Казалось, притихла даже муха, бившаяся в стекло. Для Строганова настал момент показать власть или навсегда упустить бразды правления. Он начал мягко, неумолимо усиливая нажим.
— Его высокопревосходительство осведомлён о моём послужном списке, в коем нет тёмных пятен: я верен был Императору Александру на Бородинском поле, Республике и Императору Павлу Второму. Оттого назначен на этот пост, и мне решать, что и как будет в бригаде. В бою нам надлежит охранять бронеходы, от них зависит исход — виктория или позорная ретирада. Сие опасно и трудно. Коли устрашились, прапорщик, пишите рапорт — переведу в обоз. Там вашей княжеской чести самое место.
Бобров побледнел. Весть об ужасном оскорблении непременно облетит войска.
— Вы унизили меня, Строганов. Как дворянин у дворянина я требую удовлетворения.
— Как вам угодно. По окончании войны — в первую же удобную минуту.
— Немедленно! — прапорщик уже не владел собой. — Или вам пощёчину влепить?
Симпатии присутствующих, до начала собрания находившиеся не на стороне генерала, и Боброву не принадлежали. Война — не салонные посиделки, младший офицерский чин не должен вести себя подобным образом.
— Какой же вы полагаете исход дуэли, прапорщик? — тон Строганова стал ледяным.
— Смерть одного из дуэлянтов. Или обоих. Выбирайте оружие-с, генерал.
— Понятно, — граф обернулся к майору, командиру батальона, к которому причислен был излишне резвый князь. — Распорядитесь, Фёдор Трифонович, взять смутьяна под стражу и заковать в железо. Дальше трибунал пусть разбирается.
— Суд офицерской чести меня оправдает! — гордо заявил Бобров.
— Отнюдь, — оборвал его Строганов. — Офицеры судят за попрание дисциплины. Вы же перед генеральной баталией с турками добиваетесь смерти командира бригады, не удовлетворяясь дуэлью после войны. Так что под трибунал отправитесь за измену Империи. Вопрос об офицерской чести уж не стоит, вы её, князь, втоптали в навоз безвозвратно.
Он обернулся к остальным, не ожидавшим подобного поворота.
— Господа офицеры! Ежели кто-то сомневается в моей отваге, не возражаю скрестить с ним шпагу в первый же день мира. А теперь продолжим собрание, ибо до мира нужно ещё дожить и сохранить наших солдат.
Паскевич, понимающий трудность положения Строганова, утвердил приговор. На утро перед выступлением к днепровским берегам Боброва расстреляли перед строем.
Глава пятая, в которой армия Паскевича выдвигается наперерез османскому войску
Марш по жаркой южной Малороссии, тем паче для плохо организованного воинства, вылился в изрядное испытание духа и воли командиров. Колонна растянулась на десятки вёрст! Ударь по ней татарская конница, не избежать бы беды. Однако день проходил за днём, но ни единого вражьего всадника, ни гонца о нападении на приграничные форты русская армия не увидела.
Засуха обезводила степь. С надеждой люди смотрели на облака, изредка закрывавшие солнце; ни одно из них не превратилось в тучу, одарившую дождём. Разве что по ночам выпадала роса, чуть увлажняя землю. Наверно, к северу и в лесах пока ещё была прохлада, здесь она исчезла начисто. Тележные колёса, копыта и солдатские сапоги разбили дорогу, истолкли её словно муку. После ночной стоянки войска начинали движение, проваливаясь в пыль на два-три дюйма.
Эта пыль превратилась в истинную казнь египетскую. Она клубилась столбом, висела облаком, оседая на одежде, обуви и на лицах толстым мягким слоем, забиралась в глаза, в уши, в ноздри и рот, забивала лёгкие, вызывая хрипящий кашель. Зелёные мундиры инфантерии и артиллерии, красные казачьи кафтаны, синяя форма кавалеристов, чёрные треуголки офицеров — всё стало серого цвета, как и масть лошадей.
Люди шли, обвязавши нижнюю часть лица платками и шарфами. А когда попадался колодец, у него каждый раз норовила вспыхнуть нешуточная драка, с трудом пресекаемая офицерами. Особенно худо приходилось арьергарду. Последние полки добирались к водопою, в котором спасительная влага вычерпана до капли, выпита до грязи. Доставка воды к колонне едва спасала людей от обморока, а лошадей от падежа.
Даже самые горячие сторонники идти сразу к Перекопу замолчали, признавая правоту командующего. Вопрос в том только, как перехватить турецкую армию. От Ор-Капы до Днепра дорог мало, зато направлений много.
Генерал Паскевич как-то затребовал Строганова в походный шатёр, предложив разделить вечернюю трапезу и вызвав приступ ужаса у денщика Григория, вынужденного срочно чистить мундир генерал-майора до блеска, приличествующего начальственной аудиенции.
— Не приказываю и не неволю. Поговорить решил с вами в обстановке, так сказать, неофициозной.
— Благодарю, Иван Фёдорович.
Не глядя на дружеский, почти домашний тон, армии и военному времени не свойственный, Строганов сказал себе: командующий, вернее всего, желает поболее узнать про тёмную лошадку, которой приготовил особое место в грядущих битвах.
— Тогда отведайте походной кухни. Знаете ли, граф, с самого Лейпцига держу и не отпускаю наполеоновский трофей — повара Луи. Шельмец и каналья, зато готовит как Бог.
— Вот как? — Александр Павлович потянул носом, за последние недели не избалованным, тонкий аромат мяса и приправ. — Однако пленные должны быть возвращены…
— Не подозревайте меня в рабовладении. Содержание Луи таково, что не известно — он мне служит или я ему. Перед самой войной, признаюсь, прикупил я дворец Румянцева в Гомеле, он при фюрере государству отошёл.
— Потому что Николая Петровича Румянцева казнило Расправное Благочиние в 1826 году.
Паскевич неприметным движением руки подал знак денщику, тот ловко налил вино в бокалы, отменно выученный прислуживать за столом.
— Полно вам, Александр Павлович, корить себя в каждом грехе Республики. К тому же Румянцева, известного содомита, насколько я наслышан, повесили весной, когда вы ещё не оказывали благотворного воздействия на Пестеля. Не будем ворошить прошлое. А только пятьдесят один год мне стукнул. Пора думать о пенсионе и тихой старости. Что за дворец без истинно европейской кухни? Одно название. Дела без хозяина в Гомеле пришли в изрядное расстройство. Обустроюсь и перевезу туда Елизавету Алексевну с дочерьми и сыном. Не откажете навестить меня после войны?
— Почту за честь, ваше сиятельство.
— Вы ещё каблуками щёлкните, Александр Павлович! — развеселился Паскевич. — Лучше расскажите про парижскую жизнь. А я, знаете ли, только с седла Париж видел. У обывателя и завоевателя разный взгляд на вещи.
Понимая, что командующий читал и слышал про французскую столицу куда больше, чем про любой другой город мира, и лишь изучает собеседника, Строганов вернулся воспоминаниями в недавнее прошлое, которое закрылось для него безвозвратно после чёрных дней Республики. Но постепенно оттаял, вспомнил проказы, красоток, певичек, воздух Монпарнаса и Елисейских полей. Потом разговор так или иначе перескочил на К.Г.Б., отчего тональность скатилась к минорной.
— Не могу уразуметь, Александр Павлович. Вы к Пестелю пришли с верой в Республику и желанием послужить стране? В голове не укладывается, что вас влекла лишь карьера.
— Веры даже близко не было. Тогда и слепой видел, что новое государство устроено нелепо. Но приехав из Парижа и не ведая о злодействах, каюсь, оставался в плену некоторых иллюзий, а перспективы Республики казались многообещающими, оттого хотел свою лепту внести. Павел Пестель по Отечественной войне произвёл на меня впечатление человека отважного и порядочного, но не слишком далёкого; он явно нуждался в помощи и просвещённом совете. Когда же дело далеко зашло, я тысячу раз задумывался об отставке. Но кто бы возглавил Коллегию Благочиния? Не Дубельт и даже не Дибич — Бенкендорф. Вероятно, вы не представляете вполне, что он был за человек.
— И вы решили сдержать их, оставаясь на этом сомнительном посту. Не буду упрекать вас, граф, ибо не ведаю, к чему бы сам склонился в подобной ситуации. Ваш выбор не лишён мужества. Я как сподвижник Николая был сразу же уволен со службы и взирал на происходившее издалека, даже к Демидову не примкнув. Так что не известно — чей modus operandi[10] достойнее. Скажу лишь, что в последние годы правления Императора Александра многое, слишком многое вызывало сожаление. Ныне принято эту эпоху восхвалять, сравнивая с Республикой. Россия, которую мы потеряли, хруст французской boules… Увы!
Денщик ещё подлил вина, отдав должное которому Паскевич продолжил.
— Покойный Император возомнил себя великим стратегом, а русскую армию сильнейшей в Европе. Оттого опыт двенадцатого года и европейского похода мало учтён был, а введена сплошь показуха и бравада. Не ценилась боевая выучка, царя волновали парадный лоск, строевая выправка и послушание. Вы были в Париже, а в России в то время генералы поделились на бдящих и стоячих. Не слышали? Самые бдительные не брезговали согнуться до земли, дабы проверить равнение носков инфантерии или копыт кавалерии. Некоторые же, тщась угодить государю, не жалующему складки на форме, строили отдельные мундиры «для приёмов» стоя, ибо при попытке сесть или согнуться трещали швы. Как говаривал мой сослуживец, не служба, одни экзерциции в экзерциргаузе.
Командующий повёл рассеянным взглядом, словно созерцая минувшее, и продолжил.
— А Пажеский корпус, мой Бог, что там творилось! В дни несения службы во дворце воспитанники корпуса, натянув поутру мокрые лосины, сушили их у печки на теле, а затем солдаты выносили юношей, вытянувшихся гвоздиком, и укладывали их в сани или на повозки. Так и везли во дворец, там расставляли как кукол в положенных местах. Главное — без единой складки на лосинах! Печально, что нелепо было в армии, трагично — что во всём Отечестве. Декабристы и Пестель не могут иметь оправданья, но они вскрыли огромный гнойник, зараза от которого поразила Россию.
Паскевич закурил трубку с длиннющим мундштуком.
— Я к тому это длинно рассказал, Александр Павлович, чтобы бросили корить себя понапрасну. Русская история — зело извилистая и непредсказуемая. Кто знает, может лет через сто какой-то новый отечественный карамзин напишет, что декабристы — ангелы во плоти и борцы за прогресс, а монархия — суть реакционная и крайне вредная штука.
Строганов сделал протестующий жест. Пестель сотоварищи опозорили Россию, как можно их обелять?
— Бумага стерпит любую глупость, не удивляйтесь, граф. Но мы живём сейчас, должны разбить турок и вышвырнуть их из Крыма.
— Вы так легко говорите об этом, Иван Фёдорович.
— Потому что знаю их. Османы сильны лишь при двух- трёхкратном превосходстве в числе, сейчас и полутора не наберётся. В артиллерии у нас преимущество, не считая бронеходов, которые — тоже артиллерия, но подвижная и защищённая. Первую битву мы не просто должны выиграть. Я обязан сохранить армию достаточной силы, чтобы очистить Крым от нехристей. Тут, к сожалению, время против нас играет. Они подвозят подкрепления морем, а Черноморский флот совершенно расстроен. Хотя пару сюрпризов моряки обещают… Посмотрим!
От Паскевича Строганов ушёл в противоречивых чувствах. Решимость и уверенность командующего подкупают, но не чрезмерны ли они? И что касается планов — по Бородино хорошо известно, что современные большие баталии никогда не проходят по заранее написанному сценарию. Можно расставить орудийные стволы строго по «Общим правилам для артиллерии в полевом сражении» генерала Кутайсова, а кавалерию и инфантерию в соответствии с наставлениями генерала Клаузевица, изгнанного из нашей армии Демидовым за германское происхождение. Далее же начнётся действо непредсказуемое, в котором, как любил говаривать штабс-капитан Толстой, как во всяком практическом деле — ничто не может быть определено и всё зависит от бесчисленных условий, значение которых определяется в одну минуту, про которую никто не знает, когда она наступит. Может, Паскевич и хороший полководец, но не Суворов он. Хотя тот же штабс-капитан и бригадный философ утверждает, что не только гения и каких-нибудь качеств особенных не нужно хорошему полководцу, но, напротив, ему во благо отсутствие самых лучших высших, человеческих качеств — любви, поэзии, нежности, философского пытливого сомнения. Он должен быть ограничен, твёрдо уверен в том, что то, что он делает, очень важно (иначе у него недостанет терпения), и тогда только он будет храбрый полководец.
— Что же вы предлагаете, Лев Николаевич? — как-то спросил у него Строганов, вытянув ноги на привале после того как батальоны разбили лагерь на ночную стоянку.
— В первую голову — не брать пленных, — безапелляционно заявил тот. — Это одно изменило бы всю войну и сделало её менее жестокой. А то мы играем в войну — вот что скверно-с, мы великодушничаем и тому подобное. Это великодушничанье и чувствительность — вроде великодушия и чувствительности барыни, с которой делается дурнота, когда она видит убиваемого телёнка; она так добра, что не может видеть кровь, но она с аппетитом кушает этого телёнка под соусом.
Тиха украинская ночь, чей покой нарушается лишь негромкими звуками отдыхающего военного лагеря. Глядя на звёзды, которые, быть может, через неделю увидят в степи одни только трупы сидящих вокруг солдат и унтеров, Строганов вздохнул и мягко возразил:
— В вас говорит горячечность молодости, штабс-капитан. Не удивлюсь, если к зрелости и умудрённости опытом вы начнёте проповедовать иное — непротивление злу и насилию.
— Быть не может! Простите, ваше превосходительство, а только странно всё это — покорность, непротивление… Клянусь, что никогда подобного вещать не буду. Вдруг, не дай Бог, последователи найдутся, слово какое придумают, «толстовство», например, — офицер даже фыркнул от неприятия им самим нарисованной картины. — Нет, уж лучше на поле боя остаться-с, в обнимку с убитым мною османом.
— Не хороните себя раньше времени, Лев Николаевич. Бог даст, до следующего века доживёте. Какие ваши годы. Вот только объясните мне, отчего ваш офицер сына на войну взял?
— Вы о Мише Лермонтове, ваше превосходительство? Не извольте беспокоиться, юнец младой да бывалый. Он под Муромом возле вас отирался, складные вирши сочинил. Чуть не погиб, его Дубельт сберёг, хоть и сам не спасся.
— Стало быть, генерала-няньки более над ним не будет. Проследите услать в обоз перед боем.
— Слушаюсь!
Вопрос — послушается ли поэт.
В мучениях, прерываемых короткими часами отдыха, с тоннами пыли на плечах русская армия вышла к Днепру, чуть не выпив его в десятки тысяч человечьих и лошадиных глоток.
Черепанов с подручными срочно наладил бронеходы. Железные повозки украсились орудиями в носовой части, прицепными тележками сзади, приобретая сходство с вооружёнными железнодорожными паровозами. Дав отдых бригаде, Строганов безжалостно начал муштру, репетируя действия совместно с бронеходами. Чтобы зря не жечь уголь, их изображали обычные подводы, а инфантерия, став в каре тремя плутонгами, училась ходить, останавливаться, перестраиваться в шеренги для ружейной пальбы. Плохо, что обращению с винтовальными ружьями, или винтовками, у коих в стволе нарезы под пули удлинённой формы, солдаты не обучены, а для экономии припасов тратить их не положено. Строганов позволил лишь выстрелить по пять раз, чтоб узнали как заряжать и целиться.
Большая же часть пехоты — со старыми ружьями с гладким стволом, прицельно стреляющими всего на несколько сот шагов. Так что Паскевич проявил благоволение, выдав винтовки смертникам.
В артиллерии тоже смесь старого и нового. Шестифунтовые бронзовые пушки[11], сохранившиеся с наполеоновских войн, а частию и отобранные у врага, в большинстве своём составляют бригадную артиллерию. А уж в конно-пушечных полках чего только нет! Пушки, единороги, мортиры от десяти до двадцати фунтов самых разных систем и под какой хочешь заряд — новая имперская армия просто не успела придти к единообразию и пребывала в излишней пестроте артиллерийского оружия.
Однажды командир бронеходного полка сообщил о готовности и пригласил Строганова с его офицерами ознакомиться с сим необычным агрегатом, чтобы в бою пехотинцы имели представление, что защищают. Рассказывал Черепанов, не слишком ловкий в речах, но отменно знающий аппарат, в постройке которого сам участвовал.
Диковинная железная повозка, смонтированная на толстой раме, опиралась на две пары колёс. Передние небольшие, укреплены на тележке, напоминающей локомотивную. Задние, выше роста человека, до оси накрыты снаружи железным листом толщиной в палец. Сама ось кривой формы, в её середину упираются два бруса, названные инженером странным словом «шатуны». Впрочем, за этот день Строганов услышал массу незнакомых слов, и лишь часть из них имела английские и французские корни. Остальные названия придумали русские умельцы.
Боясь испачкать светлые шаровары о железные части, перемазанные угольной пылью и смазкой, старшие офицеры бригады забрались на бронеход через открытую заднюю площадку. К ней была прицеплена тележка с запасом угля и воды. Уголь забрасывается лопатой в наклонный жёлоб, по которому скатывается мимо двух высоких цилиндров, один большего, другой меньшего диаметра, опутанных толстыми трубами.
— Сие и есть паровая машина, господа, — пояснил Черепанов. — В малый цилиндр попеременно подаётся горячий пар, то вверх, то вниз. Он давит на подвижную снасть, именуемую поршень, который тянет или толкает шатун, поворачивая коленчатую ось. Частью остуженный пар и под меньшим давлением поступает в другой цилиндр. Конструкция о двух цилиндрах называется по-англицки «компаунд».
Офицеры просочились меж цилиндром и броневым бортом чуть далее вперёд.
— Это — топка, господа. Вроде как печь в бане. Жар по трубам подымается в котёл с водой, она закипает, пар по трубам идёт в цилиндры, из них по трубам в конденсатор, оттуда…
— …По трубам ещё куда-то. Спасибо, господин инженер-майор. Остальные подробности пехоте ни к чему. Лучше про оружие расскажите.
Сконфузившийся было мастер оживился и протиснулся в нос. Перебивший его Строганов подумал, что в движеньи проход между раскалённым котлом и броневой наружной стенкой будет опаснее, чем место впереди машины под турецкими пулями: обняв котловое железо — изжаришься заживо.
На передней казематной площадке грозно изготовилось орудие престранной формы.
— Так что винтовальная пушка, господа, об одиннадцати калибрах длины, не бронзовая, а из англицкого железного сплава, у них именуемого «стилл», у нас — сталь.
— Металл ладно, — вклинился Толстой, удивившийся простору позади пушки в изрядно тесном бронеходе. — А банить-то как? Кто за переднюю броню с банником вылезет? Расскажите, ваше высокоблагородие.
Вместо ответа Черепанов повернул длинный рычаг, и обращённая внутрь часть пушки откинулась, открыв канал ствола.
— Очищается и заряжается сие орудие с казённой части, пока наводчик выставляет углы прицеливания с помощью прицельной снасти господина Лобачевского. Оттого столько места позади пушки — на длину банника и откат на лафете. Ствол винтовальный, — повторился инженер, его тёмный от въевшейся смазки палец нырнул вглубь пушечного жерла. — С нарезами. Ядра и гранаты не круглые, а длинные как в винтовках.
— Кстати, про лафет. Господин инженер-майор, — снова вмешался Строганов. — Для вертикальной наводки вижу обычный клин меж станинами. А по горизонту?
— Поворотный лафет соединён с тележкой, — Черепанов показал два цилиндра и какой-то сложный механизм на полу каземата. — Так что крутим штурвальную рукоять, оттого в нужную сторону движутся и ствол, и бронеход, а в цилиндры поступает пар, чтоб вращать легше.
Офицеры поняли, что пехотная техническая премудрость, где ничего нет сложнее ружья со штыком, военному сердцу ближе. Они потрогали железные щиты, поворачивающиеся вместе со станиной и прикрывающие расчёт от пуль, осмотрели большой кованый ящик в полу для хранения картузных зарядов, ряды малых бомбард по бортам — отпугивать вражью пехоту и конницу, коли подберутся ближе двух сотен шагов. Затем Строганов спросил про крышу, закрывающую сверху паровые цилиндры и топку до котла.
— Мирон Ефимович, а крыша бронная? Солдата выдержит?
— Не, без брони. Но выдержит хоть троих. Только жарко, поди, внизу топка с котлом, дымовая труба скрозь крышу выходит.
— Не волнуйтесь, господин инженер-майор, — генерал ободряюще положил руку ему на плечо. — В бою с турками не будет прохладных мест. А наверх мы отправим стрелков да наблюдателей. Словно на корабле в «вороньем гнезде».
Сходство с судном обнаружил и Лев Толстой.
— Однако управление рулём и огнёвой снастью на флоте не соединено. Понимаю, что наши бронеходчики тщились упростить поворотные механизмы, но не выйдет ли это боком в бою?
— Доживём — увидим, штабс-капитан. Всем командирам батальонов — выделить по три храбреца, что в бой поедут на железных крышах.
— Или лентяев, коим жалко ноги бить, — тихонько схохмил кто-то из прапорщиков, но его услышали и засмеялись, отчётливо понимая, что скоро станет не до смеха.
Глава шестая, в которой православный булат встречается с магометанской сталью
Сначала запылала степь.
Дым закрыл южный горизонт, мрачная тёмная полоса пошла в наступление на русские лагеря. Паскевич распорядился окопать бивуаки и пустить красного петуха навстречу, как только ему доложили о прибытии офицера с донесением из пограничного поста. Гонец, полумёртвый от усталости и загнавший обеих лошадей, включая заводную, сообщил о наступлении осман. Наверно, он один остался в живых из гарнизонов.
— Кто степь поджёг?
— Не мо… не могу знать, ваше высокопревосходительство… — юноша закашлялся и ничего более сообщить толком не смог, оставив гадать — трава пылает для устрашения русских войск на этой стороне обширных полей, или её подпалила случайная граната.
Паскевич объявил генералам, что ожидает врага в течение пяти-семи дней, так как противник, развязав наступление, не остановится на пограничных укреплениях, ежели Махмуд II приказал двигать на север. Горелая степь усложнит путь и задержит, но не более. Поэтому лишь дым улёгся, на юг отправлялись казачьи разъезды, взбивая копытами золу и углубляясь до десяти вёрст, там осматривали крымское направление в подзорные трубы: облака пыли, вздымаемые большой армией, видны издалека.
Генерал от инфантерии запретил строить полевые укрепления. Османская армия будет рваться к воде, весь днепровский берег редутами не покрыть. Тактика одна — встречный бой отдохнувшей нашей армии и измотанной переходом вражеской. Посоветовавшись с Черепановым, командующий поверил его обещанию, что до Ор-Капы уцелевшие в первой битве бронеходы доковыляют сами. Выходит — освобождается более сотни подвод. На них теперь поедут бочки с водой, а также уголь для прожорливых железных чудовищ. Возле Перекопа пресной воды не предвидится.
Строганова несколько раздражала привычка Паскевича столь много внимания уделять следующей баталии, пока не выиграна первая. Даже одержав победу, вполне вероятно, что армии не достанет сил штурмовать пограничный вал. Он снесён был при Екатерине, однако татары после высадки османских войск наверняка там что-то построили.
Напряжение нервов в ожидании неприятеля достигло предела. Ежедневные наряды, учения и занятия для солдат превратились из обузы во благо, отгоняя дурные мысли, хоть и не каждый сие осознавал, бегая с ружьём наперевес по выжженной степи. Самые несущественные бытовые мелочи вдруг обрели особое значение, как и совсем пустячные события, как-то: бродячая собака забежала в расположение батальона, захромала офицерская лошадь, в небе кружит хищная птица… Голова ищет спасения, не желая погружаться в раздумья о главном и страшном.
Некоторое оживление принесло прибытие гусарской дивизии под командованием генерал-майора Дениса Васильевича Давыдова. Весёло-пренебрежительное отношение к жизни и смерти этих молодцов, которым позавидовали бы и французские мушкетёры, и шотландские королевские стрелки, было заразительным. Сам Давыдов, постаревший с двенадцатого года, оставался по-прежнему неукротимым, закатил пирушку, зазвав соседей; даже сдержанный Паскевич не препятствовал и сам с благодарностью принял приглашение — командиры дивизий, бригад и полков не должны перегореть до боя.
Звучали лихие тосты, знаменитый партизан горланил «Я люблю кровавый бой, я рождён для службы царской!», а Строганов недоумевал, как Государь решился бросить на турок самый главный резерв — Его Императорского Величества лейб-гвардейскую Бородинскую кавалерийскую дивизию. Не хотел, чтобы отборные молодцы нагуливали жир в тылу?
Сражение, вошедшее в историю как Днепровская битва, Александр Павлович встретил, лёжа в мокром мундире на горячей крыше центрального в линии бронехода. До соседних полсотни саженей, потому бригадный генерал намеревался отдавать приказания через сигнальщика, который флажками покажет команду наездникам на других крышах, а те — дальше по цепи и своей сотне, окружающей машину… Так думалось до боя, а получилось совершенно иначе.
Девлет-Гирей вынужден был с марша развернуться и принять бой, ибо попытка уклонения привела бы к русскому удару во фланг или в тыл. Единственную возможность он увидел в опрокидывании спешно и сумбурно отмобилизованного русского войска, уповая на сей шанс всецело и призвав в помощь Аллаха.
Степь огромна. Армии сошлись же на клочке земли менее чем в десяток вёрст по фронту. На левом русском фланге пролегла изрядная балка, пехоте одолеть её не сложно, а кони могут и ноги поломать. Строганов отогнал лишние мысли. О прикрытии флангов или контр-охвате есть кому озаботиться. Для его бригады всё решится за час-полтора вкруг огнедышащих железных коробок.
В центре, где двинулись бронеходы, Паскевич перемудрил с применением артиллерии. Он счёл, что бронеходные пушки должны приблизиться на полторы версты к месту развёртывания османских орудий и выбить её, пользуясь большей дальнобойностью и защищённостью в броневых коробах. Полевая артиллерия откроет пальбу по налетающей коннице, находясь за линией бронеходов и стреляя поверх голов… Никто и никогда в этом веке не расставлял пушки столь необычно, однако никто не пользовал их совместно с бронеходами. Опыт нарабатывается на русской крови.
Одна ошибка выявилась, когда османские орудия загрохотали первыми. В облаках пыли и дыма, заполнивших турецкие позиции, ни один Финист Ясный Сокол не рассмотрел бы, как их артиллерия снимается с передков и поворачивается дулами вперёд. Просто в один момент донеслось приглушённое бабаханье, среди мутной стены над позициями мелькнули вспышки наподобие зарниц при грозе, а в сторону бронеходов рванулись по воздуху зловещие чёрные точки.
Строганов заскрежетал зубами. Мусульмане стреляют плохо — облака золы и песка мешают их наводчикам. Но и нашим они не в помощь! Значит, артиллерия в этом бою не оправдает надежд. Но, по крайней мере — постарается, заявила пушка центрального бронехода, оглушительно рявкнув.
Железная кровля, разогревающая больше и больше с каждой минутой, сильно вздрогнула, будто по ней ударили кувалдой, уши заложило близостью выстрела, спереди заволокло пороховым дымом. И это только начало! Пушка палила, наверно, до двух раз в минуту, с обеих сторон доносилась столь же частое нестройное громыхание из других бронеходов, сзади ревели стволы единорогов, превращая горелую степь в игрище бога войны…
Строганов понял, что о каком-то управлении бригадой и речи быть не может, каждая сотня сама за себя. Самоход полз удручающе медленно, делая в час не более полутора вёрст, поминутно останавливаясь, видимо — для лучшего наведения орудия. Порой он застревал, даже на мельчайших подъёмах и неровностях, тогда пехотинцы наваливались на его корпус и прицепную тележку, проталкивая вперёд многопудовую и непрерывно палящую громадину. Но это пока татары не прорвались вплотную.
Пехота дала залп с полуверсты, успела дважды перезарядиться, ибо конникам пришлось преодолеть груду человечьих и конских трупов, которые во множестве устилали степь после каждого залпа. Вразнобой бумкали бортовые бомбарды, засыпая кавалерию дождём из картечи. Пушка опустила ствол, бросив артиллерийскую дуэль, и буквально вымела пространство перед машиной.
Но этого оказалось мало. Османы прорвались в прорехи между бронеходами. Пехота окружила их, ощетинившись штыками. Но винтовка — не пика, в поединке с саблей всадника она здорово уступает. Вокруг железного островка воцарилось побоище. Страшные крики коней, получивших штыковые удары в грудь, одиночные выстрелы, вопли людей, разрубаемых на скаку и растоптанных копытами — всё это слилось в кошмарную какофонию… И длилось не более трёх-четырёх минут, показавшихся вечностью, пока набежавшее подкрепление не расстреляло всадников слаженными ружейными залпами.
Граф зарядил четыре двуствольных пистолета и безжалостно переложил мёртвое тело одного из стрелков, пристроив поверх него винтовку как на бруствер. Бронеход тронулся вперёд, снова заработало орудие.
Ближайшие машины сохранили подвижность. Дальше соседней ничего не разглядеть из-за пыли и дыма. Ответный огонь мусульман притих — прорва гранат и ядер, отправленных на их позиции, скорее всего, повыбила орудия и канониров. А примерно через час после первых выстрелов османы кинулись в повторную кавалерийскую атаку.
Дальнейшее помнилось смутно. Разрядив пистолеты, Строганов скатился сзади на сцепку с прицепом, но не успел спасти кочегара; когда он ткнул шпагой в шею кавалеристу, кривая сабля уже перерубила шею русского. Тело упало под колёса прицепа, а граф в каком-то боевом безумии бросился на татарина без шапки, с круглой лысой головой, сорвал его с коня и проткнул уже лежащего на земле.
Потом Строганова сшиб конь другого османа, и генерал пришёл в себя только под днищем бронехода. На лицо капнула горячая смазка с шалнера передней тележки. Огромные шатуны, образующие букву V с кривой колёсной осью в основании, медленно провернули эту самую ось и проползли в считанных дюймах над вжавшимся в песок телом, затем машина замерла.
Он выполз наружу, ожидая худшего — турки порубили остатки охранения и перебили экипаж. Однако земля мелко задрожала под тысячами копыт. Гусары в коричневых мундирах Ахтырского полка понеслись вперёд мимо замерших железных колесниц, которые вскоре прекратили пальбу, опасаясь накрыть своих. Пушки бабахали лишь справа, не понять — наши или чужие, скоро стихли и они.
Обессиленные уцелевшие солдаты строгановской бригады вперемешку с остатками подкрепления повалились на землю. Поднимать и строить их на случай внезапного османского налёта генерал не пробовал — у людей тоже есть предел выносливости.
В какой-то отстранённости Александр Павлович увидел, как унтер, отдыхавший у тележки бронехода, встал и запросил подмоги, не имея возможности облегчиться. Форма, забитая пылью и золой, пропиталась паровым духом. Теперь, высохшая на солнце, которое постепенно пробилось через опадающий дым сражения, она превратилась в панцирь — руку не согнуть, до шаровар не дотронуться. Куда там Пажескому корпусу с натянутыми лосинами… Да и собственный мундир, что строился в Москве у лучшего портного добрых две недели, ничуть не краше; Григорий придёт в отчаянье.
А вскоре прискакал вестовой от Паскевича — пехоту вернуть в лагерь. Виктория!
Вечером в шатре командующего Строганов, чистый и переодетый, поймал себя на мысли, забытой с восемьсот двенадцатого года. Тогда неделями отступали от границы к Смоленску и после короткого боя — к Москве. А Бородинское побоище длилось неполный день. Странная она, хронология войны. Бесконечные переходы и ожидания занимают несравнимо больше времени, чем собственно сражение с неприятелем.
— Поздравляю, господа! — радостно заявил Паскевич. — Победа одержана с малыми потерями, меньше пятнадцати тысяч убитыми и ранеными. Захвачена турецкая артиллерия, припасы и обоз, армия противника рассеяна. Частности обсудим потом, а теперь считаю своим долгом сообщить: все полки, бригады и дивизии действовали отменно. Мы остановили османское наступление!
Естественно, битва сложилась не по плану, с досадными, но допустимыми от него отклонениями. Разделённая надвое артиллерия выполнила генеральную задачу. Бронеходы и расположившиеся за ними батареи перемололи турецкие пушки. Главное — Паскевич угадал, что Девлет Гирей предпримет охватывающий манёвр справа от русского центра. Там выстроилась вторая часть артиллерии, а прикрывавшая её инфантерия встретила османскую конницу дружными залпами; до штыков не дошло. Расстроенное шквальной пальбой турецкое войско дрогнуло и под натиском русской кавалерии побежало — изрядная часть западнее к Днепру, где казачий резерв снял кровавый урожай. Остальные повернули обратно к Перекопу, через безводную выжженную степь, положившись на милость Аллаха.
Военный совет, окончившийся решением дать краткий отдых войскам, плавно перетёк в иной вид собрания, когда командующий позволил открыть запасы с вином. Праздновали, а в лазаретах умирали раненые, упокоенных собирали в большие братские могилы, дабы вскорости похоронить. Так заведено у магометан, и сие разумно без различия от вероисповедания, ибо под ярким солнцем разложение начинается быстро.
На следующий день командующий беседовал с генералами по отдельности, уделил время и Строганову.
— Благодарю и хвалю, Александр Павлович! Наслышан о мужестве, когда не побрезговали лично поучаствовать в рукопашной.
— Спасибо, ваше высокопревосходительство, однако пустое это. Как бронеходы двинулись, да пылюка поднялась, я утратил всякую связь с бригадой. А что глупости говорят: «вдохновил примером» — не верьте. В той грязи солдат с генералом на одно лицо, да и видели меня только защитники ближайшего бронехода.
— Не скажите, скромный вы наш. Слава после боя работает, солдаты за вами хоть в пекло готовы. Как же — генерал и боевую задачу выполнил, и не струсил рубиться на переднем крае, и выжить сумел. Виват!
Граф печально улыбнулся.
— Воля ваша оценивать мои деяния столь лестно, Иван Фёдорович. Однако про новое пекло расскажите подробнее.
— Э, нет! Вы, Александр Павлович, вчера изрядно рисковали, ваш ангел-хранитель устал. Понимаю-понимаю, — генерал выставил вперёд ладонь. — Снова ищите искупления прежних грехов. Не достаточно ли?
— Это Господу одному известно. Лишь он вправе возложить на меня, Дубельта и Пестеля вину от злодейств казачьих зондеркоманд или снять её. Не возьму на душу грех гордыни, чтобы подсказывать Всевышнему или угадывать его волю. Поэтому моё искупление не имеет границ.
— Казнить себя пуще Господа — тоже гордыня, по моему разумению, — покачал головой Паскевич. — Хоть в этом я и не силён. Тут лучше с батюшкой поговорить.
— Исповедовался, причащался. Они лишь одно твердят — всё в руце Божьей, пути Господни неисповедимы. Оттого прошу, Иван Фёдорович, отправьте меня на самое горячее место в следующей баталии. Вчера не подвёл, и дальше не оплошаю.
— Не знаю, что и сказать, — Паскевич чуть пожал плечами, отчего дрогнули золотые шнуры на эполетах. — Разве десант за Перекоп, но это чистое душегубство, граф.
— Или спасение души. Не томите, ваше высокопревосходительство. Если требуется с моря высадиться в тылу у осман — так тому и быть. Только флот их силён, пустит ли к крымскому берегу?
— Вынужден будет, но опасность останется велика. Прошу об одном — уцелейте, граф. Война окончится, почту за честь назвать вас другом.
Пока совещались генералы, в степи появились курганы из песка. Татарин из пленных, заявивший о духовном звании, что-то заунывно затянул у могилы соплеменников. В полуверсте батюшка отпевал православных, а юный поэт Миша Лермонтов, не усидевший в обозе и едва спасшийся, прошептал, глядя в сторону Тавриды, где армию Паскевича ожидала главная и не менее кровавая битва:
Взгляни, там зарево краснеет: То битва семя смерти сеет.Очередная посевная наметилась на две сотни вёрст южнее, недели через полторы после битвы у Днепра. Она началась с крика вахтенного матроса линейного корабля «Бейлербей Хасан», увидевшего паруса на юго-западе, где Каркинитский залив соединяет свои воды с открытым Чёрным морем.
Эскадра, включавшая кроме флагмана три линейных фрегата и корвет, перекрыла Крымский берег Перекопского залива, дабы воспрепятствовать высадке русских в тылу крепостного вала Ор-Капы. Слух о разгроме достиг этих мест через двое суток, принесённый уцелевшими янычарами, осилившими обратный переход в Крым, и никак боевого духа не поднял.
Тревога, сыгранная на пяти османских кораблях, отменена не была, однако напряжение спало, ибо пришелец оказался один и невелик, не более двух тысяч тонн на глаз. Вдобавок русский, лавируя против ветра с корветским парусным вооружением, пустил чёрный дым из тонкой трубы позади грот-мачты. Стало быть, это не настоящий военный корабль, а снабжённый несколькими пушками пароход. Большие гребные колёса, непременный атрибут паровых торговых посудин, изрядно снижают скорость. Манёвренность в узких гаванях да способность кое-как выгребать точно против ветра — все их преимущества.
Потому турецкие капитаны, находившиеся вдобавок с наветренной стороны, разглядывали корвет с явной усмешкой, полагая, что отчаянный русский капитан лезет в западню. Затем паровой корабль повернул и с расстояния полутора миль пальнул пушками правого борта с небывалой для сей дистанции точностью, уложив ядра в печальной близости от флагмана. Только после этого зазвучали команды, расправились паруса, с грохотом поползли якорные цепи.
Османы вышли на охоту, обладая несомненными преимуществами. У них больше кораблей, мощнее артиллерия. Они находятся сверху относительно ветра. Наконец, дерзкий корвет имеет меньшую скорость — вместо мачты труба, гребные колёса тормозят, и это будет для него фатальным, если Аллах не оставит мусульман своей милостью.
Меж тем русский добился попадания, вызвав нешуточный пожар на турецком фрегате, и начал движение к открытому морю, спасаясь от преследующей тройки; лишь флагман остался на якоре, охраняя тыл Ор-Капы. Пароход продолжил отстреливаться, но уже только из пары кормовых ретирадных орудий, потом вдруг из его трубы повалил очень густой дым, он увеличил дистанцию и круто свернул влево. Ставши против ветра, совсем убрал паруса.
Турецкие капитаны не поверили глазам! Русский гяур описал циркуляцию большого радиуса и оказался выше по ветру, имея теперь и преимущество в скорости, и занимая нужное ему положение, а немногочисленные пушки били с ошеломляющей точностью, добиваясь попаданий с мили-полутора. И никаких гребных колёс… Что за шайтан толкает его по морю?
Затем курс пересекли обычные фрегаты, явно старой постройки, не обладающие паровым устройством, зато количеством стволов не уступавшие кораблям осман, которые попали в артиллерийскую вилку, имея повреждения от пальбы парохода. Турецкий фрегат и корвет вышли из боя, взяв курс на юго-восток.
К вечеру этого дня с линейного корабля «Бейлербей Хасан», оставшегося в опасном одиночестве, заметили тот же корветский пароход, к появлению которого теперь уже отнеслись с достойной серьёзностью. Однако русский и не подумал приближаться на расстояние выстрела. Из-за его кормы выползли, щедро коптя дымом, два странного вида баркаса без парусов и весёл. Таких малых судов с паровой машиной никто в Блистательной Порте не видывал.
Пушки флагмана рявкнули всем бортом, когда дымящие огрызки приблизились. Но попробуй попади с полумили в лодку длиной менее трёх десятков ярдов, несущуюся со скоростью до дюжины узлов!
Баркасы разошлись, первый повернул к носу линейного корабля, второй направился к корме. И баковое орудие, максимально опустившее ствол к воде, добилось вдруг успеха! Ядро проломило блестящую крышу мелкого дерзостника, и он скрылся в облаке пара и дыма. Когда клубы рассеялись, на воде не осталось даже кругов, так — один мусор.
Зато на корме не повезло. Из пушек не попали, ружейные пули не принесли заметного вреда, и русская лодка, увенчанная на носу длинным наклонным шестом, уходящим в волны, врезалась-таки в корпус около рулевого пера!
Взрыв сотряс квартердек, отшвырнул баркас назад. Испуганный матрос доложил офицерам, что в трюм хлынула вода из пробоины под ватерлинией.
Пока турки боролись за живучесть флагмана, русский катер, пострадавший от взрыва, быстро затонул. За повреждение линейного корабля экипажи малых судов заплатили высшую цену, погибнув до последнего человека.
Но «Бейлербей Хасан» остался на плаву, пусть с дифферентом на корму и сильным креном на левый борт. Без руля он никуда уйти не смог, чем воспользовался капитан пароходокорвета, приблизившись с этого же борта, с которого стрельба уже невозможна. Русский дал единственный выстрел и замер в ожидании, пока противник спустит флаг.
Капитан-лейтенант Павел Степанович Нахимов утомлённо выдохнул и опёрся руками о леер.
— Лейтенант, объясните туркам, что высаживаться нужно на западный берег.
— Слушаюсь, ваше благородие!
«Паллада» двинулась вперёд на пару кабельтовых, после чего между раненым корпусом османского корабля и крымской землёй в воду упали два ядра. Намёк более чем понятный — не дело сотнями человек турецкой команды укреплять гарнизон Ор-Капы.
К утру на длинную косу, вонзившуюся с запада в Перекопский залив и отчего-то именующуюся местными жителями Малой, прибыла первая русская колонна. Со стороны моря под охраной «Паллады» к берегу приткнулась целая флотилия мелких судёнышек. На них и на шлюпках с «Бейлербей Хасана» батальоны инфантерии и артиллерийские батареи начали переправку на восточный берег, виднеющийся в каких-то двух милях.
Строганов был в одном из первых баркасов, ткнувшихся в крымский пляж. Турки опомнились с запозданием, потом на десант посыпались ядра с гранатами, а вскоре и картечь. От Ор-Капы до плацдарма далеко, стало быть — османы закинули хоботы лафетов на передки и подвезли пушки ближе к берегу конными запряжками. Предсказуемо, но неприятно.
Над головами засвистели ядра с «Паллады», сбивая с османских пушкарей излишний задор. Быть может, они и не нанесли особого урона, но дали время, за которое на плоскодонках, огибая полупогруженный остов турецкого корабля, русские канониры выгрузили трёхфунтовые орудия[12], тут же собрали их, укрепив цапфы стволов в вертлюжных гнёздах. Фортеции с такой артиллерией не взять, зато с ними куда сподручнее держать оборону, нежели с одними ружьями.
Новосозданная бригада, усиленная подкреплением и полком лёгкой артиллерии, управлялась из рук вон плохо. Граф понимал, что защитники плацдарма приносятся Паскевичем в жертву, как и плутонги в пограничных фортах, посему здесь ляжет в землю далеко не цвет русского воинства… Но они — живые люди! Пока живые. Полдюжины опытных офицеров и три десятка унтеров превратили бы очень сырое соединение во что-то боеспособное, с большими шансами удержать осман.
Турки навалились после полудня на едва подготовленные позиции, направив силы, не менее чем вдвое превосходящие числом. Пушкари отстреливались, высадив за пару часов до сотни зарядов на ствол, плутонги отбивались от янычар и татарских отрядов, несколько раз противник врывался на плацдарм, и его отбрасывал резервный батальон… Силы защитников таяли, как и нападавших, потому что ни одной, ни другой стороне не поступило подкрепления.
«Когда переправятся наши?»
«Где Паскевич?» «Где десант?»
«Когда?! Когда?!!»
Строганов знал ответ на эти вопросы, но ничего не говорил людям. Десант в тыл — обманка, дабы вытянуть на себя как можно больше турок с вала Ор-Капы. Основной штурм в лоб, поддержанный бронеходами и тяжёлой артиллерией. Здешний кошмар закончится, только когда со стороны Перекопа прорвутся наши и смахнут остатки мусульман вглубь Крыма.
Это произойдёт через день или через два. Останется ли хоть одна живая душа на плацдарме? Не известно. Вряд ли.
Снова прорыв, и резерва практически нет… Граф лично повёл людей, сведённых из батальона в одну неполную сотню.
Спереди всё заволокло дымом, из которого бабахали пушки, а янычары выпрыгнули что чёртики из табакерки, сшибаясь с русскими грудью в грудь. Несмотря на присутствие здесь своих солдат, турки продолжили стрелять, а возможно и не знали о прорыве, забрасывая русские позиции ядрами с шипящим быстрым свистом и гранатами, сипевшими медлительно и зловеще.
Разрядив пистолеты, Строганов увидел справа от себя юного прапорщика и дымящую гранату у его ног; солдаты и унтеры бросились в стороны, на землю.
— Стыдно, господа! — воскликнул он молодым, звонким голосом. — Русским не престало кланяться ядрам.
Когда чуть развеялся дым от разрыва, офицер лежал на земле, а по мундиру расплылось тёмное пятно. Прозрачные глаза на побледневшем лице спросили: «это конец?» и закрылись, не дождавшись ответа.
Другая граната попала в зарядный ящик. Грохот удара вдруг сменился непроницаемой тьмой, и Александр Павлович не узнал, что буквально через полчаса на берег хлынули русские войска. Паскевич и ему не открыл всей правды. Командующий обманул турецкого генерала, пожертвовав на убой заведомо слабый десант. Турки сочли сие отвлекающим манёвром, и оставили главные силы на валу, где начался нешуточный обстрел. Выждав, сколько возможно, генерал выслал гонца на косу, велев переправиться на восточный берег сразу двум дивизиям. Они пересекли узкий пролив и буквально по трупам — русским и турецким — бросились в атаку до самого Сиваша. К утру Девлет-Гирей, отрезанный десантом от Центрального Крыма и прижатый с севера основной массой русских войск, капитулировал при почётном условии: оставить оружие и начать ретираду в Анатолию.
Паскевич не возражал. Он намекнул — более того, татар забирайте. После поддержки османам не ждёт их в России счастливая жизнь. Эвакуация затянулась на месяц.
Вести тогда доставлялись со скоростью всадника, скачущего на перекладных, по крайней мере — до ближайших рельс. Поэтому победная реляция достигла Москвы не сразу, лишь через день после ермоловской, который разбил осман в Западной Армении и вышел к Карсу.
Глава седьмая, в которой Император Павел Второй желает объясниться со Строгановым, но не может этого сделать
После обедни Государь занемог. Зазвали лекаря. Он пустил кровь, отчего свекольно-бордовый цвет лица Императора посветлел на время. Затем доктор пользовал августейшего больного шпанскими мушками, целебными настойками и велел прикладывать холодное к голове.
В сём удручающем виде, беспомощно расплывшегося на ложе, Павла Николаевича увидел Паскевич. Не глядя на немощь, Император велел доставить командующего к себе.
— Чую, плохо мне… Бог дал, дожил до светлого дня турецкой виктории… Расскажи, как…
— Решительно и беспощадно, Всемилостивейший Государь. Только короток мир с османами. Нужно Карс и Константинополь отобрать, с Балкан выгнать басурман.
— О-хо-хо… Чаянья мои заветные… — Государь попробовал привстать, но снова рухнул на подушку, обеспокоив камергера и лакеев. — Англичане не позволят, окаянные. Им османы — как сторожевые псы, чтоб Россия не прирастала к Средиземному морю, не торговала с миром из южных портов.
— Значит, нужно быть сильнее Британии!
— Да, генерал… — царь чмокнул губами, и лекарь промокнул струйку слюны, капнувшую из угла рта. — Теперь генерал-фельдмаршал. Я велю… подпишу…
— Премного благодарен, Всемилостивейший Государь, — Паскевич вытянулся, стукнув сапогами. — Служу Вашему Императорскому Величеству.
— Да не прыгайте… Голова кружится, — Демидов, несмотря на признание слабости, вдруг широко раскрыл глаза и приказал всем удалиться, оставив лишь полководца. — Иван Фёдорович, дело есть, весьма приватное и деликатное. Уважьте умирающего.
— Жить вам до ста лет, Государь!
— Хотелось бы… Но не перебивай. Назначаю вас душеприказчиком. Не перебивай!… - повторил больной, увидев протестующий жест генерала. — Сын, цесаревич… не мой он сын. Я тогда Аврору Шарлотту не посещал. И трон ему оставлять не хочу. Лучше племяннику; Анатолия регентом, до совершеннолетия императора.
— Воля ваша, государь, однако слова мало. Прикажете вызвать секретаря?
— Прикажите… Но вот что поведайте, как Строганов? Виноват я перед ним. Хочу увидеть, поговорить по душам. Пока поздно не стало.
— Боюсь, уже поздно, Ваше Императорское Величество. Погиб он в Крымском десанте. Стоял возле зарядного ящика, даже тело опознали без уверенности. Там, простите, сплошное мясо. Неведомо, как православных от турок отделить, когда руки, ноги, головы — вперемешку.
— Прискорбно крайне… — Император, похоже, действительно опечалился. — Грех на мне. Возжелал я его супругу, невесту даже, пока Александр Павлович в Сибири ссылку отбывал. Соблазнением намекал, дескать — будь со мной милее, глядишь, и Строганов раньше вернётся. Ан нет, гордая она, сама в Шушенское понеслась. Выходит, и графа больше нет, и я… не кавалер.
— Батюшка грехи отпустит.
Император примолк на минуту.
— Дай-то Бог. И перед Юлией Осиповной повинился бы, да не могу. Вызов в Кремль примет превратно…
Лейб-адъютант осторожно доложился о прибытии. Царь продиктовал свою волю о престолонаследии, указ о фельдмаршальском жезле для Паскевича и ещё несколько неотложных повелений, подписал их, после чего попросил оставить его для отдыха. С вновь налившимся лицом, обрюзгший до неприличия, страдающий грудной жабой, плохой печенью и прочими признаками окончательно расстроенного здоровья, монарх походил на пожилого, изрядно изношенного мужчину, слишком приверженного сладострастию, чревоугодию и иным порокам. В ту пору ему исполнилось тридцать пять лет.
Душеприказчик Императора познакомился с Юлией Осиповной, упомянутой в том разговоре, в студёной январской Москве тридцать четвёртого года, когда столицу накрыл похоронный траур; Павел Второй не вставал несколько месяцев и скончался от апоплексического удара.
Представил их Пушкин. Графиня, в строгом чёрном убранстве по мужу и Государю, показалась фельдмаршалу… он затруднился бы выразить своё первое впечатление.
Новый русский двор, где родовитый княжеский бомонд изрядно разбавлен простецкими купеческими лицами, не обделён и красавицами, в том числе более юными, нежели вдова Строганова. Наверное, в восприятии её облика сказалась легенда. Польская панна, ставшая предметом обожания двух великих людей эпохи, одновременно вернувшихся в Отечество, возбуждала слухи и любопытство. Особы романтические вспоминали про её самоотверженность, включая сумасбродную поездку в Шушенское вместо удовольствий светской послереволюционной жизни. Злые языки судачили — чем же она подкупила Императора, дозволившего вернуться опальному ссыльному столь рано? Уж не альковными ли амурами? Это подозрение вызывало гнев у ханжеских блюстителей нравственности, у молодёжи — восхищение. Чем бы не тронула Юлия Осиповна сердце похотливого царя, она заслуживает лишь добрых слов, вызволив суженого из Сибири.
Большой Кремлёвский дворец, заполненный тысячами чёрных фигур, разбавленных лишь красными лейб-гвардейскими мундирами внутренней стражи, гудел в ожидании. Король умер — да здравствует… кто? О неприятии покойным сына Императрицы известно было хорошо.
Вдова коротко поздоровалась с поэтами, образовавшими малый кружок.
— Юлия Осиповна, ангел наш! — Пушкин поцеловал кончики её пальцев через перчатку. — Как же давно не имел я счастья видеться с вами.
— Несчастье помогло, Александр Сергеевич.
— Увы… Смерть отделяет от усопшего, но соединяет оплакивающих. Познакомьтесь же, Наталья Николаевна, mon étoile[13].
Супруга поэта опустила глаза и поклонилась. Учтивость и редкая красота её были особенными. Оттого не удивительны слова мужа, повторённые им не единожды: «Я женат — и счастлив; одно желание моё, чтоб ничего в жизни моей не изменилось — лучшего не дождусь».
Лучившийся радостью, столь не уместной в дни траура, поэт не сразу опомнился, что не престало показывать её перед женщиной, чей семейный очаг безвозвратно разрушен войной.
— Скорблю вместе с вами, Юлия Осиповна. Александр Павлович… ему я стольким обязан, хоть и не сразу осознал. И не отблагодарил.
— Да, Александр Сергеевич. Он любил вас. И Павел Николаевич не менее. Знаете, что сказал покойный Император, отправляя графа в ссылку? Что вы всего нашего поколения стоите, за спасение Пушкина от Бенкендорфа граф Строганов не подлежит более суровой каре.
Поэты насупились. Как ни талантлив, ни именит Пушкин, однако же покойный Государь лишку хватил. Были и крупнее стихотворцы, тот же Кукольник. Да и среди присутствующих…
— Александр, вы на Кавказ ездили, в Крым, с Паскевичем знакомы. Не могли бы меня представить? Возможно, он один из последних… — Юлия Осиповна извлекла кружевной платочек и промокнула угол глаза. — Из последних, кто говорил со Строгановым пред тем злосчастным десантом.
— Непременно. Да вот он!
Пока вдова под руку с поэтом лавировала между вельмож, иностранных послов и купеческой братии, Наталия Николавна с неудовольствием ощутила, что оставлена одна, а муж, минуту назад величавший её «мой звездой» и «моей судьбой», упорхнул, увлекаемый пусть и не первой свежести, но ещё достаточно грозной светской львицей. Между тем Василий Андреевич Жуковский принялся вполголоса и печально декламировать заготовленную поэму «На смерть Императора». После пышного вступления он перекатился к заслугам покойного по свержению республиканской диктатуры.
Всё бранью вспыхнуло, всё кинулось к мечам, И грозно в бой пошла с Насилием Свобода! Тогда явилось всё величие народа, Спасающего трон и святость алтаря.Голос придворного рифмоплёта пропал за спиной, а Строганова оказалась перед высоким мужчиной импозантной наружности, круглым малороссийским лицом, которому невероятно шёл роскошный фельдмаршальский мундир.
— Для меня это большая честь, Юлия Осиповна, — произнёс тот после рекомендации Пушкина. — А потеря Александра Павловича — огромная утрата. Поверьте, по пути к Крыму мы не раз договаривались, как закончится война — навещу вас, или вы удостоите вниманием мой гомельский дворец. Познакомил бы вас с супругой Елизаветой Алексевной…
Голос Паскевича дрогнул. Строганова заметила это не без удивления. Военные обычно сдержаны в эмоциях, а муж не мог стать близким другом генерала за короткий срок. Оказалось, скорбит он не по сослуживцу.
— Увы, и Елизавета Алексеевна нас покинула. Тридцать третий год слишком богат был на утраты.
— Простите. Примите мои…
— Принимаю, Юлия Осиповна, и кому как не вам понять тяжесть потери у другого, только что встретив свою боль. Вероятно, вы желали услышать о последних днях Александра Павловича?
— Если это возможно.
— От чего же! Безусловно. Однако здесь, право, неудобно. Вы задержитесь в Москве после похорон?
Строганова чуть склонила голову. Конечно, Москва — это её дом. Два особняка от двух усопших мужей. Богатое, но страшное наследство. Александр, отец её ребёнка и любовь всей жизни… Но и старик Шишков был добр, внимателен и по-своему дорог. Оба ушли в бесконечность.
— Буду рада видеть вас у себя, Иван Фёдорович.
Она сдала гордость русской поэзии на руки Наталье Николаевне, а Жуковский, наконец, добрался до финальной части своего опуса.
Ты улетел, небесный посетитель; Ты погостил недолго на земли; Мечталось нам, что здесь твоя обитель; Навек своим тебя мы нарекли… Пришла Судьба, свирепый истребитель, И вдруг следов твоих уж не нашли: Прекрасное погибло в пышном цвете… Таков удел прекрасного на свете!На похоронах не аплодируют, да и стоявшие вокруг поэты не излучали восторга. Но промолчали, один лишь беспардонный Пушкин не удержался.
— Замечательно сочиняете, Василий Андреевич, только несколько одинаково, pardon. Смею заметить, муза весьма вдохновляет вас лишь в дни имперских празднеств и печалей.
Огорчённый намёком на избыток придворной лести, Жуковский, негодуя, воскликнул:
— Как же вы судить можете, Александр Сергеевич! Вы же середину не слышали.
Пушкин чуть улыбнулся, не желая громко насмехаться в траурной зале. Он не сомневался, что середина сочинения ничуть не отличается от финала, где жирный и опустившийся Государь обозван «прекрасным». А уж рифм к слову «посетитель» сколько не использованных осталось: воитель, кормитель, обольститель, соблазнитель, укротитель — на трёх жуковских хватит.
Впрочем, о человеке нужно судить по его делам, внешность и дурные манеры — дело десятое. Император-купец был, наверно, одним из лучших российских монархов. Он за поразительно короткое время смог наладить расстроенные государственные дела, оставшиеся после фюрера в совершенном хаосе, вернул стране уважение соседей, а развитие железного и парового промысла вывело обычно отсталую Русь чуть ли не вровень с Британией. Да, он отличался редким сладострастием, отвергнутый и Шишковой-Строгановой, и Шарлоттой, пустился во все тяжкие, страдал обжорством, последний год — неумеренной тягой к крепкому вину. Столь любовно пополняемая им казна, результат благих начинаний, хорошо и опустошалась, особенно на железнодорожное строительство, опекаемое братом Анатолием, отчего демидовские предприятия пережили расцвет прямо-таки сказочный. Графское, а потом и императорское достоинство не привили ему до конца правил этикета, и до самой смерти Павел Николаевич был куда больше похож на уральского заводчика и поволжского купца, нежели августейшую особу.
Главное — он принёс многострадальной стране некоторое спокойствие и даже внутреннее согласие, что совсем не просто было, когда в державе практически не осталось людей не обиженных, не униженных, не обобранных. Романовых и их близких безжалостно уничтожили декабристы первой волны, их самих — Расправное Благочиние, затем и оно большей частью пало, когда уральцы и волжане захватили Москву. А чудо-реформа земельная, разорившая и крестьян, и казну, и дворян! А миллионы переселённых иудеев и мусульман! В этой каше поломанных людских судеб не заварилось ни одного бунта, подобного пугачёвскому или декабристскому. Оттого проводили Павла Николаевича в последний путь с искренней жалостью и с пониманием, что отныне нет твёрдой монаршей руки у русского кормила власти.
Через три дня после тризны фельдмаршал Паскевич нанёс визит Юлии Осиповне, принимавшей в тот вечер Григория Александровича Строганова, кузена покойного супруга и Министра иностранных дел. Семейный разговор за чаем непременно коснулся трагической кончины графа.
— Даю слово, сударыня, и вас, Григорий Александрович, прошу поверить, что Александр Павлович сам стремился в наиболее рисковые предприятия той компании. Со стороны выходит, будто я его назначал в ужасное пекло. Да, отправлял, но по неоднократной его просьбе. Генерал не искал смерти, но и себя не щадил. Он вообразил, что на нём неоплатный долг за содеянное при Пестеле.
— И приговорил себя к искуплению, — согласилась вдова. — Не смею вас ни в чём упрекать, Иван Фёдорович. Вы воевали, на войне гибнут и офицеры, и генералы.
— Только те, что на войну отправились, — добавил Строганов-младший. — Питерские генералы, что при фюрере хвост поджали, а при Демидове распушили его, не больно-то рвались в Крым. Денис Давыдов про них даже эпиграмму сочинил:
Мы несём едино бремя; Только жребий наш иной: Вы оставлены на племя, Я назначен на убой.— Как точно он подметил! Однако его явлению в Крыму я ещё больше удивлён был, нежели подвигами Александра Павловича. После наполеоновых войн Денис Васильевич откровенно службой манкировал, дескать — отвоевал своё. Знаете, какая романтическая история снова толкнула его к гусарам? Он, живший сибаритом, эдаким провинциальным медведем, влюбился вдруг в девицу на четверть века моложе, бросил семью. Она ответила отказом, вышла замуж, а вернутся домой побитым и побеждённым — не в характере нашего партизана. И вот, поспела турецкая компания, Давыдов подал прошение на высочайшее имя и отличился на Днепре, — Паскевич, оживившийся было при воспоминаниях о буйном гусаре, снова вернулся к минорному ладу. — Но сумел сохранить жизнь, сударыня.
В заключение визита фельдмаршал рассказал о дворце на берегу реки Сож.
— К лету заканчиваю благоустраивать. Не побрезгуйте навестить, привозите Гришу и Фёдора. В Гомеле тепло, почти как в Малороссии, однако нет докучливой южной жары. Так сказать, парадиз умеренных широт.
Прощаясь, он припал губами к руке Юлии Осиповны, задержав её пальцы в своих на секунду больше принятого обычно.
В последующие годы Паскевича захватила политика, а не устройство гнёздышка в Белой Руси. Те самые племенные питерские генералы, над которыми едко насмехался гусарский поэт, подняли бунт, пробуя посадить на трон сына вдовствующей императрицы, душеприказчик покойного Государя утопил его в крови с беспощадностью, достойной К.Г.Б. На царство венчался племянник усопшего Дмитрий Анатольевич при всевластном регенте.
Впервые прошли выборы в Государственную думу, победила, но с досадно малым перевесом, демидовская партия. Граф Григорий Александрович Строганов получил пост премьера, при малолетнем Государе и регенте — наиважнейший в державе.
Шарлотта отправилась в монастырь, приняв постриг, словно царевна Софья в петровские времена. В наш жестокий век, когда не только мужчины, но и женщины порой становились жертвами перемен и революций, сей поступок Строгановых и Демидовых можно счесть гуманным… Ежели бы не одно «но». Являя угрозу престолу пусть не сама, а через имеющего наследные права отпрыска, она скоропостижно скончалась вместе с дитём. Российская история продолжила свой путь в духе Императора-купца, смертную казнь запретившего, но не гнушающегося деликатными услугами особого свойства. У правителей другая мораль, ими самими устанавливаемая.
За время с начала болезни Павла Второго и окончательного утверждения власти регента неожиданно расцвели промышленность, ремёсла, торговля, собран был обильный урожай. Дела у частных предприимчивых людей особенно хороши, когда правители, погрязшие в своих дрязгах, не вмешиваются в текущую жизнь народа, создав лишь надлежащие условия. Возобновилось железнодорожное строительство, а запрет османских властей на проход русских торговых кораблей через Босфор оказался обойдён нетривиальным способом. Британский поданный Джон Мэрдок основал на средства российского купечества компанию «Скоттиш стимшипс» для перевозок морским путём русских товаров с черноморского побережья в страны у Средиземного моря. Турки скрипели зубами, но сделать ничего не смогли: препятствовать проходу судов под английским флагом они не осмелились.
Страна заживила рану, причинённую войной, и двинулась дальше в будущее, ожидая очередных каверз от алчных и завистливых соседей. Однако предвестники новой беды прилетели не из Порты, Польши или Швеции, а из другого государства, доселе давно не выказывавшего открытую вражду, а в наполеоновских войнах считавшегося союзником.
Часть третья. Рычание заморского льва
Глава первая, в которой Паскевич встречает старого знакомого, не слишком этому радуясь
Пасха 1839 года выдалась в Гомеле тёплой и солнечной. Высокий Петропавловский Собор, вознёсшийся над рекой близ дворцовых стен, заполнился нарядными городскими обывателями и приезжими из окрестных поместий. Христос воскресе! — Воистину воскресе! — неслось со всех сторон.
Под размеренный колокольный звон к храму прошествовали некоронованные гомельские монархи — князь Иван Фёдорович Паскевич с супругой Юлией Осиповной, сопровождаемые изрядным числом родственников и гостей уездного предводителя дворянства. Погода впервые позволила прекраснейшей части рода людского выйти на улицу в платьях, заготовленных за зиму к тёплой поре года. Глаз не оторвать от чинно вышагивающего цветника: в этом году в моде высокие талии, пышные юбки, отдалённо напомнившие кринолины прошлого столетия, широкие роскошные рукава. На головах надеты шляпки, каждая — произведение искусства. Венчают великолепие распущенные лёгкие зонтики, сберегающие алебастрово-белую нежную кожу от подлых солнечных лучей.
Три дочери фельдмаршала, невесты на выданье от шестнадцати до восемнадцати годков от роду, старательно показывали, что не замечают пылких взглядов провинциальных кавалеров. Доставшееся от батюшки высокое происхождение да богатство, правильность черт и стройность фигуры позволяют барышням надеяться на более интересные партии. Охота за женихами ведётся в Москве, Питере да Варшаве; Гомель — не более чем летняя дача.
Столь же безнадёжны чаяния бледного юноши Феди Достоевского. Вот он вышагивает под руку с Анастасией Ивановной, словно аршин проглотивши и не смея слово сказать. Средняя дочь Паскевича давно заявила, что видит в начинающем литераторе лишь брата. Да и сам он не слеп и не безумен — как может приживальщик мачехи, не родной и не имеющий прав ни на строгановское, ни на княжеское наследство, о чём-то нескромном мечтать? Пусть не бесталанны его писания, однако в наше время любой, перо держать умеющий, строчит день и ночь, осаживая толстые журналы и издательства. Даже великий Пушкин живёт с поместий, а не плодами музы.
Одежды Достоевского и других господ — удлинённые сюртуки до середины бедра — гораздо светлее, нежели принято в холодное время. Даже столь консервативная вещь, как авантажная мужская мода, не может противиться весенней лёгкости цветов, оттенков, тканей, фасонов. Помещики, предпочитающие прогулки в седле удобным коляскам, носят английские лёгкие пальто для верховой езды и клетчатые бриджи, заправленные в высокие сапоги — не слишком празднично, но весьма практично на раскисших либо разбитых провинциальных дорогах.
Отдельной стайкой, выскользнув по случаю праздника из-под недремлющего ока гувернёров и бонн, бегают и шалят дети юного возраста. Восьмилетний Володя, единственный сын Юлии Осиповны и наследник графского титула её покойного мужа, стеснённый сюртуком, превратившим мальчика в комичное подобие взрослого барина, подошёл к нищим на паперти. Раздавая монетки Христа ради, он встретился глазами с жутковатым взглядом высокого человека, неуместно затесавшегося среди церковных попрошаек.
Несмотря на заношенный кафтан непривычного иноземного вида и странную круглую шапку на голове, язык не повернулся бы назвать этого мужчину обыкновенным нищим. Прямая осанка бывает лишь у военных, не привыкших кланяться ни врагу, ни пулям, либо у цивильной знати, предпочитающей принимать, а не отбивать поклоны.
Вероятное военное прошлое оставило отпечаток огромным шрамом на половину лица, который не смогла укрыть даже густая русая борода-лопата, и повязка, обернувшая место левого глаза. Второй смотрел с затаённым огнём, без тени покорности и кротости, с коей принято просить и получать милостыню.
— Как зовут тебя, отрок?
Володя вздрогнул. Голос странного человека, глуховатый и властный, напугал его.
— Владимир… Строганов.
— Владимир Александрович? — снова спросил увечный. Тон не громкий, не приказной, однако ослушаться и не отвечать нет никакой возможности.
— Да…
Юный граф поразился, откуда бродяга знает его отчество. Они с матерью и Федей всего месяц как перебрались в Гомель. Зачем христарадничающим такие подробности о семье? Крохотный жизненный опыт не подсказал ещё, что излишняя осведомлённость незнакомца таит угрозу, да и не чувствовалось в бывшем военном враждебности. Однако с ним Володя ощутил себя неловко, словно холодным ветерком повеяло.
— Хорошо относится к тебе князь? Вниманием не обижен?
Только теперь дворянская гордость напомнила: кто таков этот субъект, что присваивает право лезть в дела семейные? У мальчика от негодования даже уши порозовели.
— Простите, милостивый государь… — начал было он отповедь, но появился фельдмаршал, заметивший странную задержку у шеренги нищих, оттого оставивший на минуту дам и гостей.
— Володя! Ты одарил их монетами? Пойдём, ты не должен разговаривать с незнакомцами.
Князь осёкся. Он увидел увечного. Не может быть! Мало ли похожих людей…
— Вот и встретились, Иван Фёдорович. Принял ваше приглашение, в малороссийских степях полученное, навестить в Гомеле с супругой. Pardon, она несколько раньше меня приехала.
Паскевич совладал с собой и услал пасынка. Воскресший же на Пасху ветеран Турецкой войны добавил:
— Покорно прошу простить, что не с парадного входа. В таком виде могу вас compromettre, фельдмаршал.
— Нам нужно безотлагательно поговорить, — побледневший князь панически оглядел нищих, внимательно прислушивающихся. — Завтра, здесь же.
— Oui. Сomme il vous plaira[14]. Христос воскресе, Иван Фёдорович.
Единственный глаз бродяги, удивительно владеющего французским языком, проводил поспешно удаляющегося предводителя уезда. Ровная спина, решительный шаг, гордо вздёрнутая голова… И неуловимое чувство растерянности в силуэте. Князь венчан с чужой женой при живом муже! Какой скандал!
Понедельник после Пасхи оставляет осадок разговенья и возвращения к будням. Неожиданно перебрав вечером и вызвав оттого недоумение близких, фельдмаршал наутро отправился к храму. Строганов перехватил его по пути. Иван Фёдорович обратил внимание, что сторож Онисим, изгонявший из дворцового парка нечистую, по его мнению, публику, сробел и даже не приблизился к графу, шестым чувством ощущая непростоту бедно одетого мужчины, к коему нельзя подойти с обычными мерками.
— Доброе утро, князь.
— Александр Павлович! Объяснитесь, что это значит? Вас не было столько лет…
— …Что меня списали в умершие. Понимаю, Иван Фёдорович, как и то, что жизнь без меня устоялась, а воскрешение дорогого покойника никого не обрадует и лишь внесёт ненужное смятение.
— Зачем же так!
Строганов грустно усмехнулся в кудлатую бороду. Левая, обожжённая часть лица не шелохнулась, отчего кривая улыбка приобрела зловещий оттенок.
— Пройдёмте на мысок, фельдмаршал, не будем привлекать лишнего внимания. Вряд ли общество бродяги, похожего на пирата южных морей, упрочит вашу репутацию, — он тронул повязку на левой глазнице. — А говорю я без обиняков, чтобы не осталось неясностей.
Палкой, заменяющей трость, граф-оборванец поддел камушек на дороге. В неловком молчании они спустились к берегу, князь не осмелился продолжить неприятный разговор, а его спутник, казалось, всецело ушёл в созерцание живописного пейзажа.
— Хорошо как у вас! — наконец, произнёс он. — Особенно по весне, когда на деревьях свежая листва. На юге всего этого мне не хватало. Да вы не волнуйтесь, Иван Фёдорович, для общества я воскресать не собираюсь, иначе первым делом объявился бы к кузену Григорию Александровичу или к сёстрам.
— Отчего же?
Несостоявшийся покойник присел на борт лодки, вытащенной из воды.
— Главным образом, из-за Юлии Осиповны. Да-да, щажу её чувства.
— Зря вы так, Александр Павлович. Мы живём замечательно, но о вас она ни разу дурного слова не сказала, печалилась, в особенности в первый год.
— Охотно верю, — казалось, вздрогнула и изуродованная щека. — Запомните, тот Строганов действительно умер. Из османских земель вышел совсем другой человек, отнюдь не только внешне. Главное же — она правильного католического воспитания. Сочтёт, что венчание и сожительство с вами при живом муже покрыло смертным грехом, легло несмываемым позором на неё и проклятием на нашего сына. Посему моё нежданное воскрешение, тем паче в столь неприглядном виде, не уменьшит её скорбь, а испортит ей всё. Так что увольте, остаюсь в усопших.
— Тогда зачем вы здесь? Хотели сына увидеть? В деньгах нуждаетесь?
— Вы ответили сами на оба вопроса, Иван Фёдорович. К кузену за деньгами обратиться не могу, ибо он не заинтересован хранить моё инкогнито. Вы как никто другой поможете тайну сберечь. К тому же предпочли бы, чтобы ни вчера, ни в будущем я не попадался вам на глаза.
— Сударь! Что вы себе позволяете? — вскинулся фельдмаршал. — Зачем обвиняете меня в низости? Вас не было почти шесть лет! Я искренне горевал о вас, заботился о ваших вдове и сыне…
— Полноте, Иван Фёдорович, — перебил Строганов, чьи учтивые манеры пострадали за годы плена. — Никто и ни в чём вас не винит. Однако, побывав в аду, я разучился поддерживать куртуазные беседы и говорю прямо: до вчерашнего дня ваша жизнь была много проще. И вы не посмеете это отрицать. Поэтому давайте сведём наше общение au minimum.
— Простите… — опомнился князь. — Так что вам угодно?
— Немного. Содержание, паспорт городского обывателя. Со своей стороны обещаю не докучать, за сыном наблюдать издалека и не столь неловко как вчера.
Паскевич честно рассказал, что доверительно управляет финансами Юлии Осиповны, наследовавшей и шишковские, и строгановские капиталы. Только от последних, умело вложенных ещё при покойном государе Павле Втором, доход превышает два мильёна рублей в год.
— Столько не надобно, но слышать отрадно.
— Простите, но я не смогу достать мильён наличными. Оттого, что я распорядитель, не могу же забирать деньги как заблагорассудится. Пятьсот тысяч, не более.
Новые российские рубли, введённые взамен обесцененных Пестелем, получили большую крепость, нежели в александровские времена. Посему полмиллиона — весьма изрядная сумма.
Оговорив самые животрепещущие темы, бывшие сослуживцы несколько успокоились. Фельдмаршал рассказал о неожиданной опале. Оказывается, и камарилья регента, и думское большинство вдруг начали опасаться фельдмаршала, способного поднять и повести за собой войска, как случилось при отправке Шарлотты в монастырь.
— Потому что нет войны, Иван Фёдорович. Годков-то вам сколько?
— Пятьдесят семь. На двенадцать старше вас.
— А Ермолову, который в фаворе, шестьдесят шесть. Он в Госсовете, стало быть — в почётной отставке. Других заслуженных полководцев в России просто нет. Так что, случись серьёзная заваруха, регент и Дума живо о вас вспомнят, призовут как Кутузова император Александр.
— Доживу ли, — Паскевич с долей уныния во взоре глянул на дальний берег Сожа. Как ни роскошно здесь, старый вояка не хотел до могилы созерцать гомельские пейзажи. — Расскажите свою одиссею, Александр Павлович.
— Извольте. В двух словах трудно. Татары подобрали меня без памяти на месте десанта, приняв за британского офицера-наёмника Джонатана Чипмена. В Кефе только пришёл я в себя, догадавшись, что до поры лучше оставаться англичанином, нежели признаться в истинном имени и звании. Болел долго, пустую глазницу немилосердно жгло. Думал, начался антонов огонь, но Бог миловал, зажило всё со временем. Турки и татары злобствовали весьма; не могли смириться с утратой Крыма, понимая, что это надолго.
— Хочется верить, что навсегда, — вставил князь. — Неужто жертвы напрасны?
— Моё русское происхождение вскрылось в Константинополе. Некий англичанин, хорошо знавший Чипмена, сумел вывести меня на чистую воду и с преспокойной душой отдал османам на съедение.
— Христианин? — изумился Паскевич.
— А то как же. Ужасы следующих лет и описывать не буду. Тело покрыто рубцами изряднее чем лицо. Жизнь стала чуть легче, когда меня продали на юг Анатолии, к одному бею, желающему для сыновей европейского образования. Мне же поставил условие: принять ислам.
Фельдмаршал с ужасом и недоверием глянул на странную шапку Строганова. Неужели? Крещение иудеев или магометян в православие встречается, хоть и редкость это, а наоборот…
— Я не скажу, что отрёкся от Христа. Чтение Корана на многое мне открыло глаза. Мусульмане верят в Бога единственного, ничем не отличного от нашего Бога-отца. Исса, как они произносят имя Иисуса, у них в числе почитаемых. Оттого понял я, что нету разных богов у наших народов, есть разное постижение божественной сущности.
— Странные вещи вы говорите. Под знаменем Пророка и с Кораном в руках они стремятся изничтожить христиан!
— Жаждут войны и захватов их султаны, шахи, белербеи. Народ там — послушное стадо, ислам прибавляет ему покорности. В общем, как истый мусульманин, я отправился в хадж по святым местам, включая Иерусалим. Оттуда в Газу, где смог сесть на английское судно, идущее на острова. Думал, в Лондоне найду того лейтенанта Гладстона, памятного по Константинополю. Увы! При скудости средств, что были в наличии, за месяц я лишь узнал, что в метрополии его нет. Куда делся подлец, мне не ведомо. Наконец, увидел моряков из «Скоттиш стимшипс», они помогли вернуться. Инкогнито до поры до времени не раскрывал, а когда увидел номер «Московских ведомостей» со светской хроникой, понял — и в дальнейшем не буду. Сознавал, спору нет, что Юлия Осиповна может считать меня погибшим и быть свободной в деяниях. Но ваш марьяж меня потряс, не буду скрывать. Что только не передумал! — Строганов вздохнул, усмиряя вновь поднимающееся волнение души. — Однако дорога от Одессы только Киева быстра, по железной дороге. Дальше до Гомеля — на перекладных. Охолонул, успокоился и решил не портить вам жизнь.
— Благородно, Александр Павлович. Но… Как, по-вашему, я должен себя чувствовать в опочивальне с супругой боевого товарища?
— Бросьте, фельдмаршал. Я знаю, вы не из легковесных ловеласов, однако многие, особенно по молодости, без малейших угрызений совести навещают будуары и альковы замужних дам. Вы же — без злого умысла. Пути Господни неисповедимы, но, думаю, Бог вас простит.
Иван Фёдорович обхватил голову руками.
— Всё равно — грех. И о нём даже на исповеди признаться нельзя, разве что на смертном одре. Юлия почувствует, что от неё скрываю важное. Граф, скажите, где вы остановились? Впрочем, поселитесь-ка в меблированных комнатах, адрес я вам дам. Возьмите тысячу, сами понимаете, полмиллиона за день и даже за неделю не соберу. И документы — дело решаемое, однако же не минутное.
Пришло время расстаться. Строганов помедлил, потом с чувством пожал руку Паскевичу.
— Рад, что не разочаровался в вас, князь. Хотя очень трудно разговаривать с мужчиной, делящим ложе с моей женой. Вы — достойный человек.
— Как же иначе возможно, Александр Павлович?
— Очень даже возможно, сохраняя благостную мину и утончённые манеры. Английский джентльмен вроде того же Гладстона наверняка попытался бы убить меня, обезопасив свои деньги и семью. Просто бизнес, ничего постыдного, и после сделанного не забыть выпить пятичасовой чай с молоком — five o'clock. Такие вот они христиане, не считают рождённых вне их проклятого острова достойными человеческого отношения. Всего доброго, Иван Фёдорович.
Строганов первый поднялся и ушёл, а Паскевич со стыдом признался себе, что у него мелькала подленькая мыслишка… Нет, конечно, не об убийстве графа. Скорее — лучше бы тот действительно оставался в покойниках.
Александр Павлович не выдал истинных чувств, сохраняя видимое спокойствие. Он не просто страдал — его разрывало. Увидев в газете заметку о счастливой княжьей семье, готов был руки на себя наложить. Годы в османском аду лишь одна мысль удержала от пропасти безумия — увидеть жену и сына.
Ужасная насмешка судьбы привела Юлию Осиповну в объятия положительного человека. Был бы подлец, обманщик, граф немедля бы вызвал его на дуэль или даже зашиб из-за угла. Годы плена сломили мораль. Убей или умри, если нет иного выхода, доброму христианину, живущему в России, да и в иной культурной стране, сие не понять.
Но невозможно поднять руку на Паскевича, который искренне поддержал перед крымскими боями, дал возможность очистить имя, отличившись на поле брани, утвердил командирский авторитет, позволив расстрелять бунтовщика-офицеришку. Наконец, сказал перед Крымом, что желает видеть Строганова своим другом.
Юлия выглядит если и не вполне лучащейся счастьем, то удовлетворённой жизнью. Володя хорош, вид имеет здоровый, Федя вырос и скоро, наверное, сдержит торжественное детское обещание написать об увиденном при Республике. И над всем этим царит Паскевич, бог и государь маленького уездного мира.
Как, как вернуть семью? Как обнять жену, не снеся хрупкий карточный домик её благополучия? Получить участие в воспитании сына, который уж и не помнит родного отца, пусть и носит его фамилию, а папой называет Паскевича…
Понимая, что не отступится, терзаемый видом счастливого соперника, без вины виноватого в свалившихся бедах, Строганов поклялся себе, что однажды он решит эту загадку. Каким образом — даже представить пока не может.
В течение месяца они встречались ещё трижды. Князь выправил боевому товарищу бумаги на имя мещанина Трошкина Александра Порфирьевича и купил у сего недавно не существовавшего подданного Российского Императора некое произведение искусства за баснословные двести пятьдесят тысяч рублей, на оставшуюся половину выписал вексель с условием не видеться год. Однако судьба вывернулась так, что Паскевич сам же нарушил это условие.
Глава вторая, в которой фельдмаршал обращается за помощью
«Александр Порфирьевич! Случилось происшествие чрезвычайной важности. Так вышло, что кроме вас мне не к кому обратиться; заклинаю — отложите отъезд и уделите мне время».
Вместо подписи — вензель и латинские буквы FP.
— Епистолию изволите написать али так что передать? — дворцовый сторож Онисим, и в старом кафтане распознавший в Строганове птицу высокого полёта, говорил теперь почтительно, чуть ли ни как с самим фельдмаршалом.
Александр Павлович с лёгким раздражением глянул на сундучок и саквояж, собранные в дорогу. Но отказывать Паскевичу нельзя — слишком многое от того зависит. Да и по пустяку он на подобный шаг не пойдёт, сам горел нетерпением избавиться от «мещанина Трошкина».
— После обедни жду его, — Строганов не стал марать бумагу.
Фельдмаршал выглядел растерянным и смущённым, быть может, ещё больше, нежели в пасхальный день. Он промокнул пот на полнеющем лице и извлёк конверт, перед вручением рассказав пренеприятную историю.
— Единственный сын мой Фёдор, шестнадцати лет, в Англии обучается, в Королевской военно-морской академии. Должен был в июне прибыть на вакации. Однако получил я такой конверт, не из Лондона — из Варшавы. Вы же английским отлично владеете? Прочитайте, прошу вас. Я в смятении, поверьте, в полном расстройстве чувств.
Лист бумаги содержал послание без даты и подписи, начертанное настолько каллиграфическим почерком, что сравнивать его с письмами других людей — заведомо бесплодное дело. Там содержалось приглашение прибыть в Лондон не позднее конца мая сего года. В противном случае отправитель сего послания не может гарантировать, что Фёдор Паскевич летом вернётся в Россию. Заканчивалось письмо категорическим предписанием не предавать историю огласке, иначе судьба Фёдора ещё более осложнится.
— Смею надеяться, никто другой не осведомлён?
— Как можно, Александр Павлович!
— Порфирьевич. Сам ещё не привык. Гнусная история, однако же. А вы не верили мне, что среди джентльменов встречаются бизнесмены без чести и совести.
Князь, стоявший до этого среди комнаты и не приглашённый присесть, снял цилиндр и тяжело опустился в кресло.
— Понимаю, моя просьба кажется достаточно неуместной, учитывая деликатный характер наших отношений… Однако я в панике, не буду скрывать! А вы — единственный, кто освоился в Лондоне. И кому я могу довериться. У вас же тоже единственный сын, граф!
— Не надо взывать к моим чувствам. Лучше скажите, на какое моё участие вы рассчитываете?
— Очевидно же! Сопровождайте меня в Англию!
— Не лучшая идея, князь. В письме недвусмысленная угроза — не предавать дело огласке. Наше совместное появление как раз и есть нарушение сего требования.
— Так что же делать? — всплеснул руками огорчённый отец. — В полицию идти? По российскому Уложению о наказаниях незаконное удержание подданного есть малозначительное деяние, коли нет свидетельств насилия или дурного с ним обращения. Да и Англия — иная страна!
— Вы не поняли, сударь. Я так или иначе собирался в Лондон, там есть неоконченное дело. Выезжайте когда сможете и по прибытии дайте объявление в газетах — русскому князю требуется переводчик. Заодно наши злоумышленники уведомятся, что вы прибыли.
— Спасибо! Я знаю, знаю, — Паскевич даже подскочил. — Вы ничего не сможете гарантировать. Однако за участие grand merci. Так важно будет знать, что я не одинок. Кроме лакея никого с собой не возьму. Александр, гм, Порфирьевич, раз уж вы согласились, как вы думаете, что могут затребовать эти негодяи?
— Право не знаю, что вам ответить. Случай, как говорят сами англичане, unprecedented[15]. У тех же турок кража мальчиков для обращения в янычары — обычное дело, и девочек для гаремных утех, а также для продажи в рабство. В рыцарские времена британские бизнесмены брали в плен рыцарей и отпускали за выкуп.
— Полагаете, будут требовать деньги?
— Сомневаюсь. Но нелишне будет располагать изрядными средствами. В этой стране невозможное сделать за деньги получается за очень большие деньги. Их пословица. Думаю, от вас потребуют особого рода услуг, возможно — в ущерб интересам России. Чисто ради денежного выкупа скорее бы прихватили кого-то из демидовских отпрысков, там богатства не чета нашим. А ещё — будьте готовы к любым, в том числе самым крайним средствам. Они переступили черту дозволенного, сделав один шаг. Вы согласитесь ради спасения сына шагнуть вглубь тьмы десять раз?
— Если нужно повторить злодейство и истребить британских младенцев подобно царю Ироду — не отступлю.
— Надеюсь, до этого не дойдёт. Но вы должны быть настроены по-боевому, а не клянчить снисхождения у бесчестных деятелей. A la guerra com en la guerra.
— Только так! Спасибо, Александр Порфирьевич. До встречи в Лондоне.
Паскевич, взяв себя в руки, бодро отправился домой. Как бы дурно ни складывалось сие предприятие, в одном Строганов прав — предстоит битва без правил. От неё зависит жизнь единственного сына. Поэтому победитель французов и осман должен прибыть в Лондон воином, а не просителем.
Очередная смена настроения у мужа и его предстоящий торопливый отъезд вызвали массу вопросов у Юлии Осиповны, которые она не решилась задать вполне, ограничившись лишь целью вояжа. Со дня Пасхи князь сам не свой, особенно тревожно, что старается не подавать виду.
Связано ли это с незнакомцем, о котором с волнением рассказал Володя? Иван Фёдорович только отмахнулся — подумаешь, бродяга из бывших унтеров. Слишком решительно и нервозно отмахнулся.
Потом был сон — Александр Строганов, точно такой же, как перед ссылкой в Шушенское. На пять лет, ты будешь ждать? Гришка поведал, что тело, привезённое в фамильную усыпальницу, обгорело настолько жутко, что никакой уверенности нет. Однако на той артиллерийской батарее у трёхфунтовых пушек все полегли. Выходит, граф мог быть похоронен в общей могиле, а в Москву приехал безвестный офицер или даже осман.
А ещё безумная надежда, что жив каким-то невероятным чудом, в плену или в рабстве, не может дать весть. Любимый, ты просил обождать из ссылки пять лет! После Пестеля всего год потребовался. Сейчас она и ждала пять, только осенью тридцать восьмого уступила мягкому, но настойчивому ухаживанию Паскевича, возведённого при регенте в княжеское достоинство за день до отставки.
До сих пор у них отдельные спальни, а ночные визиты редки. Иван Фёдорович старше, скоро превратится во второго Шишкова, требующего лишь чай с вареньем. Он занял место подле, но не в сердце, это ранит его и тревожит её.
И нет доверия между супругами. Видно, что случилось нечто серьёзное. С Фёдором? Князь молчит. Строганов всегда держался открыто, был понятен, даже не размыкая уста.
Но его не вернуть. На пороге ещё не старость — поздняя зрелость. С Паскевичем Юлия Осиповна не чувствует себя столь одинокой, и к Володе он относится хорошо, как и она к девочкам. Быть может, не стоит гневить Бога и просить в жизни большего. Только образ покойного графа слишком сильно стал преследовать по ночам. Она сходила в храм, поставила свечку за упокой его души — не помогло.
Всем хорош Гомель, однако расположен несколько на отшибе. Железной дороги нет, да и вряд ли протянут её к уездному городу. Поэтому путь в Европу кружной — сначала на пароходике до Киева, оттуда на поезде до Варшавы. Дальше к Па-де-Кале по-старинному, в экипаже. Невольно сравнивая Россию с другими странами, новоявленный мещанин Трошкин радовался за Родину. Быть может, на Альбионе рельсы можно встретить почаще, это оттого, что остров невелик. Общая протяжённость путей на российских просторах никак не меньше. В Пруссии и Франции строятся лишь первые линии, турки и не помышляли ещё.
А как выросла скорость! На смену компаундам, памятным по бронеходным экипажам, пришли машины тройного расширения, разгоняющие поезд до невероятных шестидесяти вёрст в час! «Птица тройка, кто тебя выдумал?» — спросил как-то Николай Васильевич Гоголь у Мирона Ефимовича Черепанова. Хотя, быть может, разговор был не о трёхцилиндровом механизме, но очень уж строки гоголевские в тему попадают: «Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, всё отстаёт и остаётся позади».
После русских железных путей Пруссия, которую столь почитал император Павел Первый, показались патриархальной. Вагон поменялся на дилижанс, двигающийся медленно и с долгими остановками, из-за чего часты ночёвки в трактирах, где царят тяжёлые запахи немецкой кухни.
Как-то германский стол был описан Иваном Сергеевичем Тургеневым, путешествовавшим по Пруссии. Его, как и Строганова кормили водянистым супом с шишковатыми клёцками и корицей, разварной говядиной, сухой как пробка, с приросшим белым жиром, ослизлым картофелем, пухлой свёклой и жёваным хреном. Пиршество скрашивал посинелый угорь с капорцами и уксусом, жареное с вареньем и неизбежная «mehlspeise», нечто вроде пудинга, с кисловатой красной подливкой.
Неудивительно, что Франция, предмет обожания нашего дворянства, после скудного германского гостеприимства показалась раем. Но тоже — конный экипаж и скорость движения, неизменная с неторопливого XVIII века. В современность граф вернулся, лишь переправившись через Канал и усевшись в лондонский поезд.
Дорога располагает к раздумьям. Русский путешественник, несколько опрометчиво обещавший поддержку Паскевичу, вновь пробовал разобраться в своих чувствах.
С точки зрения чистого разума князя не в чем упрекнуть. Более того, для Юлии Осиповны, оставшейся без мужа, но среди его родни, Иван Фёдорович — лучшая партия. Он порядочен, умён, заботлив. Наверное, нежен в опочивальне. При этой мысли кровь приливала к лицу. Представляя единственную и любимую женщину в объятиях другого, Александр Павлович каждый раз скрипел зубами и до крови впивался ногтями в ладони, сжимая кулаки. В такие минуты логика не владела им; он готов был убить и Юлию, и её нового супруга, и себя заодно, потому что с подобной тяжестью на сердце жить невозможно! В Гомеле в присутствии Паскевича держал себя в руках, не позволяя воображению разгуляться и получить власть над рассудком. Старался поменьше смотреть на князя, ему в глаза, которые видят её каждый день, на его руки, которые вправе к ней прикасаться… И теперь слово чести заставляет выручать единственного наследника человека, коего не за что упрекнуть и которого он ненавидит.
Ничего нового не узнав про Гладстона, о гардемарине Паскевиче он смог навести некоторые справки, наняв девицу полусвета, которая заявилась в Королевскую военно-морскую академию и представилась брошенной возлюбленной, на которой русский барчук обещал жениться, но сбежал. Узнав об отплытии, установить детали похода корабля не составило труда. Поэтому, прочитав объявление в «Ивнинг пост» о найме переводчика, он пришёл к мужу собственной жены не с пустыми руками.
— И так, господин наниматель, midshipman[16] Фёдор Паскевич убыл из Портсмута на учебном 38-пушечном фрегате Королевского Флота «Шеннон» под командованием капитана Броука. Корабль проследует до Южно-Африканской колонии и вернётся назад не ранее чем через три недели.
— Не понимаю! — поразился обеспокоенный отец. — Я три дня в Лондоне, угрожавшие мне личности молчат. Ежели я откажусь уступить их требованиям, как они смогут ему навредить на корабле, когда он в плаваньи?
Строганов качнул головой. В сером английском костюме, отличных ботинках, с цилиндром и тростью он ничем не походил на бродягу с паперти Петропавловского собора в круглой магометанской шапке. Появившись в отеле «Браунз» неподалёку от Пикадилли, где каждый швейцар выглядит величественнее дворецкого из лучших английских поместий, носитель простецкой фамилии Трошкин никак не мог скомпрометировать знатного постояльца.
Он чинно уселся в кресло, изящно опёрся шляпой о колено, бросив в неё тонкие шведские перчатки. Дорогая трость с набалдашником в форме головы льва небрежно прислонилась сбоку. Пышные волосы с проседью ухожены не домашним гребнем, а причёсаны дорогим куафёром, оттого укладка превосходна, и с её тщательностью соперничают лишь ногти, каждый из которых был в своём роде совершенством.
Густая и седая борода, аккуратно подстриженная, частью закрыла ужасный шрам-ожог, а тёмные стёклышки на глазах скрыли отсутствие одного из них. Граф напоминал дельца из Сити, пострадавшего за бизнес на очередной опиумной войне. Он, поблагодарив Паскевича, взял сигару и стакан с виски, управляясь с ними так, словно не было шестилетнего перерыва, а Аллах не возбраняет спиртное.
— Ждём-с, когда они объявятся. На шутку дурного вкуса то анонимное послание не похоже. — Строганов вдруг сменил тему. — Скажите, князь, вы полагаете, что на борту «Шеннона» мальчик в безопасности, насколько вообще безопасно скакать по реям в пятнадцати ярдах над палубой, рискуя упасть на неё или быть смытым за борт?
— Он грезил о море, я не мог его удержать.
— А Санкт-Петербургский Морской кадетский корпус не подошёл. Ладно, об этом поздно сожалеть. И так, некоторое время ни мы, ни наш невидимый противник не можем на что-то повлиять. Имея ковёр-самолёт и перехватив фрегат где-нибудь, скажем, у Канарских островов, мы не сможем уговорить капитана отпустить мидшипмана Паскевича в объятия батюшки. Кэп принял команду и обязан вернуть её в Портсмут-Харбор, кроме разве что представившихся в походе. Даже если капитан в сговоре со злоумышленниками, он никак не сможет получить от них весть, что делать с Фёдором.
— Стало быть, Александр Порфирьевич, самый опасный и тонкий момент — прибытия корабля в Портсмутскую гавань. Его могут не только похитить, но и пробовать убить на месте.
Голос Паскевича дрогнул. Он нервно поправил жёсткий галстук, удачно подобранный под синий сюртук. Впрочем, собственный внешний вид его интересовал сейчас в наименьшей мере.
— Да! — безжалостно подтвердил Строганов. — Можно заранее добиться аудиенции к одному из Лордов Адмиралтейства и получить приказ на списание гардемарина с корабля, после чего нанять какую-нибудь посудину на южном побережье и срочно двигаться навстречу «Шеннону». Полагаю, его не сложно перехватить. Однако даже если мы снимем Фёдора с борта фрегата, проблема не решена.
— Почему вы так считаете?
— Слишком хорошо знаю англичан. Они понимают язык силы и денег. Сбежав, мы покажем слабость. Пусть увезём Фёдора домой, разве они не смогут там его достать? Вас, девочек, Юлию Осиповну?
— Не могу поверить. Безумие какое-то. Первобытная дикость.
— Нет, князь. По мнению островитян, это business. Джентльмены соблюдают приличия только между собой. Мы, китайцы, османы — лишь расходный материал, и не слишком ценный, так как сам произрастает. Поэтому подставить другую щёку после удара по первой — это только одна сторона Божественного учения. На Востоке я узнал другую: убей неверного. В истинном смысле, а не в извращённом шахами, султанами и пишущими на заказ учёными-теологами, под неверным понимается безбожник. Угроза расправы над отпрыском ради получения выгоды от отца есть преступление против Бога. Давайте же объявим антихристам священную войну — газават.
Паскевич растерянно моргнул. Европейский вид Строганова никак не вязался с азиатской жестокостью его слов. Здорово, если циничным и не ведающим сантиментов бизнесменам встретился столь же беспринципный противник. Однако как бы Фёдор не стал первой жертвой этой войны, которую граф не прочь развязать. Уж не помутился ли у него разум за годы плена и лишений?
— Нельзя давать им слабины. Пустое письмо, пара угроз — и вы готовы буквально выкрасть чадо с корабля? Они должны страшиться одной мысли обидеть русского, — Строганов улыбнулся половинкой рта. — Вы малоросс? Не важно. Пусть принимают нас как единое и грозное. На сём разрешите откланяться. Оставляю свой адрес. И последнее, князь, извольте бывать в обществе, посещайте приёмы. Словом — те места, где вам не сложно передать приглашение наведаться в некое место. Пусть дичь проявится, считая себя охотником.
После ухода Строганова князь без сил упал на кушетку и рванул галстук, стягивающий ворот сорочки. Роскошный номер отеля «Браунз» показался вдруг тюремным казематом. В одном увечный граф не ошибается — надобно выяснить, кто стоит за угрозой. А далее страшно представить, какие он предложит меры. Судя по зловещему огоньку в единственном глазу, тот готов в одиночку объявить войну Англии подобно барону Мюнхгаузену, вовсе не рассчитывая, что империя сдастся без боя. А ведь не за этим сюда примчался снедаемый тревогой отец — только выручить сына из западни, который, став жертвой высокого положения фельдмаршала, может вдобавок пострадать и от графских безумств.
С этого дня Иван Фёдорович не пропустил ни одного приёма, устраиваемого русской дипломатической миссией или с участием русских господ, сказываясь о причине приезда в Лондон приглядыванием недвижимости. Он даже шутить изволил: основать, мол, хочу традицию, согласно которой обеспеченные российские подданные, отошедшие от государевых или торговых дел, предпочтут купить особняк в Лондоне и жить вдали от беспокойной Родины, вкушая блага передовой цивилизации. Обрастая знакомыми, а тем паче — желающими выгодно продать лондонский дом или усадьбу в пригороде, Паскевич был приглашён в клубы джентльменов, где его особенно тяготила неприятная обязанность изображать неуча, не освоившего язык Шекспира и чаще других повторять слова «Ай донт андерстэнд», намекая на необходимость серьёзных разговоров только через переводчика.
Возможно, опасная цель поездки тому виной, заставившая глядеть на британскую столицу не в самом оптимистическом свете — Лондон князю весьма не понравился. Во-первых, дым и копоть. Доки и причалы заполнили практически всё побережье Темзы, исключая небольшой кусок центральной части. Угольные буксиры снуют там без устали, смешивая выхлоп паровых машин с речным туманом, который серо-чёрной слизью пачкает улицы. Свою лепту вносят камины, единственное средство борьбы с вечной сыростью.
Ни в Париже, ни в Берлине, ни в других европейских столицах фабричные кварталы не бывают столь близко к центру. Это соседство не только в дурной атмосфере, но и в изобилии повозок, железнодорожных путях, перечеркнувших город железными шрамами. Поезд ходит даже по Сити, останавливаясь на станции «Финчерч стрит».
Кажется, сами лондонцы не замечают сей нелепости. Более того, намереваются строить подземную железную дорогу, где угольный дым не будет уноситься ветром, а скапливаться в огромных мышиных норах — tunnels, отравляя машинистов и пассажиров.
В центре чрезвычайно мало зелени. Если московские дворцы и особняки непременно окружены деревьями и газонами, здесь тротуар от самых богатых зданий отделён лишь узким палисадником. В других местах прямо от стен начинается булыжная мостовая. На узких улицах повозки едва разъезжаются, а смерть зеваки, случайно попавшего под лошадь кэбмена — обычное дело.
Лондон к тому же — торговая столица Западной Европы. Чтобы торговать, нужны товары, а для их хранения выстроено несметное количество складов. Так что скопища тёмных кирпичных и дощатых пакгаузов, бараков, депо, доковых и прочих складских сооружений, открытых хранилищ с бесчисленными рядами бочек, ящиков и мешков, придающих городу тоскливый вид чрезвычайно полезного для бизнеса и очень скучного места, наложили особый отпечаток на лондонских обитателей.
Англичане и одеваются так же — скучно и серо. У мужчин фраки потеснили рединготы. Короткие сюртуки носят клерки и мелкие буржуа. Кажется, что знаменитая английская шерстяная ткань бывает только чёрного и тёмно-серого цвета, мужские костюмы оживляются лишь шёлковыми жилетами.
Одежда для прогулок и верховой езды, включающая бриджи под высокие сапоги или ботинки, недавно дополнилась безвкусным головным убором — широкой шерстяной кепкой. Сомнений быть не может — она удобнее цилиндра, однако джентльмены с блинчиками на голове выглядят комично и не солидно.
И женское убранство не радует глаз. Вернулась мода на туго затянутые корсеты. К сожалению, британские леди в них выглядят не стройно, а задавленно. Их походка стеснённая, не грациозная, талия и тело над ней напоминают букву V, противоестественную в геометрической правильности. Ежели прохладная и сырая погода заставляет надеть пальто поверх платья и жакета, английская верхняя одежда для дам напоминает кроем те же сюртуки; цвета преобладают тёмные, не яркие и не маркие.
Только на балах и приёмах британские леди изволят одеть яркое, лёгкое и даже становятся немного похожими на женщин, но всё равно страдают в корсетных тисках, не в силах нормально дышать, двигаться, говорить или отведать что-то из лёгких закусок. Как же у них должен от этого портиться характер, не без содроганья представил Паскевич.
Леди и джентльмены, передвигаясь по лондонским улицам вне экипажа, не гуляют — шествуют. Либо торопятся по самым важным в мире делам. Даже выходцы из среднего класса, более того — из черни Вест-Энда, держатся с некоторым высокомерным достоинством. Как же, они сплошь англичане, владельцы четверти планеты.
Однако фельдмаршал приехал сюда не ради изучения нравов, любованья высшим светом и покупки ненужного дома. Через неделю визиты принесли плоды. Некий джентльмен передал приглашение встретиться по чрезвычайно деликатному и щепетильному делу.
Сэр Вильям, третий баронет Кунард и управляющий отцовской компанией «Кунард Стимшипс Лимитед», произвёл впечатление тёртого жизнью человека, несмотря на относительную молодость — неполные тридцать лет. Он решительно не походил на выходца из родовитой британской знати, имеющей предков чуть ли не от короля Артура и рыцарей круглого стола. Напротив, баронет явил собой типичный образчик новой формации, когда семейный бизнес, основанный на предприимчивости, а не на привилегиях, приносит изрядный капитал. Титулы даруются или покупаются позднее, порой ими больше дорожат, нежели доставшимися по наследству и безо всякого труда.
Отсутствие врождённого аристократизма сказалось в ношении одежды. Приличный костюм из дорогой ткани сидел мешковато, галстук норовил вздыбиться, словно намекая, что владельцу пристало выбрать наряд попроще.
Тяжкие труды, умноженные на заботы о сохранении и умножении семейной казны, проредили волосы Кунарда, протоптав глубокие залысины над чрезмерно высоким лбом. Широкое и простоватое лицо показалось бы приятным, если бы не взгляд, колючий и одновременно ускользающий. Сэр Вильям избегал прямого взгляда, скользя глазами по дорогой мебели из редких индийских сортов дерева, картинам, вывешенным прямо в кабинете, а не в галерее как принято у англичан, и десятку безделушек, словно видел их впервые и не устал любоваться.
Богатство сквозило изо всех углов роскошного особняка неподалёку от Гроув-Хилл-роуд в предместье Камберуэлл на южной окраине Лондона. Здесь нет вездесущей сажи, а зелёные холмы по соседству делают сей кусочек Англии пригодным для жизни. Князь убедился, что его пригласили явно не для того, чтобы расстаться с родовой недвижимостью. Хозяин этого поместья по меньшей мере не уступает размером капитала самому Паскевичу вкупе с приданым Юлии Осиповны. Значит, разговор о другом. Неужели о настоящей цели визита в Британию?
Баронет не стал ходить вокруг да около и принёс извинения за то, что русского фельдмаршала пришлось пригласить таким необычным способом, упоминая дальнейшую судьбу наследника.
— Ай донт андерстэнд, — привычно унизился князь. — Май инглиш бэд. Айм нид интерпритер[17].
Возможно, в другой стране вельможа с таким же культурным и общественным статусом попробовал бы другой язык, но не в Альбионе. Если существует английский, для чего, чёрт побери, учить другой? Пусть туземцы изучают английскую речь.
Кунард переглянулся с полноватым немолодым мужчиной. Тот досадливо и нехотя кивнул. Строганов, доселе остававшийся в курительной, был приглашён лакеем в кабинет.
Одетый на этот раз как ординарный клерк из Сити на фоне элегантного князя, он произвёл впечатление его наёмного работника. Некоторый диссонанс в картину внёс объёмистый саквояж, с которым interpreter категорически отказался расстаться.
— Где мой сын? Что ему угрожает? Что вам нужно? — прямо спросил Паскевич, прекрасно понявший предварительные манёвры баронета. Но того не просто было сдвинуть с намеченной линии.
— Позвольте представить вам моего старшего брата сэра Эдварда, второго баронета Кунарда, управляющего судостроительной компанией «Кунард док ярд лимитед». Мы хотели бы сделать вам чрезвычайно выгодное предложение.
Строганов перевёл, напомнив князю о договорённой стратагеме в основном вопросе. Тот снова спросил о сыне.
— Сэр Вильям, сэр Эдвард, его сиятельство настаивают на ясности в отношении мидшипмена Фёдора Паскевича. До этого он ничего обсуждать не намерен.
Иван Фёдорович чуть вздрогнул. Граф усилил напор, отступив от дословного перевода, тем начал свою игру. Что далее ждать от этого человека?
Братья снова переглянулись. Ответил старший.
— Курсант Паскевич находится на борту фрегата «Шеннон» в учебном плавании.
— Что-либо помешает ему отправиться домой на вакации после возвращения «Шеннона» в Портсмут?
— Мы рассчитываем избежать даже обсуждения негативных возможностей, — снова взял слово Вильям. — При наличии разума и доброй воли вашему сыну ничто не угрожает.
Следующую реплику Строганов буквально выдушил из князя, и даже англичане, не понявшие короткий русский диалог, заподозрили, что переводчик — не просто слуга.
— В таком случае я отказываюсь от любого сотрудничества категорически. Желаю знать: что будет с моим сыном?
— Возможны самые печальные последствия, — Вильям напустил на себя сожалеющую мину и по привычке посмотрел мимо собеседника на античный бюст.
— Вы убьёте его.
То, как изуродованный русский произнёс эту фразу, спокойно принимая будущую смерть юноши, на миг вывело судовладельца из равновесия. От его внимания не укрылось, что князь промолчал. Стало быть, переводчик — отдельная фигура. Как его, Troshkin? Имена обслуги запоминать не принято. Впрочем, с ним предстоит разобраться потом.
— Скажем так: вы более никогда его не увидите.
Как ни в чём не бывало, словно речь зашла о ценах на пеньку, русский продолжил:
— Тогда его светлость готов выслушать и обсудить ваши предложения.
Глава третья, в которой недостопочтимые джентльмены получают неожиданный ответ
Через три часа в номере отеля, снова обсуждая гнусную выходку английских торгашей, Паскевич, несколько оглушённый изрядным возлиянием коньяка, спросил:
— Ради всех святых, Александр, какого дьявола вы в самом начале спровоцировали негодяя на прямые угрозы?
— Потому что требовалось, чтобы баронет произнёс роковые слова не позднее чем через четыре минуты.
Он водрузил на низкий столик у камина свой объёмистый и тяжкий саквояж, с усилием вытащил из него железный ящик с коническим раструбом наверху.
— Не забывайте, Иван Фёдорович, мы живём в просвещённом девятнадцатом веке, полном великих изобретений и технических премудростей. Этот аппарат придумал французский механик Роже Брюно и продал его вместе с чертежами моему тогдашнему хозяину, бею, который для лучшего сохранения тайны приказал отравить инженера. Устройство просто и остроумно, не сомневаюсь, что в Европе его снова изобретут. Лондонский часовой мастер за немалые деньги изготовил сию снасть за неделю, однако барабан я заказал в ином месте и сам собрал воедино. Послушаем!
Страшно искажённый, перебиваемый треском, но при этом вполне различимый голос сэра Эдварда повторил в гостиничном номере главную угрозу: вы более никогда его не увидите.
— Грандиозно! — воскликнул князь. — Сейчас же идём в полицию!
— Увы, — остудил его безжалостный граф. — Там нас подымут на смех. Британская полиция не видела никогда фоноскопического аппарата. Подлец Кунард, если не растеряется, объявит это мистификацией. К тому же из-за помех мы не сможем доказать, что роковые слова произнёс именно он, а не кто-то с похожим голосом. Наконец, после второго-третьего раза звучание станет совершенно дурным, нужно менять барабан, взводить пружину и делать новую запись. Так что техническая неожиданность припасена для другого благородного дела — шантажа.
— Господи! — Паскевич даже руками взмахнул. — Кого же вы собрались шантажировать? Баронета?
— Именно.
Князь снова налил коньяк и с неудовольствием обнаружил пустоту в штофе.
— Ежели у вас такое оружие в запасе, отчего вы отвергли их условия? Потом объясним регенту, что нарочно ввели англичан в заблуждение ради вызволения Фёдора, но никаких тайн выдавать им не думали.
Строганов сложил в саквояж изобретение покойного француза.
— Короткая память у вас, Иван Фёдорович. Ни сын, ни семья в России не могут спать спокойно, пока джентльмены из Сити позволяют себе угрожать русским. С англичанами только так — на пощёчину отвечать кулаком в челюсть, вынося её напрочь. Более того, скажу я вам, князь, — Александр Павлович сложил руки на груди в знаменитом наполеоновом жесте. — Ни один русский не может чувствовать себя в безопасности на проклятом острове, если не вселить в каждого его обитателя панический страх перед самой мыслью, что в отношении подданного православной империи он вздумает сотворить какую-то гадость.
— Мне плевать на других, граф! — Паскевич вскочил нос к носу со своим доверенным и не оправдавшим доверие наперсником. — Пусть о других заботится правительство! Я приехал сына освободить. Вижу, вы мне больше препятствуете, нежели способствуете.
— И вы готовы на всё? Ехать в Нижний Тагил, выведывать марки стали, красть чертежи арифметического аппарата и расчёты машин тройного расширения? Одумайтесь, господин фельдмаршал. Ежели принять условия англичан, Фёдор останется в Британии и без малейшей гарантии, что живой. Отдадите русские секреты в обмен на его бездыханное тело?
Немолодой и весьма уравновешенный князь готов был, казалось, ударить своего бывшего подчинённого, однако взял себя в руки и одумался.
— Вы не понимаете, сударь… Вам не приходилось, слава Богу, бывать в подобных условиях. Сын, единственный наследник родового титула, надежда всей моей жизни, кровь от крови, неизвестно где. Это ужасно, нестерпимо — обречь себя на месяцы мучений и безвестности, не зная что с ним, надеяться что жив…
Он рухнул в кресло, обхватив голову руками. Коньяк оказался бессилен смягчить переживания.
— Именно поэтому мы поставили условие — убедиться, что он прибыл в Портсмут во здравии, и только после этого обсуждать дальнейшее. Вы будете точно знать, что он жив и на острове, — взгляд Строганова затвердел перед произнесением финальных, особо жестокосердных слов. — Или убит, тогда думать надо о мести, а не о предательстве России.
Через две недели, когда уже во всю расцвёл июнь, они выехали в Портсмут. После памятного разговора в отеле между князем и графом пролегла тёмная тень отчуждения. Паскевич тысячу раз себя спрашивал, не ошибся ли горько он, призвав в помощники неразведённого мужа своей супруги. Что движет им, быть может — досада? И несчастливый конец истории с Фёдором послужит ему лишь поводом для удовлетворения? Князь гнал прочь от себя недостойные мысли, но они возвращались вновь и вновь, подгоняемые жизненным опытом, который подсказывает: дурные предположения в отношении людей часто оправдываются.
Поэтому до старинного английского городка Питерсфилда ехали в молчании, сидя друг против друга в вагонном купе, там вынуждены были сойти — железная дорога дальше лишь строилась, и до побережья предстоит добираться в экипаже. Князь направился было к дилижансу, но граф остановил его и показал на непривычное глазу сооружение, напоминающее поезд, только стоящее на обычной дороге.
— Раз уж мы в Англии, ваша светлость, отведаем вкус путешествия на местном механическом чуде.
Локомотив состава, длинный вагон с несколькими колёсами, спереди был увенчан местом рулевого, поворачивающего тележку с двумя направляющими колёсами. Кочегар, он же машинист в одном лице, именуемый по-французски chauffeur[18], занял высокую кабинку в задней части, рядом с высокой дымовой трубой, непрерывно изрыгающей вонь и копоть. Под пассажирскими оконцами поблёскивала синяя гордая надпись: «Паровые дилижансы Уолтера Хэнкока».
Заинтригованный Паскевич решился подойти к паровому агрегату, отставив на время тягостные думы. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что он сложнее, нежели бронеходы Турецкой войны. За колесом ведущей оси не проглядывала изогнутая ось с шатунами — прогресс шагнул дальше, и крутящий момент подавался через цепь. Впрочем, удалившийся от военных дел фельдмаршал не мог с уверенностью сказать, как устроены нынешние российские механизмы. Возможно, и отечественная бронетехника доросла до цепных передач.
К локомотиву прицеплен был тендер, а к нему ещё один вагон, с большим количеством посадочных мест, нежели в локомотиве. Шо́фер обратил внимание на любопытство господ, достаточно обычное, пока локомобили в Англии всё ещё в новинку.
— Приобретайте билеты, достопочтимые джентльмены! На паровом дилижансе Хэнкока вы отправитесь не только в Портсмут, но и в будущее.
Князь потянулся за портмоне, а Строганов спросил о трудности управления экипажем.
— Справляемся, мистер. Однако навык требуется, — словоохотливый машинист погладил блестящий медный поручень, явно гордясь причастностью к прогрессу. — Даже старт локомобиля не прост. Разжигаем топку и слушаем, когда раздадутся бульканье кипящей воды и свист пара. Потом проверяем давление пара при помощи стеклянной трубки, вот этой — на котле. Если не досмотреть, трубка лопнет, обдавая меня кипятком; тогда снова гасим топку, ждём, пока машина остынет, вставляем новую трубку, доливаем в котёл воды и повторяем процедуру. В пути следим за уровнем воды в котле, добавляем воду перед подъёмами, а при спусках, пока машина работает вхолостую, накапливаем пар, подкачиваем мехами воздух к горелке, подбрасываем уголь. Моя работа куда сложнее по сравнению с рулевым. У того дел-то — поворачивай рычаг гайда[19] да тяни за ручку тормозов. Ну, и мне помогает на остановках, они каждые двадцать миль. Нужно заправить котёл, перебросить уголь из тендера в локомобиль, очистить зольник, смазать кривошипный механизм. Часто рвутся приводные цепи. Не всякий справится с работой машиниста, да, сэр.
Остановки увеличивают время в пути, однако до первой паровой состав разогнался до впечатляющей скорости, не менее пятнадцати миль в час, благо скудоумные законы, ограничивающие использование паровых локомотивов, более не применяются. Лошади способны разогнать дилижанс и быстрее, однако выдохнутся, покрывшись пеной. Экипаж Хэнкока без устали наматывал милю за милей, и остановка случилась совсем не из-за поломки, усталости либо нужды в доливке воды.
Громко засвистел пар, окутывая борта локомобиля и прицепов. Со скрипом и скрежетом состав затормозил. Путешественники выглянули в окно. Когда белёсый туман чуть рассеялся, по правую сторону от дороги показалось небольшое село, если верить корявому указателю — с поэтическим именем Хорндин.
— Тысяча извинений, леди и джентльмены! — вежливо обратился к пассажирам машинист. — Проклятые луддиты снова бросили бревно на дорогу. Мы сейчас откатим с помощником и продолжим рейс.
Строганов подозрительно окинул одноглазым взором неприветливого вида небольшую толпу, собравшуюся за каменным заборчиком. Особую мрачность ей добавили жердины, лопаты и топоры в руках, крайне неприятные в драке, особенно при численном преимуществе селян.
— Боюсь, потребуется вмешательство, Иван Фёдорович.
— Иначе никак? Наша задача — вовремя в Портсмут попасть.
— А вон столпились противники нашего счастливого прибытия. Сможете управлять локомобилем, если они порешат машиниста и рулевого? Меня увольте, к технике талантов не приобрёл. Так что прошу на выход, занавес поднят.
Граф расстегнул сюртук, вытащил из саквояжа два двуствольных пистолета, проверил их и сунул за пояс. Третий поменьше, странной формы и с причудливо изогнутой рукоятью, пристроил внутри. Паскевич пожалел, что в просвещённом девятнадцатом веке нету обычая носить шпагу при партикулярной одежде, хотя при столкновении клинка с крестьянской дубиной ставки выше на последнюю.
Они спрыгнули с подножки, единственные из пассажиров; остальные предпочли иметь тонкие вагонные стены в виде хоть какой-то защиты. Раздался грохот — в локомобиль и тендер полетели булыжники. Метательный снаряд сельского пролетариата угодил в рулевого, жалобно вскрикнувшего. Он вместе с машинистом юркнул за гайд, прекратив возню с бревном.
— Stop, bastards! — рявкнул Строганов, доставая пистолеты и взводя курки. Он едва увернулся от точно пущенного камня и выстрелил в сторону удачливого метателя. Пуля вжикнула по верхушке каменной изгороди, выбив массу осколков, которые подобно шрапнели впились ему в шею и в лицо. Парень заверещал, зажимая глаза, меж пальцев обильно хлынула кровь. Граф дружелюбно пообещал, что следующая пуля будет в лоб, сразу в рай и безо всяких мучений.
Крестьяне, опешив на миг от нежданного отпора, заголосили разом. Общий гомон перекрыла некая женщина в сильно потёртом коричневом платье и платке. Она бросилась к раненому, попыталась оторвать его руки от лица. Потом выхватила лопату у соседки и опрометью метнулась к Строганову, размахиваясь для удара.
Тот легко уклонился, пропуская фурию мимо, вторично выстрелил в забор, угощая щебнем наиболее буйных. Когда крестьянка снова подняла лопату, он без малейших колебаний врезал ей в лоб рукояткой разряженного пистолета. Женщина упала навзничь, выпустив оружие, с кровью на лице.
Доморощенные луддиты заколебались при виде пассажира состава, без раздумий применяющего оружие и не пощадившего даже женский пол. На их беду, Строганов заметил парочку, пытающуюся обойти вагон сзади. Пока они не скрылись за прицепным вагоном, граф хладнокровно выстрелил в ноги. Молодой парень упал, схватившись за простреленное колено, мужчина постарше дал дёру.
Снова возникло движение в основной группе. Граф вытащил запасной пистолет.
— Не нужно думать, что у меня осталась последняя пуля. В этом американском оружии их сразу шесть. Быстро выбирайте тех из вас, кому жизнь не дорога. Быстро, я сказал!
Минут через пять машинист и ушибленный рулевой откатили ломами бревно. Локомобиль тронулся, наконец, а Строганов стоял у открытой двери вагона, наставив стволы на деревенских. Несколько булыжников ударило в корму заднего вагона, на этом приключение завершилось, сильно добавив тревоги Паскевичу. Готовность пускать пистолеты в ход и проливать кровь по пустячному, в общем-то, поводу изрядно насторожили князя.
Александр Павлович, как ни в чём не бывало, устроился на прежнем месте и принялся чистить да перезаряжать оружие. Угадав мысли спутника по его хмурому лицу, заявил:
— А что прикажете делать, Иван Фёдорович? Нам в Портсмут надо, сына вашего выручать. Не можем себе позволить полежать недельку-другую в лечебнице, побитые камнями да с переломанными рёбрами-с. Англичанин, выходящий на русского с камнем в руке или за пазухой, должен быть приготовлен к увечьям. Может, вы другое предложите?
— Так или иначе, а только нельзя нам ввязываться во всякие истории, подобные этой. Не хватало в полицию попасть.
— С чего вам расстраиваться? Вы никого не убили, не покалечили, а я уж сам со своими делами разберусь.
Через некоторое время и поостыв, Паскевич поинтересовался, откуда взялось столь необычное умение стрелять из пистолета — любому бретёру на зависть.
— Помните, про турецкого бея рассказывал и его сына, коему давал европейское воспитание? Вот с ним и стреляли каждый день. Навострился, никуда не денешься. А бить с двадцати шагов крестьян, у коих палки да лопаты — не велико искусство. Чести никакой, простая необходимость, — спустив курок двуствольного пистолета, Строганов вспомнил о вещах достаточно давних. — Похожий случай был, когда мы с Павлом Демидовым из Варшавы в Москву катили. Там лихие люди… да какие лихие — такие же крестьяне, как час назад, остановить нас пробовали. Я тоже пистолеты достал, но и Демидов не сплоховал, уложил негодяя с одного выстрела.
Граф примолк, и Паскевич понял невысказанный обидный намёк. Толстый купец, напоминающий окорок на ножках, проявил себя мужчиной и не дрогнул, потому стал Императором, а бравый фельдмаршал только стоял у локомотива и грозно шевелил усами. Горько сознавать, но в своей жестокой логике Строганов бывает прав. От этого неприязнь к земляку только увеличилась.
В Портсмуте они прождали дней десять. Парусные корабли слишком зависят от ветра, поэтому их прибытие из дальнего похода есть материя непредсказуемая. Князь опасался, что к ним в гостиницу нагрянут бобби, как принято здесь называть полицейских по имени сэра Роберта (Бобби) Пи́ла, продвинувшего в Парламенте полицейскую конституцию — Metropolitan Police Act. Согласно тому Акту главной заботой бобиков считается охрана покоя королевы Виктории. Выходит, дорожный инцидент её не обеспокоил. Если верить газетам, все шишки от стрельбы достались компании «Паровые дилижансы Уолтера Хэнкока», вынужденной закрыть линию Питерсфилд-Портсмут и оставить её на откуп извозчикам на конных экипажах, кои, по мнению многих репортёров, и подзуживали селян взяться за булыжники.
С небольшим запозданием фрегат прибыл в Портсмут-Харбор, Фёдора Паскевича на его борту не оказалось. Русские пробились к капитану, который без особого желания сообщил о переданном перед отплытием конверте с приказом зайти на обратном пути в Плимут, где и вручил мидшипмена заботам ожидавшего там офицера Королевского флота. Разумеется, никаких его следов Строганов и Паскевич найти не смогли, хоть и выехали в тот порт, не теряя ни минуты.
— И так, Иван Фёдорович, есть две новости — хорошая и плохая, — заявил граф, передавая прислуге из местного трактира объёмистый кофр со своими вещами. Саквояжи с оружием и фоноскопическим аппаратом он не доверял никому. — Ваш сын вернулся из рейса живой и невредимый. А противник сделал следующий ход, о чём ему придётся пожалеть.
— Что вы собрались предпринять? — с тревогой и дрожью в голосе спросил князь.
— Успокойтесь. Вы замечательно командовали армиями и корпусами, не дрогнув посылали на верную смерть полки и обрекали на гибель тысячи врагов. Но за себя по-настоящему воевать не способны, как я убедился, не в состоянии принять взвешенное решение касательно спасения сына из беды. Чувства застят вам разум. Поэтому немедленно садитесь на ближайший каботажный пароход и отправляйтесь в Кале. Как только понадобится ваше присутствие, немедленно извещу. Там есть офис компании «Скоттиш стимшипс», на его адрес и отправлю.
— Не уговаривайте, граф! Вы натворите дел, я чувствую. Расплачиваться будет мой мальчик. Поэтому — остаюсь.
— Ни в коем случае, — единственный глаз Строганова сверкнул, лицо выразило непреклонную твёрдость. — Я не отступлю от намеченных планов. Они таковы, что вам непременно нужно твёрдое alibi.
Князь ухватил его за лацканы сюртука.
— Если с моим Федей… Если с моим мальчиком хоть что-то случится, вы не представляете, что я с вами…
— Оставьте гнев для братьев Кунардов, — граф с усилием сбросил руки Паскевича со своего костюма.
— У них понятные причины… Бизнес! А вы, Александр Павлович? Что вами движет?
Лицо его потемнело, даже обожжённая часть.
— Уж только не желание помочь человеку, который делит ложе с моей законной супругой.
Паскевича дёрнуло как от удара.
— Но она связана с вами, — неумолимо продолжил его визави. — И вместе с моим сыном в опасности, если не удастся укоротить англичан. Поэтому в моих интересах спасти Фёдора и заставить их забыть о мысли что-то отобрать у нас подлостью или силой. Уезжайте.
Граф шагнул к трактиру.
— Едем или ваши вещи тоже выгрузить, мистер? — лениво спросил кэбмен.
— В порт! — решился Паскевич.
В последней трети июня, когда даже в Англии, обиженном на погоду уголке земного шара, становится достаточно уютно, сэр Вильям Кунард покинул роскошную виллу Гринхилл и покатил по Гроув-Хилл-роуд на север, намереваясь к десяти успеть в Сити. Благостная атмосфера раннего утра, редкие встречные кареты, оживляющие довольно пустынную в этот час дорогу, мерное покачивание экипажа на рессорном ходу настроили на лирический лад. Бизнесмен позволил себе расслабиться, полагая, что до офиса он успеет вернуть деловую собранность. Тем более нет поводов для беспокойства. Дела компании идут как никогда прекрасно, паровые суда успешно вытесняют парусники, а не за горами бонус — согласие упрямого фельдмаршала Паскевича на сотрудничество. Зная, что сын надёжно укрыт, баронет не сомневался в положительном ответе отца. Нужно только немного обождать. Он ехал, хрустящий и сияющий как новая банкнота достоинством в один фунт, уверенный, что может всё купить и продать в этом лучшем месте на Земле.
Деловые качества вдруг понадобились пароходному магнату гораздо раньше приезда в Сити. С экипажем вдруг поравнялись трое конных. Один прыгнул на козлы, отчего кучер, в преданности которого сэр Вильям не имел оснований сомневаться, натянул и затем бросил вожжи, сам покорно замер поодаль. Верх кузова поднялся, отрезая пассажира от внешнего мира, а на сиденье рядом с ним бесцеремонно уселся тот самый переводчик Паскевича с ужасно обезображенным лицом.
— По какому праву…
— Молчи, Вилли, и слушай, — незнакомец бесцеремонно ткнул его в бок коротким капсюльным пистолетом. — Одно неверное движение, и прострелю тебе сердце.
Баронет захлопнул рот, открытый было в возмущённом писке. Он по обыкновению не смотрел в глаза собеседнику, но в той ситуации вряд ли бы кто его попрекнул — глаза остановились на воронёной стали, готовой оборвать жизнь в любой миг.
— Читай утренние газеты, мерзавец. Узнаешь о пожаре в графстве Кент. Да-да, вилла Джереми Кунарда под названием Хайфилд сгорела до углей, не спаслись даже слуги. В этом разница между нами, сукин сын. Ты угрожаешь, потом что-то пытаешься делать. Я сразу действую и потом разговариваю с позиции силы.
— Я заявлю в полицию, — выдавил джентльмен, что свидетельствует о его мужестве — не просто говорить такое при виде пистолета, направленного в сердце.
— Чепуха! Нашего разговора никто не слышит. А памятной угрозе, что Фёдора Паскевича мы не увидим, есть очень красноречивый свидетель.
— Князь? Но сэр Эдвард подтвердит, что разговор шёл только о бизнесе и недвижимости. Кому, по-вашему, поверят присяжные?
— Неподкупному свидетелю. В вашей дремучей и отсталой Англии время словно замерло как в болоте. У нас в Европе прогресс мчится семимильными шагами.
Строганов высунул руку наружу и требовательно махнул. Через секунду на его коленях появился увесистый саквояж.
— Ты даже не изволил поинтересоваться, зачем я его таскаю с собой. Англичан как обычно губят спесь и самоуверенность.
Похолодев, баронет услышал сквозь треск собственный голос, произносящий роковые слова.
— Вы отнесёте это в полицию?!
— Зачем же, — переводчик закрыл саквояж и вернул его сообщнику, снова взявшись за пистолет. — Отнюдь.
— Снова убьёте кого-нибудь невиновного.
— Ну, вы сами с братом запустили ход событий в печальном направлении, поэтому — не обессудьте. Единственное, что могу обещать вам: следующими трупами окажутся не ваши родственники, а дети кого-либо из самых влиятельных особ Британии. Вот они-то и услышат эти слова, а также рассказ, из-за какого постыдного преступления братьев Кунардов гибнут их чада. Только после этого я уничтожу твоих братьев, сестёр и всех ваших детей, чтобы Богом проклятый род Кунардов исчез с лица земли. Я много грешил, но сим святым делом непременно получу прощение любых грехов.
Опасения Паскевича в неоправданной и необузданной жестокости Строганова — просто ничто по сравнению с ужасом, который обуял Кунарда. Баронет не знал прошлого одноглазого человека, как и то, что служба в К.Г.Б. оставляет неизгладимый отпечаток на душе.
— Да, у вас Фёдор. Его потеря будет ударом для князя Паскевича, но Россия переживёт. Вы можете спрятаться, уехать в колонии, сменить имя. Что же, прячьте заодно братьев, сестёр, племянников, живите как затравленные. Я продолжу убивать детей ваших вельмож, пока они не найдут и не доставят на блюде головы оставшихся Кунардов, словно голову Иоанна Крестителя.
— Британия не потерпит подобного унижения! — баронет с размаху кинул на сукно последний козырь.
— При чём тут Британия? — удивился человек с пистолетом. — Я представляю группу частных лиц, не заинтересованных в том, чтобы наших детей захватывали в плен ради гнусных торгашеских целей. Между нашими государствами мир и взаимопонимание. А доказательство вашей подлости, приведшей к гибели невинных людей сейчас и, возможно, таких же в дальнейшем, могут послушать и премьер, и королева. В их глазах вы и остальные Кунарды — безродные выскочки, опозорившие рыцарский титул, вами пожертвуют без колебаний. Не нужно всех британцев мерить по своей, очень низкой мерке.
Козырь, битый неумолимой логикой одноглазого злодея, съёжился и слился цветом с зелёным сукном. Баронет примолк, не в силах признать поражение, потом промолвил:
— Фёдор Паскевич в Ирландии. Я могу обеспечить его прибытие в Лондон не ранее чем через две недели.
— Через двадцать дней в Кале. А после вакаций он вернётся на учёбу. Чему вы удивляетесь?
— А если вдруг…
— С ним что-нибудь случится, я не собираюсь терять времени на разговоры. Сокращу население Британии на три десятка нелюдей-Кунардов. Так что от души рекомендую принять все возможные меры, дабы с головы Паскевича-младшего волос не упал. Даже случайная его смерть спустит на вас всех собак, — он убрал пистолет. — Семнадцать дней, включая сегодняшний. Время пошло.
Русский покинул экипаж не прощаясь, хоть сейчас это не выглядело по-английски. Через пять минут вернулся напуганный кучер.
— Гони в Лондон! — крикнул ему баронет. Повеление уродливого разбойника стоило выполнить как можно живее.
Фёдор переправился в Кале на тринадцатый день, премного удивлённый спешкой. В Плимуте он написал письмо отцу в Гомель, предупреждая о неожиданном приказе и задержке, конверт отдал учтивому флотскому офицеру Королевского флота, который пообещал его отправить тотчас же. Фельдмаршал, готовый уже застрелить Строганова, рассыпался в благодарностях, но тот холодно отстранился.
— Встретимся на Пасху, сударь. Прошу приготовить к тому времени полмиллиона.
— Всенепременно! И я полагаю…
— Оставим это, ваша светлость. Меж нами не может быть дружбы и иных отношений. Берегите Юлию Осиповну и Володю. Прощайте.
Во время подготовки кентского злодеяния, в котором Строганову помогло лондонское отребье за хорошие деньги, граф случайно напал на след мистера Гладстона. Ниточка может привести к негодяю, который обрёк русского на годы страданий и унижений, разлучил с семьёй. Чем заняться, когда не останется кому-либо мстить, Александр Павлович пока не задумывался. Какая-то часть его сознания смирилась с мыслью, что продолжая в том же духе и не чураясь самых низких методов, он отдаляется от заветной цели. Князь, выходит, выручил сына, обратившись за помощью и не замаравшись лично, оттого остался чистым и может смотреть в глаза Юлии Осиповне, не терзаясь воспоминаниями о недостойных поступках.
Но Бог видит всё, поэтому — что предначертано, тому не миновать. Добрый совет одноглазого приятеля отца, настойчиво предлагавшего бросить академию и закончить обучение на Васильевском острове Санкт-Петербурга, молодой курсант счёл за лучшее проигнорировать. Через год Фёдор Паскевич глупейшим образом погиб в заурядной кабацкой драке. Через месяц вилла Гринхилл сгорела вместе с обитателями. Полиция с недоумением узнала о второй драме в семействе Кунардов на протяжении короткого срока и не сочла нужным раздувать пожар в переносном смысле. Обгорелые тела похоронили, никто не стал их тщательно изучать, да и толку: свинец расплавился от высокой температуры и вытек, а круглые отверстия сами по себе мало что значат — среди рушащихся перекрытий немало острых предметов нужного размера. Вот только почему никто не попытался покинуть горящий дом?
Потом по Британии поползли гадкие слухи, что покойные братья Кунарды сильно наступили на русскую мозоль. Сам по себе этот слух не слишком важен, однако он вдруг упал на благодатную почву. Число недовольных российскими успехами значительно превысило количество хорошо зарабатывающих на бизнесе в России и с русскими. Джентльмены в самой большой колониальной державе мира вдруг впали в задумчивость — если англичанам по силам брать всё, что привлекает их алчный взор в любом уголке земли, то какого дьявола за это нужно ещё и платить? Тем более давать золото русским дикарям, коих паровой прогресс ни на йоту не сделал цивилизованнее, как это показала трагедия Кунардов.
Началось с мелких торговых уколов. Через Парламент прошёл билль, ограничивающий перечень компаний, которым дозволено торговать и посылать суда в бассейн Чёрного моря. Естественно, «Скоттиш Стимшипс» в сей список не попала. Главный офис компании перебрался в Нью-Йорк, корабли сменили флаг и порт приписки, но конкуренты быстро сориентировались, и суда под звёздами и полосками тоже получили от ворот поворот у входа в Дарданеллы.
Тайная канцелярия выявила нескольких английских лазутчиков, пытавшихся обманом пробраться в закрытую для иностранцев чёрную жемчужину Урала — Тагильскую губернию, а также пытавшихся нанять русских предателей для засылки в кузницу русских технических чудес.
Все эти события никак не способствовали потеплению между двумя державами. Молодая и неопытная королева Виктория изволила топнуть ножкой, парламент поддержал. Из России началось бегство английского капитала, никак расцвету экономики не способствующее.
Наконец, британские лорды достали из дальней кладовой старое и проверенное временем оружие против России — науськивание Османской империи, хронически сожалеющей, что Чёрное море не омывает одни только турецкие берега.
Вредоносное шевеление эмиссаров Лондона замечено было и в центральных европейских столицах, всё лишь с одним направлением — подтолкнуть развитие событий в невыгодное для России русло. До прямой войны империй далеко; обе не желали открытой кампании. Однако Европа и ближайшая Азия сделали заметный шажок к вооружённым конфликтам и приготовились к следующему.
Глава четвёртая, в которой Паскевич возвращается на военную службу
Юлия Осиповна окончательно отдалилась от князя. И ранее отношения между супругами, благопристойные внешне, не отличались искренней теплотой. Разные спальни дворца, запираемые на ключ изнутри, почти и не видели сцен, юному глазу не рекомендовавшихся, оттого не случилось общих детей. В браке со Строгановым она не подумала бы оговорить себе отдельные покои, а с Паскевичем держала себя скорее как друг и сестра, не давала повода для злословия, но и не стала женой в том главном смысле, о котором чаял овдовевший князь, зазывая её под венец.
Тот, безутешный после потери сына, на неё порой посматривал странным взглядом, словно обвиняя: из-за тебя! Но она-то в чём виновата? Если бы вдруг, не дай Бог, что-то подобное произошло с Володенькой, она растерзала бы обидчиков как раненая волчица. Фельдмаршал ограничился поездкой в Кале, куда с острова переправили гроб с останками наследника. Он даже не попробовал разыскать драчунов, выяснить подробности, потормошить полицию…
Из него словно выдернули какой-то стержень. А через полтора месяца после похорон он получил странное послание, в котором лежала лишь вырезка из лондонской «Таймс». Юлия тайком подглядела — ничего особенного, о каком-то пожаре в столичном пригороде. Мало ли таких.
Иван Фёдорович произнёс загадочные слова: «он хотя бы что-то сделал». Потом засобирался в Москву, откуда не вернулся, только письмо прислал — упросил регента восстановить его на военной службе.
Княжна поняла — не к добру это. Трупный запах новой войны уже витает в воздухе. И она не ошиблась.
Должность фельдмаршалу приискали не опасную, но хлопотную весьма и к сидению за начальственным столом не располагающую — товарища Военного министра по вооружениям. К ведению Паскевича отнесены были Главный артиллерийский департамент, бронеходное управление, а также надзор за судостроительными прожектами — материя, сухопутному военному в корне непонятная. Главной же трудностью на новом поприще, сосватанном лично Анатолием Демидовым, стала служба под началом генерала от кавалерии Александра Ивановича Чернышёва.
Карьера нынешнего Военного министра взлетела вверх подобно выпущенному из рук голубю в страшные годы Русского Рейха. Наследник боковой и обедневшей ветви старинного дворянского рода, Чернышёв отличался двумя слабостями: неуёмной завистливостью и неумеренным пристрастием к прекрасному полу. Не проявив себя ни в коей мере на военном поприще после наполеоновских войн, он предложил свои услуги Бенкендорфу и отличился, отправив в Сибирь на вечное поселение своего кузена Захара Григорьевича Чернышёва по обвинению в заговоре против фюрера: «знал об умысле на убийство Государя Руси и принадлежал к тайному обществу с знанием целей оного». Захватив поместья родственника и став после смерти единственным наследником рода Чернышёвых, он после реставрации Империи справил себе подтверждение графского титула, однако был лишён государственных постов за мерзости на службе в К.Г.Б. При новом Императоре и помиловании приспешников Пестеля генерал был вновь вознесён как символ, что гнойные республиканские язвы зажили, и не до́лжно более упоминать о деяниях, имевших место в ту мрачную пору.
На посту Военного министра Чернышёв сохранил традиции, памятные ему по молодости. Изо всех родов войск он, естественно, наиболее благоволил к кавалерии, добиваясь наращивания её численности сверх меры. Пехоту презирал, артиллерию терпел, а самоходная техника, негодная к парадам из-за угольной копоти, ему оставалась непонятной и оттого нежелательной. Подчинение же флота подобному сухопутному адмиралу вообще ни в какие ворота не проходило.
Завистливость не делась никуда, несмотря на высший в империи военный пост. Фельдмаршалы Паскевич и Ермолов, победители в кампаниях, досаждали ему как занозы. Эполеты фельдмаршала никто ему не предложил. Ну не было в России большой войны, за викторию в которой он бы этого звания удостоился. Ермолов в Госсовете недоступен, зато второй незаслуженно овеянный славой полководец — вот он, в подчинении, возможностей рассчитаться с ним предостаточно. Поэтому отношения Министра и его первого помощника никак не могли сложиться нормальные.
Вдобавок Чернышёв постоянно нуждался в деньгах. В преддверии новой войны с османами он лично следил за закупками. И ежели пушки, бронеходы, боеприпасы и прочие военные снасти казне продавали компании Демидовых, Строгановых да близких к ним заводчиков и купцов, то провиант и обмундирование шли через другие руки, и непременно только после подношения в бездонный графский карман.
А что вы хотите? Александру Ивановичу стукнул пятьдесят пятый год, утехи с дамочками полусвета стоят изрядно. Угомониться и вернуться к семейному очагу, огонь в котором поддерживала третья уже законная супруга, что-то не позволяло внутри. Если он не будет покрывать самых разных фемин как немолодой, но по-прежнему резвый… ну — почти резвый племенной жеребец, жизнь утратит всяческий смысл.
Посему для России главной угрозой вышла даже не грядущая турецкая компания — сколько их было и будет ещё — а прискорбное обстоятельство, что военная сила Отечества оказалась в столь негодных для этого руках.
В первую же встречу tet-a-tet Чернышёв, вызвав Паскевича в свой роскошный кабинет, прямо заявил:
— Времена изменились, и это к лучшему, господин фельдмаршал.
Иван Фёдорович стерпел, что младший по званию не обратился к нему «ваше высокопревосходительство». Возвращение на казённую службу далось с трудом, поэтому выходки этой выскочки, главного армейского столоначальника, придётся переносить и далее. Тот продолжил:
— Случайный успех от применения железных самоходных поделок на поле боя не может быть повторён. Враг готов к подобному, имеет достаточно орудий большого калибра, чтобы разбить медлительные колесницы. Поэтому в современной войне победит количество конницы и артиллерии, примерная дисциплина и отменная выучка.
Паскевич промолчал. Он понимал, что заказы на новые бронеходы нужно пробивать не здесь, а у Демидовых — они и во власти, и за контракты на уральские заводы радеют. Хуже с флотом, в котором нет особого интереса у императорской фамилии.
— А ваше мнение по поводу новых кораблей, господин Министр?
— Изрядно дорогие и не слишком нужные игрушки для страны, не стремящейся к завоеваниям дальних земель. А наши берега нужно защищать малыми и дешёвыми средствами — береговой артиллерией да малыми паровыми ботиками, как у берегов Крыма. Проследите, фельдмаршал, чтобы новых подрядов на крупные корабли не подписывать. Извольте также проехать на Урал, лично инспектировать тагильские заводы. Я не могу указывать Демидовым, поэтому придётся действовать через Думу — пресекать ненужные закупки самоходов.
И заодно меня сплавить из Москвы, когда пришла пора открывать подряды на 1841 год, зло подумал Паскевич, разглядывая начальственный анфас с блестящими смазанными усиками, чернёными волосами для сокрытия заснеженных прядей и мясистым подбородком, тяжко опирающимся на красный с позументами воротник. Стоймя генерал выглядел ещё импозантнее — над толстенькими ляжками и широким основанием возвышалась сравнительно умеренная талия; Чернышёв носил под мундиром корсет. Он видом своим напоминал стареющую кокотку, из последних сил цепляющуюся за остатки давно минувшего женского лета.
После аудиенции фельдмаршал добился приватной встречи с регентом. Тот согласился с уничижительной характеристикой генерала, однако сослался на недостаток влияния, дабы его сместить.
— Войдите в моё положение, любезный Иван Фёдорович. Увы, самодержавные времена миновали после злодейского убийства на Сенатской. Приходится править этой огромной махиной, непрестанно лавируя среди разных господ, имеющих влияние в Думе-с. Партия народного прогресса, объединившая выскочек республиканского толка, голосует за наши законопроекты благодаря тому, что мы терпим в министерском кресле это крашеное ничтожество. Уверяю вас, сударь, я лично прослежу, чтобы в подрядах на военное снаряжение глупости Чернышёва сказывались в наименьшей возможности.
Допустим, но в высшей мере сомнительно, заключил про себя Паскевич, садясь в карету у кремлёвского крыльца. А замена боевой подготовки строевой муштрой, столь же безмерной, как во времена императоров Павла и Александра? А возвращение к обмундированию прусского образца? Армия — сложный организм, каждая частичка которого зависит от разумности велений, исходящих из Главного штаба. Такой Чернышёв над штабными — нежданная удача для врага. Он один стоит турецкой дивизии или даже корпуса.
Фельдмаршал отправился в Нижний Тагил, выросший от демидовских заводов и лет пять назад ставший губернским городом, прибыв туда в середине января. Что-то к худшему изменилось на государевой службе, а главное осталось: заложенная при Павле Втором Тагильская Политехническая академия, уральская кузница кадров и открытий, продолжила приносить плоды и среди зимы, вопреки законам ботаники.
Ефим Алексеич Черепанов по возрасту и слабости от дел отошёл. Мирон, кроме церковно-приходской школы нигде не учившийся и постигший технические премудрости самостийно, возглавил департамент паровых машин, где подвизался и Джон Мэрдок, за заслуги перед державой получивший наследуемое дворянство. Подданство англичанин сменил.
Другие самородки, стоявшие у истоков русского парового машиностроения, тоже здесь: Лобачевский, Кулибин, Аносов. Не прельстились щедрыми посулами, не уехали за рубеж. Ныне Тагильская губерния — особая, иностранным подданным въезд закрыт, нашим — по пропускам комендантским.
Мирон Черепанов, крепкий сутулый мужик тридцати восьми лет отроду, жалованный за Крым званием инженер-генерала, так и не освоился с высоким положением: рождённый крепостным всегда несёт на себе печать неволи. Он даже мундир не носил, смущаясь генеральских лампасов и эполет, ходил в суконном казакине с меховой оторочкой, а при виде фельдмаршала потянул руку к голове — шапку снимать перед барином. Иные наоборот, вырвавшись из грязи да в князи, нос задирают. Бывает — боязно глядеть, как такой свежеиспечённый вельможа ступает по мостовой, вот-вот споткнётся, под ногами ухабов не видя. Черепанов же остался в другой крайности, нимало от этого не страдая.
Паскевич без разговоров подошёл близко и обнял без церемоний. Нынешнему положению, титулу и званию он во многом обязан этому неказистому с виду мастеру.
После приличествующих слов о здоровье батюшки Мирон повёл Ивана Фёдоровича на опытовый двор, где не без гордости показал рядок новейших бронеходов. В общем-то далёкий от техники Паскевич увидел огромные механизмы, напоминающие железнодорожный локомотив, укрытый толстой листовой бронёй.
Сходство с паровозом придали две оси с большими ведущими колёсами, а также паровые машины, вынесенные вперёд и по бокам, передающие усилия на переднюю пару, с неё на заднюю — сцепным дышлом. На этом сходство заканчивалось, что не преминул подчеркнуть Черепанов.
— Под Крымом понял я, что скорость и поворотливость наших самоходов отвратительная. Посему крепко подумать пришлось. У новых ось не коленчатая, а прямая и разрезная, стало быть — каждое колесо отдельно от другого поворачивается. Оттого на повороте крутятся они с разной скоростью. Рулевая тележка, кою мы с отцом опрометчиво с поворотной казематной площадкой соединили, управляется ныне отдельным штурвалом, с паровым усилителем. Орудие отдельно наводится, там сил у пушкарей хватит. Главное же, Иван Фёдорович, был я изрядно расстроен, что до Перекопа почти все они сломались, — Черепанов шагнул к самому запылённому бронеходу со снятым оружием и без боковых листов над ходовой частью. — Знакомьтесь, «Екатерина I», наша труженица. По непростым уральским дорогам вёрст семьсот наездила, потешая ребятню и пугая богомольных старушек. И сейчас хоть куда! Пушку обратно прикрутить — и завтра в бой. Мелкие огрехи, что на «Кате» обнаружились, мы на других устранили.
Паскевич обратил внимание, что бронеходы как боевые корабли: каждому дано имя, бронзовыми буквами тускло отблёскивающее поверх железного листа. «Бородино», «Полтава», «Пётръ Великій», «Павелъ Второй»… В Лондоне он читал, что германцы тоже пытались соорудить нечто подобное, обозвав своё детище странным длинным словом, что-то вроде «гепанцдампфваген»[20]. Однако без опыта, без заводской оснастки, что вряд ли в мире где есть, кроме Нижнего Тагила, выйдут у них, самое большее, гадкие утята, коими Демидов распугал республиканскую гвардию Строганова.
— Решительно хорош с виду, а коли ты говоришь, что и на ходу неплох, то вдвойне хорошо. Не тянет самому — снова в бой, а, господин генерал?
— Не, ваше высокопревосходительство, — смущённо мотнул бородой Черепанов. — Моё дело иное, шатуны да заклёпки. Но ежели война, непременно там буду — за машинами приглядеть.
— Вот как, — фельдмаршал пытался понять странный ход мыслей этого человека. Душегубство ему претит, но за душегубные колесницы радеет и печётся о них словно о детях малых. — А что за бочки на корме?
— Для земляного масла, его нам с Каспия навезли. Горит не хуже угля, а кочегар не нужен, топливо самотёком в топку льётся. Те четыре — для воды. Теперь бронеход вёрст двенадцать-пятнадцать без тендера движется.
— Сомневаюсь я, Мирон Ефимыч. Где ж мы столько земляного масла насобираем?
— А топка и на угле работать может. День переделки, сзади добавляется площадка для кочегара, и кидай на здоровье.
— Умно, ничего не возразишь. Паровые машины — знаменитые птицы-тройки, о тройном расширении пара?
— Громоздки они, — Черепанов приблизился к тёмному клёпаному боку, тускло блестевшему в слабом свете смазочным жиром, в который въелась угольная копоть. — Посему лишь один цилиндр в каждой машине. Только после котла ещё одна снасть, тоже котлу подобная, но поменьше. В ней пар перегревается: ещё лучше выходит. При малом объёме и том же расходе земляного масла мощности изрядно добавляется.
Минули времена, когда бронеходные экипажи складывались из тагильских механиков, а к орудиям ставились пушкари, взятые из ординарной полевой артиллерии. В новой войне нужны особые обученные военные. Для того в Нижнем Тагиле расквартированы Муромский бронеходный и Крымский бронегренадёрский лейб-гвардии полки, а также офицерская школа для командиров самоходных крепостей и службы в инфантерии, обороняющей в бою железных гигантов.
Много ещё о чём за неделю пребывания на Урале Паскевич беседовал с Черепановым, Амосовым, Лобачевским, Кулибиным и разбогатевшим на акциях «Скоттиш Стимшип» Джоном Мэрдоком, коего после принятия имперского подданства звали не иначе как «новый русский». Инженеры показывали револьверы с шестью зарядами и длинным винтовальным стволом, не хуже американского, которым Строганов баловался в Англии, пробные ружья с таким же патронным барабаном. Особенно поразили малые полевые пушки, тоже с нарезами в канале и казённом картузном заряжании, вместо фитиля — ударный механизм, подобный револьверному.
— I'm sorry, — заявил новорусский инженер, для демонстрации богатства постоянно теребивший массивные золотые часы на золотой же толстенной цепи. Прожив годами на Урале, он даже несколько освоил язык «дикарей». — Промышленный выработка порох из клетчатка есть не существует. Это эксперимент. Не будет быстрая стрельба если банить ствол после каждый выстрел.
А такие фабрики не входят в число демидовских предприятий. То есть из лучшего в мире оружия нечем стрелять. Прискорбно-с.
В заключение визита Паскевич познакомился с новым обитателем тагильского олимпа — инженер-генералом Карлом Андреевичем Шильдером, отличающимся от прочих более, нежели франтоватый шотландец от крестьянски-простого Черепанова. Генерал был одержимым изобретателем в лучшем и худшем смыслах этого слова. В лучшем — потому что жить не мог и не хотел без новых идей и изобретений, поражая даже Кулибина широтой взглядов и интересов. Но его одержимость развивалась лишь в одном направлении — воинственном. Фельдмаршал подумал, что для этого человека наполеоновские войны не кончились. Слов нет — патриот и человек достойный, но уж слишком снедает его мысль одарить Россию самым совершенным оружием, дабы Европа в слезах и в страхе упала на колени, потеряв на полях сражений миллионы подданных.
Прославился он минным морским оружием, в том числе подрываемым с берега гальванической снастью академика Якоби, первым смог испытать его и добиться принятия Адмиралтейством донных и якорных мин. Бурный полёт его фантазии подсекла революция.
Родившись в семье рижского купца немецких кровей с правильной германской фамилией, Шильдер не был изгнан из армии. Согласно республиканскому Табелю о рангах, потеснившему петровский, он получил чин инженер-генерала… и ни единого рубля на военные опыты. Пестель, сам наполеоновский ветеран, решительно не понимал, какое отношение диковинные корабли, морские мины и уж совсем безумные гальванические снасти имеют отношение в инженерному делу, кое включает в себя лишь науку строительства укреплений, мостов, переправ, а также рытья подкопов под крепости с целью подрыва стен. Остальное — от лукавого.
Павел Второй изгнал из армии большую часть генералов «неправильной» нации. Только при регентстве Шильдер смог устроиться на службу, и не по Инженерному департаменту, а через Адмиралтейство, уговорив адмиралов на субсидии прожекта «потаённого судна», которое не без гордости продемонстрировал Паскевичу.
— Признаюсь как на духу, ваше высокопревосходительство, выделанное целиком из металла подводное судно придумал не я, а минский дворянин Казимир Гаврилович Черновский. Трудно в это поверить, он подробно описал его, будучи закованным в железа и заключённым в крепость.
— За что же?
— При Александре Павловиче ещё. Польскую шляхту арестовывали тогда без разбору за малейшее подозрение на бунт.
— Я осведомлён, — кивнул Паскевич, знающий о польских чаяниях от Юлии Осиповны достаточно подробно. — Помню их призывы: низалежность Речи Посполитой, ещче Польска не згинела, долой русскую оккупацию, et cetera.
— Письмо путешествовало по канцеляриям и попало-таки под высочайшие очи, но уже фюрера. Свободу Польше он дал, Черновского выпустил, как и мне не дав ни рубля. А летом двадцать шестого К.Г.Б. арестовало его вновь. Шляхтич заявил, что с его Родиной поступили подло, не отдав «исконно» польские земли — Минск, Витебск, Гомель. То бишь всю Белую Русь до Смоленска и Малую до Днепра. Сгинул в Тобольске, а бумаги его сберёг и мне передал инженер-генерал Питер Базен, получивший их из рейхсканцелярии. Не только сохранил, дополнил изрядно. Предложил поставить медную зрительную трубу с зеркалом, дабы из-под воды обзор иметь.
За этим разговором они пересекли огромную площадь демидовского завода, направляясь в дальний сарай больших размеров, охраняемый отдельно матросами с винтовальными ружьями. Рядом скрипел снегом в валенках огромного размера Мирон Черепанов. Часовые проверили не только Паскевича, но и обоих инженер-генералов, коих наверняка видели сотни раз.
Здесь также промёрзло, как и на улице. С каменного полу был убран снег, царил полумрак, чуть рассеиваемый узкими оконцами в вышине. Среди рукотворной таинственной пещеры на деревянных козлах притаилось нечто, чему в нашем языке не сыскать нужных слов, кроме совсем уж коротких и выразительных.
Железное и сильно вытянутое яйцо с острым носом, склёпанное из листов, походило на странную рыбу. О водном назначении говорил рыбий хвост на корме и гребной винт. Считая сие чудовище судном, длинный металлический брус, торчащий впереди, правильно именовать бушпритом.
На спине у яйца (представим на миг — у яиц бывают спины) вырос горб овального сечения, к которому сверху прилепился паровой катер вроде участвовавших в бою вместе с фрегатом «Паллада», вдвое примерно меньший, нежели нижняя часть.
Обретя дар речи, Паскевич заметил:
— Изрядно, видать, пана Черновского в каземате пытали.
— Нет, ваше высокопревосходительство. Он предложил обычную субмарину. Новое в его прожекте было выполнение целиком из металла, а не дерева, как выделывали до того, воздушные меха внутри, наполняемые водой для погружения, да ручной привод на вёсла-гребки. Такое судно я построил в Кронштадте, не имело оно успеха.
— Отчего же?
— К величайшему моему сожалению, Иван Фёдорович, многие вещи, кажущиеся очевидными в камере Шлиссельбургской крепости или за удобным кабинетным столом, на море иначе выходят.
— Расскажите, не томите уж.
Кивнул и молчаливый Мирон, пожелавший ещё раз услышать о давнем конфузе Шильдера.
— В ту пору я думал, что лодка с успехом способна под водой двигаться усилиями одних только матросов, качающих по бокам гребные вёсла, устроенные наподобие гусиных лапок. И вот, в присутствии инспекторов Адмиралтейства, субмарину мою отбуксировали пароходом к брандвахте Северного фарватера. В расстоянии до пятисот сажен от прикреплённой к плоту на якорь подводной лодки подан был сигнал для начала плавания оной под водою. Путь лодки для зрителей означался двумя железными шестами, на ней закреплёнными. В лодке находилось восемь человек экипажа, а для лучшего во время опытов управления я находился вне трюма на палубе, привязанный и погруженный в воду по грудь в непроницаемой одежде и с плавучими поясами.
— Привязанный? — охнул Паскевич. — А вдруг бы она погрузилась на сажень, захлебнулись бы?
— Новое дело всегда рисковое, — парировал Шильдер с бравадой, скорее уместной юнцу, а не зрелому генералу, ветерану нескольких войн. — Однако через зрительную трубу не имел случая обозревать залив в походе, пусть даже опытовом. Оттого вывел наружу длинный каучуковый рукав с рупором, через который отдавал приказания команде внутри корпуса. Для большей предосторожности за лодкой следовал катер, на котором находились некоторые запасные принадлежности и несколько людей.
— То есть субмарина ваша двигалась вся под водой?
— Да-с, Иван Фёдорович, над волнами только я по грудь, порой волны меня с головой накрывали, да железный шест за спиной. Лодка была снабжена прикреплёнными к бортам зажигательными фугасными ракетами, а на стержне, вложённом в бушприт, имела одну мину в двадцать фунтов пороху. Гальванический прибор помещался внутри лодки, а проводники от оного к ракетам и минам находились в моих руках. Направилась она к выставленному впереди для подорвания старому двухмачтовому транспортному судну. По отплытии пятидесяти сажен воспламенены были две ракеты.
— Постойте, — перебил фельдмаршал. — Снасть для пуска ракет спрятана была под водой?
— Так точно-с. В том и хитрость — противник не видит её.
— Вы сумели удивить меня, Карл Андреевич. Ракетами многие забавлялись, но из под воды… Удачно?
— Увы. По причине сильного волнения они не могли долететь до своей цели и разорвались в волнах, не в дальнем расстоянии от лодки.
— Волны там, судно качается, — подал голос Мирон. — Раз уж ракетами палить, то с поверхности.
— Верно! — не стал спорить изобретатель. — Но прошу вспомнить, что у субмарины есть и другое подводное оружие — двадцатифунтовый бочонок с порохом на гарпуне. Экипаж занялся отлитием воды, заплеснувшей в трюм через переговорную трубу, и мы снова продолжили путь. При приближении к судну мина, находившаяся на носу лодки, приткнута была к судну удачно, сама же лодка течением была увлечена под киль судна, но железные шесты с флюгаркою удержали её, и плывший сзади катер взял нас на буксир. После того взорвана была и воткнутая в судно мина. Оно, в борт пробитое, начало тонуть, но удержалось над водою, по причине значительной плавучести бочек, наложенных во внутрь. Я надеялся опыты подводного плавания продолжить, но на инспекторов Адмиралтейства сии потуги впечатление произвели дурное, испытания были прекращены. А потом случай свёл меня с господином Мэрдоком, пригласившим сюда. Так и родился «Тагил».
— На субмарине появился паровой двигатель на земляном масле, — догадался Паскевич. — Но как, скажите на милость, он работает под водой?
— Для этого и пристроена верхняя лодочка. С виду — плывёт себе паровой катер. Ежели ядрами его обстрелять, трубы и палуба толстобронные, выдюжат. А если и нет — достаточно бочек с пробковым деревом нагрузить. Лодочка не даёт «Тагилу» вглубь уйти, ровно на малой глубине держит.
— Мирон Ефимович, как считаете, не жарко будет под водой?
— Вестимо. Однако же ничего не буду утверждать, пока по весне на Волгу «Тагила» не свезём, там опробуем, — осторожно ответил тот. — Воздуходувные меха большие, с Божьей помощью справятся.
— Быть может. Только вот служба на таком судне — проще сразу на себя руки наложить. Скорость не выше чем у парового катера. Стало быть, противник сможет лодку догнать, высадить пару матросов на палубу, духовую трубу заткнуть, в дымовую воду залить. Найдутся доброохотники?
— Как не найтись, — усмехнулся Шильдер. — Все мы люди русские, даже я в некоторой мере. Ночь — наша союзница. И подкрасться тихо, и убежать подсобит. На большие расстояния лучше на буксире возить. Зато как на рейде внезапно взорвутся лучшие корабли, турецкие берега услышат это страшное для них слово, — он напрягся, поднял кулак ввысь, затем грозно и громко выкрикнул: — Тагил!!
Князь на минуту представил железную бочку в форме яйца, увлекаемую течением под киль судна-мишени, к которой привязан отважный генерал, экипаж внутри заливаем водой с переговорной трубы, вокруг плавают бочки с порохом и заряжёнными запальными снастями… А Шильдер говорит об этом спокойно и считает практически нормальным делом. Вот что с расчётливыми, аккуратными и осторожными германцами делает земля русская! У нас воздух такой особенный?
В вагоне московского поезда Паскевич, перекладывая сделанные на Урале записи, вдруг догадался, как склонить в нужную сторону упрямого Военного министра Чернышёва. Сейчас тот радеет за закупки лошадей, ибо дружен с коннозаводчиками. Но есть не менее прибыльные подряды, к коим руки Демидовых не добрались: земляное масло, пироксилиновый порох и множество других. А нужда в военных закупках этих припасов непременно будет расти. То-то генерал возрадуется лишней возможности руки погреть.
Главное же — иметь в мирное время армию, способную быстро и смертельно ударить. Победа над Наполеоном, наступившая после затяжной войны, далась ценой огромных потерь. В Париже по пути в Лондон Строганов подарил фельдмаршалу тонкую книжицу на французском языке, перевод с китайского. Древний автор писал, словно жил не тысячу лет назад, а в наше время:
«Никогда ещё не бывало, чтобы война продолжалась долго и это было бы выгодно государству. Поэтому тот, кто не понимает до конца всего вреда от войны, не может понять до конца и всю выгоду от войны».[21]
Куда дешевле построить бронеходы и потаённые суда, кои сразу отобьют у неприятеля охоту продолжать меряться силами с русскими, нежели оплачивать многолетнюю войну.
Глава пятая, повествующая о новой встрече Строганова с Паскевичем и её последствиях
В начале весны сорок первого года Александр Павлович, продолжающий существование под личиной мещанина Трошкина, не дождался мая месяца, на который уговорена была передача очередного полумиллиона, и нашёл фельдмаршала в Москве. Фёдор Иванович, ожидавший сего визитёра не с большей радостию, чем поход к зубному доктору, вздрогнул, услышав доклад лакея. Князь лишь час как проснулся в своём московском особняке, воскресный день не предполагал трудов и волнений. Тут на тебе — утренний кофий безнадёжно испорчен.
Паскевич туже затянул бордовый атласный шлафрок, придавая фигуре мундирную подтянутость, и велел проводить гостя в гостиную.
— Доброе утро. Чем обязан?
Длинный халат с малиновой феской на голове придал фельдмаршалу неприятное сходство с османским беем. Строганов сдержал раздражение, вызванное этим напоминанием о годах турецкого плена, и начал вежливо:
— Здравствуйте, Фёдор Иванович. Не волнуйтесь, о финансах поговорим в мае, как условились. Вероятно, в этом году попрошу вдвое больше, и на сём прекратим выплаты. Удачно вложенные деньги делают новые деньги. Ну да не о том речь. Тучи сгущаются, и я хотел бы сослужить службу Отечеству по военной части.
— Объяснитесь, сударь. Признаться, после лондонской истории… — голос князя невольно дрогнул, но он моментально овладел собой и твёрдо продолжил. — После той истории мне решительно не с руки вообще затруднять вас какими-либо поручениями. А также рекомендовать другим господам.
— Понимаю, — миролюбиво согласился Строганов, машинально поглаживая шрам. — Искренне соболезную. Вы продолжаете считать меня виновным в его участи.
— А кого же, позвольте спросить?
— Если вы не запамятовали, я выручил его из ловушки Кунардов и не советовал возвращаться в Портсмут; он поступил по-своему. Увы, ссора с американскими моряками, только сошедшими в порту, вне моей компетенции. Это судьба.
— Так ли это, граф? Какого чёрта вы устроили цирк со вторым поджогом? Спалили две дюжины людей за просто так?
— Вы позволите мне, наконец, присесть? Правила хорошего тона никто не отменял.
Князь, готовый сорваться на необратимые оскорбления, нехотя буркнул:
— Садитесь.
Сам присел в кресло напротив, отделённый от бывшего товарища низким пустым столиком, тем подчёркнув — рядом с вами мне не место.
— Вы упускаете, Иван Фёдорович, что в основе моего шантажа, благодаря коему Фёдора выпустили во Францию, была угроза мстить Кунардам безотносительно обстоятельств его смерти. От того, что промышленники не побежали в полицию, эта угроза не стала известна в определённых кругах, вы так полагаете? Поэтому я не мог оставить в живых ни их самих, ни свидетелей.
— Вы чудовищны, Строганов.
— Не буду отрицать. Играя с англичанами на их поле, я не могу быть иным.
— Что же вас держит в Британии? — Паскевич откинулся на спинку, сцепив руки на животе. Дела изуродованного человека его не интересовали, но какое-то болезненное любопытство заставило задать этот вопрос.
— Множество причин. Что мне делать в России, проживая под чужим именем? Англия — враг моей Родины, там я свободен от многих правил. Вы же понимаете, что упомянутые activité в отношении Кунардов не совершены в одиночку. Пришлось приступить к организации лондонского преступного мира.
— Мерзость. Как не противно вам, русскому дворянину?
— Ничего необычного, князь. Во время восточного плена стало понятно, что двойная мораль становится нормой современного мира. Повторяю, в Англии я на вражеской территории. Её жители — основа мощи государства противника. Поэтому даже нонкомбатанты рассматриваются только в этом ключе. Они составляют мобилизационный ресурс, трудятся на заводах, делают бизнес, тем самым умножая национальный капитал. Преступные банды отравляли их общество изнутри, но не слишком. Criminalité organisée[22] наносит ему колоссальный ущерб. Одни только поставки опиума в Англию за год возросли не менее чем втрое. Британцы готовы перебить половину населения Китая за право продавать наркотик второй половине? Браво! Тогда пусть изрядная часть имперских подданных тоже разлагается заживо.
Не скрывая презрительную гримасу, Паскевич велел принести курительные принадлежности и охватил губами чёрный длинный мундштук. Строганов предпочёл сигару. Манёвр князя он разгадал.
— Не буду отрицать очевидное — от моих предприятий дурно пахнет, и сей смрад не перебить табачным дымом, если вы на это намекаете. Кстати, судостроение и пароходную компанию Кунардов я прибрал к рукам. После гибели key men[23] они достались мне изумительно дёшево, а недовольных приструнили мои новые лондонские… гм, коллеги.
— Занятно, — Паскевич выпустил щедрый клуб дыма. Табак несколько притупил неприятие атмосферы в присутствии графа, опустившегося до недостойных дел. — Вернёмся к цели вашего визита. На какую службу вы рассчитывали?
— По трезвому размышлению, военная стезя для меня закрыта. Генерал-майоры не появляются из ниоткуда, да в армии слишком много знакомых, кои меня опознают и раскроют инкогнито. Помните книгу Сунь-Цзы? Залогом успеха он полагал разведку и тайные деяния на вражеской земле. Выскажусь определённее. Нынешние волнения на австрийской и германской части Речи Посполитой начались не без английских денег. Как вы знаете, джентльмены ни пенса не тратят впустую. Они надеются раздуть изрядный пожар прямо у русской границы, лишь только круль польский вмешается. Турецкая угроза не отступила, но западная свалится на Россию быстрее. Сумеем быстро наказать их, и Турция присмиреет. Сами понимаете, мне не сложно наладить контакты в обоих германских государствах, в не самых почётных кругах, естественно.
— Заманчиво, но — нет, — решительно отрезал князь. — И на вражеской земле мы не можем позволить себе неразборчивость в средствах. В мае вас жду, пока не смею задерживать.
— Тогда позвольте откланяться, — Строганов встал. — Из Гомеля давно приходили вести?
— Слава Богу, все здоровы.
— Надеюсь, Володя никогда не узнает ненужные подробности. Есть правда жизни, для подрастающих умов ненужная. Благородный разбойник Дубровский хорош только в романе Пушкина.
— Будьте покойны.
Условленная майская встреча не состоялась, Паскевич отправил доверенное лицо.
Зато другие ожидания графа начали сбываться с пугающей быстротой. Польские волнения вылились в настоящее восстание. Канцлер Меттерних при молчаливом согласии императора Фердинанда I отправил австрийские дивизии в Галицию и в вольный город Краков, Фридрих Вильгельм IV также не медлил, приказав утопить в крови бунтующих ляхов. Польский Сейм срочно выбрал нового круля, решительно настроенного — Влади́слава Понятовского, потомка Станислава Августа и внучатого племянника Юзефа Понятовского. Последнего ещё Наполеон прочил в польские монархи, высоко ценя его потомственную ненависть к русским.
Король и Сейм поддержали польских повстанцев. В Австрию и Пруссию хлынули добровольцы из шляхетского ополчения, вооружённые за счёт польской коронной казны. Возмущённые сим вмешательством, Габсбурги и Гогенцоллерны в августе объявили войну.
Понятовский приехал в Москву в конце сентября, после долгих дипломатических реверансов в адрес Демидовых. Он беседовал с регентом, премьером и предводителем думского большинства. После визита, не повлёкшего каких-либо пышных заявлений о русско-польской унии или ином участии Империи в делах бедового западного соседа, регент собрал высший генералитет.
Великий князь Анатолий Павлович Демидов, сравнительно молодой для столь ответственного поста, которому исполнилось лишь двадцать девять, а заступил он на высшую должность в Империи в двадцать один, располнел, оброс бородой и внешне начал напоминать усопшего брата. Внутренне их роднил купеческий расчёт — что выгодно стране.
— Как вы догадываетесь, господа, его королевское величество готов забыть вековую враждебность рода Понятовских к России взамен на военную помощь против Австрии и Пруссии.
Военные напряглись. Во-первых, выступление на стороне Польши повлечёт втягивание России в долгую и тяжкую бойню с двумя мощными державами. Во-вторых, не понятно, ради чего лить русскую кровь, не считая награды в виде соседской «любви» от записных русофобов.
Регент усмехнулся в бороду и добавил:
— Мы ответили, что можем рассмотреть нижайшую просьбу в обмен на вхождение королевства обратно в состав России, включая земли, отбитые у Австрии и Пруссии. Король уехал в возмущении. Посему мой первый вопрос Генеральному штабу: как долго Войско польское сдюжит удерживать германские войска без нашей помощи?
Военный министр Чернышёв ответил за штабистов.
— Ваша милость, мы полагаем, что до осенней распутицы поляки Варшаву не сдадут, а к линии от Гродно до Бреста Литовского разве что к концу зимы откатятся. Ежели вспомнить Смоленск и Бородино, паны лучше французов дрались.
— Стало быть, германцы изведут ляхов не без труда и изрядно истощившись, — подвёл черту великий князь. — Иван Фёдорович, наши тагильские сюрпризы веское слово скажут?
— Всенепременно, ваша милость. Ежели исход войны решится в генеральной баталии — так тому и быть. Однако действия могут раскинуться на изрядные дистанции, например на Польшу и Восточную Пруссию. Так что мало нам полка бронеходов с гренадёрами. Столько же построить надо и отправить их на Кёнигсберг. На случай шалостей прусского флота на Балтике, генерал Шильдер для гостей сюрприз заготовил, потаённое судно, называемое на английский манер субмариной.
Чернышёв явно не обрадовался такому повороту, желая скорее объявить мобилизацию и побольше рекрутов набрать в кавалерию и инфантерию. Дорогие паровые игрушки он по-прежнему не жаловал. Особый снаряд против прусского флота его также не вдохновил — нет у германцев толковых кораблей, с кем силами меряться? Но стерпел, смолчал, когда регент поспешил согласиться с Паскевичем, увеличивая казённый подряд на демидовских заводах.
— Опираясь на ваше мнение, господа, предложу думскому большинству объявить о поддержке ляхам в новом единении неправедно раздробленной Речи Посполитой. Под русским протекторатом, разумеется. С условием вхождения в Империю мы разобьём истрёпанные польской войной прусские и австрийские армии, вернём столь бездарно отданный Кёнигсберг.
На этой бравурной ноте Анатолий Николаевич распустил собравшихся и бросился принимать меры, дабы Россия к началу войны подошла во всеоружии.
За много сотен вёрст от Москвы, не ведая о том совещании, но угадывая логику происшедшего, Строганов терзался от бессилия. Он отправил несколько писем — регенту, премьер-министру, не раскрывая свою истинную личность и предостерегая, насколько чревато для России затягивание её в польский конфликт, если Англия поддержит австро-прусскую сторону; но тщетно. Даже официальные реляции о думских постановлениях, принятых с подачи короны, недвусмысленно свидетельствуют: империя прямиком понеслась в британскую ловушку как экипаж с обезумевшими лошадьми к обрыву.
Накатила чёрная безысходность. Семья потеряна, страна, искуплению грехов перед которой посвятил столько лет, стоит на краю гибели — после поражения на Западе она непременно будет растерзана османами, шведами, персами и любыми другими желающими вцепиться в тушу издыхающего колосса. Время смириться, опустить руки, уйти в монастырь или зажить пустой и равнодушной жизнью где-нибудь на южном французском берегу, начав с чистого листа?
Граф поступил чисто по-русски. Сидя в маленьком трактире на окраине Праги, он медленно, но верно напился до состояния риз. Утратив всяческую рациональность в суждениях, он принял решение вывести из войны хотя бы одну часть тройственного союза Австрия-Пруссия и Англия у них за спиной. О том, что сие выше возможностей одного человека, после очередной бутылки наливки Строганов уже не сознавал, потому внутри себя объявил Австрию потенциально вражеской страной, на которую законы милосердия не распространяются также, как и на Альбион.
Протрезвев, не стал отступаться от надуманного во хмелю. Неоплатный долг перед Россией, накопленный за время служения Пестелю, не возмещён. Господь Бог, отправив в османский плен, отдав Юлию в объятья Паскевича и убив Фёдора, на которого пала тень проклятия, недвусмысленно показал — надеяться на прощение рано. Конечно, смертоубийство, неизбежное в Англии и наверняка предстоящее в Австрии, усугубляет долю. Гибель слуг и членов семьи судовладельца никак не вписывается в священный газават против безбожника, спасение души отодвинулось до бесконечности… Но Строганов сделал выбор — если душа обречена на вечные муки, нужно заняться спасением России, даже если единственный человек, с которым как-то возможно было пробовать договориться, указал на дверь. В одиночку победить империю невозможно. Зато разложить её изнутри согласно заветам Сунь-Цзы вполне посильно.
С этой благородной целью граф отправился в Вену, сохраняя прежнюю личину мещанина Трошкина. Обладая изрядными средствами, он мог бы выправить себе документы любой державы, однако слишком уж приметная внешность выдаёт. Оттого и безжалостность к свидетелям: никто не сможет подтвердить в суде причастность одноглазого русского к неблаговидным делам.
Старинный город на Дунае поразил приезжего. Внешне Вена напомнила австрийского кирасира в парадном облачении — строгого, затянутого в блестящую броню традиций и консерватизма в духе Меттерниха, по сравнению с которым англичане — сплошь вольнодумцы и реформаторы. Но под кирасой пробивалась новая жизнь, коей тесно в габсбургской клетке. Революции во Франции и России оказали своё растлевающее влияние на консервативные устои. Вдобавок, в империи как нигде остро поднялся национальный вопрос. Коренная нация — австрийцы германских кровей — составила менее пятой доли населения. Другие народы требовали если и не отделения, то автономии, признания равных прав с потомками властителей Священной Римской Империи, прекращения онемечивания.
При всех тех проблемах, Австрия внутри себя показалась русскому авантюристу улучшенным подобием Пруссии. Если через Берлин и окрестные земли можно лишь следовать, мечтая побыстрее оставить их позади, в этой стране германские строгие и скупые обычаи изрядно разбавлены славянской лёгкостью и мадьярской лихостью, оттого жизнь приятнее и ярче, не глядя на разрастающиеся усобицы.
До польского восстания здесь и не помышляли о собственной революции, а ветер свободомыслия вдруг вылился… в музыку! В стране, где даже гвардейские лошади скакали в ногу и вываливали каштаны только по команде и высочайше утверждённого размера, вдруг зазвучал ветреный Моцарт, ему вторил Гайдн. Бетховен, оставив мрачноватую Пруссию, приехал в Вену, чтобы обессмертить своё имя. В Бургтеатре звучала скрипка Паганини, после отъезда маэстро поставили оперу «Летучий голландец» Вагнера.
Но не оперные любители выходят на баррикады. Очередная трещина на суровом гранитном лике империи появилась, когда в столице прогремело имя человека, коего Вагнер окрестил «демоном венского музыкального народного духа». Сначала в трактирах, а потом и просто на булыжных мостовых народ безудержно закружился в вальсе под мелодии Штрауса.
Музыка прославила австрийскую культуру нашего девятнадцатого века; она же предрешила закат эпохи Меттерниха. Поэтому не стоит удивляться, что Строганов остановился в маленькой гостинице, скорее даже в трактире «У красного петуха» в венском пригороде Тури. Именно там начинал артистическую карьеру Иоганн Штраус, звучали вальсы, польки, галопы, здесь танцевали пары, соединив руки и сердца под музыку, коей предстояло покорить всю Европу.
Веселье продолжалось и теперь, только по вечерам, а днём трактир был довольно тихим местом, куда по приглашению Трошкина прибыл весьма необычный посетитель.
— Шолом, герр Трошкин.
Иссак Соломон был известен в Англии под кличкой Айки как самый знаменитый скупщик и продавец краденого. Он бежал из каторжной тюрьмы в Тасмании, но в Лондон решил не возвращаться, встретившись с еврейскими сородичами в Австрии, и чудесно вписался в местный криминальный мир. К его большому разочарованию, повторить английский успех не удалось. Наступил шестой десяток, дети давно отделились и живут отдельно, занимаясь с виду законными гешефтами, жена продолжает отбывать срок, не вызывая, понятное дело, больше никаких романтических чувств. На пороге одинокая старость.
Строганов отдал должное — с признаками неизбежного приближения к последней станции Соломон боролся хорошо. Одетый с иголочки в длиннополый зауженный редингот по последней моде, именуемой здесь «бидермейер», в чрезвычайно высоком цилиндре и брюках со штрипками, он походил бы на завзятого соблазнителя дам бальзаковского возраста, если бы не отвратительно длинный нос, изрядный даже для еврейского племени, и крайне неприятные глазки-буравчики, оценивающие собеседника по шкале для краденых вещей: вот бы купить подешевле, потому что ворованное, и продать подороже как честно приобретённое. Тем не менее, он выгодно отличался от привычных до пестелевского отселения российских местечковых иудеев, в заношенных лапсердаках, чёрных ермолках, с масляными пейсами и тошнотным запахом чеснока.
К еврейскому племени граф сохранил двойственное отношение. Откровенно не любил, как многие русские, при этом испытывал подспудное и неистребимое чувство вины. Зондеркомманды и концлагеря были в его ведении. Не существует грехов, явных и мнимых, оправдывающих десятки тысяч еврейских могил, обильно появившихся в годы Республики.
— Гутен таг, герр Соломон. Как вы знаете из моего письма, вас рекомендовали уважаемые люди из Лондона.
— Ой вей, Лондон! Мой маленький и навсегда потерянный рай. Тяжело жить старому еврею, не имея возможности съездить на могилы дорогих родственников.
— С этим я помочь не смогу. Со Скотланд-Ярдом шутки плохи. А вот немного заработать — другое дело.
— Таки говорите яснее. Немного — это сколько в фунтах стерлингов?
— Миллион. Это ваша доля. Всё, что свыше — моё. Устраивает?
— Таки вы обратились по адресу, герр Трошкин. Изложите подробности гешефта.
Маленькие глаза перекупщика загорелись. Русский выдержал небольшую паузу и взорвал бомбу.
— Я собираюсь ограбить крупнейший банк Вены. Вы поможете с исполнителями из местных. За это я плачу миллион из добычи.
Соломон никогда не занимался подобными делами, горячие каштаны из огня для него таскали гои. Однако отказываться от такой суммы не разумно. Только последний шлимазл[24] прогонит птицу удачи, посетившую старого Иссака.
— Таки да, герр Трошкин. Я буду иметь с вами бизнес.
Одноглазый грабитель предпочёл бы иметь дело с Паскевичем и офицерами из Военного министерства. Судьба сделала другой выбор.
Глава шестая, в которой Строганов затевает самое опасное предприятие в своей жизни
Иссак Соломон принялся собирать сведения об австрийских банках. На сей стадии подготовки граф перебрался из трактира в съёмные апартаменты ближе к центру столицы и прекратил затворничество, появляясь в опере, на скачках, а также в конторах некоторых торговых домов. Тяжеловесный дом постройки середины прошлого века имел замечательное качество — возможность выхода с чёрного хода в проулок, где Строганов с лицом, затянутым в маску, прямиком с порога попадал в закрытый экипаж, неприметно перемещаясь по городу и тайно встречаясь с еврейским соучастником; крайне изредка — и с другими нужными людьми. Слишком бурная деятельность неизбежно привлекла внимание тех, кто по роду службы призван не допускать противозаконных дел.
Однажды утром в последних числах августа Строганов вышел из дому не таясь и был остановлен на пути к экипажу высоким офицером с красным важным лицом и закрученными вверх тонкими чёрными усами.
— Герр Трошкин? Я — гауптман Императорско-королевской жандармерии Штерн. Есть приказ срочно доставить вас к полковнику фон Шварцу.
— Польщён вниманием, герр гауптман. Полагаю, я арестован?
— Найн, — ответил жандарм, выразительности голоса с которым поспорил бы каменный истукан. Наверно, укладываясь в постель с благоверной, офицер столь же ровным уставным тоном командовал: фрау Штерн, есть приказ вам исполнить супружеский долг. — Полковник велел выказать уважение.
А не лупить прикладом по затылку — и на том спасибо, подумал Строганов, за годы османского плена привычный ко всему. На сей оптимистичной ноте он забрался в полицейскую повозку. Гауптман сел напротив, вперив взгляд в «герра Трошкина» — видно, именно так выказывается полицейское уважение. Тот с интересом рассмотрел будущего противника.
Форма жандармерии покроем напоминает гусарскую. Тот же короткий плащ поверх куртки-доломана, по случаю тёплого времени года наброшен на левое плечо и держится на шнурке. За этот плащ, ментик по-венгерски, Соломон и прочие венские уголовники именуют местную полицию «ментами». Как водится, меткое словечко из низких слоёв общества быстро прижилось, вошло в господский лексикон и даже употреблялось самими жандармами.
Полковник походил на гауптмана только мундиром, в остальном — совершенно иной типаж, из совмещающих армейскую выправку с интеллигентными разговорами о философии и музыке. Лицо тонкое, благородное, усы аккуратно подстрижены, и бакенбарды не пытаются достать до подбородка.
Под стать ему обстановка кабинета — строгая мебель, серые и коричневые тона, даже свечной канделябр на конторке без обычных завитушек, скорее как прусский зольдат по стойке «смирно». Зато на полочке томики Гегеля и Канта, в одном из них в виде закладки торчит синий уголок оперной программки. Этот штрих призван убедить визитёра, что заместитель начальника венской жандармерии не чужд высокой культуры.
— Гутен таг! Присаживайтесь, герр Трошкин.
— Данке, герр полковник. Чем обязан такому вниманию?
— О, всего лишь предосторожность, — жандарм, учтиво вставший при виде входящего русского, снова устроил тело в кресле, сохраняя идеально прямую спину и слегка вздёрнутый подбородок.
Строганов много лет тщился освоить привычку сидеть вальяжно и чуть развалившись, как полагается нонкомбатанту. Но стоит лишь чуть ослабить внимание, и вбитые с детства привычки берут своё — тело выравнивается доской. Кажется, что оно готово маршировать строевым шагом, не подымаясь с кресла.
— Дело в том, что мы собираем сведенья обо всех наиболее интересных фигурах из европейских держав. В Англии у вас чрезвычайно странная репутация, герр Трошкин. Вы приехали в Лондон, внезапно разбогатев в России, хотя самого простого мещанского происхождения. Так?
— Абсолютно верно. Батюшка и матушка — ординарные городские обыватели, — привычно солгал граф, начиная понимать, откуда дует ветер.
— Стало быть, с быстро нажитыми капиталами оставаться в России получилось не комильфо.
— Верно, вы исключительно проницательны, герр полковник. При Демидовых слишком предвзятое отношение к богатству, сколоченному в годы Рейха.
— Из награбленного у дворян, сосланных в Сибирь?
— Отнюдь! — Строганов развёл руками. — Для этого требовалось быть приближённым к Пестелю, а также, простите, носить германскую фамилию. Однако с казёнными подрядами творился тогда хаос, да изъятие пахотных угодий у землевладельцев повлекло спекуляции с землёй, в коих грех было не заработать. Не буду уверять вас в ангельской чистоте действий своих и помыслов, но разбоем на большой дороге я не промышлял.
— Допустим, — произнеся это веское слово, барон сцепил пальцы рук, образовав на столе сдвоенный кулак, знак скрытой угрозы. — Отчего же столь дурна ваша репутация в Англии? Вам приписывают убийства, шантаж, мошеннический захват судовой компании.
— При этом ничего не могут предъявить ни Скотланд-Ярду, ни суду, верно? Такова планида приезжего, обосновавшегося в Лондоне. Я скупаю фирмы, недвижимость, корабли, плачу подати наравне с самыми законопослушными подданными её величества и тем вызываю неприкрытую зависть англичан. Мало кто из них, мнящих себя повелителями планеты, достиг подобных успехов. К тому же — русский, из медвежьей страны. Полагаю, они скорее бы стерпели жида, сбежавшего из России, ибо к еврейской оборотистости привыкли. Увы — я христианин, потому более нетерпим для них, нежели иудей. Парадокс? Ничуть. Надеюсь — в многонациональной Австрийской империи мои дела не будут омрачены местными предрассудками.
— Какие дела? — добрался до сути полковник.
— По первости — железная дорога. Гористая местность да денежные трудности после наполеоновских войн здорово задержали применение пара. Для австрийцев и мадьяр голубой Дунай — ваше всё, как и сто лет назад. Отставание от России и Англии катастрофическое, вы не находите?
— Слишком сильно сказано. Трудности — да, катастрофы в этом не усматриваю.
Как раз работаю в сём направлении, усмехнулся про себя Строганов.
— Интерес представляют ваши горные предприятия, а также банки. Деньги правят миром, Австрия — не исключение. Возможно, я прикуплю какой-либо банк или свой открою. Как видите, планы воистину бонапартовские.
— Завоевать нашу империю? — иронично поднял бровь Шварц.
— Не всю! Только лакомый её кусочек. А самой империи от этого будет изрядная польза.
— Хочется надеяться. Только ваши, с позволения сказать, методы, особенно если они в духе приписываемых вам в Англии, герр Трошкин, вселяют беспокойство. Вы встречались с Иссаком Соломоном?
— Вот оно что! Да, и не только с ним. Вы же понимаете, полковник, я — выходец из подлого сословия. Могу купить в Британии титул, но это дел не меняет, многие дома для меня закрыты. Посему общаюсь с разными людьми, с некоторыми чрезвычайно неприятными. Однако не вижу в том ничего дурного. Соломон — завзятый мошенник и скупщик краденого, но он долго жил в Англии, понимает меня с полуслова. А у кого как не у евреев узнавать про ростовщические и прочие банковские дела?
Жандарм отстучал по столешнице дробь, напоминающую штраусовский галоп. Когда холёные пальцы остановились, он подвёл черту.
— Вы складно всё объясняете, герр Трошкин. Тем не менее, подозрения остаются, и серьёзные. А в военное время законы действуют особо сурово. Считаю своим долгом предупредить вас — остерегайтесь совершить нечто неблагоразумное. Здесь не Англия.
— И это обнадёживает, герр барон. Смею надеяться, что война с Польшей быстро окончится.
— Всенепременно! На сём не буду вас больше задерживать. Ауфидерзейн.
— Ауфидерзейн, герр полковник.
Разумеется оба рассчитывали на весьма разный исход этой войны.
Ночью граф подробно расспросил Соломона про полковника.
— Таки да, серьёзный мент, кость в горле.
— Неподкупен? Или дорого просит?
Еврей поёрзал на потёртом сиденье закрытой коляски. Строганов усвоил уже, что подобные всплески нервозности у партнёра возникали при мысли о расставании с крупными суммами.
— Не пробовали. Опасались, что цена велика. Вы же знаете, если поц в больших эполетах запросил денег, он таки ждёт эти деньги и бывает весьма расстроен без них или получив меньше.
— Вот как. Он богат?
— Не слишком. Делает карьеру ради денег.
Граф задумчиво провёл пальцами по шраму на щеке.
— Пробуем английский метод. Сдам барону какого-нибудь венского грабителя и заодно предложу некоторую мзду, чтобы и дальше свистел в нужную сторону.
Печальные еврейские глазки настороженно сверкнули в полумраке, рассеиваемом только светом, падающем с улицы из газового фонаря.
— Успокойтесь, компаньон. Это я финансирую. С вас — шлимазл из местных уголовников, коего приносим в жертву.
Этот расклад Соломона устроил. На прощание он предупредил, что близ жилища Трошкина обнаружены жандармские филёры.
— Ничего страшного, Иссак. Пусть думают, что всё знают о моих передвижениях. Нужен способ, чтобы при необходимости сбить их со следа.
— Обеспечим, будьте покойны — не впервой.
На следующую встречу венский прохиндей прибыл настолько загримированным, что на несколько секунд ввёл Строганова в заблуждение, тем более лакей представил «его светлость барона фон Мюллера».
— Вы так и меня собираетесь выводить из дома — в шутовском наряде?
— Я вас умоляю, герр Трошкин, — еврей обмахнул платком вспотевшее под изрядным слоем грима лицо. — Долго! Мой Йося затратил час.
И не зря. Пожилой уголовник превратился в толстого бюргера средней руки, мясистым носом скрыт жидовский изгиб, лохматыми бровями — семитский разрез глаз и вековечная тоска о недостижимом еврейском счастье. Малиновый второй подбородок победоносно перевалился через воротник, похоронив галстучный узел. Театральная столица мира умеет преображать.
— Зато, клянусь бородой Пророка, Йося так же лихо нарисует герра Трошкина поверх кого-то из наших, и менты поведутся.
— Возможно. Передайте Йосе, что провал по его вине обернётся не казнями египетскими, а чем похуже. Ладно, Соломон, с чем пожаловали?
Тот расстелил на столе гостиной схему Вены. Нарисована она была с тем же тщанием и основательностью, с коими неизвестный гримёр изобразил старческие пятна на хитром лице скупщика. Строганов без труда сориентировался по главным зданиям — дворцам Шёнбрун и Хофбург, Собору Святого Стефана. Красным цветом, оповещающим об опасности, помечены абтелунги Императорско-королевской жандармерии. По неприятному совпадению, они полукругом охватили здание Центрального банка империи с казначейством. Иссак перехватил взгляд компаньона и покачал головой.
— Ой вей, главный банк — самая заманчивая цель. Но не думаю, что лучшая, да. Финансы страны расстроены, что мы увидим внутри — горы гульденов, которые в насмешку над традициями чеканят из серебра[25]. Мой Бог, как среди жандармских казарм мы вывезем десять возов монет?
— Жаль! — граф с сожалением оторвал взгляд от самого лакомого куска и вперил единственный глаз в синюю метку Шелербанка. — Глядите, вот удачно расположенная цель — за Карлскирхе, неподалёку от Карлсплац. Путь отхода хорош, по мосту за реку, там — поминай как звали.
— Нет, вы знаете, там совершенно невозможно! Банк бедный, маленький, грех обижать.
Строганов с подозрением оглядел помощника.
— Не нравится мне ваша неискренность, Иссак. В чём дело?
Под толстым слоем грима мимики не разобрать, но и без этого стало ясно, что беспардонный и невозмутимый Соломон чуть смешался.
— Только не надо подозрений и ненужных нервов, герр Трошкин. Да, банк принадлежит почтенной еврейской семье. А чтобы мы решились грабить своих, нужна более важная причина.
— Ладно. Но сразу предупреждаю — никаких околичностей и недомолвок. Чуть заподозрю в обмане, и никакого гешефта. Смею надеяться, вы меня поняли?
— Честный Соломон никогда не обманывает. У меня на примете другой банк, вам понравится, уважаемый.
Венское отделение Шпенглербанка из Зальцбурга поначалу не вызвало интереса, однако Иссак убедил, что столичные богатеи хранят там золото в количествах, о коих казначейству ныне и не мечтать. Расположение на вид неплохое. Виднер Хауптштрассе, в проулке близ которого главный вход в банк, находится к югу от центра. В районе Видена сносят остатки крепостной стены и строят бульвар — в том беспорядке запросто укрыться перед началом ограбления. Наконец, ближайшее отделение жандармерии в доброй миле севернее.
— Гут! Но, мой обрезанный друг, если куш внутри окажется изрядно меньше обещанного, страдает ваша доля, — твёрдо постановил Строганов, выслушал причитающийся к случаю спич о бедных евреях, которых хотят обидеть уже загодя, и утвердил цель.
Подготовка пьесы заняла без малого месяц. Граф в истинном обличии, без грима, очков и маски посетил злополучную финансовую контору, огляделся там, снял сейф и даже положил немного денег на хранение. Заодно расспросил про надёжность охраны.
Управляющий филиалом, внешне напоминающий персонаж, под которого однажды гримировался Соломон, заверил, что дорогому клиенту решительно не о чем волноваться. Во-первых, главный банк в Зальцбурге выступает гарантом. Во-вторых, здесь устроена особенная система безопасности. Скрытый клерк, до которого быстро не сможет подобраться ни один грабитель, поворачивает специальную рукоятку, и электрический ток бежит по гальваническим проводам в ближайшее отделение жандармерии, откуда на выручку спешит конный отряд.
— Девятнадцатый век — эпоха прогресса и современной техники, герр Трошкин. Мы не работаем по старинке, изобретения лучших умов германской нации на службе у финансов. Можете не волноваться и доверить нам ваши ценности.
— Данке, герр Шафскопф! Непременно так и поступлю.
Соломон, доселе неодобрительно высказавшийся о самоличном походе Строганова в банк, получил примерную взбучку.
— Миля, говоришь, до жандармов? И сколько же времени потребуется, чтобы проскакать милю по мостовым? Быстрым аллюром — минут десять от силы! Много погрузишь за десять минут, далеко убежишь?
Соломон разразился проклятиями в адрес бессовестных гоев, придумавших кучу пакостей, лишь бы досадить бедным евреям. Граф резко оборвал его.
— Иссак, вы точно в Англии и Тасмании ходили в авторитетах? Действуйте, а не болтайте как шестёрка.
Тот булькнул от негодования и исчез. Зато на следующей конспиративной встрече, состоявшейся по всем законам романов о тайных заговорщиках — в тёмном уголке кабачка неподалёку от Штефансдома и при низко опущенных капюшонах, привёл всклокоченную личность, представленную венгерским студентом Шандором Кечке. Представившись, школяр начал с фразы, которую обронил банкир:
— В девятнадцатом веке, веке прогресса, надлежит пользоваться самой современной техникой, герр… простите, не расслышал вашего имени.
— Не важно. Продолжайте, — ответил Строганов по-французски, которого совпадение мыслей студиозуса и банковского служащего внезапно успокоило. Кто одинаково думает, имеет одинаковый подход к делу.
— У меня лишь одно условие, господа, — Шандор чуть сменил тему. — Моя доля должна пойти на закупку оружия для Мадьярской национальной партии. Нам пора занять достойное место в империи, а не на её задворках!
— Не слышал о такой партии, — буркнул Соломон, на что венгр радостно возразил:
— Будут ружья — будет и партия!
— Мы уклонились, — напомнил граф.
— Да! Я наслышан о банковской, как её называют, «Электришезихерайдсистим». По словам герра… — студент повернул голову в сторону капюшона, из-под которого доносился голос Иссака. — Простите, не расслышал вашей фамилии.
— Гудериан, — брякнул тот первую пришедшую на ум фамилию. — И так?
— Да! — непонятно с чем согласился Шандор, взъерошив и без того растрёпанные кудри, сам Бетховен бы позавидовал. — В каждом банке есть рубильник, такая рукоятка с гальваническими верёвками. При её повороте от гальванического элемента ток по проводнику бежит в жандармский участок, где магнитическая катушка притягивает молоток, и он бьёт по бронзовому колокольчику.
Он не видел лица слушателей, но догадался, что новейшие понятия электрической физики тяготят собеседников, поэтому упростил пояснения.
— Представьте, в банке, образно говоря, есть ниточка, дёрнув за которую вы заставляете звонить колокольчик и вызывать отряд ментов. Грабитель не успеет ничего вывезти, а жандармы тут как тут! Весьма остроумная и научная затея, смею сказать.
— Как быстро бежит ток к участку? — осведомился голос из-под капюшона, венчающего более высокую фигуру. — Быстрее лошади?
— Быстрее пули! Практически в ту же секунду.
Строганов и Соломон переглянулись, практически ничего не увидев в тени. Очевидно, мадьяр несёт чушь — что может обогнать пулю? Однако времени действительно мало. Нужно придумать что-то иное.
— Допустим. Как обрезать ту верёвочку?
Мистер Кечке похолодел. Он, разумеется, догадывался, что пригласившие его на эту встречу евреи — сомнительные личности, и предстоит нечто особенное. Но ограбление банка… При этом мрачный французский голос недвусмысленно дал понять — ты в деле и раньше времени выйдешь из него только вперёд ногами.
— Не знаю… Они под землёй.
— Будем искать, — подвёл черту назвавшийся Гудерианом. — Вы понимаете, сейчас вам неблагоразумно выезжать из Вены, и упаси вас Бог обсуждать этот разговор даже с родной мамой и равви…, я хотел сказать — пастором на исповеди.
Студент удалился, не допив пива и не ощущая ни малейшей радости по поводу ожидаемого предприятия.
— Иссак, он мне не нравится. Рассеян, труслив.
— Таки да! Дадим объявление в газету «Абенд Вин»: нужен электрический специалист в роли подельника на ограбление банка.
— Вы правы, выбор невелик. Пусть работает, но глаз с него не спускать. А как вы найдёте эти… верёвочки?
— Гальванические проводники, — Соломон щегольнул знанием новомодных словечек. — Поверьте, с открытия банков никто не роет канав. Стало быть, протягивают их по старым ходам, канализационным и водопроводным. Поищем, это не Грааль.
Глава седьмая, в которой жандармы узнают, что герр Трошкин — любитель спектакля «Волшебная флейта» Вольфганга Амадея Моцарта
Инициатор авантюры выбрал самый дерзкий способ обеспечить alibi — назначил её на позднее время и отправился на спектакль, ангажировав Fremden-Loge, почётную ложу для высоких иностранных гостей. Театр Ан дер Вин, шикарное сооружение в стиле ампир, в честь бессмертной оперы Моцарта имел даже отдельный вход, именуемый «Ворота Папагено» — в честь персонажа «Волшебной флейты».
Строганов прибыл туда загодя, поприветствовав венских знакомых, затем чинно занял место в ложе. Позади неё находилась небольшая комнатка, обставленная диванчиками, где дожидался двойник, которому наносили на физиономию последние штрихи. Слабое место в плане — слишком многие вовлечены. Однако ничего не поделать, гримёр и его жертва не могут не знать персону, кою предстоит изображать.
Граф исчез из театра при первых же звуках музыки. В толчее фиакров, кабриолетов и монументальных карет он забрался в скромную крытую повозку, тотчас направившуюся к Хауптштрассе. Двойник досмотрел первое действие практически до конца и под звуки флейты, отпугнувшей мавра Моностатоса, покинул ложу. На площади перед Ан дер Вин он долго ждал карету, чтобы в поле зрения филёров попасть наверняка, потом неторопливо поехал домой. В зрелом возрасте мигрень — нередкая напасть.
Пока на сцене оперы и театральной площади разыгрывались спектакли, возле Шпенглербанка началось иное действо, режиссированное совсем иначе. В давно закрытую дверь замолотили подвесным молотком, грубо и настойчиво, как стучатся люди, имеющие на то полное право.
— Откройте! Жандармерия!
Откинувшаяся створка обнажила бойницу чуть шире ладони. Не то что человеку — кошке пролезть сложно.
— Что вам угодно, герр… — банковский служащий не разглядел знаков различия и неучтиво окончил: — Герр жандарм?
— Откройте! Зазвенела «Электришезихерайдсистим».
— Но в банке нет посторонних.
Офицер придвинулся вплотную к окошку, втиснув в него лакированный козырёк и чёрные пышные усы.
— Я и хочу убедиться. Вдруг — вы грабитель. Открывай! Шнелле! Не то буду стрелять и ломать!
Отставной офицер изрядно перепугал банкира, точно подобрав хамски-командный тон людей, облачённых властью и готовых её применять, сметая преграды. Загремели запоры. Однако за открытой дверью охранник не увидел жандармского эскадрона. В свете газовых фонарей притаились гражданские. Лжеофицер воткнул дуло пистолета в грудь и рявкнул:
— Назад! Пристрелю.
Четверо вооружённых людей могли бы противостоять грабителям. Но кто хочет бросаться на пистолет ради хозяйского добра? Вдобавок при недвусмысленных звуках налёта верный Ганс повернул рычажок новейшей гальванической аппаратуры, за которую столько гульденов плачено, и можно спокойно ждать настоящих жандармов. И даже изобразить покорность, неторопливо отворить хранилище, позволив разбойникам наполнять мешки. Ждать-то каких десять минут.
Однако налётчики не теряли времени зря. Как только открылся главный сейф, один из гражданских впустил в банк ещё сообщников. Мешки с деньгами и золотом потекли к выходу.
Строганов с Соломоном обозревали действия команды из кареты футах в шестидесяти от входа. В тихом проулке безлюдно и закрыты все ставни — итальянская кондитерская, две лавки модного платья, шорная мастерская и подобные им предприятия запирают двери задолго до темноты. Естественно, через десять минут конная жандармерия не примчалась. Как только обрезанный провод пропустил ток, и в подземном канале у жандармерии звякнуло хитроумное устройство, принесённое туда мадьяром, он повернул свой рубильник. Посему в отделении брякнул иной колокольчик, бравые стражи порядка прыгнули в седло и понеслись в противоположном направлении — в северную часть города, словно оттуда прозвучал призыв о помощи.
Но в столице империи масса и другой полиции. Едва началась погрузка награбленного, Строганов с досадой увидел пару пеших жандармов, заинтересовавшихся странной суетой в позднее время: из здания вышли трое крупных парней и закинули раздувшиеся мешки в повозку.
— Иссак, их двое. Сделайте, чтобы их пригласили пройти внутрь банка. Пусть удостоверятся, что там — порядок, — в командных интонациях графа лязгнул металл.
— Азохн вей! Они запомнят моё лицо, — оробел Соломон.
— Не трусьте. Где ваш подельник, что изображал мента в начале?
— Рядом… Герр Трошкин, но внутри связанные банкиры.
Единственный свирепый глаз упёрся в еврея.
— Снова в Тасманию захотелось? Думаешь, они подышат воздухом и свалят? Заманить внутрь и связать! Бегом!
Проклиная судьбу и сетуя на вечную несправедливость, Соломон похромал к банку исполнять задание. Они несколько раз обсуждали вариант с внезапным вмешательством полиции, но у матёрого уголовника жила надежда избежать этого. Месть легавых страшна и безжалостна. С другой стороны, не убивать же их. Ну, полежат связанными, разозлятся, потом успокоятся. Огромные деньги не зарабатываются просто так.
Иссак что-то сказал жандармам и вежливо протянул ладошку в сторону входа — пожалуйте, мол. Строганов выждал две минуты, поправил маску на лице и вышел из кареты.
В проулке никого, кроме возниц с награбленным. Быть может, они чуть насторожились, завидев персону в чёрном и в непроницаемой маске, однако время такое. Даже на бал многие теперь отправляются, прикрыв лицо, дабы не попадаться на глаза ревнивым мужьям и жёнам.
Внутри графа встретили перепуганные соучастники. Взломанные ящички, кружащиеся в беспорядке бумаги, среди которых бестолковые джентльмены удачи рассчитывали найти что-то ценное, сразу оповестили жандармов, что банк попросту грабят. Поэтому следы борьбы в виде поломанной мебели нашлись прямо около входной двери, а бригадир бандитов, крепкий кряжистый мужчина по кличке Халбьюдиш[26] потирал ушибленную скулу.
— Не было такого уговора — ментов вязать!
Он видел Строганова лишь раз, также замотанного в маску, и по подчинённым повадкам Соломона усвоил, что таинственный незнакомец — главный в сём ограблении.
— Легко исправить. Развяжите, сдавайтесь. Они не обидятся — возрадуются, получив повышение за вашу поимку.
— Гевалт! — яростно воскликнул бандит. — Из-за проклятого гоя меня будет искать весь жандармский корпус империи.
Строганов заглянул за конторку. Связанные охранники с мешковиной на голове брошены вповалку. Недовольное шевеление и мычание рассказали, что они до сих пор живы — расчётливые евреи и в запале налёта старались не наработать на пожизненную каторгу.
— Где?
Соломон кивнул в сторону боковой двери. Граф шагнул в неё и плотно притворил за собой. Маленький кабинет с окном, плотно задёрнутым шторой, очевидно, принадлежал управляющему. Добротный стол с массивным бронзовым прибором, низкий диван из коричневой кожи, только входящей в моду, такие же кресла на массивных ножках — всё это свидетельствовало о благополучии и изрядной солидности заведения.
Оба жандарма покоились на креслах, наскоро связанные и обезоруженные. Оба — офицер и капрал — высокие, сильные, с полнокровными холёными лицами, слегка помятыми, как и форма, от короткой энергической борьбы с еврейскими налётчиками.
— Бонсуа, месье. Миль пардон, — хоть как-то маскируясь, Строганов переходил на французский язык. — Вас скоро освободят. Один только вопрос: есть ещё патрули у Хауптштрассе?
Лейтенант смолчал, а молодой капрал зло бросил:
— Разницы нет. Я видел Халбьюдиша. Его в жандармерии всякий знает. Ваш арест неминуем — сдавайтесь!
Граф покачал головой. Надо же, в связанном виде человек продолжает пребывать в уверенности, что жандармская форма защитит. Зря капрал это сказал.
— Эскьюземуа, месье. Я не могу позволить вам дать показания в суде.
Хотя Александр Павлович готов был к бурным действиям жандарма, но тот смог удивить. Резко выпрямился, отчего связанные в запястьях руки проскользнули за спинкой кресла, и прыгнул головой вперёд, сбивая графа с ног. Затем капрал перевернулся и сильно ударил связанными ногами в голову, Строганов лишь чуть увернулся. Каблук сапога сбил маску с лица. Не желая звать на помощь, он выпрямился, схватился рукой за шнуровку на груди отчаянно брыкавшегося полицейского, вторую сунул в карман сюртука за верным «дерринджером».
Выстрел в сердце из маленького пистолета, прижатого стволом к мундиру, не громче падения увесистого тома Библии со стола. Убийца опустил обмякшее тело и перезарядил оружие, спрятав стреляную гильзу в карман.
— О майн Гот! — впервые подал голос лейтенант. — Я клянусь, что никому не расскажу об увиденном. Пощадите меня ради детей!
У налётчиков тоже есть дети, подумал Строганов, вторично заряжая «дерринджер». Он шагнул к зеркалу, отряхнул и поправил одежду, вернул маску на прежнее место. К сожалению, на скуле кровоточащая ссадина от жандармского сапога. Но сие — не самая насущная проблема.
Граф вернул капрала на кресло. Маленькие дырочки на мундирах не бросаются в глаза. С виду — блюстители порядка просто оглушены. Неумолимые признаки смерти овладеют телами чуть позже.
— Что за шум? — в один голос спросили Халбьюдиш и Соломон, когда Строганов покинул кабинет управляющего.
— Доходчиво объяснил им, что не нужно откровенничать. Закончили погрузку? Ходу!
От слуха не укрылось недовольное ворчание полужидка — раскомандовался тут.
Две коляски с поднятым верхом помчались к мосту через маленькую речку, давшую имя столице Австрии. Карета с графом и Соломоном последовала сзади. Вопреки некоторому сопротивлению беглого каторжника, Александр Павлович втиснул его рядом с собой.
— Иссак, ты отвечаешь за громил. Какого дьявола он позволяет себе раскрывать пасть?
— Вы же понимаете, в империи нельзя трогать жандармов, — заюлил Соломон. — Таки волнительно это.
— А вы за мильён фунтов собрались на увеселительную прогулку? За обычный променад столько не получают. И где ваш поц, что должен был стоять на шухере?
— Не надо нервничать, герр Трошкин. — Сейчас приедем, посчитаем, и все будем довольные.
Всенепременно. Особенно лейтенант с капралом, их коллеги, родные и близкие. Нет, с еврейскими уголовниками крупное дело нельзя было начинать. Их стезя — мелкий шахер-махер. Строганов со злостью глянул на скорбный остроносый профиль в тёмном уголке кареты. Если и при расчёте вздумаете надуть, сегодня не в первый раз проливать кровь. Рука погладила объёмистый саквояж.
Хорошо это или плохо, что, загубив случайно подвернувшихся жандармов, он испытал волнение? Они — военные, подданные империи, что стоит на грани столкновения с Россией. Надо ли жалеть противника? Но так рассуждая — не грех достать «кольт» и начать самолично отстреливать партикулярных господ на улицах Вены, они тоже могут быть призваны в армию и палить в русских.
Решив оставить самокопание на более спокойные времена, граф увидел, как карета минула горбатый мостик через Вену и благополучно вкатилась под арку, попав во внутренний дворик невысокого каменного дома, скудно освещённый единственным фонарём. Он выскочил наружу и поднялся по лестнице за подручными Халбьюдиша, утащившими внутрь добычу.
Пересчитывали её трое. Унылое и грязноватое помещение, пахнущее сыростью и чесноком, навевало не самые хорошие предчувствия. Строганов, Соломон, а также подпирающий стену полуеврейский бригадир пребывали в тяжёлом молчании. Счетоводы не участвовали в налёте, и граф мысленно посчитал, сколько народу вовлечено в преступление. Пятеро в банке, три возницы, двое на шухере, проспавшие патруль, двойник и гримёр — уже дюжина, помимо самого Александра Павловича и Соломона. Ах, да — студент Венского политехнического университета. К утру обнаружатся трупы и начнётся облава, через день-два жандармы нащупают концы. Исполнителей нужно срочно убрать из города, пока не стихнет первый переполох.
Наконец, старший из счётчиков переписал на единый листок сумму золотых и серебряных монет, а также ассигнаций разных государств. Строганов водрузил раскрытый саквояж на стол, тем показывая — жду своей доли.
— У меня дурные новости, — скривился старый пройдоха. — Вместе с бумажными деньгами набралось всего лишь девятьсот тысяч фунтов, а вы обещали мильён.
Присутствующие напряглись. Названная Соломоном сумма огромна, никто из евреев и близко не находился рядом с такой, достаточной для оплаты пяти военных пароходов. Но они учуяли, что в условиях гешефта появилось изменение, позволяющее немного повернуть расклад в свою пользу, и не преминули этим воспользоваться. Такова их природа — не будем же, право, упрекать крокодила в хищности, а слона в излишней массе.
Строганов, прошедший неплохие университеты среди османских и английских уголовников, тут же кинулся в атаку.
— Стало быть, ты мне должен, Соломон. Ты выбрал чахлый банк. Ты привёл шлимазлов, что на шухере стоять не могут.
Евреи заголосили. Старый Иссак оказался меж двух огней. Русский, которого он инстинктом боялся больше, нежели всю шпану Вены, шутить не будет. Потом исчезнет, и придётся отдуваться перед Халбьюдишем, которому Соломон не поведал о возможном жандармском вмешательстве, рассказывая, что цимес гешефта в безопасном получении золота; думал — мадьярский студент отправит жандармов в другую сторону. Возможно, каторжник и выкрутился бы, но нетерпеливый бандит вытащил из-под лапсердака большой пистолет и взвёл курок, а Строганов выхватил «дерринджер». Два выстрела почти слились. Однако кремниевое оружие выпускает пулю с крохотной задержкой, тогда как карманный убийца палит немедленно.
Граф прыгнул в сторону, пуля впилась в доски в каком-то дюйме от его головы. Полужидок уронил пистолет, схватившись за ранку в плече, а Строганов выдернул «кольт» из саквояжа, взводя курок.
— Здесь шесть пуль, вас пятеро. Ежели кто раненый останется — добью, чтоб не мучился.
Хор возмущённых голосов затих, считальщики грохнулись на пол, устраняясь от дальнейших споров.
— Таки мы выяснили, что разговаривать нужно уважительно, — заключил Соломон, осуждающе глянув на простреленного товарища. — Каковы ваши разумные предложения?
Русский поправил маску, перехватил рукоять поудобнее и заявил:
— По всем понятиям выходит, что вы нарушили условия гешефта, а деловой разговор решили заменить подлым убийством. Поэтому — золотые гульдены в этот саквояж, остальные делите как хотите.
Соломон хотел что-то возразить, но чёрный глаз кольта, нащупавший горбинку на его переносице, отбил желание спорить. При всей словоохотливости, он решился заговорить лишь в пригороде Буды.
— Таки вы меня не убьёте?
— Я никогда не делаю этого зазря, — Строганов улыбнулся своей странной и страшной улыбкой, которая на безобразном лице скорее походила на ухмылку. При её виде двойник и гримёр, скукожившиеся на другом сиденье кареты, вздрогнули от дурного предчувствия. Не оставлять свидетелей — это входит в понятие «не зазря»?
При расставании трое пособников русского получили очень приличную сумму: даже после штрафа, наложенного графом за попытку стрельбы при дележе, евреи остались совершенно не в накладе и могли праздновать самое успешное ограбление в истории криминальной Австрии. Оно стоило того, чтобы скрыться из страны и вдали от неё зажить припеваючи.
Это понимал и Шандор Кечке, который срочно уехал из столицы, обосновавшись в Пеште. Лидер новорождённой Мадьярской национальной партии через неделю удостоился визита отлично одетого господина с обожжённой половиной лица.
— И так, герр Кечке, вы участвовали в налёте на банк, где я хранил свои сбережения.
Смуглый от природы Шандор побледнел как снег. Строганову показалось, что через минуту начнут бледнеть сединой и чёрные гусарские усы, неуместные на типично школярском лице с круглыми стёклышками очков.
— Отку… гм… Откуда вам известно?
— Не важно. Плохо одно — там хранились средства, кои отложены были на поддержку освободительных движений на землях Австрийской тирании.
— Майн Гот! — воскликнул начинающий политик, точь-в-точь как жандарм перед смертью. — Как же это исправить?
— Работать дальше! Назовите, с кем вы намерены вместе идти на баррикады? Сколько нужно ружей и пистолетов? Отвечайте!
Ни в грош не ставя студента в качестве лидера карбонариев, Строганов смог выйти через него на действительно стоящих националистов, готовых воевать до последнего живого австрийца — Шандора Петёфи, Пала Вашвари и Михая Танчича. Вскоре по Дунаю поднялась баржа, гружёная корзинами с обычным товаром, в трюме которой приехали сотни ружей и пистолетов, порох и свинец. Современное американское оружие — винтовальные магазинные карабины и револьверы — граф не стал сюда ввозить, ибо оно когда-нибудь да выстрелит по русским.
Заодно выяснялась одна чисто политическая неприятность. Эрцгерцог Иосиф Антон Иоганн Австрийский, фактически — наместник императора в мадьярских землях, был до прискорбия популярен среди венгров и умудрялся сглаживать резкие углы, постепенно добиваясь некоторой автономии края и распространения национального языка. Принимая решение о его участи, Строганов искренне пожалел, что вынужден так поступить с достойным человеком, ибо подобные среди Габсбургов — редкое исключение.
Но на войне как на войне. В дождливый осенний день, когда газеты заполнились аршинными заголовками, что империя не может более терпеть прямое вмешательство России в польские дела и объявляет войну, на подножку кареты эрцгерцога вскочил полноватый молодой человек невысокого роста. Несмотря на вице-императорский статус, Иосиф Антон Иоганн разъезжал по Буде и Пешту без гусарского сопровождения, некому было сбросить злоумышленника или хотя бы крикнуть, как в день убийства Генриха Четвёртого: берегись, Наварра! Человечек достал двуствольный пистолет и выстрелил дважды, потом бросил оружие, проорав что-то вроде «смерть покровителю мадьярских обезьян», с тем растворился среди узких улочек.
Под шум от убийства, перекрывший новость о войне с империей Демидовых, Строганов вернулся в Вену, где незамедлительно был вызван к полковнику Императорско-королевской жандармерии фон Шварцу в знакомый кабинет.
— Надеюсь, вы нашли грабителей? Пострадали и мои вклады, — с ходу заявил граф, незамедлительно переходя в нападение. — Надеюсь, наши отношения позволят рассчитывать на правдивые сведения?
— Без сомнения, герр Трошкин. Но есть моменты, которые считаю своим долгом прояснить.
— Извольте, полковник, — Строганов придал осанке и лицу приличествующее выражение, откинувшись в кресле.
— Признаюсь, жестокое убийство эрцгерцога сейчас затмило смерть двух жандармов. Однако есть, повторяюсь, некоторые моменты, которые настораживают. В обоих случаях вы находились в городе, где случались преступления — в Вене и Пеште. Из этих городов тут же выехали, причём каждый раз мне докладывали, что наши… гм, опекуны вас теряли из виду. Не слишком ли много совпадений?
— Вы меня подозреваете? Досадно, но таков ваш долг, поэтому я не в обиде и охотно отвечу на все вопросы. Вечером, когда злоумышленники грабили Шпенглербанк, я наслаждался оперой «Волшебная флейта». В театре встретил знакомых, они могут подтвердить. Верите ли, полковник, к концу первого действия разболелась голова, словно от дурного предчувствия. О том, что оно оправдалось, узнал из газеты. Скорблю по вашим погибшим, но и утрата денег для меня весьма неприятна, будем откровенны. В Пешт я выезжал рано утром по делам, ни от кого не скрываясь. Возможно, опекуны задремали, вы не допускаете такую возможность? — единственный глаз глянул чуть иронично. — Касательно покушения на эрцгерцога должен признаться — у меня alibi нет.
— Приметы убийцы не совпадают с вашими. Что же касается главаря грабителей, есть сведения, что он высокого роста, говорит по-французски и всегда носит маску.
— Вылитый я, — криво усмехнулся Строганов. — Или любой из миллиона высоких французов.
— Пожалуй. Ещё есть сведения о Иссаке Соломоне, с коим вы якшались, он бесследно исчез, и Моисее Кацмане по кличке Халбьюдиш.
— Тоже исчез?
— Найден под мостом через Дунай с проломленным черепом и стреляной раной в плече. Если арестуем кого из его банды — только поквитаемся за убитых товарищей. Об истинном главаре они вряд ли осведомлены. Тем более иудеи крайне неохотно помогают полиции и не признаются даже при самых бесспорных уликах.
Фон Шварц аж ладони развёл, показывая — что возьмёшь с христопродавцев. Но в его открытом жесте почувствовалась некоторая фальшь. Быть может, он полагал, что бандита нашли жандармы и уже отомстили. Что же думал барон на самом деле, осталось загадкой — душа высокопоставленного полицейского довольно темна и непознаваема.
— Можем считать, вы меня вызвали как пострадавшего в деле Шпенглербанка? — граф намекнул, что пора ставить точки над i.
— Да. Но на всякий случай прошу вас не покидать Вену до окончания расследования.
— Увы, полковник, мне необходимо в Зальцбург.
— Зачем?
— Во-первых, истребовать у головного банка возмещение потерь. Во-вторых, цена самого банка упала до весьма заманчивой суммы, грех не воспользоваться шансом вложить немного денег в империю. Так что если я не арестован и не получаю официального обвинения, разрешите откланяться. Дней через десять вернусь — и всецело к вашим услугам.
— Ауфидерзейн, — сдался жандарм.
Ему несколько полегчало. Пусть лучше оба преступления останутся нераскрытыми, со временем найдётся на кого их повесить, нежели всплывёт связь между ним и главарём злоумышленников. Посему подозрения подозрениями, а очень хорошо, что у Трошкина есть толковый ответ на щекотливые вопросы.
Разумеется, Строганов не торопился с покупкой банка. Цена подобных активов падает в связи с неуспешной войной. Национальное восстание усугубит положение.
Его прогнозы оправдались. Вслед за мадьярами поднялись южные славянские земли, полыхнуло в Богемии. Объявленное столкновение с Россией позже назовут «войной, коей не было», ибо после грозного бряцанья оружием канцлер Меттерних бросил армию исключительно на обуздание внутренних беспорядков, о боях за пределами страны уж и речи нет.
Пруссаки, возлагавшие немалые надежды на австрийское участие в кампании против русских, сочли Меттерниха предателем. Не будь достигнута договорённость с империей Габсбургов, они воздержались бы от резких слов в адрес восточного соседа, несмотря на первые вооружённые столкновения с русскими частями, достаточные для casus belli[27], если бы война не была объявлена до сих пор.
Бронеходные, кавалерийские и артиллерийские части, а также матушка-пехота вошли на польские земли и приблизились к рубежам Восточной части Пруссии, развёл пары и поднял паруса Балтийский флот. Влади́слав Понятовский прислал гонца из окружённой Варшавы, что согласен на русские условия возрождения Речи Посполитой, пусть и в составе империи.
Грядущая война ждала своих героев. Человек, в одиночку отвадивший Австрию от любых попыток сражаться с Россией и тем самым значительно облегчивший её участь, остался безвестен как в ипостаси «герра Трошкина», так и под истинным именем.
Да и сам он не гордился содеянным. Страна Моцарта и Штрауса не может не вызывать привязанности. Современная австрийская музыка велика в той же мере, что и русская поэзия. Горько и досадно, что нужно здесь свершать злодеяния, кои обернутся во благо России. По какому праву граф присвоил себе власть карать множество чужих и незнакомых людей? Он не мог ответить на этот вопрос, как и вся его жизнь, правильная и ясная до первой встречи с Пестелем в ранге фюрера, вконец запутанная — после. Короткие годы счастья с Юлией да бесспорная правда в войне против осман были лишь кратким светлым эпизодом на фоне тьмы, покрывшей прошлое, а нынешние неоднозначные деяния скорее окрашены серостью неопределённости. Одно хорошо — ни Юлия Осиповна, ни Владимир о них не знают, так тому быть и далее.
Глава восьмая, в которой снова появляется князь Паскевич
Генрих Четвёртый завоёвывал Францию с армией в несколько тысяч душ, Пётр Первый и Карл двенадцатый под Полтавой командовали десятками тысяч. Со времён Наполеона великие европейские державы в войнах между собой отправляют на заклание сотни тысяч, а общее число вовлечённых в сражения с Бонапартом и на его стороне превысило миллион.
В усмирительный поход на Варшаву, не увенчавшийся её взятием, Фридрих Вильгельм IV отправил скромные шестьдесят тысяч. После позорного отвода австрийских дивизий, да ещё под угрозой столкновения с русскими, началась мобилизация. В Берлине и Кёнигсберге до конца не осознали грозившей королевству опасности, Россия, недавно разорённая республиканскими властями и с тех пор с трудом побеждавшая лишь в мелких битвах с диковатыми армиями магометанского юга, не казалась сильным врагом. Да, без австрийских союзников тяжелее. Да, надобно оторвать от хозяйственных дел сотню тысяч крепких германских мужчин, часть которых уйдёт от родных домов навсегда. Но русские заплатят за строптивость сторицей! И ни с кем не нужно делить приз.
Правда, настораживали слухи о военных локомотивах, обшитых толстым железом и ходящим по полям. Но никто и ни разу не видел их в зимнем бою — огромные коробки просто увязнут в снегу. Да и на случай встречи с ними прусские пушкари приготовили гостинцев.
Так ли это, королевские генералы получили возможность проверить на деле в начале декабря, когда бронеходы в сопровождении гренадёров обогнули Варшаву с юга и ударили во фланг осаждавшим посполитую столицу.
Командующий Западной русской армией фельдмаршал Иван Фёдорович Паскевич лично перед боем сел на коня и в тусклом свете поздней зимней зари выехал к бронеходам. Больше всего его волновал один вопрос, и он не преминул его задать командиру корпуса генералу Александру Сергеевичу Меньшикову.
— Не застрянут?
Облепленные снегом, могучие трёхосные экипажи замерли, вытянувшись длинной колонной. Особые зимние колёса тагильской выделки, ширины необыкновенной, вылезли далеко за броневой пояс. Передняя машина глубоко утоптала снег, проваливаясь в него чуть не по днище. Следующие за ним разбили дорогу, перемешав снег с глиной. Марш до Варшавы вылился в сплошное мучение для экипажей и гренадёров — каждый бронеход застревал не реже раз в сутки, и начиналась катавасия, знакомая и привычная до скрежета зубовного. По первости отцеплялся тендер, и люди руками пробовали вытолкнуть пыхтящего и буксующего гиганта из колеи. Хоть и редко, но удавалось, если нет — задом сдавал небронированный пароход, цепляя увязшего страдальца толстой цепью, и тянул что есть мочи, нередко закапываясь с грязную кашу и тоже нуждаясь в помощи.
— Мороз окреп, ваше высокопревосходительство, — откликнулся Меньшиков. — Чай не должны брюхом зарыться. В поле-то легче, нежели по дороге да по разбитой колее.
— Дай-то Бог.
Паскевич заметил инженер-генерала Черепанова, чрезвычайно непохожего на военную белую косточку. Он что-то энергично втолковывал командиру головного экипажа, потом махнул рукой и сам полез внутрь. Князь думал было отправить вестового и призвать уральского гения поближе к себе, подальше от передовой — так спокойнее за него. Потом махнул рукой. Пусть впереди будет надёжный человек, знающий бронеходы как свои пять пальцев.
Командующий выслушал доклады командиров дивизий, проверил — готова ли артиллерия двинуть вслед за железными монстрами и поддержать их залпами при прорыве первых германских линий, а кавалерия хлынуть в пробитую брешь. Бронегренадёры сдали лошадей коневодам, изготовившись защищать машины в пешем строю. Понимая, что приказы все отданы, а оставшиеся упущения не устранить за истекающие минуты, Иван Фёдорович поднял глаза на светлеющее небо и растворяющиеся в нём последние звёзды, извлёк золотую луковку часов. Потом перекрестился и сказал одно только слово: «вперёд».
Ещё задолго до Наполеона командующие перестали лично водить войска в атаку, пуская коня в карьер впереди солдатской массы. Так и князь, неспешно следуя на удалении от грохочущих броненосцев и имея лишь очень небольшую возможность далее влиять на ход сражения, слушал доклады о развёртывании и выходе на рубеж, где русские и германские снаряды начнут снимать кровавую жатву. Со странной смесью досады и сожаления он вдруг вспомнил о Строганове, который в подобной ситуации предпочёл забраться на горячий металл машины и оттуда командовать, а потом сам бросился в гущу схватки.
Быть может, именно потому его полюбила Юлия Осиповна, чувствуя эту способность незаурядного человека кинуться всем своим существом ради главной и желанной цели? И в глубине души не ценила последнего супруга, всегда разумного и взвешенного или, по крайней мере, пытавшегося быть таковым, даже когда дело касалось сына Фёдора…
Фельдмаршал отогнал неуместные сейчас колебания. Долг полководца именно таков — с точностью астронома или механика высчитывать прямейший путь к победе; иное ведёт к неоправданным потерям и позору. Время лихих атак с поднятым забралом ушло безвозвратно.
Другой высокопоставленный военный, чин которого предполагал командование тысячами людей, в этот момент проверял малые горелки, не дававшие загустеть земляному маслу на морозе. Перемазанный подобно простому шофёру, Мирон Черепанов протиснулся в переднюю часть головной машины.
Командирский бронеход, в котором меньше боезапаса, вместил командира полка. Генерал, коему особое место не назначено, повис буквально на плечах у полковника и командира экипажа, отказавшись занять кресло одного из них.
— Пять в час делаем, Кирилл Андреевич. Больше не надо — снег, гренадёры отстанут.
Полковник Сиваков поморщился. Чем ниже скорость, тем больше ядер ударит в броню, которая крепка, но не до бесконечности. Черепанов, хоть и высоко взлетел, слишком много думает о простых. Их задача — поспевать и не отставать. Снег? А кому сейчас легко? Но с генералами в бою не спорят.
Командир полка стукнул в верхнюю крышку корпуса. В люке показалось усатое лицо сигнальщика. Дабы не перекрикивать лязг, полковник показал растопыренную пятерню. Солдат крикнул «есть, вашвысобродь», утонувшее в грохоте парового механизма и вылез наверх, где трижды отмахал флажками перестроение в шеренгу атаки. На минуту задержался, не в силах отвести взгляд от удивительной картины, хоть и не первый месяц на бронеходах, вроде бы и насмотрелся уже.
Прибавив топлива в горелки, три дюжины боевых машин ускорили ход, догоняя командирскую справа и слева. На фоне ясного морозного неба чуть загнулись на лёгком ветру сизые столбы дыма из труб, куда менее тёмные, нежели при растопке углём. Широкие лапы, приклёпанные к ободу колёс, врезались в снежную целину, разбрасывая фонтаны белых брызг. Ровное поле, летом засеянное пшеницей или рожью, заполнилось гулом и пыханьем пара, а за тяжёлыми тушами бронеходов неловко побежали солдаты, по колено увязая в пороше. Для выравнивания строя машины ускорились по сравнению с командирской — до семи, а то и восьми вёрст в час. Покрывая грохотание паровых механизмов, надрывали глотки унтеры, пиная медленных и нерадивых — не отставать; если враг первый доберётся до бронеходов, на кой ляд ты нужен, гренадёр?
Благо, что инфантерия, ранее сопровождавшая их, заменена на конных гренадёров. И на марше быстрее, и перед боем солдат лишнее приторочит к седлу. Ординарные пехотинцы идут в атаку аки вьючные мулы. Поверх шинели на перекрещенных ремнях висят патронная сума и тесак. В ранце, который носят на двух боковых ремнях, стянутых третьим на груди, полагается иметь две рубахи, панталоны, портянки, фуражку, двенадцать кремней, щётки, ваксу, мел для чистки пуговиц, иглы и нитки, клей, фабру из воска, сала и сажи для усов, гребёнку и запас сухарей на три дня. Манерку (флягу) привязывают сверху к ранцу, вес которого — без малого пуд. А ещё ружьё со штыком! Так что с поклажей проще упасть да помереть, нежели воевать.
Конные гренадёры и драгуны, наступающие пешим строем, куда в лучшем положении, оставляя ранцы на лошадях и прочее имущество в седельных сумках. Оно достанется другому солдату, если прежний владелец не вернётся из боя.
Подобные заботы не интересны офицерам старых традиций. Для них солдат та же вьючная лошадь, которую нужно кормить и понукать, при строптивости наказывать, а коли падёт — заменять на другую без жалости. До революции так относились ко всем простым, не только военным. Конституция Демидова вроде как уравняла подданных в правах, а на деле? Бегущий по полю солдат, укрытый от свинца только сукном шинели, не сравнится с унтером или прапорщиком, защищённым бронёй.
Там же, в некоторой видимой безопасности, остался и инженер-генерал, давая порой весьма дельные советы по манёвру машинами. Ничего большего для своих он сделать не мог.
С германских позиций картина, вызвавшая восторг у сигнальщика, совсем не внушила радости. Ожидая удара русских на разблокирование Варшавы, прусский командующий не мог предугадать, где они вопьются в кольцо окружения. И скорость зимнего марша, когда у противника нет медленно марширующих солдат, а только конница и бронированные машины, да и пушки движутся не конной упряжью, а пароходными тягачами, не поддаётся исчислению в привычном представлении. Оттого командиры полков и дивизий, стойкие и неустрашимые офицеры и генералы, старшие из них — поголовно ветераны наполеоновских кампаний, втихую молились, чтобы Паскевич ударил не на их участке. Здесь, на этом поле, молитвы не помогли.
Предвестниками несчастья стали дымы, появившиеся на горизонте за заснеженными невысокими холмиками.
— Ахтунг! Панцерваген!
Немецкие линии пришли в движение. Роты и батальоны под отрывистый лай фельдфебелей заняли полевые укрепления. Польская земля, на которой пруссаки застряли куда больше ожидаемого, за последние ночи смёрзлась, затвердела и показалась надёжной защитой.
К брустверам выкатились орудия, канониры с надеждой оглядели снаряды непривычной конической формы, вроде бы способные поразить русское чудовище… если с тысячи шагов попасть ему в корпус и до этого не погибнуть самому под гранатами панцервагена.
Меж тем паровые крепости на колёсах показались вдали. Каждый офицер, имевший зрительную трубу, немедленно поднёс её к глазу. Обходя польские хуторские постройки и мелкие купы деревьев, не вырубленные среди пашни, монстры выдержали практически ровную линию и даже не казались слишком ужасными… коли не сравнивать их размеры с фигурками бегущих по снегу солдат. Железные воины раза в три выше! И это не считая дымовые трубы.
Самые внимательные из германцев могли разглядеть сигнальщиков на бронеходах командиров. Как только они заработали флажками, стальные бастионы остановились примерно в миле от окопов, окутавшись паром, а орудийные стволы неумолимо поползли вверх.
Как ни муштруй военных, каждый из них остаётся отдельной личностью, оттого и реакция на русские пушки такая разная. Робкие скатились вниз под защиту мёрзлого грунта, самые отважные решили, что первый залп не может быть точным, и остались оценить силу вражеской артиллерии, безрассудные не поверили, что с мили возможно добить до цели. Основная же масса просто не знала или не поняла, что означает минутная заминка. Но снаряды полетели во всех без разбору, разрушив очарование ясного зимнего дня.
Уже после второго залпа мало кто бравировал на бруствере, разве что остались там неспособные прыгнуть на дно по причине смерти. Пушкари убедились: на такой дистанции попасть в русиш панцер — безумие. А коли и достали до железных морд, никакого видимого вреда не случилось. Зато на артиллерийских позициях гранаты начали рваться куда чаще.
После десятка залпов рассеялся пороховой дым. Снова пыхнув из труб, бронеходы набрали давление в котлах и неумолимо покатили вперёд. Впрочем, не все — некоторые остались, беспомощно барахтаясь в снежном плену. Их тут же облепили гренадёры, пихая вперёд, но это мало утешило германских солдат — продолживших движение хватило с лихвой.
Снова прорезались германские пушки. Когда из трёх бронированных машин взметнулось пламя, а у одной из них рванул котёл, ошпарив паром пехоту и сварив заживо экипаж, прусские военные оживились. «С нами Бог! Он нас не оставил!» Радость получилась недолгой. Панцеры снова остановились и, повинуясь флажкам, открыли частую пальбу по батареям, заставив их навсегда умолкнуть.
Буквально через пять-семь минут русский орудийный огонь резко участился: подоспели полевые шести- и двенадцатифунтовки, подтянутые к линии бронеходов. Справедливости ради скажем, когда паровые чудовища выползли к редутам, большинство солдат, унтеров и офицеров были не убиты и даже не ранены, разве что контужены. Если бы не оглохли от близких и частых разрывов, они услышали бы, что смешанный гул десятков паровиков раскололся на множество лязгов, стуков и хлопков, исторгаемых отдельными механизмами. Но когда в считанных ярдах, пусть и за земляной стенкой, взрывается артиллерийская граната, поле боя заполняет ровный звон, заменяющий иные шумы. Никаких звуков, только звон, под аккомпанемент которого из-за тёмных броневых корпусов выскакивают во множестве русские солдаты в зелёных шинелях. На перекошенных в ярости усатых лицах что-то беззвучно исторгают оскаленные рты. Стволы винтовок вспыхивают огнями неслышимых выстрелов, а впереди торчат блестящие жала штыков…
Как быть прусскому солдату, стойкому и отважному, но за спиной у которого нет железного великана или иного средства, чтобы на равных бороться с врагом? В руках ружьё, быть может удастся продать жизнь подороже перед тем, как умереть среди безбрежного звона… Но вряд ли об этом кто смог рассказать. Вдохновлённая русская гренадёрская пехота взяла на штыки первую линию прусской обороны. Трепыхающиеся получили ещё по удару в шею и в лицо.
Когда-нибудь потом, в церкви на исповеди или в пьяной тоске вспомнит русский солдат, что зря добивал раненого немца — тот ничего уж поделать не смог бы, так умер или в плен бы попал. Но у гренадёров, ворвавшихся на вражью позицию, своя правда. Главное, чтобы никто не мог ударить в спину или выстрелить вслед.
Паскевич подъехал к месту бойни, когда там уже оказались полевые орудия, методично перемалывающие в труху следующие прусские линии, подтягивались застрявшие и отставшие бронеходы, а гренадёры выносили к саням раненых товарищей. Отсюда просматривались варшавские пригороды. Воодушевлённые русской атакой, в наступление бросились польские уланы. В кои-то веки ляхи и русские вместе воюют против общего врага. Долог, прочен ли этот странный союз?
— Ваше высокопревосходительство!
Фельдмаршал обернулся на взволнованный голос офицера. Четверо гренадёров вынесли на шинели сильно обгоревшее тело. Генеральские эполеты, почерневшие от огня, съёжившаяся некогда пышная борода, лица не разобрать… На рукаве — нашивка инженерного корпуса.
— Эх, Мирон! — Паскевич снял треугольную шляпу. — Зачем же ты не берёгся?
Корить нужно не тагильского самородка, а себя самого. Быть может, его смерть любую победу над пруссаками делает пирровой.
— Как это стряслось? — командующий повернулся к унтеру, старшему из доставивших тело.
Смущённый обращением столь высокого чина, тот растерялся сперва, потом чётко доложил:
— Снаряд корпус пробил, ваше высокопревосходительство.
— Что ж сразу на помощь не пришли? Генерала на погибель бросили!
Гренадёр захлопал глазами, не зная как оправдаться. Собрался с духом — говорить с князем тяжелее, чем на прусские окопы бежать.
— Тамока сгорели они все, ваше высокопревосходительство. Так что мы вперёд тогда, на немца, где нужнее. В «Мономахе» огонь, взрывы внутри. Как погасло-прогорело, вытащили… Виноваты мы, ваше высокопревосходительство!
Донельзя расстроенный кончиной Черепанова, фельдмаршал опомнился и повернулся к офицеру бронегренадёрного полка, изготовившегося взять под стражу унтера.
— Отставить!
Нельзя на других перевешивать свой грех.
В последующие дни армия Паскевича окружила юго-восточную часть прусских войск, державших Варшаву в кольце, остальные откатились на запад собраться с силами и получить подкрепление. Северная армия вторглась на земли бывшей Речи Посполитой, захваченные германцами при её разделе и именуемые ими Западной Пруссией. Тем самым Кёнигсберг с окрестностями оказался отрезан от королевства, соединённый лишь морем.
Больше до весны крупных сражений не было. Фельдмаршал часть конницы и инфантерии бросил на Краков, австрийцы оставили его без боя. Истерзанная междоусобицей империя с трудом справлялась с внутренними проблемами, где уж тут до борьбы с русскими. Мирный договор, по которому польские земли присоединились к России, закончил «войну, которой не было» и предрешил политическую кончину Меттерниха. Остаток зимы и начало весны ушёл на дипломатические манёвры: Демидовы требовали уступить Западную Пруссию целиком и большой кусок Восточной, Фридрих Вильгельм IV со скрипом готов был отказаться от бывших польских воеводств, но и слышать не хотел о том, чтобы уступить хотя бы пядь из восточных земель.
Балтика в ту зиму не замёрзла полностью. Белый покров накрыл только прибрежные воды, где с морской водой смешалась пресная речная. С прекращением движения по суше германский торговый люд зафрахтовал сколько мог каботажных судов. Русского флота на Балтике не боялись с петровских времён: дальше Маркизовой лужи корабли под Андреевским флагом носа не казали и при Александре, а Пестель, уведя столицу из Питера да поручив морские дела Кюхельбекеру, окончательно задвинул их на задний двор. В демидовской России куда больше турецкой опасности внимание уделялось.
Но времена нынче другие.
Глава девятая, начинающаяся и заканчивающаяся как морская
Паровой фрегат «Святитель», приписанный к Либаве, провёл самую необычную зиму, когда-либо выпадавшую кораблю Российского Императорского флота. Уворачиваясь от бесчисленных льдин, а мелкие разбивая обитым железом форштевнем, он бороздил побережье Восточной Пруссии с единственной задачей: сделать Балтийское море крайне неуютным для германских судов, а также иных, имеющих дерзость торговать с осаждённым Кёнигсбергом. Все торговцы со сколько-нибудь ценным грузом получали призовую команду.
Раз в две-три недели фрегат отходил к Либаве, когда кончались снаряды, уголь и продовольственные припасы, а также матросы, ушедшие на трофеях. Начиналась сущая каторга. Мешки с углём переправлялись на борт в плоскодонных лодках, как и бочонки, снарядные ящики, короба со съестным. Когда закачивалась погрузка, моряки, вылезая из угольных бункеров, кашляли чёрной ядовитой слизью, и так не менее трёх-четырёх суток. Впрочем, и в летнюю пору угольные дни не лучше. О жидком топливе, что питало котлы бронеходов в Варшавском бою, на флоте и мечтать не смеют.
В марте начали вскрываться реки, впадающие в Балтику, наполнив её льдинами и затруднив без того непростую ледовую обстановку. Морское сообщение прервалось, хотя с рейдами «Святителя» и без того оскудело.
Беда нагрянула с другой стороны. Перед самой весенней распутицей прусская армия под командованием генерала Хельмута фон Мольтке ударила вдоль балтийского побережья. Гепанцдампфвагены, бронированные паровики, более похожие на русские машины времён Турецкой войны, обрушились на укрепления, люди в которых были также не готовы к отпору против бронетехники, как и противники русских в предыдущих боях. Дальнобойные пушки с нарезными стволами, имевшие непревзойдённую точность выстрела на огромных дистанциях, оказались бессильны. Гранаты выкашивали пехоту и конницу, следовавшие за панцерами, но ничего не могли поделать с корпусами машин, которые беспрепятственно выдвинулись на близкое расстояние, кроме разве что трёх с разбитой ходовой частью. Прусские канониры в упор расстреляли артиллеристов, после чего вагены переехали через трупы, открыв кавалерии простор для прорыва вглубь.
Разгром был ужасен. Когда прусские драгуны налетели на расположение российских бронеходов, там не успели развести пары, а лишённые движения машины остались беззащитными. Полковник Мацкевич, заменивший убитого с Черепановым командира, отдал отчаянный приказ подорвать технику и сам погиб. Пруссакам достались лишь развороченные корпуса, однако для пытливого взгляда и в изуродованных железных останках нашлось много интересного.
Паскевич был отозван с западного направления и приехал в Москву, благо на поезде из Варшавы это недолго, где застал всяческое смятение и кучу ненужной суеты. Дума заседала ежедневно, не отказываясь и еженощно, ежели бы у толпы партикулярных господ появился шанс отыскать верный рецепт спасения от поражения. В делах военных они все сведущи, когда нужно смешать генералов с конским навозом, и удивительно беспомощны касаемо полезных советов. Выказанные на заседаниях соображения, печатаемые в газетах, напоминали барахтанье утопающего в трясине, чьё каждое телодвиженье не выручает, а способствует проваливанию вглубь.
Светлейший князь Анатолий Николаевич, чей титул регента при молодом императоре в эти дни был особенно труден в ношении, встретил Паскевича в Кремле как единственную надежду трона и державы.
— Не ждите никакого чуда, милостивый государь, разве что и в Пруссии революция вспыхнет. Но чудеса не случаются по воле человеческой и два раза подряд, — разумеется, фельдмаршал не ведал про чудотворные происки Строганова в австрийском тылу. — Нужно армию снова собрать, бронеходы из-под Варшавы к Кёнигсбергу переправить. А главное — снаряды. Я военному Министру не раз говорил — рано или поздно с панцервагенами столкнёмся, тогда средство против их брони должно у каждой пушки иметься. Да ежели бы двенадцатифунтовая гладкоствольная чугунным ядром ударила, и то толку больше было бы, нежели с гранат и фугасов.
Демидов, облачённый в зелёный мундир с белыми лосинами по вновь вернувшейся дворцовой моде прежних времён, от нерадостных слов будто оплыл, свесив рыхлые щёки.
— Александр Иванович Чернышёв с должности Военного министра изгнан с позором. Однако же новый пушечный заряд по щучьему велению не появится!
— Щуки на Урале обитают, Анатолий Николаевич, в Тагиле.
Красноватые глазки регента сердито блеснули.
— Самую важную из них вы лично в бронеходе погубили, Фёдор Иванович.
— Не досмотрел, виноват. Однако чем сожалеть, нужно дело делать — свести воедино бежавших из Западной Пруссии героев в способные к бою полки, призвать до сотни тысяч пополнения, флоту в Балтике шустрее германца бить — лёд сходит. Бог даст, к лету вернём викторию; пруссов не впервой бить.
— Уверены? Тогда вам и карты в руки.
Паскевич покинул кабинет регента с назначением на должность Военного министра. Сие назначение ещё в Думе утверждать, но оно уже легло на плечи тяжким бременем — переломить ход войны, тем более что тевтоны не будут сидеть сложа руки.
Пруссаки ещё до контрнаступления, крайне встревоженные пиратскими рейдами «Святителя», обратились к стране, донельзя более ревностно относящейся к чужим успехам. Никогда в истории Британия столь быстро не приходила на помощь, тем более что убивать можно под чужим флагом и за счёт просящего, не втягиваясь самой в обременительно дорогостоящую войну.
Через студёные воды датских проливов, где ещё попадались ледяные глыбы, вынесенные в Балтику вскрывшимися реками, проследовали три боевых корабля. Флагман «Супериор», чьё длинное дубовое тело было обшито от ватерлинии и выше толстым листовым железом, нёс на двух палубах девяносто орудий! Мощнейшая паровая машина в восемьсот лошадиных сил при убранных парусах разгоняла его до немыслимых тринадцати узлов, при удачном направлении ветра корабль двигался быстрее.
Пароходофрегаты «Принц Уэльский» и «Георг», чуть меньшего размера, имели по восемьдесят пушек, по совокупности стволов — больше, чем все русские паровые суда Балтийского флота. В Данциге над тройкой англичан взметнулись стяги с прусскими орлами. «Супериор» превратился в «Гогенцоллерна», остальные также сменили имя. В командах появились германские офицеры — учиться уму-разуму от опытных морских волков и создавать видимость смешанных экипажей. Наконец, к большому неудовольствию британского адмирала Старка, к эскадре присоединился вооружённый колёсный пароход «Рейн», согласно названию более пригодный для речного плаванья и изрядно замедливший общий ход.
В этом составе новорождённый прусский военный флот отважно двинулся на север, к входу в Финский залив. В день отплытия пришло известие о разгроме русских в Западной Пруссии, враг далеко был отброшен от Данцига. Даже самые далёкие от военных дел бюргеры смекнули: после победы на море война закончится. Ни для германской, ни для русской, ни для английской стороны её затягивание не выгодно. Пострадает лишь Польша от очередного передела, ей не привыкать служить разменной монетой в торге великих держав.
Они встретились с русскими, когда на траверзе по правому борту показались невысокие скалы Моонзундского архипелага. Британский адмирал, услышав взволнованное сообщение вахтенного, поднёс к глазу подзорную трубу и не сдержал удовлетворённой улыбки. Три дымка от небольших кораблей, двое не крупнее фрегата, третий уступит даже «Рейну». Ветер юго-восточный, малое парусное вооружение противника не даст им воспользоваться и оторваться на север. Говорят, у русских дальнобойные пушки? Но такую громадину как «Супериор» не утопить полудюжиной или даже дюжиной попаданий, а при сближении на милю варвары получат залп всего борта. Дело за малым — успеть до темноты.
Как и ожидалось, троица бросилась наутёк. Как только они начали разворот, из-за кормы малого судна вынырнул четвёртый дымок и решительно двинул навстречу «Гогенцоллерну».
— Можем считать, сэр, в бою у нас не было численного превосходства, — капитан флагмана показал тонкий английский юмор. — Интересно, они собираются таранить нас или сразу сдаться?
Далёкое от традиций морского боя поведение противника озадачило Старка. А всё непонятное — опасно.
— Не будем это выяснять, капитан. Белого флага нет — топите его.
Дальше начались странности. Странный чёрный кораблик, на вид — не более сорока футов длиной, нёс несоразмерно большую дымовую трубу, исторгавшую куда более светлый дым по сравнению с привычным угольным. На нём почти не было надстроек, разве что подобие рубки. А главное — приняв попадания, долженствующие разнести его в щепки, он решительно отказался тонуть!
Адмирал нервически скрипнул зубами.
— Разрешите заметить, сэр, — высказался капитан, когда стих грохот очередного залпа. — Он идёт на таран. Это — брандер!
— Так какого дьявола вы медлите!
«Супериор» — не бричка, команда «лево на борт» не может исполняться за один миг. Матросы в четыре руки вращают огромный штурвал, блестящий крашеным железом корпус лениво выносит корму в сторону, противоположную направлению поворота, подставляя борт самоубийственно прущейся на него лоханке…
Когда паровое недоразумение проскользнуло в мёртвую зону орудий, а матросы открыли по нему ураганный огонь из ружей, адмирал и капитан убедились, что носовая его часть пробита снарядами, а пули превращают её и дымовую трубу в решето. Порох, коим начиняется брандер, давно взорвался бы, но не тут-то было. Свинец высекал искры из обшивки, паровой катер приближался, словно заговорённый, пока не оказался ярдах в шести. Самые смелые и любопытные, свесившиеся через борт, стали первыми жертвами. Оглушительный взрыв прогремел над морем, взметнув над волнами гейзер воды и щепок — под ватерлинией нет железа.
Закричали раненые; капитан начал выкрикивать команды, разорялся боцман, сновали офицеры — но тщетно. Прореха оказалась столь велика, что пробовать завести на неё пластырь — что остановить носовым платком набегающую волну.
Корабль, лишь двое суток носивший несчастливое прусское имя «Гогенцоллерн», пошёл на дно в согласии с английским происхождением: чинно, чопорно, с достоинством, не торопясь и практически на ровном киле, деликатно позволив команде спустить шлюпки. Никто уже не заботился об охоте на русского карлика, который преспокойно включил реверс.
Зато капитан «Вестфалии», в девичестве — «Принца Уэльского», не торопясь принять адмирала на борт, бросился в погоню. Тихоходный русский баркас, капитан которого не мог надеяться на успешную ретираду, вдруг… приподнялся над волнами! Под днищем его обнаружились связки толстых труб, из которых тотчас вылетел огонь.
На глазах изумлённых англичан и немногочисленных пруссов горящие светляки обрушились на рангоут и такелаж «Вестфалии», часть из них просвистела за борт, некоторые запутались, с полдюжины упало на деревянную палубу. Возникли пожары, капитан, столкнувшись с неизвестным и подлым оружием, от греха подальше велел отвернуть и затушить огонь, уступая пространство третьему британскому кораблю — «Георгу», идущему в бой под именем «Фридриха Великого».
Что же происходило в короткие минуты передышки на борту странного русского кораблика? Инженер-генерал Карл Андреевич Шильдер, не посмевший выпустить своё детище без присмотра в первую баталию, оторвался от медной зрительной трубы и торжествующе повернулся к капитану.
— Подожгли мы британца-то, Павел Петрович!
Тот радостно прокричал новость по отсекам. Оглохшие от взрыва у борта «Супериора» подводники с трудом расслышали радостную весть, потом прогремело «ура», мало уступающее тому взрыву, а затем, чуть потише — другие восклицания. Очень короткие и цветастые.
— Нет такой возвышенной и светлой вещи, которую русский матрос не мог бы выразить грязными богохульными словами, ваше превосходительство, — заметил мичман. — Разрешите приступить к замене заряда!
— Незамедлительно. Третий британец уже недалеко.
Утопить один и повредить другой крупный корабль — уже огромный успех. «Тагил», назначенный при постройке наводить ужас на турецкие берега, отыграл дебют в Балтике. Но аппетит приходит во время еды. К тому же английский корабль может просто ударить форштевнем, снесёт тогда дымовую и воздуходувную трубы, развалит подводный корпус. Поэтому выбора нет — только атаковать самим.
Матрос выбрался на верхнюю палубу, едва отворив люк, покорёженный обстрелом, который, впрочем, и не стихал — двое оставшихся на плаву англичанина пытались попасть в малую цель с дальней дистанции. Моряк вытащил цепь, уходящую в нос под воду. Над волнами показалась чуть погнутая взрывом железная труба бушприта, в которой торчали щепки, оставшиеся от шеста-утлегаря. На мостик выбрался второй новобранец подплава с бочонком в руках. В четыре руки они вставили в бушприт новый шест. Бочонок с гальваническим проводом для дальнего подрыва булькнул в воду впереди ложного верхнего корпуса, избитого, но не теряющего плавучести из-за плотно набитого в него пробкового дерева. Матросы вздрогнули — они слишком хорошо знали капризность пироксилина, которым Шильдер приказал наполнить мину вместо привычного и верного чёрного пороха. Однако беда миновала. Строптивый заряд занял место впереди, готовый вонзится под вражескую ватерлинию на глубине в человеческий рост.
Надо отдать должное третьему британскому капитану: он скомандовал поворот сразу же, как только узнал, что адский русский снова поспешает навстречу. Но дистанция была уже меньше мили, железный огрызок успел воткнуться в борт ближе к корме.
Взрыв значительно превзошёл предыдущий. Корпус разворотило до верхней палубы. Ванты бизани, вдруг потерявшие связь с бортом, взметнулись вверх подобно лопнувшим гитарным струнам, мачта рухнула, крюйс-брам-стеньга тяжело ударила по волнам. Корабль на глазах получил крен на правый борт и дифферент на корму, принимая воду в трюм с неслыханной быстротой. Никто уже не бросился к шлюпбалкам; матросы и офицеры прыгали в море, пытаясь отплыть чуть подальше от обречённого «Георга» в надежде, что не окоченеют насмерть, пока их не подберут шлюпки.
Каперанг Павел Степанович Нахимов, командующий «Святителем», точными движениями водил трубой, пытаясь среди обломков, шлюпок и барахтающихся тел найти хотя бы какие-то следы «Тагила». Пострадал ли тот от английских ядер, разрушился ли при взрыве собственной шестовой мины или каверзу сотворили бочонки с пироксилином, запасённые в нижнем корпусе — теперь уже не суть важно. Пятнадцать русских душ и одна германская отправились под воду и оттуда — на небеса.
— Наш выход, господа!
Нахимов отказался топить «Вестфалию», чья команда занялась спасением моряков с двух погибших кораблей, и, обойдя её по длинной дуге, приблизился к «Рейну». Сзади дымил «Кронштадт», и вид двух русских кораблей на фоне погибающих англичан, какой-то час назад казавшихся грозными и непобедимыми, отбил у прусского экипажа всякое желание демонстрировать предсмертную доблесть. По укоренившейся зимней привычке «Святитель» выслал призовую команду, после чего вернулся к переполненному людьми последнему британскому фрегату. Капитан его не имел возражений принять русского у себя на борту.
— Со всей очевидностью, сэр, мне не хотелось бы разбирать «Вестфалию» на доски, когда на ней скопились люди сразу из трёх команд. У нас больше орудий, выше скорость, да и дистанция поражения изрядно превосходит вашу артиллерию. Предлагаю решить дело без крови.
— Я не имею права сдаться, — ответил британский капитан, понимая правоту русского и удивляясь его чистому английскому произношению. — Лучше выброшусь на мель и прикажу уничтожить корабль.
— От вас никто не требует подобных жертв, — качнул головой Нахимов. — Оружие за борт, и ступайте с Богом. Слово русского офицера: вас никто не тронет. И, право, снимите эту тряпку. Над боевым британским кораблём прусский орёл выглядит нелепо. Вы же не стыдитесь Юнион Джека?
Англичанам кровь бросилась в лицо. Но проклятый русский прав — не по сути вещей, а с позиции силы. Капитан нехотя согласился. Адмирала Старка выручило, что в этот трагический момент он не успел выбраться на борт «Вестфалии» и был избавлен от необходимости отдать ужасный приказ.
Если есть в биографии корабля более позорный момент, чем этот, так только сдача его врагу. Стволы артиллерийских орудий словно тела погибших моряков один за одним падали вниз, в пенные брызги, превращая красу и гордость флота в убогое транспортное судно. Может, трюмы пенькой да бочками с жиром наполнить, чтобы унижение было полней?
Когда орудийные лафеты опустели до последнего, русский офицер, приглядывающий за соблюдением соглашения, указал на ружья, которые раздали палубным матросам из боязни русского абордажа.
— Ганз! — русский ткнул рукой за борт. — Офф!
Это против традиций и правил. Обстановка накалилась до температуры кузнечного горна, но представитель победившей стороны был неумолим. Да и как спорить без единой пушки.
Он не стал обыскивать трюмы в поисках завалящего штуцера или пистолетика. Козырнул, сказал «о'кей», по-русски добавил «честь имею», потом неторопливо прошествовал к шторм-трапу.
За борт свесилась люлька, в ней — матрос и ведро с краской, которая быстро легла поверх надписи «Вестфалия», а на штоке взметнулся сине-красный гюйс. Британские экипажи, наверно, даже ценой бунта не согласились бы и далее воевать за Пруссию.
Возвращение ощипанного «Принца Уэльского» в Данциг вызвало шок. Дурная весть испортила расположение духа германцам, предвкушавшим перемирие с русскими на самых невыгодных для врага условиях. Самопожертвование Шильдера и холодный расчёт Нахимова отложили окончание войны на неопределённое время.
Глава десятая, в которой фельдмаршал Паскевич добивается победы, которая, к сожалению для него, не является окончательной
Не имея сил для захвата и удержания всей Восточной Пруссии, командующий решил, тем не менее, наносить главный удар не с западных польских земель, а со стороны Ковно, куда смог по железной дороге перебросить изрядное количество войск. Он рассуждал просто: под стенами Кёнигсберга разговаривать с пруссаками будет намного проще, чем снова отрезая этот кусок королевства. Под угрозой захвата восточной столицы они как шёлковые отдадут польское балтийское побережье, включая Гданьск-Данциг, лишь бы отвести от себя беду.
Решительная битва произошла близ городка Тапиау, где от реки Прегель отделяется рукав, называемый местными Дейма, он течёт на юг. Прусский генерал фон Мольтке надеялся остановить русских на этом естественном рубеже, однако они обрушили огненный шквал на германские позиции и навели переправы через Дейму. Верстах в трёх от неё бронеходы впервые сошлись друг с другом в бою.
Подобно рыцарям из легенд, которые не могли поразить латы противника с первых ударов, железные исполины дрались добрый час. Ни конница, ни панцергренадёрная пехота в том сражении участия не приняли: сначала пушечные гранаты, а потом рой пуль из бортовых картечниц разметали их. Первые ряды пали, остальные отступили, спасаясь от гибели неминуемой и бесполезной.
Две дюжины панцервагенов и три дюжины шестиколёсных русских броненосцев осыпали друг друга стальными болванками. Грохотали выстрелы, гремел металл о металл. Ход сражения определили численность русских и новые снаряды, по чести говоря — опытовые ещё, не опробованные толком. Тагильские умельцы обозвали их по-морскому — брандскугели. Только не круглой формы, как ядра для гладких стволов, а вытянутые, под винтовальную нарезку. С пятисот шагов самые удачливые выстрелы начали пробивать толстую тевтонскую броню, изрядно превосходящую нашу по прочности, но делавшую их вагены малоподвижными. Внутри вспыхивал пожар, а где огонь и порох — итог предсказуем. Когда девятнадцать уцелевших бронеходов миновали линейку неподвижных панцеров и принялись палить по скопившимся там войскам, а конница рванула в охват с юга, прижимая прусскаков к Прегелю и норовя отрезать путь к отступлению, они дрогнули.
И хотя бронеходный полк не штурмовал бастионы Кёнигсберга, что вряд ли возможно по природе военных локомобилей, мрачный вид закопчённых железных колесниц с грозными стволами орудий, открывающийся с городских стен, дал русской делегации возможность отвоевать на бумаге не один десяток вёрст, изрядно сдвинув границы внутрь германских земель. От Мемеля кордон сдвинулся далеко на юг, превратив Куршский залив во внутреннее российское озеро; Польское Королевство включило на западе все земли, когда-либо принадлежавшие Речи Посполитой, и немного ещё.
Овеянный славой и почитая себя самого наравне с Суворовым, князь Паскевич вернулся в Гомель, получив в Москве причитающуюся толику восхвалений и наград. Юлия Осиповна встретила его как всегда — ровно и приветливо, но не более. Странным показался взгляд пасынка — одиннадцатилетнего Володи Строганова. Отрок вступал в пору возмужания, получив от родителй не лучшие черты. От матери унаследовал ляшскую кровь, готовую закипать в приступе безмерной гордости по поводу и без. От отца, коего и помнить не мог — пренебрежение к правилам и авторитетам. Отчима Володя терпел, но не более, и то — по просьбе матери, зато отлично ладил часто наезжавшим сюда Федей Достоевским.
Литератор, отвергнутый местными барышнями, несколько остыл, однако причислил себя к особам чувствительным, нервическим и глубоко несчастным, вдобавок — exalté[28]. Созданный образ помогал сочинять ему, а первые напечатанные рукописи принесли некоторый успех. Впрочем, по мнению фельдмаршала, в основном у таких же ветреных и неуравновешенных господ.
Семья в сборе, включая замужних дочерей, и некоторые гости из числа уездного высшего общества, собрались на открытой веранде дворца над Сожем. Как центр домашнего уюта, здесь стоял круглый стол, покрытый чистой скатертью, на нём торжественно возвышался огромный фарфоровый кофейник, полный ароматного шоколада, окружённый чашками, графинами с сиропом, бисквитами и булками. Французский повар Луи по старости лет больше не сопровождал хозяина, радовал свои искусством только в Гомеле. В выпечке он был особенно силён. Как это всё отличалось от спартанских походных шатров, захваченных прусских усадеб со следами поспешного бегства хозяев, прохладной и сырой, несмотря на тёплую июньскую погоду, кёнигсбергской резиденции короля…
Шутка ли, в этом году фельдмаршалу шестьдесят. Мало ещё морщин, потому что лицо, как у всех полноватых людей, разгладилось изнутри. Усы и бакенбарды топорщатся дерзко, а лысина не посмела нарушить великолепие кудрей, чуть подёрнутых серебряным отливом. Правильнее — стальным, недаром же внемлет славословиям не кто-нибудь, а главнокомандующий самой сильной армией в мире, миролюбиво сидящий с шоколадом в чашке. И походка даже после шоколаду, кофию и сладостей — твёрдая, мужская, не стариковски-семенящая. Но уж больше тянет на покой. Добытой славы хватит на три жизни. Он достиг всего, чего хотел, о чём мечтал — добрая семья, достаток, репутация, положение. Стоит и о мемуарах подумать; чем он хуже Румянцева и Кутузова?
Благостное состояние души и тела, столь любезное немолодому фельдмаршалу, сохранялось недолго и было безжалостно нарушено через три дня. Не нарочно, совершенно не желая того, он подслушал разговор меж пасынком и женой, хотел уйти или вмешаться, но не сделал ни того, ни другого. Только сидел, печалился и покусывал кончик седоватого уса.
Маленькая зала, близ которой он опустился на стул, выходила дверью на галерею. Отсюда открывался чудесный вид на реку, потому Юлия Осиповна предпочитала её другим. Иван Фёдорович приготовился в удовольствие почитать новомодного сочинителя Владимира Одоевского, о коем шла молва с восхвалением его глубокой проницательности в непознанные дебри бытия окружающего и потустороннего.
«Во все эпохи душа человека стремлением необоримой силы, невольно, как магнит к северу, обращается к задачам, коих разрешение скрывается во глубине таинственных стихий, образующих и связующих жизнь духовную и жизнь вещественную…»
Вот же афедрон! Изысканный в светском общении, наедине с собой князь позволял крепкие словечки[29]. Но повод был — для известности нужно заслужить славу в бою, рисковать собой и товарищами. А какой-то писака, мнящий себя таковым лишь потому, что может связать пяток-другой фраз на языке Пушкина, такую же популярность обретает, тиснув книжонку с многозначительными и непонятными образами.
Навести критику на Одоевского, кстати говоря — не слишком справедливую, он не успел. Из залы донеслись тихие голоса продолжающегося разговора. Судя по всему, не сегодня начатого.
— Ты не справедлив, Володя. Он добр, порядочен, честен. Он тебе как отец.
Паскевич отложил книгу и насторожился. Подслушивать дурно, тем более речь явно о нём, но…
— Да, матушка! Именно — как отец. Настоящего-то нет…
— Успокойся. Ты же знаешь…
— А сегодня я снова увидел человека с жутким лицом. Как тогда, в детстве, на Пасху! Но он был одет хорошо, не просил подаяния.
— Что? — голос Юлии Осиповны ощутимо дрогнул. — Ты уверен?
— Сейчас скажете, маменька, как обычно — мало ли на свете похожих людей. Но он точь-в-точь как папа!
— Ты же не можешь его помнить.
— Он слишком похож на портрет, что стоит на комоде в вашей спальне, и на который вы смотрите каждый день.
Князь задохнулся от злости. Какого дьявола Строганов снова припёрся сюда? Меж тем, отрок продолжил.
— Иван Фёдорович со всех сторон положительный, спору нет. Но он какой-то… не настоящий. Потому ты его и не смогла полюбить. Сейчас невозможно важный приехал. Победитель, затмил славу Суворова и Кутузова, — Володя весьма похоже передразнил уездных прихлебателей. — А сам даже Фермора не стоит, Кёнигсберг не захватил!
Зато сыночек стоит отца, возмутился Паскевич, почувствовав, какую змею пригрел на груди. А как злорадствует, неблагодарный недоросль! В 1758 году генерал Фермор походя занял прусскую крепость, оставленную войсками, главные битвы Семилетней войны прошли совсем в других местах, и главным её героем стал Румянцев. Англичанина забыли почти, а имя Паскевича за один только Крым запомнят на века!
— Потерпи, — попробовала увещевать Юлия, не делая и попытки вступиться за мужа. — Et puis après[30], пусть не смог он завоевать всю Пруссию, это не имеет значения в делах домашних. Лучше ещё расскажи о человеке с обожжённым лицом.
Последнего фельдмаршал уже не выдержал. Он яростно отшвырнул невиновного Одоевского и удалился, ничуть не заботясь, услышала ли жена его шаги, догадалась ли о подслушивании разговора.
Боже, ну где справедливость? Что собой представляет Строганов? Он — палач из Вышнего Благочиния, и в новое время таким оставшийся; достаточно вспомнить убийство англичан ради сбережения репутации, а даже не из мести за Фёдора. Но соперничать с покойником — бесполезно, он в ранге иконы или языческого идола. А живой… живого предъявить нельзя.
Юлия Осиповна ничего не узнала или не подала виду, Владимир вёл себя вежливо и отчуждённо как раньше. Князь зачастил на променады, выстукивая тросточкой по тротуарам некий незамысловатый ритм, но графа не встретил и не обнаружил никаких следов его пребывания, хоть и прятаться тот не имел резона.
Дочери разъехались по своим семьям. Казалось бы — так мало времени прошло, а они ему не принадлежат. Чувствуя себя преданным и одиноким, Паскевич прервал короткие вакации и направился в Москву, справлять и далее должность Военного министра. В начале седьмого десятка жизни у него нет другого занятия.
Быть может, он несколько переменил бы мнение, коли имел бы терпения дослушать объяснение матери и сына.
— Если это он — нет ему прощения. Он, живой, обрёк меня на безотцовщину, тебя на жизнь с нелюбимым мужчиной. Когда я был мал и слаб, не видел отца. Теперь взрослею, и он мне больше не нужен. Вы вложили в меня главное, мама, — Владимир схватил её за руку и горячно продолжил. — У нас вдосталь денег и от Шишкова, и от Строгановых. Получу наилучшее образование, добьюсь всего, чтобы ты гордилась мной. И мне не нужен отец — ни покойный герой, чей портрет у вас в спальне, ни несчастный с ужасным лицом, ни заносчивый приёмный. Только вы, матушка, моя единственная семья, да Фёдор.
— Да, милый.
В этом возрасте сыновья, особенно единственные, боготворят матерей, а в детстве раннем клялись: я вырасту и женюсь на тебе. Потом приходит ветреная красотка, и родная кровинушка вдруг забывает о матушке, готова на любые сумасбродства, от самоубийства до женитьбы. И мать терпит, принося в жертву нечто выстраданное, сокровенное. Оттого столько хлопот относительно выгодной партии. Женщины теряют сыновей и пытаются сами управлять своей трагедией; каждый раз — это битва, почище Ватерлоо и Аустерлица, только мало кто оценит сии победы и поражения. Никто кроме матери, проводившей сына, не поймёт, как кровоточит разбитое сердце.
А избавление от образа отца — то же отрицание устоев и традиций, дань молодости. Пройдёт или сменится равнодушием.
Но этого Паскевич не услышал, не узнал и не дошёл своим умом. Он не соперник призраку Строганова, и тот тоже остаётся не у дел. Сильнее Володи Юлия Осиповна никогда и никого не полюбит.
Часть четвёртая. От Вены до Севастополя
Глава первая, в которой снова происходит встреча Строганова и Паскевича
Революционный 1848 год затронул и Россию. Казалось тогда, что европейские королевства и империи в одночасье падут как карточные домики, будто народы сговорились в безумии, одновременно решив восстать против своих государей.
Как истукан, немой народ Под игом дремлет в тайном страхе: Над ним бичей кровавый род И мысль и взор казнит на плахе, И вера, щит царей стальной, Узда для черни суеверной, Перед помазанной главой Смиряет разум дерзновенный.Владимир Федосеевич Раевский, сосланный Расправным Благочинием в Сибирь за противление властям Рейха, возвращённый и обласканный демидовской династией, вдруг снова вспомнил якобинские порывы молодости, начал бурно плодить бунтовские вирши, призывая россиян на баррикады… Против кого или чего? Не важно — главное, чтобы на баррикады.
Отдадим должное Демидовым. Первый Император новой династии Павел Николаевич, его брат Анатолий Николаевич, регент при сыне-наследнике Дмитрии Анатольевиче, а также вступивший на престол молодой монарх оставили наименьшее число пережитков из XVIII века, возмутительно живучих в Центральной Европе. Та эпоха казалась просвещённой её современникам, но не нам, живущим в новую эру пара и железных дорог.
В России накал страстей довольно быстро угас. Недовольные господа, подобные Раевскому, покинули места обжитые и отправились за Урал с лишением чинов и званий. Досрочный роспуск Думы, выборы и частию сменённое правительство создали видимость обновления власти, на том всё и успокоилось.
Новый Государь Австрийской империи Франц-Иосиф, сменивший прежнего главу Габсбургского дома и оттого имевший право заявить: я не объявлял России войну, в начале следующего года запросил о помощи. Паскевич призвал поддержать венгров и славян, раздавив Австрию и навсегда избавившись от угрозы со стороны юго-запада. К своему крайнему удивлению он узнал, что Демидовы решили пойти навстречу Францу-Иосифу, и Дума поддержала.
Весной 1849 года мощная русская армия вторглась в Богемию и Мадьярию, заставив мятежников сложить оружие при виде несомненного превосходства экспедиционного корпуса. Вскоре утихли выступления балканских славян, они предпочли не дожидаться появления русских «освободителей». Несколько досадуя, что решил исход противостояния в пользу совсем не той стороны, что велела совесть, фельдмаршал на белом коне и в сопровождении гусарской бригады вступил в Вену.
Сиял август, музыкальная столица Европы встретила русского командующего с обожанием. На склоне лет Паскевич уж не думал, что будет вводить победоносное войско в столицу другого государства, а празднично одетые барышни радостно махать ему зонтиками. Капелька бальзама упала на его тщеславие, оттого на душе стало приятнее.
Понеслись недели приятной светской жизни, пока русская армия чудовищным кулаком нависла над центром Европы, словно вопрошая: кого ещё укоротить? Победоносные бронеходы, одного только вида которых достаточно, чтобы заставить дрожать целые страны, затаились у станции вновь построенной железной дороги, соединившей Вену с Прагой и Варшавой, то есть с передовым миром. Нет силы, чтобы воспрепятствовала им выгрузиться с железнодорожных платформ под Берлином или Парижем.
Ощущая себя вершителем судеб и оттого не совсем здраво рассуждая о собственной роли в новейшей истории, Паскевич прибыл однажды на бал в Шёнбрунн, превратившийся с воцарения Франца-Иосифа в главный императорский дворец страны. Шутовски нацепив крохотную маску, якобы скрывающую личность российского фельдмаршала, он танцевал вальсы, кадриль, контрданс — дамы с готовностью отказывали кавалерам, лишь бы провести миг подле прославленного воителя. Он величественно плыл среди придворных, австрийской знати, иностранных посланников и прочих влиятельных лиц мира сего. С двух сторон под руку с ним шествовали две молодые красотки — графиня и герцогиня не самых строгих нравов. Впрочем, сейчас речь и не шла о постельных утехах, по крайней мере — на балу. Дамы служили лишь малым украшением к главному бриллианту чрезвычайной величины, который после прусской компании несколько раздобрел, пусть ещё далеко находясь от опасной черты, за которой начинается неприятное сходство с покойным императором Павлом Вторым. Благодаря эскорту из двух очаровательных фрау, полководец, ведомый под руки, напоминал старого ловеласа, готовящегося к отставке и собирающегося под занавес устроить Афинские ночи в обществе гетер.
От него ждали многого. Самые разные господа спешили мелькнуть мимо, дабы засвидетельствовать почтение и испросить аудиенции. На пике славы не было, верно, вещи в пределах разумного, в которой Франц-Иосиф отказал бы спасителю империи. А за многими из таких вещей скрываются деньги, и преогромные. Также — и назначения на разные государственные посты, то есть те же деньги, лишь из другого кармана.
Вскоре Паскевичу предстоит вернуться в Россию, империю куда более могущественную, предстать перед молодым Императором. Там он тоже может нашептать правильные и нужные словечки, замолвив их — сделает доброе дело влиятельным особам.
Фельдмаршал, конечно же, всё это понимал, как и отдавал себе отчёт, что знойные красотки нежно теребят перчатками его мундир не за стройность талии, которой нет, а государственные мужи ценят отнюдь не мудрость. Но он достиг чего-то предельного, пусть в одной, наиважнейшей на сей момент стезе — военной. И заслуженно наслаждался триумфом, пока не увидел безобразно-знакомое лицо.
— Прогуляемся на галерею, ваше высокопревосходительство?
Великосветские львицы заметили, как вздрогнул покоритель Европы. Он отстранился, явно не желая, чтобы его сопровождали. Не удивительно — русский негоциант Трошкин имел репутацию человека загадочного и неприятного, при этом респектабельного и значительного. Они упорхнули, а фельдмаршал, лишившись женской опоры, тяжеловато прошаркал вперёд.
— Что вам угодно, сударь?
— Поблагодарить, Иван Фёдорович. Без околичностей — от души. В Австрии мне принадлежат банки, железная дорога, несколько заводов. Разойдись революция не на шутку, сии предприятия изрядно утратили бы цену.
Правая половина лица при этом ухмылялась без малейшего намёка на благодарственное выражение.
— Вот как. Вместо службы Отечеству вы решили набить карман.
— Отчего же нет, любезный князь. В казённой службе вы самолично мне отказать изволили. А деньги лишними не бывают. Прошлая венгерская революция, благодаря коей ваша экспедиция в Краков и Галицию превратилась в лёгкую partie de plaisir[31], обошлась мне в полмиллиона фунтов стерлингов, включая убийство эрцгерцога, с коего и началась та война.
— Так это вы… — у Паскевича даже голос перехватило.
— Не скрою, ваши успехи под Варшавой заслуживают восхищения. Если не считать, что вы положили там сколько-то тысяч православных душ, а казна потратила миллионы. Чтобы поставить Австрию на колени, Москва не затратила ни гроша, не считая краковского променада, и не потеряла ни единого солдата.
— Вы лжёте! — в сердцах и не подумавши воскликнул фельдмаршал.
— Не нужно таких слов, — мягко, но с ощутимым скрытым металлом в голосе возразил Строганов. — Вы — старик, и я не могу вызвать вас на дуэль. Но есть и другие способы наказать.
Князь промолчал. Извиняться — не за что, и перед кем? Лучше прекратить дурную пикировку и оборвать разговор. Но не вышло.
— Также и с этой компанией. На Франца-Иосифа и на Дмитрия Анатольевича я потратил массу сил и средств. Увольте-с, отнюдь не только из-за заботы о вложениях капитала. Россия присоединила Польшу, одну из самых непокорных земель. Как долго Понятовский и его магнаты будут терпеть над головой российский триколор? Пока боятся Австрийской империи и Прусского королевства. Значит, сберечь угрозу для них — наш святой долг.
С этой точки зрения Паскевич, от возраста не столь быстрый и гибкий разумом, никогда на политические резоны не смотрел.
— Поэтому вы не отправитесь в Берлин, — безжалостно закончил Строганов. — С беспорядками они управятся сами. Иначе ввод иностранной армии ослабит королевскую власть, а не усилит, как здесь, где Габсбурги могли потерять всё до последней нитки. Посему — искренне благодарствую. Ваша личная роль невелика, но сыграна с блеском. Поверьте, оно куда лучше и достойнее, нежели хвататься за неподъёмную ношу и позориться. Не смею больше задерживать, разрешите откланяться.
Уже в спину, идеально прямую и на шестом десятке, Иван Фёдорович просипел:
— Уходите! И не возвращайтесь… Что нашла в вас Юлия Осиповна? Почему предпочла…
Оставшись один, фельдмаршал схватился за перила: ноги стали ватными, руки покрылись предательскими капельками пота. Его обнаружили почти без чувств, отвели в лучшую дворцовую спальню, а лекарь, до утра просидевший у огромной кровати недужного Паскевича, не мог понять русские слова, роняемые великим полководцем.
— Старик… Личная роль невелика…
И с пухлой заросшей щеки, вдруг прибавившей лет десять возраста, скатилась крупная мутная слеза.
Строганов, убывший с бала и поначалу не осведомлённый о переполохе, сердился на себя за несдержанность. Кто бы знал, что едкая, но, в сущности, безобидная подначка о набиваемом кармане вызовет подобную отповедь? Выходит, неблагородное состязательное чувство терзало изнутри, зависть к успехам, семейному благополучию с Юлией, раз так быстро прорвало плотину.
А последние слова, точно выстрел в спину! Предпочла? Видать, и на домашнем фронте бравый фельдмаршал вёл тихую войну, доказывая, что не хуже мнимого покойника. Вёл и проиграл, в душе не смирившись.
Лжец! Каждый раз, когда Строганов при редких встречах справлялся о Юлии и Володе, князь уклонялся от прямых разговоров, ему это, видите ли, неприятно. Но ясно давал понять: не извольте беспокоиться, в семье благополучно. Выходит, она так и не поставила Паскевича на одну доску с отцом единственного ребёнка, наследника фельдмаршалу не родила, хоть и вышла замуж отнюдь не в старом возрасте.
Неужели многолетнее жертвенное отречение от жены и сына основано на глупом предположении, что им лучше с Паскевичем? Самое ужасное в том, что сам себя в этом убедил ещё до встречи с князем, сам же ему высказал. И старый подлец не попробовал разуверить!
С другой стороны, не слишком ли большое значение он придаёт мимолётной оговорке, брошенной в гневе?
Наутро Строганов уехал в Зальцбург по банковским делам, оттуда в Лондон, где пробыл недели две и понял отчётливо: нужно в Гомель. В пятьдесят пять жизнь свернула к закату. После возврата из турецкого плена он познал одну лишь любовь женщины — продажную.
Нет, не только актрисочки провинциальных театров и прочие доступные дамочки скрашивали его ложе. Были уверявшие в страстных чувствах, не вызывая ни толики доверия. Страшного, но богатого человека обожают лишь за его капитал. Так что лучше расплачиваться за продажные ласки, не строя иллюзий, нежели покупать одну женщину на всю жизнь, приобретая охапку проблем. Да и перед Богом немыслимо, словно мало греха прелюбодеяния; в храм с новой избранницей путь заказан. Венчание при живой жене ужасно, ибо добавляет клятвопреступление перед ликом Всевышнего. Аллах дозволяет многожёнство, однако при условии, что супруги живут с господином и он утоляет их нужды. Куда ни кинь — всюду клин.
А может, его incognito — не меньший грех? Пусть и с опозданием, его нужно и должно исправить.
Не считая парома Дувр-Кале, дорога от Лондона до Гомеля ныне вся уложена рельсами и занимает с пересадками не более шести дней. Увы, Ла-Манш широк, и никогда не построить там ни мост, ни тоннель. Строганов, не скрываясь, поймал извозчика у вокзала и поехал во дворец, представившись дворецкому негоциантом Трошкиным, чающим увидеть княгиню.
Но в гостиную вышел князь, перекошенный от бешенства. За время, прошедшее с памятной ссоры в Вене, русский корпус вернули в империю, и фельдмаршал первым прибыл в семейное гнездо.
— Вы?! Опять! Во-он! Иначе скажу слугам спустить собак!
— Je suis désolé[32], Иван Фёдорович, мы не можем бесконечно жить во лжи.
Разъярённый так, что от размахивания рук распахнулся халат, Паскевич бросил ему в лицо:
— Я заплатил вам за молчание.
— Моими же деньгами. Право же, довольно. Если они вам столь важны, могу вернуть тотчас и с процентами.
— Вы… вы — низкий человек! Это для вас деньги важнее семьи.
— Извольте не переходить границы, — Строганов приподнялся с кресла, которое занимал в ожидании, и шагнул навстречу брызгающему слюной старику.
— Это мой дом! И я спущу вас с лестницы!
После сказанных в запале слов граф снова не сдержался, как в венском дворце, и сказал необратимое, не оставив выбора Паскевичу.
— Прискорбно, князь, что вы более не способны ни на что иное, кроме как кликнуть слуг.
— Тогда… Тогда оставьте ваш адрес. Я пришлю секунданта договориться о времени и месте.
— Дворянин будет стреляться с безродным обывателем Трошкиным? — Строганов, начиная сознавать абсурдность ситуации, сделал неуклюжую попытку изменить её и не преуспел.
— Вы, кажется, решили возродиться графом. Что же, отступите?
— Нет. И всё равно увижу Юлию Осиповну.
— Именно поэтому я застрелю вас завтра. Убирайтесь!
Запахнув полу халата, расхристанного словно расстёгнутая шинель на ветру, князь удалился, стремительно шаркая домашними туфлями, можно сказать — с неприличной для его возраста скоростью.
Наверху ждало короткое, но неприятное объяснение с женой.
— Что случилось, Иван Фёдорович? Ваш гневный голос отсюда был слышен.
— Досаждает один проходимец. Успокойтесь, дорогая, он больше не потревожит.
Она не поверила, но не стала возражать, а в сердце появилось нехорошее предчувствие.
Граф и князь стрелялись на рассвете, на левом берегу реки Сож. Формальные слова о примирении, сказанные для проформы скороговоркой, едва умолкли, как Паскевич крикнул: не может и речи быть, командуйте начало. С благородной дистанции в двадцать шагов он первым кинулся к барьеру. Его противник отвёл пистолет, отказываясь спешить с выстрелом, не повернулся боком, не прикрылся оружием.
— Забрали у меня семью — мало? Нужна моя жизнь? Извольте!
Князь вскинул пистолет, дрожащий в неверной руке, и выстрелил мимо, чуть не взвыв от злости.
Строганов, которого турецкая рана избавила от нужды щурить один глаз, спокойно прицелился в переносицу фельдмаршала и мягко потянул спуск, чуть приподняв ствол в последний миг. Фуражка слетела на землю, пробитая пулей, за ней упал Паскевич. Его даже не оцарапало, он к вечеру умер от удара, так и не приходя в себя. Секунданты и доктор спрятали испорченную фуражку, от греха подальше скрыв некрасивую историю с дуэлью.
Оглушённый случившимся и чувствуя себя хуже, нежели после убийств жандармов, эрцгерцога и судопромышленников, граф не находил себе места. Путь расчищен, но этой смертью, как ни крути — князь был бы жив, воздержись Строганов от приезда в Гомель, он ещё более отдалил возможность воссоединения. Даже если догадка верна и Юлия холодно относилась к усопшему, она никак не возрадуется, когда рано или поздно слух о позорной дуэли дойдёт до её ушей.
Глава вторая. После похорон
В наш технический век сообщения передаются с удивительной быстротой. Телеграфические провода опутали Россию и навсегда изменили её жизнь. Любая новость достигает нас из самых дальних уголков за считанные секунды, достаточные для того, чтобы специальный человек на станции отстучал её, превратив живые слова в удивительные и невидимые субстанции, немедленно пересекающие огромную страну. Право же, гениальное изобретение, казавшееся вчера мистической фантазией, вошло в обыденную жизнь и уже мало кого может поразить.
Кадет Московской военно-инженерной академии юный граф Владимир Строганов получил каблограмму о смерти отчима наутро после его смерти и успел в Гомель к отпеванию. На третий день после погребения юноша брёл вместе с матерью к дворцу от фамильной часовни, приютившей второго уже Паскевича, когда увидел всё того же одноглазого господина. Взгляды встретились; мужчина сделал неприметный, но явственный жест. Володя понял знак, наскоро извинился перед maman и кружной тропой вернулся к аллейке.
— Здравствуйте, ваше сиятельство. Поговорим?
— Извольте. Полагаю, вы — старый армейский знакомый фельдмаршала? Или…
— Да. Или.
Они замолчали. Главное было сказано. А что должно было произойти? Бросание друг другу на шею, расспросы, ахи-охи?
Под ногами шуршали первые жёлтые листья. Сухо, нету типического прелого запаха осени, гомельское лето почти без перехода вступило в бабье, и в парке красиво, немного печально, будто аллеи и деревья знают про кончину хозяина.
Уже на берегу реки сын спросил:
— Почему только сейчас?
— Не хотел мешать.
Верхняя губа чуть приподнялась, отчего бледное лицо юного графа приобрело недовольное выражение.
— Кто дал вам право судить — мешаете или нужны?
— Ваша жизнь казалась благополучной, порядочной. Воскресший муж твоей мамы, обвенчавшейся с Паскевичем, никак в вашу идиллию не вписывался.
— А сейчас это потеряло значение, поэтому вы решили явиться?
Строганов-старший зажал трость подмышкой, стянул перчатку и потёр привычно зудящий шрам на лице.
— Ты не рад?
— Рад?! Чему? Что я узнаю — рос без отца, хотя он был жив и свободен? Что мама проплакала годы в благополучной идиллии, как вы изволили выразиться?
— Не допускаешь, что были иные причины?
— А они имеют значение?
— Чувствую, ты не желаешь слушать. Но следующая возможность поговорить может не скоро представиться. Поэтому главное ты узнаешь сейчас.
Он коротко, не упуская ни единой важной детали, рассказал про турецкий плен, английскую авантюру с сыном Паскевича, австрийскую революцию, откровенно сообщил о семье судовых владельцев, венских жандармах и прочих людях, неосторожно ставших на пути.
— Ивана Фёдоровича… тоже вы?
— Отчасти и невольно. Он чрезвычайно переживал, пробовал состязаться со мною, записал себя в проигравшие, вызвал на дуэль. Перенервничал так, что сердце не выдержало. А в Крыму мы были с ним практически товарищами. C'est la vie[33]. Видит Бог, я не желал и не стремился к его смерти.
— Какой Бог? Вы же приняли ислам!
— Не отворачиваясь от Христа. Бог, он же — Создатель, а человеческие имена придумали люди.
— Вы вольнодумец почище Вольтера.
Старший из собеседников остановился, втянул носом речной дух и повернул обратно к дворцу. Сын последовал рядом. Углубляться в теологические споры сейчас не с руки.
— Единственное, чем вы меня смогли обрадовать — я продолжаю носить графский титул.
— А также что твоё наследство увеличивается раз в пять.
— Премного благодарен. Только титулом я владел и до вашего появления, а капиталов получил больше чем достаточно.
— Иными словами, моё воскрешение или, наоборот, пребывание в безвестности, для тебя разницы не важны? — он постарался сказать это наиболее нейтральным голосом, сдерживая волнение. Развёрстых сыновних объятий не ожидалось, но всё же…
— Сela ne tire pas à consequence[34], - жестоко отрезал тот. — По крайней мере — теперь. И у меня один лишь вопрос: вы сегодня намерены открыться матери?
— Если ты не возражаешь.
— Отчего же. Но многого не ждите. И смертью Паскевича она опечалена, пусть не любила его, но привязалась, уважала, корила себя, что не может дать ему настоящего тепла.
— Тогда сделай одолжение, приведи её вон в ту беседку, — трость указала на затейливое металлическое сооружение, возведённое в румянцевские времена. — В покои мне неловко являться, там родственники фельдмаршала.
— И ваши тоже… Александр Павлович, — молодой граф впервые нашёлся как обратиться к человеку, формально считающемуся родителем. — Кузен, две сестры. Они приехали поддержать маму, да и к Ивану Фёдоровичу относились со всевозможным почтением.
— Князь заслуживал того, — согласился невольный виновник его кончины.
— Да. Но меня не любил, — на лицо Володи легла печать непримиримости. Было, за что он не мог простить даже покойного отчима. — Считал великой несправедливостью: Фёдор умер, а я жив. Понимал, быть может, нелепость этой обиды, но ничего поделать не мог. И мама знала, оттого не могла относиться к нему теплее.
А стать ему сыном и заменить погибшего в Англии Фёдора не смог или не захотел, догадался Строганов. Выжил сам, цепляясь за мать, лишённый поддержки и отца, и отчима. Оттого решительная бескомпромиссность в суждениях.
Владимир смог увести маму из родственного круга только через час и практически прибегнув к обману; введя в беседку неслышно удалился, проявив несвойственную юным годам деликатность.
— Господи!
Усталые от слёз глаза снова увлажнились. В них смешалась тысяча чувств и толком не понять каких именно — радость, что увидела давно похороненного графа живым, смятение неожиданности, горечь от страшного вида лица и множество других, коих не разберёт самый искушённый специалист по физиогномике. А слова прозвучали и вовсе неожиданные для Александра Павловича.
— Боже, ты видел меня молодой… Я такая старая!
Потом они долго говорили наперебой, не в силах прикоснуться друг к другу даже через кожу перчаток. Лишь через некоторое время она тихонько коснулась пальчиками щеки чуть ниже чёрного бархата наглазной повязки.
— Ты страдал! А я ничем не могла тебе помочь, даже не была рядом. Мой грех — зачем смирилась? Знала же, что останки не распознаны, могла нарочно ехать в Крым, в Стамбул, узнавать о раненых, пленных, не просто лелеять надежду — искать. Как всё получилось бы проще! Но почему же ты предпочёл резигнацию?[35]
Строганов вдруг почувствовал, что его резоны — не причинять беспокойства и не рушить благопристойное существование — глупы, надуманны и нелепы. А главное, что осознать это он должен был много лет назад, в весенний пасхальный день, когда впервые увидел Юлию Осиповну в роли княгини Паскевич. Эта чудовищная ошибка отняла у них множество лет. Конечно, жизнь не закончилась, и даже близ пятидесятилетнего рубежа Юлия сумела сохранить себя удивительно и готова состязаться с сорокалетними, но…
К ней первой вернулся рассудок, способность ставить практические вопросы.
— Ты будешь открываться остальным Строгановым?
— Нет. Я обещал Володе. Он уже носитель титула и, как видно, им дорожит.
— Да. Его безотцовщина — единственное, что имею право ставить тебе в упрёк. Себе гораздо больше. Ну чего стоило ещё год обождать! Ведь чувствовала, что не так всё просто.
— Пустое об этом говорить. Теперь мы можем быть вместе.
— Нет! — Юлия даже чуть оттолкнула его кулачками в грудь. — По законам и обычаям, я на год в трауре как княгиня Паскевич. В третий раз вдова…
— То есть ждать, как после Шишкова. Впрочем, я и так ждал столько лет. Жестокая ирония судьбы.
— Как теперь зовут вас, граф? — впервые в её голосе мелькнуло нечто похожее на иронию.
— По паспорту — мещанин Трошкин Александр Порфирьевич, — в тон ей ответил Строганов.
— Хорошо, что Александр. А фамилия…
— Не аристократическая, верно? Мне предлагали недорогое поместье в Италии, с титулом князя Сан-Донато. Подойдёт? Тогда после траура вдова Паскевич может венчаться с итальянским князем, а жить будем за границей.
— Увы. Я не могу с тобой идти ни в церковь, ни в костёл, ибо венчаны мы перед Богом, — губы, не утратившие ещё яркость, тронула улыбка. Потом она повторила слова сына, только теперь они прозвучали мажорно, а не как отречение отпрыска от отца. — Сela ne tire pas à consequence. Мы что-нибудь придумаем. Главное, что ты жив.
Она упорхнула, авантажная даже в траурном уборе, исполнять обязанности вдовы, внезапно переставшей кручиниться. Строганов проводил сына на вокзал. Ему показалось, что в глазах Владимира, ставшего на подножку и обернувшегося, мелькнула какая-то искра. Словно он вздумал что-то сказать и промолчал.
Александр Павлович пару раз и не надолго встретился с Юлией, затем уехал, обещая скоро вернуться. На этот раз он сдержал слово.
Глава третья, события в которой разворачиваются и завершаются на Чёрном море
Казалось бы, жестокая расправа над венгерскими восставшими в 1849 году надолго вернула спокойствие и мир в Европу. Ценой жизни тысяч спасены были миллионы. Но русский успех, за который либеральные круги обозвали империю «европейским жандармом», кое-кому не понравился и послужил последней каплей, с которой и начался на первых порах невидный глазу процесс.
Британская империя неожиданно и весьма рьяно бросилась улучшать отношения с османами. Вдруг резко повысились ассигнования по военному и военно-морскому ведомству. В России зашевелились их эмиссары, сманивая за любые, даже самые неприличные суммы специалистов по современной паровой технике на острова. Буквально через год военный атташе российского посольства в Лондоне сообщил, что британцы наладили выпуск бронеходов, не уступающих воевавшим под Варшавой и Кёнигсбергом, называя их armored vehicles.
Сухопутная армия закончила переход исключительно на нарезное оружие, солдаты получили магазинные винтовки, офицеры и унтеры — револьверы. Флот оделся в железную обшивку. Старые корабли вывели из строя, у новых сплошь паровые машины от тысячи сил и более, орудийные палубы сменились башнями и казематами. Общее число стволов сократилось, зато увеличились скорострельность и дальнобойность.
Вскоре Европа загудела как улей: ради какой такой будущей войны тратятся столь огромные средства, и парламент отпускает их недрогнувшей рукой? Загадка разрешилась, когда в адрес Российской империи посыпались ультиматумы. Англичане потребовали сократить численность флота в Балтике и на Чёрном море, подтвердить отчуждение Бессарабии на веки вечные…
— А ясак как татарам платить не нужно? — спросил Император Дмитрий Анатольевич, прочитав очередное послание, выдержанное едва на грани приличий. — Эх, стервецы, ничем ведь конкретным не грозят, пужают только — «оставляем за собой право принять адекватные меры».
Он повернул голову к Министру иностранных дел Григорию Александровичу Строганову. Брат «мещанина Трошкина» оставил пост премьера, занятый ныне бывшим регентом, и вновь возглавил внешнеполитическое ведомство, отличаясь, впрочем, от родственника полным отсутствием чувства юмора, из-за чего постоянно подначивался монархом.
— Ответить им, что согласны, только пусть и Британия «адекватными мерами» не побрезгует. Мы часть кораблей распилим, и Роял Нави половину своих утопит.
Царь насладился выражением лёгкого ужаса на лице дипломата и расхохотался.
— Шучу! Нам не война нужна, а время. Торгуйтесь, ваше сиятельство. Коли мы от флота откажемся, что вы нам хорошее посулите?
— Будет исполнено, Всемилостивейший Государь.
Оставшись в одиночестве, что весьма редкая привилегия для глав государств, он прошагал к огромных размеров глобусу, оставшемуся от дядюшки, заговорив сам с собой.
— Не понимаю. Ни одна страна в мире не может надеяться победить в войне на нашей земле, где не счесть железных дорог и не занимать угля для паровозов. Мы доставим войска в любое место за день-два, пока противник будет плыть неделями. Разве что хотят урок преподать? Ждём-с.
И молодой монарх потёр руки в предвкушении. Он с детства готовился к управлению государством в традициях самых что ни на есть купеческих — рассчитывая издержки и выгоду от каждого шага. Но в историю входят не мудрые государи, при коих державы крепли и богатели, десятилетиями уклоняясь от войн, а победители и захватчики земель.
Строганов выгадал у англичан полгода, не более. Потом началась война с Османской империей по привычному сценарию — турки полезли несметной и плохо вооружённой толпой на Армянском нагорье и со стороны Бессарабии, попытались высадиться в Крыму и на Кубани. Их били по старинке, жестоко и в понимании, что это лишь разведка боем да прекрасный повод прийти на помощь обиженному русскими варварами народу. Посему ничто современнее бронеходов и пароходо-фрегатов, усмиривших врага в Восточной Пруссии, турки не увидели. Англо-французская громада вторглась, когда от османского флота остались лишь воспоминания о былой славе, русские прошли Анатолийский полуостров с востока на половину его протяжённости, а на западе напоили коней в Дунае.
Развязка драмы наступила, когда в середине лета 1854 года потрясающих размеров боевой флот, сопровождающий более сотни торговых судов, наполненных пехотой, кавалерией, артиллерией, десятками паровых «арморед виклз» и сотнями тысяч тонн различных припасов, нескончаемой колонной двинули от горла стамбульской бухты Золотой Рог на север по Босфору.
Заместитель командующего британский адмирал Старк, знакомый с русской тактикой по неудачному балтийскому бою и сочтённый невиновным в том поражении, находился на втором номере в кильватерном построении, сгорая от желания расквитаться за позор. Сегодня предусмотрено всё. Известно о русских технических новшествах, английская техника их превосходит. Даже странное потаённое судно, субмарина по-английски, больше не секрет. На буксире две таких, для тайных операций у чужих берегов, они могут заглушить топки и проплыть на остатках давления в котле милю-другую. На каждой боеукладке есть снаряды с замедлением, ими не нужно попадать точно в корпус субмарины. Взрываясь на небольшой глубине, они безусловно разрушат её корпус. На стоянке корабли Королевского флота защищаются сетями — скрытно не подобраться. Так что на любой подлый русский сюрприз готов жёсткий ответ, распалял себя Старк и был почти прав.
В короткую летнюю ночь перед началом операции турки обнаружили у выхода в Чёрное море две шнырявшие русские канонерки. Замысел противника разгадали без труда — пара плоскодонных паровых буксира наутро протралила воды, очистив их от мин. Правда, одна из посудин подорвалась и затонула — не страшно.
Адмирал Старк не мог видеть, как укрытый среди прибрежных камней матрос повернул рубильник гальванического устройства, дождавшись прохода флагмана в створе двух маяков. Увы, донную мину тральщики вытравить не смогли. Покойный генерал Шильдер, изобретатель сей минной снасти, отправил Альбиону свой прощальный привет.
Взрыв кувалдой ударил по днищу, самому слабому месту обшивки корпуса, ибо морские инженеры меньше всего ждали оттуда нападения. Разве что от рыб. Линкор вздрогнул, потом получил значительный дифферент на корму. Заметной пробоины нет, но открылись течи, отчего трюм и топку изрядно подтопило. Оставшись на плаву, красавец-флагман потерял ход под машиной. Капитан с трудом отвёл его в сторону, надеясь вернуться к Золотому Рогу под парусами, когда проследует весь конвой. Как боевая единица он утратил всякую ценность.
Обескураженный адмирал Битти перебрался на мостик к Старку, отчего там стало сразу неуютно от слишком большого количества высоких чинов. К добру это, как известно, не ведёт.
Но даже выход из строя одного большого корабля никак не мог поколебать огромное превосходство англичан; поэтому рейд продолжился, но не долго.
Четыре дыма перечеркнули небо на севере уже через час. Русские отправили навстречу всего четыре корабля, каждый из которых минимум вдвое уступал линкору «Игл», на котором Старк всматривался в горизонт. Они аккуратно приблизились к максимальной дистанции для прицельной стрельбы и начали пальбу, после десяти минут которой у всех здравомыслящих англичан зашевелились первые червячки сомнений в успехе предприятия.
Русские удерживали расстояние и непрерывно двигались с изумительно большой скоростью, выписывая самые неожиданные эволюции. Попасть в них не получалось никак, а те били с нечеловеческой точностью, будто и орудие, и мишень застыли неподвижно. Это было просто уму непостижимо! Словно восточные дикари продали душу дьяволу в обмен на демоническую точность орудий.
Самым новым и секретным оружием русских пароходофрегатов были даже не пушки, прицельно бившие на три мили, сколько счётные машины Лобачевского. Впервые они применялись у крымских берегов перед десантом Строганова, подсказывая артиллерийским офицерам правильные углы превышения и упреждения. В Моозундском бою корабли несли усовершенствованные аппараты, но не смогли ими воспользоваться — дело решил отважный экипаж «Тагила». А сейчас работал новейший прибор.
К каждой машине приставлены офицеры. Перед боем в железное её чрево уложен стальной лист, перфорированный дырочками. В них особым способом, вроде телеграфного кода, зашифрованы данные об орудиях корабля, включая износ стволов и типы зарядов, то есть величины постоянные в ходе битвы. Что же касается переменных, офицеры рычажками вводят дистанцию, курс мишени, её скорость. От компаса и корабельного лага умный счётный прибор «знает» собственные курс и скорость. Он же получает сведенья о силе и направлении ветра — на подобных дистанциях боковой воздушный поток может несколько отклонить снаряд. Важны температура и влажность атмосферического воздуха — они влияют на его плотность, оттого требуется поправка к вертикальному углу наводки. Наконец, направление на вражеский борт машина получает от положения зрительной трубы, которую специальный матрос направляет на цель, точно удерживая риску визира на середине силуэта.
Под артиллерийской установкой спрятана целая вереница воздуходувных труб. От расчёта требуется лишь заряжать и чистить орудие. Наводить — только ежели вражеский снаряд нарушит хитроумную машинерию. Ствол сам как живой следит за неприятелем. По команде «пли», выкрикиваемой голосом и исполняемой поворотом рубильника, пушки стреляют не сей момент, а когда корпус на волнении выйдет на ровный киль.
У британских экипажей имелись столь же точные артиллерийские таблицы, позволяющие точно бить на две-три мили, но… Чтобы правильно вычислить углы, уходят драгоценные секунды, потом канониры вручную крутят маховики, а проворные русские пароходы уже в другом месте, им не нужно долго ждать — прицеливание задаётся несколькими поворотами шестерён, замыканиями гальванических контактов и открыванием клапанов воздуходувной аппаратуры.
Оттого русские сновали меж гейзеров воды, почти не получая попаданий и словно издеваясь, а сами заколачивали снаряд за снарядом в обречённый «Игл», потом перенесли смертельный ливень на следующий номер.
Паровой железный корабль умирает по-особенному, а не как привычные ранее парусники. Он цел с виду, не сбиты мачты, однако огонь охватил его изнутри. Горит машинное отделение, занимаются угольные ямы, где мелкая чёрная пыль питает языки огня не хуже сухой соломы. За считанные минуты в корпусе поднимается адская жара; пожар тушить некому, потому что команда бежит, а пытающиеся погасить пламя испеклись заживо. Из-под палубы через пробитые снарядами бреши начинает валить пар. Его очень много, потому что протекает котёл, свистит остатками давления пароперегреватель, ему вторят продырявленные и давно остановившиеся машины.
От нестерпимого жара вспучивается краска. Корабль вышел из боя, а на нём вдруг слышна канонада. Это рвутся боеприпасы, поднятые к орудиям. Осталась последняя надежда — покинуть борт, пока огонь не разогрел погреба, где основной запас пороха…
Только в шлюпке, созерцая колоссальный взметнувшийся к небу султан на месте гибели линкора, Старк осознал, что в картине боя неправильно. Русские атакуют слишком малыми силами! Они медленно и аккуратно убивают корабли один за другим, направив в бой лишь небольшую толику Черноморского флота империи, оттого потери в британских экипажах невелики. Но если тратить по полчаса-час на линкор и даже не получить ни единой прорехи в ответ, избиение займёт непростительно большое время — конвой и охранение придут к Крыму. Да и снаряды закончатся — нужно возвращаться в Севастополь, принимать новые.
Догадка, куда более ужасная, чем досада от утраты двух новейших линкоров, стиснула сердце. Это даже не избиение — демонстрация. Причём нарочная, рассчитанная на понимание. За отказ послушаться наступит кара. Но что ещё придумали восточные дикари?
Основательно повредив третий номер, русские отвернули на север. Эскадра чуть замедлилась, принимая спасённых из шлюпок. Мокрый и злой Битти, не желающий слушать никаких увещеваний, поднялся на борт следующего линкора. Брейд-вымпел командующего эскадрой взвился над пятым кораблём за сутки, а генеральное столкновение с русскими даже не началось! Но адмирал отдал приказ продолжать.
Второй акт ужасной пьесы наступил в трёх десятках миль от крымского побережья. Под высокими облаками английские офицеры увидели странного вида птицу, парящую с далеко распростёртыми крыльями. В подзорных трубах она выглядела ещё удивительнее, изрыгая клубы дыма по сторонам своего тела.
— Главного механика на мостик! — рявкнул Старк, первым догадавшийся, что парит в небесах создание рук человеческих.
С большого расстояния птица не казалась ни большой, ни скоростной. Однако когда поравнялась с головой эскадры, моряки с ужасом осознали, что летучий змей огромен, пятьдесят или сто ярдов в размахе крыльев. Таинство его полёта пугало не меньше, чем дьявольская точность русских канониров. Нигде не видно аэростата, несущего конструкцию. Крылья не машут. Несмотря на то, что изобилующий научными изобретениями и невероятными открытиями девятнадцатый век перевалил на вторую половину, многие начали креститься и поминать чудеса.
Наконец, Старк сунул трубу самому технически просвещённому человеку на борту. Тот с минуту всматривался в зенит.
— Сэр, мой ответ неутешителен. Наверху — несомненно машина, созданная человеческим гением. По бокам четыре патрубка, похожие на малые дымовые трубы. Позволю высказать предположение, сэр, у неё не меньше четырёх топок и котлов. Далее, паровые машины, размещённые на крыльях, вращают, по моему разумению, большие роторы наподобие мельничных. Только не ветер их крутит, а они создают ветер. Возможно, аппарат удерживается в воздухе по тем же законам, что и воздушные змеи, о чём говорит подобная им коробка. Но тут, сэр, простите, я не специалист.
Слова поэта Струйского «И я молю благое провиденье, чтоб воздух был на вечность недоступен» от всяких там чумазых пароходов, не услышали не только англичане, но и само провиденье. Случилось обратное; место встречи с воздушным монстром да триколор на нижнем крыле не оставили сомнений в принадлежности к державе, породившей его.
— Мистер Ривз, как его уничтожить? — задал Старк главный вопрос.
— Не могу знать, сэр! Ни одно орудие не способно стрелять вверх. Из ружей, даже если удастся попасть, невозможно вывести из строя стразу все котлы и машины. Скорость у него… — механик снова поднял трубу. — Не скажу точно, не менее пятидесяти узлов.
Иными словами — быстрее самого быстрого английского локомотива. После этого предположение о возможности попасть показалось излишне самонадеянным.
И так, нам его нечем достать. А чем вооружён русский?
Экипаж паролёта не стал мучить адмирала Старка долгим ожиданием. Он описал плавный круг, снижаясь, и понёсся над водой на высоте не более сотни ярдов, поражая огромным размером. Он приближался быстро и неотвратимо пересекающимся курсом. Нет, скорее рассчитывал пройти перед носом линкора. Вдруг из-под его днища в воду свалился продолговатый дымящийся предмет.
Летательный аппарат повернул в сторону и вверх, самые оптимистичные на борту решили, что от монстра отвалилась важная часть; теперь он удирает к берегу. Самые смелые наивно попробовали выстрелить вслед, сильно задрав орудийный ствол. Наверное, очень рассмешили русских.
Потом в месте падения показался дым, и дымная полоса поплыла к линкору. Возможно, что-то двигалось под водой, а бурлящие газы над волнами и выглядели дымом. Надо полагать, непонятный снаряд развил куда меньшую скорость, нежели британский лидер. Увы, махину водоизмещением в добрый десяток тысяч тонн быстро не затормозить и не повернуть, это не бричка.
Дымный след врезался в борт, ударив под ватерлинию. «Эдинбург» утонул красивый и практически целый, быстро заполнившись водой через огромную брешь. Адмиралы вновь оказались в шлюпках, но на этот раз с переполненного линкора спаслось уже меньше людей.
Через полчаса паролёт вернулся, уже с напарником. Дубль прошёл менее успешно, один снаряд продымил мимо кормы, второй попал неудачно, не утопив корабль.
На четвёртом заходе адмирал Чивз, вступивший в командование эскадрой после гибели Старка и Битти от третьего налёта, хмуро покосился на обманчиво близкий крымский берег, не выдержал и дал команду на разворот. Паролёты пронеслись в вышине, но не сбросили смертоносный груз, продолжив кружить над конвоем, вселяя прямо-таки животный страх. Более всего пугает ощущение безысходности, когда видишь опасность и ничего не можешь поделать. В присутствии безжалостных монстров англичане и французы разделили чувства таракана, к которому стремительно приближается тапок и нет спасительной щели, чтобы укрыться от неминуемой гибели.
Пока разворачивался конвой, всячески пытаясь избежать весьма возможных при этом столкновений, западнее выдвинулся русский флот. Без единого выстрела они начали полуохват. Дюжина кораблей среднего размера, такие утром показательно утопили первые английские линкоры, соседствовали с целым роем малых кораблей.
— Какие будут приказания, сэр?
Загорелое от июльского перехода лицо адмирала окрасилось в пепельно-серый оттенок. Можно проявлять мужество перед лицом превосходящего врага, но махать дубинкой против пушечной батареи по меньшей мере безумно.
— Не стрелять.
Даже если удастся с помощью чуда и Божьей милости поразить два-три вражеских корабля, пароходофрегаты свяжут боем эскорт, канонерки тем временем опустят на дно суда с десантом. В Босфор не прорваться, разве что распустить эскадру и каждому спасаться самостийно, пытаясь укрыться в турецких портах или выбрасываясь на мель… Катастрофа и полный крах! Сбежавшие от канонерок не скроются от летающих бестий.
Поэтому сэр Чивз с некоторым даже облегчением увидел паровой катер с огромным белым полотнищем. Каковы бы ни были условия русских, следует принять любые, если они гарантируют жизнь.
Молодой и подчёркнуто вежливый офицер Черноморского флота отдал честь и зачитал ультиматум адмирала Нахимова: разоружить корабли и десант, после — валить на все четыре стороны миром. Чивз попробовал возразить, что старые времена миновали, теперь среди открытого моря орудийный ствол не отсоединить так легко как ранее, просто сняв цапфы со станка, не достаточно ли слова британского джентльмена, что более никогда… Он осёкся под ироничным взглядом офицера.
— Благодарю вас, сэр, за правильное понимание ситуации и готовность к сотрудничеству. Вывести из строя орудийные стволы технически возможно, чтобы отремонтировать оружие только в Британии. Я могу передать ваше согласие на высадку наблюдателей?
Адмирал тоскливо поднял голову, убедившись, что летун-убийца никуда не делся, кивнул головой и сквозь зубы процедил роковое «yes».
«Наблюдатели» без малейших церемоний оттеснили британских канониров, попросив очистить палубу. С истинно восточным варварством загнали деревянные пыжи в каналы стволов и дали залп.
Линкор окутался дымом. Выйдя на палубу и увидев результаты глумления, капитан и адмирал едва сдержали крик. Часть пушек раздуло и погнуло. У некоторых разорвало ствол, и он раскрылся зловещим бутоном. Корабль приобрёл мерзкое сходство с игрушкой, которой баловался очень шаловливый и жестокий ребёнок.
Русские не удовлетворились этим. За борт полетели замки орудий, боеприпасы и личное оружие, кроме офицерского. В Средиземном море гордые корабли Королевского флота не отобьются от пиратской шхуны!
Чрезвычайно потешно выглядела выгрузка бронированных локомотивов. Суда, оснащённые для их доставки, оборудованы были мощными кранами, способными выгрузить боевые машины на пирс. Сейчас они спускали их в море. Движение стрелы — и громкий всплеск возвещал об утоплении очередных тысяч фунтов стерлингов.
Насилие затянулось на добрые сутки, не прекращаясь день и ночь. Зато в Босфор конвой втянулся налегке, высоко неся грузовые марки над волнами. Только почему-то никого из офицеров это не обрадовало.
Пока англичане с французами занимались увлекательным делом «Прощай, оружие», в белой беседке, живописно увитой зеленью и уютно разместившейся между высокими скалами на южном крымском берегу, высокий немолодой мужчина пригласил спутницу глянуть в телескопическую трубу, обычно используемую для наблюдения за небесными светилами. Женщина со следами былой красоты на аристократическом лице приблизилась к треноге.
— Прошу простить, но зря ты мне не верила, дорогая, что война с Англией закончится столь быстро и комично. Джентльмены приехали в гости лишь для того, чтобы свалить железные игрушки около нашего берега.
— Не скрою, впечатлена. Ты умеешь заканчивать войны непередаваемым образом. Но как?
— В подробностях — сложно. Если кратко, нужно было подгадать, чтобы эскадра двинулась на нас в наилучший момент, когда флот достиг готовности, а с Урала перелетели паролёты, о которых на Запад ещё не просочились слухи. Потрачено до миллиона фунтов стерлингов, но полагаю, — тут несимметричное лицо князя Сан-Донато озарилось полуулыбкой. — Я рассчитываю, что мы не остались в накладе.
— Господи, до чего это странно! — воскликнула княгиня. — Я увидела самое необычное действо, срежиссированное близким мне человеком. Знаешь, порой не могу отделаться от ощущения, что происходящее не реально. Помнишь, ты рассказывал мне о графе Льве Николаевиче Толстом, штабс-капитане, который служил с тобой в турецкую компанию? Фельдмаршал тоже о нём вспоминал.
— Конечно. И что наш граф?
— Да вот, читала его повести «Детство» и «Отрочество». И с удивлением узнала, что он родился в сентябре 1828 года. Выходит, в ту войну он был сущим ребёнком. Я не успокоилась, навела справки — нет больше Львов Толстых.
Строганов устало потёр ожоговый шрам. Жена настолько привыкла к отметине, что с трудом могла представить супруга с ровным лицом.
— Ты права, мой ангел. Порой и мне кажется, что всё было или сложилось бы решительно иначе. Император Николай не погиб в декабре двадцать пятого и продолжил править в Санкт-Петербурге, Демидов не стал императором, прожив гораздо дольше, Пушкина на дуэли застрелил какой-то французский прощелыга…
— Постой. А мы?
— Мне кажется, я погиб. И не в Крыму от турецкой гранаты, а куда ранее — в четырнадцатом. В сражении при Краноне мне оторвало голову прямо на глазах у отца.
— Матка боска! — воскликнула Юлия Осиповна. — Тогда я была юна, жила в Польше, и мы никогда не встретились бы. Я не желаю такого! А есть другая история, где бы мы никогда не расставались?
— Может быть. Но я её не знаю, — виновато ответил князь. — Начинает темнеть. Предлагаю на сём завершить наш пикник со спектаклем английской труппы и пройти к паромобилю.
— Конечно, милый. Надеюсь, паролёт Володи уже приземлился. Встретим его и поужинаем вместе. Есть повод отметить, n'est-ce pas?[36]
Она смирилась со всем — что её муж воскрес, проявив себя настоящим чудовищем. Сказала себе, что нет особой чести любить безупречного господина с образцовой репутацией и безукоризненной биографией, ей выпало принять Строганова таким, каким он есть.
Но не изменить другого. За годы без Александра Павловича она хранила верность единственному и главному в мире мужчине — Володеньке, ненаглядному сыну, который избрал самый опасный род войск, не слушая материнских увещеваний.
Англичане отступились, но с Турцией война не окончена, а с ней неизбежны и новые жертвы. Недавно пришла скорбная весть, что в боях на Кавказе погиб знакомый Ивана Фёдоровича молодой артиллерийский штабс-капитан Илья Николаевич Ульянов. Никогда уж ему не вернуться домой, не обнять жену, не назвать сына Володей. А ведь такой умный человек был, выдающийся математик, с отличием окончил Казанский университет. Ульяновы могли всю историю России повернуть! Не повезло Отечеству.
Эпилог
Расцвет паровой эпохи, наступившей после скоротечного правления Пестеля, отчего у наших героев случилось столько жизненных поворотов, подходил к концу, хотя мало кто об этом мог догадаться. Наоборот, по окончании турецкой компании, сократившей земли османской империи до смешного размера, Россию охватил настоящий культ паровых механизмов. Им возносили хвалу как спасителям Отечества, даже слагали стихи.
В былые времена волшебников и фей Одни лишь колдуны быстрее птиц летали… Но эти времена для всех теперь настали, И сделал это Пар — великий чародей!Декламируя слова забытого вскоре автора, соотечественники иногда упускали из виду, что за успехами стоят не железные и бездушные машины, а люди, каждый из которых послужил стране по-своему: изобретательской смекалкой, полководческим талантом. Или же тайными заговорами в тылу врага, о коих неприлично рассказывать в порядочном обществе.
За неделю до появления памятной заметки в «Таймс», с которой началось наше повествование, один из скромных, непрославленных героев последней войны Панфутий Миронович Черепанов, инженер-генерал и ректор Тагильской военно-инженерной академии, хмуро оглядел чумазый агрегат, занявший середину мастерской и гордо продемонстрированный сыном.
— И что сие за нелепица?
— Простите, отец, но это — мотор будущего. Паровые машины имеют изъян — тепло уходит не столько в нагрев и перегрев пара, сколько в стороны. Я предлагаю сжигать нефтяную вытяжку прямо в цилиндре, запаливая отдельно каждую порцию топлива.
Генерал скривился.
— Машина односторонняя. Горячий пар, ну — пусть газ от горелого земляного масла, как я разумею, давит лишь с одной стороны. Архаичная конструкция прошлого века, ещё до англичанина Джеймса Уатта. Сколько мощность и вес?
— Две лошадиных силы, соответствует примерно трём индикаторным. Опытовая весит двенадцать пудов. Потом станет легче. Поймите, отец, двойной ход поршня — не главное, здесь расход тепла меньше. Внутреннее сгорание! Оно вытеснит пар.
Панфутий Миронович хотел возмутиться упрямством и неразумностью отпрыска, потом сдержался. Конструкция убогая, отсталая, лишённая всяческих перспектив, но не без оригинальности в замысле.
— Молодец, что дерзаешь. А ну, запусти!
Антон Черепанов развёл огонь в запальной трубке, накачал светлую вонючую жижу, потом крутанул огромное маховичное колесо. Аппарат подхватил, кашляя сизым удушливым дымом.
— Довольно! Глуши. Ежели упрямство не пущает забросить — трудись, но только после основного урока. А с завтрашнего дня начинай с паровыми турбинами работать. Чует сердце, за ними будущее, — тут инженер не сдержался и передразнил восторженный тон юнца. — А не за «внутренним сгоранием». Пар да электричество будут править бал ближайшие двести лет! Попомни мои слова. Наш замечательный век дал множество изобретений, каждое последующее будет не уделом одиночек, но результатом долгих опытовых исследований. Потому в следующем двадцатом столетии не будет решительно ничего нового, дай Бог все теперешние открытия применить.
Ректор протёр ветошью вечно чумазые пальцы, помимо воли хозяина норовившие потрогать очередной механизм, и удалился. Сын проводил его взглядом, погладил шершавый маховик и хитро заметил:
— Посмотрим, батя!
Примечания
1
Стой! Документы! (здесь и далее — плохой немецкий, ежели не оговорено иное).
(обратно)2
Господин начальник! Нет документов!
(обратно)3
В смутные времена после Декабрьской революции слово «жид» (от польского Żyd) бранного оттенка не несло, употреблялось наравне с «еврей» и «иудей».
(обратно)4
Führer (фюрер) — большой начальник, leiter (ляйтер) тоже начальник, рангом пожиже фюрера, но крупнее нежели zugführer (цугфюрер). Такова была иерархия Русского Рейха по установлению Пестеля.
(обратно)5
Труд освобождает.
(обратно)6
Тебя не спрашивают!
(обратно)7
Очаровательный цветок (фр.)
(обратно)8
Прекрасного принца (фр.)
(обратно)9
Дурной тон (фр.)
(обратно)10
Образ действия (лат).
(обратно)11
Ядру весом в шесть фунтов соответствовал диаметр канала ствола 95 мм. Вес иных снарядов к сему орудию мог несколько отличаться
(обратно)12
Малая пушка, стрелявшая ядрами диаметром около 70 мм
(обратно)13
Моя звезда (фр.)
(обратно)14
Да. Как вам будет угодно (фр.)
(обратно)15
Беспрецедентный (англ.)
(обратно)16
Гардемарин (англ.), здесь — учащийся Королевской военно-морской академии.
(обратно)17
Не понимаю. Мой английский плох. Нуждаюсь в переводчике (скверный английский).
(обратно)18
Произносится как шóфер. Со временем, с переходом на продукты из земляного масла в качестве топлива, нужда в бросании угля отпала, и кочегар превратился в водителя.
(обратно)19
Здесь — рулевая тележка.
(обратно)20
Gepanzerten Dampfwagen — бронированный паровой экипаж (нем.)
(обратно)21
Сунь-Цзы. Искусство войны.
(обратно)22
Организованная преступность (фр.)
(обратно)23
Ключевых фигур (англ.)
(обратно)24
Горький неудачник (идиш). Как говорится, если шлимазл откроет похоронную контору, евреи перестанут умирать.
(обратно)25
Денежная единица империи — австрийский гульден — первоначально чеканилась из золота и именовалась от немецкого слова Gold. Финансовый крах после наполеоновских войн породил выпуск банкнот и серебряных монет.
(обратно)26
От halbjüdischen — полуеврей (нем.) В России тогда говорили — полужидок.
(обратно)27
Юридический повод к войне (лат.)
(обратно)28
Экзальтированным (фр.)
(обратно)29
Что говорит о его благовоспитанности. Афедрон — всего лишь старинное название пятой точки. В наше время военный люд предпочитает выражаться более определённо.
(обратно)30
Ну и что же (фр.)
(обратно)31
Увеселительную прогулку (фр.)
(обратно)32
Извините (фр.)
(обратно)33
Такова жизнь (фр).
(обратно)34
Это не имеет никакого значения (фр.)
(обратно)35
От латинского resignatio — покорность судьбе, отказ от активных действий.
(обратно)36
Не так ли? (фр.)
(обратно)
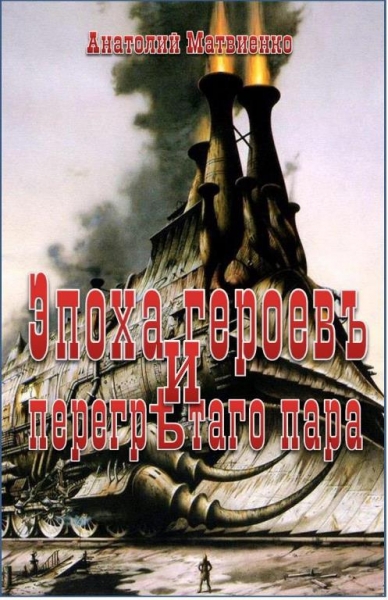






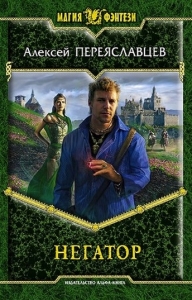
Комментарии к книге «Эпоха героев и перегретого пара», Анатолий Евгеньевич Матвиенко
Всего 0 комментариев