Андрей Зверинцев Сын Грома
Памяти сына Владимира.
Еще многое имею сказать вам, но вы теперь
не можете вместить…
Иоанн, 16:12О, если бы Всемогущий Господь не послал своего Сына Возлюбленного на землю искупить грехи человеческие и если бы Иуда не выдал Его храмовой страже, Пилат не отправил на казнь, а иудеи предпочли бы распять разбойника Варавву; если бы святые апостолы не разнесли Благую весть о воскресении Иисуса по языческим землям, а Тит Веспасиан не разрушил Иерусалимский храм и святой апостол Иоанн Богослов не завершил Святое Писание Патмосскими видениями, то где бы мы сейчас были, читатель?
О воплощении благодатного замысла Божия и о вкладе упомянутых фигурантов в сотворение величайшего в истории цивилизаций животворного христианского мифа и написан этот неканонический увлекательный роман.
Увертюра
Шел дождь, но не было ветра, и море было спокойно. Кричали чайки, сопровождавшие от самой Греции белый наш пароход.
Вдали показался остров.
Сквозь пелену дождя приближавшийся остров казался древней крепостью. Однако это был мирный клочок земли. На нем даже не было аэродрома, и многочисленные натовские фрегаты, бороздившие Средиземное море, безразлично обходили его стороной.
Вот уже стали различаться белые домики с арками, сбегавшие по склону к воде, и сквозь легкую серую дымку, как благословенный дар неба, проступил величественный монастырь на вершине холма.
В белой панаме, интеллигентного вида длинноносый юноша, стоявший рядом, воодушевившись величием словно из моря возникшего божественного видения, принялся объяснять своей еще более юной спутнице с цифровым фотоаппаратом через плечо, что в далекие, далекие времена на этом острове скрывался Орест, которого преследовали богини мести эринии. Безжалостные, они жаждали наказать его за убийство собственной матери. Девочка слушала, качала головкой, ужасаясь безнравственности мифологического героя, осуждала Ореста, хотя вряд ли что-то слышала об этом сыне Агамемнона, который, следуя подсказке дельфийского оракула, отомстил матери за убийство своего отца.
Дополняя юного знатока Эллады, следует сказать, что позднее на этом острове вовсю хозяйничали римляне. Считавшие себя хозяевами вселенной, они гноили здесь неугодных империи христианских праведников, диссидентствующих интеллигентов и других своих политических противников.
Сегодня же весь христианский мир главной достопримечательностью острова считает каменную пещеру, где в туманной дали возвещенной Спасителем Новой эры святому апостолу и евангелисту Иоанну Богослову являлись ошеломляющие картины конца света, которые и составляют самую сложную и самую загадочную книгу Нового Завета — Апокалипсис.
Апокалипсис! Последнее пророчество Библии!
Дальше некуда. Как говорится, аминь!
И немудрено, что именно сюда, на этот скалистый остров, к этой таинственной пещере, и возят сегодня экскурсантов загорелые гиды и гидессы, делающие вид, что тоже приобщены к тайнам Иоаннова Откровения…
Пройдя узкими улочками, забитыми маленькими кофейнями, сувенирными лавками, снующими между людьми лохматыми собаками, шурша разноцветными пластиковыми плащами, по которым стучал дождь, наша разношерстная группа добралась наконец до пещеры и, благоухая тончайшими парфюмерными ароматами, вытирая платками мокрые лица, сгрудилась у входа. И тут же, у этого входа, нарушая мир и гармонию святого для православного мирянина места, в плетеном кресле под выгоревшим, когда-то голубым зонтом, равно защищавшим от дождя и солнца, обнаружился некто в белых одеждах, белобородый, босой, точно апостол, с Библией на коленях и отрешенным взглядом. Библия у него была такая старая, что могла относиться еще к временам Иоанна Богослова, в переплете из сильно потертой козлиной кожи, возможно даже принадлежавшей некогда библейскому козлу отпущения Азазелу, и оттого Книга не боялась ни дождя, ни жгучего средиземноморского солнца.
— Это профессор Маракуе, — пояснила длинноногая гидесса в голубых шортах. — Он сидит здесь годами и ожидает, что сбудется предсказание. Однажды во сне ему явился отрок и открыл, что профессору предназначено прибыть на этот остров, к Иоанновой пещере, чтобы, возможно, увидеть всадников апокалипсиса и выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами. Профессор ухватился за эту подсказку судьбы: ведь ни зверя, ни всадников никто не видел, кроме святого апостола Иоанна.
При этом гидесса почему-то вопросительно посмотрела на нас.
Мы подтвердили, что все истинно так: ни всадников, ни зверя никто не видел, кроме святого Иоанна, и попросили передать профессору наше восхищение его терпением.
Профессор Маракуе, как я узнал позднее, известный исследователь библейских текстов, при беглом взгляде на него мог показаться заурядной деревенщиной. Но это было только первое, и ошибочное, впечатление. Просто избыток вселенской доброты, переполнявший душу этого замечательного человека, столь странным образом отпечатался на его умном лице, что, глядя на него, всякий чувствовал себя в чем-то виноватым. Например, в том, что явился в этот мир без приглашения профессора.
Следует сказать, что за рубежом о профессоре Маракуе ходили легенды. Этот кумир европейских интеллектуалов почему-то был особенно почитаем в среде современной российской эмиграции. И, наверное, не без причины. Ибо за свою очень длинную жизнь профессору было много видений, и он проник во множество сложных смыслов, а к пещере прибыл, как мы уже говорили, во исполнение очередного послания, полученного от явившегося ему во сне отрока, и готовился записать для потомства увиденное.
Пообещав гидессе достойно отблагодарить ее по возвращении с этого таинственного острова на материк, автор сего повествования попросил представить его профессору Маракуе. И для солидности добавил: как исследователя преданий об Иоанне. На удивление, профессор кроме итальянского, английского и древнееврейского немного знал и загадочный, как он потом пояснил, русский язык и на представление гидессой автора как российского ученого качал головой, охал и многозначительно восклицал: «О, Россия… О, ГУЛАГ… О, конечно, конечно…» Позднее, в припортовой таверне, куда профессор временами разрешал себе заходить, между нами на смеси английского с русским состоялся профессиональный разговор, и профессор, уже совсем расположившись, спросил автора: «А что есть истина, брат?» И когда ваш покорный слуга ответил ему словами Спасителя, что «истина приходит с неба», он обнял смущенного таким вниманием автора, подозвал официанта и, что-то пошептав ему в ухо, заказал еще одну бутылку вина. Да какого! Как он потом пояснил, того самого, знаменитого эшкольского вина, которое якобы иерусалимский первосвященник Каиафа прислал накануне Пасхи прокуратору Понтию Пилату, чтобы римлянин со своей женой Клавдией Прокулой радостно отметил этот великий иудейский праздник…
Вино и на самом деле было достойное.
Выпив по бокалу, мы переглянулись и на некоторое время замолчали. После второго бокала профессор, оглядевшись по сторонам, с таинственным видом шепнул:
— Есть мнение, что вино это и повлияло на роковое решение игемона, римского прокуратора. Но сие есть тайна Третьего Храма.
— Выходит, если б не вино… — начал я, но Маракуе предостерегающе приложил к губам указательный палец.
— Ни слова, друг мой, ни вздоха!
Вечер закончился тем, что, прощаясь, старый добрый профессор Маракуе, призвав небо Эллады в свидетели, передал автору завернутые в черный пергамент черновики своей рукописи, раскрывающей, по его словам, тайну судьбы Пилата и повествующей о странствиях Иоанна Богослова, которые завершились пророческими видениями апостола в той самой пещере. Профессор горько посетовал на то, что нынешняя папская Европа отвергла его писания, и просил напечатать его тексты в далекой, ныне свободной православной России.
На обратном пути я читал черновики Маракуе и поражался познаниям этого замечательного человека. Надо сказать, что я даже усомнился в его авторстве, мне казалось, что тексты «черновиков» принадлежали кому-то из христианских писателей конца первого и начала второго века от Рождества Христова. А может, это были копии украденных из архивных хранилищ неизвестных доселе свитков с берегов Мертвого моря, наподобие Кумранских рукописей, найденных арабскими пастухами в пещере, или неопубликованные еще фрагменты путаного, полубезумного, широко распространяемого издателями текста, выдаваемого за Евангелие от Иуды?
Так или иначе, бумаги профессора Маракуе подвигли меня на труд. Тем более что я совсем недавно завершил роман о царе Соломоне, и голова была полна библейских пророчеств.
В общем, вернувшись в нашу светлую Северную столицу и поставив в Андреевском соборе множество свечей в память святых апостолов Христовых, отказавшись, как настоятельно советовал профессор Маракуе, от женщин и выдержав сорокадневный пост, я обратился к Библии, к писаниям святого Иоанна Златоуста, к «Житиям святых» святителя Дмитрия Ростовского, к текстам неканонических, апокрифических Евангелий, после чего и написал предлагаемое читателю повествование о Пилате и о Сыне Громовом, как во странствиях Галилейских называл юного Иоанна Сын Человеческий.
Пролог «В начале было слово…»
При кресте Иисуса стояли
Матерь Его, и сестра Матери Его,
Мария Клеопова, и Мария Магдалина.
Иисус, увидев Матерь и ученика, тут стоявшего,
которого любил, говорит Матери Своей:
Жено! се сын Твой.
Иоанн. 19:25–26И плывут облака над Патмосом… И, беззвучные, скользят их неслышные тени по скалами, по грудам камней, и легкой дымкой накрывают прилепившиеся к горным кряжам селения и прибрежные отмели, и уплывают в далекие просторы бескрайнего моря, тысячелетиями омывающего каменистые берега острова. Под облаками кружат над тем каменным островом орлы, и кричат над пенистым побережьем чайки. Высоко в горах, в недоступном для пасущихся на склонах овечьих отар месте, на поросшем серебристым мхом обломке скалы сидят двое старцев в белых одеждах и что-то тихо говорят друг другу.
И никто, кроме камней и парящих в вышине орлов, не слышит их разговора. Один из старцев — последний из живых учеников Господа нашего, апостол Иоанн Зеведеев, другой — ученик Иоанна Прохор.
Прохор достает из-за пазухи исписанный греческими буквами свиток и начинает читать:
— …Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и братьев его;
Иуда родил Фареса и Зару от Фамари; Фарес родил Есрома; Есром родил Арама;
Арам родил Аминодава; Аминодав родил Наассона; Наассон родил Салмона;
Салмон родил Вооза от Рахавы; Вооз родил Овида от Руфи; Овид родил Иессея;
Иессей родил Давида царя… Дальше читать?
— Дальше не надо. Скажи, что там в итоге?
— В итоге так:
Елиуд родил Елеазара; Елеазар родил Матфана; Матфан родил Иакова;
Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от Которой родился Иисус, назваемый Христос …
— Теперь, отче Прохор, давай посчитаем.
— А он, Матфей-мытарь, сам и посчитал…
Итак, всех родов от Авраама до Давида четырнадцать родов; и от Давида до переселения в Вавилон четырнадцать родов; и от переселения в Вавилон до Христа четырнадцать родов.
Дальше читать?
— А есть ли там о том, как Иисус позвал за собой обоих Зеведеев?
— Есть, отче. Матфей говорит так:
Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев: Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море; ибо они были рыболовы;
и говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков.
И они тотчас, оставив сети, последовали за Ним.
Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их.
И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за ним.
— А есть ли там о гласе из облака о Сыне Возлюбленном?
— Тоже есть, отче Иоанн. Матфей говорит так:
По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет.
И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие.
При сем Петр сказал Иисусу: Господи! Хорошо нам здесь быть…
Когда он еще говорил, се, облако светлое осенило их; и се, глас из облака глаголющий: Сей есть сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте.
И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались.
Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте и не бойтесь.
Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса…
— И еще, Прохор, посмотри, есть ли у Матфея о том, что сказал Учитель, воскресший после смерти своей и явившийся апостолам и своему любимому ученику, о сроках его жизни на земле.
— Нет, отче. Нет этого у Матфея.
Иоанн помолчал, потом спросил:
— И что ты, Прохор, думаешь о Благовесте Матфея?
— Я думаю, святой отец, что хорошо это. Матфей, хоть и мытарь, но бросил все, рассыпал по земле деньги и пошел за Иисусом, когда Тот позвал его. И я ему верю. И реченное пророком к месту. И что сын Давидов указано у него, потому Иисус и есть Царь Иудейский. Только вот изначально народа Божиего многовато. Примут ли это у нас в Эфесе?
— Вот и я думаю то же. Примут ли? Господь хоть и появился в Галилее, но пришел в Мир, а не только на Землю обетованную. Разве Он — Бог одних иудеев, а не Бог эллинов, филистимлян, фракийцев, эфиопов?.. Что скажешь?
— Если святой отец позволит, то ученик его Прохор скажет, что лучшее у Матфея — это Нагорная проповедь, поучение о молитве и слова, обращенные к Богу: «Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое; да приидет Царство Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе…»
— Твоя правда, Прохор. Нагорная проповедь — ключ к разумлению. И о молитве правда твоя. Что ты еще приготовил?
— Вот Марк, ученик Петра, тоже повествует о Благой вести. Читать?
— А есть ли у него об обещании Христа Иоанну пребывать на земле до второго пришествия Господа?
— Нет, отче. Этого у Марка нет.
— Тогда Марка не надо. Вот ты читаешь Марка, а я слышу: не знал он Иисуса. Слово Марка — это слово Петра. А что скажет Петр, мне известно… Нет, я хочу послушать того эллина, «врача возлюбленного», бывшего в Риме с Павлом, апостолом языков.
— Лукана? Но тот тоже перечисляет иудейское родство Спасителя:
Иисус, начиная Свое служение, был лет тридцати, и был, как думали, сын Иосифов, Илиев, Матфатов, Левиин, Мелхиев, Ианнаев, Иосифов, Маттафиев, Амосов, Наумов…
Думаю, что перечисление это опять соль на рану тех, кто не знает Бога Израилева.
— А есть ли у Лукана повествование об обещании Иоанну бессмертия?
— Нет, отче. Этого у Лукана тоже нет. Что мне нравится у этого эллина, так это описание Христа как спасителя всех народов, а не только народа Божия. Я думаю, это проповедь Павла.
— Ты прав, Прохор. Это проповедь Павла. А его не было с нами, когда Господь говорил, как сложатся наши с Петром судьбы. Я, хоть и не люблю Павла (не могу простить ему кровь святого Стефана, его гонения на Иисуса), но в чем он прав: Христос — истинно Бог всех народов. И белых, и черных, и желтых, и красных. И мы в своем Благовесте будем говорить и для праведного иудея, не желающего делить благодать Божию с необрезанным, и для вожделенного эллина, поклоняющегося Зевсу, не знающего истинного Бога и потому лишенного Его благодати. Это будет Евангелие любви, ибо нет выше мудрости, чем изреченная Христом Заповедь: «…любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». И нет, как ты знаешь, больше на земле другого такого человека, который слышал бы эти слова из Божественных уст нашего Спасителя Иисуса Христа.
Иоанн понимал: самое большое, что он, последний из двенадцати, может еще сделать для проповеди Учителя и строительства христианской церкви, Церкви живого Бога, — это ввести в мир новые священные книги. И книги эти он должен связать с канонами Библии. И только на такой скале выстроится и будет стоять новая вера. И потому его, Иоанна, Благовест должен быть возвышеннее, боговдохновеннее, чем жизнеописание Учителя в Благовестах Матфея, Марка, Луки.
Он видит свой Благовест иным. Ибо не с земных корней, возлюбленные мои, надо начинать родословную Иисуса. Нет! И первое, что он сделает, — разъяснит людям, даст им ясное представление о божественной природе Христа…
Нет, не с Авраама, родившего Исаака, начнет он свой Благовест, не с Сына Человеческого, а с Сына Божиего, пришедшего к людям и возвестившего о любви и спасении через покаяние…
Он — Сын Божий: вот начало начал!
В задумчивости застыл Иоанн. Молчал и Прохор. Тишину нарушали только шум прибоя и далекие крики чаек.
Иоанн закрыл глаза и увидел себя юношей, плывущим с Учителем в лодке по волнам Галилейским. Вдали вершины гор, покрытые синими зарослями. Несколько лодок застыли в отдалении. Он, Иоанн, впервые может поговорить с Учителем наедине… Иоанн, хоть и получил от Учителя прозвание Сын Громов, робеет. Учитель смотрит на него и подбадривает: «Хочешь что-то спросить?» Это были минуты счастья. Иоанн переживает их снова и снова. Переживает и горюет, ловит в окружении своем знаки: не забыл ли Учитель своего любопытного ученика… Ведь прошло уже более половины века, как они расстались. Но что для Господа век!
Неожиданно над скалами среди первозданной тишины ослепительно полыхнула молния и загремел гром, раскатами прокатился по острову и пошел, пошел эхом гулять по ущельям. И Иоанн понял: это Дух Святой спустился, чтобы надиктовать ему Благовест, чтобы, соединившись с теми тремя Евангелиями — от Матфея, от Марка, от Луки, — четвертым столпом стать в основание нарождающейся Христовой церкви.
И он заторопил Прохора:
— Пиши, брате Прохор, пиши… Пиши так: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог…»
И верный ученик Прохор вывел на чистом свитке первую фразу, продиктованную ему единственным оставшимся на земле сподвижником Господа нашего Иисуса Христа, Его любимым учеником, апостолом Иоанном. Фразу, которая, по мнению позднейших христианских богословов, должна быть написана золотыми буквами для чтения на самых высоких местах всех церквей.
Прохор мысленно повторил сказанное Иоанном, потом произнес фразу одними губами, прочувствовал сердцем своим и стал быстро записывать то, что диктовал ему в приливе вдохновения вещий старец:
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть… В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его…»
Так под голубым небом Средиземноморья, вблизи Эфеса, рождалось последнее, четвертое, возведенное отцами церкви в канон Евангелие от Иоанна…
Утром, едва Иоанн проснулся, пришел Прохор и принес переписанный текст Евангелия. Иоанн поспешно схватил его и стал быстро читать. Хотелось еще раз прочесть, как он изобразил Иуду. Дело в том, что ночью ему был сон. И в том сне явился ему забытый уже Христов ученик апостол Иуда Симонов, который, как говорил об этом в своем Благовесте Матфей и как подтверждали евангелисты Марк и Лука, предал Учителя за тридцать сребреников. Прошли многие годы, но Иуда Симонов, или, как потом все стали называть его, Иуда Искариот, предстал перед ним во сне совсем молодым, таким, каким запомнил его Иоанн на вечере в Гефсиманском саду.
— Зачем оболгали меня? — спросил Иуда. — Ладно Матфей, Марк, Лука — они толком ничего не знают. Но ты, Иоанн, был ближе всех к Учителю и не мог не слышать наш разговор. Так зачем же ты написал, как они?
— Я написал то, что написал, — сказал Иоанн, поражаясь молодости первого покинувшего Иисуса ученика.
— Ты вспомни, Иоанн! Разве ты не слышал, что Он сказал мне: «Что делаешь, делай скорее». Это вы ничего не знали, а Он знал. Знал и не научил меня… Ты вот, Иоанн, тоже пишешь, как все. Ты пишешь, что Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Ученики стали спрашивать друг друга, о ком Он говорит. Ты, Иоанн, спросил: «Господи, кто это?» Иисус ответил тебе (он всегда почему-то отвечал на все твои вопросы): «Тот, кому Я, обмакнув кусок хлеба, подам». И, обмакнув хлеб, подал его мне. И тут как раз Он и сказал: «Что делаешь, делай скорее».
— Да, ты прав, Иуда Симонов, так я писал, потому что так было. И все ученики это видели и слышали.
— Ну да, вы прокляли меня и забыли. И мажете, мажете Иуду грязью. То, что ты сейчас здесь написал о Нем, — истинно. Только так вдохновенно и можно о Нем писать… Я знаю, ты любил Его больше других, и он всегда выделял тебя. Разве не Он сказал Петру озадачившую учеников фразу о том, что ты не умрешь. Это было уже без меня, но мир, где я пребываю и где есть время обо всем спокойно подумать, ломает головы над сказанным тогда Господом. Здесь думают, что тебя ждет судьба Еноха или Илии, которых Господь взял живыми на небо. Думаю, что ты не забыл ту встречу. Вспомни. Это было, когда Иисус явился вам, верным ученикам Его, при море Тивериадском. Там были Петр, Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, ты с братом и еще двое учеников Его. Это было уже третий раз, когда Он явился ученикам Своим по воскресении из мертвых. Господь тогда трижды вопросил Петра, любит ли он Его. Петр трижды повторил: дескать, да, Господи. Иисус трижды заповедовал ему пасти овец Его и поведал, что за веру в Господа того ждет насильственная смерть, а потом сказал ему: «Иди за Мною». Петр же, всегда мнивший себя первым учеником, ревновавшим Учителя к тебе, Иоанн, и брату твоему Иакову, но особенно к тебе, пошел и, оглянувшись, увидел, что следом идешь ты, Иоанн. Обидевшись, Петр сказал Иисусу: «Господи! А он что?» Иисус ответил ему: «Если Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». И, как ты пишешь, «пронеслось это слово между братиями, что ученик тот не умрет».
— Да, все так, все истинно так и было, и все так записано мною, — подтвердил во сне неожиданному гостю Иоанн, не очень понимая, чего хочет от него этот проклятый всеми ученик Христа.
— Вот и хочу я, о праведный Иоанн, успокоить истерзанную душу свою, хочу, чтобы ты объяснил мне наконец, почему Он мне ничего не ответил, когда я Ему рассказал, какое видение мне было накануне… А я поведал Ему, что явился в этом видении мне Муж знатный, в пурпурных торжественных одеждах и сказал: «Иуда Симонов, именуемый Искариотом, ты помнишь, в Писании сказано: «Ядущий со Мною хлеб поднял на Меня пяту свою "? Должен помнить! Так вот, Писание должно быть исполнено. Такова воля «Закулисы». Мы просчитали учеников Его, и жребий пал на тебя. Можешь проверить по звездам. Пойдешь к священникам и фарисеям и скажешь, что решил выдать Учителя, которого они ищут убить. «Что тебе за это?» — спросят они. Скажешь: «Тридцать сребреников». Ни больше и ни меньше. Тридцать! Понял? Спросят, почему решил выдать Мессию, ответишь: «Иисус пошел против веры. Учит любить врагов наших. Не чтит Субботу». Что делать дальше, тебя научат». Я спросил, кто такая «Закулиса»? Он ответил: «Придет время, узнаешь. Греки ее еще Софией называют…» После этих слов пурпурные одежды посланца померкли, и он исчез, будто его никогда и не было. Очнувшись от забытья, я испугался, что замышляется против Учителя злое коварство. И я сказал Иисусу, что видел страшный сон, и хотел рассказать его Учителю, но тот покачал головой и сказал: «Я знаю твой сон, Иуда Симонов, и потому, что делаешь, делай скорее». — «Господи, как же я могу? Что делать мне? Я за тебя жизнь отдам. Скажи, что мне делать? Научи!» — заволновался я. Иисус грустно посмотрел на меня, но промолчал. Потом Он налил воду в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и вытирать их полотенцем. Я был в панике, не знал, что и думать. Если Иисус знает о сне, знает, что его ищут и хотят убить, то почему он не уходит, не покидает Иерусалим? Почему не выдает меня ученикам? Они бы вмиг растерзали предателя и спасли Учителя. И я начал понимать, что это мне, мне — Иуде Симонову — первому из учеников выпало пострадать за Иисуса. Такова, значит, воля Пославшего Его. И смирился. И пошел и сделал то, чему меня научили священники и фарисеи. Прокляни меня снова и снова, Иоанн, ты один остался на земле из первых Его апостолов, но только объясни, почему Он тогда промолчал, когда я спрашивал у Него, буквально молил ответить, что же мне делать? А в ответ услышал: «Что делаешь, делай скорее».
— И что, Иуда? Ты хочешь, чтобы я переделал Евангелие, заменив свой текст твоей выдумкой?
— Это не выдумка, праведный Иоанн. Но свидетелей у меня нет, кроме тебя, который видел, как я объяснялся с учителем. Почему вы все пишите только заключительную фразу Учителя: «Что делаешь, делай скорее» — и умалчиваете о том, что предшествовало ей? Нельзя не понимать, что он знал, знал, что произойдет дальше, и не хотел избежать того, что случилось. Не хотел! Выходит, он знал, что Ему предопределено, что предопределено мне, и не мог или не желал ничего изменить.
— Не знаю, что и сказать тебе, Иуда Симонов. Ты озадачил меня. Я буду думать над этим, но менять ничего не буду. Я придерживаюсь правила: что сказал, то сказал; что написал, то написал.
— Тогда прощай, Иоанн, и не уподобляйся Матфею: не пиши, чего не было. Поверь, мне оттуда виднее, чем вам отсюда, и память у меня молодая, преж-няя. А ты, посмотри на себя, — старик. Так что я лучше вас помню, что было и чего не было.
— Что ты имеешь в виду, Иуда?
— Зачем ты написал, что Иуда воровал деньги из общей кассы? Хочешь сказать миру — вот какой низкий человек был этот Иуда, корыстолюбец. Он и деньги воровал, и Учителя предал… А ведь знаешь же, что не воровал ничего Иуда, кассы не держал — это была мытаря Матфея забота, и не предавал Иуда никого, а только исполнял волю высшую, определившую Его стезю земную.
— Ну, возможно, и не воровал ты денег из кассы, и с предательством твоим все было, как ты говоришь, но не можем мы ничего изменить. Не можем! Нужен ты нам таким, каким изобразил тебя Матфей. И все. И никто ничего менять не будет. Я первый предам того анафеме, который посмеет тебя обелить. Хотя после твоего рассказа о видении Мужа, обрекшего тебя на предательство, допускаю, что то была воля сверху. Но в том, убей меня, никому не признаюсь.
— И то утешение для Иуды, что ты, Иоанн, меня понял… Оставим Иуду, однако, но присмотрись, Иоанн, к Матфееву Благовесту. Присмотрись! Я его не раз перечитывал и увидел: Матфей же и Учителевы слова по-своему толкует.
— Как прикажешь тебя понимать, Иуда?
— Так и понимай. Матфей ваш повествует, как Учитель отказал домогавшейся Его помощи Хананеянке, у которой жестоко бесновалась дочь. Он якобы сказал ей: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А ведь я был при этом. Ничего подобного Учитель не говорил. Задумайся над этим, Иоанн.
— Тут я с тобой соглашусь, Иуда. Христос был послан спасать все народы, а не только народ Израилев. Преобразить мир! О том пророчествовал еще Исайя: «Я сделаю Тебя светом народов, чтобы спасение Мое простерлось до концов земли».
— Вот видишь, Иоанн, как не прав тот Матфей… А что он написал о распре, затеянной среди учеников Зеведеями? Я на память не жалуюсь, но припомнить такого случая не могу.
— О какой распре братьев ты говоришь, Иуда? — взволновался Иоанн Зеведеев. Однако ответа не получил. Ибо в это самое время за окнами прокричал петух, и докучливый ночной собеседник оставил Иоанна.
Просмотрев то, что он надиктовал вчера об Иуде, Иоанн, как и говорил ночному гостю, изменять ничего не стал, хотя и счел обвинение Иуды в краже денег из кассы мелковатым, да и кассу на деле держал действительно не он, а Матфей, что ему, как бывшему мытарю, было определено изначально. В общем, у апостола испортилось настроение. Ночной гость внес смятение в его душу.
Попив воды и заев ее ячменной лепешкой, он немного успокоился и попытался припомнить, о какой распре среди учеников, якобы затеянной Зеведеями, говорил во сне Иуда. Но ничего вспомнить не мог. Видно, годы, как червячки, изъели незаметно его память. Он обратился к ученику:
— А теперь, почтенный Прохор, давай вернемся к Благовесту от Матфея. Найди мне то место, где ученики якобы взроптали на нас с Иаковом. Есть ли в писании мытаря об этом? Кто-то мне говорил, что есть. О чем там речь?
— Досадно читать такое, господин мой Иоанн. Много ли он видел, этот Матфей? С чьих слов он пишет про Зеведеев?
— Не надо гадать, отче Прохор. Матфей глаголет со слов Петра. Но я хочу знать, о какой распре он пишет. Сколько распрей было меж учениками, пока они не созрели! Прочти-ка мне, Прохор, что там написал про Зеведеев этот бывший мытарь?
— Я буду читать прямо как у Матфея:
«Тогда подступила к Нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у Него. Он сказал ей: чего ты хочешь? Она говорит Ему: скажи, чтобы сии два сына мои сели у Тебя один по правую сторону, другой по левую в Царстве Твоем.
Иисус сказал в ответ: не знаете, чего просите; можете ли пить чашу, которую Я буду пить, или креститься крещением, которым Я крещусь? Они говорят Ему: можем.
И говорит им: чашу Мою будете пить, и крещением, которым Я крещусь, будете креститься; но дать сесть у Меня по правую сторону и по левую — не от Меня зависит, но кому уготовано Отцом Моим.
Услышавши сие, прочие десять вознегодовали на двух братьев.
Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими;
но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою;
и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом;
так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих».
Прохор замолчал. Молчал и Иоанн. Потом спросил:
— А есть ли сие сказание у Марка? Недаром же Петр обращается к Марку «сын мой».
— Есть и у Марка, наставник.
— А у Лукана?
— У Лукана — не так. Лука не пишет про Зеведеев. Он пишет — «Был спор между братьями».
— Прочти, что пишет Лука. Хочу послушать.
— «Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим.
Он же сказал им: цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются;
а вы не так: но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий — как служащий.
Ибо кто больше: возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А Я посреди вас, как служащий».
Иоанн помолчал. Потом сказал:
— Да, у Луки складнее. А попинать Зеведеев Матфея и Марка научил Петр… До того, как пришел к нам на берег Учитель, мы часто ссорились с рыжебородым Симоном… Он был много старше и любил меня пугать — таращил глаза и страшно ухал, как филин. Он всегда гнал меня от своей лодки, говорил: у меня такие страшные уши, что я рыбу ему пугаю.
Вспомнив что-то далекое, Иоанн чуть заметно улыбнулся, и его выцветшие от времени полуслепые глаза вдруг заблестели…
Глава 1 У моря Галилейского
У мальчика были большие уши. В раннем детстве, после того как отец подстригал ему волосы и мальчик выходил на улицу, прохожие останавливались, оглядывались на него и качали головами. Уши делали его похожим на маленькую летучую мышь. Однако в лице его — в глазах, в строении губ и в улыбке — было столько недет-ского благородства и доброты, что один старый книжник, долго смотревший и слушавший, как играет на флейте из тростника этот босоногий ушастик, сказал стоявшему рядом отцу мальчика:
— Сын твой будет царем или пророком.
Отец покачал головой:
— Он будет рыбаком. Иоанн будет рыбаком, как и его брат Иаков. Разве не определил Господь промысел Зеведеям и не поселил их у моря Галилейского?
Книжник радостно засмеялся простоте человеческой.
— Не силься разгадать промыслы Господа, авва, — покачал убеленной сединами головой книжник. — Пришли мальчика, и я буду его учить. Ибо кто не учит сына своего ремеслу, учит его воровать.
— Вот кончится в море рыба, тогда пришлю, — махнул рукой старый Зеведей и крикнул мальчику, чтобы тот звал брата снимать с шестов сети и отправляться в море. Старый Зеведей не любил пустых разговоров. Он уже заметил, что, когда Иоанн со своим старшим братом выходили в море, невод всегда был полон рыбы.
Но маленький Иоанн не забыл тропинку к дому старого книжника. Потихоньку от отца он носил ему рыбу, а старый Ахав исподволь учил мальчика Писанию, рассказывал ему об Аврааме, Моисее, Судьях; о еврей-ских царях Сауле, Давиде, Соломоне, о малых и больших пророках Израиля. И после встреч этих по дороге домой маленький Иоанн слышал, как стучит его сердце, и чувствовал себя ближе к Богу, чем его молящийся несколько раз в день отец.
— Запомни, мальчик, — наставлял Иоанна старый книжник. — Существует только тот, кто ищет Бога.
— А где искать Бога? Знает ли он обо мне?
— Бог везде! Бог обо всем и обо всех знает. Бог знал о тебе, когда ты еще не вышел из чрева матери твоей, — поучал рав.
— А как узнать, есть во мне Бог или нет Его во мне?
Книжник недовольно вскинул голову:
— Ты жив, раз говоришь со мной. Разве это не доказательство? Дай сюда твою руку.
Мальчик боязливо протянул старику руку. Тот взял ее за запястье и стал большим пальцем нащупывать какую-то жилку. Наконец нащупал и сказал:
— Сейчас я уберу большой палец, а ты положи на это место свой указательный и слегка придави.
Мальчик сделал, как сказал ему старик, и поразился, почувствовав под пальцем легкое биение. Под пальцем пульсировала жизнь.
— Что это? — спросил мальчик. — Это Бог? Он говорит со мной?
— Он говорит, что любит тебя и хочет, чтобы ты прилепился к нему всей душою своею, всем сердцем своим…
— Я люблю Бога и всегда молюсь ему… А такая жилка есть у каждого человека?
— У каждой живой, созданной Богом твари.
— Я теперь еще больше буду молиться Господу, — пообещал старцу мальчик.
Так Иоанн Зеведеев понял, что Бог денно и нощно присутствует в каждом человеке, в каждой живой твари и не дает им умереть.
Сын Зеведея, мальчишка с курчавыми, пропахшими рыбой волосами и глазами, в которых отражалось море, научившийся сначала нырять и плавать, а уж потом ходить по земле, любил, бросив весла, лежать на дне лодки и смотреть в высокое небо, шатром раскинувшееся над водами Галилейскими, следить за игрой облаков, удивляясь, как меняется их цвет, как складываются и переливаются друг в друга странные, замысловатые, кем-то вылепленные из мягкой полупрозрачной плоти фигуры. Он понимал, что это, конечно, зачем-то делает Бог, и мечтал, чтобы Всевышний как-нибудь заговорил с ним на человеческом языке, как с Моисеем или Соломоном, которому Бог обещал сердце мудрое и разумное… Он молил Небо об этом, но никто не откликался на его призывы. И лишь однажды в ответ на его мольбу облака на миг остановились и образовали нечто похожее на врата. В просвете между облаками он увидел ослепительное свечение и догадался, что это и есть те врата, за которыми находится Небесный Престол. Иоанн понял, что это ответ на его моления…
— Что ты делаешь один в лодке? С кем ты там разговариваешь? — не раз спрашивали Иоанна брат Иаков и соседский мальчишка Андрей Ионин. — Хочешь показать, что очень умный? Учишь с равом Писание и, наверное, смеешься над нами, да?
— Я разговариваю с Богом, а Бог разговаривает со мной, — соврал Иоанн, пугаясь сказанному. Ибо нельзя поминать имя Господа всуе, учил рав.
— Мы тоже хотим говорить с Богом, — сказал Андрей Ионин. — Научи нас.
Иоанн взял друга за запястье, нащупал пульсирующую жилку, как это сделал Ахав, и предложил Андрею приложить к этой чудодейственной жилке палец. Андрей в нерешительности посмотрел на Иоанна, потом на его старшего брата Иакова. Тот кивнул. Иоанн ему уже показывал, как бьется эта жилка. Андрей приложил палец и замер.
— Да, я слышу. И это Бог? — с сомнением спросил он.
— А кто же еще? — поддержал брата старший Иаков. — Так сказал Иоанну рав, а он читал об этом в Писании.
— Покажу эту жилку Симону, — обрадовался открытию тайны Бога Андрей. — Только он не поверит. Скажет: «Иди лучше просмоли лишний раз лодку, чем знаться с Зеведеями». «Чего только не придумает этот Иоанн», — скажет Симон, потом погладит свою рыжую бороду и сделает страшные глаза. Так он в детстве всегда пугал младшего своего брата Андрея.
— А ты не говори ему. Пусть он лучше свою жену ублажает. Зачем ему эти наши разговоры? — сказал Иаков. Оба они с Андреем, узнав, что Иоанн ходит к раву читать Писание и не приглашает их с собой, чувствовали себя обиженными.
В общем, по побережью среди рыбаков распространилась молва, что младший из Зеведеев, Иоанн, за-просто беседует с Богом и все на свете знает.
Как-то раз Иаков и Андрей Ионин решили зло подшутить над Иоанном. Подкрались потихоньку к лодке, где, положив под голову свернутый парус, лежал Иоанн и, как всегда, разговаривал сам с собой. Не с Богом же он так запросто разговаривал! Хотя они слышали: он не раз упоминал Господа, о чем-то просил Его. Мальчишки слышали, как Иоанн шептал: «Господи, научи меня так счислять дни наши, чтобы приобрести сердце мудрое». — «Вот змееныш! — возмутились они. — Ишь, чего захотел! Ему — сердце мудрое, а нам — ничего. Ладно. Мы это ему припомним».
Андрей где-то нашел козлиное копыто и принес показать Иоанну, но, оказавшись в сговоре с Иаковом, решил им попугать младшего Зеведея, чтобы не очень заносился. Ползая вокруг лодки на коленях, благо Иоанн молился и ничего не слышал, друзья наследили на песке этим копытом. Получалось, что кто-то двуногий, который имеет вместо ступней копыта, только что бродил вокруг лодки, слушал, о чем молил Иоанн, и запоминал все его слова, чтобы потом сотворить с ними что-нибудь худое.
Закончив печатать следы, Андрей забросил копыто за прибрежные кусты, перемигнулся с Иаковом, и озорники враз закричали:
— О, Иоанн, Иоанн! Кто это тут у тебя был? Только посмотри, что творится вокруг! С кем ты тут общался?
— Чего вам? — раздосадованный Иоанн высунулся из лодки, недовольно поглядел на мальчишек, взглянул на изрытый козлиным копытом песок и обмер.
У озорников сразу полегчало на душе при виде вытянувшегося изумленного лица Иоанна. Так ему, зазнайке, и надо! Даже обида на него прошла.
— По-моему, тебя навещал лукавый, — делая вид, что погружается в размышления, сказал Андрей Ионин. — И я, пожалуй, знаю, кто это был! Это был Азазел!
— Точно, — поддержал приятеля Иаков. — С тех пор как ты, Иоанн, стал ходить к раву, я не раз замечал эти следы у нашей лодки после ночи, по утрам. Только не хотел говорить тебе, брат. А теперь, как видишь, Азазел и днем навестил тебя. Что теперь нам, несчастным, делать?
— Да, — поддержал Андрей. — Пропали мы теперь. Азазел, наверное, наделал страшных дыр в днище лодки… Пойду погляжу, нет ли следов злодея в нашей с Симоном. Симон ведь предупреждал меня: не водись с Иоанном.
У Иоанна выступили слезы, и озорники тут же признались, что позавидовали знатоку Писания и подшутили над ним. И мир был восстановлен.
Глава 2 Сон Иоанну
Два дня на море бушевал шторм, срывая рыбацкие шатры и разбрасывая по побережью сети, унося лодки в море и выбрасывая разбитые бурей остовы их на заваленный черными водорослями прибрежный песок. Рыбаков, которые не успели вернуться из вод до шторма, больше не ждали: образовавшиеся в темной воде огромные водовороты вмиг унесли с поверхности моря все живое в глубокие морские пучины. Ревел ветер, пригибая к земле стволы пальм, и все грохотало и сверкало вокруг. Черное небо полосовали белые молнии. От воды несло холодом и смертью. Волны выбрасывали на берег камни, водоросли, мертвых рыб, утонувших в нахлынувшей на берег большой волне кур, мелких птиц. В эту страшную ночь Иоанн метался в жару, кричал, звал кого-то, но к утру успокоился, уснул, а проснувшись, рассказал отцу сон, который мучил его большую часть ночи.
Мальчику снился холм, на нем много людей; снуют римские легионеры с мечами и копьями. Сверкают молнии. Гремит гром. Люди рвут на себе волосы и расцарапывают ногтями лица. Вокруг страх и ужас. И мальчик понимает, что присутствует на казни разбойников. Он видит, как их раскинутые руки приколачивают гвоздями к перекладинам, прилаженным к большим столбам, а потом те столбы поднимают и вкапывают в землю. На земле много крови. Двое несчастных стонут, плачут, ругаются, а третий Распятый что-то тихо шепчет сухими губами. Иоанн слов не слышит. Он стоит с тремя женщинами, и одна из них, вся в слезах, держит его за руку. Худой печальный человек смотрит на него с креста и еле слышно что-то говорит женщине, держащий Иоанна за руку. Сквозь крики и шум дождя Иоанн расслышал: «Жено! се сын Твой». «Почему, — в страхе думает Иоанн. — У меня есть мать. Неужели она умерла?» — И тут он догадывается, что Распятый возлагает на него заботу об этой женщине, Его Матери. «Да, — беззвучно говорит он Распятому. — Я понял Тебя». Тот, продолжая глядеть на мальчика большими печальными глазами, говорит теперь уже ему, Иоанну: «Се Матерь Твоя!» — " Да, — отвечает ему беззвучно Иоанн. — Се матерь моя!» И еще он услышал, как один из разбойников обратился к Распятому, Тому, который говорил с Иоанном, и попросил Того:
— Помяни меня, Господи, когда приидешь в царствие Твое!
И Распятый ему ответил:
— Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю.
И тут набежали новые бородатые воины с пиками и щитами и стали кричать и разбивать голени несчастным, но Того, Который говорил с мальчиком, не тронули… И в этот момент Иоанн проснулся. Буря на дворе стихла, а рядом стоял отец и, совсем как та женщина, во сне держал его за руку.
Когда старый Зеведей выслушал сына, он обеспокоился и подумал, что прав был книжник Ахав: такие сны могут сниться только царям или пророкам. Старшему брату Иакову о том сне ничего не сказали, а днем отец с Иоанном отправились к Ахаву.
Мудрый книжник Ахав, слушая Зеведея, качал головой, ахал и в заключение предложил Иоанну самому пересказать мучивший его ночью страшный сон о казни на горе, о женщине, которую определил ему в матери Один из распятых, и о том, что другой несчаст-ный обращался к этому Распятому со словами: «Помяни меня, Господи …»
Рав долго думал, разглядывая подросшего уже Иоанна, отмечая про себя, что лицо его хорошо, а уши уже не кажутся такими противоестественно большими, как в детстве, душа чиста, ибо только в такую незамутненную душу может войти сон, в котором мальчику поручают опекать мать казненного. Старый еврей почувствовал, откуда ветер дует, кинулся к своим книгам, стал торопливо листать пыльные фолианты, разворачивать и сворачивать разные свитки и, наконец нашел то, что искал.
— Вот, — сказал он, раскрывая в нужном месте Священное Писание. — Слушайте, что пророчествовал пророк Исайя. Пророк говорил: «…Он изъязвлен был за грехи наши, и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились».
Книжник посмотрел на мальчика, потом на старого Зеведея.
— Увы нам, — на всякий случай сказал Зеведей, не проникнувшийся мудростью пророка Исайи.
Иоанн же спросил:
— Тот человек умер за нас, чтобы мы исцелились?
— Правильно, дитя мое… Но давай послушаем еще Исайю: «Посему Я дам Ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу, за то, что предал душу Свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на Себе грех многих и за преступников сделался ходатаем».
Зеведей, мирской человек, опять мало что понял. А отрок же, будто был не от мира сего, вник и спросил книжника:
— А кто это говорит: «Я дам Ему …»?
— Ты разве не понял, Кто? — хитро прищурился книжник, радуясь сообразительности юнца.
— Я думаю, это Бог так говорит. Кто еще может давать милости? Либо Бог, либо царь. А здесь, я думаю, Бог говорит про Того, Которого я видел во сне.
— Вот, Иоанн, ты и истолковал видение, бывшее пророку. И потому я говорю твоему отцу: слушай, Зеведей, твой сын видел во сне Мессию, ибо благословен свыше. Мои глаза хоть и слезятся от старости, но вспомни, это я разглядел твоего сына. Помнишь, я сказал о маленьком Иоанне, что он будет или царем, или пророком. Запомни старик, не знаю уж, чем род твой это заслужил: твой сын видел Мессию. И имя Ему Господь.
— А кто та женщина, которая держала меня за руку? Это Мать Мессии? — спросил Иоанн.
Книжник кивнул и стал протирать согнутым пальцем выцветшие от старости глаза.
— Я думаю, что так.
— А разве у Мессии может быть Мать?
— Вопрос непростой. И я не знаю, что тебе ответить на это, дитя мое. Но думаю, что у каждого рожденного человека должна быть мать.
Мальчик продолжал:
— А ведь я помню. Он сказал Женщине: «Жено! се сын Твой». А если Она Мать Его, а я — ее сын, то я — брат Ему. Я брат Мессии! Вот узнал бы Иаков!
— Отрок сей размышляет, как опытный равви, — с видимым сожалением сказал книжник Зеведею. — Я в его возрасте был большой тугодум, и это меня спасало… Пусть чаще приходит ко мне, и я буду учить его Закону.
По дороге домой отец долго молчал, а потом сказал сыну:
— Не вздумай болтать о своем сне и о Мессии. Лучше забудь об этом. Когда тебя еще не было на свете, прошел слух, что в Вифлееме родился Мессия, и тотчас же Ирод приказал своим солдатам перебить всех младенцев до двух лет от роду. И о Мессии забыли.
Иоанн вздохнул, и не потому, что убили столько младенцев, и среди них, возможно, Мессию, а потому, что ему запретили говорить о сне Иакову. А так хотелось пересказать сон старшему брату, удивить его, показать, что он, Иоанн, стал уже взрослым, раз видит такие сны. Но он пообещал отцу забыть об этом сне.
Глава 3 Крещение на Иордане
Странно, но об этом сне не забыл Зеведей, который все думал и думал о том, кто и зачем послал Иоанну, как какому-нибудь египетскому фараону или Навуходоносору, вещий сон. В чьи силки угодил его простодушный сын Иоанн и почему Иакова миновала чаша сия?
Однажды в дом Зеведея пришел книжник Ахав. К тому времени он почти совсем ослеп и ходил с мальчиком-пово-дырем.
Сыновья Зеведея были в море, и книжник изложил отцу Иоанна и Иакова вдруг возникшую у него заботу:
— Люди говорят, что на Иордане появился Мессия по имени Иоанн, который крестит водой народ. Я расспросил подробно у тех, кто у него крестился, и по описанию он похож на Того, которого твой сын видел во сне. Я думаю, твой отмеченный Богом младший сын должен взглянуть на того Иоанна, который крестит и кого люди называют Мессией.
— Зачем? — спросил Зеведей. — Зачем моему Иоанну нужен этот Мессия? Он уже забыл о том сне, и не надо его тревожить.
— Что ж, — сказал книжник, — как отец ты рассуждаешь здраво. Но как праведный иудей ты совершаешь грех.
— Перед кем я совершаю грех? — удивился Зеведей.
— Перед Тем, Кто послал то видение твоему сыну. Беспричинно таких снов никто не видит.
— Возможно, ты прав, старик. Что же мне делать?
— Пришли Иоанна ко мне, когда он вернется. Я ему все объясню.
— Ладно, — согласился Зеведей. — Пошлю. Но только если он сам этого захочет.
Братья вернулись с моря, раздосадованные плохим уловом. Иаков был зол и громко ругал братьев Иониных, Симона и Андрея, которым сегодня выпала необыкновенная удача. Наловили полную лодку рыбы, чего с ними никогда не бывало. Андрей предложил было поделиться с Зеведеями уловом, но Иаков стал кричать, размахивать руками и запретил Иоанну даже разговаривать с Андреем. Дело чуть не дошло до драки.
— Я не знал, брат, что ты так завистлив, — сказал по дороге домой Иоанн старшему брату.
— Я не завистлив. Я справедлив и люблю, чтобы все было по справедливости.
— Так Андрей и хотел поделить по справедливости.
— А кто такой Андрей Ионин, чтобы устанавливать справедливость? Справедливость должна идти от Бога, через улов. А справедливость братьев Иониных мне не нужна.
— А мне — нужна. И я рад, что Андрей предложил поделиться.
— Может, ты завтра перейдешь к ним в лодку? Иди, иди. Симон прямо умрет от счастья. Представляю, как рыжебородый вытаращит свои глазищи!
Иоанн пропустил насмешку мимо ушей.
— Нет, Иаков. Ты мой брат, и я буду с тобой.
Вспыльчивый Иаков был отходчив, и братья обнялись.
Придя домой и помолившись, приступили к вечерней трапезе, а когда поели и поблагодарили Бога за то, что дал им пищу, отец отозвал Иоанна в сторону и рассказал о визите книжника.
— Ты еще не забыл свой сон? — спросил отец. — Ведь прошло лет десять.
— Одиннадцать, — поправил сын. — А помню тот сон, как сейчас.
— Я думал, ты забыл о нем.
— Что ты, отец! Такой сон не забыть.
— А Мессию того помнишь? Мог бы Его узнать?
— Это тебя равви Ахав навел на такие мысли?
— Да, сын. Рав хочет с тобой поговорить о том сне, ибо на Иордане, как говорят люди, появился Мессия. Я сказал, что не буду возражать, если ты сам захочешь пойти к Ахаву.
— А он что?
— Он ответил: «Ты правильно решил, Зеведей». Так пойдешь к нему?
— Пойду, отец. А кто этот Мессия?
— Вот об этом и будет ваш разговор. Но лучше бы ты, сынок, не встревал в это дело. Как я понимаю, раввины и книжники без тебя обойдутся.
— Раввины-то обойдутся, не в том дело. Я должен найти женщину, которая меня держала за руку у распятия. Может, она в беде?
— Но я не слышал, чтобы где-то в наших краях распяли Мессию.
— А я вот думаю, отец, что Мессия несет миру благую весть и за это идет на смерть.
— Откуда у тебя такие мысли, сын? Ты вот, наверное, думаешь, как прост и убог твой отец, не знает никаких смыслов, а ведь я часто переживаю, что не привел тебя в синагогу к учителям Закона. Не зря говорил Ахав, что быть тебе царем или пророком. Наверное, и стал бы, если б отец у тебя смышленее оказался. Но, как видишь, не умудрил меня Господь.
— Не винись напрасно, отец. Разве не знаешь, что все в руке Божией. Глядишь, и сон тот явью станет.
— Страшной явью, сынок. Страшной… Значит, пойдешь к Ахаву?
— Пойду, отец. Кто-то подсказывает, что так надо.
— Тогда с Богом. И снеси старому Ахаву рыбы. А я завтра с Иаковом вместо тебя в море выйду.
— Я знал, что ты придешь, Иоанн, — сказал старый рав, трогая руками голову и лицо подростка. — Глаза мои уже больше не видят. Две радости сохранил мне Господь: могу слушать, что говорят люди, и думать о Боге. Жалею, что не смог с тобой дочитать Писание. Придется тебе самому доучиваться. Я решил подарить тебе свои книги.
С этими словами Ахав вручил Иоанну пачку переплетенных желтых листов, оправленных в темную кожаную обложку.
— Вот. Будешь читать книги Моисея — и все поймешь.
— Равви, но мне одному их не осилить, — с сомнением сказал Иоанн, принимая книги из рук Ахава.
— Бог умудрит тебя, сын мой, раз посвятил в свои планы. Все в руке Господа. И незрячие прозреют, и немые заговорят.
— Разве Он посвящает людей в свои планы?
— Такое случается с избранными.
— Я был с отцом на Пасху в Иерусалиме. Там в Храме столько мудрецов, священников, и все они важно ходят по ступеням и вожделенно служат Богу. А я — что? Рыбак. Сети ставлю, невод таскаю. Дерусь с мальчишками. Почему Он выбрал меня, когда вокруг столько знающих Учение?
— Много званных, да мало избранных, — пояснил Ахав. — Ну, а теперь послушай, зачем я тебя позвал. Люди говорят, что на Иордане появился не то Мессия, не то пророк по имени Иоанн. Он пришел из пустыни, собирает вокруг себя толпы людей, крестит их водой и проповедует покаяние для прощения грехов. Вот я и думаю: не он ли Тот, Кого ты видел во сне? Потому возьми с собой брата Иакова и найди того Иоанна. Если он Тот, Кого ты видел во сне, Он скажет, что тебе делать дальше. А коли не тот — знай, время твое еще не пришло. Время близко, но еще не пришло.
— А как я найду этого Иоанна на Иордане?
— Бог приведет тебя к нему. И еще, сын мой: вернувшись, не поленись снова зайти к слепому Ахаву и рассказать, что видел на Иордане.
Напоследок Ахав возложил руку на голову мальчика и торжественно произнес:
— Да уподобит тебя Господь пророкам Исайе и Даниилу.
На том и расстались. А на другой день Иоанн Зеведеев вместе с братом Иаковом отправился на Иордан в поисках Иоанна, призывающего людей к крещению и покаянию…
Когда братья по совету книжника Ахава отправились на поиски пророчествовавшего и крестящего на Иордане Иоанна, старый Зеведей своим медлительным, но сметливым рыбачьим умом понял, что потерял и Иакова, и Иоанна. Он был далек от мысли, что это Бог забирает у него сыновей, скорее, видел в этом происки сатаны и его воинства. Он знал людей, в которых вселялись бесы, и всегда удивлялся, почему Бог не печется о своем стаде, не истребляет творящих зло бесов. Но дальше этого его мысли никогда не шли, потому как не пристало ему, глупому рыбаку, каким он считал себя, спрашивать с Бога, можно только возносить хвалу Ему, молиться и благодарить Всевышнего за то, что дает день и пищу.
Старший Иаков, уже начавший обрастать бородой, с интересом отнесся к тому, о чем поведал ему младший брат. Он удивился его сну, о котором Иоанн ему все-таки рассказал, поразился книгам, которые брат принес от равви Ахава; а больше всего — тому, что, не изучив грамоту, Иоанн вдруг начал читать Закон и пророчества Моисея. Иаков тоже попробовал, но у него ничего не получалось. Однако он без ревности относился к успехам брата в учении и просил того читать из той книги малопонятные ему, простому галилейскому рыбаку, тексты.
По дороге у братьев было много времени для разговоров, и Иаков сказал:
— Мне бы только понять, что в этом Законе главное. Всего-то, наверное, никто, кроме Бога и Моисея, не знает.
— Я тебе скажу, что в Законе главное, — пообещал брату Иоанн. — Рав меня научил этому. Скажу, но только тогда, когда мы вернемся с Иордана.
Младшему брату хотелось подержать старшего в неведении. Пусть прочувствует, сколь премудр стал его братишка, сумевший подобрать ключик к тайнам Писания.
— Нет, — обиделся Иаков. — Скажи сейчас. Не дразни. Или я тебе не брат?
Иоанн продолжал упрямиться:
— Подожди, вот пройдем еще один перевал, тогда скажу.
— Хочешь подурачиться?
— Хочу, чтобы ты проникся значением мудрости, которую сейчас узнаешь.
— А тебе-то она откуда известна?
— Меня просветил равви Ахав.
— А его кто просветил?
— Рав говорил, что его просветил учитель, раввуни Гиллель.
— А раввуни Гиллеля кто научил?
— Он вычитал это из книг Моисея.
— А Моисей откуда узнал эту истину?
— Его Бог просветил.
Иаков хотел было спросить о том, кто просветил Бога, но язык у него не повернулся, и он долго кашлял, пока наконец снова не обрел дар речи.
— Выходит, ты не зря к равви Ахаву ходил?
— Не зря.
— Но тогда перестань надо мной смеяться и скажи наконец, в чем соль Закона Моисеева.
— Ладно, Иаков, слушай! — И Иоанн поведал ему притчу, которую рассказал ему старый книжник
Ахав. — Однажды к учителю Шаммаю пришел из далеких Афин любопытный эллин с лукавым взглядом и пообещал тут же принять обрезание и стать иудеем, если учитель научит его всему Закону, стоя на одной ноге.
Читатель должен понимать: афиняне тогда еще не знали истинного Бога и были большие спорщики, мудрецы и эротоманы. И любители потешаться над обрезанными. Учитель хотел его прогнать, но передумал. Удружу-ка я коллеге Гиллелю, решил он. А почему — нет?
«О, чужестранец! — сказал учитель Шаммай. — Только один человек в Иудее может выполнить твою удивительную просьбу. Ступай к раввуни Гиллелю».
Гиллель был мудрее Шаммая. Отвернув лицо, он посмеялся над глупостью язычника, однако тут же встал на одну ногу и изрек: «Не делай ближнему твоему того, чего не хочешь себе. В этом весь Закон. Все остальное — толкование. Иди и исполняй».
— Не делай ближнему твоему того, чего не хочешь себе, — повторил Иаков. — И все?
— Все, — подтвердил Иоанн.
— Так просто… А почему книжники в Иерусалиме так пыжатся, будто их распирает тысяча мыслей.
— Потому что не знают смысла. Они только все растолковывают. У Бога — смысл. А у книжников — объяснения. И у каждого книжника на свой лад. Поэтому и трудно постичь Закон.
— А ты, брат, я вижу, не на шутку ударился в эту науку.
— Рав считает, что мне знак был.
— Это ты о том сне?
— Да, о том сне.
— А мне сны не снятся. А если снятся, то я утром их забываю.
— Когда придет пророческий сон, его не забудешь…
Делясь с братом своими тайнами, Иоанн умолчал лишь о том, что произнес старый Ахав, когда впервые увидел Иоанна. А произнес он, как, наверное, еще не забыл любезный читатель, что из сего отрока выйдет либо царь, либо пророк. Иоанн не сказал об этом, потому что знал своего самолюбивого брата и понимал, как больно это может задеть его.
Путь был неблизким. Братья шли не один день. Они шли по вязкой сухой земле, по выжженной солнцем равнине, спускались в зеленые благоухающие, полные дивных цветов долины, прыгали с камня на камень, перебираясь через наполненные брызгами и белой клубящейся пеной водопады, опять шли в складках между поросшими могучими кедрами холмами. Шли, сливаясь с толпами старых и молодых иудеев, печальных и веселых, мудрых и отупевших от долгой многотрудной жизни, шли среди самарян, греков, иудеев; мужчин, женщин, детей — всех стремившихся послушать пророчествующего на Иордане. Они вникали в разговоры старцев о приходе Мессии; покидали одну толпу, сливались с новой, слушали, вступали в разговоры, заражаясь одержимостью торопящихся к Иордану людей, и, наконец, добрались до селения Вифавары, где крестил Иоанн.
Отстав от кинувшихся к воде обезумевших от напряженного многодневного ожидания чуда, измученных дорогой людей, братья неторопливо стали пробираться через заросли к воде. Продравшись сквозь кусты к быстрому прозрачному потоку, они увидели на пологом восточном берегу Иордана множество голых людей. Часть из них стояла в воде и слушала высокого худого человека в темной власянице из верблюжьего волоса. Человек тот, видимо, стоял на камне, возвышаясь над людьми, как пастырь над своим стадом.
Иоанн подивился множеству необрезанных мужчин в толпе и с непонятным волнением засмотрелся на голых женщин, зябко ежившихся в холодной иорданской воде. Глаза юноши разбегались, а душа радовалась, созерцая эту впервые увиденную им красоту нагого женского тела. Он незаметно взглянул на Иакова. Брат тоже смотрел на женщин во все глаза. Были среди них и пожилые, с отвислыми, дряблыми животами, иссохшими грудями и тяжелыми ягодицами, но и они были по-своему прекрасны и не портили удивительной картины, неожиданно открывшейся двум аскетично воспитанным, с детства привыкшим к труду в поте лица молодым рыбакам. Иоанн понял, что жен-ское тело красивее и пластичнее мужского. Женщины были прекрасны, как те костяные богини, которых он видел, когда возил с отцом свой улов в Иродову Тивериаду. Но отец запрещал ему брать тех идолов в руки. А тут от этих идолов рябило в глазах. Иоанну вдруг стало трудно дышать… Он прикоснулся пальцем правой руки к левому запястью и с радостью ощутил, как бьется указанная ему Ахавом жилка. Значит, Бог не покинул его и не наказывает его за то, что он так долго с волнением смотрит на голых женщин. Бог прощает глупость и юное неведение его.
Первым пришел в себя Иаков.
— Смотри, сколько необрезанных, — с возмущением сказал он Иоанну. — Зачем они пришли к нашему иудейскому пророку? Закон запрещает с ними общаться.
— Да, странно, что он их не гонит. Но это не просто так: пророк выполняет волю Бога.
— А ты узнаёшь его? Это тот, которого ты видел во сне? — спросил Иаков брата. Он, хоть и считал себя много опытнее и умнее младшего брата, понимал, что здесь, на Иордане, он должен уступить свое первенство и довериться Иоанну, видевшему пророческие сны и умевшему читать и понимать Писание.
— Не знаю, — сказал с сомнением Иоанн. — Я не вижу его глаза. Надо подойти ближе.
— А креститься будем? — спросил Иаков.
— Послушаем сначала, что он скажет.
Креститель говорил народу:
— Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное…
Ибо он тот, о котором сказал пророк Исайя: «глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему …»
Я крещу вас водою, но идет Сильнейший меня, у Которого я недостоин развязать ремень обуви; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем.
Лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое и соберет пшеницу в житницу Свою, а солому сожжет огнем неугасимым.
— Так это Он? Узнаешь Его? — теребил брата Иаков.
— Похож. Только этот кажется ростом больше, и в глазах у него огонь. И больно зол… Слышал, как он ругал фарисеев порождениями ехидны? А у того в глазах были мир и грусть.
— Тогда, я думаю, это о Том, Кого ты видел, он говорит: «Идет Сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви». Вот кто, наверное, Мессия? — предположил Иаков.
— Ты прав, брат. Я тоже так подумал… Но давай разденемся и войдем в воду, поближе к этому пастырю, — предложил Иоанн.
Братья сбросили свои одежды, ступили в холодную быструю воду Иордана и подошли к крестившему людей Иоанну.
Иоанн остановил на них свой жгучий взгляд.
— Сыны света, — неожиданно мягко сказал он и, слегка нажав им ладонями рук на головы, погрузил их под воду и тотчас отпустил. — Истинно, истинно, говорю вам, что будете крестить народы во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Братья поклонились Крестителю, и младший спросил:
— Не ты ли Мессия, о котором все говорят?
— Я глас вопиющего в пустыне, — ответил Иоанн, — …но за мною идет Муж, Который стал впереди меня, потому что Он был прежде меня.
— Видишь, — шепнул Иаков брату. — Это не Мессия, которого ты видел.
— Да, — согласился Иоанн. — У Того воздух над головой светился.
— Но почему Креститель сказал, что мы сыны света и будем крестить народы во имя Отца и Сына и Святого Духа?
— Я думаю, что об этом можно будет узнать из книг Моисея, которые мне подарил равви Ахав.
И, окрещенные, проникшиеся Божией благодатью, братья Иаков и Иоанн отправились восвояси чинить свою лодку и сети, которые ожидали их на берегу моря Галилейского, ссориться с братьями Иониными из-за улова и ожидать, когда придет Мессия и позовет их за собой крестить народы во имя Отца и Сына и Святого Духа. Братьям Иониным они пока решили ничего не говорить о своем крещении на Иордане.
Светило солнце. Шумел поток. Тихо переговаривались люди, и зло ругался на фарисеев и книжников пророк, призывая людей покаяться в грехах и креститься.
Глава 4 Крест животворный
Иаков, хоть и зауважал младшего брата после Иордана, но продолжал посмеиваться над ним, когда тот, глядя, как багровое вечернее солнце опускается в потемневшие воды Галилейские и вокруг быстро сгущаются сумерки, украдкой вытирал слезы и начинал молиться:
— Укажи мне, Господи, пути Твои и научи меня стезям Твоим.
Направь меня на истину Твою и научи меня: ибо ты Бог спасения моего: на тебя надеюсь всякий день.
Не раз бывало: подойдя к лодке, где, подложив под голову свернутый парус, возлежал, глядя в далекую небесную синь, Иоанн, Иаков слышал устремленные к Богу слова брата:
…Утверди шаги мои на путях Твоих, да не колеблются стопы мои.
К Тебе взываю я, ибо Ты услышишь меня, Боже; приклони ухо Твое ко мне, услышь слова мои …
Иаков вслушивался в слова брата, обращенные к Создателю Неба и Земли, вод морских, и скотов полевых, и зверей лесных, и удивлялся, почему такие трепетные слова не рождаются в его смекалистой голове. Он не забывал молиться, но его молитвы были проще. Он благодарил Бога за то, что тот не сделал его женщиной, что дает ему хлеб насущный, и дальше этого обычно не шел. А парень он был — хоть куда! Многим родителям на зависть. Он видел: отец гордится им, своим старшим сыном, ибо никто из местных рыбаков не мог так искусно просмолить лодку, надежно зачинить порванные сети, быстро и крепко поставить парус.
Иоанн в делах рыбачьих старался не отставать от брата. Иаков же в тайне завидовал набожности Иоанна, его умению читать тексты Писания, толковать их. Он понимал, что брат его недолго пробудет рыбаком. Бог не оставит его среди рыбацких шатров, ибо место его в храме. Из Иоанна непременно вырастет книжник или фарисей, который будет смущать людей своим умением толковать Законы и Заповеди Божии, а он, Иаков, как и братья Ионины — Андрей и рыжебородый Симон, — так и будет из года в год под жгучим солнцем забрасывать сети на своих быстрых лодках, снующих среди волн Галилейских, и торговать рыбой.
После того как святой Иоанн крестил братьев в Иордане, Иаков не переставал допытываться у младшего брата, почему Креститель назвал их Сынами света и сказал, что они будут крестить народы во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ведь другим он не говорил такого. Эта мысль постоянно мучила Иакова.
— Завтра я схожу к равви Ахаву и расскажу ему о том, что сказал Креститель, — пообещал брату Иоанн. –
Рав объяснит, что это значит.
— Я тоже пойду с тобой, чтобы послушать, что он скажет об этом, — настаивал Иаков. — Ведь слова Крестителя означают, что произойдут изменения в нашей жизни. Твоей и моей. Мы перестанем ловить рыбу и станем священниками. Так надо понимать слова этого пророка?
Братья сказали отцу, что хотят пойти к старому книжнику. Тот печально вздохнул, но не стал возражать. Он уважал Ахава и не мог забыть его пророчество, что Иоанн станет царем или пророком.
— Снесите ему вина, сыны, — сказал отец. — Старому человеку нет еды лучше вина.
Наутро сети братьев Зеведеевых и их лодка, к удивлению Андрея и Симона Иониных, опять остались на берегу. Андрей и Симон только молча переглянулись, ухмыльнулись и покачали головами. Симон Ионин, будучи уже женат и чувствуя себя совсем взрослым и мудрым мужем, все так же недолюбливал мечтательного Иоанна Зеведеева и не поощрял дружбы с ним своего брата Андрея. Собьет парня с пути своими мечтаниями. Еще неизвестно: не от лукавого ли они — мечты этого юнца. И тут надо сообщить читателю, что братья Ионины тоже побывали на Иордане и тайно крестились у Иоанна, и тот тоже называл их Сынами света и говорил, что они будут крестить народы. Так что, куда теперь до них Зеведееям, думал самолюбивый гордец Симон, гладил бороду и таращил глаза, как когда-то, когда пугал маленького Зеведея.
А Иаков и Иоанн поутру положили в корзину три больших рыбы, прикрыли их от солнца пальмовым листом, взяли кувшин вина для старого равви Ахава, который к этому времени настолько ослаб, что едва мог передвигаться по комнате, и отправились в соседнее селение, где доживал свои дни мудрый книжник, пророчивший Иоанну Зеведееву большое будущее.
Когда братья приблизились к лачуге, в которой доживал свои дни старый Ахав, они услышали женский плач, причитания, и выскочивший им навстречу маленький чумазый мальчик сообщил, что равви Ахав умер. Тут же из лачуги вышла рыдающая женщина, внучка Ахава, мать этого мальчика, и подтвердила, что авва умер, однако смотрит слепыми глазами в потолок, а она боится закрыть ему веки.
Иаков растерянно посмотрел на Иоанна и поразился, как вдруг изменилось лицо брата. Вертикальная морщина легла между его бровями. Глаза наполнились печалью и светом. Таким он его никогда не видел.
— Авва спит, — твердо сказал Иоанн женщине. — Мы принесли ему вино и рыбу. Возьми рыбу, женщина, и приготовь еду. Ибо авва не умер, но спит. И не входи в дом, и ты, Иаков, тоже не входи, пока я не выйду оттуда.
С этими словами Иоанн поспешно вошел в лачугу.
В доме пахло тленом. У стены напротив входа на сколоченных в виде ложа досках, вытянув босые ноги, лежал старый, высохший, как былинка, Ахав. Слепые глаза его были открыты и устремлены в потолок. По щеке ползала муха. Иоанн упал на колени и стал молиться, просить Бога воскресить старца, ибо он слышал: бывали случаи, когда Бог откликался на такие призывы.
— Боже сильный, создавший мир весь из ничего одним словом Своим, — шептал Иоанн, — воскреси старца, уснувшего смертию… Боже крепкий, — молил он.
Но тщетно. Ахав не двигался. Тогда Иоанну пришли в голову слова Крестителя, которые тот произнес, крестя их с братом, слова, которых он никогда ни от одного иудея не слышал. И он сказал:
— Во имя Отца и Сына и Святого Духа, пробудись, уснувший авва Ахав.
Ничего не изменилось. Ахав не двигался. Во дворе плакала женщина. А Иоанн был бессилен. Он вытер ладонью мокрый от напряжения лоб. Закусив губу, он смотрел на неподвижно лежащего человека и упорно убеждал себя, что тот спит, не умер.
И тут Иоанна осенило, будто кто-то подсказал ему, что надо делать. Он закрыл глаза и представил себе ту поразившую его картину из сна: человек со светящимся над головой нимбом взирает на него с креста. Сейчас он скажет ему, что «Се Матерь твоя!», а распятый рядом разбойник назовет Его «Господи…».
Иоанн обратился к Распятому и трижды попросил: «Господи, во имя Отца и Сына и Святого Духа пробуди уснувшего». И замер в ожидании чуда.
И чудо свершилось. Он вдруг услышал, как тихо скрипнула старая кровать. Затем Ахав шевельнулся, вздохнул. Потом поднял руку и согнал с лица муху.
— Благодарю тебя, Боже крепкий, Боже сильный, Боже справедливый, — продолжал молиться Иоанн, видя, как Ахав скосил на него невидящие глаза и пытается понять, кто тут шуршит около него и что, собственно, происходит в мире.
Иоанн смотрел на приходящего в себя после странного сна старца и не верил своим глазам. «Нет, не было смерти, — думал Иоанн. — Нет. Старик был в забытьи. В старости такое бывает. Ахаву, наверное, уже больше ста лет…» Иоанн слышал, что древние старики могут цепенеть, как игуаны, и долго пребывать в неподвижном состоянии. Бывало, что таких даже пеленали и хоронили в пещерах.
Когда Иоанн почувствовал, что старец наконец пришел в себя, он позвал Иакова и сказал:
— Почтенный Ахав, мы с братом принесли тебе вина и рыбы. Сейчас женщина приготовит еду. Подкрепись, равви, и просвети нас, не разумеющих Писания.
Старик, глаза которого давно ничего не видели, по голосу узнал Зеведея и вспомнил, что в детстве напророчил мальчику большое будущее. Он вспомнил сон мальчика, увидевшего Мессию. Вспомнил, что, когда услышал о Крестителе на Иордане, послал туда братьев Зеведеевых.
— Равви, — сказал Иоанн, — подкрепись вином и ответь нам. Мы были на Иордане, и тот, к которому ты послал нас, крестил меня и брата во имя Отца и Сына и Святого Духа. Но это был не Тот Мессия, которого я видел во сне. Креститель назвал нас с братом Сыновьями света и сказал: «Идите и крестите народы во имя Отца и Сына и Святого Духа». Я не мог найти объяснения этим словам у Моисея. Там нет про Сына и Святого Духа.
А Иаков тем временем откупорил кувшин, наполнил вином чашу и поднес старому книжнику. Старик сел на кровати. Невидящие его глаза взирали на отроков. Придя в себя, он осторожно взял обеими руками чашу и медленно, глоток за глотком, стал пить вино. Щеки его порозовели. Жизненные силы, память и здравый смысл явно возвращалась к нему. Видно, доброе вино было у Зеведеев. Старик окончательно пришел в себя.
— Дети мои, — произнес Ахав. — На Иордане вы видели Предтечу, и он крестил вас. Креститель готовит путь Господу. Назвав вас Сынами Света, он выделил вас из всех и определил быть учениками Того, кто грядет и по воле Которого вы станете крестить народы. Помнишь, Иоанн, как в твоем сне Мессия говорил тебе о женщине, которая держала тебя за руку: «Се Матерь твоя!» Это означает, что Матерью тебе станет церковь, которую заложит Мессия, и ты будешь сыном ее. Помнишь его слова: «Жено! се сын Твой». Вот и сбылось мое пророчество: быть тебе, Иоанн, одним из столпов Новой церкви…
Тут равви Ахав закашлялся, уронил чашу, вино пролилось на земляной пол. Братья осторожно опустили старика на кровать. Мудрый книжник закрыл глаза и умолк. Жизнь покинула старого человека. Женщина опять зарыдала, запричитала и стала царапать себе ногтями лицо. Заголосил и чумазый мальчик, прижавшись к подолу матери.
…Когда братья на следующее утро пришли на берег, чтобы отправиться на рыбную ловлю, они увидели в лодке с Андреем и Симоном незнакомого человека. Он не был похож на рыбака или на мытаря, пришедшего собирать с рыбаков налоги. Не похож он был и на нищего или бродягу. Иоанн смотрел на Него во все глаза и, казалось, узнавал Его. Да. Это Его он видел во сне распятым на столбе с перекладиной и говорившим Иоанну: «Се Матерь твоя». Человек, похоже, тоже узнал Иоанна, но никак не проявил своего знания. Они просто обменялись чуть более долгими взглядами, чем обмениваются случайно встретившиеся люди. И все. Андрей, показывая на Иакова и Иоанна, пояснил незнакомцу: «Это братья Зеведеи, лучшие рыбаки на побережье, пусть они тоже поплывут с нами. Наш рав говорит, что Иоанн будет пророком, ибо видел во сне Мессию».
Незнакомец с интересом посмотрел на Иоанна, но ничего не сказал.
Симону же слова брата не понравились: к чему повторять пророчества одуревшего от старости рава и посвящать глупых Зеведеев в учение, о котором начал с ними разговор незнакомец, но он промолчал. Только погладил рыжую бороду, но таращить глаза, пугать Иоанна, как в детстве, при незнакомце не стал.
Иаков и Иоанн, испытывая странное волнение, предчувствуя, что сейчас произойдет что-то необычайное, молча переглянулись и, не сговариваясь и не отдавая себе отчета в том, что делают, побежали к своей лодке, побросали в нее снасти и парус, столкнули ее на глубину, вскочили в нее и поплыли вслед за лодкой братьев Иониных, где на носу возлежал странный незнакомец, поразивший своим видом Иоанна.
Глава 5 Новый наместник Иудеи, или Узел завязывается
Оставим на время Иоанна и Иакова Зеведеевых и братьев Иониных, пустившихся в плавание по волнам Галилейским вместе с пришедшим на берег незнакомцем, и перенесемся на несколько лет назад в славный город Рим, эту суетную и чванливую столицу мира. Тем более что страна Иудея, откуда родом основные герои нашего повествования, была в то время одной из провинций Римской империи. Так вот, приблизительно в то самое время, когда юный Иоанн видел свой удивительный сон, в Риме некий чиновник Понтий Пилат, используя свои связи в окружении кесаря, добивался должности наместника в далекой Иудее. Да, да, тот самый Понтий Пилат! Вы вспомнили его имя, читатель! Имя, которое встречается во множестве преданий и писаний, в светских повестях и романах. Понтий Пилат — он же игемон, он же прокуратор Иудеи, он же палач Спасителя нашего Иисуса Христа. Тысячелетиями складывался его образ как мрачного римского притеснителя полумистической страны Иудеи, обрекшего на распятие Галилейского Праведника. Но, оказывается, не так все просто, дорогой читатель. Нет. Не мог один философ, даже пусть римский, но друживший с молодым Сенекой, уже прославившимся в то время судебными речами, так, «за здорово живешь», отправить на смерть другого философа, представшего перед ним в виде иерусалимского бродяги. Не иначе как вокруг Спасителя нашего кто-то закрутил такую страшную, путаную круговерть, крайним в которой и оказался исправный римский служака, склонный к философии, Понтий Пилат. Вот вам, кстати, и доказательство широко известного в мире тезиса, что интеллигенция всегда была двигателем прогресса! Ибо приход и вознесение Спасителя — это «тектонический» сдвиг в истории мировых цивилизаций… И разве не по воле Всевышнего действовал римский наместник Пилат? Ибо без воли Его и волосок не упадет с головы сынов человеческих! И где бы мы были, читатель, не сотвори избранник неба Пилат своего неправедного суда?
Но продолжим наше повествование. Итак, покровитель Пилата, фаворит кесаря, хитроумный придворный, префект претория, льстец и интриган Луций Элий Сеян усердно хлопотал за Пилата, убеждал римского кесаря в преданности соискателя делу империи, и Тиберий подписал указ.
Когда же Сеян сказал, что Тиберий хочет самолично напутствовать будущего прокуратора, Пилат не на шутку струсил. Он знал, что император разумен, но жесток и сумасброден. Только что он потряс Рим, повелев казнить своего шута. Несчастный шут, встретив похоронную процессию, публично обратился к покойнику с просьбой передать императору Августу, которого почивший увидит в загробном мире, что завещанных великим римским кесарем подарков народ при новой власти так и не получил. Тиберий, представлявший новую власть, осерчал. Он тут же повелел выдать шуту из казны причитающееся, а затем казнил бесстрашного обличителя кесарей шута-публициста, чтобы он мог лично доложить Августу, что подарки он получил сполна.
С Пилатом Тиберий был, на удивление, откровенен. Он дурно говорил о своих чиновниках. С горечью пенял, что служат они не Риму, а лицам, от которых зависят. Признался, что не знает, как с этим бороться. Кесарь напутствовал будущего пятого наместника Иудеи: «Всякая должность дает толчок к злоупотреблениям. Если человек получает ее на короткое время, он будет беспощадно грабить подчиненных. Если же будет знать, что назначен на долгое время, он будет действовать умеренно и, пожалуй, перестанет угнетать народ, как только соберет достаточно богатств… Знай, прокуратор, что разумный пастух стрижет своих овец, но не дерет с них кожу».
Осчастливленный беседой с Тиберием, тем, что он вновь может достойно послужить Риму, Понтий Пилат заверил императора, что будет неуклонно следовать его напутствию и не посрамит державы. После чего, проведя прощальный вечер в римских термах с Сенекой, вместе со своей женой Клавдией Прокулой, которой тоже предстоит сыграть в нашей истории определенную роль, и свитой прислужников погрузился в Остии на военный римский корабль. Слушая шум ветра в корабельных снастях и почитывая «Илиаду», он отбыл к новому месту службы, где его ожидали события, прямо скажем, вселенского масштаба. Ибо, согласись читатель, значимость событий можно оценить, только отдалившись от них на столетия или даже тысячелетия. И чем дальше мы от них отдаляемся, чем больше вызванных этими событиями перемен наблюдаем, тем истиннее становится наша оценка, казалось бы, проходного, случайного события, подобного казни мало кому известного во времена Понтия Пилата Галилейского Проповедника. Ведь не казни тогда Пилат Иисуса Назарянина, каким имели бы мы мир сегодня? Брр! Страшно подумать! И потому не бранить нам надо Пилата или Иуду Искариота, добросовестно исполнявших волю Проведения, а смиренно внимать событиям, которые вот-вот начнут свершаться в Иерусалиме… И понимать, что главный закон в этом лучшем из миров: «Все, что ни делает Всевышний, — к лучшему». А мы, грешные, не в силах подняться над повседневностью, с унылыми лицами лепечем что-то о справедливости, о счастье… Ну кем бы мы сегодня были, не случись роковых событий Страст-ной пятницы… Вот, вот о чем подумай, читатель!
Итак, ни Пилат, ни одаренная интуицией его супруга Клавдия Прокула и помыслить не могли, какие жернова готовит им малоизвестная в этом мире «Закулиса», о которой в прологе нашего повествования мимоходом упоминал Иуда Симонов и которую, по его словам (только можно ли верить такому персонажу романа, как Иуда из Кериота), мудрые греки иногда еще называют Софией.
Кто это? Что это за фигурантка такая? Не торопись, добрый читатель, еще немного терпения, и ты в свое время узнаешь об этом из нашего повествования. Поэтому не надо спешить с накоплением знаний. Мы не раз убеждались в справедливости величайшей из истин: «Меньше знаешь — крепче спишь». А уж знать о чем-то ранее определенного тебе Высшей силой времени — вообще предосудительно. Может быть, поэтому такими торопыгами в свое время профессионально занялась инквизиция?
Итак, Понтий Пилат с супругой отбыл в далекую и таинственную, по словам знающих людей, Иудею.
Тут мы начинаем постепенно вводить в круговерть событий нового героя нашего повествования. Сменив на посту четвертого прокуратора Иудеи Валерия Грата, Пилат поселился в благополучном, населенном римлянами, греками, сирийцами, иудеями царственном городе Кесарии. Город тот был возведен на залитом солнцем и поросшем кипарисами морском побережье Иродом Великим и назван так в честь божественного кесаря Августа. Того самого цезаря Августа Октавиана, который принял от пращуров своих Рим кирпичным и оставил его потомкам великим беломраморным, наполненным великолепными статуями богов мегаполисом. Новый град Кесария изобиловал роскошными термами и фонтанами. В садах, окружавших резиденцию прокуратора, можно было встретить пугливых, хотя и приученных к человеку ланей, нервных самовлюбленных павлинов, любящих по утрам покричать отвратительными голосами; понаблюдать за любовными сценами неслышно скользящих по озеру лебедей; увидеть в зарослях заманчиво дремлющую белотелую Леду; встретить великолепно сложенную Артемиду с луком в нежных руках… В общем, почувствовать себя если не в раю, то в расслабляющем тело и раскрепощающем душу розовом сне, весьма и весьма далеком от суровой иудейской действительности с ее безумными мессиями и бьющимися в истерике пророками, где уже начал раскручиваться наш нехитрый сюжет.
Уже в Риме Пилат был много наслышан о странностях иудеев, их скрытном, мстительном живом Боге, якобы сотворившем небо, и землю, и зверей лесных, и скотов полевых, а главное — сотворившем человека. И, как понял Пилат, иудейская вера вовсе не походила на римское поклонение Юпитеру. Богатые римские евреи поясняли ему, что их вера — не просто вера, а духовное родство иудеев с Богом. О странностях Ягве, одарившего свой народ сотнями всяческих запретов и мелочных предписаний, много говорили и вернувшиеся в Рим из Сирии, Палестины трибуны, легаты, генералы и полковники, центурионы, командовавшие в Иудее легионами, когортами, центуриями. «Этот их Бог, Ягве, — говорили лихие вояки, — жесток и упрям, как римский центурион. И евреи послушны ему, как овцы. Их синагоги — это те же римские казармы, где вместо капралов командуют раввины».
Покопался Пилат до отъезда и в разных государственных документах, к которым смог получить доступ благодаря Сеяну. Естественно, интересовала его Иудея — кость в глотке Рима. Среди документов оттуда он наткнулся на давнишний донос кесарю о злодействах иудейского царя Ирода Великого. Тайный осведомитель доносил римскому императору о неподдающейся никаким объяснениям резне младенцев, которую устроил недалеко от Иерусалима, в маленьком городке Вифлееме, видимо, помутившийся рассудком царь. Никогда в жизни Пилат не слышал о подобном злодеянии. По приказу этого сумасшедшего иудей-ского царя его воины в течение нескольких дней умертвили четырнадцать тысяч вифлеемских младенцев в возрасте до двух лет. Пилат пытался доискаться до причины страшного злодеяния, но так и не нашел объяснения. Говорят, что Бог жестоко покарал Ирода за то злодейство — изверг сгнил заживо. Свидетели сообщали, что видели своими глазами, как их царя, еще живого, ели черви. И понял Пилат, что скучать в этой стране ему не придется.
Заняв резиденцию Грата в Кесарии, образованный, умный, осторожный Пилат, чтобы не нарушать здешних обычаев, много беседовал с местными иудеями, стараясь понять этот нервный, своенравный, верой и правдой служивший своему угрюмому Богу народ. Как губка вбирает воду, так вбирал в себя Пилат все, что слышал о слепой приверженности иудеев Слову Божию, по субботам возвещаемому народу во всех синагогах Иудеи. Пилат прочел Пятикнижие Моисеево, переведенное на греческий язык александрийскими евреями, выдававшими себя за греков. Копался в старых преданиях. И все, что узнавал, поражало просвещенного римского аристократа, изучавшего в юности Платона и Аристотеля, не чуждого к тому же мистерий Гермеса и Пифагора. И чем больше Пилат углублялся в иудейские предания, тем чаще озадачивал себя вопросом: что ждет его в этой таинственной стране, со столь запутанной историей, с блестящими царями-мудрецами и псалмопевцами, великими пророками, умевшими заглянуть за горизонт?
В Кесарии, уже после нескольких недель общения с представителями еврейской общины, знакомства с документами, составленными его предшественниками, читая священные иудейские книги, Пилат понял, что Юпитер, похоже, сыграл злую шутку с Римом, позволив ему войти в Иудею и наивно считать, что он навечно покорил этот странный, непонятный край. И приходили на ум крамольные мысли: не положит ли Иудея Рим на лопатки, как когда-то хилый пастух Давид из колена Иудина уложил, победил великана Голиафа? Очень странные мысли откуда-то приходили порой в мудрую голову игемона. Он попробовал было поделиться ими с наместником Сирии Вителлием, но, после того как тот стал его уверять, что в Иерусалимском Храме, в святая святых, покоится голова осла, которой этот вздорный народ поклоняется, желание философствовать с мудрым проконсулом у него отпало, и он решил сам отправиться в Иерусалим и там разобраться в своих сомнениях.
Глава 6 Проваливай в Кесарию, Пилат-свиноед!
На рассвете Пилат проснулся в своей военизированной палатке. Внутрь проникал запах от готовившейся на кострах солдатской еды. Пилат подумал, что давно уже не едал солдатской пищи, и ему стало весело и хорошо. Он вновь чувствовал себя молодым и здоровым, готовым к походной жизни и воин-ским подвигам настоящим римлянином. Как всякий римлянин, он любил солдатский быт, жизнь легионов, блеск шлемов и щитов, римскую удаль… Вчера он даже бросал копье в соломенного иудея и был не хуже своих центурионов. В Риме он совсем распустился: много читал, философствовал, дискутировал в термах с начинающим философом Сенекой, завернувшись в просторное полотняное покрывало, пил много вина, совсем забыл своего скакуна Фараона, по городу передвигался на носилках, умывался теплой водой, располнел.
А сейчас ему казалось, что он еще молод, что здесь, в поле, со своими центурионами он наконец снова на своем месте и рано ему еще оседать в Риме и вертеться перед императором на Палатинском холме.
В отличном настроении он вышел из палатки. Кивнул часовому. Огляделся. Был предрассветный час, тот замечательный час, когда пробуждаются все, кто еще не потерял надежды на будущее. Ибо будущее, как учили римских детей, за теми, кто рано встает. Вот-вот из-за синих гор покажется солнце, и горнист тотчас же протрубит зарю. И засияет день. И вся окрест-ность вмиг наполнится движением, смехом, руганью солдат, криками командиров, конским ржанием. Потом скорый солдатский завтрак, несколько часов пути, и его когорты под визг дудок и бой барабанов с развернутыми знаменами войдут в Иерусалим, в этот чуждый римлянам древний город, полный благочестивых евреев, восточных мудрецов и пророков. И он наконец увидит это священное бело-золотое еврейское чудо — Иерусалимский Храм, о котором ему столько рассказывал бывший наместник Валерий Грат.
И вот, едва его горнист поднял трубу, чтобы сыграть побудку, набрал воздуху в могучие легкие легионера, поднес серебряный мундштук к губам, коснулся языком металла, как со стороны Иерусалима, до которого было совсем не близко, заглушая и подавляя всевозможные местные звуки, заполняя окрестные долы и долины, разрушая барабанные перепонки, принесся ужасающий, парализующий все живое, отвратительный вой. Пилат был ошеломлен. Его белый в яблоках скакун Фараон и еще несколько офицерских лошадей взвились на дыбы и тут же попадали на колени. Зрелище было невероятным. Прокуратор был растерян, если не сказать — напуган. Хотя видел, как выскакивавшие из палаток привычные к иудейским нравам легионеры беззаботно смеялись, неприлично жестикулировали, пускали сильные струи в сторону Иерусалима и вовсе не теряли присутствия духа.
Этот отвратительный звук был явно нечеловеческих рук делом.
— Прокуратора приветствует еврейский Бог,
Ягве, — со смехом пояснил Пилату происхождение этого жуткого воя центурион первой когорты Лонгин.
— Это магрефа, — пояснил служивший в Иудее не первый год сотник. — В Иерусалимском Храме приносят жертву, и этот гидравлический гудок напоминает пробуждающимся евреям об их ответственности перед Ягве… И о том, что они еще живы.
И центурион захохотал, скаля крепкие, белые, натертые чесноком зубы.
Пилат неопределенно пожал плечами. Ничего более отвратительного, чем звук этой магрефы, он никогда не слышал. Этот чуждый иудейский ритуал поставил прокуратора в тупик. И будто пришло озарение, что эта чудовищно ревущая магрефа — предупреждение. Это знак ему, это — сигнал, что с Иерусалимом у него, Пилата, не сложится, как не сложилось у его предшественника Валерия Грата… «Как не сложится у Рима с Иудеей… — почти угадывая ситуацию, подумал он. — Вообще, это только начало какого-то вселенского, отвратительного спектакля, в котором по чьему-то высокому замыслу ему предназначена далеко не последняя роль». Его философский ум привык создавать немыслимые для нормального человека построения и смыслы.
В полдень, как и планировалось, Пилат во главе трех вооруженных пиками и мечами когорт с развернутыми знаменами подошел к воротам Иерусалима. И вот тут-то все и началось. Он увидел, что окружавшие город стены усыпаны глазеющими на римлян бородатыми иудеями, и в руках у них не цветы, не оливковые ветви, а камни и палки. И Пилат сразу понял, что это продолжение спектакля, о начале которого его на заре дня уже оповестил ужасный вой магрефы.
А спектакль разворачивался, набирал обороты. Из распахнутых ворот города стали вываливаться толпы людей: мужчины в пестрых халатах, вооруженные палками, старики с камнями в руках, истошно вопящие старухи, обезумевшие женщины с ревущими детьми. Люди запруживали дорогу, по которой доблестные когорты Пилата с развернутыми, как на параде, знаменами готовились вступить в столицу Иудеи. Они что-то противно кричали, стучали палками по земле, женщины царапали себе лица, несмышленые дети грозили римскому войску кулачками…
— Почему они так ужасно кричат? — спросил Пилат стоявшего рядом центуриона.
— Они приветствуют тебя, о Пилат.
— Их приветствие довольно своеобразно.
— Да, — согласился центурион, — очень своеобразно. Они кричат: «Проваливай в Кесарию, Пилат-свиноед».
Пилат, друг Сенеки, философски улыбнулся. А что ему еще оставалось делать?
«Складно выражаются эти евреи! — подумал он. — Пилат-свиноед! Надо же! Да такого и нашему великому сатирику Петронию не придумать!»
Когорты остановились. Пилат прикидывал: построенный на каменистых высотах, обнесенный высокими толстыми стенами с неприступными башнями город был одной из самых защищенных крепостей Востока. Чтобы войти туда силой, нужны были не три его жалких когорты, а легионы презирающих смерть наемников — отъявленных головорезов, инженерные и саперные части, стенобитные машины, сирийская конница… И Пилат отказался от нелепой мысли брать город штурмом.
Впереди толпы навстречу свите прокуратора, за которой стояли его легионеры, шли священники в белых полотняных одеждах. Первосвященник Каиафа, назначенный еще Валерием Гратом, обратился к Пилату:
— Мир тебе, римлянин. Народ иерусалимский приветствует тебя на нашей земле, но просит не нарушать наш Закон. Разве назначенный Божественным кесарем прокуратор Валерий Грат не предупреждал тебя, почтенный Пилат, что Закон запрещает нам, иудеям, видеть изображения людей на чем бы то ни было? Боюсь, что изображения кесаря на знаменах твоих воинов вызовут в городе беспорядки… Может пролиться кровь…
Хорошенькое начало! Прокуратора, ставленника непобедимого римского кесаря, встречают угрозой! Услышав этот, с точки зрения просвещенного римлянина, изучавшего в юности греческую философию, римское право, возившего с собой в походы книги Гомера, вздор, Пилат едва сдержал себя, чтобы не расхохотаться в лицо хмурому желтолицему еврею. Да, да, действительно, в Риме его о чем-то таком предупреждали, но он счел это бредом и забыл. Однако не начинать же свое правление в Иудее с резни и не входить же ему, прокуратору, назначенному Императором, римским народом и Сенатом, в город по трупам. И он решил отнестись к этому протесту как к шутке, заготовленной для него хитроумными иудеями.
Посовещавшись с командирами когорт, он принял решение свернуть и зачехлить знамена. И тогда толпа расступилась. Торжественного въезда в Иерусалим, увы, не получилось. По песчаной, исхоженной иудейскими царями и пророками дороге прокуратор на белом в яблоках скакуне, в досаде покусывая губу, во главе когорт покорителей мира проследовал через распахнутые перед ними ворота в город. Блестели на солнце железные шлемы центурионов, лучилась сталь пик и мечей.
За когортами потянулись обратно в город толпы успокоенных разумным решением прокуратора горожан. И говорил иудей иудею: «Господи, Боже! Кто силен, как Ты, Господи? И Истина Твоя окрест Тебя».
Свою ставку прокуратор устроил в бывшей резиденции Валерия Грата — претории. Мудрый римский администратор Пилат решил, что постарается забыть обиду и в дальнейшем станет учитывать привычки и традиции этих вздорных иудеев и их, так не похожего на римских или греческих богов, фанатичного Ягве. Но, говорят, благими намерениями путь в ад вымощен. Не смог прокуратор смирить римскую гордыню. И начались сначала мелкие, потом все более крупные столкновения с первосвященником и его зашоренной Моисеевым законом священнической и фарисейской братией.
Разобравшись в городском хозяйстве и увидев, как далек от цивилизованного Рима азиатский Иерусалим, прокуратор посоветовался со своим окружением и решил построить негостеприимным евреям водопровод наподобие римского и тем облегчить бедную и беспросветную жизнь этого жалкого, замкнутого в себя народа. Прознав, что в Храме хранятся огромные запасы золота, Пилат пригласил к себе первосвященника Каиафу и потребовал, чтобы тот выделил часть денег на строительство водопровода, в котором так нуждается город. Священники заупрямились. В белых одеждах, подпоясанных синими поясами, они смотрели на Пилата остекленевшими глазами. Этот римлянин, как и все необрезанные, — сумасшедший. Деньги Храма есть деньги Храма!
Но не на римские же деньги строить иудеям водопровод! Пилат был оскорблен в лучших своих чувствах и — на то он и власть — послал солдат забрать часть казны. Не понял благих порывов нового наместника и царь Иудеи Ирод Антипа. В общем, в протянутую руку римлянина положили камень, и, конечно, пролилась кровь. Как ни странно, читатель, но скорый на расправу Рим не любил без нужды проливать кровь в своих провинциях. И в канцелярии кесаря эту кровь записали в строку прокуратора, о чем Пилату сразу же донесли его римские шпионы.
Прокуратор обозлился. Оставив затею с деньгами Храма, Пилат решил все-таки не мытьем, так катаньем досадить храмовникам и в отместку строптивым иудеям велел поставить в Храме статую кесаря, да еще потребовал, чтобы священники приносили ей жертвы. Он надеялся убить двух зайцев: ублажить Рим и досадить иудеям.
Строптивцы отреагировали незамедлительно. Как донесли Пилату его шпионы, статуя Тиберия была вы-брошена из Храма. Статуя кесаря! А это уже бунт на корабле. Пилат вспылил, он приказал своим центурионам расправиться с мятежниками и восстановить статую кесаря в храме. И запели медные звучные трубы, призывая солдат к оружию, и опять пролилась кровь. Неизвестно, как бы дальше развивались события, если бы Пилату не доложили, что произошла ошибка. Статуя Тиберия как была в Храме, так и стоит. Но иудеи взбунтовались. Однако бунт их был очень своеобразным, как своеобразен мир иудея. Тысячи иерусалимских евреев вместе с женами и детьми распластались на земле и умоляли игемона убить их или убрать статую кесаря из Храма. Пилат приказал солдатам прекратить бойню и вернуться в казармы. Поскольку статую не тронули, он решил ничего не предпринимать: надоест лежать, и все утрясется. Прошел день. Прошел другой. Тысячи людей продолжали лежать вокруг Храма и вокруг претория. Жизнь в городе замерла. На пятый день Пилат велел поставить свое судейское кресло игемона среди лежащих возле Храма людей и сказал, что будет говорить с народом.
И игемон, за спиной которого стоял центурион с жезлом, вполне доброжелательно обратился к поверженному в прах народу:
— О, неразумные, Пилат устал от ваших нелепых нравов… Я пришел к вам с миром. А как вы встретили меня? Я помню: в руках у вас были не пальмовые ветви, а камни и палки. И вы кричали не «Мир тебе, игемон Пилат». Нет. Вы кричали: «Убирайся в Кесарию, Пилат-свиноед!»… А потом были новые стычки. И проливалась кровь. Кровь, не нужная Риму… Я знаю вашу историю, иудеи, и уважаю ваших великих царей и пророков. Вас не раз уводили в плен. Но вы возвращались и возрождались. Я восхищаюсь вашим великим Храмом. Но поражаюсь: ваша история ничему не научила еврейский народ. Посмотрите вокруг, господа мои, иудеи! На Рим, на Александрию, на вашу Тивериаду, на Кесарию… Вы — как дети малые, будто не видите вокруг себя ничего… Или вы не знаете, что на всей территории Великой Римской империи рядом с местными богами стоят статуи божественных римских кесарей? И только своенравная, надменная Иудея не хочет смириться. Вы опять решили противиться Риму? Я… Я, прокуратор Иудеи, поставил статую божественного Тиберия в Храме, а вы, жалкие вассалы Рима, пытаетесь сбросить ее с пьедестала. Сбросить статую императора, будто жалкую варварскую химеру! И вот опять кровь, опять протест, опять донос в Рим и опять травля Пилата.
Вы что? Надеетесь, что это сойдет вам с рук?.. Поднимайтесь и идите убирать трупы с улиц. Идите хоронить тех, кого прокуратор не по своей воле, нет, а по глупости вашей, по косности, по лишенному здравого смысла Закону вашему принес в жертву своему божественному кесарю. Вы знаете: римляне человеческих жертв богам не приносят. Это вы, вы вынудили меня на крайность. Ну и чего вы добились? Кровь пролилась, а статуя кесаря в Храме. Чего вы хотите? Я устал, иудеи… Пилат-свиноед, как вы мило называете прокуратора, устал…
По ступеням Храма, осторожно ступая между распростертыми на них людьми, на площадь спустился первосвященник Каиафа. Он был мрачен и подавлен происходящим. Он всегда избегал открытого противостояния Риму, но сейчас еврейское упрямство брало верх.
— Прокуратор, вот мнение синедриона. Божественный кесарь Тиберий знает, что иудеи дважды в день приносят жертвы за императора и за римский народ. Так было со времен Помпея. И никто не насиловал нашу веру. Даже в Риме евреев не заставляют поклоняться идолам… Но если игемон хочет оставить статую кесаря в Храме, он должен понимать: ему придется принести в жертву весь иудейский народ. Велика Иудея. И как бы кровью этой не затопить Рим. Смотри, игемон! Они пришли сюда с женами и детьми, пришли старики, и все они готовы предать себя на заклание. Видишь, они простерлись перед тобой, римлянин. Это не игра. Иудеи примут лютую смерть, но не переступят через Закон.
Пилат молча смотрел на распростершихся на площади иудеев и не знал, как ему поступить. Вокруг воцарилась тишина. Наконец он тяжело поднялся с кресла и глухим голосом произнес, обращаясь к лежащим на земле людям:
— Последнее слово прокуратора, иудеи. Поднимайтесь и очистите площадь. Статуя кесаря Тиберия остается в Храме. Прокуратор сказал!
Потом он повернулся к центуриону, стоящему за спинкой кресла:
— Окружите их и ждите команды.
И тотчас же его солдаты оцепили площадь.
— Ну что ж, мудрый первосвященник! — сказал прокуратор Каиафе. — Иудеям к крови не привыкать. Вспомни, какую резню в Вифлееме устроил ваш царь Ирод. А Рим лишней крови не любит… Подними и уведи людей, и дело с концом.
На фоне мраморно-золотого Храма, высоких его колонн, увитых плющом портиков Каиафа, в пурпурной тунике, с тюрбаном на голове, величественно возвышался над приникшими в ужасе к земле людьми. Это напоминало Пилату сцену из греческой трагедии. И в духе трагедии Каиафа сказал:
— Мы выбираем смерть, игемон.
Пилат молча смотрел на распростершихся перед ним людей. Потом тронул ногой молодого, полного жизненных сил иудея и спросил его:
— Ты слышал, что сказал Каиафа?
— Да, мой господин, — ответил иудей и подтвердил: — Мы готовы умереть за Закон. Ягве наш Бог. И Ягве един!
Тем временем Каиафа, пройдя среди лежащих, втиснулся между двумя бородатыми стариками и тоже распростерся на земле.
Пилат пожал плечами, хлопнул в ладоши, солдаты расступились, появились рабы с носилками. Прокуратор, брезгливо переступая через лежащих людей, выбрался с площади, погрузился на носилки и отбыл в свою иерусалимскую резиденцию. Его слегка колотило. Однако никакой команды солдатам он не отдал.
Вернувшись в преторий, выпив вина, он успокоился и рассказал Клавдии Прокуле, чему только что был свидетелем, дивясь непреклонности этих глупых, недоступных уму просвещенного латинянина иудеев.
— И ты дашь команду и зальешь город кровью? — чего-то пугаясь, спросила жена.
— Я в раздумье, — ответил игемон. — Кровь будет большая, и Тиберий не одобрит меня. Но если же я уберу его статую из Храма, ему это тоже вряд ли понравится кесарю.
— Я понимаю тебя, игемон. Но вспомни анекдот о Сократе, который рассказывал тебе Сенека. Тот, где к афинскому мудрецу пришел юноша и просил разрешить мучившую его дилемму: жениться ему или не жениться. На что Сократ ответил: как бы ты ни поступил, друг мой, ты обязательно раскаешься.
— Спасибо, Клавдия Прокула. Я понял тебя. — И он трижды хлопнул в ладоши.
Вошел адъютант — центурион первой когорты Лонгин.
— Направь первую центурию в Храм, вынесите оттуда статую кесаря и установите ее в парке претория так, чтобы я мог видеть ее из окна.
Клавдия Прокула как в воду смотрела. Едва статую Тиберия вынесли из Храма, в Рим полетел очередной донос на прокуратора, компрометирующего своими действиями власть Рима.
Это была плохая примета.
Затаив обиду на иудеев и трижды плюнув в сторону их Храма, этого архитектурного шедевра, объединявшего всех евреев, разбросанных судьбой по миру, прокуратор вернулся в Кесарию, где в окружении свободных от гнета Ягве греков, римлян — философов, художников, музыкантов, игривых сноровистых вакханок — постепенно отошел от своих иерусалимских огорчений. Коли уж Рим готов смириться с выходками синедриона, то ему-то зачем влезать без нужды в драку? Пусть все будет, как будет. В общем, как сложится.
Беседуя как-то в своей кесарийской резиденции с одним иудейским банкиром, Пилат окончательно понял, что его правление Иудеей никогда не будет безоблачным, и смирился с этим. Прокуратор посетовал на происки Ягве. Похвалил богов Рима. Банкир покачал головой: «Ваша римская религия, господин мой Пилат, не затрагивает чувств. Она напоминает мне онанизм. У вас мраморные боги. Они красивы. Ваши античные богини способны взволновать, свести с ума даже такого старого праведника, как ваш покорный слуга. Но они — мертвы. А Ягве — живой. И еврей в священном трепете сливается со своим божеством. Это надо учитывать. Спросите ваших центурионов, о чем кричат распинаемые иудеи. Они кричат: «Слушай, Израиль! Ягве — Бог наш. Ягве един!»»
Пилат соглашался с тем, что иудей верует иначе, чем римлянин, а сам все думал и думал, какой же очередной сюрприз приготовит ему иерусалимский первосвященник Каиафа, сговорившись со своим мстительным Ягве. Спектакль же, начало которого так удачно разыграли иудеи при его въезде в Иерусалим и продолжившийся со статуей императора, наверняка еще не окончен. Нет. Предчувствие какого-то невероятного продолжения временами беспокоило веселящегося в Кесарии Пилата. И, цепенея от мистического страха, просыпался он порой ночами от отвратительного воя иерусалимской магрефы. Хотя кто не знает, что от Иерусалима до Кесарии неблизко, и не удивительно, что никто, кроме игемона, не слышал этого жуткого воя.
Шло время. А время лечит. Ослабляет остроту вчерашних впечатлений. Успокаивает. Успокоился и Пилат. Однако, будучи человеком обидчивым и не желая без крайней нужды общаться с насолившими ему иерусалимскими иудеями, он передал часть своих полномочий молодым деятельным войсковым начальникам, а сам из своей ставки в Кесарии лишь контролировал их, поощряя разумные инициативы и сдерживая их чрезмерную прыть. Он помнил напутствие Тиберия, направлявшего его в Иудею: «Помни, прокуратор, разумный пастух стрижет овец, но не дерет с них кожу».
Прокуратор так и поступал. И все бы закончилось хорошо, Понтий Пилат выслужил бы себе достойную пенсию и удалился бы со своей очаровательной и не в меру сообразительной вещуньей Клавдией Прокулой на заслуженный отдых, на Сицилию например, если бы…
Если бы… Если бы в один, как говорится, прекрасный день гонец из Иерусалима не привез ему от первосвященника приглашение на иудейский праздник Пасхи.
Но не будем опережать события.
Глава 7 По волнам галилейским
Оставим на время прокуратора с его неудачами, предчувствиями, его рефлексией в Кесарии и вернемся к нашему герою на берега моря Галилей-ского, именуемого еще и Генисаретским или Тивериадским озером. Мы уточняем эти библейские названия, чтобы читатель верил автору, ибо герои наши и имевшие место события исторически привязаны к конкретным территориям, имеющим знакомые им географические названия, и, похоже, действительно имели место. Разве не повествуют об этом на все лады четыре канонических Евангелия и бесконечное множество неканонических евангельских посланий?
С тех пор как Иоанн впервые сел в лодку с Учителем, он только и думал, как рассказать тому про сон, приснившийся ему в раннем детстве, сон, о котором — о, он никогда не забывал об этом! — мудрый книжник Ахав сказал: «Такие сны снятся только царям или пророкам! В том своем сне ты, Иоанн, видел Мессию».
Теперь-то он знает, он уверен в этом, что видел тогда Его, Этого, именно Этого, пришедшего к озеру с Галилейских высот Человека, и знает в отличие от братьев Иониных, Симона и Андрея, и от брата своего Иакова, что этот странный Пришелец, которого все они зовут Учителем, — не кто иной, как Мессия. И главное, Иоанн был уверен, что Учитель тоже знает о том его сне и тоже видел юного Иоанна, стоящего с женщиной, которая, по предположению Иоанна, была Матерью Распятого в том сне человека. Учитель не может не помнить своих слов, которые говорил с креста той женщине, показывая глазами и наклоном головы на Иоанна: «Жено! се сын Твой». И — ему, Иоанну: «Се Матерь твоя!» Но Иоанн не хотел говорить о дорогом ему сне при рыжебородом Симоне или при брате своем, Иакове. Он, наверное, не смог бы рассказать Учителю о том сне и при Андрее, младшем из братьев Иониных, с которым его связывала детская дружба. Ибо считал, что это неизреченная тайна их двоих. Тайна его, Иоанна, и Учителя. Только их.
И вот как-то они оказались в лодке вдвоем. Учитель часто просил перевезти Его на другой берег Тивериадского озера или свезти в Тивериаду и брал братьев Зеведеевых и Иониных с собой, когда ходил по прибрежным селениям, говорил там с людьми, которые собирались вокруг Него. Как и окружавшие Учителя люди, Иоанн удивленно внимал словам Его о грядущем Царстве Небесном, о крещении Святым Духом и о спасении; о любви к братьям своим как о высшем Законе жизни.
И вот случилось так, что Иоанн впервые оказался в лодке наедине с Учителем.
Братьям Иониным и Иакову Учитель поручил заняться в тот день другими делами, а его, Иоанна, к неудовольствию самолюбивого Симона, которого Учитель стал называть Петром, позвал с собой. И Иоанн, задыхаясь от радости, схватил весла и отправился в свое главное путешествие вдвоем с Учителем.
Иоанн, выросший у озера, любил воду, небо над водным простором, блеск и запах рыбьей чешуи под солнцем; любил, лежа в лодке, смотреть на затейливую игру облаков; ему нравились запахи водорослей, смолы, которой смолили лодку, а с тех пор, как равви Ахав просветил его, он больше всего любил думать о Боге, который все это однажды сотворил и дал человеку: «Боже! Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я; Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя…»
Высоко в небе плыли легкие белые облака, палило солнце. Иоанн неторопливо, стараясь не брызгать, работал веслами. Лодка плавно двигалась в сторону Тивериады — города, недавно построенного Иродом на месте старого кладбища. Иоанн знал, что праведные евреи гнушаются этим местом, ибо там часто проходили языческие увеселения. Там был театр, устраивались богопротивные игрища. Он не понимал, почему Учитель посещал это ненавистное праведным иудеям место.
— Учитель, разве Ты не знаешь, что Бог Израиля проклял Иродову Тивериаду? Равви Ахав не разрешал мне там продавать язычникам рыбу. Разве Закон Моисея не запрещает евреям общаться с необрезанными?
Учитель возлежал на носу лодки, за спиной сидевшего на веслах Иоанна, и, разнежившись на солнцепеке, опустив одну руку в прохладную изумрудную воду, казалось, бездумно смотрел вдаль на полоску земли, еле видимую в голубой дымке. До него словно из другого мира донеслось, что юный его ученик что-то говорит о Законе. Юноша смышлен, знает Писание. Верит в незыблемость Закона Моисеева, который Ему предстоит поколебать… Да, Он уже сталкивался с законниками, правоверными посетителями синагог — со всеми этими книжниками и фарисеями — и знал все рытвины, ухабы и пропасти, которые ждут Его на уготовленном Ему свыше пути. Знал, что Ему предстоит. И Ему, и Его ученикам, и всем последователям Его спасительного Учения, которое в Него, никому не известного Иисуса из Назарета, вложил Его Отец небесный, пославший Его к людям. И Он начинал готовить их, этих простодушных рыбарей, верных Моисееву Закону, к другой вере. Готовы ли они будут преступить Закон?
— А скажи, Иоанн, сядешь ли ты за трапезу с эллином? — ответил Он вопросом на вопрос своего юного гребца.
— Никогда, Учитель.
— А готов ли ты возлюбить эллина, как брата своего?
— Ты говоришь со мною, как с ребенком, Учитель. Конечно, нет. Закон запрещает мне общение с эллином.
— А разве ты не повторял за мной, когда я учил собравшихся на берегу рыбаков «любить братьев своих, как самого себя»?
— Так разве необрезанные могут мне быть братьями?
— А если они обрежутся?
Иоанн задумался.
— Тогда не знаю, — признался он. — Тогда, наверное, все равно нельзя. Они едят мясо с кровью. А кровь — это душа. А душа принадлежит Богу. Поэтому делить с ними трапезу запрещено. Да Ты ведь и сам все это знаешь. А проповедь твоя мне нравится. И я часто перед сном размышляю о том, что Ты говорил днем собравшимся вокруг людям.
Учитель замолчал. Он думал, что новую веру легче примут язычники, чем его собратья — правоверные иудеи. Кому удастся очистить иудейство от крайностей, превратить его во всеобщую веру, ведущую человечество к спасению? Этим простодушным Его ученикам? Выдержат ли они?
И тут его юный спутник вдруг сказал:
— Учитель, я могу тебя спросить об одном важном для меня событии?
— Спрашивай, Иоанн.
— Я хочу рассказать Тебе сон, который видел в детстве и который вот уже много лет тревожит меня. Отец, когда я рассказал ему сон, отвел меня к книжнику Ахаву и заставил рассказать о том, что я видел во сне. Это был страшный сон…
— И рав, выслушав тогда твой сон, сказал, что ты будешь пророком?
Иоанн смутился. Зачем Андрей Ионин передал Учителю слова рава о том, что Иоанн будет пророком? Хорошо еще, что Незнакомец не рассмеялся, услышав такую странную весть. Да и сейчас Он говорил без улыбки и не назвал его, как Симон, сумасшедшим за такие мысли. И это поразило Иоанна. Как бы прося прощения за свою дерзость, он пояснил:
— Я думаю, рав сказал так, удивившись тому, как я истолковал пророчества Исайи о Мессии.
— Ты так хорошо знаешь Писание?
— Я стремлюсь его понять, но многое мне недоступно… Когда я рассказал о том сне отцу, он очень удивился. Он сказал: «Иоанн, разве ты фараон, чтобы видеть такие сны?» — и повел меня к раву.
— Сон напугал тебя?
— Да. Мне было страшно, — признался Иоанн.
— Явь будет еще страшнее, — сказал Учитель. — Я знаю твой сон, Иоанн. Сон был послан тебе для пробуждения. Ибо, как ты знаешь, пробуждение не бывает без сна.
— И я пробудился?
— А ты разве не чувствуешь? Иначе тебя не было бы в лодке со Мной.
— Значит, на том распятии был ты, Учитель?
— Это знает только Тот, Кто послал тебе этот сон.
— Женщина держала меня за руку, и Ты сказал Ей: «Жено! се сын Твой». А мне сказал: «Се Матерь твоя!» Значит, я — Твой брат?
— Да, Иоанн. Ты Мой брат. И Петр, и Андрей, и твой брат Иаков — вы все мои братья, — сказал Учитель, с любопытством взирая на Иоанна и поражаясь, как тот все запомнил.
— И что, им тоже были такие сны? — спросил Иоанн.
— Такой сон был только тебе.
— Значит, из братьев я главный? — искренне обрадовался юноша.
Учитель вынул руку из воды и переменил позу. Теперь он сидел спиной к берегу, в сторону которого двигалась лодка. Иоанн, перестав грести, смотрел на него вполоборота и ждал, что Он скажет.
— Не знаешь, что говоришь, — мягко сказал Учитель. — Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою; и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; так как не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих.
Иоанн вдумывался в слова Собеседника. Он понимал и не понимал Учителя. Потом сказал, возвращаясь к своему сну:
— Значит, весь тот ужас, который я видел во сне, мне предстоит пережить на самом деле?
— Да, Иоанн, ты должен быть готов к этому.
— А что будет с Тобой, Учитель?
— Сие знает лишь Пославший Меня. Но давай, брат мой, Иоанн, больше не будем говорить об этом, пока не настанет время.
— А когда оно настанет?
— Ты говоришь совсем как ребенок, Иоанн. Тебе надо знать лишь то, что время близко и что ты — брат Мой возлюбленный… Если у тебя руки устали, давай я сяду за весла.
— Нет, нет, Учитель. У меня теперь словно прибавилось силы. Я верю Тебе. И сохраню эту веру до самой смерти.
— Еще что-нибудь спросишь?
— А можно?
— Спрашивай.
— В том сне рядом с Тобой на кресте были распяты два разбойника. Один злословил Тебя, другой останавливал его. Я слышал, как он сказал Тебе: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое!» А Ты отвечал: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю». Разве может разбойник оказаться в раю?
— Может. Если раскается и верою, и праведной жизнью искупит грехи свои…
— И тот разбойник искупит вину верой?
— И верой, и делами праведными. Придет время, и он станет братом твоим возлюбленным…
— А сейчас он где?
— Сейчас он Мне и тебе враг лютый. Злобный гонитель нашей веры…
Какое-то время оба молчали. Иоанн обдумывал, как это может быть, чтобы лютый враг стал братом возлюбленным. Ведь мудрый Моисей учил: «Око за око, зуб за зуб».
— Скажи, Учитель, правильно ли я понял, что в Твоем учении главное — возлюбить ближнего, как самого себя, даже если он враг твой?
— Я говорил не так, — сказал Учитель. — Я говорил: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же, подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Да удержит сердце твое, Иоанн, слова Мои.
Потом они опять долго молчали. Слышно было, как с тихим всхлипом опускаются в воду весла и легкая озерная зыбь бьет о борт лодки.
Иоанн помнил предшествующие поездки с Учителем. Их, учеников, у Него уже было больше десяти. Иоанн был младшим из них. От этих общений с Учителем неокрепшая еще, юная душа Иоанна была полна неземной благодати; в голове юноши бродило множество разных мыслей. Одна мысль обгоняла другую, мысли сталкивались, исчезали, возникали вновь, смыслы менялись, Иоанн пытался удержать их, порой это удавалось, и он радовался, ликовал, вникая, кивал головой, соглашался, когда Учитель говорил собравшимся на берегу селянам: «Просящему у тебя дай и от хотящего занять у тебя не отворачивайся». Но Иоанн терялся и недоумевал, когда слышал из уст обожаемого Учителя: «А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас…» «Я не такой, — думал Иоанн. — Нет, не такой! Я бы не смог молиться за обижающих и проклинающих меня». И, когда однажды отец, вернувшись из Иерусалима, рассказал братьям, что священники и стражники Храма ищут Галилеянина, чтобы судить Его и убить, заявил отцу, что будет всю ночь молиться, чтобы Бог наслал на тех священников громы и молнии и не оставил от них даже праха, и призвал брата Иакова тоже молиться за это. Учитель, узнав о такой молитве, запретил братьям призывать на гонящих Его священников громы и молнии и сказал: «Простим, возлюбленные, этих заблудших, ибо не ведают, что творят». Он при всех учениках возложил руки на головы братьям и произнес: «Будем теперь называть их Воанергес — Сыны Громовы …»
Так и стал Иоанн прозываться среди учеников Сыном Громовым или Сыном Грома.
Лодка шла, оставляя за кормой едва заметный качающийся темно-голубой след… Неожиданно Иоанн услышал в воде недалеко от лодки какое-то похрюкивание, причмокивание. Он вгляделся в водную рябь и поразился: это плескалась не рыба. Из воды торчали уши и розовый нос свиньи. Юноша не верил своим глазам. Где это видано, чтобы свиньи плавали там, где Господь поселил рыб морских? Да и свинья ли это? А если не свинья, то кто? Странное существо двигалось толчками и, казалось, чувствовало себя в своей стихии. Кто же это? Чудо морское или бес, ищущий, в кого бы вселиться?
Иоанн повернулся к Учителю и кивнул в сторону неведомого существа, пытавшегося опередить лодку.
— По-моему, это бес. Мы с Андреем пробовали выгнать одного старого беса из рощи: он там пытался запрыгнуть на козу; кидали в него камни, и ничего не вышло. Он свистел и смеялся над нами, а потом пустил в нас вонючую струю и обжег руку Андрею.
— Почему же ты не испепелил его молниями, Сын Громов? — спросил Учитель.
Иоанн покраснел. Действительно. Какой же он Сын Громов, если не смог справиться со старым, ослабленным похотью бесом… Так как Иоанн сидел на веслах спиной к Учителю, Тот не заметил смущения юноши и сказал:
— То был не бес, Иоанн. Изгнать беса непросто. Камень тут тебе не помощник. Изгонять их ты будешь постом, молитвой и крестным знамением. Истинно говорю тебе, Иоанн, — произнес Учитель и показал на небо.
Иоанн поразился. В небе, при полном безветрии со стороны Тивериады к ним стремительно приближалась темная туча. Иоанн понял, что это значит, и ужаснулся. Это были тьмы саранчи. А нашествие саранчи, говорил отец, — одна из казней египетских. Если туча пройдет над лодкой, то может случиться непоправимое. Саранча облепит суденышко, заполнит его своим живым месивом до бортов и потопит. Такие случаи бывали.
Выход был один. Молиться и просить Бога, чтобы их миновала чаша сия. Просить, чтобы в ту живую тучу ударила молния, чтобы подул ветер и унес саранчу, погрузил эту прожорливую нечисть, опустошающую цветущие поля и нивы, в воды моря Галилейского. Пока Иоанн размышлял над путями спасения и творил про себя молитву, по его лицу, по бортам лодки и по деревянной скамье застучали, забили, как россыпи града, крупные желтобрюхие кузнечики, похожие на маленьких всадников. Будто кто-то нарочно швырял их пригоршнями. Иоанн взглянул на Учителя. Тот стоял, держась одной рукой за небольшую мачту, к которой обычно крепили парус, а другой, по которой уже ползала, суетилась саранча, слегка прикрывал лицо. Губы его что-то шептали. Возможно, он тоже молился.
Вдруг легкой дымкой заволокло глаза ученика, и вид наступающей саранчи сразу изменился: «По виду своему саранча была подобно коням, приготовленным на войну; и на головах у ней как бы венцы, похожие на золотые, лица же ее — как лица человеческие; и волосы у ней — как волосы у женщин, а зубы у ней были как у львов; на ней были брони железные, а шум от крыльев ее — как стук от колесниц, когда множество коней бегут на войну; у ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жала …»
Страх охватил Иоанна, и он обратился к Богу: «Услышь, Боже, голос мой в молитве моей; сохрани жизнь… Укрой… от замысла коварных …» Он знал: это происки лукавого.
Видение исчезло. Однако саранча стремительно наполняла лодку.
Спасение пришло с небес, откуда, как теперь понимал Иоанн, только и возможно спасение. Они стояли уже по колено в копошащейся, усердно работающей жесткими маленькими колючими челюстями массе, когда вдали над Тивериадой возник ветер, закружил облака, взвил в небо несколько хвостатых смерчей, взметнул тучи песка и пыли над берегом, настиг затмевавшую солнце тучу саранчи, прорвал ее в нескольких местах и, словно засасывая, умчал скопище прожорливых насекомых в далекие небесные выси, чтобы просыпать на погрязших в пороках жителей новых Содомов и Гоморр, коими из покон веков полнилась и будет полниться земля человеческая. Ибо говорил царь Соломон: «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем».
Путники переглянулись и вздохнули с облегчением. Учитель взял черпак, стал вычерпывать саранчу из лодки и выбрасывать ее в воду, а Иоанн навалился на весла.
Был у Иоанна еще один вопрос, который уже много лет мучил его, но он не решался спрашивать Учителя при братьях, боялся, что засмеют. Однако для него вопрос был важным, поэтому, пересилив стеснение, он снова обратился к Учителю.
— Прости, Учитель, не могу не задать тебе еще один давно мучающий меня вопрос… Можно? — спросил Иоанн, опять поворачиваясь к Учителю.
— Ты же мой ученик — значит, можно.
— С тех пор как я с раввином Ахавом изучал Писание и прочитал там о судьбе раба Божия Иова, меня преследует мысль: как мог Бог разрешить сатане так глумиться на праведным Иовом? Ведь сказал же Он про Иова: «Нет такого, как он, на земле: человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». И тут же разрешил сатане: «Вот, все, что у него, в руке твоей; только на него не простирай руки твоей».
И сатана взял свое.
«И вот приходит вестник к Иову и говорит: волы орали, и ослицы паслись подле них, как напали Савеяне, и взяли их, а отроков поразили острием меча; спасся только один я, чтобы возвестить тебе. И еще он говорил, как приходит другой и сказывает: огонь Божий упал с неба, и опалил овец и отроков, и пожрал их; и спасся только я один, чтобы возвестить тебе. Еще он говорил, как приходит другой и сказывает: Халдеи расположились тремя отрядами, и бросились на верблюдов, и взяли их, а отроков поразили острием меча; и спасся только я один, чтобы возвестить тебе. Еще этот говорил, приходит другой и сказывает: сыновья твои и дочери твои ели и вино пили в доме первородного брата твоего; и вот большой ветер пришел с пустыни, и охватил четыре угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли; и спасся только я один, чтобы возвестить тебе. Тогда Иов встал, и разорвал верх-нюю одежду свою, остриг голову свою, и пал на землю, и поклонился, и сказал: наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господа благословенно!»
— Когда Ахав читал мне эти строки, я плакал. Мне было необыкновенно жаль Иова, и я думал: разве может Бог быть так несправедлив к праведнику? Вот ведь и Ты учишь, что Бог — это любовь! Старику Ахаву было тяжело видеть мои слезы. Он что-то пытался мне объяснить, но я ничего не понял и только плакал. Мне и сейчас неясно, почему Бог так несправедливо обошелся с преданным ему Иовом, что отдал его на мучение сатане?
— Скажи, Иоанн, ты помнишь, что дальше сказано в Писании? — задал вопрос Учитель.
— Да, Учитель. Там сказано так: «Во всем этом не согрешил Иов, и не произнес ничего неразумного о Боге».
— Разве ты не понял, что Бог хотел посрамить сатану, показать, что истинные праведники, такие, как непорочный Иов, не по зубам лукавому? Чтобы он ни вытворял, Иов не отступил от Бога. Придет час, и ты увидишь таких праведников — братьев твоих, Иоанн… Ты помнишь, что было дальше и что было в конце? «И возвратил Господь потерю Иова… и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде… И было у него семь сыновей и три дочери… После того Иов жил сто сорок лет и видел сыновей своих и сыновей сыновних до четвертого рода. И умер Иов в старости, насыщенный днями». Сатана оказался бессилен против праведника… Ты должен знать, Иоанн, что каждый истинно верующий есть Иов… Вспомни свой сон, Иоанн.
Иоанн углубился в осмысление того, что сказал Учитель, одновременно налегая на весла. Он думал, что через страдания проверяется преданность человека Богу, и что было бы, если бы вместо Иова Бог выбрал бы его, Иоанна, и отдал сатане на мучения… Выдержал бы их Сын Громов?
У самого берега Учитель перешел на корму, чтобы нос лодки чуть приподнялся, Иоанн энергичней заработал веслами, и лодка с шипеньем въехала в мокрую прибрежную гальку. Они выпрыгнули на берег и вместе еще немного протащили лодку вперед; привязали ее к торчащему из песка деревянному обломку шеста, на который рыбаки вешают сети.
Учителя ждали местные рыбаки. Всем хотелось послушать удивительные проповеди Галилеянина из Назарета.
…Сегодня в Тивериаде, завтра в Вифании, послезавтра на Иордане, потом в Самарии, затем в Иерусалиме — так день за днем, во главе с Учителем, босые, в серебристых плащах, жилистые, обветренные, с благоговением внимающие слову своего Божественного Наставника, ходили они, проповедуя новое учение о любви к ближнему, о покаянии, лечили и исцеляли больных и увечных, крестили водой поверивших им, крестили во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вначале их было четверо — братья Ионины, Симон и Андрей, и братья Зеведеевы, Иаков и Иоанн. Потом их стало двенадцать.
Предание сохранило нам их имена: это Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его; Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его; Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей-мытарь; Иаков Алфеев и Леввей, прозванный Фаддеем; Симон Зилот и Иуда Искариотский, который, как пишут евангелисты, предал Учителя.
И всюду, где они появлялись, звучала проповедь: «Веруйте, любите, и да будет надежда душой всей вашей жизни. Над этой землей существует иной, духовный мир, иная, более совершенная жизнь… Но чтобы достигнуть ее, нужно осуществлять ее здесь, на земле, сперва внутри вашей души, а затем и в окружающем мире. Как осуществлять? Любовью и деятельным милосердием».
И Учитель говорил собравшимся: «Я пришел оттуда, и Я поведу вас туда…»
Глава 8 Приглашение Пилата на праздник Пасхи
И вот мы вновь возвращаемся к засидевшемуся в Кесарии прокуратору. Предчувствия не обманули римлянина. Прожженный иудейский политикан, умевший сталкивать царей и наместников друг с другом и с император-ским Римом и извлекать из этого выгоду для Иудеи, Каиафа поставил опытного Пилата в безысходную ситуацию, загнал-таки его в угол, в тупик, в преддверие ада… Сломал успешную карьеру блестящего римского аристократа. Но выиграл ли от этого сам? Какого агнца принес этот хитроумный иудей на алтарь Ягве? И кто писал сценарий развернувшихся четырнадцатого дня нисана в Иерусалиме событий? Сколько богословов, писателей, историков и философов пытались, пытаются и будут пытаться ответить на этот вопрос!
Итак, утром, когда Пилат в своем кесарийском рабочем кабинете готовил послание в Рим с объяснением кесарю причин очередного кровавого столкновения с иудеями, на пороге возник центурион:
— Прокуратору Понтию Пилату радоваться. Из Рима — трибун Домиций Галл.
— Галл! О боги! — радостно вскричал прокуратор, устремляясь навстречу появившемуся в дверном проеме могучему легионеру в шлеме войскового трибуна. Какая удача! Это отвлечет его хоть на время от болезненных для самолюбия игемона иудейских проблем… Домиций Галл! Когда-то они вместе, плечом к плечу, рубились с бриттами, неожиданно высадившимися на побережье. Потом широко и громко гуляли на празднествах в Риме.
— Захотелось увидеть друга, — громогласно захохотал Галл, обнимая Пилата и хлопая его по спине. Пилат искренне обрадовался боевому товарищу, посетившему его в дни печали и неурядиц, и хотел было на радостях поцеловать Галла, но тот демонстративно отстранился.
— Эй, осторожней, прокуратор. С недавних пор Тиберий запретил римлянам приветственные поцелуи.
— Да плевать, — отмахнулся Пилат, целуя Домиция. — Возможно, стены резиденции имеют уши, но глаз они не имеют… Ну, как ты? Что там вообще?
На шум из внутренних покоев вышла Клавдия Прокула с высокой прической важной римской матроны. Жена Пилата не позволяла себе распускаться, оказавшись вдали от Рима и вечно праздничного, вечно интригующего Палатина.
Гость, полный здоровья, сил, перспектив, радостно приветствовал супругу игемона.
— О, Клавдия!.. А знаешь, Пилат, я ведь давний поклонник Клавдии Прокулы. Помню, когда я отправился к бриттам, она предсказала мне удачу. Кажется, ей был сон. И все сошлось. За победу над бунтовавшими бриттами кесарь подарил мне огромный виноградник на Сицилии. И все Клавдия Прокула…
Прокуратор на это только развел руками:
— Увы, брат, увы… Мне же она нагадала, как Валтасару… Что царство мое рухнет. Ну да ладно. Обо мне потом. Рассказывай, как ты и что там на Палатине.
— Я, как видишь, удачлив. Мечу в Сенат. Вербую сторонников. Еду к Вителлию в Дамаск.
Пилат хотел быть полезным гостю.
— Хочешь, я обращусь к Сеяну за поддержкой?
Галл демонстративно сжал губы, предостерегающе поднес палец ко рту и произнес негромко:
— Ни слова о Сеяне. Сеян убит. Чернь неделю таскала на цепи его труп по улицам. Убита его дочь.
Пилат и его жена стояли как громом пораженные, и наконец Клавдия Прокула выдохнула:
— Но это же ребенок! Римский закон запрещает казнить девственниц…
— Они нашли выход. Палач перед казнью изнасиловал малышку.
Клавдия прижала руки к груди:
— О боги! И Тиберий это допустил?
— От него все и пошло, — хмуро сказал Галл. — Кто-то убедил кесаря, что Сеян готовит заговор, хочет сместить Тиберия и стать императором, подкупает солдат. А у Сеяна, как ты знаешь, врагов немерено. И пошли гонения на людей Сеяна.
— А что говорят в Риме о Пилате? — с беспокойством спросила Клавдия. — Ведь он человек Сеяна.
Галл пожал плечами:
— О Пилате — пока ничего. Он далеко. Несладко друзьям Сеяна на Палатине. А у Пилата, как мне известно, два легиона отборных головорезов и три алы сирийской конницы. С ним не так просто.
Слушая Галла, Пилат заметно мрачнел.
— А что если Сеян под пыткой признался, что планировал (если он действительно собирался захватить власть) использовать легионы Пилата? — не к месту спросила у Галла Клавдия Прокула.
Раздраженный неуместными вопросами жены, Пилат строго посмотрел на жену.
Клавдия, поняв, что перегнула палку и своими вопросами усугубила и без того отвратное настроение супруга, извиняющимся тоном сказала:
— Прости, игемон. Но лучше знать, что может тебе грозить, чем прятать голову в песок.
Галл тоже заметил, как сник Пилат, узнав об убийстве Сеяна.
— Нет, — сказал он. — Не думаю, что Сеян рассчитывал на Пилата. Ты же знаешь, старина, у них там, на Палатине, клубок аспидов. Жалят того, кто подвернется. И правого, и виноватого, и сенатора, и всадника, и плебея. Один конец.
Желая поскорее уйти от неприятной темы, Пилат спросил:
— А кроме Сеяна, какие новости? Что Тиберий? Опять уединился на острове?
Галл засмеялся. Он хорошо смеялся, этот Галл. Римский оракул нагадал ему блестящую карьеру. Еще немного — и он окажется на гребне успеха. Чего Пилат, уже седьмой год правивший Иудеей, не мог сказать о себе. Прокуратор чувствовал, что крупно завяз в этой темной, враждебной Риму стране. А под крылом сирийского легата Вителлия Галл далеко пойдет.
— Вторая великая новость, а может, она и первая, — весело сказал гость, — умерла любимая змея кесаря. Он пришел ее покормить, а она мертва. Ее облепили муравьи. Их было столько, что и змеи не видно. И, мрачно постояв у сетки, Тиберий трагически произнес: «Больше всего я боюсь черни, которая вот так же облепит меня, облепит и погубит Рим…» Так что в Риме сейчас траур по змее.
Стараясь изменить свое настроение, Пилат пошутил:
— Может, послать кесарю соболезнования?
— Нет уж, — решительно возразил Галл. — Лучше не напоминай пока о себе.
Клавдия поддержала гостя:
— Галл прав, Пилат. Лучше сидеть тихо.
— Похоже, здесь уже и шуток никто не понимает. Я пошутил, — раздраженно сказал Пилат и замолчал. Потом раздумчиво произнес: — А ведь когда Сеян сватал меня в Иудею, Тиберий обещал ему в жены свою внучку. Сколько карьерных возможностей открывалось… И вот как все обернулось…
Галл неопределенно махнул рукой.
— Да. Судьба переменчива, как настроение кесаря… Но хватит об этом. Расскажи лучше о себе.
Пилат усмехнулся:
— Рассказать о себе? Легко спросить, да не легко ответить. Похвастать мне, брат Галл, увы, нечем. Темная, непробудившаяся страна. Глухо и угрюмо живут здесь люди. Замкнулись в своем Боге. У них есть их Храм, и больше им ничего не надо. Пытался понять смысл их веры — омут. Мутный, затягивающий на дно омут. И, знаешь, я испугался. Испугался их Бога.
Лихой рубака Галл опешил.
— Ты испугался? Ты, игемон, гражданин Рима, римский наместник, испугался еврейского Бога?
— Представь себе, испугался. Нет, Галл, не по душе мне сей край, не по душе… А тут еще совсем некстати Прокула — мой дельфийский оракул, моя Сивилла, солнце мое — видела неприятный сон. А сны ее — сам знаешь, как сны фараона… Вот, брат, в каком виде ты меня застал…
Клавдия с интересом слушала, что говорит о ней гостю Пилат, и всякий раз, когда он называл ее дельфийским оракулом, Сивиллой, солнцем своим, как бы в подтверждение, что все так и есть, медленно, но убедительно наклоняла голову. Едва Пилат замолчал, Клавдия сказала:
— Разреши, прокуратор, я велю накрыть к трапезе, а то все разговоры и разговоры… У Домиция, поди, голова кругом пошла от всех этих страхов…
— Ты права, права, моя Сивилла. Командуй.
Галл внимательно оглядел Пилата:
— Вот слушаю тебя, Пилат, и не нравится мне, Пилат, твое настроение.
Пилат согласно кивнул:
— И мне не нравится.
— Ты чем-то напуган?
— Напуган?.. Ты говоришь — Пилат напуган? Да. Можно, наверное, и так определить мое состояние. Напуган. Не знаю, поймешь ли ты меня, Галл, или сочтешь мои слова философскими бреднями, но с момента моей первой встречи с иудеями, когда я услышал на рассвете вой жуткой иерусалимской магрефы, которая извещает о принесении жертв их Богу, и когда тысячи иудеев, скалясь и стуча палками с городских стен на мои славные когорты, орали: «Проваливай в Кесарию, Пилат-свиноед», я жду беды. Растет предчувствие…
Клавдия, понимая, что беду Пилату предвещает ее сон, который нелегкая дернула ему рассказать, решила предложить ему иную трактовку беды.
— Видишь, как бывает иногда полезно находиться вдали от Рима. Беда тебя не задела. Я говорю о заговоре Сеяна. Тебя не тронули. И если будешь сидеть тихо — не тронут. Как я поняла Галла, казни пошли на спад. Верно, я говорю, Домиций?
— Ты говоришь верно. Казни уже прекратились.
Умный Пилат ухмыльнулся:
— Спасибо, друзья, что печетесь обо мне, что стараетесь разогнать мои печали, страхи… Готовь, Клавдия, застолье, будем веселиться… Ибо, как говорил мудрый царь Соломон, все суета и томление духа.
…После трапезы Пилат с Галлом пошли прогуляться по райскому парку прокураторской резиденции. Благоухали розы. Шумели фонтаны. По озерной глади скользили лебеди. Разгоряченный вином Домиций Галл надеялся встретить в зеленых кущах ожидающую его скромную грустную пастушку или дремлющую белотелую нимфу, но Пилат вывел его к амфитеатру, где бродячие артисты давали какое-то представление. Оказалось, что они играют трагедию Сенеки «Эдип».
Первый ряд амфитеатра всегда был свободен: вдруг прокуратор или его супруга захотят поглядеть представление. И Пилат с Галлом, удобно устроившись в тени высоченного кедра, включились в спектакль и стали вникать в содержание происходящего.
Облаченные в белые тоги шестеро мужчин представляли античный хор.
Хор вещал:
Если б я мог судьбу мою[1]
Сам устроить по выбору,
Я попутный умерил бы
Ветер, чтоб его напор
Не срывал дрожащих рей.
Пусть, не уклоняясь вбок,
Ветер плавно и легко
Гонит бесстрашную ладью.
Так и жизнь, безопасно меня
Средним пусть ведет путем.
В этот момент на сцене появился вестник, тоже в белом, но к его сандалиям были приделаны небольшие крылышки, как у Меркурия. Вестник начал вещать:
Когда, узнав свой род, Эдип уверился,
Что в преступленьях, предреченных судьбами,
Повинен он, и сам же осудил себя,
Поспешно в ненавистный он ушел дворец.
Так лев ярится на равнинах Ливии
И грозно рыжей потрясает гривою.
Лицо ужасно, взор мутит безумие,
То стон, то ропот слышны; по спине течет
Холодный пот; угрозами бушует он,
Боль глубока, но через край уж хлынула.
Себе он сам готовит участь некую,
Своей судьбе под стать. «Что медлишь с карою? —
Он молвит. — Сердце пусть пронзят преступное,
Жизнь оборвут огнем или каменьями!
Где тигр, где птица хищная, которая мою утробу выест?
Что же, дух мой, медлишь ты?»
К лицу поднес он руки. А глаза меж тем
Недвижно и упорно смотрят на руки,
Стремясь навстречу ране. Искривленными
Перстами в очи жадно он впивается, —
И вот с корней глубоких сорваны,
Два шара вниз скатились. Но не отнял рук
И раздирал ногтями все упорнее
Пустых глазниц он впадины глубокие,
Все меры перешедши в тщетной ярости.
Тут запел хор:
Нас ведет судьба: не противься судьбе!
Суета забот не изменит вовек
Непреложный закон ее веретен.
Все, что терпим мы, смертный род, на земле,
Все, что делаем мы, свыше послано нам.
Первый день нам дает и последний наш день.
Не в силах бог ни один изменить
Роковые череды, сцепленья причин.
Для любого решен свой порядок:
Его не изменит мольба. Перед судьбою страх
Многим пагубен был: убегая судьбы,
К своей судьбе приходили они.
Чу, стукнула дверь. Вот входит он,
Не видя дня, не ведомый никем,
Трудным шагом бредет.
Из-за спин хора появился царь Эдип. Вид его ужасен. Белая тога в крови. На голове лавровый венок. Глазницы его пусты. Его вид заставил Пилата содрогнуться.
Эдип:
Все кончено ко благу; отдан долг отцу.
Как тьма отрадна! Кто из небожителей,
Смягчившись, мраком мне окутал голову?
Появилась преступная в кровосмешении жена и мать Эдипа Иокаста.
Иокаста:
Сыном ли назвать тебя?
Колеблешься? Ты сын мой! Стыдно сыном быть?
Молчать не надо! Что глазницы полые
Ты отвращаешь?
Эдип:
То голос матери!
Все, что свершил я, тщетно. С ней встречаться вновь —
Нечестье…
Иокаста:
В чьих винах рок виновен, неповинен тот.
У прокуратора от этой сцены испортилось настроение.
— Уйдем, Галл. Мне тошно это слушать, хоть автор и Сенека. Уж лучше что-нибудь из Аристофана, чем умножать печаль.
— Ты прав, Пилат. По мне, комедии куда как лучше. Знаешь, о чем я думаю?
— Интересно, о чем?
Пилат с интересом взглянул на гостя: он знал, что Галл — отнюдь не Сенека. Галл сказал:
— Я думаю, глядя на тебя, Пилат, что ты сильно изменился с римских времен. Иудеи на тебя плохо повлияли… Сколько ты уже здесь правишь? Лет пять, пожалуй?
— Семь.
— Семь лет! Семь — роковое число!
Пилат поморщился:
— Вот и ты про рок… И дался вам всем этот рок… Хотя в него я верю. Сенека предупреждал меня перед отъездом из Рима: «У человека одна свобода: добровольно принять волю рока». Он шутил: «Человек подобен собаке, привязанной к повозке; если собака умна, она бежит добровольно и счастлива, если же она упирается, садится на задние лапы и скулит, повозка тащит ее». Не уподобиться бы той собаке…
— Да ты совсем расклеился, Пилат.
— Дела расклеили.
— Не в веру ль иудейскую, игемон, хочет обратиться? Не слышу, чтоб у Юпитера просил защиты. Ни разу не поклялся Зевсом. Уж не еврей ли ты, Пилат Понтийский? Ха-ха, — засмеялся Галл.
Утром Домиций Галл собрался в дорогу. Из опочивальни спустилась во двор проводить гостя и Клавдия Прокула. И опять упрямая женщина заговорила про свой сон.
— Ничего не могу с собой поделать. Опять видела тот же сон. Не понимаю. Чего они ко мне привязались, эти сны? Видела, как Пилат совершает неправый суд над молодым иудеем. Отправляет его на распятие.
— И что же дальше? — заинтересовался жизнерадостный Домиций Галл.
— Дальше не разглядела. Дальше закричал павлин, и я проснулась.
Пилат, которому до смерти надоели сны супруги, остановил ее:
— Оставь свой сон. Вот, уезжает друг. Можно сказать, последний. Римские друзья перебиты. Остался один Сенека. — И, обращаясь уже к Галлу, спросил: — А почему не тронули Сенеку?
— Я думаю, он откупился. Сенека, хоть и философ, но капиталец собрал. И не малый. Вот и расплатился, с кем надо.
Клавдия Прокула не утерпела:
— Это ты, Пилат, у нас философ-бессребреник. Моль весь подвой на плаще съела. Стыдно на людях показаться…
— Так научил меня жить Тиберий. Служить державе, а не лицам и не стяжать чрезмерно.
— Пусть бы он себя научил так поступать, — беззлобно заметил Галл. — Мне горестно оставлять тебя в такой печали. Но служба не ждет. Как еще посмотрит Вителлий на то, что я сначала к тебе заехал?
— Скажешь — в Риме грибами объелся, занемог, — посоветовал Пилат. — Там ведь часто такое случается. Скажешь, что неделю отходил у Пилата.
Повернувшись к жене, Пилат попросил:
— Подбери Вителлию какой-нибудь подарок. — И со значением добавил: — От Пилата.
— Вот это ты правильно придумал, игемон.
В этот момент от запертых ворот резиденции к Пилату подошел центурион:
— Прокуратору Понтию Пилату радоваться! Прибыл гонец из Иерусалима. Первосвященник приглашает игемона на иудейский праздник Пасхи в день четырнадцатый весеннего месяца нисана.
Клавдия Прокула неопределенно покачала головой. Пилат поджал губы. Галл не очень понимал, в чем проблема: ему, военному трибуну, командиру легиона, были чужды подобные сантименты. Галл был истый римлянин. А Пилат, на свою беду, был еще и философом. Галл не вникал в тонкости, хотя и мог бы при необходимости и вникнуть. Но солдату нельзя расслабляться.
Галл только спросил:
— Поедешь?
— Тягостно мне туда ехать. Пошлю на праздник трибуна. Пусть едет Луций Руф. Он смотрится как цезарь!
Мудрый Галл покачал своей породистой римской головой:
— Я бы подумал на твоем месте, Пилат. Как я понимаю, на празднике будет царь Ирод Антиппа и по протоколу должен быть прокуратор, а не трибун. Ты же сам только что говорил, что стал больше дипломатом, чем солдатом… И вообще, чем меньше ты будешь сейчас беспокоить Рим, тем меньше шансов, что репрессии по друзьям Сеяна затронут тебя.
— Все это я понимаю, — морщась, сказал Пилат. — Но не лежит у меня душа встречаться с Каиафой. Не лежит душа, вот и все. Ты понимаешь, Галл, что это такое: не лежит душа?
— Не понимаю. И удивляюсь: что здесь надо понимать?
Пилат повернулся к жене:
— А скажи, Клавдия Прокула, в твоем сне был Каиафа?
— Был. Был и просил тебя распять невинного.
— Вот видишь, Галл. Был Каиафа. Он преследует нас даже во сне! Вот пусть римский трибун, благородный Луций Руф, с ним и сразится. Все. Решение принято. Я никуда не еду.
И Пилат обратился к центуриону:
— Найди Люция Руфа и пришли ко мне.
На что Галл с сомнением покачал головой:
— Подумай, подумай, Пилат. Вспомни, что вещал вчера хор в Сенекиной трагедии.
— А что он вещал? Я уже забыл, что он вещал.
Пилат откровенно лукавил. Он прекрасно помнил, о чем вещал зрителям хор в той трагедии. Но простодушный Галл поверил Пилату и стал цитировать текст Сенеки: «Все, что терпим мы, смертный род, на земле, все, что делаем мы, свыше послано нам… Перед судьбою страх многим пагубен был: убегая судьбы, к своей судьбе приходили они…»
— Мало ли что там насочиняет твой Сенека.
— Мой Сенека? — искренно удивился Галл. — Это твой, твой Сенека. Будь последователен, Пилат. Ты же считаешь себя его учеником.
Клавдия подошла совсем близко к Пилату. Коснулась рукой его тоги.
— Он прав, игемон. Надо ехать.
Пилат с огорчением посмотрел на жену:
— И ты, Брут!.. Сейчас я провожу Галла. Если в мое отсутствие сюда придет трибун Люций Руф, скажи ему, что завтра он вместо меня едет в Иерусалим на праздник Пасхи — и за ним последуют две алы сирийской конницы…
…И все-таки наместник Иудеи Понтий Пилат, которого, как уже понял проницательный читатель, давно избрал и вел Рок, поехал на праздник Пасхи. Ибо того требовал протокол… А протокол для римского чиновника, будь он хоть трижды философом, священнее изречений дельфийского оракула. Итак, Пилат поехал…
И «все смешалось». И не только в доме Пилата, но и в наших с тобой судьбах, добрый читатель. В общем — аминь!
Поездка на праздник в Иерусалим — обычная протокольная дань уважения иудейскому Храму, царю Ироду Антипе. Это долг прокуратора, одного из последних римских чиновников, кто еще не променял понятия «долг» на «корысть». Пилат не смог отказаться от поездки. И со свитой, в сопровождении супруги Клавдии Прокулы, к чьим советам, надо сказать, прокуратор часто и не без пользы прислушивался, прокуратор приехал из Кесарии в град Давидов и разместился в своей иерусалимской резиденции — претории.
С фасада это красивое беломраморное здание было окружено кипарисами. Перед самым входом находилось вымощенное возвышение — называемое по-еврейски Гаввафой. Здесь игемоны обычно вершили суд. Сзади к беломраморной резиденции примыкала обычная воинская казарма со зловонной тюрьмой. Преторий размещался в небольшом, заботливо ухоженном парке, лишь отдаленно напоминавшем райское гнездышко Пилата в Кесарии.
Военный оркестр с трубами и легионеры с развернутыми красными боевыми знаменами, увенчанными золотыми орлами, радостно приветствовали прокуратора и его свиту. Звенели трубы и били барабаны. Пилат выслушал рапорты начальников подразделений и тайных служб: никаких непредвиденных событий не предполагалось, хотя город был переполнен странниками, кишел колдунами, пророками, комедиантами, волхвами, жителями окрестных селений, спешившими принести на алтарь Ягве отборных пасхальных агнцев. Правда, привыкшие к городским шумам служители претория потом рассказывали прокураторским дознавателям, что в тот четверг громче обычного кричали на улицах ослы и стонали в саду претория павлины, и случилось необычайное: огромный орел вдруг спустился во внутренний двор Храма и унес приготовленного к закланию Ягве белого агнца. И будто все птицы улетели из Иерусалима…
В завершении церемонии встречи замещавший игемона во время его отсутствия в Иерусалиме чиновник передал Пилату три кувшина с дорогим эшкольским вином, корзину дамасских дынь и пасхального агнца к праздничному столу — дар первосвященника Каиафы. Вино и дыни игемон одобрил, но при виде трогательного голубоглазого агнца, доверчиво смотревшего на прокуратора и его жену, несколько смешался и никаких распоряжений относительно судьбы несчастного животного не отдал.
Глава 9 Повинен смерти
В пятницу прокуратор пробудился с чувством странного беспокойства: будто его ожидает какое-то важное нерешенное неприятное дело, о котором он случайно забыл. Он силился его вспомнить, но ничего существенного на ум не приходило. Странно. Ни о каких особых происшествиях ему накануне не сообщали, значит, все хорошо, просто он стал с возрастом более мнительным. Похоже, его отношения с иудеями и Храмом налаживаются, надо только быть больше дипломатом, чем римским легионером. И тут он неожиданно вспомнил об агнце, подаренном первосвященником, и тут же распорядился отвести его пока в парк претория. Он уже решил, что возьмет симпатичного доверчивого барашка собой в Кесарию — пусть бродит там среди зелени садов его резиденции вместе с павлинами и антилопами — живой символ его дипломатических успехов в противостоянии с Каиафой. Прокуратор рассматривал дары первосвященника как знак его примирения с игемоном. Иначе какой смысл был дарить невинного агнца язычнику Пилату?
Явившийся с докладом центурион выглядел озабоченным. Умный служака обычно старался не перегружать прокуратора малозначимыми сообщениями. Он доложил, что из синедриона только что пришла бумага на арестованного ночью бродягу-галилеянина, смущавшего народ странными мыслями и выдававшего себя за Царя Иудейского. Священники обрекли несчастного на смерть, и требовалось согласие прокуратора. Посыльный от первосвященника дожидался подписи прокуратора у входа в преторий. Получив подпись Пилата, он должен был доставить бумагу первосвященнику, чтобы синедрион, отправив на казнь этого бродягу, с легким сердцем, как и полагается на Пасху, с наступлением заветного часа принялся вкушать пасхального агнца.
Прокуратор, заранее настроивший себя доброжелательно к пригласившим его на праздник священникам, хотел было тут же и подписать бумагу, но что-то остановило его, кто-то остановил его руку, и он приказал: «Приведите Галилеянина ко мне, я хочу видеть этого человека».
Посланник синедриона, видимо, не был готов к такому повороту событий. Ему обещали, что вопросов не будет и все завершится моментально. Он стал растерянно извиняться, кланяться и, вместо того чтобы ждать решения прокуратора, незаметно исчез из претория. Никто не обратил на это внимания. Пилата удивило другое. Когда он вышел из резиденции на каменное возвышение, где обычно проходило судилище над особо опасными преступниками, он увидел, что преторий окружен народом. Точнее, сначала его окружали его легионеры со щитами и копьями в руках, а уже за их спинами нестройно гудела на разные голоса большая толпа разношерстного народа. Присутствие этой толпы поразило его необычайно. И насторожило. Ведь, как полагал прокуратор, о Галилеянине знали только он, первосвященник и люди из его окружения. Кто же привел сюда эту толпу иерусалимской черни и зачем они здесь собрались? Трудно поверить, чтобы толпа собралась здесь ради простого бродяги.
Пилат различал крики, которые доносились до него из толпы, и удивлялся.
— Римлянин, покажи нам Галилеянина, которого ты собрался казнить. Покажи Царя Иудейского.
Это напомнило спектакль, который начался с момента его въезда в Иерусалим. Значит, противостояние все-таки продолжается. Пилат невесело усмехнулся. «Хватит ли у меня солдат, чтобы сдержать напор этих безумцев?» — мельком подумал прокуратор и велел принести свое кресло на каменное возвышение, куда должны были привести для допроса того бродягу, который, как выяснилось, уже томился в его темнице. Игемон вспомнил, что прежний здешний намест-ник, Грат, предупреждал: в праздник Пасхи город становится особо опасен. И Пилат пожалел, что не привел с собой пару лишних когорт из Кесарии. Или хотя бы еще одну алу сирийской конницы, как собирался сделать.
Приказ игемона был выполнен: тотчас же появились кресло прокуратора и скамеечка для ног. Осталось доставить арестованного ночью бродягу. Как и полагалось по ритуалу, за спиной прокуратора, у входа на возвышение, стояли легионеры с развернутыми римскими стягами. Пилат остановился у кресла и посмотрел на расстилавшийся внизу город. Ему показалось, что сиявший в лучах солнца бело-золотой Храм вдруг тронулся с места и, как парусник, поплыл в голубом мареве, лавируя между Иерусалимских холмов. Он на миг прикрыл ладонью глаза и сразу же опустил руку. Храм стоял недвижим. Возникло предчувствие, что сейчас случится что-то необычайное.
Прокуратор стоял у кресла. Центурионы с удивлением глядели на него. Создавалось впечатление, что он раздумывает, садиться ему в кресло или нет. Пилат и сам поразился накатившей вдруг на него непонятной меланхолии и тут же взял себя в руки. Он решительно сел в кресло и в ожидании арестованного принялся разглядывать толпившихся у Гаввафы людей. Что приготовила ему сегодня иерусалимская чернь? Он ненавидел толпу. Римскую ли, иерусалимскую. Чернь везде одинакова, и ее поведение непредсказуемо. Эти, как пить дать, настроены против Рима…
Из внутренней тюрьмы стражники привели Галилеянина и поставили перед прокуратором. Но первое, что увидел Пилат и не поверил своим глазам: знаменосцы склонили знамена, когда Галилеянина вводили на Гаввафу. Это уже было явным доказательством того, что иудейский спектакль, где пока непонятно, какая роль отведена ему, игемону, прокуратору Понтию Пилату, продолжается. Увы нам, увы, это так! Мудрый Пилат на какой-то миг почувствовал себя пешкой в этой игре и не знал, как ему при таком раскладе на шахматной доске ходить. Он даже не знал, белыми или черными играет.
Пилат спросил знаменосцев:
— Зачем вы сделали так?
Те растерянно переглядывались, пожимали плечами. Они и сами не понимали, как все это произошло.
Пилат велел увести арестованного.
— Если вы опять склоните знамена, я велю отрубить вам головы, — сурово пообещал он.
Арестованного увели и через минуту ввели снова. И снова римские знамена склонились в сторону Галилеянина. Пилата едва не хватил удар. Чтобы прийти в себя, он сделал над собой усилие, до боли сжав подлокотники кресла, на котором сидел. Он видел, как побелели от напряжения кисти рук, и решил, что будет вести себя так, будто ничего не произошло: нет, он ничего не видел, не было никаких знамений. Все идет как обычно. А где-то в глубине сознания возникла мысль, что это Каиафа напускает на него своего еврейского Бога.
Пилат, как и большинство увлекавшихся греческой философией римлян, хоть и поклонялся Юпитеру, в душе был атеистом. Он смеялся, когда еще дома, в Кесарии, жена рассказывала свой странный сон, как он, Пилат, судил иудейского праведника и приговорил несчастного к распятию; посмеялся он и над ней, просившей его спасти невиновного. Смеяться-то Пилат смеялся, но сон все же крепко засел в памяти… Так не события ли того сна сейчас начнут разворачиваться перед ним? Странно, что он напрочь забыл конец этого сна. Он приговаривает проповедника к казни, а потом… Потом… Что было потом, он не помнил. Еще более странным было то, что и жена не могла вспомнить, чем же заканчивался ее сон. А тут еще в Риме в окружении кесаря, как рассказал Галл, оказались его недоброжелатели… Впервые Пилат чувствовал себя игрушкой в чьих-то руках. Но в чьих? Кто ответит игемону на этот вопрос? Сколько бумагомарак возьмутся за это заведомо проигрышное дело. И, как видим, берутся до сих пор. И будут браться.
У арестованного было хорошее, чистое, одухотворенное лицо праведника, большие умные темные глаза, и Он мог бы понравиться прокуратору, если бы не отрешенный слегка взгляд человека, постигшего мир и познавшего суть бытия земного, взгляд как бы показывающий взявшимся судить Его, что их решение мало что значит для Него и что не подсуден Он земному суду. Похоже, этот Бродяга действительно мог быть Царем Иудейским.
Прокуратору стало интересно. Так же бывали ему интересны греческие философы-киники, волхвы, с которыми он любил общаться в своих кесарийских покоях. И он оживился.
— Кто ты? — спросил Пилат арестованного.
— Сын Человеческий, — ответил Галилеянин.
— Допустим. А я тогда — кто? — спросил Пилат.
— Ты? Ты — раб Божий.
— Ладно, — согласился Пилат. Заглянул в бумагу первосвященника и спросил: — А имя у тебя есть, Сын Человеческий?
— Можешь называть меня Иисус Назарянин или Га-Ноцри.
— Так ты из Назарета? Слышал я, что евреи говорят: «Может ли быть что путное из Назарета?»
— Я родился в Вифлееме. Пророк говорил: «В Вифлееме родится младенец …»
Вифлеем! Что-то щелкнуло в голове прокуратора, всплыли в памяти какое-то волновавшие его ранее важные мысли. Они как-то связаны с Царем Иудейским… Но — потом, потом о тех мыслях… Сейчас надо разобраться с этим Га-Ноцри.
— Зачем же ты, Иисус Назарянин, смущал народ: выдавал себя за Царя Иудейского и выступал против еврейского Закона?
Арестованный взглянул на Пилата, как бы решая, стоит ли ему продолжать этот разговор, который, как Он полагал, ничего из предназначенного свыше в Его судьбе не меняет. Однако Ему захотелось еще немного побыть человеком. Ведь это были Его по-следние земные часы. Кто-кто, а уж Он-то знал это. Несколько часов назад Его допрашивал синедрион и обвинил в богохульстве. Фарисеи свидетельствовали, что Галилейский проповедник якобы сказал о Храме Ирода: «Я разрушу Храм сей и через три дня воздвигну другой». Куда же дальше? Они не захотели понять Его. Иисус говорил о внутреннем Храме. О Храме души. Судьи вскричали: как так! Храм, который строили сорок шесть лет, этот богохульник обещает возвести за три дня? Да Он смеется над нами! Есть свидетели, что Он называл себя Сыном Божиим! Можно ли терпеть такое, иудеи? И синедрион объявил: «Повинен смерти». Чтобы привести приговор в исполнение, требовалась только подпись Пилата.
Иисус сказал:
— Я учил людей истине.
Пилат, как мы уже знаем, дружил с молодым римским моралистом Сенекой и любил философские разговоры. Он даже обрадовался такому ответу. Ибо что может быть интереснее для человека, считающего себя философом, чем разговор с собратом-философом об истине. И игемон, предвкушая любопытную беседу, спросил арестованного:
— Что есть истина?
— Истина приходит с Неба. — Иисус внимательно посмотрел на этого облеченного огромной земной властью римлянина. Понимает ли он Его?
Пилат поставил вопрос иначе:
— Значит, на земле нет истины?
— Сын Человеческий и пришел для того, чтобы нести людям истину.
Тут Пилат усмехнулся:
— В Афинах был такой учитель — Сократ. Он тоже нес истину, но ему дали чашу с ядом.
— Я знаю. Сократ был клоун. Он смеялся над учениками, а не учил истине.
Этот бродяга Га-Ноцри, оказывается, был совсем не прост.
— Откуда у тебя такое красноречие? Ты, бродяга, умеешь говорить, как человек, прочитавший много книг! Ты знаешь греческий язык?
— Да.
— Ты понимаешь латынь?
— Да.
— Ты учился где-нибудь?
— Мое учение — не Мое, но Пославшего Меня…
— Ну да, ну да… Что-то вроде этого я и предполагал… Что ж, тогда скажи мне твою истину.
— Она проста, игемон, — сказал Иисус из Назарета. — Возлюби ближнего своего, как самого себя.
Пилат задумался. Эти слова напомнили ему Сенеку. Но Сенека был сноб и богач. Разве не странно: богач и бродяга мыслили одинаково?
— И этой истиной ты хочешь осчастливить мир?
— Я учу людей не делать другим того, чего они не хотят себе.
Нет, этот Га-Ноцри был явным последователем Сенеки.
— И много у тебя учеников?
— Двенадцать
— Вот видишь. Двенадцать. А сколько лет ты проповедуешь?
— Пять лет.
— Пять лет! Я так и знал… А теперь посмотри сюда. — Пилат показал на теснившихся за спинами, стоявших у каменного возвышения людей. — Видишь, сколько людей собралось у претория, чтобы посмотреть, как тебя будут бичевать. Скажи им, чтобы они возлюбили ближнего, как самого себя. Будем надеяться, они поверят тебе! И поспешат это сделать.
Назарянин печально покачал головой:
— Не поспешат, игемон… Это те, которые пришли сюда от великой скорби. Пришли, чтобы омыть одежды в крови Агнца. Придет время, и Мессия даст им взамен белые одежды, залог будущего оправдания и торжества. И не будут они ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной. И отрет Бог всякую слезу с очей их. Ведь ты, римлянин, видишь их в рубище, а я вижу их в белых одеждах с пальмовыми ветвями в руках… Но время еще не пришло. Число мучеников не достигнуто. Еще не наполнена чаша гнева. Еще не отверсты двери небесного Храма и не виден ковчег Нового Завета. — Иисус смотрел на толпившихся вокруг людей. — Я вижу тут одних иудеев, — сказал он. — Они веруют и чтут Закон. Им нелегко принять мою проповедь. Язычники лучше понимают Сына Человеческого.
— Если у тебя есть время… — с некоторой издевкой начал Пилат и сразу же устыдился своей ернической иронии, адресованный обреченному Сыну Человеческому, и уже серьезно продолжил: — Если у тебя есть время, то игемон послушал бы твою проповедь. Послушал бы ее и решил, как поступить с тобой.
Толпа, не ожидавшая такого поворота событий, притихла.
Иисус молчал.
— Послушай, Га-Ноцри. А вдруг это твой послед-ний шанс? Видишь, сколько жаждущих истины собралось вокруг. Скажи им…
В общем-то прокуратору нравилась эта жестокая игра, которую он, одновременно и страшась чего-то, и увлекаясь, затеял и с первосвященником, и с этим проповедником Га-Ноцри, и, наверное, с самим Богом Израилевым. Страх и любопытство переполняли его, хотя он уже не сомневался, что все это плохо закончится.
Немного помолчав, видимо, раздумывая, как поступить, Назарянин обратился к пришедшим полюбопытствовать на его мучения соотечественникам со словами:
— Слушай, Израиль! Ягве — Бог наш. Ягве един!
Толпа встрепенулась и, к удивлению Пилата, ответила проповеднику:
— Ягве наш Бог. Ягве един!
Пилат уже корил себя за опрометчивое решение. Он не ожидал такой реакции. Ну зачем он устраивает этот спектакль? Мало ему, что его самого загнали в какую-то нехорошую пьесу, так он еще и импровизирует. Он хотел уже было свернуть свою глупую затею, но в это время Назарянин начал говорить какие-то свои мудрености. И толпа, эта жаждущая зрелищ иерусалимская чернь, такая же, как и римская, и афинская, — уж он-то знал это, — умолкла, с любопытством взирая на проповедника.
Назарянин вещал. О, он был далеко не прост. И Пилат порадовался, что сразу разгадал в этом бродяге своего брата, философа. Да, он был философом, этот Га-Ноцри. Он говорил:
— Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем; когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел; когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: господин! не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? откуда же на нем плевелы? Он же сказал им: враг человека сделал это. А рабы сказали ему: хочешь ли, мы пойдем, выберем их? Но он сказал: нет, — чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою.
Пилат окинул взглядом толпу. Толпа молчала. Что могли понять эти жалкие люди из сказанного этим и правда, похоже, Царем Иудейским?
— Как разъяснишь притчу сию, Сын Человеческий? — спросил Пилат.
— Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий, — пояснил Га-Ноцри. — Поле есть мир; доброе семя — это праведники, а плевелы — сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол; жатва есть кончина века, а жнецы суть Ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего: пошлет Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие; и ввергнут их в печь огненную; там будет плач и скрежет зубов; тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит!
Га-Ноцри замолчал. Пилат сидел в задумчивости. Ничего крамольного в проповеди той он не увидел. Уж во всяком случае Риму она не опасна. Да и для черни этой уж больно мудрена. Пилат заглянул в бумагу, где священники описывали все грехи несчастного проповедника. Вспомнил, что жена умоляла сохранить жизнь этому праведнику.
Игемон сказал:
— Знаешь, Назарянин, я думаю, Ты не опасен. Ты ведь не требуешь возвести Тебя на царство. Ты не враг кесарю. Ты правильно, как тут записано, говорил, что кесарю кесарево, а Богу Богово. И, как я понимаю, вся Твоя вина в том, что Ты поднял длань на закон Моисеев. Не чтишь Субботы. Вот тут в бумагах сказано, будто Ты утверждаешь, что Сын Человеческий есть Господин Субботы. В принципе я с Тобой согласен, но ваш Закон говорит иначе. И Ты его нарушаешь. Это плохо.
Га-Ноцри пожал плечами.
— Лицемеры! — с презрением сказал Он. — Разве судья тот, который не велит свои рабам снять цепи с быков, чтобы вести их на водопой в день субботний, а помощь страждущей дочери Авраама в субботу объявляет вне закона?
— Допустим, — согласился Пилат. — Но почему, вопреки закону Моисея, Ты призываешь любить врагов своих? Подставлять другую щеку, ударившему тебя. А это, скажу Тебе, вообще глупо. Спроси у моих красавцев центурионов, разбивавших, как орехи, глупые головы галлов, германцев, бриттов, готовы ли они подставить щеку врагам? Ты думаешь, что Ты — пророк? Ты смешон. Смешна Твоя проповедь, Иисус Назарянин, пророк Галилей-ский. Смешна и неразумна. И потому вины на Тебе смертной не вижу. А чтобы не развращал народ иудейский своими глупыми смыслами, велю бичевать Тебя, посадить на осла, на котором Ты, говорят, и правда, как Царь Иудейский, приехал сюда на праздник. — Тут опять что-то щелкнуло в голове Пилата, что-то связанное с Царем Иудейским. Но что? — Как Царь Иудейский, — машинально повторил Пилат, — как Царь Иудейский, — так вот, велю сунуть твоему ослу под хвост факел и поскорее выпроводить из Иерусалима. Все! Именем Императора, народа римского и Сената приговариваю Тебя к бичеванию. Суд окончен.
Прокуратор поднялся с кресла и вернулся в апартаменты. Странно, но вопреки ожиданию ему не стало легко, как это случалось всегда, когда он заканчивал неприятный для него суд. И тут еще эта мелькнувшая вдруг мысль о возможной связи этой истории с давней вифлеемской резней младенцев Иродом Великим. Что стоит за этим?
Усилием воли он изменил ход мысли. Зачем нагнетать страхи, смаковать темные иудейские тайны? Как-нибудь потом, на досуге, он об этом поразмышляет…
Было слышно, как толпа у претория неодобрительно шумела. Прошло полчаса. Шум за стенами претория не утихал. Значит, толпа не разошлась. Пилат послал центуриона узнать, что, собственно, происходит. Чего ждут эти странные люди и кто их сюда привел? Потом кивнул слуге, и тот налил ему бокал эшкольского вина, присланного ему на Пасху Каиафой. Вино понравилось прокуратору, он осушил бокал. Кивнул слуге, тот налил еще, и Пилат, ни о чем больше не думая, стал пить, медленно смакуя волшебный напиток.
Из глубины покоев вышла жена — Клавдия Прокула. Оглядела Пилата, покачала головой.
— Плохо выглядишь, игемон. Мешки под глазами… Знаешь, я вспомнила окончание того сна, — сказала она. — Рассказать?
В этот момент вернулся центурион и доложил, что людей подбили священники. Они требуют смертного приговора Галилеянину и еще трем разбойникам, который должен утвердить прокуратор. Толпа требует распять Сына Человеческого за то, что хулит Закон и выдает себя не только за царя Иуды, но и, богохульствуя, — за Сына Божия.
— Докладываю также, что к вашей милости прибыли члены синедриона во главе с первосвященником. Пройти дальше Гаввафы они по своим глупым еврей-ским законам не могут, — добавил центурион. — Что прикажете делать?
Пилат поморщился. Сообразительный центурион догадался:
— Прокуратор устал? Пусть подождут?
Пилат кивнул, и римский воин покинул покои.
Игемон сидел рядом с женой на подушках и в странном раздумье пил дорогое эшкольское вино, которое, как помнит читатель, было прислано ему на праздник Пасхи первосвященником — как теперь казалось Пилату, главным постановщиком этого странного спектакля с Назарянином.
Клавдия Прокула посмотрела на кувшин, из которого слуга наполнял кубок, покачала головой.
— Вино Каиафы?
Пилат в подтверждение медленно наклонил голову и с удовольствием допил вино.
— Да, — сказал он, — вино Каиафы. — И, перевернув бокал вверх дном, показал супруге, что тот пуст.
На его лице появилась улыбка, которая так пугала подчиненных, но которой абсолютно не боялась Клавдия Прокула. Ибо, как проповедовал Галилеянин, несть пророка в отечестве своем.
— О Пилат, бойся данайцев…
Жена погладила игемона по щеке. Ему сейчас было особенно приятно ее прикосновение. Захотелось поделиться своими мыслями об этом странном Галилеянине. Он знал, что ей это будет по душе. И будет интересно. Пилат сказал:
— А знаешь, Он по-своему мудр. Он — философ. Но главное не это. Главное, — Он пришел, чтобы умереть. Я вижу у Него это написано на лбу.
— Ты проницателен, прокуратор. Хочешь, я предскажу тебе, что будет дальше?
— Предскажи, пожалуй, — вяло согласился Пилат. Ему очень не хотелось встречаться сейчас с Каиафой. Да и с Назарянином тоже. Он старался оттянуть время. Чуть помедлив в раздумье, кивнул слуге, чтобы тот вновь наполнил бокал.
— Боюсь, что ты не вывернешься теперь из этой истории, господин муж мой Пилат, — вздохнула Клавдия Прокула. — Иудеи опутают тебя, и ты пошлешь Галилеянина на распятие. Но не делай этого. Ибо этот Человек от Бога. И Бог не простит тебе такого злодейства.
— Ты, Клавдия, говоришь о Юпитере?
— Я говорю о еврейском Боге.
— Римлянину ли бояться еврейского Бога? — пожал плечами Пилат. — Послушал бы тебя сейчас Галл.
— Бог мой! Да ты же совсем пьян, Пилат! Не пей больше. Лицо твое стало совсем красным.
Возможно, жена права. Ему было не по себе. Клавдия, как и все вокруг, сейчас раздражала его. Он чувствовал, что никак не может попасть ногой в стремя.
Пилат хотел что-то возразить, но махнул рукой и проследовал на Гаввафу, где его уже ждали члены синедриона и первосвященник Каиафа.
В торжественной одежде по случаю Пасхи высокий, худой Каиафа остекленелым взглядом вперился в Пилата.
— Иерусалим на Пасху — стог сена, — еле сдерживая раздражение, сказал он. — Поднеси огонь — и полыхнет. Разве ты, римлянин, не видишь, что у Галилеянина в руке факел. Останови пожар, игемон, пока не поздно. Изыми худую овцу. Не позволяй этому самозванцу играть в Царя Иудейского, Сына Божьего! Кесарь не простит тебе иудейской смуты, которую заваривает этот лжепророк…
Пилат знал: в Риме всегда боялись иудейской смуты, и Храм был для Рима, как кость, поперек горла.
— Я говорил с тем, кто называет себя Царем Иудейским, Каиафа. Он вольный философ, и все его философские бредни вряд ли найдут поддержку в народе.
— Тебя не пугает, что он назвался Царем Иудей-ским? Нет у нас, иудеев, прокуратор, царя, кроме кесаря.
Пилат кивнул, подтверждая, что нет у иудеев царя, кроме кесаря.
— Хорошо говоришь, Каиафа. И не будет у вас другого царя, поверь мне.
Первосвященник подозрительно посмотрел на Пилата, на его красное лицо, на влажные губы, на потерявшую жесткость складку у рта…
— Галилеянин учит не соблюдать Закон. — сказал он, — Не чтит Субботы. А Закон гласит: «Всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти».
— Ваш Закон! — поднял палец прокуратор. — Ваш Закон, Каиафа! И потому это проблемы вашего Бога. Не прокуратора! Не Рима!
— Ты хочешь, игемон, чтобы Храм потерял контроль над Иудеей?
— Повторяю: это проблемы вашего Бога.
— Если начнутся волнения, кесарь Тиберий не поймет тебя, прокуратор. Если отпустишь Галилеянина, ты не друг кесарю. Всякий называющий себя Царем Иудейским — враг Рима! Или ты не согласен с этим?
— Что предлагает Храм?
— Распни Галилеянина.
— Царя Иудейского?
— Нет у нас царя, кроме римского кесаря.
— И все будет спокойно?
— И все будет спокойно.
Пилат вспомнил слова Клавдии Прокулы: «Окрутят тебя иудеи, и ты согласишься подписать приговор». Хоть вино Каиафы и ударило ему в голову, но он отчетливо понимал: ссориться с первосвященником было не с руки. Сеян убит. В любой день жди убойных вестей из Рима. Теперь только оступись, Пилат. Римские завистники и недруги и правда могут объявить тебя врагом кесаря. Тем более что у Тиберия уже лежат два доноса о пролитой крови и о том, что он, пойдя на поводу у иудеев, вынес статую кесаря из Храма. Ну, кровь — понятно. Но вынос статуи? Вот и потакай иудеям после этого, Пилат.
— Не торопись, первосвященник, — сказал Пилат. Он вспотел от волнения, и слуга дал ему полотенце вытереть лоб и шею. Ему было жарко. Он мучительно искал зацепку, чтобы не казнить Назарянина. И ему показалось, что он нашел выход. — Послушаем народ, Каиафа. Решение важных вопросов наш мудрый кесарь всегда доверяет народу, — Пилат поднял вверх указательный палец и добавил: — Этим и велик Рим!
— Да здравствует кесарь! Да здравствует Рим! — лицемерно провозгласил здравицу Каиафа.
Пилат пропустил слова первосвященника мимо ушей:
— Как ты, Каиафа, знаешь: по случаю праздника Пасхи игемон может отпустить осужденного на смерть. Выведем к народу Галилеянина и другого приговоренного к смерти. Как народ решит, так и поступлю.
Ему казалось, что толпа хоть и не поняла притчу, но благосклонно настроена к Галилеянину и его трюк с заменой осужденных на смерть пройдет.
Он повернулся к стражникам:
— Тащите сюда самого отпетого из приговоренных.
Пилат еще надеялся на здравый смысл иудеев.
Стражники вывели Галилеянина и приговоренного к смерти разбойника Варавву. Прокуратор обратился к толпе. Показывая рукой на Иисуса, сказал:
— Вот Сын Человеческий, выдающий себя за Царя Иудейского. Он учит народ возлюбить ближнего, как самого себя, и прощать врагов своих. Он учит подставлять правую щеку, когда тебя ударили по левой. И вот — другой арестант, известный вам разбойник Варавва.
Пилат обратился к Варавве:
— Надо ли прощать своих врагов, иудей Варавва?
Варавва, крепкий, жилистый, коротконосый лихой иудей, сверкнул на прокуратора жгучими, полными ненависти глазами и, обращаясь к толпе, сказал:
— Я, Варавва, и я говорю вам, иудеи, поступайте, как учили отцы. Поступайте, как завещал Моисей: душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, ушиб за ушиб.
Толпа, только что благосклонно внимавшая Назарянину, одобрительно загудела. Прокуратор явно переоценил иерусалимскую чернь. Ибо чернь есть чернь. Что в Риме, что в Иерусалиме.
— Кого отпущу вам? — обратился к толпе Пилат. Он еще надеялся на что-то.
— Варавву, Варавву… Отпусти Варавву, — ревела толпа…
— Что сделаю я с Сыном Человеческим?
— Распни, распни Галилеянина.
Пилат горько усмехнулся. Взглянул с сожалением на Га-Ноцри.
— Вот она, Твоя истина, которая исходит с Неба, Сын Человеческий и Царь Иудейский, — разочарованно покачал головой Пилат.
Иисус Галилеянин никак не реагировал на приговор. Его поведение подтверждало догадку Пилата, что Он пришел в мир, чтобы умереть.
Первосвященник и вся его братия в белых одеждах, внимая крикам толпы, согласно кивали.
Пилат подумал, что проиграл, но должен сохранять лицо.
— Да будет так! — с отвращением к этой дикой стране, к этому сонмищу лицемеров, напяливших на себя белые одежды, сквозь зубы процедил Пилат, завершая судилище: — Да будет так!
Ничего более отвратительного в своей жизни он не совершал. Он показал слуге, что хочет умыть руки. Ему подали воды. И тут же на глазах толпы игемон демонстративно умыл и вытер насухо руки. И показал народу, что на них нет крови. Все! Поставлена точка! Но никакого облегчения не наступило. Внутри словно засела заноза.
А тут еще, будто в насмешку, перед тем, как покинуть Гаввафу, Галилеянин тихо сказал, повернувшись к Пилату:
— Не отчаивайся, игемон. Ты не имел бы надо мною никокой власти, если бы не было дано тебе свыше.
Эти последние слова Га-Ноцри озадачили Пилата, но он тут же сделал усилие, чтобы отстраниться от них. Забыть. Но в памяти они запечатлелись, и, как понимает проницательный читатель, игемон еще не раз будет размышлять над ними. Привыкшему смотреть на себя со стороны Пилату смешны были эти увертки его ума.
— Господин, — подал голос стоявший тут же на Гаввафе Варавва. — Я прощен? Иудеи выбрали меня…
— Вышвырни его отсюда, — бросил Пилат центуриону, кивнув на Варавву. Потом поднял глаза на Иисуса, которого уже уводили с Гаввафы. — А Галилеянину на распятии прибейте дощечку: «Иисус Назарей, Царь Иудейский».
Каиафа тут же возник перед игемоном:
— Остановись, прокуратор… Остановись… Не делай этого. Не пиши: «Царь Иудейский». Он не Царь Иудейский. Он — самозванец! Пусть так и напишут: «Сей самозванец, который выдавал себя за Царя Иудейского».
Пилат устало и тяжело посмотрел на Каиафу, на его священнический, украшенный драгоценными камнями тюрбан.
— Нет, первосвященник… Ты рассмешил меня. За семь лет ты так и не узнал Пилата. Пилат что сказал, то — сказал! Что написал, то — написал! Дикси!
И Пилат отвернулся от первосвященника.
Игемон надеялся, что теперь наконец спектакль окончится, хотя внутренне не верил в это. Он полагал, что, если все в городе в праздник пройдет без столкновений, он поторопится поскорее убраться отсюда в Кесарию, к своим музыкантам, поэтам, философам. Только подальше, подальше от этого страшного города, от этой безумной, косной, отвратительной толпы, от жуткого воя этой страшной магрефы и от всех этих первосвященников, Царей Иудейских и Сынов Человеческих…
В Кесарию, в Кесарию, в Кесарию…
Глава 10 Сюрпризы Иерусалима
В Кесарию, говоришь? В Кесарию?
Но игемон, верно, забыл то, что помнит наш внимательный читатель: смертный предполагает, а Небо располагает. Ибо распятием, как знает сегодня каждый дее-способный мирянин, дело Царя Иудей-ского не закончилось. Оказалось, что это было только началом. Началом начал. Так сказать, прологом. Увертюрой к вселенскому повороту. Повороту, у истоков которого волею судеб оказались герои нашего повествования, и, конечно же, в первую очередь игемон, римский прокуратор Понтий Пилат…
Закончилась праздничная трапеза. Выпито чудесное эшкольское вино первосвященника Каиафы, в которое, по мнению Клавдии Прокулы, хитрый первосвященник подмешал-таки какого-то расслабившего железную волю прокуратора зелья. Но «что сделано, то сделано», как любил выражаться Пилат. И пора, пора возвращаться в спокойную и уютную резиденцию в Кесарии. К фонтанам, к мраморным богам и богиням, к аллее, уставленной скульптурами императоров, к привычным вещам и любимым книгам. А на душе таки пакостно. Пилат всеми фибрами чувствует, что его крупно подставили. Использовали в какой-то пока еще не понятной ему игре. И он своим изощренным латинским умом, понимал, что последствия этой игры определят остаток дней его жизни. Проживет он их в счастье и радости или пройдут они в тоске и печали… Понимать-то он понимал, но не видел, что тут можно изменить, на что повлиять… Пилат от рождения был фаталистом, а знакомство с иудейским Богом, хотя и косвенное, превратило этот фатализм почти в болезнь. Он, как и Сенека, верил в рок и в судьбу. И когда перед отъездом из Рима он рассказал Сенеке, что в детстве во время кораблекрушения его спас дельфин, оба они согласились, что это рука проведения. Выходит, нужен Им Там Наверху зачем-то римский всадник Пилат, кто-то крупно поставил на него. Но кто? Они долго обсуждали это с Сенекой в термах…
Покончив с казнями в пятницу, в субботу он, чтобы забыться и отомстить иудеям, вместо регламентированного их Богом отдыха много-много работал, просматривал накопившиеся в Иерусалиме документы, пил вино, отдал массу распоряжений, и вот теперь, на третий день после этого неприятного для него события, он уезжает. Со стороны это похоже на бегство. Возможно, Каиафа так и сочтет, но ему плевать… Плевать. Тьфу! Судья ему Рим, а не жалкий иудей-ский синедрион, который без его одобрения не в состоянии даже распять простого бродягу… Поэтому — домой, домой, в ставшую уже родной спокойную, расчудесную Кесарию. Подальше от этого сумасшедшего города с его страшной магрефой и странными проповедниками… Пилату не терпелось сбросить с себя этот иерусалимский кошмар и забыть, забыть странного Галилеянина: прокуратор никак не мог простить себе, что какие-то иудеи все-таки вынудили его, Пилата, искушенного римского политика, игемона, наместника, послать несчастного на казнь. Этого Ecce Homo! Да! Человеком достойным назвал Галилеянина Пилат назло первосвященнику и всей его камарилье. О, как они, которые без конца твердили «повинен смерти», «повинен смерти», вытаращились на него, когда он сказал: «Се Человек…» Сейчас ему казалось, что кто-то, словно нарочно, парализовал его волю. И это было не вино Каиафы. Нет. Иная сила управляла его сознанием. Сила, перед которой он оказался бессилен. Странно, что и Галилеянин был как одержимый. Так не ведут себя приговоренные к смерти. Нет, нет и нет! А может, они с Галилеянином играли в одну, посланную свыше только им одним, игру? Как он, Пилат, ни хитрил, как ни изворачивался, а подписал приговор Галилеянину. Никто не знает, что он втайне от всех вызвал старшего центуриона Лонгина и просил уговорить этого Иисуса изменить показания, сказать во всеуслышание, что Царь Иудейский признает господство кесаря над Иудеей. Что Он друг Риму. Пилат был даже готов отложить вынесение приговора, чтобы несчастный одумался, но Галилеянин сухо ответил: «Что делаешь, делай скорее». Это были последние слова странного проповедника, адресованные Пилату. И прокуратор потом не раз вспоминал их, как вспоминал также сказанное ему напоследок Галилеянином: «Не отчаивайся, игемон. Спаситель всегда ждет и прощает тех, кто истинно раскаялся». И про волю свыше.
Итак, в субботу, стараясь сбросить накопившееся напряжение, он много, но хаотично и непродуктивно работал с накопившимися в Иерусалиме документами; смыслы бумаг ускользали от него, и в то же время весь день он внутренне томился, охваченный непонятной тоской, и несколько раз звал слугу, чтобы тот принес ему воду умыть руки. Он осознавал всю нелепость своих действий, но все мыл и мыл свои руки, а легче ему не становилось. Слуги удивленно переглядывались и понимающе кивали друг другу головами. И он это видел и усмехался, как бы со стороны разглядывая себя.
Утром, на третий день пребывания в граде Давидовом, жена опять «обрадовала»:
— Игемон, я видела опять тот же сон. Тебя ждут неприятности.
— В Риме?
— Хуже.
— Может ли быть что-то хуже?
— Да, — сказала Клавдия Прокула. — Твоя распря с иудейским Богом продолжается. Галилеянин, которого ты распял, — воскрес.
Прокуратор о чем-то таком и сам по внутреннему, нарастающему волнению догадывался. Поэтому он не упал в обморок, а погрузился в странное безразличие. Вспомнил начитанного, болезненно кашляющего молодого умного Сенеку, который учил его мудрости Соломоновой: «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Все вокруг суета. Суета и томление духа. Поэтому, что бы ни происходило, — не отчаивайся. Все проходит».
Он неопределенно спросил:
— Почему же молчит первосвященник?
— Возможно, еще не знает об этом. А возможно, ожидает твоей первой реакции. Готовит тебе сюрприз. Он, как я уже заметила, всегда предоставляет тебе первый ход.
— А ты, Клавдия Прокула, строишь из себя Сивиллу? Все-то тебе известно. Поверь, неспокойно у меня на душе и без твоих снов. И как меня угораздило влезть во все это! Одно дело казнить разбойников и смутьянов, призывающих свергать римлян. А тут — проповедь любви к ближнему. Излечение в Субботу. Игра в Царя Иудейского или в Сына Божия… Чувствую себя игрушкой в чьих-то руках.
— В чьих?
— О, если б я знал, в чьих! Наверное, это рука их Бога. Месть за осквернение Храма. За мраморного Тиберия, которого я там поставил. Не пойму только, почему сон о Галилеянине, о котором ты столько говоришь, послан тебе, а не мне?
Прокуратор любил жену, и ему было приятно смотреть на нее. Однако временами она его раздражала своим упрямством. Прищурив свои зеленые глаза, Клавдия Прокула сказала:
— А сон послан мне потому, что женщины вообще понятливее мужчин. Женщина София была раньше богов… Однако утешься, игемон. Вспомни своего Сенеку и утешься. Вспомни, что говорил он о царе Эдипе. Сенека не винит его за кровосмешение, за убийство отца. И даже оправдывает. Виновен Рок! Вспомни: «В чьих винах рок виновен, неповинен тот».
Жена замолчала, потом вздохнула и подняла глаза на Пилата.
— Что-нибудь еще? — настороженно спросил игемон.
— Не хотела пока тебе говорить, но, как мне только что доложил слуга, кто-то ночью зарезал нашего агнца. Зарезали и оставили на траве в луже крови.
У Пилата вытянулось лицо.
— Этого еще не хватало!.. Передай слугам: если не найдут виновного — все пойдут на галеры!
— Возможно, это какой-то знак?
— Да. Пожалуй, знак. Знак того, что согласия с первосвященником не получилось… Но знай, Клавдия Прокула, Пилат найдет и покарает мерзавца…
Тут разговор супругов был прерван появлением центуриона, который доложил, что Пилата срочно хочет видеть его тайный иерусалимский советник Левкий.
Этот Левкий — ловкий молодой еврей-проныра — служил в канцелярии Пилата и командовал разветвленной сетью шпионов прокуратора, чьи сообщения помогали Пилату хоть немного ориентироваться в жизни этого загадочного города и при надобности нажимать на нужные пружины в нужном месте и в нужное время.
— Похоже, сон твой в руку, госпожа моя Прокула, — с неудовольствием отметил Пилат, и на душе у него стало совсем противно.
Клавдия Прокула знала, кто такой Левкий, и сразу соотнесла появление этого шпиона со своим сном.
— Я могу присутствовать при твоем разговоре? — спросила она мужа. — Клянусь, что Левкий будет пересказывать тебе мой сон. Вот увидишь.
— Мне был интересен твой сон, но, извини, разговор касается не меня, а секретов Рима. И вообще, моя дорогая, держись от этих иудейских событий подальше.
Левкий приветствовал прокуратора поклоном и приложенной ко лбу ладонью и замер, ожидая предложения сесть.
Пилат кивнул. Левкий, показывая свое чрезмерное уважение прокуратору, скромно устроился на самом кончике стоявшего у большого мраморного стола кресла и стал рассказывать о том, что происходило в пятничный вечер, что случилось в субботу, а главное, о том, что выяснилось сегодня на рассвете, на третий день после казни.
— В пятницу в шестом часу, когда Галилеянин испустил дух, — рассказывал Левкий, — на землю сошел мрак. Солнце померкло, и, как рассказали мне уже потом храмовые служители, в этот момент завеса в Храме разодралась на две части сверху донизу. Среди евреев в Иерусалиме и сейчас царят печаль и смятение.
— Мало ли совпадений в природе, — стараясь казаться безразличным, вставил Пилат.
— Да, господин мой прокуратор, в природе очень много совпадений, — охотно согласился главный шпион. И продолжал: — Я был у того столба и слышал Его последние слова, — совсем тихо произнес Левкий. — Последние слова Его были: «Отче! В руки Твои передаю дух Мой».
— Ты хочешь сказать, что он и на столбе продолжал свою игру в Сына Божия?
— Я слышал эти Его слова, — понимая, что сообщает прокуратору неприятную новость, еще тише сказал Левкий и продолжал, не желая останавливаться на этом трудном для понимания римлянина моменте: — Далее, по твоему разрешению, господин мой Пилат, до истечения дня тело было снято с креста и перенесено в новую гробницу, которую заранее приготовил для себя почтенный израильтянин Иосиф из Аримофеи. После того как туда внесли тело Назарянина, гробница была завалена тяжелым камнем и к ней была приставлена стража.
Сначала прокуратор сидел молча, потом сказал:
— Это мне известно, известно, почтенный. Скажи, что было дальше. — Прокуратор пустил пробный шар. — До меня дошли слухи, что Галилеянин воскрес.
Услышав это, Левкий испугался, побледнел и уставился на прокуратора.
— Откуда тебе это известно, господин мой? Ведь об этом, кроме моих людей и, возможно, Каиафы, еще никто не знает.
— Увы нам, увы, — развел руками Пилат, довольный произведенным эффектом. — Бог Израиля послал мне сон…
— Мне трудно в это поверить, — растерянно пробормотал Левкий. — Обычно Бог Израиля не говорит с язычниками из Рима.
— Что было дальше, дальше? — заторопился пораженный этим сообщением Пилат. Тем более что он не очень верил в сны Клавдии Прокулы, как бы часто они ни оказывались пророческими. — Ты видел воскресшего?
— Его видела женщина, пришедшая утром ко гробу. Ее зовут Мария из Магдалы.
— И ты, опытный еврей мой, поверил женщине? Какой-то Марии из Магдалы, — разочарованно протянул Пилат. — Ну да ладно. Рассказывай дальше по порядку. Я думаю, сейчас сюда явится Каиафа со свитой. Так что выкладывай поскорее все, что знаешь.
— Да, господин мой, я опытный, верткий иерусалимский еврей по кличке Вьюн, и меня, извините, на мякине не проведешь. Женщина женщиной, но я до-просил стражников. Они сказали, что видели ангела, который отвалил камень от гробницы. Лицо его блистало как молния. Ангел сидел на камне и говорил женщинам, подошедшим ко гробу: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь — Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее; там Его увидите».
Пилат почувствовал, как спина его покрылась потом. Лицо будто одеревенело. И он пожалел, что нет рядом Клавдии Прокулы. Как не хватало ему сейчас чаши с вином. Пусть даже с тем, что подарил на Пасху этот плут Каиафа.
— Ты задержал этих женщин или это была одна и та же Мария из Магдалы? — спросил Пилат.
— Это были разные женщины. Их пока не нашли, — вздохнул Левкий и покорно опустил глаза, признавая свою нерасторопность в поисках концов. И продолжил:
— Когда вечером в пятницу священники узнали, что Иосиф из Аримофеи по твоему слову захоронил тело Галилеянина в свой гробнице, они много кричали, жестикулировали и приказали страже схватить Иосифа и заключить в темницу до окончания Пасхи. Его схватили и заточили. Анна и Каиафа для верности сами запечатали темницу своей печатью. И собрали совет со священниками и левитами, и совещались, какой смерти предать того Иосифа.
После совещания велели привести заключенного. Сняли печать, открыли дверь и поразились: в темнице никого не было. Только темнота. И все оказались в недоумении, так как двери темницы были запечатаны. И печать не тронута.
Сообщив это, Левкий замолчал и поднял глаза на прокуратора. Тот уже пришел в себя после шока. Вряд ли может быть что-то более невероятное, чем то, о чем он сейчас услышал — о воскресении Галилеянина. И он кивнул Левкию: дескать, продолжай.
Главный шпион Иерусалима вздохнул, чтобы показать прокуратору, что воспринимает его печали как свои и продолжал. Когда люди Каиафы узнали о том, что Галилеянин исчез из гроба, они призвали стражников, охранявших пещеру, дали им денег и велели говорить, что ночью пришли ученики Иисуса и похитили тело Учителя. Каиафа сказал стражникам: не бойтесь и всем говорите, как я сказал. Если прокуратор Пилат узнает обо этом, мы покроем вас перед ним, и он ничего не сделает вам. Стражники взяли деньги и теперь говорят все, как приказал Каиафа.
Левкий замолчал и вопросительно смотрел на Пилата. Молчал и Пилат. Собирался с мыслями.
— Все? — наконец прервал молчание игемон, понимая, что ему еще долго придется разгребать заварившуюся в этом враждебном ему с первых дней прокураторства Иерусалиме кашу. И ведь надо было, чтобы все это произошло именно при нем, пятом прокураторе Иудеи. И кто наслал на него эту чудовищную для ума римского еврейскую галиматью? За что? Перед кем он так уж сильно провинился, что поставлен перед необходимостью разбираться в этой непостижимой иудейской катавасии и, что неприятнее всего, отчитываться за все перед кесарем? А Тиберий умен. Умен и хитер. И его не проведешь…
Все услышанное повергло Пилата в уныние. Он решил, что останется еще на некоторое время в Иерусалиме и постарается разобраться, что в этой истории правда, а что — обычные иудейские сказки. И поставит наконец на этом точку. Игемон, как всякий здравомыслящий римлянин, любил ставить точки. Этому его научил Сенека. Поставишь в каком-нибудь деле точку и легко вздохнешь. Еще одной заботой меньше стало. Ставить точки — в этом-то и есть прелесть жизни! Согласись, читатель!
Глава 11 Три иудея и Каиафа свидетельствуют об Иисусе
Прокуратор решил, что переговорит с Каиафой, выработает единую с этими помешанными иудеями общую картину, подготовит компромиссный доклад для Рима и только тогда вернется в Кесарию. Пилат пожелал себе мужества, выдержки и здравого смысла и стал планировать дальнейшие свои действия.
И тут он наконец вспомнил, откуда в голове возникла и беспокоила, беспокоила его связка: Вифлеем и Царь Иудей-ский. Как озарение пришло воспоминание о документе из архива императорской канцелярии, о доносе на царя Ирода, где сообщалось о зверском истреблении четырнадцати тысяч вифлеемских младенцев. Как-то само собой воспоминание это соотнеслось со словами Га-Ноцри: «В Вифлееме родится младенец». Возможно, здесь кроется какая-то тайна. Какой-то небесный промысел…
«Поразмышляй-ка над этим, Пилат», — сказал он себе.
Прежде всего он поделился этой мыслью со своей рассудительной супругой, на что благоверная с грустной усмешкой сказала:
— Ты не захотел меня слушать. А ведь об этом есть в моем сне. Посчитай дни. Га-Ноцри родился как раз в дни вифлеемской резни. Не его ли искал, чтобы убить, Ирод? Возможно, он и есть младенец из цар-ского рода, которого опасался Ирод. Иначе откуда Царь Иудейский? Вот тебе и объяснение. Ирод искал убить родившегося Царя Иудейского. Логично? Значит, Галилеянин действительно был Царем Иудейским, а не самозванцем.
— Куда как логично. Ай да Клавдия Прокула! Ай да моя Сивилла! Кто из римских матрон сравнится с такой пророчицей! Ты могла бы выступать перед сенаторами…
Пилат решил прояснить суть вифлеемской резни у Каиафы. А Левкий все копал и копал, и содержание его доносов запутывало и запутывало прокуратора. В то же время у него как будто раскрылись глаза. «Дело Галилеянина», в которое он, поддавшись свой философской натуре, постарался основательно вникнуть, необычайно умудрило его. Он увидел иудейский мир другими глазами.
Прошло сорок дней. Дотошный чиновник и любознательный аристократ, он все копался и копался в делах иудейских, изучал донесения шпионов со времен резни вифлеемских младенцев, разбирался в художествах «Вопиющего в пустыне», собрал досье на двенадцать учеников Сына Человеческого — в общем, как следует поработал. Ибо с юности, обученный Аристотелевой логике, он всегда старался вникнуть в суть явления, понять, как оно возникло, как развивалось, чем стало. И вот, оказывается, этот Галилеянин действительно был не так прост, как старался представиться в претории. Оказывается, и слепые прозревали, и немые отворяли уста, и немощные поднимались с одров, умершие выходили из склепов… Но кто в Риме поверит в такие сказки? Кто не рассмеется Пилату в глаза, когда он станет утверждать, что этот Га-Ноцри возвращал умерших к жизни! И чем больше сотворенных этим Проповедником чудес обнаруживал Пилат, тем более незавидной он видел собственную участь…
— Есть небольшое продолжение, — однажды сказал появившийся у Пилата Левкий. — Священник именем Финес и с ним левиты Аггей и Адда пришли в Иерусалим из Галилеи и сказали собравшимся в синагоге, что видели живого Иисуса: Распятый говорил со Своими учениками на Масличной горе. Он сказал ученикам: «Идите в мир весь, проповедуйте всем народам, крестя неверных во имя Отца и Сына и Святого Духа. Кто уверует и крестится, спасен будет». А потом видели мы Его восходящим в небо.
Левкий продолжал:
— И когда услышали это первосвященник и старейшины, и левиты, они переполошились. А когда успокоились, сказали этим троим: «Призовите Бога в свидетели, что все виденное и слышанное вами истинно».
И отвечали те трое так: «Жив Господь отцов наших, Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова, мы слышали Иисуса, говорящего ученикам, и видели Его восходящим на небо; мы свидетельствуем об истине. Если бы мы скрыли виденное и слышанное, то мы впали бы в грех».
— А тем, кто клянется Богом Авраама, Богом Исаака и Богом Иакова, нельзя не верить, — поддержал клятву тех иудеев Левкий. И продолжал: — Члены синедриона сказали им: «Не говорите никому то, что вы сказали нам об Иисусе». И дали им много денег, и сказали стражникам: «Пойдите с ними, проводите их до их земель, чтобы они не задерживались здесь и не разговаривали ни с кем в Иерусалиме».
— Спасибо тебе, любезный мой Левкий, — сказал Пилат, поднимаясь. Он прошел через весь свой кабинет, достал из стеклянного шкафа золотой письменный прибор, подаренный ему Валерием Гратом, и вручил его Левкию.
— Благодарю тебя, моего главного, верного иерусалимского шпиона, за службу и приказываю, — Пилат поднял перед лицом Левкия руку с устремленным ввысь указующим перстом, — приказываю забыть до самой твоей смерти обо всем том, о чем ты мне только что рассказал. Но сначала… Сначала здесь, в кабинете, запиши все, что ты говорил, слово в слово. Я должен оповестить кесаря о том, что здесь произошло… И о том, что, возможно, еще произойдет… Ты сообразителен, мой еврей, вот и посоображай на благо Рима…
Когда отчет Левкия был готов, Пилат заперся в своем преторианском кабинете и долго внимательнейшим образом изучал текст. Потом после некоторого раздумья он пригласил в кабинет Клавдию Прокулу и дал ей прочитать отчет, составленный Левкием.
— Уж не знаю, поверишь ты или нет, но все это я видела в своем сне, — взялась опять за старое Клавдия Прокула. — А у тебя, как всегда, не хватило терпения дослушать тот сон до конца. Но потом я его почему-то на время забыла. И вот: читаю, и все случилось, как по сну.
— Почему ты видела такой странный сон, это мы обсудим в другой раз, когда вернемся в Кесарию. Возможно, это действительно замечательный сон. Но сейчас меня мучает вопрос: в каком виде все это отправить в Рим? В таком виде, как составил Левкий, посылать нельзя.
— Ни в коем случае, — согласилась жена. — Надо все написать так, чтобы ни у кесаря, ни у Сената не возникло к тебе вопросов и чтобы они не заинтересовались этим Галилеянином. И не стоит вставлять в отчет твои соображения о вифлеемской резне. Не надо умножать сущности без нужды, господин мой Пилат.
— Разумно говоришь, — согласился Пилат. — Очень разумно. И откуда у тебя это? Если бы я знал, что ты так умна, не уверен, что женился бы на тебе. Но сейчас, сейчас я счастлив, что у меня такая сообразительная жена… Написать доклад Тиберию будет непросто.
— Непросто, — согласилась Клавдия Прокула. — Но доверь мне, и я смогу это сделать.
— Ты? — изумился Пилат. — Ты сможешь написать текст для кесаря обо всем, что здесь произошло?
— Да, я… Разве не Клеопатра писала тексты в Римский сенат за Цезаря и Антония?
— Не смеши меня, Клавдия Прокула… Не вгоняй в тоску…
Женщина снисходительно посмотрела на супруга:
— Слушай, игемон, давай запишем и пошлем Тиберию мой сон. Там все так, как у Левкия. И Царь Иудейский, и воскресение Его… Чуть сократим и пошлем.
— Ты, верно, хочешь, чтобы за мной прислали из Рима центуриона с копьем беды?
Пилат встал и прошелся по кабинету. Он тогда еще не был знаком с мудрой иудейской заповедью, гласившей: «В смертный твой час взыщется с тебя за всякий разговор, что вел ты без нужды с женой своей». Поэтому, чтобы уйти от грустных мыслей, он решил, как всякий настоящий философ, немного подурачиться: стал маршировать вокруг стола, как маршируют центурионы на параде. Супруга любовалась Пилатом. Такой он ей больше нравился.
Надурачившись, игемон сказал:
— А что, Клавдия Прокула, скажи, могла бы ты быть женой кесаря?
— Могла бы, — согласилась супруга. — Если бы муж был порасторопнее и чаще слушал свою Клавдию. Говорила же тебе: спаси Галилеянина. А ты поддался Каиафе… В докладе все вали на этого стервеца первосвященника.
— Спаси Галилеянина! Спаси Галилеянина! Легко сказать. Вспомни судьбу дочери Сеяна. Хочешь, чтобы и нас постигла такая участь? Рим ждет: только оступись, Пилат… У меня ощущение, что суд вершил не я, а кто-то другой.
— Как это — не ты?
— Мне трудно это объяснить… Возможно, что тот самый Рок, что погубил Эдипа…
На другой день Пилат, настроенный на серьезный разговор, встретился с Каиафой.
— Первосвященник, — хмуро сказал Пилат. — Заклинаю тебя твоим Богом, не утаивай истины. Скажи мне, сказано ли в ваших писаниях, которые вы храните в Храме, что Иисус, которого вы распяли, — Сын Божий?
— Ошибаешься, римлянин. Это вы распяли Назарея. Нам распинать запрещает Закон. Это вы казните распятием. Виселиц по дорогам наставили… Ни пройти, ни проехать честному иудею.
— Не уходи от вопроса, первосвященник.
Худое желтое лицо первосвященника еще более пожелтело. Глаза отрешенно впились в переносицу прокуратора.
— Если ты, прокуратор, не понял еще, что произошло, тогда слушай и содрогайся… После того как мы вместе с тобою, римлянин, распяли Иисуса, не зная, что Он — Сын Божий, и полагая, что Он творил чудеса волхованием и колдовством, мы созвали большой совет в Храме. Мы нашли много свидетелей из народа нашего, которые свидетельствовали, что видели Его живого после смерти на Масличной горе, вновь проповедующего своим ученикам, и мы видели двух свидетелей, воскрешенных Иисусом из мертвых, и они известили нас о великих чудесах, совершенных Иисусом среди мертвых, и мы имеем их свидетельства писаные. После этого мы смотрели священные книги и искали свидетельство Божие… И открылось нам, игемон, что Иисус, распятый нами, есть Иисус Христос, Сын Божий, Бог истинный и всемогущий.
Первосвященник Каиафа и игемон Понтий Пилат посмотрели в глаза друг другу и поняли: руки обоих в крови. И нет им прощения.
Пилат спросил:
— И еще, Каиафа. Ответь, связана ли судьба Иисуса с резней, устроенной Иродом в Вифлееме?
— Ты проницателен, господин мой Пилат. Связана. Все земное в этой истории оттуда и началось… В Вифлееме родился младенец…
Ну что ж, кажется, теперь все встало на свои места. Значит, Га-Ноцри не самозванец. О нем говорили древние пророки Израиля. Что-то в таком духе и ожидал услышать Пилат. Вот и поставлена точка. Но — последняя ли? Попробуй теперь все свяжи и все объясни кесарю, Пилат! Худо это или хорошо ли, во всяком случае, можно начинать готовить окончательный доклад для Рима.
Но мудрая Прокула опять предостерегла.
— Господин мой Пилат, — сказала умная женщина, — чтобы сократить количество вопросов, которые ты услышишь от кесаря или в Сенате, тебе следовало бы разобраться в земном происхождении этого Назарянина. Кто в Риме тебе поверит, что этот Га-Ноцри — Сын Божий? Видел ли ты земных сыновей Юпитера? Кесари, хоть и называют себя сынами богов, но мы-то знаем, кто их истинные родители. В общем, думаю, сенаторы тебя засмеют. Так что вернись на землю. Как ты помнишь, священники утверждали, что Назарянин незаконнорожденный… Другие члены синедриона отрицали это. Что ты ответишь в Риме на эти вопросы? Говорят, жива Его мать. Разберись с этим.
Пилат задумался и согласился с Прокулой:
— Я недооценил тебя, моя Юнона. Пусть будет по-твоему.
Он тотчас же вызвал Левкия и потребовал от него отыскать Мать Галилеянина и опросить ее. Как понял Пилат из разговоров со священниками, отец Распятого давно умер. Возможно, Мать прольет хоть немного света на это запутанное темное дело.
Глава 12 Плач Иоанна
Нет, нет, читатель, не думай, что мы совсем забыли о герое нашего повествования Иоанне Зеведееве, или Сыне Громовом, как назвал его Учитель. Просто события в Иерусалиме вы-двинули временно на первое место Понтия Пилата. Все сейчас туго закручивается вокруг него, ибо Пилат ведет следствие и готовит доклад об этом необыкновенном, породившем массу всяческих слухов событии императору Тиберию. И этот доклад станет первым письменным свидетельством об Иисусе Галилеянине. Сыграв сначала свою роль в небесной драме и подготовив для кесаря доклад о случившемся, Пилат, хотим мы того или не хотим, стал первым историком, первым летописцем христианства. Вот ведь как получается, читатель. Пилат свидетельствовал о Христе задолго до евангелистов! Матфей, Марк, Лука, Иоанн — это уже потом. А вначале был доклад в Рим Пилата о событиях четырнадцатого дня нисана! Вот, оказывается, как следовало бы расставлять акценты! Поэтому, соблюдая субординацию, мы и рассказывали сейчас только о нем, о Пилате. Но пора вернуться к Иоанну, которому, как мы знаем, Учитель поручил опекать Свою Матерь, Марию.
Тут, видимо, надо напомнить читателю, что с появлением на побережье моря Галилейского Учителя братья Иаков и Иоанн совсем забросили рыбачий промысел, оставили дом свой и отца своего и всюду сопровождали Иисуса по землям Иудейским, холмам Самарии и Галилеи, а после трагедии на Голгофе и вовсе перебрались в Иерусалим. Старый Зеведей, видя бедственное положение сыновей своих и не понимая, что полунищенское их существование идет не от лености, но предусмотрено наставлениями Учителя, продал лодку и снасти и приобрел для них небольшой дом в Гефсимании. Дом был плохой, старый, со множеством трещин в каменных стенах, местами поросших травой. Плоская крыша дома была покрыта густыми спрессованными ветвями, протекала, и в дождливые дни Иоанн постоянно заделывал места протечек обрезками козьих шкур.
В этом доме, памятуя произнесенные на кресте слова Иисуса: «Се Матерь твоя!», Иоанн и поселил Марию после казни Учителя. Брат Иоанна Иаков вместе с другими учениками, избранными и названными Христом апостолами, разбрелись по свету проповедовать слово Божие. В граде Давидовом остался только земной брат Учителя — сын Иосифа от первого брака — Иаков.
Иаков, занимавший видное место в Иерусалим-ской церкви, изредка навещал Марию и Иоанна, приносил еду; они подолгу беседовали, вспоминали земные дела и подвиги Иисуса, Его стычки с фарисеями и церковниками, которые все так же остервенело преследовали учеников Христовых и по научению первосвященника готовили Иакову, не отступившему от мессианских проповедей Иисуса, погибель. Сам Иоанн, чтобы добыть пропитание, приобщился к ремеслу, начал работать с кожей; он занимался починкой обуви, ремонтировал седла для подъяремных животных, и потому был день, и была еда в доме.
Чтобы не утруждать Богоматерь домашними делами, Иоанн пригласил в дом служанку, но Мария не захотела, чтобы работу по дому делал кто-то другой, и, благословив, отослала девушку, которая готова была служить без всякой платы, восвояси.
После ухода Учителя как-то само собой сложилось, что Иоанн стал собирать вокруг себя окрестных детей и рассказывать им об Иисусе. Вел с ними духовные разговоры. В этом было хоть какое-то утешение для него. Он рассказывал детям, как пришел на берег Учитель и увлек за собой братьев Иониных и Зеведеевых, о том, как собралось их двенадцать, и как всюду ходили они за своим Учителем, и как Он учил их прощать и любить братьев своих. Он рассказал им и о своем пророческом сне, и как плыл с Учителем в лодке, и о том, как Иисус изгонял бесов и поднимал расслабленных с одров… А однажды, оглянувшись и пересчитав юных учеников своих, Иоанн вдруг увидел, что их у него набралось ровно двенадцать. И они всюду сопровождали Иоанна, как своего учителя, и внимали каждому его слову. Иоанн подивился такому совпадению и рассказал об этом Матери Иисуса, Марии. И Мария пришла на их беседу, и благословила детей, и возложила руки свои Божественные на каждого, и посоветовала ему сводить учеников на гору Елеонскую. И Иоанн повел их, двенадцать иерусалимских подростков, на гору Елеонскую и учил их там читать «Отче наш», пересказывал им Нагорную проповедь… Но однажды случилось неприятное. Отец одного из учеников набросился на Иоанна с руганью и с кулаками. Оказалось, мальчик рассказал дома, что Иоанн, поучая детей тому, как становятся христианами взрослые люди, поведал, что многие из страждущих приобщиться христовой веры продают земли, виноградники и раздают деньги бедным, а сами уходят жить в общину и живут, помогая друг другу. Опасаясь, как бы будущий наследник не пустил имущество по ветру, отец семейства устроил Иоанну разнос и забрал будущего апостола из их маленького братства. «Вот и осталось нас одиннадцать, — заметил один из малых сих. — Совсем как у Учителя, когда откололся от братьев Иуда Симонов и предал Сына Человеческого».
Как-то, вернувшись домой от хозяина конюшни, которому он чинил седла для мулов, Иоанн застал сидевшую у ног Марии скромно одетую женщину, мало похожую на иудейку: к Богоматери часто приходили женщины, ищущие духовного совета. Удивительно, что при виде Иоанна эта женщина не потупилась, как обычно ведут себя при посторонних мужчинах еврейки, а, наоборот, чуть приоткрыла лицо, улыбнулась ему, поклонилась и сказала Марии, что знает этого господина — он ученик Сына Божия, и она видела его у колодца Иакова, когда Учитель говорил с ней. Иоанн присмотрелся к гостье и узнал ее. Это была та самарянка, с которой Учитель беседовал у колодца. Самарянка сказала Марии, что хочет пострадать за Мессию, которого распяли и который говорил с ней, но не знает как, не знает, что для этого надо делать. Она рассказала Марии и Иоанну, что только что подралась с одной еврейкой, которая ходила по базару и кричала, что Иисус — презренный самарянин и носил в себе беса. Потом женщина поведала Марии историю о той знаменательной встрече у колодца, о которой сегодня знает весь мир, и Иоанн с интересом слушал и изредка кивал в знак одобрения. Он, хоть и помнил эту встречу, но подошел к колодцу вместе с другими учениками, когда разговор самарянки с Учителем подходил к концу. Так что ему тоже было интересно послушать о том, что было в начале беседы Учителя с самарянкой. Учитель всегда был сдержан и не любил лишних разговоров.
Самарянка рассказала, как пришла за водой и увидела сидящего на земле у колодца уставшего от пути и жары бедно одетого босого путника, с виду иудея, и очень удивилась, когда Он попросил у нее воды. Надо сказать, что иудеи всегда презирали самарян, гнушались ими…
— Я у Него спросила, — рассказывала самарянка, — «Как же Ты, будучи иудеем, просишь пить у меня, самарянки? Разве Закон ваш дозволяет иудею с самарянами сообщаться?» Он ничего не ответил и как-то чудно посмотрел на меня. Я сказала ему, что вода здесь чистая, что ее пил еще патриарх Иаков с сыновьями, а он ответил мне: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную».
Самарянка замолчала и перевела взгляд с Марии на Иоанна. Иоанн подумал: «Поняла ли эта женщина, что Учитель, говоря так, не имел попечения о теле, а говорил о жажде духовной?»
— Я просила Его дать мне той воды, про которую Он говорил, чтобы мне больше не иметь жажды и не пить не из тех колодцев.
Иоанн представил, как подивился и возрадовался умным словам самарянки, возвысившейся до понимания «живой воды», его Учитель.
Женщина продолжала:
— Тогда Он говорит: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Я сказала Ему, что мужа у меня нет. Он посмотрел на меня своими удивительными глазами и говорит: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе». Как я это услышала, так и обмерла, а потому что все, что он говорил обо мне, — правда. Говорю Ему: «Вижу, что Ты пророк!» Он смотрит на меня внимательно и молчит. Я спрашиваю: «Не Ты ли Мессия, которого ждет народ и который, когда приидет, разъяснит все?» Он отвечает: «Это Я, Который говорит с тобою». Тут пришли Его ученики и с ними этот вот господин, — она посмотрела на Иоанна и снова поклонилась ему. — И я, подоткнув тунику, убежала в город, чтобы позвать людей посмотреть на этого Человека, который рассказал мне о моих мужьях и о живой воде: не Он ли Христос? Люди спешно вышли из города, пришли к колодцу и слушали. А Он говорил, что иудеи и самаряне не радеют о душе, а много пекутся о теле, очищая его всевозможным образом, и что не овец и тельцов надо приносить Богу во всесожжение, но самого себя. Я хотела спросить: как это? Но испугалась. А он продолжал: «Не плоть надобно нам обрезывать, а лукавые помыслы, распинать себя, потреблять и умерщвлять неразумные пожелания …»
Да. Правду говорит эта самарянка. Все так и было. Иоанн помнил ту сцену. Прибежавшие из города с этой женщиной люди смотрели на Учителя во все глаза, изумлялись Его словам. Еще бы! Ведь самаряне, как и иудеи, тоже чтили закон Моисея. Люди переговаривались между собой, чего-то пугались, и было видно, что они не готовы подняться до высот Его учения. Однако многие из них все же уверовали в Него и стали просить побыть у них; и Он пробыл там два дня. И еще больше людей уверовало по Его слову. По прошествии же двух дней Он вышел оттуда и пошел в Галилею.
— Молись за Него, — сказала на прощание самарянке Мария.
— Я не знаю той молитвы, которой за Него надо молиться, — ответила женщина, переводя взгляд с Марии на Иоанна.
Мария тоже посмотрела на Иоанна.
— Молись так, дитя мое, — сказал Иоанн, — и научи своих самарян этой молитве. — И любимый ученик Иисуса, Сын Громов, стал читать растерявшейся и смутившейся от такого внимания к себе, всем чуждой, затюканной лжехристами в этом избранном Богом Давидовом граде женщине «Отче наш».
— Отче наш, — шептала одними губами смущенная, не привыкшая к такому вниманию к себе самарянка. — Отче наш, сущий на Небесах! да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе …
С того дня, как Учитель покинул апостолов, великая тоска навалились на Иоанна. Апостол страдал от частых перепадов настроения. Яркий, красочный, многошумный мир людей вокруг вмиг сделался черно-белым и испугал его, юного прилежного ученика, лишенного привычной поддержки Наставника; ученик тот остро почувствовал одиночество свое на земле. Порабощенный мягкой, обволакивающей волею Учителя своего и не успевший еще привыкнуть к самостоятельности, Иоанн хотел было искать духовной поддержки у старшего по возрасту Петра, — свою нареченную Мать, Матерь Христа, он — упаси Боже! — не смел и в мыслях побеспокоить своими печалями, — но, припомнив рыжебородому Симону его тройное отречение от Иисуса, продолжал держаться с ним отчужденно, холодно, пока Петр, многоопытный, мудрый муж, едва ли не годившийся Иоанну в отцы, смирив наконец гордыню, не протянул любимому ученику Иисуса свою крепкую руку рыбака. Петр не был философом, как Иоанн. Петр, как всякий рыбак, был человеком дела. Поэтому он сразу же взял, что называется, быка за рога и, впрягаясь в ярмо апостольского служения, предложил еще не пришедшему в себя после расставания с Учителем Иоанну посетить Иерусалимский храм, в котором они, ученики Его, возбужденные своим Наставником, еще недавно неистовствовали, шумели, переворачивали столы менял, выпускали в небо жертвенных голубей, перепелов, разгоняли фарисеев и книжников, злословивших их Учителя, и там, в Храме, говорить с людьми, как им и было наказано Иисусом, нести в Мир Слово Божие.
За годы хождений по дорогам Иуды, Самарии, Галилеи Иоанн привык каждодневно видеть рядом с собой вдохновенное лицо Учителя, чувствовать на себе его задумчивый взгляд, слушать его чуть глуховатый, с поучительными интонациями голос и привязался к Нему своим неискушенным юношеским сердцем; впитывал в себя все, что говорил Он, и, по правде сказать, порой, принимая сказанное на веру, мало вникал в смыслы произносимых Наставником поучений. Смотрящий в рот своему Учителю, единственное, чего не забывал делать Иоанн, это молиться, и когда погружался в молитву, перед ним временами возникал лик Учителя, и это смущало юношу, ибо понимание единства Отца и Сына Человеческого давалось ему на первых порах с трудом. Это уже позднее он поймет и запишет в своем Евангелии сказанное Учителем: «Видевший Меня видел Отца».
Конечно, в памяти еще звучали прощальные слова Учителя. Иисус запретил апостолам унывать, пообещав: «Я с вами во все дни до скончания века». Он напутствовал своих первых учеников словами: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сыны и Святого Духа».
Иоанн помнил: это были те же слова, которые произнес Иоанн Креститель на Иордане, окуная братьев Зеведеевых в прозрачные воды реки; слова, которые так сильно озадачили тогда юношу и его брата Иакова. Теперь, пройдя школу в странствиях Галилейских, Иоанн понимал смысл тех слов, смысл крещения Святым Духом, и это была та спасительная соломинка, за которую он ухватился, потеряв возлюбленного Учителя своего. Он плохо понимал, что говорил ему о необходимости идти к людям Петр и другие ученики, он слушал их слова, обращенные к нему, но не воспринимал их, хотя тут же согласился пойти с Петром, прозванным Учителем Кифой (что означает «камень») в Храм. Однако не поделился с Петром своим замыслом походить по местам, дорогим их Учителю. Отправился в путь один. Он побывал в Вифлееме. Иоанн поразился первозданной красоте Вифлеема, расположенного на скалистой возвышенности. Город был окружен виноградниками, рощами миндальных и масличных деревьев. Иоанн никогда не видел такого обилия цветов… И он помолился Создателю, сотворившему такую красоту.
Из Вифлеема Иоанн принес Марии небольшой гладкий камень, который подобрал в пещере, где родился Иисус. Рассказал о маленьком происшествии: у входа в пещеру дорогу ему вдруг переградил большой змей. Иоанн на миг растерялся. Мелькнула мысль: враг хочет отвратить его от Учителя. Иоанн тут же сотворил перстом крестное знамение, дунул, и змей сник, свернулся, как сворачивается береста от огня.
Побывал Сын Громов и на Иордане. Войдя в поток и постояв некоторое время в быстрой и прохладной речной воде, он троекратно погрузился под воду, мысленно переживая встречу с Предтечей, и вернулся в Иерусалим, готовый к сотрудничеству с Петром…
Но боль и тоска по утраченным дням — увидит ли он еще своего Учителя — не оставляли его. Порой Иоанн замыкался в себе, понимая, однако, что его одолевает непонятная гордыня, и завидовал Симону Ионину, никогда не сомневавшемуся в своей правоте. Рыбак Симон Ионин, Петр, и правда был тверд, как камень, Кифа. А Иоанн был другой. Он был из другого теста. И ему снились сны. А Кифа снов не видел. По крайней мере, так думал о Петре Иоанн. Интересно, что и Учитель знал: Петр и его любимый ученик — из разного теста. Но они оба были дороги Учителю. Он любил обоих и не желал ссор между ними.
Видя, как мается и как томится тоскою ее нареченный сын, Мария научила его пойти на гору Елеонскую, откуда вознесся и где любил молиться Иисус, и обратиться там к Сыну Божию за поддержкой. И послушался Иоанн Марию. Прежде чем пойти с Петром и другими апостолами к Храму, Иоанн отправился на гору Елеонскую и молился там, обратившись к Богу.
Знакомыми хожеными и перехоженными тропами, минуя рощи масличных деревьев, Иоанн поднялся на гору и замер от внезапно открывшейся ему красоты: внизу, в сиреневой утренней дымке, будто впервые увидел он сверкающий на солнце город. И в сиянии утреннего солнца блестело золото беломраморного, построенного Иродом Храма, возвышавшегося над городом на той самой скале, где когда-то мудрый царь Соломон воздвиг первый Храм Богу евреев. Храм, казалось, плыл в дымке, слегка покачиваясь, как белый парусник на легкой Средиземноморской зыби… Велик Бог, создавший для людей такую красоту… И на ум ему пришли слова плача Иисусова: «Иерусалим!.. сколько раз хотел Я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья…»
На сердце стало легко. Иоанну казалось, что где-то рядом Учитель, и сейчас Он окликнет ученика своего, которого любил… Но вдруг Иоанн замер: он увидел, как на строение набежала тень, Храм внизу дрогнул, покачнулся, по белым стенам его, как молнии, побежали и заискрились трещины… Что это? Сбывалось пророчество Иисуса о Храме?.. «Истинно говорю вам: не останется здесь камня на камне, все будет разрушено», — еще недавно пророчествовал Учитель.
Иоанн зажмурился, потом тыльной стороной ладони протер глаза. Храм был на месте, и стены его победно, как и раньше, белели, как паруса, возвышаясь над плоскими крышами иерусалимских домов. А трещины? О, это всего лишь игра света. Темное облако на миг закрыло солнце, и растревоженное воображение Иоанна увидело то, чему еще предстояло быть: дымы над Храмом и разрушение белых стен.
До конца Храма оставалось почти тридцать лет.
Подняв взор свой и руки свои к небу, Иоанн молился:
Прибежище мое и защита моя,
Бог мой, на Которого я уповаю…
Я уподобился пеликану в пустыне;
Я стал как филин на развалинах,
Не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле…
И молился Иоанн, и плакал, но не нашим с вами обычным человеческим плачем, а плачем, которым плакали пророки, плачем Исайи, Иеремии, плачем Иезекииля… Перепояшьтесь вретищем, плачьте и рыдайте … И не по Израилю плакал Иоанн в отличие от пророков. Плакал он по своему Учителю — Сыну Человеческому, который избрал его и вложил в уста его Слово Божие.
И была у него в то утро одна тайная, тешившая гордыню мысль, что случится невероятное и появится перед ним Учитель, сойдет с небес, как уже сходил к братиям, сойдет, чтобы поддержать погрузившегося в печаль своего любимого ученика. Ведь читатель, наверное, еще не забыл, что раввин Ахав напророчил Иоанну, что быть ему царем или пророком, и с тех юных лет, не в силах смирить до конца свою детскую гордыню, Сын Громов тайно от братьев своих носил и лелеял слова те в сердце своем и верил, что пророчество то осуществится. Ведь послан же был свыше ему, и только ему тот сон про Распятого, говорившего с ним. И не без доли страха, должно быть, и с замиранием юного сердца представлял Иоанн, как все это происходило на Небесах: Господь, наверное, сказал архангелу Гавриилу что-то наподобие: «Обратил ли ты внимание на раба моего Иоанна? Ибо нет такого, как он, на земле…» И сейчас же Гавриил послал Иоанну тот самый сон, где Учитель с креста говорит с ним, и не просто говорит, а указывает Богоматери на него: «Жено! се сын Твой». Нет, видно, не дано ему забыть тот вещий сон. Ведь не случайно свела его судьба с Учителем… Нет, не случайно.
И опять, и опять Иоанн видел распятие, видел мученическую смерть своего Учителя, слышал поразившие его незабываемые слова, сказанные Христом Богоматери: «Жено! се сын Твой»… Видел, как затмилось солнце и тьма опустилась на Голгофу…
И была ночь с пятницы на субботу. Когда, обезумев от горя, Иоанн долго и тяжело спал, а наутро, проснувшись, ужаснулся случившемуся и подумал: «А вдруг это все сон?.. И был ли Учитель, были ли Андрей с Петром, был ли Иуда Симонов? Ему страшно было вернуться в реальность жизни, в ее повседневность и не найти там больше Учителя своего…»
И плакал Иоанн на Елеонской горе; плакал об Учителе, и плакал о братьях своих апостолах, которые были сейчас живы и здоровы и готовились много послужить Слову Божиему. И судьбы их, уготовленные им свыше, он увидел в своем видении, как не дано смертному никакому, если он не пророк.
И содрогнулся Иоанн от того видения.
Смотрю на горы — и вот они дрожат, и все холмы колеблются.
Смотрю — и вот, нет человека, и все птицы небесные разлетелись.
И увидел Иоанн много огня и тлена, крови и смерти жестокой, которую претерпевали братья его во Христе, первые ученики и земные братья Иисуса. Увидел, как идет беда за бедою. Посмотрел на небеса и не увидел в них света.
Первым он увидел брата своего Иакова Зеведеева и плакал и терзался по нем. Ибо «царь Ирод поднял руки на некоторых принадлежавших к церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом…»
Иоанну привиделось, как схватили Иакова стражники с мечами по доносу иудея-менялы, били, пытали пытками, мучили мучениями, кололи железом и жгли огнем и как, к удивлению мучителей, внезапно возжелал смерти тот предатель-меняла, стоявший тут же, когда Иаков, над головой которого уже занесли меч, благословил предателя и просил Господа простить заблудшего. Иудей так рвался и кричал, так молил людей Ирода Агрипы убить и его вместе с апостолом, что палач, отрубив голову старшему Сыну Громов, тут же, не долго думая, повторил эту процедуру над предавшим праведника менялой…
Иоанн плакал над страшной смертью другого Иакова, сводного брата Иисуса, епископа церкви Иерусалимской. Верой своей, стеснительной, не фарисейской жизнью, преданностью учению Сына Божия, утверждениями, что Сын Давидов восседает ныне одесную Бога и скоро приидет на облаках судить род человеческий, он до помрачения рассудка довел и восстановил против себя злобствующих фарисеев и книжников. Забыв о Боге, они накинулись на святого, как нечестивые, и буквально затоптали его. И Иоанн с содроганием увидел, как один безумный сукновал остервенело бил и бил Иакова по голове деревянной колотушкой, забивая до смерти праведника, лежащего на ступенях Храма…
Иоанн плакал над рыжебородым Симоном Иониным — Петром, которого увидел стоящим у только что обстроганного, готового и его принять, как Христа, деревянного столба с перекладиной, приготовленного для казни апостола. Иоанн ужаснулся, когда по просьбе праведника палачи, деловито переговариваясь, стали менять перекладину и прибивать Петра головой вниз. Ибо апостол не посчитал себя достойным повторить Христово распятие и, как праведник меньший, хотел претерпеть большее унижение, чем его Учитель… Да, подумал Иоанн, недаром Иисус называл его Кифа, камень! А рядом с Петром он увидел другого праведника, которого палачи тоже готовили к казни. Лицо его было знакомо и незнакомо. Обреченный на распятие Петр называл его апостолом, возлюбленным братом своим. Но этот человек был неизвестен Иоанну. Видение было туманно, и четких очертаний лица Иоанн не видел. И все же лицо праведника было ему чем-то знакомо. Иоанн вспомнил свой детский, перевернувший всю его рыбачью жизнь сон. Этот человек был похож на одного из несчастных, распятых рядом с Учителем. Это он останавливал разбойника, злословившего Иисуса, и просил Иисуса помянуть его, когда Тот приидет в Царствие Свое. На что Христос отвечал ему: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю». Это о нем Иоанн спрашивал Учителя во время поездки в Тивериаду: «Могут ли разбойники попасть в рай?» На что Учитель отвечал: могут, если покаются и верой и делами своими искупят грехи свои. Значит, покаялся тот распятый, поверил и искупил грехи свои и стал праведником и даже, как назвал его Петр, апостолом, братом возлюбленным… Кто же это? Иоанн никогда не встречал его в окружении Учителя. Но ведь видение это о будущем… Кто-то дает ему, Иоанну, эти знания пророка. Может быть, это его наставляет Учитель?
Он видел рыбаря Галилейского, апостола Андрея Ионина, не отрекшегося под пытками от Слова Божьего и благословлявшего распинавших его на косом кресте варваров.
Он видел мученические казни Фомы, Варфоломея, Симона Зилота, Иуды Иаковлева… Он видел пути и кончины своих братьев апостолов и только не видел, что уготовлено ему самому, Иоанну, Сыну Громову. И обратился к Учителю.
— Вспомни обо мне, Господи, — попросил он Учителя своего. — Посети меня спасением Твоим.
И тут же на память пришли слова Учителя, сказанные о нем незадолго до распятия Петру. О, он, Иоанн, помнил, как пронеслось то слово между братиями, что ученик тот не умрет. Но ведь Иисус не сказал ему, что он не умрет. Он сказал Петру только: «Если Я хочу, чтобы он пребыл, пока прииду, что тебе до этого?» Как понимать это?
Такими мыслями сопровождались видения Иоанна и его плач по братьям его возлюбленным. И, лежа под смоковницей, уткнувшись лицом в землю, плакал Иоанн.
Плакал Иоанн и просил Бога:
Помилуй меня, Господи, ибо
я немощен; исцели меня Господи,
ибо кости мои потрясены…
Утомлен я вздыханиями моими:
Каждую ночь омываю ложе мое,
слезами моими омочаю постель мою…
Глава 13 Пилат продолжает расследование
Тайный советник выполнил поручение Пилата. С помощью своих осведомителей он отыскал Мать Назарянина в Гефсимании, в доме Иоанна Зеведея. Выдав себя за священника, облаченный в белые одежды, подпоясанный синим поясом, ловкий шпион сказал Женщине, что только что приехал в Иерусалим и узнал о несчастье. Тут же поведал, что не раз беседовал с Иисусом в Вифании и что является Его тайным учеником, что потрясен свершившимся и пришел с соболезнованиями, пришел посочувствовать материнскому горю, помочь деньгами. Пользуясь отсутствием Сына Громова, Левкий долго беседовал с Марией, не отступая, однако, от поставленной прокуратором задачи: вызнать у Нее тайну рождения распятого Проповедника.
Поскольку данная беседа носила деликатный характер и собеседники были фигурами, явно не равнозначными, мы лишь слегка коснемся земных переживаний Марии, на долю Которой выпало столько страданий и Которая все еще не переставала оплакивать своего Божественного Сына. Ибо, как понимает читатель, большего сказать рассказчику не позволено… И рассказывать о Марии мы будем, опираясь не столько на собранные Левкием материалы, сколько на составленные богословами предания.
…После ужасов Голгофы Мария много думала об Иисусе. О Его короткой, странной, не понятной Ей жизни. И по тому, как складывались Его отношения с Храмом, обитавшими в нем фарисеями и книжниками, священниками Анной и Каиафой, Она чувствовала, как росло Его расхождение с законниками, и с каждым днем Она все более и более опасалась за Его жизнь.
Голгофа потрясла Ее. Она не помнила, кто из близких Ей женщин окружал Ее у распятия, не помнила, как младший ученик Иисуса, Иоанн, увел ее с холма, как поселил в своем доме. С тех дней большие глаза Марии были полны слезами, как озера Галилейские наполнены водой. Когда она начинала думать о Сыне, на ум чаще приходили события ранних лет Иисуса, его странный нрав, пугавший сверстников и учителей, в котором проявлялась Его неземная мудрость, стремление тотчас же искоренять посеянное лукавым зло. Жестоко наказывая своих сверстников за проступки, Он возбуждал ненависть их родителей. И они, обращаясь к Иосифу как к отцу Иисуса, говорили ему: «Возьми этого Иисуса отсюда, ибо не может жить Он с нами в этом городе. Или, по крайней мере, выучи Его благословлять, а не проклинать». И говорил тогда Иосиф маленькому Иисусу: «Зачем поступаешь Ты так? Уж очень много жалуются на Тебя, и ненавистны мы из-за Тебя, и благодаря Тебе мы возбудим народ против себя». На что мальчик резонно отвечал: «Мое проклятие не вредит никому, кроме тех, кто делает зло». Мария поражалась такому ответу. Однако же постоянно жила в страхе, боясь, как бы народ израильский не пришел в ярость и не впал в преступление против их Сына за его рассуждения и поступки, как и случилось впоследствии… А ведь скольких несчастных и сирых Он излечил, и благословил, и поставил на путь истинный… И за все это фарисеи и книжники, возбудив слепую во гневе толпу и склонив прокуратора на свою сторону, отправили Сына Ее на Голгофу…
Голгофа…
Сколько раз Марию потом спрашивали о рождении Божественного младенца, но она мало что могла вспомнить. Помнила лишь, как Иосиф ввел Ее в за-брошенную вифлеемскими пастухами пещеру, уложил на охапку принесенного с собой сена и побежал в селение искать знающую женщину. И когда потом он рассказывал Ей обо всем, что происходило тогда, Она пугалась и не понимала значения происходившего. А Иосиф, как какой-нибудь древний поэт или пророк, сам потрясенный увиденными в тот радостный день диковинными вещами, рассказывал, что «увидел небо остановившимся, и воздух омрачился, и птицы задерживались среди полета своего. И, взглянув на землю, он увидел котел, наполненный приготовленным мясом, и работников возлежавших, руки которых были в котлах. И, собравшись есть, они не ели, и те, кто протянули руки, не брали ничего, и кто хотел поднести что-нибудь к устам, не подносил ничего, и взоры всех были обращены к небу. И овцы были рассеяны, они не ходили, но оставались неподвижными. И пастух поднял руку, чтобы ударить их своим посохом, и рука его остановилась, не опускаясь. И, взглянув в сторону реки, он увидел козлов, губы которых касались воды, но они не пили, ибо все в эту минуту уклонились от пути своего».
Мария слушала Иосифа, и поражалась, и не знала, что думать…
Потом начались страхи за Сына и душевное одиночество… У Сына явились ученики. Он отошел от Матери, от братьев своих и проповедовал, и люди уверовали в Него… Мария сделалась молчаливой. А теперь, что ни ночь, Ей снится Голгофа…
Голгофа…
А ведь как необыкновенно и романтично все начиналось! Старые женщины рассказывали Ей потом, что в детстве Она, Мария, была предметом удивления для всего народа. Она ходила степенно. Лицо Ее блистало, как снег. Она прилежно занималась рукоделием. Все речи ее были исполнены милосердия. Никто никогда не видел Ее в гневе. Она всегда была занята молитвой или размышлением о Боге. И не было другой такой из всех девиц, с которыми Она обучалась в храме служению Богу, которая бы была более исполнительной в бдениях, более сведущей в мудрости Закона Божия, более исполненной смирения, более милосердной в благотворении. И если кто-нибудь одержимый болезнью или какой иной немощью прикасался к Ней, возвращался выздоровевшим тотчас.
Раз как-то Она пришла зачерпнуть воды из колодца и услышала голос: «Радуйся, Мария, благодатная, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами!.. Ибо сила Божья осенит Тебя, и Святой родится от Тебя, и Он будет наречен Сыном Божиим. И Ты дашь Ему имя Иисус; Он искупит народ Свой от грехов, которые совершены».
Мария испугалась тех слов и растревожилась.
А священники из Храма, те будто и не ведали Божьих промыслов. Так, первосвященник Авиафар, имея свой интерес, принес большие дары священнослужителям, чтобы отдали Марию в жены его сыну. Но ведь ангел указал Ей иную стезю… И тут тихая, всегда полная милосердия и приветливости Мария воспротивилась: «Невозможно, чтобы я познала мужа или чтобы муж познал меня». Ей говорили: «Мария, чадами прославляется Бог, как всегда это было в народе израильском». Она возражала: «Бог прежде всего прославляется целомудрием». И никто не видел, что ангел Господень был рядом с нею.
Потом уже Иосиф рассказывал Ей, как все это происходило в Храме.
Когда Марии исполнилось четырнадцать лет, фарисеи, подкупленные Авиафаром, заявили, что Она не может больше оставаться молиться в Храме. И поскольку Она сотворила Богу обет пребывать в девственности, решено было спросить у Бога, кому Она должна быть вручена для хранения. Все колена Израилевы стали тянуть жребий, и жребий пал на колено Иудино, из которого и был родом вдовый плотник Иосиф. Тогда первосвященник сказал: «Пусть все, у кого нет жены, придут и принесут посох в руке своей». И все сделали так, как сказал первосвященник. Иосиф вовсе и не собирался стать обручником прекрасной девы из Храма, но что-то толкнуло его, словно кто подсказал, чтобы он сделал так, и он тоже принес свой посох. Его посох был старый, иссохший на вид, и хозяин его никак не рассчитывал оказаться хранителем чистой девы. И стеснялся своего участия в соревновании. Но судьба старца, будто по чьему-то велению, сделала резкий поворот, которого никто из претендентов не мог ожидать. Первосвященник взял у каждого пришедшего посох и внес его в Святая Святых Храма. Прошла ночь. На другой день все собрались снова. Первосвященник в голубой ризе с яблоками из нитей пурпурного и червленого цвета по подолу, украшенной звенящими бубенчиками, вошел в Святая Святых и молился. И тихое нежное позванивание доносилось оттуда. Наконец завесы раздвинулись, и он вышел к народу. Оглядев собравшихся, он стал возвращать посохи их владельцам. И никаких знамений не наблюдалось. На что претенденты вздыхали и удивлялись. И не понимали, что думать.
Иосиф подошел за своим жалким посохом послед-ним. И когда первосвященник, звякнув бубенчиками, повернулся к Иосифу и протянул ему его убогий посох, когда уже казалось, что вся эта процедура окончилась безуспешно, все вдруг увидели, как из этого жалкого старческого плотникова посоха вылетела прекрасная белоснежная голубка и села на голову Иосифу.
В храме наступила тишина. Все замерли.
И первосвященник сказал: «Крепись, Иосиф, сын Давидов, Божьим избранием тебе указано принять эту Деву Господа, чтобы хранить Ее у себя».
Все ждали, что скажет в ответ старый плотник Иосиф.
Иосиф заволновался, засовестился. Он не знал: ликовать ему или плакать. Наконец, обратив лицо свое к первосвященнику, Иосиф промолвил: «Я стар, у меня взрослые дети… Как же так?» На что первосвященник строго сказал: «Страшись Господа Бога твоего, раб Божий Иосиф. Вспомни, что сталось с теми, кто противился велениям Бога».
«Так вот и стал Твой Иосиф обручником», — рассказывал о своем сватовстве Марии старый плотник Иосиф.
Но скоро, очень скоро, как это только и бывает в жизни, первые радости от ощущения своей Богоизбранности сменились большими печалями, и Мария поняла, что посещение ангела не избавляет человека от людских страданий и мук. Она помнила, как возрадовалась, как возликовала, почувствовав, что сбылось предсказанное, что внутренняя плоть ее вдруг изменилась, что в ней проклюнулась новая жизнь, что Она зачала, и зачала не иначе как от Духа Святого, ибо никогда не знала мужчину, и как сразу начались для нее всяческие гонения и печали. Ей было странно, что священники — эти служители Бога — не знают того, о чем Ее известил ангел, и не радуются вместе с Нею Божественному зачатию, а наоборот, будто бы хотят ей навредить и извести будущую Богоматерь. И будто сам лукавый руководит ими. Она запомнила, что накануне того дня, когда глумливые священники привели ее в Большой синедрион, ей приснился отвратительный змей с человеческой головой. Он ничего не говорил, а только противно смеялся и показывал ей, будто злой уличный мальчишка, свой длинный красный язык. Она поняла, что сон тот не к добру. И точно. Утром за ней пришли и повели Ее в Большой синедрион. И тотчас же привели туда и Иосифа, обрученного с Ней, которому было поручено оберегать Марию, дабы хранить Ее чистоту.
И плакала Мария перед синедрионом, и говорила: «Жив Господь Бог мой; Я чиста перед Господом, и Я вовсе не знаю мужа».
Священники же лишь лукаво переглядывались и качали головами.
И клялся, и говорил им Иосиф, что чист, чист от всякого общения с Марией.
И опять они переглядывались и щурили глаза.
И не поверили священники Марии и Иосифу-обручнику. И заставили их пить «воду свидетельства».
Первосвященник сказал Марии: «Многое делает вино, многое делает смех, многое делает молодость, многое делают злые соседи. Сделай для Его Великого Имени, написанного во святости, чтобы Оно не было вычеркнуто водой…» Затем он взял в руки глиняную кружку с водой, вошел в Храм, нашел отведенное для принятия «воды свидетельства» место, поднял за кольцо лежащую под ногами мраморную плиту, после чего стал наполнять лежащей под той плитой землею кружку, пока земля не выступила над водой. После этого написал на специальном пергаменте заклятие, смыл его этой водой, дал выпить Марии и отправил ее в горы. Она вернулась оттуда, и лицо ее было чисто и безмятежно. И не было на нем никакого знака, указывающего на грех, и она не чувствовала никакой боли от этого испытания.
Когда той же процедуре подвергали Иосифа, Мария до слез жалела этого унижаемого священниками и злословившими соседями доброго, благочестивого человека, всегда бережно, по-отечески опекавшего Ее. И каждому понятно, что на нем также не обнаружилось никакого греха, никакой метки Господней. И первосвященник развел руками: «Вижу, Бог не засвидетельствовал грех ваш, и я не осужу вас».
И отпустил их оправданными.
Что еще могла поведать шпиону, прикинувшемуся учеником Иисуса, праведная Мария, чтобы у римского прокуратора воссоздалась реальная картина произошедшего? В общем, прокуратор был доволен. Только он не знал: верить тому, что узнал о Марии, или не верить. Но коль скоро он имел доказательства вознесения Назарянина, приходилось верить, что вначале было общение Марии с архангелом Гавриилом, который и принес деве необычайную весть о Божественном зачатии. Во всем происшедшем была своя логика, которой, как и законами, старались всегда руководствоваться римляне, и это вселяло в прокуратора надежду, что доклад его императору будет дочитан тем до конца и правильно понят.
Глава 14 Левкий перестарался
Получивший за донесение о Матери Назарянина от прокуратора золота сверх меры, Левкий, теперь уже по собственной инициативе, отыскал чудом избежавшего распятия, скрывавшегося в иерусалимских притонах, теряющего рассудок ослепшего Варавву. Да, да, читатель, ослепшего. Как это произошло, расскажем чуть позднее. Ибо сейчас нам надо окончательно разобраться с раздраженным обстоятельствами Пилатом и отправить его в Рим. До прокуратора дошли слухи, что недруги и завистники уже мутят воду в Сенате и в окружении императора Тиберия. Уличают игемона в близости с опальным Сеяном. Так что нервы прокуратора были на пределе.
Ценность Вараввы как свидетеля, волею Высших сил избежавшего приготовленного для него распятия, была в том, что лихой разбойник часть той злополучной ночи на пятницу просидел вместе с
Назарянином в темнице и, возможно, имел с Тем разговор. Возможно, смысл этого разговора также сможет пролить еще немного света на эти страшные и таинственные события, и прокуратор опять так же щедро наградит своего шпиона. Так думал Левкий, принимаясь за «разработку» Вараввы. И ему удалось узнать кое-что, о чем этот «вьюн» и проныра и тем более прокуратор и не ведали.
Перед самым отъездом игемона в Кесарию Левкий принес запись своего разговора с Вараввой и планировал порадовать Пилата новым материалом по «делу от четырнадцатого дня нисана», как он обозначил для себя данное происшествие, но был неприятно поражен встречей, устроенной ему прокуратором. Едва Пилат услышал о новых материалах, собранных без его ведома и разрешения, как затопал на Левкия ногами, закричал страшным криком. Переутомленному заботами и собственными неясными перспективами римлянину вдруг пришло в голову, что и после его отъезда, прикрываясь его именем, Левкий станет продолжать свое расследование, как он это только что сделал, отыскав без его согласия Варавву. Кто знает, что он еще откопает и как это отразится на репутации прокуратора? Он нахмурился, с лица исчезло обычное скептическое выражение, которое так подобает философам и знатным, наделенным умом римлянам, а Пилат чувствовал себя и тем и другим. Он уже готов был топнуть ногой и рявкнуть и на появившуюся из глубины покоев Клавдию Прокулу, чтобы не совалась в дела Рима, и вдобавок крикнуть центуриона, чтобы заключить своего верного шпиона под стражу, но, словно с чьей-то подачи, философски посмотрев на себя со стороны, передумал. Тем временем Клавдия Прокула, коснувшись руки Пилата, мягко сказала Левкию:
— Прокуратор Понтий Пилат сегодня не в духе, но он благодарит верного Левкия за службу.
Женщина протянула руку, взяла у растерявшегося тайного советника свиток с текстом нового донесения, вложила ему в ладонь небольшой кожаный мешочек с золотыми монетами и отпустила Левкия восвояси.
— Напрасно мы его отпустили, — покачал головой прокуратор, когда шпион покинул преторий. — Его следовало посадить под арест, придумать повод и… казнить. Дознаватель сей должен исчезнуть… Он слишком инициативен и много знает.
— Да, — согласилась женщина. — Пилат прав. Дознаватель должен исчезнуть… Он инициативен и много знает. Поэтому тайно пошли за ним человека, и пусть верный Левкий однажды бесследно исчезнет. Во имя спокойствия Рима.
— Так тому и быть, — согласился прокуратор. — Во имя спокойствия Рима. Да здравствуют Император, Сенат и народ Рима! — И он взметнул вверх сжатую в кулак руку.
Клавдия Прокула с улыбкой посмотрела на дурачившегося мужа, потом спросила:
— Ты думаешь, стоит читать эту его галиматью?
— Рим пока не снял с меня обязанностей прокуратора, — усмехнулся Пилат. — По дороге я ознакомлюсь с ней.
Когда прокуратор вернулся в Кесарию, в резиденции его встретил гонец с табличкой. В табличке той значилось, что прокуратору надлежит лично прибыть к императору с докладом о событиях в Иерусалиме, имевших место четырнадцатого дня весеннего месяца нисана, повлекших за собой, как стало уже известно в Риме, неожиданные последствия, могущие причинить ущерб безопасности великого Рима… Что имелось в виду под «неожиданными последствиями», Пилат не понял. Не смогла разъяснить смысл этих слов и его сообразительная жена.
Погрузившись со свитой на военный корабль, который должен был доставить его в Рим, прокуратор, вволю надышавшись соленым морским воздухом на палубе и слегка продрогнув, уединился в уютной каюте и принялся за эту «галиматью», как назвала отчет о допросе Левкием Вараввы Клавдия Прокула.
Глава 15 Сказание о Варавве
«Да, да, вот он я, Варавва, — подтвердил Левкию крепкий, коротконосый, пропахший вином и чесноком слепой человек. — Да. Я Варавва, который привык жать, где не сеял, и собирать там, где не рассыпал. За пять серебряных драхм слепой Варавва расскажет тебе, господин мой, свою историю. Варавва, хоть и ослеп от горя, но память не пропил. Так что слушай, человек, что поведает тебе о том страшном дне Варавва, но сначала дай мне деньги…»
Итак, Варавва согласился и, получив причитающиеся ему за свидетельства драхмы, вспомнил эту приключившуюся с ним, как он считал, по воле великого иудейского Бога Ягве, историю… Никогда в его заблудшей жизни события не развивались так быстро, как той ночью. Он помнит, что к ним в камеру смертников в тюрьме при претории под утро был брошен избитый стражниками странный бродяга из Назарета. Ко всеобщему оживлению измученных пытками сидящих с ним в темнице убийц, бродяга тот назвался Царем Иудейским. Бред, конечно, какой Царь Иудейский! Но обреченные обрадовались чудному Назарянину. Они понимали: скорее всего, это кто-нибудь из фокусников, волхвов или лжехристов, которых можно встретить на каждом углу Иерусалима. Но, как бы там ни было, остаток ночи они провели в умиротворении, а раны от воловьих бичей и «скорпионов» перестали вдруг беспокоить их и, что удивительнее всего, мгновенно затянулись. «Тогда я не обратил на это внимания, — рассказывал Варавва, — но теперь понимаю, что это было чудо, которое явил нам, убийцам, этот добрый Назарянин». Разбойника Варавву потрясла еще одна странность, о которой он все время твердил Левкию. Это чудо, которое случилось в момент, когда странного бродягу вывели на каменное возвышеие: знамена, которые крепко держали в своих могучих руках знаменосцы, склонились, приветствуя Назарянина. Варавва вспомнил, что прокуратор велел вывести Назарянина с Гаввафы и пригрозил знаменосцам расправой, если знамена опять склонятся перед тем, кто называет себя Царем Иудейским. Назарянина ввели вновь, и знамена опять наклонились, приветствуя Его. «Я помню, — говорил Варавва, — что прокуратор был испуган, лицо его побелело, и он не знал, что делать. Но мое, Вараввы, конечно, дело телячье. Я ждал конца этой комедии, хотя меня ожидало заслуженное распятие».
В этом месте показаний Вараввы прокуратор остановился, отложил бумаги и порадовался. Есть, оказывается, и другой свидетель, который видел, как склонились знамена. Значит, ему это не привиделось. А раз не привиделось, то зря радуешься: тем хуже это для тебя, Пилат, резонно оценил игемон свидетельство Вараввы. Тем хуже. Но дальше, дальше…
Потом, рассказывал Левкию Варавва, поговорив с Назарянином о всякой ерунде — вроде того, что есть истина, и так далее, прокуратор стал спрашивать у толпы, кого отпустить. Он обратился к толпе: «Вот Сын Человеческий, выдающий себя за Царя Иудейского. Он учит народ возлюбить ближнего, как самого себя, и прощать врагов своих. Он учит подставлять правую щеку, когда тебя ударили по левой. И вот — другой арестант, известный вам разбойник Варавва. Он учит, как учил Моисей: око за око, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, ушиб за ушиб. Кого отпущу вам?»
Тут автор повествования о Сыне Громовом решил, что пора вторгнуться в свидетельские показания Вараввы и для большей ясности и объективности излагать их не от лица Вараввы, а от лица автора. К тому же Левкий многое упустил и упростил в своем документе. А читателю это следует знать. Поэтому автор берет продолжение сказания о Варавве на себя.
Итак, Варавва вспомнил, как, услышав вопрос прокуратора к толпе, от которого зависела его жизнь, в страхе зажмурился. Он было хотел воззвать к своему Богу Ягве, но не умел… Да, это был странный иудей, ибо он не знал своего Бога. Он, правда, побаивался Ягве, но никогда ни о чем не просил Его и лишь изредка благодарил за то, что Тот сделал его мужчиной и дал ему немного ума, чтобы справляться с повседневными делами и плести тенета богатым иудеям. И потому он не ждал от своего Бога помощи в этот трагический для себя момент. И сейчас Пилат, читая в каюте эти признания разбойника, отметил, что Варавва, как ни странно, справедлив к себе. Да уж, кому, кому, но только не Варавве было взывать к еврейскому Богу!
Когда же разбойник услышал крики «Варавву! Варавву! Отпусти, римлянин, Варавву», он подумал, что это сон, хотя никогда в жизни не видел снов. А толпа все орала: «Варавву, Варавву! Отпусти Варавву!»
Варавва боялся открыть глаза, взглянуть на оравших совершенно незнакомых ему людей, почему-то вдруг решивших погубить Назарянина и спасти его, лихого разбойника. Однако ему отрадно было слышать этот спасительный крик, но недоступно понять, почему иудеи предпочитают праведнику из Назарета ленивого и нерадивого безбожника Варавву. Он услышал, как прокуратор сказал стражникам: «Эти безумные иудеи не ведают, что творят. Отпустите им Варавву!» Тут прокуратор вновь отложил текст и задумался: неужели он действительно так сказал: «Не ведают, что творят».
Варавва в страхе открыл глаза и увидел, что прокуратор с отвращением взирает на толпу, на всех окружавших его людей и требует воды, чтобы умыть руки. Что ни говори, а богопротивное дело совершалось в тот день в претории. И это понимал даже Варавва.
Итак, открыв наконец глаза, Варавва увидел на Гаввафе рассерженного, умывающего руки Пилата, отрешенные лица приговоренных, священников в белых одеждах, разношерстную толпу… И вдали, внизу, он увидел Иерусалим, какого никогда в жизни своей не знал, хотя и вырос в притонах на окраине города. Он увидел тяжелые крепостные стены, окружавшие город, блистающие на солнце террасы Божьего храма, белые кубики окрестных домов в зелени масличных деревьев — и над всем этим благолепием висело легкое небесное марево. Варавва увидел мелькание ласточек в небе, кружение орлов в вышине… Вот прокуратор в красной тоге, римские центурионы с короткими мечами, кровь на Гаввафе… Обреченные на казнь… Увидел плачущих в толпе по Назарянину евреев… Тупое оцепенение сменилось острым желанием жить. Желание жить впервые за все дни заключения остро пронзило его.
Жить… Жить… Жить…
И еще он как бы невзначай, как бы мельком, страшась чего-то, взглянул в глаза Назарея, которому предстояло заменить его на распятии. В больших печальных глазах Царя Иудейского была тоска.
И Варавва, чего с ним сроду не бывало, нашел в сердце жалость для Назарянина. Прощай, бедный Иисус, друг по несчастью… Увы нам, увы… «А твоя теперь, счастливчик Варавва, задача — скорее скрыться отсюда. Вдруг этот варвар Пилат передумает?»
И, конечно же, доминировала мысль: «Спасен! Спасен! Слава Богу, спасен! И это надо же, чтобы тебе, Варавва, так повезло в жизни?» Это надо понимать, что народ иудейский любит своего Варавву и предпочитает видеть живым его, а не какого-то затрапезного Галилеянина, выдающего себя, смешно сказать, то за Царя Иудейского, то за Сына Божия. Сколько их, таких тронутых, ездит в Пасху на ослах по священному граду Иерусалиму! И надо же, чтобы так подфартило, чтобы подвернулся этот глупый Галилеянин, поучающий отвечать добром на зло. Добром на зло! Нет! Нарочно не придумаешь! Умора… Варавва с удовольствием чувствовал, что опять превращался в дерзкого громилу, которому все нипочем… И все же он не мог забыть о Царе Иудейском. Каково ему, бедному, там, на Голгофе? Да и этим двум придуркам, что будут вместе с ним распяты, тоже невесело. Но им — поделом. Ну а он, Варавва, он — что? Он — вот он! Он хоть и не сын Давидов, но — живой! Варавва постучал себя кулаком по груди, будто желая проверить, что жив. Жив! Вот в чем смысл, и счастье, и удача для человека. Он хоть и из простолюдинов, но немного философ, этот Варавва. Философия же его проста и бесхитрост-на: «Живи, пока живешь!». Следуя ей, он сейчас на всякий случай забьется куда-нибудь подальше и поглубже; заляжет на одном из разбойничьих своих лежбищ, а потом отыграется за все страдания. Уж он-то знает, как это сделать в лучшем виде! Первое — он, конечно, как следует и с удовольствием выпьет вина. О, как давно он не пил вина! Святое дело! Пить будет большими глотками. Три глотка — и отдых. Три — и отдых. Знаете, да? Потом выпотрошит кого-нибудь в кости. Ну а потом? О, потом! — Варавва потер руки, — потом он начнет познавать своих любезных подружек: веселую Шин и вечно печальную Нун… У него аж заломило в паху от предвкушения. Нет, он не будет с ними диким самарийским ослом, каким бывал раньше! Просидев месяц в тюрьме, он кое-что понял. Он будет делать это с ними долго, нежно и неторопливо. В застенке у прокуратора ему понравилось, как один грек поучал того Назарея, которого пред рассветом втолкнули к ним в камеру: «Торопись медленно». «Торопись медленно — и не попадешь на перекладину раньше времени», — учил Галилеянина хитрый грек. Уж что там перенял от этого грека этот несчастный Назарей — неизвестно, а он, Варавва, понял: познаешь женщину — «торопись медленно!». «Уж не иначе, это слова главного их, греков, прелюбодея — Зевса», — думал Варавва. Он всегда симпатизировал грекам. С ними легче работать по воровскому делу, чем с иудеями. Иудеи скрытны и скаредны. Больше думают о мирском богатстве, чем о спасении душ. Руки стараются держать на кушаке, где зашиты деньги, даже когда напьются. А греки — те нет. О, у них главное: «Ин вина веритас!». Они говорливы и пьют до посинения.
Насладившись женщинами, Варавва, возможно, будет всю ночь плясать и петь песни. Но негромко, нет, вполголоса, чтобы не нарушать ночной покой сограждан и чтобы не попутала стража, он будет смеяться и радоваться жизни: не каждый же день человеку удается избежать распятия! А вот будет ли он молиться, как советовал ему тот Назарей, это бабушка надвое сказала. Вот Назарей — тот молился в темнице, молился, а попал, однако, на крест. Варавва же смеялся, богохульствовал, дрался с охранниками, а креста избежал и свободен, как легкокрылый ангел. Вот и рассуди, читатель!
Итак, исчез Варавва от глаз людских; исчез — и баста; залег на иерусалимском дне. На дело пока не собирался, благо денежки у него были припрятаны и на вино и блудниц ему хватало.
Прошел месяц, другой, члены шайки начали на него косо поглядывать: уж не «завязал» ли лихой разбойник? А он лишь отговаривался: «Не пришло мое время, не пришло». Вот и пойми, что на уме у Вараввы. Да он и сам не понимал. Хмурым стал. Пугливым. Конечно, раз тебя приговорили к смерти, то, хоть и спасся, но разве теперь ты — жилец? С одной стороны, Варавва харахорился, ершился, с другой — словно чего-то опасался. Не стражи, нет. Это в первые дни он боялся, что римлянин передумает, а потом поверил в свое спасение. А вот чего время от времени начинал пугаться — понять не мог. С чего-то стал особо внимателен к слухам. Разное говорили о том Назарянине. Варавве было бы спокойнее, если б о Назарянине после его смерти сразу забыли. А получалось наоборот. Чем дальше отодвигалось время того распятия, тем больше слухов ходило по Иерусалиму, больше разговоров о Галилеянине из Назарета… Вот они-то, эти слухи и разговоры, необъяснимо беспокоили Варавву. Раздражали и огорчали его.
Однажды хорошенько выпив вечером вина, Варавва проснулся среди ночи и, вовсе не желая того, стал думать о Назарянине. Возникли сомнения. Может, тот и не выдумывал вовсе, что он — Сын Божий, чего на свете не бывает? Ведь не зря же склонились знамена, когда Его ввели. Не зря испугался и закусил до крови губу прокуратор, увидев это. Или все только показалось Варавве? А может, тут что-то свыше закручено, такое, что совсем не по уму ему, Варавве, хотя он всегда считал себя сообразительным человеком и мог напугать любого фарисея, сказав тому, как какой-нибудь ученый книжник: «Уста мои при мне. Что мне Господь?»
Мысли об Иисусе Назарянине не проходили. К тому же до него дошел слух, что тело несчастного исчезло, и многие стали верить, что Он действительно Сын Божий и вознесся на небо. Не то чтобы Варавва сразу поверил в Божественное вознесение Назарянина и перепугался. Ведь хотел же римлянин отпустить Назарея, но священники и народ потребовали отпустить Варавву. Спроста ли это? Допустил бы Бог, чтобы жалкий сброд распинал Его Сына? Варавва даже выругался на нелепость ситуации. Если бы у него был больший запас слов, если бы он учился в хедере, если бы он читал Платона, вникал в хитросплетения мыслей Сократа или Сенеки, он бы, наверное, спросил себя и тех, кто его слышит: «Бог допустил распять Своего Сына — где логика, господа?» Но, увы и увы. Слова «логика» Варавва не знал и потому сложно, заковыристо выругался по-еврейски, что вообще непереводимо ни на какие языки на белом свете.
Варавва, вспоминая тот суд Пилата, ужасался.
«Распни, распни», — кричало множество голосов, хотя видел Варавва, как многие в толпе плакали по Сыну Давидову, разрывали на себе одежду… Ведь если посмотреть со стороны, получалось, что это он, Варавва, как бы подставил этого Назарея пострадать за него. И червячок различных сомнений и беспокойств с тех пор завелся в разбойнике и беспокоил, и беспокоил его. Точил потихоньку и точил его носорожье, как считали окружавшие его лихие люди, сердце.
Как-то ночью, когда полная луна взошла над Иерусалимом, Варавва поднялся с циновки, где в лунном зеленоватом свете сладко посапывали и шевелили во сне пухлыми губками две его любимые крошки, веселая Шин и вечно печальная Нун, он заболиво поправил на них покрывало, захватил кувшин с вином, вылез на крышу и, сев там, уставился на луну. Приятно кружилась голова, болел нос, разбитый в вечерней драке с партнером по костям, и сладостно ныла промежность. В сладком отупении он уставился на луну. И что он видит? Лицо его вытянулось, челюсть отвисла, горло сжалось. Нет, видно, он еще не совсем проснулся, ибо увидел на чистом бледно-зеленом диске луны три распятия. На двух корчились несчастные, а одно, что было особенно ужасно, сиротливо пустовало и, казалось, ожидало своего господина… Варавва вдруг почувствовал, как сладкая истома внизу живота сменилась болью в паху. Он знал, что это не имеет никакого отношения к распятию. Просто он переусердствовал с крошками. Пот выступил у него на лбу. Он хлебнул вина из кувшина. Один глоток, другой, третий… Он пил и пил, боясь поднять глаза от кувшина к небу. И, только выпив все содержимое, опустил липкий от вина кувшин и с беспокойством посмотрел на небо. Луна была чиста, как слеза младенца. Варавва кивнул: дескать, все так, все правильно, так и должно быть, и поспешил спуститься в дом к своим красоткам, чтобы, несмотря на боль в промежности, вновь с ними забыться и заснуть сладким, безмятежным, как в детстве, сном. Женщины поворчали, поворчали, но приняли неутомимого любодея, и после — он спал, уже не просыпаясь, до середины дня. А проснувшись, полдня сидел во дворе на соломе и от безделья швырял камни в стену дома, в проходивших мимо людей, которые, ворча, разбегались от шуток безобразника, или старался попасть в стоявший в проеме окна кувшин и разбить его. Еще он пытался смеяться над глупостью того, кто посылает ему такие видения, но смеха не получилось. Потом весь оставшийся день он, неприкаянный, слонялся по двору, а к вечеру стал бояться, что видение повторится ночью. Однако, на его счастье, эта ночь и несколько следующих были облачными, и он луны не видел. Но когда наконец одной ясной ночью вновь взглянул на ее серебряный диск, к ужасу своему, вновь увидел три крестообразных распятия, одно из которых пустовало. И тут он завыл, завыл волком, чем сильно переполошил дремавших внизу любезных его сердцу усердных крошек, и те, быстренько прихватив свои одежки и циновки, убрались восвояси. Варавва даже не заметил, что крошки исчезли, — так его закрутило.
Утром он сел перед домом на камень и, как роденовский «Мыслитель», уперев согнутую руку в колено и положив свою тяжелую буйную голову на раскрытую ладонь, задумался. Виделось два пути. Не обращать внимания на луну и обо всем напрочь забыть. Не было никакого Назарянина. Не было никакого римлянина. Никому он не уступал своего распятия. И верно, разве можно оказаться на чужом распятии? Ведь всякому здравомыслящему человеку извест-но, что каждому — свое! Поэтому неправда все это, что на Вараввином кресте распяли другого, да еще невинного человека, да еще Сына Божьего. Враки все это! Однако на всякий случай Варавва продумал, не избрать ли второй путь избавления от наваждения — не последовать ли совету Галилеянина: покаяться и молиться, молиться, молиться. Вдруг и правда Галилеянин этот на самом деле — Сын Божий! Нет, проще все-таки забыть, решил Варавва, забыть и забыться. И он перестал следить за луной, хотя порой в лунные ночи так и подмывало выйти во двор или взобраться на крышу и поднять глаза к небу. А вдруг там ничего уже нет и все это игра больного после страшного узилища прокуратора воображения?
С того дня он перестал смотреть на луну, и все успокоилось. Веселая Шин и печальная Нун тоже успокоились и вернулись к возлюбленному и с новым жаром забавляли его. Но оказалось, что червячок внутри него не умер. Жив. И нет-нет да и шевельнется…
То ли бес, то ли какая иная неведомая сила в одну из ясных лунных ночей вновь вытащила-таки его на крышу. Он вгляделся в серебряный, слегка затуманенный полупрозрачным ночным облаком диск и опять увидел три распятия, одно из которых, — он знал, что это его распятие, — как и раньше, пустовало. Естественно, возникала мысль: а куда делся Галилеянин? Ведь на нем должен быть Галилеянин. Но думать над этим дальше Варавва побоялся. Кому надо, тот знает, куда Тот делся!
«Спокойно, спокойно, Варавва», — сказал себе старый разбойник, схватив себя обеими руками за бороду и несколько раз дернув ее книзу, чтобы сделать себе больно. Грек, который сидел вместе с Вараввой в темнице, не только научил его «торопиться медленно», но еще и мудро вещал: «Мне больно — следовательно, я существую». Умный был человек, этот грек. Только жаль, что необрезанный. Закон, увы, не позволял Варавве водить с ним дружбу. А то бы он еще чему-либо научился у афинянина.
«Спокойно, спокойно, брат, — повторил себе Варавва. — Зачем волноваться? Ведь ты уже принял мысль, что у каждого человека есть приготовленное для него распятие, на котором его рано или поздно подвесят, только человек этот либо не знает об этом, либо знает, но не вспоминает и не портит свою жизнь глупыми размышлениями. Ведь все так просто и очевидно: смертный одр — то же распятие, которое ждет не дождется каждого из нас».
Несчастный закрыл глаза и на ощупь спустился с крыши.
Борясь с наваждением, Варавва раз-другой заводил философский разговор о распятии с удалыми озорниками, приходящими поглазеть на слегка тронувшегося разумом Варавву, оставившего свою шайку без главаря. Многие из них были куда как сообразительны. Но они отмахивались, отшучивались. Они не желали знать, что их ожидает в конце их рисковой жизни. «Надоел, — говорили они ему. — Живи, пока живется-можется, и не квакай. Мало ли кто что увидит на луне? Кто-то зайца, а кто-то козла… Забудь все и радуйся, что прокуратор не прикончил тебя. Ждем тебя и даем еще месяц сроку. Потом — пеняй на себя…»
Варавва пробовал следовать их советам, старался не думать о распятии на луне, но недолго выдерживал, и нет-нет, а откуда-нибудь, из тайного места, как бы невзначай взглядывал на лунный диск и, как это ни печально, видел, что распятие все так же ожидает его.
Одна из его крошек, печальная Нун — она была чуть менее привлекательна, чем веселая Шин, но зато чуточку сообразительнее своей товарки, — видя, как мучается чем-то возлюбленный, посоветовала ему сходить в Храм либо к какому-нибудь старому книжнику или раввину.
— Толковый рав вмиг поставит господина моего Варавву на крыло, — однажды заявила смышленая Нун.
— А что, — сказал Варавва, выслушав разумную крошку. — Ты, хоть и премиленькая дурашка, но соображаешь. Что-то есть в этом.
В благодарность за мудрый совет он хотел тут же познать сообразительную и, видимо, оттого вечно печальную Нун, но мысли отвлекли его, и он отпустил возлюбленную, ограничившись поцелуем.
Но шутки шутками, а состояние нашего героя было таково, что душа его болела, как болит порой несильно, но утомительно и погано пораженный болезнью зуб. Премерзейшее это состояние, брат! А тут еще и сон случился. Прислали, видно, для вразумления. Увидел он во сне — кого бы вы думали? — Галилеянина. Такого, как видел в узилище: бледного, в крови после бичей, истерзанного, униженного, с терновым венком на голове. Узнал его Варавва и, хоть и не робкого, по общему мнению, десятка был человек, — испугался. Смотрит на него Галилеянин своими большими печальными глазами и молчит. Как понял Варавва, жалеет его Галилеянин… Потом все расплылось — одни глаза Его смотрят, пробирая до жути. «Горе мне, горе, — говорит Галилеянину Варавва. — Что делать мне, нерадивому и ленивому?» И слышит в ответ: «Не покаялся. Живешь злобно. Покайся и молись». И глаза исчезли.
Настало утро. Варавва проснулся сам не свой. Душа болит. Сердце ноет. Не мил белый свет. И Варавва решился. Надел торжественную одежду и направился к Иродову Храму.
Он долго ходил возле Храма, наблюдал за учеными иудеями, сновавшими вверх и вниз по ступеням, многозначительно покашливавшими, покачивающими мудрыми головами. Варавва прислушивался к разговорам и раз даже услышал свое имя. Он пошел за теми двумя, которые упомянули в своем разговоре Варавву, и поразился: те иудеи, вопреки общему мнению, сожалели и считали ошибкой прокуратора и священников, что вместо разбойника Вараввы был казнен невинный Галилеянин, который и правда оказался Сыном Божьим. И тут же, на ступенях Храма, он увидел, что многие ропщут, бьют себя в грудь, выкрикивают: «Воистину был Он Сыном Божьим…» Варавва, прикинувшись верующим евреем, стал ежедневно ходить к Храму и слушать разговоры праведных иудеев. При случае тоже бил себя в грудь и проклинал римлянина и Варавву… Грозился изловить и покарать злодея…
И однажды услышал он, что будто спустя много дней после распятия прокуратор Пилат собрал всех первосвященников, книжников и законников и обратился к ним с такими словами: «Заклинаю вас Богом, отцом вашим, вам известно все, что написано в ваших святых книгах. Скажите же мне теперь, сказано ли в писаниях, что Иисус, которого вы распяли, есть Сын Божий, который должен прийти для спасения рода человеческого?» И будто ответили ему первосвященники Анна и Каиафа: «Мы нашли в первой книге Семикнижия, где архангел Михаил говорит с третьим сыном Адама, первого человека, указание на то, что по истечении времени должен сойти с неба Христос, возлюбленный сын Божий… И нам открылось, что Иисус, распятый нами, есть Иисус Христос, Сын Божий, Бог истинный и всемогущий».
Рассказ произвел на Варавву гнетущее впечатление. Он не знал, что и думать теперь. Как жить дальше.
Знающие истину о Сыне Божьем священники старались сохранить сие знание в тайне, но сомнения одолевали народ.
— Послушай, рав Иосия, — говорил один ученый иудей другому, — я точно помню, как ты кричал: «Варавва, Варавва, освободи Варавву!»
— Прыщ тебе на язык, рав Ахазия, — возражал другой иудей. — Ведь это ты кричал: «Варавва, Варавва». А я помалкивал.
Варавва совсем приуныл. Опустив лицо и пряча от встречных людей глаза, он поспешил прочь от Храма. И, вернувшись, опять стал много пить и блудодействовать в надежде избыть боль. Но боль не проходила. И опять болел пах.
И тогда он снова пошел к Храму, долго присматривался к ученым иудеям, толпившимся тут во множестве, и наконец выбрал одного подслеповатого старца, осторожнее и медленнее других сходившего по ступеням со священным Талмудом под мышкой.
— Мир тебе, почтенный рав, — обратился к нему Варавва, не собираясь, конечно, открываться мудрецу. — Не поможешь ли разобрать человеческую притчу?
Старец заохал, протер пальцем левой руки глаза, чтобы лучше видеть, и сказал:
— Говори, почтенный, хоть и задерживаешь ты меня.
Назвавшись достопочтенным купцом Захарией, Варавва поведал тому старцу придуманный им случай из купеческой жизни. Случай тот был о том, как из-за одного виновного купца пострадал совсем невиновный человек, а у виновного потом заболело внутри, и он мучается и не знает, что делать.
— Ох, ох, ох, — запричитал старец. — Страшное дело. Ужас! Увы нам, увы!
— Увы нам, увы, — повторил за ним прикинувшийся агнцем Варавва.
Старец помолчал, разглядывая Варавву, приблизил свое лицо к его лицу, словно принюхиваясь, пробормотал какое-то заклятье, потом отшатнулся от Вараввы, как от аспида, и сказал:
— Не вижу почтения. Похоже, ты из упрямых и шею держишь упруго.
Варавва удивился такому суждению о себе, обиделся, но промолчал смиренно.
— Помоги, рав, — просительно и проникновенно елейным голосом проблеял старый разбойник.
Раввин вздохнул:
— Тебе повезло. Я знаю, как тебя спасти, почтенный купец. Тебе требуется очищение.
— Очищение, очищение… Истинно говоришь, — обрадовался, услышав нужное слово, Варавва. Он все время искал это слово, но не находил. И вот старик произнес: очищение. — Истинно говоришь, раввуни: очищение, очищение… Оно самое.
— Завтра до восхода солнца приходи в Кедрон-скую долину к источнику Гион, — поучал старец. — Принеси двух живых голубей, ветку кедрового дерева, пучок травы иссопа и сосуд для ключевой воды, которую мы наберем из Гиона… И не забудь захватить деньжат, чтобы очищение прошло успешнее.
Варавва только согласно кивал.
Приготовив все с вечера, он был на месте в назначенное время. Старик ждал, сидя на камне, зябко кутаясь в лиловый плащ. Лицо его отливало синевой, а белые волосы на голове топорщились и шевелились под приподнятым капюшоном. Зрелище не для слабонервных, что и говорить. «А вдруг это бес? — подумал Варавва. — Ведь их столько вокруг. Разве не говорил об этом узникам прокуратора Галилеянин? Говорил! Предупреждал: сколько лжехристов и бесов вокруг, ужас!»
Старик выпростал руку из-под плаща и показал Варавве, как бы в шутку, пугая пожелавшего принять очищение купца, холодно блеснувший нож. Да только разве испугаешь нашего героя ножом? Не нож ему был страшен, а душевная боль. Душевная боль и неизвестно откуда подбиравшаяся тоска.
— Набери в сосуд воды и дай мне одну птицу, — приказал старик.
Варавва выполнил просьбу. Старик наклонился над сосудом, крякнул, оскалился и — на глазах другой птички, возможно веселой подружки, — чиркнул ножом голубку по горлу — чирик! — и стал ждать, пока кровь стечет в воду. Варавва завороженно наблюдал, как капает кровь в сосуд. Затем старик взял из рук Вараввы второю птицу, окунул ее в сосуд с кровяной водой, макнул туда же кедровую ветвь, намочил иссоп, семь раз стряхнул капли кровяной воды на Варавву и тут же выпустил живого, окрашенного кровью голубка на свободу. Голубок встряхнулся, обрызгал лицо принявшего очищение агнца и был таков.
— Ты очищен, — сказал Варавве старик. — Теперь ты — как агнец. И нет на тебе больше вины. Как ты себя чувствуешь?
Варавва перестал следить за упорхнувшей в небеса птицей и прислушался к своему нутру, стараясь проникнуть к себе в самую душу. Но никаких новых ощущений внутри себя не обнаружил. Ему даже показалось, что душа его, если и была у него душа, умерла или улетела вместе с окрашенным кровью голубком.
— Эх, — вздохнул он и сказал старику: — Чувствую опустошенность. Ни в голове, ни в сердце ничего нет.
— Тем более, — неопределенно выразился старик и протянул руку за мздой.
Варавва щедро рассчитался с ним.
— А теперь иди, иди, почтенный, — довольно грубо сказал старику Варавва. — Иди, иди. И не оглядывайся. Я теперь хочу побыть в одиночестве. Как пророк из Назарета.
Глава 16 Успение Марии
Это был день, когда площади и дома иерусалимские наполнились плачем и рыданиями, а улицы заполнились плакальщицами в печальных одеждах и бередящими душу свирельщиками. Вопли терзавших себя до крови женщин и пронзительный свист свирелей погрузили город Давидов в тоску и печаль. В тот день осиротел навсегда дом Иоанна в саду Гефсиманском, где жила Богоматерь после земной смерти Иисуса.
Иоанн навсегда запомнил всегда за-плаканные со дня Голгофы большие глаза Божьей матери. Ее скорбно сомкнутые уста. Знойный месяц елул и день вселен-ского плача. Помнил тот душный день в Иерусалиме, когда Богоматерь, возлегши свои легким телом на одр, предала душу Свою в руки Сына Своего…
Иоанн помнил, это были первые дни месяца елула. Мария позвала его сходить с ней на Масличную, или Елеонскую, как ее еще называют в Священном Писании, гору, откуда Учитель вознесся к Престолу Божию и у подножия которой в Гефсиманском саду стражи схватили Его.
Иоанн помнил, что сидел тогда на циновке и укреплял готовые вот-вот оторваться ремешки на сандалиях своей нареченной Матери. В Ее печальных больших глазах блестели слезы.
— Госпожа моя, ты опять в печали?
Мария повела плечом, будто от холода.
— Который день кто-то зовет меня на ту гору. Гору прощанья. Когда остаюсь одна в доме, слышу Его голос. Он зовет меня к себе, Иоанн. Пойдешь со Мною на ту гору?
— Как прикажешь, Госпожа моя.
И сын нареченный, закончив возиться с обувкой, подергал ремешки на прочность и молча показал Марии рукой, чтобы она подала ему босую стопу свою обуть ее. Ибо подниматься без обуви на гору, где во множестве разбросано много острых камней, весьма болезненно для женских ног, хоть и привыкших ходить нескончаемыми дорогами Своего Божественного Сына.
Мария молча покачала головой.
И он понял, что сегодня ей легче пройти этот путь разутой, как разутым ходил здесь Ее Сын и его, Иоанна, Учитель. Ибо земля, по которой Он ходил, — есть земля святая.
После вознесения Учителя они часто ходили на эту гору. Марии постоянно казалось, что она видит на сухой каменистой земле Елеонской следы ног своего Божественного Сына. Из Писания Она знала, что на этой горе когда-то скрывался от сына своего Авессалома Давид. Царь Иудейский «шел и плакал, голова у него была покрыта, он шел босой». Учитель тоже не раз поднимался на эту гору с учениками. Отсюда Он послал их найти и отвязать привязанную к изгороди ослицу и молодого осла с нею и привести Ему для въезда в Иерусалим. Здесь на камнях Он учил учеников читать «Отче наш». И здесь же — Иоанн часто вспоминал и живо представлял, как все это происходило тогда у подножия той горы, — Учитель окоротил клявшегося ему в верности Симона Ионина, или Петра, или Кифу, как еще того называли. Учитель сказал Петру: «Истинно, истинно говорю тебе: не пропоет петух, как отречешься от Меня трижды». Петр обиделся и стал уверять всех, что это невозможно. Дескать, ему даже смешно услышать от Учителя такое. Петр повернулся, ища поддержки у других учеников, но никто не поддержал его. На деле же все так и случилось, как говорил Учитель. Иоанн был потрясен. Учитель был расположен к Петру едва ли не более, чем к другим ученикам. Он всегда выделял из двенадцати Кифу и Иоанна. И вот случилось-таки: Петр трижды (!) отрекся от Учителя. «Выходит, не зря я с детства недолюбливал рыжебородого Симона», — сказал тогда себе Иоанн и вычеркнул Петра из своего сердца…
Та последняя ночь намертво запечатлелась в его памяти. …Здесь, в Гефсимании, взяв с собой только Петра и обоих сыновей Зеведеевых — Иакова и Иоанна, тихо и печально Учитель говорил им: «Душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодр-ствуйте со мною… Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников». Но тут как раз набежала стража и, крича, светя факелами, размахивая обнаженными мечами, схватила Его, словно разбойника, и потащила в Верхний город к дому первосвященника. Потом в преторий к Пилату. Это была страшная ночь… Сейчас Иоанну кажется, что больше, чем арест Учителя, его потрясло отречение Петра… А потом, уже воскреснув, Учитель на этой же горе простился со своими учениками, благословил их и вознесся на небо, а Богоматерь и ученики, пораженные необычностью происходящего, могли видеть, как преображенное тело Учителя поднималось к высям, пока белоснежное облако не скрыло Его от их мокрых от слез глаз. Здесь прозвучали Его прощальные слова, обращенные к одиннадцати Его апостолам: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие…»
И все они, десять апостолов Христовых, кроме Иоанна и отошедшего в мир иной предателя Иуды, пошли отсюда к народам, не знавшим Бога Живого. Отсюда, с горы Елеонской, и пошел Благовест любви по землям Иудеи, языческим и эллинским странам…
Доброй вести о любви — Божьей любви к людям.
В тот день было ветрено, и Иоанн хотел было взять для Марии теплую, из козьего пуха, накидку, но она отрицательно покачала головой, и он опять увидел блеснувшую у нее в глазах слезу. Молча, выказывая Богоматери свое сочувствие и участие, Иоанн разулся и тоже шел в гору босой, страдая, как и Она, от мелких острых камней, впивающихся в босые ноги.
Молча они прошли через Гефсиманский сад и по пыльной каменистой тропинке стали подниматься в гору. Иоанн шел вслед за Богоматерью, и, когда Она повернулась к нему, он увидел, что Мария плачет и слезы текут по ее щекам. Он понимал: она все больше и все сильнее тоскует по Сыну и земная жизнь вдали от Него источила ей душу. Только слезы и молитвы на месте последнего прощания дадут ей силы продолжать свой земной путь.
Молитвы поддерживали Ее. А однажды Иоанн услышал, как Мария пела. Сначала он подумал, что она молится. И чтобы не мешать ей, не вошел в дом, а сел на каменную скамью возле дома и погрузился в свои мысли. Но мысли не складывались. Он прислушался к голосу Богоматери и поразился. Да, Мария чуть слышно пела. Пела и тихо плакала.
Он вслушался в слова:
«Воспою Возлюбленному Моему песнь Возлюбленного Моего о винограднике Его. У Возлюбленного Моего был виноградник на вершине утучненной горы.
И Он обнес его оградою, и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды.
И ныне, жители Иерусалима и мужи Иудеи, рассудите Меня с виноградником Моим.
Что еще надлежало бы сделать для виноградника Моего, чего я не сделал ему? Почему, когда Я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды?
Итак, Я скажу вам, что сделаю с виноградником Моим: отниму у него ограду, и будет он опустошаем; разрушу стены его, и будет попираем.
И оставлю его в запустении; не будут ни обрезывать, ни вскапывать его; и зарастет он тернами и волч-цами, и повелю облакам не проливать на него дождя.
Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иудеи — любимое насаждение Его. И ждал Он правосудия, но вот — кровопролитие; ждал правды, и вот — вопль».
Мария опять плакала о Сыне…
Они остановились. Среди старых масличных деревьев, пыльные листья которых слегка шевелились от легкого дуновения вершинного ветра, из земли торчали несколько похожих на бараньи лбы, начавших уже местами крошиться валунов, и Мария попросила Иоанна посидеть здесь и подождать Ее. На той лужайке, с которой Он вознесся к Престолу Божьему, Ей хотелось побыть одной, поплакать и помолиться в одиночестве.
Иоанн проследил, как Она, неспешно ступая босыми ногами по твердой каменистой земле, добралась до небольшой лужайки, где в тот прощальный день стоял перед Своим вознесением, подняв руки к небу, Учитель, и как Она остановилась там и тоже, как и Божественный Сын Ее, подняла руки к небу.
Прошло некоторое время. Мария стояла, воздев руки к высокому чистому голубому небу, и, по всей видимости, тихо молилась. Слов Ее он не слышал, но иначе и не могло быть. Женщина еле шевелила губами. И тут Иоанн увидел, как в небе внезапно возникло и встало над вершиной горы пронизанное слепящим солнечным светом белое облако и в вышине послышалось райское пение. Это поразило апостола, и он по простоте своей хотел было тоже взойти за Богоматерью на вершину горы, чего никогда раньше не делал, всегда ожидая Марию внизу, но не тут-то было: ноги не слушались его, и он не мог сделать и шагу до тех пор, пока пение в вышине не прекратилось и не вознеслось в беспредельные выси светлое облако.
Природа замерла. Стих ветерок, всегда веющий над холмом. Замерли листья масличных деревьев. Казалось, остановилось солнце. Он перевел взгляд на Марию и увидел Ее, спускающуюся к нему с сияющей райской ветвью в руках. От ветви, точно от многоцветной радуги, исходил свет Божественной благодати. Слезы на лице Богоматери высохли, и оно сияло подобно солнцу. Покой и мир видел он в больших и прекрасных глазах Марии.
И Иоанн понял — свершилось! Пресвятой Деве был знак о вознесении на небо, которого она с нетерпением ожидала. И действительно, Мария, держа в одной руке ветвь, другой взяв его за руку, поведала своему названому сыну, что во время молитвы ей с благодатной вестью явился архангел Гавриил. Посланец был в ослепительно белом хитоне с тремя красными полосами. «Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою», — произнес Гавриил и сообщил, что через три дня должно свершиться Ее переселение на небо.
Иоанн помнил, что первое, о чем он тогда подумал, что другие апостолы, рассеянные по земле для проповеди Евангелия, не смогут проститься с Богоматерью. С Петром он к тому времени помирился и полюбил Симона за его сметку и упорство в проповеди Слова Божьего. Неутомимый Петр создал большую христианскую общину в Лиде, и они оба, Петр и Иоанн, на собранные у обращенных к истинной вере общинников деньги возвели Храм во имя Пресвятой Девы Марии. И Мария пришла в тот Храм и своим пришествием освятила и благословила его. И Иоанн пожалел, что ни Петр, ни другие апостолы не смогут присутствовать на ее успении. Но оказалось, Мария позаботилась и об этом. Она рассказала Иоанну, что попросила архангела в канун Своего успения собрать в доме Иоанна всех учеников Иисуса. Иоанн рассмеялся, вспомнив, как недоумевали апостолы, не понимая, как они оказались вдруг все вместе в доме Иоанна в саду Гефсиманском, и несказанно радовались, что смогут проститься с Богоматерью и почтить память Учителя. И благодарили Небо за такое благодеяние.
Иоанн помнил, и это не было сном, как внезапно отверзся покров дома и свет Божественной славы осенил всех присутствующих при успении Богородицы. В лучах неземного света все померкло. Христос, окруженный сонмами небесных сил, явился своей Пресвятой Матери. Раздалось ангельское пение.
Иоанн помнил, как, гордясь своей миссией, шел во главе процессии, двигавшейся по улицам Иерусалима, высоко держа в руке сияющую божественным светом райскую ветвь, и как, опустив головы, шествовали за ним, неся на ременах одр с телом Богоматери, апостолы Петр и Павел, уже изрядно потрудившийся на ниве Божией, которого Иоанн впервые увидел, Иаков с остальными учениками.
И что поразило тогда Иоанна — это множество бесноватых, снующих между печальниками по улицам Иерусалима. Будто опять вернулись дни гонений на Иисуса. Опять возмущал народ иерусалимский первосвященник. Опять начальники иудейские выслали войско и учили народ напасть на христианское шествие с оружием и камнями, всех разогнать, убить апостолов, отнять тело Богородицы и сжечь его. Уничтожить память о Нем.
И вновь и вновь поражался Иоанн силе Божией, опустившей над погребальной процессией светозарный облачный венец, оградивший ее точно незримой стеною.
Иоанн порадовался за Марию. Благодатная Матерь Божья воссоединилась со Своим Светозарным Сыном. С ее уходом нареченный сын почувствовал себя вновь осиротевшим. Ушел Учитель. Ушла светлая Матерь Его Мария. Ушли ученики Иисуса — апостолы, неся страждущим Благовест, разбрелись все по белу свету. И остался он один, как дуб без листвы, как сад, в котором нет воды.
Но печалиться и плакать ему, Иоанну, Сыну Громову, сейчас было некогда. Пора было возвращать в мир сокровища, завещанные ему Учителем. Его ждали дела апостольские. Мир ждал его и его проповеди. Мир ждал его Благовеста и его Откровения.
Начинался новый период его жизни.
Глава 17 Покаяние или продолжение сказания о Варавве
А не кажется ли тебе, любезный читатель, что мы несколько злоупотребляем твоим терпением и вместо рассказа о праведном Иоанне, Сыне Громовом, потчуем тебя побасенками о замшелом разбойнике, пытающемся встать на путь покаяния? Не огорчайся, читатель. Дело в том, что стремление Вараввы приобщиться учению Распятого, получить прощение за свои грехи приведет его и нас к проповедующему по городам и весям Малой Азии учение Христа Иоанну. Тем более что Варавва уже на пути к нему.
Получив от раввина очищение, Варавва с облегчением вздохнул и с нетерпением стал дожидаться полнолуния, чтобы убедиться в своей чистоте. Ведь раввин обещал ему, что разбойник будет чист, как белый лотос. И, естественно, Варавва каждую ночь поднимался на крышу и смотрел, как ночь за ночью наливается тоненький серп, превращаясь в полноценный серебряный диск. В мучительном напряжении он ждал полнолуния. И представьте, что почувствовал наш измученный видением распятия герой, когда снова увидел все три столба, средний из которых пустовал. Ему стало плохо. Он не сошел, а буквально скатился с крыши, упал в пыль лицом и заплакал, в ожесточении колотя по земле руками и ногами. Потом, чуть успокоившись, он попробовал молиться. Он плакал, грыз землю и, кое-как подбирая слова молитвы, молился. Он проклинал себя и просил своего еврейского Бога Ягве избавить его от страшных ночных видений, молил Бога ослепить его. И никто не сказал ему: «Остынь, Варавва, и не горячись. Есть иные пути избавления». Суров Бог израильский. Он не стал долго раздумывать. Видно, накопилось у него много всего в Его Большом досье на этого заносчивого, неучтивого Варавву.
Все случилось просто и буднично. Не гремел гром, и не сверкали молнии. Измученный неумелыми молитвами Варавва так и уснул у лестницы. А утром проснулся и ничего не увидел. Он видел сплошную ночь. Он ослеп. Он этого хотел, и он это получил. Теперь, как ему кажется, он знал, что делать. Благодаря Богу он больше не увидит свое распятие. И это успокоит его мятущуюся душу. А успокоившись, он пойдет к тем, кто проповедует учение Распятого. Благо слепым они его не узнают. Он будет странствовать со слепыми, которых раньше видел во множестве, ходить по Галилее, по другим землям Палестины и всюду проповедовать учение Распятого. И вымаливать себе прощение за грехи молодости, уж коль скоро так перевернулась его жизнь. Вот бы еще найти своего сына, которого он забросил лет десять тому назад, и взять его в качестве поводыря. Но для этого надо сначала найти свою оставленную жену Мару. Варавва знал, что богобоязненная женщина примет его и слепого и отправит с ним их сына, которому уже больше двенадцати лет.
И он отправился на поиски Мары.
Пугливая и вечно сонная Мариамь, дочь Иосии, встретила неприкаянного мужа своего Варавву низким поклоном и приложением рук ко лбу, как наложницы встречали царя Соломона, случайно заглянувшего в свой гарем. Мариамь разула беспутного мужа, омыла его мозолистые, как у козла, ноги, натерла их пахучими мазями и только тогда взглянула на лицо своего властителя и всплеснула руками: Варавва был слеп. Он смотрел на нее своими бельмами и молчал.
— В комнате темно, — сказал наконец Варавва, хотя комната была полна дневного света. — Зажги масло в светильнике.
Мариамь закивала и быстро зажгла убогий, свисавший с потолка, утлый светильник, который, как и следовало ожидать, не прибавил в комнате света. Она хотела было спросить, что с глазами, куда делись жгущие, как огонь, глаза удалого красавца Вараввы, но вовремя опомнилась. Давным-давно, в канун их свадьбы, Варавва поучал будущую жену, чтобы она — упаси Бог! — никогда не задавала ему вопросов. Ибо вопросы со стороны женщины Варавва всегда считал величайшим оскорблением для мужчины. Он знал, что иудейский Бог, которого он почитал, но которому забывал молиться, на его стороне. Бог велит держать женщину в строгости и в молчании, и предписано ей это для ее же блага.
Уловив запах теплого горящего масла, Варавва довольно кивнул.
— Елиуд с тобой? — спросил он о сыне.
— Елиуд учится ремеслу, — сказала женщина, начиная пугаться, что Варавва уведет подросшего уже мальчика в свою разбойничью шайку. Дружки Вараввины уже приходили смотреть мальчишку, но по возрасту оставили пока при матери. — Мальчик помогает мастеру Амосу делать бочки для вина.
— Елиуд пойдет со мной, — поднял на жену свои страшные белесые глаза Варавва.
— В разбойники? — ахнула жена. — Нет! Не дам! Лучше убей меня, но не трогай Елиуда. Он такой добрый…
— Глупая женщина. Слепому нужен поводырь. Он поможет мне найти дорогу к Богу. К Распятому…
«Господи, — подумала женщина. — Дорогу к Богу! Нет, это не ее Варавва. Не кричит, не спорит. Ни разу, как вошел, не ударил ее… Но о какой дороге к Богу он говорит? Дорогу к Иерусалимскому Храму слепому покажет каждый прохожий… Я сама могу его туда отвести. Зачем ему для этого Елиуд? А кто такой этот Распятый?»
— Ты знаешь, Мара, я не люблю много говорить. Особенно с женщинами. Но тебе, матери Елиуда, скажу. Я ищу другого Бога. Не нашего Ягве, а того, которого называют Распятым или Назарянином. Я хочу молиться этому Богу. Я слышал, он обещал раскаявшимся прощение. Хочу покаяться за молодость свою. Хочу креститься Святым Духом, как крестятся Его ученики. Я ведь говорил с ним, с этим Назарянином, еще до распятия. Мы сидели в одной темнице. Он совсем как я! Он говорил: покайся, Варавва. А я смеялся над ним… Но, знаю, Он меня примет, если покаюсь…
— Я ничего такого не знаю и не понимаю, — в ужасе приложила ладони к щекам Мариамь, дочь Иосии. — Ты говоришь что-то страшное. Как ты мог сидеть в тюрьме вместе с Богом? Разве Боги сидят в тюрьме? Я думаю, что ты сошел с ума, мой бедный Варавва… И потом, к какому Богу ты поведешь Елиуда, если Ягве един? Мне страшно за своего сына. Нельзя ему отпадать от нашего Бога. Уж лучше возьми его в разбойники, чем разлучать его с иудейским Богом.
— Много говорить — утомительно для тела, как учил Соломон, — устало сказал Варавва. — С Елиудом дело решенное. Я и так лишнего тебе сказал, моя Мара…
Им вдруг овладело страстное желание причинить боль этой что-то жалко лепечущей женщине. Он протянул руку, ища ее тело.
— Ну ладно, ладно… Иди скорее ко мне и покажи, как ты любишь своего Варавву.
Мариамь в страхе покорно приблизилась к слепому. Ее охватил ужас. Но она была бессильна противиться этому человеку. Ибо перед ней сидел страшный слепой бес, из тех приспешников сатаны, о которых рассказывали ей в детстве в доме отца. Бес схватил ее за руку и с силой швырнул на циновку.
Мариамь, заливаясь слезами, задрала рубаху. И прошептала покорно:
— Возьми, что задумал, и насладись…
Утром Варавва ушел вместе с Елиудом.
Глава 18 «В беде ученик твой, о Сенека!»
Люцию Аннею Сенеке радоваться.
Понтий ПилатПишу тебе, любезный Сенека, в глубочайшем расстройстве. В беде ученик твой Понтий Пилат, прокуратор злосчастной Иудеи. Надеюсь, Сенека, ты позволишь называть мне себя твоим учеником. В счастливые дни наших римских общений твои судебные речи и философские рассуждения поразили меня своей глубиной и блеском. За годы нашей разлуки сюда, в Кесарию, доходили списки с твоими мудрыми и рискованными мыслями о милосердии правителя, о том, что не клинок внушает к нему почтение, а справедливость… Я много думал над этим… Помню, ты говорил: «Жизнь — как пьеса: не важно, длинна ли она, важно — хорошо ли она сыграна». И я соглашался с тобой, не очень вникая в то, что это за пьеса, для кого она написана и кто ее автор?
Сдается мне, что пьеса, в которой я не по своей воле играю одну из главных ролей, написана не мною. И я ее не выбирал, чтобы играть в ней. Кто-то всесильный выбрал меня и назначил играть. Я пробовал строить игру по-своему, но «увы нам, увы», как говорят мои иудеи. События раз за разом складывались так, что, полагая поступать одним образом, я поступал иначе. Поступал вопреки своей воле.
Помнишь, мы спорили о судьбе, о роке. Ты говорил, что у человека одна свобода: добровольно принять волю рока. Ты шутил: «Человек подобен собаке, привязанной к повозке; если собака умна, она бежит добровольно и счастлива, если же она упирается, садится на задние лапы и скулит, повозка тащит ее». Я уподобился той собаке. Где-то у меня хватало ума идти за повозкой, а где-то я упрямился, садился на задние лапы, упирался, тогда повозка безжалостно тащила меня.
Сейчас я озадачен, обескуражен, сбит с толку. Клянусь Юпитером, я шел к иудеям с миром. Готовился стать — как истый твой ученик! — правителем справедливым, милосердным и добродетельным. А стал — палачом! Сейчас я много думаю о том, что ты говорил о божественной воле: будто в отличие от человеческой воли, она может быть только благой. Сначала мне казалось, что именно эта высшая воля и сделала из меня палача. Ибо твой ученик послал на казнь невиновного. И потому эта воля казалась мне злом. Кому во благо я, римлянин, игемон иудейский, пойдя на поводу у постоянно интригующего против Рима синедриона, обрек на смерть Галилейского мудреца, выдававшего себя за Сына Божия? Кому? — спрашивал я себя и не находил ответа. Но после того как распространился слух, что этот мудрец воскрес — да, да, воскрес! слыхал ли ты что-нибудь подобное? — и встречался со своими учениками, и его видели в разное время в разных местах, когда иудеи показали мне пророчества о нем в своих темных таинственных книгах и признались мне, что они ошиблись и подбили меня послать на смерть действительно Сына Божия, я увидел свою миссию в ином свете. Я вдруг понял, что учитель мой Сенека опять оказался прав: воля Проведения может быть только благой. Я понял, что это Проведение моими руками выстраивает один из своих великих религиозных проектов…
Да, да, любезный Сенека! Твой ученик Пилат не сошел с ума. Его руками закладывается фундамент чуждой нам сейчас веры, которой — поверь! — суждено покорить Рим. Разве не руками Александра, Цезаря, Августа Октавиана с какими-то неведомыми нам смертным, но обязательно, как ты считаешь, благими целями перекраивалась вселенная? Так и сейчас: на смену империи силы грядет империя любви Божией, о которой говорил мне перед казнью этот галилейский философ и которую, как выяснилось позднее, послал проповедовать в мир своих учеников. Поразительно то, что Он, как и ты, учил благодеянию. В благодеянии, как и ты, Сенека, Он видел спасение рода человеческого.
Зависть и эгоизм давно подточили Pax Romana. Ты же сам учил, что чиновник больше не служит римскому народу, он служит лицам! Его цель — как можно дольше удержаться у власти. Обогатиться. И нет больше — кроме корысти! — воодушевляющей римский народ идеи. А это конец империи! Империя без идеи мертва! Но мало кто понимает это.
Назарянин тот говорил мне и о равенстве в духе, и о милосердии, о всепрощении, о любви к ближнему, о том, что все люди — братья, и временами казалось, что этот Га-Ноцри, как его называли евреи, — лучший твой ученик. Заметь, мы оба твои ученики! Но плут первосвященник вынудил меня подписать приговор. Синедрион объявил, что Га-Ноцри, называвший себя Царем Иудейским, — враг кесарю. И если я не подпишу приговор, то синедрион объявит, что прокуратор пошел против кесаря, и тогда, как ты понимаешь, моя песенка спета. Ты знаешь положение дел на Палатине. Сеян пал. Его приближенные рассеяны и уничтожены. Многие уже напомнили мне о моей дружбе с Сеяном. И потому я вынужденно пошел на поводу у иудеев.
И вот — Галилеянин тот воскрес… Да, да — воскрес! Я никак не могу успокоиться по этому поводу. Думаю, и ты озадачен. А мне-то каково, представь! Вот ты, Сенека, великий римский философ, смог бы объяснить это Тиберию? Так вот, когда я провел расследование, собрал множество доказательств и тоже уверовал в это воскресение, я понял — то рука Проведения. Ибо пришло время, и миру больше не нужен мраморный римский Юпитер, а нужен Распятый, принявший на себя грехи человеческие и воскресший Сын Человеческий.
Выскажу крамольную мысль: миру нужен не бог-Громовержец, а Бог-Спаситель!
О, если бы ты знал, как много я думал над тем, что со мною случилось! Особенно когда готовил Риму доклад о событиях четырнадцатого дня нисана. Я старался быть в словах осторожен. Ты ведь знаешь императорскую камарилью. Это тебе, учителю своему, я могу открыться. А в докладе Тиберию я был сдержан. Минимум оценок и никаких прогнозов о нашем импер-ском завтра. Ведь, не случись воскресение этого странного проповедника Га-Ноцри, это была бы заурядная казнь бродяги, коими полны затхлые иерусалимские переулки… Цикута сделала Сократа Сократом. Распятие сделало проповедника Иисуса Христом!
Да, брат Сенека, всего, что произошло в те дни в Иерусалиме, не перескажешь. Было много всякого вздора. Но что потрясло — это выбор, сделанный иудеями. Мне же, поверь, хотелось сохранить жизнь этому проповеднику твоих истин, и я стал придумывать, как вывернуться, чтобы иудеи не смогли припереть меня к стенке. Все должно быть по закону. Но в эти минуты я уже понимал, что не я управляю происходящим. Происходящим управляет Рок. Проведение. И самое удивительное, но это я понял позднее: этот Га-Ноцри предвидел исход судилища, и мне даже казалось, старался избавить меня и себя от слишком затянувшихся разговоров.
Как прокуратор я мог отпустить ради праздника одного из приговоренных к казни. Этим и решил воспользоваться. Я велел привести к народу жестокого убийцу Варавву. Поставил его рядом с Га-Ноцри. Потом обратился к собравшимся вокруг претория иудеям и сказал им: «Вот Сын Человеческий, выдающий себя за Царя Иудейского. Он учит народ возлюбить ближнего, как самого себя, и прощать врагов своих. Он учит подставлять правую щеку, когда тебя ударили по левой. А вот другой арестант, известный вам разбойник Варавва. Он учит, как учил иудеев Моисей: око за око, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, ушиб за ушиб. Кого отпущу вам?»
И надо ли тебе подсказывать, кого они просили освободить? Ты угадал, брат Сенека! Разбойника Варавву. Я был расстроен. Я негодовал. Я искал, как освободить Га-Ноцри, но сделать это должен был так умно, чтобы в который раз не полетела депеша в Рим. Я не находил выхода. Был еще спор с первосвященником, где он заявлял, что, если я не вынесу смертного приговора выдающему себя за Царя Иудейского, я враг кесарю. Как понимаешь, мне только этого не хватало в моем положении.
В итоге Назарянина распяли. И представь, что этот Га-Ноцри точно жалел меня. Он сказал мне перед тем, как Его взяла стража: «Не отчаивайся, игемон. Спаситель всегда ждет и прощает тех, кто истинно раскаялся».
И на душу лег камень.
А теперь пойми мое состояние, когда мой личный иерусалимский осведомитель, явившись поутру в преторий шестнадцатого нисана, когда я уже собрался убраться от всех этих местных ужасов к себе в Кесарию, вдруг сообщил, что Га-Ноцри воскрес. И его воскресение подтверждают свидетели. Пьеса достигла кульминации. Исполнилась воля Божия. Прокуратор Пилат, первосвященник Каиафа, Сын Божий Га-Ноцри сыграли свои роли. Что дальше?
Ты понимаешь: долг обязывал прокуратора готовить доклад Тиберию. Но как объяснить Риму, что же, собственно, здесь, в Иерусалиме, произошло? Как объяснить воскресение? Как объяснить необъяснимое? То, что для иудеев проще простого, — римскому уму не постичь. А как быть с тем, чему учил Галилеянин?
Как добросовестный римский чиновник, я вник во все перипетии этого неординарного дела, изучил все похождения и проповеди Га-Ноцри, мои люди опросили свидетелей, и вот после долгих раздумий, как ученик великого Сенеки, я понял величие проекта, реализованного в Иерусалиме четырнадцатого нисана Проведением. В Риме же эта история будет воспринята как красивая сказка Пилата…
Итак, что же я понял? Я понял, что твои сентенции, о великий Сенека, как это ни печально, так и останутся в анналах истории, вызывая восхищение досужих моралистов вроде твоего почтенного слуги Пилата. А идеи Га-Ноцри, выраженные на языке плебса, легко угнездившись в сердцах страждущих спасения — сирых, обиженных, угнетенных, прорастут мощной порослью и породят веру, которая, как некогда рим-ские легионы, заполнит все ниши и пространства земных континентов. Тогда, поправ все пантеоны национальных богов, над пробуждающимся человечеством утренней светлой звездой воссияет Спаситель со своей проповедью братской любви и прощения. Вот что я понял. Понял и — растерялся: мне-то, прокуратору римскому, как быть, что делать?
Верить ли в то, что через меня исполнилась божественная воля, которая, как ты учил, может быть только благой, и радоваться? Или до конца жизни скорбеть, каяться и молиться, что послал на смерть праведника, освободив убийцу, и каждодневно смывать и смывать с рук невинную кровь Га-Ноцри?
Ответь мне, о великий моралист и учитель благородных римлян Сенека.
Глава 19 Видение Иоанну об отроке
После успения Богородицы Иоанн покинул Иерусалим и пошел проповедовать, создавать по берегам Средиземноморья христианские общины и церкви, крестить во имя Отца и Сына и Святого Духа, отвращать язычников от служения идолам, обращать праведных иудеев в новую веру, лечить больных, сирых, исцелять увечных, изгонять бесов, биться с волхвами и лжехристами, как это уже делали десять его братьев — первых учеников Иисуса — и семьдесят новых апостолов…
Днями вышла у него распря с Петром. Иоанн даже поразился: предопределено ему было, что ли, сталкиваться с Симоном Иониным, точно в давние времена на берегах Галилейских?
А дело было такое. Случилось раз быть Иоанну в Лидде, где они с Петром на собранные общиной деньги возвели Храм, который Богоматерь освятила. И увидел он: недалеко от Храма сидят на земле мальчик и девочка и горько плачут. Иоанн остановился возле детей и стал спрашивать. Люди рассказали, что родители этих детей умерли враз, ибо жестоко согрешили. Иоанн стал расспрашивать: велик ли грех. Ему поведали. Некто Анания и жена его Сапфира обратились к Петру с просьбой принять их в общину. Петр сказал: продайте имение и передайте деньги общинникам. Ибо сказано: «Пойди, продай все имущество свое, раздай бедным и получишь сокровище на Небесах, и приходи, следуй за Мной». Те пошли, продали то, что имели, и принесли деньги, утаив по неразумению своему и суетности своей малую часть их для своих личных нужд. Обман вскрылся. Видя такую неправедность, горячий Петр сильно осерчал. «Анания, — сказал он, — для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Ты солгал не человекам, а Богу». Услышав такие слова, Анания упал бездыханен.
Скоро пришла жена Анании, Сапфира, и Петр спросил ее, за сколько они продали землю. Жена, не зная о случившемся, простодушно повторила слова мужа. Тогда Петр сказал: «Зачем искушаете вы Духа Святого? Вот входят в двери погребавшие мужа твоего, и тебя сейчас вынесут».
И женщина упала у ног его и испустила дух.
Услышав эту историю, Иоанн сильно огорчился. После ухода Учителя Симон Ионин, забыв, что трижды предал Иисуса в Страстную пятницу, возомнил себя среди апостолов большим и не раз действовал поспешно. Все, кто был в последние часы с Учителем в Гефсимании, помнят, как набежала стража с мечами, с факелами и как Петр выхватил меч и отрубил одному из нападавших ухо. Иисус же, подосадовав, остановил Петра и, коснувшись уха, тотчас исцелил его. И с Ананией и его супругой, конечно, Петр опять погорячился. Не призвал согрешивших к покаянию, к исповеди. Не произнес, как истый служитель Ключей: «Я прощаю». А Учитель учил прощать. Видно, забыл Симон Ионин, как простил ему Господь троекратное отречение, какой мягкой была епитимья оступившемуся Петру. Иисус не корил отступника, лишь трижды вопросил его: «Симон Ионин! любишь ли ты Меня?» И Симон трижды подтвердил, что — любит. Трижды обещал пасти агнцев и овец Его. И достоинство оплошавшего в Страстную пятницу Симона было восстановлено в глазах братьев его. Учитель всегда оберегал лад и доверие между братьями. И с тех пор Иоанн понял, что Бог есть любовь.
И поняв это, он так и судил дела мирские.
Огорчившись гибелью Анании и Сапфиры и не понимая, за что те были наказаны смертью, он пришел к Петру и, ни в чем не упрекая Кифу, повел себя так, как, наверное, повел бы себя их общий Учитель. Ибо Иоанн со времен Галилейских всегда и во всем старался подражать Ему.
Иоанн сказал Петру: «Брат Симон, давай вспомним, как Отец наш небесный наказывал человеков. Откроем Писание и прочтем, как возопил Авраам к Господу: «Судия всей земли поступит ли неправосудно?»»
И Иоанн стал читать Петру из Писания, как внимателен, как осмотрителен и как осторожен был Господь, назначая грешникам наказание. Никогда не рубил с плеча.
«И сказал Господь: вопль Содомский и Гоморрский, велик он, и грех их, тяжел он весьма.
Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко Мне, или нет; узнаю.
И обратились мужи оттуда, и пошли в Содом; Авраам же еще стоял перед лицом Господа.
И подошел Авраам, и сказал: неужели Ты погубишь праведного с нечестивым?
Может быть, есть в этом городе пятьдесят праведников? Неужели Ты погубишь и не пощадишь места сего ради пятидесяти праведников в нем?
Не может быть, чтобы Ты поступил так, чтобы Ты погубил праведного с нечестивым, чтобы то же было с праведником, что с нечестивым; не может быть от Тебя! Судия всей земли поступит ли неправосудно?
Господь сказал: если я найду в городе Содоме пятьдесят праведников, то Я ради них пощажу все место сие.
Авраам сказал в ответ: вот, я решился говорить Владыке, я, прах и пепел:
Может быть, до пятидесяти праведников не дотянет пяти, неужели за недостатком пяти Ты истребишь весь город? Он сказал: не истреблю, если найду там сорок пять.
Авраам продолжал говорить с Ним, и сказал: может быть, найдется там сорок. Он сказал: не сделаю того и ради сорока.
И сказал Авраам: да не прогневается Владыка, что я буду говорить: может быть, найдется там тридцать? Он сказал: не сделаю, если найдется там тридцать.
Авраам сказал: вот я решился говорить Владыке: может быть, найдется там двадцать? Он сказал: не истреблю ради двадцати.
Авраам сказал: да не прогневается Владыка, что я скажу еще однажды: может быть, найдется там десять? Он сказал: не истреблю ради десяти.»
Иоанн замолчал. Молчал и апостол Петр, Симон Ионин, широкогрудый, громкоголосый рыбак галилейский.
— Но я же не Господь, чтобы судить так дотошно, — наконец сказал Петр, дивясь глубинным познаниям Иоанна. Выходит, недаром того всегда выделял Учитель.
Иоанн мягко заметил:
— Возлюбленный брат, ведь ты же — ученик Единородного Сына Божия, и тебя наш Учитель называл Кифа. Камень веры! И с тебя спросится. Вспомни, как Учитель заглаживал твое трехкратное отречение от Него. И разве не ты, Симон, учишь внимающих тебе: «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство; напротив, благословляйте … Ибо, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей». Не мы ли, апостолы, учим исправлять согрешившего в духе кротости, носить бремена друг друга и таким образом исполнять завет Христов? И потому, доколе есть время, будем делать добро… И помнить завет: «Слабого в вере принимайте…»
И обнялись на том Петр с Иоанном после этого разговора и расстались.
И пошел Иоанн к пещере, где лежали бездыханны утаившие от братии часть вырученных за землю денег Анания и жена его Сапфира, и молился, и просил Господа за них. А когда они пробудились и вышли на свет Божий к детям своим из пещеры, сказал напоследок: «Анания и Сапфира, вот вы здоровы и не грешите больше, чтобы не случилось с вами чего хуже».
* * *
…Благополучно встретившись после кораблекрушения, которое их постигло на пути в Эфес, и плача на радостях, Иоанн и его ученик Прохор обнялись и стали рассказывать друг другу, что с ними происходило в бурном море; затем, обсудив маршруты дальнейшего путешествия, наши праведники теперь уже по суше, по каменистой извилистой дороге, направились в сторону Эфеса. Путь был неблизкий.
Утомившись, решили заночевать в поле под звездами. Прежде чем заснуть, немного поговорили о своей миссии в Эфес. Город этот, раскинувшийся на восточном побережье Малой Азии, был в то время процветающим торговым и духовным центром и постоянно притягивал христианских проповедников. Он был вторым Римом. Здесь заканчивались крупнейшие дороги того времени. До Иоанна здесь уже побывали Петр и Павел, и посеянное ими уже дало первые всходы.
Прохор, всегда очень гордившийся тем, что является учеником Иоанна, который набирался мудрости у Иисуса, любил порой помудрствовать вокруг Священного Писания. И тут, под малоазийским небом, он спросил Иоанна: не говорил ли праведному его Учитель о том, в каких стихах Писания спрятан ключ к тайне общения с небесными духами. Такой вопрос еще больше расположил Иоанна к своему ученику. Ибо он сам обращался с подобным же вопросом сначала к Петру, а когда тот не сумел ему вразумительно объяснить, спросил об этом же Учителя. И тот объяснил уже не только Иоанну, но и остальным одиннадцати своим ученикам, что Божественная Книга та устроена так, что, когда человек с любовью и вдохновением читает любой текст Священного Писания, духи и ангелы влекутся к нему и сопровождают того человека во все время его чтения, не обнаруживая, однако, своего присутствия, а поддерживая лишь устремления читающего Писание.
Иоанн учил своего ученика проповедовать Евангелие. Объяснял, что разным людям следует разъяснять по-разному.
— Для иудеев: будь как иудей. Для немощных: будь как немощный. Для эллинов: будь как эллин…
Понял ли Прохор сказанное, нет ли, только он замолчал и больше ни о чем не стал спрашивать, а так с этими мыслями и уснул.
Иоанну же сначала не спалось, но в какой-то миг тяжелый сон спустился на него, праведный вздохнул, устроился поудобнее на своем плаще и погрузился в ночное забытье.
Когда тело его получило небольшой отдых, пошли легкие, ничего не значащие сны, а под утро Иоанн увидел Богородицу. Недаром он днями много думал о ней, вспоминал их житье в Гефсимании, походы с Богоматерью на Елеонскую гору, разговоры об Учителе — Ее Божественном сыне, и вот Она явилась ему во сне.
Ему снилось, что он взобрался на гору Елеонскую, как это он часто делал после распятия Учителя, сидит на облюбованном за многие годы хождений на эту гору мшистом округлом камне и тихо молится, устремив свой взор к ночному звездному небу. Ему кажется, что он видит, как перемещаются и шепчутся между собой звезды. И этот шепот о нем, об Иоанне, о том, как мало он сделал из завещанного Учителем. Звезды ставят ему в пример Симона Ионина, извечного его соперника перед Учителем — Петра. Петр уже заложил общину верующих в Риме, посеял семена в Эфесе… А он, Иоанн, только что выбрался из Иерусалима. Праведный хотел было возразить: все это время по слову Учителя он опекал Матерь Его Марию, но кто же возражает звездам! Он только опустил голову. Потом огляделся. И — о чудо! Он увидел освещенную лунным светом, сидящую совсем рядом на таком же камне Марию. Богоматерь была в одежде простолюдинки. И он ничуть не удивился видению.
— Мир тебе, сын нареченный, — сказала Богоматерь. — Будешь в Эфесе, спаси мальчика по имени Елиуд. Слепой отец его не находит Бога, ищет покаяния за тяжкие грехи свои и не знает, к кому прилепиться. Может отвернуться от Бога Истинного, махнуть рукой на свой поиск и увести мальчика в горы, где когда-то гулял лихим разбойником. Просвети грешника, прими его покаяние и помоги мальчику Елиуду.
И образ Богородицы истончился и исчез, оставив Иоанна в радости и печали. Он был рад снова увидеть Марию, к которой привык за годы гефсиманской жизни, как привык за годы странствий к Учителю своему; был счастлив услышать ее дивный тихий голос, вы-слушать адресованную ему доверительную Ее просьбу. Но как быстро Она исчезла!.. Как коротко было видение! Ну что ж, на днях они действительно будут в Эфесе, и он, конечно, разыщет мальчика Елиуда и его слепого отца и сделает все, чтобы вернуть этих заблудших на путь истинный.
По дороге в Эфес странники заходили в селения, где им подносили хлеб и давали воду. Иоанн говорил, обращаясь к народу на площадях. Но, послушав проповедь Иоанна, люди в большинстве своем не прельщались ею, ибо, будучи язычниками, по косности своей были уверены, что христиане есть враги рода человеческого, безбожники, ибо не приносят жертв и не поклоняются Артемиде, поговаривают даже, что они отравляют колодцы и пьют кровь младенцев, а после молений и песнопений устраивают на своих скрытых сходках бесстыдные оргии почище языческих. И праведников иногда жестоко били и выгоняли из селений.
И сетовал тогда Прохор, ученик Иоаннов, словами Господа нашего: «Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтоб Я исцелил их».
По дороге старцы много размышляли, как встретят их в Эфесе. Ведь там до них с проповедью уже побывал энергично действовавший, ставший к этому времени опытным проповедником Слова Божьего Петр. Вот и посмотрит теперь Иоанн, каким ловцом человеков стал этот бывший галилейский рыбак Симон Ионин.
Глава 20 Злоключения Иоанна и Прохора в Эфесе
У же смеркалось, когда они вошли в город. Улицы были полупустынны. Закатившееся уже наполовину солнце багрово подсвечивало неподвижную сизую тучу на горизонте. Кольнуло сердце. Закаты с детства печалили Иоанна. На фоне такого же багрового заката стоял он с Богоматерью у Распятия на Голгофе… Навстречу попалась женщина, несущая на голове корзину с кизяком, чтобы растопить возле дома очаг. Едва не задев Иоанна, пробежал, жалобно крича, видимо пугаясь наступающих сумерек, отставший от матери растерянный маленький осленок. И сразу запахло жизнью, животиной. Иоанн посмотрел вслед за-плутавшему осляти и пожелал скоту полевому найти свою мать и поскорее припасть к ее питающим жизнь сосцам.
Путникам тоже была пора подумать о ночлеге. Обычно общины приветливо встречали странствующих проповедников, а приход апостола — это было уже событие для христианской общины, да и для всего города. Все было как по библейской книге Иова: «Странник не ночевал на улице: двери мои я отворил прохожему». Апостолы часто имели с собой значительные суммы денег и передавали их старостам бедствующих общин для раздачи самым неимущим. У наших путников было несколько адресов христианских семей, но в быстро сгущающейся темноте отыскать их в незнакомом большом городе было непросто.
Лавки по обеим сторонам улицы уже были закрыты. Откуда-то появилось множество собак. Тускло светились окна постоялого двора. Иоанн и Прохор подошли к воротам. К каменному столбу была приделана медная дощечка. Хозяин обещал остановившимся у него путникам «прохладу, отдых с сыром и фруктами, вино, танцы и любовь». Праведные прочитали, переглянулись, покачали головами, плюнули враз на землю и пошли прочь от вертепа. Когда старцы проходили мимо богатого, покрашенного известью дома, их окликнула высокая дородная женщина. Она сразу обратила внимание на нестарого, но уже белобородого после Голгофы Иоанна, благородством вида своего никак не похожего на нищего или бродягу, и заинтересовалась странником.
— Мир вам, добрые путники, — сказала женщина. — Зовут меня Марека. Вижу, что вы устали с дороги и не знаете, куда идти, где приклонить голову на ночь. Поэтому побудьте моими гостями. Преломите с одинокой вдовой хлеб вечерний, испейте по чаше вина. А завтра пойдете по своим, как вижу, Божьим делам.
Путники переглянулись, время было уже позднее, солнце совсем зашло, небо быстро темнело, и они решили заночевать в этом доме у столь гостеприимной хозяйки Мареки.
Хозяйка обмыла Иоанну ноги, умастила миром голову и вообще держалась с ним очень почтительно. Прохору же омыла ноги служанка, умастила пахучими маслами бороду. Праведные давно не видели такого к себе почтения в богатых домах.
Перед трапезой путники помолились, поблагодарили хозяйку, однако от вина и мяса наотрез отказались. Хозяйка на их отказ покачала головой, но убирать со стола вино и мясо слуге не велела — надеялась уговорить путников. Но не тут-то было. Праведные были непреклонны. После прощальной вечери в Гефсимании Иоанн ни разу не пригубил чаши с вином, Прохор же во всем подражал своему учителю.
Праведные преломили хлеб, а вместо вина попросили воды.
— Вижу, ваш Бог суров, — сказала хозяйка. — Так и ноги протянуть недолго.
— Мы постники, хорошая госпожа. К торжественной пище не приучены, — сказал Прохор.
— Знаю, знаю, — улыбнулась степенная Марека. — Небось думаете, что дала вам идоложертвенное мясо. Иудеи — народ капризный. Хотя вижу, что вы христиане и пришли проповедовать Распятого. У нас это трудно. До вас дважды бывал тут рыжебородый, звали — Петр. Потом был другой, крючконосый хитрец — Павел. Бились они бились, но за ними мало пошло. Так что не жди удачи, авва.
И увидел праведный, что на сердце у женщины темное покрывало.
— Не думаю так, — сказал Иоанн. — Мы, госпожа моя, по зову сюда пришли. Были ваши люди в Иерусалиме и взывали: «Приди, авва, и помоги нам. Хотим знать Бога живого». Вот мы и пришли.
За трапезой хозяйка рассказала, что приходится родственницей городскому префекту и держит в городе общие бани, куда и приглашает завтра для отдыха почтенных странников. Те поблагодарили, но ответили, что сейчас вечер, а утро вечера мудренее. Вот утром они все и решат, а сейчас хотели бы узнать, как существует созданная здесь апостолом Петром христианская община. Марека призналась, что сама она не христианка и не понимает, как можно верить в Бога Распятого, ибо может ли допустить истинный Бог, чтобы кто-то глумился над Его Сыном, да еще и распял Его на кресте.
— Ох, матушка моя, — сказал Прохор, — разве не видишь ты, как каждодневно распинают в мире больших и малых… Вот и пошел Иисус на распятие, чтобы ужаснулся народ и принял в сердца свои любовь к брату своему, а не злобу лютую, чтобы не делал человек другому того, что не желает себе… Вот Он смертию смерть и попрал… И великое Прощение сделал Он мучителям своим, сказав, обращаясь к небесному Отцу своему: «Отче! прости им, ибо не знают, что делают».
— Уж не знаю, не знаю, как тебе, отче, и ответить на это, но мы здесь, в Эфесе, поклоняемся Артемиде и не хотим знать вашего Иисуса, чего бы там ни говорили и какую бы благодать ни обещали нашему народу приходившие из Иудеи проповедники. Уж лучше бы вы, странники, оставили своего Распятого, поклонились завтра нашей богине и взвеселились, как подобает мужам.
И тут Марека, усмехнувшись чему-то, села рядом с Иоанном и пристально посмотрела ему в глаза. И что-то нашла в них такое, что по-женски потянулась к нему, взяла его за руку, чем сильно перепугала праведного. Иоанн тут же переменился в лице, выдернул из ее руки свою руку и спрятал за спину.
— Не делай так, госпожа моя, — печально сказал Иоанн. — Лучше порадей о душе. Удовольствия порока кратковременны, а скорбь от содеянного постоянна.
Марека же рассмеялась на это:
— Клянусь Артемидой, этот авва не знал женщины.
— Может, мы пойдем, госпожа? — всполошился Прохор. — Поспим где-нибудь у канавки, чтобы не стеснять хозяйку?
Марека вздохнула, встала, чуть тряхнула головой, как бы стряхивая с себя накатившую вдруг при виде светлобородого светозарного праведника сладкую дурь, трижды хлопнула в ладоши и велела служанке увести путников на ночлег в специально отведенную комнату с циновками для сна.
Демарш разбитной Мареки болезненно отразился на состоянии девственной души Иоанна. Он действительно не знал женщин, за что и был особо любим Иисусом. Праведный долго не мог прийти в себя от странной выходки благообразной с виду хозяйки; он думал, что вот этой красивой женщине не свойственны покаяние, поиск собственных грехов, и тяготеет она к блуду, богохульству, ко злу… Он стал думать, как склонить ее к покаянию, и, как человек, привыкший исследовать себя в поисках греховного, почувствовал, что мысли его идут не туда, и испугался тех мыслей. Он ворочался с боку на бок, вздыхал, мешал Прохору спать, вспомнил отчего-то далекие времена, когда видел на Иордане толпу голых женщин, завздыхал еще пуще и только под утро уснул. А тут и сон ему под стать явился: будто работает он в бане, подкладывает дрова в печи; умаялся с непривычки, присел отдохнуть, а тут эта самая Марека и заявилась. В руках у нее свернутая циновка, которую она тотчас же возле печи раскатала, взглянула на него лукавым, манящим взглядом, мгновение помедлила и, сбросив с себя праздничную цветастую тунику, осталась совершенно голой. Тут же искусительница улеглась на циновку, одной рукой налитую грудь придерживает, другой тянет к себе Иоанна. Сердце Иоанна сладостно затрепетало, но праведный сразу взял себя в руки. Иоанн догадался: пребывающие в этом знатном доме бесы расставляли ему свои сети. Он стал страшно кричать на Мареку, но горло крика не исторгало. Тогда он обратился к Господу. «Господи, — просил он, — помоги мне! Не покидай меня, подкрепи праведника!» Иоанн осенил себя крестом. И все сразу стало на свои места. Чертовка тотчас исчезла, исчезла и баня с печами и котлами, и пришел нормальный сон без сновидений до самого светлого утра.
Утром же энергичная, деятельная и лукавая Марека явилась перед праведниками как ни в чем не бывало и без особого труда уговорила Иоанна, подозрительно посматривавшего на нее, и Прохора посетить ее бани. Иоанн согласился на баню лишь потому, что в силу своей доброты и праведности еще не терял надежды спасти от вражьих сил несчастную женщину, в зависть бесовскую впавшую.
Праведники в блаженном расслаблении, окутанные горячими парами, прогреваясь до нутра, потягиваясь и крякая, растирая усталые от земных дорог ноги, провели в бане несколько сладостных часов. Но, как знает каждый читатель, за сладостными часами обычно наступает расплата. Так случилось и с нашими странниками. Собрались было они одеваться, пришли к лавке, где оставили свою одежду, и обомлели. Одежда исчезла.
И праведные разом возопили. Но на вопль их никто не откликнулся, ибо другого народу в этот день в банях не было. Хитроумная Марека объявила народу, что испортились печи для тепла и нагревания воды и приходить сюда следует не ранее как завтра. Сама же, продержав голых странников больше чем полдня в неведении, явилась к закутавшимся во избежание срама в полотно, данное им для обтираний, потрясенным до глубины души праведникам и заявила, что, для того чтобы она вернула им их нижнюю и верхнюю одежды, им придется очень много и добросовестно поработать в бане. Своенравная, корыстолюбивая женщина решила воспользоваться беспомощностью праведников, чтобы получить бесплатных работников для своего банного промысла. Корысть искривила душу злодейки. Иоанна, как более, по ее мнению, сообразительного, имеющего привлекательную наружность, она тут же определила поддерживать в печах огонь, а Прохора, показавшегося ей простецом, поставила наливать в емкости воду. Подумав немного, корыстная хозяйка все же вернула старцам необходимые им для дальнейшей стеснительной трудовой жизни при банях их набедренные повязки, строго предупредив, чтобы они не вздумали сбежать. Их будут караулить могучие безжалостные темнокожие безбожники рабы и свирепые клыкастые египетские собаки. И, потом, не пристало праведникам появляться обнаженными на людях. Ибо для такого города, как Эфес, — это есть нонсенс. Так и сказала: нонсенс!
Странники наши несказанно опечалились и приуныли. Иоанн корил себя за попустительные ночные мысли и без конца повторял про себя: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя грешного!» Не надо было оставаться в этом доме и посещать эту дьявольскую баню. Прохор же откровенно ругал эту чертовку Мареку разными ругательствами.
— Лучше бы мы утонули в бурном море, а не спаслись, — подытожил ситуацию Прохор.
Иоанн промолчал. Он понимал: значит, таков промысел Божий, и надеялся, что Учитель, несмотря на минутную греховность его мыслей, не оставит в беде Сына Громова и его ученика Прохора. Иоанн до крайности поражался совершенному этой добродетельной с виду Марекой злодейству над ними и только просил Господа простить женщине и корысть ее, и ее злобность, и наклонности к блуду.
Но, оказывается, промысел Господа был куда как глубок и многотруден. Ибо то, что случилось с Иоанном и Прохором в бане, было только началом. Вокруг бани той был завязан бесовский узел, который и предстояло по воле Господа разрешить праведному Иоанну и его ученику Прохору.
Нам с читателем, конечно, это трудно представить, но в банях поклонницы Артемиды, корыстолюбивой Мареки, жил демон. Да, дорогой образованный, современный читатель — демон! Ибо так говорит предание. И у нас нет оснований не верить святителю Дмитрию Ростовскому, составителю «Жития Святых», — жили-таки демоны на свете; возможно, живут и сейчас. Только вот научились ловко скрываться и мимикрировать. Ни автор повествования, ни редакторы издательства «Астрель», выпустившего эту книгу, с демонами пока не встречались — времена не те! А герой наш — от библейских времен, и неудивительно, что стычки с бесами и демонами для праведников были не в новинку. Поэтому-то мы и взяли житие Иоанна Богослова за основу нашего повествования о Сыне Громовом. Только за основу. Ибо многие события тех давних времен представляются нам сегодня все же в ином свете. И потому, прежде чем продолжить наш рассказ, сделаем небольшое отступление для современного, имеющего дома цветной телевизор и начитанного читателя. Ибо нашему современнику трудно бывает представить библейские времена, где все было совсем не так, как это происходит в жизни сегодня. Тогда не только земля, но и сам воздух был иным. Он был прозрачен, чист и чуть разбавлен легким сиреневым туманом или дымкой.
Эту библейскую дымку можно увидеть на картинах старых итальянских и французских мастеров, изображавших земли Палестины, а бесы и демоны действовали тогда наглее, откровеннее, чем сейчас, потому как не было еще пугающих нечисть церквей, увенчанных спасительными крестами. Нечестивые легко входили в тронутых сомнением прихожан и делали их бесноватыми; бес средней руки среди бела дня мог наброситься на женщину и незаметно для окружающих познать ее, остервенело мучить по ночам, пока священник не изгонял его. У колодцев и стекающих с гор быстрых прозрачных вод можно было встретить изможденных, наделенных Божьей благодатью пророков, осеняющих людей крестным знамением. Тогда не было искусственных магнитных, электрических и тем более радиационных полей, и сила звезд, несущая на землю Божью волю, многократно превышала их сегодняшнюю власть над людьми, уже едва-едва фиксируемую и оттого безбожно перевираемую нынешними астрологами.
Но вернемся к нашему повествованию.
Никто из мирян, посещавших те бани, не ведал об этом демоне. Хотя и были подозрения, что с банями Мареки не все чисто. Ежегодно в тех банях кто-то умерщвлял одного из моющихся: отрока или отроковицу. И вот в то самое время, когда злою волею Мареки у банных котлов в поте лица трудились два наших праведника, во время мытья в бане был умерщвлен юноша по имени Домн. Сын городского старшины. Поднялся переполох. Стали искать виновного, а демон, невидимый в облаках пара, только посмеивался и скалил белые зубы… Марека, хоть и была злодейкой, но тоже очень нервничала и пила разбавленную вином воду, чтобы успокоиться; молилась своей Артемиде и лобызала статую идолицы, что стояла у храма. Языческие боги, хоть и мерзость для верующего в Спасителя, но иногда все же чем-то помогают язычникам. И Мареке был послан, как она считала Артемидой, сон: благообразный, будивший в ней страсти праведный Иоанн, сноровисто работающий у печи, воскресил Домна. Но это был, к сожалению, только сон.
Утром, помывшись, причесавшись и приодевшись, Марека пришла к трудившимся в бане странникам, ласково поприветствовала их и завела разговор о Распятом Назарянине. Сказала, что глубоко раскаивается в содеянном, что поступила так, ибо не знает Бога настоящего, а верит в идола, и стала умолять праведного Иоанна воскресить отрока. Женщина рыдала и все время заглядывала ему в глаза, стремилась коснуться его рукой, чем сильно смущала праведного.
Какой христианин устоит перед кающейся женщиной?! И, помолившись, Иоанн воскресил Домна.
Марека, хоть и верила своему сну, что воскресение отрока возможно, но не могла представить, что такое может произойти на самом деле, а не только во сне. Читатель ведь тоже, наверное, скептически хмыкнет. Но, друг мой, мы же пишем о временах библейских! О последних счастливых временах на земле, когда еще возможны были чудеса воскресения, вознесения и любви к ближнему. Когда просвещенные либеральные умники еще не спустили с цепи бесов эгоизма…
О, какие это были времена!
Увидев живого Домна, Марека сначала пришла в страшный ужас. Потом возрадовалась. Стала называть Иоанна Сыном Божьим, припала к его ногам. Прохор насилу поднял дородную женщину, усадил на лавку и стал растирать ей банными растворами виски. И понятно, что все, кто видел это чудо воскресения юноши именем Распятого, тут же уверовали в Христа и пожелали креститься.
По городу пошли слухи: одни говорили, что Иоанн и Прохор — хитрые волхвы; другие утверждали, что волхвы мертвых не оживляют, им это не под силу.
В благодарность за воскресение сына городской старшина Диоскорид поселил Иоанна и Прохора в своем доме и попросил окрестить его самого и его семью, ибо тоже уверовал в Спасителя нашего Иисуса Христа. И понятно, что всякий раз с появлением праведного на торговой площади вокруг него собирался народ: одни приходили послушать проповедь о жизни и учении Назарянина, другие — чтобы бросить в праведного камень, обругать, проучить проповедника за безбожие, ибо праведный отказался принести дары Артемиде и обещал разрушить ее храм, который он называл не иначе как мерзкое капище.
Иоанн увещевал собравшихся:
— Поступайте правильно. Ненавидьте зло. Жертвуйте бедным. Живите свято.
Иоанн всякий раз всматривался в толпу, собиравшуюся вокруг него, когда он говорил народу о Живом Боге, ходившем по холмам Галилеи и проповедовавшем любовь к ближнему и спасение через покаяние и крещение, высматривая мальчика и слепого, на которых, как мы помним, явившись праведному во сне, указала Богородица. Но, увы и увы, не находил их среди толпившегося народа. К огорчению своему, он видел в руках у многих камни, прутья и палки. Ибо редко какая встреча оканчивалась без побоища. Нередко они с Прохором покидали площадь в ссадинах и синяках. Однако каждый раз за ними уходило с площади все больше и больше уверовавшего в Иоаннову проповедь народа. Люди переодевались в белые одежды и шли к воде, прося Иоанна крестить их. И праведный крестил.
Неделя прошла в сражениях с местными поклонниками Бахуса и Артемиды. Порой праведным приходилось туго. Озорные поклонники Бахуса и не знающие Бога язычники забрасывали их камнями, толкали в грудь, били до крови палками и кулаками, рвали на них одежду. Одни кричали одно, другие другое, и все махали руками, и никто толком не понимал, зачем здесь собрался народ…
Вот и сегодня, едва Иоанн и Прохор пришли на площадь, как вокруг стал собираться народ. По белым, простого покроя одеждам, отсутствию украшений у женщин Иоанн определял тех, кто уже принял крещение, а с ними пришли и те, кто прослышал о чудных деяниях Иоанна и тоже решил принять новую веру. Иоанн радовался, когда слышал, как многие собравшиеся здесь скромно одетые люди называют друг друга «брат», «сестра». Ибо видел, как люди начинают сознавать, что нуждаются друг в друге; вдохновлялся, наблюдая, как прорастает среди больших и малых, знатных и простых людей и обретает жизнь заповедь братства. Здесь собрались рабы, ремесленники, солдаты. Их поразило где-то услышанное слово о воскресении, и они, неудовлетворенные жизнью, пришли сюда, чтобы узнать об этом побольше, уже лелея в себе надежду на лучшую, счастливую жизнь в Царстве Божьем. Тем более что Артемида, в которую веровало большинство жителей Эфеса, ни воскресения, ни Царства Божия им не обещала. И они готовы были принять страдания за право доступа в это Царство. Пришли на площадь и иудейские священники, ревнители Закона. Пришли для того, чтобы сбивать христианского проповедника проклятиями и хитрыми вопросами. Прошлый раз иудеи стали кричать: «Мужи Израильские, помогите! Этот человек всех учит против Закона Моисеева и заслуживает каменования». Однако, когда Иоанн заговорил с ними на их языке, они притихли. Что-то они приготовили ему сегодня?
Пришли на площадь разодетые в яркие ткани поклонники Артемиды с амулетами и сделанными из полированного дерева маленькими идолами; пришел свирепый оппонент Иоанна волхв Нукиан, окруженный бесами и знавшийся с нечистыми духами; явились и жрецы храма Бахуса с вечно пьяными поклонниками этого идола, «отца свободы», которых Иоанн уже обличал за то, что, упившись, мужчины и женщины тут же у храма творили блуд и всяческое беззаконие.
Разве не говорит Господь: «Горе тем, которые с раннего утра ищут сикеры и до позднего вечера разгорячают себя вином»? Разве не предупреждает: «Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток»?
С печалью глядел Иоанн на этих упившихся безобразников, именовавших себя «детьми свободы».
И постепенно от всего этого разношерстного множества, окружавшего и теснившего его, праведный Иоанн начал пугаться, что опять проповедь, как это часто бывало в языческих поселениях, может превратиться в свалку и он не сможет отыскать слепого с его сыном Елиудом, опекать которого ему поручила явившаяся во сне Богоматерь. Он уже слышал, как шумные «дети свободы», подначиваемые иудеями, начали выкрикивать ругательства в его адрес и распевать, веселя народ:
Ликуем и пьем,
А завтра умрем!
Они злились на праведного, который два дня назад, наслав громы и молнии на храм Бахуса, разрушил его, опрокинул чаны с сикерой, за что был сильно побит вечно пьяными поклонниками и поклонницами «отца свободы».
Предание, руслу которого стараемся мы следовать, повествует о том, что после разрушения Бахусова капища к праведному Иоанну пришел волхв Нукиан и сказал: «Нехорошо ты сделал, что разрушил храм
Бахуса и погубил жрецов. Умоляю тебя снова воскресить их». Иоанн отвечал: «Причиной их гибели было их беззаконие; посему недостойны они жить здесь, но пусть мучаются в геенне». Тогда Нукиан вернулся на капище и с помощью волхвования сделал так, что явилось ему двенадцать бесов в образе погибших в развалинах жрецов. Нукиан повелел им убить Иоанна. Бесы заохали, замотали головами, запротестовали: «Невозможно нам не только убить праведного Иоанна, но даже явиться на то место, где он. Мы даже муху убить не можем в его доме. Если хочешь погубить Иоанна, приведи сюда, на развалины Храма, народ и возбуди его, чтобы он погубил этого праведника. Ибо за ним стоит Распятый, а мы против него бессильны и расслабленны».
В тот же день, придя на площадь, Нукиан воззвал к собравшемуся на встречу с праведным Иоанном народу: «О, несмысленные! Зачем позволяете прельщать себя этому страннику, который, погубив ваше капище со жрецами, погубит и вас, если будете его слушать. Не слушайте его длинные лживые речи. Идите за мной, и вы увидите жрецов, которых я воскресил. И посчитайтесь с этим незваным гостем».
И множество помутившегося народа устремилось за Нукианом.
Иоанн же тайной тропой послал тогда на капище проворного Прохора, научив, как именем Иисуса Христа изгнать тех бесов, выдающих себя за жрецов. Прохор пришел туда раньше Нукиана с толпой. Увидев Прохора, творящего молитву, бесы мгновенно, заметая помелом за собой следы, исчезли, будто их никогда тут, на развалинах капища, и не было. А тут как раз подошел с разъярившимся народом и Нукиан. Он стал звать своих бесов для разговора, но они затаились где-то вдали, не откликались на зов и не появлялись. Тогда народ перестал гневаться на Иоанна и вознегодовал на Нукиана. Все увидели, что обманщик он, а не Иоанн, тут же с криками и воплями схватили его, связали и потащили к Иоанну.
— Скажи, отче праведный, что сделать нам с этим обманщиком?
— Заставьте его покаяться, — сказал Иоанн. — И отпустите на все четыре стороны.
Нукиан сделал вид, что раскаивается, а сам придумывал уже новое злодейство против праведного. И вот что злодей тот надумал.
На другой день после того, как Иоанн велел толпе отпустить коварного Нукиана на все четыре стороны, едва не случилась с праведными беда.
Пришедшие утром на торговую площадь жители Эфеса были крайне удивлены увиденным: на камне, опустив на грудь голову, сидел незнакомый стражник и горько-горько плакал. Слезы заливали ему тунику, спина несчастного содрогалась в такт рыданиям. Полотенце, которым он вытирал глаза, было мокро от слез. Сердобольный народ обступил беднягу, выказывал ему глубокое сочувствие и предлагал помощь в устранении спустившейся на плачущего горести. Одна женщина принесла ему кувшин вина, другая — цыпленка.
— Откуда ты, господин наш, и отчего ты так горько плачешь? Видно, горе твое велико, — спрашивали гостеприимные горожане несчастного.
— Правду говорите, добрые люди. Воистину горе мое безмерно, — обреченно отвечал бедолага. — Смерть ожидает меня, ибо игемон не простит мне случившегося.
— Что же случилось с тобой? Расскажи нам. Вдруг мы сможем тебе помочь.
Несчастный стражник перестал плакать и вытер ладонью лучистые глаза свои и высморкал мокрый, хлюпающий от чрезмерных переживаний нос. Он оглядел собравшихся, увидел среди них несколько местных стражников и, обращаясь уже большей частью к этим представителям власти, скорбным голосом поведал свою историю.
— Я, господа мои, из Кесарии Палестинской, начальник над темницами; и велено мне было стеречь двух волхвов, из Иерусалима пришедших, неких Иоанна и Прохора, коих по причине множества их злодеяний игемон наш осудил на смерть. Утром они должны были погибнуть лютою смертью, но волхвованием своим ночью усыпили стражу и убежали, а я из-за них впал в беду: игемон хочет погубить меня вместо этих злодеев. Оставить моих пятерых малолетних детей сиротами. Я умолил игемона, чтобы он пустил меня преследовать беглецов, и вот я слышу, что волхвы те находятся в вашем городе, но беда в том, что я не имею никого, кто бы помог мне поймать их. Бедный, бедный я.
При этом стражник достал из-за пазухи грамоту, свидетельствующую о его принадлежности к власти и о правомочности его действий, а также показал мешочек с золотыми монетами и позвенел ими, обещая хорошо наградить тех, кто поможет ему задержать беглых Иоанна и Прохора.
Услышав эту печальную исповедь, автор сего повествования сразу смекнул, в чем тут дело, и уверен, что большинство читателей тоже догадались, что плачущий на камне стражник — не кто иной, как знакомый нам уже волхв Нукиан, поклявшийся почитателям Артемиды во что бы то ни стало погубить Иоанна и избавить Эфес от христиан. Однако многие стражники по наивности своей не знали того, что знают автор с читателями, и, ослепленные блеском золота, а также из профессионального сочувствия (служивый служивому глаз не выклюет), решительно взялись ему помогать. Войдя в азарт, ретиво двинулись они на поиски Иоанна и Прохора.
Ни для кого не было тайной, что наши праведники остановились в доме городского старшины Диоскорида. Как мы уже рассказывали, несколько дней назад Иоанн, используя силу Святого Креста Господня, воскресил удушенного демоном сына хозяина Домна, и тот вместе с семьей уверовал в Бога христианского, крестился и вступил в христианскую общину. А Иоанна с Прохором поселил в своем доме. Поэтому, когда стражники и сопровождающая их толпа поклонников Артемиды с палками и камнями в руках подошли к дому Диоскорида и стали кричать: «Сейчас же выдай нам волхвов Прохора и Иоанна, или мы подожжем огнем твой дом», тот наотрез отказался выполнить их требования.
— Пускай сгорит мой дом, но я не выдам святых людей на растерзание толпе безбожников, — сказал Диоскорид Иоанну.
Праведный же решил иначе. Со времен хождения с Учителем по Галилее он убедился, что бесовы происки и волхвования бессильны против силы Святого Креста и имени Иисуса. Он помнил, как, увидев Иисуса, бес выскочил из бесноватого человека и стал махать руками и кричать: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю Тебя Богом, не мучь меня!» Поэтому сейчас вместе с Прохором Иоанн вышел к толпе, которая повела праведников к Храму Артемиды, где их ожидал Нукиан в облике кесарийского стражника.
Иоанн помолился Богу и сказал вроде бы как Нукиану, а на самом деле бесу, вселившемуся в этого непутевого волхва:
— Тебе говорю, несчастный бес, скажи, ты ли возбудил народ сей?
— Да, — сказал бес голосом Нукиана, ибо был бессилен против Святого Креста. — Я возбудил сей народ на вас, презренных странников, смущающих проповедями наших граждан, запрещающих им молиться своей главной богине, Артемиде.
Иоанн же сказал ему:
— Во имя Иисуса Назарянина повелеваю тебе оставить место сие, удалиться из города Эфеса и мучиться.
И тотчас бес вышел из Нукиана и бесследно исчез. И Храм идольский зашатался, и две колонны его обрушились, не повредив, однако, ни одного человека.
Ужас объял идолопоклонников, и многие уверовали в Христа и обратились к Иоанну с просьбой крестить их.
На другой день Иоанн с Прохором снова пришли на площадь, чтобы говорить с народом и искать в толпе слепого с мальчиком-поводырем.
Собиравшаяся на площади шумная толпа, как и в прошлый раз, не сулила Иоанну спокойной проповеди. Неудачны были и его выступления в двух эфесских синагогах. И только в третьей синагоге на окраине города иудеи долго рассуждали с ним о Законе Моисеевом: они были необычайно удивлены, увидев, что Иоанн разбирается в Законе лучше местных раввинов. И договорились, что праведный придет к ним говорить о Распятом в следующую субботу.
Но что-то ожидает Иоанна и Прохора здесь сегодня?
Прохор взглянул на праведного. Тот стоял перед толпой, опираясь на посох, и лик его сиял, как утренняя звезда среди облаков. Толпа была, как всегда, разношерстной, однако Иоанна тесно окружали приверженцы новой веры. Многие подходили к апостолу, целовали ему руки; некоторые опускались на колени, касались губами края его одежды; матери просили благословить детей, и Иоанн радовался: это семена, посеянные здесь, в языческом, поклоняющемся Артемиде Эфесе, Петром и Павлом, дают здоровые, жизнеспособные всходы. И Прохор, его ученик, радовался вместе со своим учителем.
Перекрывая шум, Иоанн стал опять вещать собравшимся о Боге Живом, посланном в мир, чтобы искупить грехи человеческие. Говорил, что Спаситель принимает кающихся и прощает согрешающих.
И люди слушали Иоанна, видя, что он человек не книжный, простой, из тех, кто ходил с Христом.
— Признавайтесь друг другу в проступках, кайтесь в грехах и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. А если кто и согрешил, то мы имеем Ходатая перед Отцом, Иисуса Христа, Праведника. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, — так говорил, обращаясь к собравшимся на площади Иоанн. — Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а не верующий уже осужден, потому что не уверовал во имя единородного Сына Божия…
Иоанн говорил:
— «Он взял на Себя наши немощи и болезни… Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши … Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст Своих; как овца, веден был Он на заклание и, как агнец перед стригущими его, безгласен…»
Тишина воцарилась над площадью. Умолкли даже «дети свободы».
Иоанн продолжал:
— Я стоял у столба с Распятым. Померкло солнце, и зашаталась земля. В беспамятстве упала к подножию столба Благочестивая Мать Спасителя Мария… В голос зарыдали пришедшие с нею женщины… Господи, тесно мне, молил я. Боже крепкий, Боже сильный, Владыка, сотворивший небо, и землю, и море, и все, что в них, спаси Его…
Иоанн замолчал. Молчали и собравшиеся на площади. Проповедник, привыкший к непредсказуемому поведению толпы, ждал, кто первый бросит в него камень: праведный иудей, поклонник Бахуса или жрец Артемиды.
— Отче святый, мы слышали о тебе, что ты мудрее других, расскажи о чуде, которое ты видел, когда ходил по Иудее с Распятым, — крикнул из толпы готовившийся принять Христову веру молодой язычник, правая рука которого была сухой и не действовала.
Иоанн кивнул. И стал вспоминать:
— Был праздник Иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим к Овечьим воротам, где была купальня для больных телом. И был там человек, находившийся в болезни тридцать восемь лет. Иисус, увидев его и узнав, что он лежит здесь долгое время, спрашивает: хочешь ли быть здоров? Больной говорит Ему: «Господи, я не имею человека, который опустил бы меня в купальню в момент, когда вспенится вода. Пока я доползу до воды, другой уже там». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи. И не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». И больной тотчас выздоровел, взял постель свою и пошел.
Бывшие в толпе иудеи закричали:
— Знаем, знаем… Была суббота. Иисус нарушил закон. За это Его надо было побить камнями, а ты восхваляешь дела Его. Или тоже не знаешь Закона? Ибо не от Бога тот человек, что не хранит субботы.
Иоанн возражал этим знающим букву, но не понимающим духа закона иудеям:
— Иисус учил: «Кто, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит?» Спаситель говорил фарисеям: «В субботу священники в Храме нарушают субботу, однако невиновны». Верующие в Христа знают: Сын Человеческий есть господин и субботы. Ведь если бы Бог соблюдал Субботу, разве мог бы тогда мир двигаться в субботу?
И Иоанн обратил лицо к тому, кто спрашивал его о чуде излечения:
— Сегодня суббота?
— Суббота, мой господин, — отвечал сухорукий.
— Протяни мне твою больную руку, — попросил Иоанн.
Толпа замерла, только несколько иудеев выкрикивали в адрес Иоанна ругательства, да шумели нетрезвые поклонники Бахуса. Большая же часть толпы затихла в ожидании чуда.
Сухорукий, страшась погибели за свое отступничество от покровительницы Эфеса Артемиды, нерешительно протянул Иоанну свою тонкую, больную руку, поддерживая ее здоровой рукой. Сотни глаз следили за мертвыми, скрюченными болезнью, желтыми, высохшими пальцами увечного. Смолкли выкрики противников праведного. Прошла минута. Иоанн, призвав Иисуса, молился. Наступила другая. Сухорукому уже было невмоготу поддерживать увечную руку. Лицо его покрылось потом. И тут чудо свершилось. Сначала шевельнулись и разогнулись, оживая, мертвые пальцы; потом сухорукий согнул больную руку в локте и тут же зарыдал и пал к ногам праведного Иоанна.
— Иисус исцелил тебя, ибо ты уверовал, — сказал Иоанн, больше обращаясь к толпе, чем к исцеленному.
— Веруем, веруем! — закричала толпа. — Веруем в Бога Распятого! Веди нас к воде, отче, и крести Крестом Иисусовым… Ибо нет Бога, кроме Иисуса Христа.
В этот момент какой-то иудей бросил в Иоанна камень.
— Не верьте ему, иудеи, — крикнул он. — Я видел, он ходит вместе с необрезанными и ест с ними! Знайте же, кто не обрежется по закону Моисея, тот не спасется!
Иудея того тут же схватили и стали пинать и рвать на нем праздничный по случаю субботы хитон, дергать за пейсы. Другие иудеи бросились ему на помощь. Началась свалка. Одни кричали одно, вторые другое, а многие вообще не знали, зачем пришли.
Особенно ярились и веселились упившиеся вином новые жрецы Бахуса. Чинить беззакония — это была их стихия. Их страсть! Красноносые, разгоряченные сикерой, они уже успели восстановить часть разрушенного праведным в прошлое посещение Эфеса капища и вербовали себе новых приспешников. Они насмехались над праведным и клялись не есть и не пить, пока не изгонят Иоанна из Эфеса.
Тут как раз Иоанн заметил в толпе слепого с посохом и мальчика-поводыря с ним и указал на них Прохору, чтобы тот привел их в лачугу, где в этот свой приход в город остановились наши Божии странники. А сам отправился с желающими покаяться и креститься к воде. Слушая наперебой обращавшихся к нему с десятками вопросов людей и отвечая им, он одновременно думал об этом, кого-то напоминавшем ему слепом, при котором был указанный ему мальчик. Иоанн явно его где-то раньше видел, причем видел при каких-то страшных обстоятельствах… Может быть, в толпе на Голгофе? Но, увы, увы, вспомнить не мог.
Глава 21 Слепой и сын его Елиуд
Вечером Прохор привел слепца с поводырем к костру, горевшему во дворе дома. Трогая угли суковатой палкой, Иоанн в задумчивости сидел у огня. По дороге Прохор рассказал слепому, что его и сына хочет видеть праведный Иоанн, ученик Распятого Назарянина. Слепой сначала испугался, ибо знал, что проклят учениками Галилейского пророка. Но ведь он уже не тот Варавва, что противостоял Назарянину на Гаввафе; он сам теперь ищет Распятого, чтобы принести свое покаяние и принять спасительную для пропащего человека новую веру…
— Мир тебе, авва, — сказал слепой Иоанну, и мальчик в точности повторил эти слова.
— Слепец ищет Распятого, — сказал Прохор. — Хочет покаяться и принять нашу веру. И с ним сын его Елиуд.
Иоанн предложил слепому и мальчику сесть у костра и, разломив хлеб, подал им. Прохор налил в чашу воды из тыковки, дал отпить Иоанну, отпил сам и поднес слепому.
— Кто ты? — спросил Иоанн. — Откуда и куда идешь? И зачем ты ищешь Распятого?
— Я слышал, Распятый принимает кающихся и прощает грешников, — тихо сказал слепой. — Хочу и сына приобщить к новой вере, чтобы не скатился, как я, непутевый, в большой грех.
— Похвально, что думаешь о сыне, — сказал Иоанн. — А велик ли грех твой, странник, и в чем он состоит?
— Если ты, отче, как я слышал здесь от людей, есть ученик Распятого, то имя мое тебе должно быть известно и ненавистно.
На страдальческом лице слепого возникло что-то похожее на грустную улыбку.
— Не думаю, что и Сам Распятый забыл меня. Ибо я — Варавва.
Как ни странно, Иоанн, стоявший в ту страшную пятницу в толпе у претория и слушавший суд Пилата, не смог сразу признать в слепом того самого Варавву, который был отпущен по требованию возбужденных священниками и обезумевших до крайности иудеев. Молодцеватый разбойник сильно изменился с тех пор. Упругая когда-то спина его сгорбилась, словно навьюченная невидимым тяжким ярмом, глаза погасли и ослепли. Вид у него был как у больного, погибающего человека, который уже мысленно покончил все счеты с жизнью и ждет не дождется своего смертного часа.
— Варавва?.. Да. Я узнаю тебя. Ты Варавва, — узнал наконец слепца Иоанн. — Но что с тобой стало? Тебя трудно признать.
— Я был дерзким нечестивцем, и Бог покарал меня, — сказал слепец. — Душа моя мучается в геенне огненной.
— Чем провинился ты перед Богом? — спросил Иоанн, понимая некоторую бессмысленность своего вопроса; ведь он, как и все ученики, все верующие в Учителя, да и, наверное, вообще все, читавшие о событиях Страстной пятницы, с того самого момента, когда Пилат приказал освободить Варавву, считали того разбойника чуть ли не главным виновником смерти Христа. Сейчас же, когда Варавва пришел к нему с покаянием, Иоанн, любимый ученик Иисуса, с годами превратившийся в искусного проповедника и христианского мыслителя, уже не увидел вины Вараввы во время суда в претории. А ведь все ученики тогда проклинали Варавву. Петр и брат Иоанна Иаков, так же как и Иоанн, прозванный Учителем Сыном Громовым, клялись выследить Варавву и убить. Не думал Иоанн, что это Учитель, призывавший к прощению врагов своих, так покарал этого несчастного человека, подставленного Высшими силами в нужное время и в нужном месте так же, как были подставлены и Иуда Искариотский, и прокуратор Понтий Пилат, для свершения Великого Чуда… Скорее всего Варавва несет кару за содеянное ранее, за свои разбойные дела, за то, что лишал людей жизни…
— Расскажи о себе, добрый человек, — попросил Иоанн. — Я должен знать, сколь велик твой грех.
И, обратившись к Прохору, сказал:
— Отче, поговори с отроком, а я пока исповедую этого ищущего Бога человека.
Прохор и мальчик отошли от костра.
— Грешен я, — сказал Варавва. — Безгранично грешен. Исполнен грехов и беззакония… Я, как мешок с дерьмом, полон грехами… С голоду, таким вот несмышленышем, как Елиуд, ушел к лихим людям в горы. Главарь поучал: убить только первый раз страшно. Потом страх пройдет. Будет легко. «А — грех?» — спрашивал я. Главарь заверил меня, что греха нет, если убивать ночью. Грех, совершенный во тьме, грех, которого не видит солнце, не будет узнан Богом. Ибо Бог видит только те грехи, которые освещает солнце… И я поверил ему.
— С тобой говорил дьявол. И никто не остерег юную душу от сетей вражьих.
— Распятый, с которым мы сидели в ту ночь в темнице, наставлял меня покаяться и помолиться. Но я тогда был другим. Я смеялся над ним. А вот когда я узнал, что Он воскрес, что Он — Сын Божий, мне стало страшно. Страшно за свою вину перед ним. За то, что Он распят на моем столбе. Ночами я стал видеть на луне три распятия. И то, на котором был распят Назарянин, пустовало. Я понял, что это мое распятие, оно так и записано там на небесах за мной и ждет меня не дождется. И я умолил Бога ослепить меня, чтобы больше не видеть луны с пустующим в ожидании грешника Вараввы распятием.
Иоанн печально покачал головой:
— Жизнь твоя — свидетельство, что Бог попускает иногда человека на некоторое падение, дабы человек, восставши, проявил еще больший подвиг и исправление и еще большее усердие к Богу, прощающему грехи.
— Скажи, праведный отче, может ли Бог простить Варавву и вернуть ему зрение, от которого он в страхе отказался, чтобы не видеть приготовленное для него распятие?
— Для Бога нет ничего невозможного. От Его лица тают горы и высыхают бездны. Бог говорит грешникам: «Придите, и рассудим. Если будут грехи ваши, как багряное, — как снег убелю; если будут красны, как пурпур, — как волну убелю». Но Бог должен поверить, что ты встал на путь исправления и каждо-дневно каешься в совершенных в молодости грехах… Плач перед Богом каждый день. Ибо Он должен видеть твое покаяние. Я дам тебе свой старый, высохший от времени и трудов посох. Воткни его в землю и поливай трижды в день. И вот когда, — возможно, прежде пройдут годы, — когда проклюнутся на его ветхой древесине молодые почки, знай: ты — прощен. Глаза твои снова увидят мир Божий.
Во все время разговора Варавва благодарно кивал.
— И еще, падаю к твоим ногам, отче. Спаси сына моего Елиуда. Мальчик светел и чист душой. Он чест-ный юноша, но люди с гор прокляли меня и хотят забрать его к себе…
— Я позабочусь о Елиуде, — сказал Иоанн. — Сатана не запутает в сети ноги отрока и не ввергнет его в яму, которую роет для оступившихся. Аминь.
Утром при свете Божьего дня праведный Иоанн привел раскаявшегося разбойника Варавву и его сына Елиуда в небольшой монастырь и поручил знакомому игумену. Не оглашая имени Вараввы, чтобы не смущать братию чуждым христианским послушникам именем, по соглашению с игуменом определил слепца ночным сторожем: ходить ночью по двору, стучать колотушкой и кричать для острастки лихим людям и бесам: «Бойтесь! Бойтесь!» И поливать, поливать воткнутый в землю посох, чтобы получить от Бога прощение и прозреть. Варавва был согласен на все: он изнемог жить в тоске и печали и был рад послужить Распятому, неся свое покаяние.
Елиуд же был крещен праведным и принят в монастырь послушником.
Прощаясь, Иоанн напутствовал повернувшегося лицом к Богу доброго юношу:
— Возлюби Господа нашего Иисуса Христа более всякой земной твари, — прилепись к Нему сердцем своим. Молись Ему устами, и сердцем, и языком твоим, и умом. С новой братией своей ходи в церковь. Все молитвы твои да будут соединены с сокрушением сердечным, со слезами и вздыханием. Плачь перед Богом каждый день, да сподобишься вечного утешения. Слушайся игумена и братию, храни незлобие отныне и до конца жизни своей; загради молчанием уста свои; старайся, чтобы не осудить кого-нибудь и не посмеяться чужому греху; видя же согрешающего, помолись о нем Единому безгрешному Богу, да исправит грешника. Ничего не говори ни праздного, ни скверного, ни хульного; будь кроток и смиренен сердцем, всех почитай за отцов и благодетелей своих, а себя считай ниже всех. Соблюдай себя тщательно от бесовских козней, трезвись и бодрствуй, ибо дьявол не дремлет, ища поглотить всякого служащего Богу. Умертви уды свои, не давай покоя и послабления телу своему: как осла непокорного смиряй его голодом, жаждою, работою, ранами, пока не представишь Христу душу свою, как чистую невесту. Нищету и нестяжание люби так, как бы многоценное сокровище… Помни, нет для человека ничего важнее Бога и Божественной любви Его. Он есть сокровище наше и богатство. Он пища и питие. Он одежда и покров. Он здравие наше и крепость. Он надежда и упование наше. Его потщись стяжать, сын мой.
На этом они расстались. Однако судьба скоро вновь сведет Елиуда с праведным Иоанном. И случится это при печалящих старца обстоятельствах: ибо читатель, конечно, не забыл, Кем было поручено Сыну Громову спасение этого юноши.
Глава 22 Учение Платония о «Закулисе»
Случилось Иоанну во время странствий по земле Малоазий-ской остановиться на ночлег в захудалой го-стинице на окраине сирийского города Дамаска. Солнце уже опустилось за горизонт, багрово подкрашивая темнеющие облака, умолкли птицы. Изредка кричали ослы. Во дворе, огороженном невысоким, сложенным из камней забором, ходили несколько замызганных, шелудивых коз. Козы терлись облезлыми боками друг о друга и жалостно блеяли. Пахло едой. Вокруг костра сидели уставшие за день люди разного возраста и достоинства: погонщик мулов, купец, продавец дынь, обувных дел мастер, слепой странник с поводырем — в общем, народец из тех, кто заночевал в гостинице или от безденежья собирался прилечь во дворе на соломе. И сейчас, в ожидании ячменных лепешек, которые пек на горячих камнях старый сгорбленный вольноотпущенник, армянин, они вели разговор на злободневную, но опасную по тем временам тему: окоротит ли новый христианский Бог, призывающий людей к всепрощению, своеволие и жестокость римлян. Все сидящие у костра, за исключением одного иерусалимского иудея, были язычниками, далекими от Бога истинного, и смысла в их разговоре Иоанн, как ни старался, никак не мог обнаружить. Корысть, вечное недовольство жизнью, обиды, наветы на ближнего, страх перед ордами римлян, распространившихся на все видимое земное пространство, беспокоили собравшихся у огня… Простых этих людей, судя по тому, как они горячились, спорили, очень волновало и огорчало, что до сей поры ни один бог — ни христианский, ни иудейский, ни сонмы языческих богов — не заступался за человека, ибо не было справедливости на земле и не было на их земле дороги, ведущей из Рима, на которой не стояли бы столбы с распятиями.
— Нужен новый Потоп, — сказал иудей. — Бог Израиля уже один раз очистил землю от зла. Только наш Бог спасет мир от римлян.
— А не за грехи ли царя Соломона по поручению Ягве архангел Гавриил посадил в море росток, из которого и вырос Рим, чтобы поработить мир и уничтожить Иуду? — указал иудею на просчет иудейского Бога купец-финикиец. — И разве не пророчествовал молодой Бог христианский, что римляне сравняют Иерусалим с землей? Вот и думай, будет ли у вас, иудеев, время очищать мир от зла?
Иоанн сидел на траве, в некотором отдалении от костра, прислонившись спиной к хранившему еще дневное тепло камню и вытянув ноги. Он сейчас думал о своих уставших, израненных хождением по равнинным дорогам и горным тропам ногах, изредка вслушивался в разговор, периодически задремывал и уже собрался было по бедности своей улечься возле козьего загона на охапке пожертвованной хозяином гостиницы апостолу соломы, как новый оратор пробудил в нем интерес к разговору.
Некоторое время тому назад из дверей гостиницы вывалился полупьяный взъерошенный грек — пуче-глазый, крючконосый, похожий на филина коротышка; он, качаясь, подошел к костру, растолкал сидящих, уселся на край каменной скамьи и, казалось, заснул. Но нет. Оказывается, пьянчужка только прикидывался, что спит, а сам слушал, мотал на ус. И вдруг его прорвало.
— Ну да! Ну да! Я знаю, что ничего не знаю! — прервал он беседу, резко поднявшись и поднимая вверх руку с вытянутым указательным пальцем, указывая своим перстом в небо. Будто это там, на небе, были произнесены эти слова, прозвучавшие здесь как заклинание. — Шум ваших бессмысленных слов разбудил меня, — сказал коротышка, — и слушайте, что буду вам говорить я, эллин, свободный гражданин Эллады, давшей человечеству Сократа, Платона и Аристотеля. Откройте ваши слепые глаза и прочистите затянутые паутиной глупости глухие уши. Послушайте старого Архилая…
Грек посмотрел в сторону седобородого Иоанна, чувствуя в нем единственного, по его мнению, достойного слушателя и стараясь втянуть седобородого праведника в разговор, и потому, обращаясь как будто только к нему, сказал:
— Как у известного, я думаю, вам Сократа любимым учеником был Платон, так и среди учеников великого Платона блистал юноша по имени Платоний. Вот его-то учение о некоем непознаваемом «даймоне», именуемом в просторечии «Закулисой» или «Софией», которая больше богов, потому что была раньше их и является истинной правительницей мира, — вот это учение наконец и расставит все по своим местам. Поверьте старому Архилаю: оно рассудит и грека, и иудея, и христианина, и всякого иного, претендующего на свое место под солнцем мирянина.
Иоанн никак не отреагировал на это явное приглашение к разговору. Хотя в памяти шевельнулось что-то связанное с «Закулисой», и он огорчился, что теперь будет долго и напряженно вспоминать, откуда взялась в его голове эта странная «Закулиса». Поскольку лицо его оставалось равнодушным, грек досадливо хмыкнул, отвернулся от Иоанна и, обращаясь теперь уже только к иудею, заявил:
— Ваше утверждение, господин мой иудей, о том, что Бог Израилев есть Бог настоящий и больше других заботится о своем народе, ничего не стоит.
— Вот так раз! — удивился иудей и оглянулся на окружающих, как бы призывая их в свидетели. — Как это ничего не стоит? Нет, вы слышали? Наш Бог ничего не стоит! Конечно, еврейского Бога никто не видел, но Он говорит со своим народом через царей и пророков. Через Моисея Он дал нам десять заповедей и Закон; научил, как жить в жизни и не пропасть. А что дал вам, грекам, голый мраморный идол, извест-ный на весь мир ваш прелюбодей и распутник Зевс?
— О, безмозглый человек! — вскричал коротышка, вперяя в иудея свой длинный указательный палец. — Зевс научил нас пить вино глотками и, «торопясь медленно», любить женщин. Где тебе, унылому еврею, понять, что значит пить вино глотками и любить женщин? А законы наши мы сами придумали, ибо умом наши боги народ свой не обделили, и оттого нет на земле страны счастливей Эллады.
Суровый иудей с сомнением покачал головой:
— О, несчастный прелюбодейный народ! Уже за одно то, что ваш Зевс сделал с бедняжкой Ледой, прикинувшись Лебедем, у нас бы его побили камнями. Поверь, не знающий истинного Бога эллин, что век вашего Зевса будет недолог.
— А вот тут я с тобой соглашусь, почтенный иудей, ибо мне, как я уже говорил, знакомо учение Платония о «Закулисе». А знаком ли ты с учением Платония?
— И не знаком, и не надо, и не хочу знать никого Платония. Нет иного кумира, кроме Бога Израилева.
— А вот я тебя сейчас просвещу. Я тебе расскажу, чему учит Платоний. Он единственный постиг тайну «Закулисы». Ты только слушай, как все складно он развивает… — Грек опять с надеждой втянуть в разговор седобородого старца посмотрел на Иоанна и повернулся к иудею. — Так вот, господин мой еврей, теперь Богом человеков «Закулиса» поставит Бога христианского. Того, которого вы гоните. Иисуса, называемого Христом! Которого вы так дружно вместе с римлянами распяли.
— Отстань от меня с твоим Платонием, — начал сердиться иудей. — Слышать ничего не хочу. Смотрите все, я затыкаю уши! — закричал он, заткнул уши пальцами и зажмурил глаза.
Иоанну, да и другим сидевшим в ночи возле костра, стало интересно, ибо никто до сих пор ничего не слышал о Платонии и «Закулисе». Вот об учении Платона и других лукаво мудрствующих греков слышали многие, краем уха слышали и о Софии, но имя Платония прозвучало для них впервые.
Как понимает читатель, Иоанну, несущему в мир слово Учителя, особенно в период злобных Нероновых гонений, когда христиан выводили на арену цирков и травили львами, услышать вдруг весть о победе Слова Христова, о которой, по словам грека, вещал этот многомудрый Платоний, было вдвойне интересно. Поэтому, испугавшись, что маленький пьянчужка обидится и не расскажет о Платонии и его учении, он поднялся и подошел к костру.
— Мир тебе, добрый человек, не продолжишь ли ты разговор о Платонии? — попросил он эрудированного сына Эллады. Иоанн знал: афиняне ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы выдумывать что-то новое. И дискутировать. Говорят, их хлебом не корми, дай подискутировать… Таковы были в его представлении Платон, Аристотель и их ученики. — Я, странник Божий, исповедую Слово Христово и хотел бы послушать об учении Платония.
— Проповедуешь об истине, которая приходит с неба? — хитро прищурившись, спросил эллин Иоанна, радуясь, что этот странник попался на его крючок и заинтересовался Платонием.
— Проповедую, чтобы утешать уязвленных и уязвлять утешенных, — мягко сказал Иоанн.
— Так ты, значит, отче, христианин? — грек с интересом взглянул на белобородого Иоанна. — И проповедуешь Распятого?
Все с интересом повернулись к Иоанну.
Иоанн, считавший, что истинно только учение Иисуса, не прочь был послушать и греческих умников, поэтому, чтобы не уйти от разговора об этом странном, неведомом ему учении Платония, не стал углубляться в суть своей проповеди и на всякий случай применил Соломонов прием.
— И да и нет, мудрый эллин, и да и нет, — сказал он. — У палки два конца, и человек ходит на двух ногах, а день сменяет ночь, и ночь сменяет день.
— А может, ты выдаешь себя за сына Давидова? — опять прищурился грек.
— Не следует, о, добрый человек, упоминать имя Сына Давидова всуе.
Услышав о сыне Давидовом, иудей приоткрыл одно ухо и вновь стал прислушиваться к разговору.
— А я тебя узнал, авва, — сказал вольноотпущенник-армянин, вглядываясь в Иоанна и перекидывая с руки на руку горячую лепешку. — Это ведь ты два лета назад в Кесарии Филипповой исцелил скорченную дочь мытаря Иосафа, чего не могли сделать волхвы, которых несчастный отец всякий раз одаривал серебром.
— Ошибаешься, почтенный, — сказал Иоанн, принимая, однако, лепешку, ибо был голоден. — Ошибаешься. Исцелил Господь. А я, раб Господа, лишь просил Иисуса об этом.
— Сказки все это, — сказал иудей. — Всесилен лишь Бог Израилев.
— Что же он не спасает иудеев от римлян? Клянусь Зевсом, грядет конец вашему Храму, — с долей злорадства в голосе изрек грек, которому не терпелось продолжить свой рассказ об учении Платония.
Иоанн покачал головой на слова эллина:
— Не клянись, господин мой. Не клянись. Да будет слово твое: да — да, нет — нет, а что сверх того, то от лукавого. Так что лучше продолжи свой рассказ о мудрости Платония.
Эллин только рассмеялся на это.
— Клянусь Зевсом, христианин, я расскажу тебе, раз ты интересуешься учением Платония. Слушай. И пусть все они, эти невежды, тоже слышат. — Грек кивнул на сидящих у огня. — Ибо истинно говорю, христианину ли, иудею ли, всякому люду следует знать это учение. Оно всем на пользу. Я хоть и не признаю вашего Христа за Бога, но от христиан зла не видел… Сказать по правде, я многое позабыл, потому что рассказ тот слушал вот так же, у костра, из уст одного волхва. Слушал я его вполуха, да и давно это было. Рассказать расскажу, но только с одним условием: не задавать вопросов. Потому что вы, — он повернулся лицом к иудею, — евреи, все ужасные спорщики и можете сбить меня с мысли. Тот волхв, который рассказывал о Платонии, говорил, что и сам Платоний тоже не разрешал задавать себе вопросов, потому и называл свое учение «повествующей философией».
— А разве не греки любую мысль сразу ставят с ног на голову? — удивился требованию не задавать вопросы устроившийся на горячей от костра траве Иоанн, преломляя ячменный хлеб и раздавая отломленные куски сидящим рядом. — Разве вопросы пошли не от Сократа?
— Вот видишь, почтенный, ты уже задал мне тысячу вопросов. Поэтому я умолкаю и ни слова не скажу больше до утра.
— Зачем ты его напугал? — укоризненно сказал Иоанну сидевший тут же у огня сириец в зеленом халате, непрестанно теребивший кисточку на подоле. — Он же хотел воздать хвалу твоему Иисусу, а ты его запутал вопросом. Терпения в тебе нет, человек.
«Какой глупый, Господи прости, разговор, — подумал Иоанн. — И почему эти афиняне все такие слово-блуды и весельчаки?» Но вот что странно: при столь поверхностном уме проповедь Христову, в этом он убедился за годы странствий, принимают лучше, чем иудеи. Слышал он, что и Павел говорил об этом же. И Петр.
— Не сердись, почтенный эллин, — покорно сказал Иоанн. — И продолжай, пожалуйста.
Как человек любознательный, некичливый, во всем следовавший наставлениям и примеру своего Божественного Учителя, Иоанн давно уже не носил в сердце гордыни и не чинился среди простого люда, потому и не обиделся на отповедь грека, а продолжал с ним беседу, стараясь того задобрить и услышать учение о «Закулисе». И он опять попытался вспомнить, где он уже слышал это странное слово.
— Прости нас и просвети, любезный эллин, — благодушно сказал Иоанн. — И мы все воздаем должное «учителю мудрости» Сократу и любезному тебе Платонию.
— Почитание Сократа выдает в тебе мудрого человека, старец, — подобрел обидевшийся было грек. — Но я не Сократ. У меня от вина попортилась память, поэтому я и не терплю вопросов и прошу не задавать их мне, если хочешь услышать об учении Платония.
— А я не хочу ничего слышать о Платонии и про «Закулису», — опять заявил иудей, свято веривший в свой Закон и не привыкший к глубокому размышлению о вещах. — Не желаю ничего слушать, и все! Послушаем тебя, афинянин, в другой раз. Видите, я опять затыкаю уши!
— Залепите ему уши воском, — закричал сириец, показывая на иудея. — Путь любомудрия — не его путь.
И тут Иоанн неожиданно вспомнил, откуда у него в голове вертится эта «Закулиса». Читатель, еще не попортивший, как этот славный эллин, своей памяти вином, тоже, наверное, вспомнил. Это же Иуда Искариот в самом начале нашего повествования, явившись Иоанну во сне, толковал ему об этой «Закулисе», которая якобы и подбила его предать Учителя… Смотри и поражайся читатель, как все запутано, завязано в клубок в горнем и земном мирах. И усомнись! Усомнись! Ибо можно ли верить таким свидетелям, как Иуда или этот отщепенец Платоний, о котором говорят, что на самом деле он ничего более мудрого за всю свою жизнь, чем изречение, будто истина находится в вине, и мифа о «Закулисе», так и не придумал.
А вот теперь, после своевременного предостережения, мы и познакомимся с этим псевдоучением Платония о некоей божественной сущности, именуемой им «Закулисой». Рассказ, понятно, дается в пересказе косноязычного грека из Пелопоннеса по имени Архилай. Мы называем учение Платония «псевдоучением», ибо невозможно признать за истину то, что противоречит символу нашей светлой христианской веры и канонам Священного Писания. Но ничто не мешает нам послушать этого самонадеянного грека. И порадоваться, увидев, сколь ничтожны все эти претендующие на истинное учение о высшем умствования язычников из Эллады.
— Так вот, — сказал Архилай, откашлявшись и глотнув вина из стоящего у костра и неизвестно кому принадлежавшего кувшина. — Так вот, братия… Платон создал науку о государстве, а Платоний учил о небесном. Платоний учил не так, как учит Писание. Платоний учил так: сначала была «Закулиса». Она была, потому что была. И «Закулиса» послала Бога, и Он сотворил небо и землю. Он трудился шесть дней и совершил к седьмому дню дела Свои, которые Он делал. И «Закулиса» сказала, что это — «хорошо весьма». И Бог повторил: «Это хорошо весьма».
Грек замолчал, оглядел притихших собеседников своих, подавленных мудростью Платония и сидящих вокруг в глубоком раздумье, показал пальцем на иудея, не желавшего ничего знать о «Закулисе» и продолжавшего затыкать пальцами свои уши, покачал головой, жалея того, что он так и не постигнет учения мудрого Платония, снова глотнул вина, сказал: «Э-эх, хорошо-то как!» — и продолжал свой рассказ:
— И стал на земле плодиться и размножаться род человеческий, род людской, род ленивый и нелюбопытный, род, обуянный похотью неизбывной, и управляться с ним становилось все труднее и тяжелее. И тогда послала «Закулиса» в помощники Богу доктора Велиара. Ибо, как только что мудро заметил этот уважаемый старец, — Архилай кивнул в сторону Иоанна, — у палки два конца, и человек ходит на двух ногах. Но, как увидели мы из Писания, Велиар только вредил Богу, ибо по природе своей был сплетник и клеветник. Бог много досадовал на беспорядок, создаваемый в мире Велиаром, и вдруг вздумал возлюбить один беспокойный кочевой народ и открыл ему свое имя. Своеволие не понравилось «Закулисе», и народ Божий сразу стал чувствовать это на себе. А скоро, как предсказал Платоний, почувствует и еще больше, ибо с римлянами шутки плохи. Но это другой вопрос. Что касается «Закулисы», то с некоторых пор начинается скрытое противоборство Ее и Ягве.
— Как это — противоборство? — удивился любопытный сириец в зеленом халате, продолжая теребить кисточку на подоле.
— Не перебивай, глупый человек! — рассердился грек. — Я же предупреждал, что не терплю вопросов… Так вот. Как бы между прочим, как бы случайно в районе Средиземноморья возникает Пантеон античных богов. И жизнь там сразу забурлила, забила ключом. Но не было там праведности Ягве. И потому восторжествовал там на божьем престоле род веселый и, как говорят ныне христиане, род прелюбодейный. Заплутав и запутавшись в сетях бесчисленных адюльтеров, античные боги быстро выродились, оставив после себя красивые сказки и сонмы белотелых мраморных изваяний, смущающих своей наготой немногих еще оставшихся праведными граждан Эллады.
Увы: первый опыт «Закулисы» противостоять иудейскому Ягве, прямо скажем, не удался.
Но все действительное, как говорит Платоний, разумно.
Шло время. Мстительный Ягве продолжал терзать и держать в черном теле свой терпеливый, но свое-нравный неугомонный народ, упорно цепляющийся за передающуюся из поколения в поколение главную истину: «Хранить завет Господа… Ходить путями Его и соблюдая уставы Его и заповеди Его, и определения Его и постановления Его …» В общем — страшное дело! Одним словом — ужас!
Утомившись от интриг Ягве, «Закулиса» обращает свой взор к Востоку. И там, в многолюдной стране слонов и магарадж, чистый, как белый лотос, рождается великий Будда. Но Будда — совсем не Ягве! Он добр. И народы далекого Востока вздохнули с облегчением: оказывается, счастье возможно и на земле! Отрекись только от своих желаний и стремись спасти каждую травинку и всякую мельчайшую букашку, козявку, блошку, и тебя ожидает нирвана. Ягве только посмеялся над этим счастьем. Ибо от своих иудеев Он требовал жертвоприношений. Заглянем в Писание. Чтобы угодить Ему, царь избранного народа Соломон при освящении храма Божия принес в жертву своему Богу двадцать две тысячи крупного скота и сто двадцать тысяч мелкого.
Любовь Ягве ко всесожжениям давно раздражала «Закулису», ибо уничтожение живых тварей по желанию Бога и по произволу человеков не вязалось с Ее доктриной. И тогда Она принимает решение сменять парадигму.
«Сильное решение!» — как отмечает в своем трактате Платоний.
Мудрецы Средиземноморья, которыми успешно верховодил учитель Платония Платон, спасение видели в разумности человеков. Они взывали к уму. Но это не устраивало мудрую «Закулису». И Она установила, что вполне достаточно, если пределом мудрости людей будет изречение Платония: «Ин вина веритас!», что, как вы знаете, означало, что «истина — в вине». И потому овладевать следовало не умом человеков, нет, господа мои простаки. — Ораторствующий у костра грек, как ты уже понял, читатель, как и Платоний, был философом, он окинул снисходительным взглядом свою разношерстную аудиторию и продолжил:
— Нет, нет и нет. Овладевать следовало душой. Как и предсказывал Платоний, Ягве предложили помощника. Для начала в мир послали Предтечу, «Вопиющего в пустыне». А за ним, как говорится, «взошла звезда от Давида» — пришел Мессия с его всепобеждающим речением: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Тут-то все и началось. Платоний считал, что именно с приходом Этого Мессии, или Спасителя, и начинается подлинная история человечества.
И «Закулиса» восторжествовала. Ибо был найден тот самый золотой ключик, который открывал души людские. И имя этому ключику: любовь к ближнему! И стало понятно: грядут перемены. Огромные, еще не доступные простому уму перемены.
— И что же это за перемены? — неожиданно спросил грека иудей, ибо, будучи от природы очень хитрым человеком, он давно уже незаметно чуть вытащил палец из уха и подслушивал.
— Я же просил помалкивать! — опять обиделся грек. — Никто не может задавать мне вопросы! Так вот, слушайте и трепещите. Как пророчествует Платоний, учение известного Иисуса сначала покорит гордый Рим, а затем и весь мир, а избранный народ, — грек сурово взглянул на иудея и повторил специально для него, даже как бы злорадствуя, — а избранный народ потеряет отечество и начнет бродячую жизнь… А это значит, что в скором времени следует ожидать новых происков «Закулисы». Так учил Платоний.
И это все. И больше я вам ничего не скажу. Хоть убейте меня!
И он разорвал на груди тунику.
После этого грек-философ поднялся, взял с горячего камня ячменную лепешку, как бы причитающуюся ему за повествование о «Закулисе», и, не оглядываясь, пошел в гостиницу. Он, как и его высокопросвещенный учитель Платоний, не терпел, когда ему задавали вопросы.
— Нет, видали, а? — возмутился иудей, обращаясь к оставшимся у костра погруженным в раздумья ночлежникам, но почему-то особенно стараясь заглянуть в глаза Иоанну. — Какой безобразник, это Платоний!.. Если хотите знать, эллины все такие. Они — бабники и смутьяны.
И наш герой Иоанн согласился с иудеем. Не без лукавого сочинил свою притчу этот Платоний. Но выводы о том, что эта странная, никому не известная «Закулиса» напророчила через этого безумца и путаника Платония, что учение Иисуса покорит Рим и завоюет, наподобие Римской империи, весь мир, озадачили и обрадовали Иоанна.
Хотя можно ли верить язычникам из Эллады, ищущим истину в вине?
Глава 23 Возвращение отрока
В странствиях и в проповедях Слова Божьего, в страданиях от гонений лютых, в радостях каждому новообращенному язычнику или иудею неслось время; шли дни за днями, седмицы за седмицами, месяцы за месяцами, годы за годами, и вот Иоанн вновь оказался в том городе, где в маленьком монастыре оставил Варавву и Елиуда. И он захотел встретиться с иноком и посмотреть, как преуспел тот в иноческой жизни, прилепился ли к Богу, как завещал ему Иоанн, усерден ли в посту и молитвах, научился ли смирять тело голодом и работою, а заодно и справиться о Варавве. Расцвел ли его суковатый посох от каждодневных поливов, как наставлял он этого великого грешника? Прозрел ли раскаявшийся лиходей? Неспокойно было у праведного на сердце. Смущали слухи. Слышал он, в округе появился молодой разбойник, бывший инок, который весьма жесток к людям.
Имея в душе такие сомнения, старец и пришел к игумену.
— Покажи мне, отче, отрока, которого я оставил тебе для того, чтобы ты научил его страху Божию.
Игумен, увидев Иоанна, пал перед ним на колени, плача и бия себя в грудь, стал каяться, что не сумел удержать в монастыре отрока, и тот убежал, рассорившись с братией.
— Погиб тот юноша, душою умер, а телом — разбойничает на дорогах, — завершил свой рассказ игумен.
Кровь бросилась в голову Иоанну, он хотел было закричать, затопать на игумена, погубившего душу чистого отрока, но остановился: жизнь научила пылкого когда-то Сына Громова смирять себя, укрощать внезапно полыхивающие страсти.
— Ах, отче, отче! Так ли подобало тебе, служитель Божий, хранить душу брата твоего? Дай мне коня и найди проводника, чтобы я мог пойти поискать того, чью душу ты, злодей, не уберег от сетей вражьих.
День за днем рыскал Иоанн с проводником по окрестным горам в поисках разбойников. И все безрезультатно. Один раз нашли следы еще теплого костра, кости агнца, пустые кувшины от вина и — не более. Иоанн неустанно молился, взывал к Господу, но не смел обратиться с молитвою к Божьей Матери, указавшей ему когда-то на этого отрока, которого он так и не привел к Богу, как обещал Ей. На четвертые сутки проводник не выдержал безумств рыскающего по окрестным лесам и чащам, похоже, тронувшегося умом старца и, оставив Иоанну мешочек с лепешками и тыковку с водой, ночью, тайком от праведного, — все равно несчастного задерут волки, — вскочил на коня и был таков. Предательство проводника ничуть не смутило старца. Он продолжал свой поиск, ибо был в ответе перед Богородицей.
На пятую ночь Приснодева явилась своему нареченному сыну и рассказала, как найти тех разбойников. Иоанн, проснувшись, сотворил Богоматери благодарственную молитву, попросил у нее прощения за оплошность с отроком Елиудом и двинулся в путь, даже не вкусив от оставленной добрым проводником ячменной лепешки. В полдень он подошел к роднику, о котором вещала во сне Богородица и от которого, следуя вниз по бегущему от ключа ручью, он и должен оказаться в стане разбойников.
Бредя вдоль ручья, праведный вскорости уловил запах дыма, печенного на костре мяса, услышал люд-ской говор и понял, что достиг лагеря лихих людей, которыми, по слухам, и верховодил бывший инок, ради спасения которого он уже шестые сутки и мыкался по лесу.
Когда же, ломая ветки, Иоанн выбрался из кустов на поляну, где у костра пировали неприкаянные молодцы, объедаясь бараньим мясом и упиваясь вином, о чем свидетельствовали во множестве разбросанные вокруг костра пустые кувшины, изумлению разбойников не было предела. Увидев, что почтенный старец пришел один и за ним нет стражников, они, не прекращая трапезы, начали потешаться над праведным: покатывались от смеха, показывали на него пальцами, бросали в него обглоданными костями, пугая праведного, таращили на него глаза, как делал это в далеком детстве рыжебородый рыбак Симон Ионин, ныне уже распятый в Риме апостол Петр, когда маленький Иоанн Зеведеев подходил к его лодке.
Иоанна ничуть не напугал этот недобрый разбойничий кураж над его беспомощной старостью и праведностью. Его взгляд скользил по лицам этих вовсю потешавшихся над ним, как над белой вороной, случайно залетевшей в их черный стан, недобрых людей, стараясь обнаружить своего знакомца. Их грубые окрики не доходили до его сознания, он искал своего отрока и ничего из того, что тут описывает автор, не видел и не слышал. Наконец он углядел сидящего чуть в отдалении от костра задумчивого юношу, которого сразу признал. Юноша же, увидев Иоанна, побледнел, вскочил и в смятении и страхе бросился бежать. Иоанн кинулся за ним. Разбойники, не привыкшие к подобной драматургии, в изумлении замолчали, вытаращили глаза и открыли ненасытные свои рты, выказывая этим свое необычное удивление происходящим.
Иоанн бежал за юношей. Старый человек, он задыхался, хватался за грудь, ему не хватало воздуха, у него посинели губы, но он все же кричал вслед убегающему от него Елиуду:
— Сын мой! Сын мой! Остановись! Обратись к отцу своему и не отчаивайся в падении своем; грехи твои я приму на себя; остановись же и подожди меня, так как Богоматерь послала меня к тебе…
Наконец юноша внял мольбе старца и остановился. Ему было стыдно взглянуть в глаза праведного. Когда святой подошел, отрок припал к его ногам и разрыдался, омывая босые ноги старца своим горючими слезами. Иоанн поднял отрока, трижды облобызал его и повел в город, радуясь, что обрел погибшую овцу.
По дороге Елиуд рассказал, как складывалось его житье в монастыре и почему он покинул братию. Оказывается, испортил все старый Варавва. Как-то тайно глотнув вина, он разоткровенничался с иноками, постоянно любопытствующими, зачем старик три раза в день поливает свой посох. Варавва приоткрыл им завесу над тайной своей слепоты и пояснил, что, как только на посохе появятся почки, он прозреет. Конечно, ему не следовало говорить, что он — Варавва. Тот самый Варавва, который уступил Христу свой столб для распятия… Варавву стали травить. А когда узнали, что инок Елиуд — сын страшного грешника, травля перекинулась и на Елиуда. И как игумен ни старался унять стяжающую Бога братию, та не унималась. Забыв о том, что надо хранить незлобие, заграждать молчанием уста свои, чтобы не осудить кого-нибудь и не посмеяться чужому греху; о том, что, видя согрешающего, следует помолиться о нем Единому безгрешному Богу, чтобы исправить грешника, братия тешилась тем, что, считая Варавву и его отпрыска виновными в причинении зла Спасителю нашему, послушники строили отроку разные ковы и будто под наитием лукавого расставляли тенета.
— Нет, отче, не вернусь я в тот монастырь… Нет. Лучше убей меня здесь, в лесу, где никто не станет искать меня и никто в мире не вспомнит и не пожалеет обо мне.
Иоанн плакал вместе с отроком.
— О милый, наивный юноша. Как же ты стяжал в монастырском своем учении Бога, если не знаешь, что ни одна живая душа не оставлена Божественным попечением. Узнай, отрок, что все в жизни промыслительно. Я не знал тебя, но Божья Матерь, явившись во сне, указала мне на тебя, и я пришел тогда в Эфес с намерением спасти тебя и, если помнишь, послал за тобой с отцом своего ученика Прохора, и он нашел вас и привел ко мне. Знай, что и сейчас дорогу к разбойничьей стоянке мне указала Богородица, которая печется о душах отроков и посылает им в поддержку своих помощников.
Елиуд верил и не верил в то, что говорил старец. Слишком болело сердце из-за полученных от монастырской братии обид и унижений.
— Что станет со мною дальше, отче?
— Главное, сын мой, не озлобляйся. Прощай злословивших тебя, как Спаситель наш простил мучителей своих… У Бога одно желание — миловать. Господь и на Страшном суде будет не то изыскивать, как осудить, а как оправдать всех… Пойдешь со мной и с Прохором, а там поручу тебя ученику своему, епископу.
Юноша немного успокоился.
— Отче Иоанн, я давно хотел тебя спросить, верно ли говорит отец, что ты был учеником Распятого и проповедовал с ним в Галилее и Иудее, и правда ли, что Назарянин перед распятием говорил с отцом, призывал его покаяться в грехах разбойных и даже научил молитве «Отче наш»? Ведь из-за чего все вышло… Братия посмеялась над слепцом, который изо дня в день поливает сухую палку, которую ты ему дал для проявления усердия в покаянии. Отец обиделся на их насмешки и стал говорить, что он больше иноков и больше всего монастыря их, больше самого игумена и даже епископа, потому что говорил перед казнью с Назарянином, и Тот учил его читать молитву «Отче наш». Братия сразу приумолкла. А потом начались ковы и мне, и ему, как врагам Христовым… Расскажи мне о Назарянине, отче. Какой он был до своего вознесения? Мне трудно поверить, что ты преломлял с ним хлеб, пил вино из одной чаши, спал под одним навесом, дышал одним воздухом… Мне просто поверить страшно, что Он учил моего грешного, беспутного отца молитве «Отче наш». Отец ведь ничего, кроме этих двух слов, и не помнит.
— О возлюбленный юноша мой, узнай, что первое, чему я научился от пришедшего к нам, рыбакам Галилейским, Учителя, это спрашивать себя перед сном, что сделал ты за день богоугодного и чего не смог сделать; осуждать себя за дурные проступки и радоваться добрым… Учитель сделал мою жизнь осмысленной… У меня был один брат Иаков, с приходом Учителя их стало одиннадцать. А сегодня их у меня тысячи… Мы делали одно дело… Я мог бы тебе часами рассказывать о своем Учителе… Не могу забыть, как Учитель позвал меня, Петра и брата моего Иакова пойти с ним на гору. Мы не знали зачем. Стоим в окружении деревьев, внизу простирается город, бело-золотым видением мерцает Иродов Храм, и видим: лицо Учителя просияло, как солнце, одежды сделались белыми, как свет, и пришло по небу облако и стало над нами. И слышим глас с неба: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте». Мы пали на землю… А когда сходили с горы, Иисус запретил нам говорить об этом: «Никому не сказывайте о сем видении». А теперь говорить о том можно.
Иоанн замолчал и долго смотрел своими старческими бледно-голубыми глазами на плывущие в небе белые облака. Он почти не верил, что из такого вот легкого, осененного солнечным светом облака в дни своей юности слышал глас Божий. Так давно это было.
Вернувшись от созерцания небес на землю, Иоанн коснулся рукой плеча юноши и продолжал:
— Знаю, знаю, сейчас ты обижен, но сними камень с души твоей. Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеются… Обращаясь к обиженным, Учитель обычно говорил: «Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас и будут поносить, и понесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их».
— Скажи же мне, отче, почему в миру язычники, иудеи и власти — все так злословят, так гонят христиан, исповедующих благочестие, нестяжание, любовь к ближнему?
— О, дитя мое, мир греховен. Мир переполнен похотью плоти, похотью очей, гордыней житейской, от которых молят отказаться христиане. Ибо мир проходит, и похоть его проходит, а свет нашей веры остается. Мы взываем к любви между братьями, а это страшит противников Христа. Никто не хочет делиться с братом, помогать сироте, калеке. Люди больше думают о мирском богатстве, чем о спасении души. Знай, что не любящий братьев своих, хоть и жив, но пребывает в смерти. А исполняющий волю Божию, пребывает вовек. Учитель говорил нам, апостолам: «Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, поэтому ненавидит вас ми».
— И что, святый отче, так будет всегда?
— Так будет, пока не приидет Царство Божие на земле… Но молю — не подражай злу. Кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло не знает Бога.
— А кто же виновник зла на земле? Сатана?
— О, если б только он. Во многом зло — от нашего произвольного нерадения. И потому отложи всякое нерадение и возлюби добродетель. Удовольствия от порока кратковременны, а скорбь постоянна. От добродетели же — радость нескончаема. И потому будем терпеть все ради добродетели и сподобимся истинной радости, благодатию и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу со Святым Духом слава во веки веков. Аминь.
И привел Иоанн юношу к ученику своему, епископу, и поручил его заботам и попечению опытного наставника.
Глава 24 Отрок Елиуд из Мамертинской тюрьмы — праведному Иоанну
Шли годы. Общины росли. Но ширились и гонения на христиан. В провинциях из уст в уста передавалась легенда о страшном пожаре в Риме. Пожар якобы устроил император, но в поджоге обвинили христиан; ходили слухи о больших мучениях и устроенной Нероном травле тысяч христиан зверями на аренах римских цирков. Среди христиан распространялась печальная весть о распятии Петра, о казни Павла Тарсянина. Но что удивительно, Иоанн видел, как в провинциях и в самом Риме растет число желающих приобщиться Христовой вере… Учение Распятого покоряло и покоряло мир. Выходило, что не такой уж путаник этот греческий мудрец Платоний, который предсказал победу Слову Христову…
В захудалой придорожной гостинице, куда праведный Иоанн пришел провести ночь и потрапезничать хлебом с солью и напиться воды, к нему долго приглядывался и прислушивался к его разговору с находящимися тут же людьми босой седобородый странник.
Видимо, оставшись доволен результатами своего наблюдения, он обратился к Иоанну:
— Вижу, отче, много ходишь по свету и несешь братии Слово Божие. Скажи же мне, не встречал ли в своих странствиях по землям праведного Иоанна, последнего из живых учеников Спасителя нашего Иисуса Христа?
— Встречал ли я Иоанна? — удивился праведный. — Как не встречал! Встречал. Иоанн тот, правильно ты говоришь, ученик Спасителя нашего — вот я, перед тобой.
— А как подтвердишь, что ты Иоанн?
— Зачем праздный разговор заводишь, старче? Тебе нужен Иоанн, ты и подтверждай.
— Тоже правильно, — согласился странник. — Тогда ответь мне, отче праведный, знаешь ли ты отрока по имени Елиуд, сына Вараввы?
— Как не знать мне отрока Елиуда! Скажи, где ты слышал о нем? Не поймал ли его опять лукавый в сети свои?
— Распят, отче, отрок твой. Распят, как был распят твой Учитель. Распят в идольском городе Вавилоне… Вот, отче, читай. Наши братья сохранили его письмо к тебе, праведный Иоанн…
«Мир тебе, добрый отче мой, Иоанн, Сын Громов! Не забыл ли ты еще отрока Елиуда, который шел кривыми путями и которого ты дважды отвращал от греха и направлял на путь истинный? Учил возлюбить Господа нашего Иисуса Христа более всякой земной твари, поучал прилепиться к Нему сердцем своим, молиться Ему устами, и сердцем, и языком своим, и умом, и плакать, плакать перед Богом каждый день, чтобы сподобиться вечного утешения. Ты, отче добрый, учил отрока хранить незлобие, чтобы не осудить кого-нибудь напрасно и не посмеяться чужому греху; видя же согрешающего, учил молиться о нем Единому безгрешному Богу, дабы исправить грешника. Учил любить брата своего… Ты сделал отрока разумнее небесных птиц. И когда я упал в яму, ты посмотрел в сердце мое, поднял меня и сказал, как Он: «Юноша, тебе говорю, встань ". И извлек меня из темноты адского подземелья.
И я готовил себя, отче, к жизни праведной и безгрешной. Ибо знал: нет большей радости для тебя, как слышать, что дети твои ходят в истине. О пути извилистые! Чем-то, видно, отрок тот, Елиуд, прогневил Бога, видно, утаил неведомый ему грех, и Он попустил лукавому ввергнуть юного праведника того в геенну огненную, отдал меня на растерзание бесам, явившимся в облике человеческом. Со странствующим отцом своим, прозревшим благодаря твоим и Всемогущего Бога попечениям, оказались мы в новом, кичащемся своими богатствами и силою безбожном Вавилоне, где неведомо людям учение о любви к брату своему. Люди здесь завистливы, суетны, злы и жестоки и поклоняются не живому Богу, как мы, христиане, а идолам каменным и несут тем идолам на алтарь не любовь свою и не веру, а золото и украшения разные или жизни тварей Божьих и оттого нас, христиан, почитают как врагов человеческих, отравляющих народам существование. Они смеются над нашей верой с ее любовью к брату своему и ликуют в ожидании, когда их император Нерон велит начать великие игрища, где христиан будут травить зверями. Около стен Мамертинской тюрьмы, куда заточили огромное количество христиан за то, что те молились Спасителю, а не римским каменным идолам, собрались толпы праздных горожан. Слышно было, как они кричали и требовали отправить христиан ко львам. И это, отче, была не пустая угроза. Львов они специально не кормят, и по ночам слышен их голодный душераздирающий рык. Оказывается, здесь уже привыкли выпускать на арену цирка толпы пленных или преступников и травить их привезенными из пустынь львами, свирепыми колабрийскими волками или огромными голодными собаками. Народ здешний уже не может без крови и зрелищ.
Мы пришли с отцом в Рим, чтобы послушать возглавляющего римскую общину апостола Петра и пришедшего сюда из странствий Павла Тарсянина. На беду нашу, в Риме вспыхнул великий пожар. Горел город. Горели дворцы, храмы. Рушились беломраморные идолы. Клубился дым, и нечем было дышать. Здешние христиане говорят, что настал день Антихриста. Они считают Антихристом императора Нерона и утверждают, что это он распорядился поджечь город. Ибо близится Христово пришествие. Римляне, не ведающие Спасителя, считают, что император сошел с ума. Целыми днями он стоит на крыше своего дворца и смотрит, как горит его город, как пылают дворцы августиан, рушатся храмы, гибнут в огне люди, и поет свои печальные песни, подыгрывая себе на лютне. Тюрьмы переполнены братьями и сестрами. Из колоний в этот содомский город везут и везут зверей. Стражники радуются, узнав, что привезли нильских крокодилов. Говорят, что они наиболее свирепо расправляются на арене с людьми…
Отче, нас обвинили в том, что это мы, враги человечества, желая расправиться с ненавистными нам римскими богами, подожгли город и на радостях справляли свое кощунственное торжество в катакомбах. На самом же деле братья и сестры пришли на проповедь Петра, и апостол призывал нас любить не только братьев своих, но и врагов, как завещал нам Спаситель… Послезавтра меня распнут. Сначала я думал, что меня зашьют в шкуру оленя и выпустят к колабрийским волкам на растерзание. Так поступили со многими за-хваченными на проповеди христианами. Но не хватило оленьих шкур, это сохранило мне и еще нескольким несчастным жизнь, но ненадолго. Император придумал новое развлечение для народа: нас пересчитали и из 70 человек, томящихся в каменной тесной темнице, выбрали двадцать. Нас не будут травить собаками. Ни волками и ни львами. Мы будем факелами. На нас наденут траурные туники, пропитанные смолою, и подожгут. Мы будем освещать аллеи сада, где соберутся на празднество император со свитой, где будет всю ночь гулять и веселиться великий господин мира римский народ.
Я жду своего часа, отче мой и благодарю Божью Матерь за то, что Она послала тебя ко мне и определила мой путь в этой жизни. Я передам свое письмо с христианином, который по ночам выносит из тюрьмы трупы, и, надеюсь, оно найдет тебя, земной благодетель мой, праведный отче Иоанн. Я помню, как ты, не страшась разбойников, увел меня из шайки этих погрязших в грехе людей и наставил на путь истинный. Низкий поклон тебе. Я кланяюсь тебе в ноги и целую подол одежды твоей.
Сейчас, когда я пишу эти строки, узники вокруг меня поют гимны и славят бога Живого, Спасителя нашего Иисуса Христа, и призывают друг друга простить этим римским безумцам их злодеяния, как простил Христос распинавшим его, ибо злодеи никогда не ведают, что творят. Аминь!»
Глава 25 Во всем виноват Пилат
Еще воют ночами псы на пожарище, не остыли еще обуглившиеся стены римских строений, не высохла алая христианская кровь на арене огромного цирка, где по воле Нерона несчастных травили зверями, а облитых смолой сжигали в аллеях парков для освещения празднеств, как по Риму и по провинциям прокатилась новая волна убийств. Теперь по воле императора преторианцы лишали жизни приближенных к нему сенаторов, родовитых аристократов, военачальников, виновных в организации заговора.
Только что был раскрыт заговор против кесаря. Заговорщики планировали во время очередной кровавой игры в цирке убить тронувшегося, как всем уже становилось понятно, умом Нерона и посадить на римский престол красноречивого оратора Гая Кальпурния Пизона. Однако один из участников заговора испугался и донес о готовившемся покушении начальнику преторианской гвардии, и заговорщики, среди которых было девятнадцать сенаторов, были арестованы.
И Рим замер в ожидании расправ.
Злой гений Нерона префект преторианской гвардии Тигеллин со знанием дела готовил списки обреченных. Всегда оживленный и праздничный Палатин притих. Придворные перестали встречаться друг с другом, любая шутка или острота могла быть повернута и подана мнительному императору Тигеллином в нужном контексте. Особенно обеспокоились блистательные поэты, философы, остроумцы, составители эпиграмм. Умолк язвительный Сенека. Пробовал было шутить любимец света автор «Сатирикона» Петроний, привечаемый императором как истый ценитель художественных талантов принцепса, но никто больше не смеялся его шуткам. Улыбался лишь вечно соперничающий с Петронием за расположение императора Тигеллин. Настал его звездный час! Заговор развязал ему руки. Каждый день он вносил в списки новые имена. Это были имена людей, однажды блеснувших на Форуме или соперничавших с Нероном в сложении трагедий, создании гимнов и оттого особо запомнившихся мстительному кесарю.
Как-то, корректируя эти, как сказали бы сегодня, расстрельные списки, составленные Тигеллином, Нерон, кроме имени просвещенного ценителя его художественных талантов Петрония, вдруг попавшего из-за своих шуток в немилость, обнаружил присутствие в списках и своего учителя Люция Аннея Сенеки. Тигеллин зеленел, когда слышал, какие шуточки отпускает порой в его адрес римский философ, какие эпиграммы ему посвящает. Префект знал, что император потребует от него достаточных обоснований виновности Сенеки, и, как мы сейчас увидим, неплохо подготовился к разговору. Неглупый придворный интриган все замечал и мотал на ус. Он чутко уловил момент, когда капризный, мстительный Нерон начал тяготиться своим учителем, который один имел представление, чем была набита круглая голова будущего кесаря во время обучения. Сенека не раз ставил тогда еще не великого Нерона, а ленивого, посредственного ученика Луция Домиция Агенобарба в унизительное положение, и потому сегодняшний Нерон внутренне был готов принести в жертву этого надоедавшего римской знати моралиста. Чтобы окончательно покончить с Сенекой, у Тигеллина были и более веские аргументы. В старых государственных бумагах Тиберия проныра обнаружил не дошедшее до адресата — возможно, перехваченное — письмо прокуратора Иудеи Пилата. Префект преторианцев прочитал письмо и ахнул: как мог подозрительный Тиберий не дать хода этому письму. Ведь Тиберий имел зуб на Сенеку.
Расправиться с философом собирался и сменивший Тиберия Калигула. Только, похоже, Проведение спасало римского умника. Но теперь-то ему не выкрутиться. Тигеллин не простачок. Нет! О, он не ограничился письмом Пилата философу. Он поднял документы и на автора письма, отправленного в отставку Тиберием прокуратора Иудеи Понтия Пилата. Тигеллин ознакомился с его докладом о странных событиях в Иерусалиме, внимательно изучил «Дело от четырнадцатого дня нисана».
Тигеллин неторопливо, испытывая даже определенное удовольствие от своего открытия, перечитал доклад прокуратора кесарю, и для него стало ясно — Пилат! Пилат! Вот, оказывается, кому Рим обязан нашествием христианских орд! Этот Пилат и есть главный сеятель зла. Вместо того чтобы быть верным Риму и управлять Иудеей, искоренять богопротивные мысли у этих неугомонных евреев, железом и кровью смирять их неприязнь к Риму, он сочинил легенду о некоем любвеобильном «Хресте», который якобы после распятия воскрес и отныне является христианским Богом, за которым ныне устремились тысячи ослепленных этой странной верой людей. Нужны доказательства? Вот они: недавние кровавые игры, устроенные Нероном, показали, что среди христиан много иудеев, эллинов, сирийцев, эфиопов и, самое поразительное, римлян. Римских граждан! Мало того. Эта легенда, сочиненная бездельником Пилатом и представленная Тиберию, продолжает распространяться по свету, хотя должна была исчезнуть вместе с прокуратором, до которого, как ни странно, ни у Тиберия, ни у Калигулы не дошли руки. Кто прикрывал предавшего Рим игемона, врага отечества? Кто?
Самое интересное, что тот доклад Пилата был благосклонно принят Тиберием. Тигеллин не находил этому никакого объяснения: идеи Распятого чем-то тронули императора. Римский сенат был потрясен, когда кесарь издал указ о защите сторонников Назарянина, а самого Христа предложил причислить к сонму богов! Чуждые мистики сенаторы с гневом отвергли это предложение Тиберия. Императора убедили, что покровитель великого Рима Юпитер за такое отступничество нашлет на империю неисчислимые беды. Самолюбивый кесарь, смертельно ненавидевший Сенат, затаив обиду, смирился. И вопрос, как говорится, замяли. А в последние годы правления Тиберий сам превратился в гонителя христиан. Что касается Пилата, то по настоянию консула Вителлия, философически настроенный прокуратор, этот создатель так стремительно разросшейся легенды о Хресте, был отстранен от управления Иудеей и сослан в Галлию…
А что происходит с учением этого «Хреста», или «Хрестоса», сегодня, спустя тридцать с лишним лет после того странного, так увлекательно расписанного этим нечестивцем Пилатом распятия?
Как докладывают всесильному вождю преторианцев его шпионы, в Иудее, по всей Малой Азии и даже в Риме ходят по рукам списки с новыми версиями этой увлекательной Пилатовой легенды. И написаны они теперь уже будто бы учениками Распятого. И смысл их проповеди в том, что для уверовавших в Распятого наступает новое царство, а нечестивым противникам Его грозят испепеляющий огонь и зубовный скрежет. Так что вполне правдоподобно было объявить этих христиан поджигателями Рима, и расправа над ними была хоть и жестокой, но справедливой. Можно даже представить Нерону дело так, что всю эту жуткую кашу с возникновением христиан заварили Пилат с Сенекой. Прежде всего, конечно же, Пилат. Да. Это очевидно: во всем виноват Пилат. Это он! Он в своем докладе Тиберию превратил заурядную казнь иерусалимского бродяги в легенду, придумав Его воскресение. Кто этого Пилата, спрашивается, тянул за язык? Вместо того чтобы замять эту историю, похоронить ее, уничтожить память о ней, уничтожить свидетелей, умник решил подражать Гомеру и создал нового христианского Одиссея. Именно он, он, Пилат, и есть главный идеолог этого разлагающего здоровых римлян человеконенавистнического учения. Это ясно как день. Так что — время кричать: «Караул!»
И Тигеллин закричал: «Караул!»
Тигеллин ликовал: дело Пилата — Сенеки пострашнее заговора Пизона. Он представлял, как обрадуется Нерон, когда он положит ему на стол найденные им в архиве Тиберия документы. Да еще распишет их в новом свете. Ведь христиане и правда уже заполонили многие земли Рима: деревни, города, проникли в легионы, в преторианскую гвардию, в Сенат… Сам Тигеллин считал христианство варварским учением, предназначенным для темных людей, и не понимал интереса к новому учению со стороны многих образованных, высокородных римлян. Он видел в этом какую-то загадку, которая была ему не по уму: знатные римляне вдруг раздавали имения бедным и углублялись в чтение евангельских книг, собирали единомышленников и проповедовали Распятого. И ведь все пошло от бредовых записок этого сумасшедшего прокуратора… Нет! Этому не бывать! Жечь, жечь и жечь каленым железом!
Как Тигеллин и ожидал, Нерон ухватился за письмо Пилата Сенеке и за доклад прокуратора Тиберию о воскресшем «Хресте». Мня себя великим артистом, поэтом и музыкантом, сочинителем, равным Вергилию и Гомеру, Нерон был не прочь блеснуть и на поприще философском. Он всегда мечтал в какой-нибудь философской беседе заткнуть за пояс своего учителя Сенеку. Но Тигеллин, не любивший умствовать, отговорил кесаря от беседы с философом. Он не советовал Нерону вдаваться в такие тонкости: знал ли вообще философ о письме Пилата, посылал ли сам что-либо подобное прокуратору. Вина его была налицо: отщепенец Пилат связал заумь философа с учением «Хреста». Чего же еще?!
— Вспомни, божественный, как досаждал тебе этот болтун Сенека своими рассуждениями о человеческом достоинстве рабов, — напомнил кесарю Тигеллин. — Разве не враги Риму Пилат и Сенека? Разве это письмо тебя не убеждает, что они были в сговоре?
И всесильный префект преторианцев выразительно показал большим пальцем правой руки — вниз. Таким жестом на гладиаторских игрищах кесари обрекали поверженного бойца на смерть.
Нерон еще ничего не решил, но префект настаивал:
— Божественный! Какие еще нужны доказательства. Этот лодырь Пилат обращается к своему единомышленнику с письмом, в котором предполагает возможность падения великой империи и воцарения в Риме вместо порядка и силы всепрощения и любви. Чего больше? И куда дальше? Оба они заслужили самое малое удушения.
Сенека, на свою беду, во время обучения юного Нерона познакомил его с историей Сократа. И в памяти кесаря особенно ярко запечатлелся конец великого афинянина. Чаша с ядом! Вот оно! По мнению Нерона, это как раз то, что надо. Именно такого конца и заслуживают философы, пытающиеся поучать правителей. В общем, с Сенекой для кесаря все стало ясно. И тут же к философу отправился центурион с копьем беды.
Философу было предложено покончить с собой. И старый ироничный стоик вскрыл себе вены, одновременно диктуя писцам сцены из своей последней трагедии «Октавия».
Озаботился кесарь и судьбой доживающего в безвестности главного смутьяна эпохи, Пилата.
О, Пилат! Его и назначили Азазелом! Пятому прокуратору Иудеи было поставлено в вину ни больше ни меньше как сочинение легенды о некоем иудейском проповеднике «Хресте», который был распят, но на третий день воскрес и продолжал встречаться с учениками; те, получив наставления своего Учителя, разбрелись по свету и, сокрушая пантеоны земных богов, ведут планомерную осаду Рима. Их Бог Распятый, низвергнув Громовержца Юпитера, вот-вот воцарится в Капитолийском храме. В общем, преданному всей душой своему кесарю, римскому народу и Сенату бывшему прокуратору Иудеи Понтию Пилату приписали организацию и пропаганду враждебной Риму иудей-ской секты. И к нему тоже тотчас же был послан центурион с копьем беды.
И утром у ворот дома Пилата в Галлии появился центурион во главе двух десятков преторианских гвардейцев.
Но не все получилось у Тигеллина. Центурион вернулся ни с чем. Отставной прокуратор Понтий Пилат, этот первый, и главный, летописец христианства, исчез вместе со своей премудрой женой Клавдией Прокулой, которой тоже предписывалось вскрыть себе вены.
Разные нелепости рассказывают и пишут в наше время о Понтии Пилате. Автор перерыл кучу литературы, но ничего определенного так и не обнаружил. Измученный поисками, он как-то вздремнул от переживаний за героев своего романа в одном из книгохранилищ. И был ему быстрый, короткий сон-видение. Белобородый муж в белых одеждах подсказал автору, где он может встретить сегодня того самого Пилата, который на заре первого тысячелетия, четырнадцатого дня весеннего месяца нисана, словно по чьей-то подсказке свыше, не находя смертной вины у арестованного храмовой стражей Галилейского проповедника Га-Ноцри, все-таки отправил несчастного на казнь… Оказывается, для этого надо всего лишь поехать в Швейцарию, там в Люцернских Передних Альпах есть гора Пилат. Ежегодно в Великую пятницу на той горе появляются Пилат и Клавдия Прокула. У супруги в руках кувшин и полотенце, и она поливает на руки прокуратору, а тот все моет и моет их…
Но продолжим, продолжим наше повествование о праведном Сыне Громовом.
Глава 26 Чудесное исцеление колченогого и немой
Едва скрылось солнце и землю окутал вечерний сумрак, за которым с окрестных холмов уже наползала тьма ночи, когда двери всех добрых и недобрых хозяев заперты на запоры, а из рощ на промысел выходят бесы, демоны, чумазые разбойники и прелюбодеи, Иоанн остановился у бедной, покосившейся от старости унылой лачуги. Наученный горьким опытом, он понимал: в богатом доме ночью дверь не откроют и странника не пустят. Примут за ночного лиходея, собаку натравят или суковатой палкой вдоль спины огреют. А бедняк, он — добр. Добр — пока не накопит казны, пока не источит ему душу мирское богатство.
Праведный огляделся. Бедняцкое жилье. Пустой, без колодца и ворот, двор. Вокруг дома разбросано много камней. Под окнами пустая корзина для сухого навоза. Прежде чем постучать, Иоанн поднял лицо к небу. В сумраке ночи черными стрелами носились летучие мыши. Звезды между облаков светят. Слышно, как ровно дышит осел в пристройке к дому.
Иоанн постучал в дверь.
Никто не ответил. «Хозяин предается молитве, а я его тревожу», — обеспокоился праведник и хотел было пойти поискать другого прибежища, но услышал за дверью шаги. Хриплый голос недружелюбно спросил из-за двери:
— Кого тут бес принес?
— Странник сирый. Пусти, хозяин, отдохнуть в доме, сделай милость. Ибо солнце зашло, и тьма на дворе.
— А может, это вор или блудодей пожаловал, а не странник сирый.
— Ну хоть воды испить поднесите, чтобы я дальше пошел. Может, кто другой и переночевать пустит.
— А веры ты какой будешь, странник?
«Вот как! — подумал он. — Похоже, чужеверца здесь не приветят. Видать, попал я к эллинам иль иудеям».
— Пустите во имя Христа, — попросил он, совсем изнемогая от усталости и жажды.
— А чем докажешь, что ты христианин? Назови имя Бога христианского.
— Во имя Иисуса Христа, Господа нашего, откройте.
Слышно было, как за дверью зашептались. Потом хриплый голос прокаркал:
— Уйди, демон! Не прельщай!
Иоанн привык поститься и мог подолгу оставаться без еды, но сильно мучила жажда. Дневной зной иссушил горло, и он страдал без глотка воды, и от этого усиливалась усталость всего его старого организма. Но делать нечего, кто-то принял его за демона, и, тяжело опираясь на посох, старец побрел к другому дому.
Там история повторилась. У него снова спросили, какой он веры, и, узнав, что странник верует в распятого Галилеянина, погнали пуще прежних хозяев. У третьего дома опять спросили о вере. Видно, опыт ничему не научил мудрого Иоанна, и на вопрос из-за дверей: кто ты, странник? — он опять назвался христианином.
Дом был такой же бедный, как и тот, в котором ему только что отказали в приюте. Такая же куча камней у входа, такая же корзина для сухого навоза под окнами и такой же вопрос: какой ты веры, чужестранец? На что Иоанн ответил:
— Я раб Господа моего, Иисуса Христа, единого Бога всех, и имя мое христианин.
— Знаю, знаю, лукавый чужестранец, ты пришел обратить нас в твою нечестивую веру. Лучше оставь своего Христа и поклонись нашим богам перед тем, как уберешься отсюда. Ты разве не знаешь, что в селение приехал посланец кесаря трибун Антоний Марцелл с отрядом и будет завтра выворачивать суставы, дробить твоим христианам кости, рубить головы мечами. Беги восвояси, старый. Ночь тебя покроет, если на дозор не наткнешься… А лучше забудь своего Галилеянина и склонись к нашим богам.
— И на том спасибо, добрый человек, что жалеешь странника… Дай мне только глоток воды, и я уйду от твоего дома бесследно. И пусть тебя охраняют твои каменные идолы, если Бог-спаситель, рожденный от истинного невидимого живого Бога, тебе чужд и непонятен.
Дверь дома открылась, и огромный, лохматый, не старый еще мужик-верзила с завязанным темной повязкой глазом — с виду лесной разбойник — поднес Иоанну глиняный кувшин с водой, сунул в суму хлеба и сушеную рыбу и погнал с крыльца.
— Иди, старый, к своим христианам. Я видел, как они тебе дверь не открыли. Затаились. Смерти боятся. А старому Гаю никакие боги не нужны. Он свое прожил. А ты, видно, еще жить хочешь, еду есть хочешь, цепляешься. Небось и от винца не откажешься… А ведь пожил, поди, больше моего. Зачем тебе жизнь, старик?
Иоанн, закатив глаза и откинув назад голову, жадно, захлебываясь, пил из кувшина, получая от воды великую радость, какую уже давно не получал в своей жизни. Пил и слушал, что говорит хозяин. А тот смотрел, смотрел, как гость долго и ладно пьет, и вдруг говорит:
— А постой-ка, постой… На беса ты не похож. Лицо у тебя, вижу, хорошее, и нет суеты в тебе, хотя смерть твоя рядом ходит. Видно, тоже не боишься ее, как и я. Ладно, кто ты ни есть, заходи в дом. Передохни. А на рассвете уйдешь. Авось пронесет. У меня тут еще двое сирых прячутся. Пришли исцеляться… Идолы не исцелили, теперь на христиан надежда. Если всех завтра не перебьют, может, какой и окрестит божьей водицей. А ты как думаешь, странник, можно исправить калеку, если уродился с изъяном? Кто выпрямит кривого?
— Все в руке Божьей. Пусть славят Святую троицу — все и выйдет по-ихнему. А тебе, человек, спасибо, что напоил меня. Вкусная у вас вода.
— Христианин колодец копал, — сказал хозяин. — Говорил, Бог благословил ту воду. Крестная вода, говорил. Живая. Для крещения. Многие крестились той водой. Завтра римлянин будет колодец рушить. Христианских детей у тех, кто от вашего Бога не отречется, туда сбрасывать будут.
— О, слепые умом! Видя, не видите, слыша, не слышите, — покачал головой ночной гость.
— А скажи, поможет твой Бог этим сирым? — показывая на ютившихся в углу искавших исцеления колченого и немую женщину, снова спросил хозяин.
Двое жалкого вида странников жались к стене, с испугом глядя на Иоанна. Колченогий сидел на полу, прислонившись к стене, и имел при одной здоровой ноге другую — кривую, согнутую, как корявый сук, и не в силах был ее распрямить. Странница же была порчена немотой и могла вещать только «бе» и «ме».
— По вере им и воздастся, — устало сказал Иоанн.
— Но, а все же, — не унимался хозяин. — Яви нам силу своего Бога.
— Что с ними?
— Колченогий вот ногу спрямить не может, а молодица — та порчена немотой. Не иначе бесовы проделки… Помоги сирым, старче. Попроси Бога своего за них. Побеспокой своего Распятого.
— Брысь ты, — стукнул в пол посохом Иоанн на хозяина. — Не богохульствуй, язычник. Не поминай имя Господа всуе. — И, смягчившись, обратился к колченогому страннику: — А ну, дядюшка, пройди-ка, — попросил он колченогого.
Тот с сидячего положения сначала лег на живот, потом кое-как поднялся с пола и проковылял из своего угла к двери и обратно. Остановился в углу и стал во все глаза глядеть на таинственного старца в ожидании чуда.
Хозяин тем временем схватил за волосы таращившуюся на пришельца в страхе девицу и подвел к Иоанну, отпустил руку, пригладил ей волосы и предложил:
— А ну, матушка, каркни на дядю.
Немая, не очень понимая, чего от нее хотят, как голодный птенец, раскрывала рот, таращила глаза на старца, пожимала плечами и сипела горлом.
Гордый хозяин сверлил старца своим единственным глазом, ожидая, когда тот начнет призывать своего Бога. Он много слышал, что Галилеянин помогал просветленным старцам совершать чудо, и очень хотел наблюдать за процедурой целительства, чтобы потом свидетельствовать о чуде. Говорили, что раньше у него была светлая голова и он понимал много смыслов, но теперь все забыл, и в памяти ничего не удерживалось.
Иоанн понял, что не надо тревожить Бога. Он поможет сирым народным средством. Старый рыбак Зеведей учил своих сыновей: клин клином вышибают. Вот и решил Иоанн испробовать отцовский опыт.
Колченогий и немая не сводили с него глаз.
— Помоги нам, господин мой, — попросил колченогий, — помоги, и мы примем веру твоего Бога. Я слышал о Распятом Галилеянине. Он умел исцелять. Усопших поднимал с одра… Что нам делать, скажи?
— Ладно, — согласился Иоанн. — Я скажу, что тебе делать. Ложитесь на циновку у окна. Немая пусть ляжет ближе к стенке, а ты — рядом. Она пусть спит. А ты не спи. Жди. Как немая заснет, подними ей рубаху и постарайся раздвинуть ей ноги.
Праведник колченогий едва не грохнулся на пол от изумления. Он вытаращил глаза, а хозяин лачуги — одноглазый Гай — радостно заулыбался. Такое лечение было ему по душе. Такое он признавал. Если б он знал, что лечить глухонемую — молодую еще, грудастую девку — надо таким лекарством, о, он куда как сумел бы. Уж во всяком случае, лучше колченогого калеки. Он даже хотел предложить себя в качестве лекаря, но степенный вид старца смутил одноглазого Гая, и он промолчал.
— Побойся своего Бога, старец, — с беспокойством глядя на немую: вдруг она слышит, какой сговор против нее намечается, запротестовал праведный колченогий. — Разве я блудник какой, чтобы раз-двигать женщине во время сна ноги. Окстись, гре-ховодник!
— Хочешь исцелиться, делай, как я сказал, — устало повторил Иоанн.
— Да не смеешься ли ты над нами, старче? Не бес ли тебя, старого, попутал? — поддержал сомнения хромого пригревший странника и болезных пилигримов одноглазый хозяин дома, печалясь, что не ему выпало лечить немую. Он даже осудил нашего старца. — Где это видано, чтобы лечить немоту бессловесную через раздвигание женщине ног. Никогда не слышал! Клянусь Зевсом!
— И я не слышал, — поддакнул колченогий.
— А ты слышала? — обратился Гай к глухонемой.
Та неопределенно пожала плечами, как это она делала всякий раз, когда к ней обращались с вопросом или за советом, не ведая о ее безъязыкости.
— Дерзай, брате, — сказал Иоанн хромому. — Не сделаешь — пожалеешь.
Колченогий вздохнул, покачал маломудрой своей головой простолюдина и улегся на циновку рядом с засыпающей немой. И стал ждать, когда та заснет. Немая, уже не раз ночевавшая в придорожных канавах со своим безгрешным колченогим спутником, доверчивая, как овечка, спокойно отвернулась к стене. И сон тотчас слетел на нее.
Поверив словам старца, колченогий, едва немая заснула, с некоторым сомнением запустил ей под рубаху обе руки, коснулся ее теплого голого живого тела и замер. Он почувствовал, как у него поднимается настроение и, говоря современным языком, повышается тонус. Ай, какой мудрый этот старик, подумал он! И пожалел, почему он никогда не делал этого раньше, когда спал с этой немой в различных вертепах и в домах, где им давали приют. Ай да старик!
А что немая? Немой же в этот момент снился обольститель-бес, предосудительно хватающий ее за набедренную повязку. Немая замерла: чего этот бес надумал? А тем временем колченогий, подивившись новым, непривычно сладостным ощущениям, начал тихонько продвигать свою руку выше и раздвигать ноги немой, не переставая удивляться тому, как поднимается у него настроение. И тут немая поняла, что бес, ухвативший ее набедренную повязку, хочет овладеть ей. Познать ее! Мерзкое отродье! Не бывать этому! Она с криком вскочила и, ругаясь грязными словами, — да-да! именно так — накинулась с кулаками на хромого, принимая его за беса, потому что это именно его руки были у нее под рубашкой. Она ведь не ведала, что руки он распускал исключительно с лечебной целью. Получив удар по лицу, колченогий ахнул и метнулся к двери. Немая же орала на весь дом благим матом. У одноглазого Гая от радости из его единственного глаза выкатилась слеза. И тут они все, кроме праведного, изумленные, пришли в себя. Ибо у нее прорезалась речь, а колченогий скакал, как заяц. Одноглазый Гай вытер слезу и стоял, открыв рот, притопывая босой ногой. Чудо!
Ночью никто, кроме праведника, не спал. Немая без остановки что-то говорила и говорила, видно, хотела высказать все, что накопилось у нее за годы немоты. Колченогий кругами ходил по комнате, изредка подскакивая, как козел Азазел, а хозяин, одноглазый Гай, все думал и думал о том, что вот как повернулась судьба, наконец-то он стал обладателем тайного лекарского знания и теперь сам сможет врачевать убогих, которыми полна округа. И будет у него хлеб на старость.
Да, читатель. Каких только приключений не случалось с праведным Иоанном во время его хождений по Малоазийским языческим землям. И смех был, и были слезы…
Утром, когда Иоанн собрался покинуть кров гостеприимного одноглазого Гая, по-христиански приютившего поздним вечером одинокого старца, к нему, как репей, прилепились излечившиеся с его помощью ночлежники и стали просить взять их с собой. Лишившись своих хворей, они не знали, что им дальше делать. Как жить дальше? Как строить жизнь? Они не были готовы к новой прекрасной жизни. Колченогий все подпрыгивал, проверяя надежность своего излечения, а вчерашняя немая, не переставая, несла всякую околесицу, осваивая членораздельную речь. Иоанн с чисто научным интересом прислушивался к ее говору: ему было интересно, на каком же языке она будет теперь изъясняться, ибо он помнил, что ночью она обличала колченогого в посягательстве на ее честь и достоинство на древнееврейском языке с примесью греческого, изредка используя латынь.
Пока Иоанн так размышлял, с улицы донеслись грохот барабана и звук военной трубы. По дороге мимо дома Гая двигался отряд стражников во главе с восседавшим на белом коне командиром. На плечи его был накинут пурпурный плащ, а грудь украшала увесистая золотая бляха с выбитой на ней большой головой льва. Это, видимо, и был тот самый посланец кесаря — трибун Антоний Марцелл, о котором вчера говорил Гай и который прибыл в поселения для расправы с местными христианами. Иоанн бывал здесь несколько лет назад, и ему тогда удалось создать небольшую христианскую общину. Но потом до него дошли слухи, что приходской старшина умер и община дышит на ладан. Вот он и прибыл сюда, чтобы вдохнуть в здешних христиан новую жизнь. Но римляне, видимо, решили опередить его и уничтожить даже то, что еще оставалось от общины. Сменивший на римском троне умеренного Тита Веспасиана новый кесарь Домициан, видно, взялся за христиан всерьез.
В конце двигавшейся колоны, окруженные стражниками, шли женщины с детьми, старухи, несколько молодых мужчин; тащились старики с посохами — всего человек пятьдесят. Марцелл проехал мимо стоявшего у разбитой лачуги Гая Иоанна и приставших к нему двоих ночлежников. Римлянин даже не повернул в их сторону головы. Однако от отряда отделились двое стражников и, слегка покалывая старца и его компаньонов пиками, загнали их в общую толпу задержанных.
Люди шли молча, обреченно опустив головы. Многие плакали. Какая-то женщина пробилась сквозь толпу к Иоанну и поцеловала ему руку. Иоанн узнал ее. Это была жена приходского старшины. Бывшая немая, которая держалась с ним рядом, увидев это, тоже поцеловала Иоанну руку.
Женщина сказала:
— О, авва, зачем ты пришел сюда? Разве тебя не предупредили?
— О чем, сестра моя?
— Есть указ Домициана — уничтожать христианские общины. Сейчас нас загонят в склад, в котором раньше хранились кожи и который мы превратили в дом молений, и подожгут.
— И Распятый не поможет нам, — сказал бредущий рядом старик в рваном плаще.
— Авва вам поможет, — вдруг встрял в разговор вчерашний колченогий. — Клянусь, авва поможет!
— Да, да… Авва поможет, — поддержала его заговорившая теперь немая.
Эти двое никак не могли успокоиться, они все радовались, что излечились от своих недугов, и на радостях никак не могли сообразить, что тут, собственно, происходит, на каком празднике жизни они оказались, куда попали и зачем их куда-то гонят. Но раз их всесильный избавитель здесь, то нечего бояться. Колченогий, тот вообще чувствовал себя молодцом. Он периодически подпрыгивал, все проверяя и перепроверяя успешность своего излечения, а немая все говорила и говорила ему в ухо свои вдохновенные малопонятные речи. Колченогий хоть и не понимал, что она там бормочет, но согласно кивал. Иногда, взявшись за руки, они, как малые дети, начинали кружиться в середине движущейся толпы христиан, не обращая никакого внимания на изумленно взиравших на них подавленных людей. Одним словом, эти двое не думали о своей участи, продолжая радостно переживать свое чудодейственное излечение.
За спиной у Иоанна послышалось пение. Праведник вслушался. Люди славили Иисуса. Они не боялись смерти. Создавая общину, праведный говорил им: «Помните, братья мои, все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». У многих Иоанн видел слезы радости, что и им выпал жребий пострадать за Иисуса.
— Молитесь, — сказал Иоанн идущим с ним рядом людям. — Молитесь, и Господь снизойдет к вам.
Иоанн с детства верил в силу молитвы. И Учитель всегда укреплял эту его веру. На горе Елеонской Он учил апостолов молитве «Отче наш». И Иоанн понимал, что спастись можно только через молитву. Другого пути он не видел. Римляне жестоки, и только вмешательство неба может спасти этих людей. И Иоанн обратился к Богу. Он молился вместе со всеми. Но слова его молитвы были иными. Он просил Господа:
— Боже мой, защити меня и овец Твоих. Сила у делающих беззаконие, но я к Тебе прибегаю, помилуй меня, Боже, помилуй меня и всех нас, Твоих овец; ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих мы укроемся, доколе не пройдут беды. Взываю к Тебе, Всевышнему, и верю: Ты пошлешь помощь с небес и спасешь нас; посрамишь ищущего погибели нашей; пошлешь милость Свою и истину Свою. Душа моя среди львов; я, ученик твой, лежу среди дышащих пламенем, у которых зубы — копья и стрелы и у которых язык — острый меч. Будь превознесен выше небес, Боже, и над всей землею да будет слава Твоя! Щит мой, спаси люди Твоя.
Христиан действительно пригнали к складу и стали загонять в ворота. Толпа, не прекращая пения, покорно вливалась внутрь знакомого помещения: здесь они уже много лет молились и сообща трапезничали, обретая в общих молитвах и общении друг с другом душевный покой и благодать. Иоанн смотрел на стражников. Эти язычники беззлобно загоняли людей, как жертвенный скот при иудейском Храме, и готовили им огненную погибель с таким видом, будто выполняли будничную работу. Да от них и не требовалось особого усердия. Ибо христиане не были варварами, не сопротивлялись, а покорно выполняли все команды своих палачей. И только пение печальных гимнов можно было рассматривать как выражение протеста.
«Мы пришли от Бога и возвращаемся к Нему».
Иоанн обратился к восседавшему на коне командиру стражников:
— О, сын Юпитера, отпусти этих невинных, а взамен возьми мою душу. Ибо я проповедник, просветивший этих людей словом Божиим. Меня и терзай.
— У меня приказ, — снизошел до разговора с праведным сын Юпитера. — Император не требует суда над вами. Христиан приказано истребить, как заразу, пока она не расползлась по империи.
Иоанн посмотрел на небо. Недвижные утром, высокие облака исчезли. Из-за горизонта медленно выползала тяжелая, полная влаги темная туча. Легкие ветерки уже шевелили листья масличных деревьев. В небе замелькали ласточки. Стражники загнали последних христиан в помещения, втолкнули туда и белобородого старца и стали заколачивать дверь. Иоанн встал на скамейку и обратился к притихшим людям:
— Любите ли вы Христа, братья и сестры? Помните ли, что Он смиренно пошел за вас на распятие, чтобы грехи ваши были прощены и вы вошли в Царство Божие?
— Христос — прибежище наше. Только в Нем успокаиваются наши души. В нем спасение наше, — прозвучало в ответ.
— Я Иоанн, ученик Иисуса… Я стоял у столба, на котором распяли Спасителя… Я видел его мучения, видел, как центурион пронзил копьем бок Распятого… После вознесения Христос говорил со мной…
Раздался крик:
— Горим, горим, братия…
Действительно, в помещении запахло дымом.
— Молитесь, молитесь, возлюбленные, и Он приидет к вам, — выкрикнул Иоанн, пугаясь, что начнется паника, все смешается, люди перестанут молиться. И он громко запел один из псалмов Давида:
— Боже! Ты Бог мой …Ты помощь моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь …
Множество голосов поддержали Иоанна… А снаружи уже вовсю бушевало пламя. Трещали доски. Помещение переполнилось дымом. И вдруг мощный раскат небесного грома будто встряхнул землю. Потолок сарая едва не рухнул на головы несчастных. Люди попадали ниц. Прокатился еще один удар, и тут же с невероятным шумом хлынул ливень. И сразу стало легче дышать. Исчез дым. А снаружи все грохотало, полыхали молнии. И Иоанн не сомневался: это его Учитель помогает Сыну Громову расправляться с творящими беззаконие на земле.
Погасив пламя, дождь прекратился, и Божья гроза ушла в поисках новых беззаконий. В поисках делающих неправду.
Люди в полусгоревшем помещении притихли, не зная, что им теперь предстоит. Как с ними поступят римляне? Ведь они специально прибыли сюда, чтобы расправиться с общиной. Томительно тянулось время. Однако стража никак себя не проявляла. Может быть, стражники ушли и Господь спас людей не только от огня, но и от римского отряда?
Когда христиане выбрались из полуразрушенного огнем склада, они увидели, что все стражники и их командир живы, но лежат на земле в беспамятстве. Молния ослепила и оглушила их. Постепенно воины приходили в себя, ощупывали друг друга, становились на ноги, но было ясно, что все они ослепли. Слух и речь возвращались к ним, но глаза ничего не видели.
Когда пришел в себя командир римского отряда Марцелл, он стал звать христианского проповедника, который обращался к нему перед началом казни.
Иоанн, в сопровождении излечившихся, колченогого и говорливой немой, — они теперь ни на шаг не отходили от праведного, — подошел к Антонию Марцеллу и спросил, чем могут помочь христиане римскому отряду, ибо одна из заповедей их учения — прощать врагов своих.
Трибун, хоть ослеп и внутренне уже был готов молить этого проповедника вернуть ему и его солдатам зрение, не удержался и сказал, что у христиан очень глупые заповеди.
— Ну, представь, проповедник, что было бы, если бы Рим прощал обиды врагам своим? — сказал Марцелл. — Поэтому я считаю, что кесарь правильно поступает, истребляя вас. И все же, добрый праведник, отвори нам глаза, и, клянусь Юпитером, мы уйдем из селения, не причинив вреда вашей общине.
Иоанн сотворил молитву, и зрение вернулось к потрясенным римским стражникам. Такого чуда не могли сотворить их боги. Трибун, изучавший в юности Платона и Аристотеля, не знал, что и думать. Ему приходилось слышать, что были случаи, когда Юпитер Капитолийский ослеплял сбившихся с линии жизни клятвопреступников. Но он, римский трибун и будущий сенатор Антоний Марцелл, никогда и ни от кого не слышал, чтобы римский Громовержец кому-то возвратил зрение. «Неужели этот Распятый так силен и могуществен?» — соображал римский военачальник, однако солдатам своим все же велел благодарить не Распятого, а Юпитера за исцеление.
Слово свое римлянин сдержал. Никого из общины больше не тронул. Однако, уходя из селения, велел схватить и связать Иоанна — ему-то он ничего не обещал! — и увел праведного на суд к Епарху Асийскому. Ибо, как понимает читатель, служба есть служба. Тем и силен был Рим.
Христиане же, опечаленные, только помолились вослед праведному.
И только двое неприкаянных, даже не ставших еще христианами, плелись по пыльной дороге вслед за римским отрядом, уводившим Иоанна. Это были сошедшие от радости с ума исцеленные Иоанновы пациенты: прямоходящий теперь некогда колченогий, скакавший ныне, как олень, и безудержно говорливая и даже похорошевшая от счастья бывшая немая, уста которой теперь не смыкались ни на минуту.
В Асии же местный Епарх посадил Иоанна в темницу, пытал его, травил лютыми зверями, но те только ласкались к праведному. Отчего весь двор Епарха стал жить в страхе и недоумении. Чиновников мучил один вопрос: куда убрать праведного, чтобы не было потом печальных для них последствий. Если уж львы не сумели с ним разобраться, а терлись о его ноги, как кошки, то им-то что делать… Поэтому так ничего и не придумав против Иоанна, Епарх счел за лучшее не мучить защищенного высшими силами странного праведника, а как можно быстрей отослать его от себя в Рим. Уж там кесарь сыщет на него управу. И последствия, увы, падут на его венценосную голову, а не на голову Епарха Асийского.
Епарх, не медля, велел заковать Иоанна в кандалы и переправил на корабле в Рим, на суд императору Домициану.
Глава 27 В темнице у кесаря
По морю Иоанна привезли в портовый город Остию. От нее до Рима — рукой подать. До великого Рима! Этого нового Вавилона, где уже сложили свои головы галилейский рыбак, соратник и друг праведного Симон Ионин, известный миру как апостол Петр, и апостол Павел, известный также как Савл Тарсянин, которого почти совсем не знал Иоанн, — оба великие подвижники. Ходя путями Спасителя, они неимоверными трудами заложили в этом языческом логове, под носом у римских кесарей, христиан-скую церковь.
Из Остии по Тибру в бамбуковой клетке побитого не раз стражей праведного Иоанна привезли в эту огромную, застроенную храмами и заставленную бесчисленными мраморными идолами столицу мира; в этот безумный, разнузданный языческий город с огромными площадями и цирками, где под ликующие вопли обезумевшей толпы: «Христиан ко львам!» — последователей Христа распинали, травили зверями, зашивали в мешки с ядовитыми аспидами и скорпионами, сжигали, как факелы, для освещения празднеств единоверцев Иоанна.
Ночью в темнице, где по стенам текла вода, а по углам пищали крысы, ему было видение. Стоит он, Иоанн, на берегу морском, слушает, как шипит, откатываясь, волна, и видит выходящего из моря, стряхивающего с себя воду, лохматого зверя с семью головами и десятью рогами: на рогах у него — десять диадем, а на головах его имена богохульные. Зверь был подобен барсу; ноги у него как у медведя, а пасть как у льва. Одна голова у него была поранена, но эта рана быстро заживала. Зверь вылез, и испуг вокруг пошел великий. Кто может сразиться с ним? И отверз зверь уста свои и стал хулить Бога, имя Его, и жилище Его, и живущих на небе. И начал он убивать всех, кто не поклонился ему. А кто поклонился, получали начертания на правую руку или на чело от идущих за ним. И кричали идущие за ним и угрожали: кто не имеет этого начертания, тому нельзя будет ни покупать, ни продавать, и жизни тому не будет. К утру видение исчезло, но долго еще оставалось ощущение ужаса от этой ночной встречи со зверем, вышедшим из моря. И понимал Иоанн, что зверь тот — Рим имперский… И не ждал спасения ниоткуда.
Предвидя свою скорую мученическую кончину, Иоанн усердно молился, радуясь, что вот и настает его час пострадать за своего Учителя. Ведь он послед-ний из двенадцати, кто еще не отдал свою жизнь за Иисуса. Зверь с диадемами на семи головах пожрал их. И все же радость его слегка омрачалась мыслью о том, что не сказал он еще своего последнего слова на ниве проповеди Божией. Зачем пережил он братьев своих? Иоанн помнил предсказание старого книжника о том, что высшие силы предназначили ему увидеть Мессию и пророчествовать. Так все и складывалось вначале. Мессия пришел на берега Галилей-ские, и он, Иоанн, стал Его ревностным учеником и проповедником. Он чувствовал, как с годами его внутренний мир, его душу наполняют странные незнакомые и пока неосознаваемые истины, которые он, как последний дар своего служения, должен положить на нетленный алтарь Учителя своего. И только тогда он сможет сказать, что наступила полнота времени и служению его земному настал час… Но что ждет его здесь, в темнице у кесаря?
Домициан, римский кесарь, известен был тем, что не уступал в изобретательности злодейств Нерону. Недавно он казнил своего двоюродного брата, Флавия Сабина, за то, что в день выборов консулов глашатай ошибся и объявил Сабина не консулом, а императором. Домициан обычно любил начинать свои выступления со слов: «Государь ваш и Бог повелевает…» Со свойственной неразумным правителям манией и, конечно же, с благими намерениями он издал эдикт о вырубке виноградной лозы. Народ откликнулся живо распространившимися по рукам стихами:
«Как ты, козел, ни грызи виноградник, вина еще хватит
Вдоволь напиться, когда в жертву тебя принесут».
Итак, Домициан, любивший самостоятельно допрашивать арестованных, велел привести к нему христианского проповедника. Центурион ввел арестованного в тронный зал.
Иоанн был поражен великолепием императорских чертогов, колонами и высотой тронного зала. Он знал: язычники умеют нагонять страх своими огромными, посвященными разным богам сооружениями, дворцами и виллами августиан.
На мраморном троне, на леопардовой шкуре, облаченный в красную тогу восседал кесарь. Вокруг трона дымились курильницы, журчали фонтаны. Вдоль стен стояли мраморные изваяния Домициана, подсвеченные золотыми светильниками. Это были действительно чертоги бога земного. Квадратное, почти без подбородка лицо кесаря не выражало злобы, в нем не было ничего жестокого, и он не походил на того зверя из моря, который явился Иоанну в темнице. Но не было и добра в его больших близоруких глазах.
В руках у Домициана был бокал с вином. Кесарь явно куражился.
— А верно ли говорят, старик, что ты знал Бога христианского еще до того, как Пилат распял Галилеянина, и потом, после Его воскресения, ты даже говорил с ним? — с некоторым интересом спросил Домициан, разглядывая стоящего у подножия трона босого белоголового старца.
— То, что тебе сказали, великий кесарь, — правда. Сын Человеческий был моим Учителем, и я говорил с ним, как говорю с тобой, — ответил старец. — В разговоре Учитель был терпелив и внимателен к собеседнику.
— И поэтому ты решил, что он — Сын Божий, а я — нет? Разве я без внимания слушаю тебя? Хочешь, я угощу тебя вином?
Иоанн с печалью посмотрел на властителя земного мира и тихо сказал:
— Учитель мог являть чудеса, которые недоступны ни волшебникам, ни волхвам, ни магам, ни кесарям. Он исцелял людей: слепых делал зрячими, кривых спрямлял, расслабленные, годами не поднимавшиеся с ложа, от его слов вставали и шли. Прикосновением к его одежде женщины останавливали кровотечение. Он изгонял бесов. Но главное — это Его учение. Он учил людей любви, учил любить ближнего, как самого себя, и прощать обиды…
Домициан возразил:
— Ну, тут я ни с Ним, ни с тобой не соглашусь. Римский бог, с которым тебе сегодня посчастливилось говорить и который предложил тебе вина, не прощает и не забывает обид… Скажу больше. Учение твоего Галилеянина гибельно для людей, а ты его проповедуешь… Проповедуешь о наступлении Царства Божия… И потом ты не веришь, что римские императоры — Сыны Божии. А это недопустимо.
— Всякий человек, на которого сошел Дух Святой, — есть Сын Божий. А Царство Божие не от мира сего. Оно откроется по окончании времен, когда Христос появится во славе и воздаст каждому по заслугам.
— Не хитри, старик! Ты арестован за то, что отказался признать кесаря богом и запрещаешь своим христианам приносить жертвы на его алтари, поэтому ты и приговорен к смерти… Боишься умереть?
— Все в руке Божьей. Ведь и ты, кесарь, боишься умереть. А вот говоришь — Бог…
Домициан улыбнулся:
— Веселый вы народ, иудеи…
На этом аудиенция закончилась. Иоанна увели в темницу, а кесарь выпил свое вино, вызвал к себе известную приготовительницу ядов, ученицу знаменитой Лукусты, с помощью которой Нерон травил своих близких и дальних, настоящих и мнимых соперников, не менее искусную Симонию. Не только императоры, но и знатные августиане частенько пользовались услугами этой ведьмы. Симония постаралась и изготовила для апостола смертоносный яд, который под видом утоляющего жажду питья и преподнесли старцу. Гонители Христа, хоть и были людьми в большинстве своем начитанными, образованными, не знали, однако, что распятый ими Назарянин позаботился о своих учениках.
Уже после вознесения, расставаясь, Он говорил апостолам: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие… Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками; будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы…»
Узнав, что яд не сделал праведному никакого вреда, Домициан решил, что отравительница его обманула, и велел высечь Симонию. Возмущенная несправедливостью кесаря, Симония дралась и кусалась, но палачи сделали свое дело, и после порки жертва занемогла, но императорский лекарь быстро поставил злодейку на ноги. И только уверенность, что скоро ей обязательно закажут снадобье для ненавистного Домициана, позволила отравительнице перенести унижение.
Верная своему профессиональному долгу, талантливая парфюмерша приготовила новую адскую смесь. Смесь испытали: одна капля отравы на глазах кесаря мгновенно убила гигантского зубра. Домициан был в восторге. Он тотчас же повелел дать отравительнице несколько золотых монет и накормить той отравой апостола. Что и было сделано.
Но старцу опять не сделалось никакого вреда.
Заинтересованные загадкой праведного, кесарь и свита стали измышлять новое злодейство. Домициан потребовал разные халдейские книги, чтобы выискать казнь самую лютую, самую мучительную. Кесарь так увлекся поисками нового злодейства, что забросил государственные дела. В Сенате появились недовольные увлечением кесаря. Правда, открыто никто не высказывался. Боялись. Ибо знали: Доминициан куда хитрей и коварней Нерона.
Посоветовавшись с префектом претория, кесарь решил, что погрузить старца за его проповеди любви, всепрощения, свидетельства о Распятом Назарянине в кипящее масло будет куда как справедливо. И тогда в императорском саду, где гуляли павлины и плавали лебеди, под присмотром префекта слуги установили котел, залили маслом, разожгли огонь, и стража отправилась за старцем… Но случилось странное: откуда-то налетел ветер, загремел гром, молния ударила в котел, разметала костер, обварив горячим маслом слуг, готовивших мучительную смерть праведному. Узнав об этом происшествии, Домициан, ставший в последние годы своего правления чрезвычайно мнительным, сильно озадачился. А когда на следующий день молния ударила в Капитолий, в Палатинский дворец, в его спальню, когда буря сорвала надписи с подножия его триумфальной статуи, властитель не на шутку испугался и оставил старца в покое.
В текстах старых преданий утверждается, что стражники все же погружали Иоанна в котел с кипящим маслом и что праведный выбрался оттуда абсолютно невредимым и свежим. Вот так, читатель! Хочешь верь, а хочешь — нет. Абсолютно невредимым! Таким, каким и был, — белобородым, благообразным, симпатичным, доверчивым и приветливым.
Автор понимает, что сегодняшнему читателю нелегко в это поверить. И поэтому мы будем придерживаться другой версии событий. Существуют свидетельства, что страшной казни удалось избежать благодаря трехдневной грохотавшей и полыхавшей над Римом необычайно сильной грозе, разбившей несколько статуй Домициана и тем самым не на шутку перепугавшей мнительного кесаря, а также из-за вмешательства влиятельного сенатора Нервы, к мнению которого иногда прислушивался Домициан.
Но мы-то с вами, читатель, понимаем, что на все есть промысел Божий, а молнии и сенатор Нерва — всего лишь исполнители высшей воли.
Римский аристократ Марк Кокцей Нерва, выходец из старейшего сенаторского рода, с юношеских лет знакомый с разными философскими рассуждениями великих греков, весьма почитавший Платона, Сенеку, видя весьма большую озабоченность Домициана и его придворных поиском достойной затрапезного старца казни, по праву сенатора вдруг возьми и спроси: а чем, собственно, провинился перед римским народом этот старик? И оказалось, что никто толком не знал. Говорили, что по молодости этот старик водил дружбу с Распятым в Иерусалиме Назарянином, который будто бы стал Богом, а старец ходит-бродит по империи, чего-то вынюхивает, исцелят больных и сеет семена своего еврейского суеверия. Нерва не понимал. Иерусалим пал. Храм разрушен Титом. Иудеи притихли. Прикусили языки. А христиане вовсе не враги кесарю. Не ропщут против начальства. Их бы поддержать… Одна из их заповедей: не злословь правителя! Разве этот старик — враг Рима? Враг — не враг, отвечали сенатору, но лучше бы он не вылезал из своей норы и не мельтешил со своим учением перед глазами. У Рима и без него забот полон рот.
Нерва решил сам поговорить с апостолом. Ему было любопытно. Какой он там никакой злодей, а был учеником Распятого, который для тысяч и тысяч людей стал Богом. В Риме и провинциях полно христиан. И Тиберий, при всей его порочности, был далеко не глуп, когда поддержал первых христиан с их доводящей до истерики развращенных жителей Рима праведностью и всепрощением. Однако Сенат отверг идею Тиберия причислить этого иудейского «Хреста», или на греческий лад «Хрестоса», к сонму богов.
Да. Ученому сенатору было интересно побеседовать с учеником Распятого. Нерва рассуждал так: разве найдется в Риме человек, который мог бы сказать, что был учеником Юпитера или Зевса, и Юпитер, к примеру, его благословил и послал в мир с проповедью. Нет таких. Ни в Афинах, ни в Риме, ни в Египте, нигде больше не сыщешь людей, которые могли бы так свидетельствовать о Боге, как этот старик. И здравомыслящий любознательный сенатор Марк Кокцей Нерва, в белой тунике с красной окантовкой, пришел к Иоанну в темницу.
— Старик, расскажи мне о Распятом. Мне говорили, что ты придумал занимательную историю: будто был учеником Господа, которому поклоняются христиане, и он обещал тебе, что ты не умрешь… Признаюсь, мы все были свидетелями: яд и правда не взял тебя! А потом, воскреснув, Распятый будто говорил с тобой. Скажу честно, такое у меня в голове не укладывается. Мне присылают книги из Александрийской библиотеки, я учился в Афинах, знаю деяния египет-ских богов, греческих, римских, читал Иосифа Флавия и что-то знаю о мстительном иудейском Боге, но ничего подобного тому, что я прочел в докладе Пилата и в его письме к Сенеке, я не встречал ни в одном учении. Просвети меня, старый человек, и я освобожу тебя из темницы. С тех пор как я узнал о существовании христиан и познакомился с их учением, я перестал быть врагом этой иудейской секты.
— Ошибаешься, высокий господин. Христиане вовсе не иудейская секта. Действительно, во многом мы опираемся на Закон Моисеев, но мы другие. Мы говорим: Бог есть любовь. Мир иудея — служба Богу, соблюдение уставов Его, и заповедей Его, и определений Его, и постановлений Его. Мир христианина — любовь и прощение.
— Ты знал Бога живого?
— Я знал Сына Человеческого, который был также и Сын Божий.
— Как я понимаю, ты, старец, последний из учеников Его? Пилат писал в своих записках, что вас у того Галилеянина было двенадцать. И что же, всех апостолов казнили римляне?
— Всех, кроме меня и Иуды Искариота. Иуда повесился, потому что выдал храмовой страже Учителя.
— Почему он выдал Учителя?
— Этого я до сих пор не понимаю. А что написал по этому поводу Пилат?
— Пилат хоть и был римским наместником, но в душе философ. Он считает, что Проведение использовало его, прокуратора Иудеи, и апостола Иуду для осуществления своих планов. Проведению надо было, чтобы Назарянина распяли. Пилат пишет, что не может понять Назарянина или того, кто за ним стоит. Ведь посуди сам, если боги когда-либо спускались на землю, то лишь для того, чтобы карать землян, но не для того, чтобы их самих карали на потеху толпе!
— Мне трудно, господин, понять смысл записок Пилата. Я верю своему Учителю. Явившись к нам, Его ученикам, после своего воскресения, Он отправил нас проповедовать Его учение о любви к ближнему, о покаянии и прощении поверивших в учение. Он учил нас крестить во имя Отца и Сына и Святого Духа; учил нас исцелять и изгонять бесов, и мне, старому человеку, непонятно, за что римляне растерзали апостолов и продолжают травить христиан. Согласись, высокий господин, что ваши римские боги не призывают людей к любви, прощению и покаянию. Они эгоистичны, как римляне, и не беспокоятся о чистоте душ. А не в этом ли спасение для человеков? Мир погиб бы в злодействах и кровосмесительстве, если бы не пришел Христос… Так за что же сильный благородный Рим гонит христиан, проповедующих добродетель и любовь к ближнему?
— Не знаю, уж поймешь ли ты меня, благообразный старец, но попытаюсь тебе объяснить. Людям, особенно тем, кто у власти, чтобы управлять себе подобными, нужны враги. Если Тибр затопил город, если Нерон его сжег: христиан — ко львам! Нет дождя на полях — благодари христиан! Такова человеческая природа. На врагов можно списывать свои неудачи. Свою глупость… Не зря же иудеи придумали Азазела. И не имеет значения, хороши христиане или плохи. Нужен козел отпущения, Азазел. Сегодня это христиане. Завтра будут иудеи. Что касается меня, то я думаю о христианах иначе. Хоть и не к лицу августиану такие мысли, но я согласен с Пилатом: христиане спасут Рим от вырождения и сделают его еще более великим!
Быть великой — такова судьба нашей империи!
Иоанн улыбнулся на это:
— Вот ты, гордый римлянин, говоришь — судьба… Мы, христиане, не верим в судьбу, мой господин. Судьба, рок — все пустое. Для нас есть лишь одна святая, разумная воля — воля Божья. И вот она-то и правит миром.
Сенатор задумался. Давно он не вел таких мудреных разговоров. Старик оказался достойным собеседником. И главное — не был врагом Рима. Философствующий сенатор был достаточно умен и не видел греха в инакомыслии старца. Возможно, потому пока и не преуспел в карьере.
— Значит, говоришь, на все Божья воля? Что ж… Тогда ответь мне, почтенный старец: была ли Божья воля на то, чтобы Тит разрушил Иерусалим и сжег ваш великий еврейский Храм. Гибель Иерусалимского Храма — это что, воля Божья?
Иоанн задумался. Когда он узнал о бедствии, постигшем Иерусалим, об уничтожении Храма, он тяжело переживал случившееся. Праведный понимал, что без воли Господа и волосок не упадет с головы человека, и пытался понять смысл проявленной в гибели города и Храма Божьей воли. И не понимал. Потом, как ему показалось, он постиг смысл случившегося.
Он так ответил сенатору, задавшему этот непростой вопрос:
— Как иудей, я глубоко потрясен и переживаю гибель Храма. Но вижу в этом наказание иудеям за те гонения на христиан, которые постоянно шли от Иерусалима. Не иерусалимские ли раввины подбили Нерона на расправу с христианами? И как ни странно — не знаю уж, поймешь ли ты меня, сенатор? — вижу в гибели Храма помощь христианам. Да, да. Не удивляйся! Господь, позволив Титу уничтожить Иерусалим-ский Храм, тем самым протягивал руку христианам. Сохранись Храм, не оторвать было бы христианскую веру от иудейской. Потрясенные гибелью Храма, убитые горем христиане, однако, вздохнули с облегчением. Сколько бы ни проповедовали Павел и Петр, сколько бы общин ни создавали, не возникло бы христианство как самостоятельная церковь, если бы, повторяю, Тит не уничтожил Иерусалим и не сжег великий иудейский Храм, не перерубил пуповину, привязывающую христиан к иудейству. И я плачу горькими слезами, что это случилось при моей жизни, и я радуюсь светлой радостью, что новая христианская церковь освободилась от тянувшего ее назад иудейского мировосприятия.
— Что ж, логично. Рассуждение, достойное Сенеки… Но тогда, чтобы не нарушать логики твоих рассуждений, достойный старец, выскажу одну все же парадоксальную мысль: заметь, исполнителями воли Божьей в обоих случаях были римляне. Римлянин Пилат распял Назарянина, и это распятие породило захватившее сегодня главные города и провинции империи учение о любви и прощении. Другой римлянин, Тит Веспасиан, уничтожив Храм, обрубил сдерживающие вас якоря, и теперь христианская вера ваша, как я понял это из доклада Пилата и его письма к Сенеке, похоронит нашу империю силы и выстроит римскую империю любви! Я правильно тебя понял, хитрый старец?
— Да, мой господин, можно предположить, что все сложится так, как ты сказал… Говорят, что некий ученик Платона Платоний задолго до эпохи римских кесарей учил тому же.
— Про Платония я не слышал. Но, пожалуй, я соглашусь с тобой, старец. Гонения, конечно, не прекратятся, но я верю: грядет римский кесарь, который поймет это и укоротит гонителей, протянет, как ты говоришь, руку христианам. Если глядеть дальше, то думаю, что настанет время, когда христиане станут забывать о прощении и будут куда жестче Рима выжигать огнем возникающие в потоке жизни иные культы и философии. Но сейчас ваш культ — это спасение Рима. Но так думают не все. У кесаря на этот счет совсем другие взгляды, и мне стоило больших трудов убедить его, что приверженность суевериям — не такое уж большое преступление против Рима. Я привел ему приятные для всякого правителя слова вашего апостола Петра о послушании начальствующему. Мне всегда интересно читать послания, которыми обмениваются между собой христиане. «Смотри, кесарь, — сказал я Домициану, — что пишет этот враг Рима своим христианам: «Будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа: царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро… Бога бойтесь, царя чтите. Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым …«»
Помню, и Пилат в своем докладе Тиберию, описывая страдания Распятого, удивлялся: ибо не было слов мести в устах Его. И потому скажу тебе, старец, мы перестанем травить тебя ядами и не станем опускать в кипящее масло, а тихо вышлем на дальний скалистый остров Патмос, и сей там, и сей на благо будущего Рима свою безобидную, на первый взгляд, ересь.
Сенатор хотел было покинуть темницу, но старец показался ему на редкость разумным, интересным собеседником, и Нерва решил задать ему вопрос, который возник у него при чтении Священного Писания, текст которого ему недавно прислали из Александрии.
— Ответь мне, знающий учение Распятого старец, почему ваш Бог, якобы Бог любви, выдал праведного Иова сатане, который подверг того всяческим злодействам и унижениям. Как я понял из Писания, сам Иов тоже не понимал — за что?
Иоанн вспомнил свой давний разговор с Учителем на ту же тему, когда они вдвоем плыли на лодке в нечестивую Тивериаду. Он тогда задал Учителю тот же вопрос, потому что тоже не понимал, за что был наказан праведный Иов. Учитель, подытоживая разговор, сказал, что судьба Иова — судьба всех праведников.
И Иоанн сказал Нерве:
— Разве Бог не послал своего единородного Сына на распятие? Вообрази только, римлянин! Он, который «изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным», послал своего Сына, чтобы искупить грехи человеческие. Так и Иов пострадал, чтобы сатана увидел силу праведников Божьих. Всякий праведник должен быть готов стать Иовом.
— Стать Иовом! — Сенатор с сомнением покачал головой. Однако не уходил.
— Вижу, сенатор, еще спросить хочешь, но не можешь переступить гордыню, — мягко сказал Иоанн, чувствуя расположение к себе знатного римлянина. Ему вдруг пришло озарение и увиделось недалекое будущее этого августиана. — Ты, господин мой, порадовал меня здравомыслием, так редко свойственным правителям, и я отвечу на твой неизреченный вопрос.
— Я не правитель, старец. Я только сенатор.
— Так слушай же… Дни кесаря Домициана, для которого все живущие на земле ничего не значат, сочтены. Скоро прольется кровь, — сказал Иоанн. — За множество беззаконий открыт подол у него, обнажены пяты его. Рука Господа простерта! Кто отвратит ее? И — знай: ты, сенатор, станешь после него правителем Рима. Сделаешь много добра, будешь умерен и справедлив, но руки христианам так и не протянешь. Дни твоего правления будут кратки, но уйдешь ты мудро, без крови.
Сказанное озадачило сенатора Марка Кокцея Нерву. Он долго молчал и ходил по темнице. Потом сказал:
— Верю, что ты, праведник святой, был лучшим учеником Назарянина. Прощай, старец…
На этом собеседники расстались. Спустя некоторое время в темницу к праведному привели Прохора, ибо римляне считали его соучастником «преступных» деяний праведного Иоанна.
А потом пришла стража, и, «взявши Иоанна с Прохором, воины отвели их на корабль и отплыли».
Глава 28 Патмос
Ошибаются те, кто полагают, будто путешествие на корабле по Средиземному морю — сплошное наслаждение и удовольствие. Сколько ни путешествовал по Средиземноморью Иоанн, он всегда попадал в бурю и непогоду. Он понимал: таков промысел Божий. Ибо ничего не бывает случайным под солнцем. И так уж бывало: всякий раз, чтобы спасти корабельщиков, ему приходилось обращаться к своему Богу. И, к изумлению пассажиров, свершалось чудо. И многие отворачивались от своих бесполезных идолов и начинали верить в единого живого Бога, которому молился Иоанн. Вот и сегодня после полудня, когда сердобольные тюремщики вывели праведного из корабельной темницы подышать свежим воздухом, Иоанн посмотрел на небо и увидел, что со стороны Атлантики надвигается шторм. Небо быстро темнело. На горизонте возник смерч и, легко подняв в небо огромную массу воды, понес ее в направлении их хлипкого парусника. Капитан, пировавший с вельможами в кают-компании, почувствовав, что изменилась обычная легкая качка корабля, и предчувствуя наступление непогоды, стрелой выскочил на палубу. Увидев низкое темное небо над головой, он обомлел, обругал себя за то, что нарушил свой долг, и тут же стал ругательски ругать матросов, что они не сообщили ему о надвигавшемся шторме. Он приказал тотчас же убавить паруса. И матросы забегали, засуетились, закричали друг на друга страшными голосами. И тут на палубу ни к селу, ни к городу вылезли пировавшие внизу вельможи. Им было интересно и весело раскачиваться на то взлетающей вверх, то падающей вниз палубе. Они радостно кричали, смеялись, бросали в воду финики и орехи, обнимались, падали, поднимались, цепляясь друг за друга, и так резвились до тех пор, пока самого юного из них не смыла за борт волна. Тут они сразу протрезвели, заохали и стали умолять капитана спасти юношу.
Но что мог капитан? Корабль так раскачивало, что у опытного морского волка не было никакой возможности даже подойти к борту, чтобы заглянуть вниз. Да и низа там никакого не было. Волны перехлестывали через палубу, и люди едва удерживались на ней, ухватившись за что только было возможно. Отец упавшего в море юноши хотел броситься за ним в воду, но матросы силой удержали его. И тут все вдруг вспомнили об умевшем творить чудеса старце, которого везли в ссылку на Патмос. С него тут же сняли оковы, стали предлагать золото, драгоценности — только спаси отрока.
— Раздайте ваши дары нуждающимся, когда окажетесь на берегу, — сказал Иоанн и стал спрашивать напуганных гибелью юноши людей, каких богов они почитают. Один почитал Аполлона, другой Юпитера, третий Артемиду Эфесскую.
Никто из них не назвал Распятого Галилеянина. Ничего другого Иоанн и не ожидал услышать. Праведный сказал:
— Ну что ж, молитесь своим богам, и будем надеяться, что они вам помогут.
Люди стали молиться. Но ничего не менялось, и они поняли бесполезность своих молитв.
Когда они убедились, что их боги бессильны, и опять обратились к Иоанну, старец сказал:
— Видите, сколько богов, и они не в силах спасти одного отрока.
— Отче святый, — взмолился отец юноши, — за-ступись за отрока, помолись своему живому Богу, которого все называют Распятым.
Оставив несчастного отца и его друзей в большой печали, праведный вернулся в свою арестантскую темницу и стал молиться. К утру шторм утих. Иоанн, остававшийся всю ночь без охраны, — вельможи запретили охранникам надевать на старца оковы, чтобы они не мешали ему молиться, — вышел на палубу. Корабль уже не так сильно качало, и на небе появились голубые просветы. Иоанн увидел несчастного отца, стоящего у борта и с тоской вглядывавшегося в серую толщь воды за бортом. Праведный встал с ним рядом и тоже стал смотреть на воду. Неожиданно он увидел какой-то предмет, покачивавшийся на волнах. Он показал на него опечаленному отцу. Прибежал капитан и приказал развернуть судно в сторону плавающего предмета. Когда подплыли поближе, увидели юношу из последних сил державшегося за бревно. Отцу стало плохо.
Матросы вытащили отрока. Все кончилось тем, что несколько матросов и особенно капитан стали просить Иоанна принять их в свою веру и крестить. Об этом же попросили отец и сын. Другие римские вельможи отказываться от своих богов не стали, но в своих речах отдали должное Назарянину.
Когда все на корабле успокоилось и стражники стали подумывать, что пора бы вернуться к закону и нацепить на арестанта оковы, случилась новая потребность в молитве праведного. Дело в том, что во время бури был поврежден резервуар с питьевой водой, и вся она утекла. И нечего стало пить. А солнце уже во всю припекало, и жажда становилась все сильнее и сильнее. Скоро люди от жажды начали ссориться и терять сознание.
Видя людские мучения, Иоанн сказал Прохору, который сопровождал его в ссылку:
— Наполни питьевые сосуды водою из-за борта.
— Морской водой? — удивился Прохор.
— Пить морскую воду — это злодейство, — запротестовал матрос, и другие поддержали его. — Не может человек пить морскую воду. А без воды мы умрем.
— Сейчас я напою вас, дети мои, — сказал Иоанн и попенял Прохору: — Стареешь, авва. Разве ты не помнишь, как я рассказывал тебе, как мы с Учителем были на свадьбе в Кане Галилейской. Свадебный пир в разгаре, а вино закончилось. Матерь Его, Святая Мария, посмотрела на Сына и говорит: вина нет у них. Потом говорит служителям: что скажет Он вам, то и делайте. Помню, Учитель повернулся к служителям и говорит, показывая на шесть каменных сосудов: «Наполняйте сосуды водой». Я видел, как слуги переглянулись и засмеялись. Однако сосуды наполнили доверху. Он говорит: «Почерпните и несите распорядителю пира». Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, — а он не знал, откуда это вино взяли, — он тут же позвал жениха и сказал ему: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее; а ты хорошее вино сберег доселе». И все пили то вино и удивлялись его вкусу.
— Забавно рассказываешь, старец, — покачал головой капитан. — Только сказки твои жажду не утолят. Морская вода питьевой не станет.
— А ты, капитан, попробуй, — сказал Прохор, который уже распробовал только что поднятую из-за борта в ведре морскую воду.
Матросы, забыв о присутствии капитана, расталкивая друг друга, бросились к ведру и, захлебываясь, стали пить эту чудом преображенную воду. Вскоре все пассажиры утолили жажду, а капитан попросил Иоанна, чтобы он позволил запастись ему такой водой до конца рейса.
Потрясенные явившимися им чудесами, начальствующие вельможи решили за содеянное отпустить праведного на свободу. Дескать, доложим кесарю, что шустрый старец сбежал. Распятый ему помог. Особенно на этом настаивал отец спасенного отрока. Но Иоанн отказался, сказал, чтобы делали все по правилам: отвели его в указанное в бумаге место.
Так все и сделалось. Местный игемон принял Иоанна и записал о его прибытии в своих бумагах.
Отец спасенного из морской пучины отрока, важный чиновник, поселил Иоанна и Прохора в своем доме. Он хоть и был степенным и неболтливым человеком, но рассказал своим родственникам о явленных Иоанном чудесах, и пошла молва о чудотворце гулять по острову.
Староста христианской общины несказанно обрадовался появлению на острове Иоанна. Все истинно верующие знали, что Иоанн — последний оставшийся в живых апостол, ученик Христа. Молва об этом шла от одной христианской церкви к другой. И дошла до Патмоса. Однако молва молвой, но, по правде сказать, мало кто из местных христиан верил в это. Ведь старец сей не просто видел Спасителя, а был Его учеником! Говорил с ним! Преломлял хлеб! Иоанн понимал этих простых людей. Когда он рассказал им, что молитву «Отче наш» научил его и других его братьев читать сам Спаситель, ему никто не поверил. В чудеса, творимые Иоанном, люди верили. А вот в то, что перед ними человек, которого Сам Христос учил молитве, — поверить было трудно.
Староста сразу же рассказал Иоанну о своей самой большой печали. Весной и летом на острове не было дождей, посевы сгорели, грядет голод, дети и старики из бедных семей пухнут и умирают от недоедания, в селениях больше не слышно привычного шороха вращающихся жерновов, люди забыли запах хлеба, а питание одной рыбой вызывает болезни.
Видя беспросветную нужду вокруг, Иоанн обратился с посланием к главам семи церквей, расположенных на Малоазийском побережье, а людям велел молиться и читал вместе с ними «Отче наш»: «…хлеб наш насущный дай нам на сей день».
Вместе с Прохором он заходил в богатые дворы и убеждал хозяев поделиться зерном с голодными бедняками. Зная силу его Крестного знамени, многие безропотно делились по достатку своему и просили осенять их дома крестом. А когда пришел первый корабль с зерном и денежными пожертвованиями от христиан из Эфеса, сотни людей, облачившись в белые одежды, с пением пришли к дому Иоанна и молили старца крестить их во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Потом пришла помощь от церквей Пергама, Смирны, Милета. Местные христиане, желая отблагодарить Иоанна, высекли на плоской поверхности огромный скалы гигантский крест и молились на него. Иоанн с Прохором часто приходили к подножию скалы и под сенью того креста осеняли собравшихся на молитву крестным знаменем, возлагали руки на головы немощным и увечным, и люди исцелялись.
Когда Иоанн и Прохор шли к этой молитвенной скале или поднимались по крутой тропе для уединения в горы, на их пути безмолвно сидели, стояли больные, калеки, расслабленные, потерявшие слух, немые устами. Они молча следили глазами за старцами и все время старались оказаться в таком положении, чтобы тень от праведного Иоанна упала на них, ибо считали, что и тень того божественного старца приносит излечение.
Разные люди жили на том вошедшем в библейскую историю благодаря праведному Иоанну скалистом острове. Были тут работящие искусные ремесленники, удачливые рыбаки, гончары, кожевенники, упорно отвоевывавшие землю у скал земледельцы, но были, как и везде, плуты, бездельники, крикуны, которые только пили, гуляли и веселились. Вот они-то и решили как-то, утомившись от своего безделья и разных безобразий, пошутить над праведным.
Зная, по какой тропинке Иоанн и Прохор будут возвращаться от облюбованной ими для бесед с новообращенными скалы, шутники придумали поглумиться над Иоанном. Один пьянчужка, заранее предвкушая конфуз, в каком окажется праведный старец, похохатывая про себя от избытка накатившей на него нутряной дури, быстренько улегся на тропинке и притворился мертвым. Другой шутник накрыл его плащом, уселся рядом и сделал вид, что горько-горько плачет, скорбит о безвременно усопшем друге. Подошедшие Иоанн и Прохор едва успокоили несчастного. Еле укротили его страдания. Наконец, справившись с рыданиями, несчастный поведал о скоропостижной смерти друга и стал умолять праведного оживить приятеля.
Иоанн нахмурился и долго молча стоял над телом усопшего, потом сказал:
— Прости меня, господин мой, но оживить твоего друга я не в силах. — И старцы двинулись дальше.
Тогда хитрец перестал реветь, засмеялся, заржал конем и стал кричать вослед нашим праведникам, что он и сам воскрешать умеет не хуже некоторых, и тут же приказал лежащему:
— Встань и иди.
Но тот, на удивление, даже не шевельнулся. Тогда пытавшийся уязвить старца исцелитель нагнулся, поднял с усопшего плащ и обмер. Лежащий на тропинке шутник был мертв. Лицо его стало как воск. Из полуоткрытого рта торчал кончик посиневшего языка. Глаза остекленели.
Жалкий лжец кинулся за праведным, догнал, упал в ноги и, целуя их, стал молить о прощении:
— Отче добрый, отче сильный, отче святый, всю жизнь тебе служить буду, когда ноги откажут, носить тебя на руках буду, молиться твоему Богу буду, только пощади, прости дураков, подыми усопшего глупой смертью.
Иоанн долго молчал. Потом сказал:
— Возвращайся к своему другу. Садись рядом и тысячу раз повторяй: «Я не буду делать людям того, чего не хочу себе. Я не буду делать людям того, чего не хочу себе…» Когда повторишь тысячу раз, озорник тот пробудится.
Глава 29 Откровение Иоанна Богослова
В последние годы многое в своей жизни Иоанн воспринимал как следование Божьему промыслу. С тех пор как он высадился на Патмосе, он много времени проводил в одиночестве. Прохора он опять отправил в Эфес, за зерном для голодавших патмосских бедняков, основную часть которых составляли обращенные Иоанном в христианскую веру разноплеменные язычники. Иоанн, Петр и апостол Павел много потрудились, чтобы Эфесская церковь развивалась и росла и умело отражала все нападки врагов Христовых. Возглавлял церковь в Эфесе ученик Павла Тимофей, а в соседней Смирне — ученик Иоанна Поликарп, и потому помощь на Патмос пришла достаточно быстро.
В дни одиноких хождений по горным тропам, куда его будто манила странная неведомая сила, Иоанн, натрудив свои исходившие почти всю Малую Азию ноги, приустав, часто садился на каменный выступ перед входом в заброшенную отшельником пещеру, смотрел на плывущие над скалами облака и вспоминал синие небеса детства, переливающиеся красками луга и наполненные розовыми туманами долины, покрытые зелеными зарослями горы, песчаные берега моря Галилейского; вспоминал Учителя своего, свой детский сон, который оказался пророческим. Ибо, как помнит читатель, пришел день, и случилось увиденное во сне. Как и предсказывал сон, Иоанн встретил Мессию. Он много думал о явившемся галилейским рыбакам Сыне Человеческом, вспоминал свои разговоры с Ним, Его поучительные притчи, Голгофу, Его вознесение, Его Благостную Матерь Марию… И странное ожидание чего-то чудесного и таинственного временами наполняло его. Даже написав свой Благовест, до божественных высот сразу поднявший в глазах верующих того Иисуса, которого изобразили Сыном Человеческим евангелисты Матфей, Марк и Лука, он не чувствовал свою миссию завершенной. Вот-вот должно было что-то случиться, что-то произойти. Ему казалось сейчас, что Господь с того детского сна, научая ученика своего духовному видению, вел его к этому событию…
Иногда вечерами Иоанн видел на небе странное смещение облаков, открывавших на миг полные ослепительного света небесные дали, где в сиянии таятся благодатные и гневные земные начала, и чувствовал, как по-юношески звонко начинает биться в груди сердце и слезы наполняют его глаза. И он молился, прося Господа открыть ему, что надо делать. А однажды, уморившись на солнце и задремав на зеленой лужайке среди скал, то ли во сне, то ли наяву увидел возникшего в полуденном мареве ангела, и тот сказал: «Иоанн, потерпи еще десять дней, и будет тебе Откровение великое». С этого дня Иоанн перестал принимать еду и только выпивал немного воды из горного источника.
Размышляя о своей жизни, Иоанн видел промысел Божий в том, что избежал смерти в Риме, что оказался в уединении среди скал здесь, на Патмосе; в том, что верный Прохор на время оставил его, — значит, так было нужно Учителю для понятных только Ему высоких целей! Вчера он несколько раз среди бела дня видел вспышки беззвучной молнии, и жизнь вокруг на мгновение замирала. Останавливались птицы в полете. И не падали на землю. На полуслове замолкали говорившие рядом с ним люди. Казалось, останавливалось его сердце. Проходил миг, и все начинало жить и двигаться вновь. Люди даже не замечали этих странных мгновений. А Иоанн понимал: это знаки одобрения его готовности встретить Бога.
Ночами голова полнилась видениями и образами. Он задыхался от наплыва изнуряющих его картин и размышлений…
И вот в десятый день своего поста в ожидании событий он сидит тут, на скальном выступе, погруженный в раздумья, очень старый уже человек, сидит один в одиночестве среди камней. Да, он чувствует, как он стар. И очень устал. И думает о смерти, о том, что за конец его ожидает. Ему вспоминаются адресованные Симону-Петру слова Учителя об Иоанне: «Если Я хочу, чтобы он пребыл, пока прииду, что тебе до этого? Ты иди за Мною». Петру же Учитель предсказал, какою смертью тот прославит Бога. И, как и было предсказано, Петр закончил жизнь на кресте. Все одиннадцать его братьев-апостолов уже ушли из жизни. Остался один Иоанн. Так что же дальше? Дальше он будет так же исправно нести свой крест, проповедуя учение Христово и… И ждать. Ждать, пока не приидет, как обещал, Господь… Ждать и пасти овец Его, как Учитель трижды наставлял Петру… Симону Ионину, которого уже нет. Как нет и Андрея уже, который в детстве в шутку пугал его козлиным копытом…
Сегодня десятый день, как его посетил ангел и предупредил об Откровении. Вот и стало понятно: Учитель не забыл Сына Громова.
И вот он, Сын Громов, тут. Он сидит на выступе у пещеры… Вокруг небо. И он как бы задремал… И видит себя у другой пещеры, молодого, запыхавшегося от бега. Он первый тогда прибежал к пещере Иосифа Аримафейского, где лежало снятое с креста тело Учителя. Прибежал, потому что Мария Магдалина утром пришла к ним с Петром и говорит им: «Унесли господа из гроба, и не знаем, где положили Его». Вот они с Петром и кинулись тогда бежать к той пещере. И увидели они, что на том месте, где лежал Иисус, нет никого. И только пелены одни лежат, и плат, который был на голове Его, лежит на другом месте. Они смотрят и не понимают, что же произошло. «Ибо они еще не знали из Писания, что Ему надлежало воскреснуть из мертвых…»
Но вот видение той пещеры исчезает, и Иоанн открывает глаза. Перед ним другая пещера, а голову сверлит одна мысль: сейчас случится что-то необычайное… Откуда-то возникает уверенность, что сейчас он увидит своего Учителя. Внутри и вокруг все замирает… Где-то необычайно далеко-далеко возникает мысль: а не умер ли ты, Иоанн? Не умер ли ученик, которого любил Иисус? Но нет, не умер. Ибо Учитель сказал об Иоанне: «Я хочу, чтобы он пребыл, пока прииду…»
И вот уже и восприятие мира возвращается к нему. Откуда-то дохнуло прохладой. Пришло и стало над головой небольшое грозовое облако. Из-за скалы дунул ветерок и разметал легкие белые волосы старца. Сверкнула молния, ударил гром, и на Иоанна обрушился ливень, загоняя праведного в пещеру. Белые одежды старца вмиг потемнели и обвисли. Из недр пещеры несло сыростью, тленом…
И тут он увидел, как из глубины пещеры навстречу, усиливаясь по мере приближения, устремился мощный, слепящий глаза поток света… Иоанн отвернулся, чтобы не ослепнуть, зажмурился и почувствовал, как наполнилась этим неземным светом его душа, как по-иному, проникновеннее, стали видеть его глаза; и не глазами тела, но глазами духа увидел он происходящие далее перед его взором события и понял, что это Дух Святой спустился на него… Видно, Господу было угодно открыть духовное зрение Иоанна и наставить своего ученика. И тут же он задрожал, услышав позади себя громкий, трубный голос…
Позднее, придя в себя, он так опишет случившееся с ним в той пещере:
«Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: Я есмь Альфа и Омега, первый и последний;
То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии: в Эфес, и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию.
Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною; и, обратившись, увидел семь золотых светильников.
И посреди семи светильников — подобного Сыну Человеческому, облеченного в подир и по персям опоясанного золотым поясом:
Глаза Его и волосы белы, как белая волна, как снег; и очи Его — как пламень огненный;
И ноги Его подобны халколивану, как раскаленные печи; и голос Его — как шум вод многих;
Он держал в деснице Своей семь звезд, и из уст Его выходил острый с обеих сторон меч; и лице Его — как солнце, сияющее в силе своей.
И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мерт-вый. И Он положил на меня десницу Свою и сказал мне: не бойся; Я есмь первый и последний
И живый; и был мертв, и се, жив во веки веков, аминь; и имею ключи ада и смерти.
Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего…»
И многое еще видел таинственных видений Иоанн и слышал небесных откровений. Перед ним развертывались нескончаемые блистательные картины. То страшные, пугающие, погружавшие его в уныние и тоску, то светлые, радостные, наполняющие душу надеждами увидеть Царство Божие…
Вот видит он дверь, отверстую в небо, и голос приглашает его подняться туда «духом» и видеть, чему надлежит быть. Там в радужном сиянии восседал Некто блистательный, видом подобен камню яспису. От Его престола стремительные неслись молнии. И вокруг престола — двадцать четыре старца в белых одеждах, увенчаны золотыми венками. И увидел праведный Иоанн в деснице у Сидящего на престоле книгу, написанную внутри, запечатанную семью печатями, и Ангела, провозгласившего громким голосом: кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее.
И Иоанн огорчился и плакал, что никого не нашлось достойного открыть и читать сию книгу и даже посмотреть на нее. И один из старцев успокоил Иоанна и указал ему на того, кто может раскрыть сию книгу, снять семь печатей ее. Это был Агнец. И Иоанн откуда-то понимает, что Агнец — это Христос, его Учитель, и только Ему дано распечатать ту книгу. Агнец пришел и взял книгу из десницы Сидящего на престоле. И видел Иоанн, как Агнец стал снимать с той книги печати. Вот он снял первую печать…
«Я взглянул, — напишет потом Иоанн, — и вот конь белый и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец; и вышел он как победоносный, и чтобы победить. И когда Он снял вторую печать… И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга; и дан ему большой меч …»
Страшен был всадник, появившийся после снятия четвертой печати. «И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть; и ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертой частью земли — умерщвлять мечом и голодом, и мором зверями земными».
После снятия шестой печати Иоанн увидел великое землетрясение. «И солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь; и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои; и небо скрылось, свившись как свиток; и всякая гора и остров двинулись с мест своих; и цари земные и вельможи, и богатые и тысяченачальники и сильные, и всякий раб и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор, и говорят горам и камням: падите на нас и скройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца; ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?»
От обилия мелькавших, сменяющих друг друга невероятных неземных картин, ослепительного сияния множества золотых и серебряных предметом и драгоценных камней, сверкающих одежд, от шума голосов, бряцания оружия, ржания лошадей, стонов и криков, визга и рыканья животных у Иоанна закружилась голова, и он потерял сознание. А когда очнулся — поразился, ибо увидел себя пробудившимся от забытья в своей привычной постели, среди знакомой нищенской утвари своего невзрачного жилья. За окном занимался рассвет. Праведный сел на своей тростниковой циновке и в растерянности стал припоминать, что же, собственно, с ним произошло, как он из пещеры переместился сюда… Потом он вдруг спохватился — не этим ему заниматься сейчас! — присел к столу и стал записывать накатывающие на него, точно волны морские на берег, картины, смысла которых он не понимал, да и не старался понять. Он терялся в догадках. Многое виделось ему сквозь мешающую проникнуть в суть вещей дымку суетной обыденности человеческого восприятия мира.
— Господи, осени меня Твоей мудростью и просвети меня, — молил он.
Главное — он боялся что-то пропустить из видений, которые следовали одно за другим, и чей-то голос пояснял ему смысл отраженных в его мозгу событий, которые разворачивались в видении. Однако достичь полного понимания являвшихся ему картин ему было не дано. И он понимал это. Только Господу дано знать тайны Откровения сего. Позднее, когда он выйдет из состояния транса, в которое был приведен небесными силами, он признается Прохору, что у него было такое ощущение, будто это Дух Божий двигал его рукой и подсказывал нужные слова, проясняя их пророческие смыслы.
И он понимал, что, прежде чем откроется миру Царство Божие, грядут события страшнее Потопа.
И возрадовался Иоанн, когда в конце встававших перед ним страшных картин увидел Новое Небо и Новую Землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали. И картины те светлые он описывал весь день, пока окончательно не изнемог, и последнее, что он под диктовку Ангела записал, были слова: «Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его.
Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний.
Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
А вне — псы, и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду.
Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя.
И Дух и невеста говорят: прииди! Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром.
И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей: если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей:
И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде и в том, что написано в книге сей».
И вот голоса умолкли, и видения исчезли. Иоанн в страхе обхватил голову руками и стал приводить свои мысли в порядок и одновременно пытался вспомнить, ходил ли он вчера в горы к своей излюбленной пещере или нет. Или это был сон, что он пришел к пещере, что ударил гром, сверкнула молния, пролился страшный ливень и он услышал за спиной голос… Или это было дома и он видел все это во сне? Внутри было и все ширилось и ширилось ощущение какой-то непонятной пока радости…
Видение то оглушило его, потрясло. Он так устал, будто прожил множество жизней… Со времен Голгофы и Успения Марии он ничего подобного не переживал… И когда голова его наконец постепенно начала соображать, что к чему, он был поражен удивлением и несказанно обрадован: Учитель не забыл и не оставил его. Он послал к нему Ангела Своего для передачи Сыну Громову данного Спасителю Богом Откровения о том, «чему надлежит быть вскоре». Учитель уподобил его Даниилу!.. Ему было дано увидеть, как вершится Страшный суд, как пал Вавилон, как появилось Новое Небо и Новая Церковь! И поручено записать все увиденное и услышанное в Книгу, как он уже начал понимать, постепенно осмысливая содержание данного ему Откровения, Книгу, долженствующую стать завершающим Священное Писание Божественным Текстом. И, осмыслив то, что ему предстояло совершить, Иоанн не только возрадовался, но и испугался. Достанет ли в руке его силы, сможет ли его язык поведать о столь великом и столь необычном?
Но душа ликовала. Вот и исполнились сказанные Учителем Петру слова: «Я хочу, чтобы он пребыл пока прииду». Вот и настал час, и Учитель призвал его, Иоанна, пророчествовать. Таким образом, исполнен и дальний промысел Божий, о котором говорил старый книжник Ахав, приведший его, младшего сына Зеведеева, от детского сна о распятии Мессии к написанию по Божественному вдохновению пророческой Книги о мучительном конце нашего грешного мира и начале Царства Божия на земле.
И воплотил Иоанн Видение То в пророческую Книгу о вечности.
И, завершая сей вдохновенный труд, растерянный и смущенный Иоанн вывел заключительные слова услышанного:
«Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду скоро! Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе! Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами, аминь».
На следующий день, придя наконец окончательно в себя и впервые вдруг пугаясь смерти, страшась того, что он, старый, немощный уже человек, может умереть, не исполнив полученного наставления о пророчестве, принялся готовить Послания к семи церквам. И когда закрывал глаза от усталости, виделся ему Всадник на белом коне. И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в виссон белый и чистый…
Эпилог Слава Богу за все
Когда рукопись сего романа об Иоанне Зеведееве, Сыне Громовом, была закончена и автор собрался было на следующий день поутру отправить ее в издательство, ночью ему, как это происходило со многими героями его книги, был сон. И в том сонном видении явился ему муж суровый и торжественный, и автор принял его за Иакова Зеведеева. Муж тот стал высказывать неудовольствие по написанному автором тексту. По его словам, Иоанн много больше пострадал за Христа, чем написал автор.
Если читатель еще не забыл, то ведь Иаков Зеведеев — святой апостол Господа нашего Иисуса Христа, старший брат Иоанна, тоже названный Учителем Сыном Громовым. Следовательно, если это именно он явился нашему автору, то, как никто, имеет полное право судить написанное об Иоанне своим судом.
Автор же, то есть списатель жития Иоаннова, конечно, очень удивился, как, наверное, удивился и читатель: ведь романа-то того никто еще и не видел. Рукописная книга не покидала квартиры автора, а его компьютер еще по серости и нерасторопности даже и не подключен до сих пор к Интернету. Как же тогда Там, откуда явился торжественный гость, узнали, что живет где-то в Санкт-Петербурге некто и чего-то там, предерзко и мнози передергивая, пишет себе и пишет, наивно изумился автор. Ночной муж резонно указал автору на то, что взявшемуся за подобное повествование следовало бы понимать, что Там все про всех известно. Известно, что было, и что есть, и что будет — и вскорости, и в далекой будущей дальности. Автору следует также знать, что посланцы Оттуда приходили и к Скорцезе, и к Сарамаго, и к иным простодушным выдумщикам всяческого вздора про Марию Магдалину и предупреждали: «Можете не писать — не пишите!» Но, увы и ах! Обуянные гордыней авторы не остановили себя. Не наступили на горло собственной песне. А зря.
— Почему же не предупредили меня? — подивился автор романа о Сыне Громовом Иоанне. — Я бы сразу откликнулся. Я вообще охотно откликаюсь на сигналы Оттуда.
— «Закулиса» посчитала, что ты в основном был на верном пути, — сказал явившийся в видении муж. — Даже познакомил читателя с учением Платония о «Закулисе». И это — хорошо. Хотя, возможно, кое-кому у Нас и у вас не понравится. Потом, Им Там понравилась твоя философско-эротическая притча о Соломоне — «Ключ Соломона», которая недавно вышла из печати. Особенно ею зачитывались сыны Велиара. И вообще, ты, автор, до поры держался молодца! И не было необходимости вмешиваться. Но под конец показалось, что ты дал-таки петуха. Во многом отошел от святителя Дмитрия Ростовского, чем, как решили Там, не то чтобы исказил, скорее недовыразил полноту дней святого Иоанна. И ирония твоя не всегда к месту. Учитель ведь никогда не смеялся. Поэтому — я тут. И не столько от имени «Закулисы», сколько от матери Иоанна Соломеи, и от старого рыбака Зеведея, и от нас обоих братьев, Сыновей Громовых, любимых учеников Бодрствующего и Святого, рекомендовал бы внести кое-какие добавки. Почему ты ничего не сказал о загадочной смерти Иоанна? Или ты, как евангелисты, стараешься умолчать о предсказанной Иоанну участи, о том, что у него иная стезя и что он не умрет. Как не умер Енох, не умер Илия. Или ты забыл сказанное в Евангелии: «И пронеслось это слово между братиями, что ученик тот не умрет». Вот и рассказал бы, как хоронили Иоанна, как это сделал святитель Дмитрий Ростовский. Слава ему! Хочешь, я тебе напомню, что написал об этом святитель?
— Напомни, пожалуй…
— Да, напомню, а ты запиши. И вставь обязательно в роман. Читателю надо знать, как закончил свою земную жизнь великий новозаветный пророк, возлюбленный ученик Христов, столп церквей, сущих по вселенной, тот, кто имеет ключи неба, кто испил чашу Христову и крещением Его крестился. Ибо пока не приидет Царство Небесное, все вокруг будет суетно и лживо. Одна лишь смерть — правдива и вечна! И пусть миряне знают, как тихо и достойно уходил ученик по прозванию Сын Громов, которого любил Иисус… Последний пророк Священного Писания!
Итак, слушай, умник, и заноси в тетрадь:
«Когда апостолу исполнилось более ста лет, вышел он из дома с семью своими учениками и, дойдя до некоторого места, велел им там сесть. Время было уже к утру, и он, отойдя на такое расстояние, на какое можно бросить камень, начал молиться. Потом, когда ученики его, согласно его воле, выкопали ему крестообразную могилу, он заповедал Прохору идти в Иерусалим и оставаться там до кончины своей. Преподав еще несколько наставлений ученикам своим и поцеловав их, апостол сказал: «Возьмите землю, мать мою, и покройте меня ею».
И поцеловали его ученики, и покрыли его до колен, а когда он снова поцеловал их, то покрыли его даже до шеи, положили на лице его покрывало, и, поцеловав еще, с великим плачем покрыли его совсем.
Услышав об этом, братия пришли из города и раскопали могилу, но ничего не нашли там и весьма много плакали; затем, помолившись, они возвратились в город. И каждый год в осьмой день месяца мая появлялось из гроба его благовонное миро и по молитвам святого апостола подавало исцеление болящим, в честь Бога, в Троице славимаго во веки веков. Аминь».
Надиктовав все это автору, муж, явившийся в ночном видении, спросил:
— Скажи, списатель, ты-то хоть сам понимаешь, что произошло на острове Патмос? Понимаешь ли, о чем речь? Проснись! Пробудись и на свежую голову изумись! Речь-то ведь идет о том, что именно на этом острове, в этой самой пещере святой Иоанн Богослов, руководимый промыслом Божьим, изложил последнее — Последнее! — библейское пророчество и на этом поставил на канонических пророчествах точку. И не просто точку, каковую ставишь, например, ты, почтенный. Или ставит твой любознательный читатель. Нет! Иоанн поставил не просто маленькое, круглое, обычно полное глубоких смыслов и тайн, завершающее все мыслимые мыслительные процедуры пятнышко. Святой Иоанн Богослов поставил последнюю точку Священного Писания! Вот в чем соль!
И, сказав это, ночной посетитель тихо растаял в таинстве ночи. А вскорости утренний благовест пробудил к трудам праведным и нашего списателя.
Коль скоро все оказывается так непросто, любознательный читатель вправе спросить: где же все-таки в дни наши пребывает в ожидании, когда приидет Господь, Сын Громов, святой апостол Иоанн Богослов?
Иные знатоки Священного Писания могут ответить: взят на небо, как Енох или Илия. Другие, философствующие богословы, уверяют, что святой Иоанн пребывает в таинственной горной стране Шамбале. Под именем Пресвитера Иоанна неоднократно вступал в переписку с Папами, обличал их.
Недавно автору довелось ознакомиться с докладом одного свихнувшегося богослова, профессора Маракуе, так в том своем сочинении профессор пытается доказать, что авторство известного труда, так восхищавшего Елену Блаватскую, Рерихов и многих земных теософов-мистиков, — труда, известного под названием «Письма Махатм», — принадлежит перу живущего в Гималаях в ожидания прихода Господа святого апостола Иоанна, которого и по сей день окружают и берегут горние силы.
Есть мнение, что святой Иоанн Богослов являлся в видениях святителю Иоанну Златоусту, когда тот работал над толкованием светлого Иоаннова Благовеста; являлся и известному шведскому религиозному учителю Эмануэлю Сведенборгу во время работы того над богословским трудом «Апокалипсис Открытый». Э. Сведенборг замечает: «Откровение не мог бы объяснить никто, кроме Одного Господа, ибо все слова там содержат тайны, которые никогда не были бы известны без особого озарения и откровения. Поэтому Господу было угодно открыть зрение моего духа и меня наставить». Для чего не раз, как отмечается в биографических материалах, знаменитому шведу являлись небесные посланцы.
Одним словом, читатель, загадка исчезновения Иоанна Богослова остается до сих пор неразгаданной, как, кстати, и судьба другого, «теневого» героя нашего повествования, бывшего прокуратора Иудеи Пилата, которого ежегодно в Великую пятницу Пасхальной недели наделенные духовным зрением праведники видят в Альпах на горе Пилат все умывающим и умывающим свои руки.
Возможно, что кому-то избранному и еще кое-что известно о праведном Иоанне. Но знающие — молчат.
На этом повествование наше о Сыне Громовом окончено. Хоронившие святого братия вспоминают, что Иоанн радовался своему уходу из жизни, как празднику. Так радовалась Благословенная Матерь Христова Мария, получив от архангела Гавриила известие о своем скором успении.
Знал ли праведный, что его ожидает? Гадать мы не будем. Добавим только, что растет количество свидетельств о явлении и помощи святого апостола Иоанна земным праведникам наших дней.
Слава Богу за все!
Аминь.
Начато: 05.08.05 на Патмосе — Окончено: 12.12.06 в Санкт-Петербурге.
P.S. Автор благодарит и снимает шапку перед давно почившими в бозе создателями апокрифических Евангелий, жизнеописаний и иных мудрых текстов, которыми он по совету безумно-гениального профессора Маракуе воспользовался для написания своего замечательного неканонического романа. Он также благодарит переводчиков текстов, сумевших донести до современного читателя великую спасительную мудрость Учителя, и еще раз произносит Аминь!
Примечания
1
[1] Стихи даются в переводе С. А. Ошерова.
(обратно)





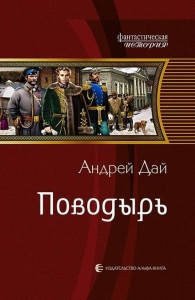


Комментарии к книге «Сын Грома», Андрей Зверинцев
Всего 0 комментариев