СЕРИЯ «АИ • БИБЛИОТЕКА • BORA» САВИН ВЛАД СТРАНА ГОНГУРИ
СТРАНА ГОНГУРИ * * * АННОТАЦИЯ
Страна Гонгури.
Мир — прекрасный и яростный? Где Любимый и Родной — так называют Вождя, сказавшего — пусть лучше умрут десять невиновных, чем уйдет от расправы один враг революции.
Мир, где про историю НАШЕЙ революции один из персонажей говорит: «И еще — тот мир более приземленный, мягкий, сглаженный, что ли… А мы для них — мечта романтиков, мир прекрасный и яростный, без полутонов, не верь что в Зурбагане высохли причалы! — там нет Зурбагана, это у них как вымышленный город мечты»
Верной дорогой идете.
Продолжение Страны Гонгури. Та же страна, тот же Вождь.
Особенности революционной охоты.
Еще двадцать лет после «Верной дорогой идете..» Революция должна уметь защищаться! И нападать? Даже АБСОЛЮТНОЕ прогрессорство, модернизация — еще не гарантия победы. Нужно — что-то еще. Что?
Страна Гонгури
— Если бы Сталин проиграл! Не было бы сталинского террора!
— Был бы троцкистский террор! Все то же самое, плюс спалить страну и народ, расходным материалом мировой революции. А при неудаче — повторить еще, уже в другой стране. Найдя страну — которую не жалко.
(В. Итин «Страна Гонгури» — роман, написанный в 1919 г. В НАШЕМ МИРЕ. Гелий — имя героя. Содержание примерно соответствует «Алой звезде» — у нас отсутствующей).
Четвертый год страну разрывала на части гражданская война. Сначала была революция, вдохновленная самыми лучшими целями и самыми высокими идеями. Затем брат поднялся на брата, сын — на отца, мирные поля превратились в плацдармы, по городам прокатился фронт. И никто уже не видел иного выхода, кроме победы, последнего и решительного боя — после которого одна из сторон просто перестанет быть. Пощады никто не просил, да пленных и не брали. Так было — и будет, пока людям одной крови достанет безрассудства убивать друг друга.
И некому стало сеять хлеб — потому что все воевали. И незачем — потому что завтра его могли отнять. Тогда пришел голод. Рабочие падали без сил прямо в цехах у машин, женщины и дети — в бесконечных очередях возле закрытых хлебных магазинов. Голод не щадил никого и не различал фронта и тыла, от него умирали больше, чем от пуль врага. И самые слабые — первыми.
Тогда Вождь революции, Любимый и Родной, призвал к войне с голодом. Наводить порядок взялись железной рукой чрезвычайных комиссий, установив жесткое распределение и твердые цены. Чтобы добыть и доставить хлеб, были посланы особые отряды из преданных революции добровольцев. Хлебородные губернии теперь были ничьей землей, где всякая власть кончалась в десятке верст от железной дороги, там можно было встретить и банды, и дезертиров, и войска врага. Хлебные отряды уходили туда, как в неведомую страну, и везли назад не просто зерно — жизнь для голодающих городов, для рабочих и их семей. Иногда отряды не возвращались — и никто не мог узнать, что с ними стало.
Один такой отряд уже две недели шел по южной степи. Сто и еще два человека — все верные, надежные товарищи, готовые отдать жизнь за народную власть. Старшим в отряде был товарищ Итин — из числа тех железных героев революции, кто начинал с Вождем еще в прежние времена, пройдя огонь и суровую школу революционного подполья, каторги и ссылки. А самым юным из бойцов был Гелий — но это не было его настоящим именем: прибавив себе лишний год, чтобы записали в добровольцы, он заодно взял себе имя героя знаменитого романа Николая Гонгури «Алая Звезда» — о светлом и прекрасном будущем, где все живущие станут свободны и счастливы. Этой весной Гелий ушел из дома в революцию — взяв лишь гитару, что висела сейчас за его плечом вместе с винтовкой, узелок с полотенцем, мылом и сменой белья, карандаши и толстую тетрадь в красной клеенчатой обложке. По вечерам он пел своим товарищам, на привалах у походного костра.
Люди, проснитесь — хватит спать! Близок уже рассвет В наши ряды спешите встать — Чтобы увидеть свет. Старая жизнь — это тьма. Голод, нужда и грязь. Ночь — не закончится сама, За наше рабство держась. Хватит — покорности тюрьмы! За нашу правду — в бой! Мы — не рабы. Рабы — не мы. Все — в наш железный строй. Годы смирения — для святых. Счастья хотим — сейчас. Хватит — красивых слов пустых. Лишь справедливость — указ! Пусть пропадают семья и дом — Нам не о том жалеть! Весь старый мир — обречен на слом, В нашем пожаре сгореть! Или победа, или смерть. Третьего — не дано. И если многим придется пасть, Значит — так суждено. Или ты с нами, или ты — враг. Сейчас — не время любви! Нас били так — что стал наш флаг Цвета пролитой крови! Пусть нас простят погибшие зря, Убитые без вины. Когда повсюду всходит заря — Жизни одной нет цены. В крови и муках строит народ Мир самой светлой мечты. Ради него — мы рвемся вперед, Сзади сжигая мосты. Кто-то упав, не дойдет — и пусть! Слабые нам не нужны. Кто с нами вместе, в новую жизнь — Сильными все быть должны. Пусть уйдут все, кто не готов В светлом будущем жить. Кто не сумел снять с души оков, Через себя преступить. Наш первый шаг — из грязи и тьмы К миру новых людей. Чтобы они жили лучше, чем мы, Лучше и веселей. Наш первый шаг — к торжеству мечты, Через истории хлам. Чтобы потомки, спустя века Стали завидовать нам.— Как война кончится, учиться пойдешь — говорил Гелию товарищ Итин — наш будешь, по таланту, народный артист, или поэт.
Еще в походном мешке Гелия, лежала та самая книга, заботливо завернутая в полотенце, но уже затертая и зачитанная до дыр. Про то, как молодой революционер, заснув в тюремном каземате, проснулся вдруг в далеком и прекрасном будущем, где все были друг другу как братья и сестры, давно забыв о голоде, нищете, несправедливости, с тех пор как прогнали эксплуататоров и паразитов. Там были светлые города из стекла и алюминия, электрические заводы и фермы, чудесные ученые лаборатории, быстрые воздушные корабли. Все жили в белых домах в пять этажей, вместо трущоб, занимались творчеством и наукой; люди летали уже к другим звездам и планетам, чтобы поднять там алый флаг объединенного Братства Людей; все тайны природы, и даже само время покорялись уже их разуму и воле. Гелий прочел всю книгу не раз, до самой последней страницы — но при каждой свободной минуте открывал снова, чтобы еще раз оказаться в том чудесном мире хотя бы мечтой.
— Это правда, что Гонгури в тюрьме все написал — спрашивал он — как же ему позволили?
— Он не писал — ответил товарищ Итин — жандармы не давали ему бумаги, и он запоминал все наизусть, шагая по камере из угла в угол двадцать шесть лет. А как революция его освободила, тут же все и записали, и напечатали.
— И очень правильно — сказал оказавшийся рядом боец в матросском бушлате, обмотанном пулеметной лентой — не поймет никак враг, что нам силы дает, как трудно ни было: какая тайна военная у нас есть, что мы не отступаем и не сдаемся никогда! А ответ простой — жили мы в такой тьме, что хуже чем в преисподней, и вдруг свет вдали блеснул, к другой совсем жизни, лучшей и справедливой! И потому любой из нас скорее умрет, чем покорится — зная, что этим свет тот приближает! Как на Шадре-реке те сто героев, что встали у моста против прорвавшейся броневой дивизии, погибли все — но врага не пропустили! Революция прикажет — я в огонь за нее шагну!
Три года назад Любимый и Родной решил вернуться в страну — хотя все знали, что его тотчас же арестуют, а может быть, и сразу убьют. Тогда сто тысяч рабочих старой столицы среди дня бросили свои фабрики и пришли к вокзалу, чтобы спасти Вождя — не сомневаясь, что их встретят там пули и штыки солдат. Но в тот день, первый из Десяти, перевернувших весь старый мир, солдаты сами присоединились к народу — и Вождь, выйдя на вокзальную площадь, вместо пролитой крови увидел счастливые и грозные лица, блеск штыков и алый кумач знамен. Он поднялся на танк, приведенный восставшими вместо трибуны, у белой стены вокзала, вскинул руку к синему августовскому небу — и сказал народу свое великое и правдивое слово.
И нельзя уже было вернуться в цеха и казармы. Будто в затхлой комнате распахнули окно. Старая власть вдруг сразу утратила весь авторитет и даже страх к себе — а полицейские и жандармы прятались, срывая ненавистные всем мундиры. Днем и ночью на улицах горели костры из наскоро разломанных заборов и сараев, а рядом собирались в восторге люди, чтобы говорить, спорить — и брататься навеки, расходясь товарищами. Из трактирных погребов выливали вино в канавы, ради трезвой и честной жизни — и в те дни на улицах пьяными были не люди, а псы. Видя пример столицы и бессилие власти, народное восстание прокатилось по огромной стране, как пожар по степи в засушье — отовсюду к Вождю ехали делегаты, и очень скоро было объявлено о выборах в новую, народную Думу; все сразу заговорили о новых, справедливых законах, которые будут приняты.
— Поначалу без злобы все было — рассказывал товарищ Итин — верили все, что будет сейчас равенство и братство. Что соберемся, закон по правде примем — и начнется совсем другая жизнь…
Товарищ Итин был одним из тех ста тысяч, что встречали Вождя в тот самый первый день. На привале он не раз уже рассказывал о тех великих днях — но бойцы просили повторить: наверное, каждый втайне представляя, что когда-нибудь он сам будет рассказывать детям и внукам о том, как сидел у костра с одним из ТЕХ САМЫХ, легендарных, и слушал историю, рассказанную им самим.
— Не научились тогда еще беспощадности! — говорил Итин — не знали, что гадов надо добивать: бывало, явных врагов с миром отпускали! Если б сразу — сколько бы товарищей наших живыми остались! Ничего — теперь мы уже без ошибки!
За революцию и народ Трудовой пролетарий идет. Сто миллионов в шеренге. Проверка линии — залп. Выстрел вдоль — Снарядополет, В десяти миллиметрах от лбов. Двадцать долой — Списаны в брак, Кто не выровняли шаг. Где тут враг? Не уползешь! Смерть свою под ногами найдешь! Мы идем — шар земной дрожит. Весь старый мир — в пожаре горит. Нас — не собьешь с прямого пути! Дружно идем. Коммунизм впереди!!!— Хорошая песня! — говорили бойцы отряда — только конец суматошный какой-то. Будто — тикайте, хлопцы, пожар!
— Пожар мировой и есть! — отвечал товарищ Итин — весь шар земной запалим, чтобы жизнь прежняя проклятая в огне сгорела, без остатка. Чтобы — без всякого возврата!
В десятый день правительство и генералы решились на ответный удар — собрав верные им войска, юнкеров и гвардию. Танки расстреливали и давили наспех сооруженные баррикады, а следом шла озверевшая пехота, щедро напоенная водкой, добивая уцелевших. Наскоро собранные и вооруженные кто чем рабочие дружины стояли насмерть — но силы были неравны; был час, когда казалось уже, что все кончено. Центральный Комитет собрался в последний раз — ясно слыша уже шум боя: выстрелы, лязг гусениц и рев моторов. Даже верные дрогнули духом, и кто-то уже предложил — уходить в новое подполье, чтобы собраться с силами, и начать снова. Все готовы были согласиться — но встал тогда Любимый и Родной, и сказал:
— Вы слышите — идет бой. Там умирают за нас товарищи рабочие: что скажут они, если мы скроемся в этот час? Бесспорно, что каждый из нас ценен для будущей борьбы — но гораздо большая ценность и главная сила партии, это вера в нее народа. Разбитую организацию можно воссоздать — но потерянную веру уже не вернуть. Потому, ради будущего успеха, мы должны разделить судьбу восставшего народа — какая бы она ни была.
И никто не мог возразить Вождю, хотя каждый понимал, какая будет расправа — лишь немногие, выбранные по жребию, должны были скрыться, чтобы снова затем возглавить борьбу. Вождь был наравне со всеми — и ему выпало остаться. Сразу несколько из уходящих товарищей поспешили предложить свое место — но Вождь велел уже нести оружие, чтобы всем идти на баррикады, когда пришло известие, что враг отступает. К вечеру все было кончено — сам генерал-фельдмаршал, светлейший князь и брат государя, командующий гвардией и столичным военным округом, успел застрелиться, всех же прочих высоких чинов подняли на штыки и выбросили из окон обозленные революционные матросы и солдаты, взявшие штурмом Главный Штаб; лишенное воинской силы правительство во главе с государем было арестовано в собственном дворце.
— Но не захотел враг мира! — заканчивал рассказ товарищ Итин — не признали паразиты за народом трудовым его свободы. Надеясь порядок старый вернуть, призвали в помощь себе всех буржуев заграничных, эксплуататоров заморских, и даже тех из народа, кто темен еще правду нашу увидеть. Три года уже война идет страшная — но сломили наконец мы вражью силу в долгой битве на Шадре-реке, и совсем разгромили на Июль-Корани. Близко уже победа — и скоро настанет новая жизнь. Новая и прекрасная — потому что ничто не может быть лучше для трудового народа, чем коммунизм на всей земле!
Лишь один боец в отряде шел не в строю. Он плелся позади, вскинув на плечо винтовку; на привалах он последним молча протягивал миску кашевару и, получив свою порцию, ел в стороне от всех, не подходя к общему кругу, освещенному костром.
— Он в плен врагу сдавался, шкуру спасая — говорили бойцы — кто же в бой с ним пойдет, после такого? Шкура — он шкура презренная и есть!
Гелий еще не видел живых врагов. Они представлялись ему, как на плакате «Допрос красных партизан»: мерзкие, сивые, хмельные и гнилозубые хари с сигарами, в белых погонах и золотых аксельбантах — или вообще даже не люди, а что-то вроде грязных животных, отчего-то мохнатых и пятнистых. Сдаться таким в плен было много хуже, чем погибнуть в бою — и Гелий, хотя единственный из отряда, кто не был на фронте, хорошо знал, как надлежит поступать бойцу революции даже в самом последнем случае:
Враги подступают все ближе. Команды доносятся, крик. Три пули последних в обойме, И жизни осталось — на миг. И кто-то кричит: сдаюсь я! И — вверх с белой тряпкой рука. Предателю — первая пуля! Предатель — гаже врага. Видны уж чужие погоны. И острые жала штыков. Без промаха — второй патрон свой В орущие морды врагов. Вы память о нас сохраните — Мы пали в неравной борьбе. Прощайте! За нас отомстите! Последняя пуля — себе.Отряд шел по полям и дорогам, заходя в деревни и села; если первые дни больше занимались пропагандой, организовывали беднейших в комитеты и артели, учили крестьян грамоте, лечили, даже помогали в полевых работах — то когда урожай созрел, главным и самым важным делом стала заготовка хлеба для городов. Однажды пришлось отбиваться от налетевшей из леса банды; встретив дружный отпор и оставив несколько мертвых тел, нападающие так же быстро исчезли. В отряде один из бойцов был ранен пулей в живот и в тот же день умер — его похоронили тут же, в поле у перекрестка дорог, поставив столбик со звездой, над которым комиссар произнес короткую речь. Еще двое были ранены легко — перевязавшись, они шли дальше в одном строю со всеми.
Когда-то здесь были хорошо обжитые края, но теперь всюду можно было видеть запустение: поля заросли травой и сорняком, никто не ездил через провалившиеся мосты и не чинил размытый ливнями тракт. Только что закончился август, жаркий и грозовой; настали первые дни осени — теплые и сухие. И это было хорошо — будет хуже, когда начнутся дожди, и ноги станут утопать в грязи, липнущей комьями к сапогам. В небе летели птицы, тянувшиеся стаями на юг.
— Скоро на месте будем — сказал товарищ Итин, достав из полевой сумки карту — шире шаг!
Это было обычное село, какие раньше много раз встречались на пути. Дорога переходила в единственную улицу, по сторонам которой были разбросаны дома, отгороженные заборами; с открытой тыльной стороны виднелись огороды; посреди возвышалась церковь с покосившимся крестом. Улица была пуста, однако из-за оград на подходивший отряд настороженно смотрели множество глаз; женщин и детей на виду не было.
— Что баб и малых прячете? — весело выкрикнул товарищ Итин, шагая впереди отряда — не бойся, мы свои, не белопогонники, не обидим. Айда все наружу — разговор есть!
Отряд остановился. На пустом месте возле церкви — потому что там единственно был простор. Стали собираться крестьяне. Заросшие бородами, все они казались Гелию на одно лицо. Иные были одеты в потрепанные солдатские шинели со старательно споротыми погонами. Женщины в низко повязанных платках держались позади, прижимая к себе детей. Когда все собрались, Итин начал говорить речь, которую Гелий слышал уже не раз — в деревнях, где они были раньше; однако он слушал с восторгом и вниманием — потому что слова эти были столь пламенны и правильны, что не могли оставить равнодушным любого, кто только сам не принадлежал к врагам, эксплуататорам и паразитам. А крестьяне молчали — на лицах их нельзя было прочесть никакого ответа.
— Всем сейчас трудно — завершил речь Итин — но надо делиться. Чтобы все по справедливости было — и горе, и радость чтобы были одни на всех. Не для себя прошу хлеб — для народа трудового. Для тех, кто на фронте за вас бьется, чтобы прежние порядки не вернулись — и для тех, кто оружие делает, по четырнадцать часов в холодных цехах, фунт хлеба лишь в паек получая, а иждивенцы — по полфунта, и то, если хватает муки в пекарнях. Было зимой: клепальщик один, с бронемашинного, на час домой отпущенный, нашел жену свою с двумя детишками три дня уже не евших ничего — свой паек хотел отдать, так жена не взяла, и детям не позволила, чтобы у мужа силы были на революцию работать, чтобы белопогонники проклятые не вернулись. Так и ушел клепальщик с хлебом в кармане, через неделю лишь сумел снова домой — а семью его уже схоронили! И не у него одного — у многих так было: по весне крапиву и лебеду ели, вместо хлеба, но знали, что лучше умереть, чем позволить господам проклятым вернуться и снова на шею нам сесть!
Крестьяне слушали молча. Топорщилась солома на крышах изб. Крестьяне молчали — словно надеясь, что если они не согласятся, то отряд уйдет, оставив их в покое.
— Что молчите, сволочь! — не выдержал матрос — время сейчас такое, что кто не с нами, тот за врага: никому нельзя в стороне! Добром не хотите сдать излишек положенный — так будет по-нашему: сами все возьмем, что найдем! За мной, ребята!
Все было, как в других деревнях. Бойцы осматривали дома, сараи, погреба; зная, где обычно делались тайники, они находили мешки с зерном и мукой, картошкой и репой, несли на свет крынки с молоком, маслом и сметаной, яйца и кур, даже копченые окорока и колбасы. Крестьяне смотрели молча и угрюмо, но никто не смел сопротивляться хорошо вооруженному отряду. Одни лишь дворовые псы пытались вступиться за хозяйское добро — их откидывали в сторону прикладами и сапогами. А самых злобных — пристреливали, или докалывали штыками. По всей деревне слышались одиночные выстрелы и собачий вой.
— Ты прости, комиссар, что я вперед тебя — сказал матрос — я в прошлом еще году за хлебом ходил, и знаю: пока мы им речь, кто-то тишком да тайком по домам, успеть что спрятать получше. Скорее надо, а лучше сразу, с налета — и по амбарам, чтобы опомниться не успели. А кто несогласный — выходи! Сразу того в расход и спишем, как элемент безусловно враждебный!
И матрос удобнее перехватил винтовку.
— Может, так и легче — согласился товарищ Итин — да только не один хлеб нам здесь нужен. Если мы не просто власть, а еще и народная — надо, чтобы мужики эти хлеб давали не силе, а правде нашей подчиняясь. Чтобы — душой всей за нас встали. Силой любой может — и правый, и враг. А правда на свете одна — наша.
Дело было почти закончено; оставалось лишь мобилизовать достаточное число подвод с возчиками и лошадьми, чтобы под охраной доставить собранное на ближнюю станцию железной дороги. Однако уже было время думать о ночлеге. Собранные продукты были тщательно сосчитаны, переписаны и заперты в крепкий амбар, выставлены часовые, которым товарищ Итин сказал:
— За провиант — головой отвечаете. Чтобы ни крошки не пропало. Я захочу если себе что взять — стреляй в меня.
Отряд привычно располагался на постой — часть бойцов разместилась в домах побогаче, прочие же заняли стоящий на отшибе большой сарай с сеном, сложив там же отрядное имущество; рядом разожгли костер из разломанного на дрова ближнего забора и сели вокруг. Настало лучшее время в походе — свободное от устава, когда можно заняться личным: поговорить о чем хочется, и просто отдохнуть после маршем прошедшего дня; лишь водка не была дозволена, потому что сознательные бойцы революции — это не трактирная пьянь. Внизу журчала речка, за ней до горизонта уходила степь, с редкими кустами и невысокими холмами вдали. Позади, за домами деревни, огородами и лоскутами пашни, виднелся лес. Солнце стояло уже совсем низко; в небе зажглась первая вечерняя звезда.
— Места здесь красивые — сказал боец с перевязанной рукой — как война кончится, может быть приеду рыбки половить. С обрыва того, среди цветочков сидя. Скоро уже победа — и по домам. Первым делом, по улице героем пройдусь — звезда на фуражке горит, ремни скрипят, сапоги сверкают. Затем хозяйство поправлю, корову куплю, хату обновлю. Хороши конечно электрические фермы и трактора, как у Гонгури — но покамест и корова в хозяйстве очень полезна.
— О чем мечтаешь, деревня! — презрительно отозвался матрос — как война кончится, так будет вместо фронта трудфронт: строить, себя не жалея, и за планов выполнение биться, за тонны металла и угля, за урожай, за науку всякую передовую. Сказал Вождь: чтобы коммунизм победил, каждый должен способствовать, любым делом своим, словом и мыслью — каждую минуту. А ты — цветочки, корова, еще смородину у плетня вспомни! О своем мечтаешь, не об общем — значит, не в полную силу тянешь, и объективно, трудовому народу ты враг! А знаешь, что с врагом народа трудового делать положено?
— А ты не пугай, флотский! — сказал перевязанный, пытаясь свернуть цигарку — уж я в такую силу тянул, что врагу не пожелаешь, с мое пережить! За революцию я с самого первого дня, потому как происхождения самого бедняцкого: сперва батрачил, после солдатчина, раз-два в морду, как стоишь перед их благородием, скотина. А тут война — и шесть лет в окопах, где холодная вода по колено, а вшей с себя горстями собираешь — три года на фронте за народ трудовой, как до того еще три за отечество. На войне о завтрашнем вовсе не думаешь — там каждый день живым тебе, как подарок от бога, то ли будет, то ли нет, так что первый раз сегодня, помечтать право имею. А если сам ты такой сознательный, и за народ — так баб тех сегодня зачем прикладом?
— А нечего хлеб прятать! — зло бросил матрос — чтоб на базаре продать с прибылью, когда нам в паек одни сухари несвежие! Знаешь, что с клепальщиком тем стало — это ж я товарищу Итину про него рассказал? Через неделю, пришел он домой второй раз — жена с малыми в могиле, а в комнате пусто: все на рынок снесли, за еду. Умерли от голода — когда там мешочники поганые хлебом торговали, взял тогда клепальщик гранату — и на базаре том прямо в ряды! Патруль тут же — и в чрезвычайку его, ко мне. Законов мудреных я не знал, и судил по справедливости: наш провинился — на фронт, контра — сразу к стенке. А что тут судить — потому как сам так же бы сделал, отпустить хотел, и говорю — иди, но если еще раз, то на фронт тебя, без жалости. А он в ответ: сам желаю, чтобы на фронт, потому как жить мне теперь незачем! Уважил — а после пошел сам с хлопцами на тот базар, и всех, кого с хлебом поймали — в расход на месте! Гадье спекулянтское — всегда давил и давить их буду, как клопов! Ты не о них думай — о наших, кто сейчас без хлеба! Или забыл, как в городах весной — суп из крапивы ели?
— Зимой и крапивы не было! — сказал кто-то из бойцов — пайки лишь тем, кто в цехах, заставляли под надзором есть, чтобы семьям отдавать не смели — чтобы силы были у станка стоять! А иждивенцы — как могут! Приходила соседка к соседке, с дворовым комитетом: у тебя, Матрена, трое детей, и все живы еще, значит запасы какие-то втайне имеешь, показывай давай! На смену идешь — а навстречу тела мертвые на саночках везут. Не приведи господь — еще раз пережить такое!
— Нам все ж паек казенный положен — миролюбиво сказал перевязанный — хоть и сухари, а все еда. А этим как теперь быть, с их детьми малыми? Мир завтра будет, придешь ты домой — а там другой такой как ты постарался, и что тогда? В кого тогда — гранату? Если твою семью сейчас — тоже вот так?
— Верно! — сказал еще один боец — у меня вот тоже, жена с малыми в деревне. Земля у нас не пахотная, все леса, урожай чуть, самим едва хватает, а лишку и вовсе нет. А закон о хлебосборе — для всех один. И думаю вот — а вдруг, вернусь, а там — как здесь?
Все смотрели на матроса — а тот не знал, что сказать. Тогда заговорил сам товарищ Итин — и все обернулись к нему, в полной тишине. Потому как был товарищ Итин первым сподвижником самого Вождя — а значит и всей революции. И голос его был — как окончательный вердикт, спорить с которым могла лишь явная контра. А с контрой спорить не положено — ее следует уничтожать без всяких слов, как последнюю ядовитую гадину.
— Война идет — сказал он — как на войне, когда страшно в атаку подняться, под пули — а встаешь, чтобы победа была. Так и здесь — классовая война, она через каждого проходит, и никому нельзя в стороне. Отсидеться, о себе, семье своей заботясь — или хлеб свой долей в победу общую отдать? Не для себя забираем — ради дела великого и праведного. Потому что мы, Партия — авангард: лучше знаем, как всем распорядиться. Пусть даже против воли несознательных, кому свое дороже, это как — из окопа подняться страшно, и тебе взводный стволом в зубы. Убьют — так убьют. Голод — что делать! Потому ты, товарищ, думай — может, хлеб, семьей твоей сданный, хоть на шаг малый победу нашу приблизил. Ради счастья будущего — кто сам не доживет, так дети их счастливы будут. И потому, как трудно ни было — одна у нас всех дорога, скорее вперед. Зубы стиснув, кровь свою на камнях оставляя. Мы себя не жалеем — а прочие пусть хоть тыл нам обеспечат. Трудно им — а кому сейчас легко?
Все молчали. Лишь трещал костер, выбрасывая снопы искр. Кто-то рядом подбросил дров, стало светлее.
— Может, так оно и есть — наконец произнес перевязанный — у нас в батальоне конь был, Орлик. Просто чудо, а не конь. Геройский — однажды командира раненого спас: лег рядом, чтобы взобраться легче, и сам в тыл отвез. Умный — сразу соображал, откуда стреляют, где враг, где свои, и мины на дороге — как собака чуял. Год целый с нами был. Когда из окружения выходили, в лесах вяземских — других лошадей съели, на него рука не поднималась. Но день последний настал — кругом болота, чащоба непроходимая, и ни крошки нет. Мы уж терпели все, как могли — но сил нет, пришлось и его. Он сразу понял все — как человек плакал, кричал. Тошно всем было. А в ночь следующую — на прорыв пошли. Сначала молча, а как обнаружили нас, так не за свободу, за пролетариат, даже не «ура» обычное, а «за Орлика!» — и с такой злостью вперед, что в траншее вражьей никого живого не осталось! Так вот и вышло — победа наша, за жизнь невиноватого животного. Может, коммунизм оттого чуть ближе стал. Коммунизм — где все по правде будет, по справедливости.
— Скорее бы… — ответил другой боец — устали уж все. Увидеть хочется — ради чего. Какая она — жизнь, за которую боролись. На Июль-Корани, когда мы под огнем залегли, головы не поднять — подбегает к нам партийный, знамя в руке, и орет — вперед, в самый раз последний, и войне конец, по домам! Жить всем хочется, и дома шестой год уж не были — но еще больше увидеть охота, какой он, коммунизм, строй обещанный, самый справедливый. Встали мы дружно и пошли. А партийного того сразу убило.
— Партийных уважаем: за спины наши не прятались — сказал третий — помню, впереди всех шли, со знаменами алыми, в черных кожанках. Зная, что враг их — в первую очередь на прицел. Говорят, из полутысячи их двадцать только осталось. Зато всем им Вождь, как вернулись — самолично ордена краснознаменные вручил.
— Из нашего батальона тоже после семнадцать было живых! — мрачно ответил еще один боец — возле «трехсотой», сам видел, ров в котором танк бы уместился, и телами мертвыми доверху: так ребят и схоронили — не было сил уж разгребать. Измена, не иначе — говорят, в расход за это вывели кого-то из спецов штабных. И комдив наш — под руку горячую попал… А может — враги-изменники убили: ведь парень-то наш, рабочий, никакая не контра! Ну, разберутся — те, кому надо!
— А ну, отставить нытье! — рявкнул матрос — я вот тоже на Июль-Корани был, однако больше всего там другое помню! Как стоим мы после на самом гребне, среди окопов и блиндажей разбитых, солнце внизу на рельсах играет, и кажись, даже море вдали видать. И такая радость огромная, что победа наша — душа поет! А в память наших, кто там остался — после победы памятник поставим гранитный, в сто сажень высотой, чтобы за сотню верст было видно. Боец каменный со штыком склоненным — а на постаменте золотом имена всех, кто там погиб. И поезда мимо — гудок будут давать. Так Вождь сказал — значит, будет…
Июль-Корань брали весной — всего лишь пять месяцев назад. Гелий с восторгом слушал рассказы товарищей — как на неприступные высоты, залитые бетоном укрепрайонов, шли в атаку краснознаменные дивизии и полки — как на параде, в полный рост, с песнями, под музыку оркестров, через бешеный огонь врага, минные поля и колючую проволоку в десять рядов. Он жалел, что не был там, не успел — слушая о деле, которым через столетия будут гордиться свободные граждане Республики Труда:
— Пуль не замечали — как на параде шли. Раненые строй не покидали — пока могли шагать.
— Заранее приказ был — только вперед. Чтобы, если командиров всех убьют, все знали — вперед, и никак не иначе.
— Танки наши горели — а экипажи не выскакивали, стреляли. Чтобы — еще хоть один выстрел по врагу. И сами уже спастись не успевали — боезапас взрывался.
Штурм продолжался день, ночь, и еще день — пока враг не бежал. Отступил, разорвав фронт надвое — на востоке, все дальше откатываясь в степи, за Каменный Пояс, его воинство быстро превратилось в скопище разномастных банд, а на юге белопогонники бежали до самого Зурбагана. Это была победа, полная и окончательная; дальше врагу оставалось лишь то, что в ультиматумах именуется «бессмысленное сопротивление».
— А все ж на Шадре тяжелее было — заметил перевязанный, свернув наконец самокрутку — у Июль-Корани мы все-таки уже наступали, а там — неясно еще было, кто кого.
— Это кому ж неясно? — сразу подскочил матрос — ты что, сомневался, что коммунизм победит?
— Я на плацдарме был — сказал перевязанный — на том самом, за рекой. Такого пекла — за все шесть лет не видел: утром переправляют свежий полк нам в помощь, три тысячи штыков — к вечеру и на роту из него живых нет! «Градом» накроет — кто под залп попадет, ни тел не находят, ни самих окопов: лишь земля как сквозь сито сеяная, и в ней то подметки клочок, то осколок затвора! В дивизии Крючкова я был — в бою том самом, где он погиб..
— Помним Кузьму нашего — вставил кто-то — боевой был комдив! Просто воевал, и понятно — где враг? Вперед, и за мной! И в самом деле — в Шадре утоп, пораненый, как нам рассказывали?
— Не видел: врать не буду — ответил перевязанный — может, и в самом деле, утоп. Хотя говорили, сам слышал, что Кузьма наш все ж доплыл, но от ран уже на нашей стороне помер. А другие — что в бою его убило, еще до того. От всей дивизии после того боя едва батальон остался — а я даже не ранен был! Будто бог меня берег — и вот сегодня, в пустячном деле пулю поймал! Ничего — недолго уже до конца: как-нибудь доживу.
— Перекрестись — сказал второй боец — я, когда последний раз ранен был, выздоравливающим в команде при чрезвычайке состоял, до того как снова на фронт…
— В которой? — с интересом спросил матрос — давил я безжалостно контру, поскольку она, проклятая, сама подыхать не хотела, и даже временами наступала, искоренял я ее в двух ревтрибуналах, двух особых отделах и шести чрезвычайных комиссиях. И в той самой, по борьбе с контрреволюцией, еще — по борьбе с голодом, с сыпным тифом, с неграмотностью, с бесквартирностью, с бюрократизмом. Пальцев на руке уже не хватает, а сколько вражин в расход я лично вывел — и вовсе не счесть. Потому, как по науке арифметике трудового народа больше, чем паразитов — то если каждый убьет хоть одного врага, коммунизм уже и настанет! Дело нужное — а ты в которой был?
— А бог ее знает — ответил боец — все они одинаково виноватым билеты в один конец дают. Было это, когда декрет о ценностях церковных вышел. Приходим мы в лавру, длиннорясых всех в подвал согнали, а старший наш — к их главному, архиерею или патриарху, у входа двоих на часах поставил: меня и еще одного. Двери толстые, слов не разобрать, лишь голоса. Понять можно, что наш будто того уговаривает о чем-то, то грозит, то по-хорошему просит — а тот отвечает тихо, но упрямо. Долго так прошло — старший нас зовет. Мы входим, хотим уже того вести, и тут наш старший говорит — может еще подумаете, ваше святейшество? А тот — твердо так: не могу согласиться на богопротивное дело, потому как с богом там встречусь — и что ему скажу? Ну, отправили мы его к богу — как всех. Но сколько раз я видел, как за минуту до того даже мужики здоровые хуже баб воют, а тех поставили мы у стенки прямо там во дворе, так они на нас смотрели, будто сейчас не им умирать, а нам. Кому лучше знать — может, и впрямь там есть кто-то? Ведь верят же отчего-то — уж сколько лет!
Солнце заходило — небо горело желтым, оранжевым, багровым; на востоке же оно стало уже темно-синим, цвета густых чернил. Ветер стих, от нагретой за день земли исходило тепло; пахло лугом, сеном, травой. Горел костер, и в небе как искры загорались звездочки — одна, другая, третья.
— Нет бога! — заявил матрос — все лишь выдумки поповские, чтобы легче народ грабить. А на небе там никакой не рай — такие же солнца, как наше, только далеко. И живут возле них такие же люди, как мы. Верно, товарищ комиссар?
— Верно — сказал Итин — как есть другие континенты за океаном, так есть и другие планеты у далеких звезд. И живут там люди — может, кожа у них зеленая, или рост вполовину нашего — так ведь и в Африке народ на нас непохожий, а уж возле другой звезды… И правильно написал Гонгури — как у себя мы обустроимся, туда полетим, справедливость нашу нести. Может, помочь кому надо, своих эксплуататоров скинуть.
— Поможем — подтвердил матрос — пусть партия только укажет. Как у себя последних паразитов выведем, к звездам полетим, может быть и подсобить кому надо.
— Страсть как взглянуть на будущее то хочется — сказал кто-то из бойцов — так ли будет, как у Гонгури написано. Корабли летающие, города под стеклянными куполами. Выйдешь, глянешь — а небо цвета другого, и солнц на нем не одно, а три!
— Деревня! — насмешливо сказал матрос — куда выйдешь: ведь купол над городом оттого, что воздуха нет! Или — ядовитый он. Не сможешь ты там — под открытым небом.
— Зачем тогда туда лететь? — спросил боец — зачем город строить, ведь это ж сколько труда? Если все равно там — жить нельзя?
— А если там минерал ценный есть? — ответил матрос — как на Каре. Сам я там не был, но кто каторгу ту прошел, говорят: там даже крысы и вороны не живут. А люди — копают, в землю зарывшись, потому что рудники богатейшие; говорят, тот самый Гонгури их открыл, еще прежде чем в революцию пойти..
— Ад ледяной — сказал вдруг тихо Итин — вот, попы ад изображают: пекло, огонь, черти с вилами. Или же — холод. Лед, камни — и серое небо. Всегда серое — солнца не видно. Жизни — никакой нет. Лишь сто верст по реке, к югу — тайга. А мы бежали оттуда, вдевятером. Дошли — трое.
Все помолчали немного. Матрос сплюнул в костер, и продолжил:
— Таков-то был — зверский царизм. Ничего — это раньше нас туда гнали. Теперь мы — всякий контрреволюционный элемент.
— Нет уже там элемента, весь вымер — заметил кто-то — буржуи, к труду непривычные, и интеллигенты слабосильные, что с них взять. Друг мой в охране там был, рассказывал. Слухи ходят, трудармию туда пошлют, одну из новосформированных. Вот радость кому-то будет — войне конец, а вместо дома тебя на заполярные шахты! Или все ж брешут? Понятно, металл республике нужен — так ведь можно еще контры наловить?
— Не в том дело! — твердо заявил Итин — все построим: города, заводы, корабли. Но не это главное — а то, чтобы люди все изменились. Чтобы каждый себя спросил: ты сейчас делом своим, словом и даже мечтой помогаешь приблизить, или наоборот? Чтобы каждый сперва за общее дело — и лишь после за себя. Впервые сейчас мы историей командуем, как машинист паровозом: куда мы захотим, туда она и двинется. — Паровоз без рельс не пойдет — заметил перевязанный боец — ему тоже путь надобен.
Солнце наконец ушло за горизонт — хотя закат еще горел багровым. Ветер совершенно стих, было тепло. Звенела река. А в небесной вышине одна за другой проступали звезды — крест Лебедя, клубок Стожар, ковш Кассиопеи, змея Дракона, линия Орла и лоскут Лиры — похожие на искры костра, взлетающие к небу. Сидя у этого костра на голой земле, среди верных товарищей, Гелий слушал их разговор и думал, как прекрасна жизнь в переломные эпохи истории — когда каждый день проходит не просто так, а приближая к великой цели — и как хорошо при этом быть молодым, знать, что лучшее — впереди, и верить в самую передовую идею, освещающую путь негаснущей красной звездой — быть воедино со всеми при самом передовом и великом свершении в истории человечества.
Неба утреннего флаг Каждый день — к победе шаг. Или смерть, или победа. Сдайся враг, замри и ляг!— Как взглянуть хочется, своими глазами — решился вставить он и свое слово — я бы всю жизнь отдал за один день там. И зачем Гонгури героя своего в конце назад вернул? Стал бы он там профессором истории, как предлагали. Зачем вернулся — из того мира в наш, обратно в тюрьму?
Все, вслед за товарищем Итиным и матросом, взглянули на него строго и осуждающе. И Гелий со страхом понял, что сказал что-то не то.
— А на тебя бы здесь рассчитывали? — сурово спросил Итин — Партия, Вождь, товарищи твои. А ты бы дезертировал — пусть даже и в коммунизм? Все захотят, куда легко — кто же тогда там встанет, где трудно? Революции — не по найму служат, а по долгу: там быть, куда дело пошлет!
— Правильно! — поддержал матрос — один раз себя пожалеешь, как сам не заметишь, что стал уже не наш, а «почти наш»: в расход пока не за что, а довериться уже нельзя. По мне, такой хуже явного врага — с тем хоть все ясно: пулю сразу! Что говорить — прочь из отряда: завтра с обозом до станции, и домой!
Матрос взглянул на товарища Итина, ожидая его поддержки. Гелий испугался, что комиссар скажет «да» — окончательно и бесповоротно. Но Итин, чуть промедлив, покачал головой — нет.
— Балуете вы парня! — буркнул матрос — я для его же пользы, чтобы гниль малейшую без жалости выжигать! Как к зубодеру идти — если вовремя, так чуть только, а промедлишь — и весь зуб рвать надо! Урок ему будет — как коммунизму правильно учиться!
— На первый раз — простим! — ответил Итин — по первости и молодости.
Матрос хотел что-то сказать — но промолчал. Другие тоже молчали. Раз товарищ Итин сказал — так и будет.
— У нас тоже в полку, в команде музыкантской был такой же малый, даже еще младше — сказал наконец перевязанный — из гимназистов был, и потешались мы над ним, и шпыняли почем зря, и не по вине, как прежде старослужащие молодого. А сейчас бы встретил — место бы свое у костра этого уступил, и паек последний отдал. Потому что спас он нас всех — оказался тем самым барабанщиком, о котором песню сложили:
Заковали барабанщика в цепи Посадили в каменную башню Самой страшной мучили пыткой Но не выдал он военную тайну.— Не барабанщик был, о ком песня, а трубач — сказал второй боец — у Июль-Корани было, когда полк у «трехсотой» залег, огнем прижатый, и начали по нам уже их минометы пристреливаться. Надо вперед, броском — хоть половина добежит, и в штыковую — иначе все там останемся, и без пользы! А не решиться никак, потому что пулеметы — головы не поднять! И встал тогда первым трубач наш шестнадцатилетний, во весь рост, трубу вскинул — и сигнал к атаке, а вокруг него пули и осколки дождем. Если уж он — нам лежать стыдно стало: поднялись мы все дружно, штыки вперед, и пошли. А что после с ним случилось — так никто и не видел, из живых. И тела нигде не нашли.
— С кем спорить будешь: на моих глазах все было! — отмахнулся перевязанный боец — когда мы, с марша уставшие, все уснули, и тут «лешаки» подкрались, и часовых успели уже без выстрела снять.
— Не было никаких «лешаков» — сразу встрял матрос — были лишь обычные банды, каких много. Никто их толком не видел. Да если и были — с любым врагом просто: как увидел, так убей!
— Да где ж это видано, чтобы банды на воинскую силу первыми нападали? — усмехнулся перевязанный — а кто близко их видел, не расскажет: не оставляли они живых. Сам не раз помню, как караульные наши, к ночи заступая, молились — пронеси! В гарнизонах было опасно — а уж обозные в одиночку даже под расстрелом ездить отказывались, хоть среди дня! Оно и правильно — и не доедешь, и найдут тебя после на дереве висящим, со всеми поотрезанными частями.
— «Лешаки», потому что летом они были во всем пятнистом, мохнатом — сказал второй боец — чтоб в двух шагах не разглядеть, особенно в сумерки. Сам не видел — другие рассказывали. А зимой они бегали в белом, с двумя парами лыж, на одних сам, к другим мешок меховой, с патронами и провиантом, на веревке сзади едет, как сани, вот и все тылы, по лесу напрямик — быстрее, чем мы по дорогам. Или на елку влезет, мешок за собой подымет, снег следы заметет — и сидит в мешке спальном, как в гнезде, наших выцеливая. У них у всех автоматы были, а если винтовки, то с оптикой. Еще мины ставить умели — за ними гнаться по лесу, так медленно и под ноги глядя, а то в клочья порвет.
— Особенно на дороге железной — сказал третий боец — каждый день поезда наши под откос пускали. А мы охраняли — страшнее было, чем на передовой. Идешь так по путям, солнышко светит, а в голове одно: вдруг из леса снайпер уже нацелился, сейчас стукнет — и нет тебя!
— На войне так: уж чему быть… — ответил перевязанный — однако про барабанщика я не досказал. Отошел он в елки, по нужде какой, или еще зачем, только барабан свой отчего-то прихватив…
— Барабан-то зачем? — спросил кто-то — можно было и оставить.
— А бог весть — ответил перевязанный — может, оттого что вещь казенная. А может, опасался, что мы шутку какую устроим. Только отошел он — и увидел, как подкрадываются. Схоронился бы, может и не заметили — но ударил он тревогу, всех разбудив. А «лешаки» все ж в открытую драться не любили, больше врасплох. Схватили мальца, и в лес — а что они с пленным нашими делали, не приведи господь: уж лучше сразу, чем им в руки живым… Так мы после все просили, чтобы его не в без вести пропавшие писали, а в павшие геройски. Хоть так — если уж нам теперь прощения у него за все бывшее не получить.
— У нас потому многие «круглыми сиротами» записывались — вставил слово еще один боец — только очень плохо тогда, без писем из дома, чтобы не узнали. Опять же, наоборот — если что геройское совершишь, семье добавочный паек положен. Может и нужен был такой указ, да только не по правде это. На войне всякое бывает: сгорел, завалило, не нашли — тебе уже все равно, а родных-то после за что на торф?
— А ну цыц! — ответил матрос — я в чрезвычайке усвоил: если хоть одного засланного или переметнувшегося пропустить, крови после может быть куда больше, чем если даже десять невиноватых в расход! Жестоко — но нельзя иначе. После победы — может, будет по-другому, все эти презумпции, права, милосердие. Или забыли, сколько заговоров было, разоблаченных? Сколько мятежей контры — в нашем тылу?
— Может и верно, если по уму — согласился перевязанный — а все ж не по-людски так, со своими. Помню, был у нас в роте один такой — так никто с ним даже табаком не делился. Потому как знали — следит он зорко за всеми, и докладывает куда следует. Ты слово скажешь, не подумав — и тебя после так вызовут куда надо, что можешь и не вернуться. К врагам беспощадность — а своих за что?
— Это что ж выходит: ждать, когда контра вред причинит, и только тогда ее к стенке? — насмешливо спросил матрос — или лучше заранее, пока еще не успеет? Я в первую свою чрезвычайку пришел, совсем ничего не зная — так меня сразу, без всяких академий, отправили с ребятами гуся одного брать, из бывших, в заговоре состоял, раскрыли вовремя. С поличным взяли, без всяких сомнений — дело ясное, в расход, прямо во дворе! Квартира господская, обыск — тут же жена, дети. Заметил я, что мальчишка, лет десяти, на нас смотрит, как зверек лютый — и старшему сказал, мимоходом — а мог ведь и забыть! Так старший приказал — мальца тоже! А мне выговор сделал — что едва не прозевал: вырос бы после убежденный враг трудового народа, и что бы успел натворить? Добрыми после будем, когда коммунизм настанет — как у Гонгури: не судить, а лечить — потому как если кому тот порядок не понравится, так он точно сумасшедший! Мы все ж с разбором — только явную контру в расход, а если свой слабину показал, но можно еще его в строй обратно — так на фронт его, чтобы кровью своей доказал и искупил!
— Все ж правильно тебя из чрезвычайки за перегибы вычистили — заметил перевязанный — рядом с тобой быть, что с танком! Свой ли, чужой — все одно задавит, если под гусеницы угодишь. Контру в расход — это, конечно, хорошо. А гансов ты много к небесному фельдмаршалу отправил, флотский? Или — не приходилось?
— Не приходилось! — буркнул матрос — в год, как та война началась, я малолетком был, как этот вот поэт! В подвале родился — там же вырос. К мамке, пьяные приходили — меня, на улицу, в дождь ли, в снег. А после, на деньги те, она мне — хлебушек, теплый еще! Я тоже, как подрос — добывал, что, где и как мог. Сытых и чистых — ненавидел, люто! В день тот, мне семнадцать стукнуло — и мамка мне двугривенный, на кинематограф. Билет уже купил — до сих пор, обидно! А тут этот, с барышней, в костюмчике, одеколоном воняет, тросточкой меня, хлесь! И говорит, со скукой — посторонись, шлюхин сын, дай пройти! Во мне как взорвалось все — ах ты!!! Хорошо засадил тому в рыло — он аж полетел! Мамзеля в крик — и ей в морду! Городовой подбегает — ну, все, думаю, засудят — и ножиком его, в пузо, хороший ножик был, не раз меня так выручал! И деру, через дворы — а сзади крики, свистки! А дальше что — найдут ведь, знают меня, запомнили — сколько прежде в участок водили! К мамке заскочил, проститься, перед тем как в бега — а она и надоумила: лучше сколько-то лет на службе воинской, чем десять на каторге гнить — и чист будешь перед законом, если добровольно завербовался! Я послушал, год себе приписав — и вот… Через неделю уже — и война! Нашли меня все ж — бумага пришла, да только сказал наш господин капитан второго ранга — пусть шпаки ордером тем подотрутся! А после меня вызвал — и отделал, как бог черепаху, кулаком и сапогом! И обещал после — это пока лишь завтрак тебе, за то что я тебя, шпакам не отдал — коли плохо будешь государю и Отечеству служить, я тебе такой обед с ужином устрою, пожалеешь, что родился! Что делать — стал смирно, зубы выбитые сплюнул — так точно, вашбродь! Ну, отъелся на харче казенном, даже нравится начало — мечтал по молодости, как гансов разобьем, и я к мамке, унтером бравым, с двумя крестами, любому городовому — в рыло! Только узнал я, что есть такой социализм, при котором — кто был никем, тот станет всем! И случай подвернулся, одному товарищу, из Партии нашей, помощь оказать, какую не скажу, потому как секрет. И что-то расхотелось мне за буржуазию кровь проливать — сумел подсуетиться, чтобы в роту обеспечения перевели, при учебном отряде. А товарищ тот меня крепко запомнил — и в Партию рекомендовал. А с господином капитаном второго ранга — самолично я после счеты свел. За зубы выбитые — и за мамку свою: зарезали ее через месяц, как я ушел. Потому, целью жизни своей считаю — истребить буржуазию как класс. Чтобы, когда небесный фельдмаршал призовет, сказать — меня ты достал, гнида, но и сволочь свою, которую я к тебе отправил, обратно на землю даже ты не вернешь! А значит людям — жить чуть легче, если сволочи меньше по земле ходит.
— Однако ж, из чрезвычайки тебя вычистили! — насмешливо заметил перевязанный — значит, не того все ж отправил?
— Я и сейчас убежден, что тех гадов в расход вывел правильно: чего разбираться, когда и так видно, что контра? — зло бросил матрос — только сказала мне партия: классовую ненависть твою ценим, однако иди теперь лучше туда, где никого стрелять не надо — на борьбу с беспризорностью. Сперва я конечно, огорчился — но понял потом, подумав, какое это большое дело: сколько ребятишек война осиротила, и всех их надо учить по-новому жить, в равенстве и счастье. Чтобы в строй наш они скорее встали, что на трудфронт, что в битву.
— Надо — поддержал кто-то из бойцов — у меня вот трое малых дома ждут: без отцовского взгляда да солдатского ремня горько жене придется. Ничего — скоро уже. Письмо пришло — ждут. Голодно, конечно — но все живы.
— А мои молчат — мрачно сказал еще один боец — все писал им, и без ответа.
— Найдутся, дай боже — ответил тот, кто говорил до того — а если нет, вон сколько жен безмужних осталось… И детишек — которых в детдома не успели забрать.
— В детдоме хоть кормят — заметил еще кто-то — моя вот зимой сама сына нашего отвела: думала, уж если помирать с голодухи, так себе одной. Обошлось — хотела в мае обратно взять, так не отдают! Я и написал в ответ — ладно, пока пусть побудет, а как я вернусь, так вместе и пойдем. Ведь не может быть такого закона, чтобы живым отцу и матери сына не отдавать!
— Партия лучше воспитает — сказал матрос — как строить светлое будущее. Как вернусь — пост назначенный приму, с детишками работать. А кто у меня учиться не захочет — того я живо в бараний рог согну!
— Гни, да не сломай! — заметил перевязанный — перегибы, они и есть перегибы.
Горел костер, освещая лица людей, блеск оружия; дальше все тонуло во мраке. К бескрайнему чистому небу с треском летели искры, как маленькие звезды; такие же звезды загорались высоко над головой. Под звездным небом вокруг огня сидели люди на голой земле, и мечтали о прекрасном будущем. Внизу искрилась речка, а за ней небо словно сливалось с землей — горизонт не был виден; тьма обступала со всех сторон, разгоняемая багровыми отблесками пляшущего огня.
— Какая жизнь настанет, как коммунизм придет! — сказал матрос — где не будет мерзавцев, трусов, подлецов и иуд. У каждого спросим: что ты сделал для победы? Лучших — всех в лучшую жизнь возьмем. Мразь всю — сразу в расход. А о прочих, равнодушных и бесполезных, даже рук марать не станем — в рудники Карские, или на торф, для общей пользы, чтобы хоть что-то с них. Мы построим светлые города, как в книге, и жить там будем, как герои Гонгури — а они вымрут все, как когда-то звери динозавры. Не стоят они ни памяти нашей, ни слов!
— Это верно! — заметил кто-то — бабы наши совсем на торфе надорвались: пора им и отдых дать. Мою вот как забрали весной еще — так до сих пор не отпускают.
— Отставить! — сказал матрос — после победы о бабах и цветочках поговорим. Ну-ка, молодой, спой нам, чтобы воодушевило.
Это было время, когда песни сочинялись не в залах консерваторий, а у походных костров; их пели на привалах между боями, в марше или даже в атаке — шагая, пока вражья пуля не вырвет из рядов; песни эти были не о красоте, любви и прочем — а о славных и великих делах, и о еще более великом и прекрасном будущем, ради которого не жаль погибнуть. Гелий взял гитару — как на каждом привале до того. Все повернулись к нему, приготовившись слушать, или даже подпевать.
Там вдали за рекою пылали огни — Как заря в небесах догорала. Сотня юных бойцов, против вражьей брони, У моста всю ночь насмерть стояла. И сказал командир, обернувшись к бойцам — Про тот берег забудьте, ребята! Если дрогнем — пойдет враг по нашим тылам. И лишь мы будем в том виноваты. И бросались под танки с гранатой в руке — В ночи битва грозою гремела. Отражались зарницы в кипящей реке. И земля, будто уголь, горела. До рассвета держались — но нет больше сил. Дальше биться — и некем, и нечем. Снова танки идут, час последний пробил. В небесах гаснут звезды, как свечи. И погибли герои, все сто, как один. Пали с честью во славу народа. Отдал каждый из них свою юную жизнь, За великое дело свободы. Уж давно за рекою погасли огни. И на небе заря догорела. Эй, товарищи! Встанем же все, как они — В битве насмерть, за правое дело. — У нас по другому пели — сказал кто-то — начало такое же, а дальше: И градом снаряды, и мины летят, И танки врага перед нами. Идут, надвигаются за рядом ряд — Земля вся дрожит под ногами. Прощайте, товарищи, час наш пробил — Держаться и некем, и нечем. От нас не останется даже могил — Сгорим мы в окопах, как в печи. Не скажет никто, где навек мы легли, В любви к трудовому народу. Мы отдали все для него, что могли, За жизнь его, честь и свободу.— Как кому нравится, так и поют! — заметил товарищ Итин — главное, чтобы суть революционная осталась неизменной, ну а что на виду, то как кому удобнее меняй!
— Скоро уж другие песни будут — сказал кто-то из бойцов — как война кончится, и по домам. Это правда, что на Июль-Корани себя не жалели — потому что думали, что в последний раз. А вот поди ж ты — уж скоро осень.
— Не будет больше зимы голодной и холодной — решительно произнес товарищ Итин — говорил я с Вождем перед самой нашей отправкой, и сказать могу — до зимы войну мы закончим. И начнем сразу строить — как в книжке той.
— А что еще Вождь сказал? — тотчас же спросил боец — о революции мировой, о помощи пролетариата? Когда они там нас поддержат, чтобы не все одним тянуть?
— И как с хлебом будет? — спросил другой — сразу хлебосбор отменят? Чтобы по правде — кто больше работал, тот и лучше ел?
— А нас сразу по домам — или еще придержат? Понятно, без армии народной нельзя — но и дома заждались. Закон значит должен быть — кому куда.
Все придвинулись ближе. Горел костер — в далекой, забытой богом степи. А где-то далеко был красный Петроград, где уже строили Дворец Труда и Свободы — такой, как в книге Гонгури. Сто этажей — до самого неба. Залы собраний — где Партия будет решения судьбоносные принимать. Театр — где не пьески слезливые будут показывать, а феерии героические, как революция совершалась. Музей — где не пейзажи будут выставлены, а достижения трудфронта. И конечно, квартиры с госпиталем — для тех, кто ради дела великого здоровья своего не жалели. А на крыше — статуи мраморные, всех борцов за свободу народную, начиная от Спартака. И звезды рубиновые — с электричеством внутри, чтобы небесные звезды затмевали. Дворец, огнями сверкающий, до небес — после грязных трущоб, из прежней жизни.
— Тихо, тихо! — ответил Итин — не все сразу. Говорили мы с Вождем долго, и обо всем. Трудные годы позади остались — но другие дела нас ждут, тоже нелегкие. Но сказать обо всем сейчас никак нельзя, потому что не положено. Не всем подобает знать.
— Мы завсегда за революцию — сказал боец рядом с перевязанным — не выдадим. Неужели и нам — нельзя?
— А вот и не все! — вдруг гаркнул матрос, сторожко всматриваясь в темноту — а ну!
Все расступились, как по команде. На месте, вдруг оказавшемся пустым, стоял тот, кого звали Шкурой. Он был без винтовки и даже мешка, с одной миской в руке.
— Жрать пришел? — спросил матрос — ладно, клади свою порцию, и пошел вон. Последним возьмешь — чтобы людям после тебя в котел не лезть. А посуду общую потом все равно вымоем.
Все поспешно потянулись к общему котлу с кашей. Разговор сразу стих, стучали миски и ложки. Шкура стоял, отвернувшись, и молчал.
— Чего вынюхиваешь? — спросил матрос — ох, попался бы ты мне, когда я в ревтрибунале служил, или в чрезвычайке! Потому как правильно сейчас сказал товарищ комиссар — надо не просто мир новый построить, все эти заводы и города, но и материал человеческий просеять и очистить, как шлак ненужный выгнать из руды. Отличные ребята гибнут, как те сто у моста — как же такие как ты могут живыми оставаться?
Шкура медленно повернулся. Глаз его странно блеснул — будто он плакал. Отчего-то все вдруг разом посмотрели на него. И он сказал:
— Вы пели сейчас — а я там был. Я танк подбил. И последним остался — из ста.
Он смотрел на остальных исподлобья, а все смотрели на него, не зная, что ответить. Сто героев были легендой революции. Легендой — которой все верили. Никто из тех ста — не мог предать.
— Врешь, гад! — сказал матрос.
— Как вернемся, в бумагах проверьте — был ответ — там все записано. Оттого меня и не расстреляли — позволили искупить.
— Ну, ври давай! — разрешил матрос — расскажи, как товарищи все погибли геройски, а ты руки поднял!
— Я танк подбил! — последовал ответ — десять гранат последних осталось, и десятерых нас выбрали, из тех, кто еще не ранен. Я сам вызвался, добровольцем. Все ползли, и под танки, с гранатами вместе, кто сумел — а я прикинул, что и так попаду. Швырнул — и подбил. Я еще на подготовке первый был — хорошо научился гранату метать. Зачем помирать — если можно и танк подбить, и самому живым? Подбил — и вернулся.
— Ты с самого начала расскажи — велел товарищ Итин — а мы послушаем. И решим — можно ли тебе с людьми у костра.
Все раздвинулись еще шире, сели — на бревно, на камень, или просто наземь. Один Шкура остался стоять — на освещенном месте у костра; товарищи смотрели на него из темноты. Миска в руке ему мешала, он положил ее прямо у котла. И заговорил, глядя больше туда, где сидели рядом товарищ Итин с матросом.
— Сто шесть нас было. Рота маршевая, в пополнение нашей Второй Пролетарской дивизии. Все — питерские, с заводов, добровольцы — по мне, чем в цеху загибаться, с голода и работы непосильной, лучше на фронте, геройское что совершить. Провожали нас с оркестром, девчата подарки дарили, всякие там кисеты и варежки. Знамя даже было свое — у роты нашей, как у полка, завкомом врученное.
— Ты по делу давай — сказал матрос — что у моста было, как в плен попал.
— Так я по делу — был ответ — из-за знамени того отчасти и случилось. Шли мы весело и бодро, боялись даже — не успеем: как раз первое наступление наше тогда началось, и белопогонники вроде даже бежали. Путь враги впереди взорвали — так мы с поезда выгрузились, и ждать не стали, к фронту с песнями шли — у костров так же ночуя. Как мы сейчас — не зная, что живыми никто уже из своих нас не увидит.
— По делу говори! — рявкнул матрос — а паникерство брось!
— Только мост перешли — танки впереди. Повезло, что заметили первыми издали, и что у моста окопы старые были: чуть раньше или позже — в чистом поле нас бы раздавили в минуту. И еще — вечерело: они тоже, сил наших не видя, поначалу с опаской лезли, больше прощупывая. Только тем и держались — против танков, у нас на всех лишь гранаты и два ружья бронебойных. Двоих мы назад послали предупредить — даже без винтовок, налегке. Узнал я после — их за паникеров приняли, и до утра под замок, не разбираясь. Мы зря ждали, что наши вот-вот подойдут — а ночь и прошла. Утром те двинули — будто у нас целый полк в укрепрайоне: сначала по нам артиллерией, затем танки, и броневики с пехотой. Стали было мы коробки их ползущие считать — тоже до сотни дошли, и бросили: и так ясно, что конец. А гранат всего десять осталось, патроны тоже почти все… Десятеро нас вызвались — а дальше я сказал…
— А после? — спросил матрос — как в плен попал? Сам сдался, или раненым взяли?
— Нас в окопах заживо жгли, огнеметами с броневиков! — крикнул боец — а у нас уже ни гранат, ни патронов, командира убило, и погибать лишь осталось, без всякой пользы! Видим, сзади кто-то в реку — думаем, приказ был, отступать, поскольку держаться уже нечем и незачем. Кто сумел, прыгнул следом — плывем, как комдив Крючков, а по нам с берега очередями, сами в полный рост, уже не таясь. Трое нас лишь доплыли — кто с краю справа был, течением за поворот в камыши снесло. Вылезли — на всех один карабин с неполной обоймой, сапоги и то скинули в воде. И знамя — у того, кто первым нырнул, знамя было на себе — а мы решили, что отступление. Ладно — сами живы, а раз знамя цело, то оправдаемся. Версту только отошли — слышим, танки уже на нашем берегу. Мы в овраг — лежим, смотрим. А они мимо — танки, броневики, машины, артиллерия. Тот, кто со знаменем был, не вынес, взял карабин, и пальнул. А те — даже не остановились, лишь две машины в нашу сторону свернули, с них попрыгали, нас окружили, и орут — выходи, гранатами закидаем!
— И вы им знамя отдали!?
— Зарыли — ответил боец — успели, пока нас окружали. И знамя, и книжечки красные. Там же, в овражке. А потом что делать — руки кверху, и выходь. Ну, помяли нас слегка прикладами и сапогами, допросили. Тот, кто со знаменем был, офицеру в лицо плюнул — его тотчас же в сторону, и расстреляли. И второго — за то, что слова дать не хотел. А я — если бы граната еще была, взорвался бы, но без пользы зачем гибнуть?
— Зачем!? — сказал товарищ Итин — да чтобы враг знал, что убить нас можно — но не сломить! Чтобы враг оттого сам в победу свою не верил, и без смелости шел — а значит, на товарищей твоих оставшихся натиск был бы чуть легче! Всем жить хочется — но если тебе умереть вышло, так человеком умри, чем гадом жить!
— Я танк подбил — крикнул боец — не то что иные. Я честно воевал — пока мог!
— Пока мог? — усмехнулся матрос — это любой обязан! А сверх того?
— С революцией торгуешься? — сурово спросил Итин — считаешь, за что и сколько, как на базаре? Себя — наравне с революцией считаешь? Даже не за трусость — за это тебя судим. Коммунизму — ты все должен с радостью отдать, без остатка и без приказа. И принять от коммунизма и революции — все, без сомнений и обиды. Это для обывателя справедливость — за что и сколько, а для коммуниста — чтобы для дела было лучше, а уж после себе, что останется и как повезет. Вот когда это ты поймешь, тогда и станешь снова — наш. А пока здесь, у костра нашего — только люди сидят. Те, за кого — в огонь и в воду. А тебе — доверия нет. Уходи.
Шкура медленно скинул ремень, задрал гимнастерку. На груди его Гелий увидел шрамы, как клеймо — пятиконечную звезду.
— Шомполом каленым выжигали — сказал он — тут же, нагрели на огне быстро, и в пять ударов. Как знак, что отпущен под слово больше не воевать. Свое слово, по доброй воле данное. Поймают если теперь, сразу в расход: это не билет красный, не зароешь. А я вот — с вами. И винтовка со мной.
— Вот и посмотрим — ответил Итин — сознательность в тебе это заговорила, или страх, чтобы презрения товарищей избежать. До конца похода посмотрим — а сейчас иди!
Боец молча встал и ушел в темноту. Ночи пока не были холодными, и ему можно было спать где-нибудь на куче соломы. Так и было — с начала похода. А до морозов отряд вернется.
— Оно и верно — заметил перевязанный — на фронте, если себя жалеть, из окопа не встанешь. Сама жизнь тебе там — как на время даденная: в любой час могут свыше позвать и назад взять. Иди, куда старшой велит, и благодари судьбу за лишний день — вот и вся премудрость, уж шестой год с ней…
— Сказал про таких Вождь: с нами, а не наш! — сплюнул матрос — если товарищ свой, так я за него жизнь отдам, если враг или шкура какая — тоже все ясно: в расход! А такие вот, кто вроде и за нас, и воюет честно, и даже геройское что может совершить — а все одно, не за идею нашу, а за пользу собственную, за интерес? По мне, такие самые опасные — потому как не распознаешь сразу! А как прижмет — предадут!
— Ты это полегче, флотский! — неодобрительно ответил кто-то — а как же социальная справедливость, как Вождь сам обещал?
— Это какая ж справедливость? — сразу вмешался товарищ Итин — как прежде, за сколько подлостей, сколько милостей? Вот ты, товарищ, недоволен, что жену на торф — чем, по заслуге, к морю на отдых, как прежде господа гуляли! А чем топить зимой будем? Заняты все, кто на фронте, кто в тылу, от нетрудового элемента, интеллигентов всяких, проку мало — мрут лишь без пользы, как мухи. Значит, или снова мерзнуть, или мобилизовать семьи! И не торгуясь — что голод, холод, нормы непосильные: не по найму — на себя, на республику трудовую! Справедливость коммунистическая — это когда нет слова такого «я», а лишь «мы», всегда и везде. Мы — а ты лишь часть его малая. И что для нас всех хорошо — тебе больше и не надо. И это — самое трудное: за души людские биться, врага внутреннего в себе огнем выжигать. Почему крестьянин пролетариату — лишь союзник? Потому что рабочий привык, что один он лишь винтик малый, а вместе со всеми — деталь могучей машины. А крестьянин — о своем мечтает: хоть клочок земли, да мой. После победы — легко будет заводы построить, фермы и трактора…
— Построим! — сказал матрос — помню, как под Июль-Коранью мост взорванный строили, по горло в ледяной воде, чтобы эшелоны к фронту. И ведь сладили — за трое суток всего, а инженера говорили, по науке — три недели!
— Построим — сказал Итин — но главное, людей надо будет построить по-новому. Чтобы и в деревне все были вместе, как на заводах — коммунистические хозяйства общие, комхозы. Сумеем сделать так — и мужики все эти душой все за нас будут, искренне хлеб нам понесут, последний — от себя отрывая. Сейчас у нас пролетариата от общего населения — сколько-то процентов, а будет — все сто. Тогда — вперед легко и без остановки пойдем, как поезд по рельсам. И те, кто сегодня живы, коммунизм увидят — не через тысячу лет, а через двадцать, тридцать, пятьдесят. Тогда — простятся нам все жертвы наши сейчас.
Все молчали. Закат уже погас, и звезды горели в небе, как золотые яблоки. Высокое небо казалось совсем близким. От нагретой за день земли шло приятное тепло. Переливалась река. Костер отбрасывал мечущиеся тени. Все молчали — потому что после таких слов уже нечего было сказать.
— Смотрите, там еще костер — вдруг сказал кто-то — там, за рекой вдали.
Все всмотрелись: в далекой степи упавшей наземь звездой мерцала красная точка. Несколько бойцов, взяв винтовки, скрылись в темноте — разведать. Разговор отчего-то угас; все поглядывали на ставшую вдруг чужой степь, придвинув ближе оружие и занявшись обычными делами — ужином, починкой снаряжения. Кто-то торопливо доедал обед, кто-то, придвинувшись для света к костру, писал письмо, надеясь отослать завтра на станцию с обозом. Товарищ Итин сидел у костра и смотрел в пламя, о чем-то задумавшись. Гелий был рядом; впервые за поход вышло, что он с товарищем Итиным остался будто наедине.
— Товарищ комиссар! — решился наконец Гелий — я все думаю, как становятся такими, как вы. Может быть, вы как у Гонгури, из времени другого, из будущего нашего светлого — чтобы нам дорогу указать? Вы даже писем не пишете — будто нет у вас здесь никого…
— Вы у меня есть! — усмехнулся товарищ Итин — целая сотня, за кого я сейчас в ответе. А вернусь, так будет еще побольше! Потому как если прежде было, выше чин, больше благ — то сейчас, чем выше тебя поставили, тем за большее ты отвечаешь, и тяжелее цена, если выйдет ошибка!
— А все ж, товарищ комиссар! — не отставал Гелий, сам удивляясь своей смелости — как коммунизму научиться, чтобы таким как вы стать? Чтобы в тебе все правильно было, чтобы без сомнений — в новую жизнь?
— Не научишься! — решительно ответил комиссар — потому как любая учеба, это лишь для ума. Конечно, дураком быть не надо, и ум очень даже вещь полезная — да только при совести и сознательности он должен быть, как военспец штабной. Ты жизнь правильно проживи — тогда настоящим человеком станешь. Когда вспоминать будешь — каждым днем прожитым гордясь. Ты вообще откуда, родился где?
— Из Зурбагана — ответил Гелий — да только переехали мы оттуда, как война началась…
— Бывал я там, не раз — сказал Итин — литературу нелегальную мы возили, от товарищей из порта. Хороший город, красивый — жаль, что пока под врагом, но ничего, недолго уже. А я из питерских.
— Не бывал — огорчился Гелий — читал много, все посмотреть хотел. Отец мне про Питер рассказывал…
— Посмотреть хотел? — усмехнулся товарищ Итин — музеи, театры, фонтаны и прочие золотые купола? Эх, малый, из Питера я, да не из того. И набережной с мостами — считай, и не видел. В те времена прежние, в местах всяких, написано было, «рабочим и с собаками вход воспрещен» — как неграм американским! А на Невский, где дворцы и фонтаны, рабочему парню даже в праздник было нельзя — чистые все, сразу нос кривят, хамским духом запахло! И городовой тебя — в кутузку! Или «сиреневые» из охранного — им даже на улице попасться, это хуже, чем волкам в лесу! Заводы все — по окраинам стояли, вроде как и не город совсем. Наш был — за южной заставой, между железной дорогой и царскосельским трактом — рядом еще вагонный завод, электромашинный, обувной, авторемонтный, и еще несколько фабрик поменьше. Если по тракту вперед с версту — там за каналом обводным уже сам город, кварталы доходных домов, а дальше были все эти проспекты и театры — да только не для нас: это господа лишь катили мимо на загородные дачи.
Отец говорил — в деревне жить лучше. Воздух свежий, простор, дома с огородами по холмам раскинулись, лес рядом. Любил отец рассказывать, как мальцом коней гонял в ночное на луг: кони пасутся, а он окуней рыбалил. А у нас — все в тесноте, и по гудку. Казармы рабочие снаружи громадные, в два этажа — а внутрь зайдешь, теснота хуже, чем в третьеклассном вагоне. Нары в четыре яруса до самого потолка, проход между ними, только протиснуться, печка железная в углу, сундучки рядами — вот и вся меблировка, здесь же портянки сохнут, вонь, духота, лампа еле коптит. Кто семейные — те лишь занавеской огородясь. Бывало и порознь — он с вагонного, она с обувной, в своих казармах живут, лишь по воскресеньям встречаясь — но если с детьми, то обычно дозволялось вместе. Я с мамкой спал — а как подрос чуть, так на полу, под нарами родительскими. Отец приходил поздно, усталый. А мать все кашляла, болела, пыли у станков наглотавшись. Я — с десяти лет уже в цеху, подсобничал и ремеслу учился. С шести утра до восьми вечера, четырнадцать часов, только уснешь — уже гудок фабричный ревет. Первый — вставать, второй — выходить, третий — на месте всем быть. Опоздал — штраф, с мастером поспорил — штраф, без дела стоишь — штраф, прежде вечернего гудка работу бросил — штраф. Если второй за неделю — в двойном размере, третий — в тройном; бывало и вовсе, человек ничего не заработал, а должен остался — весь заработок так уходил. Хотя, без дисциплины нельзя — когда машину сложную делаем, один дурень или ротозей запросто может весь труд общий, в брак пустить!
И трубы над нами заводские. И дым из них тучей — солнца не видать. Даже травы зеленой у дома не было — от копоти сохла. Трактир у заставы — вот и все развлечение. В день воскресный — сон до обеда, затем гитара в руки, брюки клеш, штиблеты парадные начистить, и туда — песни петь, водку пить, с девчатами плясать, или морды чужим бить, с вагоннозаводскими мы часто дрались на кулачки, стенка на стенку. И щеголям городским к нам лучше не заходить — карманы вывернем и морду разобьем; однако не до смерти, не звери же мы, просто не любили чистеньких; и не было у нас никакой банды тайной и всесильной, «Черной руки», что за всем стоит, как в романах про сыщика фон Дорна — продавал книжки лоточник у трактира, по гривеннику за штуку, парни наши охотно про сыщика брали, а девчата про любовь.
Хотя историю одну знаю — как в книжке, сам видел. Работала на фабрике ткацкой девушка одна, Настя, с мамой моей в одном цеху. Красивая, и добрая, душевная очень: всем малым в слободе она как сестра старшая была. И полюбил ее один, из благородных — как познакомились они, бог весть: не говорила о том Настя никому. Не просто так, погулять — по-настоящему, замуж звал, ходил каждое воскресенье; и били его наши парни, и часы с кошельком отбирали — а ему все равно. А она — отказала. Нам, мальцам, говорила, смеясь — ну какая из меня дама, среди благородных? И куда я от вас уйду, как вы без меня будете? Так и ушел тот, напоследок Насте платье подарил красивое, и денег — так она на деньги те всем мальцам сладостей и конфет накупила, а платье и не надевала вовсе — у нас, по осени и весне, по колено в грязи утопаешь. Весной следующей ее и зарезал из ревности Степка-хулиган, в воскресенье у трактира — а после и самому ему там голову проломили в пьяной драке.
Так вот и жили. После легче стало: выбился отец мой в мастера, и начальство в пример его ставило — глядите! Кто работящ и честен, тому повышение — а кто лентяй, пьянь и ворье, так тем так и надо! Жилище стало отдельное — с виду такой же дом, как общая казарма, а всего восемь квартир: два этажа, две лестницы. Только противно было, что отец, сильный и большой, боялся до одури, что отберут, если уволят: квартира казенная была, при должности. Оттого мне, при встрече с дружками прежними, кто под нарами, хотелось — чтобы отец шапку оземь, и обратно в казарму, как все. Только отец мой, хоть и руки золотые, бойцовства вовсе не имел — обустроиться лишь хотел, себе и семье.
Все ж хорошо было, что он с лет малых к лесу, к охоте меня приучил. За слободой поле, версты три вдоль дороги железной, мост, и уже лесок за речкой: не тайга, но зайцев и уток можно было пострелять, ружье у отца было, грибы опять же, рыбалка. И в воскресенье, когда все в трактир — мы с отцом в лес, до вечера. Сгодилось это после — особенно, как из каторги бежал, по тайге. И к пьянству и безобразию он меня не приучил — тоже хорошо!
По воскресеньям — хлеб белый ели, даже с колбасой, и не кипяток уже, а чай с сахаром. Только мать недолго в доме новом жила: умерла она, когда мне пятнадцать было — у нас редко до старости доживали: в сорок лет считался уже старик. Отец погоревал, затем съездил на неделю к себе в деревню, привез вдовушку с двумя малыми. Он с ней в одной комнатке, я с малыми в другой, малыши на кровати железной, я на матрасе на полу.
Отец все хотел — меня, по колее своей покатить. Работать трезво и честно — хозяин оценит; так в мастера и выходят, лет через двадцать будешь так же в воскресенье со стариками у трактира в домино играть или в шашки, а парни заводские — с почтением по отчеству здороваться, мимо проходя. А то и на чертежника выучишься, или на помощника бухгалтера — предел это был в те времена для рабочего человека. Да только не по мне была жизнь такая, покойная и бесцветная: яркого и чистого хотелось. И чтобы по правде — для всех, и не в раю небесном, а здесь, сразу. Потому, как услышал я, что люди настоящие есть, которые за справедливость сейчас — так к Вождю и пришел, пареньком рабочим, чуть старше тебя; поначалу поручения лишь исполнял, после совсем в революцию ушел, из дома — в Партию. И с пути того — уже не сворачивал.
— Вы с Вождем вместе Партию создавали? — с восторгом спросил Гелий — как все это было? Теперь ведь можно уже рассказать — не в секрет.
— Не умею рассказывать — ответил Итин — вот на митинге речь говорить, чтоб зажигало… А романы писать — не Гонгури я! Был среди нас товарищ один — хорошо у него получалось сказки и истории разные складывать. Одна мне запомнилась. Про такой край далекий, где никогда не вставало солнце. Люди жили там в болоте, среди грязи, в холоде и темноте, не видя света и огня. Туман над болотом скрывал небо, лишь изредка были видны звезды, дающие слабый и далекий свет.
И вот нашелся среди людей — одни, кто захотел дойти до звезд и принести свет всем. Сначала он предложил идти вместе — но одни отмахнулись, занятые своими делами, другие рассмеялись, сочтя чудаком, третьи испугались далекого и опасного пути. И человек отправился один; все уже забыли про него, что он жил среди них — когда он вернулся.
Сначала все увидели приближающийся свет. Не зная, что это, все в страхе упали наземь — ожидая смерти. Когда все подняли головы — перед ними стоял давно ушедший, держа в руке звезду. Свет звезды озарил землю до самого последнего темного угла — и люди со стыдом увидели, как убога их жизнь.
Слабые духом и устрашившись перемен, они решили утопить звезду в болоте — чтобы вернулась тьма, вместе с привычным покоем. А человека — изгнать или убить, если он не захочет стать как все. Но когда подступили они, поднял человек руку — и вспыхнула звезда, спалив лучами устрашившихся. И сказал он — пойдем туда, где светит солнце, текут чистые реки и растут леса. Но не двинулся никто, боясь трудного пути. Принесший свет мог идти один — но любил он свой народ.
И приказал он — следуйте за мной. Пришлось ему покарать еще нескольких — во имя счастья всех. Пошли люди через горы и леса, терпя бедствия и отбиваясь от диких зверей, и роптали они — но горела звезда в руке впереди идущего, указывая путь. Пришли наконец они в благую землю, где светило солнце и рос хлеб. И тогда идущий впереди упал и умер, и увидели вдруг все, что звезда сожгла ему руку дочерна — но не бросал он светило, потому что любил свой народ. Тогда лишь поняли люди, что сделал для них этот человек — и поставили они ему каменный памятник, стоять которому века, и на котором золотом начертано имя его.
А может быть, не было и памятника — забыли его, или вовсе бранили, жалея павших в пути; но жил отныне его народ в той благой земле — и не нужна была герою иная награда.
Э, да ты что, записываешь? Слова мои — зачем? Ну-ка, покажи!
Гелий смутился. Тетрадь была его личным секретом. Но он знал, что у революционера от товарищей не должно быть тайн.
— Я тут с начала похода записываю… — сказал он — как дневник, и вообще… Гонгури про будущее писал — а я про наше, что видел и слышал.
— Зачем?
— Чтобы вспомнить. Когда коммунизм настанет, и спросят те, живущие в светлых городах, как все начиналось… Прочтут — а на страницах мы. Я, вы, ребята — все, кто заслужил. И будет — как если хоть малая частичка нас еще жива. И будет жить — пока нас помнят.
Втайне Гелий мечтал увидеть сам. Хотя бы самое начало. Как сидит он, пусть уже старый и пораненный, совсем заслуженный, в зале Дворца Свободы, а вокруг него — красивые, молодые, совсем другие люди, как в романе Гонгури. Он рассказывает им о революции, о славных боях и походах — как сейчас товарищ комиссар — и его слушают, так же восторженно затаив дыхание. Но об этой мечте он не говорил никому — боясь, что ее тоже признают «ячеством».
— Ладно! — сказал товарищ Итин — а сказку дарю. Жаль, не вышел товарищ тот с каторги Карской — вместе бежали, но не все дошли. Одно утешение всем нам было — в бараке после отбоя истории его слушать. Пусть хоть что-то не только в памяти — и на бумаге останется: красившее запишешь, не моими корявыми словами. Хотя без идеи правильной — кому красивость нужна?
Вернулись посланные на разведку.
— Мальчишки! — доложил старший — жгли костер на вершине холма. Как нас увидели — так в поле все, как зайцы; мы кричали вслед, что не тронем — да куда там! А холмы здесь странные — ровные и одинаковые, как куличи.
— Это курганы — сказал Гелий — здесь граница была. Дикая Степь это место называлось, отсюда веками татары набегали. На вершинах курганов всегда стояли дозоры, даже в мир — чтобы, увидев вдали орду, зажечь огонь. На соседнем кургане, заметив свет или дым, тоже зажигали костер — и так по всей степи. Князья выступали с дружиной, мужчины брали оружие, а женщины, дети и негодные к бою укрывались в городищах за стенами.
— Те князья тоже эксплуататоры были — сказал Итин — феодалы, сами народ грабили, не хуже татар. А кто тебе это рассказал?
— Отец — ответил Гелий — по вечерам вместо сказок он рассказывал мне что-то полезное — из истории, географии, или как делаются вещи. Старался научить меня всему — что сам знал.
— А кто он?
— Профессор университета — ответил Гелий — но он наш, за революцию всей душой. Из старых наших интеллигентов — всегда говорил о долге перед народом, и служении ему.
— А сейчас с ним что?
— Не знаю.
— Это как же? — спросил Итин — глянь, ребята все пишут, чтобы завтра с обозом отправить — на войне вести из дома, первое дело. Это ничего даже, что профессор — если за народ.
— Он мой отец — ответил Гелий — очень хороший и правильный. Всегда был прав, уча как надо. На деле прав — что после подтверждалось. Но выходило — я должен был слушаться, а не решать сам. Вот почему я ушел — чтобы вернуться, уже с ним наравне. С маузером на боку и звездой на фуражке. А до того — пусть он лучше не знает.
— Что ж, дело — сказал Итин — но все же напиши. Просто — чтобы знал, что ты жив. А то — война. Когда никто не ждет, плохо — но когда ждет и не знает, еще хуже.
Костер догорал. Закончил еду, бойцы расходились — пора было подумать о ночлеге, завтра надо было подняться с рассветом — и тем ценен был каждый час сна. Кто-то спускался к реке вымыть котелок, кто-то шел уже в сарай устраиваться спать. Завтра ожидался еще один день похода, такой же как и все. День — для дела революции, без лишних красивых слов.
Взяв гитару и мешок, Гелий ушел в сарай, со всеми. Итин взглянул ему вслед.
— Это хорошо, когда кто-то ждет, там — сказал он, обращаясь сам к себе — если есть, кому ждать.
Он вспомнил, как встретил Ее, в далекие годы подполья. Затем Итин сам попросил Комитет перевести его в другую ячейку — потому что жестокая реальность борьбы была такой, что дом и дети неизбежно вывели бы из строя обоих. Они встретились снова уже на съезде, том самом, перед Июль-Коранью, сидели рядом в президиуме, а после подошли друг к другу — и будто не было многих пройденных лет. Под утро, в холодном гостиничном номере, он предложил оформиться в орготделе, поставив в бумаги штамп.
— Зачем? — спросила она — исторически, семья была нужна лишь для передачи собственности; какое наследство у революционеров? Мы не успеем узнать своих детей — хотя может, так и лучше: как бы воспитывали их мы, не имеющие дома? Довольно, что мы есть, что мы можем встретиться, как сейчас — и пусть нам будет хорошо!
А наутро — был путь на Июль-Корань. Они вместе ехали в поезде — но по прибытии получили направления в разные полки; в приготовлении к битве видеться почти не удавалось. Когда они встретились в последний раз, в ночь перед штурмом, она сказала:
— Не верь, что меня нет, пока не увидишь сам — и я не поверю, пока не увижу тебя убитым. Если мы потеряем друг друга — обещай, что будешь ждать и искать, пока не встретимся снова.
Их было пятьсот двадцать семь — делегатов съезда, лучших а Партии. Они шли впереди строя, с красными знаменами — чтобы вести и воодушевлять. Чтобы враг не мог оставить бойцов в беспорядке — снайперами выбивая командиров. После штурма их осталось восемнадцать. И Ее не было — но не нашли ее и среди павших, кого удалось опознать, и никто из живых не видел, что с ней стало — с женщиной, идущей впереди всех, со знаменем вместо винтовки. На войне случалось всякое — бывало, что в строй возвращались те, кого считали погибшим. И Итин ждал — хотя прошло уже почти полгода. Когда он был в Петрограде, то приходил к строящемуся Дворцу Свободы — где они договорились встретиться, если потеряют друг друга. И надежда теплилась еще — как угли этого, почти уже потухшего костра.
— Поберегись, товарищ комиссар! — сказал подошедший матрос, выливая в костер ведро воды — все ж нехорошо, если пожар пойдет! После победы нашей — будет и в этой деревне комхоз!
Итин поднялся и отправился искать ночлег. Для него бойцы выбрали дом получше, в середине деревни. Разбуженные хозяин с хозяйкой стояли у печки, окруженные детишками. На столе горела свеча.
— Это кто? — спросил Итин, увидев на стене фотографию, на которой был изображен молодой парень в мундире старой армии.
— Старший мой — объяснил хозяин — с довоенных еще лет, как он срочную служил.
— И где он теперь? У нас, или у них?
— Убили его. Прошлой еще весной.
— Наши? Или — с погонами?
— А бог весть! — бросил крестьянин — пришли какие-то, как вы сейчас, с мобилизацией то ли с реквизицией. Он им слово поперек сказал — его насмерть и убили. Работящий был. Думали уж — женится, дом поправит.
— К нашим надо было идти, а не дома отсиживаться — сказал Итин — погиб бы, так за правое дело, счастье общее приблизив. Газеты возьми — правду нашу прочтешь. Грамотный?
— Мы люди темные — развел руками крестьянин — вы идейные, а нам — лишь бы прожить. При любой власти — пахать надо. Помирать собирайся — а хлеб сей. Так еще дед мой говорил — и я скажу…
Вставай, проклятьем заклейменный, Весь мир голодных и рабов. Кипит наш разум возмущенный И в смертный бой идти готовТоварищу Итину снились красные знамена. Над огромной толпой, на площади у красной зубчатой стены с островерхими башнями. На башнях горели рубиновые звезды. Только что завершился парад — по площади прошли танки, мощные, низкие и широкие, с длинными пушками, и восьмиколесные броневики, и артиллерия, и какие-то непонятные машины с антеннами и короткими стволами, задранными вверх, и ракеты огромных размеров, на буксире у многоосных тягачей. В небе пролетели самолеты — стремительные, похожие на стрелы, эскадрилья за эскадрильей, оставляя белые следы. А мимо стены, мимо трибуны черного гранита, уже двигались ряды и колонны с флагами и плакатами, под грохот марша. Партии — слава! Коммунизму — слава! Дело Ленина — живет и побеждает! Ура!!!
Сегодня мы не на параде — А к коммунизму на пути. В коммунистической бригаде — С нами Ленин впереди!Картинка снова сменилась — будто Итин смотрел через стекло ящика, в котором менялось изображение, с цветом и звуком — как через иллюминатор воздушного корабля. Цеха и трубы заводов, плотины гидроэлектростанций, нефтяные вышки, сияние огней, блеск электросварки — где вчера были лишь лес и степи. Новые города, белые, светлые и чистые — среди тайги и пустыни. Рельсы стальной магистрали, от Байкала до Амура. Трактора и комбайны на бескрайних полях освоенной целины. Дома, машины — нового, незнакомого Итину вида.
Мы везде, где трудно — Дорог каждый час! Трудовые будни — Праздники для нас!— Трудфронт! — подумал Итин — значит, не осталось уже эксплуататоров, на всей земле! Но мы не успокоимся, после нашей полной победы — а пойдем вперед еще быстрей! И нас — никому не остановить!
Будет людям счастье — Счастье на века! У советской власти — Твердая рука!— При чем тут Советы? — подумал вдруг Итин, пытаясь поймать что-то ускользающее, но очень важное — И КТО ТАКОЙ ЛЕНИН??
Гелий проснулся под утро. Выйдя из сарая, где спал вместе с половиной отряда, он запоздало вспомнил, что забыл совет товарища Итина — написать отцу. Хотя бы пару слов — жив, здоров, ждите. Застегивая ремень, он торопливо вернулся в сарай. Было темно, снаружи едва различались ограды и избы деревни. У входа внутри тускло горела керосиновая лампа, реквизированная в каком-то из домов. Гелий подгреб ворох соломы и хотел устроиться с блокнотом и карандашом. Подошел часовой, до того топтавшийся у двери.
— С огнем осторожнее — сказал он — нарочно здесь сено гребли, чтоб от огня подальше.
— Я смотрю — ответил Гелий — после уберу, как закончу. Утром обоз собрать — не до писем будет.
— Ну смотри — сказал часовой — мое дело, предупредить.
Он не уходил, переминаясь с ноги на ногу рядом. Ему было скучно ходить вокруг сарая, вглядываясь во тьму — потому что так было положено, хотя врага рядом не было и не ожидалось. Когда завтра повезут хлеб, тогда придется быть настороже — особенно если банды из леса узнают про груз. А пока — можно было поболтать с товарищем, опершись на винтовку как на посох.
— Слушай, а как тебя зовут? — спросил часовой — по настоящему. Меня — Павел.
— Гелий — упрямо ответил Гелий — я и в бумагах так выправил. Чтобы по-новому. Как в отряд вступил.
— И в билете тоже? — усмехнулся часовой — или ты не «сокол»? Как же тогда тебя взяли?
— В апреле вступил — поспешно ответил Гелий — вот.
Он достал заветную красную книжечку. Часовой привычно открыл ее — как всегда проверяют документы — прочел, и снова усмехнулся.
— Что ж ты партию в заблуждение вводишь? — сказал он — я слышал, говорил ты товарищу комиссару, что профессор твой отец, а записано — «из пролетариата».
Вступая, Гелий указал в анкете об отце — «служащий народу». Так всегда говорил отец об интеллигенции — однако всего за день до того сам Вождь в одной речи сказал «служащий всему народу класс пролетариат». Писарь в ячейке счел строку анкеты за красивую фразу, и вписал как привычно. Гелий заметил это, лишь когда получил билет — но поправлять не стал, считая даже более почетным.
— Пролетарии без испытательного срока вступают, интеллигентам же полгода положено — сказал часовой — нехорошо получилось, будто ты примазался. Может, и наш ты — а все нехорошо.
— Как из похода вернемся, как раз срок пройдет — твердо сказал Гелий — все выйдет правильно.
— Ну, смотри — заметил часовой — получается, мы с тобой в один почти день «соколами» стали. Я чуть не срезался — на вопросе, почему Союз Коммунистической молодежи, а не Коммунистический союз молодежи, как раз тогда дискуссия об этом была. Я по простоте и ответил, что звучит красиво и гордо — «сокомол», соколы, а не какая-то комса. А оказалось, как председатель наш объяснил — коммунистический союз для всех, кому коммунизм цель конечная; а если нет и не может быть у нас целей других — что же тогда, всех по возрасту годных писать? А вот если «соколы», то это уже наши — кто за партию и революцию уже сейчас хоть на смерть. А товарищу комиссару ты все же про ошибку в билете скажи — а то выйдет, что ты от партии тайну имеешь.
Он затянулся последний раз, и огляделся — ища, куда бросить окурок. В сарае все же не стал, повернулся, и вышел наружу. Гелий достал тетрадь, но пока не писал ничего, задумавшись над словами Павла. К тому же, трудно было решиться вырвать из тетради даже чистый один лист.
— Я — «сокол» — произнес он про себя — а комиссару скажу. Он поймет.
Павел не возвращался. Гелий опустил глаза и перелистнул тетрадь. Нацелился было на лист, следующий за исписанным — и стал писать прямо на нем, решив вырвать после.
— Отец, я жив и здоров. Мы идем, добывая хлеб для голодающих. Вчера был бой, один наш товарищ геройски погиб — но мы победили. Если бы ты знал, какие люди сидят сейчас рядом со мной у походного костра — как герои из романа Гонгури. Мы с радостью пойдем на фронт — добивать последнего врага. Я вернусь — после победы, теперь уже близкой, потому что с такими товарищами нельзя не победить. Жаль только времени, потраченного на войну со всякой сволочью — времени, отнятого от постройки светлого будущего, как в том романе. Но это ничего — тем быстрее мы пойдем вперед, когда враг будет разбит окончательно. Уже скоро я вернусь — перед тем, как ехать на какую-нибудь великую стройку, куда пошлет нас партия.
Он хотел вспомнить, что еще говорил Итин — потому что эти слова стали теперь и его мыслью, его верой. Еле слышный шорох заставил его отвлечься — это наружу открылась дверь. Решив, что это возвращается Павел, Гелий поднял глаза.
В дверях стоял чужой. Весь в каком-то зелено-пятнистом, лохматом. Даже лицо было замотано чем-то, чтобы не белело в темноте — виднелись только глаза в щели под низко надвинутым стальным шлемом с маскировочной сеткой. Нацелив автомат — с длинным изогнутым магазином внизу, и штыком на конце ствола — штык был не привычный четырехгранный, а клинком. Гелий глядел в остолбенении, а чужак быстро запустил руку в висящую на боку сумку такого же зелено-пятнистого цвета, достал какой-то тускло блеснувший предмет, похожий на обычную бутылку, пальцами ловко что-то с ним сделал — и бросил в глубину сарая, где в сене спали товарищи.
Ослепительно полыхнуло, хлестнув светом по глазам. Ударило обжигающим жаром. Гелий зажмурился — всего на миг. Когда же он открыл глаза — чужака нигде не было, зато совсем рядом стеной бушевало пламя.
Гелий завозился с мешком — потеряв пару мгновений, чтобы сунуть тетрадь. Схватив мешок, хотел взять винтовку — но пламя уже отрезало путь. Гелий сделал шаг назад — и вывалился наружу, спиной распахнув дверь. Пламя вырвалось вслед за ним, сарай пылал уже со всех сторон — и кто-то страшно кричал внутри, но слов нельзя было разобрать. Гелий повернулся — и оказался лицом к лицу с чужаком, тем самым, или уже другим. Гелий хотел было броситься в сторону — но чужак взмахнул прикладом, и Гелий полетел с ног; в следующий миг он уже лежал лицом в землю — чувствуя, как ему крутят за спину и вяжут руки, быстро и умело. Затем его схватили — и потащили в темноту.
Враги напали перед самым рассветом. Часовые погибли на постах, не успев поднять тревогу. Разбуженный стрельбой, товарищ Итин выбежал из дома с маузером в руке. Ночь разрывалась выстрелами, беспорядочно, со всех сторон — сухо щелкали винтовки, в ответ раздавались короткие автоматные очереди, по уставу на два-три патрона, идущие точно в цель. И это было очень плохо, потому что прошедшие фронт бойцы, даже застигнутые врасплох, должны были собираться вместе, организуя рубежи и очаги обороны — значит, враг уже ворвался в деревню. Сарай с сеном ярко пылал, и кто-то кричал внутри — однако из-под уже занявшейся огнем крыши вдоль улицы бил отрядный пулемет, длинными очередями, не жалея патронов. Врага нигде не было видно — и это давало надежду отбиться. Банды, каких много было на ничейной территории, не отличались упорством в бою — обычно же целью их было скорее уйти с захваченной добычей.
— За мной! — крикнул комиссар двоим полуодетым бойцам, выскочившим следом — помирать, так с музыкой! Айда, ребята — вперед!
Он хотел собрать людей и идти на помощь тем, кто отстреливался в горящем сарае. Затем — занять оборону у амбара с продуктами, не дав его захватить. Кто бы ни были, бандиты уйдут с рассветом; казалось несложным продержаться лишь остаток ночи до уже близкого утра.
— Ко мне, товарищи! — кричал Итин, наугад стреляя из маузера в мечущиеся по сторонам тени — врешь, гады, не возьмете!
В ответ из темноты летели пули. Один из бойцов вдруг упал, раскинув руки. Впереди рванула граната — и пулемет замолчал. Затем рухнула крыша, подняв к небу сноп искр. Стрельба в деревне тоже почти прекратилась — бой затихал. Второй боец куда-то исчез. Итин остался среди улицы один. Увидев у амбара людей, он бросился туда — но это оказались не его бойцы, а крестьяне; они пытались сломать замок и открыть дверь.
— Не сметь! — крикнул Итин, размахивая маузером — хлеб народный, не дам! Чего стали — ведра берите, поливайте стену, чтобы не занялось!
Выполнять приказ мужики не спешили. Они двинулись навстречу, к Итину, кто-то пытался зайти сбоку; в руках у многих были колья и топоры.
— А ну не балуй! — крикнул Итин, наводя маузер — именем революции! Кто тут хочет — во враги трудового народа?
Крестьяне остановились. В отблесках пожара было не разглядеть их лиц; все вокруг казалось черно-красным. Итин прикинул, сколько патронов осталось в обойме — если что, так хватит на всех, по крайней мере — тех, кто в первом ряду. С трех шагов — не пропадет ни один.
— Живьем! — вдруг рявкнул кто-то рядом — это главарь!
Кто-то внезапно возник из темноты за спиной, навалился, сбил с ног, придавил к земле. Затем все брызнуло и раскололось искрами от страшного удара по голове, проваливаясь в ночь.
— Товарищ Итин! Товарищ комиссар!
Голос Гелия дрожал. Только что — был костер, песни под звездным небом, мечты о прекрасном будущем. И вдруг — враги и плен. Такого быть не должно — сейчас что-то случится, и все станет по справедливости. Но рядом был сам товарищ Итин, старший и опытный — и он должен был найти какой-то выход.
— Живой я! — ответил Итин, приподнимаясь — где мы?
Было совершенно темно, пахло сыростью и гнилью, как в склепе. Они были закрыты в погребе под картошку, в поперечнике не большем трех-четырех шагов. Руки были свободны, но из карманов все забрали, поясной ремень также пропал. Итин нашел Гелия — тот лежал у стены, лицом вниз, со связанными за спиной руками.
— Я бы убежал — спешил сказать Гелий — но никак. Меня на землю бросили — сами здесь же лежат, стреляют, и наши в ответ из сарая, я боялся — от своих пулю, поверху так и свистят. Наши вдаль целились — а эти рядом совсем были. Матрос у пулемета был — я голос его слышал, сначала песню, затем ругался, потом просто кричал страшно — как он там был, не знаю: жар такой, что за двадцать шагов едва вынести можно! А когда кончилось, эти всех наших, раненых, и кто выскочить успел — штыками добивали! Как мы — собак вчера.
— Кто они? — спросил Итин — на обычную банду не похожи: уж больно напористые и умелые. Опять же, нас сюда кинули — значит, сами удрать не спешат.
— «Лешаки» — ответил Гелий — как вчера говорили: все в пятнисто-мохнатом, даже лица прикрыты — ночью в двух шагах не увидишь. Автоматы у всех, не винтовки.
— Может быть, все же банда? — произнес Итин — не должно здесь быть «лешаков»: после Июль-Корани про них не слыхать. И фронт уж больно далеко.
— Я главного их мельком видел — сказал Гелий — морда вся обгорелая. Как танкист бывший.
Тут даже Итину на миг стало не по себе. Потому что, по слухам, это был самый удачливый, дерзкий, и жестокий из командиров врага. На его совести было бесчисленно бойцов революции, комиссаров, добровольцев, активистов, коммунистов и «соколов» — расстрелянных, замученных, убитых самыми жестокими способами; впрочем, офицеров старой армии, пошедших на службу народу, он также не щадил. Иногда его считали фигурой, вымышленной врагом — чтобы разом списать на него собственные злодеяния. Никто не мог ни подтвердить это, ни опровергнуть — потому что еще никто из попавших к нему не возвращался живым.
— Убежим — ободряюще сказал Итин, освободив наконец юного товарища от пут — давай, поэт, глянем, как легче отсюда выбираться. А там — как выйдет.
Они тщательно обследовали свою тюрьму. Но доски, хотя и подгнившие, были еще прочны, и без инструмента Гелий с Итиным лишь в кровь ободрали ногти, пытаясь пробиться наружу голыми руками. В щели под дверью показался тусклый утренний свет; в любую минуту за ними могли прийти.
— Раз нас сразу в расход не вывели, значит, допрашивать будут — сказал Итин, присев на земляной пол — так ты молчи, что бы с тобой ни делали, и что бы ни обещали. Не соглашайся — ни на что. Даже если сам не спасешься — товарищей за собой не тяни. Потому как любые сведения, даже самая мелочь — может после стать нашей кровью. И — духом не падай. Может, еще случай будет — я пять раз бежал, два раза с ссылки, два с этапа, и один — с самой каторги Карской. Ты лишь зорче смотри, и чуть слабину увидишь — не зевай.
— Нас пытать и бить будут? — спросил Гелий — как барабанщика, в цепи закуют?
В голосе его звучало любопытство. Происходящее все еще казалось ему приключением — которое следует запомнить и пережить, чтобы после вспоминая, не пропустить ничего.
— Башни и цепей в походно-полевых условиях не будет — ответил Итин — в завершение нас просто выведут и пустят в расход. Так же, как мы их, будь наш верх. А до того шомполами — запросто могут, или железом каленым, так же как мы — контрреволюционных заговорщиков. «Сиреневые» прежде очень бить любили — и кулаками, и ногами, и дубинкой резиновой, в зубы, под ребра, по хребту. Но ты все равно — молчи. Потому что жить предателем — куда как хуже.
— Нас в без вести пропавшие запишут? — спросил Гелий, все еще будто не веря — и никто не вспомнит, что мы были?
— Не забудут — ответил Итин — пусть не нас персонально, но всех, кто за революцию. А значит — и тебя, и меня. Ты себя не жалей — потому как, все беды от жалости. Трусость — это жалость к себе, жадность — жалость к своей мошне, а предательство — оно или от того, или от другого. Верно вчера было сказано, что на войне жизнь своя — как барахло лишнее: сегодня есть — хорошо, завтра нету — что делать. Главное — чтобы стыдно не было; ну а чему быть, того не миновать.
Они помолчали немного, сидя на голой земле напротив друг друга, перед запертой дверью. В мыслях возникали планы побега — тотчас же рассеивающиеся, как дым. Стены были крепки, выйти не удавалось. Торопиться было уже некуда.
— Нас не будет, а коммунизм останется — сказал Итин — построят скоро дворец Свободы, где на стене памятной — будут имена, кто за революцию погиб. Чтобы — помнили вечно, не забыли никогда. И наши имена — тоже. Потомки наши, через века, будут читать — и славе нашей завидовать, счастью нашему — в великое время жить.
Свет сквозь щели стал ярче — наверное, солнце уже взошло. Сейчас за ними должны были прийти.
— Оружия нет — сказал Итин — даже палки, или камня. Лучше уж так — чем как барану…
— Есть! — вдруг выкрикнул Гелий — есть оружие, товарищ комиссар!
Этот маленький, похожий на игрушку револьверчик с перламутровой рукояткой подарил Гелию сам Итин; револьвер был взят у какого-то студента на базаре в уездном городе, во время облавы на контрреволюционные элементы. Подражая литературному сыщику барону фон Дорну, Гелий носил револьвер примотанным шнурком к ноге под штаниной, все мечтая научиться выхватывать его так же молниеносно как тот сыщик, поражая своих противников. Заряженный на все шесть патронов, револьвер оказался на месте — враги его не нашли.
— У тебя такой красавец, а мы духом упали? — повеселел Итин — ну-ка дай сюда, поэт!
Сразу стало легче. Мысли уступили место событиям; появилась надежда. Ушла беспомощность перед врагом — их могли убить, но теперь и они могли ответить тем же. А может быть, и уйти — если очень повезет.
— Как дверь откроют, сразу пулю в того, кто на пороге — и скорее выскакиваем, пока не опомнятся. А там — как получится.
Передать револьвер комиссару Гелий не успел. Пока он пытался развязать туго затянутый шнурок — снаружи послышались шаги. Заскрежетал навешенный снаружи замок — и дверь распахнулась, отброшенная внутрь ударом сапога или приклада.
— Эй, рачья-козлячья! — раздался голос — выходи! Оба!
Перед дверью однако, на виду никого не было: не в кого было стрелять. Итин дал Гелию знак — спрятать револьвер, как прежде. И первым шагнул к выходу, спиной заслоняя молодого товарища.
У самой двери справа, невидимый изнутри, стоял солдат — самое обычное, курносое и веснушчатое лицо под низко надвинутым стальным шлемом, и какой-то странный, бесформенный черно-зеленый балахон поверх мундира, весь в пятнах и полосах. Второй солдат, длинный и белобрысый, обнаружился поодаль слева; он был в таком же черно-пятнистом, с закатанными по локоть рукавами, в лихо заломленном набок черном берете. Оба держали наготове десантные «штурмгеверы» с рожком на сорок патронов. У белобрысого был виден сержантский шеврон, у курносого — две полоски обер-ефрейтора.
— Обученные, гады — подумал комиссар — ничего: и не таких били! С осторожностью — ведь боятся нас, даже безоружных!
— Не бойсь! — сказал ефрейтор — сперва вас спросят: коммунисты вы, или как? Мы не звери, лишнего греха не берем. Если не партийцы — может быть, еще поживете.
— Не поживут — сказал сержант — у обоих билеты нашли. У того партийный, у меньшого «сокола». Языки развяжут — в конце просто по пуле. А будут долго упорствовать — долго и помирать!
На месте сарая было пепелище. Сгорели еще две избы, забросанные гранатами вместе с защитниками; однако видимых следов ночного боя было на удивление мало. Скрытый яблонями, стоял восьмиколесный броневик, направив на дорогу ствол крупнокалиберного пулемета; двое солдат в пятнистом сидели и курили, свесив ноги в десантный люк. Еще один броневик перегородил улицу с другого конца деревни; солдаты сноровисто таскали канистры с бензином; кажется, какая-то техника стояла еще и за домами — видно было плохо. Занятые делом, пятнистые солдаты с автоматами мелькали по деревне то здесь, то там, заходили и выходили из домов, стояли у колодца, о чем-то говорили с мужиками. Амбар, куда сложили вчера собранное, был открыт, и там толпились мужики и бабы, волоча припасы по домам; стоял шум, вспыхивали споры, кто-то кого-то брал за грудки, замахивался кулаком. Бесчинства и разбоя не было видно — хотя солдатам армии эксплуататоров-буржуев полагалось грабить, насиловать, жечь и убивать, а трудовому народу — бросаться на врагов с вилами и топорами, или хотя бы сверкать ненавидящими взглядами, сжав кулаки.
— Товарищи, что же вы! — крикнул вдруг Гелий толкущимся мужикам — бейте белопогонную сволочь, чем можете: лучше умереть, чем жить в рабстве!
Никто не ответил — кто-то отвернулся, а кто-то усмехнулся злорадно. Гелий ждал за свои слова удара — или даже пули. Но ефрейтор лишь сказал лениво:
— Глотку не рви! На допросе сгодится. Еще орать будешь — горло сорвешь. Или просить — чтобы добили.
— Командир наш сначала всегда вежливо — усмехнулся сержант — будто интересно ему, совесть у вас еще осталась? «Вы в самом деле коммунист — или вас оговорили?» Послушает — а затем такое прикажет, что даже нам, грешным и все повидавшим, иногда не по себе. Не звери мы — бывает, честно предлагаем: отречешься, в подтверждение тайну какую выдав, или своего в расход — отпустим под слово больше против нас не идти. А коль уж сам выбрал иное — наша совесть чиста. Сам знал, на что шел.
Их подвели к церкви — тому же месту, где вчера крестьяне слушали речь. На ступенях церковного крыльца сидел человек в таком же пятнистом, как все солдаты — лишь с висящим на поясе парабеллумом и офицерским планшетом. Лицо его было страшным — похожим на оскаленный череп.
— В танке горел: жаль, что до конца не сгорел, сволочь! — подумал Итин — раз нас вместе привели, значит будут друг перед другом бить, как жандармы любили делать.
Против ожидания, первым вперед вытолкнули Гелия. А комиссар остался поодаль под охраной сержанта. Главарь оглядел Гелия с ног до головы, и приказал:
— Говори. Разрешаю. Сразу не убью — не бойся.
Гелию было страшно. Еще и потому что он не мог видеть старшего товарища, оставшегося за спиной. Зная, как подобает вести себя бойцу революции, Гелий хотел прокричать в лицо врагу что-нибудь вроде:
Вставай в надежде мир проклятых, Бездомных, нищих и рабов. Весь гневом праведным объятый, На смертный бой идти готов.Но голос подвел его, в первый же миг сорвавшись на кашель. Враг усмехнулся и сказал:
— Бодришься, герой — это хорошо. Потому что чем больше гонору снаружи — тем больше страха внутри. Честно отвечай — боишься? Ну?
Гелий не мог говорить — язык будто свело. И кивок головой вышел совершенно непроизвольно.
— И правильно боишься — сказал горелый главарь — это ведь все правда, про отрезание ушей, пальцев, и всего прочего, а также каленое железо и шомпола. Такие уж мы мерзавцы и палачи. И очень любим ставить научные эксперименты, как например — живот тебе разрежем, без всякого наркоза, чтобы глянуть: там высокие идеи, или такое же дерьмо, как у всех? Или полведра бензина — определить, кто ты есть: человек, который звучит гордо, или топливо живое для костра? После твой труп в канаве будут жрать бродячие псы — а мы уйдем дальше, жить и творить свои грязные дела. Сколько передо мной стояло — ваших.
Он взял лежащую рядом полевую сумку. Она была доверху набита красными книжечками — теми самыми, какие носят у сердца.
— Моя коллекция — пояснил враг — сюда я помещаю не просто уничтоженных мной лично, но лишь всяких так комиссаров, политруков, председателей с секретарями, ну и на худой конец, не ниже ротных — тех, о ком ваша партия и власть будет искренне горевать. Интересный процесс — превращение героев в мясо. Даже любопытно — попадется мне хоть кто-то, кто выстоит до конца, как на плакате вашем? Нет, в итоге все — лишь голая физиология без разума и воли. Так что, тебе очень повезло, что я не буду выпытывать у тебя ваших военных тайн — что ты можешь сказать, неизвестного мне? Впрочем, если ты знаешь что-то — тебе зачтется.
Гелию вдруг стало спокойно. Будто он стоял перед врагом — и в то же время отстраненно смотрел откуда-то. Он шагнул вперед, как в воду. Ефрейтор дернулся было следом — но главарь сделал еле заметный жест, и враг остался на месте. Делая шаг, Гелий больше всего боялся, что револьвер выпадет, или окажется слишком крепко привязанным к ноге. Даже перед зеркалом у него никогда не получался так слаженно этот знаменитый прием сыщика фон Дорна — при шаге левой нога чуть выше, правая рука бьет изнутри по лодыжке — чтобы, ступая на ногу, одним встречным движением задрать штанину, обхватить рукоятку и вскинуть руку вверх.
Главарь что-то почуял, начал было подниматься — но у него не было уже ни времени, ни расстояния. Ефрейтор вскинул автомат — но стрелять не мог, потому что Гелий и главарь оказались перед ним почти на одной линии, и очередь свалила бы обоих. Итин не успел пошевелиться, как сержант одним движением сбил его наземь, придавил ногой и упер в затылок ствол — все же эти битые фронтовые волки были на удивление опытны и быстры. А главарь был лучше всех — но не настолько, чтобы обогнать пулю с трех оставшихся шагов.
Все застыли. Солдаты и крестьяне в отдалении — тоже. Замер и Гелий — держа врага на мушке.
— Ну? — первым спросил горелый главарь — что дальше?
Он смотрел без страха — с любопытством, даже веселым интересом. Будто не его отделял от смерти один миг короткого движения пальца.
— Стреляй! — прохрипел Итин, глотая пыль — стреляй!
Он еле повернул голову — сморщившись от жестокого тычка стволом. Однако теперь мог хоть как-то видеть происходящее.
— Машину нам и оружие! — звенящим голосом выкрикнул Гелий, совсем как в читанных им романах о приключениях фон Дорна — прикажи своим! Ты — поедешь с нами!
Он уже видел себя героем. Все становилось, как должно — орден из рук самого Вождя за спасение товарища Итина и захват злейшего из врагов революции. Затем Гелий представлял, как он, в хрустящей новой кожанке и с маузером в руке ведет свой отряд на штурм последнего вражеского оплота. После он возвращается к отцу — молодым комиссаром, и отныне говорит с ним, как равный. Затем он работает на трудфронте, строя заводы и города — а по вечерам пишет книгу об этом прекрасном времени.
— Дурак — лениво сказал главарь — стреляй.
И враг встал и тоже шагнул вперед — не спеша, совсем мирно. Теперь их разделяло всего два шага. Лицо врага оставалось недвижной маской. А глаза были — умные, оценивающие, живые.
— Мне терять нечего — сказал главарь — ваши же меня сразу к стенке. Хочешь — стреляй. Попробуй. Только — вас же потом живыми на ремни порежут. Очень погано будете помирать, и долго.
— Стреляй! — сипел Итин — стреляй, черт!
Гелий крепче сжал револьвер. Ладонь вдруг вспотела. Раньше он много раз пытался представить — первого своего убитого врага. Перед отправкой отряда, он как и все стрелял в тире, представляя живых врагов вместо фанерных мишеней. Но сейчас что-то мешало ему — палец на спуске будто одеревенел, не повинуясь.
— Трудно в первый самый раз, в живого человека — сказал враг, сделав еще шаг — по себе знаю. И не успеешь.
Он только что был перед дулом — и вдруг оказался сбоку и рядом, так стремительно, что даже неуловимо для глаза. Гелий вдруг почувствовал, как рука его уходит вверх и больно заворачивается назад, так что все еще зажатый в ней револьвер смотрит ему же в лоб — а сам он оседает вниз, подкашивая колени.
— Бабская штучка, без самовзвода — сказал главарь, небрежно вертя в пальцах отобранный револьвер — и курок спущенный хорошо виден. Надо было сначала сделать — вот так. Ты бы не сумел выстрелить — даже если бы решился. Надо знать свое оружие — поэт! Ты хоть раз из него стрелял?
Он небрежно бросил револьвер — в траву. Гелий не успел обернуться — а Итин все ж заметил место, всего в шести шагах в сторону. Только сейчас к Гелию подскочил ефрейтор, занес было приклад.
— Отставить! — приказал горелый, снова садясь — всякая тварь, даже коммунистическая, жить хочет. А потому — обороняться право имеет. Сам виноват: плохо обыскал. Как вернемся, накажу за раззявость.
Ефрейтор вернулся на место. Сержант убрал ногу, позволяя комиссару встать. А главарь спросил, будто ничего не было — достав заветную тетрадь:
— Твоя?
Гелий кивнул. Он наизусть помнил каждую страницу, по памяти мог воспроизвести любую строку — даже те из них, что были зачеркнуты и заменены. Это был не просто дневник, а мечта, о которой вчера говорил товарищу комиссару — книга о времени, о товарищах, о себе. Как Гонгури — только начать с этих дней. И — продолжить, в то самое будущее, где люди объединенного, коммунистического человечества, будут осушать моря, засеивать пустыни, поворачивать вспять реки и летать к другим планетам; где вместо дремучих лесов поднимутся заводские трубы, а умные машины возьмут на себя всю тяжелую работу. Гелий делал даже первые, еще робкие и неудачные наметки того романа — зачеркивал, сочинял снова. И среди людей того мира были — он сам, его товарищи по отряду, и конечно, товарищ комиссар Итин — вернее, люди с их чертами, только через тридцать, сорок, пятьдесят лет.
— Из-за нее ты живой — заметил главарь — мы подумали: ординарец штабной бумаги спасает — если их схватил прежде оружия. А то бы как всех — чтобы не возиться. Сам сочинял — или переписывал?
Гелий промолчал.
— Сам — отметил главарь — чужое так не хватают. И стихи… Знаешь — а ведь мне понравилось, я все прочел. Ты талантлив, мальчишка — так какого черта тебе быть расходным материалом в чужой драке? Оставь войну бездарям, вроде меня. А твое — вот это, его и держись. Хочешь — отпущу?
Гелий молчал.
— Ты ведь не щенок пролетарский, кому жизнь — копейка, и из грязи в герои, хоть посмертные. Одним рывком под танк, и вся цена его головы — минус одна боевая единица противника. Тебя — папа с мамой любят и ждут. Как им будет — узнать, что ты погиб? Без геройства — не надейся. Просто сгинешь — как не был вовсе. Сам выберешь, жить или умирать — или мне за тебя решить?
Гелий молчал. Только сейчас он вдруг понял, что это не приключение — что весь его мир, память, мечты — все, что составляет его «я», погаснет и исчезнет. Что никогда он не увидит прекрасной страны Гонгури, светлого будущего — до которого он мог бы дожить. Не просто страх — ледяной холод, ощущение щепки в летящем в бездну потоке. Это было несправедливо и неправильно — и разум бешено крутился, ища выход. И не находил.
— Отпущу — сказал главарь — слова своего я не нарушал никогда. Даже если давал слово — вашим. Только ты тоже сделаешь для меня — кое-что.
Гелий кивнул. Он сам не мог сказать, как это вышло. Просто ему очень хотелось жить — даже не ради себя, ради светлого будущего. Если для того не надо было выдавать военных тайн.
— Не смей! — крикнул Итин — лучше уж…
Он знал, что лучше было сделать это молча. Чтобы враги не успели помешать. Но он не мог заставить себя поступить так с Гелием — не предупредив. К тому же сержант стоял чуть в стороне — и Итин надеялся, что тот не успеет.
Они еще оборачивались — а Итин уже летел, в падении-прыжке. Надеясь, что не ошибся, и револьвер упал именно там. Понимая, что второго выстрела не будет.
Револьвер оказался на месте. Схватив, уже не было времени вставать — Итин поднялся на локтях, большим пальцем взводя курок, трава мешала прицелиться. Палец лег на спуск — тут Гелий обернулся, и Итин увидел его глаза.
Он потерял самый короткий миг — не больше, чем полсекунды. Но этого хватило, чтобы сержант успел. Вышиб ногой револьвер, взлетевший куда-то высоко и далеко, и с размаху ударил прикладом. Странно, но Итин не потерял сознания. Подскочил и ефрейтор, враги владели боевой рукопашной — и Итин понял, что сейчас его просто забьют насмерть, ногами, даже не тратя пулю.
— Прекратить! — крикнул главарь, вскакивая.
Враги были обучены и дисциплинированы. Ефрейтор тотчас же передвинулся к Гелию — а главарь подошел не спеша, и когда Итин встал, спросил:
— Его хотел? Почему — не меня? Я — отправил ваших на тот свет столько, что хватило бы на десяток кладбищ. Наверное, стою первым номером в ваших списках «заклятых врагов трудового народа», подлежащих немедленному расстрелу. Мое уничтожение для вас гораздо более важно. Любопытно, почему же — он, а не я?
Итин хотел плюнуть врагу в лицо — но плевок с кровью не долетел. Горелый главарь повторил:
— Почему? В меня много плевали — я привык. Отвечай. Или это тоже — военная тайна?
— Все умрем — сказал Итин, отдышавшись — все умрем, раньше или позже. И каждый должен будет спросить себя — прожил он пескарем в норе, для себя одного, ни к чему не касаясь — или оставил в жизни след. Не в том дело, чтобы прожить лишний год — в том, чтобы не было стыдно, что сделал мало; время важно лишь тем, что можно успеть за него. Я — сделал уже довольно. А он — чем коптить небо предателем, лучше остаться навсегда юнцом восторженным, кто песни нам пел. Ну а ты, гад — после скорой нашей победы, куда денешься от справедливого суда народа? Больше говорить не буду — убивай. Об одном лишь прошу, если хоть что-то осталось от совести — не ломай мальца. Как сын он мне — или младший брат. Хочешь убить — так убей его сразу, но не гни! А со мной — что хочешь делай: ничего тебе больше не скажу.
И товарищ Итин замолчал. Слышны были голоса от амбара вдали: там все еще разбирали хлеб. Во дворах лаяли собаки. Шла обычная деревенская жизнь.
— Ты все такой же — сказал главарь — за революцию праведную и справедливую. Чтобы каждый получил, что заслужил. Уже близко буря, которая очистит спертый воздух и унесет прочь никчемный сор. Вот и встретились мы наконец снова, старшой. А ведь я тебе — больше, чем отцу, верил.
Товарищ Итин давно отвык удивляться. С первой минуты голос врага показался ему смутно знакомым — но этого просто не могло быть. Однако все же — оказалось правдой.
— Ты!? — спросил он, еще не веря — живой? И — с ними? Да как же это…
— Я — кивнул горелый — ну, здравствуй, брат. Вот и встретились, наконец.
Итин вспоминал вихрастого и голенастого мальчишку — старшего из мачехиных отпрысков. Обычно ушедшие в революцию вынужденно рвали и с прежней семьей — после первого ареста, уйдя на нелегальное, чтобы скрыться от надзора. Но Итин был опытен и везуч — и потому, время от времени, появлялся у отца. Тем более, что старая столица с ее обилием заводов и массой рабочих была центром не только промышленности, но и революции; и трудно не поддерживать связь, по делам подполья часто бывая на той самой рабочей окраине — особенно, если большинство этих дел проходят там же. В самом начале, пока Итин еще не был известен полиции, у отца несколько раз даже проходили собрания комитета, маскированные под гулянки и именины; там прятали литературу. А смышленый мальчишка всегда вертелся возле взрослых — с восторгом выполняя поручения, как принести что-то, или покараулить.
Он всегда называл Итина братом — хотя и не был ему родным. Работал уже в цеху — учеником слесаря. Отец относился к увлечению сыновей социализмом сдержанно, не приветствовал открыто — но и не мешал. После той, первой стачки — когда те, кто позже стали Партией, в первый раз вступились за рабочих и против гнета хозяев. Все они тогда были совсем еще молоды — но рабочие им поверили и за ними пошли — тому, кто против, не стало бы житья. Но младший брат всегда с особым восторгом встречал товарища Итина — когда тот появлялся дома. И однажды — попросил его взять с собой. Так и сказал — в революцию.
— Это тебе не книжки про индейцев — ответил Итин, потрепав младшего по вихрам — чтобы делу нашему полезным быть, а не погибнуть просто так, сильным стань, телом и духом, многому научись и многое умей. Смелым стань — страх в себе изживи, чтобы не мешал поступать как надо. Умным стань — не верь господам, обывателям, пошлому опыту глупцов: сам думай, дорогу ищи. А самое главное — стань честным: никогда не иди против своей совести. Тогда — дело праведное тебя найдет. А мечтатели пустые — никому не нужны.
Он никогда не признался, даже себе, что поступил так — как в деревне бывает, берегут любимых детей от изнурительного труда, стараясь хоть чуть продлить им беззаботность. Суровые законы подполья заставляли смотреть на новичков, как на расходный материал; проверенных товарищей ценили больше — и редко кому удавалось избежать тюрьмы и каторги, где молодые и неопытные гибли первыми.
Самым страшным в тюрьме был даже не карцер и не побои жандармов — а общая камера с уголовными: те не любили «политиков» и всегда старались опустить их на самое дно. Однажды Итин видел сам — как среди товарищей был один гимназист; все ждали, что он пройдет закалку первым своим арестом, никого не выдав, и не сломавшись. Тогда бы он стал «наш», за которого идут стенкой, разбивая кулаки о чужие морды — пока же товарищи лишь смотрели, как держится новичок; и в первую ночь гимназист повесился на рукаве собственной рубашки, привязав к верхним нарам. Если бы он сдался на допросе, то мог бы по первости и малолетству уйти домой под подписку, а на суде получить условно.
— Интеллигент! — сказал тогда старший среди товарищей — сам признавался мне, что два раза к дому своему бывшему приходил тайком, на окна смотрел, где свет горит и папа с мамой. Взвешивал, значит, не вернуться ли? Слабость интеллигентская, в отличие от нас, пролетариев: им ЕСТЬ куда обратно, как прижмет!
Тогда они бежали группой, с этапа. Старший погиб через год, зарубленный на митинге конным жандармом; двое были повешены полевым судом; двое умерли от чахотки, трое — от тифа; кто-то погиб уже после победы, на фронте, или при подавлении кулацких мятежей. Из тех, кто основывал Партию, сейчас в живых остались лишь Вождь, и Итин. Жизнь революционера была короткой — и все знали это, стараясь лишь успеть больше за отпущенный срок. И на каждого из тех, чьими именами сейчас называли города, заводы, корабли — было по нескольку безвестных, погибших в самом начале. Кто мог бы сделать не меньше — но кому просто не повезло, успеть что-то совершить.
— Успеешь еще — сказал Итин — себя пока воспитай, укрепи и закали. А дела — на всех нас хватит!
Мальчишка оказался упорным. После рабочей смены, он убегал в лес за шесть верст, или зимой на лыжах в поле. По купленным на скопленные гроши книгам изучал гимнастику и бокс, упражняясь на подвешенном мешке с опилками. Обливал себя ледяной водой. Бегал по полю за зайцами с отцовским ружьем. Был бит отцом за порчу двери, в которую по-индейски метал ножи и топор. Сначала дрался до крови с соседскими ребятами, даже старше себя — затем, став их признанным вожаком, махал с ними руками и ногами по добытой где-то книге о японской борьбе. При этом никогда не был замечен в пьянстве и хулиганстве, обычных среди рабочей молодежи. Вовсе не пил водки, и даже не курил — зато много читал. Сначала — детективы про сыщика фон Дорна, а также Жюль Верна, Стивенсона, Майн Рида. Затем, все чаще — и запретную литературу. Хотя сам Итин однажды, чтобы побаловать мальца, подарил ему Грина — «Дьявол Оранжевых Вод»: индейцы, ковбои, путешествия, на обложке суровый герой с двумя кольтами, и скачущие мустанги.
В последний раз они виделись восемь лет назад. Еще до войны, не гражданской, а той — предшествующей. Итин тогда уже был в партии видной фигурой. Они шли вдвоем по лесу, собирая грибы. Небо было серым, но без дождя. Шуршали под ногами опавшие листья. Из кустов выскочил заяц — и напуганный, метнулся прочь.
— Возьми меня с собой — снова просил его младший брат — я буду делать все, что ты скажешь. Как ординарец, или вестовой. Честно.
Итин снова отказал. Так вышло, что в деле, по которому он приехал, второй был бы помехой. Обещав брату забрать его с собой в следующий раз, и выполнив задание партии — опасное и очень трудное, он уехал. Больше они не встречались — до сегодняшнего дня.
— Поговорим, брат — сказал горелый главарь — искал я тебя. Все эти годы — и думал все, что скажу, когда увидимся. Поговорим, брат — раз уж так вышло, в самый последний раз.
Итин лишь презрительно сплюнул. Себя лишь марать — с гадом болтать.
— Вот этого не надо — сказал бывший младший брат — никого я не предавал. Все делал по твоему уроку — жил по совести, своим умом дорогу искал, ничего и никого не боялся. И воевал умело — если на фронте шесть лет, и живой. Искренне хотел — с вами. А вышло вот — командир полка особого назначения, кого вы называете «лешаками», ваших положил без счета. Самому любопытно — как же так случилось? Потому — ты выслушаешь меня, братец. Уши заткнешь — руки прикажу связать.
Он сделал знак ефрейтору, тот подтолкнул Гелия. Юный боец бросил жадный взгляд на автомат, лежащий рядом на церковном крыльце.
— Даже не думай — заметил горелый — не успеешь. Не убью, но руки-ноги переломаю. К тебе это тоже относится, старшой. Не надо на меня кидаться — будет только хуже. Сядь, поэт, вот на те бревна, и слушай внимательно. Может — после в книжку свою вставишь.
Сержант и ефрейтор также отошли и встали у дальнего конца бревен, сложенных у стены. Закурили — поглядывая на Гелия с Итиным, как обученные псы, пока смирные, но по первому слову хозяина готовые разорвать.
Итин молчал. Гелий тоже.
— Отец с матерью как? — спросил горелый — это хоть можешь сказать мне? Я им однажды даже написал, просто пару слов — что жив, не забыл. А когда в тылу вашем был — сумел подбросить в вашу полевую почту, указав обратный номер — какой-то вашей дивизии. На Шадре это было — интересно, получил ли он?
— Умер отец — ответил Итин — в первую зиму. Из-за тебя умер — из-за таких, как ты. Кто войной на народ пошли, не желая свободу ему отдать.
Он вспомнил ту зиму — первую после революции, и самую тяжелую. Чтобы республика труда выстояла — всем приходилось работать до полного истощения; кто не мог дальше трудиться в полную силу, тех безжалостно снимали с довольствия, заменяли новыми людьми. Отец исправно работал — хотя его, как беспартийного, перевели из мастеров в простые слесаря. Затем его отставили в трудовой резерв, без содержания — решив взять на его место другого, из молодых и проверенных.
— Ты уж извини — сказали в завкоме — сейчас кто не тянет на полную, тот тормозит: время такое — видишь сам. А у тебя — и возраст уже, и здоровье не то. И пайки у нас ограничено выделяются, по числу мест рабочих — лишних нет. Весна близко — потерпи как-нибудь. А как мировая революция победит — будет тебе по справедливости заслуженный пенсион. Недолго уже осталось.
Отец все равно приходил со всеми к началу смены. Даже без места — готовый любому подсобить; за это рабочие делились с ним пайком. Но еще через месяц, после наглых вылазок врага, в охрану к воротам встали уже не заводские дружинники, а чухонские морпехи — имевшие строгий приказ не пропускать посторонних. Тогда — все еще жили по домам; казарменное положение на заводах было введено позже. Отец пришел в завком, чтобы выдали пропуск — требовал, просил, умолял.
— Не могу! — кричал председатель, знавший отца двадцать пять лет — тебя на довольствие поставить, значит у кого-то паек отнять придется, лишних нет! Меня же в ревтрибунал, за такое — детей моих пожалей! Не положено, по твоей категории — у тебя же заслуг перед революцией не числится никаких!
Была ранняя весна. Снег уже сходил проталинами. Раньше в это время отец по выходным ходил в поле с ружьем, чтобы подстрелить зайца или куропатку. Но ружье отобрали, и не было уже сил. Отца нашел патруль народной милиции, постучавшийся в сохраненную за ним комнату — чтобы вручить ему повестку о мобилизации на торф.
— Вот черт! — сказал старший патруля — еще одной человеко-единицы не хватает, как же план по рабсиле выполнить? Тьфу!
Он плюнул на пол, растер сапогом, выругался еще раз — и вышел. Но все же прислал после забрать тело — чтобы похоронить по-людски. Вместе со всеми, кто не пережил тяжелую зиму.
— Ну и кто из нас гад? — зло спросил бывший младший брат — ты, наш геройский борец за всеобщее счастье, не мог своей власть паек дать? Я всегда его за батю считал, своего-то не помню почти. Но тебе — он в самом деле родной!
— Нельзя! — ответил Итин — по справедливости, чтобы партия, как все. Мы — сами с голода умирали, но никто сказать не мог: партия жирует, а народ голодает!
— Ты меня за дурака не держи — как такое делается? Тайно бы дал — чтоб не смущать никого!
— Нельзя — упрямо повторил Итин — еще хуже выйдет, если все ж узнают: шептаться по углам будут, подозревая и там, где нет! И кумовство, опять же: если своему дать — выходит, отнять от кого-то более нужного. А кто более для дела ценен — Партия одна лишь решает, не я. Потому что коммунизм — это всех поднять, сразу. Иное будет — не по правде.
— Мать где? Если и она… Ох, не сдержусь — убью тебя, старшой, прям сейчас.
— Не знаю — ответил Итин — еще осенью отец ее домой отослал, где с едой легче. А на письмо предзавкома, когда отца хоронили, ответ был — деревня сожжена при кулацком мятеже, судьба такой-то неизвестна. Может быть, и жива.
Они помолчали чуть. Оба.
— Отец один знал — произнес наконец Младший Брат — что я живой. Не усидел я тогда, как ты уехал, стал ваших искать. Хотел честно — в революцию, как ты. Чтобы, когда ты в другой раз — а я уже с вами. Пришел я, к вашим — а они решили, что я их выслеживаю. И разбираться не стали — хотели прикончить на берегу, и в воду.
Итин знал — так бывало не раз. Полиция работала очень хватко и умело — засылала шпионов, или даже вербовала кого-то из товарищей, имевших несомненные заслуги. И если в самом начале можно было отделаться высылкой или поселением — то очень скоро самым частым приговором стали полярные рудники, откуда обычно не выходили живыми. Много комитетов, в разных городах, погибли до последнего человека — пока партия научилась быть беспощадной при малейшем подозрении. Это было жестоко, но необходимо — потому что позволяло ценой жизни одного обезопасить всех.
— Чутье спасло, вовремя обернуться. Еще — приемы японские, и финский ножик в кармане. И вышло — что это я вашего убил. На фронте после приходилось не раз, гансов — в рукопашной. Или часовых снимать — без шума, штыком. Но тогда греха на мне еще не было: первый убитый мной был — кого я искренне хотел «товарищем» назвать. Так вот и началось. Ваши — искали меня тогда?
— Нет! — ответил Итин — подумали, утоп ты тоже. За все время с тех пор, я у отца один лишь раз был, перед самыми Десятью днями — до того или был далеко, или опаска была, что следят. Тогда лишь — про тебя и узнал. Из тех, кто тогда в организации был — никого почти не осталось. Жаль, конечно, что с тобой вышло так — помянули тебя, вместе с нашими товарищами, погибшими за правое дело — и надо было борьбу продолжать. Отомстить эксплуататорам, которые принудили нас — так со своими.
— Я, как домой пришел, отцу одному лишь все рассказал. Он и присоветовал в юнкерское идти, чтобы ваши не достали — как раз тогда начали и неблагородных брать. Я в ту же ночь — вещи взял, и исчез. Отец письмо дал, земляку своему, прапорщику из училища — тот помог мне, на первых порах. Не так страшно было, как обидно — что без вины. И тебя — рядом нет.
— В тот раз меня взяли через три месяца, в Зурбагане — и на поселение, в Шантарский край. Я бежал, и через год снова попался — в Вильно. На этот меня — на Карские шахты. Снова бежали — в полярную ночь, через ледяной ад. Война уже началась — и теперь мне был бы расстрел без суда, если б поймали. Нас обкладывали умело, как волков — товарищи исчезали, один за другим. И мы знали, что рано или поздно — всех нас. Вождь нас спас — если бы он не приехал, и не началось, я продержался бы на воле полгода-год, не больше. Так вот вышло.
— А я вот на фронте, за отечество — где восемь месяцев жили, по статистике, до ранения, или насмерть. Слова твои я помнил, старшой — себя сделать правильно. Чтобы готовым быть — когда дело правое тебя найдет. За революцию воевать придется — я и старался, на курсе одним из первых. И все ждал, что ты объявишься — с отцом сговорено было о словах особых в письмах, чтобы не понял больше никто. Ждал, что встретимся — и я с вами буду, как прежде. Встретились вот — и против стоим. И ведь никто не заставлял — отрекись. Никому — не продавался. И ни единой вещи не сделал — чтобы, как ты говорил, перед совестью своей после было бы стыдно. А вышло — вот. Ты там — а я тут.
Как война началась, мне еще доучиться осталось — но всех нас подпрапорщиками досрочно, и на фронт. А на фронте, брат, это как щенка в воду — если не утопнешь, то научишься; а я оказался и способным, и везучим. В мирное время чины по выслуге и знатности — а на фронте, когда ротного убьют, проще назначить самого толкового из взводных. И стал в конце — капитан, командир батальона разведки броневой бригады. Все было, за три года — и ползком через фронт за «языком», и солдат вперед поднимал, и танк в атаку водил, гансов положил — не счесть. Морды не бил, кровью солдатской чины не выслуживал — иначе сгорел бы в танке еще тогда, на Карпатской Дуге. Встречный танковый бой под Сандомиром — когда прямое в бензобак, и тридцать секунд лишь, чтобы выскочить, кто сможет: затем машина уже как раскаленная печь. А меня осколками, и люк командирский не открыть — заклинило, или сил уже нет. Как меня водитель с радистом вытащить успели — до сих пор не пойму. Все ж любили меня солдаты, еще и за два «Александра», положенные по статуту «за победу над врагом с меньшими своими потерями» — на фронте таких уважали куда больше тех даже, кто с геройской Звездой. Тогда фронтовикам после ранения десять суток домой — было свято. Домой приехал, железнодорожники бастуют, поезд вместо Варшавского вокзала — на Выборгский. Выхожу — на площади столпотворение. Говорят — Вождь приезжает — так и оказался я в толпе, в тот исторический день…
— Ты там был?! — перебил Итин — врешь! Почему тогда не встретились? Или ты после — наших давил, на баррикадах? Накануне я у отца ночь целую сидел, обо всем говорили, тебя вспоминали — почему отец ничего мне не сказал, если знал?
— Не знал он. Дурак писарь бумаги перепутал — извещение отец получил, что убит я. А я писать не стал — думал, радости больше, когда приеду. Вождя вашего, на танке видел — и тебя с ним. Кстати, танк был не тот, что вы там памятником поставили, видел фото в вашей газете — не новейший «сорок четвертый», а старая бэтешка. Я даже удивился тогда, неужели такие где-то еще остались, на третьем-то году войны? Не нашли, что ли — музейный экспонат?
Итин лишь пожал плечами. Это ж ясно, для воспитания масс — как прежде полководцу положено вести за собой армию, сидя на рослом статном жеребце, а не на тощей малорослой лошаденке.
— И тебя я видел — продолжил Младший брат — ты еще помог Вождю на башню влезть. Я несколько раз тебе крикнул — но шум был, и не протолкаться, хоть близко. Тут Вождь говорить стал — я слушал, и со всеми «ура» кричал, потому как был согласен. К стенке «жирных индюков» — мразь спекулянтскую, всех, кто на войне состояние нажил, а особенно Рыжего Чуба, публично сказавшего что если народ еще не мрет с голода, то значит, он имеет в тайне от казны какие-то доходы, пока не облагаемые налогом; до чего не везло нашей державе на премьеров. Неправедно нажитое — экспроприировать, то есть отобрать, и справедливо поделить. Новую власть выбрать, из своих, чтобы свобода и демократия. Умел ваш Вождь говорить — не отнимешь! Речь его ту, августовские тезисы — я сам после, на фронте, солдатам своим, по газете читал. И мне тоже — «ура» кричали.
Тут кто-то крикнул — на чердаке жандармы! С пулеметом — сейчас стрелять начнут! Я — с теми, кто туда: тут больше задавят, чем пулями положат, ну а воевать мне было привычно. Нашли мы там троих — только без пулемета, просто прятались «сиреневые» от толпы, их и сбросили — прямо в колодец двора, с шести этажей. А когда я снова вниз — не было вас уже. Сам бы охраной Вождя командовал, так же сделал бы — сразу в танк, люки задраить, и ходу. Думал — встретимся еще.
Вот так — я в революцию и попал. Это ведь я — был тем неизвестным солдатом, кто возглавил штурм полицейского участка на набережной, который возле «египетской гробницы». С теми из участка у меня счеты были — еще с пролетарских моих времен. Увидел, как ваши дружинники неумело лезут под огонь — и организовал все, как надо. Знаешь, я не раз видел рукопашную в окопах, когда несколько сот озверевших двуногих режут и рвут друг друга на части — но даже мне тогда противно было, что ваши после сделали со сдавшимися городовыми. Это потом — насмотрелся, привык.
— Справедливый гнев народа — сказал Итин — припомнили им, за прежнее все. За то дело тебя искали тогда, чтобы наградить. Орденов наших еще не было — но что-нибудь придумали бы.
— А я тебя искал. Трижды приходил к вам, в ваш самый главный Комитет — но так выходило, что ты всегда был где-то. Вождь по коридору с чайником шел — меня чуть не ошпарил, задев среди толпы. Где ж ты был, старшой? Ведь встреться мы тогда…
Итин помнил Десять Дней — как сверкающую череду событий. Надо было создавать комитеты, как и отряды рабочей гвардии; надо было печатать воззвания и везти их распространять; надо было принять делегатов из провинции и связаться с товарищами на фронте и в других городах; надо было освободить из тюрьмы товарищей и поместить туда внесенных в списки «подозрительных». Затем еще оказалось, что чтобы город не замер в параличе и голоде, надо поддерживать работу электростанций, водопровода, трамвая, пекарен, почты, пожарных частей. Время вдруг понеслось галопом, и надо было сделать и успеть столь много, что не оставалось минуты даже чтобы умыться и поесть. Ночевать приходилось в самых разных местах — в заводском комитете, в цеху, в казарме, в какой-то квартире; днем же все бежали, кричали, искали кого-то; приходилось думать, как бы оказаться сразу в паре-тройке разных мест.
— Ты бы к любому обратился — сказал Итин — ведь мы же, партия, все заодно. Нашли бы тебе дело…
— Я же никого там не знал! Главное, не знал — может, у вас все еще ко мне счет? За убитого вашего — вдруг, я бы тебя подвел? Потому — только тебя и искал, тебе бы все, как на духу выложил. А вышло — опять. Ходит, спрашивает — подозрительно, документ глянули — узнали, что «благородие». Тут же схватили и куда-то повели, с матюгами и прикладом в спину — а я, после городовых на набережной, вовсе не верил в ваш гуманизм: к стенке без вины не хотелось. И не оставалось ничего — трое ваших было, с красными повязками, но выждал я случай, и положил всех голыми руками, насмерть, без шума — как гансов; после фронтовой разведки, литературный фон Дорн передо мной щенок неумелый. Оружие взял, бумаги свои обратно, для маскировки повязку снятую на рукав нацепил — и вышел спокойно, как вошел.
— Сукин кот, так это был ты? — воскликнул Итин — мы же тогда решили: заговор, трех наших убили прямо в Комитете! Первые бойцы народной милиции, павшие за революцию — с почестями и оркестром хоронили! Ведь хорошие ребята были, из заводских, сознательные, добровольцы — и семьи у них! Зачем — сослался бы на меня, сказал бы…
— Так ведь не знал я: вдруг тебя бы подставил? И привычка с войны — если кто против тебя с оружием, то или его жизнь, или твоя, если успеешь — совесть чиста. Так и вышло вот — второй раз. Сначала один, после сразу трое.
— Тебя искали — сказал Итин — вот уж точно бы к стенке поставили, если б нашли. Как раз после Вождь и приказал: создать особую комиссию, для борьбы с контрой. Первое дело это для нее и было — по всему городу контру ловили, допрашивали — и в расход. Всяких чинов жандармских, и прочих, кого подозревали… Морда в бинтах — думали, маскируется, вражина!
— Что ж не нашел? Я не прятался — у отца с матерью жил, все эти дни. После такого, в Комитет ваш мне лучше было не являться — но думал я, что к родителям-то ты хоть раз придешь. С соседями говорил, с ребятами с заводов, из дворов соседних, в цеху нашем был не раз, еще в событиях всяких участвовал — только говорил всем, что рядовой солдат. В патрулях красноповязочных на заводской окраине были дядьки из цеха, кто отца хорошо знал, а кто-то и меня еще помнил; да и смотрели те патрули больше, чтобы пьянства и безобразия не было — какая в рабочей слободе контра? Я ж имени своего не скрывал тогда — неужели, тебе после никто ничего?
— Слишком много было всего — ответил Итин — и не такое терялось. А к родителям — так и не смог я тогда, все думал, выберусь, раз здесь я, и каждый раз что-то важное было. А после — спешно отправили меня из Питера, комбеды организовывать. Но где ты в последний день был, когда все решалось? Когда нас там — расстреливали и давили?
— И глупо, что давили: вам повезло, что против вас командовать — не нашлось опытного фронтовика. На месте светлейшего князя, я бы не стал губить технику в узких улочках, где из-за каждого угла граната, а взял бы форты Лебяжьего и Красной Горки — шестнадцатидюймовые береговые батареи, башни развернуть, как раз бы до города достали. Тихо бы взял, и легко — при том бардаке и развале дисциплины. Корректировщиков с рацией на любую пожарную каланчу — и раскатать в пепел и ваш Комитет вместе с Вождем, и еще несколько кварталов вокруг. После — одного верного батальона хватило бы, зачистить тех, кто уцелел. И посмотреть — насколько прав социализм о роли личности в истории.
— Ах ты!! — Итин хотел вскочить. И задохнулся, упав обратно — от резкого тычка под ребра.
— Сидеть! — приказал Младший — успеешь еще помереть, герой ты наш! Жизнь одна, и как сказал не помню кто, но шибко умный — прожить ее надо так, чтобы не скучно было вспомнить.
— Не стыдно вспомнить — поправил Итин, отдышавшись — эх, ты! В казаки-разбойники не наигрался?
— Может быть — согласился Младший — только, тогда я искренне за вас был. Сам себя — вашим считал. И очень может быть, с вами был бы тогда — на баррикадах. Но — не совпал мой отпуск с вашими Десятью днями, на один лишь тот самый, последний день. Войны никто не отменял — в поезде я был, на фронт обратно. И о победе вашей — после уже узнал, как добрался.
На фронте очень скоро тоже началось — братание, штык в землю, все по домам! В бригаде нашей осталось — восемьсот из штатных четырех тысяч. Идиотизм — командиров выбирать, на войне! В бронечастях все ж народ толковый был, больше из пролетариев, чем из землеробов — потому, в командиры выбрали меня: и командовать умею, и солдат берег, и классово близкий — выходит, от вашей власти я командирство получил. И в армию вашу, Рачье-Козлячью, извините, рабочее-крестьянскую, мы перешли, не переформируясь — те же люди, в ротах и взводах, только флаг красный, ленточки красные вместо погон, и товарищи вместо благородиев. Вы теперь — власть, значит ваш указ для нас — закон. Готовы были — подчиняться. И Рыжего с его компашкой — любили не больше вас.
Так и стояли в полной боевой — пока ясно не стало, что гансам тоже не до войны: и у них началось. Тут и нам — приказ о передислокации. В тылу — уже полный развал, и как мы через все это, со всей техникой и имуществом, не бросив даже паршивой полевой кухни — хоть книгу пиши. Но прибыли куда указано — Шадринский округ, откуда «три года до границы скачи» — и ни кормежки, ни жалования. Что ж, мы все понимаем — самим надо обустраиваться, коль никому до нас дела нет! Все ж не фронт — и то хорошо. Даже учения проводили — чтоб боевая подготовка не терялась.
— Если после перемирия, значит ноябрь это был, не раньше — заметил Итин — тогда порядок революционный уже повсюду был! Как же вы после-то — на той стороне оказались?
— Эх, братец, все было б иначе, не сделай ты меня таким… Шило в заднице, очень хотелось революции быть полезным, чтоб рядом с тобой — когда все ж встретимся. Сидели там какие-то, в Совете, под флагом красным — но как-то вышло, что они меня стали слушать, а не я их. Я тогда литературы вашей начитался — местные даже меня поначалу партийным считали, по разговору. После, когда узнали — просто предложили мне билет выписать. А я — отказался, из гордости глупой. Хотелось — чтобы из твоих рук получить, когда увидимся наконец.
— Врешь! — сказал Итин — советы, это ж в самом начале было, еще до комбедов: упразднили их уже к ноябрю. А билет партийный — это ж только Комитет местный выписать мог, никак не Совет!
— А какая разница? — спросил Младший — как они у вас числились: совет, комбед, комитет? Сегодня одно, завтра по-другому называется — ну и я там же, со СВОИМ пониманием текущего момента, как ты меня учил — чтобы, за новую жизнь, и по правде. Как старший воинский начальник — обеспечивал революционный порядок во всей округе. Охрана территории, патрули — все войной отработано было: бандитов, мародеров, уполномоченных всяких, кто грабит — по законам военного времени. Народ — был доволен. Старосты сельские к нам даже рекрутов вели, как в прежнее время — до полного штата бригаду пополнили, обучили как могли; фронтовиков бывших брали охотно — тех, кто поначалу по хатам, а осмотревшись решил, что в смуту спокойнее в строю!
Ты мне скажи, старшой — кто это придумал: гансов пленных за хлебом послать? И не надо мне про интернационализм — всего лишь, желание из-за колючки прочь: у новой власти проблемы с народом — яволь, герр комиссар, усмирим! Представь, как это — где неприятеля с времен наполеона не видели, и вдруг такая орда, что по-нашему лишь «эй, матка, курка, яйки!»! А мужики только с фронта, три года против этих самых гансов, и винтовочки многие с собой прихватили, в смутное-то время! А гансы помнят, что эти славянские недочеловеки не только им не покорились, но еще и крепко морду набили. Знаешь, какой это был интернационализм?
Не знаешь — так расскажу. Отбирали — не долю установленную, а все вчистую, и не только еду, но и вообще, ценное все. Кто слово скажет против — пулю на месте. Баб и девок — толпой насиловали. Скотину, которую с собой увести не могли — резали и жрали. Избы жгли, каждую пятую по улице — просто так, для устрашения. А если сопротивление — штурмом деревню взяв, загоняли выживших в амбар, всех — баб, детей, стариков — и сжигали живыми, как в оккупированном Полесье.
Женщину одну помню — молодая совсем, а уже седая. Рассказывала — когда к ней пришли, она умоляла — хлеб не забирайте, у меня ж дети малые, чем их кормить? Ганс тогда ребенка ее за ножки взял — и головой об печку. И говорит спокойно — видите, фрау, эта проблема решаема. Отдадите спрятанное — или остальных так же?
Ну и мы их — по совести и правде. Как ты меня учил. Боекомплект загружен, баки доверху — к бою готовы. Разведка доложила, где и когда гансы к нам, место выбрали удачно, замаскировались. А они — даже без дозора, как по своей земле… В головную машину — снаряд, затем в последнюю — чтобы не удрали. Кто успел из колонны в лес — тем еще хуже: как мужики их вылавливали, так гансы те после жалели очень, что не повезло им в машинах своих сгореть! Пленных — не брали. У себя гансов вывели, как клопов — к нам под защиту, из губерний соседних, целыми деревнями бежали! А я доволен был — и верил, что все делаю правильно!
И вдруг, приезжает от вас чрезвычайный комиссар. Фамилия какая-то еврейская — Мех… или Менж… — тьфу, не помню уже. Приказал — построиться, бумагу достал, зачитывает. Я слушаю — это ж приговор ревтрибунала, меня — за срыв хлебозаготовок! В рядах ропот, качнулись уже все — комиссар за маузер, хотел меня, как собаку, прям на месте, показательно! Вот когда я пожалел, что билет от Совета-Комитета не взял — был бы партийным, другой бы стал разговор — а так все ясно: как бывшего офицера! Однако, жить хотелось, и умение никуда не ушло — он уже маузер мне в лоб нацелил, а я все ж раньше успел! И мои не оплошали — прежде, чем свита комиссарова опомнилась, ее всю туда же. Однако же, флаг красный не спускали. Думали — разберутся, ведь по правде все!
А нас всех, разом — в мятежники! Без всяких переговоров — надо драться, или погибать, ни за что. И тут к нам — делегаты от белопогонных, на предмет боевого союза. Я ж Верховного прежде еще знал — он надо мной корпусным был, в Карпатах, на той еще войне. И он меня помнил — как второго «Александра» вручал. У нас — выбора нет. Так вот и вышло — что с тех пор, на той я стороне. Солдаты мои — со мной, как с фронта привыкли. Что интересно, партийные местные, из совета-комбеда — тоже! Я никого не неволил — честно сказал: кто хочет!
— Иуда! — бросил Итин — гад! Мало того, что сам, так еще и других, за собой! Кто верил тебе — по несознательности. За одно это — к стенке тебя!
— А вы сами — кто? Не иуды? Я ведь тоже читал — «Государство революции», что Вождь наобещал. Что диктатура пролетариата — это лишь временно, пока народ свою подлинную власть не выберет! И что будет тогда всем — свобода и справедливость! А вы сели — и сразу все Советы разогнали! Диктатура — даже не пролетариата, а Партии! Крестьян в комхозы — подъем, обед, отбой по сигналу, на работу строем, поля колючкой огорожены, чтобы не сбежал никто! Рабочих — на казарменное положение: за ворота нельзя, семьи врозь, и койка с пайком вместо зарплаты. Все как прежде, даже хуже еще — только вместо царя, вы! Может, и свобода ваша — вранье? А просто — из грязи в князи захотелось? Сами сели, а на народ — плевать? Чрезвычайкой кормите, вместо хлеба?
— Плевать? — спросил Итин — ладно, ЧеКа та самая, это понятно. А чрезвычайная комиссия по борьбе с голодом? По борьбе с неграмотностью? По борьбе с сыпным тифом? ВОСЕМЬ чрезвычайных комиссий было, и та самая — лишь одна из них! Это как — плевать? Время сейчас такое — чрезвычайное. Пока не кончится война..
— И наступит всем гонгури! — усмехнулся Младший — читал я тоже, про будущее ваше светлое! Где все, как винтики: работают, где им укажут, и живут, где прикажут! Всегда готовые завтра поворачивать реки, сносить горы, строить мост через Берингов пролив, или осушать Антарктиду. Ехать куда пошлют, без имущества — на новом месте все будет: и койка, и пайка, и вещдовольствие. Домов своих ни у кого нет, едят все в общей столовой, одеваются из общих складов — по единому установленному образцу. Семей тоже нет — все живут со всеми, как в стаде, если нет медицинских противопоказаний — и дети не знают родителей, сразу забираемые в светлые и чистые воспитательные дома, на попечение особого персонала. Все разговоры, и даже мысли — лишь о том, как лучше сделать работу. Усомнившиеся получают особые пилюли — и снова вливаются в ряды, сразу все осознав и раскаясь. Как прочел я, так и решил: не по пути мне, в ТАКОМ будущем жить!
— Эх, ты, дурак! — сказал Итин — герой паленый, как водка в заставском трактире!
— А в рыло? — спросил Младший брат — или, кроме ругани, ответить нечем?
Итин вспомнил — первые дни, после Десяти. Первые указы революции — о начале переговоров к перемирию, о разделе земли между теми, кто обрабатывает, о выборах в новую власть — Мир, Земля, Вся власть Советам. Сначала радость — а после голод, в первые же недели. Хотя урожай в тот год был хорош — не было ни засухи, ни морозов, ни саранчи. Однако, мужики, из крепких хозяев, не везли хлеб в города — ожидая «настоящую» цену. Уполномоченных, пришедших тогда еще с уговорами, не с оружием — даже не били, просто смеялись в лицо:
— А спляши-ка, городской, перед нами — чтоб, в два прихлопа, три притопа! Понравится, может что и дадим. Тит Титыч, кажись, у вас в амбаре зерно подгнило — для хорошего человека из города, такого добра не жалко! А вы кыш отселева, голодрань батрацкая, работать надо — зрелища только для людей!
— Земля, отныне и навечно, общенародная собственность, единая и неделимая! — заявил тогда Вождь — вместе со всем, что на ней растят. Мы не сумеем получить достаточно хлеба от множества малопроизводительных мелких хозяев — и к тому же, общенародное владение имеет громадные преимущества, как с точки зрения воспитания масс, так и более высокой производительности, удобства механизации и организации. Потому — нет растаскиванию земли по наделам, и да здравствуют коммунистические сельские хозяйствования — комхозы!
Народ в ответ схватился за винтовки, обрезы, и вилы с топорами. И побежал в армию белопогонных. Так началась гражданская война…
— Мы верили — сказал Итин — мы сами верили, тогда. Что революция придет, как в цветах: общее счастье, справедливость, всем сразу. Мы верили — что достаточно лишь свергнуть эксплуататоров. Дать народу свободу выбирать — и он, конечно, выберет нас, Партию, свой авангард! Кто, как не мы, лучше знаем его нужды и беды? Кто не жалел крови и самой жизни — ради его блага? Кто лучше может вести его к свету, руководить великой стройкой нового мира?
И вдруг оказалось — мы ошиблись. Что века угнетения — испортили человеческий материал, сделав его совсем не таким, как мы представляли. Что очень во многих, да почти в каждом — внутри сидит маленький буржуй, которому лишь дать волю… И если ТАКИМ дать свободу — каждый, по мере сил, или станет новым эксплуататором, или затащит в свой угол все, до чего дотянется, и меня не тронь!
Итин вспомнил — надписи мелом, на дверях ячеек: райком закрыт, все убиты! Контрреволюция под лозунгом — вся власть Советам! Кроме Партии, откуда-то взялись еще девятнадцать — и народ, по забитости и темноте, готов был выбрать неизвестно кого. Новоизбранные Советы расстреливали коммунистов — «власть Советам, а не партиям»! Свобода! — и часто власти не было ВООБЩЕ — при разгуле суверенитетов и бандитизма, местные Советы всерьез ВОЕВАЛИ между собой — за спорные территории, всей имеющейся в наличии вооруженной силой. В Киеве в один день сожгли Печорскую лавру и перебили двадцать тысяч евреев; в Риге и Гельсингфорсе вешали на городских фонарях офицеров вместе с коммунистами; повсюду резали инородцев — чеченцев, таджиков и прочих; нельзя было понять, где идея, а где сведение счетов, и просто грабеж! Все воевали со всеми — в Петрограде еще слушали Вождя, но в каждом уезде сидела уже своя власть, чем дальше тем сувереннее, и грабила все, до чего могла дотянуться.
Под вагоном территория А в вагоне ДиректорияИ сказал тогда Вождь:
Народ пока не готов к свободе. Переходное время железной пролетарской диктатуры продлится до тех пор, пока не возрастет сознательность народа! Мы, авангард, поведем всех за собой — железной рукой, вперед к счастью! Пролетарское принуждение — не ради эксплуатации, а в помощь тому, кто слаб сам: по капле выдавить из себя буржуя!
— Себя без остатка для дела общего отдать! — сказал Итин — сперва по приказу, после привыкнешь, научишься с радостью! Людей меняем, другими делаем — как новую породу выводим. Машину общества собираем — лучшую. Кто-то при этом в отходы, в стружку, в щепки — что поделать, иначе детали не выточить, для машины. Эх, жалко — не научил я тебя главному! Смелым, сильным, умелым, даже честным — не главное это. Мы — сами не знали, тогда. А первое самое: готов ты частью влиться, себя растворив — или по-прежнему, за себя? Вот и остался ты — тот же мальчишка, играющий в индейцев и охотников — но без партийного руководства. Партия наша — это сила, ум, честь общие! А ты — своим умом шел, и в стороне от всего! И как бы ты ни хорош был, сам по себе — если частью общего не хочешь, значит, стружка ты бесполезная: цепляешься пока, а все рано — утиль! Зря я тебя — от дела берег. Убили бы тебя тогда — и то для тебя лучше бы вышло: человеком бы остался. Нас в будущем, светлом и неизбежном, добром помянут — а тебя и не вспомнит никто: сдохнешь впустую, или жить будешь впустую! Вот и поговорили — теперь можешь меня кончать. Только мальчишку пожалей — если убьешь, так сразу. Прощай.
Все было сказано — все ясно. Слышно было, как бранятся мужики у амбара — забирая обратно провизию. Сновали по деревне солдаты в пятнистом. Светило солнце, близясь к полудню. В небе кружилось воронье. И лежали поодаль мертвые тела — бойцов отряда, кто вчера еще сидел здесь у костра и мечтал о светлом будущем, когда люди полетят к звездам.
— Да, хороши твои слова, старшой! — заметил Младший — ну а если, не будет мировой революции? Никогда. И коммунизма обещанного — тоже.
— Револьвер мне дай. С одним патроном.
— Застрелиться хочешь?
— Нет, тебе пулю в лоб пустить!
— Это что-то докажет?
— Нет. Но хоть ты сдохнешь! Если ты в коммунизм не веришь, в цель единственную, ради которой жить и умирать стоит — зачем тебе жить?
— А просто. Жить — как все.
— Это не жизнь. Существование. Если — без цели.
— А если наперед знать, что будет? Лет через семьдесят. И черта с два — вы там увидите коммунизм! Эй, поэт — знаешь, какие песни сочинять о нас будут потомки?
Было красное небо, и белый костер. И зигзаги подстреленных птиц. И ревущая конница с бешеных гор. И разливы горящих станиц. Как в тифозной горячке, металось «ура» — По ковру из разрубленных тел. И в атаку, под музыку, шли юнкера — За орлом, что по небу летел. О, мятежная юность, восстания пыл — Хочешь, брата врагом назови. И отца пристрели, чтоб тебя не убил, Захлебнувшись в сыновней крови. Революции честь — эй, Буденный Семен! Видишь, кожанок тысячный строй? Те, кто выживут здесь, лягут в тридцать седьмом. Там, у лагерной стенки сырой. Чтоб водили туристов по вашим костям. И, с усердием всех холуев, Сладкозвучно плели иностранным гостям О романтике грозных боев. Чтобы влез на трибуну ответственный вор, Лекционно-запечный паук. Чтобы мерзко завыл красногалстучный хор. Во главе с кандидатом наук. Безоглядные рыцари глупой войны! И жестокие юноши дна. Неужели в земле вы не видите сны? И не снится вам эта страна. Может, нас вы там видите, грязных и злых? Может, слышите наглую ложь — Вот цена ваших огненных дней боевых. Вот за что вы кричали «даешь!». И за голод, за муки, за ужас атак, Вам награда — оскал сатаны. На крови — может вырасти только бардак. Где и кровь не имеет цены.— Это — не я сочинил. Это про вас будут петь — лет через семьдесят. Я — сам видел. Столько-то лет ТОМУ ВПЕРЕД, прямо как у Гонгури. Только — роман про меня писать некому.
Молчишь, не веришь? Ладно. Но — слушай. Я ведь — за ЭТИМ тебя искал, чтобы рассказать. Не веришь — так врать не мешай.
Друг у меня был. Из студентов бывших. Про социализм не думал, наукой занимался, даже на фронте, каждый час свободный в тетради что-то чиркал — как этот твой поэт. Погиб он, на Шадре. Мне, до того, говорил — если случится что, бумаги отцу, адрес есть. А желание товарища последнее — свято. Поскольку о тайне сказано не было, пролистнул я тетрадь, но ничего не понял: формулы там, выкладки, цифры — я в баллистике еще разбираюсь, а не в физике тонких материй. Адрес был в городе… ну пусть будет К. — вдруг там еще люди причастные остались, вы же в Чеку их потащите. Был тот город тогда на нашей стороне. И случилось вскоре мне там оказаться — по делу, к истории моей отношения не имеющему.
Ну, нашел я там его отца. Тоже профессор — как у этого поэта. Передал я тетрадь и спросил, любопытства ради, и для вежливости, и чтобы разговор перевести — важное это, или так себе. Ему тоже, наверное, выговориться хотелось. Короче, открыл он — что время может быть не только прошлым-будущим, но и параллельным! Что рядом с нашим миром может быть другой, или даже несколько — где все иначе. И даже эксперимент успел поставить, еще до войны — на каких-то там протонах-электронах. Эффект какой-то обнаружил — есть! А сын — помогал ему, математически рассчитывая. Уравнения вывел — что, при подстановке коэффициентов, меняется мир. На фронте — считал. Той умной головой — в которую, ваша пуля!
Был там еще один, врач. И рассказали они мне такую интересную вещь: хотя пройти в иной мир материально нельзя — не изобрели еще такую большую машину, только на атомы пока хватает, но есть другой путь. Что мозг наш — что-то вроде радио, и можно услышать того, кто в том мире настроен на ту же волну, понятнее объяснить не могу. И не соглашусь ли я участвовать в эксперименте, прямо в тот же вечер: все уже готово. Война — а они науку свою вели — и страсть как хочется узнать, так ли все.
Что делать — любопытен я. И хотелось — хоть чем-то профессору помочь, за сына. Процедура была — кресло, электроды на башку, укол чего-то — в общем, детали опускаем, как к делу не относящиеся. И проснулся я — как у Гонгури, другим человеком, в светлом будущем. Здесь прошло всего шесть часов, пока меня откачали — а там целый год! Все ж хорошо, что капитаном бронеразведки был, а не интеллигентом слабонервным — в здравом уме остался. Профессор с врачом — до утра, целую пачку бумаги исписали, стенографией, пока я рассказывал, что успел. И показалось мне, не были они чересчур удивлены — может, у них до меня и другие такие были, времяпроходцы?
А может, душа все же есть? Или, по-научному, психоматрица — где записана вся наша индивидуальность? Которая, как заряд электрический — может на другое тело перескочить? Потому как радио давно отключилось — а ТОТ, кем я там был, не исчез: я там один лишь год прожил — а ВСЮ его жизнь помню, как свою. И опыт, обучение — «лешаки», чтоб ты знал, это тактика советского спецназа плюс партизан Отечественной войны; не умеют еще так — в этом времени! И еще, те кто рядом, о ком я думаю сильно — иногда сны видят. О том мире. Где дело Ленина — жило и побеждало. Что вскинулся, старшой — тоже видел? А я сам видел, своими глазами. И не думаю — точно знаю. Революция победит — а мирового коммунизма не будет!
Любопытно, что один «альтернативный» фантаст ТАМ почти точно увидел НАС. Битва при Садовой, 1866 год. При победе австрийцев, Бисмарк вошел бы в историю не как объединитель Германии «железом и кровью», а как один из мелких неудачливых политиков с чрезмерными амбициями; не было бы разгрома империи Луи-Наполеона, не было бы Парижской коммуны. Но мощь Пруссии росла — и где-нибудь к 1914 году ей все равно предстояла бы разборка с Францией, на этот раз возможно, более успешная. Возникла бы Германская империя — и законы империалистической конкуренции за рынки сбыта вынудили бы ее к общеевропейской, а может быть и мировой войне, первой мировой, где-то в 1939 или 1941. Ленин и Гитлер остались бы невостребованы — но гнилость дома Романовых и их режима неизбежно привела бы, в итоге проигранной войны, к коммунистической революции, пусть с другим вождем; за ней последовали бы революции еще в нескольких странах. Энгельс считал, что у австрийцев шансы — предпочтительнее! Но история сыграла по-своему — и пруссаки победили. Мировая война там случилась раньше — в 1914 от рождества христова, и революция, в 1917. Конные армии — вместо танковых. А география, страны, народы, язык, летоисчисление, даже отдельные личности кое-какие — все как у нас, почти. И еще — тот мир более приземленный, мягкий, сглаженный, что ли… А мы для них — мечта романтиков, мир прекрасный и яростный, без полутонов, не верь что в Зурбагане высохли причалы! — там нет Зурбагана, это у них как вымышленный город мечты.
Вождей там было — три. В разных странах, в разные времена. И лишь последний, Ленин — революцию совершил. И войну гражданскую вытянул — на себе, на вере своей, к победе! Впрочем, ему было легче — по причине полной гнили верхушки ТАМ: уж если даже среди вождей контрреволюции, одни «кухаркины дети», колчаки и деникины — а всякие там князья юсуповы, сразу в Париж, отсидеться пока! Хуже, однако, было, что ТАМ мы были гораздо слабее, рядом с прочими державами, и армией, и промышленностью — индустриализация была уже после, оттого пролетариата было меньше. Потому, власть там осталась Советской, рабочее-крестьянской. Не одного пролетариата — а всего трудового народа. И на мировую революцию — сил не хватило. Так и осталось после — полмира им, полмира нам.
— Врешь! — заметил Итин — это как, революция остановиться может? Мировой пожар — и на полпути? Пролетариат угнетенный — дальше эксплуататоров терпеть? Когда пример уже есть, победы социализма? Это ж исторический материализм — смена отсталого общественного строя, передовым. Ты мне как хочешь ври, любую историю придумай — все одно, коммунизмом завершится. Потому что — просто не может иначе!
— СВОЙ освободительный поход забыли, год назад? Даешь Варшаву, даешь Берлин — и по мордам!
— Ты с этим — не равняй. Ошибки военных — конечно, с патриотизмом воевать легче. А руку помощи протягивать — нельзя. Оттого заграничные пролетарии увидели в нас не товарищей — захватчиков. Ничего — «военную оппозицию» вывели в расход. Соберемся с силой — и пойдем снова.
— Если на нас не пойдут — ответил Младший — год сейчас какой ЗДЕСЬ: сорок первый! Мы с тобой сейчас сидим — а там гансы, к Москве. Там ДВЕ мировые войны было, и вторая — еще страшнее. В начале было: наши кричат из окопа — эй геноссе, я арбайтен! А в ответ очередь из шмайсера — я-то арбайтен, а вы все недочеловеки, и будете рабы! Так вот — и кончился интернационализм! Когда, от границы мы землю вертели назад — и решалось, быть ли нам ВООБЩЕ! И сказал тогда Вождь — братья и сестры! И вспомнили Отечество, славную историю нашу, вернули погоны, гвардию, даже церковь привлекли — за ЛЮБОЕ надо было хвататься, лишь бы помогло! И победили мы тогда — взяли и Варшаву, и Берлин. Да только уже — не республикой труда, а краснознаменной Империей. Социализм — как для внутреннего пользования. А в мире всем — это лишь говорилось, что когда-нибудь… Главным было — чтобы у себя, обустроиться. Тем более, сила за нами была — никто напасть, и угрожать нам, уже не смел.
— Врешь! — сказал Итин — это что ж выйдет: идею главную предать? Пролетариат заграничный, под ярмом оставить? Лишь бы — нас не трогали? Вся Партия — в уклон скатилась? И Вождь позволил? Врешь: не могло такое быть!
— Вождь сам и предложил, первым. Ленин — великий тактик был, в политике. Как стали хлеб забирать, и в колхозы загонять — так бунт беспощадный, и коммунистов на фонарь, особенно в Европе, во всяких там венгриях! И Ленин, после «Государства И революции» — «Детскую болезнь левизны». Что иногда отступить надо, чтобы закрепиться, и массы не оттолкнуть — иначе погибнем, и спорить будет не о чем. Как разбили контру, армия по домам — и сразу: Кронштадт, Тамбов, бунт бессмысленный и беспощадный — за что боролись? Ленин сразу — новая экономическая политика: обогащайтесь, если честно! И в мировом масштабе: как стал нам империализм интервенцией грозить, договор с гансами, двадцать третьего года: мы ИХ революции не помогаем, Гамбургу восставшему — нам за это их технологии новейшие, оборудование военных заводов. Жалко спартаковцев — но своя шкура дороже: чтобы выстоять, и выжить, одним против всего мира — умел Ленин через идею переступить, чтобы дальше идти. Это, как на войне — наступление остановить, чтобы тылы подтянулись.
— Не так! — сказал Итин — классовая борьба, это оружие наше главное, не какие-то технологии! Любую армию разбить могут, а пролетариат — никогда! С капиталистами договор — так ведь НИКОГДА вы своими для них не будете, не уймутся, не простят, по-тихому вредить будут, искать момент! И — по ИХ правилам игра пойдет: политика, конкуренция, сферы влияния, раздел интересов — в которых они опытнее, сильнее! И товарищи заграничные — предательства не забудут! Тем же вам ответят — когда время придет!
— Тогда же пришло! — усмехнулся Младший — хотели и там, в Европу, коммунизм на штыках, даешь Варшаву и Берлин! Вышло, как здесь — не хочет пролетариат мировой, под наши знамена! Тут Ленин умер — и стали решать, что делать: воевать со всем миром, спалить страну, ради призрака мировой революции — или начать обустраиваться ВНУТРИ, строить нормальное ГОСУДАРСТВО, лишь с красным флагом, и нормальными отношениями с соседями? Схватились насмерть два Вождя, две линии, две идеи. Гений мирового пожара — и гений организации: индустриализация, вооружение, мощь государства.
С отрядом флотским Товарищ Троцкий, Нас поведет в последний бой!Или
Партия Сталина, сила народная, Нас к торжеству коммунизма ведет!После говорили, что Сталин победил интригой, расставив на посты своих людей — он что, брал с них клятву верности лично себе? — да и Троцкий интриговать умел: подпольщики-революционеры! Но — большинству народа, и рядовых партийцев, и руководителям из молодых — пятилетние планы, Днепрогэс и Магнитка, были куда ближе и понятнее, чем помощь угнетенному мировому пролетариату. И — Партия, в большинстве, встала за Сталина; а Троцкий проиграл навсегда. Тех, кто был с ним, и за мировую революцию — во враги народа: верхушку армии, и старых партийцев. А с ними — и идею мировой революции. Так и вышел социализм — в отдельно взятой стране. Как в лагере осажденном.
И ведь, хорошо поначалу шло! Индустриализация, войну выиграли, территории вернули, почти все, науку развивали, первыми были во многом, строили много! По виду, как у Гонгури было — города новые, светлые, заводы всюду, ракеты в космос. Все общенародное — хозяев нет: правит Партия, лишь Вожди меняются, как годы идут. Народ работал — довольный, что жить стало лучше и веселее. Квартиры отдельные, даже автомобили и дачи, и к морю летом, на юг. Лечение с обучением опять же, бесплатно. Такие, как ты — на пенсии, мемуары пишут. В годовщины — парад, затем шествие со знаменами, во славу Партии и очередного Вождя. За страну гордость — слава ее и блеск. Хорошее было время — хлеб за шестнадцать копеек, колбаса за два двадцать!
Знаешь, я ведь с тех лет — не парады и стройки вспоминаю. А дачу нашу, под Ленинградом, как иду я, мальцом, с батей, на речку Оредеж, щук ловить — а у сельмага парни деревенские журнал «Техника молодежи» читают, по доброй воле, трезвые все! Я там в шестьдесят третьем родился. Фантастику читать любил — еще бродили экспедиции в болотах Венеры, пробивались ракеты сквозь бушующую атмосферу Юпитера, и не была составлена карта Сатурна — а к звездам уже шли корабли, чтобы поднять алый флаг единого коммунистического человечества на неведомых планетах. Читал, и мечтал — как это будет. А все уже как-то потускнело, измельчало: книги, фильмы, песни, про быт, вместо «Иду на грозу», или «Туманности Андромеды» — кухня коммунальная. Кварталы одинаковых пятиэтажек на юго-западе, проспект Стачек, грильбар «Уют», где культурно отдыхали пролетарии — приходили пьяные «быки», снимали смазливых «коз», ловили «колеса» и мотали в «блудуар»; там однажды избили и ограбили моего друга, из-за электронных часов с цифрами — мы, собрав команду, неделю искали тех по окрестным дворам, но так и не нашли. Смутно хотелось чего-то нового, мало было одной работы-учебы, хотелось понять — зачем? Мы искали, спорили, пытались понять. Нас тыкали в морду — не сметь! Работайте — а думают за вас те, кому надо!
Нет, внешне — все по-коммунистически было. Достигнуто — все. Враг внешний напасть не смеет, врага внутреннего давно нет — все рабоче-крестьяне, за что бороться и против кого? На должность хорошую, даже бригадира в цеху, только членом партии — и в партию вступают исключительно ради карьеры, а в комсомол вообще, всех пишут, с четырнадцати лет. Все определено — рождение, детский сад, школа, пионерия, комсомол, партия, прописка, работа, пенсия, помер! В лозунги правильные, всюду развешенные, не то что не верят, а давно смысл их забыли! И разговоры, что неплохо бы магазины-ресторанчики-ателье в частные руки, чтобы без хамства и грязи. И вообще, собственность, это хорошо, потому что хозяин будет, как паровоз: сам за свою выгоду, других за собой вытянет! Это еще до горбача началось, сначала по углам, после и вовсе, с телевизора, с эстрады, от всяких там… А Партия — что Партия? В бюрократии утонула, на шестидесятом году своей власти, лишь запрещать умела, и то по мелочи — типа, джинсы и рок-музыку низзя! Бюрократия удушающая, казенщина скучная — вместо живой идеи!
Ну и прорвалось — демократия, гласность, реформы! Поначалу, как свежее что-то — после застоя! Вот и выбрали мы — придурка Горбачева и козла Ельцина! Еще не зная, что первый развалит Союз, а второй обрушит все в капитализм. Партийные — они тоже, интерес имели. Чтобы блага все — по наследству. И — свободно в Париж. И счет в швейцарском банке — свой. Так и стали, новыми капиталистами — бывшие партийные секретари, хотя и сами все по анкете из рабоче-крестьян.
Заводовладелец, Будь толстым и гордым — Бей пролетария В хамскую морду!— Врешь! — сказал Итин — это как: вышел кто-то, и заявил, это завод теперь мой, я один хозяин, а вы все мои рабы, трудитесь, я все себе забирать буду? На том заводе, на этом. Хозяев-то будет — один на тысячу, если не меньше! Тысяча трудятся — а один, им крохи кинув, чтоб с голода не померли, станет тратить? Купит себе — дворец, яхту, бриллиант, клуб футбольный. Или вообще, за границу уедет — и будет, как паук, туда все тащить? На развлечения — в каком-нибудь Монте-Карло! Или вовсе, завод закроет, и выгонит всех — хочу, поскольку мое! Да не могло такого быть!
— А было. Именно так. Кому-то — «Челси» и Канары, тысячам — голодать. Заводы — стоят, или распродаются. Никто не работает, все хапают и торгуют — пир во время чумы. Депутатская сволочь рассуждает об утилизации экономически избыточного населения, ради высоких общечеловеческих ценностей, диктуемых нам из-за бугра. Господа коммунисты торгуются с рабочими — сколько голосов на выборах вы нам обеспечите, в обмен на наше чего-то-там. Где прежде приезжали к морю на лето — теперь в каждом ауле окопался самостийный батька с бандой, и не желает знать никакой власти, кроме своей собственной. Где прежде были города, учкудук, три колодца — теперь песок заносит белые пятиэтажки с выбитыми окнами, пустой дом культуры с мозаикой «мир двухтысячного», ржавые качели во дворах, детские площадки — туда молодые ехали, думали, насовсем; теперь в те города забредает лишь зверье, и банды. Русских в рабство тащат, горным князькам, как в татарское нашествие. Зато — великое достижение демократии! — гей-парады, вместо парадов победы!
Над Россией гордо реет Боря-вестник перестройки — Красный призрак коммунизма Закидал его камнями, И попал неоднократно. Буревестник не сдается Только чаще выпивает. А гагары-депутаты, Голосуют не по делу. И пока они болтают, Клювом щелкая напрасно, Криминальные структуры Обнаглели совершенно. Расплодились, озверели, И реформам угрожают. А реформы их боятся, Робко прячутся реформы — Только им укрыться негде, Потому что нет утесов. Нет утесов абсолютно, Потому что их украли. Экспортеры без лицензий Растащили все утесы, И продали за валюту, Буржуинам ненасытным. Только холмики остались — Но на них сидят пингвины. Ни за что их не прогонишь — Они глупые и злые. Все пингвины хотят кушать — Только все уже сожрали. И поэтому кудахчут, Огорченье выдавая. Над страной все ниже тучи, Социальных катаклизмов — Потому что есть охота, А без денег ведь не кормят, Даже если — очень просишь. Буревестник надоел всем, Часто крыльями вращая. Но на землю не садится, Близко к солнцу оказавшись. И никто не пожалеет — Потому что злые люди. Только вслед ему, бранятся. И желают — падай, сволочь!— Врешь! — сказал Итин, с яростью — чтобы мечта человечества всего так закончилась? Чтобы светлый путь единственный — тупиком оказался? Чтобы — выхода не было? Чтобы так все кончилось — не гибелью в борьбе неравной, а с размаху, в болото? Чтобы народ с этим смирился — не восстав? Чтобы Партия разложилась — вся? Чтобы нового Вождя не нашлось? Врешь, гад! А, понял — ты выдумал все, чтобы веру мою подорвать напоследок!
— Да пошел ты! — ответил Младший — так было. Я не Гонгури — сочинять не умею. Этим все кончится — и если исторический материализм прав, законы истории общие, здесь то же самое будет. Лет через шестьдесят. Но не бойся, ты свои почести получить успеешь. Будет, наверное, здесь, комхоз имени товарища Итина — и бронзовый статуй, под которым детишкам станут красные галстуки повязывать, в годовщины. И надпись на постаменте — геройски погиб, или зверски замучен. А также пароходы, строчки, и другие всякие дела — твоего имени. Мне вот так не повезет — вряд ли меня кто-то вспомнит, когда убьют. Зато после — скинут тебя с пьедестала, и начнут грязью поливать. И сказки рассказывать — о «России, которую мы потеряли», с молочными реками и кисельными берегами. Признав социализм — тупиковой ветвью истории, неудавшимся экспериментом. Вот так — будет. Я не думаю — я знаю. Потому как — сам видел. Все — уже решено, за вас.
— Врешь ты все!
— Да пошел ты!
Они помолчали. Оба. Минуту, две.
— НИЧЕГО не решено — сказал Итин решительно — даже если ты мне не наврал… Что вы там все про…ли — ничего не доказывает: любую победу вмиг прое…ть можно, если неумело взяться! Укрепиться, тылы подтянуть — это надо конечно, но не главное, а лишь чтобы штурм обеспечить! А вы — интенданта выбрали главкомом: сыты все, всего вдоволь — а вперед не хочу! Вместо того, чтобы по дороге дальше, вы на обочине привал — и обустраиваться! Говоришь, от коммунизма не отказывались, как от цели дальней — а вы делали что-то, или просто себя тешили, сидя: вот там где-то, завтра встанем и пойдем? Не захотели воевать со всем миром — а пытались ДОКАЗАТЬ, что вы самые передовые, или просто сидели, довольные что не трогают? Бюрократия с казенщиной, говоришь, заели — так ведь, когда единомышленники все, за идею, все эти вопросы, вся мелочь, вроде кто кому подчинен, в рабочем порядке решаются, не отвлекаясь! Не силы, идеи вам не хватило — это прежде всего должно быть! У нас вот — узкоколейку строили, на торфяники. Чтобы скорее, решили с двух концов класть. Кому с дальнего — у тех, подъем затемно, и марш-бросок, с рельсами на плечах! От города, легче было: начало проложить, пару вагонов поставить, и класть прямо с колес; в вагонах жилье, кухня, и даже баня, материал сзади подвозят. Результат — что ближняя бригада три четверти пути проложила. А награда вышла, старшему ближних — партбилет на стол! За то, что вся его бригада, после смены, на койках лежа, о водке и бабах, языки чешут — а у ребят из дальней, в запале глаза горят! Торф нужен, конечно — но стопим его, и забудем. А то, что сотня человек душой к коммунизму стали ближе — это останется. Так и назвали дорогу ту «линией Корчагина», по старшему в дальней бригаде.
— Того Корчагина — не Павлом звали?
— Не помню. Просто — товарищ Корчагин. Что смеешься?
— Так — повторение истории, даже в именах. Когда меня ТАМ в комсомол принимали — помню, как я потрясен был, вечером на празднике увидев секретаря комсомольского, вусмерть пьяным, как свинья: я-то думал, что все они корчагины! Старшие надо мной посмеялись, и по-свойски объяснили, что в комсомол давно уже вступают, лишь ради карьеры. Бороться-то уже не с кем, и не за что — врагов давно нет!
— Это как — не за что? Революция, брат — это не Десять Дней! Это — путь постоянный, к лучшему! Если недостатки видели, сам сказал — почему не боролись?
— Чтобы нас, партийные — за возмущение спокойствия и нарушение порядка?
— Что — вас? Расстреляли бы, или на каторгу — как нас, при царе? Или — карьеру бы притормозили?
— Да, лучше уж так, чем как у вас тут! Слышал я — две оппозиции и пять уклонов, разоблаченных! А уж чисток — не счесть. Представляю — что будет твориться здесь, в прекрасном и яростном мире, через двадцать лет!
— Почему — через двадцать?
— Потому что — тридцать седьмой. Если Вождь здесь ТАКОЕ сказал — лучше десять невиновных к стенке, чем одного врага пропустить! ТАМ все ж к людям гуманнее — вон, семья моя была из хозяев, зажиточных, уральских, аж батраков имели — но против власти с обрезом не бегали, потому как сами во власть пошли: образованный человек считался тогда много выше, чем деревенский богатей! И все — новой власти честно служили, одиннадцать братьев и сестер, считая деда моего. Один брат — генерал-майор армии советской, другой — главный инженер Уралмашзавода, остальные — тоже инженеры, учителя, врачи, актриса театра в Свердловске; и даже старший самый, кто до войны еще умер, в тридцать пятом — и то гордился, что не от сохи уже, а механиком. А дед мой, выше всех взлетел: в Питере, в партийные секретари, лично Кирова и Орджонокидзе знал — вождей партийных. Расстреляли его, в тридцать седьмом. И бабушке моей — десять лет, ни за что, просто как жене. Комсомолочка была, активистка, красивая, на фото — вышла старуха беззубая, под подписку, что никому ни слова. На собраниях всяких, когда ее приглашали, она как положено говорила — а мне, внучку любимому, всю правду. И у ребят во дворе — у многих такие же бабки и деды, то же рассказывают, втихаря. Такое послушав — трудно в идею верить. Против может и не пойдешь, но и защищать не станешь — лишь честно лямку тянуть..
— Знаешь, а ведь меня тоже хотели — под уклон. Сказали мне, в чистку последнюю — что есть такое мнение. А я работал, как прежде — не боясь. Просто — потому что не жалел ни о чем: ни об одном своем деле, ни об одном дне. О том, что сделал — чтобы коммунизм скорее настал. А жизнь — если Партия для меня все, то по праву может, жизнь мою забрать, если надо. Но — обошлось.
— Что-то не пойму, старшой — ты дурак?
— Видишь, река внизу течет? Поток ее, как история, а мы все, я, ты, он — капли там и пузырьки. Чтобы реку повернуть, надо плотину поставить — конечно, капли разбиваться будут, пузырьки лопаться — зато река, по нужному месту! Человек — это высшая ценность, и мы — самые гуманные люди, потому что реально строим такую жизнь, когда ВСЕ ЖИВУЩИЕ будут счастливы! Даже если придется — одно-два поколения ускоренно сработать. Чтобы — новое человечество создать. Где труд на общество — будет высшей ценностью. А кровь, даже лишняя, без вины — что делать! Это, как хирурги при гангрене режут, по ЗДОРОВОЙ ткани: лучше лишнее долой, чем хоть чуть гнили пропустить, и всему организму смерть!
Они снова замолкли — оба, вместе.
— Падлы вы все! — произнес Младший — меня-то за что? Здесь, с вами хотел — и там, от присяги не отрекался, Советскому Союзу! Мне ж многого не надо было — чтобы дом свой, и чтобы ждал меня там кто-то — а я бы честно служил! Больше всего жаль, что так и не встретил я свою, единственную — не вспомнит обо мне никто, как убьют. Как там не вспомнили — когда погиб честно во вторую чеченскую, в том самом двухтысячном, под Урус-Мартаном. Тоже офицер был — и тоже капитан. Майора и орден получить не успел — хотя был представлен. Социализм тупик, капитализм ненавижу — только убивать и умею. А я ведь верил вам, и здесь и там — честно с вами хотел. Все бы простил, даже деда — если б дал мне социализм то, что обещал! А вот вышло… Сволочи вы все!
— Это что ж выходит? — спросил Итин — тебе уже на социализм-капитализм плевать — лишь бы САМОМУ устроиться? Кто на службу возьмет — тому и служить честно?
Мы обыватели — нас обувайте вы, И мы уже — за вашу власть!— Ты меня не агитируй! — усмехнулся Младший — я ж тебе, не пролетарий. Тьфу! Был — когда-то.
— Какая, к черту, агитация? — ответил Итин — просто, жалко мне тебя. Так и не понял ты, ЧТО мы строим. С кровью лишней, с ошибками иногда — если учимся по-живому, без экспериментов: сами мы, эксперимент, не вышло, так снова вперед, без слез и соплей. Чтобы стало, как у Гонгури. Где мать ребенка отдаст, навсегда, без сожаления — зная, что те, кому положено, любить его будут больше, чем она бы искренне могла. Где влюбленные будут расставаться без слез — зная, что на месте новом, куда каждого пошлют, они других встретят, таких же верных. Зачем семья — если все там, близкие друг другу? Зачем дом — если тебя всюду пустят? Зачем собственность — если все тебе дадут, что нужно? Вот настоящий коммунизм — торжество любви всеобщей! Которое попы на небесах обещали — а мы на земле построим.
— Лет через тысячу — в светлом будущем, бесконечно далеком. Как созреет.
— А уж это, зависит от вас! — убежденно ответил Итин — идея, она должна за собой вести, первой мечтой быть! Отчего мы сейчас уже мечтаем, к звездам — на планете этой дел мало, что ли? Да затем — чтобы дорога была бесконечной! Строить, это хорошо — но вы, удвоение произведенного продукта за год, главной идеей считать будете? Думаете, все само созреет, лет за тысячу? Нет — «мое», само не уйдет! Тысяча лет, или двадцать — это лишь, как скоро из себя собственника выдавливать, как раба, по капле, или сразу, со всей кровью! А вы — квартиры, автомобили — это ж какой расход лишний, если каждому — вместо того, чтобы общее, на всех! У нас специально в зал общий селят — чтобы все на виду, и вещами делиться, кому нужнее! Бескрылые вы — ползете, думая, как хорошо бы полетать, но нельзя! Можно — если на землю не оглядываться! У вас не вышло — у нас получится! Съезд наш — уже программу принял. Как коммунизм — за одно поколение построить. Эх, жаль — не увижу я!
— Это как? — усмехнулся Младший — для это вам надо совсем другое человечество создать.
— Значит, так и будет! — ответил Итин — это человечество сотрем, и новое с нуля создадим. Правильное.
Солнце давно уже перевалило за полдень. Суета у амбара утихла — все реквизированное растащили обратно по домам, в деревне налаживалась обычная жизнь.
— Ладно, поговорили — вышло твое время — сказал Младший — курить хочешь, напоследок? Возьми — довоенные еще, для особых случаев. Хоть какое удовольствие — в последний раз.
Итин взял папиросу. Вкус был слегка сладковатым, совсем не похожим на ядреный махорочный самосад. На мгновение ему показалось, что все стало — как много лет назад. Они идут вместе, через лес, к железной дороге — разговаривая, как тогда. Когда они еще были друг другу — братьями, товарищами. И могли стать — соратниками по борьбе.
— Знаю, что откажешься — сказал Младший — но все же… Если хочешь — иди с нами. Мое слово — даже для Верховного кое-что значит. Жизнь тебе — обещаю. А все прочее — после решим.
— Плюнул бы тебе в рожу — ответил Итин — да слюны жалко. Что, даже убивать боишься, плесень? Только мальца отпусти — ты обещал.
— Что обещал — выполню. Только на последний вопрос — ответь. Про «пароход ученых» — все, по списку, там были? Или кого-то втайне оставили — под замком? Список, который в газетенке вашей — я видел. Все там были? Ну?
— Все — усмехнулся Итин — мы, Партия, массам одну лишь правду говорим. Бывает, что не всю правду — по целесообразности. Но уж если сказали — значит, так оно и есть.
— Падлы! — сказал Младший — ТАМ этот пароход доплыл. Не то чтобы по-подлому — обещали выпустить, и в море уже, торпеду в борт. А затем еще всплыть, и из пулеметов — чтоб никто… И свалить все на командира лодки, которого сами же после расстреляли…
— Зато хлеб, в детские дома — ответил Итин — тебе напомнить, как было? Зерно нам — в обмен на выезд ученых. По списку — ИМИ составленному. Уже с приглашениями — кому где работать. Изобретать что-то — против нас. И хлеб выгружать — лишь после отплытия того парохода, под ИХ флагом. Командир лодки знал — что его, после во враги. И семью его — тоже. Но сказал «есть» — потому что НАДО. Настоящий коммунист — был. Но — дети хлеб получили. Когда — от голода падали, прямо в строю.
— Падлы — повторил Младший — капитализм, ненавижу, а в ваше счастье тотальное, не хочу! Хоть надежда была, когда совсем худо, снова профессора того разыскать, и в иной мир уйти. Где СССР жив, год семидесятый с чем-то, и мы с батяней на речку… Хотя — вдруг смерти нет, а есть лишь переход, в другую жизнь, в мир параллельный? Там я завис — и вернулся, когда убили меня, в Чечне. Может и профессор — изобретает сейчас, где-то? А ты, если так — куда попадешь? Хотелось бы — чтобы туда, где я был. Чтобы ты сам увидел — как рухнет все, что вы сейчас строите. И понял — сколько стоят, все ваши «даешь»! И сколько — кровь, пролитая напрасно. Чтобы ты стал там — голодранью, зубами скрежещущей! И податься тебе — будет некуда. Хотя компартий там — целых четыре: зюгановцы, ампиловцы, кто-то еще. Только воюют больше, друг с другом — кто самый истинный. И с народом торгуются — вы нам, голоса на выборах, мы может быть, что-то когда-нибудь для вас! И будешь ты, старшой, водку глушить, или окна бить абрамовичам — а после, в ментовке ночевать, с битой мордой! Богатым не возродишься — не надейся. Как профессор мне сказал — психоматрица при переносе не абы в кого, а в схожего, по параметрам. Как я — и здесь, и там, за Отечество. А ты, значит — будешь пролетарий. Вылезешь с красным флагом — омоновцы рыло начистят. Прощай, старшой — удачи не желаю!
Младший встал. Итин тоже. Поодаль стояли деревенские. И смотрели — на них.
— Ты сам? — спросил Итин.
— Народ! — ответил Младший — пусть он тебя и судит! А я — посмотрю.
И призывно махнул рукой.
Крестьяне придвинулись. Обычные человеческие лица. Скорее с любопытством, чем со злостью.
— Он ваш! — сказал Младший, сделав шаг назад — как решите с ним, так и будет!
Мужики оживились. Как по волшебству, в их руках возникли вилы и колья.
Итин огляделся. Слева было поле, ровное и сухое, за ним лес. Младший, перехватив его взгляд, чуть кивнул — и Итин вдруг понял, эти стрелять не будут. И гнаться за ним — тоже.
Итин представил, как он бежит — а за ним толпа, с улюлюканьем и свистом, размахивая дрекольем. Упрямые и упорные — не отстанут. Пока не загонят, как зайца — и не забьют насмерть. И будут после с хохотом рассказывать, своим детям, как они гоняли убегавшего коммуниста.
— Позором будете вспоминать! — сказал он толпе, сам оставшись на месте — эх, барсуки вы!
Толпа на мгновенье замерла. Но высокий худой мужик в рваной шинели — первым шагнул вперед.
— Наш позор сами переживем — сказал он — а если без хлеба, ничего не будет! Зачем чужое забирал?
И взмахнул вилами.
Это было — на том, памятном съезде, перед Июль-Коранью. Партия собиралась на съезд — лишь в судьбоносные, поворотные моменты. Когда, чтобы напрячь силы — недостаточно было простого приказа: требовались убеждение, воля, и согласие всех. Но даже лучшие товарищи — верные, преданные революции — уже устали от войны.
..сила Партии — в вере в нее народа. Рабочие трудятся, как никогда прежде на хозяев — но им надо кормить семьи. Заводы обеих столиц и Каменного Пояса исправно обеспечивают план по оружию — пушки, танки, самолеты. Однако, среди рабочих ходят всякие разговоры, и даже АНЕКДОТЫ про Вождя — чего еще недавно не могло быть! Все живут лишь надеждой на светлое будущее — в труде не жалея себя. Но все чаще спрашивают — скоро ли?
..металл пока есть — хотя вместо руды часто плавят лом. Хуже с топливом — нефть пока еще у врага, на полуострове, угля едва хватает на железные дороги. Но в достатке торф — хотя нужна рабсила. Гораздо хуже — с товарами для потребления, и совсем плохо с продовольствием. Крестьяне устали от реквизиций — однако у нас нет ни денег, ни товаров, чтобы заплатить им. Без сомнения, комхозы были правильным путем — общий труд объединяет, и трактору легче на просторе, чем на малых наделах. Но так же ясно теперь, что народ в массе этого не понял и не принял.
..мы виним в голоде кулаков с обрезами и банды мешочников — но хозяйственная перепись, где удалось ее провести, показала, что размеры пахотной земли перед довоенными сократились в двадцать раз, при гораздо худшей на ней работе! Даже считая народную власть своей, крестьянин не желает сеять сверх своих нужд — зная, что все отберут; и чрезвычайные меры против рынков в городах это лишь ухудшают! Все пока держится исключительно на порыве, энтузиазме, памяти о Десяти Днях, дисциплине военного времени и ожидании скорой победы. Но скоро настанет мир, и наша в большинстве крестьянская армия хлынет по домам — тогда порыв иссякнет, сменившись злобой и усталостью. Тогда — начнется такое, что померкнет кровавый хаос первого года, когда «райком закрыт — все убиты».
..четыре армии Восточного фронта переформируются в трудармии — в дополнение к двум, созданным раньше. Однако это следует считать лишь временной мерой, до полного завершения войны — потому что люди рвутся домой, и мы не удержим их в строю, когда настанет мир. Тем более что сравнение отрапортованного объема работ со списочным числом рабочих рук показывает весьма низкую эффективность такого труда.
..кроме прекрасных идей, человеку нужен осязаемый плод своих усилий. Чтобы не получить бунт беспощадный, уже против себя — нам нужна новая политика, прежде всего экономическая, с заменой реквизиции налогом, дозволением некоторого рынка, вниманием к производству потребительских товаров. Это сразу снимет напряжение, особенно между городом и деревней — когда крестьянин будет заинтересован вырастить больше, а рабочий сможет получить плату за лучший труд. Мы сразу получим оживление экономики и рост производства — по примерным расчетам, с достаточно хорошим темпом. Если же мы откажемся — то просто не сумеем смотреть людям в глаза. Мы сами обещали им счастье. Теперь нас спрашивают — где оно?
Но встал тогда Вождь. И сказал свое слово:
— МЫ НЕ ПОСТУПИМСЯ ПРИНЦИПАМИ! Новая экономическая политика — даст облегчение, но отдалит главную цель. Выиграть сражение — не значит выиграть войну. Главный наш враг, намного опасней буржуазии — это мелкобуржуазная стихия, собственник внутри нас. Сейчас мы можем — или добить ее окончательно, на волне революции, или дать ей волю: сначала земля крестьянам, затем и лавочки-трактиры-заводики захотят. Временный переход к обороне, для закрепления позиций — нет! Вы все воевали, и знаете — второй раз, людей в атаку можно уже не поднять! Сейчас стихия все ж ослаблена, после одолеть ее будет трудней. Ускорить движение, выходя на прямой путь! Трудно — значит, идти быстрее! Мы выдержим — ведь мы коммунисты!
Мы как никогда близки к победе — но также близки к поражению. Мы балансируем — как на лезвии бритвы. Внешний враг разбит, интервенция сейчас невозможна. Однако же, тем более опасным проявляет себя враг внутренний. Я имею в виду не заговорщиков, которые успешно выявляются и уничтожаются — я имею в виду классово чуждых, кто, пусть даже искренне и честно, примкнул к нам как к победителям, а еще больше — настроение умов даже самых проверенных и надежных. Народ требует плодов победы, иные же из наших товарищей — которые нам вовсе не товарищи! — берут эти плоды уже сейчас, тишком или открыто, искренне уверенные в своем праве. Разложение на местах принимает угрожающие размеры. При строжайших мерах контроля, повсюду есть хлебные рынки — расследование выявило участие в этом наших ответственных товарищей, имеющих в прошлом несомненные заслуги. Произвол в свою пользу, самым безобидным примером тому служат самочинные реквизиции, барская роскошь, отдельные случаи кумовства — и самое страшное, что вновь назначенные на должность подвергаются разложению еще быстрее!
В то же время, возврат к принципам собственности, на котором настаивают большинство народа и Партии, погубит революцию! Те, кто говорят, что нет опасности заговора, поскольку командные высоты остаются в наших руках — или глупцы, не видящие, что главный и больший вред, это присутствие собственности в умах, мелкобуржуазная стихия, или предатели, уже сейчас желающие что-то отхватить лично себе. Тактически они абсолютно правы — даже с цифрами доказывая об очевидной пользе СЕЙЧАС. Но стратегически — это гибель революции, перерождение в ординарное ГОСУДАРСТВО, пусть и с красным флагом, жизнь тела — и смерть духа!
Объяснить это им невозможно — слишком велика усталость за годы страшной войны. Идти против — значит, быть свергнутыми, по строгим законам исторического материализма. Мы — авангард, вырвавшийся слишком далеко вперед — когда главные силы не готовы к атаке. Враг вот-вот контратакует — как не только удержать завоеванное, не отступив ни на пядь, но и идти дальше, уничтожив врага?
Есть только один выход — армия должна вся погибнуть, дав подойти резерву. И авангард — в первую очередь.
Народ пока верит — в наше обещание, лучшей жизни. Мы намерены теперь — растратить этот капитал, до последнего гроша, с наибольшей пользой. При всей нашей любви к трудовому народу. Это, как в шахматах: представьте, что фигурки — живые. Ради их блага, вам надо выиграть. И если это можно достичь жертвой — стоит ли жалеть пешки? Или даже — ферзей? Если итог — победа.
Наш резерв — это те, кто придет после нас. Должно вырасти следующее поколение — с истинно коммунистическим мышлением — для кого «я» и «мое» не будет иметь смысла! На воспитание его — бросаются самые верные; это — главный наш фронт сейчас! Детские дома — ни в чем не должны испытывать нужды: кто украдет хоть кусок хлеба от нужд детей — будет расстрелян, невзирая на должность и заслуги. Также — будет расстрелян всякий виновный в неправильном воспитании. К сожалению, мы не можем пока перейти к всеобщему изъятию детей у родителей — во избежание всеобщего же возмущения. Надо поручить пропагандистам — разъяснить, что если прежде семья была и школой, то теперь обучение, работе и войне, требует правильной военной организации, под строгим контролем. Как ни тяжело говорить, но нам очень помог голод: многие отдавали детей в дома, чтобы спасти — мы вырастим из них достойную смену. Это, в дополнение к детям бывших эксплуататорских классов, сиротам и детям членов Партии, помещаемых в дома в обязательном порядке.
Народ же — должен весь лечь, во благо, веря в нас. Износиться, сработаться — с наибольшей отдачей. Потерь — не считать. В течение следующих десяти — пятнадцати лет — пока первые выпускники детдомов будут готовы к трудфронту. Это будет, по предварительным данным, от двух до двух с половиной миллионов человеко-единиц, воспитанных в фанатичном следовании нашим идеям. Им предстоит сменить уставшие массы — хотя бы, в первых рядах. В дальнейшем, доля наших воспитанников в общем населении будет неуклонно возрастать — а прочих же, снижаться, пока не сойдет на нет. И — коммунизм наступит! Таков наш План — должный быть реализован за срок жизни одного поколения, «в основном» за двадцать-тридцать лет…
Мы этого не увидим — как у Гонгури: те, кто летят к созвездию Андромеды, за сотни световых лет — зная, что на Землю не вернутся, но и до цели сами не долетят; лишь дети их будут у той звезды, и дети их детей приведут корабль назад. Мы погибнем все, на пути — хотя могли бы стать элитой нового государства, и кончить жизнь в сытости и славословии. Вместо этого, мы выберем — проклятия и ведра грязи, вылитые на нас потомками. Может быть, наши тела бросят собакам, сожгут на позорном костре. А если нас не разорвет взбунтовавшаяся толпа — то убьют наши птенцы-соколята, намеренно приученные не слушать авторитеты! Пусть — мы освободим им место, чтобы они могли идти дальше, не скованные нашим грузом! Как мчится история — всего три года, и мы, делавшие революцию, уже стали ей помехой! Те, кто придут после — пойдут дальше и быстрее. Им еще предстоит драться насмерть — со всеми, кто сам не захочет уйти.
В худшем случае, массы не захотят сойти со сцены. Будет война — страшная, жестокая, всех против всех; возможно, вторгнутся соседи, подняв обветшалые национальные знамена. Какая жалость — что у нас нет оружия, способного в одночасье уничтожить целые страны и континенты, миллионы лишних людей; это бы решило наши проблемы наилучшим образом! Однако, мы уже сейчас должны сделать все, чтобы нашим птенцам-соколятам легче было победить. Возможно, не будет работать промышленность, настанет полный развал. Потому, уже сейчас в хранилища складываются запасы — вооружение, топливо, провизия — для той, будущей войны.
Я знаю, что этот путь — страшен и тяжел. И вызовет отвращение у любого — как вызвал у меня самого, когда эта мысль впервые пришла ко мне. Но другого пути — нет. Я — не вижу. Может быть, кто-то из вас знает другой путь, не такой жестокий. Если он сумеет убедить в том, разумно и логически — я первый с ним соглашусь. И даже готов буду уступить ему свой пост. Я — не диктатор. Мне не нужны почести и власть — а лишь победа коммунизма, пусть даже сам я не увижу. Я считал вас своими товарищами — и спрашиваю сейчас, кто со мной? Или — вы можете избрать сейчас для Партии другого Вождя…
— Беги, герой! — сказал сержант — и больше не попадайся. Быстрее беги — а то, мы сейчас уйдем, тебя деревенские поймают. И сделают с тобой то же, что с комиссаром.
Кинул к ногам Гелия туго завязанный наплечный мешок. И дал пинка под зад.
На опушке леса Гелий заглянул в мешок. Там оказались: краюха хлеба, шмат сала, пара яблок, фляжка с водой, И заветная тетрадь, и карандаши. На самом дне — тот же револьвер с перламутровой ручкой, и патроны к нему — россыпью.
В тетради, после незаконченного ночью письма, появилась новая запись. Чужим почерком.
И ты не верь тому, кто говорит — Что в Зурбагане высохли причалы.И ниже:
РАССКАЖИ О НАС ПРАВДУ — КАКИМИ МЫ БЫЛИ.
И рисунок — пятиконечная звезда. С серпом и молотом посреди — вместо привычного плуга и молота. Под ней непонятные буквы — СССР. И цифры 1963–2000.
Это было неправильно. Потому что те, кто убили товарища Итина, и матроса, и всех других — безусловно, должны были иметь мерзкие хари вместо лиц, или вообще, выглядеть как орки из детских сказок; к ним нельзя было относиться иначе, чем с ненавистью и презрением. Настоящему бойцу революции подобает смести их с дороги в светлое будущее — и шагать туда, с верой в торжество коммунизма. Но веры этой не было, как прежде — признавая правду чужую, слабела уверенность в правде своей. И нельзя было солгать самому себе — потеряв эту веру, он больше не был «соколом», готовым за революцию хоть в огонь, хоть на смерть. Он не знал — кто он сейчас.
Кусты рядом зашуршали. Гелий вскинул револьвер. С яростью, и желанием убивать.
— Эй, поэт! — послышался голос — свой я! Не пальни сдуру!
На поляну вылез боец с перевязанной рукой. В полной форме, в сапогах, с винтовкой, и мешком за плечами.
— Отчего ты здесь? — спросил Гелий, не опуская револьвер — товарища Итина убили. Наших — всех. Ты — почему здесь?
— Повезло — сказал боец — как началось, все выскочили, а я замешкался. Два раза в окружение попадал — и знаю, без тылов никак нельзя, оттого и сапоги натянул, и мешок прихватил. И — сразу в канаву залег. Никто не приказывал, куда и что — значит, первым делом надо самому сберечься! Если врага высмотреть не получилось — то в лес, по-тихому. Так и ушел. Геройствовать хорошо — когда после сам живой. В лесу сидел — и смотрел. Видел, как тебя белопогонные — отпустили. Так что — вместе перед ревтрибуналом будем, если что.
— Я… — Гелий запнулся, пытаясь что-то придумать — за меня товарищ Итин попросил.
— И беляки послушали? — хохотнул перевязанный — не бойсь! Мне — по барабану: засланный ты, или как! Только — вместе нам надо! Потому как, выйдем поодиночке — нас сразу, в Особый отдел! А вдвоем, да еще с оружием — надежда есть, что поверят!
Гелий убрал револьвер. Нагнулся, чтобы завязать мешок. Перевязанный подошел, присел рядом.
— Пожрать есть что? — спросил он — у меня лишь картошки чуть, и яблок. Объединим наши запасы — по-коммунистически.
Верной дорогой идете
Котлован был огромен.
В нем поместился бы целый городской квартал. Или зимний дворец государя. Или столичный кремль, со всеми башнями.
Еще недавно здесь кипела работа. Тысячи людей, как муравьи, вгрызались в землю, кирками и лопатами, дробили камни, и поднимали наверх, в тачках и бадьях. И котлован рос, на глазах — вширь и вглубь. Чтобы, уже скоро, в дно вонзились сваи, залитые бетоном — исполинский фундамент величественного здания. Прекрасный дворец, какого еще не видел мир — в сто этажей высотой, с рубиновыми звездами на шпилях, и статуями героев на крыше. В залах его мог поместиться миллион человек — для тех же, кому не хватило места, вокруг должна быть разбита ровная площадь, с фонтанами и скамьями. В высоте, между двумя самыми высокими шпилями, с заката до рассвета будет гореть огонь — яркий электрический свет, подобно заботливому глазу, смотрящему на страну. Проект, много раз печатаный в газетах, видели все. Оттого рабочие приходили сюда, после смены в своих цехах — и, разбившись на бригады и разобрав инструмент, спускались в котлован. Это считалось за честь — чтобы после гордиться временем, отданным великой стройке. Добровольно и бесплатно — работая на себя, не на кого-то.
Когда было трудно рубить мерзлую землю, рабочие смотрели ввысь — представляя, как вознесутся в небо белые шпили над башнями, со звездами и светом. Как на балкон под самыми звездами выйдет Вождь, Любимый и Родной. Вскинет вверх руку — своим знаменитым жестом. И все на площади внизу замолкнут — слушая его Слово.
Теперь котлован стоял пустой. И постепенно осыпался. А на дне уже собиралась вода. Чтобы заполнить до краев, остаться здесь озером — в память о той великой и неоконченной стройке.
И лишь очень немногие верили, что когда-нибудь дворец будет построен.
Каменные стены, электрический свет. Железная дверь, окон нет. В комнате двое. Один сидит — профиль на белой стене, как портрет. Второй ходит, из угла в угол, заложив руки за спину. Оглядывается на первого.
— Когда же будет суд? — резко спрашивает тот, кто сидит.
— Когда надо. По целесообразности и политическому моменту. Так, кажется говорили вы — совсем недавно?
— Тогда — зачем вы здесь?
— Ну, все же вы — один из величайших экспонатов истории нашего века. Понравится это нашим потомкам, или нет — но будет неразумно пускать столь редкий объект в распыл, предварительно не изучив его под микроскопом и не наколов на булавку. Подходит вам такое объяснение?
— Говно. Иуда. Пгедатель.
— Поберегите энергию, Вождь. Однако же, мне действительно интересно ваше мнение… в свете последних сложившихся обстоятельств. Исторический опыт, так сказать, в копилку знаний человечества. Да — вашей речи на суде не будет. Поскольку — никому это не нужно. Вам дозволят — лишь молча выслушать приговор. Или вообще — завтра просто выведут во двор, и — «целься, пли!». Но это уже — как Реввоенсовет решит. Так что я — последняя аудитория, которой вы можете что-то изложить. Если вы упорствуете — что ж, очень жаль. Мне уйти?
— Зачем это нужно — лично вам?
— Для моей будущей книги, хотя бы. «Краткая история Партии», не все же вам одному — программные труды писать. Когда-то я — был вашим учеником.
— Плохим учеником. Очень плохим. Вы так и не научились диалектике.
— Ну, слово «диалектика» очень долго будет ругательным — В ЭТОЙ РЕАЛЬНОСТИ. Пока не забудется мясорубка, которую вы устроили. Где никто не был уверен, что завтра не окажется в оппозиции, а значит, во врагах народа! А послезавтра его реабилитируют и даже посмертно восстановят в партии — когда снова сменится курс. По диалектической необходимости.
— Революцию не делают в белых перчатках! Не вы ли присягали этому — весь мир насилья мы разрушим. До основанья. И лишь затем — мы новый мир построим. На развалинах — старого мира.
— Присягали. Считая, что мы — все, кто с вами — уже часть нового. И вдруг узнали, что и нас — в топку. Как вы сказали тогда — «ускоренно сработать» ВСЕ человечество, в ожидании пока из инкубаторов — ах простите, из детдомов! — не вылупится поколение строителей новой жизни, с иной моралью и психологией.
— А как иначе — выжечь бациллы старого? Наивные — мы думали прежде, что против нас лишь вся мощь Империи. Хозяева — и их вооруженная сила, государственная машина, карательный аппарат. Мы уничтожили их — тогда начались удары из-за угла, заговоры и мятежи. Мы раздавили и это, железной пятой. Тогда оказалось — что зараза слишком глубоко пустила корни. Что в каждом крестьянине — сидит кулак, лавочник. А из каждого лавочника готов вырасти олигарх — если дать ему волю! Да, мы беспощадны. Но как иначе бороться с тем — что сидит внутри нас?
— По-вашему, лучше перебить больных, чтобы умерли бациллы? Не буду вспоминать о нравственности — помня, что в революции важна единственно целесообразность, как вы много раз говорили. Но любопытно, если по-вашему люди таковы — неужели вы думали, что они безропотно стерпят ТАКОЕ?
— Вы присягали. Вы клялись. Идти со мной. До конца. Пгоклятые пгедатели!
— Это кто должен был идти за вами? Партия, уставшая от чисток — и ждущая со страхом, кто следующий, в уклонисты, оппозиционеры, враги? Наша победившая армия, Рачья и Козлячья, ах извините, Рабоче-Крестьянская — которую вместо демобилизации и по домам, организованно гонят на стройки народного хозяйства? Пролетарии, на казарменном положении, семьи раздельно, по четырнадцать часов смена, без всяких выходных, про заработную плату давно забыли — одна лишь койка-пайка взамен? Крестьяне в комхозах — кто даже на полевые работы строем под конвоем, чтоб не разбежались, вышки и колючка вокруг? Землеробы пока не окомхоженные — и вконец осатаневшие после реквизиций? Интеллигенция — которую вы прямо призвали истребить, как нетрудовой элемент? Что вы еще ждали — после ваших слов на том съезде, «растратить без остатка весь капитал доверия народа», «сработать все народонаселение на износ, пока не выйдет первое поколение с новой нравственностью и моралью»? Или вы надеялись, что это останется внутри, и никто не проболтается?
— Не вы ли тогда голосовали «за», иуда?
— Вам напомнить, что стало с теми, кто был «против»? Ах, да — еще мир с белопогонными — но что плохого, прекратить наконец, братоубийственную гражданскую войну? Тем более, что воевать уже не за что — из бывшей императорской фамилии, а также прежних олигархов, не осталось почти никого. Кто-то успел сбежать за границу — но мы меньше всего намерены допускать их обратно, к власти! Не для того мы здесь воевали — чтобы кто-то, отсидевшись, приехал чего-то требовать, от нас!
— Вы — пгедатели. Не оправдаетесь!
— Перед кем? Историю — пишут победители. Потому, предателем, и виновным за все, будет тот, кого назначим мы. Догадайтесь, кто.
— Сволочи. Мерзавцы. Пгедегасты пгоклятые!
— Тиран и преступник, ради власти и почестей. Нет, я-то знаю, что это не так, и лично вы, бессребреник вы наш, были исключительно за идею! Но попробуйте объяснить это толпе! Простите, сознательным пролетарским массам. Таким будет — ваше обвинение. В ином месте и временах, это назвали бы «культ личности»… или еще назовут.
— Благодарю. Хоть за эту — услугу. Когда через сто, двести лет начнется снова — массы не усомнятся в идее коммунизма. И если лишь один я был виноват, что не удалось — значит, у другого может и получится. А вас — проклянут. Как предателей — во все времена.
— Предатели — кого? Знаете, как ликовали массы — когда узнали? Что больше не будет чисток, и врагов народа. Что крестьяне будут не гнуть спину в комхозах — а честно работать на себя. Что рабочие будут наконец получать плату за труд, иметь выходные, отпуска, 8-часовой рабочий день. Что дети вернутся к родителям — у кого они еще остались живы. Что бойцов нашей непобедимой и легендарной — наконец, по домам.
— Вы предали — себя. Путь — всего человечества. По которому вы, Партия, авангард — обязаны были вести. Или гнать всех — палкой, если нельзя иначе. А не то — зачем тогда Партия нужна? Идолами — в президиуме сидеть? Поставив повсюду дурацкие памятники, увешав все лозунгами, вроде «Слава Партии!» или «Верной дорогой идете, товарищи!». Как в той идиотской книжке — что вы мне дали, неизвестно зачем.
— А если путь — ведет в тупик? И это доказано — экспериментально?
— Пхе!
— Что бы вы сказали, если все, что написано в этой книжке — правда. Перенос сознания — между параллельными мирами. Где социализм погибнет — в 1991 году…
— Ага. И вы опубликовали ТАКОЕ — как бульварное чтиво. Вместо того — чтобы сделать совершенно секретным материалом.
— Именно потому. Умный прячет лист — в лесу. Зато теперь любого, кто станет болтать — не будут слушать. А просто — вызовут доктора, как к повредившемуся умом. Кто знает — сколько всего было, этих… попаданцев.
— СКОЛЬКО?
— А вы думаете, я поверил бы — одному? Служба, знаете, обязывает. Первый — попал к нам совершенно случайно. После чего я приказал — докладывать мне о любой… необычности, что ли. От кого бы она ни исходила. Особо выделяя — когда обычный прежде человек начинает показывать несвойственные ему знания, навыки, да и просто черты характера. А если он еще и бывал в том городе, хоть на день..
— И… сколько же их было?
— Двадцать шесть. Это те — кого нам удалось выявить, и изъять. А сколько их всего — не знает никто. Зато теперь я абсолютно уверен — это не бред, не фантазия. Потому что — подтверждается, совпадением показаний. И непротиворечивостью, логикой картины в целом.
— И… что теперь?
— Ну, для меня это стало — последней каплей. Зачем следовать — проигрышному делу? Тем более, вас все равно бы свергли — лет через пять. Я все ж был всегда практиком — не мечтателем; это я воплощал, организовывал то, что задумывали вы. Потому, для меня всегда было важно — целесообразность и эффективность. Не вы ли сами говорили всегда — что для настоящего революционера, целесообразность должна быть выше морали?
— И что вы намерены делать — теперь?
— Разумное. Строить. Учиться. Избежать ошибок — сделанных там. Заводы — оставить как есть, общенародными. Тут вы правы — противоестественно, когда тысяча человек работают на одного. Так же и банки — чтобы не было спекуляций. А мелкие лавочки, мастерские — собственнику, почему бы и нет? Так же как и землю — крестьянам. Все же мы здесь сильнее, чем те, из 1917 года — у нас индустриализация уже прошла, промышленность развитее на тридцать лет. Надо лишь форсировать науку, особенно по открывшимся темам — ракеты, атом, электроника. И вооружаться. Быть готовым — что через двадцать лет, будет вторая война. Собрать назад земли, утраченные в смуте — а затем, и прилегающие: Европа, Азия — стать сверхдержавой. Чтобы народ был доволен — повышать благосостояние. Построить — страну, в которой комфортно жить. И чтобы никто не смел, извне — пискнуть поперек. Тогда нас — потомки вспомнят с благодарностью. Ну а вы — останетесь в истории всего лишь фанатиком, готовым сжечь всю страну в неудачном эксперименте. Что делать — должен кто-то ответить, за все жертвы, и пролитую кровь.
Раздался звук, похожий на кашель, или карканье. Ходивший по комнате обернулся — и с изумлением увидел, что Вождь смеется.
— Глупцы! — сказал наконец Вождь — предположим, что вы не лжете. Что существовал этот, СССР, где революция победила в 1917, а закончилась в 1991. И что из этого следует? Вы думаете, что исторический материализм — это канава, где катишься по единственно верному пути? А если дальше нельзя — то тупик? Нет! — это путь через пропасть, где лишь кое-где проложены мосты ПРАВИЛЬНОГО выбора! Я все ж внимательно прочем эту вашу книжку — чем еще заняться узнику, на досуге? По-вашему — отчего погиб СССР, там? Отвечайте!
— Низкий уровень жизни населения, вызвавший недовольство — быстро ответил ходивший — который определялся научно-техническим отставанием от развитых стран. Которое было вызвано неэффективностью командно-административной системы. То есть, порочностью самого экономического строя — когда бюрократия, в отличие от собственника, не заинтересована..
— Низкий уровень, определявшийся отставанием — то есть, нехватка у населения пылесосов и холодильников? Из-за этого — распалась страна? И с чего вы взяли, что коммунизму присущ бюрократизм — если все ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ, за одно общее дело — и все мелкие вопросы решают в рабочем порядке, не отвлекаясь от главного? А осознание причастности к великому делу — что, меньшая заинтересованность в труде, чем деньги? Нет — будь этот ваш СССР там больше и сильнее, имел бы вдесятеро больше заводов, и этого, валового продукта, а также танков, кораблей, и атомных ракет — это не изменило бы ничего! Точно так же — отвалились бы территории в самостийность, пошли бы в капитулянтское разоружение ракеты и танки, были бы проданы заводы, а ученые торговали на рынке ширпотребом! Теперь же — и здесь, через пятьдесят или семьдесят лет — начнется то же самое. Вашими стараниями!
— Не начнется! — усмехнулся ходивший — перестройка там была, предательством элиты. Возжелавшей все блага — здесь и сейчас. Не желая видеть, что страна, только пережившая войну, да еще и изначально стартовавшая с более низкого уровня, пока не может этого обеспечить. Мы здесь — не допустим. А уж людей, сыгравших роль… Нэт человека — нэт проблемы!
— И гниль полезет — изнутри. Не заговорщики — те, кто сейчас за нас. Начнут орать «дайте!» — стоит Партии лишь чуть ослабить хватку. А дети и внуки этих, человеческих остатков прежней эпохи, вырастут изнеженными потребителями, кухонными болтунами — вместо бойцов, изобретателей, передовиков труда! Что, в вашей книжке — шахтеры, стучавшие касками на мосту, не пошли бы в олигархи, ДАЙ ИМ ВОЛЮ? И никакое «поднятие жизненного уровня» не поможет — потому что человеческой дряни, что ни дай, все будет мало! И дрянь, почувствовав силу, станет диктовать законы. Энтузиазм будет считаться глупостью, героизм — психической болезнью. Зато пустота души — остроумием, и даже гнусные пороки, вроде педерастии — не более чем оригинальностью. Тогда поймете — что я был прав. Что дрянь надо было беспощадно выжечь — наплевав на сантименты, на вопли о кровожадности. Поймете — когда будет поздно.
— Сначала — фундамент надо построить. Материально-техническую базу. Которая первична — как говорит философия исторического материализма.
— И вы будете жить — на фундаменте? Или он должен быть лишь основой — для ИДЕИ?
— У нас так и будет. Только — без крайностей. Социализм — с человеческим лицом. И гражданское общество — чтобы все, по закону. Чтобы без вины — никого.
— Социализм — ставящий во главу интересы обывателя? Закон, охраняющий святое право собственности? Гражданское общество — потребителей, сутяжно считающих — сколько должен я, и сколько мне, и боже упаси чтоб недодали? Вам самому — не смешно? Да, это все нужно — потребителям. А для того, чтобы просто служить народу — это не требуется. Строителям, энтузиастам — достаточно служить, не думая о себе.
— Ну не все же энтузиасты! — ответил собеседник — а как же те, кто готов честно работать и служить, за справедливую плату? Кто — никаким образом, нам не враг? Как привлечь их — на свою сторону?
— А никак! — ответил Вождь — использовать их? Используем — как расходный материал. Заразу человечества лучше сейчас выжечь — чем надолго растянуть. И чтобы они — детей не оставили, не воспитали. Зачем они нам — в коммунизме?
Мы обыватели, нас обувайте вы — И мы уже за вашу власть.Так что, диалектически мысля, лучше — чтобы они все, против. И всех — в расход. Наплевав — что можем, что-то от них взять. Зато, с меньшим числом, без балласта — пойдем быстрее!
— Это ж люди, все же! — сказал собеседник — не скотина какая. И невиноватые, ни в чем — такими родились. Перевоспитаем. Культурой займемся, образованием. Духовность поднимем.
— И получите, образованного обывателя! — отрезал Вождь — НЕЛЬЗЯ из мещанина сделать коммунара. Мещанин не виноват, что таким родился? И что с того — если в коммунизме он нам не нужен?
Оба замолкли на минуту. Буравя друг друга глазами. Как боксеры — разошедшись по углам. Ожидая каждый — слова собеседника.
— Историю не обмануть — произнес наконец Вождь — мы все ошиблись. И платим за это. Мы недооценили, недопоняли — главную роль капитализма. Да, я — истинный вожак революции — буду сейчас говорить о роли капитализма в истории. О ступени, в развитии человечества — которую не обойти.
— Подготовить приход социализма. Знаю, читал.
— Не смейтесь — а вдумайтесь наконец, вы, бездарность! Последняя стадия капитализма — МОНОПОЛИСТИЧЕСКИЙ. Это значит — когда остаются лишь кучка сверхолигархов, владеющих ВСЕМ, прочие же все, без исключения, никто, и звать никак! Когда правит Железная Пята, без жалости забирая все, что нужно элите — вплоть до вырезания органов и пересадке чувств, обеспечиваемых холодной наукой. Когда у большинства населения нет ни собственности, ни семьи, ни отечества — весь мир, как одна огромная фабрика, железный оскал машины! Но, развиваясь так, капитализм сам рыл себе могилу — делая ту грязную работу, которой сейчас принуждены заниматься мы! Довольно было срезать верхушку — и социализм пришел бы сразу и легко, от мировой фабрики, к всемирной республике труда, в радости и цветах — как мы ждали. Еще немного, в историческом плане — лет тридцать, пятьдесят. Но мы выступили — прежде. Благодаря таким вот — нетерпеливым. Кому очень хотелось — самим свершить, дожить, увидеть. А мы поддались, послушали — дураки!
— Однако же, Десять Дней, которые перевернули мир, сделали вы. Организовали, пропихнули, вытянули на себе. Без вас — не было бы революции. Без вашего таланта, воли, искусства. Без вашего призыва к массам, и авторитета в Партии! Все же, вы были — Вождь!
— И это была моя — самая большая ошибка…
В комнате повисло напряженное молчание.
— Ошибка! — повторил Вождь — да, Я СЧИТАЮ эту Великую как там ее Революцию, величайшей ошибкой — как истории, так и лично своей! А вот наше поражение СЕЙЧАС — было бы исторически прогрессивно! Белый террор, огромные жертвы, виселицы и расстрелы — еще сделали бы из нас героев, дали бы нашим потомкам знамя и надежду! Но захотят ли потомки поднять знамя — оплеванное, вывалянное в грязи?
— И вы посмеете сказать это вашим товарищам, на съезде? Или нашим освобожденным пролетариям? Что все было напрасно — война, голод, миллионы жертв? Что мы построили — никому не нужное?
— А вы — посмеете сказать, что в итоге вашей политики, заводы вернутся хозяевам, через полста лет? Через сто, двести — роли не играет?
Они снова молчали. Минуту, две.
— А остальные книжки? — спросил Вождь — что в них. Неужели социализм — нигде?
— Поскольку все, к одному и тому же миру… — пожал плечами собеседник — в двух лишь отклонения. Там победа была не в мае сорок пятого, а в октябре сорок четвертого, нашими стали почти вся Европа, и Ближний Восток с Израилем, Сталин умер в пятьдесят шестом, а в девяносто четвертом еще был СССР.
— А идея?!
— Красная Империя. Повышение благосостояния народа. При намного большей силе.
— Тогда это — ничего не изменит. В этом вашем, СССР — Ленин был ПОСЛЕДНИМ Творцом Идеи — держа ее в развитии, вживую откликаясь на все происходящее. Второй Вождь, Сталин — был лишь Хранителем Идеи, пусть и гениальным. Шестьдесят лет все держалось, по сути, на инерции — заданного в 1917 году порыва! Вдумайтесь — заряда хватило на ШЕСТЬДЕСЯТ лет — при том, что идею превратили в набор мертвых лозунгов. И — часто разменивали по мелочам.
— Что вы имеете в виду?
— Это легко — чуть отступиться от принципа, ради конкретных выгод. Не видя, что платить придется — нашим будущим! Враг у ворот — поднять знамя патриотизма, Отечество в опасности? Да, спасти свою шкуру — и отрезать себе путь. Потому что, для чужих народов, будет разница — ВОЙТИ во Всемирный Советский Союз, или ПОКОРИТЬСЯ Красной Империи! Так зачем нужна такая победа, сегодня — если она определит поражение завтра?
— И наплевать! — ответил собеседник Вождя — важно, что ЗДЕСЬ мы можем стать самыми сильными! Единственной — сверхдержавой. Без оглядки — на всякие там ООН, правозащитников, мировую общественность! Мы — установим мировой порядок. А кто попробует нам угрожать — пусть роет себе могилу!
Мы сильны и танки наши быстры, Разотрут Европу вашу в прах. Вынесут согбенно бургомистры Нам ключи от Лондонов и Праг! Шар земной накроем мы портянкой, Будут литься кровь и самогон, И ворвутся доблестные танки На заре в Нью-Йорк и Вашингтон! Станем, братья, гордыми царями, Как господь для нас предначертал, Принесут буржуи в наши Храмы Весь свой заграничный капитал. Мир обложим податью и матом, Лягут страны в Русскую Кровать. Будут те, кто раньше верил в НАТО, Кирзачи сержантам целовать! Ну а после — двинемся на космос, Звёздные системы покорять, И ворвемся на заре морозной На Альдебараны, твою мать!— Дурачье! — бросил Вождь — ну, захватите вы весь мир. И что? Не будет войны, не будет интервенции, не будет всяких там, грантов от ЦРУ. Просто, в один день вы сами решите — отступить. Дозволите то, другое, третье… Что самое страшное, и подлое — при полном одобрении масс! Потому что падать — всегда легче и приятнее, чем карабкаться наверх. Это лишь когда разобьетесь — будете стонать и проклинать виноватых. Но будет — уже поздно что-то изменить. По мне — так лучше погибнуть, от вражеской пули. Как страна Уругвай, в девятнадцатом веке — когда девять из десяти живущих там пали с честью, в неравном бою!
— Нет! — ответил собеседник — чтобы спорить об идее, надо все ж жить! Спросите у любого из живущих, и он ответит, каждый — если я умру, что мне до прочего? Может, в чем-то вы и правы. Зато — те, кто погибли бы на войне, или умерли бы от голодомора, останутся жить. Несколько МИЛЛИОНОВ человек. Люди ведь — не плановые «человеко-единицы», расходный ресурс!
— Идиот! Самое простое — чем вы будете кормить этих людей? Забыли — что прежде, хлеб НА РЫНОК шел с «экономий» помещичьих и казенных, крупных хозяйств, с агрокультурой и механизацией; крестьяне же, даже зажиточные, везли на рынок лишь малую часть? «Экономии» — разорили, поделили, растащили по дворам. Где ваш «крепкий» хозяин возьмет машины, трактора — и чем он их заменит, кроме труда батраков, ведь у вас — честный рынок, это лишь комхозу дают технику бесплатно! Сколько будет «крепких» хозяев — хорошо, если один из десяти, а прочим — опять в кабалу? Очень скоро земля вся будет скуплена богатеями — для массы крестьянства это будет куда хуже комхозов! — и мы вынуждены будем это терпеть, если не хотим голода. А наши товарищи в деревне будут объяснять, что работа на хозяина — объективно-историческая необходимость, и долг гражданина. А их будут спрашивать — если в итоге, лишь сменили бар на «крепких» хозяев, на кой черт была нужна революция? И «мужицкий рай» — кончится очень скоро. А те миллионы людей, которые бы погибли, сражаясь за высокую идею — у вас сдохнут, вообще, неизвестно за что!
— Кого-то кооперируем, добровольно. Кому-то — разъясним, по-хорошему. Машинные станции, чтобы обслуживать на рыночной основе. Все — без принуждения, по справедливости.
— Вы что, не знаете, что «крепких» хозяев ЖГУТ? Те, кто сами втайне мечтают стать ими — думаете, ИМ можно что-то разъяснить? Добровольно кооперируется — лишь полная голодрань, которой нечего объединять. Машинные станции — будут громить батраки, оставшиеся без работы. А еще — всеобщее озверение от войны. И оружие — закопанное в каждом огороде. И СВОЕ понятие о справедливости — у каждого. Очень скоро — в деревне будет бешеная война всех против всех! А города в это время вымрут от голода. И уже вам — придется спешно сгонять в комхозы, тех кто уцелеет! С жестокостью и «перегибами» — намного превзойдя меня!
— Там — что-нибудь и решим… Что ж, Вождь и Учитель — ваше мнение мне ясно. Скажите лишь — неужели вы не жалеете ни о чем? Если бы вы знали — что кончите так?
Вождь снова рассмеялся — хриплым, отрывистым смехом.
— О чем мне жалеть? Что не удостоился ни Мавзолея, ни дурацких памятников, ни всяких там, имени меня — как в вашей книжке? Где есть все это — но зато предали Идею?
Если бы мне предложили, как в сказке про волшебный камень, вернуть свою молодость и начать жизнь сначала — я выбрал бы то же самое! Все умрем когда-то — так чем прожить долго, в покое, не лучше ли, ценой своей жизни, сделать мир лучше, хоть чуть-чуть? Поднять людей из болота, даже против их воли, и провести их к звездам за это стоит лечь первым, чтобы другие дошли! Вам был даден шанс, стать путеводной звездой человечества — вы разменяли его, на короткое благо самих себе!
Когда-то меня позвало Несбывшееся — и я пошел за ним. Юнцом, начитавшись романов — бежал из дома в Зурбаган. Я мечтал плыть к далеким островам — но меня не взяли ни на один корабль. Сейчас я благодарен судьбе — что не взяли.
Вернуться назад, мне казалось — предать мечту. Подтвердить, самому — что недостоин. Тогда я выбросил паспорт — чтобы не вернули домой. И стал — бродягой. Работал — где придется. Валил лес, качал нефть, солил рыбу. От чухонских земель до китайской границы. Тонул, замерзал, болел тифом. Мечтал о славе Джека Лондона, пытался писать, что-то фантастическое — под псевдонимом «Суан». Это Несбывшееся, уже прочно сидевшее во мне, пробивалось наружу — но никто, ни одна редакция, не взяла напечатать ни одну мою вещь. Сейчас я благодарен судьбе — что не напечатали!
Когда совсем не было сил, я возвращался домой — больной и избитый. Давал родным слово, что насовсем — сам в это веря. Но провинциальная глушь очень скоро становилась давящей — залечив раны, тянуло снова в дорогу, Несбывшееся не отпускало меня. Отец говорил мне — остепенись, женись, заведи детей. И я хотел встретить ту, Единственную, свою. Сейчас я благодарен судьбе — что не встретил.
Нет, счастье надо искать — не в иных землях. И — не для себя одного. Надо — разом изменить, существующий порядок вещей. Несбывшееся дало мне путеводный образ — прекрасный и яростный мир, где живут люди из розовой стали, выше, чище, сильнее и мудрее нас! Рядом с которым, наш мир — лишь бледная тень. Не имеющая никакой цены — кроме как быть заготовкой, расходным материалом.
Материал сопротивляется? Тем хуже для него!
Я учился сам — без университетов. В каком университете учат — как Несбывшееся сделать былью? Я тратил на книги — все заработанные гроши, иногда даже не оставляя на еду. Я рассчитал, по науке — как пройти этот путь. И я нашел единомышленников — так родилась Партия. Я благодарен судьбе — что так случилось. Что было дальше — знаете вы все.
Потому — я не хочу, начать сначала. Вдруг в ином разе, я найду — что искал тогда. И моя жизнь будет другой — жизнь путешественника, писателя, семьянина — но не борца? А этого мне, СЕЙЧАС — не надо!
Разве что — об одном я жалею, чуть-чуть. Что так и не увидел, как солнце всходит над океаном. Не плыл никогда на корабле — в далекие моря.
— Положим, вы немного потеряли! — усмехнулся собеседник — мне вот пришлось однажды, плыть с Зурбагана во Владивосток, с заходом на те самые, острова Танариву. Нет там ничего особенного — грязь, дожди, малярия, дикие туземцы! И кучка упрямых колонистов — кто ковыряется в земле, несмотря ни на что. Через годик пошлем туда эскадру — глянуть, остались ли там живые. Впрочем, если их всех там съели — беда невелика. Поскольку это не наши люди — не вовлеченные в процесс.
— Бескрылые вы! — бросил Вождь — без мечты. Лишь по чужим планам — умеете строить. А самим придумать — не выйдет. Куда вы — народ поведете? Тех — кто мечтать умеет.
Случилось мне как-то — в деревне задержаться, за Каменным Поясом. В тех краях, мужики, в страну Беловодье верят. Где живут — в справедливости, и богатстве. Скажешь, что такой страны нет — и убить могут. А уж ребра пересчитают — точно. Так решили там, общим сходом, ту страну найти. Выбрали троих, побойчее, в делегаты, шапку по кругу пустили — три тысячи рублей собрав, и наказ дали: весь свет объехать, вернуться, и рассказать. И объехали ведь, вкруг света, и вернулись, и рассказывали, о приключениях своих, перед тем же сходом, и я тоже, слушал. Спросили их — любопытно все это, а Беловодье все ж где? И повалились делегаты в ноги всем, плача — нет такой страны, бейте нас, виноваты! А старший из них — после, в хлеву повесился. Так решил сход — молчать, что Беловодья нет. А кто проговорится — бить того насмерть.
Европеец бы так не смог — немец, француз, англичанин. Только — наши. Ради мечты, идеи, цели великой — на любые жертвы, горы свернем. Без них — по углам разбредаемся, бери голыми руками! Потому — не будет у нас капитализма, никогда! Идею — богатством не заменить! Не сказать — просто богатейте, повышайте валовой продукт. Мы — народ другой, не европейцы. Никогда капитал у нас — главным не будет. Если попытаемся сделать это — умрем.
— Что-то я не понял! — усмехнулся собеседник — то вы считаете, что человека надо наверх к счастью палкой гнать. То — про народ наш, единственно идейный…
— Да, я ошибался! — ответил Вождь — потому что, искал. Вперед, в новое — и наощупь, набивая шишки. Чтобы — те, кто после нас, наших ошибок не делали. Новое поколение наше, надежда..
— Знали бы вы, НАСКОЛЬКО ошибались! — заметил собеседник Вождя — мечтали вырастить новое поколение с новой моралью, без «я» и «мое»? А в ваших инкубаторах-детдомах, среди ваших соколят-воспитанников — существует иерархия! Где главное — именно «мое»: территория, вещь, время: детям членов Партии — больше, детям «бывших» — меньше всех. Само возникло — из самой природы человеческой. Не вышло бы у вас — соколят вырастить. Прежние бы люди — вышли.
— А наплевать! — с яростью сказал Вождь — пусть ошибки! Но — бороться и искать! Идти — и не сдаваться! Остановка — смерть! Как в том мире, где этот ваш, СССР. Ведь НЕТ там другой идеи, другого проекта — не придумали! А капитализм — и там, рождает лишь гниль! Экспансия, человечества всего — остановилась. И — к звездам. И — во всем. Изобретения — лишь в потреблении. Общественное — все в болото. И нас, здесь — вы, туда же? Или все же решитесь — проект незаконченный, завершить?
— Может быть — сухо ответил собеседник — но пока нам, дай бог, за вами разгрести. Простите — но мне надо в Реввоенсовет. И прощайте. О вашей судьбе — вам сообщат. Это все — что я могу для вас сделать.
Он вышел. Стукнула железная дверь. И щелкнул замок — как затвор.
— Я ошибался — сказал Вождь вслед — а все же, достроим, задуманное! Потому что проект наш, даже со всеми огрехами — лучший! Мы место расчистили, вырыли котлован. А сваи бить, стены, крышу ставить — найдется, кому!
Мы ехали шагом, Мы мчались в боях, Мы яблочко-песню Держали в зубах, Ах песенку эту Доныне хранит Трава молодая — Степной малахит. К ночи смелели Смрадные бесы, День умирал в пыли, Тьма подступала враз С четырех сторон. Здесь бы в клинки, Да яблочко-песню В мертвые ковыли Выронил обеззубевший Эскадрон. Здесь бы в клинки, Да яблочко-песню В мертвые ковыли Выронил обеззубевший Эскадрон. Нынче солдату Худо без песни, Годы его горьки, Хитрая сволочь старость Свое взяла, Внучка солдата Выбрала «Пепси», Выскользнув из руки, Медная кружка Падала со стола. Он пролетарий, Он пролетает, Но свысока видней, Как по степи весенний Дробя гранит, Прет малахит — Трава молодая, Та, что до наших дней Песню его потерянную Хранит. И в этом корни надежды, Источник верного знанья, Что Билли Гейтс не тянет Против Че Гевары, Что скоро новых мальчишек Разбудят новые песни, Поднимут новые крылья, Алые крылья. Видит он сверху, как на восходе С целью купить табак, Выдубив душу в недрах Судьбы иной, Входит в деревню огненный ходя С лаем цепных собак, Ветром и алыми крыльями За спиной. А рыжему Яшке снятся те крылья Дюжину лет подряд, А от роду Яшке те же Двенадцать лет, Веку — двенадцать, Звездам — двенадцать — Тем, что над ним горят, В целой вселенной мира Моложе нет. Под волосами тлеет На коже Яшкиной головы Злой иероглиф вечного «Почему?» Ждет паренька, дождаться не может, Песня степной травы — Яблочко, адресованное ему. И верят рыжему Яшке Его нездешние страны, Его свирепые струны, Что сыграют, как надо. Его шальные дельфины, Что танцуют в Гольфстриме, Его алые крылья, Алые крылья.Особенности революционной охоты
В небе горел закат. Лес выделялся на алом — черными зубьями. Большая поляна — как чаша: посреди уже зеленеет травка, а под лапами елей еще снег. Пока еще, равновесие в природе — между зимой и весной. Ветки берез скоро оденутся зеленым — а пока, стоят в черном голом унынии. Но зима уже ушла. Был апрель.
И тишина. Непривычная — для слуха городского. Хотя, прислушавшись, можно было различить — как поодаль шуршит, мышь, а может и заяц. Редкие голоса птиц — переживших зиму, перелетных почти еще нет.
Хрр, хррр, хрррр!
Вальдшнеп летел над лесом. Выбирая путь — через поляны, болотца, просеки. И звал самку — вот сейчас она поднимется, услышав его голос, и они полетят вместе. Как было всегда, одно и то же — и сто, и тысячу лет назад.
Ббах!! Бах!
— Еще один! — сказал высокий человек в кожаной куртке — ну что, нашли? Забьется под кочку — пропадет. А это нерационально — без пользы, дичь губить. Или на сковородку — или пусть летит, до следующего раза.
— Куда денется! — ответил его напарник, плотный и коренастый, в армейской шинели, без погон — впрочем, охота не парад — вот, не стыдно уже, что-то предъявить!
— Не стыдно — согласился высокий — а вот врать… Ты что же, самка собаки, саботаж разводишь? Только не надо — про технические трудности: я достоверную информацию имею! «Ягодки», у тебя уже — в готовности. Так чего мы ждем?
— А что, был назначен конкретный срок? — резко бросил военный — вы ставите МНЕ задачу, ну а КАК и КОГДА, решаю я. И осмелюсь заметить — я рискую намного больше вашего!
Высокий в кожанке обернулся, посмотрел в упор. Блеснули стекла очков. Но от этого взгляда, его собеседнику сразу стало неуютно.
— Позвольте вам возразить: КОГДА — решаю именно я! — сказал человек в кожанке, спокойным ровным тоном, от которого однако делалось страшно — вы же, получив изделие, должны были НЕМЕДЛЕННО доложить мне о готовности, а не тянуть время, ОЧЕНЬ непонятно зачем. Объяснения последуют?
— Технические трудности были! — забормотал человек в шинели — мы не готовы. ПОКА не готовы. СЕЙЧАС не готовы. Вот через полгода..
— И что — изменится?
— «Периметр» войдет в строй, в полном объеме — отрапортовал коренастый — это значит, гарантированно собъем любую сво… кто сунется, еще на дальних подступах! Второй и Четвертый корпуса закончат перевооружение на «пятнадцатые», сейчас же там половина дивизий, еще на поршневых. Ударных, «двадцать восьмых», у нас будет — уже не четыре полка, а десять! Ну и по наземным, я вам сводку еще три дня как, подал: реальная наступательная мощь вырастет на шестьдесят процентов! Флотские… с ними хуже, но и у них тоже что-то летом, введут.
— Так! — ответил высокий — не забыл, что «война есть продолжение политики, иными средствами». Так что ж ты, хвост собачий, пытаешься телом вертеть? Приказ получив, от меня, ты должен сказать «есть» — и обеспечить. А уж как — твои проблемы. Тебе видней — ты ж профессионал. С тебя лишь спросим — за результат. По всей строгости.
— Я не отказываюсь — ответил военный, упавшим голосом — ответственности с себя не снимаю. Но нельзя — СЕЙЧАС! Не вытянем. Не за себя — за страну мне страшно! Зачем — так гнать? Никуда ведь не денется — их е… Париж! И время еще — как раз, полгода.
— Париж? — поднял брови человек в кожанке — ах, да, забыл за заботами, хе-хе! Где соберется мировая шелупонь, именующая себя президентами, королями, министрами, кем там еще — договориться о разрядке и границах, «саммит века». С нами договориться, между прочим — поскольку мы и есть главный возмутитель мирового равновесия. Посему, Наш, первым номером приглашен — а вот если, вместо него, «ягодка» им на головы? Или — в довесок к нему, хе-хе!!
Коренастый, в шинели — промолчал. Разговор людей, имеющих ВОЗМОЖНОСТИ — это не треп соседей на кухне. Сказанное было уже законченным преступлением — такая фраза «а вот если нашего Вождя..», даже на уровне «если бы» — это проверка на корректность: не прошло, отбросили — но в памяти, подкорке-то осталось? И всплывет — в следующий раз.
Оттого, оба собеседника понимали — то, что сейчас происходит, однозначно тянет на высшую меру. Военного успокаивало лишь то — что ловить и разоблачать его должен был бы тот, кто сейчас стоит рядом. И затеял — весь этот разговор. А также то, что здесь, в отличие от любого кабинета, не могло быть спрятанных микрофонов. Как и свидетелей — в этом лесу, оцепленном охраной, на километр вокруг.
— Пусть живут, пока — сказал высокий — куда они после денутся от пролетарского гнева? Не Париж цель — потому как вовсе не президенты правят миром. Реально РЕШАЮТ — всякие там рокфеллеры, круппы, морганы; ну а все правительства и прочие Лиги Объединенных Наций, лишь исполняют. Как ты, между прочим, должен слушать МЕНЯ — но это, к слову. Так вот, меньше чем через месяц, тринадцать из тех пятидесяти самых богатых и влиятельных, кто РЕАЛЬНО держат весь ИХ мир — соберутся в Куршевеле. Дальше — продолжать?
— Это война — сказал плотный — это ВОЙНА. Не как раньше — «малой кровью, на чужой территории». За это — на нас ополчатся ВСЕ. И — никакого мира. Только насмерть — или мы, или они.
— А вы, привыкли? — усмехнулся высокий — во вкус вошли? Если завтра война, если завтра в поход. Польша, Фигляндия, Манджория, мать их так — что там дальше по плану намечено, Проливы или Аляска? И долго так — «собирание земель», третью римскую империю по кускам в закрома? Вместо того — чтобы взять все, и сразу.
— Не потянем, сейчас! — сказал коренастый — нас просто, массой задавят. Да, мы сильнее — но только если они на нас, поодиночке. А если объединятся — у них просто, ресурсов, на порядок больше. Тут — и «ягодки», не помогут. Я не отказываюсь — но надо больше силы набрать. Время на нас работает: все ж, если завтра в поход — заводы УЖЕ в мобрежиме! Танки — как пирожки печем. Полную моторизацию — закончим. В войсках, доведем долю новейшего оружия и техники, до девяноста процентов! Всю авиацию — на реактивные, полностью. В океан — шесть авианосцев, и двести подлодок. Ракеты — получим — чтоб до Америки с «ягодкой», даже теоретически, сбить нельзя! И все это — года за два. Вам, конечно, решать — но мое мнение, мы еще подождать могли бы. Пока мы — идем вперед, быстрее чем они. Ну а эти, «хозяева мира» — ну соберутся же они еще где-нибудь, не в последний же раз! Год, два, выждать — а уж потом..
— Ты абсолютно прав — ответил высокий — если бы у нас были, эти два года. А их — нет. Или сейчас — или будет поздно.
— А что произойдет? — удивился военный — «ягодки» у них еще лет пять не будет, как минимум. И реактивные — опытные лишь, едва летают, а у нас три тысячи их, только в строю, в войсках! Танки, артиллерия — и сравнивать нечего, я вам в прошлую неделю доклад: один лишь наш «Тайфун», что залпом пару квадратных камэ сожжет, и поле горелое сделает, из леса или кварталов городских — у них, даже близко ничего нет! Сами они, нам войну не объявят — не самоубийцы же! Или у них кто-то больной на голову — воевать собрался, сейчас?
Высокий ответил не сразу. Солнце село, небо стало чернильным, лишь на закате еще видна была полоса кровавого цвета. Пролетел еще один вальдшнеп — оба охотника на него даже не взглянули.
— «Письма из никогда» — произнес наконец высокий — социальная фантастика, как было объявлено. Ты прочел — что я тебе дал, с моими пометками? Что — уже сбылось. Атоммаш, ракеты, компьютеры, все эти новые машины и материалы — до деталей совпало. До деталей — ты понимаешь? А если и остальное — правда? СССР — погибший без войны? На радость — всемирному капитализму.
— Фантастика! — уверенно, даже слишком, ответил коренастый — бульварное чтиво! Попридумывали, понаписали. Сами прикиньте, тащ нарком, было бы всерьез — так не роман бы, а доклад, с грифом «совсекретно», кому надо на стол.
— А по мне, так придумано гениально — ответил высокий — лист лучше прятать в лесу. Опубликовать, как фантазию — чтобы не принимали всерьез. Вот только, кто автор — МНЕ узнать не удалось. Все шло через Самого — когда он только стал Первым. И он же все — проводил. Много — совпадений? Так что это было — фантазия, проект? Или — взгляд на ТУ СТОРОНУ? И что характерно — ВСЕ сбылось, УЖЕ. Что делать будем — если окажется, и остальное, правдой? «Перестройка» — когда народ, против нас, а вся верхушка — предатели?
— Никак невозможно! — заявил плотный, еще не веря, но принимая игру вышестоящего — кто же под Железную Пяту, добровольно? Умопомрачение что ли, на всех? Самим идти — в рабочие скоты?
— Железная Пята — повторил высокий человек в кожанке — логичный ответ мировой буржуазии на нашу революцию, вроде бы… Лагеря для «праздношатающихся» и «врагов общества», дисциплинарные суды, запрет любых не то что организаций, а и просто собраний, без дозволения нельзя не то что сменить место работы и жительства, но даже создать семью — и дети изымаются в заведения тюремного типа, а после совершеннолетия должны выплатить долг «за обучение», работая почти бесплатно и где укажут. Естественно, все перечисленное — исключительно, для низших классов, куда впрочем, открыта дорога всем: ведь капитализм монополистический, а это значит, что из массы населения, малая кучка в олигархи, а прочие, это никто! А вышло, что в испуге закручивая гайки У СЕБЯ, мировая буржуазия очень помогла нам ЗДЕСЬ — поскольку даже наши вынужденные и очень непопулярные меры, вроде трудармий, на всемирном фоне смотрелись еще вполне — ну а желающих повернуть как там, уж точно, не находилось, ну кроме врагов народа конечно, изначально враждебных нам.
— Так нет ведь уже трудармий — заметил человек в шинели — и Партия, в заботе ведь, о народе? Реально ведь, выполним — чтоб через пять лет, половина из казарм, в квартиры, а через десять, уже все! А «народный автомобиль», передовикам — это можете представить, чтоб даже самый лучший рабочий, у того же Форда, на собственной машине? — а у нас, наверное уже сотни таких! У них кризис, депрессия — а у нас жить лучше стало, и веселее!
— Жить стало веселее — согласился высокий — но я до сих пор думаю: кто был прав тогда, двадцать лет назад? Тот, которого когда-то звали Любимым и Родным — или Наш, сегодняшний?
— Мы все — поправил коренастый — на том съезде, голосовали «за».
— Спасая свои головы! — сказал высокий — но вдруг Любимый и Родной был прав — и мы упустили шанс, данный нам Историей — на одной лишь идее, взлететь в коммунизм? Правый уклон, левый уклон — руль крутим, от одной обочины к другой — вместо того, чтобы прямо, и полным ходом! Материальное — это конечно, первично, и фундамент всего — но НЕЛЬЗЯ было так, чтобы на идею, совсем! «Хорошая политическая работа, это процент выполнения и перевыполнения плана, по валовому продукту» — ну да, сильная экономика, юбер аллес! И все чаще у меня мелькает крамольная мысль — народ наш, авангард всего прогрессивного человечества, за нами идет, ради идеи великого и светлого будущего — или же, как детки в школах учат «спасибо Вождю и Партии — что кормит нас и одевает»? А если — у кого-то, это получится лучше?
— Так ведь временно! — убежденно ответил коренастый — «сначала дворцы прекрасные построим, и заселим туда наших людей — а затем возьмемся за их сознательность». А как — иначе?
Высокий помолчал. Его собеседник ждал ответа. Наконец высокий произнес отчетливо:
— Я не уверен. В экономическом преимуществе. Нашего строя. Перед капитализмом.
Показалось, что военный вздрогнул. Будто хотел отодвинуться. Не ожидая ТАКИХ слов от ТАКОГО человека.
Именно так — сказал высокий — хотя арестовал бы любого другого, за эти слова. Подумайте — почему принципы, идеи, организацию нашей армии, и в самом деле победоносной — так и не сумели перенести в народное хозяйство? Хотя пытались — и все казалось так просто: заводы, фабрики, шахты, фермы — это те же полки, дивизии, корпуса, только трудовые. Результат — вам напомнить?
— Упорства не было — заметил коренастый — тут ведь главное, это дисциплина! Военная, трудовая — без разницы. Лентяй, пьяница, прогульщик — тот же вредитель. По закону военного времени его — не обессудь! Чтоб все, как в войну работали — будет тогда, пятилетка в четыре года! Вам конечно, видней — но я бы так..
— Все было — ответил высокий — и пьянству бой. И за воровство, даже самое мелкое… И патрули на улице — гражданин, отчего вы не на работе? А производительности — как не было, так и нет. Пожар тушить, и дом строить — это все ж РАЗНЫЕ вещи: мотивация другая совсем! Повседневно, нельзя как в атаке — перегоришь! Организация, опять же — это в армии, «любой ценой», «потерь не считать». А в хозяйстве так — вылетишь в трубу!
— Ну, допустим — нехотя сказал коренастый — и что дальше?..
— Дальше? То, что мы пытались построить — у них, называется Железная Пята. Она же капитализм второй стадии, монополистический, он же империализм, «Промышленные бароны состязаются — кто больше выжмет из своих рабочих!». Тот же самый — громоздкий, неуправляемый, абсолютно неэффективный монстр. Загнивающий, умирающий — что тоже есть абсолютная правда. Поскольку обречен смениться — или нашим социализмом, которому уступает по всем показателям. Или — чем-то ДРУГИМ.
— Так ведь нет ничего дальше! — усмехнулся коренастый — «империализм есть последняя стадия, за которой..»
— А отчего ТАМ не было, «за которой», дурак? Если прочесть «Письма» внимательнее — как прочел я… Как они ТАМ выходили из своего Великого Кризиса — Депрессии? Сворачивали монополизм! В принципе, нельзя рассчитать точно, болты и гайки, сколько мне будет нужно и где — даже ученые математики с их «компутерами» не берутся решать эту задачу! Но это и не надо — чем самому их делать, организовывать производство — достаточно объявить, что буду покупать из-за такую-то цену — и возникнут множество желающих, мне их продать, беря на себя все издержки! А кризисы перепроизводства — ОБНОВЛЯТЬ продукт! Никто не покупает, например, ботинки — все уже обуты? Объявим, что отныне в ходу, в моде — исключительно ботинки с острыми носами — покупайте, а старые, на помойку! Или автомобили — покупайте новые, каждые пять лет, что ездят чуть лучше — а старые, в лом! Потребление, это идол — нет денег, в кредит, заплатишь после и с процентом. Жить становится — тоже, лучше и веселей. А как ты думаешь — захочет ли революции рабочий, имеющий собственный автомобиль?
Это — третья стадия капитализма, не описанная у классиков. Она — еще не имеет преимуществ перед нашим строем. Хотя бы потому, что у нас идет на общее благо — то что там олигарх потратит на яхту, виллу, спортивный клуб. Но она — уже устойчива к социальным потрясениям, и иммунна к нашей пропаганде!
А дальше будет — четвертая. Антагонизм классовый — сменится, национальным. Когда копать уголь, плавить сталь и делать машины, будут лишь индусы, китайцы, малайцы и прочие там. А в «развитых» странах — останутся, кроме естественно, хозяев, их обслуга, холуи, прислужники — бывший когда-то пролетариат. Имеющий свой кусок от хозяйской доли — обеспечивающий очень даже богатую жизнь. Поскольку — у них все ж доступ к большей части ресурсов земного шара.
И как ты думаешь, через двадцать лет, ЧТО захочет НАШ обыватель, пусть получивший собственную квартиру в «образцовой» пятиэтажке — узнав, что их «пролетарий», с работы приезжает в свой двухэтажный особняк, на лимузине? Когда уже нет ИДЕИ — а одно лишь желание «хорошо жить»?
— Вы считаете, что «Письма», это… реальный мир? Где-то и когда-то?
— А это что-то меняет? От того — параллельные реальности, или мысленный эксперимент «что будет если?». Если действительно — ЗДЕСЬ ЭТО БУДЕТ?
— А будет?
— Будет. Речь их президента, опубликованная вчера. Вам рассказать детально — насколько она похоже на «новый курс» Рузвельта, ТАМ? К счастью, они еще нее уверены — не знают ТОЧНО, что будет в итоге. Зато я — знаю.
— Может тогда лучше — официально? Выйти наверх, обсудить, предложить…
— Кто нас поддержит? Вождь — мнящий себя Красным Императором, мудрым правителем, собирателем земель? Партия — именем которой, социализм живет и побеждает, черепашьим темпом, от елки к елке? Народ — довольный что наконец сыт, и восемь соток разрешили — а больше ничего и не надо? Даже если нам выслушают, поставят на обсуждение — пройдет время. И будет поздно. СЕЙЧАС — третья ступень капитализма, еще и не родилась, ее можно перехватить. Опоздаем — и поезд уйдет. Как двадцать лет назад — и бессмысленно о том сожалеть, и мечтать, «что было бы если».
— Так может… этот «поезд» не последний?
— Может быть. А может и нет. Вы — сделаете на это ставку! На ВСЕ?
— Мы можем — не выстоять. Помните — первый польский поход?
— Именно затем — наш план. Не присоединение очередной территории к Красной Империи. А агрессия мирового капитала — против первого на земле государства народной власти. И — за кого будет мировой пролетариат: ведь ПОКА еще ничего не случилось, Железная Пята еще ЕСТЬ! Да, первые недели, может быть месяцы — будет тяжело. Вторжение, тяжелые бои, Социалистическое Отечество в опасности — но это сплотит и нас, отсеяв человеческий шлак! А затем вспыхнет — мировая революция! Ну а после мы возьмем этот мир — наш, по праву! Мы возглавим его как авангард человечества — и поведем, к свободе и счастью.
— Авантюра.
— А вы хотите, чтобы лет через тридцать была «демократия»? Когда толпа неизвестно кого, не профессионалов, берется судить о том, чего не знает и за что НЕ ОТВЕЧАЕТ? Собранная на несколько лет — без мысли, что будет после. Когда придет «перестройка» — будете смотреть, как разворовывают страну? Рушат все — что мы строили, не жалея себя? Смотреть в бессилии — и думать, что МОГЛИ когда-то, все изменить.
— Работаем вариант первый — или второй?
— Первый. Знаю, что твой осназ сумеет доставить что угодно куда угодно — и свалить после на анархистов-террористов. Но нам нужен — именно наш, однозначный след. Значит — бомбардировщик. Взлетевший с нашей территории — и прослеженный на радаре. Реально провести — чтобы его не сбили, на подходе?
— Вряд ли там будет, серьезное ПВО и «с пальцем на курке». Все ж мирное время — и не военный объект. А истребители — не смогут, до точки. Реактивный, дальний, «шестнадцатый». Что будет — с экипажем?
— Печально, но придется… Вы предпочли бы, чтоб они после давали показания — ОТ КОГО получили приказ? Ваши предложения?
— Тогда — у «ягодки» не раскроется парашют. Взрыватель сработает — на заданной высоте. А самолет отлететь — не успеет.
— У вас уже есть — надежный экипаж? Который выполнит ЛЮБОЙ приказ? Сообщите мне фамилии — когда уляжется, подпишу на Героев, посмертно. В чем дело?!
— Тащ нарком… Командир экипажа — он ТАМ, в мире «Писем», в СССР — станет космонавтом, из первой десятки. А ведь «Письма» были опубликованы — когда он был еще мальцом! Значит — и впрямь, ТОТ мир существует? Параллельное время — где был СССР.
— Дошло наконец! Что я понял — год назад! Стал бы он — космонавтом. А после — смотрел бы, как страну распродают. Как торгуемся с суверенными казахами — за построенный нами Байконур. Как сгнобили на стапеле «Буран» — потому что так захотели США. Как с думской трибуны говорят — нужны ли нам слишком сложные технологии? Как нам предлагают — план утилизации, экономически избыточного населения. Как с нами обращаются, в мире — договор? О кей, вот наши условия? Мы всем командуем, все решаем — теперь, какие ваши предложения? Чем увидеть ТАКОЕ — уже лучше сразу, да еще прихватив на тот свет самых главных врагов! Ну а в космос — найдется у нас, кому лететь, когда дойдет дело..
Солнце закатилось совсем, стемнело. Пролетел вальдшнеп, совсем низко, прямо над головами охотников. Но никто из них — не поднял ружья.
— Лети, птичка — сказал высокий — другая у нас теперь охота! Революционная — на весь мировой капитал. Последняя!
— А если нет?
— Тогда — да сжалится над нами небо! И бог — если он есть.
* * *
Серебристо-серый самолет летел в ночном небе — узкий фюзеляж с прижатыми к нему турбинами, крылья стрелой. Летел вдоль границы — под правым крылом, уже чужая земля. Где-то там были чужие истребители, поднятые на перехват — видные пока лишь точками на бортовом радаре. На перехват — если граница будет нарушена.
Кодовый сигнал — командиру вскрыть запечатанный пакет. ПРИКАЗ — и координаты цели. С отметкой «любой ценой». Это значит — собственная жизнь, менее приоритетна, перед выполнением задачи.
Сомнений — не было. Их всех учили — ради ЭТОЙ минуты. Почет, чины, все блага — все это щедро давалось им, в уплату авансом — за то, что они СДЕЛАЮТ ЭТО, когда придет час. Все было просто и ясно — выполнишь задание и вернешься, значит ты занимал СВОЕ место. Не вернешься — что ж, останется Отечество, что тебя послало: ведь такой приказ не дается зря. Ну а не решишься — значит, ты не человек вовсе, а полное г…, лишенное всякого уважения, в глазах народа, товарищей, и самого себя.
Разворот, и форсаж турбинам! Самолет вонзается в чужой уже воздух — как наконечник копья. Топлива не жалеть — чтобы не попасть в прицел истребителям. Вот, задергались отметки на экране — но отстают безнадежно, привыкли к рутине с прошлых разов, пока теперь выйдут на высоту и разгонятся — да и не угнаться поршневым «пиратам» за лучшим в мире бомбардировщиком, «серебряной стрелой»!
Мигают индикаторы чужих радаров. Где-то внизу, наверное, батареи пятидюймовых зениток задирают стволы — лишь они могут забросить снаряд на такую высоту, но не попадут, они рассчитывались на тучи медлительных «крепостей» — а не на одиночную, стремительную и верткую, стальную птицу.
Стреляют, или нет — наплевать! На такой скорости, зоны досягаемости батарей, самолет проскакивает за секунды. Истребители безнадежно отстали, но еще тянутся где-то сзади. Пожалуй, они будут некоторой проблемой, при возвращении — но это будет потом! А сначала — дойти до цели, и сбросить груз.
И — помехи! Новейшая аппаратура РЭБ, установленная буквально неделю назад — вражеские радары слепнут, один самолет превращается в эскадрилью. Как внизу обрываются телефоны в штабах — но никто не сообразит, предупредить тех, кто на цели. Зачем — хотя они и «хозяева мира» — но не обязаны взваливать на себя заботы, для которых есть господа генералы. Как никому не придет в голову, что целью является мирный курорт. И что это не провокация, не игра — а удар насмерть.
Вперед к цели — со скоростью, почти тысяча километров в час! Европа кажется такой маленькой. И в небе тесно — взлетают новые эскадрильи истребителей. Летят к границе, ожидая нового удара оттуда — или мечутся в ночном небе, в поисках призрачных самолетов. Враг еще не уверен, не знает, ЧТО происходит. А у нас — сомнений нет.
Цель — прямо по курсу! Горят огни — без всякой маскировки. Координаты — точны. Сброс!
И зажигается солнце над землей.
Солнце — нового мира.
ПРИМЕЧАНИЯ
Стихи в тексте:
Люди, проснитесь — автора. Пытался придумать что-то в стиле ультрареволюции. За революцию и народ — реальная, 1920-х. Кто-то из подражателей Маяковского.
Три пули — импровизация автора на основе реальной 1920-х. «Три пули осталось в нагане».
Там вдали за рекой — импровизация автора на тему широко известной.
Сегодня мы не на параде — «Марш коммунистических бригад» СССР. Широко известная когда-то.
Было красное небо — реальная, времен перестройки. Сам слышал, у Казанского. Автора не знаю.
Над Россией гордо реет — аналогично, но уже 1990-х. Тоже — автора не знаю.
Мы ехали шагом — Олег Медведев.
* * *
Книга Ленина называлась «Государство И Революция». Написана летом 1917, в шалаше у Разлива. Согласно ей, диктатура пролетариата — временная мера, чтобы обеспечить порядок, пока народ не выберет подлинно демократическое правительство. О диктатуре партии там действительно не было.
* * *
Союз коммунистической молодежи или Коммунистический союз молодежи — так у нас действительно спорили, как называться комсомолу. «Союз тех, кто уже..», или «Союз тех, для кого цель..». У нас победило второе.
* * *
Рачья и Козлячья — так у нас белые называли Красную Армию (полное название: Рабочее-Крестьянская Красная Армия)






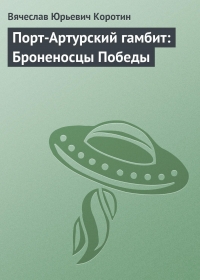

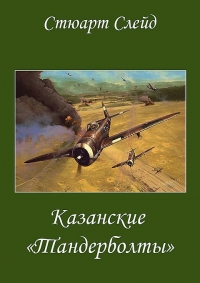
Комментарии к книге «Страна Гонгури. Полная, с добавлениями», Владислав Олегович Савин
Всего 0 комментариев