Герман Романов «ПОПАДАНЕЦ» НА ТРОНЕ «Бунтовщиков на фонарь!»
Все лица, учреждения и события вымышлены. Любое сходство есть случайное совпадение.
ПРОЛОГ ПЕРВЫЙ 6 января 1992 года
Иркутск
Пряча уши от колючего и холодного рождественского ветра, забивавшего снег за воротник куртки, Петр Рыченков торопливо шагал по ночному городу. На заснеженных улицах поздние прохожие оставляли причудливые тропинки следов.
Конечно же, Новый год общага встретила весело! Весь истфак гудел, не просыхая, уже неделю. Выпито было все, включая одеколоны, съедено также все, включая привезенные от родителей запасы на весь предстоящий месяц.
Распотрошив последнюю заначку, Петр направился на другой конец города. Так он поступал теперь всегда: он ехал в «свой» магазин к «своему» человеку. Пустые прилавки и унылые бабки, давящиеся в очереди, чтобы отоварить талоны, давно уже стали неотъемлемой чертой эпохи краха социализма и нарождавшейся рыночной экономики.
Этот «свой» человек появился недавно: Петр уже полгода репетиторствовал. Протекцию ему сделала дальняя родственница мамы. Хорошенько поразмыслив, Петр решил, что позаниматься с ребенком историей для него труда не составит, и дал согласие, тем более мамаша работала в продовольственном магазине, что по теперешним голодным временам было бесценным «блатом».
Но он не ожидал увидеть такого ребенка! Ему досталась девица семнадцати лет, Лиза. Готовил он ее к поступлению в институт на юридический факультет.
Лизавета была девушкой приятственной во всех отношениях и округлостях, за исключением характера: его, Петра, она за человека не восприняла категорически.
Покачивая туфелькой на обтянутой модными малиновыми лосинами ножке, она красила ноготки, дула пузыри из жвачки и вполуха слушала его разглагольствования про промышленный переворот в Англии.
Тем не менее Петр терпел ее по вполне прозаическим соображениям: мамаша щедро снабжала его дефицитными продуктами и платила неплохие деньги за репетиторство.
Вот и теперь, собрав последние студенческие гроши, Петр отправился в заветный магазин. Деньги за репетиторство он получал, как зарплату, в конце месяца. О малейшем авансе говорить и смысла не было, поэтому Петр удовольствовался лишь продуктами. Но какими! В сумку залетали снежинки, оседая на позванивавшем и побрякивавшем там невиданном богатстве: две бутылки «Посольской» водки, банка сгущенки, банка рижских шпрот (ставших за последние двадцать дней уже буквально иноземным товаром), два блока «БТ» по талонам, блок кишиневского «Мальборо» и целая палка копченой колбасы.
Правда, пришлось выложить всю наличность до последней копейки, и домой теперь приходилось топать ножками. Было «недалеко»: часа на два резвого хода, так что до родной общаги он рассчитывал добраться уже ближе к полуночи.
Перевалив плотину ГЭС, Петр пошел отмерять версты. Миновав парк культуры и отдыха, что при царе был кладбищем, он в очередной раз удивился цинизму советской власти — почти во всех городах страны ЦПКиО разбивали на костях усопших.
Вообще-то Петр не очень любил гулять ночами по кладбищам, пусть и бывшим, но тут он рассчитывал проулками значительно сократить путь до родимой общаги. Мысли о содержимом сумки грели душу, и сейчас он предвкушал, как будет смаковать приличный табачок.
Петр остановился. Ему показалось, что послышался сдавленный женский выкрик. Будто что-то испугало, но кричать мочи не осталось. Темный переулок сдавливал душу, хоть бы один фонарь горел.
Света от ущербной луны хватало, и он разглядел под аркой три копошащиеся тени.
Понятное дело — ночные стервятники вышли на охотничий промысел. Двое подонков завалили на снег женщину и деловито снимают с нее шубу, зажав жертве рот, чтоб не орала на всю ивановскую. Петр улыбнулся мысленному совпадению — переулок носил название Ивановского.
Он сплюнул, поставил пакет к стенке дома, скинул на него куртку и решительным шагом направился к месту гоп-стопа. Не в его правилах было проходить мимо подобного, хотя большинство мужиков проскользнули бы мимо, сделав вид, что ничего не видят и не слышат. Хотя какие они после этого мужики, так себе, холопы собственной трусости.
— Вали отсюда, парень, порежу! — это уже ему прохрипел в лицо гопник, тот, что повыше.
Правда, тихонечко прохрипел, на голос по уркаганской методике не брал, сучонок, тишину блюл. В его правой руке поблескивало узкое и длинное лезвие ножа.
Не говоря дурного слова, Петр метнул в испитую рожу бандита свою потрепанную кроличью шапку и стремительно бросился вперед, уклоняясь от ножа влево.
Вбитые намертво в армии навыки рукопашного боя и здесь сыграли свою роль — получив мощный удар по печени, а затем пинок по коленке с последующим жутким хрустом сломанной от удара кости, гопник взвыл, ничком рухнул на снег и тут же получил добивающий удар по затылку.
В настоящем бою противника всегда добивают, и это железное правило Петр, дослужившийся в Афгане до сержанта, командира отделения АИР (артиллерийской инструментальной разведки), хорошо выучил.
Второй попытался ткнуть его длинной отверткой (такие часто носят с собой «рыцари с большой дороги» — убить жертву можно легко, как и ножом, а вот менты за оружие не считают), но сам попался на простейший прием, дико взвыл от боли и рухнул без сознания.
Петр без жалости сломал ему кисть и с разочарованием оглядел место спонтанной схватки. Ему было обидно, что все так быстро закончилось. Оба гопника лежали пластами и не проявляли ни малейших признаков жизни. Вряд ли они были мертвы, Петр чтил УК и их просто пощадил. Тем более что против женщины они не пустили в ход ножи и тем самым спасли себе жизнь — ведь тогда он их запросто поубивал бы. А так считайте, парни, что вам крупно повезло, и на промысел вы месяца два ходить не будете, пока переломанные кости в лубках срастутся…
Петр помог женщине встать — на вид за полтинник, шубка так себе, несуразный красный то ли шарф, то ли платок с расписными цветами а-ля хохлома, лицо покрыто морщинами, сумочка потрепанная, а ремешок не пришит, а булавкой приколот. И чего на нее напали — у таких больше сотни в кошельке никогда за всю жизнь не имелось.
— Вы где живете?
— Там, — кивком указала она на арку, за которой скрывался тупик внутреннего двора. Подхватив под руку, Петр молча потащил ее через дорогу, она не сопротивлялась.
Около тусклого одинокого фонаря она остановилась, повернулась к нему, подняла голову и внимательно посмотрела в лицо. Не сказав Петру ни единого слова, она взяла его за руку, притянула к себе и стала внимательно изучать линии на ладони, смахивая пушистой варежкой оседающие снежинки.
Петра такой бесцеремонный подход несколько покоробил, но вырывать ладонь из рук женщины он не стал — ведь каждый человек немного сумасшедший. А баба, может быть, на почве хиромантии капитально сдвинулась — «тихо шифером шурша, крыша едет не спеша».
— Не ходи, сынок, туда, куда идешь! Будет пять дней заката, и, если минуешь их, то еще семьдесят лет проживешь. Пять вещих снов будет, то и обретешь. И пять женщин будет, но одна из них только останется тебе на всю жизнь. Все будет за эти пять дней — и ты будешь, и не ты. И любовь, и липкий страх, и смерть, и слезы, и надежда. Кровь лучше лить помалу, иначе за раз возьмут много. За тобой и выбор будет — или жить, или… Не ходи, сынок…
Петр оторопел от такого непонятного и сумбурного пророчества, а женщина нырнула в темный проем арки.
— А… Погодите, я провожу вас! — он через мгновение дернулся следом за ней. Но… Двор был пуст. Женщина словно испарилась.
— Ни фига себе! — протянул он, ошарашенно разглядывая грязные и обшарпанные стены арки, а затем темные дома с одиночными редкими огоньками окон, выстроившиеся в виде буквы «П».
Под аркой снега еще не намело, лишь края чуть-чуть припорошило. Открывая выуженную из кармана брюк пачку сигарет, он внимательно рассматривал снег: две дорожки их следов, пересекавших проезжую часть и ведущих по асфальту в арку. Затем снова свежий снег, но чистый, без следов, которые по всем законам природы должны были быть!
— Бабка катапультировалась с места, что ли? — Жуя так и не закуренную сигарету, Петр направился к куртке с пакетом, подобрав на ходу свою шапку.
Оделся, щелкнув зажигалкой, закурил. О судьбе незадачливых гопников он не беспокоился. Выживут — вот и хорошо, а замерзнут до утра, не приходя в сознание, не велика потеря, да и на улицах спокойнее станет.
«Чтобы предсказанное не сбылось, надо предсказателя вроде как того, убить… Типа, он кликал беду и сам на себя накликал, тогда, глядишь, все и обойдется… Только где эту бабу искать, когда она… Точно, ведьма. Угораздило же меня на нее нарваться!» — выруливая из проулка, думал на ходу Петр, нервно ежась то ли от ветра, то ли от непонятного ощущения взгляда в спину, нехорошего такого, словно через оптический прицел снайпера, пробивающего морозом по спине и дыбящего, как у волка, шерсть на загривке.
Над самим пророчеством он немного подумал на ходу и решил, что одно из двух — либо все вранье, либо правда. Если первое, тогда незачем беспокоиться, а если второе — тоже не стоит беспокоиться, потому что ничего не понятно, только зря огород городить.
Размышлять долго не пришлось, так как Петр уткнулся в двери своего общежития, куда он и направлялся с добытым, невиданным по тяжелым временам продуктовых карточек, богатством.
Прислушался — вахтерша орала на девчонок, не пуская их в душ. Связываться с ней не было ни малейшего желания, поэтому пришлось прибегнуть к запасному варианту. Петр, весело посвистывая, обогнул здание и подошел к своему окну, которое призывно улыбалось ему через легкомысленные розовые шторки на втором этаже.
Камешек, брошенный умелой рукой, звякнул о стекло. Спустя минуту окно распахнулось, и появилась взъерошенная голова соседа по комнате:
— Рык, тебя за смертью посылать!
Следом вылетела веревка, к которой Петр привязал сумку и куртку. Не прошло и пяти секунд, как передача взмыла в воздух скоростным лифтом и была подхвачена несколькими руками.
А еще через пять секунд из комнаты послышались радостные возгласы студенческой братии — содержимое было молниеносно изучено и встречено с неприкрытым энтузиазмом, особенно спиртное, которое Петр брал не для себя, не любил он это дело, а для похмельных сотоварищей.
Петр же приступил к последнему этапу проникновения в жилище. Осторожно обогнув черный проем канализационного колодца (крышку с него скоммуниздили для сдачи во вторсырье неизвестные предприимчивые людишки), он стал карабкаться по водосточной трубе, которая проходила рядом с окном.
Подъем был уже многократно опробован и не встретил никаких затруднений. Поднявшись ногами до уровня подоконника, Петр крепко ухватился за трубу и, вытянув ногу, ступил на «землю обетованную». Но тут произошло то, чего никак не ожидал лихой сержант: проклятая труба выскочила из крепления, Петр не удержался и, обхватив трубу, полетел вниз вместе с ней, что твой Икар, только крылья не расправив.
В голове подобно молнии промелькнула мысль: как бы не попасть в шахту коллектора. Но законы подлости имеют под собой суровое обоснование — матерящийся на лету сержант попал точнехонько в открытый люк. Еще секунда полета, и все — страшная боль и темнота…
ПРОЛОГ ВТОРОЙ 17 апреля 1728 года
Киль, герцогство Голштинское
— Бедный мальчик, ты родился под несчастливой звездой! Прости меня, если сможешь! — полушепотом произнесла молодая женщина, гладя по головке малыша, которого она держала на руках.
Двухмесячный младенец мирно посапывал, завернутый в батистовые пеленки с двумя гербами. Мальчик, ее первенец…
— Возьми его, Берта, расскажи ему, что я любила его больше жизни, когда он вырастет…
— Что вы, ваше высочество… Госпожа, не говорите так, — сквозь слезы произнесла кормилица, принимая ребенка. — Вы поправитесь!
— Нет, я уже слышу голоса ангелов, зовущих меня… Иди.
Женщина проводила ее взглядом и устало прикрыла глаза. На огромной кровати под высоким балдахином она выглядела особенно жалко. Роскошь и позолота убранства, шелк и парча белья еще больше подчеркивали ее изможденность и страдание.
Некогда молодая и прекрасная, она превратилась в осунувшуюся и почерневшую, с запавшими глазами и горящими лихорадочным румянцем щеками. Неестественная бледность ярче проступала на фоне темных, почти черных волос, мокрых от испарины, покрывавшей ее лоб.
Откинувшись на подушки, она тяжело дышала. Вряд ли она теперь увидит еще когда-нибудь своего любимого мужа и маленького сына. Тяжело вздохнув, она прошептала молитву, и душа Анны Петровны навсегда покинула измученное тяжелой послеродовой болезнью тело.
Кормилица поднесла ребенка к окну, чтобы получше взглянуть на него, яркий свет из-за приоткрывшейся портьеры ударил в глаза, и юный Петер Ульрих поморщился и захныкал.
— Я буду любить вас, господин, как мать, — произнесла она и поцеловала его в лоб…
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 27 июня 1762 года
Ораниенбаум
— Ты что сказал, петух голштинский?! — Крепкий детина схватил двузубую длинную вилку. Глаза красные, кровью налитые — злоба и ненависть в них так и клокочет, кипит, вот-вот выплеснется.
Петр не понимал, как он сюда попал, где он, кто этот взбесившийся придурок с уголовными замашками. Но всем своим нутром Рык чувствовал сгустившуюся в воздухе смерть, у костлявой старухи весьма чувствительный душок. Стараясь не совершить никаких настораживающих движений, он быстро пробежал глазами по сторонам.
Большая комната с открытым настежь окном, добрые шторы повисли по сторонам. Сам Рык сидит за накрытым большим столам, где с дюжину человек легко уместится. Но дюжины не было — кроме него, вкушали трапезу еще трое, да за спиной сержанта, судя по надрывному сопению и тихому топтанию, были двое.
Стол уставлен пустыми, початыми и полными бутылками разных калибров и разного стекла. Хорошие бутылки, старинные, штофные. И закуска была в наличии, блюда и тарелки стояли безумной россыпью, без всякого порядка — даже в студенческой общаге парни более аккуратны с трапезой.
Хотя куда там студентам до такого изобилия — обкусанные куски ветчины и буженины, обглоданные рыбьи скелеты, вареные тушки каких-то малых птичек, типа рябчиков, с оторванными лапками. Куски хлеба разбросаны между блюд и бутылок, вместе с ними валяются огрызки свежих и соленых огурчиков. Скатерть с бахромой по краям буквально залита вином, жиром и усыпана хлебными крошками.
Типичная мужская пьянки, только закуски и выпивки чрезвычайно много для шестерых, да бутылки и комната нестандартные, глубокой стариной попахивают.
Только думать о сем и вкушать пищу плотскую Петр не имел времени — душа его прямо вопила: надо сматываться, хозяин, сейчас тебя не бить, а убивать будут!
Хорошее дело — сматываться, но как? И Петр приступил к оценке вражеского потенциала.
Красномордый детинушка явно нарывался на драку, но большой опасности не представлял, даже с острой двузубой вилкой в руках. Сим кухонным оружием нанести хороший удар через широкий стол проблематично, так что секунд пять есть — пока вилконосец встанет да стал обогнет. Еще не опасен!
Зато второй, плечистый малый, сидит рядом и смотрит с кривою ухмылкой. Взгляд очень нехороший, ожидающий. И, как только «фас» скажут, тут же может руками за горло схватить. И скорей всего схватит — пальцы постоянно сжимаются и разжимаются.
Третий же — самый опасный. Косая сажень в плечах, шрам через всю щеку, даже нос краешкам цепляет, уродует. И глаза ухмыляются, смертью светятся. Его, Рыка, смертью — что тут непонятного? И этого мордоворота надо вырубать в первую очередь, иначе совсем туго будет.
За спиной двое, но один не опасен — трусит, с ноги на ногу переминается. А вот второму явно не терпится — позади стоит, перегаром в правое ухо дышит: драку заказывали? Все понятно — мочить сейчас его будут.
Вот только одеты ребята странно — в бабские кружевные рубахи, и патлы отрастили себе, как красные девицы, еще и в косички на затылках заплели.
Время для подготовки стремительно исчезало, и Петр решил начать драку и опередить на секунды своих противников. Благо мордастый ему решительно помогал.
— Ты что сказал, петух голштинский? — повторился в комнате вопрос, и не успел отзвучать в комнате последний звук, как Петр воткнул свою двузубую вилку прямо в глаз шраматому.
Хорошо ткнул — клиент только хрюкнул и отвалился. В ту же секунду сосед слева получил бутылкой по темечку. Бутылка оказалась тяжелая, из толстого стекла, крепкая. А вот череп соседа не очень — что-то в нем хрустнуло, брызнула кровь.
Но больше ничего Петр не успел — из-за спины набросили на шею удавку и сдавили, а защитный удар Рыка провалился в пустоту. Он видел, как мордастый, сжимая вилку, кинулся к нему, но сделать ничего уже не смог — нога застряла, а правую руку крепко сжал трусливый.
— Да бей же его, князь! — Истошный крик сзади придал резвости нападавшему, и тот с размаху всадил Рыку вилку в живот.
От дикой боли Петр задергался, но только крика издать не смог — горло было сильно сдавлено. Он почувствовал, как проваливается в пучину черного беспамятства. Но впереди неожиданно появился свет, а боль нахлынула с новой силой. Боль и свет… Свет и боль…
Рык с трудом открыл глаза. Солнечные зайчики прыгали сквозь щели плохо задернутых, легких, похожих на тончайший тюль штор и, щекоча глаза, резвились на стене.
Даже не совсем зайчики, скорее — просто отблески. Так вот что его привело в сознание — заходящее солнце, светившее прямо перед ним в окно и еще щедро дарившее свой свет и тепло людям на этой грешной земле.
Закрыв глаза, он вздохнул, пытаясь поймать за хвост ускользающую мысль, пожалуй, оставшуюся единственной в гудящей набатом голове. Что-то крутилось в голове, навязчивое и необходимое, важное, но думать и напрягаться не хотелось, и он мысленно послал свои же мысли подальше.
Ощущения потихоньку возвращались. Тишина вокруг, постель, мягкое одеяло привели его к выводу о том, что он в больнице. Правда, неестественно тихо. Странно… Но это все же лучше, чем очнуться в холодной прозекторской, освещенной одинокой, засиженной мухами лампочкой, с соответствующим антуражем кафельных стен, каталки-катафалка, грязной простынки и бирки с номерком на пальце. Бывали-с случаи, наслышаны!
— Э-эй, — Петр решил позвать кого-нибудь, — эй, я живой…
Но открытый рот так и остался открытым, потому что в следующее мгновение расшалившийся теплый, очень теплый ветерок легким порывом распахнул занавески.
В открытую нижнюю четверть высокого сводчатого окна заглядывали кроны деревьев, щедро усыпанные сочной зеленой листвой, скрывавшей чирикавших птичек. Это открытие привело его в состояние мгновенного ступора. Амба, приплыли!
«Что это, никак лето на дворе? Сколько же я в отключке провалялся?!» — первая разумная мысль пронеслась в мозгу Петра.
Он прекрасно помнил, как летел вниз, сжимая в ладонях жестяную трубу, как угодил точно в открытое отверстие канализационной шахты.
Запах зимы и мокрый холодок шлепавшихся на лицо снежинок еще свежи были в памяти, не успев растаять, забыться и смениться радостными и манящими нотками весны.
Яркое марево уходящего за горизонт светила озарило напоследок всю комнату, скрыв в багрово-желтых всполохах и стены, и потолок, и самого Петра, ослепило, заставило зажмуриться.
На мгновение ему стало так хорошо и тепло в этом всепоглощающем кипящем золоте заката, захотелось, чтобы этот миг не заканчивался. Захотелось раствориться в теплом свете, плыть, как пылинка в ласковом солнечном луче, не знающая забот, проблем, страха…
Было страшно, он даже не решался пошевелиться, боялся узнать, что ноги могут его не послушаться. Переборов себя, чуть двинул пальцами. К великому его облегчению, ноги отзывались, сгибались и раздвигались под легким одеялом без малейших затруднений. Петр решился и сел рывком. Оглянулся вокруг и…
— Оп-ля, у-а, иптыть! — нечленораздельные звуки вырвались из горла, и Петр стал лихорадочно тереть глаза. Такого просто быть не может, но оно есть! Это куда же он попал?! — Президентский люкс в сумасшедшем доме! — пробормотал он, очумело разглядывая обстановку и скользя взглядом по стенам, потолку, не веря своим глазам.
Вообще-то разговоров вслух раньше он как-то не замечал за собой, однако впечатления от сегодняшних событий буквально переполнили разум, и мысли, как одичавшие от струи дихлофоса тараканы, лезли во все стороны, не вмещаясь в болезную головушку.
— Да уж, нехилые себе хоромы отгрохали!
Петр поскреб подбородок и не ощутил щетины, которая должна была бы по идее отрасти за столь долгое (а долгое ли?) время. Кто же его брил и когда? Это была еще одна загадка, но ее обдумывание он отложил на потом.
Комната была размером побольше, чем его в общаге, примерно метров двадцать квадратных. Кровать у стены, слева — вычурная резная двухстворчатая дверь с массивными ручками, изогнутыми причудливыми фигурами. Очень высокая к тому же, метра под три, плотно закрытая.
А кровать, на которой он лежал, и кроватью-то назвать язык никак не повернется. Ложе! От края до края — метра два с половиной.
Даже раскинув руки и ноги андреевским крестом, и то до краев просто так не достанешь. Шелковая белая простыня, пуховое огромное одеяло и масса мягких подушек в таких же шелковых наволочках, да к тому же вышитых золотыми нитями и какими-то причудливыми розовыми узорами.
Над кроватью натянут на витых золоченых столбиках белый балдахин, на вид довольно тяжелый. И тоже весь расшит золотом, прям как дембель перед отправкой домой. Пошлейшая роскошь!
Стены комнаты — сплошная лепнина, с золочеными мордами, узорами и завитками. И потолок такой же крутой, да еще с цветными картинками и ликами. Окна сводчатые, старинные — рамы составлены из многих пластинок стекла. У одного окна, что рядом с ложем, левая створка открыта, другие окна наглухо закрыты.
А вот мебели почти не было. Возвышалась одна лишь огромная и такая же вычурная мебелина, то ли гулливеровская тумбочка, то ли маленький шкаф на золотых кривых ножках в левом углу, между окнами.
А на ней — то ли часы, то ли комод. Часики размером с комод! Сплошные изогнутые узоры из золотой лепнины, а в центре циферблат размером с поднос, и тикают громко — тик-так-бум, тик-так-бум! А времечко отмеряют четверть девятого, 20.15, «Спокойной ночи, малыши» еще не начинались.
В углу между правыми окнами резной дубовый полированный шкаф со стеклянными дверцами — за мутным стеклом просматривалась какая-то утварь типа сервиза.
А вот с правой стороны кровати что-то поинтереснее — низенький столик на кривых толстых ножках, а на нем здоровенный, огромный канделябр. Не подсвечником же именовать этого монстра — язык просто не повернется. Петр насчитал аж двенадцать свечей, толстых, пока не зажженных. Судя по виду, весит прилично, массивный, бронзовый. Вообще, канделябр есть единственный потенциальный источник света в этой комнате — каких-либо люстр и ламп Петр не приметил, так же как и розеток.
Рядом с канделябром лежала шпага в ножнах. Да-да, настоящая шпага. И любопытство тут же толкнуло его на следующий шаг. Петр медленно, сидя на заднице, подобрался к краю гигантской постели и опустил ноги на пол.
Ноги коснулись не пола, а мягкого ковра, который устилал все пространство комнаты. Пушистый ворс ласкал подошвы. Явно дорогущий ковер, впрочем, как и все окружающее убранство. Да уж, не чета убогим коврикам в девичьих комнатках общаги.
А вот следующее открытие неприятно поразило Петра, и заметил он его в последнюю очередь, хотя по идее должен ощутить сразу же после пробуждения. На него кто-то надел шелковую ночную рубашку до пят, дорогую, холодную и чертовски неудобную — как баба в подоле постоянно путаешься, а на край наступишь, так и шлепнешься. А вот ни трусов, ни майки на теле и в помине не было…
— Как же, помню, играл я на хоросанском ковре и смотрел на гобелен «Пастушка», — процитировав классиков, Рык твердой стопой направился к шпаге. Взял оружие в руки и вытянул из ножен.
— Ух ты!
Видно, почти в каждом мужчине есть тяга к оружию, заложенная в генах с рождения. Шпага сразу понравилась Петру — причудливый золоченый эфес с плотной решеткой, длинная узкая полоса острого клинка. На серебристо-тусклой стали было что-то выгравировано, видимо, по-немецки. Но вникать и пытаться перевести текст он не стал, все равно языка-то не знает.
Рукоять удобно легла в его ладонь, и Петр взмахнул клинком. Свист стали прозвучал как приятная душе музыка. Рык с неохотой вложил шпагу в ножны, подержал еще в руках. Тяжелая, килограмм с лишком будет.
«Я сплю, — пронеслось в голове. — Надо ущипнуть себя и проснуться…»
«Ага, чтоб проснуться и собственноручно кайф обломать?! — Внутренний голос выражал сомнения Петра. — Вообще, может, это и не сон, а полноценная шиза, ведь головкой-то приложился я неслабо…»
«Не буду просыпаться! — про себя решил он. — Пусть сон наш дольше века длится».
И тут его чуткое ухо уловило речь за окном. Крадучись, на цыпочках, Петр подошел к левому торцевому окну и осторожно выглянул из-за шторы.
Та-ак, домина двухэтажный, он на втором, а вот дальше интереснее. Дом имел вогнутый вырез — на втором этаже окно с балкончиком, далее под прямым углом к его окну стена с такими же сводчатыми окнами.
— Становится все страньше и страньше, сказала бы Алиса! — прошептал Петр и осторожно, на цыпочках прошел в самый дальний конец комнаты и выглянул в другое окно.
Полное подобие — такой же вогнутый вырез здания, аналогичное окно с балконом, внизу дверь, и также под углом стена со сводчатым окном на втором этаже.
Он впервые видел здание с такой планировкой и резонно предположил, что оно представляет собой квадрат примерно 12 на 12 метров со срезанными внутрь углами, в которых имеется по двери.
— Многовато дверей получается, целых четыре. И форма дома крестом, странная, так давно не строят. Но интересно, кто ж это там говорит? — Петр чуть высунулся из окна.
Внизу стояли два расфуфыренных фраера в костюмчиках восемнадцатого века. На глаз определяя период времени, Петр не думал, что слишком ошибался в датировке. Клоуны — в лентах, позументах, в чулочках и ботинках с пряжками. Оба в белых париках с косичками, на концах которых болтались кокетливые бантики, а на головах — треугольные шляпы с плюмажем из перьев. Петр чуть не расхохотался от такого курьеза, но сдержал опрометчивое желание.
Парни все-таки явно не ряженые, а часовые на карауле. В правых руках странные субъекты держали на отлете старинные кремниевые фузеи с примкнутыми гранеными штыками, на ремнях портупей прицеплены короткие шпаги и лядунки с патронами, причем крышки сумок были с каким-то металлическим гербом, разглядеть который Петру не удалось.
А вот службу караульную ребята несли скверно. Нет, стояли на часах твердо, не качались, просто стервецы тихонько меж собой переговаривались.
— Фридрих, дружище, пастор вчера привез чудный шнапс. Право, несчастный бочонок. Для таких бравых молодцов, как мы с Дитрихом, это детская забава!
— Ты горазд, брат, на забавы! — упомянутый Фридрих чуть растягивал слова, как бы их прожевывая.
— Я такой! — Первый гордо выпятил грудь, чуть отставив ногу. — Гретхен, правда, тоже немало приложилась, но это ее только раззадорило, и в постели она была как молодая волчица. Ах, ее ляжки упруги, как свиной окорок, так и тянет укусить…
— А ты, Ганс, возьми и укуси! — заметно подергивая головой, довольный своей шуткой, засмеялся Фридрих.
— Зря ржешь, она взяла сперва на французский манер, а потом мы покатались на «дилижансе»… — с придыханием протянул Ганс, на что Фридрих удивленно поцокал языком и присвистнул.
— Надо тоже к ней подкатить, может, она и мне не откажет? — мечтательно протянул он, уже представляя, как будет щупать и мять вожделенное не для одного десятка мужчин гарнизона тело поварихи Гретхен.
— Ты не в ее вкусе. Она любит охочих до разных любовных ухищрений, а тебе только попыхтеть и отвалиться. Вон Дитрих на той неделе попробовал ее прижать, так она ему ребро сломала и три зуба выбила. До сих пор в караул не ходит.
— Да, совсем не повезло малому. А нам за него отдувайся, тем более сейчас, когда кайзер Петер головой с коня приложился, мало ли что ему туда стукнет. Сгноит ведь на плацу… — договорить он не успел, повернулся на чей-то окрик.
Рык увлекся, слушая их, однако упомянутый неизвестный ему «дилижанс» его смутил. К своему стыду, такой позы он не ведал. А ведь сексуальный опыт, полученный отчасти им самим, но в большей степени почерпнутый из откровенных разговоров приятелей, плюс изученная со всей тщательностью «Камасутра» и просмотренные в видеосалоне фильмы фривольного содержания позволяли ему считать себя подкованным в области постельных мероприятий.
Но главный смысл услышанного дошел до его разума не сразу: часовые говорили по-немецки, ведь все эти «дер» и «дас» Петр просек мгновенно. И тут Рык оторопел окончательно — он ведь понял, о чем идет речь!
«По всей видимости, я хорошо шизанулся. Или вокруг меня специально устроили восемнадцатый век со всеми причиндалами, со строгим соблюдением исторического антуража… А язык внушили во сне гипнозом… А зачем? Наверное, притаились и наблюдают за моим поведением. Типа, буду я теперь, как дурак, бегать по стенам и кататься в падучей по полу… Маленький дворец отгрохали, комнату мне оформили с лепниной и позолотой, да еще часовых в соответствующей форме у самых окон поставили… Только интерьерчик-то вовсе не бутафория, денег эта лепота немалых стоит. Значит, пока я в отключке болтался, меня бревном привезли куда-то. Только от Иркутска на ближайшие несколько тыщ верст такого, вроде этого, места нет… Или дежавю, или шиза, или… Оч-чень интересные глюки… Точно! — осенила его тут внезапная, но вполне разумная догадка. — Глюки. Я же шибанулся башкой, в коме лежу теперь где-нибудь в больничке. Колют мне наркоту какую-нибудь, а я тихо, как растение, гажу под себя и глючу… И, видать, наркота качественная, и поэтому такие глюки неплохие. Ну и ладно, буду глючить дальше… Может, у них вторая серия предусмотрена?»
Петр на цыпочках стал осторожно переходить от одного окна к другому. Через несколько минут он сделал первые выводы — дом, хотя и был окружен деревьями, располагался отнюдь не в парке, а в крепости. И пусть цитадель значительно уступала размерами Петропавловской или Нарвской крепостям (а в них Петр побывал в прошлом году после стройотряда), но это было настоящее фортификационное сооружение, причем семнадцатого или восемнадцатого века, не раньше и не позже. Стен бастионов он не мог увидеть, но вот конфигурация земляных валов определенно говорила об их присутствии.
Петру удалось разглядеть на них орудия тех же веков — две маленькие пушчонки с кургузыми стволами, по всей видимости, трехфунтовки, и одно большое, с относительно коротким, но толстым стволом, на котором, как показалось Петру, красовалась маленькая фигурка.
— Не может быть, это же единорог Шувалова, я его в артиллерийском музее видел. Надо же, ну и раритет!
Солдат на крепостных валах и возле орудий он насчитал с три десятка, причем двое красовались в высоких гренадерских шапках с медными налобниками. Вот только поразмышлять надо всем увиденным Рыку не пришлось, не успел…
Дверь распахнулась в обе створки, и в комнату вбежала полноватая девица в старинном белом платье. Золотистые локоны спадали с высокой прически, глубокое декольте открывало плечи и несколько крупноватую, но для любого мужика привлекательную грудь. А что страшная, так на то водка есть… И тут у Петра перехватило дыхание.
«Лиза! Здесь? В этом маскарадном прикиде?! — мгновенно пронеслось в голове. — Господи, да что же это такое…»
— Государь! Вы оправились?! Слава Господу, мы так испугались. — Девушка бросилась перед ним на колени, крепко прижалась грудью к ногам и стала пылко целовать его руки.
От сердца чуть отлегло — похожа, очень похожа, но не Лиза. Та его руку и в бреду целовать бы не стала. Хотя похожа сильно, и такая же толстая, в смысле упитанная и аппетитненькая, но пострашнее. Петр, чуть наклонив голову, машинально погладил девушку по русым волосам, а потом уткнулся взглядом в ее почти не прикрытую грудь.
Два полушария грудок с приличный мячик, но по-девичьи еще упругих, даже выглядывали из декольте красные пипочки сосков. Петр испытал острейшее желание. Он жаждал обладать ею, безумно жаждал, как в пустыне хотят глоток холодной родниковой воды. Его мужское достоинство отреагировало соответственно — через минуту восстало, как феникс из пепла.
Но девушка, прижавшаяся к твердеющей плоти щекой (через рубашку чувствовалась эта обжигающая девичья щека), отреагировала как-то ненормально. Она очень оживилась и громко взвизгнула, Петру показалось, что от дикой радости, и тут же крепко ухватилась пальчиками за причинное место, как голодающий хватает кусок хлеба, затем подняла вверх, прямо на него, свои жутко счастливые голубые глаза.
— Я счастлива, ваше величество, быть преданной вам душой и телом, — волнующий голос разрушил последние сомнения Петра, и он решился.
Какое «ваше величество», какой «государь», к черту этот бедлам! Сон так сон, а во сне все можно!
В дверях толпились разодетые щеголи, но вот в комнату проходить не решались, да и поглядывали на него как-то чересчур преданно, чуть ли не по-собачьи, только хвостом не виляли. Рык сделал им страшные глаза и гневно махнул рукой — с глаз моих прочь! Все за дверь!
Указание восприняли мгновенно, и все тут же шустро смылись, как вода в унитазе, а створки двери тихо сомкнулись. Петр опустился рядом с девушкой на пушистый ковер и поцеловал, чуть касаясь губами, вздымающуюся от дыхания волнительную поверхность груди. Вначале одну, а потом и другую.
Его не оттолкнули, наоборот, девушка тут же схватила обеими руками его голову и крепко прижала к своей груди. Петр пальцами опустил пониже край декольте и полностью освободил пленительные чаши, а затем стал ласкать языком соски, которые очень скоро стали походить на спелые вишни. Девушка ответно ласкала его волосы губами и руками, а спустя минуту стала глубоко и возбужденно дышать.
И только тут Петр понял, что он желанен. Отчего это, почему — такие вопросы ему сейчас просто не приходили в голову. Он решительным движением спустил края диковинного старинного платья с обнаженных плеч девушки и стал исступленно целовать мягкие послушные губы, нежную шею, полные груди и мягкие плечи. Ему отвечали, и не менее страстно.
С превеликим трудом, разорвав несколько шнурков, при лихорадочной помощи девушки, Петр кое-как стащил с нее платье. И был чуть удивлен отсутствию на ней трусиков, но только думать на эту тему он не стал. Не до того было. Молодое зовущее тело лежало перед ним, и он быстро, но бережно и осторожно навалился на нее, и его полностью накрыло неистовое безумие…
Петр судорожно переводил дыхание… Два раза подряд, практически без перерыва и отдыха — такого у него просто никогда не было, даже когда из армии демобилизовался с полнехоньким запасом гормонов и мужских нерастраченных сил.
Девушка лежала с ним рядом, все ее рыхлое, сдобное тело было покрыто маленькими капельками пота, а вот дышала уже спокойно. Потом повернулась к нему, погладила нежной ручкой по груди, чуть прижалась тугой грудью и игриво прошептала, щекотнув волосами щеку:
— Вы просто чудо, ваше императорское величество! Вы бесподобны и своей статью сильны, как лев! Но почему вы, государь, этого со мной раньше никогда не делали?! Вы ведь можете?!
Потом о чем-то сообразила, быстро накинула на себя его ночную рубашку и открыла ту же дверь, через которую вошла. Петр искоса подсмотрел, как она кому-то что-то сказала, с кем-то коротко переговорила, затем сама плотно закрыла дверь и вернулась к кровати.
— Ох! Простите меня, ваше величество. Сейчас Нарцисс принесет вам освежиться, государь!
Дверь снова открылась, и Петр нервно сглотнул. Нарциссом оказался самый натуральный негр, предок поэта Пушкина, только не Ганнибал. Он принес на подносе два бокала — большой, с желтым пенистым напитком, и поменьше, с рубиновой по цвету жидкостью.
Петр взял большой бокал. Логика не подвела, бокал действительно предназначался ему, а жидкость в нем была пивом, причем неплохим по качеству. Девушка чуть пригубила свой бокал и игриво посмотрела на него.
И не напрасно — внутри снова зашевелился похотливый зверь, и Петр накинулся на нее, немного изумленную от проявления такой прыти. Миг — и ночная рубашка спорхнула с девичьих плеч, еще миг — и пленительное создание уже лежит на их широченном секс-полигоне, еще миг — и протяжный стон вырвался из ее груди, ноги обхватили его бедра, а руки шею, мягкие губы ответили, и безумие продолжилось.
К его немалому удивлению, в третий раз было намного лучше, чем в двух первых. Девушка сама страшно возбудилась, стонала и кричала, как сотня пернатых на «птичьем базаре», а от этого Петр возбуждался еще больше и все более активно прорывался куда-то вглубь, к какой-то сокровенной, ведомой только ему одному, тайне…
— Ваше величество, к вам обер-маршал по поводу поездки завтра утром в Петергоф, — от мягкого голоса девушки Петр вырвался из состояния блаженной неги, — и еще лейб-медик, он просит…
— Пошли они все… — Петр осекся, негоже говорить при даме такие грубости, и резко сбавил тон: — Солнышко, скажи им, все вопросы решим утречком, на свежую голову. А этой волшебной ночью я хочу только тебя одну видеть! И желать, и любить, — добавил после небольшой паузы.
Действительно, глядя на полноватое, но тугое девичье тело, он продолжал сочиться неутоленным желанием, будто провел годы в самом строгом воздержании.
Судя по всему, девушке говорить что-то и не пришлось. Стоящие толпой за дверью все прекрасно слышали и сейчас, и полчаса назад. И, судя по осторожным, но чрезвычайно торопливым шагам, вся шобла куда-то исчезла.
— Вот это у них дисциплинка, — удовлетворенно констатировал бывший гвардии сержант, — видать, для них я здесь крутой начальничек.
За спиной девушки в комнату просочился давешний Нарцисс, в каждой руке державший по шандалу с тремя зажженными свечами, и укрепил их на специальных подставках по обе стороны от кровати. Затем чернокожий сын знойной Африки беззвучно прошелся по опочивальне и задернул на всех окнах прозрачные и легкие на вид шторы. Потом исчез, аккуратно закрыв за собой двери.
Петр пристально смотрел на свою девушку, и та сразу же поймала его напряженный взгляд. Поймала и правильно поняла. У нее был неприкрыто радостный и горделивый вид, будто то, что сказал Петр, сразу поставило ее на недосягаемую для других высоту. Она напоминала ему изголодавшуюся кошку, которая наконец-то дорвалась до свертка с сардельками. Девица повернулась к нему боком и изогнула свой стан.
Через ночную шелковую рубашку просвечивало пленительное тело, а в дрожащих язычках пламени свечей оно выглядело неземным и остро желанным. По телу Петра прошла нарастающая волна возбуждения. Рубашка упала на пол, девушка грациозно перешагнула через нее и подошла к ложу. Наклонилась над ним и принялась ласкать руками и губами. Он даже не шевелился — девушка ласково прижимала его руками, как бы говоря — «лежи, дорогой, я сама все сделаю».
Когда закончилось безумие, она легла рядом с ним. Прижалась всем телом, закинув Петру на живот свое разгоряченное и влажное бедро, ласково поглаживая его теплой девичьей ладошкой по груди.
— Я так благодарна вам, ваше величество. Вы доставили мне огромную радость. Вы в первый раз плотски любили меня, — негромко произнесла девушка, нежно поцеловала Петра в шею и очень тихо, как-то боязливо продолжила: — Вы мой единственный мужчина, и я не знала и знать не буду других, я вам буду верна всегда. После этой волшебной ночи я могу быть в тягости и смогу подарить вам долгожданного сына и законного наследника престола, — последние слова она произнесла с нескрываемой опаской, будто он сейчас ее резко осадит.
«Ага, щас! Так я уши и развесил! Девицей она досталась?! Так я и поверил, уж девственницу распознал бы. Прям с кровати под венец!»
И добавил уже вслух:
— Я буду рад ребенку! Зачинай сегодня и рожай смело, а сейчас нам покушать не помешало бы.
— У Нарцисса уже все давно подготовлено, — последовал немедленный ответ, и девушка, встав с ложа, открыла дверь, тихо распорядилась и тут же вернулась обратно, к нему под бочок.
Дверь опять открылась, и в комнату вошел арап с большим подносом в руках, уставленным всякой снедью, водрузил на столик и, приподняв его, приставил к кровати.
Петр сообразил, присел и чуть отодвинулся к краю постели. Тот же маневр, но в противоположную сторону проделала и девушка. Нарцисс поставил перед ними поднос и застыл у кровати дополнительным столбиком балдахина. Странно, но она не испытывала никакого чувства стыда перед негром за свою наготу, будто тот был предметом мебели, а не мужчиной. А Петру стало не до этих нюансов — он внимательно изучал наглядное меню предстоящего ночного ужина.
Сочная ветчина толстыми ломтями, тонкие пластики сыра, нарезанное кусочками холодное отварное мясо, масло, немного хлеба, небольшая чашка с розовой спелой черешней, три бокала с пивом, вином и, видимо, с водкой, судя по цвету, прозрачности и запаху. Все это изобилие выложено на серебряную чеканную посуду, аккуратно разложены серебряные же двузубые вилки и тупые ножи, несколько салфеток.
— Это немедленно убрать, — Петр показал на бокалы со спиртным, — и больше никогда мне не подавать. Никогда — ни утром, ни в обед, ни вечером. Только когда я сам попрошу эту дрянь!
Арап и девушка вытаращили глаза, у негра буквально отвалилась вниз челюсть, а глаза стали двумя большими белыми овалами. Да и его нечаянная подруга была изумлена не меньше и ошалело смотрела на Петра.
Немая сцена длилась не меньше минуты, наконец арап пришел в себя и быстро переставил бокалы с подноса на столик, а затем взял сию мебель в руки и перенес в дальний уголок опочивальни.
— Принеси воды, Нарцисс, и пусть выжмут сока. Клубника, вишня, земляника, все равно!
— Слушаюсь и повинуюсь, ваше императорское величество, — через пару секунд арап уже затворил за собой двери.
Ужин превратился в трапезу одного Петра, девушка почти ничего не ела, а только щебетала, щебетала и щебетала…
Хорошо, что дистанцию блюла и в рот ему вишни не пихала, как иные влюбленные создания. А новости сообщала все какие-то дебильные. То капитана Пассека арестовали как заговорщика, то еще какая-то Като, судя по всему — изрядная стерва, интриганка и заговорщица, то братовья Орловы опять берега потеряли, видимо, крутые мафиози местного розлива, и всякая подобная дребедень.
Петр сразу девять десятых информации пропускал мимо ушей, а оставшуюся часть немедленно забывал. Но только ее он совсем не перебивал — балдел, слушая, прикольный же сон.
Вернулся Нарцисс, поставил новые три бокала — один с водой, а два со свежим выжатым соком, вишневым и клубничным. Хотел арап снова застыть рядом прикроватным столбиком балдахина, но Петр повелительным жестом отправил его за дверь.
«На кой черт стоять статуей, что мы — сами себя не обслужим?» — под умиротворенное пережевывание ветчины мысли текли сами собой.
Но вот на один вопрос необходимо было срочно узнать ответ. И сержант применил классический прием:
— Солнышко мое, — девица, услышав такие слова, зарделась, — а почему твой отец дал тебе такое красивое имя?
— В честь вашей тетушки государыни императрицы Елизаветы Петровны меня так назвали, — несколько удивленно ответила ему девушка.
А Петр самодовольно улыбнулся, ведь на дешевку купилась. Значит, Елизавета, Лиза. Но надо же, даже имя совпадает.
— Государь, а почему вы вино с водкой отставили?!
— Дитя надо зачинать без этой гадости, чтоб здоровым в твоем чреве росло, — он просто не любил спиртное, тем более крепкое, но правду говорить не хотелось, а момент был удачный — похотливый зверь уже стал во весь рост и пытался скинуть тарелку с колен.
И Петр сразу же приступил к делу, вернее, к телу. Поднос с тарелками улетел на пол, а он, положив Лизу на кровать, взгромоздился сверху. Девушка застонала, но уже не от возбуждения, а от сильной боли.
Рык отшатнулся, кляня себя за поспешность, а девушка спрыгнула с кровати. Петр подумал, что она хочет убежать из комнаты, но ошибся. Лиза набрала в пальцы масла с тарелки, присела и стала смазывать себе промежность. Затем снова легла на кровать и широко раздвинула ноги.
— Простите меня, государь, очень больно было, я же сухая там вся. А так я маслицем смазала все, и вам, и мне легче сейчас будет.
— Нет, Лизонька, давай прервемся, — а про себя добавил: «А то я тебе все раздеру, ни один доктор не зашьет».
Петр искренне пожалел девушку, действительно, видимо, перестарался. Однако девичья рука принялась ласкать достоинство, а голосок зашептал в ухо:
— Мне одна фрейлина рассказала про забавный «французский поцелуй», и я попробую ваше величество таким способом ублаготворить. Я не умею, но буду стараться.
И через несколько секунд Петр понял, что такое «французский поцелуй». Лиза делала ему классический вариант оральных премудростей любви, компенсируя неумелость страстностью.
Петр такой способ видел только в порнофильмах, а сейчас впервые испытал на себе. Подавив инстинктивное опасение за немаловажную часть тела, Петр положил руку ей на голову и закрыл глаза. Он отключился от происходящей вокруг действительности, волнами его возносило к блаженству, подняло на немыслимую высоту, с которой он рухнул в сладкое беспамятство…
Петр открыл глаза. Дурманящее наваждение еще витало в воздухе.
— Приснится же такое! — Он потихоньку приходил в себя. — Куда ночь, туда и сон!
Это нехитрое, но крепко забитое в память правило он знал уже давно и испытал его правоту на себе не раз. Так же как и то, что нельзя рассказывать сны до обеда, иначе они непременно сбудутся. Полагалось еще куда-то там поплевать, постучать, в общем, полный набор для любителей фольклорного творчества.
Однако сейчас у него были тяжкие сомнения насчет того, куда нужно было плевать, и какие вообще правила и приметы он нарушил, попав туда, как говорится, не знаю куда.
Окружающая его обстановка так и не давала до конца понять — явь это или нет. Правда, его нынешняя явь мало чем отличалась от ночного кошмара. Нелепый сон (или все-таки полноценное психическое расстройство?) все еще продолжался.
Что-то горячее обжигало тело, Петр пошевелился и от этого проснулся окончательно. Лиза лежала рядом с ним, положив свою ногу ему на живот, а голову на плечо, и при этом ухитрилась крепко обхватить его сразу обеими руками.
«Без меня меня женили. — Он потянулся насколько смог в крепких объятиях Лизы. — Вообще-то при свечах и со спины очень даже она и ничего! Но вот на мордахе черти горох молотили…»
Можно было вздремнуть еще, но спать решительно расхотелось. Петр машинально разглядывал балдахин, стены, портьеры. Он бросил взгляд на часы — они отсчитали почти без четверти двенадцать.
Ужин закончился в начале одиннадцатого, а угомонились они где-то в половину, значит, спал с лишним час. Мало для полноценного сна, но ему хватило с избытком — Петр чувствовал себя полностью отдохнувшим. Правда, его «орган» немного побаливал, натруженный — Петр благодарно посмотрел на спящую Лизоньку.
«Вечно мне с бабами не везет: то я не такой, то она не такая. Хотя, в принципе, что я теряю… Она, по-видимому, или очень меня любит, или принимает за кого-то другого. Скорее первое… М-да, то есть любит она того, за кого меня принимает… Повезло же тогда ему… или мне… — Петр посмотрел на Лизу. — Она, конечно, не принцесса, но красивая женщина — это чужая женщина. Тем более красота часто требует жертв, а этих жертв тем больше, чем красивше мамзель. Рестораны, подарки, машины, квартиры, круизы за бугор — это все расплата за длинные ноги. А между тех ног то же самое, что и у доярки Дуси, да и в голове у доярки Дуси чаще бывает больше. Ладно, поживем — увидим…»
Очень хотелось в туалет, и он осторожно, стараясь не разбудить свою нечаянную любовь, освободился от ее объятий и встал с постели. Повинуясь какому-то наитию, Петр приподнял край простыни. Так и есть, под кроватью стоял массивный медный ночной горшок с крышкой. Облегчившись, он закрыл его крышкой и засунул посудину обратно.
Рука машинально было потянулась за сигаретой, но отдернулась.
— Ага, размечтался, — он вздохнул, — просил вторую серию, так получил, только сигареты не заказывал…
Снова нырнув под одеяло, Петр задумался, но мысли текли медленно, голова думать не хотела. Вернее, мысли были, но существовали как будто отдельно от него самого.
Поражала оглушающая тишина. Никаких звуков, ставших привычным фоном ночи: ни храпа соседей по комнате, ни шума работающего холодильника, ни шлепанья чьих-то тапок по коридору, ни звона трамваев и шелеста проезжавших запоздалых машин…
Ничего, только тиканье дурацких «курантов», хотя он его уже не замечал, вернее, слышал, только если специально прислушивался. Ведь привык же он не замечать в общаге заходившие на посадку самолеты, порой ревевшие так, что заглушали разговор.
Звук мощных двигателей, от которых порой дребезжали стекла, являлся своеобразной палочкой-выручалочкой. Это было очень удобно в разговоре с женщинами, особенно с той их категорией, которая имела обыкновение задавать извечные бабские вопросы. Пока шумит, что-то говоришь, а она слушает и кивает, или же ты слушаешь и киваешь, как китайский болванчик.
На эти идиотские вопросы требовались не менее идиотские ответы, правда, желательно было произносить их с вдохновенным и честным до невозможности выражением лица. Примерно таким же, как у их комсомольского секретаря Любочки, с щенячьим восторгом докладывавшей краткий, страниц на двадцать-тридцать, реферат тезисов очередного съезда партии.
Образ Любочки, этого «переходящего комсомольского вымпела», по той причине, что переходила она от одного комсомольца к другому со скоростью приза победителям соцсоревнований, испортил ему настроение.
Большая часть познанных им женщин, баб-с, привела его к неутешительной мысли о том, что женщина, во-первых, должна лежать, а во-вторых, лежать молча.
Лиза засопела и повернулась на бок. Такая нежная и беззащитная, она свернулась клубочком, как котенок, и во сне тихо причмокивала. Ему захотелось ее обнять, защитить от всех и вся, быть только с ней, чтобы все осталось так, как есть сейчас: и эта комната, и это блаженное чувство какой-то умиротворенности и внутреннего спокойствия, охватившее его.
Вернее, не всего его, а ту его часть, которая вдруг остро ощутила, что он попал туда, куда очень хотел попасть. Как будто долго шел, искал и вдруг, внезапно остановившись, понял — да, это именно то, что как раз ему и нужно.
Часы щелкнули и пробили двенадцать раз…
— Хоть бы этот сон, или что там еще, не заканчивался, — зажмурившись, он до боли стиснул кулаки.
Взяв с подноса графин, налил себе воды, выпил и снова лег в кровать. Под теплым одеялом долго ворочаться не пришлось, дремота, а затем глубокий сон навалились на него почти мгновенно…
ДЕНЬ ВТОРОЙ 28 июня 1762 года
Ораниенбаум
Яркий, ослепительный свет ударил по глазам. Зажмурившись, Петр услышал непонятный нарастающий гул. Через мгновение он узнал голоса церковных колоколов. Сквозь переливы маленьких особенно выделялся большой, набатный колокол. Его оглушающий звон отзывался в голове, заставляя вибрировать каждую клеточку тела.
Колокола пели, растворяя его в себе, унося за собой. Закрыв глаза, он ощутил, что теплый душистый весенний ветерок, подхватив, влечет его вслед за этим колокольным маревом.
Над ним проплывало прозрачное голубоватое весеннее небо, подернутое чуть игривыми облачками, на мгновение скрывавшими начинающее набирать жизненную силу солнышко, а потом уносившимися вдаль за горизонт.
Вместе с этими облачками он легко парил над землей, всей душой вбирая в себя ее дыхание, прислушиваясь к шепоту дрожащих веточек берез с влажными, чуть распустившимися нежными листочками, узнавая себя в журчании прыгающих по камешкам ручейков, взмывая ввысь вслед за птичьими трелями, пропитываясь теплым паром не успевшей остыть пашни…
Родная земля, как нежная и любящая мать, ласкала его, даря ему свое тепло и силу. На мгновение Петр ощутил себя частью необъятного. Ощущение причастности к чему-то необъяснимо могучему и волнующему захлестнуло его. Острая потребность защитить и уберечь это нечто, сильное и безжалостное, как порыв ветра, с корнем выворачивающий вековые деревья, и в то же время хрупкое и ранимое, как ночная бабочка, как распускающийся бутон, затмила все его мысли и чувства.
Ему стало легко и спокойно от того, что он нашел, наконец, тот смысл, ту цель, которые он так долго, даже не осознавая для себя самого, искал. Словно кто-то невидимый стряхнул с его души всю накипь, переворошил всю начинку, укрепил стержень. Тот незримый стержень, на который нанизываются нравственные и моральные ценности души, поступки, мысли и устремления. И от того, насколько он крепок, а зачастую, есть ли он вообще, зависит многое: и то, как человек проживет свою жизнь, и то, что он оставит после себя.
Внезапно колокола стихли. Петр открыл глаза и увидел храм — огромный, заслоняющий все перед ним, прекрасный и белоснежный, на мгновение скрывший солнце, клонящееся к закату. Выглянув вновь, оно нестерпимо заискрило, заблистало на золоте куполов, поглотив в раскаленном золоте небо, землю, самого Петра.
Медленно садясь, солнце забирало с собой за горизонт краски окружающего мира. В сгущавшихся сумерках Петр разглядел два силуэта, вышедшие из темноты, но находившиеся еще достаточно далеко от него, так что нельзя было разобрать их лица. Один, высокого роста, опирался на трость, второй, чуть пониже, стоял справа за его спиной.
Они, судя по жестам, о чем-то переговаривались, и Петр вдруг ощутил, что говорили о нем. Медленно Рык пошел вперед.
— Это он, уверяю тебя, мин херц, — второй, что был ростом пониже, в пышном завитом парике, в дорогой одежде, переливавшейся золотым шитьем и драгоценными камнями, напомнившей Петру новогоднюю елку, вполголоса сказал первому: — Приглядись внимательней!
— Подойди ближе! — первый, по-прежнему опираясь на трость, упер другую руку в бок и выставил вперед ногу.
Он говорил негромко, но в его голосе чувствовалась властность знающего себе цену человека, говорящего немного, но уверенного в каждом своем слове. Что-то неуловимо знакомое было в его облике, словно он сошел с памятника или старинной гравюры, неоднократно виденной Петром ранее.
Рык почувствовал себя, как те бедолаги бандерлоги перед Каа, охваченные священным трепетом. Медленно он подошел к странной парочке. Уже можно было разглядеть лица, и он, к вящему своему ужасу, понял, что стоявший с тростью есть не кто иной, как… Петр Первый.
Кошачьи усики, стоявшие торчком, вьющиеся короткие волосы, зачесанные со лба, одежда с оловянными затертыми пуговицами, башмаки с простыми пряжками, огромная трость с медным набалдашником не оставляли у него никаких сомнений.
— Алексашка, друг мой, если это и есть мой нерадивый потомок, то я сейчас его научу уму-разуму! — Петр Первый, размахивая тростью, подошел к Рыку и схватил его за грудки. — Ты пошто паскудишься, почему труса празднуешь и бабья сторонишься?!! Кто наследником будет, кто трон российский после тебя примет?!! Салтыковский ублюдок?! — яростно закричал он ему в лицо, почти подняв Рыка над землей.
— Я… я не тот, за кого вы меня принимаете… — почти проблеял Петр, округлившимися глазами глядя в лицо императора.
— Ах, ты еще и лжешь деду своему в глаза! — Оплеухи одна за одной летели, щедро отпускаемые пудовыми ладонями. — Ах ты, выкормыш, щучий потрох, да я тебя…
Выдохнувшись, Петр Первый отпустил Рыка. Тот, закрывая руками разбитое лицо, попятился.
— Ты слишком суров к нему, ваше императорское величество! — Подошедший Алексашка стоял около Петра Первого, с интересом разглядывая Рыка, сидевшего на земле. — Что возьмешь с убогого? Да он на лошади сидит, как собака на заборе, от пушечных залпов так вообще едва штаны не мочит, а на море же блюет, как обрюхатившаяся фрейлина.
— Ты говори, да не заговаривайся! Когда это наша кровь убогих рождала? Дух мой не вытравишь, чужой кровью не разбавишь!
— Мыслю я, что немчура поганая его учила, да не так и не тому.
— Этому учить не надо, это впитывается с молоком матери.
— Вы же прекрасно знаете, что мать его, дочь ваша Анна, умерла, когда ему было два месяца…
До Петра потихоньку начало доходить, что этот второй был Меншиковым, верным соратником Петра Великого.
— Ну, сейчас я сиротку и привечу знанием да умением, накрепко вобью! — Петр Первый наотмашь ударил Рыка тростью по голове.
Боль от удара заполнила его разум, так что все остальное он осознавал с трудом. Последние слова Петра Первого доносились уже сквозь туман, плотно окутавший Рыка…
— Уййй!!! — осознав себя уже наяву, Петр чувствовал, как дикая боль плещется в голове.
Матерясь вполголоса, он схватил край одеяла и стал вытирать лицо. Ткань окрасилась кровью, его кровью.
— Да что же это такое?! — Рык с трудом сполз с кровати и плюхнулся на пол. Кровь с разбитого лица заливала рубашку и ковер.
— Ни хрена себе император?! Смертным боем лупцует! — Петр пребывал в прострации. — Во сне, а все наяву. Бес он, а не дедушка. Оживший кошмар…
Ковыляя и тихо ругаясь про себя, Петр подошел к столику, приложил салфетку к рассеченной брови и щедро плесканул на лицо из графина. От холодной воды стало полегче.
Отставленную за ужином водку, примерно половину от налитого, грамм сто пятьдесят, Рык махом вылил в рот в качестве обезболивающего. Скривился гримасой от сивушного омерзения, хоть и хороша была водка, торопливо закусил пластинкой ветчины.
Перевязав кое-как лоб, он стал оттирать руки от крови другой салфеткой, предварительно плеснув на нее остатками водки из бокала.
Руки?! Он только сейчас, вытирая с них кровь, разглядел то, на что раньше в сумрачном свете свечей не обратил внимания. Еще бы, события вчерашнего вечера и то, насколько он был увлечен Лизой, не оставили времени на разглядывание себя самого, любимого. Руки-ноги двигались, что надо шевелилось — и ладно, а что еще нужно молодому парню в компании с дамой, да в постели, да с закуской. Как говорится, ближе к телу!
Только сейчас он понял, что его руки были не его, они были чужими — тонкие пальцы без мозолей, суставы без набитостей от занятий рукопашным боем, довольно холеные ладошки. Совсем не его руки. Пальцы машинально почесали в паху… и тут же отдернулись. Петр посмотрел вниз, — твою мать, и там тоже не мое!
«И ты будешь, и не ты!..» — замерев на секунду, он вспомнил сумбурное пророчество, мгновенно пронесшееся в его мозгу, и, повинуясь порыву, кинулся к окну. Стекло отсвечивало, и Рык увидел в нем свое отражение, но, когда разглядел себя, отшатнулся.
Петр бросился к часам, вернее, к полированной стенной бронзовой пластине рядом, сняв на ходу шандал со свечами, и заглянул, как в зеркало.
На него смотрело совершенно незнакомое лицо — небольшое овальное личико мужчины лет тридцати, курносый вздернутый носик, узкие, но хорошо очерченные губы, подбородок с ямочкой. И лицо все в оспинах, будто после Лизы черти немало выпили и с утроенной энергией принялись за него.
— Мать моя женщина, только этого не хватало! — Петр ощупывал свое лицо, но и без этого было понятно, что это кто угодно, только не он сам.
Беглый осмотр привел к неутешительным выводам: нет, точно не он. Шрам на щеке исчез, язык констатировал, что два выбитых в армии зуба присутствуют в целости.
«Но почему же я раньше не заметил, не обратил внимания?» — пронеслось мгновенно в голове.
Он, как зверь в клетке, заметался по комнате, меряя ее шагами от стены до стены:
— Как же: баба, жрачка, негр в панталонах… Господи, воистину, когда желаешь нас наказать, ты лишаешь нас разума и делаешь слепыми…
Спустя минуту, изучив свое тело самым внимательным образом, Рык пришел к одному четкому выводу — у него совершенно чужая оболочка, причем меньшая по размерам! Намного меньшая!
Петр чувствовал, что сходит с ума. Прислонившись к стене спиной, он сполз вниз и сел на пол, обхватив руками голову.
Мысли проносились роем растревоженных пчел и спустя добрых полчаса сплелись в определенную версию. Душа есть у каждого человека, а все эти материалисты-философы суть выкидыши науки. В Бога веровать надо! И теперь его душа переселилась в чужое тело! Какой же он глупец, что не понял этого прежде! А Лиза просто не осознала, что в теле ее любимого чужая душа. Но как он сюда попал? Можно ли вернуться назад, в свое тело, а если нельзя, то кто он? И как дальше жить?
…Мучительно хотелось курить. За окном стало совсем светло, почти 5 часов утра. Голова жутко раскалывалась от напряженной работы мысли. За это время он понял многое, или думал, что понял.
Петр посчитал, что тогда, сорвавшись с трубы, он или погиб, или надолго лишился сознания. И в этот момент душа освободилась от тела и каким-то образом переселилась в это новое для него тело. А душа прежнего хозяина, видимо, совершила примерно такой же процесс.
Петр напрягся, ведь Лиза что-то ему говорила. Теперь он вспомнил ее слова и тщательно их проанализировал, получив примерно такую информацию — предшествующий хозяин тела, «государь», упал вчера утром с лошади и надолго потерял сознание. Именно в этот момент их души и поменялись местами, причем ухитрились миновать временные рамки восемнадцатого и двадцатого веков.
Каким образом это получилось — совершенно не понятно. Выйти из тела можно. Потерять сознание? Умереть? Вопрос только — вернешься ли в свое тело обратно? Положительный результат более чем сомнителен, его вероятность ничтожно мала. Осталось только понять, кто он и как дальше жить в чужом обличье.
Через минуту Рыков был охвачен не страхом, а диким ужасом. Проклятая ведьма, она ведала, куда он попадет.
— О Боже… — простонал Петр, — вот я попал так попал. Злейшему врагу не пожелаешь. Получается, что я… Я-я, кукушка из часов «Заря»… Добрый дедушка в компании с Меншиковым приснился и надавал вполне реальных звиздюлей… Нет, если тетушка императрица Елизавета Петровна, дочь Петра Великого, то понятно, почему все обращаются ко мне — «ваше величество». Ибо он, то есть я, внук Петра Первого, Петр Федорович, император Всероссийский и по совместительству герцог Голштинский…
— Офигеть! — Петр нервно сглотнул.
Во рту пересохло, и хотелось пить. Взял со стола тяжелый стеклянный графин с остатками воды, открыл и в три глотка осушил его. Затем подошел к окну, отдернул портьеру и прислонился лбом к стеклу.
Приятная прохлада немного привела его в себя. Машинально рассматривая утопающий в сумеречном утреннем тумане двор, он продолжал:
— Вот почему я стал понимать немецкий язык — его знания же остались в мозгу, и я ими как-то смог воспользоваться! Я думаю, и сейчас во мне они есть, куда им деться, и не мешало бы мне научиться пользоваться. Ага, щас, а на фига мне это надо?!! С ума сойти, — он закрыл глаза, — я уже о себе думаю как о нем, какая тетушка, какой государь?! Самое чудовищное, что скоро его… То есть меня?… Гвардейцы по приказу Екатерины Второй грохнули императора, ее мужа. Несварение желудка от воткнутой серебряной вилки и астма от удушения шарфиком… Какой сегодня день? Может, уже сегодня?… Надо бежать! Но куда?! Нет, поздно, я просто уже ничего не успею! Стоп! Что она там говорила? Безумная ночь, и будет пять дней заката… Права ведьма — жить в липком ужасе ожидания мучительной смерти от рук гвардейцев. И это после безумной ночи, такой ночи, какой у меня никогда не было и о какой я не думал. Оживший кошмар! Вот дурацкое совпадение, я ведь тоже Петр… Может, приложиться еще раз головой обо что-нибудь, да хоть вниз из окна…
Только что-то это ему сразу же расхотелось. Рассчитывать на то, что все вернется на круги своя, приходилось мало, могло ведь забросить куда-нибудь подальше и похуже. Только куда уж хуже…
Он напряг память и чуть не заплакал. В учебниках о Петре Федоровиче писали до обидного мало — типа «голштинский выродок», «пьяница на троне», «Петрушка» и тому подобное.
Вся его куцая информация об этом времени базировалась на романах «Фаворит» Пикуля (однажды он проглотил за одну ночь в общаге в «Роман-газете», которую презентовал на одни сутки добычливый на книги сокурсник) и «Емельян Пугачев» Шишкова да на мемуарах императрицы Екатерины, Якова Штелина и Болотова, которые он прочитал (и уже основательно подзабыл), готовясь к семинарским занятиям.
Лиза, которая сейчас похрапывает в кровати, это графиня Елизавета Романовна Воронцова, его любовница. Нарцисс — любимый арап. Сучка Като — это жена, императрица Екатерина Алексеевна, которая и прикажет своим холуям и гвардейцам его задушить в Ропше.
А капитан Пассек много знал о заговоре, а так как он арестован, то амба, конец близок, к гадалке не ходи. Ибо заговорщики сразу же восстали, боясь провала и арестов, и возбудили к мятежу войска. Вот и вся пока информация.
Кто же сейчас со мною? Есть еще Гудович, его генерал-адъютант, Шишков писал, что он вороном каркал, отец Лизы, граф Роман Воронцов, отчества его не помню, еще два немецких дяди, имена тоже не помню, и все… Все!
Петр вытирал со лба холодный пот — он теперь кое-что понимал. Пассека арестовали 27 июня 1762 года. Братья Орловы и другие заговорщики подняли на мятеж всю гвардию. Екатерина уже уехала из Петергофа, куда Петр собрался завтра ехать, и сейчас на дороге в Петербург.
К полудню сегодняшнего дня, 28 июня, ей присягнут в столице гвардия, Сенат, духовенство. И она вечером двинет полки на Петергоф. А меня предадут. Все предадут и сдадут, а 5 июля задушат. Полный капец!!! Всего восемь дней! И что делать, я же никого не знаю, ничего не знаю!
Громкий храп, раздавшийся с кровати, заставил его отвлечься от мыслей. Лиза, повернувшись на спину, сбросила с себя одеяло и жутко храпела, как пьяный мужик в канаве. Более того, она вдруг оглушительно выпустила газы, пробормотала что-то во сне и перевернулась на бок.
Через мгновение, устраиваясь поудобнее, она вновь повернулась на спину. Ее рыхлое тело колыхалось студнем, закинутая за голову рука обнажила волосатую заросшую подмышку. И будто пелена упала с глаз…
— А поутру они проснулись… Где же он такое убожество откопал? А морда, что ее, что моя — это же следы от оспы… Да если ты император, то все бабы вообще твои! Я, когда читал описание Воронцовой, думал еще, что Екатерина по бабской подлости специально такое понаписала, мол, пугало и манеры, как у трактирщицы. Видать, все же честная баба была! Но она же и о Петре писала, что тот выродок и дурак… Я ее понимаю, поменять законную жену на любовницу можно, если жена или дура, или старая уродина. Или любовница — красавица. Но эта? — Он взглянул на спящую Лизу.
— Как же, наследника Павла мне жена заделала! Но там, видимо, дело темное. Лизка-то ночью мне сказала, а я и не понял сразу! Я вчера смог поиметь ее физиологически, то есть все это время… Видать, совсем не стоял у парня, раз вчера первый раз по-настоящему было, поэтому и разговорчики ходили про Павла, и Екатерина с недогляду мужского так взбесилась. Видимо, я хорошо головой приложился, раз вчера на нее так сгоряча кинулся! Ага, понятно, я вчера глядел на нее его ж глазами-то! Да уж, воистину, на вкус и цвет товарищей нет! Но какая же сама Екатерина, если такое чудо-юдо лежит в постели? Жена на год его моложе, то есть ей сейчас, если с 1729-го считать, 33 года. И в постели, видать, ничего, раз ее любовников повзводно строить можно. Да уж, без бутылки не разберешься.
Но то, что у его нового тела нет обрезания, сильно озадачило Петра — в исторической литературе твердилось, что император страдал фимозом и потому девять лет не имел соитий с женой, и лишь когда ему удалили крайнюю плоть, то вскоре появился наследник Павел.
Сам Рык в это почти не верил — у французского короля Людовика, под двузначным номером, с женой Марией-Антуанеттой тоже была такая же проблема с фимозом, но лекари там быстро отчикали лишнее, и все заладилось. А здесь Россия — обрезание у мусульман общепринято, и целых девять лет никто бы и ждать не стал, разом бы суннат совершили.
Следовательно, у императора Петра Федоровича была обычная импотенция. По всей видимости, от перенесенной им оспы — болезнь эта довольно коварная, осложнения от нее бывают серьезные. А байка с фимозом была придумана позднее, чтобы оправдать рождение Павла Петровича и придать наследнику определенную законность и легитимность…
— Однако стояк у меня, то есть у него, был впервые, недаром она аж завизжала от радости. — Рык покосился на храпящую Лизу. — Остается только понять, почему это случилось? Видимо, моя душа дала толчок его телу, а так как я кобелировал изрядно и осложнений на этой почве никогда не имел, то и «орган» прекратил длительную забастовку и соответственно отреагировал! Тьфу ты, ну и голосок у этой спящей красавицы! — Лиза продолжала оглушительно храпеть, и Петр присел на другой край кровати:
— Меня дедушка изнахратил, а она спит. Чувырло! Не дай Бог, она забеременеет этой ночью! Мне что, придется всю жизнь это чучело терпеть?
И тут же сам горько усмехнулся своим мыслям:
— Всю жизнь… Намеряно мне сейчас той жизни вагон и тележка, семь дней от звонка до звонка… Только почему-то ведьма мне сказала про пять снов и закатов! Один черт, куда ни кинь, всюду клин… Только не на того напали! Чтобы я сейчас лужу напустил и, как баран на бойне, ждал своих убивцев? Ничего, пободаемся! — теперь уже в полный голос засмеялся он. — Благо ему, сиречь мне теперь, есть чем бодаться. Дражайшая супружница таких рогов понаставила, что олени от зависти сдохнут! Да я им сам кровя пущу, донской казак я, хоть только и по бате, или хрен собачий?!
Петр медленно подошел к двери, пнул ногой створки и решительно шагнул в открывшийся проем. Большой зал занимал центр дома. Вверху — внушительных размеров люстра с незажженными свечами, всё в лепнине и позолоте, тускло мерцающей в отблесках пламени нескольких свечей, поставленных в шандалах вдоль высоких стен. Паркетный пол был холодным и скользким, Петр чуть не поскользнулся, но успел окинуть полутемный зал взглядом.
Четыре резные двери ведут в комнаты, судя по всему. В трех срезанных углах диванчики у окон, в дальнем левом углу широкая лестница на первый этаж. Большие золоченые часы и несколько шкафов, подобных тому, который стоял в комнате, тройка диванов, несколько столов, с дюжину мягких кресел.
В одном из них блаженно спал кто-то в ливрее — то ли лакей, то ли его камердинер. В другом кресле дремал офицер, в парике, галунах, при шпаге. Хорошая реакция у мужика, уже вскочил с кресла. У дверей напротив прохаживается еще один офицер, также нарядно одетый, в шляпе и при шпаге.
Увидев абсолютно голого Петра с кровоточащей раной на голове, оба офицера сделали правильный в такой обстановке вывод. Первый из них, здоровый и усатый, моментально вклинился между Петром и открытой дверью, крепко ухватился узловатыми пальцами за эфес палаша. Второй офицер, малый ростом, смахивающий лицом на Геббельса, уже обнажил шпагу, стремительно выхватив клинок из ножен, и попытался ворваться в комнату. Петр его остановил, жестко схватив за плечо:
— Тихо, мои верные голштинцы! Все в порядке. Да стой же! Довольно! — окрик Рыка остановил лакея, который уже раззявил рот для крика. «И слава богу, а то такой шухер поднялся бы, всех бы разбудили».
И только тут до Петра дошло, что он, не прикладывая никаких специальных усилий, говорит по-немецки, так как в русском языке просто нет слов «хальт», «орднунг» или «генуг». Необходимые слова сами складывались в нужные фразы незнакомого языка.
Петр кивнул на дверь, и усатый голштинец, спокойствия душевного ради, зашел в комнату. Через минуту офицер вышел, даже в свечном сумраке было видно его побледневшее лицо — в руках он держал тяжелую трость с набалдашником.
— Откуда это, ваше величество?!
— Дедушка явился! Отделал внука, как Бог черепаху! Отнеси его подарок в комнату, — Петр криво улыбнулся.
Только теперь он окончательно понял, что никакая это не ночная мистификация, а есть явления, разуму не подвластные. Очевидное — невероятное. Мистика!
Офицер ему почтительно поклонился и отнес трость в комнату, тут же из нее вышел, осторожно закрыв за собой дубовые створки. Лицо было вытянуто от растерянности и непонимания. На лбу собрались полосками морщины — события явно были неподвластны тевтонскому разумению.
— Прикажите вызвать лейб-медика, ваше величество? — тихо то ли сказал, то ли спросил «Геббельс», вкладывая шпагу в ножны.
— Да ну его, пусть клизмы фрейлинам ставит. А мы с вами старые солдаты, сами справимся, — ответил Петр, причем снова на немецком.
И сам удивился, у него это выходило непроизвольно, автоматически. Мысль ведь была на чистом русском, а вот язык сам выдавал уже онемеченный вариант.
Усатый наложил повязку мастерски, использовав длинную белую холстину, поданную ему другим офицером. Затем лакей сбегал в дверь направо, и спустя минуту оттуда выбежал заспанный арап с ворохом одежды и тут же при помощи «Геббельса» начал облачать Рыка.
Одежда для императора была заранее подготовлена чернокожим камердинером и лежала в той же комнате, судя по всему — камердинерской.
Вначале на Петра натянули короткие кружевные панталончики и стянули пояс завязками на бедрах. Затем облачили в такую же кружевную белоснежную рубаху.
И тут последовала длительная остановка. Сержант узрел подставку с трубками и сделал правильный вывод об их предназначении. Нарцисс облегченно вздохнул, увидев повелительный жест господина, прытью подкурил одну из заранее набитых трубок и сунул длинный мундштук в губы Петра. Видать, бедный арап сгоряча решил, что вместе с тотальным запретом на алкоголь, совершенно необъяснимым, «его величество» заодно отменит и свой любимый табак. А такое новое поведение шефа сильно удивляло Нарцисса, на милой черной морде большими буквами было написано.
Первая затяжка была сладостна, хотя Петр никогда не курил натощак, да и старался курить поменьше — пачки его любимых папирос «Герцеговина Флор» хватало на два-три дня.
Внезапно он почувствовал сильное облегчение, все печали и беды последнего часа отхлынули, а потом и вовсе сгинули. Табак дал расслабуху и успокоение, и, выкурив одну трубку, он без перерыва потребовал другую. Стало совсем хорошо, перед глазами поплыли стены и заколыхался потолок, мозг обволокло туманом, и Петр рухнул в спасительное беспамятство…
Петергоф
— Ваше величество, у нас все готово к выступлению. — Молодой, рослый и красивый офицер в форме Конной лейб-гвардии сидел на подоконнике у открытого настежь высокого окна. — Уже пять часов утра, карета у дворца. Пора ехать, государыня, измайловцы уже начали.
Женщина лет тридцати трех, старше его возрастом, была одета в нарядный, с золотыми позументами и галунами, форменный мундир полковника лейб-гвардии Преображенского полка.
Почти — в данный момент времени ее камер-фрейлина Екатерина Шаргородская надевала через правое плечо голубую Андреевскую орденскую ленту, а доверенный камердинер Шкурин ловко обувал правую ножку в специально пошитый армейский башмак с золотой пряжкой.
Общими усилиями женщину окончательно одели, и она слегка притопнула ножками, проверяя, а ладно ли сидят на них тяжелые армейские башмачки.
— Алексей, милый мой друг, — с чувствительным немецким акцентом произнесла женщина, — я готова к поездке.
Она подошла к раскрытому окну и чуть прикоснулась губами к изуродованной шрамом щеке гвардейского офицера. Алексей же подхватил женщину своими мощными и крепкими руками, способными с легкостью согнуть железный лом в замысловатый морской узел, и легко спрыгнул с ней на руках с подоконника.
Несмотря на довольно весомую ношу и приличную высоту, он устоял на ногах и даже не покачнулся. Бережно поставив царственную любовницу своего старшего брата Григория на ноги, Алексей снял с подоконника фрейлину, а камердинер с большим баулом выпрыгнул из окна сам.
«Десантирование» было произведено в полной тишине — во дворце так никто и не проснулся. Вся четверка быстро миновала выложенную камнем мостовую, потом парковые насаждения и вскоре подошла к карете, запряженной четверкой вороных коней.
Кучером на козлах сидел усатый офицер в форме лейб-гвардии Измайловского полка. Посадка заняла не более минуты, в воздухе весело просвистел кнут, сытые лошади резво рванули с места и понеслись в Петербург…
Они очень и очень торопились, особенно она, Екатерина Алексеевна, законная супруга императора Петра Федоровича, его троюродная сестра, в девичестве принцесса Софья-Фредерика-Августа Ангальт-Цербстская с ласковым прозвищем Фике. Торопилась к полной самодержавной власти без опостылевшего ей мужа.
Этот момент она и долго готовила, и сама к нему готовилась. Ради него Като родила два месяца назад от своего красавца-силача сына, что несколько привязало к ней влиятельного на умы молодых гвардейцев офицера Григория Орлова. И его же она, путем хитрых маневров, провела на должность цалмейстера, сиречь главного казначея артиллерийского ведомства, которое возглавлял благосклонный к Екатерине фельдмаршал Вильбоа. Тем самым пустили козла в огород с капустой — теперь у заговорщиков были немалые деньги, присвоенные тароватым до казенного добра Гришей, которые существенно облегчили подготовку мятежа.
К перевороту Екатерина начала готовиться с момента кончины императрицы Елизаветы Петровны. Не успело остыть тело гулящей дочери Петра Первого, как капитан преображенцев князь Михаил-Кондратий Дашков прислал ей записку: «Повели, мы тебя на престол возведем».
Но Фике решила не торопиться, зачем мешать Петру с его попыткой приструнить разгульную и распоясавшуюся гвардию. Император так всех еще больше озлобит — и вот тогда она и появится на белом коне посреди преданных ей гвардейских полков. Потому и ответила князю осторожно, но надежду давая: «Бога ради, не начинайте вздор; что Бог захочет, то и будет, а ваше предприятие еще рано временная и не созрелая вещь».
Однако слова словами, а полгода Екатерина, как терпеливый паук, плела паутину заговора…
Но было еще одно обстоятельство, мешавшее осуществлению ее планов — очередная беременность. Екатерина всячески скрывала свое интересное «положение». И было отчего, за полтора десятка лет супружеской жизни муж не был с ней в соитии ни единого раза.
Поначалу она винила себя за то, что не интересует Петра как женщина. Давившая на нее Елизавета требовала законного наследника и не принимала никаких ее объяснений. Хуже того, в Петергофе была подговорена ушлая молоденькая вдовица, в обязанность которой вменили увлечь императора любой ценой. Но все ее ухищрения и снадобья придворных медиков были тщетными. Император не представлял собой как мужчина ничего.
Монашкой она себя не считала, хранить целибат не собиралась, тем более тогда, когда вокруг было столько галантных кавалеров. Да и Елизавета уже сквозь пальцы смотрела на ее романы, ожидая все же в скором времени наследника, если не от мужа, то для российского престола.
Петр тем временем завел себе очередную любовницу, Елизавету Воронцову, удачно подсунутую ее подругой, княгиней Дашковой, являвшейся по совместительству сестрой Елизаветы. Правда, что они там делали в постели, оставалось тайной. Вернее, не такой уж и тайной, так как верные люди докладывали, что наследника от Воронцовой ждать не придется — император или в солдатики играл, или скрипку терзал. Тем не менее Петру уже давно осточертело то, что его женушка меняет любовников как перчатки, а ему остается только признавать свое нечаянное отцовство.
В 1754 году Екатерина родила сына Павла, а через три года и дочь, рано умершую. При дворе открыто судачили и бились на спор, что сыном Петр обязан красавцу Сергею Салтыкову, а дочерью польскому таланту Станиславу Понятовскому.
Однако Петр ошарашил всех своей добродушной реакцией: «Я к ней давно не захожу, и Бог ведает, откуда у нее дети берутся». И над Салтыковым лишь подшучивал, не мстя за увесистые рога и прижитого от него бастарда, который стал наследником престола. И лишь любвеобильного поляка выслали, но там имелись совсем иные грехи…
Но за эти полгода, которые прошли с момента воцарения Петра, ситуация стала меняться в худшую сторону. Что жене сходило с рук с наследником престола, великим князем, вызывало уже гневную реакцию императора Петра Федоровича — нет ничтожней зрелища, чем рогоносец в царской короне. Император не скрывал уже своего отвращения к супруге и выражал желание жениться на своей любовнице графине Елизавете Воронцовой.
Для Екатерины это было равнозначно полной катастрофе. Развод и пожизненная перспектива быть навечно упрятанной в монастырь ее совсем не привлекали, а тут еще предстоящие в апреле роды.
Но женская хитрость помогла ей — всю беременность она носила пышные платья, скрывавшие располневшую фигуру, а роды остались незамеченными благодаря преданности камердинера Василия Шкурина — тот запалил свой дом, стоящий рядом с дворцом.
Хорошо так запалил, чуть следом и весь Петербург не спалил. И пока все занимались тушением пожара или бегали в неразберихе, Екатерину привезли к лекарю, и она, спокойно разрешившись от бремени, через два часа вернулась обратно во дворец.
Однако уже через две недели «доброжелатели» поздравили императора с ребенком — и Петр вспылил, обозвал ее дурой и чуть не приказал посадить под арест. Она почувствовала весь ужас неизбежной катастрофы, но влиятельный среди гвардейцев ее любовник успокоил Екатерину всего парой слов: «Скоро начнем».
Григорий Орлов, кроме влияния, имел еще четырех братьев-гвардейцев, чьи крепкие руки защитят в случае чего, а сегодня возведут ее на Российский престол. Екатерина Алексеевна долго и тщательно готовила день этого переворота, своего долгожданного триумфа, и вот он настал сейчас…
Ораниенбаум
«А ведь еще ничего не определено, ровным счетом ничего. С чего я взял, что эта сволочь меня придушит и истыкает вилками. Петр сидел в своем Петерштадте и молча наматывал сопли на кулак, дожидаясь гвардейцев, своих убийц.
Слюнтяй, если боишься проливать чужую кровушку, выцедят твою. Гвардия превратилась в янычар и вертела троном, как хотела. И довертела — император Николай смел ее картечью на Сенатской площади. Так что мне мешает сделать то же самое?! На кого опереться? Господи! Фельдмаршал Миних же здесь! Он что-то предлагал Петру, да тот струсил. Надо вызвать Миниха, в нем будет мое спасение, быстрее проснуться, быстрее…»
Петр дернул ногами и руками, собираясь бежать, и проснулся. День начинал вступать в свои права, светило работало почти в полную силу, но еще было довольно прохладно.
Он бросил взгляд на часы — так и есть, начало девятого. Та же опочивальня, только у постели сидит хмырь, тот самый, что вечером пытался вломиться в комнату. О его профессии Петр догадался сразу — лейб-медик, или как там его здесь кличут. Все просто — одежда золотом не расшита, все черненькое, строгое, пропах каким-то лечебным дерьмом с головы до пят, а прикроватный столик завален баночками, скляночками и чистой холстиной.
— Ваше императорское величество, — хмырь сразу же заговорил, наклоняясь над Рыком, — нуждается в длительном отдыхе, от трудов вы впали в горячку, государь, нельзя же так! Пять раз подряд, всего за одну ночь, зачинать ребенка, сие опасно и ведет к полной потере жизненных сил и соков, кои питают наши жилы…
— Помолчите! — Ему не хватило терпения слушать эту галиматью, и он по-армейски начал быстро отдавать приказы: — Одежду, шпагу, трубку, стакан вишневого сока. Быстро! Фельдмаршала Миниха ко мне!
Лейб-медик моментально утух, скукожился и притих. Створки дверей открылись, и вся свита, терпеливо дожидавшаяся пробуждения императора, ввалилась в опочивальню и суматошно забегала — «шнель» императора всех подстегнул, как кнутом по голым ягодицам.
Впрочем, в этом хаотичном броуновском движении чувствовался определенный порядок. Трое лакеев с Нарциссом во главе принялись обряжать Петра, причем арап дал ему выпить бокал сока (уже учел новые вкусы господина и заранее заготовил напиток), потом сунул в губы раскуренную трубку.
На рану была наложена новая повязка с какой-то дурно пахнувшей мазью, и Рык милостиво похлопал своего «эскулапа» по дряблой щеке и еле слышно пробормотал ему «данке» — его личный медик сразу же расцвел, как куст розы, видать, уши как у слона, все расслышал.
Одели Петра быстро, тот даже не ожидал такой прыти, ведь по книгам царей облачали чуть ли не по часу. Короткие, до колен, синие панталоны в обтяжку, жутко жмущие в паху, шелковые чулки с завязками, что-то похожее на гольфы (неизвестно, как сие называется), башмаки с золотыми пряжками.
Сверху натянули длинную безрукавку, вроде именуемую камзолом, затем форменный мундирный кафтанчик, узкий и тесный в плечах, — все расшито золотом и позументами, а с левой стороны нашита большая восьмиконечная орденская звезда.
Он скосил глаз и прочитал надпись — «За веру и верность». По девизу Петр догадался, что это звезда ордена «Святого апостола Андрея Первозванного», главная награда Российской империи, учрежденная еще в 1698 году императором Петром Великим.
Лакеи стали расчесывать ему волосы, натянули сверху парик, и Петр с ужасом увидел букли. Потом его уродливую шевелюру стали посыпать пудрой. И тут в Петре наконец-то проснулся дар речи, и он начал самодурствовать.
Длинной тирадой, наполовину состоящей из сугубо матерных слов, он объяснил лакеям недопустимость подобных операций, что приводит к засаленности и грязи, а потом и к вшам. И все эти парики, букли, пудру, муку для обсыпки, ленточки и прочую хреновень, совершенно лишнюю и вредную для армии, он отменяет раз и навсегда, причем не только для себя, но и для всех солдат и офицеров верных ему войск.
В комнате воцарилось мертвое молчание. Все застыли, но после новых, уже исключительно «кружевных» выражений бывшего советского сержанта (привыкшего в армии к командному языку), зашевелились еще быстрее.
Видимо, его новые вкусы и поразительные лингвистические способности их ошеломили и полностью подавили, но все восприняли новые требования императора как должное, мысленно исходя из слов неизвестной еще в то время песни — «жираф большой, ему видней».
Откуда-то быстро принесли таз и большой кувшин с теплой водой, еще быстрее совлекли с его плеч мундир и камзол — и началось мытье головы с помощью куска душистого мыла. Петр только крякал, глядя на черную воду в тазу — сплошная грязь, за малым вшей еще не завелось.
Тщательно протерли волосы полотенцем, причесали — попытку сделать косичку сержант пресек грубо и жестоко. Заново надели на него камзол и кафтанчик. Наложили через плечо широкую голубую ленту, прихватив концы снизу орденским знаком двуглавого орла, в центре которого на косом синем кресте была наложена человеческая фигурка. На шею навесили большой черный крест с раздвоенными концами, с одноглавыми орлами между лучами, а что это за награда и от кого получена, Петр понятия не имел. Перевязь со старой знакомой шпагой и шляпа с плюмажем довершили облачение. Его нарядный мундир уже пропитали какими-то духами, приятными на запах, но непривычными. Но на будущее сержант решил обходиться без нюхательного орнамента.
Вошедшую Лизочку Петр, сделав над собой усилие, чмокнул в щечку, и, чуть похлопав по спине, отправил восвояси. Повинуясь его повелительному резкому жесту, вся придворная братия, подобно бурлящему потоку, хлынула в раскрытые двери обратно.
И вовремя — не прошло и минуты, как раздались четкие солдатские шаги, створки распахнулись во всю ширь, и в комнату вошел крепкий старик в зеленом форменном мундире…
Петербург
— Виват матушке Екатерине! — гвардия бурлила на улицах.
Пьяные вопли за здравие императрицы и проклятия в адрес императора Петра доносились с разных сторон. Кабаки подвергались всеобщему разграблению, а энтузиазм гвардейцев рос по мере их опьянения…
Первыми, еще рано утром, начали мятеж измайловцы. Их полковник, граф и фельдмаршал Кирилл Разумовский, гетман Украины и президент Академии наук, дарованиями ученого и талантами военного не отличался. Но он был младшим братом фаворита и морганатического мужа императрицы Елизаветы Петровны Алексея Разумовского, который когда-то был певчим хлопцем Лешкой Розумом. Именно в его полку свили уютное гнездо измены офицеры Ласунский, братья Рославлевы и иже с ними.
Положение рядовых заговорщиков облегчалось тем, что сам командир полка был лютым ненавистником императора Петра Федоровича.
Злоба Кирилла, пропаганда Орловых с откровенным спаиванием офицеров и солдат (а на это дело английский купец Фельтен щедро предоставил 35 тысяч ведер водки), демагогичные обещания от имени Екатерины даровать различные милости гвардейцам с избавлением их от опасностей новой войны сделали свое дело — измайловцы поднялись бодро.
Их энтузиазм резко усилился с появлением двух женщин, одетых в Преображенские мундиры — императрицы и княгини Дашковой. Като не скупилась на обещания — служить будете как при Елизавете, не утруждаясь особо, весело и разгульно, без всяких нововведений ненавистного мужа — дисциплина, караулы, военное обучение и строевые плац-парады.
И алебарды с протазанами не сами таскать будете, а слугам своим велите, как раньше было. И все привилегии гвардейские сохранить в целости Екатерина обещала, да еще и приумножить их. А они уже таковы были, что армейские офицеры завистью к гвардейским рядовым капралам исходили — мыслимое ли дело, что в походе полковнику армии только пять повозок положены, а гвардейскому сержанту, коих пруд пруди в каждой роте, целых четырнадцать…
Со злой веселостью измайловцы вовлекли в мятеж заранее хорошо споенных дармовой водочкой семеновцев. И разошлась еще шире волна мятежа, и накрыла следом с головой и полк конной лейб-гвардии.
Мятеж ширился и расползался метастазами по гарнизонным полкам, командиры которых были вовлечены в заговор обещанием великих для них милостей. Екатерина не скупилась, и там, где Петр требовал честной службы, она обещала легкие чины, богатые подарки и щедрейшее вознаграждение.
А далее шло по накатанной схеме — офицеров морально обрабатывали, а кое-кому просто давали деньги, перед мятежом солдат обильно, не скупясь, поили до упора водкой. С одновременным натравливанием на «голштинского выродка», продавшего ненавистным пруссакам матушку-Россию.
«Отвергнувшего истинную православную веру» царя проклинали громогласно и под благословение иерархов церкви, недовольных начавшейся секуляризацией обширных и богатейших монастырских землевладений, кричали «на царство» его благоверную супругу Екатерину Алексеевну, как-то забыв в сумятице, что та ведь и есть совсем чистокровная немка.
И как не закружиться солдатской голове, да еще в пьяном угаре, от чувства всесилия и безнаказанности, от возможности распорядиться императорским престолом по собственному усмотрению. Вот и орали во все луженые глотки самодовольные солдаты: «Виват матушке Екатерине!»
В Преображенском полку произошла первая для заговорщиков неприятность, вернее, заминка с вовлечением в буйство. Противостоять пьяной орде семеновцев и измайловцев преображенцы не стали и впустили мятежников в казармы. И сразу в них началась оголтелая агитация за свержение императора Петра с престола.
— Этот выродок нас отправить в Голштинию к себе хочет, с датчанами воевать! Не желаем!
— Долой Петрушку! Матушку Екатерину на царство, она гвардию любит и жалеет, воевать не пошлет.
— К черту все эти экзерции и плац-парады! Хотим служить, как раньше служили, при матушке Елизавете.
— Долой тирана! Айда кабаки громить!
— Гвардия должна при престоле быть, а армия пусть воюет!
В двух мушкетерских батальонах солдат быстро сбили с толку, но в гренадерском батальоне несколько офицеров полка крыли самыми отборными матами подошедших измайловцев.
— Братцы, мы же императору перед Богом присягали! — надсаживались в крике преображенцы Воронцов, Измайлов и Воейков, потрясая в воздухе кулаками. — Это же измена!
Понять офицеров можно легко — род Воронцовых у власти, тем более когда у тебя дядя канцлер, а сестра фаворитка императора. Измайловы влиятельны в армии сейчас, и император им сильно благоволит. А старинная фамилия Воейковых всегда была исключительно верна русским царям, кто бы из них ни сидел на престоле.
Ладно, переворот, то дело житейское, их за прошедшие тридцать семь лет со дня смерти императора Петра Алексеевича гвардия много раз устраивала. Но вот тащить блудливую немку на престол Российской империи в обход какого-никакого, но узаконенного наследника престола Павла Петровича — это, с их точки зрения, был уже явный перебор.
— Не слушайте поганцев. Они за тридцать сребреников все и всех продадут, иуды! Сволочи непотребные!
И надеялись этим образумить солдат — преображенцы тихо ненавидели измайловцев со времен Анны Иоанновны и всегда на них косо смотрели. В другое время застарелая неприязнь между полками, может быть, и сработала бы, но сейчас дала сбой. Запах водки и аура вседозволенности уже кружили солдатские головы.
Гренадеры не поддержали верных присяге офицеров, и измайловцы тут же посадили их под арест. Но не били, еще не было озверения к своим, или просто мало выпили пока водки.
Преображенцам выдали целую кучу обещаний, внесли в казармы ушаты и ведра чистейшей, как слеза, водки. И дрогнули души, не устояли перед соблазном, потянулись к вожделенной влаге чарками, стаканами и ковшиками. И вскоре лейб-гвардии Преображенский полк в полном составе присоединился к мятежникам…
Ораниенбаум
— Я здесь, ваше величество! — Лицо старого воина будто вытесано топором, жесткий прищур морщин изрезал волевое лицо. Пронзительные, все понимающие глаза много чего видевшего и многих знающего фельдмаршала, прошедшего огонь, воду и медные трубы.
«Вояка изрядный, сколько же ему сейчас лет? Вроде с Северной войны Петру Первому служит. Так ему же под восемьдесят лет, если не больше, даже если юношей войну начал. И прозвища в армии у него весьма подходящие — Железный рыцарь и Живодер». — Вот только имени Миниха Рык не мог вспомнить, хоть и переплел извилины в канат…
Петр посмотрел прямо в стальные глаза старого фельдмаршала, уважительно, подойдя к нему вплотную.
— У меня к тебе важное дело, мой преданный друг, — он выделил последнее слово.
А самое интересное, что изъяснялся сейчас снова на родимом языке берез и осин. Он решил говорить «ты» всем, так как в исторической литературе «тыканье» императора присутствовало всегда, а вот о более вежливом обращении на «вы» как-то в текстах не проскакивало.
— Этой ночью мою супругу ее любовник Гришка Орлов увез из Петергофа в карете. Его братья, Никита Панин и другие заговорщики подняли на мятеж измайловцев, полковник коих Кирилл Разумовский тоже активный заговорщик. Затем на мятеж подняли семеновцев, а следом и преображенцев, еще и конную гвардию. — Услышав спокойный тон императора, Миних посуровел лицом, вертикальные складки прорезали лоб. У прищуренных внимательных глаз собрались в густую сетку морщины.
Фельдмаршал был удивлен, по нему это было хорошо видно.
— Ваше величество, простите меня, но осмелюсь спросить, откуда это вам известно?
— Сейчас в Петербурге присягают моей дражайшей женушке, «матушке императрице» Екатерине, — Петр откровенно проигнорировал вопрос старого фельдмаршала. — Присягают все — гвардия, Сенат, Синод, коллегии и городские обыватели. Причем присягают ей как самодержице Всероссийской.
— Откуда вам это известно, государь? — уже настойчиво, если не требовательно переспросил Миних.
— Скоро сюда генерал-майор Михаил Измайлов прискачет, подтвердит, что гвардия восстала, — Рык хладнокровно решил сыграть на опережение и вспомнил фамилию генерала, который первым прискакал к императору Петру Федоровичу и предупредил его о гвардейском мятеже.
Странно, но именно сейчас, в этот момент, у Петра полностью исчез страх перед своим темным будущим. Рык успокоился и собрался — так было всегда перед боем, там, в Афганистане — но что будет, если он ошибся в своих предположениях?!
— Ваше величество, прошу ответить мне!
— Я сам узнал об этом сегодня ночью, — с дрожью в голосе ответил Петр. Он уже решил, что рассказать старому фельдмаршалу, который был до конца верен его «тезке».
— От кого вы узнали о начавшемся в Петербурге мятеже, государь? — Миних вцепился в него, как клещ, буквально вытягивая из него слова и тем самым невольно подыгрывая.
— От деда своего Петра Алексеевича, — выдохнул в лицо фельдмаршала Петр. Миних отшатнулся, и он уловил, что старика проняло. И Рык надавил: — Что этой ночью ко мне во плоти явился. Он мне все поведал и сказал, что меня шарфом гвардейцы удушат. Через восемь дней. По прямому приказу жены моей Екатерины. Но…
— Что — но, ваше величество? — Фельдмаршала Миниха уже полностью закусило, и он еле сдерживался.
— Он сказал, что спасет меня и даст мне силы и знание. Пальцем разжал мой рот и дунул. Мне стало плохо, закружилась голова. А дед затем поднял трость и ударил…
Петру даже не пришлось симулировать дрожь по всему телу — он просто вспомнил свое ночное общение с «дедушкой». От воспоминания и лицезрения трости его основательно передернуло, и Рык истово, по православному обычаю, перекрестился.
Фельдмаршал поймал взгляд Петра, сам выпучил глаза при виде трости и тоже перекрестился следом. Его лицо как-то сразу успокоилось, а морщины почти разгладились. Но глаза Миниха вспыхнули, он как-то весь подобрался, будто тигр перед броском, и негромко промолвил:
— Образ великого императора вечно живет в моем сердце. А это, я думаю, не столь великая плата за ночной разговор и помощь. — Старик чуть тронул пальцами свою голову.
«А он сообразителен и умен. Впрочем, иначе не будешь играть при дворе коронами и не отсидишь за это двадцать лет. Но надо же, никакой секретности, болтают языками. Ну, ничего, я их со временем укорочу. Хотя, в зеркало не глядя, могу сказать, что морда лица у меня не очень… Голова повязана, кровь на рукаве… Ладно, я же давеча с лошади упал. А, пусть болтают, что хотят… Пока…»
Его молчание походило на глубокую задумчивость, как будто он мучительно размышлял, не решаясь спросить.
— Какая плата, Антонович? — Петр неожиданно вспомнил, как звали Бурхарда Миниха по отчеству на русский манер.
— Ваше величество, вы уже сами на все ответили, — ответил старик. — Государь, вы за одну ночь научились почти чисто говорить на русской речи, простите за прямоту. И сейчас вы говорите со мной на русском, а это на моей памяти в первый раз. Более того, все во дворце только и говорят о том, какими чудными хулительными словами вы начали излагать свои мысли. Как и ваш дед, император Петр Алексеевич, большой ценитель флотской ругани. — Миних радостно светился, при этом, казалось, получал большое удовлетворение от вида растерянного Петра.
— У вас, ваше величество, стали совсем иные привычки, а великий дед ваш в последние годы тоже почти не пил водки, не носил парики, приказывал часто мыть ему голову — и это же самое сделали вы, ваше императорское величество. Еще раз простите меня за солдатскую прямоту. Мне сказали об этом утром, но я не поверил. А сейчас я убедился, ведь вы назвали меня, как и ваш великий дед. Это он передал вам, государь, свой великий дух.
«Ни хрена себе, так он мне поверил! Я бы ни в жисть не поверил в такую лажу, а тут, видно, и люди иные, да и нравы не такие. В переселение душ еще верят! Стой! А ведь они-то правы — моя-то душа ведь переселилась…»
Петербург
— Братцы, не верьте им. Держитесь присяги императору Петру Федоровичу! — Шеф Невского кирасирского полка генерал-майор Измайлов пытался хоть как-то противодействовать гвардейцам, заполонившим полковые казармы и плац.
Проклятье! Как только началась утренняя заваруха, нужно было срочно собрать все четыре эскадрона полка в казармы, сразу открыть цейхгауз, выдать оружие и кирасы, оседлать коней.
Но поздно — кирасирам не дали времени собраться, караул у ворот был смят за одну минуту пьяными гвардейцами, и кирасиров захлестнула зеленая волна пехотных мундиров. Кое-где вспыхнули потасовки — неизбежное трение между зажравшейся гвардией, давно не нюхавшей пороха, и армейскими кирасирами, хлебнувшими лиха на войне. Был бы полк на коней посажен, да с оружием и в стальных кирасах — мятежную гвардейскую сволочь рассеяли бы по улицам в полчаса. А сейчас все пропало — цейхгауз захвачен, а безоружных кирасиров загоняют прикладами и штыками в казармы. Михаил Измайлов обреченно выругался.
И только тут семеновцы сообразили и решили взять под арест генерала, большого ненавистника «царственной шлюхи», как он ее неоднократно называл в светском обществе. Бранные слова эти, понятное дело, тут же становились известными Екатерине, ведь доброхотов во все времена хватало, тем более у трона, где шла постоянная грызня за власть.
Измайлов часто советовал императору Петру избавиться от супруги, украшавшей мужа развесистыми рогами. Это еще более подкидывало дров в костер их взаимного недоброжелательства…
Время уходило, и генерал физически ощущал это. Еще минута — и будет поздно. Михаил Измайлов обернулся — рассчитывать он мог на двух адъютантов и трех кирасиров караула, которые, будучи отпихнуты от ворот, сумели присоединиться к своему командиру. Да на пол-дюжины лошадей, что оседланными стояли у коновязи.
Генерал выругался — на них нет кирас, из оружия только палаши, а мятежников несколько сотен…
— Держи генерала! — Вопли гвардейцев запоздали.
Измайлов с несколькими кирасирами пришпорили коней и направили их на караул измайловцев, закрывавший собой ворота. Рослые лошади прорвали тонкую цепь караульных, которые встретили отчаянную атаку шести смельчаков штыками.
Один всадник рухнул вместе с конем, другого за ногу стащили с седла. Но эти два рядовых кирасира исполнили свой долг, позволив генералу с адъютантами подскакать к воротам. Четверо всадников сокрушили нескольких солдат копытами тяжеловесных коней, рубанули плашмя палашами по пьяным храбрецам и разметали гвардейцев в стороны.
Наметом проскочив заставу, беглецы вылетели на Петергофскую дорогу. Генерал оглянулся — погоня из орущих гвардейцев отстала, и он рукой подал знак перейти на рысь, чтобы раньше времени не загнать лошадей. Из западни вырвались четверо — генерал, два его адъютанта и капрал.
Измайлову осталось только горько и скорбно скривить губы — Невский кирасирский полк не подвел и остался верен присяге, вот только к императору в крепость Петерштадт этим проклятым утром уйти не успел…
Ораниенбаум
— Ты предан мне, мой старый друг, и воздастся тебе за верную службу и мне, и моему великому деду. Но негоже в царской опочивальне о делах разговоры вести! Антоныч, иди в мой кабинет. — Петр сделал неопределенный жест рукой.
Миних четко повернулся кругом, открыл сильным касанием руки дверь и четким солдатским шагом направился через весь зал к правой двери.
Собравшиеся в зале придворные и сановники, а Петр опознал последних по алым лентам ордена Александра Невского через плечо, расступались перед ним, как волны.
В воздухе плыли густые клубы табачного дыма, будто здесь не приемный зал, а пивбар «Центральный», он же «Яма», где иногда собиралась нищая студенческая братия. Да и нравы те еще — на императора многие из курящих почти не обратили внимания, громко разговаривая между собой, причем исключительно на немецком.
«Надо прекратить этот бордель! — решительно остановился Рык, но тут же ощутил в голове и совершенно иные мысли: — Все в полном орднунге, то есть в порядке», — а именно это и должно нравиться настоящему кайзеру, то бишь императору.
«Никак клиент очухался и свой голос подает?!» — усилием воли Петр задавил чуждые мысли в голове и решил отложить разнос.
Нацепив на свое лицо самую свирепую маску, Рык шествовал за старым фельдмаршалом, совершенно не глядя по сторонам, делая ужасно занятой вид. Они быстро подошли к противоположной двери, и стоящий перед ней на карауле знакомый усатый офицер тут же открыл перед ними створки.
«Это правильно, у меня должен быть кабинет, но не спрашивать же, где оный находится. Вот Миних и помог». — Петр решительно вошел в кабинет, пытаясь сориентироваться на ходу.
Массивный стол под окнами, за ним кресло, в противоположных углах по шкафу, еще два кресла, подставка с трубками и банкой с чуть дымящимся фитилем — напряженный взгляд Петра быстро обежал кабинет.
На столе чернильница, перья, зачем-то чашечка с песком, какой-то валик непонятного предназначения, большой колокольчик с длинной вычурной серебряной ручкой.
Комната такая же шикарная — все в лепнине и позолоте. Хотя при дневном свете Петр сообразил, что весь этот блеск к золоту не имеет никакого отношения, слишком дорогое было бы это удовольствие, скорее всего — просто полированная бронза.
Первым делом Петр подошел к подставке, взял плотно набитую табаком трубку, раздул тлеющий фитиль до огонька и подкурил от него. Медленно прошелся по кабинету, выгадывая время для разговора, несколько раз пыхнув дымом из трубки. Товарищ Коба — ни дать ни взять!
— Ваше величество, что вы собираетесь предпринять?
— Пока ничего не собираюсь, мой старый друг. Буду ожидать генерала Измайлова. Надеюсь, он привезет самые свежие сведения, которые либо подтвердят, либо опровергнут то, что говорил мне дед.
— Государь, я боюсь, что вы делаете страшную ошибку!
— Это может быть просто ночным кошмаром…
— В кошмарных снах, государь, не проливают настоящую кровь. И меня бил тростью ваш великий дед, и многих других тоже бил. И это было отнюдь не во сне. Да и свою трость он у вас в кабинете не случайно оставил. Не удивляйтесь, государь, я узнал ее, тем более что сорок лет назад имел возможность испытать эту трость на своей спине. Ваше величество, вам надо немедленно действовать! — Миних уже откровенно горячился.
Петр удовлетворенно отметил, что фельдмаршал воспринял его наспех придуманную частицу лжи во спасение за чистую монету. Он прошелся по кабинету, медленно выдохнул клубок дыма и спросил:
— Что ты предлагаешь, фельдмаршал?
— Мятеж подавить, не мешкая. Есть две возможности. В Кронштадте флот и три полка. Здесь есть шлюпки и галера, они отвезут нас туда. Погрузим пехоту на корабли, войдем в Неву и высадим десант! — Фельдмаршал четко рубил фразы, голос суровый.
Петр быстро переварил информацию и сделал нетерпеливый жест рукой. Миних тут же продолжил:
— Можно также быстро отойти до Нарвы, там преданный вам, ваше величество, генерал-аншеф Петр Румянцев. А у него в Лифляндии и Эстляндии сосредоточено тридцать пять тысяч надежного войска, мы двинем эту армию на Петербург. Полки обстрелянные и закаленные, они легко и быстро раздавят гвардейских мятежников. — Миних требовательно посмотрел на Петра.
Тот пыхнул трубкой, его мозг напряженно работал. Оба варианта в принципе подходили, но он интуитивно чувствовал некую двойственность выбора и после некоторых размышлений решился.
— Ты, мой старый преданный друг, прав, но мы поступим чуток иначе! Ты нынче отплываешь в Кронштадт, возьми для конвоя взвод голштинцев, на всякий случай, если моряки вздумают пойти на столицу. У тебя будет всего два дня, чтоб привести мой флот к полному послушанию. Любых посланцев из Петербурга — вешать немедля, без жалости! На нок-рее флагмана! Все плавания до Петербурга прекратить! Высади десант в Выборге и перекрой границу, чтобы заговорщики не бежали. Любое судно из Петербурга задерживай под арест.
Петр остановился, сделал паузу, обдумал и начал уже отдавать конкретные директивы:
— Подготовь эскадру, распредели солдат и матросов десанта по кораблям. Составь диспозицию — какой корабль супротив каких зданий становится. Бить полным бортом, но только картечью. Ядра могут попортить здания, а это мой город! Тридцатого дня июня входите в Неву и атакуйте, высаживайте десант. Солдаты должны знать, какие роты и какие здания занимают — Сенат, Адмиралтейство, гвардейские казармы, Петропавловскую крепость и прочее.
«Почту и телеграф не забудьте, и залп „Авроры“ не проспите», — злорадно усмехнувшись про себя, он медленно прошелся по кабинету, краем глаза подсматривая за Минихом.
Лицо фельдмаршала вытянулось, он с таким нескрываемым изумлением смотрел на него, будто увидел и услышал кого-то другого. Петр прекрасно понимал, кого именно — самого Петра Великого…
— И еще одно, мой фельдмаршал. Сенат, духовенство, гвардия присягают матушке Екатерине. Они изменники и воры! Истребить присягнувших, тех, кто будет драться супротив, без жалости всех до единого, чтоб духа не осталось! Остальных щадить, но брать под арест и вести розыск. Матросам и солдатам выплатить перед высадкой двойное жалованье, водкой хорошо попотчевать. Казной флотской смело распоряжайтесь, указы нужные я немедленно прикажу написать. — Петр пылал праведной злобой, он просто физически остро почувствовал, как на его шее с силой сжимаются потные лапища пьяных гвардейских офицеров, как они душат его. От этой мысли его основательно передернуло, и он закончил последними приказами: — Найдите верного офицера, пусть задолго перед высадкой войск на шлюпке подойдет и объявит ворам, будто флот идет присягать Екатерине, изменники-гвардейцы соберутся на набережной встречать, там их всех сразу и накройте картечью. Грабежей и насилий не допускать, ставить крепкие караулы, нарушивших приказ и мародеров офицерам расстреливать на месте, неукоснительно. Пьяную чернь, фабричных, если кабаки и дома начнут грабить, истреблять не мешкая, как бешеных собак!
— Ваше величество! Может, десант высадить на один день раньше, уже завтра, ведь мятежники могут упрочиться…
— Нет, фельдмаршал! Мы не успеем подготовиться. И еще одно. Если раньше начать, то тайные воры не успеют стать явными, потом затаятся! Нарыв надо вскрывать полностью, попозже, чтобы созрел, и выдавить с кровью, чтоб весь гной вышел. Я не желаю оставлять в столице измену на будущее, их надо всех, как стрельцов, поголовно, под корень, как князь-кесарь с ними сделал! Железной рукой князь Ромодановский поприжал их вольницу, пока дед мой, Петр Алексеевич, в отлучке от государства находился с Великим Посольством! Но они на своей паршивой шкуре узнают, как мятежи против меня, внука великого императора, устраивать! — Петр гневно взмахнул рукой и швырнул трубку на пол.
Фельдмаршал оторопело пожирал его глазами, и Рык внезапно осознал — так примерно чувствует себя человек, когда вместо копейки получает миллион.
«Миних побаивается меня, крепко зауважал, а это дорогого стоит. Будто узрел старик перед собой настоящего сильного императора», — удовлетворенно констатировал он, уже немного успокоившись.
— И еще одно, фельдмаршал. Я не хочу терять Кронштадт. Если же мятежники в нем утвердятся, то твердыню надежную иметь будут, и ничем их оттуда не изгонишь. А сами они, после неизбежного поражения, в заморские страны спокойно отплыть смогут и там сладко поживать. Но, если я сам лично в Кронштадт прибуду, то время упущу, и мятежники могут армию к неповиновению возбудить, а сие чревато.
Старый фельдмаршал чуть наклонил свою седую голову, соглашаясь с очередным предположением императора. Петра это немое одобрение сильно окрылило, значит, не совсем он конченый человек и предложил Миниху не глупость несусветную, а вполне умные, продуманные и не ожидаемые от него решения в возникшей ситуации.
— На тебя лишь надеюсь и уповаю. Что жалости предаваться не будешь, что крови пролить не убоишься, — от таких слов Петра Миних аж поперхнулся и закашлялся, с нескрываемым недоумением и обидой посмотрел на него, как бы говоря: «Ты, государь, не заговаривайся, меня недаром Живодером зовут».
Петр подошел к подставке, взял плотно набитую трубку, закурил и неожиданно несколько сменил тему:
— Дед мой, как ты знаешь, начал свое великое царствование с бегства в Троицкую лавру. И это воспоминание отравляло ему жизнь. И мне придется бежать от заговорщиков, ибо сила пока на их стороне. Но скажу тебе, как на духу, ибо верю, как самому себе — мятеж гвардии мы беспощадно подавим! Здесь, в Ораниенбауме, гарнизон крепкий оставлю, и пусть мятежники думают, что я в осаде засел. А войскам, под Нарвой расквартированным, приказ дам сюда прийти, с полками говорить буду, и на ворога их поведу…
Петербург
Слухи расползались по столице, как чума, только намного быстрее, захватывая некрепкие разумом и пришибленные водкой умы. О чем только не говорили в столице аристократы и солдаты, фабричные и офицеры, купцы и матросы! Такая жуткая дурость распространялась в Петербурге, что у многих головы пошли кругом.
— Кузьма, ты слышал, наш император совсем от веры истинной отшатнулся, лютеранских попов во множестве выписал и хочет их по всем церквам рассадить, ересь поганую сеять.
— Да нет же, он масонство хочет ввести…
— А вы слышали, любезные, при Гросс-Егерсдорфе генерал Апраксин по приказу Петра велел к пороху простой песок подмешать, чтоб ружья русские в пруссаков стрелять не могли! Да, любезные, и это совершенная правда, я от одного офицера слышал. Вот иуда! Потому-то гвардия нынче и поднялась…
— И в Голштинию свою с…ую повелел гвардию нашу отправить, чтоб с пруссаками вместе ужо воевать супротив французов да австрияков. Будто нужна нам эта новая драка…
— Да нет же, со шведами война будет…
— Матрена, смотри, гвардейцы толпою валят, никак кабак громить будут. Вот благодать какая настала, водки с вином вдоволь будет. Давно императора скинуть с престола надо…
Слухов много циркулировало по городу, но один главный к полудню четко определился, и это позволило многим оправдаться в собственных глазах, обеляя себя от совершенной измены. А так как слухи эти держались устойчиво, то у многих сложилось впечатление, что кто-то их специально разносит и в умы вбивает намертво.
— Да императора нашего в живых давно уже нет — упал спьяну с лошади да головкой своей о камень приложился крепко. И дух сразу вон. Пойдем, Кузьма, матушке Екатерине Алексеевне присягать быстрее — а тех, кто не даст присягу, водкой задарма поить не будут…
— Ой! Горе-то какое, Матрена! Петр Федорович от горячки намедни помер, говорят, спьяну он расшибся, с лошади упав. Вот и присягу его супруге нынче давать велят…
— Да нет же, любезный. Царь на лодке по каналу плыл в Ораниенбауме, а как на пристань взбираться стал, так поскользнулся на мокрых сходнях и головой о вбитую сваю ударился. И голова, как арбуз, раскололась. Вот теперь и присягу его жене все вокруг дают, и нам с тобой идти надо присягнуть, а то, мало ли, не успеем…
А в сумрачной тишине приемного кабинета, за плотно закрытыми от шума уличного окнами, секретарь датского посольства Шумахер, суетливо метавшийся по Петербургу все утренние часы, торопливо записывал в свой дневник услышанные новости: «И чем больше было таких наивных и таких дурацких россказней, тем охотнее принимало их простонародье, поскольку не нашлось настолько смелых людей, чтоб их опровергать…»
Ораниенбаум
«А на генерала Румянцева надежды мало, потому-то „тезка“ и скулил, и в Нарву не поехал. Наверняка у него в Питере свои люди были, а значит, сразу о мятеже предупредили. Но он полки не двинул, приказа не дожидаясь, по личной инициативе. Никто из генералов не выступил, и в Кронштадте тоже, явно чего-то ожидая. Наверняка Катька, эта ушлая баба, к ним своих людей приставила, отговорить в случае чего или прирезать…
Вот потому-то личную инициативу генералы и не проявляют, прямого приказа ждать будут. А получив приказ, не спешить с его выполнением, развития событий выжидая, чтоб на сторону победителя вовремя переметнуться. Да оно и понятно, защищают лишь того, кто сам успешно защищается. А Петр слабак, драться не стал, хотя и мог. Войска-то у него имелись. Но я буду. До упора, до самого конца.
Возможно, потерплю поражение, но тогда уплыву в Кронштадт и оттуда буду для них угрозой. Ведь сами же передерутся, а начнут те, кого от государственной кормушки отодвинут. Вот все недовольные ею на меня уповать начнут. Потому-то Катька Петра сразу же быстро и прирезала, чтоб смута против нее в восстание не переросла и живого мужа на престол снова не посадили. Ведь в книгах это хорошо описывалось.
А если и в Кронштадте швах, то надежда на полки одна, куда я личные приказы и манифесты отправлю. Если их командиры в заговоре, плохо дело, конечно. Но только гонцы мои манифесты солдатам читать будут в открытую, прилюдно. И надеюсь, что они сами на помощь ко мне придут, не могут не прийти. А в случае неудачи в бою с гвардией, с полками в Восточную Пруссию отходить буду, там же армия стоит, и она меня сразу поддержит, ведь их-то петербургская шобла полностью кинет, и обидно „пруссакам“ будет до огорчения. А я после победы, наоборот, их золотом и многими милостями осыпать буду.
Да, еще Голштиния в резерве есть, если уж совсем худо станет. Будем драться, будем. Главное, первую стычку выиграть, их авангард как-нибудь разбить, спесь гвардейскую свинцовыми пулями вышибить. А ведь это мысль…»
Пока он думал, глядя в окно, Миних почтительно молчал за спиной.
«Видать, хватило старику впечатлений, переваривает». — Петр взял в руки колокольчик и громко позвенел им.
Дверь в кабинет немедленно отворилась, и на пороге возник знакомый дежурный офицер. Замер и выжидающе посмотрел на императора.
— Волкова ко мне немедленно.
В зале тут же раздался гул голосов: «Кабинет-секретаря к его величеству!»
Петр ходил по кабинету и напряженно думал:
«Гвардейцев надо сильно удивить, и это позволит малочисленным голштинцам удержаться в крепости до подхода армейской пехоты и конницы, да и в поле им противостоять».
Неожиданная мысль пришла в голову, и он, после того как тщательно ее обдумал, заулыбался, глядя по очереди на Миниха и на ожидающего очередного приказа дежурного офицера.
— Отобрать от каждой пехотной роты по десять лучших стрелков и по одному толковому и решительному офицеру. Собрать через три часа на плацу. И пришлите ко мне немедленно всех ружейных мастеров. И еще, — он повернулся лицом к застывшему офицеру, — напомни мне, какие ружья и каких калибров состоят на вооружении в армейских полках пехоты и конницы и здесь, у моих голштинцев.
— В основном полки имеют семилинейные тульские фузеи, их большинство, есть шведские ружья в 7,5 и 8 линий, английских фузей совсем немного, но есть саксонские, прусские и иные немецкие мушкеты от 6 линий и больше. У конницы и пехоты есть разные пистолеты, но много тульских в 7 линий. У голштинцев, ваше величество, примерно такое же оружие. А у кавалерии еще имеются на вооружении тромблоны и мушкетоны, — четко доложил офицер.
— Все тульские фузеи дать отобранным лучшим стрелкам. Ими же вооружить лучшие роты. И вообще, на вооружении всей русской армии должны состоять ружья и пистолеты единого калибра. Подготовьте позднее свои соображения, фельдмаршал, как разрешить сию задачу. А ты молодец, знаешь дело. И пусть оружейники тульскую фузею с собой возьмут и пару пуль. Иди, распорядись… Стой! Здесь приемная, а не бордель! И потому все посиделки, разговоры прекратить. Все посетители лишь по нужде государственной. И не курить! Кто во дворце закурит или на мои глаза курящим попадется, в Сибири табаком медведей угощать будет! Ясно?! И еще. Я российский император и лишь потом герцог голштинский, и потому повелеваю всем говорить со мной только на русском языке. Пусть все мои подданные на носу это зарубят и устрашатся прогневать. Теперь ступай…
Офицер четко развернулся и вышел из кабинета, но не успели створки двери сомкнуться, как в кабинет вошел мужчина лет тридцати, в мундире с обильной серебряной расшивкой.
«Еще одна шельма на мою голову, — Петр внимательно разглядывал вошедшего, — глаза преданные, но выхлоп… Он что, всю ночь, собака, бухал?!»
— Заготовь указы, немедля.
Субъект почтительно наклонился.
«Так вот он какой, значит, секретарь-то мой. Как его… Вроде Дмитрием Васильевичем зовут, он же еще манифест о дворянской вольности написал».
Петр помнил этот документ. Он искренне поразил его новаторством мысли и определенным рационализмом предложенных в нем идей. На семинаре тогда Рык получил одобрение и пятерку за доклад.
— Немедленно напиши указ о назначении фельдмаршала Миниха, здесь присутствующего, полновластным генерал-губернатором Санкт-Петербурга, Выборга и Кронштадта, мою особу представляющим, и приказы оного неукоснительны к выполнению всеми, как мои личные, под страхом лишения живота. Подготовь еще манифест, во многих списках, — Петр хотел сказать «экземплярах», но язык выбрал другое русское слово. — К чинам армии и флота. Кто из них 10 лет беспорочно прослужит, тот получит особый знак, освобождающий от наказаний телесных, и жалованье тому, на треть увеличенное. А если солдат али матрос беспорочно 15 лет прослужит, то есть полный срок службы вместо прежнего, то получит 15 десятин земли и 100 рублей на обзаведение хозяйством и лошадь, да на 30 лет освобождение от налогов. Государевым вольным хлебопашцем. А если в мещане перейдет, то 50 рублей сразу и пенсион ежегодный в 12 рублей до самой смерти. А увечным солдатам, кто 5 лет прослужил и более, всем такой же пенсион и выплату в 25 целковых, а кто выслуги не имеет, то на прокорм по казенным заведениям устраивать, на работу необременительную, сторожем там, слугой иль кем еще, а грамотных из них и писцами. Да еще им 6 рублей пенсиона в год дополнительно назначить и до самой кончины служивых выплачивать неукоснительно. Но кто из солдат или матросов порочно служил, то пенсий и льгот никаких не давать, а земли лишь 10 десятин, и службы срок пусть в 20 лет для таковых будет. А дворяне, кто офицерского чина еще не достиг, пусть служат десять лет вместо прежнего срока, им положенного, а для знака сего лишь семь лет им будет, — Петр остановился, неторопливо раскурил трубку, с удовольствием пыхнул дымком, глядя на то, как Волков быстро записывает за ним какой-то малопонятной скорописью. Дождался, пока секретарь закончит, и продолжил говорить:
— А медальон знака отличия сего, со святым князем Александром Невским, небесным покровителем русского воинства, сам придумай, нынче же. И ювелиру доброму отдай, и пусть он не мешкая, дня за два, из серебра отчеканит штук несколько, на лентах малых нагрудных, алого цвета, и эмалью красной крестик сей наградной покроет.
Сказанное Петром привело и фельдмаршала, и секретаря в замешательство, но старик вскоре просиял лицом и возбужденно потер морщинистые, все в мозолях от труда физического (не гнушался Миних и дрова топориком поколоть, так, для удовольствия, это Петр хорошо помнил из воспоминаний современников), явно не аристократичные руки. Видать, сразу понял, что после оного указа солдаты и матросы любого на штыки поднимут — ведь сейчас служат вроде четвертак, почитай, почти пожизненно, а там иди на все четыре стороны, подыхай в ближайшей сточной канаве или при монастыре ошивайся, подаяние проси.
— Сей высочайший указ во всех полках прочитать немедля всем солдатам, как только нарочные доставят, — добавил Петр и выразительно посмотрел на Миниха. — А тебе, фельдмаршал, надо к отплытию готовиться, только сего манифеста дождись. А там и огласят пусть его торжественно и на улицах, и на всех кораблях. И еще, Дмитрий Васильевич, — секретарь удивленно уставился на императора, в ошалелом удивлении раскрыв глаза, — нажрешься в течение недели хоть раз, хоть стопку малую, извини, но я тебя на воротах крепости немедленно повешу! Всем пьяницам на устрашение!
Секретарь побледнел, спал с лица и мигом выскочил. Но дверь тут же снова открылась. Нарцисс занес на подносе фарфоровые чашки и кувшинчик, исходящий паром, расставил все на полке между креслами и негромко сказал:
— Ваше императорское величество, утренний кофе. Завтрак через час подать, как всегда?
Петр указал фельдмаршалу на правое кресло и, отодвинув услужливого арапа в сторону, сам разлил горячий духовитый напиток. И успел поймать краем глаза благодарный и восторженный блеск в стариковских глазах.
Они не спешили, неторопливо выпили по чашке хорошо сваренного кофе, куда там любимому индийскому растворимому напитку в его время. И тут Миних поднялся:
— Ваше императорское величество, позвольте мне покинуть вас. Необходимо отдать нужные приказы адъютантам на случай немедленного отплытия в Кронштадт. Я могу отдавать распоряжения прямо от вашего имени, государь?
Государь император (А вы как теперь хотели?) благосклонно кивнул, и старый фельдмаршал тут же молодцевато вышел. А Петр медленно прошелся по кабинету, закурил очередную трубку и с головой ушел в тягостные размышления о дне сегодняшнем…
Однако поразмышлять не удалось — дверь без предупредительного стука отворилась, и дежурный офицер громко доложил о прибытии к императору оружейных мастеров…
Петербург
— Присягайте же всем миром самодержице Всероссийской, нашей доброй матушке, государыне императрице Екатерине Алексеевне! — торжественные возгласы гремели в воздухе перед Казанским собором.
В глазах рябило от разноцветности и золотого блеска сановных мундиров, разноцветных одеяний придворных дам и парадного облачения духовенства. Вся площадь окружена неровными шпалерами гвардейских полков, за которыми колыхалось безбрежное людское море. Над головами собравшихся на широкой соборной площади стоял густейший аромат водочного перегара, напрочь перебивающий все остальные запахи.
А выпито было изрядно — не только все кабаки в столице дочиста разгромили, добрались также до винных погребов соотечественников и иностранных подданных.
Толпы солдат, мастеровых, женщин, кабацкой теребени и всякой швали, а как же без нее, родимой, да еще в таких больших городах, растаскивали ведрами и ушатами водку и пиво, стоялые меды и благословенные французские вина — шампанские, бургонские и прочее благолепие.
А что не могли растащить, то либо выливали в пьяном угаре на загаженные мостовые, либо взахлеб вливали прямо в глотки на месте. Крушили железками дубовые бочонки и бочки, ломали ушаты, вдребезги разбивали о камни и стены тяжелые винные бутылки…
Большая радость нежданно обрушилась на горожан, но особенно ликовала чернь. И как же не присягнуть «доброй матушке-императрице» за такой дармовой праздник жизни.
А секретарь датского посольства Шумахер, глядя на бесновавшихся в пьяном угаре русских, торопливо записал в дневник: «Они взяли штурмом не только все кабаки, но также и винные погреба иностранцев, да и своих; а те бутылки, что не смогли опустошить — разбили, забрали себе все, что понравилось, и только подошедшие сильные патрули с трудом смогли их разогнать». Написал старательно, а сам передернулся, вспоминая все творимые мерзости пьяных обывателей…
Вот и целовали с охотой кресты умильно улыбающихся и благословляющих их священников. Все приложились — и сенаторы в красных с золотом мундирах; и мастеровые в грязных кафтанах; и гвардейцы в зеленой форме; и бабы в нарядных платьях и сарафанах; и заблеванная вонючая чернь; и фрейлины в вычурных платьях с россыпями драгоценных камней; и степенные купцы в обновах; и чиновничество в скромной форменной одежде; и крестьяне в заштопанных кафтанах.
Наскоро принимали присягу императрице, заодно отрекаясь от императора, и тут же расходились по своим делам. Большинство шло продолжать начатую гульбу, весело и буйно, благо запасов спиртного в столице было еще изрядно, или тупо взирать на произошедшее. А меньшинство в мундирах с золотыми позументами продолжило заниматься более увлекательным делом — делить между собой власть…
И гремели колокола малиновым звоном во всех петербургских церквях, громом гремели пушки Петропавловской крепости, отмечая восшествие на престол императрицы Екатерины…
Ораниенбаум
Оружейников было пятеро — двое немцев и трое русских. За исключением молодого, явного подмастерья, остальные были зрелыми мужиками лет тридцати-сорока, небедные, сытые, хорошо одетые, явно своей жизнью довольные. Вот только глядели на него как-то боязливо, при царе наедине, видать, в первый раз были.
Петр, не говоря лишних слов, взял у мастеров довольно тяжелую фузею и несколько пуль, круглых свинцовых шариков. Дуло у тульского самопала было на полсантиметра больше, чем у крупнокалиберного пулемета, палец свободно входит.
— На сколько шагов эта фузея палит, любезные?
— На триста, ваше величество, — старый мастер был удивлен и осторожно подбирал слова, — но в цель не попадешь, даже в лошадь, а пуля бьет слабо, на излете она. А стреляют со ста шагов, тогда попасть можно.
Замерли мастеровые, посмотрели на императора с нескрываемым страхом — мол, чего это ты, простых вещей не знаешь. Иль нас проверять задумал? Мол, сейчас узнаете, как блох подковывать…
— А можно с нее на четыреста шагов стрелять да в цель попадать?
— Нет, государь! — все дружно ответили, но потом заговорил старый. Немчин тщательно выговаривал русские слова:
— Большой заряд пороха фузею при выстреле разорвет. А без такого заряда пуля далеко не полетит.
— Можно, еще как можно, мастера. Тут все дело в пуле. Возьмите камень да метните. Далеко, может быть, он и улетит, но вряд ли точно. А вот дротик метнуть можно и дальше, и, главное, точно. Отчего пуля в цель не попадает? Да она в полете болтается. Вы с нарезных фузей стреляли?
— Да, государь! — опять ответил старый немец. — Нарезы пуле вращение придают, она в полете хорошо держится, и потому втрое дальше летит и точнее. Но заряжать втрое дольше приходится, по нарезам пулю толкать, да фузея такая намного дороже обходится.
— Смотрите. — Петр подошел к столу и взял короткую печать, перевернул ее и крутанул. Та пошла, как юла, да в одной точке секунд семь крутилась. — А теперь ты пулю крутани, мастер.
Пуля закрутилась, запущенная сильными пальцами, да свалилась со стола. Вот тут мастеров несколько проняло, и они уже с профессиональным интересом посмотрели на Петра.
— Вот то-то. Пуля должна быть не круглой, а вытянутой, как наперсток. Но чтобы она далеко и точно летела, нужно закрутить ее так, будто она через нарезной ствол прошла. Каким образом это сделать?
Вот тут их и проняло, трое сразу показали, что они природные русские — стали скрести пальцами свои затылки. Лбы у всех наморщены, думу тяжкую думают, что-то решают. «Как чукчи перед верблюдом стоят», — Петр не стал их мучить дальше, а сам ответил:
— Порохом раскрутить надо! А для того форма у пули иная должна быть. Наперсток по длине, но нижняя часть, как и верхняя, на скос идет. А на ней восемь лопастей, как у мельницы, только вкось стоят, — и он быстро набросал пером рисунок на листе бумаги. — И в середке у пули углубление, чтоб легче пороховыми газами раскручивалась. А форму для отливки из двух пластин делать и друг на друга их накладывать, когда свинец заливать будете. Понятно, олухи царя небесного? Это же просто!
На мастеров было жалко смотреть, совсем не обидевшись на олухов, они с благоговением взирали на чертеж. И Петр решил их иначе подстегнуть:
— Через три часа пули сделать, тут же их испытать. Если полетят далеко и точно, получите классные чины. Понятно всем вам?! И еще одно — если пуля удачной получится, то формы для отливки немедля делать, денно и нощно пули отливать. Работники нужны будут, берите сколь для дела потребно, хоть всех дворцовых мастеровых. Но помните, у вас всего три часа.
Петр царственным жестом показал оружейникам на циферблат часов. Мастера молча поклонились императору, забрали фузею, подмастерье бережно прижал к груди рисунок, и они быстро вышли из кабинета.
А Петр заухмылялся: «Они меня тут гением считать будут, а я лишь плагиатор, батя на охоте из ружья такими пулями стрелял. Все равно смешно — четыре века кругляшами палили, а до такой формы додумались, когда к нарезным штуцерам в Крымской войне перешли. Да поздно было, против них гладкоствол, даже с такими пулями, никак не тянет. А не думали над этим по простой причине — изготовить форму для отливки такой сложной пули очень трудно. А так как до унификации ружей не додумались, то нет и единого калибра, солдаты отливают пули самостоятельно под то ружье, которое имеют. А круглую пулю отлить легко, это можно сделать за пару минут, была бы форма. Я исправлю эту ошибку — если ружья унифицирую, то и новые пули можно централизованно отливать в специальной мастерской, хоть на заводе, хоть при каждом полку».
Почти сразу же вернулся в кабинет фельдмаршал Миних — его пропустили беспрепятственно. Не прошло и пяти минут, как на пороге вырос голштинец и громко доложил:
— Ваше величество, канцлер и кабинет-секретарь принять просят.
— Милейший, (офицер побелел) канцлер лицо гражданское, фамилии известной и заслуженной, имя-отчество имеет. Так что всегда полный доклад делай, уважай мужей государственных, и другим моим адъютантам передай! — рявкнул Петр. — Чтоб в дальнейшем так и исполняли. Выйди теперь за дверь и доложи правильно.
Офицер затвердел лицом, повернулся и затворил за собой дверь. И тут же зашел снова:
— Ваше величество! Канцлер граф Михаил Илларионович Воронцов и кабинет-секретарь Дмитрий Васильевич Волков принять просят.
Петр внутри заулыбался — уловка опять сработала, и теперь он со всеми знаком будет, ведь без предварительного доклада никого не пустят, кроме Миниха, Лизы и арапа, о которых он еще утром особо распорядился. Но внутренне он собрался — беседа с высшим должностным лицом империи была очередной проверкой на вшивость…
Петербург
— Почему до сих пор вы не удосужились приказать печатать манифест о восшествии на Всероссийский престол наш государыни-императрицы Екатерины Алексеевны?
Граф Кирилл Разумовский впился своим пронзительным взором в адъюнкта Академии наук Тауберта, в ведении которого и находились все типографии Петербурга. Суровый взгляд у графа и украинского гетмана, фельдмаршала и полковника лейб-гвардии Измайловского полка, не всякий военный его выдержит, глаз не отведет.
Но немец все же смог устоять, только сильно побледнел при этом. Но не отвага им двигала, а страх ошибиться в сделанном только один раз выборе. Ведь если император Петр Федорович удержится у власти, что будет с ним, с его большой семьей, с той легкой, но хорошо оплачиваемой службой. Чтоб провалились на месте все эти мятежники, столь жестоко ломающие привычный устоявшийся образ жизни…
— Ваше сиятельство, пока еще нет письменного отречения императора, подписанного государем Петром Федоровичем собственноручно, повсеместно и прилюдно объявленного всему народу нашему, то и печатать сей манифест я не могу. Покорно прошу простить…
— А присяга, данная государыне нашей гвардией, Сенатом и народом в полдень дня нынешнего, вас, адъюнкт, совсем не убеждает? Вы на площади были, надеюсь, и сами все видели?
— Я там не был, ваше сиятельство, ибо болен. Ваши солдаты меня из постели извлекли и сюда доставили. Но ведь, насколько я слышал, манифеста императора Петра Федоровича об отречении от престола на площади не оглашали, а, следовательно, до оглашения оного печатать новый манифест о восшествии на престол Всероссийский самодержицы и императрицы Екатерины Алексеевны я не в состоянии…
Граф Разумовский криво улыбнулся — сомнения адъюнкта были хорошо понятны хитрому хохлу. Ну что ж, есть один способ переубедить заупрямившегося немца, очень наглядный и доходчивый до самых печенок.
И он громко свистнул — в роскошно обустроенную комнату, на графский свист отзываясь, тут же прибежала его любимица, великолепная русская борзая. Собака преданно посмотрела на своего хозяина.
Разумовский снял с персидского ковра, который укрывал стену его гостиной комнаты, кривую запорожскую казачью саблю и стремительно взмахнул ею.
Острейший клинок отсек борзой голову за какие-то доли секунды, и алая собачья кровь окатила с ног до головы онемевшего от ужаса адъюнкта, не успевшего даже отшатнуться от места мгновенной и беспощадной кровавой расправы над безвинной собакой.
Граф поднял голову своей борзой, любяще посмотрел на оскаленную пасть собаки и положил на пол. Потом повернулся к белому как мел Тауберту, все еще держа саблю в руке, и с холодной жестокостью бросил слова прямо в лицо насмерть перепуганному немцу:
— Следующей будет ваша голова…
Ораниенбаум
Зашли двое. Волкова он уже видел, а вот второй был намного авантажнее, пожилой, с породистым холеным лицом, в красном сенаторском мундире, расшитом золотыми позументами, с голубой Андреевской лентой через правое плечо. На груди блестели две нашитые большие серебряные звезды, а на шее висел крест святого Александра Невского — его Петр и в музее, и на иллюстрациях много раз видел, признал мгновенно. Сразу видно — заслуженный человек, да и заговорил канцлер напористо:
— Ваше величество, манифест сей дело нужное и важное, но мне представляется несвоевременным. Ибо финансово затруднителен для сих больших выплат, а денег в казне нет…
— Михаил Илларионович, с чего ты взял, что манифест сей разорителен? Наоборот, он немалую выгоду несет государству Российскому. Давай с тобой подсчитаем вместе. После 15 лет службы солдат ей уже не соответствует, ибо большинство их немощными становятся и для полевых походов и сражений негодными. А его еще 10 лет надо кормить, одевать и содержать. Да жалованье немалое платить, да лекарю аптеку свою расходовать. А солдаты баб себе находят да детишек от них приживают. И что они — о службе думают, или же о чадах своих, о жениной ласке?!
— Ваше величество все верно и правильно говорит, — неожиданно поддержал его фельдмаршал Миних, — в Петербурге в казармах гвардия давно с бабами и дитями живет!
— Вот видишь, канцлер! А так мы солдат на землю посадим, и они нам налоги платить будут, ту же армию содержать. А нужда великая настанет, так мы их снова под ружье поставим и в бой супротив неприятеля пошлем, ведь их не надо долго учить, как рекрутов несмышленых. Да, кстати, о рекрутах, — Петр неожиданно вспомнил, что чуть ли не каждый второй рекрут до войск просто не доходил, их еще раньше разворовывало начальство и делало вновь крепостными. — Необходимо ревизию полную учинить, сколько рекрутов начальственными людьми в крепостные вписаны и от государевой службы оторваны. Чем немалый ущерб государству нашему нанесен. Мыслится, немало таких пройдох. Ущерб с них взыскивать полностью, а в будущем, если подобное случится, то чина немедленно лишать, а имение и крепостных на государство отписывать. Вот этим делом ты, Михайло Илларионович, и займись сам неотложно, тщательную ревизию сенаторскую учини. Хотя нет, можно заняться сим делом и попозже…
Лицо канцлера вытянулось, в глазах плеснулся страх, видно, сам в подобных аферах участвовал, да не один раз. Уж очень графу не хотелось этим делом заниматься. А Петр надавил дальше:
— А я со своей стороны в помощь людей верных определю, они поспособствуют и об упущениях доложат. Ибо зачастую не видят сенаторы нужд государственных, а иные из них токмо о своей пользе хлопочут. Но ты, Михаил Илларионович, канцлер великих государственных способностей, человек чести и верности!
Похвала выдернула канцлера из неприятного состояния нарастающего ужаса, он чуть успокоился, видно, отлегло от сердца — сажать других все же приятней, чем самому на отсидку в камеру отправляться. И канцлер заговорил уже другим тоном:
— Ваше величество, думаю, что поспешно судил я о продуманном решении вашем. Манифест о службе зело полезен в устроении армии, вот только где сразу столько денег на выплаты взять? Ведь тысяч тридцать солдат и матросов сроки выслужили. А это около полумиллиона рублей прямой траты на пособия и пенсионы…
— А сейчас мы уплачивать и не будем. Волков, занеси в манифест, что увольнение от службы лишь в первых числах марта месяца проводить, пусть прошения к этому времени подают. А деньги достать можно. Одна секуляризация более миллиона рублей в год принести может. И еще ведь есть разные способы, — он мысленно продолжил: «четыреста способов сравнительно честного отъема денег» и чуть улыбнулся собравшимся в кабинете, — которые помогут казну полностью наполнить, но об этом мы позже говорить будем. А пока в манифесте нужда огромная, его надо срочно по полкам огласить, а он еще не написан. Время уже не терпит, вы скоро многое поймете, а что не ясно вам будет, то спрашивайте у фельдмаршала. Христофор Антонович, ты им расскажи потом все, о чем мы с тобой говорили. А пока, канцлер, манифестом срочно займитесь, сами, и через полчаса он должен быть у меня на столе…
Договорить Петр не успел — в раскрытое окно донесся цокот копыт несущихся во весь опор лошадей, а потом громкий и отчаянный крик «Где государь?! Измена!»
Сержант криво улыбнулся и посмотрел на Миниха, а тот понимающе пожал плечами, как бы говоря: «Ну и что, от своей судьбы не уйдешь».
И Воронцов, и Волков этот немой диалог сразу заметили, придворные и сановники все замечают, иначе бы они ими просто не были, и их лица побледнели и вытянулись.
В зале зашумели, раздались громкие шаги. Створки дверей раскрылись одновременно, в комнату вошли два давешних голштинских офицера, лица суровые, руки на эфесах шпаг, и «Геббельс» по-русски, но с отчетливым немецким акцентом, громко произнес:
— Генерал-майор Михаил Петрович Измайлов, из Петербурга!
За ними в комнату вошел моложавый, лет сорока двух, генерал. Лицо серое от пыли, зеленый с золотыми позументами мундир запылился до неприличия, ботфорты чеканили на ковре грязные следы. Взгляд усталый, но горящий нездоровым блеском, щека дергается.
— Государь…
— Знаю, все знаю, мой преданный генерал! — остановил Петр генерала. — Этой ночью мою супругу ее любовник Гришка Орлов увез из Петергофа в карете. Его братья, еще братья Панины, князь Волконский и другие заговорщики подняли на мятеж измайловцев, полковник коих Кирилл Разумовский тоже активный заговорщик. Затем на мятеж подняли семеновцев, а следом и преображенцев, и всю конную гвардию. Ты, генерал, сумел вырваться из казарм полка с тремя кирасирами и быстро примчался сюда, чтобы предупредить своего императора. Стоптали насмерть четверых караульных, что пытались вас задержать…
— Троих, — машинально поправил Петра Измайлов.
Он краешком глаза смотрел за реакцией генерала и видел, что тот не удивляется, это не то слово, а просто обалдевает, если не похлеще сказать, прямо на глазах во время этого короткого монолога.
Не менее выразительными были лица канцлера и Волкова — будто их бадьей крутого кипятка ошпарили, а потом этой же бадьей по темечку хорошенько стукнули. Лишь фельдмаршал Миних соблюдал полное олимпийское спокойствие — он-то все знал заранее!
— Ваше императорское величество! — возопил во весь голос потрясенный до глубины души генерал и забыл про субординацию. — Нас никто не мог опередить по дороге, мы загнали двух коней, мы не останавливались ни одного мгновения…
— О мятеже я знал еще ночью, фельдмаршал вам как-нибудь расскажет, а у меня нет настроения снова вспоминать. Катьку на царство! Да эта стерва мне детей ухитрилась рожать от разных любовников. Вот в апреле от Гришки Орлова сына родила. Так что, этого ублюдка мне тоже в наследники записывать?! Ничего, мне сегодня ночью на многое глаза открыли. А в Шлиссельбурге казематов и башен много, там не на одного Ивана Антоновича, еще на десяток других самозванцев, в которых нет ни капли крови Петра Великого, мест хватит, и я займусь этим скоро. И пусть пощады не ждут! Понятно?! — остановив гневную тираду, Петр махнул рукой: — Да ладно, то дела семейные. А пока займитесь делом, господа! — Петр повелительно посмотрел на Воронцова и Волкова. Те сразу поклонились и вышли из кабинета.
— Ваше величество! — с какой-то обидчивой интонацией вновь спросил его генерал, но Петр остановил вопрос:
— Мой друг, выпей лучше напитка, вон на подставке кувшин с бокалом стоит, промочи горло. А потом раскури мне трубку.
Генерал несколько опешил, но полностью покорился. Выпил сока, раздул фитиль, раскурил трубку, вытер холстинкой, взятой с полки, мундштук и с небольшим поклоном вручил Петру. Тот пыхнул дымком и медленно прошелся по кабинету, выгадывая секунды для построения приемлемого для них ответа. И неожиданно на память пришел один кадр из старого советского кинофильма — Сталин ходит по кабинету и курит трубку, а перед ним навытяжку стоят маршал Тимошенко и генерал Жуков. А ведь еще одно совпадение, они ему тоже о войне докладывали!
— Я знаю о мятеже с ночи! Меня заранее предупредил тот, кого я никогда не видел, но которого вы, фельдмаршал, хорошо знали, а вы о нем, генерал, много слышали. Царствие ему небесное!
Все трое перекрестились, но недоумение продержалось на лице Измайлова считаные секунды — он внезапно что-то сообразил, и его лицо стало белее бумаги. В этот момент вошел дежурный офицер и доложил:
— Фельдмаршал и командующий конной лейб-гвардией принц Георг Людвиг, его светлость герцог Гольштейн-Бекский.
«Ага, так это дядя. Посмотрим на родственничка. — Петр кивнул, и офицер тут же вышел. — Да уж. Жорик совсем не впечатляет, лет сорок восемь, истинный ариец, характер нордический, по морде видно. Голубая лента через плечо, расшитый золотом голштинский мундир с гусарскими жгутами поперек груди, и даже не вспомню, как все это великолепие сейчас называется. Но видом строг, и вроде без выхлопа…»
И Петр решил сразу его огорошить:
— Объявите алярм голштинцам!
— Ваше императорское величество, вашей голштинской гвардией командует генерал-лейтенант барон фон Ливен, — принц говорил на таком отвратительном русском, что Рык почти ничего не понял. Жорик продублировал ответ на немецком.
— Мне наплевать, кто сейчас моими войсками командует, — приказ я отдал тебе! И ты должен сразу его выполнять, а не отговорки мне разные чинить. Развели пруссачину — экзерции, субординация и плац-парады. Войска к войне постоянно готовить надо, марши долгие с ними делать, стрелять хорошо, в штыки идти…
— Ваше величество, как учит король Фридрих…
— Да в задницу вашего Фридриха! Русские прусских всегда бивали, как и шведов. Куненсдорф, Гросс-Егерсдорф, Лесная, Полтава — примеров много. А у битого учиться, сам битым станешь. Букли не пушки, коса не тесак, а я вам всем не пруссак, а чистокровный каз… то бишь русак! — Рык перефразировал известную фразу Суворова и был уверен, что ее еще не говорили.
Сказал и поразился реакции на сказанное — оба фельдмаршала застыли, причем дядя пребывал в состоянии полной прострации. Так выглядят люди, когда их жизненные идеалы в одну секунду превращаются прямо на глазах в кучи зловонного дерьма.
Миних был много крепче, или же сам пруссаков не жаловал. Но кривая улыбка старого фельдмаршала о многом говорила. Измайлов же растерянно хлопал глазами, потом его губы тоже искривились, но в самой блаженной улыбке. Гневным жестом Петр выпроводил за дверь малость пришибленного голштинского дядю, ставшего за пару секунд немым, и обернулся к генералу Измайлову:
— Надо тебе мундир хорошо почистить и ботфорты тоже, а то грязь сплошная. Лицо требуется хорошенько умыть. Да чуть отдохнуть. Потом пообедаешь со мною и фельдмаршалом, через полчаса. Иди, генерал, сам здесь распорядись, не маленький чин у тебя. Но через тридцать минут ко мне пожаловать изволь!
Генерал коротко поклонился, четко повернулся и тут же вышел из кабинета. Петр же закурил очередную трубку — он никак не мог накуриться, табака хватало всего на три-четыре хороших затяжки. Не перекур, а какое-то утонченное издевательство, чтоб накуриться хорошо, надо не менее полудюжины этих трубок выкурить. Иначе думать плохо…
Петербург
Пастор лютеранской церкви Святого Петра Бюшинг молча, но с нескрываемым опасением смотрел на явившегося к нему со служебным посещением вице-президента Юстиц-коллегии фон Эмме. Визит такого высокопоставленного чиновника и в обычное время не сулил ничего хорошего, а сейчас вызывал только ужас и опасение за свою жизнь.
Пастор своими глазами видел, что творилось в Петербурге — насильственное лишение Петра Федоровича, искренне симпатизировавшего лютеранству, императорского престола не сулило ни его церкви, ни его многочисленным прихожанам ничего хорошего.
— Пастор! Я прибыл к вам по поручению Сената. Вы обязаны немедленно привести к присяге на верность императрице Екатерине Алексеевне всех своих прихожан и присягнуть лично. — Фон Эмме пристально посмотрел в глаза испуганного пастора. — Это категорическое требование Правительствующего Сената, — видя колебания Бюшинга, добавил вице-президент.
— Но как же нам присягать, господин фон Эмме? Ведь император Петр еще не отрекся от престола. И нет соответствующего высочайшего манифеста, собственноручно им подписанного и оглашенного всем верноподданным. Это несколько преждевременно…
— Дорогой пастор, — вкрадчиво, но с жестокой и презрительной улыбкой сказал вице-президент, — неужели вы так мало знаете нашего доброго императора? Неужели думаете, что с его стороны будет оказано какое-нибудь вооруженное сопротивление?
Увы! Пастор слишком хорошо знал нерешительность русского самодержца, давно ставшую притчей во языцех. Кайзер Петер был просто не в состоянии не только проливать чужую кровь, не говоря уже о его собственной, но и проделать действительно решительные поступки. Особенно в таком сложном времени, как нынешний переворот.
Более того, в глубине души пастор считал Петра трусом, так как стал свидетелем крайне неприятной для царя ситуации. Когда в Ораниенбауме дали залп несколько орудий, то император сильно побледнел, присел от страха, а потом быстро убежал во дворец и надолго скрылся, хотя до этого говорил всем собравшимся, что до безумия любит артиллерийскую стрельбу. Нет, император обречен…
— Я сегодня же приведу к присяге всех своих прихожан и вместе с ними самолично дам присягу нашей государыне императрице Екатерине Алексеевне, самодержице Всероссийской. Покорно же прошу вас, господин вице-президент, передать Правительственному Сенату, что мы все являемся верноподданными ее императорского величества и засвидетельствовать наши присяжные листы…
Фон Эмме улыбнулся, коротко поклонился пастору и вышел. Бюшинг подошел к окну, творя про себя молитву. Через чисто вымытое стекло было видно, как мимо дома нестройными рядами идет с присяги колонна гвардейской пехоты. Глядя на сверкающие штыки, пастор мысленно похвалил себя за правильный выбор…
Ораниенбаум
— Ваше величество! Вам надо отрешить принцев Георга и Петра, они вас подведут, — словно угадав его мысли, произнес Миних, вставший рядом, — их ненавидят русские. И не давайте назначений фельдмаршалам, полковникам гвардии Семеновского Лопухину и Преображенского князю Трубецкому, при вашей свите здесь в Ораниенбауме находящимся. Я думаю, оные полковники лживы и кривды вам многие чинят, а при случае удобном изменят и к мятежным своим полкам перейдут…
— Я понял, мой старый друг! И вот что — депеши отправляй мне нарочными ежедневно, сюда, но вот если под арестом сам окажешься… Мало ли что. Или вдруг письмо от твоего имени подметное отправят, то, чтоб уберечься от кривды, ты в свои письма вставляй поклон матушке Елизавете Романовне. И отправляйся немедля, я сейчас Волкова потороплю, чтобы указы тебе передал. И еще одно, — Петр взял колокольчик и хотел позвенеть им. Но не успел, дверь в кабинет открылась, и секретарь Волков зашел с целой кипой бумаг в руках.
И когда же он успел, полчаса только прошло, а все уже готово. Полезен в работе, сукин сын…
Разложив бумаги на столе, секретарь вопросительно посмотрел на Петра. Петр глянул — бумага гербовая, ниже типографским шрифтом отпечатан он, имярек, самодержец и прочая, а далее от руки.
«И красив же у него почерк, словно бисер стелется. Да и содержимое приказов к войскам… Поспешать… Тяжкий гнев государев… Кто противиться будет, живота лишать… Страшненькая бумага. И манифесты хороши, все четко и правильно написано. А здесь почерк другой, но сам текст идентичен. Видать, другого писца за написание посадил. А что — ничего менять не надо, знай только копируй».
— Хорошо написано, молодец. Но надо еще списков сорок манифестов. В разные города послать. Всех писцов посади!
Волков послушно кивнул, приготовил чернильницу, перо и вопросительно посмотрел на Петра. Тот похолодел. «Опаньки, приехали. Мне же надо подписать бумаги, это конец. Спокойно, закрой глаза и ни о чем не думай…»
Петр отрешился от всего, взял в руки перо, на самом деле закрыл глаза и выдавил из головы все мысли. Быстрый росчерк… Волков спокойно, без удивления, взял подписанный лист, присыпал песочком подпись, сдул его, легонько смахнул ладонью и тут же положил второй.
И Петр начал быстро подписывать. Ну и чудненько, рука подписывает сама, только бы не видеть и ни о чем не думать! И стал трудиться, как автомат, черкая раз за разом что-то на подаваемых листах.
Секретарь собрал подписанные императором бумаги и вышел из кабинета. Но вскоре дверь в который уже раз снова отворилась, и на пороге застыл незнакомый голштинский офицер, явно русский, при шляпе и шпаге, а значит, при исполнении:
— Ваше величество, к вам генерал-адъютант Гудович и генерал-майор Измайлов! Примете? Слушаюсь, государь!
Вошел Измайлов, уже в чистом мундире, лицо умытое, ботфорты начищены. И второй, лет сорока, в зеленом русском мундире с золотыми позументами, на правом плече золотые шнуры аксельбанта. Он и заговорил первым:
— Ваше величество! Я говорил сейчас с фельдмаршалами Лопухиным и князем Трубецким, они просят принять их, говорят, что приведут свои полки к беспрекословному повиновению.
«Ага, хрен они приведут, изменят, суки! Но вот дезинформацию отправить Катьке нужно! Глядишь, и выиграем пару часов, а они успокоятся и сами напролом уже не полезут».
— Зовите их… Андрей Васильевич! — память не подвела, и он вспомнил, что по Шишкову этот генерал был предан Петру до конца.
Вошли двое, в шикарных расшитых золотом мундирах, пожилые, барбосистые, чистопородные… Сучары. И как «тезка» этим рожам поверить мог? Бог шельму не зря метит! А тут зараз две шельмы.
— Милые вы мои, — залебезил перед ними Петр, приобнял за плечи, — я рад, что вы уговорите все полки прекратить волнения и вернете в казармы. Примирите меня с любезной супругой нашей, я во всем буду и ее слушаться, и вас, и Сенат. Вы мне даете в этом слово, что помирите нас и приведете мою любимую гвардию в умиротворение? Я сейчас же напишу любезной супруге Екатерине Алексеевне письмо.
Петр подошел к столу и быстро набросал, не думая, униженное письмо. Почерк также оказался императорский, благо образец перед носом лежал, и это принесло ему удовлетворение. Он со счастливым видом подмахнул никчемную бумажку, трясущимися руками свернул в трубочку и обвязал шнурком.
А краем глаза смотрел на стоящих в кабинете военных — лица Миниха и Измайлова побледнели и растерянно вытянулись, а те двое злорадно и с презрением переглянулись. Лишь Гудович взирал на все с олимпийским спокойствием. Рык трясущейся рукой вручил писульку князю и, по-собачьи глядя в глаза, лебезяще проговорил:
— Я буду ждать ответа здесь, в Ораниенбауме, мы помиримся! Я даже разоружу голштинцев, мои намерения чисты. Гудович, всем солдатам чарку водки за здравие любимой нами супруги, государыни Екатерины Алексеевны. Никаких гонцов к Румянцеву я отсылать не буду, фельдмаршал, это мое государево слово…
— Ваше величество! — в один голос, с нескрываемым ужасом, одновременно заорали Миних с Измайловым, а генерал Гудович уже закрыл за собой створки двери.
«Вот так и дальше смотрите, морды, с презрением, спесиво. А это очень хорошо, что клюнули. Теперь вы полностью уверены, что я, как баран, дам вам себя спокойно зарезать…»
— Молчать! Я хочу мира и спокойствия, и вы, мои дорогие, помогите мне в этом, вот вам письмо. И лучших лошадей до Петербурга. Вы даете мне слово? — он просяще заглянул фельдмаршалам в глаза. Миних с Измайловым застыли в масках неописуемого ужаса.
— Даем вам слово, государь… — надменно брякнули гвардейские полковники, как отмахнулись от чего-то вонючего. И, резко повернувшись к нему спиной, бодро пошли за дверь. Петр проводил их до дверей и крикнул дежурному офицеру:
— Лучших лошадей господам фельдмаршалам!
Повернулся, за ним кто-то закрыл двери. Он улыбнулся остолбеневшим Миниху и Измайлову.
— Я рад, господа, что вы поняли мою военную хитрость и помогли мне во всем. Пришлось их в обман ввести, и теперь эти изменники сделают нам великую помощь. — Лица Миниха и генерала снова вытянулись, потом заулыбались вояки. Дошло, видимо.
— Это моя «Троица», как у деда была, больше я не уступлю. Как только эти, — он с презрением кивнул на дверь, — уедут, вы отправитесь в Кронштадт, а вы, генерал, начнете готовить голштинцев к бою. Всех, здесь в крепости только роту оставим из слабых и больных, для охраны. Я сам поведу войска. А гонцов сразу отправите, как приказы готовы будут.
Тут в кабинет снова зашел Волков, принес несколько готовых манифестов. Петр бегло пробежал их глазами — это смерть мятежу, если, конечно, солдаты прочитают. Подписал, и секретарь тут же вышел со свитками.
— Ваше величество, вы задумали дать им бой?
— Да, мой преданный друг, мы обескровим гвардию, они дорого заплатят за мятеж. Да, кстати, ты, фельдмаршал, розыск возглавишь, канцелярию заново учредим для дел сих, нужных и тайных! Или человека преданного, умного и верного сам назначь, чтоб розыск немедленно вел. И еще одна беда, боюсь, моя Катька своими манифестами воровскими смущать другие города будет.
— Казаки, ваше величество.
— Какие казаки, фельдмаршал?!
— У Румянцева в армии несколько казачьих полков. Они Петербург обложат и гонцов перехватят. Нарочного в армию надо отправить немедля, государь, пусть казаки сюда зело спешат.
«Казаки… А ведь это и верно. Емельяна Пугачева именно они всей силой поддержали на Яике, да и сам батюшка Тихий Дон тоже заволновался. Понятно, что эту вольницу надо под руку подводить, но аккуратно. Свои, как-никак, в доску, — от этой мысли сладко защемило сердце воспоминаниями о дедовском хуторе, о ночном с конями, звездным небом и долгими дедовскими песнями и рассказами о славных прошлых казачьих подвигах и походах. — И полки делать регулярными, пусть пять лет служат, а потом по домам, и лишь на крымских татар и турок поднимать…»
— Государь, я хотел бы остаться с вами, чую, что великий дед ваш передал вам свою кипучую натуру и великую мощь! Вам предстоят славные свершения. И жалею, что стар и не смогу помочь в полную силу! — Но глаза старика сияли молодым блеском.
— Мы довершим то, с чего он начал свои великие свершения, и его внук возьмет Константинополь и водрузит крест над Святой Софией, — медленно сказал Петр и посмотрел на фельдмаршала. А тот сразу помолодел лет на двадцать от таких слов, года с себя мигом сбросил, и такое сияние по его лицу пошло, что сержанту стало чуть стыдно за невольный обман. — И ты, мой фельдмаршал, будешь готовить к этому армию!
— Я отдам жизнь за вас! — с чувством произнес старик, и, к удивлению Петра, встал перед ним на колени и поцеловал руку.
Петр ухватил старика под плечи, с трудом помог подняться и, уловив момент, поцеловал того в лоб. Хотел сказать старику что-нибудь прочувственное и ободряющее, но за окном раздался частый барабанный бой, потом хриплыми мартовскими котами взвыли трубы.
Петр подошел к открытому окну — по мощеному двору пестрыми перепуганными курами бегали его храбрые голштинцы. Уже его… Русский мат полностью перекрывал скудные немецкие ругательства, и, к немалому своему удивлению, он обнаружил, что добрая половина голштинцев была с чисто славянскими мордами.
— Алярм! Тревога!
«Ну и позднее у них включение, полчаса уже прошло. Надо спешно менять командиров, подведут под монастырь, сукины дети!»
Тут же открылась дверь, и в кабинет вошел его верный Нарцисс. Он склонился перед Петром и промолвил:
— Завтрак накрыт, ваше величество.
— Перекусим быстро, господа, по-походному, — Петр сделал жест рукой, — дабы время не тратить, ибо зело поспешать надобно.
Миних с Измайловым тут же покинули кабинет, повинуясь категоричному жесту Петра — мол, идите впереди меня. Повиновались молча, уже ничему не удивляясь, но по отношению к своим чинам соблюли субординацию — генерал вышел вторым, пропустив вперед старого заслуженного фельдмаршала.
Император же, как самый молодой из их компании, но самый значимый, как капитан на корабле, покинул кабинет третьим, последним, и мысленно похвалил себя за избитую уже хитрость, но вот топать оказалось недалеко, только через зал.
В соседней комнате, которую Петр ночью принял за камердинерскую, был накрыт стол на троих, отнюдь не скромный. Везде столовое серебро, стеклянные бокалы разных калибров, вычурные ложки, вилки и ножи. Да три ливрейных лакея выстроились, как лейб-гренадеры на плацу — морды кирпичом, глаза услужливые.
А вот пищу подали довольно простую, но обильную и сытную — на закуску заливную рыбу, в которой Петр признал не виданную им раньше стерлядь и впервые в жизни попробовал; жирную ветчину и буженину, копченую гусятину. Затем уже последовал чисто немецкий гороховый бульон с гренками, следом хорошо пошла паровая телятина с какой-то зеленью, потом яблочный штрудель, а в заключение на чисто прибранный стол подали кофе с сыром да набитые трубки.
Миниха и Измайлова, судя по всему, несколько напрягало полное отсутствие за столом водки, вина и пива, и они с каменными лицами пили соки — вишневый и клубничный, отхлебнули и шипучего кваса.
А вот Петру завтрак более чем понравился — о подавляющем большинстве блюд он только читал в книге «О вкусной и здоровой пище» сталинских времен да с проглатыванием обильной слюны рассматривал цветные рисунки. Какое уж там вкушать — денег просто не было, чтобы в дорогих ресторанах шиковать, подобные блюда заказывать…
Петербург
«Всем прямым сынам Отечества Российского явно оказалось, какая опасность всему Российскому государству начиналась самим делом. А именно, Закон наш православный Греческий перво всего восчувствовал свое потрясение и истребление своих преданий церковных, так, что церковь Наша Греческая крайне уже подвержена оставалась последней своей опасности переменою древнего в России православия и принятием иноверного закона. Второе, слава Российская, возведенная на высокую степень своим победоносным оружием, чрез многое свое кровопролитие заключением нового мира с самим ее злодеем отдана уже действительно в совершенное порабощение; а между тем внутренние порядки, составляющие целостность всего Нашего Отечества, совсем ниспровержены. Того ради убеждены будучи всех Наших верноподданных таковою опасностью, принуждены были, приняв Бога и Его правосудие себе в помощь, а особливо видев к тому желание всех Наших верноподданных явное и нелицемерное, вступили на престол Наш Всероссийский самодержавный, в чем и все Наши верноподданные присягу Нам торжественную учинили».
С нескрываемым недоумением выслушали манифест императрицы Екатерины Алексеевны мещане и горожане. Расходились обыватели с площадей и улиц столицы, где его прокричали глашатаи дворцовые, в полном расстройстве чувств и с помутненным рассудком. Пьяный угар начал потихоньку проходить, и в похмельные головы стали лезть самые крамольные мысли.
Так уж устроен русский человек, что, только протрезвев, думать потихоньку начинает, но лишь после того, как наворотит от всей широты русской души невесть чего…
— Кузьма, а ведь царь-то у нас добрый был. Он о народе пекся, да и жили мы с ним неплохо…
— Ой, и дурни, царица-то немка, а царь внуком Петра Лексеевича был, о нас заботился. Жаль, помер, сердечный. Царствие ему небесное!
— А я и ничего не понял, дядя Федя, а милости какие народу матушка-царица окажет…
— Хоть бы налоги какие скинула, хоть самую малость. А так ничегошеньки не понятно — церковь наша утеснена, новый мир вреден. С чего это вреден, штыком в брюхо получать рази приятственней? А скока батюшек вижу, никакого утеснения им никто не делает — и кушают хорошо, и рясы у них добрые, и иконы в золотых окладах с каменьями…
— Зело смутен и непонятен манифест сей, любезный. А коли так писано, то вины-то на императоре нашем нет, только одни наговоры. Дела темные, и не нам о них судить, а то головы мигом оттяпают…
— Жадные они, баре. Власть-то захватили, а народу-то ничего-то не дали. Кабаками с дармовой водкой откупились — пей, православные, тока ни о чем не думайте. Мыслю, обманули нас…
— Не, Матрена, не думает она о нас, бедных. Нет бы в манифесте о снижении податей ей бы сказать, или народу вознаграждение какое сделать, за нужды, нами терпимые. Жадна она, немка ведь…
Ораниенбаум
Вернулись в императорский кабинет как раз вовремя. Волков стахановскими темпами проштамповывал печати, присобаченные на витых веревочках к свернутым трубками свиткам.
Дубовый шкаф был открыт всеми створками, видно, там хранились государственные печати, и кабинет-секретарь их оттуда позаимствовал. Затем Волков взял всю кипу подписанных и опечатанных документов и унес в приемный зал.
Через раскрытую дверь Петр увидел там только семерых офицеров. Судя по отличающейся от голштинской военной форме, доверенных адъютантов Миниха, а также кирасирских офицеров Измайлова.
Получив свитки с приказами и манифестами, кирасиры и адъютанты фельдмаршала быстрым шагом сразу покинули приемную залу, трое его офицеров-голштинцев остались на страже у двери в кабинет, плотно ее прикрыв.
— Они без пушек пойдут, налегке, чтоб нас врасплох взять. Вряд ли сегодня, но завтра к полудню батальона три-четыре к Ораниенбауму подойдут, а кавалерия утром нагрянет. Пустим им для начала здесь кровушки. И крепкий гарнизон в осаду посадим. Дороги рогатками перегородить, окопы рыть, каждое строение и дом упорно оборонять, до последней крайности. Какие полки к Ораниенбауму поблизости находятся?
— В Красном селе воронежцы полковника Олсуфьева с тремя казачьими сотнями стоят, ныне вроде генерала Грауденца полк. Я не помню толком, как сейчас полки именуют, ваше величество…
Генерал Измайлов осекся, и Петр сообразил, что император переименовал все полки на немецкий манер, приказав называть по шефам, и то же самое проделывал в свое время и его «сын» император Павел, а от него ждут ответа. Но хрен его знает, как их теперь именуют?
— Это была ошибка, — резанул Петр, — полкам вернуть их прежние наименования, какие дед наш дал, и брать рекрутов в них с одноименного города и окрестных к нему волостей. Указ подготовить, скажите нашему кабинет-секретарю немедля. Но вы говорили о полках?
— В Петергофе более трехсот Дельвигских голштинских рекрутов с деревянными мушкетами учением заняты, да сотня донских казаков в Красном кабачке на постое. В Копорье несколько драгунских рот с пехотными гарнизоном стоят. Пехотные полки не ближе Ямбурга — там ингерманландцы и казаки, или на окраинах Петербурга расквартированы. Но в Петербурге, опасаюсь, гарнизон полностью в заговор вовлечен. На Невский кирасирский полк, где я шефом являюсь, можно надеяться. Кирасиры так и не присягнули мятежникам, и их в казармы силой загнали, или по квартирам попрятались…
«Хреново! Воронежцы на Петра откровенно начхали и в Петербург заявились, а Олсуфьев резко в генералы взлетел за свою измену. В столицу гонцов гнать бессмысленно — арестуют махом, командиры все в заговор затащены, хлебом не корми. Рекруты — несерьезно. А вот с донскими казаками кашу сварить можно, если еще жалованную грамоту от себя донцам написать, историю исправив, да щедро наградить».
— Нарочного сейчас же в Петергоф пошли. Пусть, не мешкая, казаки сюда скачут — конно, людно и оружно. Рекруты тоже пусть поспешают, думаю, через три часа подойдут. В Красное село сам поезжай — возьми флигель-адъютантов парочку, два десятка конвойных. От моего имени приказы отдавай. Олсуфьев в заговоре и мешать тебе будет, арестовать попытается. Поэтому вначале к донцам загляни, о моей жалованной грамоте Войску Донскому скажи, о милостях многих даденных. О них чуть позже скажу. И лишь потом к воронежцам с казаками иди и манифест сразу в ротах читай. Если заговорщики силой препятствовать решат, под арест их возьми. Полк под свое командование прими, пусть снимаются и сегодня вечером выступают на Гостилицы, я туда с голштинцами завтра подойду. Строго укажи, чтоб поспешали. — Петр потер пальцами виски. Вроде все сказал, что надо было, ничего не запамятовал. — Иди, генерал, бумаги у Волкова возьми! Я тебе полностью доверяю. Напиши в свой кирасирский полк — пусть при первой же возможности на нашу сторону переходят. Верного человека отправь, и пусть манифест кирасирам прочитает. Если душой покривят немного, то у них возможность появится из города вырваться и к нашим войскам уже завтра подойти. Скачи, генерал. Действуй решительно и смело!
Измайлов вытянулся, звучно щелкнул каблуками, аж шпоры звякнули, и быстро вышел. Из-за двери послышался его громкий голос: «Где кабинет-секретарь?!»
— Время пошло, — сказал Петр, когда двери закрылись, — начав мятеж, они неизбежно потерпят поражение. Это предрешено. У них всего три дня до конца, но действовать мы должны решительно. Ты, мой старый друг, приведешь флот под мою руку, первого в полдень наносите удар, освобождайте Петербург от мятежников. Мы завтра здесь примем бой с гвардией и отступим до Нарвы. Соберем полки и выступим тридцатого июня. Ты, фельдмаршал, как раз ударишь мятежникам в спину. Такова наша диспозиция. Плыви в Кронштадт, мой друг, и сикурс малый сюда отправь. Нужно галерами двор мой к ночи вывозить, иначе мне их отсюда на повозках не вывезти, дармоедов. Господь пошлет нам удачу! — Петр крепко обнял Миниха, чуть поцеловал старческую щеку и проводил фельдмаршала до дверей.
Отослав генералов, Петр долго кружил по комнате и мрачно думал. А мысли у него были совсем нехорошие.
Это перед заслуженными старыми генералами он хорохорился, веру в победу у них всячески поддерживая, а самому себе здесь лгать незачем, шансов наполовину, потому страшно. А жмякнет гвардия всей силой, и потечет с них соленая жижица, накормят дерьмом, полной ложкой. Их тысяч восемь, не меньше. Тысячи по две народа в полках, а в Преображенском и три наберется, да в конной гвардии тысяча, и еще пушки.
А если все армейские полки, что в Петербурге находятся, подымут под ружье, тогда что прикажете делать? Голштинской гвардии едва тысяча наберется, не включая рекрутов. И как прикажете двадцать тысяч удержать, если они поголовно в поход выступят. Лишь бы сегодня воевать не пришлось…
Петербург
— Какое ничтожество мой супруг, — с презрением сказала императрица Екатерина своей наперснице и тезке, княгине Екатерине Романовне Дашковой, молодой черноволосой красотке, родной сестре любовницы Петра Федоровича Елизаветы. На княгине был такой же гвардейский Преображенский мундир, как на ее венценосной подруге, лишь только Андреевской ленты через плечо не имелось.
Екатерина Дашкова была полной противоположностью своей родной старшей сестры. Худощавая и стройная фигура ее была намного привлекательней пухловатых телес Лизы, да и характером сестры отличались, как небо и земля.
Волевая, умная и решительная, она всегда пыталась доминировать над вялой и доброй Лизой, а когда та стала любовницей Петра, то в отместку юная Екатерина скоропалительно вышла замуж за князя Дашкова, который был одним из ярых противников императора.
В январе между князем и императором произошел открытый конфликт. Князь привел свою роту преображенцев на вахтпарад к дворцу. Однако император заметил, что рота построена вопреки принятым правилам, и сделал замечание. Однако князь посчитал, что честь его задета, вспылил и наговорил резкостей. Петр Федорович растерялся, посчитал себя в опасности, повернулся и отошел.
Ушло безвозвратно в прошлое то время, когда его дед Петр Алексеевич мог безнаказанно в запальчивости избивать тростью гвардейского капитана, помешавшего его распоряжениям в строю.
За сорок прошедших лет просвещение и культура сильно смягчили нравы; понятие чести и чувства собственного достоинства были восприняты новым поколением дворян. Потому-то родной внук царя-«уравнителя», палкой «учившего» своих подданных, не осмелился последовать его примеру.
Но теперь дворянство стало впадать в другую крайность — из-за превратно понятого благородства подчиненные были готовы вызвать на дуэль прямых начальников, не думая о последствиях.
Особенно это проявлялось в гвардии, которая обрела привычку к разгильдяйству во времена Елизаветы, когда можно было спать пьяным на посту либо вообще на пост не заступать — императрица лишь ласково журила за такие шалости.
Попытка Петра навести порядок и заставить бездельников служить вызвала такую вспышку недовольства, что выходка Дашкова на этом фоне выглядела невинной детской шалостью…
Однако к февралю князь кардинально изменил свое отношение к императору — тот подписал «Манифест о вольности дворянской», чем заслужил горячую признательность своих привилегированных верноподданных.
Князь, плача от радости и не стесняясь своих слез, с надрывом заявил императрице Екатерине Алексеевне: «Государь достоин, дабы ему воздвигнуть статую золотую; он всему дворянству дал вольность», — и добавил, что с тем и едет в Сенат, чтоб там всем объявить о предложении. Сенаторы восприняли идею с одобрением, а некоторые предложили воздвигнуть конную статую. Но Петр Федорович от затеи отказался, сказав, что золото только для нужных дел расходовать надобно…
Вот тогда муж перестал участвовать в заговоре, и между супругами пробежала черная кошка. Княгиня приложила массу усилий, чтоб выслать мужа из Петербурга, и своего упорная женщина добилась — в данный момент времени князь в столице отсутствовал. Его отправили с поручением на Босфор, в турецкий ныне Константинополь…
Сама княгиня Дашкова императора стала ненавидеть еще лютее, причем, как говорили злые языки, именно за то, что тот пренебрег красавицей, а выбрал ее сестру-дурнушку.
И в отместку отвергнувшему ее императору стала наперсницей и подругой его супруги, не менее яро Петра ненавидевшей. А Като, приблизившая к себе Дашкову, была полностью удовлетворена — связь со старой и новой русской аристократией эта умная немка налаживала сразу на многих направлениях.
Она прекрасно понимала, что молодая княгиня считает себя намного умнее ее и захочет в будущем манипулировать императрицей — и только загадочно улыбалась, глядя на потуги подруги, ведь делить с кем-нибудь власть Като не намеревалась.
А с Дашковой она собиралась поступить в точном соответствии со словами своего полностью опостылевшего, но отнюдь не глупого супруга и императора, которые она услышала, когда тот однажды говорил своенравной княгине: «Дочь моя, помните, что благоразумнее и безопаснее иметь дело с такими простаками, как мы, чем с великими умами, которые, выжав весь сок из лимона, выбрасывают его вон».
Но сейчас княгиня была ей нужна — на нее сходились многие нити их дерзкого предприятия, уже увенчавшегося столь блестящим успехом. Она стала, наконец, императрицей и самодержицей Всероссийской, ей присягнула гвардия, Сенат и весь Петербург.
Оставалось дело за малым — арестовать императора и заставить его подписать, с соблюдением необходимых формальностей, отречение от престола. А для того будет достаточно решительного марша войск гвардии на Ораниенбаум…
— У тебя есть сведения из шутовского Петерштадта, Като?
— Вчера вечером он соизволил очнуться от своего падения, не убился и не покалечился притом. И сразу со своей мадам Помпадур в опочивальне заперся, всех придворных выгнав и поездку на Петергоф отменив, видать, мне унижение сделать новое захотел. И всю ночь они с Лизкой ублюдка себе пытались зачать, пять раз старались…
— Сколько?! — в удивлении расширила свои прекрасные глаза Дашкова.
— Пять. Я этим тоже удивлена, ведь ни единого раза супруг на меня права свои не распространял. И на других тоже. А тут исцелился внезапно от мужской немощи! Но от такого усердия он в любовную горячку впал — себя тяжко поранил в голову и, как безумный, полностью нагой по залу своего малого дворца бегал. Еле-еле его голштинские адъютанты успокоили и в кровать уложили. С ним теперь постоянно лейб-медик сидит…
— Вольно уж ему, взбесясь, нагишом ночью по комнатам бегать и причиндалами своими трясти! — весело расхохоталась Дашкова и посмотрела на императрицу. И они не сдержались — веселый жизнерадостный смех подруг огласил всю комнату и отразился в зеркалах…
Ораниенбаум
Маятник часов безостановочно тикал в его голове — время сочилось, как вода через песок. Безвозвратно уходило, а количество дел все возрастало. И головная боль от этого становилась сильнее. Петр мрачно подумал, что царское ремесло очень вредно для здоровья — сплошные стрессы с головой накрывают, и никакого тебе удовольствия…
Он вызвал к себе Нарцисса и приказал тому немедленно принести Преображенский мундир и шейный крест ордена Александра Невского на алой ленте.
Петр решительно ломал устоявшийся имидж императора как ярого любителя пруссаков и сейчас начал усиленно русифицироваться. Такая политика уже принесла положительный результат — окружение заговорило на русском языке, хотя большинству немцев пришлось несладко, они страшно коверкали русские слова.
Молодцы фрицы, дисциплинированны — сказано говорить на русском, будут давиться, но говорить, даже восседая с трубкой на толчке. Кстати, было бы крайне полезным делом узнать, как до этого толчка добраться, а то прижмет, и буду кишкою по паркету стучать.
Но вопрос вскоре разрешился — Нарцисс уже ничему не удивлялся и четко ответил на все интересующие Петра вопросы. А заодно и переодел монарха в русский зеленый мундир, наложив на шею красный крест на алой ленте, и голубую ленту через плечо пустил.
Новый мундир Петру понравился — просторнее, нигде не жмет, да и мишуры всякой намного меньше. А прусский орден «Черного орла» упокоился навечно в коробочке со звездой вместе — Рык решил его больше не надевать…
Он решительно покинул кабинет, сопровождаемый двумя утренними знакомыми голштинцами, которые оказались не дежурными офицерами, а одними из дюжины его постоянных адъютантов. Быстро прошел через зал и стал спускаться с лестницы. Идти было легко, так как один офицер шел впереди, другой прикрывал сзади.
Снаружи дворец ему тоже понравился, небольшой и уютный на вид, архитектора Ринальди здание, как он вспомнил, немного напрягшись. Вполне соответствовал дворец императора и крепости — та была миниатюрна в размерах, примерно 200 метров по внешнему обводу пяти крохотных бастионов. Переплюнуть можно, особо не напрягаясь. Вот только бастионные валы сами и были стенами, да понизу еще частокол из бревен был пущен, да ров неглубокий вырыт.
Единственным каменным сооружением этого чуда земляной фортификации, лишь кое-где усиленного стенками из известняка, были ворота Петерштадта, напоминающие хрупкую и красочную церковную башенку, а не серьезную крепостную твердыню.
И здания внутри были деревянными, числом с полдюжины, лишь его дворец каменным. Домик коменданта, арсенал, казарма, конюшня и хозблок — кто-то все тщательно продумал и спроектировал, даже небольшой парк втиснул. Однако гореть вся эта красота будет быстро, и гарнизон при этом хорошо поджарится — спрятаться-то от огня пожаров негде…
Вывод был один — к реальной осаде крепость была совершенно не подготовлена. От пехоты с полевыми пушками отбиться еще можно, но осадные жерла за полдня сию потешную крепостицу с землей перемешают и полностью сожгут.
Ответные возможности почти на нуле — пять трехфунтовых пушек и в поле крайне несерьезная вещь, а на стенах бастионов практически бесполезны. Серьезных полупудовых единорогов только два — немощно и хило. А крепостных орудий вообще нет…
В доме коменданта Петр провел небольшое совещание со всеми наличными генералами, коих оказалось неожиданно много — командующий голштинцами генерал-лейтенант Ливен, его помощник генерал-майор Шильд, два его личных генерал-адъютанта Гудович и Мельгунов, причем последний оказался еще и директором шляхетского корпуса.
Петр быстро сообразил, что сей корпус не более чем военно-учебное заведение для подростков и юношей. А так как он еще и в Петербурге находится, то рассчитывать на его помощь бесполезно.
Явился и целый фельдмаршал, принц Георг, еще более бесполезный, и генерал-майор Девиер. Но последний оказался каким-то полицейским чином, и Петр мысленно тоже вывел его в расход. И это обилие генералов приходилось на каких-то полторы тысячи голштинцев.
После короткого диалога генералы, как и предполагал Петр, к единому мнению не пришли, и вся консилия выжидающе посмотрела на императора — «ты бугор, тебе виднее».
Пришлось отдавать приказы, исходя из армейской мудрости — пусть будет лучше хоть какое-то плохенькое руководство в бою, чем полное отсутствие такового.
В крепости оставляли генерала Шильда комендантом и принца Георга, который должен был представлять его особу. В их распоряжении был постоянный гарнизон — полторы сотни пожилых солдат, плюс артиллеристы с пятью пушками и двумя гаубицами, и с полсотни нестроевых.
Всего набралось почти три сотни человек, для полевого боя практически негодных, но в обороне они пользу принести могли, и значительную — на себя часть гвардии для осады цитадели оттянуть.
На «усиление» крепости Петр передал три с лишним сотни рекрутов, которые только что подошли из Петергофа. Для боя в поле новобранцы были бесполезны, но вот в крепости толк мог выйти из них, тем более что к двум рекрутам ставили опытного солдата — за 12 часов тот должен был их научить хотя бы колоть пикой или протазаном, махать тесаками и багинетами, а кое-кого и научить стрелять из мушкета.
Беда поджидала в другом — запасов фузей и мушкетов в крепостном цейхгаузе практически не было, и вооружать три спешно формируемых гарнизонных роты, на две трети состоящие из новобранцев и немощных, пришлось не столько фузеями, сколько разномастным холодным оружием — протазанами, пиками, алебардами, тесаками.
Еще более неприятным открытием для него стало почти полное отсутствие картечи для пушек и очень малый запас ядер и пороха. Пришлось ему сильно напрячь господ генералов на «пионерский сбор металлолома» — поиск латуни, меди и свинца по всему Ораниенбауму. Паллиатив, конечно, но на безрыбье и килька белорыбицей покажется.
Поразило Рыка другое — все его генералы, за исключением Гудовича, были совершенно безынициативны, жили по принципу «на службу не напрашивайся, от службы не отпрашивайся». А за такими вояками глаз да глаз нужен. И Петр мысленно решил хорошо почистить генеральский корпус, если, конечно, сам у власти останется.
Основная масса голштинского войска, четыре роты пехоты и рота гренадер, всего до тысячи человек с двумя пушками, должна была выйти после обеда маршем на Гостилицы. С колонной пехоты должны были уйти из Ораниенбаума три генерала (Гудовича Петр решил оставить при себе) и полсотни обозных повозок.
Место Петр выбрал на карте удачное — Гостилицы, к югу от Петергофа и Ораниенбаума за тридцать с лишним верст, на любом из направлений можно атаковать. И дороги на Копорье и Ямбург с Нарвой полностью перекрывает, и, что самое главное, Измайлов от Красного села сей пункт не минует, если, конечно, Воронежский полк к мятежникам не примкнет…
При себе он оставил и всю кавалерию, состоящую из рот драгун и гусар, наряженных в желтые канареечные ментики и дурацкие колпаки вместо красивых, знакомых по фильмам, киверов с султанами.
Службу своих двух сотен всадников, во главе которых был поставлен генерал Гудович, Петр организовал быстро — гусары были отправлены в Петергоф в качестве сторожевого охранения на случай внезапного подхода гвардии, а драгуны встали надежными караулами по всему Ораниенбауму…
Но один козырь в колоде был — на плацу были собраны полсотни отборных стрелков, по десятку от каждой пехотной роты. Петр сразу взялся за главное — объяснил, что они теперь станут егерями, сиречь охотниками, и стрелять станут во врага, пешего и конного, метко стрелять, самостоятельно, без команды «пли», прячась за кустами, деревьями, строениями и телегами.
Маскироваться сами станут, да так, чтоб сливаться с местностью в одно целое, и стрелять из засады. Но в рукопашную лезть только от безысходности, когда отступать нельзя.
Для начала он разбил егерей на две команды и приказал спороть с темных мундиров и шляп всю яркую мишуру — ленты, плюмаж, позументы, бантики и снять парики, зачернить весь светлый металл — пуговицы да пряжки.
Петр определил им занятия, особо проинструктировал офицеров и приказал дождаться мастеров с новыми дальнобойными пулями, и сразу же, не мешкая, их опробовать, пострелять по разным мишеням с двухсот и трехсот шагов. Офицеры были изумлены, но расспрашивать царя не решились…
Надо было сделать еще массу дел, но бессонная ночь и волнения сделали свое черное дело — Петр почувствовал себя настолько тяжко, что разрешил себе поспать пару-тройку часов, строжайшим образом запретив себя будить. Даже отказался от обильного обеда, что по давно заведенному распорядку начинался ровно в три часа дня и который никогда не пропускал раньше император.
Вызвав Лизу, он с ее помощью разоблачился, потом раздел девушку, завалился с ней на мягкую постель и прижался к горячему девичьему телу. Засыпая, он сквозь наступающую дремоту чувствовал, как Лиза осторожно и нежно ласкает его…
Петербург
Кабак у Измайловских казарм уцелел в ходе столичного пьяного погрома. Все дело объяснялось тем, что с самого начала переворота солдаты оного полка, как и трех других полков российской лейб-гвардии, поставили у «своих» кабаков сильные, надежные караулы, и теперь уже всячески снимали «сливки» сей своей благой предусмотрительности.
Сейчас в этом сохранившемся кабаке можно было не только испить вволю бесплатной водки и вина с пивом, но и хорошо закусить, и перемигнуться с «солдатками».
— Эй, хозяин, еще три штофа водки! — Группа в зеленых мундирах, занявшая самый большой стол, активно пользовалась своим привилегированным положением. Именно измайловцы составляли большинство посетителей этого питейного заведения.
Лишь в самом дальнем углу зала приютилась за столом дюжина матросов в помятых мундирах. И, вопреки обыкновению, пенители морей вели себя скромно — не распушивали усы, не приставали к посетителям, не изрыгали хульные слова. Не заказывали драку, короче.
Да оно и понятно — численный перевес гвардейцев был настолько велик, что матросня прекрасно понимала, что в случае чего им просто вдумчиво и методично пересчитают все зубы и ребра, причем не только руками, но и ногами в тяжелых армейских башмаках.
И исходили «вольные альбатросы» бессильной злобой, с лютой тоскою слушая, как кичатся своими утренними подвигами крепко подвыпившие измайловцы. Но в драку не лезли…
— Сюда еще четыре штофа водки и три четверти пива. Если аглицкое осталось еще, то тащи все, хозяин, побыстрее. И закуску неси, и мяса с хлебом еще!
Команды гвардейцев сотрясали воздух и расходились волнами по окутанному клубами табачного дыма помещению. Сытно, пьяно и весело отдыхала гвардия от трудов утренних, праведных.
В обнимку с солдатами сидели на дубовых лавках полтора десятка граций в грязноватых платьях и робах. Дамы громко хохотали от сальных солдатских острот, щеря смрадные перегаром рты, смачно чавкали и лихо пили наливаемое им в стаканы вино, а иной раз и водку.
Забавы ради солдаты усаживали потаскух к себе на колени, щипали им ягодицы, а иным спускали платье с плеч, обнажая грудь, которую потом взасос целовали.
Этот сплошной срам порою перетекал в блуд — проституток заволакивали в открытую настежь дверь отдельного кабинета и там использовали по назначению. И громкие похотливые стоны еще больше вызывали веселье, гам, крики и сальные шутки. Оргия, одним словом.
Ничего не поделаешь — бабы и водка испокон веков принадлежали одним только победителям, коими сегодня измайловцы и являлись…
Не выдержали матросы, женским вниманием обделенные, надоело им на такое непотребство смотреть, а в нем не участвовать. И даже халявная выпивка их уже не привлекала. И потянулись молча к выходу, только дверь хлопала. А последний матрос чуть задержался в открытом дверном проеме, повернулся к пьяным гвардейцам и громким голосом высказал им то, что у многих на сердце лежало:
— Вы, сволочи гвардейские, нашего природного императора за пиво и два рубля продали! — и вышел, дерзко хлопнув дверью…
Кронштадт
Старый фельдмаршал впервые за три часа уселся в кресло — такие насыщенные событиями дни он легко переносил в молодости, но сейчас тело уже просило отдыха. Да и не шутка, без одного года восемь десятков лет прожил на свете, и больше половины из них в России.
Служил многим императорам и императрицам — могучему гению Петра Первого, который один раз отходил его тростью; и его жене Екатерине Первой, грязной чухонской девке, которая благодаря невероятному стечению обстоятельств перебралась с соломенной подстилки в царственную постель, и малому отроку Петру Второму тоже служил честно, жаль только, умер он не ко времени.
При Анне Иоанновне, наконец, достиг всего, о чем мечтал — стал фельдмаршалом, дважды водил русскую армию в походы на Крым и Очаков, и небезуспешно. При годовалом Иване Антоновиче и регентше Анне Леопольдовне сам уже вершил политику — всего восемь десятков гренадер хватило фельдмаршалу для свержения ненавистного всем регента и курляндского герцога Бирона.
А вот Елизавете Петровне служить не довелось — та его самого на плаху кинула. Но не казнила, хотя князь Трубецкой сильно настаивал. Сей князь, в бытность походов на Крым, здорово обворовал походную казну.
Миних тогда пожалел рогоносца, с чьей женой у него случился роман, и не повесил. А зря — тот потом ему и наделал пакостей, когда его прокурором поставили, и фельдмаршала тут же в измене обвинили.
Трубецкой со следователями так сильно донимали Миниха, что тот не выдержал и бросил им в лицо — мол, пишите вы сами, что хотите. Ну а те и рады стараться со всей своей гнилой сущности, вот и понаписали от души — и Елизавету Петровну арестовать хотел вместе с Бироном, и с взятием Данцига протянул время за взятку, и крымскую добычу чуть ли не полностью себе присвоил…
На суде князь Никитка Трубецкой (как увидел его сегодня фельдмаршал, так руки и зачесались придушить мерзавца) постоянно зудел, как муха: «Признаешь ли себя виновным?»
И тут не выдержал Миних, громко сказал на весь зал: «Признаю! Виновен, что тебя, вора знатного, не повесил еще в Крымскую кампанию!»
Трубецкой сразу же заткнулся и фельдмаршала больше не донимал. А невольные свидетели этой сцены сдержаться не смогли и дружно прыснули, кто в платочки, а кто в чернильницы…
Императору Петру Федоровичу Иоганн Бурхард Христофор фон Миних был благодарен за помилование и возвращение из двадцатилетней ссылки. Вот только фельдмаршал саму ссылку в Сибирь прозябанием отнюдь не считал — и дрова сам рубил, и лед колол, и в кузнице работал, и детишек учил, и многое другое делал.
Проекты писал о том, как Россию лучше переустроить. Но их в Петербурге читать не удосужились, сразу под сукно откладывая. Так и трудился Миних постоянно, а морозы и труд еще больше закалили его могучее тело — он вернулся намного более здоровым, чем уходил…
За этот день старый вояка испытал самое большое потрясение в жизни — он не узнал императора. Конечно, это был он, но только телом, оболочкой телесною, а душа его теперь была совсем иная, крепкая и храбрая.
Действительно — во внука великий дед вселился, и Миних узнавал его черты все больше и больше. Некая недоговоренность осталась, и фельдмаршал резонно предполагал, что ночные события Петр Федорович осветил лишь чуть-чуть и про визит своего деда мало рассказал.
Петр Алексеевич тростью-то лупил, но чтоб вот рану такую нанести… Но то тайна императора, а ему не след в нее вникать, других забот, как говорят русские, полон рот…
А сейчас фельдмаршал отдыхал, своеобразно отдыхал. Он писал письмо своей молодой, чуть ли не вчетверо моложе, замужней любовнице. А таковых у него было сразу две. И обе восхищались его статью и постельной удалью, особенно когда сами от изнеможения любовного пластом лежали.
Любил старый фельдмаршал молодых замужних женщин — для них он всегда был только объектом страсти, а не предметом томных страданий для удачного брака.
Рука с пером сама выводила строки: «Нет на вашем божественном теле даже пятнышка, которое я не покрыл бы, любуясь вами, самыми горячими вожделенными поцелуями…»
— Ваше высокопревосходительство, — в дверь просунулся адъютант, — из Петербурга контр-адмирал Талызин прибыл на яхте, с гвардейскими офицерами. Согласно приказу вашему они сразу арестованы и крепким караулом окружены. Матросы возбуждены, к пристани многолюдно сходятся, бранятся матерно и бить их пытаются, караульных в сторону тесня. Боюсь, самочинно изменников казнят…
— Ты приказ мой получил?! Так выполняй же без проволочек! Талызина повесить на нок-рее флагмана немедленно, а его офицеров подвергнуть расстрелянию там же, на пристани. По артикулу военному! Дабы души нестойкие убедились, что измены природному императору учинять нельзя! Пусть сами матросы казнь злодеям вершат прилюдно. Иди!
Миних написал еще с десяток строчек, кряхтя, поднялся из удобного кресла и подошел к окну. Комендантский дом выходил фасадом к пристани, на которой бурлила возбужденная матросская толпа и слышались животные крики жестоко казнимых офицеров.
Фельдмаршал только криво улыбнулся, когда гвардейцев буквально разорвали руками и искромсали саблями. Он хорошо знал солдат и матросов и понимал, что его войску нужно немедленно насытиться кровью, после чего обратно ходу не будет.
А возбуждение от императорского манифеста, двух рублей, водки и обещания многих царских милостей должно смениться беспощадной яростью, с которой идут в бой и умирают. И все пойдут, и смерть свою за монарха стойко примут — но послезавтра, тридцатого дня июня…
Миних час назад написал своему императору пространное донесение, в котором обосновал все свои действия и принятые решения. Он уже многое сделал за эти три часа для Петра Федоровича, которого стал не только уважать, но и боготворить. И еще больше сделает.
А пока старый фельдмаршал спокойно посмотрел на раскачивающееся на нок-рее его флагманского линейного корабля «Астрахань» тело в адмиральском мундире, вернулся за стол и принялся дописывать письмо своей возлюбленной…
Ораниенбаум
Внутренний будильник его не подвел. Петр резко открыл глаза — так и есть, половина седьмого, на полчаса раньше встал. Он чувствовал себя полностью отдохнувшим — от девичьего тела шло приятное тепло, а Лиза продолжала его незамысловато ласкать.
Похотливый зверь снова выпустил когти, и Петр принялся остервенело целовать нежные руки, губы, груди девушки, закипая от страсти, как поставленный на раскаленную плиту чайник. Через минуту Лиза стала ему не менее яростно отвечать, и они сплелись в огненном клубке страсти…
Совершенно отдохнувший, взбодренный Лизой, он почувствовал себя еще лучше физически, будто секс с женщиной позволял ему заправляться от нее энергией, совершенно опустошая любовницу.
Он посмотрел на Лизу. Та лежала пластом в каком-то полусне-полудреме и была не в силах поднять даже руку. Петр бережно накрыл ее одеялом, поцеловал в щеку и тихо сказал: «Спи, малыш, у Карлсона дела, пропеллер уже крутится».
Петр принял упор лежа и стал отжиматься на кулаках. Но то, что он раньше делал спокойно несколько десятков раз, сейчас оказалось не в его силах. Новое тело было хотя худощавое и жилистое, но вот силенки в нем оказалось маловато, и кулачки слабые, не набитые, нежные.
Петр выругался и стал проделывать разминочный комплекс на морально-волевых. Со скрежетом во всем теле и с прокушенной губой это ему удалось лишь один раз вместо прежних пяти. Петр встал и принялся отрабатывать удары — дело пошло намного веселее, и Рык оживился.
Хорошо отработав, он чуть передохнул, выпил бокал сока и сделал в памяти зарубку — любой ценой тренироваться в день не менее пяти раз, выискивая время, и за месяц постараться набрать нужные физические кондиции. Вынеся самому себе это решение, бывший сержант «несокрушимой и легендарной» повеселел и занялся неотложными делами…
Петр был охвачен кипучей созидательной энергией и сразу же решил перейти еще на одно неизвестное сейчас новшество — трубка ему порядком надоела. Вызвав изрядно осунувшегося Волкова, он приказал принести различные образцы бумаги, от самой мягкой и тонкой до твердых образцов.
Тот уже ничему не удивлялся, и через пять минут Петр тщательно перебирал толстенную стопу из различных сортов бумаги. С помощью Нарцисса, еще одного лакея и двух круглых деревянных палочек недоучившийся студент живо скрутил полсотни настоящих папирос типа «Беломора», по качеству табака изрядно превосходящих советский образец.
Затем у него последовал довольно продолжительный диалог с гофмейстером Львом Александровичем Нарышкиным, пожилым сановником с печальными вороватыми глазами.
Помимо целого ряда муторных, но неотложных дел и массы подписей на бумагах, о содержимом которых Петр имел лишь смутное представление, в самом конце был разрешен вопрос и о немедленном производстве кустарным способом папирос для нужд «двора его императорского величества».
Проводив придворного сановника, сержант с головой окунулся в «Табель о рангах» Петра Первого, выбитый у Волкова для ознакомления. Такое скопище различных чинов, приводимых в документе, привело Петра в состояние уныния, и он решил максимально упростить «табель» — дать армейские, флотские и казачьи чины в едином перечне, коротко, а в примечаниях указать, каким должностям они соответствуют.
Так же быстро он набросал таблицу гражданских и придворных чинов, а потом вызвал Волкова, отдал ему кардинально исправленный табель с множеством вычеркиваний и добавлений и приказал назавтра подготовить полное примечание с перечнем рекомендуемых должностей.
Отвлекся Рык от дел лишь на обеде, который подали с четырехчасовым опозданием, причем по его вине — дрых, как сурок. Новые вкусы императора уже были строго учтены — никакой водки, вина или пива на столах не было.
Были предложены разнообразные, но простые закуски — буженина, ветчина, копчености, икра и многое другое. Затем последовало и горячее — фаршированный гусь, осетрина в соусе, запеченное мясо. А на десерт предложили различные кремы, пироги и фрукты.
Обед, по мнению Петра, был роскошный, но остальные за столом сидели без особого энтузиазма — канцлер, отец Лизы, оба брата Нарышкины, управляющие его двором, Волков, Лизавета, две фрейлины, девицы Нарышкины, Гудович с принцем Георгом, воспитатель Яков Штелин и статс-дама графиня Брюс.
Петру сразу не понравились ее блудливые и похотливые глаза. И он вспомнил, что в книгах ее называли «пробир-дамой» Екатерины, экзаменовавшей первой в постели ее потенциальных любовников.
Присутствующие ели вяло, больше ковыряясь в блюдах, — не рожи, а сплошное уныние. Правду говорят, что худые новости вредят пищеварению.
Но больше приставали с разными вопросами, которые крутились вокруг одной темы — что делать скопищу придворных, когда гвардейские батальоны подойдут к Ораниенбауму.
Когда Петр четко заявил, что гарнизон будет драться, собравшиеся бесповоротно потеряли интерес к обеду. Тут же привели десятки аргументов против боя, горячо убеждали не сопротивляться, «а расслабиться и получить удовольствие… пусть и с шарфиком на шее и с вилкой в боку», доказывали, что одна выпущенная в гвардейцев пуля приведет к погрому дворца и крепости, к убийствам и насилию разъяренных гвардейцев.
Однако добилась свита совершенно иной реакции — Петр спокойным и ледяным голосом предложил всем или убираться на все четыре стороны, или быть эвакуированным ночью галерами в Кронштадт.
С собою в Гостилицы он согласился взять только канцлера, Волкова и обер-маршала двора, а также небольшую группу необходимых чиновников и писцов. Оставлять без своего присмотра высших должностных лиц империи он ни за что бы не стал — чревато самыми непредсказуемыми последствиями.
Остальные придворные чины должны были обеспечить эвакуацию в Кронштадт всех фрейлин, Лизы и ее отца, чиновников и материальных ценностей из дворцов, а также прислуги.
Этот приказ унял паническое настроение сановников, и они поспешили откланяться, даже не приступив к десерту. Петра такая спешка привела в хорошее настроение — пакуйте свое имущество и валите подальше, у Миниха не забалуетесь, он вас живо научит строем ходить и песни петь.
После сытного обеда Петр решил провести инспекцию в крепости и по окрестностям. В цитадели войск уже не было — генерал-лейтенант Ливен, повинуясь императорскому приказу, увел роты и обоз из крепости.
Оставшиеся солдаты и рекруты спешно перегораживали рогатками дороги, рыли окопы, таскали в подвалы зданий различные ящики и баулы. Крепость готовилась к осаде, и готовилась довольно быстро. Генерал Шильд свое ремесло знал туго и умел заставить нерадивых.
Капралы палками нещадно лупили рекрутов по старой и доброй прусской методике — солдат должен бояться палки капрала больше неприятеля. И в эффективности такой постановки дела Петр убедился собственными глазами.
За бастионом в роще занимались учениями егеря, причем их число возросло чуть ли не в два раза. Петр удивился и отправился на место занятий. И вскоре из опроса капитана Оладьева, назначенного начальником, выяснилось, что его приказ был понят и принят к исполнению слишком буквально. Генерал Гудович зачислил в сформированную егерскую команду всех царских охотников — доезжачих, ловчих, загонщиков, стрелков и прочих других обалдуев во главе с заведовавшим придворной охотой егермейстером. Их распределили по капральствам и заставили передавать навыки маскировки и передвижения по лесу. Петр одобрил инициативу генерала и сам побеседовал с поставленным под ружье егермейстером.
Разговор оказался довольно познавательным — пожилой немец говорил на русском сносно и подробно ответил на интересующие сержанта вопросы. Его егеря были вооружены нарезными штуцерами разных калибров, в основном английского производства. Русские заводы нарезного оружия практически не выпускали. Петр чуть поморщился — раз нет унификации, а стволов ничтожно мало, и те закупные, то на пули Минье переходить невозможно, а они намного эффективнее турбинок.
А вот оружейные мастера оказались молодцами и, вопреки пословице, первый блин удался на славу. За три часа они ухитрились изготовить из двух пластин форму для отливки турбинных пуль. И за несколько часов уже отлили более полсотни пуль, которые егеря отстреляли за минуту по стене сарая с трехсот шагов — каждому хватило сделать по выстрелу для ознакомления.
Результат оказался ошеломительным — все пули, кроме трех, попали в стенку, но в нарисованный углем человеческий контур вошло лишь четырнадцать пуль. Четверть выстрелов в цель с запредельной дистанции — егеря не скрывали своего восторга.
Петр обласкал оружейников, поздравил с чинами коллежских регистраторов, а когда узнал, что к полуночи мастера изготовят еще три формы, а потом начнут их делать по десятку в день, то сержант их облагодетельствовал по полной программе — и денег посулил, и новым чином поманил. Правда, тут же попросил изготовить крепление для штыка-тесака, чему мастера не удивились. Но хорошие новости иной раз могут приходить одна за другой, и в этом Петр неоднократно убеждался. Впрочем, как и в обратном тоже…
Красное село
В Воронежском полку вовсю шли очевидные приготовления к выходу в поход. Собирались во дворе полковые фургоны, рядом с ними в полных упряжках стояли все четыре полковых орудия, оживленно бегали пехотинцы, отдельными малыми группками стояли офицеры полка, что-то горячо обсуждая между собой. Именно такая суета всегда говорит о том, что скоро последует марш…
Михаил Измайлов нахмурил брови — для него стало ясным, что полк изменил присяге, ведь император приказа о выходе с квартир не отдавал. А отдать такое распоряжение идти на Петербург мог только один командир полка — просто больше тут некому. Полковник Адам Олсуфьев оказался в заговоре, а судя по всему, и некоторые его офицеры.
Всем своим нутром генерал чувствовал, что сегодня вечером без крови не обойдется, но пусть и так, свою или чужую кровь пролить Михаил Петрович уже не боялся, наоборот, это стало бы кардинальным разрешением проблемы выбора, раз сложилось такое вот перепутье.
Теперь все зависело от него — если ему удастся уговорить солдат остаться верными присяге Петру Федоровичу, тогда этот обстрелянный в войне с пруссаками полк резко переломит сложившуюся ситуацию, ведь открытый переход армейских частей на сторону императора поставит жирный крест на замыслах мятежников.
Ведь остальным полковникам станет намного проще уже принять решение — либо успеть перейти в лагерь победителей с императором во главе, либо перечеркнуть всю свою безупречную и долгую службу и, возможно, саму свою жизнь, и разделить вместе с мятежной гвардией ее скорую и печальную участь.
А в том, что резко изменившийся в своем поведении государь, с решительностью и упорством, плескавшимися в глазах, уже чуть подернутых темной водицей безумной жестокости, пустит мятежным гвардейцам кровь и одним ударом меча разрешит этот набивший оскомину вопрос, генерал Измайлов нисколько уже не сомневался.
Он стал совершенно другим, его император. К лучшему или худшему это, Михаил не знал, но такой царь ему определенно нравился. Поневоле поверишь, что у Петра Федоровича жесткий ночной разговор состоялся с Петром Алексеевичем — об этом оживленно судачили все придворные, да и сам государь, хотя и мимоходом, об этом четко сказал.
Одно хорошо, что Воронежский полк еще не ушел с квартир. Генерал вздохнул и направил коня к группе солдат, что сгрудилась у крайних домов, на отдалении от полковой суеты. С них он и начнет…
Выстрелы грянули практически в упор. Лошадь под генералом дрогнула и стала валиться на бок, в нее попали сразу три пули. Измайлов выбросил носки ботфорт из стремян и успел соскочить с падающей лошади.
Рядом с ним рухнул в пыль один из адъютантов, дико закричав от боли — свинец попал ему в бедро. Генерал решительно потянул из ножен палаш и бешено закричал:
— Братцы, бей изменников!
Полковник Адам Олсуфьев выстрелил в него из второго пистолета, но промахнулся — свинцовая пуля лишь чуть обожгла щеку генерала. А вот стоявшая за полковником группа солдат и офицеров заново зарядить свои фузеи и пистолеты не успела.
За спиной генерала словно гром грянул — солдаты второй роты открыли огонь по своему полковнику. Пронзенный пулями, он был отброшен на спину и засучил ногами в предсмертных конвульсиях. Замертво упали также и три мятежных офицера, сраженные свинцовым градом. А оставшихся на ногах изменников через секунды накрыла разъяренная толпа воронежцев, пустившая в ход штыки, тесаки и хриплую яростную ругань.
Все было кончено. Попытка воспротивиться императорскому приказу не удалась — сами воронежцы подняли своих однополчан-изменников на штыки, ни мгновения не задумавшись. Генерал Измайлов подошел к трупу полковника, сплюнул, затем вытер платком копоть со лба.
— Вот и поговорили мы с тобой, Олсуфьев, но ты не внял ни царскому приказу, ни нужному мнению. И себя, дурак, погубил, и своих людей под пули напрасно подставил…
Уже через час Воронежский полк был полностью готов к походу на Гостилицы, а затем, если потребуется, и на Копорье или Нарву. Генерал Измайлов рассчитывал отойти от Красного села на юго-запад, дать ночью короткий отдых, а к завтрашнему вечеру выйти к Гостиницам.
Полторы тысячи штыков в 12 ротах, четыре трехфунтовых пушки, сотня казаков для охранения и разведки — на взгляд генерала, это был весомый противник для любого гвардейского полка. Солдаты хороши — крепкие, веселые, с боевым задором, большинство участвовало в войне с пруссаками.
А после прочитанного им манифеста, к которому Измайлов дал свои комментарии, они пылали самой праведной и лютой злобой к гвардейцам. И можно было быть уверенным — дойдет до драки, будут воевать до истребления врага, до последнего патрона, а там и в штыки пойдут.
Да и слышал он от них: «Ты нас к царю веди, надежа-генерал, обороним мы батюшку, а супротивников государя императора на штыки всех зараз подымем». И в последнем генерал уже не сомневался — тела убитых мятежников, их же однополчан, были ярким тому подтверждением…
— Ты, Трофим Ермолаич, не робей. Гонцов перехватывай, напасти мятежникам строй, вздохнуть им не давай. Но обывателей зазря не обижай, государь недоволен будет. Понятно? — Михаил Петрович наскоро инструктировал пожилого, лет на пять старше его, войскового старшину Измайлова, своего однофамильца — надо же было такому случиться.
Казак хмурил брови, но уважительным, по имени-отчеству, обращением генерала был доволен. Измайлов был в нем полностью уверен — матерый воин, дрался при Куненсдорфе, затем в отряде генерала Чернышева брал Берлин, а за двадцать лет до того еще в миниховских походах на Крым участие принимал — с турками и татарами насмерть бился.
— Все исполню, ваше превосходительство, — отозвался войсковой старшина, — вторую сотню берите к полку Воронежскому, она у меня лучшая, не грех и царю показать. А я сейчас с тремя сотнями на Царское село двинусь, там еще одна моя сотня на постое. А Петербург мы нынче же обложим, конному и пешему дороги не дадим. Лишь государю нашему прошу передать — казаки все животы здесь сложат, но царскую волю исполнят…
Петербург
— Рада вас видеть, княже Никита Юрьевич! — с немецким акцентом поздоровалась императрица Екатерина с прибывшим из Ораниенбаума фельдмаршалом Трубецким, бывшим командиром лейб-гвардии Преображенского полка. Уже бывшим — Като, потакая гвардейцам, вернула старую практику, когда шефом каждого гвардейского полка, а не только у преображенцев, могла быть только царствующая особа. Петр это отменил несколько месяцев назад и назначил шефами на полки фельдмаршалов, чем несказанно, до глубины души, оскорбил высокомерных гвардейцев — «голштинский выродок и тут нас на положение обычных армейских полков перевел, нас — самого императора Петра Великого лейб-гвардию».
Вот и пришлось Екатерине старых полковых шефов тихонько отстранить, но своими заместителями по полку она их все же оставила, за исключением принца Георга — тот вылетел из Конной гвардии намного быстрее, чем пробка вылетает из раскупоренной бутылки шампанского…
И хоть говорила сейчас императрица с князем милостиво, но сама преотлично знала, что военные считают его трусом и матерым казнокрадом. Государыня Елизавета Петровна старого пройдоху в фельдмаршалы произвела и подполковником лейб-гвардии Преображенского полка назначила, хотя князь в походах против неприятеля не командовал, и боевая репутация у него была, откровенно говоря, совсем худая.
Петр Федорович впервые потребовал от князя службы. Заставил его, как и других таких высокопоставленных сибаритов, никогда не помышлявших о строевой службе, «лично командовать своим полком, когда при дворе менялась стража, и стоять перед фронтом во время парада».
И вот, чтоб не подвергнуть себя публичному выговору от императора и насмешкам офицеров, каждый из них держит у себя в доме молодого офицера, который знает службу, и раза по три или четыре в день берет у него уроки в экзерциции.
Ну, не тиран ли древнеэллинский Петр Федорович?! Взял за правило, раз ты гвардейский офицер, «так и неси службу, и отправляй должность во всем». Сатрап он персидский, а не государь!
И старый князь Никита Трубецкой, забыв о своей подагре, марширует перед строем с эспатоном — «ныне у нас и больные и не больные, и старички самые поднимают ножки, и наряду с молодыми маршируют, и так же хорошенько топчут и месят грязь, как солдаты». Ох уж напасти, казни египетские! И кто он после этого — жестокий самодур и гад голштинский…
— Матушка императрица, я только что прибыл из Ораниенбаума и сразу поспешил явиться перед ваши светлые очи, государыня. — Трубецкой встал на одно колено и облобызал правую руку императрицы. А вот свою левую руку Като не давала целовать — она ее нюхательный табак всегда брала…
— И как там поживает мой любезный супруг?
— С утра в безумие впал, матушка. Говорит, что явился к нему дед, император Петр Алексеевич, тростью своей ударил до крови. И рассказал, что переворот в Петербурге будет, всех заговорщиков назвал. И будто поведал ему покойный император, что через восемь дней задушат его гвардейские офицеры в Ропше…
От произнесенного им последнего слова Екатерина вздрогнула и чуть искоса посмотрела на Дашкову. Подруга не сумела скрыть удивления и принужденно заулыбалась.
— Вольно же моему супругу такие сказки рассказывать.
— Нет, матушка государыня. Он действительно знает. И то, что к нему генерал Измайлов прискачет и о мятеже предупредит, он за два часа заранее поведал — а генерал двух коней загнал.
— Так он обезумел, княже. Когда с лошади упал и головкой ударился…
— А юродивые, ваше императорское величество, часто о будущем правду вещают, а супруг ваш ночью в безумии бегал. Видать, на самом деле к нему император Петр Алексеевич явился…
— Полноте, Никита Юрьевич, как вы можете в такое верить…
— Так я бы и не верил, государыня, но супруг ваш по-немецки совсем перестал говорить, водку и пиво отказался сам употреблять и другим настрого запретил, как и табак. Со всеми говорит только на русском языке, и очень чисто говорит. А ругается так вычурно на лакеев, что я поначалу собственным ушам не поверил. Но эту брань я сам слышал, матушка.
Императрица была явно ошеломлена услышанным и, чтобы спокойно проанализировать сказанное князем, подошла к столику и взяла из золотой коробочки щепотку табаку. Аккуратно понюхала, закрыв глаза от удовольствия. Посмотрела на удивленную Дашкову, та просигнализировала глазами, мол, спроси дальше.
— А что супруг мой передал?
— Петр Федорович брани не желает и потому алярма голштинцам объявлять не будет. И гонцов к генералу Румянцеву отправлять тоже не будет, в чем дал государево слово, — Екатерина было встревожилась при упоминании фамилии Румянцева, но тут же успокоилась. Заулыбалась и ее наперсница.
— Ваш супруг во всем вам покорен и готов полностью удовлетворить любое ваше пожелание, матушка-государыня. Просит только не идти походом на Ораниенбаум и выражает желание поговорить с вами, ваше величество, где вам только угодно. Вот его собственноручно написанное письмо, — и князь Трубецкой с поклоном протянул свиток императрице.
Като развернула свиток и прочитала его. Полное унижений письмо в точности соответствовало рассказу Трубецкого. Император драться за престол не будет — сквозило в каждой строчке. И она вспомнила слова воспитателя Петра Якова Штелина, сказанные им лет пятнадцать назад: «На словах нисколько не страшится смерти, но на деле боится каждой опасности».
Она хмыкнула — весьма точное высказывание. Ее милый супруг панически испугался всеобщего гвардейского выступления и теперь готов на все, лишь бы ему сохранили никчемную жизнь…
— Идите же отдыхать, мой милый князь, я рада, что вы один из самых преданных моих друзей!
Екатерина милостиво дала поцеловать фельдмаршалу руку и проводила его до дверей. Потом переглянулась с Дашковой. Они обе были несколько удивлены, но охотно улыбались друг другу и уже не скрывали победного настроения…
Ораниенбаум
Из Петергофа прибыл адъютант, кирасир с усталым лошадиным лицом, тот, что бежал вместе с генералом Измайловым из Петербурга, и доложил, что вместе с ним прибыли казачий сотник и два десятка донских казаков, а еще больше сотни донцов гусарский штабс-ротмистр оставил при себе в сторожевом охранении…
За дворцом на лугу, куда Петр направился быстрым шагом, стояла орда. Именно так воспринял Рык казаков на первый взгляд. Где милые сердцу лампасы, гимнастерки и фуражки с красными околышами?
Кафтаны, или чекмени, как мысленно поправил себя сержант, самых разных темных оттенков, от серого и синего до черного. Черные патлы и бороды, светлых было человек пять только, у многих в мочках ушей здоровенные серьги из золота и серебра.
На поясах станичников кривые сабли в ножнах, у половины пики, у другой половины приторочены чехлы с дротиками. У всех на широких ремнях перевязи прикреплены самые разные пистоли, у некоторых короткие фузеи с кривыми, как «линия партии», прикладами, явно турецкого происхождения, трофеи османские.
Лошади все им под стать, разномастные, но крепкие, у некоторых к седлу приторочены арканы. «Орда, право слово, хоть с Мамаем иди на Русь!»
Увидев царя в голубой ленте, казаки резво спешились со своих лошадок, а когда Петр к ним подошел, сделав останавливающий знак следовавшим за ним адъютантам, донцы дружно поклонились ему в пояс и тут же горделиво выпрямились.
«А это хорошо, что нет в донских казаках раболепия даже перед царем, орлы мои степные! Может, и мой пращур среди вас сейчас стоит?!»
— Сотник Данилов. Прибыли на твой зов, царь-батюшка! — своеобразно отрапортовал здоровенный мослатый казачина, борода с проседью, а глаза с хитринкой, такие родные казачьи глаза со степным прищуром.
— Говорить я с вами долго буду, казаки, так что скидывайте мне седло да в круг садитесь! — сказал Петр, и станичники быстро расседлали двух коней, сотник усадил на одно седло императора, на другое, не чинясь, сел сам, а казаки расселись на траве полукругом, скрестив по-турецки ноги.
— В Петербурге смута, — не стал он тянуть кота за хвост, а сказал им прямо, — изменники выступили супротив меня с оружьем, хотят живота лишить за барские свои прихоти. Два манифеста мои их возбудили. В одном даровал я солдатам и матросам 15 лет службы военной да пенсион изрядный, да вольными хлебопашцами по окончании службы пожаловал с землею, да многим имуществом…
Среди казаков послышался тихий шепот, степные глаза смотрели на царя внимательно, цепко, боясь пропустить даже слово. Петр оглянулся — офицеры правильно поняли его взгляд, один достал коробку с его папиросами и принес ее сержанту.
Надо отдать должное — один казачина тут же высек кресалом искру на трут, и спустя минуту Петр пахнул дымком, сделав разрешающий жест. Чиниться казаки не стали, и мозолистые ладони тут же выбрали половину коробки. Удивления у казаков не было, папиросами задымили, как привычными люльками.
— И вторую мою грамоту они разорвали, донским и яицким казакам назначенную. И хотят наградить вас бояре за службу вашу ратную и верную не жалованием денежным, не провиантом хлебным, а холопством, а земли казачьи меж собой поделить. Долгорукого помните? — бросил Петр и чуть не пожалел о своих словах.
Вздыбились казаки, засверкали глаза, пошел гневный ропот — вскинулась степная вольница. Хорошо помнили, как при Петре Великом князь Долгорукий донцов на всех деревьях развешивал, восстание атамана Кондрата Булавина подавляя…
— Решил я намеднись Войску Донскому жалованную грамоту дать. И скажу вам сейчас, что в ней написано было. А вы, казаки, как на духу, как отцу родному, отвечайте честно, любо ли вам. Жалую я Войско Донское жалованьем государевым, да провиантом хлебным, да на землях войсковых закон пусть свой казаки устанавливают, да по обычаям станичным живут. И запрещаю я на землях донским не казакам селиться, а лишь тому, кого вы сами привечать будете. Но поселившиеся, кто вами привечен был, несут полную казачью службу, без послаблений…
— Любо! — выдохнули единой грудью казаки и снова напряженно уставились на царя.
— А потребую я от вас службы ратной на условиях новых. Как молодой казак в силу войдет да оружием научится владеть, то служить ему четыре года беспрерывно на службе государевой. Выходить на нее он должен в кафтане установленном, со снаряжением всем и конем, с пикой да саблей. Пистоли и ружья от казны получать будете, а за оснастку воинскую к службе еще по 20 рублей выплаты. Кормить же казака на службе, и фураж коню, и жалованья ежегодного 10 рублей от казны получать будете, в свои траты не входя. Иль отцу с матерью выплата эта будет сделана. Но служить будете мне честно и верно, труса в бою не праздновать, государеву волю с усердием исполнять.
— Любо! — с напряжением выдохнули казаки, и Петр далее продолжил их улещать:
— А после службы действительной казаки 8 лет на льготе находиться будут, но коня и справу воинскую содержать в исправности. А война начнется, с турками али татарами, то всем им выходить на службу ратную, пока ворогу кровь не пустят или замирение не последует. И половинное государево жалованье получать будут да долю изрядную в добыче — треть казакам, две трети царю. А делить сами будете, без лукавства и честно. И зорить будете турок или татар, когда я велю, зорить нещадно, на набеги их отвечая сразу же. Тут две доли добычи ваши, а одна царская будет, но жалованья царского получать за то не будете, добычей довольствуйтесь…
Петр сделал короткую паузу и чуть передохнул. Казаки с неослабным вниманием смотрели на него.
— А на землях своих торгуйте беспошлинно, хлеб растите или скот разводите безденежно, кто сколько хочет. Станицы и городки сами обустраивайте, препятствий чинить не станут — ваши земли, сами и решайте. Но ворогов моих или изменников с головою выдавайте царю по требованию, с чадами и домочадцами, и их не привечайте. А что беглых касается или калик перехожих, или скитальцев бездомных, то с Дону выдачи нет. Но вот на татей шатучих сие правило не распространяется. Тех сами хватайте крепко и с головою выдавайте…
— Любо! — казаки не скрывали радости, глаза сверкали, бороды встопорщились, дыхание хриплое, с перегаром явственным.
— Но людям государевым, на Дон с поручениями посланным, ни флоту нашему донскому, ни купцам проезжим тягот и притеснений не чинить, а помогать государевой службе всячески. А купцам торговлю не рушить и поборов с них не брать — они и так в государственную казну платят. На свое обустройство, на школы и госпитали деньги сами изыскиваете, чаю, добычу немалую с турок и татар возьмете. И часть ее не пропивайте, а на дела богоугодные и нужные пускайте. А ежели в устойчивости к вину и водке сомневаетесь, то часть денег можете в мою личную казну отдавать на сохранение — я на них казакам же устроение делать буду. Пора вам городки свои обустраивать и больных с ранеными лечить, да детишек обучать грамоте, и хозяйство с торговлей развивать. Не все ж только с басурманами воевать, и мирная жизнь часто бывает.
— Любо! — с одобрением выдохнули казаки, и Петр стал заканчивать изложение спонтанно подготовленных условий.
— Значит, снова пишу я жалованную грамоту Войску Донскому, и иных грамот без одобренья вашего писать не велю, и детям с внуками велю накрепко. Но вы, и дети ваши, и внуки с правнуками служите честно царю русскому. В чем всем Войском Донским крест мне целуйте, да грамоту крестоцеловальную отправьте. Обиды прежние давайте мы накрепко забудем, по-новому жить начнем. А сейчас, казаки, беда наступила — и меня убить хотят, и Дон потом похолопят. Драться мы будем смертным боем с мятежниками, и вы решайте, с нами головы класть будете за царя, за Россию и тихий Дон иль в стороне останетесь, труса празднуя?
«Какая сторона?! Будто с цепи сорвались. За сабли хватаются, клянутся головы сложить за царя-батюшку да за грамоту царскую, их вольному Дону пожалованную. Ну, пусть немного покипятятся, пользы ради. Представляю, что в полках донских начнется, когда про грамоту услышат, спешить будут, как наскипидаренные…»
Петр медленно прошелся по кабинету, на часах почти двенадцать, ноги ватные. Устал, как собака, даже от ужина отказался, кофе лишь выпил да папиросу выкурил.
«Волков грамоты Донскому войску скоренько смастрячил, все его пожелания красочно изложил, цены нет мужику, красноречив, как баюн. Бывают же люди, пишут коряво, но говорят так, что уши враз вянут, залопочут чуть ли не насмерть, краснобаи. А есть и такие, что говорят корявей некуда, но зато пишут как…
Семь казаков в полки поскакало с подорожными, а жалованные грамоты по шапкам попрятали. В полках читать будут, но к вечеру завтра все припожалуют, коней своих загонят, но придут, вот тут я полностью уверен. И десяток здесь остался посыльными, да и охрану мою разбавили, зыркают глазами, как псы цепные».
«Красный кабачок»
Длинные колонны пехоты пылили на Петергофской дороге. На Ораниенбаум выступила российская гвардия — семь батальонов, четыре эскадрона конной гвардии и две роты гвардейской артиллерии.
Правда, в столице сильный гарнизон остался — от каждого батальона по две роты из шести да эскадрон конногвардейцев. Но оставшихся в столице гвардейцев компенсировали подкреплением, гарнизонными войсками и кавалерией — два батальона пехоты, полки сербских гусар и лейб-кирасирский. Грозная сила шла, одних только армейских солдат насчитывалось больше, чем в голштинской гвардии…
Капрал Иван Тихомиров с тоскою глядел на кровавый закат. За свою тридцатилетнюю службу он уже на горьком опыте неоднократно убеждался — такой закат требует человеческой крови.
Много крови пролить придется. Ох, как не нравилось старому солдату, что четыре гарнизонных роты его батальона в авангард снарядили на помощь пьяной лейб-гвардии.
Вояки с семеновцев и преображенцев сейчас никакие — топают гвардейцы еле-еле, и водку с вином из фляг без конца пьют, пока до Петергофа дойдут, все выпьют, а там и попадают. И хотя в авангарде десять рот пехоты и эскадрон гусар, то есть столько же, как всех войск у голштинцев, но вот в бою с усталых, невыспавшихся и похмельных солдат толку не будет — то старый капрал на своем опыте слишком хорошо знал.
И хотя понимал солдат, что боя быть не может — слишком несоразмерные силы, какая уж тут война при столь подавляющем превосходстве войск гвардии над голштинцами, но то умом понимал. И, может быть, в этих длинных колоннах он был единственным солдатом, кто всем сердцем чувствовал грядущую большую кровь…
В «Красный кабачок» императрица Екатерина с княгиней Дашковой и свитой в сопровождении конвоя из полного эскадрона Конной лейб-гвардии прибыли незадолго до полуночи.
Хотя весь этот путь они проделали в карете, их Преображенские мундиры сильно запылились. И единственное, что подруги хотели, это сполоснуть дорожную пыль и хоть пару часов поспать в мягкой постели.
Однако их желания не сбылись. Какая ванна с горячей водой и мягкая постель — умывались в грязной лохани, а вместо белоснежной простыни на кровать были наброшены суконные солдатские плащи.
От еды подруги отказались, так как хозяин предлагал простые блюда и напитки. Выпили только по стакану воды и чуть посочувствовали хозяину, но без слов. Обе хорошо знали, что будет с хозяйскими запасами еды и напитков, когда через полчаса сюда нахлынет усталая и прожорливая гвардия. Наверное, и саранча меньше ущерба полям клевера нанесет, чем голодные гвардейцы этому радушному хозяину постоялого двора. А также всем жителям соседнего с «Красным кабачком» селения.
Усталые, в грязноватых платьях, они улеглись вдвоем на кровать. Сон пришел почти сразу. Подруги знали, что через три часа их поднимут и им предстоит проехать еще сорок верст до места своего долгожданного триумфа…
Ораниенбаум
«Плохо, что от фельдмаршала Миниха вестей пока еще нет. Но жду, два часа пополуночи крайний срок, не придут галеры, меня разбудят, а приплывут — тоже разбудят…»
Петр прошел в опочивальню, где его ждала Лиза в крайне легкомысленном пеньюаре, верный Нарцисс, большая лохань горячей воды и сервированный столик на двоих.
Однако, к великому изумлению Лизы, Петр до изнеможения проделал разминочный комплекс, и лишь потом арап снял с него пропотевшую насквозь рубашку и панталоны.
Он с вожделением погрузился в лохань — как ванна размерами, лишь борта чуть ниже. Долго размякал в горячей воде, и усталость муторного дня потихоньку ушла из тела, а мысли он отдал своему «тезке».
Мыли его в четыре руки — и от ласковых прикосновений девушки душа Петра ожила, а тело стало тут же строить планы на ночь. И чем нежней были Лизины касания, тем горячей становились планы.
Наконец мытье закончилось, и повеселевшего Петра бережно вытерли пушистым полотенцем, надели на плечи такой же пушистый и легкий халат.
Нарцисс тут же открыл дверь, и четверка лакеев тихо вошла в опочивальню, обступили со всех сторон ванну и с огромным напряжением ее подняли. Кое-как слуги вынесли лохань из опочивальни, а затем две миловидных служанки, а Петр быстро оценил их, пробежав по фигуркам, раздевая глазами, унесли пустые кувшины и простыни.
Поужинали довольно быстро — Петр умял рыбное заливное, затем вкусил жаркое из перепелов и придавил съеденное сладким шоколадным пирожным, хотя ранее сладкое не очень одобрял. Выпив традиционного сока и закурив папироску, он загрустил — его сильно пугал, вернее изрядно тревожил, завтрашний день и беспокоило отсутствие донесений от Миниха из Кронштадта.
И еще одно обстоятельство несколько нервировало Петра — среди придворных стремительно распространились дикие и страшные слухи из Петербурга, будто бы там пролито много крови, от несогласия в гвардейских и армейских полках все поставлено в городе вверх дном, множество домов и разных заведений в столице разграблено бунтующими обывателями, вовсю идут пьяные погромы.
Однако Петр не только не поверил болтовне среди придворных, но еще приказал жестоко пресечь распространение подобной галиматьи, ведь такая информация могла плохо подействовать на его солдат, привести к беспочвенным мечтаниям, что жестокой драки, может быть, удастся избежать…
Лиза сразу заметила некоторую хмурость, легшую тенью на челе своего возлюбленного, и чисто по-женски попыталась разрядить несколько напряженную обстановку.
— Что тревожит вас, государь-батюшка? — негромко спросила Петра нагая Лиза, откинув одеяло.
Петр с трудом чуть придавил нарастающее желание, но противостоять ему долго не смог. Его опять потянуло к этой молодой женщине всей подкоркой мозга, и с ней он почувствовал себя спокойно и уверенно, и именно от нее он мог получить дополнительную силу. Ему захотелось прижать Лизу к груди, насытиться ее молодым телом. И он уже не стал себя сдерживать…
ДЕНЬ ТРЕТИЙ 29 июня 1762 года
Ораниенбаум
Драгуны шли плотными шеренгами, стремя к стремени. Палаши вытянуты над конскими головами — «гот мит унс». И от этой лавины шустро убегали солдаты в зеленых мундирах с красными обшлагами. Но скрыться от всадников не смогли и были за считаные минуты смяты и порублены в мелкое крошево.
Те немногие из зеленых, что стартовали в паническом беге намного раньше, нашли свое спасение в топком болоте. Несколько драгун, в горячке увлекшись погоней, так хорошо в нем завязли, что были с трудом извлечены из топи. Но вот лошадей спасти не удалось, несмотря на все усилия. Так и сгинули они в болоте, жалобно ржа и виня людей в своей гибели.
Петр понял, что продолжать дальнейшее преследование бесцельно, кавалерия дальше идти не может. Неожиданно рядом с ним появился всадник в строгом синем мундире, худой, с хищным лицом. Белесые волосы и такие же бесцветные глаза. Узкие губы искривились в хищном оскале голодного волка. С длинной тяжелой шпаги капала кровь…
Всадник окинул взглядом Петра — внутри у Рыка сразу похолодело. Он внезапно почувствовал, что это не человек по своей сути, а какой-то жестокий языческий бог войны. И благоразумно решил держаться от него подальше. Мысль, конечно, здравая, но вот всадник имел иное мнение.
Он соскочил с коня и подошел к Петру. Посмотрел в глаза, потом обернулся и громко спросил у своего адъютанта в расшитом золотом синем мундире с желтыми отворотами и обшлагами:
— Как называется это место?
— Головнино, ваше королевское величество.
— Еще одно место нашей славы! Трубите отход!
И, повинуясь отданному им приказу, где-то рядом затрубила одна труба, ее зов поддержали другие горнисты, а потом частой дробью, раскатистой и бодрой, загремели барабаны…
Прозрачные глаза смотрели на Петра с прищуром, соломенные локоны, выглядывавшие из-под шляпы с роскошным плюмажем, спускались на грудь. Он наклонился и пристально взглянул на Петра.
— У тебя тоже будут победы, мой маленький принц. — От его взгляда в груди Петра был уже не холод, а лед. — И скоро, внук мой…
После паузы король, а именно так воспринял его Рык, продолжил:
— И ран много будет, но малых. А победы кровью заслуживаются, не иначе. Возьми подарок!
Он протянул Петру шпагу. Стальной клинок неожиданно удлинился, и он не успел отпрыгнуть от острия, которое впилось ему в бедро…
— А-а-а! — От боли Петр проснулся и схватился за бедро. Спросонок ничего не понял и заорал во все горло.
— Что с вами, государь?! — В комнату влетел казак с саблей, за ним два адъютанта с обнаженными шпагами.
Рядом на кровати подскочила обнаженная Лиза и завизжала. Однако Петр быстро заткнул ей рот ладонью и накинул на голову одеяло.
— Сиди молча, дура! Вякнешь слово, придушу! — От грозных слов Петра бедная любовница сразу заткнулась, а охрана спрятала оружие в ножны и принялась перевязывать холстинкой чуть проколотую кожу на правом бедре — по сути, царапинку. Да и крови пролилось немного.
Твою мать! Достали уже эти добрые дедушки своей заботою. Вначале тростью избили, а теперь Карл Шведский с порядковым 12-м номером взялся живого человека острой сталью тыкать. И на полу свою шпагу в подарок оставил, на том же самом месте, где недавно трость Петра Первого лежала…
Ямбург
— Павел Владимирович, проснитесь, адъютант его величества прибыл. А казаки Данилова караулами крепость занимают. — Крепкая рука адъютанта все же растолкала коменданта крепости Власова.
От такой новости подполковник соскочил с кровати и принялся лихорадочно одеваться. Поручик старательно помогал ему, и уже через пару минут Власов был в полной готовности.
И вовремя — дверь отворилась, и в комнату ворвался запыленный офицер в форме голштинской гвардии. Вяло козырнул двумя пальцами, чуть прикоснувшись к шляпе. За ним тут же ввалились трое драгун и два казака. Лица у всех решительные, ладони на эфесах, на ременных лямках пристегнуты пистолеты.
За окном горнисты стали трубить тревогу — послышался топот башмаков солдат караульного взвода. Зычный голос за стеклом властно проорал: «Слушайте манифест его императорского величества!»
Коменданту очень не понравилась такая суета на территории вверенной ему крепости, и Власов с ожиданием посмотрел на молодого царского адъютанта, как бы требуя объяснения происходящего.
— Вам приказ от его императорского величества. — Голштинец протянул свиток. Власов сломал печать на документе и быстро пробежал глазами по строчкам чеканного приказа. И все разом похолодело внутри, он почувствовал, что своенравная и капризная фортуна, наконец, предоставляет ему самый реальный шанс крепко ухватить ее за хвост.
— Я выступаю со всеми частями гарнизона немедленно, только один час необходим на сборы. Артиллерию в поход брать? — Подполковник ожидающе посмотрел на голштинца.
— Не надо, время упустим! — отрезал тот. — Какие у вас части?
— Эскадрон тверских драгун, полный батальон Ингерманландского полка и донской казачий полк Данилова в пять сотен. Кроме того, крепостной гарнизон из двух рот ланд-милиции и инвалидной команды. Еще рота третьего кирасирского полка на биваке у города стоит, с утра в Нарву должна была идти. И еще рота конных гренадер на мызе, — подполковник быстро перечислил свои немногочисленные части.
Да оно и понятно — Ямбургская крепость сейчас числится захолустной и подлежит полному упразднению. Добрая половина крепостных башен и стен уже давно на плитняк разобрана, зато из захудалой мызы большой поселок отстроили местные селяне, охочие до дармового камня. Держать здесь, в Ямбурге, гарнизон изрядный нет никакого смысла. Наоборот, полевые войска выводить надо из крепости все целиком, оставив только негодных к полю пожилых инвалидов и еще более бесполезную ланд-милицию.
— Пехоту посадите всю на повозки, время терять нельзя. Ланд-милицию и инвалидов здесь оставьте. Двигайтесь на Гостилицы, всячески поспешая. В селениях по пути подводы для смены приготовили. Я же возьму с собою драгун и кирасир, а казаки уже полностью готовы к маршу…
Ораниенбаум
— Ваше величество, — энергичный шепот Лизы привлек внимание лежащего на кровати Петра, — галеры с Кронштадта пришли.
От такой долгожданной новости его буквально подбросило с мягкой и теплой постели. Он еще протирал глаза, когда любовница и арап в четыре руки на него уже принялись надевать Преображенский мундир. Затем Нарцисс протер ему лицо влажным полотенцем, дал выпить бокал сока и тут же протянул прикуренную папиросу.
Петр затянулся и только сейчас окончательно отошел со сна. На часах ровно половина второго — покемарил каких-то полчаса, но выспался. Очередной кошмар прошел… Третий раз во сне либо душат, либо избивают, либо шпагой тычут. Сплошная боль от этих вещих снов!
Петр даже не стал приказывать свидетелям держать язык за зубами. Зачем?! Такая реклама — только в пользу, трость со шпагой такие раритеты, которым цены нет…
Петр торопился узнать новости, но вначале проделал зарядку и отработал удары, сломав под конец тонкий столбик балдахина. Затем он плотно перекусил ветчиной с сыром, запил завтрак соком — шут его знает, когда удастся поесть еще раз. И только потом покинул дворец.
Ночь давно наступила, все окутало прохладой, но было довольно светло. Такова здесь жизнь — «белые ночи». Его ждал конвой казаков с лошадью. Запрыгнув в седло, Петр тронул савраску с места и неспешным шагом направился к крепостным воротам.
В цитадели полным ходом шли работы, несмотря на ночной час — для нормальной подготовки к бою хорошему командиру всегда не хватает времени. А тут три сотни рекрутов сразу подготовить надо. Вот и гоняли усатые капралы немецких мужиков, привезенных в Россию из далекой Голштинии. Хорошо так гоняли, методично и без всяких русских глупостей типа постоянных перекуров.
Миновав мост через неглубокий и уже порядком заболоченный крепостной ров, Петр направился со своим сопровождением в город.
Собственно, города как такового пока не было — рядом с крепостицей стоял большой двухэтажный дворец, полтора десятка окон по фасаду, к нему ножками от буквы «П» примыкали небольшие, но тоже в два этажа, строения. И их функциональная нагрузка была для него понятной — хозяйственное обеспечение придворной дворцовой братии.
Однако он ошибался — в левом крыле был Японский зал, а в правом церковный, с устроенной домовой церковью. В разбитом вокруг парке виднелись крыши павильонов и домиков.
Никто не спал — в окнах зданий играли отблески света, там жгли свечи. А на улице кипела жизнь, будто не ночь давно наступила, а полдень. Из дворца спешно выносили имущество, будто внутри здания уже бушевал нешуточный пожар. Но груда ящиков и коробок у здания не росла, а вроде даже понемногу уменьшалась.
Постоянно подходили повозки, на них лакеи шустро грузили имущество, и нахлестываемые кнутами ломовые лошади тут же уходили в сторону морского канала, таща с надрывом тяжелые повозки. А у самого канала жизнь даже не кипела, а бурлила во всю свою мощь.
На дворцовую пристань с трех больших шлюпок выгружали ящики и бочонки, с помощью канатов уже выволочили на сушу три больших корабельных пушки на кургузых колодообразных лафетах.
Петр искренне посочувствовал морякам — каждая такая пушка должна была весить полтонны, не меньше. Разгруженные от пушек и воинских припасов шлюпки тут же забивались под завязку различным дворцовым барахлом, одна из них уже отчалила и пошла по каналу к морю.
А там — радующая сердце картина. На рейде стояло полдюжины галер и с десяток намного меньших в размерах шлюпок. В подзорную трубу было хорошо видно, как с галер дружно и весело сгружалась пехота, и щетина штыков колыхалась над головами инфантерии. Ее было многовато, подозрительно много — по первому взгляду не менее тысячи морпехов. У Петра мелькнула мысль, уж не всю ли пехоту отправил сюда Бурхард Миних, но вскоре выяснилось — далеко не всю, а так себе, отряд малый.
Заметив группу верховых, от канала тут же направилась группа морских офицеров. Петр опознал их благодаря памяти на иллюстрации — все в белом, но мундир зеленый. Подошли быстрым шагом, придерживая на ходу шпаги. Откозыряли двумя пальцами, прикоснувшись к шляпам.
— Ваше императорское величество, капитан-командор Спиридов! — Взгляд уверенного в себе человека, лицо суровое, просмоленное. «А ведь я его знаю, — будущий герой Чесмы». — Пакет от фельдмаршала Миниха!
Петр взял засургученный печатями пакет, но вскрывать не стал, а сразу спросил у моряка о наболевшем:
— Как дела у фельдмаршала? Что в Кронштадте?
— Флот верен вашему величеству! Фельдмаршал Миних готовит эскадру и десант к походу на Петербург. Мой отряд отправлен в распоряжение вашего величества, а еще пять галер сегодня вечером ушли в Выборг.
— Посланцы из столицы были?
— Так точно, государь, были. Адмирал Талызин с офицерами гвардии прибыл под вечер. Как изменник повешен на нок-рее флагманского корабля «Астрахань», гвардейские офицеры подверглись расстрелянию, — голос Спиридова ровен, в нем ни осуждения, ни одобрения не слышно.
— С чем прибыли, командор? — задал новый вопрос Петр. Он уже сообразил — перед ним сейчас немалый флотский чин, промежуточный между каперангом и контр-адмиралом.
«Надо бы его резко по службе двинуть, в контр-адмиралы произвести, мужик-то толковый, судя по всему».
— Ваше величество, привезли двенадцать пушек шести- и восьмифунтовых, ядра, картечь, пороха много, фузей тульских две сотни, пистоли, тесаки да сабли абордажные. Бомб пудовых полсотни, с крепостных валов на штурмующих скатывать. Десанта пятьсот матросов — канониры к пушкам да команды абордажные. Сводный батальон Кроншлотского гарнизона в 6 рот и голштинский отряд с роту, что в крепости постоянно находился — еще тысяча штыков. В крепости к отправке готов второй сводный батальон в 6 рот — к утру будет перевезен…
Петр задумался, подкрепление было серьезным, на такое он и не рассчитывал. А, если честно, то вообще не надеялся, что Миних приведет флот в повиновение. Но старый фельдмаршал смог это сделать. И, судя по тому, что матросы с огоньком работают, манифест своей цели достиг.
Петр вскрыл печати на пакете и прочитал письмо. Силу фельдмаршал собирал серьезную — три линейных корабля, два фрегата, почти три десятка более мелких судов, дюжина галер. На них десанта более трех тысяч — солдаты кронштадтского гарнизона и матросы, взбодренные манифестом, двумя рублями каждому и водкой.
И завтра, по обоснованному решению Миниха, не желающего потерять напрасно время («Да, уже завтра, ведь новые сутки пошли»), вся эта армада по столице ударит, и разъяренная матросня там камня на камне не оставит.
И поклон в письме есть матушке Елизавете Романовне, и слова поддержки, и просьба к его величеству на галерах немедленно плыть в Нарву, не вступая в бой с авангардом мятежников, и тем самым избежать ненужного и опасного для батюшки-царя риска.
— Кто тебя на галерах заменить может, командор?
— Капитан-лейтенант Бутаков, ваше величество!
Услышав свою фамилию, из-за спины Спиридова выдвинулся молодой моряк, выпрямился перпендикуляром и четко откозырял.
— Примешь на себя командование, постоянное, — Петр пристально глянул на офицера, — мой двор и все имущество погрузить на галеры и доставить в целости в Кронштадт. Головой отвечаешь за погрузку и сохранность. Даю три часа на погрузку — более времени не будет! Все ясно?
— Так точно, ваше величество! Разрешите исполнять? — Моряк козырнул и рысью бросился к каналу, на бегу отдавая приказы. А Петр повернулся к Спиридову, помолчал немного и заговорил:
— Назначаю тебя комендантом Ораниенбаума. Пушки поставь на крепостные валы. Ядра, бомбы, порох и прочие припасы распихай по разным погребам и подвалам. Все деревянные строения растащите, или хоть водой облейте от пожара. Там три роты солдат, в большей части из рекрутов, разбавь их своими матросами для надежности. Укрепи окопами все что можно, полевые пушки в промежутках ставь, морские вместо них на валах бастионных устанавливай быстро. Обороняй Большой дворец и казармы, если из-за больших потерь удержать не сможешь, жги к чертовой матери. У тебя время до полудня еще есть, я с кавалерией через час к Петергофу двинусь, позиции там займем. Надеюсь, что до полудня гвардию боем задержу. Но дольше не смогу, их очень много на Ораниенбаум идет… — Петр тут остановился, надолго призадумался.
«Страшно, очень страшно. Три сотни сабель против гвардейского авангарда никак не тянут. Но выиграть время необходимо. Шильда в крепости оставлять нельзя — немец не вызывает доверия, мутен. Да и на штурм гвардейцы пойдут неохотно, зная, что нет здесь ненавистных голштинцев, а только моряки. А если возьмут цитадель и матросиков в капусту покрошат, но даже тогда польза будет — флотские в Питере реванш возьмут, и злее водоплавающие будут, намного злее. И с „дядей“ надо решить кардинально, отправить бы его куда подальше, чтоб глаза всем не мозолил…»
— А вот пехоту, что ты привел, с собою возьму, и часть артиллерии полевой заберу, две-три пушки. Своими силами обойтись тебе придется. Хотя нет — если на галерах и шлюпках матросы и канониры лишние есть, то всех в крепость забирай. Удержишь крепость — чин контр-адмирала получишь, Григорий Андреевич. Да, вот еще, — Петр повернулся к адъютантам: — Принца Георга, канцлера Воронцова, генерала Шильда и Волкова сюда, быстро!
Петербург
— Господи праведный, никак царь-то наш Петр Федорович помер? — крестились обыватели, которых полночь настигла на улицах столицы. Некоторые из них даже вставали на колени. Впрочем, были и такие, кто хулил императора, но делали это тихо, сквозь зубы.
Процессия, шедшая сейчас по улицам Петербурга, подавляла своей величественностью. В ее голове ехал всадник в черных латах, в такой же каске с пышным плюмажем на вороном, без единого белого пятнышка, коне.
В правой руке он держал склоненный до земли горящий факел. Огонь трещал, искры осыпались на землю и тухли, как бы показывая, насколько мимолетна человеческая жизнь и как быстро она угасает.
За всадником шагала колонна солдат, человек в сто — все в траурных пышных одеяниях, с такими же факелами в руках. Но держали они их уже над головами, и отблески пламени хорошо освещали следующую за ними шестерку вороных коней, накрытых роскошными черными траурными попонами, шитыми золотом и серебром.
Лошади тащили небольшую погребальную колесницу с маленькими позолоченными колесами. Именно на ней делали последнее путешествие в усыпальницу Петропавловской крепости русские императоры и императрицы.
По обе стороны от повозки степенно вышагивала восьмерка гренадер, держа фузеи на вытянутых вперед руках. Пламя множества факелов зловеще отражалось на стальных жалах штыков.
А на повозке стоял золоченый гроб с закрытой крышкой, поверх которой была наброшена горностаевая мантия — наряду с короной главный элемент торжественного императорского облачения.
Освещенный факелами гроб всей массой давил на души верноподданных — многие плакали и вставали на колени, осеняя себя крестными знамениями и бормоча молитвы за упокой души несчастного царя.
За повозкой два разодетых солдата несли на черных атласных подушках шпагу с золотым эфесом и голштинскую треуголку с пышным плюмажем. А завершала траурную процессию колонна солдат с факелами, пышно одетая в погребальную форму…
И только слухи накрывали город, по улицам которого величаво плыл в последнем плавании траурный императорский кортеж.
— Гвардейцы в Ораниенбауме Петра Федоровича убили, пулями беднягу изрешетили. Царствие ему небесное! А голштинцев его всех штыками перекололи до смерти. А фрейлин царских всех снасильничали жестоко и в канале несчастных утопили. Ой, Матрена! Горе-то какое, царя нашего природного, благодетеля-кормильца, хоронить везут….
— Эх, Кузьма, вот и смертушка императора нашего накрыла, закололи его измайловцы штыками. А дворцы все ограбили и огню Ораниенбаум предали. А добра-то сколько уволокли, эх, нас там не было — и золота с серебром, и утвари с каменьями, и одежды дорогой немало…
— Да, любезный. Недолго Петр Федорович на своей скрипке пиликал. Вот и за ним пришла костлявая… в обличии семеновцев. И выместили гвардионцы свою злобу… Фрейлин только жалко, изнасиловали бедных. Ну, ничего, от них не убудет, лишь бы дурной болезнью не наделили…
Ораниенбаум
Петр закурил папироску, на душе чуть-чуть полегчало, мысли заворочались веселее.
«Почти полторы тысячи матросов и солдат, полтора десятка орудий — с ходу сломить такую оборону в деревянно-земляной крепости и каменном дворце непросто будет. А это значит, что сегодня крепость продержится. Завтра наверняка сюда тяжелые орудия из Петербурга доставят, и матросам тогда весело станет, как мышам в духовке. Но вот времечко-то гвардию уже подожмет — завтра же Миних десант высадит в столице, и им станет не до осады игрушечной крепости и дворца. Есть шанс удержаться у Спиридова. Небольшой, но есть…»
Петр спокойно изложил свои мысли командору — моряк молчал, что-то прикидывая, но вот страха у Спиридова не было, прекрасно понимал, что в новый чин за красивые глазки не переводят.
— Ваше величество, я буду оборону держать до последнего матроса, живым я крепость изменникам не сдам. Клянусь честью!
Петр увидел, как из-за дворца выскочили несколько верховых и споро направились к ним.
В одном из них он узнал кирасира, адъютанта генерала Михаила Измайлова, и похолодело внутри — он ясно различил, что у офицера на голове окровавленная повязка. Два других всадника были казаками его личного конвоя.
«Наверно, от аванпостов скачут!» — пронеслась тревожная мысль.
— Ваше величество, вот пакет от генерала Измайлова! — Кирасир тяжело сполз с коня, его пошатывало.
— Что там?! Лекаря сюда! Ты ранен?
— Полковник Олсуфьев пытался поднять свой полк на мятеж и был застрелен. Убиты несколько офицеров и солдат, кои тоже изменили присяге. Воронежский полк с артиллерией в четыре пушки и с приданной сотней казаков идет маршем на Гостилицы. Еще четыре казачьих сотни генерал Измайлов определил для блокады Петербурга с юга. А я с лошадью упал, потому и задержался в дороге. Простите, ваше величество…
— Отведите во дворец, — Петр обратился к адъютантам, — пусть лекарь помощь окажет. Накормить и уложить спать. Да… Ты молодцом держался, благодарю за службу и присваиваю тебе следующий чин.
К великой своей стыдобе, Петр так и не разобрался, какие знаки различия сейчас в русской армии — погоны на форме у всех отсутствуют, а в позументах, нагрудных бляхах да галунах сам черт не разберется, ногу сломит. Что уж требовать от студента-недоучки?
Петр вскрыл пакет с донесением, прочитал и облегченно вздохнул. Это была хорошая новость — сегодня к вечеру у Гостилиц соберется изрядное войско.
Быстро прикинул в уме — голштинцев уже 7 рот, включая егерей, 12 рот воронежцев и столько же рот кроншлотцев к утру будет. Всего 31 рота, то есть более четырех тысяч штыков. Да кавалерии голштинской две роты и две сотни казаков — еще с полтысячи сабель. Да орудия полевые в кулак единый собрать надо — семь у голштинцев и по четыре у воронежцев и морпехов.
А ведь еще в Ораниенбауме гарнизон солидный из шести смешанных рот голштинцев и моряков имеется и с ними 14 морских крупнокалиберных орудий и пять полевых. Еще с юга Петербург четыре сотни казаков обложили. С такими силами Катькиным орлам можно по полной программе всыпать…
И тут пришлось все же оторваться от мыслей — пришли канцлер, принц, генерал Шильд и секретарь Волков, трезвый, в очередной раз, как стеклышко. Подошли и выжидающе посмотрели.
Петр наскоро написал ласковое письмо генералу Румянцеву и вручил его принцу Георгу, приказав тому отбыть на галере вначале в Нарву, а оттуда плыть обратно в Кронштадт в подчинение Миниху.
Избавившись таким образом от принца Георга, Петр приказал генералу Шильду передать новому коменданту крепость и войска, а самому принять под начало прибывшую галерами морскую пехоту с орудиями, взять еще с крепости три полевые пушки с упряжками и зарядными ящиками и с обозом двигаться на Гостилицы. С Шильдом должны были уехать канцлер и Волков с необходимыми чиновниками (казна уже ушла с первой колонной).
Подошедших следом братьев Нарышкиных Петр обругал за медлительность, приказал собрать всех придворных и имущество и к утру покинуть Ораниенбаум, отплыв в распоряжение Миниха. Продиктовав еще несколько приказов и распоряжений, Петр посмотрел на Гудовича:
— Конница наша уже готова, Андрей Васильевич? Тогда вперед, трубите поход!
Гудович влез на коня и поскакал к казармам — деревянные бараки и конюшни стояли вне крепости, за дворцом. Петр посмотрел на адъютантов — у тех ни капли сомнения в успехе, причем это не наиграно, было бы видно.
Но не успел как следует пережевать мысль, как на него, не говоря лишних слов, стали надевать кирасу — две выпуклых железных пластины с серебряной чеканкой. Красивая…
Петр хотел было заерепениться: «За труса меня держите?!» — но внезапно понял. Ведь они просто беспокоятся за его жизнь, жизнь императора. Поэтому он спокойно дал навесить на себя железо. Неприятное ощущение, будто разжирел на пуд да пива при этом неумеренно выпил. За Большим дворцом в это время загремели трубы…
— Отставить, снимайте с меня кирасу! — Петр решил не утяжелять себя. — Перед боем ее напялите. Я на вас надеюсь, а не на это железо.
Офицерам комплимент пришелся по душе, и тяжесть с плеч исчезла. Петру подвели лошадь и поддержали стремя.
Он легко запрыгнул в седло, взял в руки поводья и тронул с места четвероногую копытную подругу. Держался он в седле уверенно — в детстве у деда на хуторе каникулы проводил, да и у отца, в станице, кони всегда любимой привязанностью были, с той войны еще далекой, с немцами.
А служил отец с призывом сорок четвертого в гвардейской донской казачьей дивизии, в конно-саперном эскадроне. Так что хоть и безусым совсем был батя тогда, а войны хлебнул полной ложкой…
Копорье
Шесть башен старой Копорской крепости замыкали небольшой внутренний двор с церковью и десятком казенных зданий. Еще сто лет назад цитадель была опорой шведского могущества в Ингрии, но потом ее роль перешла к Нарве и Ямбургу.
Сейчас эта древняя новгородская твердыня окончательно захирела. И лишь близость к императорским дворцам в Ропше и Ораниенбауме заставляла держать здесь незначительный гарнизон из двух гренадерских и трех пехотных рот, а также полный драгунский эскадрон.
Войска сборные, надерганы поротно из разных полков. Была в крепости и постоянная инвалидная команда, что несла службу на почерневших от времени каменных стенах и приземистых башнях.
Вот только служба солдатская отдыхом после войны с Пруссией казалась. Комендант, пожилой майор Пашков, учениями солдат не донимал, в караулах стоял от силы взвод, а разбойничков и татей шатучих поблизости, даже в местных густых лесах и непроходимых болотах, не водилось. Разве это служба — скукота вечная. Ни трактира тут рядом, ни девок веселых, гулящих, солдатам в просьбах безотказных.
Драгунам только хорошо — разъездами местность постоянно проверяют, в Ропше, Ямбурге и Нарве часто бывают. Такое про тамошние кабаки с девицами веселыми рассказывают, что у фузилеров и гренадеров скулы сводит от лютой зависти.
Единая услада для всех — за милой дочерью коменданта Глафирой посматривать. Румяная, красивая и добрая девушка всем по сердцу пришлась, но вот одна беда у нее — бесприданница. С вдовым отцом на жалованье только живут, а поместья с крестьянами для прокормления у них отродясь не было — захудал совсем их древний род…
Поручик голштинской гвардии Павел Берген, несмотря на жуткую усталость — ведь восемь часов в дороге провел с малым отдыхом, был уже полностью доволен жизнью. Теперь долгожданный чин штабс-ротмистра от него не уйдет, поручение императора, как ни крути, он полностью выполнил, честно, и в сроки уложился.
К счастью, коменданта Копорья заговорщики к себе не привлекли, наверное, им слишком ничтожным показался забытый в лесах и болотах гарнизон захолустной крепости.
К счастью и для него, поручика Бергена, и для этого пожилого майора-вдовца, которого пришлось бы сразу или арестовать, или убить, вздумай он только помыслить о мятеже.
А для того и манифест царский солдатам сразу же прочитали, и императорский приказ огласили для войск гарнизона. Так что старого служаку, окажись он тоже изменником, как некоторые иные армейцы, собственные солдаты в один миг на штыки бы подняли, не посмотрели бы на слезы красавицы-дочери.
Хороша Глафира, и офицер впервые в жизни подумал, что неплохо бы ему на ней жениться. А что бесприданница, так и у него не очень роскошное поместье под Ригой…
Берген устало завалился на повозку — надо было поспать хотя бы пару-тройку часов, иначе длительного перехода до Гостилиц он просто не выдержит. Беспокоиться уже было не о чем — пехота двигалась бодро, и пешком, и на повозках, меняясь местами каждый час — кому пылить башмаками, а кому на мягкой душистой траве ехать. Драгуны уже давным-давно вперед ушли — на Гостилицы, где было назначено место сбора верных императору Петру Федоровичу войск…
Ораниенбаумская дорога
Первыми по приморской дороге на Петергоф шли гусары — одна рота всего, но большая по численности. Петр до ста двадцати колпачников насчитал, пока мимо себя этих «канареек» пропускал.
Вооружена была гремучая русско-немецкая смесь изрядно, у всех по сабле и паре пистолетов в кобурах, у многих короткие ружья с воронкообразным дульным отверстием — тромблоном.
Хитрое приспособление: и заряжать можно намного быстрее, не боясь, что порох мимо дула просыпаться будет, и картечь через эту воронку в разные стороны полетит. Одна беда у этих дурил — бьют недалеко, на полста шагов, чуть дальше пистолета. Это Петр знал по литературе, посвященной войне 1812 года.
А вот у драгун, что пошли вслед Петру с его голштинско-казачьим конвоем, оружие более основательное — пара пистолетов, длинный прямой палаш с витым эфесом, хорошо защищающим кисть от ударов, к седлу у всех приторочено ружье. Только в роте народа несколько меньше, человек девяносто. Но великолепно вышколены были «прежним» — идут ровно, шеренги в три всадника, соблюдают строй.
И разговорчики между солдатами напрочь отсутствуют — бритые лица угрюмы и суровы. Но на вид, конечно, вояки хорошие, что те, что другие, вот только как себя в первом бою поведут, неизвестно, вилами по воде, что называется, писано. Шли широким шагом, на рысь переходили изредка, силы лошадей для скорого боя с гвардией берегли.
Петр стал подремывать в седле — ночные бдения его уже порядком измотали. И в самом деле — то баба с сексуальными приставаниями, то дедушки-мордовороты с поучениями телесными, то эта война против собственной жены с ее солдатами и генералами. И лишь краем взгляда скользил по окрестностям, любопытство дремотой не заглушив…
И тут словно током ударило. Петр приподнялся в седле, осмотрелся — сердце быстро забилось в груди, а душа заныла — оно это, оно.
— Стой! Всем спешиться! — громкий крик императора остановил на дороге его воинство.
Драгуны стали сразу же, а гусары еще немного прошли вперед и остановились у живописной рощицы. Петр обернулся к Гудовичу:
— Как ты думаешь, генерал, если за пригорком развернуть шеренгами драгун, их с дороги видно будет?
Назначенный командующим малочисленной голштинской кавалерией, Гудович обернулся назад и долго смотрел на пригорок, с которого пять минут назад сам спускался.
— Нет, ваше величество, видно не будет.
— А вот за той рощей, что справа впереди, если гусар поставить, их с дороги видно будет?
— Нет, государь, вряд ли можно будет разглядеть, — голос генерала выражал недоумение.
— Ну, вот и чудненько, генерал. Слушай новую диспозицию. За пригорок поставишь драгун, стремя к стремени, один взвод с правой стороны, другой слева, в две шеренги. За той рощей наших гусар хорошо спрячешь, по обе стороны по взводу. А вон за тем дальним пригорком видишь густую рощицу?! Там сотню Денисова спрячь, и от Петергофа донцов полностью отводи — оставь там один десяток. И еще десяток гусар направь к ним, на лучших лошадях.
— Ваше величество, вы хотите здесь засаду на авангард поставить?!
— Да, генерал. Вот только на авангарде пасть порвать можно — впереди гусары или конногвардейцы пойдут, эскадрон или два — самое большее. Вот их бить и будем, а гвардейская пехота на отдалении изрядном от нас будет, за лошадьми на своих двоих далеко не угонишься. Думаю, что пока мы будем здесь конников резать, инфантерия еще в Петергоф заходить будет, да там и отдыхать от марша станет.
— Государь, я все понял, но внезапной атаки на изменников не получится — у нас здесь триста конных, может быть шум, кони ржать тоже будут. И внезапность утратим, а мятежники к атаке успеют подготовиться или вообще в западню не пойдут.
— Ты прав, Андрей Васильевич, но нужно сделать так, чтобы пошли, обязательно пошли. И в бутылку, им здесь подготовленную, сами бы полезли. И способ один есть…
— Ваше величество, я искренне восхищаюсь вами! Так вот для чего у Петергофа вы по десятку гусар и казаков оставили! Они в бегство ударятся, а гвардейцы за ними неизбежно в погоню пойдут и по всей дороге вытянутся. А в скачке, да еще со стрельбой, услышать другой шум почти невозможно. Вы правы, государь…
— Так и командуй кавалерией нашей, генерал. Тебе же и боем предстоит руководить! — Петр внутренне ухмылялся, искренняя похвала генерала Гудовича была им совершенно незаслуженна.
«Просто я использовал старый армейский способ — сам не решай, предложи подчиненным, а потом из их предложенных решений выбери наилучшее. Хорошо обдумай, добавь свое, а решение задачи снова на ретивых подчиненных переложи. Успех достанется тебе, а в случае неудачи крайних искать легко.
Я просто опять уловку применил, чтобы они своими мозгами думали. Но самолюбие вчерашнего сержанта приятно ласкает — нижний чин генералами спокойно распоряжается и им приказы отдает. Да что там генералы — двух фельдмаршалов недавно строил. Вернее, только одного, второго хрен построишь, боязно. Он сам кого угодно построит, да еще барабанными палочками по черепу походный марш сыграет, чтоб на воинской службе не расслаблялись. Суровый вояка, преданный, таких холить и лелеять надобно и к сердцу близко держать…»
Петр отъехал за рощицу в сторону, спешился. Сам отпустил подпругу у кобылы, скормил ей кусок булки, погладил по мягкому носу. Та в ответ благодарно хмыкнула и попыталась чисто по-собачьи засунуть свой нос ему в подмышку. Император улыбнулся краешком губ, видя такое нежное проявление чувств у бессловесной подруги.
Закурил папироску и медленно дымил, пока адъютанты готовили ему походную постель — бросили на траву плащ, второй свернули подушкой, третий послужил одеялом. Докурив папиросу, Петр улегся на импровизированное ложе и почти сразу уснул — спокойно, глубоко и без всяких будоражащих душу сновидений…
Гатчина
Тяжело на посту ночью стоять, особенно под утро, когда глаза сами от сна слипаются. Но караул нести надобно, даже когда твой драгунский эскадрон биваком расположился в самом пригороде столицы.
Драгун Степан Злобин сплюнул, поднял фузею, положил тяжелый ствол на плечо и продолжил хождение — пять шагов вперед, поворот, пять шагов назад, поворот и опять. Сколько таких вот караулов и непрерывных хождений пришлось ему нести за десять лет службы…
Времена смутные наступили — вчера гвардейцы в Петербурге восстание подняли супротив природного царя Петра Федоровича. Драгуны к полученному вечером этому известию отнеслись негативно — вольно же лейб-гвардии императорским престолом по своей прихоти распоряжаться. То барская затея, простым солдатам и чуждая, и совсем ненужная.
К царю-батюшке отношение двоякое у солдат было — хороший государь, войну ненужную поспешно закончил и жизни солдатские сберег многие. Только вот не надо ему немцами себя близко окружать да нашу церковь православную утеснять. Хотя в последнем Степан сильно сомневался, хоть в манифесте государыни императрицы о сем говорилось. Но пишут же ведь что угодно, бумага-то все стерпит…
Вчерашним вечером к ним из самой столицы секунд-майор гвардейский с конногвардейцами прискакал, чтобы присягу царице Катерине Алексеевне учинять войскам, в Гатчине расквартированным.
А какие тут войска, горе одно — их эскадрон приблудный, так до своего полка в Риге не дошедший, рота ланд-милиции да инвалидная команда. И еще депо конное, но там конных гренадеров всего три десятка, а приборных лошадей вообще еще нет.
В Гатчине сплошная стройка идет, дворец со зданиями хотят возвести, а в крестьянских домах много ли войск поставишь на постой. То обывателям в тягость сильную…
Вот и согнали всех на площадь: и солдат, и население. Манифест смутный огласили, непонятный. Хотели присягу тут же спроворить, но не вышло — батюшка Афанасий сильно занедужил, а старенького отца Федосия на соборование позвали, поминальную службу по усопшему генерал-майору всю ночь читать, и лишь утром священника привезут, присягу императрице Екатерине Алексеевне всем миром принимать.
Майор тот вычурно ругался, когда узнал про задержку с присягой, но смирился вскоре и с гвардейцами своими в барской усадьбе обосновался.
Степан посмотрел на ярко освещенные большие окна господского дома — гвардейцы гульбу веселую продолжали, все свое удачное выступление в столице отмечали — и водкой, и винами многими.
Старый драгун сглотнул слюну — ну хоть бы чарку зелья малую поднесли. Нет, о солдатах даже не подумали…
Вот только домыслить Степан не успел — на шум обернулся и обомлел. За спиной драгуна четверо выросли, как из-под земли, бородатые, в папахах, с кривыми саблями.
«Казаки!» — пронеслось в голове.
И хотел было Злобин «алярм» кричать, да только не успел. Горло сдавили, ружье отняли — и разбойничий свист лихой раздался. А через считаные секунды конные по дороге нагрянули, много казаков, сотни две с лишним. И с разных сторон донцы хлынули на дома, где постоем драгуны встали, на казарму ланд-милиции, на усадьбу, где гвардейцы гуляли. Крики, вопли, свист, стрельба.
Степан рванулся всем телом из крепких казачьих рук, почти освободился от захвата и треснул казака кулаком в лоб. Станичника снесло с ног, упал в пыль ничком. Солдат возликовал было, но рано обрадовался. Тут в его голове огромное солнце взорвалось на тысячи кусочков, и сразу нахлынула темнота. От сильного удара рукоятью пистолета по не защищенной хотя бы шляпой голове старый драгун рухнул на землю…
— Степа, давай же, очухивайся, а то и так все интересное проспал! — Струйка холодной воды из фляги, пущенная прямо на лицо, привела Злобина в сознание. Солдат раскрыл глаза, голова жутко болела, в глазах помутнение — лица не разберешь, расплываются в тени.
Но руки слушались — Степан легонько коснулся темечка и взвыл от боли. Там была здоровущая шишка с полвершка размером, как пять лет назад, когда палаш прусского кирасира шляпу на нем полностью разрубил, а потом по буйной головушке прошелся. Но сейчас, слава господи, только шишка, а крови не было…
— Что, Степушка, никак у тебя рог на голове вырос, а ты ж холостой пока. Ну, ничего, через пять лет женишься, и жинка тебе другой такой наставит с соседом, для красоты! — Веселый гогот солдат окончательно привел Степана в чувство реальности.
— Какие пять, мне еще лямку тянуть и тянуть…
— А вот и хрен, Злобин! — Федя Мокшин тряхнул его за плечи. — Через пять лет мы с тобой земли полтора десятка десятин доброго надела получим, лошадь, да по сотне рублей на обзаведение. Да на тридцать лет от сборов и податей нам освобождение полное. Государевыми вольными хлебопашцами мы с тобою теперь станем.
— Как так, Федя? Не может такого быть?!
— Может, Степа, может. Вот она, правда царская. Нам благодетеля нашего, государя-батюшки Петра Федоровича манифест прочли, пока ты дрых, окаянный. Всего пятнадцать лет справным солдатам служить теперь дадено, а там либо хлебопашцем становись, либо торговлишку свою открывай да на ежегодный пенсион живи, как сыр в масле катайся. Вот она, благодать-то настала. Послужим императору крепко, Степа. В поход сейчас выступаем, гвардию бить пойдем, что супротив манифеста встала. Наконец сбылось солдатское счастье — из гвардейцев красные сопли выбить!
— А майор со своими где? В усадьбе еще?
— Вон там он, майор, на дубе уже висит, ворон теперь кормить будет их сиятельство, изменник проклятый. Повесили мы его и злыдней гвардейских. По приказу царскому всех казнили…
Степан поднялся на ноги, поддержанный другом, и огляделся вокруг. Драгуны весело седлали коней, быстро орудуя шомполами, заряжали пистолеты и ружья, а некоторые точили палаши.
Среди драгунских шляп мелькали высокие шапки конных гренадеров с медными налобниками. Посмотрев в правую сторону, Степан замер — на дубе качалась гроздь из человеческих тел…
Ораниенбаумская дорога
— Ваше величество, проснитесь! — Голос Гудовича мгновенно пробудил Петра. — Гусары мятежников вышли из Петергофа. Их чуть больше одной роты будет. Двинулись сюда и скоро на наших дозорных наткнутся.
Петр вскочил на ноги, и один из адъютантов стал лить из фляги в его ладони холодную воду. Умылся, разбрызгивая капли по сторонам, вытерся маленьким полотенцем. Наскоро закусил хлебом с ветчиной и запил из фляги соком. После куцего завтрака закурил, привычно держа папиросу в ладони и дымя только вниз.
Спокойствие было полнейшим, почти олимпийским, но где-то глубоко в груди чуть шевелился червячок сомнения. Петр огляделся. Все как на ладони — впереди наискосок петляет широкая грунтовая дорога, а слева крутой пригорок. За ним спешенные драгуны держат лошадей под узды.
Далеко правее, за рощей, еле видны гусары. Где-то впереди были казаки, но вот разглядеть их сейчас невозможно — и далековато, и высокие деревья впереди своими кронами сильно мешают.
Петр прищурился и тут же расслышал негромкие хлопки не слишком далеких от него выстрелов. Судя по звуку, стреляли версты за полторы, плотно стреляли.
Началось! Петр машинально откинул крышку здоровенных, с два кулака, часов и отметил время — четверть шестого. Драгуны и гусары уже садились на коней. Рядом с Гудовичем, напряженно хмурившим брови, топтались два трубача с золотыми полосками нашивок на плечах.
Адъютанты немедленно стали надевать на Петра кирасу, щелкнули застежки пряжек. Стало тяжеловато, но Петр искренне радовался, что он не один такой — на Гудовича тоже навьючили железо. И понятно — императора и генерала надо беречь…
На дороге показались бешено несущиеся всадники — он узнал своих гусар и казаков, всего с десяток, и машинально отметил про себя, что половина из дозорной группы заманивания отсутствует.
А за ними наметом неслись гусары в таких же дурацких колпаках, но в темно-красных ментиках. На глазах Петра чуть отставшего казака сбили с коня выстрелом. Донец, раскинув руки, упал на дорогу и был тут же затоптан копытами коней разъяренных преследователей.
Петр сжал кулаки и прыгнул в седло. Краем глаза он отметил, что Гудович поднял руку и что-то скомандовал. И тут же взревели горны пронзительным, разрывающим душу, сигналом. И завертелось…
С хэканьем, держа палаши над головами коней, на пригорок выскочили драгуны и, огибая с двух сторон дозорных, со всего маха врубились в тонкую цепочку преследователей, буквально размазав первые три десятка вырвавшихся вперед гусар по дороге.
Надо отдать должное темно-красным — они не сделали попытки развернуть лошадей, и более полусотни гусар с ходу врубилось в его голштинских драгун.
Правее и дальше тоже было весело — «канарейки» и донцы накинулись коршунами на мятежников. Вдоль всей дороги пошла безжалостная резня. И не могло быть иначе — более двухсот гусар и казаков внезапно обрушились на втрое меньшего противника, к тому же пойманного в преследовании и не успевшего развернуться для боя. И потому пошла не схватка, а нещадное избиение.
Петр подобное видел только в кинофильмах, но никогда там не показывали такого ужаса — стоны, рев, ржание, звон клинков и дикие крики умирающих, когда душа с болью вылетает из тела. И запах крови, осязаемый запах, который будоражит душу, пробуждает древние хищные инстинкты.
Такого он не испытывал даже в Афганистане, хотя и там проливалась кровь и бил по носу запах пороха. Но там было намного слабее, а здесь будто накинули одеялом, и все — нет ничего, только появляется в душе жестокая свирепость, выпускает когти древний, крови алчущий зверь…
С десяток красных гусар вырвались из кровавой круговерти схватки и устремились на отчаянный прорыв, когда даже лошадей терзают до бешенства. Лишь бы вырваться, уйти, спастись из этого кровавого безумия.
Ими командовал рослый офицер в конногвардейском мундире, единственный такой среди гусар. Избрал он только один оставшийся путь к спасению, промежуток между голштинскими драгунами и гусарами.
Опрокинув в сторону мощным напором голштинских гвардейцев, беглецы понеслись, как им казалось, к спасению, но на самом деле к смерти — они скакали прямо на него, стоявшего за деревьями с конвоем из казаков и адъютантов.
Петр выхватил из ножен шпагу, тронул лошадь на шенкелях и поскакал на сшибку. Краешком глаз он видел слева и справа своих конвойных, те всячески торопили коней, отчаянно пытаясь вырваться вперед, закрыть собой императора. Поздно, не успеть им никак, сошлись уже с гусарами лоб в лоб, и схватки не миновать.
Здоровенный мужик сильно замахнулся палашом. Петр кое-как успел откачнуться в сторону, выставив навстречу противнику «трофейную» шпагу. Страшный удар обрушился на грудь и откинул его на спину лошади, руку тряхнуло и шпагу вырвало из пальцев… И небо, светлое небо раскинулось перед глазами, умиротворенное, ведь там нет войны.
Если бы сейчас Петр наткнулся на темно-красного гусара, то с ним было бы кончено — он лежал на лошади безоружным и совершенно беспомощным.
Грудь болела от удара, и Петр, кряхтя, поднялся в седле. Врагов перед ним не было, и он скосил вниз глаза. «Ни хрена себе, так этот сучий выкидыш кирасу почти прорубил. А если бы по башке палашом попал?»
И Петр похолодел — это был бы полный капец, тот, который подкрадывается незаметно. И его тут же схватили крепко за локоть. Петр оглянулся — усатый адъютант был бледен, глаза выпучены, как у рака.
— Государь, вы не ранены?! Слава богу! Вы ему прямо в плечо шпагу свою по рукоять воткнули, ваше величество. Одним ударом с коня сшибли! Это же меченый, ла балафре. Алексей Орлов!
В голосе адъютанта слышался нескрываемый восторг, он сияющими глазами смотрел на императора, как на античного героя.
«Ну и… Мать его за ногу, с этим меченым… Что?! Я заколол самого Алехана, того, кто графом Чесменским был. Вернее, стал потом. И что же, не будет он при Чесме, и графом не станет? И меня уже не убьет… Так ведь история изменится?! И черт с ней, пусть меняется — тут или он меня бы завалил, или я. Но я-то успел раньше!»
Бой почти закончился — бежавшие влево гусары дружно попадали в овраг, их сверху добивали казаки, звучали пистолетные и ружейные выстрелы. Вся дорога была густо, как пашня, засеяна трупами, в большей массе в темно-красных ментиках.
Кое-где виднелись туши павших коней, но в большинстве своем копытные ходили уже спокойно, хотя и вздрагивали иные лошадки от раздававшихся выстрелов. Вот уж кому безвинно погибать приходится…
Петр заворотил лошадь — позади тоже все было кончено. Гудович в поцарапанной кирасе отдавал распоряжения адъютантам. На земле лежали тела восьми темно-красных, двух голштинцев и казака. Два донца с кряхтением выдергивали пики из трупов.
Петр с седла посмотрел на сидящего Алехана. Здоровый детина, плечи широченные, на лице застыла гримаса боли. Жив курилка, и еще в полном сознании. Торчащую из плеча Орлова шпагу казаки быстро выдернули — тот только еще сильнее побелел, но не стонал.
«Кремень-мужик. Гвозди бы делать из таких людей, да потом молотком по шляпке, гад гвардейский!»
Конвойный казак взял шпагу императора, тут же стер кровь с клинка об чекмень и с поклоном протянул Петру.
— Матерого волка с коня свалил ты, царь-батюшка! Одним ударом! Кто же тебя казачьему нырку научил, государь? Ты его сразу нанизал и от удара палаша в сторону ушел!
— Да не ушел я, казак. Видишь сам, кирасу на мне почти прорубил.
— Нет, государь. Раз раны не получил, значит, увернулся, а того сразу ссадил. Ты бы лучше саблю взял, государь, тогда бы поперек живота его рубанул, а пырнуть шпагою трудно, можно и не попасть!
— Ну, попал же. Алехана этого перевязать да в Кронштадт под охраной доставить…
Содержательный диалог царя и казака прервал генерал Гудович, громким голосом доложивший:
— Ваше величество, виктория! Половину гусар порубили, другую половину в плен взяли, многих ранеными, их сейчас казаки вяжут. Никто из изменников не ушел, здесь всем скопом остались. А вот наши потери небольшие — десять погибло, два десятка ранено, семеро из них тяжело, а остальные драться могут.
— Отдыхать полчаса всем. Потом на рысях идем к Петергофу и рубим пехоту, пока те на биваке отдыхают. Казакам обойти Петергоф и ударить с тыла. Пленные офицеры есть? Подвести.
Приказ был выполнен с потрясающей быстротой — не прошло и двух минут, Петр даже не успел выкурить папиросу, как казаки привели к нему офицера в изодранном и окровавленном ментике.
Лицо тоже было все в крови, и, приглядевшись, Петр увидел, что с его правой щеки аккуратно так стесали клинком кожу, что ее лохматый лоскут висит на подбородке. У гусарского офицера были мутные от боли, красные, как у кролика, воспаленные от бессонной ночи глаза.
«Вот потому-то мы и порубили сербских гусар столь быстро и качественно — от не спавших ночь и похмельных всадников серьезного отпора никогда не встретишь».
— Кто ты таков? — суровым голосом спросил Петр гусара.
— Поручик Михайлович, ваше величество. Казните меня, воля тут ваша! — Гусар встал на колени и склонил голову.
— Если всех присягнувших дураков, — Петр выделил последнее слово, — я казнить велю, так Петербург наполовину обезлюдеет, и ради чего? Чтоб моя супруга императрицей стала и государство с казной своим любовникам на разворовывание отдала. Ради этого вас, придурков, водкой на дармовщинку и поили все эти дни. Вот вы спьяну, да еще всю ночь не спавши, в нашу засаду и залезли. Людей зазря погубили, вояки. Неужто думали, что русский царь труса праздновать станет и от изменников побежит?!
Петр внезапно соскочил с лошади, крепко ухватил офицера за мундир, рывком поднял с колен. В нем закипела ярость, и он хрипло закричал в лицо пленному сербу:
— Вы что делаете?! Вы же кровь проливать царскую вздумали и считаете, что безнаказанными будете? Я завтра-послезавтра полки соберу и гвардию, как клопа сытого, одним махом раздавлю, только ошметки кровавые по сторонам брызнут! Мне людей русских жалко, а вы кому поверили?! Тем, у кого мошна набита, кому на народ русский плевать, лишь бы самим в неге жить, мужиков пороть да девок сильничать. Вы им поверили, идиоты?! Веру я православную хулю? Ложь грязная и мерзкая! Ты манифесты мои почитай, которые от вас, дураков, скрыли. Дайте ему, пусть своим прочтет, здесь. И грамоту донскую дайте, пусть тоже читает. Я же на вас, сербов, грамоту эту хотел распространить, а вы мне измену! Хрен теперь вам, пока кровью вину не искупите, поди прочь, иуда православия! — Петр отшвырнул от себя серба, отошел, жестом потребовал папиросу.
Курил взахлеб, только руки от гнева тряслись — он сам верил в то, что говорил…
— Ваше величество, надо уже выступать! — Голос Гудовича вывел Петра из размышлений.
Он огляделся — сотня Денисова ушла авангардом, гусары и драгуны построились в колонну. В стороне, на коленях, стояло с полсотни сербов, склонив головы. Петр сплюнул и подошел к ним.
— Секи нам всем повинные головы, государь, но отвороти свой гнев от народа нашего! — ему показалось, что гусары сказали одновременно. И Петр решил рискнуть:
— Крест целуйте, что служить будете верно и храбро, и измену больше не затеете, и в бою не побежите, как трусливые зайцы!
— Клянемся, государь!
Сербы доставали крестики — кто медные, кто серебряные. Приложились к ним губами. Разом встали с колен, повинуясь властному жесту Петра, споро застегнули свои изодранные мундиры.
Петр внимательно посмотрел на них — вояки смелые, ничего не скажешь. Семьдесят шесть их полегло в бою, семьдесят три в плен попало, и лишь двадцать повязок окровавленных не имеют. Из раненых более двадцати тяжелых — морока теперь одна с лечением и выхаживанием будет.
— Кто ваш командир и сколько эскадронов полка осталось с мятежной гвардией? — задал он вопрос Михайловичу.
— Командует полковник Милорадович, — с готовностью ответил поручик, — а эскадронов три осталось, четвертый здесь полег…
— И напрасно полег! — жестко отрезал Петр. — Ох, и дурные вы! На братоубийство вас толкнули, а вы и пошли. Дурни! В общем, так — пусть здоровые гусары берут коней, оружие, припас всякий. Скачите, не мешкая, к эскадронам, да манифесты прочтите. Если вечером ко мне не придете, с изменниками разорвав кровью, буду считать вас только иудами и народу вашему в покровительстве откажу. О мертвых и раненых побеспокойтесь с казаками, я их десяток оставлю вам. Похороните, как людей, ибо не тати они, а души заблудшие. С селения крестьян с подводами пригоните и всех раненых по домам на лечение определите. Все, ступайте.
Петру подвели лошадь, поддержали стремя. Усевшись в седло, он махнул рукой. Повинуясь приказу, длинная колонна голштинской конницы тронулась шагом, перейдя вскоре на рысь…
«Красный кабачок»
— Ваше императорское величество, только что верный человек с Ораниенбаума прискакал!
Зашедший без доклада в комнату Екатерины Алексеевны фельдмаршал и гетман Кирилл Григорьевич Разумовский не скрывал некоторой обеспокоенности.
— Что там, мой милый граф?
Императрица если и была недовольна, что ее завтрак прервали, то никак не показывала это. Наоборот, была сама любезность. Да оно и понятно — свой нрав не показывают, пока на престоле непрочно сидят и еще покачиваются.
— Голштинские войска генерала Ливена с канцлером и обозом вечером покинули Ораниенбаум и идут маршем на Гостилицы. После полуночи, ваше величество, из Кронштадта в Ораниенбаум пришел галерный флот, с него высадили более тысячи человек десанта, их на помощь императору отправил фельдмаршал Миних.
— Миних в Кронштадте?! — Голос Екатерины Алексеевны заметно дрогнул.
Новость была действительно ужасной для ее планов. О завтраке она и княгиня Дашкова моментально забыли, хороший аппетит такая весть отбила у подруг сразу и начисто.
Старый фельдмаршал был полностью предан ее глуповатому супругу. И даже не это главное. Бурхард Миних умел говорить с солдатами, хорошо знал их, был предприимчив и решителен в делах и боях. Но самым страшным было то, что кровь лить он не боялся…
— А что адмирал Талызин? — с надеждой спросила императрица.
— Повешен на флагмане, государыня. А офицеров гвардии, с ним прибывших, прямо на пристани растерзала в кровавые клочья пьяная матросня! — Голос Разумовского клокотал от еле сдерживаемого бешенства.
Такой прекрасный план — и рухнул в одночасье из-за происков старого Живодера. А иметь Миниха врагом, да еще в Кронштадте, где стоит главная эскадра флота, смерти неотвратимой подобно…
— Теперь флот в любое время может атаковать Петербург! — Голос княгини Дашковой задрожал от нескрываемого страха, она не сумела справиться со своими нервами.
— Дальше набережной не пройдут! — неожиданно спокойно сказала императрица Екатерина Алексеевна и проявила недюжинное знание военной стороны предмета. — У нас в столице до двух тысяч штыков одной гвардии оставлено. А на набережной велю пушки поставить с двух сторон Невы и крепость Петропавловскую приготовить. Пусть корабли идут…
— Вы мудры, ваше величество, но я думаю, в этом пока нет необходимости, — уже более спокойным тоном произнес Разумовский, выделив голосом слово «пока». — Миних готовит в Кронштадте только малые суденышки и галеры, а из команд больших кораблей формирует десант, который будет высаживаться не в Петербурге.
— Откуда вы знаете про действия фельдмаршала, милый граф? — нетерпеливо спросила гетмана Дашкова.
— У них разработан следующий план, — откровенно проигнорировал вопрос княгини Дашковой хитрый хохол, который ее недолюбливал, считая почти законченной стервой.
От «законченной стервы», которая ради своей выгоды не побоится кровь пролить и не погнушается в постель к кому надо лечь, Дашкову отделял лишь один шаг. И он не сомневался, что, когда придет время, она, не задумываясь, этот шаг сделает. Причем не только Кирилл Разумовский придерживался этой циничной точки зрения, но даже отец и дядя княгини.
Именно родного дядю, канцлера Михаила Илларионовича Воронцова, Дашкова упросила отправить ее мужа с каким-либо поручением подальше от Петербурга. Причину тоже убедительную придумала — якобы за январский конфликтный разговор император хочет наказать вспыльчивого князя.
Канцлер удивился, но просьбу выполнил. Так она одним выстрелом убила двух зайцев — и князь поверил наговорам и снова стал недолюбливать Петра Федоровича, и мужа устранила, который мог в случае чего помешать, отослала, а ведь князь Дашков мог поведать царю о многом, включая и то, как преображенец Пассек вызвался организовать пожар во дворце и во время неразберихи заколоть императора.
Не стал бы князь молчать, если бы что-то узнал о задуманном. Его дворянская честь и неприязнь ко всему подлому заставляла Дашкову брезгливо фыркать и морщиться, но именно этой прямоты своего супруга, который мог расстроить весь заговор, и испугалась новоявленная фаворитка свежеиспеченной императрицы. И сплавила муженька, предприняв меры, которые считала тайными.
А хитрый хохол об этой истории как-то пронюхал, иначе он повел бы себя совсем по-другому. Конечно, он дает ей понять, что от него шило в мешке не утаишь, но и она тоже держит в рукаве козыри и может в случае чего подкинуть императрице информацию о растратах, упущениях, нечаянных разговорах.
Слишком уж взлетел Разумовский за эти часы, воспарил в небесах орлом. Но ничего, дайте только зацепиться за власть, а там всем, кто косо смотрел, мало не покажется!
Дашкова, на минуту погрузившись в свои мысли, потеряла нить разговора, но, вслушавшись, сразу же ухватила суть:
— …Ваш супруг, государыня, остается в крепости с гарнизоном и кавалерией, а Ливен с голштинцами идет в сторону Петергофа по проселку, в десяти верстах от приморского тракта. И как только наша гвардия приступит к осаде Петерштадта, то Миних высадит десант с галер в Петергофе, и вместе с Ливеном нанесут удар в спину нашим полкам. А десант также будет высажен у Ораниенбаума, а флот проведет демонстрацию у Петербурга, дабы мы в столице гарнизон усилили, за счет войск здесь. Вот весь их замысел, очень опасный для нас…
— Мудро, — решила Екатерина и повторила вопрос Дашковой: — Но как вы узнали о замышляемой ими хитрости?
— Ваш супруг об этом открыто говорил, и его генерал-адъютант Гудович, и десант из Кронштадта. Там лишь три крупных корабля готовят к походу на столицу, приготовления все видели, вот и болтают повсеместно. А трех кораблей для штурма Петербурга крайне недостаточно, для такого дела целая эскадра нужна…
— Что вы предлагаете, граф? — вкрадчиво спросила императрица.
— Не торопиться, дать войскам отдохнуть. Наш авангард уже в Петергофе, через два-три часа туда подойдет и вся гвардия. Консилиум генералов решил атаковать голштинцев всеми силами после полудня и обходным маневром окружить их полностью… — тут Разумовский остановился.
Екатерина Алексеевна сразу уловила сарказм в голосе гетмана, когда он заговорил о консилиуме генералов — то была еще та веселая компания…
— И если ваш супруг откажется сдаться, то Петерштадт сжечь гаубицами, а их надо срочно доставить из Петербурга. А не устанавливать там на набережной. И после того уничтожить в генеральной баталии голштинцев. Уйти они не смогут — у нас одной кавалерии столько, сколько у них всех войск. А фельдмаршал Миних кораблями воевать на суше не сможет. А как пленим вашего супруга, то старый Живодер капитулирует уж сам и за смерть Талызина крепко заплатит.
Петергоф
В Петергофе царило веселье — подошедшая из Петербурга пехота отдыхала от продолжительного ночного марша. Петр в подзорную трубу хорошо видел, как солдаты лежали на траве у еще чуть дымящихся костров, как таскали им дворцовые слуги всякую снедь в корзинах, котлах и всяких ящиках. Ружья пирамидами стоят, хлеб есть с мясом, вино в бутылке — что еще солдату для отдыха надо?
Он сплюнул — обленилась совсем гвардия, о войне не помышляет. Разбрелись по дворцам, павильонам и парку, винцо потрескивают для лечения похмельных голов своих, дрыхнут всем скопом без задних ног и боевого охранения даже не выставили.
Момент был удачный для атаки с ходу. Петр щурил глаза — в Петергофе два батальона, пусть неполных, но это полторы тысячи штыков, а у него всего лишь три сотни всадников.
Атаковать с ходу полное безумие, ведь если завязнешь, то через час пехота мятежников по Петергофской дороге сикурсом подойдет — а это еще два батальона пехоты, да два эскадрона конной гвардии. И враз голштинцам станет плохо. Но решаться надо, ибо только в наступлении одерживается победа. И никак иначе.
Выдохнув сквозь стиснутые зубы воздух, Петр сглотнул и решительно поднял правую руку, сжав ладонь в кулак, — и тут же пропела короткий сигнал труба.
С двух сторон рванулась в Петергоф конница, жестоко пришпоривали коней всадники. И ворвались быстрее, чем похмельные мятежники сообразили, что из уверенных в себе охотников сами превратились в беспомощную добычу.
Многие гвардейцы не успели не то что разобрать свои ружья из пирамид, но и вскочить на ноги. Тяжелые драгунские палаши, кривоватые гусарские сабли, острые казачьи пики и дротики собрали кровавую жатву во дворцах и парках. И везде текла кровь алая…
Петр не смог удержаться на месте — пришпорил свою савраску и наметом поскакал к видневшимся дворцам.
Верста была «съедена» за какую-то минуту, и лошадь выскочила на мостовую. Копыта так ударили по камням, что полетели искры. На бешеном скаку он врубился в группу солдат, которые, разинув в диком крике рты, пытались добежать до сводчатых дверей дворца. Не успели…
Лошадь опрокинула двоих с ног, третьего, в расстегнутом мундире, с окровавленным лицом, Петр с размаха ударил тяжелой шпагой по голове. Удар был страшен, и солдат рухнул как подкошенный на мостовую. Он с трудом остановил кобылу, не дав ей сделать «свечку».
Оглянулся кругом, и мороз пробежал по коже. На залитой кровью мостовой лежали трупы, с дюжину. Некоторые из них еще сучили в конвульсиях ногами, но с большинством солдат было покончено почти мгновенно. Многие так и не успели понять, что уже пришла их смерть.
С окровавленных палашей голштинцев стекала ручейками и каплями кровь. Казаки, свесившись с седла, выдергивали из тел пики или вытирали о гривы коней свои окровавленные кривые сабли.
Неимоверным усилием Петр подавил подступающую к горлу рвоту и спрыгнул с седла. Сплюнул, а адъютант тут же протянул ему флягу. Выпив воды, он почувствовал себя намного лучше. Тошнота пропала, и Петр снова запрыгнул в седло, лишь чуть оперся на стремя. Теперь уже более хладнокровно осмотрелся вокруг.
И только сейчас он понял, куда они влетели, и рассмеялся. Попали так попали — зоопарк, твою мать. Клетки со зверями, в вольере зажался в угол здоровенный мишка, лесной прокурор. Причем от зверств людских пробила косолапого хворость, свойственная только ему. С вольера несло смрадом так, что перебивало запах крови и смерти.
Петр встретился с глазами медведя — там царил ужас и страх. Косолапый оскалил клыки и заворчал. «Не ходи сюда, я тебе ничего плохого не сделал, давай лучше миром дело окончим», — слышалось в просящем медвежьем голосе.
— Так, братцы, — обернулся Петр к казакам, — ломай запоры и выпускай зверюшек. Нечего им по клеткам страдать, пусть свободу получат! Может, косолапые Катькиных солдатушек до медвежьей хвори доведут. Да дворцовым оболтусам мокрыми панталоны заделают!
Казаки и адъютанты прыснули, а потом и заржали во весь голос. И началось веселье — птиц выпустили из клеток, и те сразу порхнули в разные стороны. Забавно было видеть попугая в густых еловых ветвях.
Но бедолаг страусов казаки так и не выперли из вольера, немало удивляясь чудному виду птиц. Бородатый хорунжий чуть не плакал от досады, что не сможет увезти птиц на Дон да в курятник посадить, чтоб яйца несли.
Чудо-птица, одно яйцо, а полна сковорода. Эх, с утра яичницы вдоволь, с сальцом жаренной, да под чарочку тминной! И с такой слезой и вожделением причитал, что Петра самого аппетит пробил. Не выдержал — подарил страусов донцам на разведение.
А зверье умное попалось, само ломанулось во все концы света, а наглые мартышки с ходу на деревья залезли, и оттуда похабные вопли долго на всю округу раздавались.
К немалому удивлению Петра, среди сбежавших мелькнули пятнистые шкуры леопардов, и он мысленно пожалел зверей — если от охотников спасутся, то зимы снежной не переживут.
Но ошибся — выжили африканские кошки в чухонских лесах и болотах и, пользуясь покровительством помещиков, расплодились неимоверно. Спустя сорок лет стали сильно донимать крестьянскую животину да все зверье в лесах распугали напрочь, твари злобные, неведомые…
Дольше всех упирался в своем вольере хозяин тайги, отмахивался лапами от уколов казачьих пик. Однако донцы переупрямили мишку и изгнали его из вольера. С жутким ревом — «всех порву, один останусь» — ворвался в кустовые заросли Михайло Потапыч с грацией пьяного носорога, широкую просеку за собой проложив.
Не прошло и четырех минут, как раздались отчаянные вопли и крики «спасайся». Через кусты проломились бледные солдатики с выпученными от страха глазами. Числом четверо, заикающиеся от пережитого, а один уже был в мокрехоньких штанах. Никто не ожидал, что слова императора окажутся пророческими настолько быстро, и хихиканье среди свитских офицеров и казаков началось по-новому.
— Кто вы такие?! — рявкнул Петр на солдат.
У тех в глазах расплескался уже не страх, а животный ужас, видно, признали императора. И сразу же рухнули на колени перед ним, будто ноги саблями подсекли.
— Помилуй, государь-батюшка! Отпусти наши души грешные на покаяние! — разом возопили солдатики и норовили припасть к копытам кобылы. — Силком повели…
— Хватит ныть, — Петр жестко прервал плаксивые вопли, — говорите четко и ясно — кто такие, сколько войск в Петергоф вошло, а какие сюда идут?! А то скулите тут, словно девки про утраченную на сеновале невинность. Вы русские солдаты, а не поносные выжимки…
— Петербургского гарнизона четыре полных роты наши послали. Лейб-гвардии Измайловского полка батальон в четыре роты да преображенцев отряд в две роты. А в авангарде из Петергофа вышел неполный эскадрон сербских гусар, — отчеканил довольно пожилой, лет пятидесяти, солдат с морщинистым лицом и мозолистыми руками.
Посмотрел преданно на Петра и чуть пожал плечами — «прости, государь, такая уж петрушка получилась», — но тут же собрался и четко продолжил докладывать:
— А еще сюда гвардии четыре батальона неполных маршируют, да конной лейб-гвардии три эскадрона, да гусар сербских несколько рот. В «Красном кабачке» на ночевке стояли, вскорости подойдут. И из Петербурга еще войска идут — пехота с конницей, в две тысячи. В «Красном кабачке» сама государыня-императрица в мундире Преображенском, с ней конвоя конной лейб-гвардии эскадрон. Всем этим войском собранным командует генерал-поручик Василий Иванович Суворов.
— Как зовут, где ранее служил, в походах был?!
— Иван Тихомиров, капрал второй роты. С фельдмаршалом Минихом на Крым ходил, при Куненсдорфе в грудь и ногу пулями ранен, медалью награжден, а в гарнизон Петербургский с Апшеронского полка за немощность переведен, ваше величество.
— Дурак ты, Ваня, полный дурак! Я же для таких, как ты, манифест подписал — 15 лет беспорочно отслужил, получай полста рублей, да увольнение от службы с ежегодным пенсионом в 12 рублей, пожизненно выплачиваемым. А хочешь, в государевы вольные хлебопашцы подавайся — земли надел в 15 десятин и лошадь, да 100 рублей на обзаведение. И 30 лет тягла не нести и сборов не платить. А теперь в канаве подыхать будешь, из полка за измену выгнанный. За то, что крест изменникам целовал и присягу супруге нашей подлой давал…
— Ваше величество, — потрясенно воскликнул капрал, — манифест ваш начальство утаило, не читали его нам! Силком да обманом сюда повели. А присягу мы не принимали и крест не целовали. Не отрекались мы, обманом нас привели да водкой поили. Прости, государь, дай кровью вину искупить, животами все поляжем!
— Встаньте, детушки! Не буду на вас зла таить, коль вину свою тяжкую верной службой искупите! — Петру казалось, что безумное попурри из многих кинофильмов не имеет конца. — Бегите в разные стороны с офицерами моими, да своих солдат ищите, если через полчаса здесь все солдаты соберутся, то вину эту сниму с вашего полка полностью и манифестом оделю. Но служить верно будете, а к весне тех, кто сроки выслужил, честно и с почетом от службы отставлю. Идите да роты свои собирайте, хм, гарнизонные…
Петр повернулся и сделал знак. Тут же четверо адъютантов спрыгнули с коней, разобрали по солдату, о чем-то с ними переговорили и быстро разошлись в разные стороны.
Петр мысленно их всех перекрестил на дорожку и от всего сердца пожелал удачи — кругом вовсю гремели выстрелы, раздавались отчаянные крики и хриплые стоны.
Бой в Петергофе продолжался, и, судя по всему, у павильонов в нижнем парке, у канала, перестрелка была ожесточенной — там его драгуны гоняли разбежавшихся во все стороны армейских солдат. А вот у дворцов, перед которыми лежали десятки тел в измайловских мундирах, стрельба шла уже несколько вяловато, но вот отчаянных женских криков, визга и воплей хватало с избытком.
Петр замысловато выругался — насилие над бабами в бою крайне опасно для армии, ибо солдат разлагает. С этим надо было покончить немедленно, не останавливаясь перед самыми жестокими мерами, вплоть до децимации, сиречь расстрела каждого десятого.
Петр узрел в выбитых окнах на первом этаже желтые ментики своих гусар — и снова облегчил душу на морской манер. А потому тотчас запрыгнул в седло, дал шенкеля и поскакал к большому двухэтажному дворцу.
Там его поджидал Гудович — ему двое гусар перебинтовывали окровавленную руку. Царапнуло пулей несерьезно, но кровоточиво. Увидев императора, генерал попытался подняться, но Петр жестом пресек эту попытку.
— И как у нас дела идут, Андрей Васильевич?
Петр присел рядом на валявшуюся чурку и пахнул дымком из протянутой ему папироски. Генералу адъютант также вручил раскуренную папиросу, и их превосходительство с их величеством устроили перекур.
— По диспозиции, ваше величество. Измайловцев здесь две сотни изрубили в капусту, гарнизонная солдатня сама по парку разбежалась, почти не стреляла. Преображенцы в павильонах у канала засели, драгуны с ними перестреливаются. Казаки по парку рыщут, да на петербургскую дорогу я три десятка отправил. А я сам с гусарами вокруг дворца кручусь — две сотни измайловцев на втором этаже засело, не вышибить их, лестницы все мебелью завалили, и за таким прикрытием сидят, постреливают!
Генерал сплюнул от досады и продолжил:
— Что делать с ними, ума не приложу. У меня гусар вдвое меньше, чем их там засело. Может, отходить давно пора, не дай бог сикурс к ним подоспеет.
Гудович выдохнул табачный дым и замолчал. Лицо бледное, в пороховой копоти и крови.
— Хрен подойдет! — уверенно ответил Петр. — Мы еще часа два куролесить можем. Ты бы попер на помощь, наобум, когда бы беглецы всяких ужасов порассказывали?! Или бы отставшие роты подождал бы, кавалерию на разведку отправил? То-то. Павлины, говоришь…
Петр внимательно посмотрел на стены дворца — высоковат был второй этаж, метров семь, не меньше, без лестниц не заберешься.
Расклад прост — пьяные измайловцы на втором этаже засели, с фрейлинами балуют, вот в чем причина визга. А его бравые трезвые гусары, женским вниманием обиженные, на первом этаже да вокруг дворца расположились, голодные, с утра маковой росинки во рту не было.
А штурмовать надо, чтоб собаки эти такой урок наглядный получили и от одних только воспоминаний сразу же в туалет бежали. Проучить необходимо, но вот как? С одной сотней гусар и конвоем малым на две сотни жлобов переть вверх по забаррикадированным лестницам? Подвиг, достойный самураев. Глупость, короче. Да одними своими шляпами измайловцы его орлов закидают, мало не покажется…
— Ваше величество, — к Петру подоспел один из посланных с солдатами адъютантов, молодой, лицо в пороховой копоти, взгляд задорный, боевитый. С такими молодцами рядом воевать сплошное удовольствие будет — и спину прикроют, и не продадут…
— Три роты петербуржцев с оружием к дворцу бегут, на помощь. Присягу вам не нарушали. Преображенские гренадеры у павильонов стрелять перестали, повинную принесли. Что делать, государь, им прикажете?
— Сюда пусть идут, измайловцев из дворца вышибать будем!
И тут взгляд Петра наткнулся на стройплощадку — судя по всему, мастеровые яму для очередного фонтана копали, глубокую. Жердины там лежали, метров по восемь, толстенные, две штуки. А рядом лопата, тачка, да кирки, кем-то брошенные.
А ведь это здорово, есть большой шанс эту гвардейскую сволочь за гузно и вымя хорошо подержать…
Петр поднял лопату — из доброго железа, кромка остро заточена, рукоять крепкая, осиновая, древко человеческими руками хорошо отполировано, надежное.
Петр любил применять в драке различный шанцевый инструмент, а такая лопата более чем годилась, намного лучше саперной лопатки или этих ковырялок, шпагами именуемых. И жердина длины хорошей, как подъемник должна сработать…
— Орлы! Слушай приказ. Десять со мной пойдет, остальные двенадцать жердины разберут, по шестеро на штуку. За толстый конец беритесь, я макушку обхвачу — бежим к стенке. С разгона вы жердь вверх толкаете, а я по стенке до окна добегу и туда влезу. Вы, как весь десяток перебросите, с генералом на первом этаже засядьте, у лестницы. Мы их с тылу ударим, а вы сразу на помощь по лестнице штурмуйте. Ясно?! Что? Это мне опасно?! Молчать! Это боевой приказ, он выполняется, а не обсуждается. А кто слово супротив вякнет, за мою шкуру беспокоясь, в сей ямине закопаю. Это вам на будущее памятка. Андрей Васильевич, помолчи лучше, не доводи до греха. Это мое дело, мое! Ну, все, орлы, вздрогнули и начали. Я в первое окно, оно раскрыто, ты во второе — за раму уцепись и ногой стекло вышиби. Вперед!
Петр снял шпагу, приладил к портупее лопату, привязал. Казаки уже подняли жердину, и он крепко прижал рукой к телу ее макушку. И побежали к зданию, мысли все из головы улетучились.
За метр до стены Петр прыгнул ногами вперед, ботфорты уперлись в камень, и он вознесся по стене — казаки толкали жердину изо всех своих сил. Зацепившись ступней за подоконник, он впрыгнул в комнату, на лету выхватив лопату. Однако кромсать вражин не пришлось — комнатка была пуста…
Московский тракт
— Господа атаманы, соблаговолите мясца вкусить и чарку откушать!
Немного дурачась, низенький чернявый казачонка по прозвищу Вьюн в один миг накрыл перед хорунжим и урядником полевой стол. На холстинку щедро бросил перья зеленого лука (позаимствованные вчера с крестьянской грядки) и две головки прошлогоднего чеснока, водрузил штоф из мутного зеленого стекла, положил толстый ломоть ржаного хлеба. Потом от костра, откуда шел раздражающий желудок аппетитный дымок, принес емкую оловянную миску, полную ломтей обжаренной свинины.
Господа атаманы чиниться не стали, уселись на корточки — хорунжий взял бутыль, встряхнул рукой. Не пожадничали станичники, чарки на три оставили зелья. Приложился к горлышку и в пару глотков выпил половину приличной водки. Зацепил кинжалом ломоть свинины и зачавкал с удовольствием, разрывая крепкими зубами полусырое, но горячее нежное мясо.
Урядник споро допил остаток, а штоф вышвырнул в кусты — кацапы найдут, обрадуются. Вытянул из сапога ножик с длинным узким лезвием, нацепил на острие свинину и отправил в рот. А следом зубец чеснока с перьями лука вдогонку послал, утробно зачавкал…
От костра шел дурманящий запах. Донцы раздобыли где-то пластину кирасы, согнули по краям, и получился противень. Вот на нем-то и зажарили толстые ломти нашинкованного саблей поросенка. Последнего взяли трофеем на гвардейских подводах, что провиант в казармы Семеновского полка везли.
Каптенармусы посягательству донцов ни словом, ни делом не противились, так как сами тряслись овечьими хвостами, когда казаки их обступили.
Убивать изменников не стали — люди-то подневольные, но щедро прошлись плетьми по розовым раскормленным ягодицам. Потом в Гатчину с конвоем из двух казаков направили, там войсковой старшина для таких узилище устроил в бараке. А сейчас донцы готовились плотно перекусить, вот только доесть дармовую свинину они не успели…
По тракту споро рысили две кареты, по четверке лошадей в запряжке каждая. Да при охране солидной — спереди и сзади шли дробной рысью по полдюжины драгун в зеленых мундирах, да еще по вооруженному гайдуку сидело на запятках каждой кареты.
Но охрана — то дело привычное по последним временам и нынешним местам. Как развел государь-император милости к татям шатучим, послабления им сделал, так и обнаглел разбойный люд, размножаться стал неимоверно. Не только обозам, но конному и пешему прохода не стали давать, и даже в самом Петербурге наглые лихие люди грабежи оружные творить во множестве стали.
Так что вскоре пришлось ланд-милицию и драгун на трактах ставить караулами крепкими, разбойничков начать отлавливать да на суд государев таскать. Но вот головы уже не рубили, как тридцать лет тому назад — ныне клейма воровские выжигали да в Сибирь высылали, на каторжных работах пускай оставшуюся жизнь морозятся.
Вот и шли кареты спешно, но с великим опасением, и надежной охраной сопровождаемые. Но не ведали, что не лихих людей нынче опасаться надо, а иных, что службу царскую справляли…
— Кто такие, как думаешь, Платон? — Вопрос хорунжего не застал урядника врасплох. Оба были давно зрелыми казаками, с детства вместе росли, в одних и тех же походах кровь проливали да славу казачью искали.
И сейчас разница невелика была — Платон старшим урядником был, или пятидесятником по-старому, а Семен Куломин, друг его закадычный, в офицеры выбился, первый чин хорунжего получил. И сейчас со своей полусотней тракт обложил, а сотник Игнат Жуков со второй полусотней к югу отошел, крестьянские обозы с провиантом от столицы отворачивать…
— Знатный боярин жалует, с повелением царицыным, а иначе бы не драгуны с ним были бы, а холопы, гайдуки вооруженные, — голос урядника ровен, а чего казаку беспокоиться, если их втрое больше, чем охраны. Одними плетьми такую охрану разогнать можно.
— Ну тады посмотрим, что боярин везет! Скажи донцам, пусть пики к бою готовят, справим службу царскую…
Не были готовы гарнизонные драгуны к столь внезапному нападению донцов — вздрогнули все, лихой степной свист заслышав да наводящее на татар крымских дикий ужас казачье «ура». Остановили коней и, признав донских казаков, палаши из ножен обнажать не стали — бесполезно сопротивление, всех положат на месте пиками да саблями.
И кареты остановились, вот только из них никто вылезать не стал, за дверцами затаились. Быстро разоружив охрану, казаки обложили со всех сторон кареты. Пики и пистолеты держали наготове, а урядник Платон Войскобойников громко скомандовал:
— Эй, в каретах — выходи наружу все, а то стрелять будем!
Казаки вокруг карет закружились, пики и сабли держа наготове, а некоторые донцы ружья и пистоли на карету подняли. Но только ожидали недолго — отворились дверцы с атласными занавесками, показался бархатный башмак с золотой пряжкой, а вскоре и седой сенатор в красном мундире на божий свет показался.
А вот держался государев муж неподобающе — глазенки бегали по сторонам, ручонки тряслись. За эфес короткой шпажонки, что у бедра болталась, даже хвататься не стал.
А вот второй пассажир, в мундире лейб-гвардии Измайловского полка, зыркал по сторонам злобно, спесиво и с ненавистью смотрел на казаков, но облаивать не стал, понимал, видать, что зубы в глотку вобьют. Но эфес шпаги так сдавил, что костяшки пальцев побелели. Он и заговорил надменно:
— Я по делу государственному еду. Почему же препятствия мне чините, гнева государыни нашей не боитесь?!
От такого заявления казаки не просто повеселели, разом захохотали. Но больше всего был рад хорунжий — войсковой старшина Измайлов особо приказывал гонцов и видных изменников, с поручениями едущих, хватать и с бережением к императору Петру Федоровичу доставлять.
Семен Куломин бросил взгляд на вторую карету — дама в годах, в богатом платье, две девчушки, судя по всему ее дочери, и служанка. А сенатор ликом на девчонок похож, видать, отец им. Из Петербурга свою семью вывозит, да еще с майором гвардейским. Подумал немного хорунжий да весело бросил своим казакам:
— Вяжи изменников, донцы, крепко вяжи. Батюшке-царю Петру Федоровичу ноне знатный подарок отвезем…
Петергоф
Снизу донеслись приглушенные матерки, и Петр выглянул в окно. Голштинец не удержался на оштукатуренной стене и с отборной руганью свалился вниз. Теперь сидел на земле и горестно баюкал руку — или ушибся, или сломал, и тихо сквернословил.
— Сидите внизу, я сейчас веревку свяжу из простынь и вам сброшу, а то ноги переломаете! — остановил он своих конвойных и повернулся.
Глаза быстро обшарили комнатенку. Судя по всему, для фрейлин, везде розовое да белое, сплошные кружева и зеркала. Дверь тут крепкая, на запор изнутри задвинутая.
«На запор?! Опаньки, кто-то здесь явно прячется — либо под ложе залез, либо в шкафу хорошо заховался. А теперь осторожненько глянем под широченную кровать, намного большую, чем у меня, императора. Вот бы с бабой на ней покувыркаться. Никого нетути».
Петр подошел к шкафу. Прислушался и ухмыльнулся.
— Вылезай, красавица, из узилища. Верный рыцарь в окно пришел, от насильников тебя уберечь, покажи свой лик светлый!
Створка шкафа приоткрылась, и Петр сглотнул — действительно угадал. Но красоток оказалось две, с распущенными длинными волосами, в прозрачных ночных пеньюарах, кружевных, цвета истомленной девственности. И, вопреки обстановке боевой, в штанах сразу же стало тесно.
Смазливые девочки, с волнительными крутыми бедрами, небольшие тугие груди, стройные ножки — куда там до них рыхлой Елизавете с ее телесами. И с чего он на нее залез прошлой ночью?
А девочки через пару секунд впали в ступор — ротики разинули, глазки выкатили, видимо, царя-батюшку узнали. И Петр шаркнул ботфортом, поклонился и улыбнулся девушкам:
— Рад вас видеть, мои прелестницы. Ваша красота взбудоражила меня, и возжелал я, взалкал, как в пустыне воды колодезной… — так завернул он, так кудряво, что с мысли сбился.
— Фрейлина Наталья Оболешева, государь! — темноволосая красавица присела с поклоном, дав полюбоваться полностью открывшейся грудью, стрельнула глазками — увидела, куда направился взгляд Петра.
Вторая, милая блондиночка, в ответ сделала еще более глубокий книксен, продемонстрировав и свои сокровища, приятным голоском прощебетала:
— Баронесса Клара Фитингоф, ваше величество. Всегда к вашим услугам! — и взгляд блеснул неприкрытой похотью.
Петр сразу понял, что дело выгорит, стоит только свистнуть. Причем, возможно, и с двумя одновременно. Однако долг превыше всего, внизу уже тревогой конвойцы изошлись, и он ласково попросил фрейлин:
— Мои красавицы, я не могу сейчас осыпать вас нежными поцелуями, коих заслуживает ваша небесная красота. Внизу моя свита стоит, ждет с нетерпением явным. Можно у вас простынки связать, чтоб мои орлы на подоконник взлетели и мне завидовали, на вашу красоту глядючи?
— Зачем простыни связывать, государь, у нас веревочная лестница есть! — чуть не хором прощебетали девчата и тут же открыли свой спасительный шкаф.
Там была здоровенная свернутая бухта — две крепкие веревки, а между ними в узлах закреплены толстые деревянные палочки, тщательно отшлифованные многими мужскими ладонями. Петр внимательно посмотрел на придворных красавиц. Те мило так покраснели, потупили свои прелестные глазки, а баронесса прошептала:
— Ваше величество, мы ею не пользовались, это еще со времен вашей тетушки, государыни Елизаветы Петровны осталось.
«Так уж я вам и поверил, прелестницы. Да вы и сами покраснели до ушей от столь наглой лжи. Вместилище пороков и разврата, вот что такое ваш синематограф. Эх! Помацать бы вас, но только времени нет…»
Но сам им мило улыбнулся, вытащил бухту, размотал, закрепил концы к ложу и сбросил вниз. Обернулся и спросил:
— И от кого вы на засов заперлись, милые?
— Как стрельба здесь началась, измайловцы к нам во Дворец ворвались. Пьяные. Непотребные. Но мой кузен, троюродный брат, с ними — он-то фрейлин ее величества всех и уберег. Там, в коридоре, с солдатами встал у наших дверей и никого сюда не пустил…
— Ну что ж, жить будет твой кузен, Наташенька, обещаю, — ободряюще улыбнулся фрейлине Петр.
— Надеемся на вашу милость, ваше величество…
Но до чего ж аппетитных красоток моя супруга подобрала себе в свиту, так и тянет в постель уложить. Вот только зачем она этих Елен Троянских набрала, ведь на их фоне самой смотреться трудновато…
За его спиной с хэканьем ввалился усатый Ганс, затем появился полковник Неелов Василий. Чин немалый, в годах адъютант, но только произведен он был в него прямо из поручиков, за верность. Как поведала Лизавета — полтора десятка лет тому назад его по навету пытали да сослали. Но офицер великого князя не сдал. А что было, то Петр так и не узнал — он на ней делом был занят. Вот такие постельные услады тоже бывают…
За Нееловым косяком пошли вперемешку казаки с голштинцами. За пару минут конвойцы и адъютанты все пространство комнаты заполонили — и тут же на еле прикрытые тела фрейлин впялились, слюной исходя.
— Так, орлы, запомните — эти красавицы моя добыча, они мое сердце пленили. И кто будет их небесные прелести пристально рассматривать, в рыло любопытное получит от меня!
После такого категорического заявления Петра голштинцы и казаки дружно закхекали, будто у всех разом в горле запершило, и стали рассматривать только лепнину на стенах, а бывший советский сержант продолжил, обращаясь уже к девушкам:
— Прошу вас помочь кузена вашего спасти. Дайте нам пяток таких чудных халатиков, и, чтоб мундиры наши раньше срока измайловцы не увидали, мы их наденем. И за вами в коридор выйдем, братца вашего убережем, ну а других насильников накажем.
Девицы моментально вынули из шкафа ворох белья. Петр выбрал себе зеленый пеньюар, запахнул его, взял в правую руку массивный подсвечник, а лопату убрал за спину.
Голштинцы сообразили сразу — те, кто был чисто выбрит, тут же накинули подобную одежду. Кое на кого даже напялили кружевные чепчики — такие милашки появились, пальчики оближешь…
— Наташенька и Кларочка, выходите за дверь и идите к брату смело, мы за вами. Не бойтесь, красавицы, вы в полной безопасности. Я иду первым, а голштинцы следом, прикрывайте мне спину, когда надо, стреляйте. Рвемся к лестнице. Казаки следом дочищают, а кто из комнат выскакивать будет — рубите. Все ясно? Ну, с богом!
Девчонкам было страшно, но они, коротко переглянувшись между собой, вышли в коридор. За ними шустрой слаженной компанией устремились еще пять «фрейлин», пряча за спиной пистолеты и серебристую сталь обнаженных шпаг. Все усатые и бородатые благоразумно остались в комнате в полной готовности к рывку…
Ивангород
По воротной стене старинной Ивангородской крепости, построенной еще дедом Ивана Грозного, медленно, над думой тяжкой свой лоб морщинами собрав, ходил генерал Румянцев.
Вчерашние утренние события в столице, о которых он уже знал вечером, словно по наитию прибыв только из Дерпта, где делал смотр полкам, не могли оставить его равнодушным. Но вот ответа на извечный русский вопрос: «Что делать?» — у него не имелось.
Молодой генерал, недавно подошедший к сорокалетнему рубежу, отличился в войне с Пруссией и был волею императора назначен командовать армией, которая собиралась для войны с Данией.
Вроде бы высоко взлетел он по армейской лестнице, но душила Петра Александровича обида на венценосного тезку. Плоды кровавых побед русской армии над королем Фридрихом, кровью и потом за четыре года жестокой войны учиненные, одним махом император перечеркнул, все завоевания побежденным пруссакам обратно отдавая.
И пусть корпус генерала Чернышева еще в Кенигсберге находился, но в полной передаче королю Фридриху всей завоеванной территории Восточной Пруссии никто из русских уже не сомневался…
Он бы еще вчера вечером смог бы отдать приказ кавалерии выступить на Ораниенбаум, ей всего-то ходу немного, уже к утру там были бы. Войск достаточно, чтоб гвардию разбить одним ударом, даже армию всю исполчать нет надобности. Мог бы, но не стал. К чему? Он хорошо знал императора, своего племянника — и как не похож он на своего деда, Петра Алексеевича.
Покойный император был родным отцом Петра Александровича, обрюхатив однажды матушку будущего генерала. Петр Алексеевич, до женщин всегда охочий, грех свой похотливый на этот раз прикрыл, отдал девушку женой любимому адъютанту своему, Александру Румянцеву. Тому самому, что с офицерами царевича Алексея в Петропавловской крепости подушками удавил, жестокий приказ венценосного отца выполняя…
Приемного отца генерал всегда за родного почитал, хотя знал, кто его природный отец — в семье этого почти не скрывали. Да и зачем? При дворе об амурных похождениях императора на каждом углу судачили.
А сам Александр Румянцев никогда ни жену, ни сына не упрекал, хотя был суров нравом — но, боготворя покойного императора, перенес это чувство и на сына, царственной крови ребенка. Вот потому-то и мучился сейчас генерал-аншеф Петр Александрович Румянцев — и племяннику, природному императору, помочь надо, и душу пересилить нельзя.
Труслив зело его тезка царственный, о сопротивлении гвардейской мощи не помышляет, перед никчемным князюшкой Никитой Трубецким унижался вчера тяжко. Как защищать такого царя прикажете, который драться насмерть не желает и готов на милость своей умной, но блудливой супруге отдаться.
А двинь сейчас Румянцев полки в его защиту… Но до Ораниенбаума кавалерии десять часов идти с отдыхом, чтоб совсем коней не запалить. Пока дойдешь, и время уйдет, и Петр Федорович капитулирует. А Катька его тогда прямиком в Сибирь отправит или на плаху пошлет — она-то к его крови почтения совсем не имеет. Кто ей генерал Румянцев?
Облегчив душу громким бранным словом, генерал остановился. Сопротивляйся Петр Федорович, или иди царь в Нарву с голштинцами — тогда на войну легко было бы решиться. А так непонятности. Как сегодня — казаки с биваков самовольно снялись и в неизвестность всем полком ушли, а командующего армией даже не предупредили…
Петергоф
Измайловский караул стоял почти рядом, за углом комнаты. Вдоль стены одной шеренгою. Увидев впереди практически голых девушек, солдаты чуть отвернулись, а молоденький офицер, почти мальчик, скосил к полу глаза и негромко прошипел:
— Куда идете? Немедленно вернитесь к себе в комнату. Голштинцы на первом этаже…
— Уже на втором!
Петр выдвинулся и со всей силы лупанул офицера в лоб тяжелым подсвечником. А следом хорошо огрел по голове и солдата. Третий измайловец получив от императора штыком лопаты по коленке, заорал истошно от лютой боли. Четвертого солдата Петр ударил ботфортом по мужским причиндалам, и тот сразу согнулся, схватив жестоко ушибленное «достоинство» руками.
Но уже было не до жалости, и, вкусивший крови, он рванулся бегом по коридору, щедро наделяя лопатой и пинками опешивших солдат. Сзади валом бежали голштинцы, добивая и затаптывая. Секунд десять в коридоре шла безнаказанная и беспощадная кровавая резня ошеломленных от неожиданного нападения измайловцев.
Два десятка полупьяных гвардейцев погибло на месте, даже не успев и толком понять, за какие такие прегрешения, вольные и невольные, женщины в пеньюарах их столь быстро и безжалостно убивают.
Петр же ни о чем не думал, он отключился от происходящего — только лопата в руках крутилась да разлеталась в стороны кровавыми ошметками человеческая плоть.
Впервые в жизни его полностью захватил древний инстинкт, когда можно убивать всех подряд, не держа в уме статьи Уголовного кодекса. И он убивал, работая на автомате, и мысли из головы улетучились. А за спиной гремели выстрелы — то голштинцы расчищали выстрелами перед ним дорогу. И дорвались до лестницы, благо близко она была…
И там бойня вовсю шла — десятки озверевших гусар и гарнизонных солдат с ревом и хриплыми матами шли на штурм преграды, размахивая саблями и тесаками, выставив штыки и паля из пистолей. Измайловцы отбивались, вот тут в спину и ударили конвойцы — кромсали, рубили, резали и стреляли, задыхаясь от пролитой крови и порохового дыма.
Последних защитников баррикады истребили в считаные секунды, и только сейчас Петр обрел возможность думать. Мимо него повалила толпа гусар и солдат, причем среди последних мелькнули и знакомые ему мундиры преображенцев и темно-красные ментики.
Какой-то совсем юный прапорщик любимого Петром Великим полка что-то хрипло орал, широко разинув рот, и Петр снова нырнул в боевое безумие, устремился вперед, расталкивая солдат. И прорвался с трудом в огромный, прилично освещенный зал. А там их уже ждали.
Полсотни измайловцев стояли плотной шеренгой, перегородив широкий зал. Уже приложились к фузеям и целились в них, в него целились. Время растянулось, и Петр увидел, как упали кремни ружейных замков на огнива и ярко вспыхнул порох на полках.
А его тело жило самостоятельно, и, пока он смотрел на гвардейцев, оно само рухнуло на пол. Что-то обожгло лоб, а ружейный грохот начисто заложил уши.
Петр рванулся в пороховой дым и стал кромсать лопатой мягкие человеческие тела. Кромсал и кромсал, не замечая боли в бедре и на ладони.
И лишь последнего, совсем молоденького, но рослого не по годам солдата убивать не стал — пнул коленом в пах и торчком лопаты по зубам, носу и лбу несколько раз жестоко, от всей широты своей доброй, но местами греховной души врезал. Но не падал тот на пол, стоял на ногах, кровью залитый — и Петр без передышки лупил его, боясь, что солдаты штыки пустят в ход до того, как он его навзничь завалит…
И все закончилось разом, тормоза сцепились, и Петр в дикой усталости присел на каким-то чудом уцелевший стул. Чуть отдышался, тупо посмотрел на окровавленную ладонь и вытер пот со лба обшлагом. Какой, к черту, пот — рукав был в крови, его крови!
С императора быстро сняли кирасу — вся истыкана и пробита, сплошной ужас, прямо слово. И весь мундир заляпан — но вот тут-то чужая кровь была, им в бою добытая.
Солдаты вокруг орали восторженно, а вот что конкретно, Петр разобрать не мог из-за всеобщего гама. Но тут его сграбастали крепкие солдатские руки, как щупальца протянулись со всех сторон, подняли над головами и сильно подбросили в воздух.
Он увидел, как к нему разом, в единый миг, приблизился расписанный узорами потолок, потом отдалился и снова приблизился. Подкинули его в воздух раз десять, и только одна мысль гудела в усталой голове — хорошо будет, если не поймают, намного лучше, чем штык под спину случайно подставят…
Но обошлось, бережно поставили на ноги, отошли все на пару шагов, очистили пространство кругом. Лица у всех восторженные — так, наверное, и относились раньше легионеры Древнего Рима к своим удачливым полководцам, вплоть до обожествления их персон.
Через толпу протиснулся генерал Гудович — взгляд растерянный, смотрит с испугом и обожанием. А Петр уже возвратился на грешную землю и принялся отдавать приказы:
— Так, всех убитых измайловцев в окна вышвырнуть, на хрена их таскать. Наших верноподданных солдат отдельно сложить. Да, тех, кого я лично жмуриками заделал, отдельной кучей скирдуйте, и офицеров сверху, пусть ими верховодят. Пленных измайловцев во дворе собрать, нагишом, вымазать хорошо дегтем, медом и клейстером мучным. Выпотрошить перины и подушки, хорошо вывалять в перьях — пусть гвардейцы птицами чудными к моей супруге бегут, с сообщением приятным!
Гогот солдат потряс стены дворца, высадил уцелевшие стекла из рам, и те выпали из переплетов, жалобно звякнув напоследок. Пришлось Петру ожидать пять минут, чтоб отсмеялись его солдаты, и уже чуть жестко закончил:
— Дворец не грабить, я сам вознаграждение за службу дам. Лакеев пригнать — через полчаса чтоб убрано везде было. Андрей Васильевич, принимайте войска и через час двигайтесь маршем на Гостилицы, а я с десятком казаков и конвоем в Ораниенбаум поскачу и потом вас на дороге быстро догоню. Гонца туда сейчас же отправьте, пусть там о наших победах сообщит. Солдат накормить немедля, скоро, чарку водки всем дать. Раненым помощь оказать, и во дворцах оставить всех. Местного управляющего ко мне через четверть часа. Все! Действуйте, а мне помыться еще от крови надо…
…Петр стоял в дубовой шайке в чем мать родила, а милые фрейлины, уже в платьях, аккуратно смывали с него пот и грязь. У него не было ни малейшего чувства стыда, просто лихой император сильно устал.
Ему обработали водкой и дурно пахнувшей мазью (лейб-медик как чувствовал и дал адъютанту банку перед походом на Петергоф), а потом крепко забинтовали три глубоких и кровоточивых царапины — на лбу от пули, правая ладонь пострадала от кончика тесака, а по бедру прошелся штык. И это не считая изорванного мундира и пробитой во многих местах кирасы. Как уцелел? Видно, там, наверху, позаботились об этом.
Отмыв тело императора, Наталья и Клара стали его обтирать, причем норовили прижаться грудкой, заразы. Но грех жаловаться — нет ничего на свете приятней нежных девичьих ручек.
Потом Петра облачили в чистое белье и в хорошо вычищенный, аккуратно заштопанный Преображенский мундир. Даже ленту Андреевскую принесли, новую, видать, во дворце запасная была. Вот только знак ордена куда-то делся, в схватке пропал. Но фрейлины вышли из положения, ленту прихватив тесемочкой.
Звезду и крест Александра Невского Петр надевать не стал, приказал явившемуся управляющему немчику (неизвестно, какой у него придворный чин) найти во дворце и ленту ордена. Была у него в голове одна задумка…
А вот трапезу солдатскую ел в гордом одиночестве — дамы только обслуживали. Пища самая простая — хлеб, холодное мясо, копченая осетрина, парниковый огурец да сваренные вкрутую два яйца. А на десерт ему принесли найденный знак Андрея Первозванного. Причем капрал Тихомиров принес, старый знакомый.
Петр его сразу в сержанты произвел, обласкал царственно и отправил восвояси. А сам на разложенную по столику заботливыми солдатами пищу глянул, с вожделением нескрываемым.
Адъютанты всю эту благодать у драгун позаимствовали, а те действовали с размахом, дворцовые запасы полностью опустошив. От предложенного горячего Петр категорически отказался, громко заявив, что будет всегда вкушать только то, что едят его солдаты.
«А вот знать вам не надо, что отравы сильно опасаюсь — это ж Катькин дворец, мало ли какой холуй мне в пишу щепотку яда кинет, ищи потом с того света крайнего».
В комнату постучали, а затем дверь приоткрылась, и вошел полковник Неелов. Его глаза восторженно «поедали» императора. Голова обвязана окровавленной тряпицей, но держится бодро — победа хорошее лекарство.
— Ваше величество, там поручик Преображенского полка бомбардирской роты Бернгорст, привез из Петербурга вчера фейерверк для Сан-Суси. В мятеже не участвовал. Куда его определить?
— Артиллерист?! Это хорошо. В Ораниенбаум отправить немедля, пусть последние две орудийные упряжки к маршу готовит, у нас в отряде должна быть артиллерия. А я сейчас сам к войскам отправлюсь…
Выйдя из дворца, Петр оглянулся, его чуть-чуть передернуло. Вся площадь была усеяна трупами в измайловских мундирах, а чуть в стороне высился холмик из человеческих тел. Подойдя к нему, Петр узрел на вершине поставленную торчком лопату.
«Ого! Это ж сколько я народа тут накромсал — тут более трех десятков жмуров. Вот собаки хитрые — две трети лишних подбросили, авторитет пахана укрепляют. Даже лопату в центре установили, как памятник царской доблести и отваги. Кхе, кхе…»
— Ваше величество, — Гудович возник ниоткуда и принялся докладывать, — свыше трехсот измайловцев истребили, сотню в плен захватили да к мятежникам полчаса тому назад голышом отпустили, медом и дегтем намазав, да в перьях обваляв. Плетьми казаки погнали, чтобы быстро шли, пусть теперь их оттирают.
«Месть изощренная, но полезная, отметина такая долго не сойдет — а в плен вдругорядь попадут, так и повесим по сей примете», — быстро промелькнула у Петра мысль, но он отогнал ее и принялся слушать Гудовича.
— Войска наши к маршу готовы — восемьсот пятьдесят пехотинцев, двести сорок кавалеристов и почти сотня донских казаков. И еще есть тут два пленника, вашему императорскому величеству весьма приятных. Братья Орловы, самые младшие из них — Федор и Владимир.
— Ну, пойдем, генерал, поговорим с братцами! — пробурчал Петр, и они неспешно подошли к двум пленникам, что в изодранных мундирах в стороне под охраной гусар в темно-красных ментиках стояли.
Сербы не подвели — десяток здоровых в полк отправились манифест читать, а остальные просто великолепно во дворце дрались с измайловцами…
Подошли — и изумился Петр, то были его «крестники», самый первый и последний. У офицера на лбу здоровенная шишка, угощение от подсвечника, и глаза еще в кучу собраны, взгляд мутный.
А вот солдатику намного больше братца досталось — нос пятачком, как у хрюшки, лбом чистый носорог африканский, и глаза такие же — красные и подслеповатые, мутной пленкой подернутые. И одной кашкой питаться будет теперь, как дед столетний — зубов-то во рту сильно поубавилось.
Но братья держались молодцами, кремни, а не люди из плоти и крови. Враз признали императора, но на колени не стали становиться, пощаду себе вымаливая, не опустились до уровня падали, только смотрели молча и с уважением нескрываемым. Видно, храбрость и силу мужскую в культ возвели с детства. А им он хоть и враг, но авторитет немалый заработал.
Махнул одобрительно рукой Петр, таких вражин и уважать приятно. Видно, судьба у него такая, Орловых нещадно лупить — велел в Кронштадт, к братцу старшему Алехану увезти, пусть в одной камере посидят, воспоминаниями об императорской руке поделятся…
И сразу ему подвели савраску. Ехать было недолго — за дворцовым парком оказалась изрядная равнина, на краешке которой густой колонной колыхались солдатские штыки.
Петр прикинул — четверть своей кавалерии он потерял за два боя, но столько же перешло на его сторону сербов. Зато еще получил дополнительно изрядное количество царицы полей — инфантерии, добрую треть которой составляли переметнувшиеся к императору Преображенские гренадеры.
Речь императора была недолгой — пометав молнии в изменников, выдал благодарность верным присяге и прилюдно наградил Гудовича своим личным орденом.
Генерал прослезился, когда Петр пустил ему алую ленту через левое плечо под восторженное «ура» солдат. Затем быстро свернул торжество и дал сигнал к маршу, протянув свою длань в требуемом направлении («Совсем как Ленин с броневичка, аж слезу вышибло»).
И послушное воинство двинулось, следом загремели две дюжины повозок и пара карет с приглянувшимися фрейлинами — оставлять их под Катькину месть Петр не рискнул, сам хотел вечером воспользоваться положением.
Уходили быстро — казачий разъезд вовремя предупредил, что два эскадрона конной гвардии на подходе. Пора было и честь знать, и так изрядно в Петергофе повеселились…
Петергофский тракт
— Ваше императорское величество, дурные новости! — маленький седой генерал сказал это спокойным до полного равнодушия голосом. — Авангард наш полностью разгромлен. Сербских гусар на Ораниенбаумской дороге истребила голштинская кавалерия. И она же на Петергоф с рассветом нагрянула, резню измайловцев там жестокую устроив…
— Там же преображенцы еще и солдаты петербургского гарнизона…
— Они вам изменили, государыня, на сторону супруга вашего перешли и в избиении измайловцев охотно участвовали. — Новость ошеломила императрицу, и она почувствовала великую слабость в ногах.
Но вот только генерал-поручик Василий Суворов, видно, решил ее добить, все дурные вести разом единым изложив.
— Воронежский полк на сторону Петра Федоровича перешел, а верный вам полковник Адам Олсуфьев собственными солдатами был убит, на штыки поднятый с тремя преданными вашему величеству офицерами. Казачий полк Измайлова уже супротив нас выступил всей силою, Красное село, Гатчину и Царское село заняв сотнями, ланд-милицию и инвалидов себе подчинив. И по трактам разъезды сильные поставил. Гонцов наших перехватывает и крестьянские обозы в столицу не пропускает. Майора лейб-гвардии князя Гагарина с офицерами, что присягу в Гатчине у гарнизона принять собирался, повесили на дубу драгуны, измену вам всем эскадроном своим учинив тоже…
Като не выдержала жутких новостей и присела у кареты на раскладной стульчик, что ей лакей предусмотрительно поставил. Рядом стояла бледная Дашкова — новости были сокрушительны и для нее.
И генерал был не лучше, хоть и говорил спокойно, но щека дергается — шли перетрусившегося, как им казалось, императора арестовывать, а вместо того разгром полный с утра пораньше получили.
И перестал верить генерал в победу, зато плаху за измену свою чувствовал все более отчетливо. Но всю свою волю в кулак собрав и сжав крепко, генерал продолжил выступать черным вестником несчастья.
— Измайловцев пленных нагишом раздели, дегтем и медом извозили, в перьях изваляли и сюда направили, плетьми истязая жестоко, чтоб бежали быстрее. Преображенцы над ними смеялись сильно… — генерал остановился, сглотнул и решительно закончил: — Ненадежны они, государыня. К супругу вашему переметнуться втайне уже желают, как их две роты в Петергофе…
Молчание воцарилось жуткое. Екатерина вытирала платочком пот со лба, хотя утро было прохладное, Дашковой монастырь грезился, а Суворову все чаще на ум топор профорса приходил. И матерился про себя старый генерал, что на уговоры поддался и командовать в злосчастном походе войсками гвардейскими стал.
Но только всем давно известно, что черные вестники в одиночку, как вороны, не приходят. А на этот раз сам Григорий Орлов прискакал, да еще в растерзанном виде — на лбу кровоточивая ссадина, мундир кое-где разорван и окровавлен, взгляд дикий.
— Милорадович изменил, сукин сын. Два эскадрона сербов в одночасье к Петрушке переметнулись, подлые твари. Им в полк заслали плененных гусар с Ораниенбаумской дороги, вот они и уговорили своих переметнуться. Лишь один эскадрон, из малороссов, верен тебе, государыня, остался. Задержать попытался с ними и конногвардейцами — порубили мы их малость, с десяток, но остановить не смогли. Ушли, собаки!
Орлов спрыгнул с седла, вытер обшлагом кровь со лба. Бешено посмотрел на лакея, тот сообразил, поднес цалмейстеру полный бокал красного вина. Выпил его гвардеец залпом и снова заговорил, душимый сочившейся в голосе ненавистью.
— Обманул Петр князя Никитку Трубецкого, ложь ему впарил откровенную. А Никита тебя обманул, Като! Он войско немалое уже собрал, пока мы в Петербурге присягу чинили. Говорил же, идти на Ораниенбаум сразу надо было. А теперь Миних в Кронштадте уселся крепко, и флот ему покорен, и голштинский выродок в Гостилицах войско собирает — уже тысячи три народа собрал, и с Петергофа туда более тысячи ушло наших изменников да голштинская кавалерия с казаками. Ох! Промедлили мы напрасно…
— А мой супруг сейчас где?
— В Ораниенбаум с полусотней голштинцев отправился, Като. В осаду там сядет — с моряками и тамошним гарнизоном их более тысячи. Не знаю, но он другой стал…
— Как другой, с чего это, Гриша?
— Не верил бы, а люди глазами видели. Алексею плечо шпагой насквозь пронзил и с коня единым ударом сбросил. Братьев Федю и Вову так во дворце отметелил собственной рукой, что те, кто выжил там, чем угодно клянутся, что и смотреть на них страшно. Другой Петр стал! Лопатой своей без малого три десятка измайловцев умертвил собственной рукою, искромсал бедных в капусту. И сам первым в атаку на гвардейцев пошел, по стене дворцовой забравшись. Не верил бы, но десятки об этом говорят, что своими глазами зрели. А лопату, в кучу трупов воткнутую, уже собственными глазами видел. Может, и правда прошлой ночью…
— Да что же это, Гришенька? — не выдержала долгого молчания любовника императрица и сжала его окровавленную ладонь.
— Дух в него покойного деда, императора Петра Алексеевича, вселился, когда кровь пролилась. И дух деда другого, Карла Шведского, видать, перешел — тот рубака тоже изрядный был, первым в сечу кидался. Трость со шпагой откуда появились?! И на русском он теперь только и говорит, да на нем изрядно лаяться стал…
После слов фаворита наступило молчание — Григорий Орлов сказал то, о чем все думали, но гнали такие мысли от себя прочь. И если во всем хоть четверть правды имеется, то дело, предпринятое ими, обречено на провал…
— Не так все плохо, ваше величество, — неожиданно оборвал Орлова генерал «Салтыков», из-за кареты внезапно появившийся, — у ее величества есть намного больше возможностей уже завтра победить супруга…
Суворов ошалело уставился на явившегося господина в генеральском мундире. «Что за самозванец, почему не знаю?» — отчетливо читалось во взгляде старого генерала.
Остальных присутствующих новоявленный генерал не смутил — хорошо знали они господина Одара, а под таким именем он был известен руководителям гвардейского мятежа, хотя похвастаться давностью знакомства не мог ни один из них.
Сей знатный, чрезвычайно таинственный господин прибыл с рекомендательными письмами из Парижа и очень помог в организации мятежа, щедро ссудив заговорщиков немалыми деньгами.
Его настоящее имя знали только императрица и князь Волконский, глава русских масонов, и по его просьбе Като даровала господину «Одару» на время мятежа чин генерал-майора и фамилию Салтыков…
Ораниенбаум
До Ораниенбаума дошли быстро и с изрядным пополнением. Тот десяток казаков, что на дороге остались, там, где сербских гусар порешили, лошадок их переловили.
Вот в Ораниенбаум табуном громадным и пригнали, предварительно нагрузив трофеями и оружием. И лишь толпа крестьян из ближайшего селения осталась на месте: и раненых увезти, и трупы погибших захоронить, да и самим помародерствовать потихоньку из вечной крестьянской алчности — в хозяйстве все сгодится, тем более на халявку…
Над крепостными воротами и над дворцом колыхались на флагштоках императорский штандарт — черный орел на золотом поле, и флотские Андреевские флаги с косым синим крестом на белом поле.
Сейчас Ораниенбаум представлял собой нормальный укрепрайон — все, что можно, усилили окопами и срубами, все дороги и тропинки перекрыли рогатками и полевыми пушками. А тяжелые морские орудия уже практически установили на валах крепости Петерштадт. Везде возились под лучами утреннего солнца полуголые матросы — Григорий Андреевич Спиридов дело туго знал, и пахал у него гарнизон как проклятый.
В крепости пришлось делать короткую дневку: и люди, и лошади порядочно притомились. Вот только Петру пришлось вместо отдыха решать множество неотложных проблем.
В крепости оставалась рота голштинцев, прибывших из Кронштадта, и рота егерей — по тевтонской педантичности генерал Шильд, не получив прямого на то приказа, оставил их в цитадели.
Но, с другой стороны, решение было не только в голимый вред, но и во благо. Теперь сумки егерей заполнились спешно изготовленными новыми пулями — по три десятка турбинок у каждого.
Поразмыслив немного, Петр решил пойти на авантюру, наискосок перейти Гостилицкую дорогу и перехватить верстах в двадцати колонну генерала Гудовича, чтобы потом двинуться на Гостилицы объединенными силами.
И две оставшиеся в крепости легкие пушки с расчетами прихватить для усиления, и егерей с голштинской ротой артиллеристам на прикрытие поставить. А для ускорения марша повелел забрать все оставшиеся повозки и рассадить пехоту по трофейным лошадям.
Сказано — сделано. Петр начал суету и через полчаса выдохся, проклиная отсутствие Гудовича, который до этого снимал с его плеч чудовищное бремя нагрузки.
Оказалось, чтобы самому руководить войсками, нужны огромные знания — куда вести и по каким дорогам, чем кормить и где брать продовольствие, куда посылать дозоры, разработать порядок движения и прочую нужную штабную хренотень, без которой, как оказалось, и здесь армия воевать не может.
Петр малость обалдел, но впадать в прострацию не стал — резво выяснил, кто из его флигель-адъютантов хотя бы батальоном раньше командовал.
Такой быстро нашелся — подполковник Рейстер. Хоть и тевтон, но, по отзывам, знающий и опытный офицер с недавним боевым опытом. Причем воевал на нашей стороне, а не у пруссаков. Свой был немчик в доску, да и на русском языке говорил весьма прилично.
Барон был немедленно обласкан и поставлен на командование. И зря говорят, что немцы медлительны и педантичны — Петр вскоре убедился, насколько ошибочно досужее мнение. К двум часам дня колонна была готова и посажена на транспортные средства — лошадей и повозки. Но, глядя на свое очередное воинство, Петр крепко задумался.
«С чего это мы должны отступать? Вчера у нас был очень хороший план, не спорю. А вот сегодня, с учетом новых реалий, уже устаревший. Положение сейчас таково — в Гостиницах воронежцы Измайлова, голштинцы Ливена и кроншлотцы Шильда. А это пять полных батальонов одной пехоты. Некомплект от штата изрядный, но четыре тысячи штыков там есть. И две сотни казаков. Плюс девять трехфунтовок. Силища! И у генерала Гудовича более тысячи солдат, из них триста кавалерии и казаков. И здесь со мною две с половиной сотни хороших солдат, часть которых турбинками обеспечена. Полсотни сабель и две пушки — если с отрядом Гудовича и остальными генералами объединиться, то можно с гвардией крепко хлестануться, лоб в лоб. Тем более если они у Ораниенбаума в осаде застрянут накрепко.
У нас пять тысяч штыков, полтысячи сабель, десяток пушек — надо к Петергофу выходить завтра или послезавтра с утра. Тогда вся гвардия зажата будет — с запада гарнизоном Петерштадта, с моря галерами Бутакова, а с юга и востока мы подойдем. Классические Канны выйдут. А Миних Петербург уже легко захватит — ведь не оставит же Катька там гвардейские войска, а обычный гарнизон и армейцы сопротивления серьезного флоту не окажут. Надо решаться на бой, не в Нарву же драпать!»
Петр потребовал себе карту, бумагу и чернила, и вскоре уже составил новую диспозицию. Затем собственноручно написал приказ генералу Ливену — укрепиться в Гостилицах и Дьяконово и дожидаться его личного прибытия, выставив на аванпосты наличную кавалерию и казаков.
Гудовичу было отписано, чтоб не шибко торопился, когда его он догонять станет с ораниенбаумским отрядом. Затем с новой диспозицией был ознакомлен барон — немец полностью одобрил план и с нескрываемым уважением посмотрел на императора.
Денисову было тут же приказано отобрать шестерых казаков с заводными лошадями — Петр лично передал им пакеты и приказал доставить в собственные руки генералов. Дав гонцам по чарке водки на стременную и по рублю за спешность, император, благословив, отправил нарочных.
Затем он приказал собрать матросов и выдал пламенную речь, не хуже чем повылупившиеся сейчас отовсюду демократы, обличающие преступления кровавого режима коммуняк.
Петра кольнуло в сердце: «сейчас» — это когда? Но он отмахнулся от горькой мысли, не время думать да гадать, когда косая в спину дышит!
И красочно он говорил, и с демагогией, благо на митингах не только мало побывал. В конце выступления Петр уже кричал о том, что «Андреевский флаг, детище Петра Великого, перед врагами спущен быть не должен, лучше животы сложить за Отечество, чем позор сдачи грязью на души ляжет!»
Речь имела грандиозный успех, матросня была им доведена до исступления, потом до полного бешенства. Орали, как лоси на гоне, махали абордажными саблями, чисто по-флотски рвали рубашки на груди.
Петр умилился: «Надо бы им тельняшки придумать, и форменки с воротниками, и бескозырки с бушлатами». Затем он еще раз полюбовался результатом и отдал приказ на выступление…
Петербург
— Какое тупоумие! — с презрением сказала императрица Екатерина своей наперснице, княгине Екатерине Дашковой.
А расстраиваться им было отчего, ведь, себя не щадя, вернулась императрица в столицу. С дороги в Сенат указ особый заранее с нарочным отправила, в котором, угождая петербургским простолюдинам, резко снизила налоги на соль…
Прибыла за полдень и, чуть оправившись от дорожной усталости, сама огласила указ. Но стоявшая перед дворцом огромная толпа мещан и горожан встретила эту царскую милость без оптимизма и ожидаемых ею восторженных криков.
Все собравшиеся лишь молча перекрестились, сплюнули под ноги и быстро разошлись в разные стороны — и ничего не сделать, началось похмелье от революции.
Екатерина мрачно взирала на эту сцену, в расстройстве не выдержала и во всеуслышание, при множестве придворных, в сердцах бросила: «Какое тупоумие!»
Во исполнение плана «Салтыкова» Екатерина Алексеевна развила в эти часы бешеную энергию — все гвардейцы, за исключением двух рот измайловцев и горстки конногвардейцев из личной охраны, были немедленно отправлены в Петергоф.
Еще ранее полдюжины единорогов туда направили, крепость Петерштадт с землею вровень сровнять. А сейчас граф Разумовский восемь рот драгун кое-как собрал, разделил на два отряда и выслал — первый в Петергоф, а второй под Гатчину, с казаками разобраться, что уже разор немалый учинили.
Но на войска свои, присягу ей давшие, у Като уже было мало надежды — слишком несчастно день начался для ее гвардии, и сразу же многие нестойкие души в соблазн вторичной измены кинулись, заранее прощение у Петра Федоровича вымаливая.
И супруг поразил в самое сердце — не узнавала она теперь своего мужа. Храбр тот стал до безрассудства, отчаян и силен сверх меры, ведь трех братьев Орловых, силачей в гвардии известных, в схватках играючи победил.
Да потом еще измайловцев сам убивал свирепо, на свои ранения не глядя. И откуда такие таланты разом к нему пришли, и откуда сила взялась? Ведь немощен же был да слаб здоровьем…
Екатерина поежилась — все чаще на ум приходила мысль, что супруг от покойных дедов своих талантов поднабрался. И хоть в мистику она почти не верила, но другого объяснения умная женщина пока не находила. Поэтому, чтобы выиграть время, и приняла предложение графа Никиты Ивановича Панина написать супругу покаянное письмо, чем сейчас и занялась…
Гостилицкий тракт
— Ваше величество!
От громкого голоса адъютанта Петр проснулся. Солнце клонилось к вечеру, и он тихо выругался про себя — не меньше трех часов спал в повозке на мягкой душистой траве под плотным тентом. Сладко дрых, и так глубоко, что ухабов не замечал, а ведь транспорт не подрессорен. Петр выскочил из повозки — колонна стояла на месте, солдаты напряженно смотрели на юг. А картина была очень нехорошей.
В верстах четырех к югу чуть клубилась пыль, и, прижав к глазу подзорную трубу, Петр увидел три отряда конницы — один в центре, а два поменьше были оттянуты по флангам.
— Два эскадрона, государь! — Голос немца был бесстрастен. — Я отдал приказ строить вагенбург. Надеюсь отбиться от кавалерии, а вам, ваше величество, необходимо немедленно отбыть с конвоем и казаками к генералу Гудовичу, они отсекли нас от Гостилиц. Государь, вам следует поспешить, иначе поздно будет.
«И так вижу, что хреновей некуда, и это полный абзац. Если это конногвардейцы, то, значит, пошли на глубокий охват. Очень плохо — два эскадрона против нас, три против Гудовича, а еще лейб-кирасиры у супруги имеются. Надо же, только сейчас об этом вспомнил, дурак. У Катерины две тысячи палашей тяжелой конницы, да еще пятьсот сербских гусар, а я, как придурок, приказ о наступлении уже отдал, и отменять поздно. Ой, дурак! А вот бежать я не буду, шиш им с маслом!»
— У нас турбинных пуль две тысячи и картечь имеется — отобьемся, барон. Да и грех им спину показывать, драться будем. Тем более что их меньше четырехсот всадников, и нас здесь почти четыреста человек, правда, с канонирами и обозными рекрутами.
Барон не настаивал на своем предложении, а быстро отдавал все необходимые приказы. Дело спорилось. Позиция была удачной — на пригорке, слева и справа густые рощи, сзади вдоль дороги заросли кустарника.
Повозки перегородили центр позиции, за ними поставили голштинцев с пушками. Егеря рассыпались за деревьями и кустами. За левую рощу отвели стреноженных лошадей, с прикрытием из трех десятков сербских гусар, а с правой стороны встала в засаду остальная кавалерия — полсотни казаков, голштинских гусар и конных адъютантов.
Между тем и противник стал маневрировать, быстро идя на сближение. Отряды стали растягиваться в тонкую цепочку, края всех отрядов соединились. Такое построение озадачило Петра, ведь тяжелая кавалерия атаковала всегда плотно сбитыми массами…
— Это не конная гвардия, государь-батюшка, это казаки донские! — спокойно произнес Денисов и, заметив недоумение Петра, разъяснил, сказав при этом только два слова: — Лавой идут.
«Так вот какая из себя лава!»
Петр только читал о таком казачьем построении. Действительно лава, способность наскочить на врага и быстро всем отпрыгнуть, а в сбитом отряде такой отскок не проделаешь. И еще фланги противника охватить легко, фронт в обе стороны вытянув. Это ему сейчас и продемонстрировали, как быстро лава по сторонам вытягивается и к наскоку с обхватом готовится.
От казачьего отряда, замершего на приличном расстоянии, отделились трое верховых и неспешной рысью поскакали к пригорку. И через пару минут донцы уже были перед ним.
Здоровенный седой казачина мазнул Петра глазами, тут же напрягся, видимо, признал императора, мгновенно спрыгнул с коня и представился:
— Ваше величество, Войска Донского старшина Данилов. С полком прибыл! — еще не старый, лет пятидесяти, лицо покрыто морщинами, а вот глаза молодые, хитрецой поблескивают. За ним два казака, сабли с золотой насечкой, вид лихой, и, судя по всему, офицеры.
Петр цепко обвел их строгими глазами, офицеры еще больше подтянулись, а старшина даже чуть животик втянул. Смотрят преданно, как сторожевые собаки, лишь клыки не ощерили, команды дожидаясь, чтоб в горло врагу вцепиться.
— Как лошади, казак? Грамоту жалованную Войску Донскому читали?!
— Ваше величество, лошади почти отдохнули на дневке малой, службу царскую справим! Только вели, государь-батюшка, животов не пожалеем, за честь почтем их сложить. Грамоту твою читали всему полку, и благодарность казачью прими, государь, не погнушайся, от полка, от казаков и всего Войска Донского! То БЛАГО ВЕЛИКОЕ, батюшка, отец наш, тобой сделано!
Казак низко, чуть ли не до самой земли, поклонился, выпрямился да широкой ладонью в рукоять сабли крепко вцепился. Поклонились сразу же и два офицера, почти одновременно, в пояс поклонились.
— Сколько казаков в полку, как шли?
— Пятьсот сорок, государь. И еще десять офицеров при сотнях, да полковой есаул. Вышли с Ямбурга в ночь, как гонцы ваши прискакали, спешно шли, Дьяконово с закатной стороны миновали, а два часа назад нарочных казаков встретили, они нам и поведали путь ваш дальнейший да поспешать требовали, ибо без кавалерии отряд ваш.
— Казаков и лошадей покормить, чарку водки жалую! А потом одну сотню отправь, пусть дорогу из Петергофа закроет и арьергардом нашим послужит. Гонцов с грамотками перехватить и сюда под караулом направлять. Но обывателей не обижать, живота и имущества не отнимать, а то знаю вас. То крепко вели своим донцам, пусть на носу зарубят! А сам остальные сотни возьмешь и за пехотой моей следуй, но полсотни в авангард отправь. Давай, казак, иди, полчаса отдыха даю, потом нас скоренько догоните. Доволен я казаками, и вы исполняйте честно волю и службу царскую!
Рейстер уже вовсю командовал, повозки вытягивались по дороге. Полусотня авангарда уже ушла далеко вперед, рассыпалась в стороны мелкими группами. Через четверть часа тронулась вся колонна, и Петр привычно покачивался в седле, осматривая окрестности.
События сегодняшнего дня сильно изменили Петра — любование красотами летней природы отошло на задний план, а мозг занимали дела батальные. Самое главное, он ни разу не вспомнил о своей прошлой, до позавчерашнего дня, жизни! Все, амба, как отрезало, да оно и понятно, некогда в раздумья ударяться, когда воевать надо. И даже сейчас он оценивал местность на возможность принятия здесь боя.
Петр печально улыбнулся. Права народная мудрость, гласящая, что с волками жить — по-волчьи выть. Он вспомнил одну историю, связанную с основателем германского генерального штаба Мольтке-старшим и хорошо характеризующую настоящих военных.
Сей генерал однажды ехал на поезде и смотрел в окно. Сидящий напротив его адъютант воскликнул:
— Какая красота!
Старик хмуро глянул, скривился, но снизошел до ответа:
— Красиво, но позиция плохая! Узкое дефиле мешает проходу войск, а заходящее солнце будет слепить артиллеристов!
Может быть, и не совсем точно Петр припомнил сейчас слова старого генерала, но тут важен сам образ жизни — с утра он жил и дышал войной, лишь спал изредка, немного времени отвел на еду да на разглядывание фрейлин.
И все — его мысли и воспоминания, личные горести — все перечеркнула жирным крестом война, да еще легла на плечи тяжкая ноша государственных забот. И положа руку на сердце, честно бы сказал, что в чирикарской «зеленке» Афгана он чувствовал себя намного легче…
Проселочная дорога отняла еще с час, а когда свернули на тракт, казаки уже гарцевали в арьергарде, с разрывом в полверсты. Так и шли неспешно, березовые рощи чередовались зелеными лугами, те густым хвойным лесом, затем шли широкие поля и снова березовые рощи. Миновали и мызу с черепичной красной крышей и множеством самых различных построек, стоявшую чуть в стороне от тракта.
Нарва
— Ваше превосходительство, галера с Ораниенбаума подошла! — дежурный офицер оторвал Румянцева от ужина, и генерал вопросительно посмотрел на вошедшего. И тот сразу же закончил:
— На ней принц Георг прибыл, с личным письмом от императора Петра Федоровича.
Фельдмаршальский чин голштинца подпоручик проигнорировал, тот в русской армии никаким уважением не пользовался. Однако субординацию соблюдать надо в точности, и Петр Александрович, вытерев губы салфеткой, быстро покинул столовую, спустился по винтовой лестнице и вышел из купеческого дома, где он квартировал, на мостовую.
И вовремя — в ворота проскакали трое верховых, двое в голштинских мундирах, а третий был его адъютантом, поручиком Хвостовым, генерал узнал его сразу.
Первое, что бросилось в глаза, это тусклый вид герцога Гольштейн-Бекского. Где великолепная фельдмаршальская форма русской армии, где голубая лента через правое плечо? И уверенный вид у голштинца полностью пропал.
Но размышлять было не ко времени, и Румянцев тут же поприветствовал принца Жорика, как генералу более высшего по рангу фельдмаршала приветствовать приходится. Но сказал с чисто русским военным своенравием, на издевательство больше похожим — этому русские с рождения учатся:
— К вашим услугам, ваша светлость! Позвольте мне осведомиться, с чем прибыли, господин фельдмаршал.
— Я иметь письмо от мой государь, — на жутком русском ответил принц Георг, а Румянцев изумился до чрезвычайности, ибо не слышал от надменного герцога никогда ранее русской речи. Принц вручил генералу письмо и на том же чудовищном русском добавил:
— Я не есть больше русския фельдмаршал. Я более есть только генерал-майор голштинский войска. Государь наказал меня за есть бунт в Петербург конная гвардии…
Вот тут-то Румянцев был сражен наповал и потрясен до глубины души. Чтобы император так круто разобрался с дядей, которому раньше в рот заглядывал… И при этом так его продрал, что тот на русский язык перешел, и хоть на нем давится, но говорить-то со всеми пытается…
Прочитав письмо императора, Петр Александрович испытал такое чувство жгучего стыда, коего за свою жизнь не испытывал никогда. Нет, государь ему не пенял, наоборот, в пример ставил совершенно безынициативным немецким генералам, отмечал его храбрость и предприимчивость.
Сообщая о мятеже гвардии, помощи не просил, писал, что войска в Гостилицах собирает и генеральный бой завтра днем там даст. Написал, что фельдмаршал Миних в Кронштадте, над флотом полностью властен и десант в столицу готовит…
— Что передать мой император? — хладнокровно спросил Петра Румянцева принц Георг, но с почтительностью в голосе, как младший по чину старшего спрашивает.
— Ваша светлость, прошу от меня передать его императорскому величеству — через два часа с кирасирским и двумя драгунскими полками я немедленно выступаю из Ивангорода на Гостилицы. Полки сии уже к маршу мною подготовлены были заранее. И к государю Петру Федоровичу сейчас же гонцами своих адъютантов направлю.
Петербург
— Вы уверены, Никита Иванович, что он справится с этим делом? — Дашкова ожидающе посмотрела на надменного графа.
Тот презрительно ухмыльнулся, потом посмотрел на дверь, за которой была его приемная (Дашкова сразу отметила эту осторожность воспитателя наследника Павла), и, цедя слова, снисходительно ответил княгине:
— А куда ему деваться, у него долгов на шестьдесят тысяч одних. Сумма немалая, но мы ее разом заплатим и еще столько же ему выдадим. Там, где мечи бессильны, золото достигает цели, — глаза Панина сверкнули, и он стал уже требовательно говорить ей: — А вы, Катерина Романовна, своей сестре сейчас напишите покаянно. И настоятельно попросите ее, чтобы она письмо императрицы, вот это, — он показал ей золоченый футляр, сиротливо лежащий на большом письменном столе, — любовнику своему, императору Петру Федоровичу, немедленно отдала. И сей футляр к своему посланию приложите, но письмо не доставайте и рукой голой не касайтесь. Человек надежный готов немедленно в Кронштадт отправиться… То наша надежда последняя, ибо мыслю, что победить сталью мы не сможем. Но вот этим все проблемы возникшие разом снять можем, и навсегда. Тем более что две попытки завсегда лучше одной…
— Писать незачем, милый граф, — Дашкова извлекла свернутое трубочкой письмо и с улыбкой вручила его Панину. Тот пристально посмотрел ей в глаза, как бы говоря: «Вы позволите прочитать?», а дождавшись разрешительного кивка княгини, Никита Иванович быстро пробежал по письму глазами и удовлетворенно хмыкнул.
— Ваша сестра, княгиня, сделает все возможное и невозможное, чтобы письмо Като попало в руки ее любовника. Вы, Катерина Романовна, весьма умно написали. Я рад, что мы давно нашли с вами общий язык и делаем одно дело вместе…
— Два дела, — поправила его Дашкова, — мой милый граф. Да еще хитрый хохол третье дело, подобное нашему, творит. Вот только не говорит о нем никому, даже нашей недалекой Като.
— А это не так важно, — Панин задумчиво почесал переносицу, — он в любом случае за нас это сделает. А миновать сразу три порога на такой бурной реке и умелый лоцман не сможет, а уж наш царек тем более. Да и перстня царя Митридата у него нет…
Гостилицкий тракт
— Ваше величество, обернитесь, казаки!
Тревожный голос адъютанта вывел Петра из состояния задумчивости. Он быстро обернулся — странно повели себя казаки. Сотни свернули с дороги в обе стороны и, как щупальца, стали вытягиваться назад. Вернее, вперед, если судить по этому движению.
Мысль об измене Петр откинул сразу, но такой тактический маневр был для него не совсем понятен — донцы, искусно прячась за рощами и кустарниками, вытягивались длинной подковой.
— Похоже, за нами послали из Петергофа кавалерию в погоню, ваше величество, один или два эскадрона, — за спиной послышался голос Денисова. — Это вентерь…
Петр уже раньше слышал это слово и стал соображать.
Видать, этот самый вентерь на один или два эскадрона делают, то есть против 200–400 всадников и, соответственно, при численном превосходстве казаков. Другие тактические приемы тоже наверняка есть, но почему-то Данилов избрал вентерь. Надо посмотреть на казачью придумку…
Петр развернул кобылу и поскакал обратно. Верста пролетела быстро, а увидев на пригорке в березняке полковой значок и группу спешившихся казаков, он направил туда лошадь, резонно предположив, что там найдет Данилова.
Мысль была правильной, и, увидев царя, войсковой старшина дернулся к нему, видимо, с докладом, но Петр осадил жестом — мол, воюй сам, а я тут в сторонке тихонечко понаблюдаю.
С вершины крутого пригорка казачья «подкова» была как на ладони, а вот с дороги в лощине вряд ли что можно было увидеть за деревьями и густыми кустами. Петр закурил папиросу и приготовился ожидать развития событий, но события обрушились почти сразу.
Где-то далеко впереди раздались выстрелы, отголосками донеслись дикие крики. Началось! Петр вскочил на ноги и стал вглядываться через редколесье в подзорную трубу.
Так и есть — далеко впереди мельтешили всадники. Петр ухмыльнулся — судя по всему, казаки сейчас вырубали головной разъезд конной гвардии. В засаде станичники стояли тихо и сумели подловить конногвардейцев, без опаски ехавших по тракту.
Драка вскоре прекратилась, и над дорогой взвились плотные клубы сероватой пыли. Можно было только увидеть, как казаки мчатся обратно наметом, во всю лошадиную прыть.
Хоть и вечер наступал, но солнышко еще припекало, пот скользил каплями по лбу и попадал влагой на ресницы, пришлось Петру оторваться от зрелища и платком утереть пот. Когда же император вновь посмотрел в трубу, то драматические события развернулись уже вблизи.
С полсотни донцов выскочили на луг, галопом пролетели по лощине. За ними, с криками и матами, размахивая палашами, широким неровным строем мчались на рослых лошадях гвардейцы, с две сотни примерно.
Ярость в них просто бурлила, била во всю мощь ключом, видать, попили с них казаки всласть кровушки, вот и стремились сейчас гвардейцы к отмщению за предательское нападение.
Петр перевел подзорную трубу — донцы уже пролетели длинную лощину и, взмахнув на пригорок, стали сыпаться с него горохом и тут же разворачивали своих лошадей обратно.
А у преследователей ярость, видать, глаза полностью застилала, что к печальным последствиям для них привело. И, как только конногвардейцы из глубокой лощины выскочили, тут же хриплым мартовским котом взвыла труба, то Данилов приказ отдал, а горнист постарался во всю мощь легких.
И тут началось! На пригорок вылетели в плотном строю, с пиками наперевес казаки, а те донцы, которые драпали, уже своих коней в обратную сторону повернули.
С двух других сторон изогнутой «подковы» из-за деревьев и кустов на полном скаку появились засадные сотни донцов. Полностью окружив, таким образом, зарвавшихся гвардейцев.
И Петр только сейчас увидел, какая шибко поганая для врага штука — казачий вентерь. Прием коварный и много раз срабатывавший. Он вспомнил сражение казаков Платова под Миром в войну 1812 года, когда казаки таким же приемом изрубили в капусту хваленых польских уланов. Здесь, конечно, масштаб побоища был намного меньше, но ожесточения хватало с избытком.
Хриплые вопли умирающих, дикие крики рубящихся, стрельба из пистолетов в упор. Петр видел, как вылетали из седел гвардейцы, как их кололи пиками казаки, как с яростью рубили и метали дротики.
Немногие екатерининские орлы, да и те лишь из них, кто сзади был, сообразили, что в капкан угодили, и коней стали разворачивать. Но не тут-то было — дорогу уже перегородили своими пиками казаки, из кустов вдарили из ружей.
Свинцовый град валил людей и лошадей, на дистанции в двадцать шагов это было настоящим избиением. Лощину заволокло дымом, и Петр опустил подзорную трубу. Для него стало ясным, что эскадрона конногвардейцев попросту уже не существует, ни один из них из смертельных объятий не вырвется.
Но вот спокойно усидеть на месте он не смог, дал кобыле шенкеля, потом добавил шпорами и через полминуты врубился в драку. А спиной чувствовал, что его конвой, проклиная все на свете, стремится обогнать и защитить своими телами без меры храброго монарха.
Вот только подраться толком не удалось — Петр лишь раз ткнул шпагой в спину конногвардейца, второго, уже кем-то обезоруженного, рубанул с размаха и тут же был оттерт от схватки казаками. Один из адъютантов наклонился, схватил кобылу под узду, и драчливого императора насильно вывезли из свалки на тихое место.
Сначала Петр в ярости захотел было свой конвой отматерить за слишком ретивую опеку собственной персоны, но, выдохнув, успокоился: «У меня своя работа, у них своя!»
И он решил уже не лезть в затухающую драку, а продолжить смотреть на нее с безопасной высоты своего импровизированного командного пункта.
Только ничего из этого замысла не вышло, и уже через пару минут все стихло. Лишь дико, но с радостным предвкушением каркали в голубом небе черные вороны. Они кругами парили над полем кровавой схватки, сбиваясь в немалую стаю. Твари еще те, видать, всегда чувствуют, где будут убивать и проливать кровь и где можно будет наслаждаться пиршеством…
— Государь-батюшка! Прими подарок от казаков!
Войсковой старшина Данилов улыбался во весь щербатый рот, борода встопорщилась, а следом казаки притащили трех связанных гвардейцев, двое были в кровавых пятнах, а у третьего гвардейца по всему лицу расползлась кровавая кашица.
— Никто не вырвался, — тут же уточнил казак, — всех вырубили! С третьей викторией ваше величество, вы сами трех матерых ворогов собственноручно шпагой зарубили!
— Это еще не победа, казак! — несколько осторожно ответил ему Петр.
«И откуда он уже о двух схватках проведал? И трех гвардейцев я не мог сейчас убить. Опять мне чужих жмуров щедро подкинули? Я потихоньку превращаюсь в какого-то монстра: терминатор хренов, что ни день, то горы трупов за плечами! Так недалеко и до мальчиков кровавых в глазах…»
— Ну а вы, болезные, ответьте мне, — довольно ласково обратился он к пленным, — кто вы такие, верблюды одногорбые, и пошто на меня оружие свое подлое подняли?!
Казаки рывком подняли рослого.
«Да уж, глаз напрочь вытек, казачьей саблей полоснуло, теперь будет на всю жизнь одноглазым циклопом с обезображенной рожей. Впрочем, сколько ему той жизни осталось, через пару минут на суку повиснет».
— Унтер-офицер конной лейб-гвардии Григорий Потемкин, — с обреченностью в голосе ответил раненый. Петр с печалью смотрел на него.
«Пацан еще, лет двадцать с небольшим, даже младше меня. А ведь глаза своего он все-таки лишился, правда, сейчас от сабли, а должны были братья Орловы выбить, когда он на Катьку залез. Как ни странно, но история свершилась, пусть и раньше. Действительно, от судьбы не уйдешь. Кому суждено быть повешенным, тот не утонет. А двое других намного слабее в коленках и на расплату жидки. Застыли масками смерти, уже, видимо, с жизнями своими куцыми попрощались. Глаза смертной пленкой поддернуты — тьфу ты, живые покойнички, прямо слово».
— Да нет, Гриша, вы уже не моя гвардия, а изменники, присягу и крестное целованье нарушившие, власти алчущие да золотишка, что моя беспутная Катька вам за измену отсыплет, чтоб ее на царство возвести, охочие! Ну и какими силами сюда идете, и кто начальствует? Какие войска в Петербурге остались? Да говори же мне, Гришенька, что молчишь скорбно? Умел воровать, умей и ответ честно держать. Иначе умирать все долго будете и шибко погано. В мучениях диких, давно вами заслуженных. И семьи ваши, родителей престарелых, братьев и сестренок малых — навечно в Сибирь сошлю и там сгною за злодеяния ваши. Говори!!!
От яростного крика Петра Федоровича Потемкин вздрогнул, стал бледным как мел и негромко ответил:
— Три батальона следом идут, измайловцев и семеновцев, и гренадеры Преображенские. Князь Никита Юрьевич Трубецкой и генерал-аншеф Петр Иванович Панин посланным отрядом гвардии командуют. Да наш эскадрон, и еще четыре полных эскадрона лейб-кирасир… ваше императорское величество, — после небольшой заминки добавил титул.
Затем Потемкин поднял на Петра уцелевший глаз, в воспаленном белке Потемкина была такая безысходность, что Рыка передернуло. Но собрался унтер, заговорил дальше:
— А в Петергоф вступили еще пять батальонов, три гвардейских и два солдатских, да три эскадрона Конной гвардии. Да гарнизонных драгун четыре эскадрона. А гусар сербских три эскадрона куда-то запропастились, говорят, что они целиком на сторону вашего величества перешли. Начальствует над всеми войсками гвардии генерал-поручик Василий Иванович Суворов. А в столице войск гвардии почти нет и драгун немного. Одни солдаты гарнизонные и инвалиды в Петербурге остались.
— Ораниенбаум штурмовать войска отрядили? А в Петергофе гарнизон остался? В каких силах?
— Вся гвардия пошла Петерштадт штурмовать, и артиллерии гвардейской обе роты. А в Петергофе солдатский батальон да драгун две роты оставили, и три пушки малых, полковых.
— Повесьте изменников, — коротко бросил Петр и равнодушно отвернулся от них.
Казаки подхватили гвардейцев и поволокли их к деревьям, на ходу накинув на шеи петли из свернутых арканов. Смертники не упирались, приняли все с покорностью…
— Стой! — неожиданно крикнул Петр, и казаки, которые уже вздергивали на сук гвардейца, остановили казнь.
«Перевешать их всех недолго, а где я людей потом возьму? Ведь этот парень для России немало пользы сделал. Пусть пил, разврат чинил, из казны безмерно воровал, но в отличие от других делал все с инициативой. Лучше уж породистых да бестолковых вешать. А простых солдат и офицеров, может быть, к делу приспособить? Таких вот энергичных?! И дело для них придумаем… в Сибири! Иль на Аляску всем скопом отправить, пусть золотые жилы разрабатывают и туземцев с эскимосами гоняют. Мысль, конечно, интересная. Надо будет с моряками все тщательно прикинуть и обсосать да со знающими людьми переговорить».
— Взять под строгий арест. Связать и на повозки посадить. Пусть Гудович розыск начнет немедленно, имена изменников выявляя! — резко приказал Петр, и немалый камень с души свалился.
— Потери большие?
— Девять казаков погибли, еще семнадцать ранены, ваше величество, — тут же сообщил Данилов, — раненых в обоз отправили, лошадей переловили, а трофеи быстро соберем.
— Похоронить их надо. И все спрятать, чтоб те не догадались, что здесь вентерь был! Еще мундиров с полсотни без пятен кровавых с них снимите, мыслю я, что вскоре пригодиться могут.
— Все сделаем, государь, — уважительно отчеканил Данилов.
А Петр решил пройти, посмотреть, чем казаки заняты. Повинуясь его запрещающему жесту, за ним пошли лишь двое конвойных казаков, держащих ладони на рукоятях кривых сабель, да один адъютант.
На поле схватки происходило узаконенное мародерство, убитых конногвардейцев облегчали от всех ценностей и денег, выворачивая карманы. Затем с трупов привычно, видно, на основе богатого житейского опыта, снимали зеленые гвардейские мундиры.
Орудовали с полсотни казаков споро, складывая добычу в мешки. Потом дуван делить надо будет, законную долю по грамоте казакам выделяя. Да и заработали они ее честно…
Еще с полсотни донцов складывали трупы конногвардейцев рядками у огромной ямины — гробов на всех не напасешься, тем более на изменников.
Страшная гримаса оскалила лицо — яма-то природная, и копать не надо, будто заранее была для того приготовлена. И пусть эта братская могила другим изменникам будет постоянным напоминанием. Петр перекрестился, а верующим он стал после Афгана, и мрачно покачал головой. На душе было муторно….
Кровь пролилась, а ведь в истории вся эта сотня конногвардейцев, и измайловцы, и гусары, и те измайловцы в Петергофе — все живыми остались, семьи завели, детишек нянчили. А их теперь в яму покидают, без отпевания и молитв.
Хотя кто его знает, может, добрая половина из них от пьянок сгорела, в драках поумирала или в долгих войнах с турками сгинула, так детишек и не оставив. Он тяжело вздохнул, но сожаления не испытывал — на войне как на войне, или мы их, или они нас…
Ораниенбаум
— Ее императорское величество, государыня Екатерина Алексеевна не желает проливать русскую кровь напрасно и предлагает всему гарнизону крепости присягу ей принять на верность, и милостями многими быть вознагражденными!
Григорий Орлов сам вызвался быть парламентером и сейчас, надрывая горло, прокричал условия, а до того попытался испугать этот сброд качественно…
— Слушай меня, ты, Орлов! Если вы все, гвардейцы гребаные, присягу, перед Богом нашим данную, природному императору Петру Федоровичу нарушили подло, то уж нас к иудиному греху не склоните! — С единственной каменной воротной башни крепости, напрягая жилы на суровом морщинистом лице, прокричал в ответ Спиридов. — И не ори ты, флот российский запугать — это вам всем не шлюх …ть, якорь тебе в ж… и туда же осьминога насморочного поглубже засунуть. А гвардейцы твои ублюдочные, камбалой деланные, только и могут с…ть жидко, да голыми павлинами в перьях по Петергофу бегать. Только кого они таким видом да звенящими …ми напугать хотят?!
Последние слова командора накрыл всеобщий хохот матросов, густо усыпавших крепостные валы. Спиридов отвернулся и покинул башню, а его матросы, чуть ли не хором, стали матерной морской терминологией обсуждать поведение российской гвардии и перспективы в ее сексуальной жизни.
Правда, иной раз пробивались и совершенно безобидные ругательства на немецком языке типа «ферфлюхтер», «швайне» и прочие, совсем уж мягкие в сравнении с великим и могучим.
Побелевший от оскорблений Орлов не стал доходить до извечного русского ответа — «сам дурак», что является законной прелюдией к доброй драке. И так ясно, что флотские крепость не будут сдавать, наоборот, оборонять ее будут до крайности. Оттого и осыпают его сейчас щедро перченной флотской руганью — от командора и до последнего юнги.
Ну что ж, пусть их теперь пушки гвардейской артиллерии вразумляют доходчиво, до самого копчика, обычные орудия, что главным доводом королей приходятся.
Но первые орудийные залпы лишь через полчаса последовали — рявкнули единым слаженным залпом все 14 трехфунтовых пушек. Взвились клубы порохового дыма, и полетели в крепость медные кругляши ядер.
Но впустую пропал орудийный залп — только и смогли выбить пару тонких бревен из нижнего частокола, поцарапали чуток воротную башню и взрыхлили землю на крепостных валах. И все результаты — только матросский хохот с крепостных валов вызвали гомерический…
Командующий лейб-гвардии бомбардирским батальоном секунд-майор Берхман, даром что немец, смачно выругался. Ему, знающему артиллеристу, не удалось переубедить Орлова и доказать, что при осаде даже такой ничтожной крепостицы, как Петерштадт, полковые пушки полностью бесполезны. Нужны тяжелые единороги шуваловские, полупудовые, но вот те еще с Петербурга не доставлены. А без них штурмовать валы откровенное безумие — потери среди гвардейцев будут огромные…
Вот только додумать свою мысль Берхман не успел — пороховой дым застлал крепостные валы, и грохот мощного ответного залпа сотряс воздух. Куда там жалким гвардейским трехфунтовкам.
Конечно, это была невероятнейшая случайность, которые, однако, только на войнах порой и происходят — ядро морской пушки попало в секунд-майора и почти перерубило его пополам, отшвырнув далеко в сторону изуродованное тело офицера. А еще морякам удалось начисто сбить с огневой позиции одну полковую пушку, полностью свернув ее с лафета.
И был бы ущерб ничтожным, то тут извергнули полупудовые бомбы два голштинских единорога. Первая бомба разорвалась в толпе семеновцев, собравшихся посмотреть на обстрел крепости — людей разметало, разбросало по земле тела, оторванные руки и ноги. А вот вторая пудовая бомба угодила прямиком в повозку, груженную бочонками с порохом и прочим артиллерийским припасом.
И чудовищно рвануло…
Только через час гвардейцы пришли в себя от потрясения. При взрыве погибло семь человек, но более пятидесяти солдат и офицеров получили ранения, контузии и ожоги. Поднятый ими мятеж уже привел к многочисленным жертвам, как утром в Петергофе, так и здесь, в Ораниенбауме, вечером.
Но понесенные потери не запугали, а только сильнее раззадорили гвардейцев, и они решились предпринять штурм Большого дворца и голштинских казарм, стоявших вне цитадели.
Отчаянная атака четырех рот семеновцев не заладилась с самого начала — засевшие в двухэтажном здании дворцового комплекса две роты моряков и голштинцев встретили штурмующих плотным ружейным огнем.
Гвардейцы смешались и, потеряв два десятка солдат, отступили в парк и из-за деревьев начали перестрелку. Через час в здании не осталось ни одного целого окна…
Второй колонне из трех рот измайловцев повезло еще меньше — она не смогла дойти до казарм всего полсотни метров и попала под картечь двух хорошо замаскированных морских орудий.
Отчаянные призывы и личный пример некоторых отважных офицеров полка предотвратили повальное бегство солдат. Но когда гвардейцы увидели, что моряки, примкнув штыки и багинеты, пошли в решительную контратаку и за считаные минуты перекололи и перестреляли с полсотни мятежников, истрепанные нервы у семеновцев не выдержали, и они всем скопом ударились в паническое бегство…
Григорий Орлов только выругался, в последний раз посмотрев на Петерштадт. Основная масса войск гвардии уходила прочь от земляной твердыни, на позициях осталось лишь два батальона преображенцев, на треть гарнизонной пехотой разбавленные — солдаты косили испуганными глазами, как зайцы, а была бы у них хоть малая возможность, так порскнули бы в разные стороны.
И ничего тут не поделаешь — далеки были для обычных армейцев гвардейские заморочки с мятежом и новой присягой, да и не рвались они против своего императора воевать.
Уходила по тракту лейб-гвардия, только напрасно более сотни бойцов и пушку потеряв. А еще хуже было то, что гвардейская артиллерия наполовину утратила свою мощь — теперь для генеральной баталии у нее остались только упряжные зарядные ящики, по одному на две пушки, а в каждом лишь по сотне выстрелов…
Гостилицкий тракт
— Данилов, — нащупав мысль, Петр подозвал старшину, — три десятка трупов конногвардейцев не хорони тут, а с тушами лошадей раскидайте как можно живописней, и так сделайте, чтоб все подумать смогли, что свои же их вырубили и постреляли. Поэтому мертвецов тщательно отберите, чтобы ран от пик и дротиков на них не было…
«А ведь может выгореть эта задумка. Может. У них расчет точен — был трехкратный перевес, как в пехоте, так и в коннице. Видать, в Петергофе многих опросили и подсчет сил у Гудовича сделали правильный.
Но теперь-то пехоты у нас лишь вдвое меньше против их трех батальонов, а конницы, с приходом казаков Данилова, даже чуть больше, чем лейб-кирасиров. И это без учета войск генерала Ливена и воронежцев Измайлова — с ними у нас двукратный перевес в пехоте. Возможно, кавалерии у нас еще прибавится к вечеру, и значительно. Недаром два эскадрона сербских гусаров у них уже пропали. Ведь эти два эскадрона превращаются, по существу, в четыре — два убыло у них, а два прибыло у нас… Надо только хитрость какую придумать, чтобы воинство гвардейское чуть задержать, а князюшку Трубецкого обмануть, пусть на ночевку встанут, а утром опять нас преследовать начнут и на свою задницу новых приключений найдут…»
Петр вздохнул, снова подозвал к себе Данилова и тщательно растолковал казаку свои планы как на сегодня, так и на завтрашний день.
Подъехавшего флигель-адъютанта Рейстера после продолжительного инструктажа и необходимых пояснений посадили писать необходимые приказы — Петр диктовал и так ожесточенно черкал пером свою подпись на поднесенных листах бумаги, что чернила во все стороны летели.
Несколько адъютантов и полдюжины донцов, не щадя своих коней, по тракту вперед нарочными поскакали, дело царское вершить. Петр задумчиво посмотрел им вслед и осторожно стал спускаться с пригорка, выбирая пригодные для своих ступней места…
Звучный мат и хриплые стоны сотрясли воздух — все остолбенели. Император катался на склоне, орал от боли, держался за окровавленную ногу и изощренно изрыгал кружевную брань. Казаки и голштинцы немедленно бросились на помощь, с нескрываемой тревогой прижали царя к земле.
А дело было хуже некуда — император подвернул ногу, скатился по склону, как-то ухитрился выронить шпагу, острым клинком которой сильно порезал себе бедро и, хорошо ударившись головой о дерево, разодрал, в который уже раз, свой лоб в кровь.
На Данилова и Рейстера смотреть было жутко — увидев лицо императора в крови, они разом стали белей январского снега.
Петра казаки бережно усадили на расстеленную попону и в растерянности остановились. И тут же Данилов во всю мочь легких заорал: «Хмыля сюда быстрее!»
Не прошло и минуты, как к Петру подбежал пожилой казак с холщовым свертком в руках. И еще через пять минут Петр понял, что попал в руки опытного лекаря, а по совместительству, как водится, коновала.
Первым делом казак достал банку с какой-то лечебной коричневой мазью, причем миазмы общественных туалетов были благоуханием в сравнении с этим врачебным эликсиром. Содранный лоб и рана на бедре были щедро измазаны этой гадостью и забинтованы чистыми холстинами.
На этом Хмыль не успокоился и заново обработал все утренние царапины на царственном теле, везде наложив свою мазь, удовлетворенно хмыкнул:
— Почти зажило все, как на со… хм, батюшка, хотел сказать, крепки вы, аки дуб! — И туго перевязал.
Петр чувствовал, как к горлу остро подступила нехорошая тошнота, и про себя решил, что работать ассенизатором, чистя выгребные ямы, не так уж плохо. Вполне приличная профессия…
Потом с императорских ног осторожно стянули запыленные ботфорты и окончательно сдернули штанишки. Бородатый казак тут же отполоскал их в ручье, смывая кровь, и набросил на кусты — сушиться. Петра удивило, что станичник занялся постирушкой по собственной инициативе, не получив от своего командира на то приказа.
А вот с ногой было плоховато — лодыжка опухла и жутко болела. Хмыль хмыкнул в густые усы и неожиданно резко дернул ногу. Петр взвыл, он никак не ожидал такой подляны. И тут же высказал лекарю все, что про него думает, а также про такие вот нехорошие действия.
И долго он выговаривал, собирая всевозможные эпитеты и аргументы, перемежая их скупыми мужскими стонами и скрежетом зубовным, но вовремя сумел остановиться.
Вид казаков, которые с упоением слушали его тирады, при этом морща лбы для лучшего запоминания полюбившихся им перлов, не сразу, но насторожил императора, который внезапно осознал, что подает своим подчиненным самый дурной пример. А еще удивился тому, что нога перестала надрывно болеть.
— Это вывих, царь-батюшка, я только ножку тебе вправил, — ласково пояснил коновал и улыбнулся щербатой пастью, — сейчас мазью натру, полегчает, а потом горячую распарку сделаю из трав донских и отрубей. У лошадок за два дня любая опухоль спадает, а у тебя, государь-батюшка, уже утром все хорошо будет, проверено.
Петр перехватил очумелый взгляд Данилова, тот делал Хмылю страшные гримасы и для лучшего понимания даже постучал кулаком по голове. Смысл сигнализации был понятен: «Ты что это, сукин сын, царя то с собакой, то с лошадью сравниваешь!»
Чтобы унять боль и снять стресс, Петр потребовал у адъютанта водки. Водка появилась мгновенно, и царю налили объемную, грамм на двести, чарку, более похожую на чашку.
Однако шибало от нее не сивухой, а чем-то полынным и сладким. Петр, скосив взгляд в сторону, быстро перекрестил чарку: «Изыди, сатана, останься чистый дух!» — казаки хитро прищурились, развесив уши и боясь пропустить хоть слово, — и залпом, в два мощных глотка, одолел теплую водку.
«Слабовата, градусов тридцать, скорее всего настойка на водочной основе», — констатировал он и закусил кусочком копченого сала, который ему подал Данилов.
Закуска Петру понравилась, и он потребовал повторения — новая чарка проскочила уже соколом, за ней последовал новый кусочек сала. Казаки смотрели на него с умилением: «И храбр батюшка наш, и прост, казачьей пищи не чурается».
Пахнув дымком поднесенной папиросы, он почувствовал себя настолько хорошо, что даже поплыл. Но куда, осознать уже не мог, будто теплым одеялом укутали. Так и вырубился на попоне, с улыбкой на губах, а в голове застыла одна мысль: «Лишь бы с голштинцами и преображенцами у нас сегодня проскочило…»
Выборг
На галерном флоте, стоящем на якорях в надежной крепостной шхерной гавани, этим теплым летним вечером царило оживление.
Многовесельные суда готовились к походу, и матросы негромко переговаривались между собой, что получится от десанта на Петергоф. Среди десятков малых суденышек, снующих по просторной гавани, никто не обратил внимания на дуббель-шлюпку, только что прибывшую из Кронштадта…
— Семен, ты как? — морской офицер откинул свернутое парусное полотно и обратился к матросу, который тихо лежал на постеленной парусине и баюкал перебинтованную холстиной руку.
Вид у него был ужасен — все лицо в сине-фиолетовых переливах синяков и уже схватившихся жесткой коростой кровавых ссадин. Правый глаз полностью заплыл, а вместо левого узкая азиатская щелочка.
— Лушше, шем вшера! — тихо прошамкал матрос беззубым ртом.
Распухшие губы больше напоминали пельмени. Видно сразу, что досталось малому по первое число. И то, что после таких жестоких побоев он мог передвигаться и еще говорить при этом, пусть и шепелявя, было подобно чуду, гимну человеческой выносливости…
Семен Хорошхин выжил благодаря невероятному стечению обстоятельств. Матросы разорвали чуть ли не в клочья Преображенских офицеров и солдат, прибывших с адмиралом Талызиным в Кронштадт.
Досталось также рядовому фузилеру Хорошхину, и, будучи зверски измордованным, уже простившись с жизнью, он был выдернут с того света своим родным старшим братом Игнатом, лейтенантом с линейного корабля «Астрахань».
Очнулся гвардеец только в маленьком домике, в котором квартировал его брат. Укрывая Семена, Игнат сильно рисковал не только чином, но самой жизнью — со старым Живодером шутки плохи, и прознай Миних об этом, то повесил бы обоих на одной перекладине. Но пронесло — не подвела удача, не повернулась к ним задом, и не донес никто из соседей…
Подхватив гвардейца под руку, офицер отволок его к трактиру «Четыре якоря», но внутрь заходить не стал, а, поймав рябого слугу-чухонца, что-то прошептал тому на ухо. Не прошло и минуты, как появился хозяин трактира. С ним Игнат говорил чуть дольше, но вот о чем был разговор, то Семен не понял, слишком тихо велась беседа.
Хозяин подозвал к себе слугу, коротко переговорил и, бросив настороженный взгляд по сторонам, ушел в трактир. Игнат же отволок брата на конюшню, где рябой уже седлал двух коней.
— Слушай меня внимательно, брат, — офицер зашептал на ухо гвардейцу, — сядешь на лошадь, слуга проводит тебя в обход караулов. И скачи в Петербург, не жалей коня. Матушке государыне скажешь, что офицеры «Астрахани» зверствами Миниха зело недовольны и завтра к полудню свой корабль и еще один в Неву приведут для присяги матушке Екатерине Алексеевне. А галерный флот, что здесь собирают, через два часа на Петергоф пойдет, и после полудня десант там и в Ораниенбауме высаживать будет. А войск в десанте более трех тысяч, солдат и матросов. И еще два десятка галер и малых судов в Неву войдут, а на них пять сотен солдат гарнизона Выборгского будет. Так вот, как «Астрахань» в Неву войдет, то у Адмиралтейства бортом повернется и по галерам стрельбу начнет…
Мыза Ригельсдорф
— Так ты говоришь, хозяин, что всадники были одеты в форму Конной лейб-гвардии?! И сколько их было? — еще молодой генерал-аншеф спрашивал управляющего мызой жестко, требовательно.
— На мызу десяток конногвардейцев пришло да казаков столько же. Да еще на тракте более двух десятков было. И казаков с полсотни с ними, — хозяин отвечал на вопросы генерала спокойно и обстоятельно, без спешки. Да и чего ему было бояться, кто бы ни пришел, всех кормить надо, а не взирать на их политические воззрения…
— А на мне какая форма? — задал проверочный вопрос генерал Петр Панин, младший брат известного воспитателя наследника престола Павла Петровича, графа Никиты Панина, активного заговорщика и конфидента императрицы Екатерины Алексеевны.
— Лейб-гвардии полка Измайловского, — спокойно ответил пожилой управляющий и коротко пояснил: — У меня, ваше превосходительство, зять в лейб-кирасирах служит, а младшая сестра замужем за отставным поручиком лейб-гвардии Семеновского полка.
— Как твоего зятя зовут? В каком эскадроне служит?
— Сержант второго эскадрона Кузьма Проничев.
— Знаю такого, через час-другой они сюда подойдут, — ответил на несказанный вопрос генерал и надолго задумался. Новости были шокирующими…
Первая хуже некуда — эскадрон конногвардейцев, приданный его отряду, изменил государыне, будучи полностью окруженный казаками, перешел на сторону императора. Три десятка конногвардейцев, верных матушке, погибли в неравном бою со своими же однополчанами и казаками. Их трупы и обнаружил час назад на тракте головной разъезд лейб-кирасир.
Теперь стало ясным — и почему на мызу конногвардейцы дозором пожаловали, и почему они хулили матушку государыню, и почему у некоторых из них мундиры в кровавых пятнах. Но и в такой худой новости светлая сторона была — мало у императора в Гостилицах кавалерии, раз переветников для службы арьергардной привлекли…
Вторая новость была намного лучше. Император от полученных ран слег и был на повозке отвезен в Гостилицы, где уже собралось его воинство — голштинская гвардия, две роты изменивших в Петергофе преображенцев, сотня предателей конногвардейцев, с полтысячи донских казаков да с тысячи полторы солдат и драгун.
И в Дьяконове, что несколькими верстами севернее по копорскому тракту, преданный императору Петру Федоровичу генерал Мишка Измайлов с двумя тысячами пехоты и несколькими ротами драгун и конных гренадер стоит.
И как ни хотел Петр Панин немедленно отдать приказ на атаку, но понимал — в ночном бою поражение для его войск неизбежно. Вот с завтрашнего утра его отряд и войска генерала Суворова царское воинство в клещи зажмут и одновременным ударом с двух сторон сокрушат вчистую, ибо теперь войск у них, благодаря принятым неотложно мерам, почти вдвое больше будет. И тем сокрушительней удар завтра днем получится.
Вот потому-то и перебежал час назад к ним из Гостилиц преображенец Гаврила Державин, словно скорое поражение предчувствовал и вторично на сторону победителя переметнулся. То добрый знак был — ранее к противной стороне переходили…
Гостилицы
Пробуждение застигло Петра вовремя — ему снился сон, что в общаге он зашел в туалет и собирается облегчиться. От этого ощущения и проснулся.
Широкая и мягкая постель, большое окно, шторки закрыты, шкаф, поставец, три удобных кресла с резным столиком, а в углу массивный сундук. Половики везде наброшены, мохнатые медвежьи шкуры — красота в исконно русском стиле.
Дверь тут же раскрылась, и на пороге появились два голштинца, сразу видно, что нетерпеливо ожидали его пробуждения. Однако Петр тут же спросил их о наболевшем:
— Где тут сортир, орлы? Ретираду показывайте, быстрее!
Однако никуда ходить не пришлось — расторопный вихрастый мальчонка тут же влетел в комнату, будто вместе с офицерами сидел под дверью, и принялся устанавливать мудреное сооружение, похожее на тумбочку с отверстием и крышкой.
Петр ухмыльнулся — такой оригинальной конструкции туалета ему еще не приходилось видеть. Офицеры стыдливо вышли из комнаты, выскочил за дверь и мальчишка.
Император уселся на стульчак орлом, дотянулся до столика, взял из знакомой коробки папироску, прикурил от свечки — на душе стало хорошо.
Ничего не болело, голова светлая, здоровье распирает — и даже вонизма от повязок не чувствуется. И только сейчас он осознал, что сидит совершенно голый — ведь не считать же одеждой повязки на бедрах, лодыжке, кисти и голове. А мозг уже сделал главный вывод — все в порядке, иначе уже все крутом суетились бы.
Это его сразу успокоило, и он продолжил свое «сидение». Сделав нужное дело, Петр воспользовался заранее положенной мягкой тряпочкой, закрыл крышку «сиденья» и снова юркнул под одеяло. И сразу же начались хлопоты — в комнату зашел Гудович, коротко поклонился. Петр жестом указал на кресло и папиросы.
Генерал чиниться не стал, тут же закурил и уселся в кресло. Эта мягкая хитрость сбила его с толку, и прошло полминуты, пока Гудович собрался с мыслями. Выглядел генерал неважно — даже в вечерних сумерках было видно, как покраснели у генерал-адъютанта глаза.
— Тебе надо поспать, мой дорогой друг, — Петр перехватил инициативу и начал первым, — не меньше пяти часов. Это приказ.
— После доклада вашему величеству, — отрезал генерал и пошел сразу на попятную, — я прилягу, а меня сменит в штабе барон Рейстер.
Петр завернулся в одеяло, как римский патриций, подошел к столу, закурил, затем прижал рукой плечо попытавшегося встать Гудовича и усадил того обратно в кресло. Уселся на кровать и изрек:
— Докладывай.
— Ваше величество, отряд генерала Панина и князя Трубецкого встал на бивак у мызы, как вы и рассчитывали. Ваша задумка с переодетыми в конногвардейскую форму голштинцами и «сбежавшим из плена» преображением полностью удалась. Раньше утра они теперь не выступят. Место для боя выбрано — в версте от мызы мост, по сторонам рощи, а там можно укрыть всю нашу пехоту генерала Ливена и голштинскую артиллерию. Хотя скажу честно — не понимаю я, как удастся нам эту самую артиллерийскую засаду организовать, да еще с «огневым мешком».
Генерал Гудович затушил окурок, ему были не совсем понятны предложенные императором термины, хотя их суть он уловил вполне правильно. Но, так и не дождавшись ответа императора, генерал тяжело вздохнул и продолжил доклад:
— Час назад подошли сербские гусары, их два полных эскадрона, более пятисот сабель. Полковник Милорадович необходимые приказы от меня получил. Часть излишка гусар, около пятидесяти человек, отправил к голштинцам, что потери серьезные понесли, на доукомплектование. От генерала Измайлова четверть часа назад нарочный прискакал. Воронежский полк и один батальон кроншлотцев при четырех орудиях позиции заняли южнее Дьяконова, в четырех верстах от нас. Генерал спешно формирует свой полк — более трехсот невских кирасир из Петербурга пришло, но только лишь полусотня в обмундировании, остальные в чем попало одетые, иначе из казарм и квартир уйти бы им не удалось. Я приказал отдать все снаряжение, оружие и лошадей от разгромленных утром и вечером эскадронов конногвардейцев и сербских гусар, — генерал снова устало вздохнул, поднял воспаленные кроличьи глаза на Петра. — Из Ямбурга, Копорья и Гатчины подошли еще войска, полный батальон Ингерманландского полка, пехоты от разных полков пять рот, по роте конных гренадер и кирасир, шесть рот драгун из различных полков. Я передал ингерманландцев и кирасир на усиление отряда Измайлова. Из драгун и конных гренадер приказал сформировать сводный полк в три полных эскадрона. Они отведены на наш левый фланг. Пехотные роты распределил по двум батальонам моего отряда. У меня все, государь.
— Вот и хорошо, генерал. Иди спать, да выспись хорошенько, а то глаза красными стали, как у кролика.
— У меня к вам просьба, ваше величество, — Гудович встал с кресла, — никто не сомневается в вашей отчаянной храбрости, государь, но иной раз, простите меня, солдаты говорят, и я сам видел, что вы ведете себя в бою с безумной отвагой, как ваш дед… король свейский Карл. Прошу вас быть осторожным в завтрашнем бою. Случайная рана, такая, как та, которую вы получили сегодня вечером от конногвардейцев, может обойтись войскам и вашему делу дорого. Еще раз простите.
Гудович поклонился и вышел, а Петр впал в прострацию. Вот и пирожки с котятами. Похоже, он стал легендой, и из труса, почти не говорящего на русском языке, превратился в свирепого викинга с окровавленной лопатой, изрыгающего такие словеса, что казачки вчера рты открывали на всю ширину и с восторгом внимали. И ведь не только внимали, но и запоминали. И еще круги во все стороны пошли — небось вскоре заорут: «Царь-то у нас ненастоящий!»
Хотя нет, не будут орать — пословица про яблоню и яблочко на такие случаи и написана. А у него два крутейших деда — Петр Великий и Карл Шведский, тот аж 8 лет русское воинство гонял и прочих поляков, немцев, датчан, пока ему под Полтавой хлебало не набили.
Потому на героических дедов ссылаться и будут, видя перерождение. И вкусы новые — насколько Петр помнил, Карл из солдатской кухни всю жизнь питался, а баб сторонился. Хм, из солдатского котла есть, пожалуй, можно, и даже нужно, но вот от баб…
Но король не дурак — водка и бабы до цугундера довести могут. Так что если он от одного элемента откажется, то риск сразу резко уменьшится. Однако пожрать бы никак не помешало — утром и ел в последний раз.
Петр сглотнул слюну и тут почувствовал, с каким бурчанием протестует желудок. На поставце лежало знакомое «гусиное яйцо» и громко тикало.
Он открыл крышку и свистнул — половина одиннадцатого, что-то у него входит в привычку начинать новый день задолго до полуночи. Петр скрипнул зубами — даже попить ничего не было. Он подошел к двери и чуть стукнул кулаком, через секунду дверь отворилась, и в комнату вошел адъютант.
— Послушай, мой друг. Я тебе русский император или хрен собачий? Ты же мой адъютант, запомни, — и Петр крепко ткнул пальцем офицера в грудь. Надеясь, что тот не обидится на выволочку — свой брат русак. — Или хочешь в имение обратно уехать, на подворье гусаков михирем гонять? Извини за выволочку, но другого ты не заслуживаешь. Толчок в комнате стоит, пить нечего. Голышом мерзну, и наготу прикрыть нечем, хоть бы халат какой дали. Жрать не дают, да от такой жизни и на бабу не залезешь. Да, кстати, о бабах. Нормальные адъютанты, что императора своего любят, холят и лелеют, обо всем должны позаботиться. Вот тогда-то я для вас всех отцом родным стану и царскими милостями, кхе, не обижу. Закон такой есть по жизни: ты мне, я тебе. Это не то, не слушай. Ага! Вспомнил! За Богом молитва, а за царем служба — никогда не пропадут. Ступай же, и подумай хорошенько о грехах своих тяжких да о неотложных нуждах государевых…
Петр отвернулся, но краем глаза скосил — адъютант загрузился нехило, в прострации отвесил глубокий поклон, тихо промолвил что-то типа «простите, государь» и быстро выскочил из комнаты, не затворив за собой дверь. Послышался его злой шепот: «У, злыдни прыщавые, подвели под монастырь!» И тут же раздался звук хлесткого, наотмашь, удара.
Затем экзекуция кого-то продолжилась. Внизу, видать на первом этаже, забегали люди, хлопнула дверь, и чей-то девичий голос: «Иван Тимофеевич, плохо, батюшка царь гневается, что его худо приветили».
И началось — жизнь закипела и забурлила, забила ключом, да кому-то по голове, да с размаху. Вот так в России всегда все через задницу делают — в Петре неожиданно проснулась бешеная ярость, и он что было сил вмазал ребром ладони прямо по полке.
Боли не было, ладонь не отшиб, зато полированная доска мощным ударом была надвое расколота. Он удивился — его новое тело как-то быстро приобрело старые навыки. Выходит, не зря он тренируется…
Петр обернулся — адъютант стоял столбиком, держа в руках халат, разинув рот, и взглядом кролика смотрел на расколотую полку, примеряя на себе, каково ему будет, если такую плюху получит.
На лице адъютанта было написано — не ждет для себя ничего хорошего. Стоявший за его спиной пузатый седой мужик с бородой и в приличной одежде, судя по внешнему виду — хозяин или управляющий, мгновенно, по вековой русской привычке, рухнул на колени и громко взвыл…
Петербург
— Пруссаки и голштинцы валом валят. Их тридцать тысяч к Петербургу подошло!
Измайловец на храпящем, почти запаленном коне крутился у родных полковых казарм, разрывая диким отчаянным криком рот. И привлек к себе внимание, и началось сразу…
Паника — вещь весьма заразительная. Никто даже не попытался вникнуть в столь бредовое сообщение — ладно голштинцы, те рядышком со столицей, но как же пруссаки так легко от границы самой дошли, да еще такой массой, и при этом ухитрились незамеченными остаться. Но никто не задумался в казармах, хоть народа там собралось изрядно. И никто не отвергнул решительно пьяный вопль одинокий…
Русская душа драки хорошей требовала, так как слишком много водки было уже выпито. Повыскакивали из казарм солдаты, кто на ногах еще держался, гулянку веселую разом прекратив. Повод хороший для всех был — новых гвардионцев «обмывали» в казармах изрядно, с полудня самого, когда государыни-матушки указ объявили…
Повелела императрица лейб-гвардию, что ей верой и правдой послужила, за счет солдат гарнизонных увеличить. Хитрым оказался «генерал Салтыков», меру сию государыне и генеральской консилии предложивший — у ненадежных солдат переводом на привилегированное гвардейское положение дух укрепить, а чтоб соблазна измены в бою у новых гвардейцев не возникло, их роты между двух «старых» ставить и в бою крепко флангами стиснуть.
И воспрянули духом вчерашние затурканные солдаты, а ныне привилегированные гвардейцы, с радостью великой «виват» матушке-императрице Екатерине Алексеевне кричали, живот клялись за благодетельницу свою положить.
Всех новых гвардейцев деньгами щедро наградили, двумя рублями каждого, а «старым» по пять рублей велели выдать. Всю форму лишнюю по казармам собрали или срочно у отставных за щедрую плату купили — обмундировать к утру новые роты полностью.
Прав оказался хитрый господин «Одар», когда предложил три четверти петербургского гарнизона в гвардию одним махом зачислить да по полкам быстро распределить.
Получив гвардейские привилегии и щедрое жалованье, сразу забыли солдаты про день вчерашний. Волками алчными были готовы загрызть любого, кто на их новое положение покуситься пожелает. И драться теперь за матушку-императрицу они будут отчаянно, за новый свой статус. Не понимают пока, глупые, что после победы их положение власть имущие завсегда пересмотреть смогут.
Но были в столичном граде и недовольные, кого милостью обделили и в лейб-гвардию не зачислили. А также многочисленные в Петербурге матросы, с которыми за Кронштадт счеты сводить повсеместно начали, оскорбляя и избивая на каждом углу. И попряталась по подвалам и домам матросня, обиду лютую затаив. А вот невских кирасиров уже почти не осталось — из города в общей суматохе потихоньку сбежали.
Пополнение новыми гвардейцами обмывать всегда хорошо надобно, вот и гуляли напропалую в казармах. А когда панические крики о пруссаках раздались, то все, кто на ногах стоять еще мог, из казарм выбежали, ружья с патронными сумками прихватив. Хоть и пьяные зело были, но об оружии в такую минуту не позабывали.
— Пошли матушку царицу спасать! — С азартом повинуясь призыву, пьяная толпа солдат, почти тысячная, бросилась к дворцу императрицы, сметая все на своем пути, падая в пыль и грязь, блюя на бегу, пугая истошными воплями готовившийся спать город…
— Спасибо за службу верную, мои дорогие измайловцы! — Голос Екатерины Алексеевны — сплошное радушие и материнская ласка. — Жалую вам по рублю вознаграждения за заботу и храбрость!
Будто не ее выдернули только что из кровати и заставили напяливать на себя измайловский мундир, будто не она сейчас вдыхала густой до рвоты винно-водочный перегар гвардейцев и терпеливо выслушивала пьяные признания в любви и верности. Но что делать — Париж стоит мессы…
Гостилицы
— Не погуби, государь-батюшка, прости меня, грешного! — Управляющий на коленях подполз к грозному императору. Слезы катились по его морщинистому лицу, и Петр почувствовал себя отвратно.
— Тихо ты! — чуть рявкнул Петр, и толстяк заткнулся. Он взял халат из рук окаменевшего адъютанта, надел, затянул поясок, потом наклонился и рывком поставил хозяина на ноги. Похлопал по щеке:
— Не гневаюсь на тебя, Тимофеич. Скажи всем, чтоб тихо было — моим офицерам и генералу утром в бой. Пусть поспят хорошо. А меня ты сам прости за гнев мой вспыхнувший. Хорошо?!
Хозяин закивал, стал целовать руки. Петр царственно погладил его по седоватой шевелюре и сказал:
— Иди, отдыхай, сын мой, но утром всех накорми хорошо.
— Да, батюшка государь, все сделаем! — Хозяин тут же испарился. За ним в комнату просочился малец с синяком под глазом, проворно схватил толчок и исчез с ним, аки дух бесплотный.
Сразу появился и слуга — глаз тоже подбит, хорошо так подбит, как «тигр» под Прохоровкой, — принес таз и кувшин с теплой водой.
Петр вымыл руки и лицо, вытерся льняным полотенцем. Лакей тут же ушел, неся таз с водой на вытянутых руках, прижав кувшин локтем. Через пару минут появился снова с огромным подносом в руках. Поставил на поставец и быстро расставил все по столу — все простенько, видать, уже учли заранее его вкусы. Зря он вспылил — они все ждали его пробуждения.
Петр отпустил восвояси адъютанта и слугу, а сам с вожделением глянул на стол, сглотнув слюну. Чего там только не было. Сочная ветчина, буженина с хреном, черная икра в стеклянной чашке, вареные красные раки с выпученными глазами, малосольная селедочка ломтиками, с маслицем и колечком лука, с маслинками.
На блюде горка пирогов и расстегаев, рядышком присоседился окорок, горячая жареная курица с хрустящей корочкой, сама просится под нож. А как благоухает свежая клубника! А рыбное заливное — ломтик к ломтику, пластинка к пластинке, и розовые кружки морковки… И три кувшинчика малых — с шипучим квасом, с холодным черешневым соком и с морсом из малинового варенья с медом — Петр быстро произвел дегустацию.
Плюс еще три гнутых вилки, три серебряных емких стопки, льняные салфетки. Он удивился — что за черт, почему все по три?
Дверь тихо отворилась, и в комнату тихо вошли две женские фигуры в знакомых пеньюарах и милых кружевных чепчиках. Петр посмотрел на их фигурки и опять сглотнул слюну. А Наташа с Кларой присели перед ним в книксене, и баронесса воркующе произнесла:
— К услугам вашего величества!
— Правильно, мои красавицы. Царя-батюшку надо накормить, напоить, спать уложить да обиходить. А пока разделите со мной сию трапезу, вкусите простых благ земных, для усталого воина нужных, чтоб раны его кровавые быстрей рубцевались. А для этого нет важнее пищи да ласки женской, любящей и горячей. Первое я вижу пред собой, а во втором на вас надеюсь, что залечите раны мои телесные и душевные.
Петр уже откровенно устал молоть языком всякую хрень, но девушки оказались сообразительными — лучезарно улыбнулись ему присели снова в глубоком книксене, показав чудесные изгибы своих тел, и уже Наташа с придыханием промолвила:
— Мы готовы служить вашему величеству всем сердцем… Душою и телом!
Петр вспыхнул внутри жарким огнем, все было сказано без обычных женских недомолвок. Но с двумя сразу? Или они сами выбор сделают? Или ему самому выбрать? Но лучше с двумя…
— Прошу к столу, вкусим благ.
И вкусили, и поговорили. Ел Петр, а красавицы склевали по кусочку от каждого блюда, и то под навязчивым давлением Петра. Зато девочки беспрерывно щебетали, завалив его информацией, а сам он их только подбадривал, поощрительно вставляя словечки.
Девки по всему прошлись — да уж, казнокрадство процветает и бурлит, как дрожжи в дерьме. И его дворцы вниманием пристальным и любезным совсем не обижены — воруют все подряд. Начиная от вилок из благородных металлов, буженины и балдахинов, заканчивая работящими дворцовыми мужиками.
Потом, с его науськивания, красавицы перешли на добродетели его баб. Като рогов ему понаставила столько, что любой сибирский олень немедленно сдох бы от зависти. И детишки не от него — супружница спала, с кем ни попадя. А Лизка Воронцова совсем честь царскую не блюдет — супругой императора себя называет открыто и всем придворным говорит, что короноваться будет, а Катьку в монастырь упрячут.
И тут Петр припух: «Это что же, без моего согласия меня женили? И на ком? На этой чувырле, на которую и глядеть-то страшно?»
И нос свой она в государевы бумаги и дела сует, а отец ее с братом-канцлером хотят на себя и других аристократов все прибыльные мануфактуры и заводы тишком переписать для повышения собственного благосостояния. А называют ее все при дворе «русской мадам Помпадур», а она, дуреха, этим прозвищем и гордится.
Петр почувствовал, что еще немного, и он взвоет от пороков людских. Весь мир бордель, и бабы тоже на эту букву — придя к такому нехитрому постулату, он решил на практике апробировать его вторую часть.
Посадил на левое колено Клару, а на правое Наташу, Петр предложил фрейлинам поиграть с ним в клубничку. Дамы с энтузиазмом согласились. Он стянул с них пеньюары и скинул чепчики, крепко обнял, чуть прижав их друг к другу, и каждой между полушариями тугих грудок положил по клубничке.
Однако девочки подавили его инициативу на корню и вовлекли Петра в свои игры — такого он не видел и в «Камасутре», не говоря о порнофильмах, хорошо, что темновато было в комнате, иначе раскованные и лишенные всяческих комплексов фрейлины увидели бы яркую краску стыда на его лице…
ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ 30 июня 1762 года
Ораниенбаум
Он поежился от холодного ветра. Таким ветер бывает в конце октября, когда белая поземка уже несется, а земля еще не укутана теплым снеговым одеялом. Пронизывающий ветер кажется еще холоднее, как будто он специально набирает злую силу, отражаясь от начинающей промерзать земли, ото льда, затягивающего сонным зеркалом воду, от голых сиротливых веток, с последними одинокими, не опавшими, не сорванными жухлыми листьями, от бурой увядшей травы.
Петр не знал, где находится. Он не знал, сколько сейчас времени. Он просто открыл глаза и увидел осень, позднюю осень в незнакомом лесу.
Хмурое свинцовое небо не обещало ничего хорошего. Холодало. Начинающийся снежок пробрасывал маленькие нетающие белые крупинки и грозил перерасти в настоящий снегопад, возможно, первый этой осенью.
— Божья благодать! Первый снег на Покров…
Петр обернулся.
За его спиной стоял высокий старик. То ли плащ, то ли темная накидка, ниспадающая до земли, одежды под ней не видно. Капюшон не скрывает длинных седых, почти белых волос. В правой руке он держал посох, левая скрыта под одеяниями.
— Здравствуйте, я здесь заблудился, — Петр не нашел ничего лучшего сказать ему в ответ. — Вы так тихо подошли! А вы… — и умолк, не зная, как продолжить.
— И тебе здоровья желаю. — Странный старик улыбался.
Незнакомец весь был какой-то «не такой», бросающееся в глаза несоответствие Петр почувствовал с первого взгляда. Изможденное морщинистое лицо несло на себе печать аскетизма и строгого нравственного поста. Это лицо могло смотреть на него только с церковных образов. Однако оно не сочеталось с живыми яркими глазами, удивленными и восторженными, глазами ребенка, глядящего на мир, в котором он пока еще знает только добро.
Он выглядел как старец или отшельник. Петр один раз видел таких, ушедших от мирских грехов, посвятивших себя служению Богу. После Афгана он решил исполнить обещание, данное себе, и креститься.
Лихое безденежье занесло его в летние каникулы после первого курса в шабашники на далекую сторону, и, пользуясь случаем, он отправился в уцелевший монастырь.
Вот там-то этот его нечаянный собеседник пришелся бы к месту. Больше всего его поразили тогда глаза монахов. Глаза, лишенные блеска мирской суеты и поволоки грешных страстей, глаза, горящие фанатичной верой и, казалось, насквозь видевшие его душу и мысли.
Он чувствовал себя под этими взглядами голым, словно каждый его грешок вылезал наружу и гипертрофировался, раздавливая его неподъемным грузом. Черные хламиды и суровые лица долго еще потом снились ему.
Так вот, глаза старика были совершенно другими, не сочетающимися с его обликом. Они были смеющимися, мальчишескими, небесно-синими и лучистыми. Петру показалось, что от них идет какой-то свет, мягкий и согревающий, и живое, успокаивающее тепло.
— Ну, что ты молчишь, замерз? — старик уже откровенно смеялся.
— Да нет, наверное, — Петр переминался с ноги на ногу, пытаясь хоть как-то согреться, но зубы уже начинали откровенно и предательски стучать. — Немного, не совсем…
— Так да, нет или наверно? М-да!.. Ты не здесь заблудился, — старик повел рукой, — а здесь!
Он дотронулся своей сухощавой морщинистой ладонью до лба Петра. От неожиданности Рык даже не успел отшатнуться: ведь старик стоял метрах в пяти от него: «К-как он смог коснуться меня? Он что, того…»
Чего «того», Петр не успел додумать, внезапно он почувствовал тепло, как у раскаленной печки, накатывающееся на него волной. На мгновение он ощутил себя ребенком, прижимающимся к отцу, такой благодатной и умиротворяющей была охватившая его нега.
Ветер внезапно стих, снег прекратился, и лес наполнился звенящей тишиной.
— Вы кто?
— Кто я? Я-то знаю, кто я! А вот знаешь ли ты, кто есть ты?
— Я знаю, кто я!
— Нет, ты думаешь, что знаешь, и все вокруг думают, что знают! А это не так! Тот, кого все видели раньше, уже не тот, кто ты есть теперь!
— А кто же я тогда?
— Тот, кем ты стал!
— А кем я стал?
— Загляни в свою душу, прислушайся к своему сердцу — и узнаешь!
Этот диалог начинал Петра раздражать: «Что это за дед? Откуда он взялся? Дурацкая игра в вопрос-ответ о том, что мне и так известно… Я, можно подумать, не знаю, кто я!.. Это что еще за чертовщина?»
Нательный крест вдруг начал нагреваться под его рубашкой.
— Не упоминай врага человеческого даже в мыслях! — Глаза старика метнули молнию. — Ты лжешь не только мне, ты лжешь самому себе!
— Я не лгу…
— Не перебивай! Ты лжешь!
— С чего вы решили? Вы что, меня насквозь видите?
— Да, вижу! И ты сможешь, если захочешь! Если душа чиста и сердце корысти не имеет, то ложь видна — будто липкий туман с языка слетает. А с душой светлой и человек светится. То легко разглядеть… Ты тоже можешь, если сердцем захочешь…
Сумбур царил в голове Петра. «Я не я, а кто же я?» — он уже окончательно запутался и решил сменить тему разговора.
— Вы здесь живете?
— Не о том ты меня спрашиваешь!
— А о чем я должен вас спрашивать? — Петр даже не ожидал такого поворота. Старик начинал его откровенно злить.
Он даже морщился от боли. Нагревающийся крест начинал жечь уже по-настоящему. Он хотел было вытащить его, но поднять руку не смог, она так и осталась на месте. Петр почувствовал, что не может шевелиться, он словно окаменел. Боль становилась нестерпимее.
— Запомни, ты несешь теперь не чужой крест! Это твой крест! Ты бы мог спросить, как облегчить свою ношу, но ты не стал это делать! Что ж, ты сделал свой выбор…
Петр каким-то судорожным рывком вынырнул из осязаемого омута сна и опомнился. На каждом плече лежало по милой спящей головке. Горячие ладошки женщин лежали на груди.
— Фу ты, так это только сон. Хоть не били сейчас! — счастливо пробормотал он и снова рухнул в объятия Морфея…
Петербургский тракт
Темными ночными тенями скакали во весь опор три всадника. Давно за спиной остался Ямбург, старый новгородский Ям с его полуразрушенными стенами и башнями. И необычно тихий.
Из короткого опроса в придорожной почтовой станции, а по-старому — яме, удалось выяснить, что в прошлую полночь местный гарнизон целиком ушел на Гостилицы, где государь Петр Федорович собирает войска, дабы покарать изменников, что супротив него бунт в столичном граде устроили.
Ушли все, и пехота, и кавалерия, только никчемная ланд-милиция осталась да инвалидная команда из пожилых солдат, к полевым сражениям непригодная.
Старость никого не щадит, года уже не те, и здоровье трудными боевыми походами измотано. Ведь многие солдаты службу при жестокой царице Анне Иоанновне начинали, а некоторые еще времена императора Петра Алексеевича вспоминают…
И снова три ночных всадника, три вестника лошадиными копытами версты меряют, везут императору пакет от генерал-аншефа Петра Румянцева, что обещает венценосному тезке своему после полудня дня нынешнего с кавалерией сильной к Гостилицам подойти.
Донесение срочное, вот и скачут, не останавливаясь — только в ямах для них оседланные лошади стоят наготове. Впереди подпоручик Демин настегивает вороного, следом за ним секунд-ротмистр Шульц подгоняет своего саврасого. А самым последним, фамилию свою полностью оправдывая, поручик Хвостов поспешает на чалой лошади. До ближайшего на дороге яма еще три версты, потому лошадей не жалеют, пришпоривают жестоко…
Неожиданно конь Демина на бешеном скаку рухнул на дорогу, видно, споткнулся, но лихой подпоручик как-то ухитрился соскочить с седла, вовремя отпустив стремена.
Ловок подпоручик, даже на ногах смог устоять, и в дорожной пыли почти не извалялся. Ротмистр задержал коня и остановился рядом, за ним вскоре подоспел и Хвостов, чуть опередив по дороге.
Не говоря слов, Иоганн Шульц протянул подпоручику руку. Все правильно, до яма уже близко, а немец намного легче габаритного Хвостова, и конь под ним лучше — двух офицеров легко вывезет несколько верст.
И птицей взлетел сзади Демин на круп вороного, устроился за спиной ротмистра получше, и тут же вскрикнул Шульц, выгнулся и захрипел. Кинжал подпоручика немного вкось пошел, до сердца сразу не достал, хоть удар у убийцы поставлен был. Вот потому-то успел захрипеть крепкий телом немец от предательского удара в спину.
Хвостов недоуменно посмотрел на Шульца, но через секунду все осознал — рука по привычке схватила эфес палаша, но вытянуть его из ножен поручик уже не успел. Демин выстрелил из пистолета почти в упор, и поручик, получив пулю под сердце, мешком свалился с седла.
Убийца хищно улыбнулся и резво соскочил с коня. Офицер оглянулся — только серый сумрак ночи кругом, и никто не видел ночного убийства.
Озираясь, Демин подошел к убитому им ротмистру, нагнулся над Шульцем, засунул руку под полу мундира, оторвал подкладку и вскоре извлек пакет генерала Румянцева. Осмотрев печать, довольно улыбнулся и сунул пакет под обшлаг. Хотел было вскочить на коня ротмистра, но хриплый стон моментально привлек его внимание.
Хвостов пришел в сознание и пытался зажать рану. Демин высокомерно ухмыльнулся, обнажил палаш и стал медленно подходить к умирающему Хвостову.
— А ты иудой оказался, сопля зеленая! — поручик с презрением харкнул кровавой слюной.
Рука под мундиром еле зашевелилась. Но не рану зажимал офицер — его пальцы извлекли миниатюрный дорожный пистолет английской работы. Как чувствовал, взял с собой, спрятав в потайной карман.
— Вот так-то, Хвост. А сей пакет я доставлю императрице, а та наградит меня за службу верную. А генерал не успеет, гвардия утром Петрушку атаковать будет и к полудню уже разобьет. А ты подохнешь здесь…
Договорить предатель не успел — неимоверным усилием поручик поднял свой пистолет и точно выстрелил Демину прямо в сердце. Предатель схватился за грудь, злорадствующая маска сменилась предсмертным пониманием — но глаза остекленели, и подпоручик рухнул, как срубленное дерево, на тело убитого им ротмистра.
Хвостов уронил пистолет в дорожную пыль. А затем его окровавленные губы еле слышно прошептали последние в жизни слова:
— Генерал всегда успевал…
Петергоф
— Итак, господа, давайте подведем итоги нашей ночной консилии! — Кирилл Григорьевич Разумовский медленно обвел пристальным взглядом сидящих за одним столом полководцев.
Фельдмаршал Никита Юрьевич Трубецкой выглядел неважно — в глазах старика плескался темной водицей ужас, он словно предчувствовал скорую расплату за совершенное предательство и всем своим естеством хотел ее оттянуть.
Разумовский мысленно сплюнул — не любил гетман трусов. А вот генерал-аншеф Петр Иванович Панин был яркой противоположностью князя — он нисколько не сомневался в успехе завтрашнего наступлении. Еще бы мандражировать, когда к утру все десять тысяч гвардейского войска будут собраны и вперед пойдут…
Последний участник этой встречи, генерал-поручик Василий Иванович Суворов, бездарно загубивший вчера передовой отряд авангарда мятежников, наоборот, был в мрачном расположении духа.
Нет, генерал тоже считал, что немедленное наступление всеми силами является единственным выходом из положения, ведь любая задержка позволит императору Петру Федоровичу собрать значительно превосходящие гвардию войска, а это обернется неизбежным разгромом…
— Я за наступление гвардии рано утром, — отчеканил Панин. — Солдаты наши хорошо отдохнут, и до Гостилиц и Дьяконово к полудню маршем быстрым выйдут. Атаковать лучше с ходу. Василий Иванович бьет с фронта, а я насяду с тыла…
— Надо согласовать атаку по времени, — Суворов решительно сжал кулаки, — иначе противник нанесет удар первым по моим войскам, а потом развернется для атаки обходящих войск Петра Ивановича.
— А как вы, дорогой фельдмаршал, считаете? — не выдержав затянувшейся неловкой паузы, спросил Разумовский князя. Тот, втянув голову в плечи, промолчал.
Граф снова мысленно сплюнул — пользы от Трубецкого, как и от его слабых духом преображенцев, маловато предвидится. За ними нужен глаз да глаз, а иначе либо подведут, либо изменят, что даже более вероятно — такой пример уже был.
— Никите Юрьевичу лучше остаться со своим полком в Ораниенбауме. И после бомбардировки взять штурмом Петерштадт, — на выручку украинскому гетману пришел Петр Панин, достаточно было генералам переглянуться. Такое решение они изначально подготовили — иного поручить Трубецкому было просто нельзя.
— Но по батальону от его полка пусть в наших отрядах останется, — невозмутимо продолжал Панин, — у меня гренадеры, а второй батальон у Василия Ивановича.
Герой недавней войны с пруссаками, хотя и полностью разделял отношение гетмана к старому князю, но и к Разумовскому относился не лучше — ведь из самой хохляцкой грязи вылетели Розумы в графья…
— Я согласен, господа, — наконец промямлил старый князь — у него тряслась нижняя челюсть и ходуном ходила лежащая на столе рука. И тут уже генерал Суворов не выдержал, глянул с презрительным осуждением, усмехнулся, а потом негромко спросил:
— Войска Румянцева от Нарвы успеют подойти?
— Нет, там пока все спокойно, — ответил ему Разумовский. — Наш император Петр Федорович собрал до девяти тысяч войска, но только Воронежский полк и его голштинцы в полном составе, а остальные надерганы ротами из разных полков, что гарнизонами в Кронштадте и по всей Ингрии стояли. Да еще из них более тысячи казаков, но половина донских разбойников на трактах грабежи творит. Так что, если ударим разом всеми силами, то добьемся победы…
Ораниенбаум
— Тише, черти! — шепот офицера угомонил матросов, что наводили дощатую переправу через заболоченный ров.
Работа грязная, но привычная, и существенно облегчалась старыми дубовыми сваями, что торчали одинокими гнилыми зубами из воды. К ним и крепили сейчас заранее сколоченные из досок настилы.
Работали матросы дружно, с огоньком, и через четверть часа две переправы были полностью подготовлены. По ним сразу стали перебегать вооруженные до зубов моряки и голштинцы.
Командор Спиридов лично возглавил вылазку гарнизона — ночную атаку на спящий лагерь гвардейцев, дождавшись «собачьей вахты», лучшего времени для подобного рода предприятий…
Мощный взрыв подбросил Григория Орлова с жесткой охапки травы, которая служила молодому офицеру постелью. Несколько секунд потребовалось гвардейцу, еще не перешагнувшему свой тридцатилетний рубеж, чтобы опомниться, отойти от сна и машинально вцепиться в эфес шпаги.
Тихий лагерь на его глазах почти мгновенно превратился в библейский городок Содом в час расплаты за грехи его жителей. Дикие животные вопли и последние хриплые стоны убиваемых гвардейцев сотрясали ночную тишину, пламя от взорванного бочонка с порохом перекинулось на повозки, и те разом вспыхнули.
Огонь на секунду ослепил Орлова, но офицер успел разглядеть, как почти рядом с ним несколько озверелых матросов свирепыми волками набросились на суматошно убегающих от них гвардейцев, пустив в ход штыки и приклады. Предсмертные крики и стоны еще более усиливали панику и суматоху в Преображенском лагере.
Без малейших колебаний, а труса он никогда не праздновал, Григорий бросился вперед, крича во все горло: «За мной, ребята, за мной!»
Все это живо напомнило ему войну с пруссаками, на которой он был трижды ранен. Затопали башмаки — следом за ним побежали несколько солдат и офицеров, отчаянно матерясь.
Навстречу Орлову выскочил матрос и, ощерив рот с гнилыми зубами в оскале улыбки, попытался воткнуть граненый штык в живот цалмейстеру.
Уйдя чуть в сторону, Григорий цепко схватил левой рукой фузею за цевье, а правой врезал от души сокрушительной «распалиной», напрочь выбив моряку его последние зубы.
Матрос даже не хрюкнул, отлетая на сажень от молодецкого удара. Да что там моряк, никто в гвардии устоять в драке супротив него никак не мог, разве что за исключением гиганта Шванвича. Всех побивал махом Григорий, и только Шванвич с периодичной постоянностью в кровь и сопли лупил любого из Орловых, признанных силачей. Правда, против двух братьев Орловых и верзила Шванвич тоже устоять не мог — тут они его мордовали, как бог черепаху…
Следом за моряком Григорий приложил кулаком выскочившего за ним следом голштинца — но немчик был на самую малость покрепче и, заваливаясь ничком на сырую землю, прохрипел: «О, майн готт!»
Следующей жертвой силача оказался молодой морской офицер, размахивающий абордажной саблей. Хорошо он так ею размахивал, как ветряная мельница мельтешит крыльями в сильный ветер, но от судьбы уйти не смог — шпага гвардейца его насквозь проткнула.
Орлов рванулся дальше в кипящую сечу, бешено работая кулаками и размахивая шпагой. Он бы сокрушил всех врагов, но под его ногами с ужасающим грохотом взорвалась ручная бомба, брошенная кем-то из моряков.
Цальмейстер почувствовал, как чудовищная сила оторвала его от земли и запустила в недолгий полет. А вот своего падения на эту грешную землю лихой гвардеец уже не припомнил…
Гостилицы
Петр вынырнул из сна, за окном трубили горны и частой дробью делали побудку барабаны. За неплотно задернутыми шторами — бледно-серый сумрак рассвета белых ночей.
С двух сторон к нему прижимались фрейлины: нацелованные вспухшие губы, шеи, груди и плечи в багровых пятнах засосов и в следах укусов. Спали его любовницы крепко-полтора часа беспрерывного секса успокоили и этих ненасытных менад.
По лицам было видно, как измотаны они — будто он их испил досуха, до самого дна. Наверное, потому-то Петр чувствовал себя прекрасно, гораздо лучше, чем после ночи с Лизой.
Правда, и Лизетта после первой безумной ночи напоминала выжатый досуха лимон, сморщенный и пожухший. Видно, реинкарнация позволяет телу подзарядиться энергией только и исключительно путем секса. Вот почему у него это бешеное желание… Вот потому он их настолько мощно, полностью оприходовал — и Лизу, и Клару с Наташей.
Петр идиотски гоготнул про себя, представляя, куда он сейчас на зарядку свою батарейку совать будет. Однако нужно было торопиться, мало ли что, прискачут, вырвут силой из рук девичьих, поспешать надо (а на войне только так, и не иначе) и еще раз успеть вкусить греховного плода…
Петр стал нежно и ласково целовать Клару в шейку и плечико, а руки мягко и неторопливо поглаживали ее теплое и упругое тело. С каждой минутой ласки нарастали, становились горячей и упорней — девушка стала легонько постанывать, уже проснулась и полностью отдалась его настойчивым губам и рукам.
Но сама никаких ответных действий не предпринимала, а только внимала ласкам. Но стоило Петру перейти к активным действиям, как Клара тихонько запищала, но по мере нарастания темпа ее голос стал набирать силу и в конце превратился в дикие сладострастные вопли.
И как только все закончилось, девушка сразу обмякла тряпичной куклой и тут же уснула — недаром французы называют оргазм «смертью понарошку», а «умирала» Клара этой ночью уже несколько раз.
Однако утренний променад на этом для него не закончился — Наталья давно проснулась, наблюдала за ними, а теперь, возбужденная, потребовала и свою долю. Его долго упрашивать не пришлось, и он быстро отозвался на ее откровенные ласки, даже не отдохнув толком.
Но теперь Петр действовал по-солдатски, решительно и грубо, но зато долго. И прокатились по комнате еще более громкие звуки удовлетворяемой плоти. А вскоре еще одна фрейлина, сраженная Венериными усладами, целиком и полностью рухнула в сладостные объятия сновидений…
Император резво соскочил с ложа, быстро обтерся мокрым полотенцем, тщательно протер крепкие зубы ароматическим мелом, обстоятельно прополоскал рот.
И тут же в комнату вошел адъютант с ворохом одежды и помог императору облачиться. И Петр не один раз ловил завистливый мужской взгляд, брошенный офицером на спящих обнаженных женщин, и уважительный — уже на него самого.
Посмотрел на часы — половина пятого. Петр лихо добил, не чинясь, остатки ночной трапезы. Только горячий кофе ему принесли, тот хорошо пошел вместе с папиросой.
Теперь Петр чувствовал себя превосходно — отлюбив красавиц всеми доступными и недоступными способами, плотно перекусив за ужином и завтраком, да еще испив кофе под папироску… Что еще надо для жизни нормальному и здоровому мужику? Только одно и остается — драку не заказывали?
Петр ухмыльнулся, припомнив все события получасовой давности, и решительно покинул своих спящих красавиц. Он спустился по широкой деревянной лестнице в столовый зал, где его уже ожидали шесть генералов его маленькой армии — Гудович, Измайлов, Мельгунов, Ливен, Шильд и Девиер, штабные офицеры и адъютанты.
Петр внимательно оглядел собравшихся в зале, при его появлении дружно вставших. Жестом император усадил их на места, а сам решительно уселся в председательствующее кресло.
— Господа генералы и офицеры. Мы здесь собрались, чтобы обсудить план сегодняшнего боя, вернее, даже генерального сражения, которое решит судьбу мятежной гвардии. Я говорю вам сразу — мы победим. А сейчас мы должны решить, как это сделать без больших для нас потерь. Запомните все крепко-кровь человеческая не водица, и просто так лить ее я своим генералам не позволю. Ибо за каждого убитого перед Господом нашим лично ответ держать буду. Подполковник Рейстер, вам слово…
После делового разговора последовал общий обильный завтрак — и он не мог не сесть рядом с ними. Ведь им сегодня предстояло драться, а может быть, кое-кому и умирать. За него, кстати, умирать.
И Петр желал посмотреть на каждого, приободрить и показать свое им благоволение. Странное это ощущение — вдруг получить право посылать на смерть солдат да распоряжаться войсками. Пусть солдат было сейчас девять тысяч, что маловато для серьезных дел, но это была его армия. Он прекрасно понимал, что у него нет опыта войны, здешней войны, но надеялся на знания генералов, умение офицеров и мужество солдат — ведь на этом держится любая армия, и это нивелирует глупость и бесталанность командующих.
Хотя тупым Петр себя не считал, да и был хорошо знаком с военным делом, пусть и на уровне взводного сержанта. И за эти двое суток Петр время не терял и успел пообтесаться в роли главнокомандующего…
Кронштадт
— Папа, мне письмо от Катерины старый Иван привез. Он сюда в лодке из Петербурга приплыл, тайно от Миниха, — Лиза в ночном халате смотрела большими глазами на отца.
Роман Илларионович подошел к дочери, ласково поцеловал ее в лобик. Так он делал каждое утро, и даже сейчас, когда слуга поднял его с теплой постели на два часа раньше обычного и сказал, что дочь требует немедленно прийти к ней в комнату.
Ослушаться дочери Роман Илларионович не мог — ибо сейчас он видел в ней не только дочь, но и будущую императрицу.
Хитер был граф и выгодно пристроил обеих дочерей. Младшую, умницу и красавицу, за князя Дашкова. А старшая уже два года делит постель с императором Петром Федоровичем, который последнее время все чаще говорит, что разведется с супругой и упрячет блудливую немку в монастырь…
Вот тогда-то и исполнится заветная мечта — его дочь станет императрицей, а он тестем императора и дедом наследника престола. Да, именно дедом.
Три дня назад Петр Федорович, к великому изумлению двора, как только оправился от злополучного падения с лошади, выгнал всех — и Нарышкиных, и брата Михаила, канцлера, и многих других.
А отдал предпочтение Лизочке, заявив во всеуслышание на весь двор, что ее любит и желает. И хочет от нее сына, наследника. Граф сильно удивился, ибо давно знал тщательно оберегаемый секрет императора — мужская немощность, импотенцией называемая.
Но то, что произошло на его глазах, а он почти весь вечер подглядывал в дверную щель, изгнав всех придворных из зала, потрясло его до глубины души. Какая немощность — дочь билась в экстазе, а Петр Федорович трудился неутомимо, и граф видел, как император неоднократно вытирал свое драгоценное семя…
А теперь все решится — в победе Петра Федоровича над мятежниками Роман Илларионович уже не сомневался и желал ее всеми фибрами своей души. Более того, именно сегодня и будет достигнута победа — граф видел, какую эскадру собрал фельдмаршал Миних для десанта на столицу.
Именно на Петербург, хотя все кругом твердили про Петергоф и Ораниенбаум. Но фельдмаршал без обиняков четко сказал ему, предложив союз, который был графом немедленно принят.
Роман Илларионович был тертым калачом, и сейчас в старом Минихе нуждался больше, чем тот в нем. Христофор Антонович мог одним махом решить то, на что не было возможностей у графа — навсегда убрать перед его Лизой препятствие в виде ненавистной супруги и узаконенного ублюдка, в котором нет ни одной капли крови от Петра Федоровича. И он сделает это, пусть и руками Живодера, хотя и сам приложит руку.
Вчера вечером граф передал Миниху три гранулы хранимой в глубокой тайне, полученной от деда легендарной отравы — кантареллы, неизвестными путями попавшей в руки прадеда. И эти последние три гранулы он с радостью отдал Миниху — тот только жестоко сверкнул очами.
Роман Илларионович мысленно списал императрицу Екатерину Алексеевну, ее сына Павла и Ивана Антоновича, внучатого племянника грозной царицы Анны Иоанновны, томящегося уже почти два десятка лет в заточении в Шлиссельбургской крепости…
Граф быстро пробежал глазами письмо дочери — ничего особенного, если бы не приложение в футляре, в котором письмо императрицы, Катерина просила передать его в руки императора. Роман Илларионович выбросил бы письмо, если бы не одно но… Не дай бог случайную пулю императору поймать, ведь тогда крах.
И только младшая дочь, наперсница Екатерины Алексеевны, не даст его в обиду. Но сдержать любопытство Лизаветы граф не смог — девушка открыла футляр и вскрикнула.
— Здесь заусеница, папочка! — жалобно сказала ему дочь и показала капельку крови на пальце. Лиза прижала к пальчику кружевной платочек, промокнула капельку крови, а футляр протянула отцу.
Роман Илларионович грустно улыбнулся — эх, молодежь, вечно торопятся. Взял сам футляр… и порезался. Края крышки оказались острыми — и граф тихо рассмеялся. Ох уж эта немка, постоянно пакости строит.
Затем Воронцов вслух прочитал собственноручное письмо императрицы — умоляющие просьбы супруги Петра Федоровича его совершенно не растрогали. И, злорадно улыбнувшись, он с нескрываемой радостью дал прочитать письмо Лизе.
Та хищной щукой схватила письмо и буквально проглотила его содержимое. Затем победно посмотрела на отца — и торжествующий взгляд дочери ему о многом поведал.
Граф склонился в поклоне перед дочерью, потом подошел и поцеловал ее в лобик. Это была полная победа, и его, и дочери…
— Галера через час идет в Нарву. Я отправлю на ней гонца. Немедленно напиши письмо императору, своему будущему мужу…
Ораниенбаум
Голова сильно болела, но добрый глоток вина несколько унял боль от полученной им контузии. Хорошо, что блевать не хотелось, ибо тошнота дурной признак, и последствия контузии тяжелыми могут быть. Григорий Орлов смачно выплюнул сгусток крови — повеселились морячки, мать их за ногу. Убитых, конечно, жалко — но погибло не так и много гвардейцев, с полсотни едва наберется.
Хуже было другое — солдаты веру в победу терять стали. Несколько сотен поразбежалось по окрестностям, и хотя большинство из них удалось собрать заново с помощью одного-единственного эскадрона драгун, но только надеяться на их дальнейшую стойкость в боях было бы опрометчиво.
Опрос четырех захваченных пленных (а двух из них взял сам Григорий, что пролило бальзам на его душу) еще более обескуражил цалмейстера. Трое матросов на вопросы отвечали охотно, вот только их вера в императора и его неизбежную победу над мятежной гвардией была непоколебимой. И их даже смерть не могла напугать.
Григорий и так и этак пытался объяснить морякам причины переворота, но те только пожимали плечами. А когда Орлов бросил им последний козырь, сказав, что русский царь немец, то матросы, не дослушав, захохотали. Потом сквозь смех привели цалмейстеру слова, сказанные вчера в полдень императором Петром Федоровичем про гвардию…
Долго Григорий Григорьевич переваривал новые для него ругательства. Такое немец никогда не скажет, лишь только природный русский сможет — «суслики жеваные», «кони педальные», «козлы позорные». Это самые невинные и ласковые изречения императора.
А другие бранные высказывания Петра Федоровича пленные матросы произносили с завистливым придыханием — даже для них, хорошо знавших матерно-морскую терминологию, многие слова стали настоящим откровением. Какой тут немец…
Голштинского рекрута со сломанной им же самим челюстью Орлов спрашивать не стал, только еще одним тумаком наградил. Да и о чем спрашивать немчика, который непонятно и еле слышно шепелявит.
Плененных матросов с рекрутом Григорий отправил под охраной в Петербург, чтоб Като с ними пообщалась, а сам в скверном состоянии души стойко превозмогал боль от полученной контузии.
Но через час настроение цалмейстера резко улучшилось, и боль из головы сразу исчезла. Из Петербурга пришла новая, спешно сформированная, рота гвардейской артиллерии — 8 полупудовых единорогов и две кургузые пудовые мортиры. И Григорий Орлов злорадно и торжествующе заулыбался — уже к вечеру от Петерштадта камня на камне не останется…
Гостилицы
Рассветало. Птички зачирикали, солнышко окрасило горизонт в розовые переливы. Утро начинало брать свое, впору о жизни и любви думать, а не о том, как кровушку проливать.
Петр от досады крепко выругался — решающий бой с гвардией его пугал. Император оглядел воинство — везде чуть дымили костры, шатались еще кое-где солдаты, но большинство дремало у костров, переваривая обильный завтрак.
Наедались пищей телесной и духовной служивые впрок — во избежание демаскировки они до самой баталии должны были сидеть в роще тихо, как мыши, костры не палить и разговоры меж собой не вести. Засада — вещь тонкая, и любое нарушение могло привести к самым серьезным последствиям для самих охотников.
— Дядя Ваня, — юношеский тенорок был возбужден, это отчетливо проявлялось в голосе, — а правду говорят, что государь наш изменился, лихим стал и изменников рубит напропалую?
Петр застыл за деревом — он полюбил ходить по ночному биваку и слушать солдат. Два казака, что его сопровождали в этой экскурсии рано утром, ступали по лесу совершенно беззвучно, и он так ни разу и не услышал, чтобы хрустнула веточка под их ногами. Настоящие пластуны, в отличие от него, хотя Петр считал себя неплохим разведчиком.
И сейчас они тихо вышли к солдатскому костру, прислушались к разговору — государь не подслушивает, а собирает информацию. А значит, стыда в таком поступке нет. Знать настроение солдат перед боем жизненно необходимо для любого полководца…
— Измайловцев во дворце лопатой искрошил государь наш до чертиков, то я своими глазами видел! Накромсал…
Голос Петр узнал сразу — тот старый петергофский солдат, что сержанта получил за найденный орден святого Андрея Первозванного, Иван Тихомиров, кажется.
— И изменился он шибко — нашим природным царем стал, по-немецки более не лопочет, а такие словеса иной раз закручивает, куда там матросикам в кабаке. Голштинцы все гутарят, что в ночь перед изменой к государю нашему оба его деда явились, Петр Лексеевич, царствие ему небесное, и Карла свейский, что с нами в долгой войне бился. Так император-то покойный зело наставлял: «Ты внук мой, и потому немецкий говор забудь, и правь разумно, людей зазря не обижай, как я напрасно делал, веру блюди накрепко». Нам службу изрядно сбавил, землей и деньгами награждать будут. Иль пенсион добрый давать. А за такого царя и живот свой положить не жалко. Вон, казаки донские на батюшку нашего сейчас молятся — он жалованную грамотку им отписал. Будут на тихом Дону теперь жить припеваючи, как сыр в масле кататься. Эхма, долюшка наша нелегкая…
И такая жгучая зависть зазвучала в голосе у старого солдата, что Петр содрогнулся душою.
— А Карла свейский, чай, нехристь трусливая?
— Ты говори, а не заговаривайся, дурашка. Я когда со старым Живодером на Крым ходил, а тому уж четверть века минуло, у нас в роте Кузьмич был, так он с Карлой сим под Нарвой дрался, когда война только начиналась. И под Головчином дрался, потом и под Полтавой. А вот татары его стрелою убили — старый он уже был, намного более, чем мне сейчас, вот и не увернулся, не успел. Так, о чем это я? А, вспомнил. Вот он и рассказывал, что Карла сей отчаянной храбрости был, со шпагой первым шел, и многих наших солдат поколол. И только раз его победили, под Полтавой. А более ни разу — он нас часто побеждал. Так Кузьмич говорил, что под Полтавой мы их многолюдством задавили — на одного шведа трое наших навалились. А Карла в бою не было — ему ногу за три дня до боя раздробили, вот он в атаку и не пошел. Повезло нам крепко…
— Но как же Карла батюшке-царю умение то передал?
— А через кровь — ночью шпагой в бедро вдарил, кровь всю комнату залила, мне голштинцы даже платок с кровью показывали. Капрал там у них один есть — на груди прячет, никому не дает. Святая кровь, царская, раны заживляет.
— Как так, дядя Ваня?! Чудо-то великое, и какое!
— А так! Сколько ему ран нанесли — вон, во дворце вчерась весь в крови был, а хоть бы что. Крестным знамением осенит и бегает. По стене дворца забрался один, сам видел. Его офицеры и казаки за ним пробовали, да со стен вниз и попадали. А он им лестницу сверху сбросил — забирайтесь, неумехи. Вон здоровущего медведя на нас царь-батюшка пинками могучими выгнал, Гришка тогда от страха перед косолапым штаны обмочил.
— Да ладно тебе, у самого зубы стучали. Михайло Потапыч за нами побег, шкуру содрать норовил, а государь его за нос поймал и обратно в парк отправил, да на нас еще крикнул. А медведь-то во, морда как сундук, лапы что бревна! — в разговор вошел третий солдат, а Петр еле смог подавить смех — мишка малой был, сам смертельно напуган был. И не хватал он его за нос, дурак совсем, что ли. Вот так легенды и рождаются.
— А раны у царя-батюшки сами затягиваются, это да. И до баб охоч стал, как дед евонный, Петро Лексеич. Сегодня ночью двоих фрейлинок так драл, они весь лагерь разбудили. Да мы сами слушали с придыханием завистливым — «О, государь, не могу больше, он у вас стоек, как лев, и неутомим, аки буйвол!» — у солдата был дар к подражанию, в точности скопировал голос Клары, а Петр покраснел, вспомнив, что окно настежь было распахнуто.
— Не двух баб, а троих, и всю ночь без отдыха и перерыва. А это только у великих царей такая сила. Ну ладно, пойду отолью! — солдат неторопливо, с кряхтением встал.
Петр, сделав знак невозмутимым казакам, тихо отступил и не стал искушать судьбу излишним любопытством, а пошел обратно…
Петербург
Нелегкая ночь выпала горожанам, на события богатая, как и все предшествующие ночи. И только слухи кругами, как брошенные в невскую воду камни вызывают волну, циркулировали по городу, цепляя нестойкие к таким длительным потрясениям умы обывателей.
— Ты знаешь, Кузьма, вчера тридцать тысяч пруссаков на помощь Петру Федоровичу заявились и гвардию-то разбили. Вон вчера измайловцы в суматохе всю ночь бегали. А рано утром их кое-как в казармы загнали. Пьяные все были зело.
— Да не бегали они, а матушку Екатерину Алексеевну спасать прибыли. Ночью-то заговор опять был — наследника престола царем поставить хотели. И правильно — негоже бабе на троне покойного императора сиднем сидеть…
— А в мурло не хочешь за такие поносные слова? Наш император Петр Федорович жив и здоров. И в Гостилицах, в имении графа Разумовского, рать немалую собирает. Вон шурин у меня в невских кирасирах служит — так они все уже из города ушли…
— Да, любезный, плохо дело. И пруссаки заявились не одни, с ними армия Румянцева идет. А генерал Петру Федоровичу аки пес верный. И шутить ой как не любит…
— Ой, Матрена, ты знаешь, милая, а ведь той ноченькой не нашего царя-батюшку хоронили. То сыночек его Павел Петрович помер. Измайловцы, нечисть какая, мальца не пожалели. Ой, горе-то какое, горе. Батюшка же придет с войском изрядным, и отольются им слезыньки матушки. А жену он защитит от гвардионского своевольства. И не пожалеет их, внук же он Петра Алексеевича. И полетят с плеч головы стрелецкие…
Директор Иван Чиркин пребывал в полном расстройстве. День 28 июня оказался черным для подведомственных ему питейных заведений. Будто Мамаева орда обрушилась на кабаки столицы — ладно бы только выпили, но растащили водки, вина и пива изрядно, но горе-то какое — бутылки не пощадили, перебили, изверги окаянные.
Рука директора крепко сжала гусиное перо, и он стал смотреть строки докладной записки: «Реэстр на сколко суммою у директора Ивана Иорданова Чиркина, по описанию Санкт-Петербурге и по Ингермонландии. И в кабаках и погребах сего 1762 году июня 28-го дня по нынешнему случаю солдатами и всякого звания людьми безденежно роспито питей и растащено денег и посуды о том значит подсим, а имянно».
Директор посмотрел на длинный список приложения, его аж затрясло. Но он собрался и принялся рассматривать другой документ: «Реэстр коликое число следует получит директору Ивану Чиркину за распитыя в 1762 году июня 28-го числа в его части по Санкт-Петербургу и Ингермонландии питья, по истинным, а не продажным ценам, и что следует по положению».
Директор посмотрел на итоговую сумму и стал вытирать со лба холодный пот. Цифра еле умещалась в голове — свыше 22 тысяч рублей…
Дьяконово
— Что хорошего скажешь мне, сотник? — Генерал вопросительно посмотрел на сотника Емельянова.
Нравился Измайлову этот молодой казак — прав его однофамилец, когда емельяновскую сотню лучшей в полку назвал. Всю службу на аванпостах и разведку неприятеля сотник образцово поставил — Михаила Петровича каждый час предупреждали об изменениях обстановки.
— Гвардия из Ораниенбаума и Петергофа по тракту двумя колоннами сюда вышла, к полудню всей силой своей подойдут. В первой колонне генерала Суворова батальонов пехоты четыре — три семеновских и Преображенский полного штата в шесть рот. До тысячи человек в каждом насчитали…
— Постой, — Измайлов был удивлен, — нет ли ошибки. В Семеновском полку только два батальона.
— Ваше превосходительство, почти три десятка армейских рот в гвардию перевели вчера днем, обмундировали и на повозках спешно отправили — к ночи на месте были. Отдых до рассвета им дали, и два часа назад они вышли. Казаки Данилова с моими орлами офицера Семеновского полка взяли и хорошо расспросили, а то упрямился поначалу, говорить не хотел. С ними конногвардейский полк в пять эскадронов и рота артиллерии с семью пушками. В Петергофской колонне генерала Панина три батальона — два измайловских и Преображенский гренадерский в шесть рот каждый, рота артиллерии с шестью пушками и лейб-кирасирский полк в пять эскадронов. Между двумя колоннами идет конный отряд для связи — драгунский и гусарский эскадроны. Под Ораниенбаумом осадный отряд фельдмаршала Трубецкого — два батальона преображенцев с двумя ротами артиллерии и эскадрон драгун. Пушки и мортиры осадные ждут. В Петергофе батальон гарнизонной пехоты и рота драгун…
Генерал Измайлов в приподнятом настроении ходил по пригорку, окидывая взглядом свое воинство — столь большими силами он никогда не командовал. Центр позиции составляли два батальона воронежцев с артиллерией, левый фланг прикрыл батальон кроншлотского гарнизона, а правый — ингерманландцы подполковника Власова.
А за ними расположилась вольница — на одну половину зеленая, а на другую — пестрая, всяких цветов радуги. И вооруженная соответственно — палаши и шпаги, гусарские и казацкие сабли.
Все, что было лишнего в арсенале у Гудовича. И убитых конногвардейцев ободрали до исподнего, совершенно не обращая внимания на кровавые пятна, прорехи и дырки. Взгляд Измайлова, привыкший к единообразию военной формы полка, был несколько шокирован их внешним видом.
Но то был козырной туз в его боевой колоде — отказавшийся присягать Екатерине Невский кирасирский полк в два полностью укомплектованных и частично одетых в кирасы эскадрона.
Кирасиры в одиночку и группами ежечасно приходили в Дьяконово, горя одним лишь только желанием, свести поскорее недавние и старые счеты с Катькиными «орлами». Но два эскадрона с сотней против пяти эскадронов конной гвардии не выстоят. Хоть часть казаков Данилова отдали бы…
Гостилицы
Место для засады и генерального сражения генерал Гудович выбрал очень удачное. Идущие сквозь великолепные густые перелески и рощи две широкие грунтовые дороги сходились на большом лугу и упирались в добротный деревянный мост, переброшенный через широкий ручей, а назвать же его речушкой у Петра не повернулся язык.
Но водная преграда была серьезной — глубок до пояса, берега обрывистые, кое-где топкие, поросшие камышами. А вот с их стороны возвышенность, поросшая сплошным березняком, да с густым кустарником, и дорога как раз посередке, аккурат в самой лощине, прямехонько идет.
И распорядился своими старыми, из Петергофа взятыми войсками, генерал-адъютант Гудович удачно. В рощицах по обе стороны от дороги встали две группы. В правом отряде сводный батальон гренадеров и батарея из четырех голштинских орудий. В левой группе — батальон петербуржцев с семью пушками. Голштинцы расположились чуть сзади, в соседней роще — в качестве резерва. А егеря рассыпались редкой цепочкой в густых кустах и камышах в пойме и тщательным образом замаскировались.
Мост был заминирован тремя пудами пороха, и засел под ним бравый капрал, который спал и видел себя офицером. Голштинская конница — порядком истрепанные во вчерашних насыщенных событиях, но рвущиеся в бой драгуны и гусары, а с ними и сотня казаков Денисова — закаленная в боях элита, стали сикурсом позади за холмом.
И еще один весомый козырь имелся у Петра Федоровича — проверенные вчерашним боем донцы Данилова. Одна сотня донских казаков еще затемно ушла далеко вперед дозорами, чтоб упредить о подходе гвардии. А четыре казачьих сотни составили левое обходящее крыло его крайне малочисленной армии.
В самих Гостилицах, верстах в трех, остался драгунский полк сборной солянкой различных рот, из четырех эскадронов на свежих лошадях, и второй кроншлотский батальон. Эскадрон конных гренадеров Петр решил отправить на помощь Измайлову. Командовал резервом генерал Мельгунов.
После завязки сражения голштинцы Ливена и кавалерия Мельгунова должны были немедленно выступить ему на помощь и нанести слева сильный удар во фланг наступающей гвардии…
— Ваше величество! Сербского гусарского полка полковник Милорадович! — бравый вояка лет сорока четко отрапортовал.
Мундир почищен и аккуратно заштопан, взгляд усталый, явно не за холуйство придворное командиром полка стал. На поле брани, за заслуги ратные, удостоен. Ну, настоящий полковник! И держится хорошо, с почитанием, но без явного подобострастия, себя уважает, а это не могло не вызвать симпатии. Петр внимательно глянул ему в глаза:
— Что от изменников ушли, то молодцы. О событиях знаете? — Короткий кивок серба был ему ответом, и Петр уже не стал углублять дальше тему: — Сколько людей привели?
— Более пятисот, ваше величество! Два полных эскадрона и одна сводная рота из лучших гусар. Ее передал в голштинский гусарский эскадрон. С полудня вышли, налегке, со всем боевым снаряжением, с нестроевыми. От кирасир ушли маневром на Красное село и встретились с войском генерала Гудовича уже поздно вечером.
— Стойте за рощей, где сейчас на отдых полк расположили. Костров не разжигать, людям из рощи не выходить, на опушке не мельтешить! — слушая слова Петра, полковник с пониманием склонил седеющую голову. — Как гвардионцы здесь хорошо в драке с нашей пехотой увяжутся, тогда и всем полком вдарите, по двойному сигналу трубачей. В тыл и во фланг им, а слева казаки Данилова ударят.
Полковник понимающе поднял глаза, но посмотрел задорно — понятно, что будет с попавшими в полное окружение гвардейцами. А Петр уловил — в момент, когда упомянул гвардию, по лицу Милорадовича пробежала презрительная улыбка, видать, чем-то сильно обидели серба заносчивые гвардейцы, вот и настал момент расплаты по старым счетам.
— Пищу не готовить, водку и вино не пить! Кто нарушит — повешу! Три телеги с едой и квасом посланы, позавтракайте! Я думаю, часа три-четыре у нас еще есть, — и Петр взмахнул рукой, отпуская полковника.
— Ваше величество, прибыл войсковой старшина Данилов, — негромкий голос адъютанта, неслышно подошедшего сзади, заставил Петра повернуться. Данилов и сотник Денисов стояли рядышком, а вот третий казак был Петру совершенно не известен.
— Идут медленно, верстах в десяти от нас. Два измайловских батальона и Преображенские гренадеры. Пять эскадронов лейб-кирасир и рота гвардейской артиллерии. На Дьяконово идут…
— Я знаю, от генерала Измайлова сообщение час назад нарочный доставил!
Петр остановил Данилова и хотел было отпустить казаков восвояси, к бою подготовиться. Но тут его взор остановился на пожилом казаке, шрам во все лицо протянулся, от кривой турецкой или татарской сабли полученный:
— Кто такой? С чем пришел, когда?
— Войска Донского войсковой старшина Карпов. Сейчас только прибыл, из Нарвы пришли, пять сотен в полку. Шестую сотню в Ивангороде взяли, там стояла на отдыхе. Хорунжего Трофимова, его полка сотня. — Казак кивнул на Денисова и продолжил докладывать: — Мы уже чуток отдохнули, ибо лошадей своих почти заморили спешкой, ваше царское величество, — Карпов говорил спокойно и неторопливо, с почтением в голосе, в себе полностью уверенный.
— Денисов, сотня надежная?
— Да, государь-батюшка. Иван Трофимов еще с фельдмаршалом Минихом на Крым ходил, Перекоп брал.
— Так, забирай ее себе, двумя сотнями командовать будешь. Моим личным Донским лейб-конвоем! — Денисов тут же приосанился, еще бы, чуть ли не гвардией сделали, личной охраной императора.
— А задача ваша, казаки, такая. Ты, Данилов, со своим полком старый приказ исполняй, на левом фланге сотнями раскинься да разведку веди. Чтоб я обо всем ведал немедленно. Пусть донцы глазами, ушами и руками моего войска будут. Ясно?! А старшина Карпов со своим полком к генералу Измайлову на Дьяконово идет и там действует, и задача его та же. И приказы своего генерала полностью и беспрекословно выполняет. Идите, казаки, час даю отдыха, и за дело принимайтесь со своими полками немедля. Терять время никак нельзя, мятежники на подходе.
Донцы тут же повернулись и быстрым шагом, косолапя и раскачиваясь, пошли по своим полкам. Петр же подозвал адъютанта и отдал ему приказ — взять эскадрон конных гренадер и двигаться к Измайлову на усиление, у того с регулярной кавалерией напряженка…
А сам присел на барабан, стал думу думать. Преданный Нарцисс (был взят Измайловым из Копорья специально, ведь кто-то должен облегчать царю бытовые сложности, а солдат отвлекать нельзя, их дело драка) все уже понял — резво подкурил папиросу и сунул в губы хозяину.
Император не жмотился и, не мудрствуя, взял на содержание весь свой маленький штаб, так что верный арап с двумя лакеями суетился. Но водкой с вином не потчевали, все уже давно смирились с внезапно нахлынувшей полной трезвостью Петра и с его жестоким обращением с пьющими, что не могло не привести широкие русские души в состояние смятения.
Покорились неизбежности, тем более что табак для трубок выдавался без лимита — подходи, набивай люльку и кури. Но только дыми не в присутствии императора, а то подобная вольность могла боком выйти, что позволено Юпитеру, как говорится.
А захочешь, так есть другая царская забава — предусмотрительный Нарцисс щедро выложил несколько больших коробок с самодельными папиросами. Именно на них офицеры и налегали, обрусели капитально и сами немцы, — и на халяву стали падки, и с трубкой возиться не надо.
Петр был полностью удовлетворен обходом своих войск — солдаты сытые, здоровые, уверенные в себе. А, судя по взглядам, которые они на него кидали, он стал для них чем-то вроде редкостного талисмана, приносящего только удачу.
От такой мысли бывший сержант, а теперь главнокомандующий улыбнулся, а сам почувствовал сильный голод. Требовалось срочно заморить червячка, и Петр быстрым шагом пошел в обратную дорогу, на свой КП, командный пункт, как он про себя называл ставку Гудовича. Его уже ждали, и, как только император подошел, адъютант тут же доложил:
— Ваше величество, завтрак накрыт!
Раскладной стульчик на гнутых ножках, вместо стола армейский барабан, накрытый чистой салфеткой, походная серебряная посуда, да арап в качестве лакея.
А харч такой же, что и у воинства — он категорически отказался от горячей пищи, доставлять ее пришлось бы из Гостилиц в сопровождении личных поваров, а костры палить Петр категорически запретил во избежание демаскировки.
Император разломал руками холодного обжаренного цыпленка и принялся рвать зубами нежное мясо. Судя по кучке костей в сторонке, его штаб и конвой с утречка порядком истребили тех же цыплят.
Однако бывший пернатый оказался достаточно сытным перекусом. Выпив шипучего хлебного кваса, Петр сразу же осоловел от приятной тяжести груза в плотно набитом желудке и не заметил, что закемарил на свежем, чистом воздухе, совсем разморило на ярком утреннем солнышке после короткой, бурной, страстной да нежной ночи.
Ораниенбаум
С самого раннего утра, когда еще солнце не осветило край горизонта, в Петерштадт пришел ад и апокалипсис, или конец света, как он описан в книге Откровении Иоанна Богослова. Шесть часов непрерывной бомбардировки из десятка осадных орудий…
Командор Спиридов задыхался в черном едком дыму. До судорожного кашля, до рвоты с кровью. Даже мокрые тряпицы, прижатые ко рту, не спасали от все разъедающего дыма.
В один жуткий погребальный костер превратился Большой дворец, дотла уже сгорели казармы голштинского войска, превратившись в черное пепелище, из которого сочилось множество струек черного дыма, рассыпались во все стороны искры от трещавших бревен, превратившихся в раскаленные уголья.
А сейчас двухпудовые бомбы мортир и полупудовые гранаты единорогов сеяли смерть и пожары в самой крепости. Занялись пламенем все деревянные строения внутри самой цитадели, а тушить пожары было делом совершенно невозможным — любая попытка брать воду из крепостного рва тут же пресекалась картечью.
Массированным огнем мощных пушек были почти полностью разрушены красивые крепостные ворота. Трудно представить, что еще утром эта закопченная коробка представляла собой кокетливую башенку. Занялся пожаром и малый императорский дворец внутри цитадели…
— Григорий Андреевич! — адъютант с окровавленной повязкой на голове и с покрытым сажей лицом, в тлеющем от искр мундире, почти орал в ухо командора. Да оно и понятно — от непрерывного грохота орудий люди глохнут и сами переходят на крик. — Роты готовы к вылазке! Надо атаковать, господин командор, иначе все здесь поджаримся!
Спиридов сплюнул тягучую черную слюну и, крепко взяв в ладонь рукоять абордажной сабли, быстро махнул рукой, давая сигнал горнистам. Четыре трубача грянули пронзительный сигнал, перекрывший орудийный грохот. Протрубили разом и через несколько секунд умолкли навечно. Бомба с мортиры угодила в них, с чудовищным грохотом взорвалась, разметав по всем сторонам ошметки человеческих тел.
Но призыв их был услышан, и гарнизон сразу пошел в последнюю, отчаянную атаку. Рванулись даже те, кто истекал кровью от ран. Поднялись из последних сил — только бы испить глоток чистого воздуха…
Григорий Орлов искоса глянул на князя, спрятав презрительную улыбку. Сейчас в Никите Юрьевиче было не узнать патологического труса, ожил старичок, расправил плечи, горделиво выдвинул вперед птичью грудь.
Победитель и триумфатор в одном лице, видно, прикидывает, как победную реляцию матушке-царице писать и о своих подвигах красочно поведать. Дабы императрица службу верную заметила да милостями своими слугу храброго отметила, крепостных и деревенек побольше дала.
Сам же Григорий был мрачен — они там враги и хулители, конечно, но герои. В дыму и пламени они отчаянно вели безнадежную борьбу. Все меньше и меньше вспышек орудийных выстрелов можно было разглядеть с крепостных валов, но они были, и стреляли моряки метко. Добрую треть осадной артиллерии вывели из строя, размолотив тяжелыми ядрами три единорога и пушку.
Сколько их там погибло, один только бог ведает, но даже в таком адском пекле шамад, сигнал о сдаче, не трубили. И только Орлов об этом подумал, как из крепости донесся отчаянный трубный глас.
В морских сигналах Григорий совершенно не разбирался, но этот сигнал один раз слышал и запомнил на всю жизнь. Трубы слитно проревели последний призыв к матросам: «На абордаж!»
Бывает на корабле так — откидывают резко крышки люка в стороны, и на дне трюма, внезапно освещенном ярким солнечным светом, видно, как черными тенями стремительно кидаются в неосвещенные углы своего обиталища скопища крыс.
Аналогия совершенно неуместная, но именно сейчас на ум Григорию пришла именно она — три черных потока перехлестнули крепостные валы, затопили своими телами неширокий ров и выметнулись почти разом из него. И не трусливые крысы порскнули…
С ревом предсмертной ярости, в котором слышится лишь одно желание — «пусть меня убьют, но я доберусь до горла врага», хлынули с морской лихостью, озверелой матерщиной себя нахлестывая, уставив закопченные штыки и лезвия сабель, единым духом пошли в свою последнюю атаку матросы и почти не отличимые от них голштинские пехотинцы.
Семьсот шагов до позиций гвардейских единорогов они пробежали на одном дыхании, почти не стреляя из фузей и не останавливаясь ни на секунду. Только убитые ничком падали, а раненые из последних сил за ними в атаку ползли, отстать не желая, настолько велика их ярость была. И холод пошел по спине Григория Орлова…
Занервничали Преображенские бомбардиры, тут же выстрелили бомбами в сторону крепости и лихорадочно заторопились. И успели-таки артиллеристы зарядить по новой жерла своих орудий, но уже картечью. Канониры приложили фитили к затравочным полкам, и грянул залп в упор, позиции пороховым дымом укутав.
Орлов видел, как десятки атакующих попадали, но густая черная масса хлынула дальше и захлестнула позиции. А навстречу им в чистых зеленых мундирах гвардейцы ринулись, со штыками наперевес, и все смешалось. Только единый слитный вопль из груди многих вырвался…
— Гриша, беда! — Силач обернулся, не стараясь скрыть недовольства.
Он собирался в общую драку кинуться, за ночную вылазку посчитаться, ведь без малого сотню преображенцев сонными покололи и порубили. Но вот эмоции сдержал — не тот офицер Бредихин, чтоб дурость всякую без нужды говорить. Именно его вместе с капитаном Пассеком, что сейчас в нижнем парке со вторым батальоном стоит, позиции мортир прикрывая, он первыми в заговор против императора Петра вовлек…
— Галеры в канал пошли, на прорыв! Две зажгли, но одна прорвалась, а из нее матросы что твой горох посыпались. А еще с других галер и шлюпок десант на берег стали высаживать, сотни три-четыре будет. Все озверелые, пьяные. Пассек три роты на них бросил, а еще тремя ротами от гарнизонных и галерных на обе стороны сразу отбивается. Сикурсу давай нам срочно, роты две, не меньше, а то не сдюжим. А драгуны, суки червивые, всем скопом из парка сбежали…
— Какой сикурс?! Ты что, не видишь, что здесь творится! Сейчас мы эту сволочь откинем и с тылу ударим, поможем Пассеку…
Гостилицы
— Ваше величество, три батальона пехоты сюда идут, колонна на три версты вытянулась. Через полчаса будут. Рота кирасир в авангарде, еще по полроты на каждом фланге разъездами многими в охранении. Четыре эскадрона в конце колонны, сикурсом. От казаков нарочный прискакал. Если наших солдат разъезды обнаружат, что делать? Прикажете войска из рощиц выводить, для генеральной баталии строить?
Требовательный голос генерал Гудовича вывел Петра из полусонного состояния.
— Нет, — после небольшого раздумья бросил Петр, — оставим все по прежнему плану. Только русские дважды на одни и те же грабли наступают. Вели всем за деревьями ничком упасть да ветками накрыться. И чтобы через раз все дышали и осторожно. И казакам дозорным передай, чтоб на отдаленье, глазу невидимом, за ними наблюдали, как условлено было, с бережением и опаской, и не лезли на глаза. Нас здесь нет, понятно?! В Гостилицах по домам мы еще торчим и в ус не дуем!
— Так точно, ваше величество! — отчеканил с непонятной радостью Гудович и тут же отдал приказы ждущим в стороне адъютантам.
Окончательно стряхнув остатки сна, Рык закурил папиросу, пыхнул дымком. Табак подействовал благотворно, и он полностью вошел в тонус. Даже замурлыкал про себя веселенький мотив, оглядывая окрестности через подзорную трубу.
Но стараясь сильно не выглядывать из-за густых кустов и не пустить окуляром солнечный зайчик. Конечно, до снайперов здесь еще не додумались, но, не дай бог, солдат неприятельский заметит отблеск и тут же командиру доложит — так, мол, и так, впереди нас засада поджидает…
Вдалеке пылила длинная колонна пехоты, солнце бликовало на граненых штыках. Впереди бредущей инфантерии и с двух сторон боков ее неспешно трусили немногочисленные конные разъезды, судя по темным мундирам, из лейб-кирасиров.
Но вот своих казачьих разъездов Петр не увидел, как ни вглядывался, словно испарились донцы бесследно. Лишь раз где-то вдалеке тени какие-то промелькнули, но то могла и ресничка в глаз попасть или моргнул некстати…
Сербских гусар справа и не видно, и не слышно. Милорадович — мужик тертый, всех за рощицы упрятал. И слева спокойно — там казаки за пригорком капитально схоронились. А с поля, Петр был уверен, лично смотрел, солдат видно не было, егеря в кустах и камышах хорошо маскировались, да и пушки надежно прикрыты.
Именно на них вся надежда — дюжина стволов, заряженных картечью, должны были здорово проредить гвардию, тем паче перекрестным, косоприцельным и прослойным огнем. Типичный «огневой мешок», о котором здесь ни сном ни духом еще не ведали, его только генерал Бонапарт через тридцать лет придумает, артиллерист от бога. Гудович только головой мотал, слушая пояснения Петра, да пробормотал восхищенно: «Ваш великий дед недаром бомбардирское дело любил…»
Петр время от времени присаживался да курил спокойно, окончательной развязки ожидая. Сила немалая валила. Одной пехоты без малого три тысячи отборных штыков да девять сотен конных латников и шесть пушек полковых с ними.
Но и у него был достойный противовес, о котором он два дня назад и помыслить не мог — около четырех тысяч пехоты и егерей, да семь сотен казаков, да еще тысяча двести тяжелых палашей и острых сабель в седлах ерзают. А пушек вообще вдвое больше…
На луг вступили конные, неспешной рысью направились к мостику. А за ними повалила колонна пехоты в запыленных мундирах с ярко-зелеными воротниками.
Петр припомнил, что такие воротники носили в гвардии только измайловцы, красные были у преображенцев, а синие — у семеновцев. Купил когда-то цветные открытки с солдатами войны 1812 года. Мундиры, правда, у них другие, но ведь цвета исторические и в любое время царями сохранялись. Ничего не попишешь, традиция.
Конница уже прошла мост и вступила в лощину, а головные пехотинцы только подошли к мосту. У Петра похолодело в груди, все могло сорваться в любую секунду. Ведь если всадники сейчас на солдат напорются, или у них лошади заржут, или заподозрят что-нибудь, пиши пропало. Но пронесло, поверили в тишину, окаянные, и на мост твердым солдатским шагом вступили. Человек двести по доскам прошло, и вот тогда рвануло…
От яркой вспышки засветило в глазах так, что Петр зажмурился, а грохот по ушам ударил сильно, как стеганул. Он аж присел, а когда поднялся, то увидел клубы черного дыма, вздымающиеся к небу, да летящие во все стороны доски, столбики, куски человеческих тел. Такое он уже в Афгане однажды видел, когда машина с артиллеристами из третьей батареи на мощном фугасе взорвалась…
И началось. Рявкнули пушки, выплюнули перекрестно с трех сторон, с лютой злобой, картечь по столпившимся людям — Бернгорст момент сразу же использовал, не пропустил напрасно. И разом защелкали ружейные выстрелы частой дробью свинцовой, клубы белого дыма окутали берега.
И рев, бешеный рев людской, раздался со всех сторон. Слышал такой рев он в своей жизни — так орут, когда на смерть идут злобно, яростно, на жизнь свою полностью наплевав.
В лощине за спиной бойня прокатилась, то на вражеских кирасиров голштинские драгуны и казаки Денисова всей массой набросились. Из сотни кирасиров никто из смертельной ловушки не выбрался, всем чохом полегли под пиками и клинками.
И когда через пять минут Петр снова оглянулся, там уже носились только одни лошади без седоков, а кирасирские колеты хорошенько усеяли лощину вперемешку с немногими драгунскими мундирами и казачьими синими чекменями…
И на берегу резня пошла веселая — оглушенных взрывом, ошеломленных внезапным нападением, измайловцев кололи, сбивали прикладами, резали. И только немногие из гвардейцев смогли в ответ выстрелить, хоть как-то для боя собраться. Две роты преображенцев просто смели уцелевших, смахнули в ручей, как хлебные крошки со стола тряпкой смахивают.
На другом берегу тоже смерть свою жатву собирает — полсотни человек взрыв повалил, кому гибель даровал, кому кровь пустил, а кого калекой полным на всю жизнь сделал — без руки иль ноги, обожженного али ослепшего.
А трем ротам уцелевшим тот же жребий был приготовлен — картечь валила их с ног, кровь в стороны брызгала, с жизнью человеческой из тела медленно уходила, в землю сырую ручьями и каплями стекала.
И пули егерей изрядную кровавую жатву собрали — это вам не кругляш свинцовый, турбинная пуля мясо в ошметки рвала и крик смертельный, дикий, с болью животной, из груди человеческой вырывала. Крик последний, смертной муки полный…
Петр побледнел, но не от крови — от ярости. Так запах смерти на человека действует, инстинкты древние пробуждает…
Ораниенбаум
Две сотни матросов, осадную батарею захватившие, не побежали перед тремя ротами преображенцев, приняли удар на месте. И схлестнулись в жестокой рукопашной…
Григорий Орлов злобно ухмыльнулся: «Сила завсегда солому ломит», глядя, как его преображенцы вытесняют моряков с позиций, оставляя за собой десятки мертвых тел.
Но и гвардейцев погибало неожиданно много, уж очень яростно грызлась матросня. Однако в своей окончательной победе цалмейстер был полностью уверен, двойной численный перевес его гвардейцев уже склонил чашу весов победы. Но именно сейчас он в драку не рвался, только руководил боем, мало ли что с ним может случиться, а с фельдмаршала Трубецкого толку, как с козла молока…
— Измена! — Дикий животный крик раздался рядом. Орлов вздрогнул и обернулся. Картина, представшая его взору, была ужасающей. Победа на его глазах стала превращаться в поражение…
От Большого дворца неслись десятки преображенцев Пассека, на бегу бросая фузеи и амуницию. Быстро так бежали, каким-то разнузданным верблюжьим галопом. И хотя он никогда не видел, как скачут верблюды, первым на ум пришло именно такое сравнение. Может быть, от сгорбленных спин бегущих преображенцев…
И не прошло и минуты, как число беглецов многократно увеличилось — теперь в безумной панике бежало как минимум добрых три сотни гвардейцев. А за ними показались их преследователи, с роту, никак не больше. Моряки шли широким шагом, двумя тонкими шеренгами, держа между собой относительное равнение…
— Твою мать! — выругался Орлов и закричал на фельдмаршала: — Остановите своих солдат!
Куда там, легче было призвать себе на помощь любой каменный обелиск — князь Никита Юрьевич Трубецкой впал в ступор, застыл столбом, лицо было без кровинки малой.
Григорий рванулся наперерез, воткнулся, как нож в масло, в толпу беглецов. Схватил крепко за глотку одного — лицо безумное, в глазах смертная мука с диким ужасом плещутся, новый мундир на полосы изорван. Врезал в челюсть — солдата отшвырнуло.
— Стой! Куда?! Стой, сволочи!
Попытка остановить обезумевшее стадо сродни ладоням, подставленным под мощную струю воды — каплю поймаешь, ведро прольется. И самое страшное — его солдаты тоже поддались панике, которая хуже чумы по ним прошлась.
Ударились в бегство многие, а те, кто еще не потерял голову, растерялись. Многие бросили заряженные фузеи и закричали о сдаче, другие решили схватить мятежных офицеров, дабы вторичной изменой заслужить себе перед императором прощение.
— Вяжи изменников! Бей их! Они царя продали! — с дикими криками два десятка преображенцев накинулись на Орлова.
Однако Григорий сдаваться не хотел и проложил себе путь к спасению несколькими мощными ударами. Верные матушке преображенцы попытались отбиться штыками, но тут подбежали матросы и помогли предателям.
Не набросились на иуд, а именно помогли, разобрались по крикам, кто за и против Петра. В начавшейся общей свалке досталось всем — матросы не только вязали, но и убивали.
Бредихина проткнул тесаком его же преображенец, и офицер, схватившись двумя руками за распоротый живот, из которого выпал сизый клубок дымящихся кишок, рухнул на землю.
Старого князя, который уже на коленях молил о даровании ему пощады, одним махом подняли на штыки, и он взмыл в голубом небе над матросами, изойдя предсмертным криком.
Орлов не был трусом, но сейчас бросил все и бежал. Запрыгнув в седло, Григорий пришпорил коня, и лишь одна цель была у него — умереть, но найти и убить императора…
Петербург
— Ваше величество, — граф Никита Иванович Панин изобразил поклон. Именно изобразил, слишком велико было его нежелание возводить на престол Екатерину Алексеевну.
Вельможа хотел совершенно иного — воцарения малолетнего наследника престола Павла Петровича. А сам Никита Панин и немногие представители знатных фамилий станут регентами при нем до совершеннолетия, а мать Павла, государыню-императрицу Екатерину Алексеевну или полностью лишат права управлять, или сделают лишь одним из регентов, чей голос не будет иметь решающего значения.
Главным было то, что сам граф приобрел бы первую скрипку в этом оркестре, и абсолютно плевать, что наследник Всероссийского престола как две капли воды похож на выжигу Сергея Салтыкова. Плевать, лишь бы в его руках послушным орудием на троне сидел, мало ли в истории коронованных ублюдков и бастардов правило…
— С Выборга прискакал Преображенского полка солдат Семен Хорошхин, что в свите покойного адмирала Талызина в Кронштадт отправлен был. Один только он из всех спасся, — граф громко щелкнул пальцами. Камердинер послушно открыл дверь, и в зал вошли двое лакеев, крепко держа под руки шатающегося солдата.
Екатерину передернуло, а княгиня Дашкова почувствовала себя дурно. И было отчего — физиономия солдата была разукрашена всеми цветами радуги, с доминированием фиолетового и темно-красного цветов. Обе женщины даже представить не могли, что после таких чудовищных истязаний можно было не только выжить, но еще и проскакать сотню верст от Выборга. Мужественный гренадер…
— Как вы себя чувствуете, мой друг? — с материнской теплотой в голосе спросила Екатерина. Она умела придавать своему немецкому акценту неповторимый шарм.
— Уше намного лушше, гошударыня! — прошамкал тот беззубым ртом.
— Как вас зовут, гренадер? Что случилось в Кронштадте?
— Семен Хорошхин. Всех растерзали прямо на пристани, а адмирала повесили на корабельной рее по приказу фельдмаршала Миниха. Меня за мертвого все приняли, а брат увидел и спас. Я день на его квартире лежал, а потом он меня на шлюпке в Выборг доставил. А оттуда, с помощью трактирного слуги, сюда доскакал…
Екатерина подумала, что и она его за ожившего мертвеца сейчас бы приняла — краше в гроб кладут. А солдат тем временем рассказал свою печальную историю и то, о чем поведал ему брат…
— Спасибо тебе за верную службу, лейб-гвардии господин прапорщик, — услышав слова императрицы, единственный глаз новоиспеченного офицера радостно сверкнул. Это была неслыханная честь, минуя капрала и сержанта, сразу получить первый офицерский чин, а в табели о рангах прапорщик гвардии армейскому поручику равен.
Услужливые дворцовые лакеи, повинуясь знаку императрицы Екатерины Алексеевны, снова бережно подхватили прапорщика Семена Хорошхина под руки, медленно и осторожно вывели бедолагу из комнаты. Дверь в кабинет тихо затворилась, и государыня повернулась к Панину.
— Я помню сего солдата, а теперь офицера, — произнесла и тут же себя поправила Екатерина Алексеевна, — мне Григорий Григорьевич Орлов о нем раньше сказывал. Он первым среди гренадеров Преображенских мне присягу на верность учинил и других к тому призывал. Ну что ж, если эти два линейных корабля супротив зверств Миниха поднялись, то нам во благо, и их достойно встретить нужно…
Дьяконово
Противоборствующие на равнине войска сходились медленно. Вернее, мятежная армия выстраивалась для боя долго, а неторопливое наступление предприняла только тогда, когда в районе Гостилиц уже добрую четверть часа гремела ожесточенная канонада…
Генерал Измайлов цепко окинул поле боя. И его, и неприятельская пехота построились для сражения одинаково — все четыре батальона вытянулись, согласно уставу, в две ровные линии, по три роты в каждой.
Пушки ставили в интервалах — у него шесть, у противника семь. Преимущество мятежников в артиллерии компенсировалось заранее подготовленной позицией и наличием полусотни егерей, которые открыли прицельную стрельбу турбинными пулями с пятисот шагов.
На фланги встала кавалерия — слева шесть сотен казаков, справа два эскадрона кирасирского полка и только что прибывший из Гостилиц на усиление эскадрон конных гренадеров. Противник бросил против казаков два, а против кирасир три эскадрона конногвардейцев.
Это была самая странная баталия, в которой доводилось участвовать Измайлову. Войска вели между собой вялую ружейную перестрелку, иногда обменивались трехфунтовыми ядрами, изредка огрызались конногвардейцы на постоянные казачьи наскоки.
Ход завязавшегося боя полностью устраивал генерала. Он четко выполнял приказ императора Петра Федоровича — от решительного боя с равным или превосходящим противником уклоняться, вести перестрелку, тревожить казачьими налетами. При атаке всеми силами — отходить к Гостилицам, к резерву генерала Мельгунова.
Но вот почему так пассивно вел себя генерал Василий Иванович Суворов? Михаил Петрович был не в состоянии дать ответ на этот вопрос. Или тот был неуверен в стойкости своих войск, или сам тянул время, ожидая известий из Гостилиц, или же замыслил некую хитрость…
— Ваше превосходительство, посмотрите на правый фланг, туда, — адъютант протянул руку, а генерал, присмотревшись, чертыхнулся. Сомнений не было — далекие пока черточки, медленно идущие к Дьяконово, были не чем иным, как кавалерией. Измайлов выругался еще раз. Как он мог забыть о конном отряде для связи?
— Скачи к Карпову, пусть даст сотню Емельянова и еще одну из сотен и направит к кирасирам. Давай!
Офицер сразу запрыгнул в седло, пришпорил коня и резво поскакал на левый фланг. И тут, словно этого и дожидались, батальоны мятежников под барабанный бой пошли в атаку.
Егеря открыли по ним суматошную стрельбу, и генерал видел, как в стройных шеренгах гвардейцев падали на землю убитые и раненые солдаты. С сотни шагов выстрелили картечью и пушки, но четыре орудия лишь чуть проредили длинную линию неприятельской инфантерии.
Потом противоборствующие батальоны обменялись слитными ружейными залпами и с диким ревом сошлись в рукопашной схватке. И завязли в ней — никто не хотел уступать…
А вот справа стало плохо. Конногвардейцы лихой атакой рассеяли казаков, но сами нарвались на лобовой удар роты кирасир из Ямбургского гарнизона. Латники задержали гвардейцев, а казаки Карпова опомнились и охватили эскадроны с трех других сторон — началась ожесточенная рубка. Генерал бросил взгляд вправо — конногвардейцы с подошедшим отрядом начали очередную атаку…
Гостилицы
Глаза императора цепко смотрели на поле боя, и видел он, что порыв первых минут на нет сходит. Засада позволила без помех половину передового батальона измайловцев начисто уничтожить, а сосредоточенным и перекрестным огнем орудий и егерей большие потери второй половине батальона нанести. Полностью была вырезана передовая рота лейб-кирасир, досталось и их фланговым разъездам.
Но не побежали в панике гвардейцы, как Петр рассчитывал. Хотя первую колонну измайловцев большей частью положили, а вот вторая колонна не бежать бросилась, а для боя развертываться на лугу стала. Три роты к ручью кинулись, штыками сверкая, избиваемым товарищам на помощь. А три других роты спину их стеной подперли, против налетевших сбоку казаков выстроились и залп дружно дали.
И у Петра екнуло в животе и поползли в груди нехорошие предчувствия. Дрогнули казаки Данилова, от пуль дрогнули, и в сторону их фланговые сотни откатились. И тут же по ним эскадроны кирасир ударили, двумя длинными шеренгами навалились, и он глухо выругался, облегчил свою душу матерно: «Какие там Канны со Сталинградом, твою мать, казаки Данилова в бегство бросились».
А справа та же картина — Преображенские гренадеры такой же маневр учинили, а в бок отважно атаковавшим сербам два оставшихся эскадрона кирасир удар нанесли. Бились гусары яростно, но недолго, были смяты целиком и полностью и отступать шустренько начали, фланг открывая.
Правда, здесь большой беды Петр еще не видел, чуть сзади его резервная кавалерия уже сгуртовалась, голштинские гусары и казаки Денисова. С генералом Гудовичем во главе…
Петр оглянулся назад — драгунский полк Мельгунова уже вышел с Гостилиц и двумя колоннами быстро двигался на помощь казакам Данилова. Тем оставалось четверть часа продержаться, тем более что голштинские драгуны уже сикурсом подходили.
А вот голштинская пехота Ливена только вытягиваться стала, им еще с десять минут хода будет, не меньше. И Петр мысленно решил немцу нагоняй дать — мог бы заранее хоть роту солдат вперед выдвинуть…
На том берегу враз поплохело — измайловцы скинули переправившихся преображенцев в ручей, штыками и прикладами погнали и за ними следом в воду бросились.
Момент настал отчаянный, и Петр решился. Бегом император кинулся к своему личному и надежному резерву — рота верных голштинских гренадер на опушке плотными шеренгами стояла, с заряженными фузеями, штыки сверкают, лица суровые.
— С вами бог и русский император! А с ними кто? Изменники! — Он выхватил из ножен шпагу и бросился бежать, продираясь сквозь кусты.
Хоть и бежать недалеко было, с сотню метров, но дорога его измотала, немного выдохся. Потому на опушке он остановился, ожидая, пока сзади голштинцы выстроятся для штыкового удара.
Рядом с ним егеря суматошно бегали, из-за деревьев и кустов на ту сторону стреляя, поверх голов солдат гвардии, преображенцев и измайловцев, отчаянно, сводя старые счеты, дравшихся между собой в неглубоком илистом ручье.
Правее возникли проблемы — гвардейская артиллерия открыла суматошную стрельбу, атакующие солдаты смешались. И тут же по ним ударили три роты преображенцев и оттеснили атаковавших петербуржцев обратно в лесок, захватив одно голштинское орудие. Скверно, конечно, но до подхода генерала Ливена солдаты продержатся. А вот у ручья стало намного хуже…
Измайловцы падали в воду, хрипло орали, рты у всех разинутые, но вперед шли с должным напором, штыки перед собой выставив. Петр взмахнул шпагой и скомандовал:
— Целься! Пли!
От боли в ушах Петр рот раскрыл, грохот был невероятный, сильно оглушило. Поэтому рев труб сигнальных не услышал вначале, лишь второй, дополнительный, сигнал расслышал.
Первую шеренгу атакующих в лоб мятежников пулями смахнуло, но вот только не остановило. Бросились в ручей и, остервенело ругаясь, полезли на противоположный берег.
Император побежал вперед, прямо на них. За ним кинулись солдаты, хрипло изрыгая русский мат и немецкую ругань. Причем почти опередили его, всячески старались хоть как-то прикрыть его широкими солдатскими спинами спереди и с боков.
Схлестнулись. Перед Петром оказался рослый малый, все лицо в крови. Петр ушел от штыка, отчаянно кольнул солдата в бок шпагой. Клинок неожиданно легко вошел в тело, измайловец изогнулся, но тут же был свален с ног прикладом и затоптан тяжелыми башмаками.
А Петр, потеряв шпагу, подхватил ружье убитого и со штыком наперевес кинулся в общую свалку. Его атаковали двое — измайловец кольнул в голову штыком, а вот второй, здоровенный гвардеец с синим воротником, рубанул с плеча тесаком. От всей души рубанул, всю силу вложив.
Петр изогнулся буквой «зю», и сверкающий штык измайловца лишь вскользь прошелся по плечу, но, уже уходя в сторону, болезненно кольнул. В ответ Петр воткнул свой штык противнику в живот и тут же качнулся в сторону. Еле успел…
Тесак гвардейца рубанул его поперек груди, но орденская звезда и ремень портупеи приняли удар на себя, и лезвие, распоров мундир, лишь легко порезало грудь.
Лихой же выпад сгубил гвардейца — Петр ударил его по опорной ноге и от всей души врезал прикладом по плечу, только хруст раздался. Гвардеец вскрикнул от боли, и он добавил ему анестезии — прикладом по затылку, чтоб вырубить надолго. От всей широты души врезал, так, что передозировка произошла…
И Петра только тут осенило — как среди измайловцев оказался семеновец? Но, пока он переваривал эту мысль, его оттеснили от схватки окончательно, полностью заслонили широкими солдатскими спинами, как сплошным забором. И не пройти через него, не продраться.
А потому он сплюнул, подраться ему солдаты не дали, а адъютанты, тут же подхватив императора под руки, почти силком вытащили из боя, чуть ли не на бегу перевязав холстинами новые царапины.
Петр кое-как вырвался из их цепких рук и быстрым шагом вернулся на свой командный пригорок. Чуть отдышался, держась за левый бок, и быстро оглядел поле боя, укутанное местами плотными клубами порохового дыма…
Петербург
Корабли входили в Неву короткой кильватерной колонной — впереди шли линейные «Святой Николай» и «Астрахань». Огромные трехпалубные махины под белыми надутыми парусами наконец поймали попутный ветер, величаво поплыли по темным водам Невы, медленно преодолевая ее встречное течение. На мачтах колыхались на ветру длинные белые вымпелы, орудийные порты были закрыты.
За ними шустрила небольшая яхта с десятком орудий — тонкие пушечные стволы стояли прямо на палубе. Маленькое, но не менее красивое судно — примерно так выглядит русская псовая борзая рядом с матерыми и толстыми медведями.
За яхтой шли два морских бота, несколько кургузых, но не хуже яхты вооруженных. Будто вместе с прекрасной борзой шастают два зубастых бульдога. И на мачтах всех трех суденышек тоже были подняты специальные предупредительные сигналы — длинные белые вымпелы.
Наспех сооруженные береговые батареи по ним не стреляли — то были свои, о чем свидетельствовали белые узкие полотнища. Канониры радостно махали руками, и с еще большей радостью отвечали им матросы, забравшиеся на ванты и оттуда махавшие своими шляпами.
На набережных, не одетых еще в камень, было настоящее столпотворение — мгновенно пронесся слух, что эскадра выступила против голштинского придурка, и толпы народа повалили — кто кричать виват, а кто втихомолку извергать хулу мятежникам.
Последних, впрочем, было намного меньше, чем собравшихся радоваться. Да оно и понятно — ребрышки, чай, свои, а не чужие. А их жалко, особенно когда толпа тяжелыми башмаками пересчитывает.
Шли, шатаясь, фабричные и мастеровые, аристократы и проститутки, заплетаясь ногами шкандыбали пьяные гвардейцы — кабаки работали бесперебойно и, к халявной усладе, совсем не брали денег. Добра матушка, тонко чувствует мятежную русскую душу, а потому — виват Екатерине!
Сама государыня-императрица Екатерина Алексеевна вышла на Дворцовую набережную встречать эскадру, а вместе с ней семилетний наследник престола курносый Павел Петрович со своим воспитателем, надменным графом Никитой Паниным, высокомерная княгиня Дашкова и разодетая свита из блестящих кавалеров и пышных фрейлин.
И смотрели на Неву с нескрываемым восторгом на лицах — белокрылыми птицами надутых парусов скользили по темной речной воде многопушечные корабли…
Императрице уже донесли, что линейные корабли утром атаковали отряд галер — в заливе гремела ожесточенная стрельба, и с берега было видно, как вспыхнули кострами две галеры.
Но ветер слабый, и уцелевшие в бою галеры быстро отошли на безопасное расстояние и, как шавки, кружили сейчас стаей у входа в Неву, пытаясь уцепиться за перебежчиками. Вот только поделать уже ничего не смогут — корабли надежно защитят теперь Петербург.
— Виват Екатерине! — взорвалась радостным воплем набережная.
— Виват! — отозвались слаженным хором матросы, и мгновенно открылись пушечные порты для салюта. — Виват! Виват!
И прогремел приветственно гром, страшный по своей силе пушечный гром. Окутались морские дворцы белым густым пороховым дымом, но то не салют императрице был — десятки крупнокалиберных орудий ударили по скопившимся толпам свинцовым ураганом картечи…
Дьяконово
Интересный шел бой, напоминающий гонку черепахи за раком — подполковник Власов улыбнулся от неожиданного сравнения. Гвардейские линии медленно наступали, его ингерманландцы и остальная инфантерия императора чуть быстрее отступала под их неторопливым натиском. Все командиры батальонов четко выполняли приказ Измайлова более не вступать в рукопашную схватку.
И Власов это прекрасно понимал — отступающие войска наносили противнику чуть большие потери, чем несли сами. Да оно и понятно — артиллерийский огонь постоянно откатываемых трехфунтовок и меткая ружейная стрельба егерей сильно досаждали гвардейцам…
Хрипло взревели трубы и загрохотали барабаны частой дробью — гвардейская «черепаха» разом проснулась, откинула медлительность и развернутыми шеренгами ринулась в атаку. Власов два года воевал с пруссаками, имел достаточный опыт, а потому вовремя заметил наступление и отчаянно крикнул своим офицерам:
— Ротам отходить быстро, стрелять плутонгами постоянно!
И не подвели вышколенные им ингерманландцы. Первая шеренга дала залп по атаковавшим семеновцам, и тут же через интервалы солдаты отбежали за спины последней, шестой, шеренги и принялись лихорадочно заряжать ружья. Прогремел второй залп, и, спустя четверть минуты, вторая шеренга стала последней. Снова залп…
Караколирование принесло ингерманландцам успех — семеновцы не выдержали града пуль и остановились. И только собрался подполковник перевести дух, как адъютант тронул его за рукав мундира и громко сказал:
— Посмотрите в центр, Павел Владимирович.
Через секунду подполковник Власов уже хрипло матерился, и было отчего. На этот раз воронежцы отступить далеко не смогли. В клубах порохового дыма противники сошлись в ожесточенной рукопашной.
Власов похолодел — гвардионцы четко воспользовались медлительностью центра и начали обхватывать с обоих флангов Воронежский полк. Надо было срочно нанести контрудар резервом, но сикурс как таковой у генерала Измайлова отсутствовал.
— Срочно беги к ним! — Власов схватил за плечо адъютанта. — Пусть бросают пушки и отходят! Но держать строй! Я помогу контратакой. Давай…
Но одной неприятности было мало, грехов, видать, накопилось много. На правом фланге пять эскадронов кавалерии, почти девятьсот сабель, стремительно атаковали две сотни казаков, рассеяли их по полю.
А затем обрушились всей силой на невских кирасиров и конных гренадеров. И, хотя Невский полк сражался героически, Власов понимал, что поражение неизбежно — полуторный перевес вскоре сыграет свою зловещую роль. Еще полчаса, и все…
Отступить, любой ценой отступить, бросить воронежцев, но не бежать. Конница пешего всегда догонит, и нет ничего приятнее, чем рубить в панике бегущих солдат. А с плотным строем пехоты, ощетинившейся штыками и стреляющей залпами, кавалеристы ничего не смогут сделать. Тут кирасиры нужны — у тех и кони помощнее, и на всадниках броня надета…
Но всем отступить не удалось — воронежцы сражались в центре, ожесточенно, но семеновцы уже обхватили их фланги. Невских кирасиров отбросили к его ингерманландцам, но подполковник ухитрился отбить атаку конной гвардии, хотя был вынужден под ее яростным натиском отойти к близкой роще на пригорке и там укрепиться. И генерал Шильд чуть не попал в плен к гусарам, но гренадерская рота отбила раненого генерала…
Павел Владимирович зажал правой рукой рану на бедре — сквозь пальцы сочилась кровь. Но боли физической подполковник не чувствовал — кровью истекала душа. Он только глухо материл генерала Измайлова — тот погубил свою армию, погубил бездарно, забыв, что нельзя быть везде сильным.
А вот старый генерал Василий Суворов, при почти равных с ними силах, сумел разорвать линию дважды и теперь добивал окруженных воронежцев. И ни Измайлов справа с кроншлотцами, ни он слева с ингерманладцами, получивший в бою две раны, но продолжающий командовать, ничего уже не могли сделать. Бой проигран…
Только отступать — генералу на Ямбургский тракт, подполковнику на Гостилицы. И дай бог государю-императору Петру Федоровичу сейчас растрепать войска Панина и построить армию для боя с Суворовым. Если нет, то спасет его только чудо…
Гостилицы
От сердца чуть отлегло — запах поражения перестал витать, и потянуло, хорошо потянуло легким дымком победы. На левом фланге три роты измайловцев и два эскадрона лейб-кирасиров не удержались, когда по ним ударил со всего размаха подоспевший резерв — пехота генерала Ливена и драгуны генерала Мельгунова.
Три коротких, всего из двух рот каждая, колонны голштинцев с ходу прорвали тонкую линию мятежных гвардейцев — разорвали их строй, смешали, а это оказалось на руку опомнившимся казакам Данилова. Сотня донцов тут же врубилась в сечу и радостно начала избиение разрозненных отрядов гвардейцев с зелеными воротниками.
А лейб-кирасиры своим ничем помочь не могли — сами отчаянно дрались с кавалерией Мельгунова и подоспевшими голштинскими драгунами. Его опытные ветераны быстро намылили шею латникам, тем более что пара сотен донцов к рубке подоспела, спешно подошли, быстрее, чем раньше деру давали. И еще две сотни казаков в тылу гвардии замаячили и тем неустройство в противнике усилили.
А на правом фланге дела чудные и неожиданные пошли, но зело приятные. Гудович бегство гусар остановил и сам атаковал лейб-кирасиров с двух сторон — справа пошли сербы Милорадовича, а слева засверкали саблями его отборные голштинские гусары, за ними пошли второй шеренгой, встопорщив пики, казаки Денисова. И враз поплохело кирасирам, когда на них вдвое больший противник налетел.
Спасти положение еще могли Преображенские гренадеры, что к ретираде петербуржцев принудили. Если бы их батальон по пехоте Ливена без заминки ударил…
Но среди гренадеров пошло неустройство, и почти сразу открытый мятеж начался. Петр в подзорную трубу видел, как взметнулись несколько ружейных дымков и трое всадников, что в атаку гвардейцев призывали, слетели с коней, сбитые пулями.
А потом преображенцы дали слитный залп по кирасирам в спину — те такой подлости от своих же братьев гвардейцев никак не ожидали. Атака сразу захлебнулась, и латники, строй окончательно смешав, в бегство паническое ударились, казаками по пятам преследуемые. Уже не стреляли ни из пушек, ни из ружей. Слитые шеренги драгун смяли измайловцев и втаптывали их в землю.
Справа рубили несчастных гвардейских солдат гусары, кололи пиками казаки.
Петр тут впервые увидел, как страшны казачьи дротики. Донцы метали их практически в упор, с пяти шагов, и пронзали насквозь человеческое тело. Умирающий только за древко хватался, иногда пытался из груди выдернуть, но его рубили саблей…
Уже боя не было. Шла беспощадная рубка гвардейцев, их полное уничтожение. А в ручье гренадеры и петербуржцы штыками докалывали уцелевших измайловцев, и Петра передернуло — речная вода была кровавой, с розоватой пеной. Страшно…
Далеко впереди мчались всадники — это донцы преследовали панически бежавших лейб-кирасиров. Тех не много вырвалось из окружения, с сотню примерно, но вот догнать их и всех истребить казакам вряд ли удастся, два-три десятка наверняка до своих в Петергофе добегут. А значит, и предупредят их о полной гибели мятежников у Гостилиц…
— Батальону кроншлотцев, всей кавалерии и казакам срочно идти к Дьяконово, поспешать сикурсом к генералу Измайлову. И пусть Мельгунов командует! — Петр жестко бросил адъютанту.
Этот императорский приказ был выполнен через десять минут — первыми ушли кроншлотцы быстрым шагом. Не успев в один бой, они торопились принять участие в другом. И Петр попенял себе за излишнюю перестраховку — этот батальон здесь оказался лишним, а мог бы значительно усилить войско генерала Измайлова.
Следом за пехотой потянулись драгуны и лейб-казаки Денисова, а еще через десять минут короткого отдыха следом пошли сербские гусары и две сотни казаков Данилова. Он бы и сам помчался туда, но не смог — смертельно устал…
Петр отложил подзорную трубу и закурил — на душе было смутно и радостно. Тяжело от гибели людской, от крови, напрасно пролитой, — ведь многие из погибших не были в заговоре, но пошли за мятежниками потому, что всю жизнь болтались, как дерьмо в проруби. Радостно чуть было от заслуженной, первой победы, но вот горечью всю радость вытесняло. Кровь, повсюду разлилась человеческая кровушка.
Во рту сразу горько стало, и он сплюнул, передернулся — вспомнил, как из распоротого живота клубок дымящихся кишок вывалился.
«Баталисты хреновы! Вы по этому полю походите да на муки человеческие поглядите, тогда и другие картины рисовать будете!»
И злоба росла, лютая злоба — на Катьку, на братьев Орловых, на других заговорщиков, на сенаторов, что братоубийственную драку заказывали, на тех священников, что это смертоубийство благословили. Страшной и лютой всегда бывает драка за царскую власть, кровавой и беспощадной, жизнь топчущей.
И Петр заплакал, слезы катились по щекам, но он их не стеснялся. Император оплакивал тех, кто за него встал, насмерть, и кто в это бессмысленное братоубийство против воли кинулся. Он поднял глаза, утер их платком, арапом поданным — почти рядом стояли солдаты, лица не радостные, а суровые, и он заметил, что многие до хруста, до побелевших пальцев, стискивали кулаки.
И он благодарен им был, и солдатам, и офицерам. И Ливену с Гудовичем, что понимающе на него смотрели. И внезапно Петр осознал, что теперь они всей душой его, насмерть встанут немедленно, по первому слову.
Будто с пятипудовым мешком на плечах поднялся Петр, поклонился в пояс солдатам, горделиво вскинул голову. Он осмотрел своих солдат цепко и видел, как подобрались они, ожидая его слов.
— Спасибо вам, дети мои! Мы раздавим мятеж, но пусть это будет последняя русская кровь, русскими же пролитая. Пусть льется только вражеская черная кровь, и драться мы будем только за землю нашу, народ наш, да веру нашу чистую, исконную, православную. Клянусь вам!
— Императору Петру Федоровичу, отцу нашему! Виват! — то уже генерал Гудович крикнул, лицом просветлев.
— Виват! Виват! Виват! — многократно прогремело со всех сторон. И Петр видел, как все они самозабвенно кричат — немцы и русские, солдаты и казаки, офицеры с генералами.
— Две чарки водки каждому да по десять рублей за службу верную жалую!
Эти слова Петра были встречены таким же восторженным ревом, а он пошел меж ликующими солдатами, то по-отцовски обнимая кого-то, то похлопывал по плечу. Подошел к плащу, постеленному на траве заботливым Нарциссом, прилег и на небо уставился…
Петербург
Это был ужас. Разверзся ад — десятки крупнокалиберных орудий двух линейных кораблей безжалостно смели от Сената до Зимнего дворца праздношатающиеся народные толпы свинцовым ураганом картечи. Растерзанные люди падали друг на друга, смертельные крики, хрипы и стоны умирающих и обезумевших людей окутали набережную.
Погибли и были изувечены многие сотни. Смерть здесь не разбирала — рядом с гвардейцами лежали мастеровые, расфуфыренный аристократ с размозженной головой упал рядом со служанкой с растерзанной грудью. Погиб наследник Павел Петрович, и испили с ним ту же чашу граф Никита Панин и многие из придворной свиты.
Но этой жестокой участи избежали императрица с княгиней Дашковой. Кавалергарды выдернули женщин из кровавого безумия и, подхватив под руки, бросились за дворец. Успели — прогремевший второй залп довершил начатое. А с кораблей грянул бешеный многоголосый крик, полный пьяной удали и жестокой лихой решимости:
— Виват императору Петру! Виват! Виват!
Кавалергарды время терять не стали — императрицу и княгиню усадили в карету и, нахлестывая лошадей, помчались прочь из города, в Петергоф, к верной гвардии. Любому из всадников охраны было ясно — Миних всех коварно обманул, а малочисленные гвардейские роты отразить высаживающийся десант не смогут…
Всего пять кораблей смогли ввергнуть уцелевших горожан в шок. Но выжившие не предполагали, что под их ногами разверзлась бездна. Встречая корабли, не сразу заметили, что за этими новоявленными троянскими конями резво двигается морская орда — галеры с десантом, потом фрегаты, бомбардирский корабль, шнявы, яхты. Кроме того, боты и большие шлюпки малыми отрядами стали расползаться по речкам и многочисленным каналам.
Флот старательно и терпеливо накидывал на Петербург густую ловчую сеть, и теперь она была внезапно им брошена. Кроме экипажей на судах были размещены две с половиной тысячи солдат Кроншлотского гарнизона и морской пехоты.
Галеры проскочили береговые батареи, канониры которых разбежались в ужасе, даже не помыслив об обороне и ничем не помешав им швартоваться у причальных свай. Всем кораблям места не хватало, многие просто утыкались носом в берег, и с них тут же сбрасывали широкие и длинные дощатые щиты.
По ним с хриплыми матами и криками, сверкая штыками и тесаками, густо скатывалась пехота и матросня. Ощетинившись жаждавшей крови сталью, дикая орда валом захлестнула всю набережную и, радостно хрипя, ворвалась в город. И все — животный ужас накрыл столицу…
А корабли пошли дальше и сделали залп уже левым бортом. Цель была крепкой, и потому Петропавловская крепость получила уже не картечь — камень дробился ядрами.
Растерявшийся гарнизон забыл о сопротивлении и отчаянно метался по крепостным веркам — и тут же был щедро осыпан картечью. То малые шнявы и галеры стали высаживать десант. Матросы побежали на штурм крепости с бешеной яростью, усугубленной плескавшейся в желудке обильно выпитой водкой — сие питие активно храбрость пробуждает.
Длинные штурмовые лестницы припали к каменным стенам бастионов — лезли по лестницам храбро и густо, срываясь от выпитого, ломая себе руки и ноги.
Но штурмующих это раззадоривало еще больше, как распаляет насильника даже слабое сопротивление жертвы. И с дикими криками ворвались и принялись резать. Приказ императора был выполнен в точности — всех с оружием в руках убивать на месте, пощады не давать никому.
Ворвавшаяся в Сенат матросня рубила всех подряд — и сенаторов в красных позолоченных мундирах, и стряпчих в скромных кафтанчиках. Гвардейский караул был искрошен прямо у парадных дверей — позже родственники не смогли опознать их останки. Спаслись только те, кто вовремя сообразил кричать: «Виват императору Петру Федоровичу!»
Счастливчиками оказались и сам митрополит с церковным клиром, принимавшие присягу на верность Екатерине. Священников лишь испинали тяжелыми матросскими сапогами, содрали облачение, избили в кровь с криками: «Иуды, императора за рубль продавать?!!» — и посадили всех скопом в холодную, о бренности жизни думать, о скорби и печали.
Но в самом городе беспорядков уже не было — матросы занимали крепкими караулами присутственные здания и перекрестки улиц, закрывали кабаки, а тех, кто с пьяной дури противился прекращению халявной выпивки, тут же зверски избивали. А заподозренных в грабежах, насилиях и мародерстве прикалывали штыками, бросая тела на улицах.
Не прошло и трех часов, как на улицах Петербурга воцарился идеальный порядок и мертвящая тишина — как на образцовом кладбище…
Досталось только евреям и гвардейцам. Первым более по привычке — и за процент по займам беспредельный, за наживу алчную, и за то, что всем кагалом собрались ненасытным, и за все «хорошее», ими сделанное — от распятия Христа до наживы на матросском табаке. Отыгрались крепко на иудином семени, благо фельдмаршал Миних на то «добро» свое дал. Какой же на Руси бунт без погрома? Но не убивали — злобы к евреям не было.
Зато мятежных гвардейцев лупили всем табором, без пощады, и свою роль сыграла местная «пятая колонна». В Петербурге, как в любом приморском портовом городе, всегда полно моряков — и как только прогремел клич: «Полундра, наши гвардию бьют!» — мгновенно началось всеобщее веселье.
Тех, на ком был гвардейский мундир, а таких отставных было полным-полно среди аристократии, лупцевали смертным боем, без малейшей жалости, не щадя даже стариков. Гарнизонные солдаты мгновенно отреклись от Екатерины, прокричали: «Виват императору!» — и, примкнув штыки, пошли на штурм гвардейских казарм, убивая на пути мятежных «янычар»…
— Где эта сука?!
Во двор ворвалось несколько разъяренных измайловцев в окровавленных мундирах. Семен Хорошхин сразу же понял, что на этот раз его точно убьют. Не кричать же им, объяснять, что родной брат его спас только для того, чтобы подло обмануть — пять минут назад две насмерть перепуганные мещанки, прибежавшие в ужасе с набережной, поведали ему о кровопролитии, которое учинил флот. И он сразу прозрел…
Дожидаться смерти Семен не стал, резво выпрыгнул из окна, добежал до калитки, открыл ее и тут же метнулся назад — по улице бежали измайловцы. Затравленно оглянулся и спрятался в будке отхожего места, тихо прикрыв за собой дверь. И вовремя…
— Сбежал, хорек подлый! Ищите мерзавца! — свирепый рев гвардейцев довел его до икоты. Где же найти спасение?
И тут Семена осенило — найден путь к сохранению живота. Он отчаянно попытался втиснуться в отверстие, и хоть с большим трудом, но это ему вскоре удалось. Тело погрузилось в густую массу, но сообразительный прапорщик совершенно не ощущал зловония — не до того ему было. И когда к ретираде затопали солдатские башмаки, то Семен решился, набрал в грудь побольше воздуха и с головой погрузился в жижу…
Дьяконово
Задрожала под ногами земля, и сразу воспрянула душа. Измайлов четверть века отслужил в коннице и мгновенно понял — с таким содроганием почвы идет в атаку тысячная кавалерийская масса.
Генерал, невзирая на боль в проткнутом штыком бедре, встал на носки — огибая рощу, в которой насмерть дрались ингерманландцы Власова, показались стройные шеренги драгун, причем справа на фланге были до боли узнаваемые голштинские мундиры.
У Михаила Петровича отлегло от сердца — у Гостилиц одержана победа, иначе драгуны так бы спокойно не строились. Помощи прибыло немного, эскадрона четыре, но удар драгун позволял Власову перейти в контратаку и спасти погибающих воронежцев. Положение стало стремительно меняться в лучшую сторону — стройные шеренги драгун готовились нанести стремительный удар по гвардии.
И тут Измайлов удивился — шум нарастал, почва задрожала чуть заметней. Странно, ведь драгуны и кирасиры еще стоят и только готовятся начать атаку. Рядом с генералом восторженно заорали солдаты, подкидывая в воздух шляпы, и Измайлов обернулся.
Огибая рощицы сплошными черными и серыми потоками, плотными массами скакали всадники, очень много всадников. Чья-то умелая и опытная рука направляла кавалерию.
Прямо на глазах двухтысячный кавалерийский отряд построился тремя группами в три линии каждая. В центре тускло блестели кирасы тяжелой конницы, слева и справа были драгуны. Разом взревели трубы, и земля теперь задрожала от слитного стука тысяч копыт. И нет ничего страшнее, когда на тебя валит всей массой кавалерия, и нет ничего радостней на свете, если атакует своя конница.
— Это Румянцев пришел! — Крики среди ингерманландцев усилились, и Михаил Измайлов хотел отдать приказ начинать общую атаку, но, когда посмотрел вперед, сдержался.
Боя уже не было — словно обваренные кипятком тараканы, семеновцы и конногвардейцы разбегались в разные стороны. Их избивали свои же — почувствовав меняющуюся обстановку, преображенцы с примкнутыми штыками ударили в спину центральный батальон семеновцев, а драгуны и малороссийские гусары, уловив изменившуюся конъюнктуру, стали лихо рубить несчастных конногвардейцев.
И тут последовал страшный удар накоротке невских кирасиров и драгун генерала Мельгунова — панически бегущих гвардейцев безжалостно рубили палашами, топтали конями. Это была полная виктория, и Измайлов не смог спрятать радость от нее. Тем более что она была одержана без участия опоздавших к сражению полков Румянцева…
— Вы были на волосок от поражения, Михаил Петрович, но чудесным образом фортуна повернулась к вам лицом! — Румянцев говорил добродушно, но в его голосе чувствовалось тщательно скрываемое недовольство.
Победу уволокли из-под носа, и его кавалерии пришлось только погоняться за гвардейцами, сгоняя их толпами и связывая. Петр Александрович был расстроен — если бы его полки ушли из Нарвы сразу, то он был бы сейчас победителем, тем, которых не судят.
А теперь же придется оправдываться перед императором за опоздание, еще скажут, что струсил, вот и выжидал. Позорное положение, право слово. Но было бы еще хуже, если бы вообще он с кавалерией от Нарвы не пришел…
— Не спорю с вами, ваше превосходительство, вы правы. Но фортуна сама любит тех, кто стремится к победе! — генерал Измайлов не менее добродушно ответил, но не сумел спрятать неуместное торжество…
Гатчина
— Гляди, Платон, никак драгуны ратиться с нами не желают? — хорунжий Семен Куломин обернулся к уряднику.
Платон Войскобойников тоже пребывал в недоумении — три драгунских роты, вчера вечером пришедшие из Петербурга, никак себя не проявляли и, подойдя к Гатчине, штурмовать ее не спешили.
Хотя гарнизон был никакой — неполная сотня ланд-милиции и инвалидов с пожилым прапорщиком Трушиным во главе, что службу еще во времена курляндского временщика Бирона начинал, да их неполная казачья полусотня, оставленная войсковым старшиной Измайловым в этом небольшом петербургском пригороде.
А потому хорунжий Куломин прекрасно понимал, что атакуй их сейчас драгуны, то придется бежать, бросив гарнизонных солдат и узилище с тремя десятками переветников, среди которых есть сенатор с бабой и девками и гвардейский майор, в Москву с манифестом посланные.
Единая надежда была на дюжину драгун конвоя, что сенатора сопровождали. Солдат не обижали, до пуза всех накормили, и манифест царский им прочитали, показав и подпись государя Петра Федоровича, и печать царскую, к нему приложенную.
Драгуны воодушевились, вдругорядь крест государю на верность целовали и мятежных гвардейцев за измену подлую и обман с присягой великий словами многими хулили. А утром охотниками вызвались в подошедшие к Гатчине драгунские роты ехать — и царский манифест там прилюдно прочитать, и от измены всех отвести…
Это был реальный шанс избежать кровопролития и постыдного отступления. И хоть опасался хорунжий, что верных государю Петру Федоровичу драгун офицеры-изменники под арест возьмут или убить попытаются, но делать было нечего.
С болью глубокой отдал он им манифест и с не меньшей болью приказал привязать к двум лошадям по бочонку хлебной водки, чтобы драгуны в ротах выпили за здравие государя-императора. Хорошо знал хорунжий сущность солдатскую…
Отправил охотников и, почитай, почти три часа крутился в нетерпеливом ожидании хорунжий — ни ответа ни привета от драгун не было. И только сейчас показались трое верховых — ехали прямо и руками размахивали в знак мирных намерений.
Семен Куломин запрыгнул в седло, не касаясь стремени, и, сопровождаемый Платоном и двумя казаками, поехал драгунам навстречу. Через пару минут съехались — двое драгун из знакомых охотников, а третий ротный сержант, здоровый крепкий малый. Лицо перечеркнул шрам от удара палашом, водочным запашком изрядно шибает. Сержант и заговорил первым:
— Две наши роты государю Петру Федоровичу верны, и от присяги не отказываемся. На чем крест целовали. А гвардейская рота со всеми офицерами обратно в Петербург отошла…
Гостилицы
А облака-то по небу яркому, словно выстиранному, как корабли плывут, тихо, величаво. Красиво. Какая война, тут лежать надобно да на небо смотреть. И тихо, и покойно на душе, и боль из груди уходит…
— Государь, проснитесь, генералы Измайлов и Румянцев с викторией из Дьяконова подошли. Ваше императорское величество сейчас ожидают! — Адъютант бережно склонился над ним.
Петр открыл глаза — день явно клонился к вечеру. Солнце уже не жарило, но еще давало много тепла. Выпил кваса спросонок, закурил и опамятовался. Но на душе спокойно было, умиротворенно.
Император медленно осмотрелся кругом — сотен шесть пленных в разных гвардейских мундирах были заняты печальным делом. Кто копал новые могилы, кто хоронил в уже отрытых ямах убитых в бою. Пылили фургоны, хрипло стонали где-то рядом раненые.
Сербские гусары с нехорошим энтузиазмом обдирали погибших лейб-кирасиров — охапками волокли палаши, пистолеты, кирасы и в кровавых пятнах обмундирование. Зрелище не для слабонервных.
Далеко, у мызы, виднелись густые колонны пехоты, повозки, орудийные упряжки. А внизу стояла целая толпа из генералов, адъютантов, штабных офицеров. Петр выбросил окурок в сторону и решительным шагом направился к ним.
— Господа генералы, поздравления приберегите, грех большой братоубийством заниматься! Поражение изменников после победы здесь полностью решено. Тем паче сейчас флот десант в Петербурге высаживает. Какие у нас потери?
Петр резко сменил тему, взглянул на радостного Гудовича, затем посмотрел на хмурого и бледного Измайлова. Генерал-адъютант чуть спал с лица, но тут же четко доложил:
— Свыше семисот человек, ваше величество. Около двухсот убито, более пятисот ранено. Конных из них меньше сотни.
— Убитых более трехсот, много солдат ранено. Преображенский батальон, что на нашу сторону в бою перешел, потери малые понес. Большая часть убитых на Воронежский полк пришлась! — не менее четко доложил Измайлов, опираясь на трость.
— Да и тебя, Михаил, задело. Надеюсь, что не сильно. Плохо, господа генералы, очень плохо. Большие потери — худая победа, пиррова. Запомните накрепко — русская кровь не водица, победы достигать только малой кровью. И еще — нынешняя гвардия в грязи вымарала имя императора Петра Алексеевича. И не тем, что мятеж умыслила, а тем, что с поля брани позорно бежала! — после этих слов Петр почувствовал, что закипает, как чайник, поставленный на раскаленную плиту. — Это немыслимо — гвардия умирает, но не сдается! А это была не гвардия — в пьянках и на бальном паркете при дворе только шаркунами, бегунами и хороняками становятся, а не солдатами. Потому за трусость такую отныне гвардия привилегии в чинах перед армией полностью лишается, пока храбростью в боях имя свое снова не прославит и будет держать его честно и грозно. В боях славу находят, а не на дворцовом паркете и в будуарах фрейлин. Вот тогда и привилегии новым гвардейцам будут, и многое другое!
Петр задумался, и неожиданно сверкнуло в голове решение. Но тут его взгляд самопроизвольно уткнулся в двух генералов, что с терпеливым ожиданием взирали на императора.
— Ты, генерал! — Девиер вытянулся, ну что ж, по Сеньке и шапка. — Розыском займись немедля, изменников выявляя, да под караул их сажай. Людей нужных возьми, немногих, да караульных бдительных и верных. И Гудовичу или мне обо всем сказывай немедленно.
Затем император медленно подошел к вытянувшемуся перед ним во фронт Гудовичу, крепко обнял своего молодого генерала и трижды, по старинному русскому обычаю, расцеловал его щеки.
— А ты, Андрей Васильевич, во всех делах моя голова, я тобой горжусь и тебя люблю. И другим в пример ставлю! Тебе штабные дела, свита, адъютанты, конвой и обозы. И мне в помощь дела решай, как раньше. Мыслю, чинов достигнешь больших за дела свои, для государства Российского нужные. И вы все запомните — приказания Гудовича для вас, как мои собственные, как будто я велел…
Петербург
— Семен! Ты где?
С криком метался морской офицер с окровавленной саблей. Матросы, заполонившие малый петербургский дворик, ожесточенно хмурили брови, сочувствуя своему лейтенанту. Хоть и торопились они, но не успели — во дворе уже сотворили злое дело измайловцы.
Но уйти от возмездия изменники не смогли, и усеялся маленький дворик окровавленными телами, истыканными матросскими штыками. Погорячились, конечно, надо было им хоть одного гвардейца для расспросов нужных оставить…
— Никак кто-то о помощи взывает, ваше благородие?! — пожилой матрос с серьгой в ухе обратился к лейтенанту Хорошхину.
Тот сразу встал в стойку, словно русская псовая, и дал знак морякам — «молчать у меня». Голоса во дворе разом притихли, лишь только скрип ставни на легком ветру раздражал слух. Еле слышный голос тихо прохрипел: «…омогите, …асите, тону».
— Что за чертовщина? Тут до канала саженей двести…
— Да нет, ваше благородие, со двора орут. Только где здесь утонешь, колодца-то нет?
Матросы дружно потянулись руками почесать затылки и почти одновременно уставились на дощатую будку туалета. Матрос с серьгой среагировал первый, рванулся к сортиру, распахнул настежь дверь и склонился над отверстием.
— Да здесь он, ваш брат, ваше благородие! — раздался ликующий крик моряка.
А как не радоваться, если фельдмаршал Миних пообещал за спасение Семена Хорошхина сразу же выдать новый орденской знак святого князя Александра Невского немедленно любому солдату и матросу и полста рублей в добавку.
Между тем в будке было уже не протолкнуться — разом трое моряков пытались вытащить в отверстие бедолагу, совершенно не замечая нечистоты и миазмы. А чего их замечать — деньги-то общие, пропивать вместе будут, раз решили. А за усердие и от лейтенанта что-нибудь перепадет…
Но не тут-то было — дыра не пропускала назад мученика, хоть ты тресни, и как он туда пролез, если у матроса Волощука кулак еле протиснулся. Со страха, видать, просочился…
— Ломай, к чертям, братцы! — рявкнул на подчиненных лейтенант.
А те рады стараться, и через пару минут будка рассыпалась на куски. С треском оторвали толстые доски пола и в четыре руки извлекли покрытого коричневой жижей человека.
И тут доброхоты отчаянно засквернословили, отскакивая от жертвы экскрементов — выгребную яму в результате спасательной операции изрядно потревожили, и двор накрыл покрывалом тошнотворный запах.
Через секунду матросский отряд как боевая единица перестал существовать — все стали дружно блевать, как худые собаки, выпитая перед высадкой водка запросилась наружу…
Пока проблевались, сбежавшиеся женщины с ведрами колодезной воды отмыли Семена, и тот, видом как Адам до своего грехопадения, дрожал на ветру, постукивая зубами, как кастаньетами. К нему подошел Игнат, обернул в кафтан, крепко обнял и зашептал в ухо:
— Только молчи, дурак. Говори всем, что я тебя по приказу Миниха послал с хитростью великой и обманом. Тогда награда тебе будет и чин офицерский. Не дурак, сам уже все давно понял, иначе бы в яму не полез, а здесь бы трупом валялся. И помни — если прознают истину, то тебя в этой яме с концами утопят. И меня, грешного, вместе с тобой…
Гостилицы
Петр насупился, неторопливо закурил поднесенную ему внимательным Нарциссом папиросу и энергичным жестом отослал генералов. Остался при нем только верный Гудович.
Император вопросительно на него посмотрел: «И чего тебе надобно, старче?» Начальник его штаба монарший взгляд понял правильно и тут же предложил:
— Ваше величество, там трупы мятежных генералов, не желаете взглянуть? К моему глубокому сожалению, в плен их не взяли, на месте поубивали — уж больно солдаты наши разъярились.
Петр Федорович поднялся, оперся на «подаренную» дедом трость, согласно кивнул, и Гудович пошел впереди. Идти было недалеко, метров сто.
Зрелище было жестокое и поучительное — четыре трупа лежали по ранжиру, у одного мертвеца синяя Андреевская, а еще у одного жмурика алая Александровская лента через плечо.
Первые два трупа оказались генерал-аншефом и фельдмаршалом. Командира гвардейского отряда графа Петра Ивановича Панина он признал почти сразу — надменный мужчина был заколот штыками, на лице навечно застыла гримаса ужаса, и кровь всю грудь залила, под цвет орденской ленты.
Петр вспомнил, что именно этот генерал подавлял восстание Пугачева. Теперь, правда, карательным походом командовать не будет. А может быть, и самого восстания Емельки Пугачева уже не случится, уж он постарается его любым способом не допустить.
А второй, чуть старше по возрасту, оказался младшим братом фаворита Елизаветы, малороссийским казаком по своему природному происхождению, полковником лейб-гвардии Измайловского полка графом Кириллом Григорьевичем Разумовским. Стеклянные глаза уставились в небо с яростью, грудь разворочена картечью — его завалили у моста, в самом начале боя. И синяя лента оттого наполовину алой стала.
Третий покойник оказался генерал-майором Саблиным, и надо же, фамилию свою оправдал полностью — казачьей саблей шею почти перерубили и палашом плечо раскромсали.
А четвертый генерал, к великому изумлению Петра, оказался не только самозванцем, но личностью мистической и мифической. Гудович признал этого авантюриста, а пленные пояснили, под какой фамилией этот апологет французского масонства действовал в России.
Сего незнакомца представлял в свете князь Волконский, при дворе его считали главным масоном, «вольным каменщиком». «Генерал Салтыков», он же таинственный господин «Одар» с графским титулом, был заколот пикой и порублен казачьими саблями. Только настоящая фамилия была неизвестна, но Девиер обещал в самом скором времени ее выяснить.
Сам же Петр крепко задумался — так вот кто помогал Катьке мужа с трона свергать. Ну как же, с масонами заигрывала, просветителям в рот заглядывала, с Вольтером переписывалась.
Вот потому-то и помогли ей масоны на царство взойти, на кардинальные реформы надеясь. Только «бортанула» она их здесь, со всем добром ихним, ушлая женщина, из России сразу выперла, чтоб ей не мешали…
Петр заскрипел зубами и стиснул кулаки. Гудович и подошедший полковник Рейстер посмотрели на него с тревогой в глазах. Он прогнал волну ярости и тут отчетливо вспомнил недавний сон. Напрягся и заговорил словами из сна, тщательно копируя интонацию:
— Как называется это место?
— Ригельсдорф, ваше величество! — тут же немного лающе ответил ему барон, и лицо полковника вытянулось в изумлении.
— Еще одно место нашей славы! — фразу про сигнал к отходу Петр говорить не стал, а еще раз напрягся, и слова сами легли на язык. — Это только начало, всего лишь начало. А настоящие победы и слава придут потом, позже, к нашей чести!
Сказал и осекся — «виктория», «глория», «хонор» и другие слова с хрипением в произношении в русском языке напрочь отсутствуют. Но на каком же языке он тогда говорил?
Рейстер и Гудович смотрели на Петра с величайшим страхом. Наконец бледный полковник, переглянувшись вначале с генералом Гудовичем, на том же лающем языке спросил, и Петр сразу понял вопрос:
— Осмелюсь спросить ваше величество. Я не знал, что вы умеете так хорошо говорить на шведском! — А его глаза прямо-таки вопили: «Когда вы успели выучить язык, ведь вас ему обучали лишь в детстве?»
— Недавней ночью дед меня научил, взяли привычку по ночам ко мне таскаться, уму-разуму учить! — с деланым простодушием на русском ответил Петр, рассудив, что полуправда никогда не бывает ложью, а является способом сокрыть истинное положение дел.
Однако его речь еще больше их напугала — по лицу Гудовича потекли капли холодного пота, а барон стал белее снега. Но вскоре лицо генерала разгладилось, на нем отчетливо проявилось выражение полного обретения какой-то ведомой только ему истины.
— Простите, ваше величество. Значит, все, что рассказывали о той злополучной ночи перед мятежом, является полной правдой. А я-то думал… Оттого вы так, государь, сильно переменились…
Гудович осекся, побледнел, видимо, испугался своей откровенности и некоторой фамильярности, когда говорил.
— Надеюсь, в лучшую сторону, генерал? — с определенным интересом в голосе спросил Петр.
— Один дед наделил вас трудолюбием и мудростью, русской речью в совершенстве и, простите меня, государь, постоянной тягой к Евиным дочкам! — очень хитро и осторожно попенял генерал на внезапные похотливые интересы императора. — А второй дед наделил вас своей беспримерной отвагой и полководческими дарованиями и, как сейчас оказалось, еще и шведским языком. Простите, государь, но только сейчас я все понял, ведь вы, ваше величество, мне ничего о той ночи не говорили.
— Да просто ты не спрашивал! А скрывать мне нечего — ну, дали, ну, наделили, тростью и шпагой ударили, умения в меня вбивая. И их же мне подарили, я трость и шпагу имею в виду, вот эти. Ну и что такого? Можете всем об этом рассказать, ничего страшного не произойдет.
Гудович машинально потрогал свой лоб — теперь по лицу генерала было видно, что тот понял происхождение той ночной крови на лбу императора, об этом уже знали все. И дал этому ранению свое объяснение — тростью лупил всех Петр Алексеевич, переходя временами и на тяжелую дубинку для более ласкового отческого внушения своим неразумным и крайне вороватым подданным, а вот шведский король Карл для вразумления предпочитал исключительно свою острую шпагу…
Петербург
— Мы немедленно примем этот манифест его императорского величества к исполнению! — Голос старого сенатора Епачинцева дрожал от почти нескрываемого страха. Вельможа боялся не без оснований — смотреть на хмурого фельдмаршала Миниха было до ужаса страшно.
Бурхард-Христофор криво улыбнулся — черт бы побрал этих трусов, не могли там, на набережной, всем скопом сдохнуть, флот поприветствовав. Он бы не поленился, а лично приколол бы каждого сенатора шпагой, но…
— Советую вам немедленно озаботиться сими государственными нуждами, ведь любая оплошка в этом деле вам будет дорого стоить! — Фельдмаршал Миних словно вбил раскаленный гвоздь в грудь сенатора и тут же, нисколько не жалея свою несчастную жертву, вбил следом второй. — Император Петр Федорович зело недоволен теми, кто мятежникам присягу давал. И наоборот…
На набережной фельдмаршалу полегчало — ветер с Невы приятно холодил грудь. Миних поманил рукой преданного ему офицера, давно ожидающего необходимого приказа.
— Ты сегодня же отправишься в Шлиссельбург — вот приказ и вот императорский манифест. Коменданту скажешь без обиняков, или он отправится воеводой в Анадырский острог на Камчатке пожизненно, или…
Фельдмаршал жестоко улыбнулся — пусть он возьмет еще один грех на душу, но избавит от него Петра Федоровича. Такие вещи всегда лучше творить чужими руками, дабы правитель всегда в белом был.
А в своем адъютанте, капитане Куломзине, Миних был уверен — представляемый ему шанс позволял либо взлететь по лестнице чинов круто вверх, либо рухнуть вниз, потеряв не только карьеру, но и голову.
Адъютант взял сверток с бумагами из руки фельдмаршала, звякнул шпорами, четко повернулся и быстрым шагом отправился к ожидавшим его пятерым всадникам, держащим в поводу его лошадь — яхта ждала их на Охте.
Все было обговорено заранее. Бурхард-Христофор повернулся к Неве, воды которой величаво тянулись под его ботфортами к заливу. Соленый ветер с Балтики приятно раздражал нос — и в восемьдесят лет жизнь еще не прожита.
Дело сделано — сын Фике убран от трона, в Шлиссельбурге сегодня все решат, только императрица с Дашковой, как крысы, где-то затаились. Но в том, что они будут найдены, Миних не сомневался. Погони посланы по всем дорогам, да и казаки уже подоспели…
Старый фельдмаршал еще постоял, предаваясь размышлениям, потом чуть улыбнулся, достал коробочку — под крышкой были две гранулы смертельной отравы. И старик, с облегчением в душе, бросил ее в реку…
Гостилицы
Беседа на такую скользкую тему несколько напрягала, и Петр решил перевести ее на другие рельсы и спросил:
— А где солдат, что мост взорвал? Выжил ли?
— Здесь он, государь. Вон стоит, вашего решения дожидается, — и генерал тут же подозвал солдата в гвардейской форме, — в голштинскую гвардию до мятежа хотел перевестись…
— Капрал Державин! — вытянулся перед ним солдат.
— Молодец, Гаврила Романович! — в шутку, памятуя только одного Державина, ответил Петр, но глазки у капрала восторженно засверкали, и он добавил: — Жалую тебя за храбрость чином подпоручика. Но лучше тебе не мосты взрывать, а стихи писать, вот хотя бы гимн наш новый, для империи Российской — «Боже, царя храни».
— Гимн? — растерянно переспросил Державин.
— Да, я даже первые строчки его сам написал, а ты теперь доделывай!
Петр по памяти пропел ему несколько первых строф бывшего императорского гимна. Почти в каждом фильме о Гражданской войне, где показывали пьяных офицеров в ресторанах и кабаках, обязательно звучал первый куплет «Боже, царя храни», исполняемый с пьяным надрывом по утерянному прошлому.
Да и сам Петр по пьяной лавочке иной раз его затягивал в общаге, плюя на жанр социалистического реализма и свое комсомольское настоящее. А пел он хорошо, на бис, недаром в свое время в хоровом пении участвовал. Правда, хор был церковный — на старости лет отец шибко невзлюбил советскую власть и вернулся к духовным казачьим истокам.
Однако на всех присутствующих стихотворное и музыкальное «творчество» Петра произвело потрясающее впечатление — мелодия и стихи задели их за живое.
Но вот бескрайнего удивления у них не было — к проявлявшимся у императора все новым талантам уже стали относиться поспокойнее. Да оно и лучше, все на веру брать и лишними сомнениями не мучиться, вопросами глупыми не задаваться и тем более не донимать, а то себе дороже будет. Как в фильме — не сметь перебивать царя!
Проходя мимо унылых пленных, а согнали около тысячи гвардейцев, он обратил внимание на одну побитую, но до боли знакомую морду, в изорванном семеновском мундире. По его знаку адъютанты тут же выволокли здоровенного малого, чем-то на Алехана смахивающего, только в габаритных размерах на чуток меньшего.
Петр зашел гвардейцу за широкую спину — так и есть, затылок прикладом хорошо поглажен, хоть окровавленной тряпкой перевязан, но сразу видно, чья тут работа, гордиться собой надо — такого бугая одним ударом завалить.
Петр обошел офицера и рявкнул:
— Как зовут?! Не Орлов ли?!
— Так точно, ваше императорское величество! Поручик Иван Орлов.
— Дурак ты, Ваня! И Алехан, братик твой, тоже дурак изрядный. И Вова с Федором. Кто так в рукопашном бою замахивается? Ведь удар никак изменить нельзя, если противник поднырнет под руку. А вы с братом меня именно так били, на силу свою надеясь. А я от ударов ваших легко и ушел — только Алехан мне кирасу с боку царапнул, а ты перевязь раскроил. Зато на твой затылок смотреть страшно — болит небось головка-то, хорошо я ее прикладом ружейным пригладил? Ну, что мне скажешь, Ванятка?
Орлов стоял изумленный, дар речи потерявший. Да и свита Петра в удивлении рты пораскрывала — в пылу схватки никто не уследил, какого матерого зверя император самолично завалил. А Петр продолжил словесное линчевание здоровяка.
— Ты ж меня и выше, и намного сильнее. Но завалил я тебя с одного удара. Где ж твоя мощь была? И Алехана с одного удара шпагой проткнул да с коня свалил. И братцев твоих, Вову и Федю, лично отдубасил так, что не налюбуешься!
Петр, хотя и говорил вполне добродушно, но не забывал, что перед ним враг. Но он также помнил о том, что эти братья вместе представляют собой немалую силу, которая может принести большую пользу России, но где-нибудь на Аляске, не ближе…
— Благодарен будь царю, дурашка, я тебя мог в спину штыком добить, но не стал, и Алексея, братца твоего, пожалел. Сейчас он дырку в теле зализывает в Кронштадте на излечении. А тебе скажу честно — сам бы еще раз набил морду за дурость твою, да только Заратустра не позволяет! Ладно, живите дальше. Я не Орлов, чтоб в спину бить, душить беспомощных и иудой, до денег жадным, прозябать. Братик твой, цалмейстер, — Петр припомнил должность Григория, заведующего финансами артиллерийского ведомства, — еще от меня получит по морде своей бесстыжей, отлуплю его, как Сидорову козу! Запомни это…
После содержательного разговора с Иваном Орловым окрыленный Петр потребовал бумаги и чернил и, усевшись на стульчике, принялся с неистовым упорством писать на барабане, и так, что чернильные капли в стороны летели. Император так увлекся писаниной и не заметил, что со спины к нему тихо подошел Волков и застыл немым изваянием.
Кабинет-секретаря раздирало любопытство, и он осторожно стал поглядывать на барабан. Но с опаской — император настолько изменился после ночной беседы со своими великими предками, что стал совершенно другим, и попасть под его тяжелую руку Дмитрию Васильевичу совсем не улыбалось.
В армии и так столько разговоров шло о том, как его величество лично избил четверых братьев Орловых и поубивал несколько десятков гвардейцев, причем искрошил их обычной лопатой…
Но увиденное сразу поразило Волкова. Нет, «структура пехотной дивизии» с длинными колонками цифр штатного расписания не вызвала удивления у видавшего виды секретаря, его поразили рисунки и схемы. «Паровой двигатель в разрезе. Срочно вызвать Ползунова с Алтая». А рядом «Срочно нужно инициирующее ВВ» с понятной только фамилией — «Ломоносову. Изготовить гремучую ртуть для капсюлей. Это я знаю».
Однако в стороне имелась не менее интересная запись: «Устройство барабанной винтовки, схема по нагану. Вызвать немедленно Кулибина, пусть спусковой механизм делает, а не дурью мается».
Волков запомнил фамилии и тихо отошел, от греха — прерывать императора он не решился…
Петергоф
Это был конец. Стоило спешить в Дьяконово, чтобы на половине дороги встретить обезумевших от страха конногвардейцев, бегущих в панике, не разбирая дороги.
Вспомнив их выкаченные глаза, перекошенные ужасом лица и широко раскрытые криком рты, Григорий Орлов сплюнул — настолько ему был противен в памяти их зрительный образ.
В Петергофе к вечеру стали собираться остатки разгромленной в трех сражениях гвардии. Больше всего имелось лейб-кирасиров и конногвардейцев — без малого восемь сотен всадников, почти половина от численности полков утром нынешнего злосчастного дня.
Потихоньку собиралась и гвардейская пехота, какими-то неисповедимыми путями пробравшаяся в Петергоф. Как они смогли отмахать тридцать верст за пять часов, Григорий не понимал, но многие приходили именно на своих двоих, причем зачастую с фузеями.
Но инфантерии было всего ничего — едва с тысячу совершенно деморализованных солдат, причем половину из них составляли сбежавшие от Ораниенбаума преображенцы. Имелись и три полковых пушки. Хоть мало, но было и оружие, и люди, но не было уже главного — желания воевать.
Солдаты гарнизонного батальона откровенно поносили мятежников, и все чаще стали слышаться оскорбительные выкрики и от преображенцев. Артиллеристы не мучились сомнениями, а просто дезертировали втихую, бросив у пустого зверинца орудия.
Семеновцы и измайловцы были подавлены поражением, безучастно, в каком-то отупении, сидели на траве, поникнув головами. Они не ждали для себя ничего хорошего, но воевать уже не хотели — плаха или виселица с сибирской каторгой, они все приняли бы с равнодушием.
Лишь несколько десятков гвардейских офицеров пытались расшевелить впавших в апатию солдат, да оно и понятно — заговорщики на пощаду не надеялись, зная жестокую немилосердность Миниха…
— Василий Иванович, не все же потеряно! В столице батальоны измайловцев и лейб-кампанцев! Кавалергарды! Черт возьми, ну что же вы, как покойники! И четыре батальона гарнизонной пехоты… Эх! — Григорий Орлов горячо убеждал генерала Суворова, но понял бесполезность и в бессилии упал в кресло.
Старик баюкал окровавленную руку и молчал. Но это молчание было однозначным — старый генерал воевать категорически не хотел. Он с невероятным трудом вырвался из учиненной пехотой Измайлова и кавалерией Румянцева бойни, бежал, забыв про все на свете. И впервые в жизни был охвачен паническим ужасом.
Сейчас он желал одного — умереть, не видя своего позора. Мертвые сраму не имеют. А тут мокрогубый щенок, заваривший всю эту кашу, снова призывает воевать…
— У нас здесь два батальона пехоты, и к ночи еще два соберутся, не меньше. И кавалерии шесть эскадронов. Если в ночь на Петербург пойдем, то ситуацию еще переломить сможем.
Григорий Орлов все же не желал принимать поражение и не хотел понимать генерала. Да как можно покорно дожидаться собственной смерти, самому положить голову на плаху или собственноручно намылить веревку и затянуть ее на шее?
— Какая война?! Император нас завтра попросту размажет, как дерьмо сапогом! — взорвался старик и поднялся. Глаза прищурились, в них заплескалось бешенство безумия. — У него десять тысяч войска, и завтра они на Петербург пойдут! С ним Румянцев с кавалерией! А следом войска от Нарвы идут. Да нас в столице начисто изничтожат. А Живодер с флотом в Кронштадте! Здесь, рядом! Да в любую минуту десант он высадит без промедления. Какая тебе война, ты на солдат глянь, спроси их — желают ли они против природного императора далее воевать?! Что замолчал? — Суворов, расстегнув душивший его воротник мундира, часто дышал, грудь вздымалась, а глаза метали молнии.
— Не все еще потеряно! Ситуация за час измениться может. Император умрет! Обязательно умрет, если уже не при смерти…
— Что?!
— Ты думаешь, что до него дотянуться нельзя?! Что в Петербурге спокойно смотреть будут, как он армию свою собирает? Не хотел добром отречение подписать, ну что ж…
— Ты договаривай, что сказать хотел, Григорий Григорьевич. Решили к другому способу прибегнуть? Где меч не поможет, там завсегда отрава проблемы решит?! — Старик остро смотрел на Орлова, и тот понял, что в горячке проговорился.
Но отступать было поздно, и Григорий судорожно глотнул пересохшим горлом. Цалмейстер налил стакан вина из бутылки и залпом единым выпил. Стало легче, и Орлов выдохнул воздух сквозь зубы.
— Хотя, снявши голову, по волосам не плачут. Это может быть для нас спасением. Хоть и пахнет оно паршиво…
— Запашок-то дурной. Тут ты, Григорий Григорьевич, прав… Не ты сие придумал, не тот ты. Сталью решить можешь, а вот к яду… Кирюха Разумовский, видать, задумку свою паршивую тебе выдал или Катька Дашкова? — генерал рассуждал с собою вслух, не обращая внимания на Орлова. Но его глаза на самую чуточку ожили, заблестели. — А может, сама государыня руку приложила? Даром что немка, а духом истинная византийка… Нет предела женской коварности, тут я Петра Федоровича хорошо понимаю, с такой змеей жить — всего опасаться надо. Ты уж, Гришенька, прости старика за откровенность…
Орлов уже не слушал и не слышал — откинувшись в кресле, он предался мыслям. Он знал, что Като имеет свои уши в окружении Петра, но не интересовался именами предателей. Зачем?
Но подсыпать яд императору они могли, иначе бы Дашкова не была столь уверена вчера днем, когда пришли первые вести о петергофском несчастье с братом Алексеем и гвардейским авангардом.
Недаром с ней и Паниным говорил граф Сен-Жермен, он же «генерал Салтыков», наедине, и эти странные ее недомолвки, что императору всего только два дня отпущено будет. И Роджерсон рядом крутился…
У павильона громко закричали, затопали люди, и Григорий Орлов вырвался из дремоты. Дверь распахнулась во всю ширь, и в комнату буквально влетел офицер в окровавленном измайловском мундире. Григорий вопросительно посмотрел на него.
— Все кончено. Миних овладел Петербургом, флот десант высадил. Государыню кавалергарды в «Красный кабачок» вывезли. Гвардию в Петербурге почти всю изничтожили. Это конец…
Гостилицы
При еще ярком солнышке Петр осмотрел мызу — она произвела неизгладимое впечатление. Он бывал в свое время на холеных эстонских хуторах, но чтоб такое! Все эти хутора в сравнении с мызой не более чем жалкие фанерные завалюхи нищих советских пролетариев.
Двухэтажный трактир в традиционном западном стиле под высокой черепичной крышей. Большой зал с дубовыми столами и камином — ввиду жаркого лета холодным. А на втором этаже отдельные кабинеты, но сейчас превращенные в штаб и временную резиденцию канцлера, уже порядком забитые служивым народом.
Генералитет и канцелярия Волкова с комфортом разместились в гостинице — примерно таком же здании. А вот Петр со свитой обосновался в небольшом двухэтажном теремке — бревенчатом строении с резными наличниками и столбами.
Управляющего из хором не изгнали — он скромно приютился в уголочке первого этажа, а свои покои на втором, в три комнаты, отдал императору. К теремочку примыкала изрядная банька, которая сейчас весело топилась, готовясь к радушному приему монарха.
И все эти три особняка окружала добрая дюжина различных строений — все капитальные, с печами, обихоженные. Здесь было все нужное для процветания в гостиничном бизнесе — амбары и кладовки, птичники и конюшня, каретник и скотный двор со свинарником, небольшой сад и приличных размеров огород, большая гостевая баня и шеренга кокетливых резных ретирад, чистых внутри и без неприятного запаха, свойственного таким заведениям. И еще многое, включая теплицы с большими кирпичными печами, что круглый год давали разные овощи и плоды — от огурцов и помидоров до персиков и винограда.
И кирпичный заводик, чтоб строительный материал всегда под рукой был. Обслуживалось все это великолепие доброй полусотней работников — от лакеев и поваров до доярок и скотников. И мальчишек на побегушках было изрядно. Сейчас народу еще прибавилось, и довольно значительно, — вокруг зданий шла постоянная суета и толкотня.
Время от времени въезжали крестьянские телеги с разным харчем — от живых крякающих уток до мешков с мукой. И все эти груды пищи насущной истреблялись намного быстрее, чем привозились — воинство подвалило изрядное и, как саранча, обрушилось на крестьянские запасы.
Но обид не было — порядок обеспечивался почти идеальный, а за все съеденное и выпитое, за постой и фураж для лошадей платили сразу, без проволочек офицеры-тыловики. Более чем щедро платили — в вывезенной из Ораниенбаума голштинской казне имелось почти триста тысяч рублей самой звонкой монетой, золотом и серебром.
На пригорочке малом стояла прекрасная двухэтажная усадьба под красной черепичной крышей. Она живо напомнила Петру художественные фильмы о помещичьих имениях. Ухоженный парк со всех сторон окружал ее зелеными кронами деревьев. Но вот кому принадлежит сия лепота, он допытываться не стал. Зачем? И без того дел полно, чтоб еще визиты помещикам делать или их у себя принимать.
Петр не задержался на осмотре и величаво прошел в баню. Небольшие теплые сени, а потом огромная комната с кирпичной голландской печью, изразцовой, приличных размеров.
Дубовые шкафы, поставец с различной посудой, мягкий диван с ковром, несколько удобных кресел и довольно широкая кровать с толстенной пуховой периной, застланная поверху атласным белым одеялом — это больше напоминало очень приличное жилое помещение, чем обычный предбанник.
«Да уж, умели жить на широкую ногу наши предки, обстоятельно устраивались — когда средства у них немалые имелись».
А его здесь давно ожидали с нетерпением — девичья фигурка в льняной, до пола, рубашке и верный Нарцисс в легкомысленных белых панталончиках с кружевами.
Петр чуть не прыснул здоровым смехом, глядя на это чудо из далекой Африки в русской бане.
И более никого — адъютанты остались в сенях, а лейб-медика, что вздумал перечить, Петр так обрезал, что эскулап съежился вдвое, вещать перестал и лишь тихонько попискивал, как мышонок, чей хвост попал в мышеловку. Но с героизмом отчаяния сообщил, что государь, ежели снова захочет прибегнуть к венериным усладам, должен всех понравившихся ему прелестниц немедля показать, чтоб дурную болезнь, от сей богини производимую, царственному императору не получить.
Петр сразу же насторожился — подцепить триппер или сифилис его отнюдь не привлекало, ведь лечить в эти времена данную заразу просто не умеют. А до антибиотиков додумаются только через два века.
Он сдержанно поблагодарил лейб-медика за предусмотрительность и ожидающе остановился. Эскулап заметно воодушевился и почти без экивоков сообщил, что обе фрейлины здоровы и ко всяким делам постельным полностью пригодны.
Но вот баня им категорически противопоказана, ибо в жизни в парной ни разу не мылись и помереть могут в ней запросто. Да и желания к ней у них не имеется. Петр брезгливо поморщился — несмотря ни на какие духи, от фрейлин шел неприятный потный душок. Но лейб-медик императора тут же утешил — члены царского величества тщательно омоет девица, пригожая и здоровая, дальняя родственница управляющего. И попросил лишь поберечься самому в парной, с непривычки может стать худо…
Петра быстро раздели в четыре руки, он решительно открыл дверь и оказался в моечной — все отделано березой, запах дурманящий и емкость намного больше ванны, но несколько меньше бассейна в обычной сауне. А вода прозрачная и холодная.
Впереди была еще одна дверь, и Петр вошел в нее, застыв прямо на пороге — горячий обжигающий воздух толчком в грудь остановил решительную походку бывшего сержанта и вахмистра.
А тело, все еще чужое для него тело, тут же протестующе взвизгнуло. Но сразу заткнулось, когда Рык вошел в парную и залез на широченную полку. Вверху дальше была еще одна полка, но несколько уже, однако Петр решил не рисковать для начала.
Все же первый раз — «прежний хозяин» баню совсем не любил, по немецкой своей сущности тазиком для омовений обходился, но никто уже не удивился, когда император потребовал натопить баньку ему пожарче. И постарались от всей широты русской души — зайти страшно в эту раскаленную до звонкого воздуха кочегарку.
Вот так и сидел, балдея, а тепло все глубже проникало под кожу, становилось хорошо. Девица же в кадке с кипятком стала запаривать веники, спросила что-то вроде «какими будете».
Петр молча кивнул в ответ: «На твое усмотрение», и продолжил сидеть неподвижно, но жестом приказал скинуть рубашку — париться в ней, что купаться в фуфайке и кирзовых сапогах.
Девица покорно скинула свое одеяние и присела рядышком, чуть касаясь его ноги своим пока еще холодным бедром. Петр скосил взгляд — милый носик, маленькое розовое ушко, тугие остренькие грудки чашечками, так хочется нежно помять их пальцами и припасть к ним губами; небольшой пушок треугольником внизу поджарого нежного животика. Ладная такая девушка, лет 16–17, хорошенькая.
Но сексуальное вожделение так и не охватило тело, не до того ему сейчас было — жарко, даже очень жарко в парной, аж лицо жгло. Внутри тихо тикал секундомер — для первого раза, да в первом заходе нужно сидеть минут десять, не больше, и без пара.
И Петр этот срок легко высидел и пошел на дополнительные пять минут — пот уже катился градом. По привычке он стал тереть пальцами кожу на ноге, — грязь скатывалась вначале нитками, а затем чуть ли не колбасками, и Петр тихо выругался — ходят в кружевах, брызгаются духами, а сами свиньи свиньями.
Пихнул осторожно локтем девицу под упругий бочок, а когда та испуганно на него поглядела, он подмигнул ей, ласково улыбнулся, дабы не пугать, и показал на скатавшуюся грязь.
Девушка ожила и чуток покраснела, улыбнулась ему в ответ, шустро скатилась с полки и взяла какую-то банку. Зачерпнула пальцами густую смесь и тихо сказала:
— Ложитесь на полку, ваше величество, я вас медом с душицей натру!
Он послушно вытянулся на животе — полка была горячей, но не обжигала тело. Благодать. А вот ладошки оказались крепкими и втирали смесь энергично. Затем крепкие и сильные девичьи руки его перевернули на спину и с энтузиазмом и задором стали обрабатывать. Запах меда начал дурманить голову…
— Тебя как зовут, красавица? И чьих будешь?
— Машей. Я Ивана Тимофеевича племянница сродная.
— Руки у тебя крепкие, Машенька!
— Так то от работ, государь-батюшка.
— Понятно…
Продолжать диалог у Петра не хватило терпения — мед жаркой смазкой прихватил кожу, все зудело, и мочи уже не было. Он быстро сквозанул с полки, ворвался в предбанник и стал смывать с себя мед, черпая ладонями из дубовой лохани.
Маша тут же помогла — окатила чуть теплой водой из маленькой кадушки, стерла остатки меда и снова окатила водой. Враз полегчало, и Петр решил рискнуть. Зашел обратно в парилку и велел девушке поддать квасом. И та плесканула от души на камни.
Густой хлебный пар обволок помещение, и Петр чуть не взвыл — будто тысячи раскаленных иголок впились в кожу. Дышать стало трудно, и ему пришлось прикрыть рот рукою.
Однако стоически терпел долго, а потом выбежал и запрыгнул в глубокую лохань. Хорошо, но холодно. Петр выбрался из ванны, схватив поданную Машей руку. Крепко схватил, с умыслом — тут же коварно опрокинув девушку в холодную воду. Маша взвизгнула от неожиданности, но вскоре серебристый девичий смех присоединился к его веселому ржанию.
Войдя в предбанник, Петр обернул девушку в простыню, затем, как патриций, набросил белую ткань на себя. Арап уже накрыл столик — разнообразие холодных напитков ласкало душу, а еды было мало, и та легкая, для желудка необременительная.
И правильно — в бане парятся, а не едят, и водку не пьют. И тем более в парной сексом не занимаются — немало мужиков в бане пятки откинуло, когда в горячей парной под градусом удаль свою мужскую на размякшей бабе показывали.
Пили напитки, проливая капли на грудь, чуть рыбки вкусили — зато Петр много шутил, а Маша смеялась. Давно ему так не было хорошо, как с этой простой девушкой — Лиза с папиком свой корыстный интерес имела, а фрейлины — не более чем светские потаскушки, в постели занятны и интересны, а для жизни утомительны.
А Машу жизнь серьезно побила — отец недавно умер, следом за ним и мать, а ее, сироту горемычную, старший брат отца приютил, но спуску, как другим слугам, не давал. Хоть и не говорила ему это девушка, но между ее тихих слов о многом он слышал, и чуть печальный вид много показывал.
И в баню по приказу дяди пошла, а до этого ни разу с мужчинами не мылась, хоть и принято это на Руси. Бани-то общие. Но император Всероссийский вроде как и не мужчина, а царь-батюшка, коему отказывать не принято.
И сам Петр в обычное человеческое участие всей душой окунулся и, наплевав о секретности, многое о себе Маше рассказал, за исключением своей, той далекой уже жизни.
А потом они снова в парилку пошли и хлестали вениками друг друга до одурения, до красноты тела, и в бассейне вдвоем купались, квас с одного кувшина пили, и опять в парную. А потом в предбанник выскочили, хохоча, красные, распаренные…
«Красный кабачок»
Всю дорогу до «Красного кабачка» женщины пребывали в полной прострации — Екатерина Алексеевна тихо плакала, а княгиня Дашкова сквозь зубы ругалась такими словами, что многим матросам неизвестны.
Знание таких слов великим женским таинством является. Вроде никто их этому никогда не учит, но, к великому мужскому удивлению, почти все дамы слова эти похабные и хулительные хорошо знают и применяют…
И двух суток не прошло, как Екатерина Алексеевна обратно в трактир приехала. Все здесь то же самое — дом, небо, деревья, да и хозяин тот же лебезящий.
Но императрице показалось, что в один какой-то миг глаза трактирщика злорадством блеснули, но отринула от себя эту мысль. В тот раз приехала она с войсками многими, а сейчас изгнанницей из Петербурга. И вся надежда на гвардейские полки, что на Гостилицы сегодня походом вышли.
Очутившись в той же комнате, Екатерина Алексеевна от ужина отказалась и присела на кровать. Мысли лихорадочно путались в голове, и были они страшные. Она была честна перед собой, и потому четко знала, что все ее честолюбивые устремления превратились в прах, развеянный уже по ветру, и вопрос идет о собственной жизни.
Но надежда оставалась — она искренне верила в предсказание старого садовника, сказанное ей еще в детстве. Многое уже сбылось, и то, что она станет русской императрицей, а многому еще предстоит свершиться — и дожить до восьмидесяти шести лет. Но предсказание предсказанием, а сейчас на душе было больно и муторно.
Старый Живодер перехитрил ее и овладел обманом Петербургом. Но то, что наследник оказался в его руках, было трагедией. В участи сына она не сомневалась — ей он уже вряд ли достанется. А если Миних решится на злое, то и остановить его никто не сможет.
Но надежда есть — если гвардия победит, а император будет захвачен или убит, то Миних может пойти на попятную. Однако на победу Панина и Суворова над Петром Федоровичем она уже мало надеялась — если бы хоть малый успех был, то ее давно с гонцом уведомили, а раз генералы молчат, как в рот воды набрали, то стоит предполагать худшее.
— Не печалься, Като, — Дашкова обняла ее за плечи, — я тебе одну тайну поведаю. Сегодня ночью или под утро твоего беспокойного мужа не станет. Я обещаю. Меры мы заранее приняли — зачем воевать?! Если можно все тихо проделать. Помнишь его «похороны»?
Екатерина Алексеевна чуть кивнула Дашковой, а княгиня зашептала ей прямо в ухо:
— Ничто не потеряно, он обязательно умрет. Отраву уже подсыпали, то Панин с Разумовским сделали!
О своей роли она промолчала. Ведь общаться с отравительницей дело тяжкое, особенно для императрицы. Так и будет думать постоянно, что и ей в один прекрасный день кто-то сможет смертельного яда бокал поднести…
— Даже если гвардия наша разгромлена, ничего страшного не будет. Нам бы эту ночь продержаться, а завтра его генералы на коленях пощаду себе вымаливать будут…
Договорить Дашкова не успела. Во дворе загремели выстрелы, одна из пуль попала в окно их комнаты, и стекло разлетелось в кусочки. А на дворе раздался дикий выкрик:
— К бою! Голштинцы скачут…
Гостилицы
— Государь, солдаты тут весь вечер наперебой рассказывали, что храбрости в бою вы просто невероятной, более полусотни изменников своею рукой насмерть сразили…
— Глупости болтают, ты не слушай. Десяток я убил, не больше. И гордиться, Машенька, мне нечем — то русские люди были. И не злодеи они, обманом их за изменниками повели. Тут плакать надобно, ведь русские русских убивают. А народ наш лучшей участи достоин, а их вместе с собаками баре продают наравне, да мучительства невинным творят. Эх, Маша, что и говорить — не о народе они заботу имеют. Супротив таких воюю я сейчас, с войсками верными, за жизнь лучшую…
А сам тихо млел от счастья: «Боже ты мой, какими лучистыми стали ее глаза, смотрит с обожанием, неужто сердце девичье зацепил комсомольской речью. И слезы появились на прекрасных глазах, а руки то его тела чуть коснутся, то в страхе от подобной вольности в сторону сразу убираются. Милая, как мало для обычного человеческого счастья надо!»
И Петр не удержал себя, взял в ладони ее прекрасное лицо и нежно, очень нежно поцеловал. Маша ему чуть ответила своими теплыми губами — неумело, скованно.
А он осторожно убрал пальцами простыню и стал целовать ее обнажившуюся грудь. И тут Машу прорвало — она прижала его голову, а голос стал хриплым, требовательным:
— Все делай со мной, государь, все, что захочешь, делай! Я хочу этого! Ты у меня первый…
Но сдержал себя Петр — бережно окунул девушку в водопад ласки, был неутомим, искателен и нежен. Он по сантиметру исследовал ее тугое и прекрасное тело, перецеловал все родинки, выпил губами все слезинки. И вскоре смешалось — и стук их сердец, и болезненный стон Маши, и ликующий крик Петра. И завертелось, и запылала в теле страсть…
И вскоре утихло, и сержант прилег рядом с Машей на бок, лаская ее пальцами и губами. Потом встал, у стола попил воды, налил стакан девушке, повернулся к ней и застыл.
Между девичьих ног на простыне было небольшое красное пятнышко, и Петр преисполнился нежностью — Маша стала первой в его жизни девушкой, безропотно и нежно подарившей ему свою девственность.
И они еще долго лежали в постели, ласкались и миловались. И странное дело — похоть его совсем не трогала, только нежность и участие…
Петр встал и, как был, обнаженный, подошел к большому зеркалу. Тело, конечно, хиленькое в сравнении с тем, что у него было в той жизни. Но царапинами уже изрядно покрыто — шрамы боевые будут…
И тут он вздрогнул — прямо в центре груди было крестообразное пятнышко. Там, где жгло во сне. Петр лихорадочно просмотрел другие участки — над бровью и переносицей подобные пятна, там, где кулак и трость Петра Алексеевича прошлись. И на правом бедре такое же пятнышко осталось от удара шпаги шведского «деда», и на груди, ниже соска, еще два подобных малых пятна. И узкая полоска такого же цвета на шее…
— Так то не сон был, в тот первый день, — еле слышно прошептал потрясенный Петр, — меня на самом деле убивали. А шраматый — это же вылитый Алехан. Значит, то была Ропша, пятого июля, когда прежнего задушили и вилкой ткнули. Только я в его шкуру попал, и меня того… А потом восемь дней назад отмотали, как пленку, и живьем в шкуру чужую засунули. Не совсем это сон был. Да и сон ли?
Петр присел на кровать, обхватил голову руками, крепко сжал виски ладонями и погрузился в размышления…
Нарцисс одел его в белье и просторный теплый халат с поясом, а Маша уже была одета — в рубашку и сарафан, подвязавшись платочком. Понимала девочка, что есть для него и дела государственные, неотложные.
Верный арап уже сунул ему в ладонь коробочку и тяжелый мешочек. В последнем, судя по весу, были деньги. Открыв коробочку, Петр увидел в ней небольшие сережки и колечко с камушками. Но видно — подарок не слишком дорогой, хотя и из золота.
Петр от злости чуть не врезал арапу между глаз — надо же, чистое Машино сердце оплачивать плохеньким золотишком черная морда решила. Но, чуть подумав, отказался, у него появилось несколько иное решение…
— Вот что, Машенька. Дяде скажи, что через три дня в Петергоф уедешь, царю служить. При мне будешь, а годы пройдут, а может и раньше, я твою жизнь обеспечу. Захочешь, так мужа тебе найду хорошего, приданым обеспечу. Как хочешь, так и поступай. Приедешь, лада?
— Приеду, государь.
— Вот и хорошо, жди, людей отправлю за тобой сразу, как с этой войной закончим. Вот, возьми деньги, купи для себя нужное!
Он почти силой вручил ей кошелек, затем протянул девушке открытую коробочку. Колечко сам ей надел на пальчик, а сережки оставил.
— А это подарок, одевай их всегда, мне на них приятно смотреть будет. Напоминанием постоянным об этом дне тебе будут, солнышко мое. Дай я тебя поцелую!
Проводив Машеньку, Петр решил наказать своего преданного, но не в меру инициативного арапа.
— Слушай, Нарцисс, а ты в бане парился?
— Нет еще, государь, но там жарко, хорошо, тепло, как дома. Здесь-то что? Две зимы — белая и зеленая… — Нарцисс шмыгнул носом.
«Ну, будет тебе сейчас и пустыня, и верблюдов караван!» — мстительно решил про себя Петр, открыл дверь и крикнул:
— Двух казаков сюда, к бане привычных!
Не прошло и минуты, как адъютант впустил в предбанник двух здоровенных бородачей его конвоя.
— Слушай приказ, донцы! Видите арапа? Он аж почернел от грязи. Отмыть, пропарить хорошенько, чтоб белым и пушистым стал. Что нужно еще? Водки там, разносолов и пива, у адъютанта без меры брать можете, только скажите. Все ясно?
— Есть! — тут же отозвался адъютант, а казаки нехорошо так заулыбались ничего еще не подозревающему арапу, заурчали плотоядно:
— Отмоем нехристя, царь-батюшка, сил не пожалеем, щелока, золы и веников. Послужим тебе хорошо, государь. Грязен телом он зело, почернел весь без бани. Чистым войдет в царствие небесное, когда срок настанет…
Петербург
К вечеру Миних подсчитал потери — у десанта они были ничтожны, а вот народу погибло более трех тысяч человек. Почти целиком уничтожили гвардейские роты измайловцев, кавалергардов и лейб-кампанцев, вырезали половину сенаторов, под горячую руку истребили несколько десятков клевретов Екатерины, перестреляли и перекололи треть гарнизона Петропавловки — но тех уже в горячке порешили. Часть праздношатающегося народа полегла на набережной от картечи, еще сотня жизней угасла в спонтанном погроме.
Погиб и наследник престола, а графиню Панину, оскорблявшую императора и матросов, пойманную на улице, хотели всем скопом прилюдно до смерти изнасиловать, но офицеры подоспели, вырвали добычу из похотливых рук и посадили, для ее же безопасности, под крепкий караул.
Вот только спросить ее о многих вещах нельзя было — от истерики дама в безумие впала, и Миних решил ее пока в покое оставить под неусыпным наблюдением лекарей.
Фельдмаршал тут же приказал начать розыск в столице. Его главой назначил чиновника из упраздненной Тайной канцелярии, Степана Шешковского, а характеризовал его как человека верного и «въедливого, особо к врагам государевым».
И полилась кровь, весело защелкали по голым спинам заскучавшие было кнуты в умелых руках опухших от безделья палачей. Заскрипела, к ужасу пытаемых, дыба — Миних новоявленного «Торквемаду» в средствах не ограничивал, широко пользуясь царской грамотой, но результата и истины требовал достичь любой ценой.
И Степан Шешковский очень старался заслужить одобрение старого Живодера — подследственные не выдерживали жестоких истязаний и поведали много интересного.
Особенно Миниха интересовали две вещи. Во-первых, кому в действительности принадлежала идея действа, разыгранного в самую первую ночь переворота, когда по столице ходил траурный кортеж с гробом, и, как на царских похоронах, впереди ехал всадник в черных латах, держа внизу перевернутый факел.
Эта процессия вызвала долгие пересуды в народе — говорили, что императора Петра Федоровича уже умертвили и престол царский освободился для его супруги. Вот только спросить саму ее пока было нельзя — императрица с княгиней Дашковой в бегах находились.
Еще была новость, косвенно связанная с тем событием, — в большом саквояже лейб-хирурга Екатерины англичанина Поульсена обнаружили инструменты и материалы для бальзамирования. И сразу у фельдмаршала возник законный вопрос: «Так кого ты, падла, мумифицировать собирался?»
Вот только медик, этакий паскуда, куда-то надежно испарился, и сейчас в Петербурге был начат грандиозный поиск по его поимке.
Во-вторых, необходимо было срочно установить, кто реально принадлежал к кругу заговорщиков, исключая всю ту шелупонь, которая, как дерьмо в проруби всколыхнувшись, хлынула присягать императрице. Не мешало выявить и сочувствующих, «не тех, кто, не подумавши, скажет, а тех, кто, не сказавши, подумает».
Отделавшись от не очень приятных сыскных дел, старый фельдмаршал, отправив еще вечером гонца к императору в Гостилицы, решил в ночь пойти походом на Петергоф с изрядным воинством: тремя батальонами морской пехоты и гарнизонных солдат, а также со спешно собранной с бору по сосенке кавалерией — двумя ротами драгун и ротой гусаров, и с полудюжиной пушек для поддержки. А морем должны были галеры с десантом отправиться…
«Красный кабачок»
Не заладился день с утра у Степана Злобина. Сначала лошадь копытом ступню отдавила, а затем он сам на себя котелок кипятка нечаянно вылил.
В полном расстройстве чувств Степан не подтянул подпругу, и, когда весь его эскадрон в атаку на измайловцев пошел, солдат вместе с седлом с лошади на полном скаку и сверзился, как мокрогубый рекрут. За что и получил нахлобучку от поручика.
Но страшным было другое — в дневном бою гвардеец штыком заколол друга старого, и потому не мог себя простить Степан. Винил себя в погибели Феди Мокшина — ведь его место в строю рядом было, мог бы прикрыть или палашом гвардейца рубануть. Но не судьба…
И ко второму бою, под Дьяконово, не успел. Только подошли, а там все закончилось. Помогли драгунам Румянцева разбежавшихся гвардейцев ловить да веревками связывать. А потом четыре эскадрона полка в разные стороны веером направили, от Ораниенбаума до «Красного кабачка». В последнее место ему доля выпала ехать. Отряд немалый — два десятка голштинских драгун, и от эскадрона три десятка. Шли победно, кто ж знал, что их ждет…
У трактира застали две кареты и три десятка конногвардейцев в красных супервестах с нашитыми Андреевскими звездами. Такую форму Степан ранее видел на лейб-кампанцах, но они-то упразднены императором были, что все прекрасно знали. Поручик и решил посмотреть это чудо вблизи, и подъехали к ним на пистолетный выстрел.
Вот тут-то все и разъяснилось — это оказались кавалергарды из конвоя императрицы, и голштинцы немедленно обнажили палаши и устремились в атаку. За ними поскакали и драгуны его капральства, ну и Степан вместе с ними. Началась стрельба…
Как он в трактир попал, Степан плохо помнил — после удара палашом по многострадальной голове вряд ли что припомнишь. Но одно было ясным драгуну — его отряд вырубили подчистую, а оставшиеся в живых попытались укрепиться в здании. Да здесь все и погибли.
Кавалергардов больше сотни оказалось, и на втором этаже еще десятка два — они и ударили в спину драгунам. Только Степану повезло — он отполз за лестницу, а служанка с испуганными глазами пожалела солдата — набросила на него дерюгу да лавку тяжелую надвинула. Вот так и уцелел Степан и сейчас тихо лежал и мог только слушать.
— Ваше величество, вам надо подняться наверх…
— Нет, мой поручик, — женский голос с немецким акцентом твердо отрезал, — я хочу знать правда. Я слышала, о чем вы говорили меж собой, и я хочу спросить — это есть правда?
— Да, ваше величество, — мужской голос ответил не менее твердо. — Ваш сын, наследник престола Павел Петрович, убит картечью на набережной. Я не мог унести его тело — матросы начали высадку. Простите, государыня…
— Уйдите все! — затопали ботфорты, чуть скрипнула дверь, и плач, тихий женский плач.
— Като, Като! Не все потеряно. Императора сегодня отравят, и мы будем спасены. А ты так и останешься императрицей! — а это раздался другой женский голос, и Степан похолодел — только сейчас несчастный драгун осознал, в какую скверную передрягу он попал. Если его обнаружат, то глотку сразу перережут — подобные секреты для чужих ушей не предназначаются.
— А что гвардия разгромлена, то ничего страшного. Нам надо в Петергоф ехать, немедленно. Там Григорий, он защитит до утра…
— Наследник же погиб…
— У тебя второй сын есть. Придумаем что-нибудь. Сенаторы что угодно признают, лишь бы от Миниха избавиться. Едем быстрее, Като!
— Да, да, едем…
Под пыльной дерюгой Степан пролежал больше часа, почти потеряв сознание. Но вот кто-то ее откинул, и драгун глотнул свежего воздуха всей грудью. Над ним склонился хозяин.
— Служивый! Я тебе лошадь заседлал. Скачи в Гостилицы, предупреди государя-батюшку, что его супруга в Петергофе намерена спрятаться. Скачи, служивый, я тебе в сумку еды и вина положил. И палаш тебе привесил. Все передай в точности. Я императору Петру Федоровичу верный раб…
Гостилицы
Оставив верного Нарцисса в надежных казачьих руках, Петр поднялся к себе в опочивальню, где его ждали знакомые женские фигурки в крайне легкомысленных пеньюарах — розовом и белом.
И щедро накрытый к ужину столик, на этот раз украшенный тремя бутылками французского вина. Петр понятия не имел ни о его названии, ни о его крепости, но доверился заверению лейб-медика, что вино отличное и дам свалит с ног стопроцентно.
Этот коварный замысел должен был освободить Петра от исполнения постельных обязанностей, но под предлогом благовидным. Что делать, если не лежала у него к ним душа, а от слова отказаться нельзя — ибо всем известно, что оно дороже алмазов должно цениться. Вот и пришлось к плану такому прибегнуть, коварному…
Петр собственноручно налил фрейлинам в большие бокалы вина и, исходя из принципа — «Ты царя уважаешь?! Тогда пей!», влил в них немало, грамм по триста. Сам лишь ветчины чуть поел, а дамы уговорили еще по бокалу, и их стало потихоньку развозить.
Но тут в раскрытое окно донеслись отчаянные крики казаков:
— Митрофана и Кузьму в баню на помощь — арап отмываться не хочет, кусается, паршивец!
Петр заржал, громко засмеялись и дамы. Веселье только вошло в разгар, как адъютант открыл дверь и доложил:
— Из Нарвы гонец. Прибыл из Кронштадта с письмом от графини Елизаветы Романовны Воронцовой.
Вскочивший было Петр — он с нетерпением ждал письма от Миниха, с нескрываемым огорчением сел и махнул рукой:
— Письмо давай, а гонца попозже приму.
Адъютант тут же вручил ему в руки письмо и другое протянул, свернутое трубочкой. Петр собственноручно вскрыл письмо, но читать не стал, а передал Наталье:
— Читай письмо с выражением, узнаем, что толстуха нам пишет. Соскучились по ней изрядно, — и все засмеялись.
Фрейлина постаралась и с самыми похабными жестами и примечаниями так прочитала письмо, что Петр чуть не помер от смеха. Ничего интересного не было — обычный женский треп с соплями, любовь-морковь.
Самое интересное промелькнуло в конце — сестра Лизы, княгиня Катя Дашкова, передала ей письмо императрицы Екатерины для вручения в руки царственному супругу, то есть ему. Петр захихикал и сделал фрейлине нетерпеливый знак — читай и это послание.
Наталья вытащила письмо из футляра, то было свернуто трубочкой и без печати, и с такими же ужимками прочитала. Петр продолжал веселиться — Катька униженно просила мира. Молила его и клялась, что не виновата она, верной женой будет, хоть по пять раз на дню согласна зачинать ребенка, как с Лизой. И против Лизы супруга не возражает — живи, государь, как в гареме, только прости меня, несчастную…
Слезливое такое письмецо, чует кошка, чье мясо съела. А фрейлины не унялись — с похабными улыбочками пьяные дамочки осведомились, что с письмецами сделать.
Петр чисто по-русски отправил туда, куда русские обычно спьяну и посылают. Однако девицы не смутились, и свернутые фаллосами трубочки писем, сопровождаемые похотливыми стонами и ужимками, отправились по назначению. Петр охренел от неожиданности.
В дупель окривевшие Наташа и Клара трудились в поте лица, подбадривали друг дружку и обменивались «информацией».
Со двора донеслись крики:
— Да никак упарились, сердечные!
Петр пожалел о своей шутке с Нарциссом и велел дамам ложиться без него, не ждать. Сам же с нескрываемым облегчением вырвался из комнаты и, решив туда больше не возвращаться, быстро вышел на двор.
А там был тихий ужас — два голых казака отливали ведрами с ледяной водой бедолагу Нарцисса и двух бородачей. Вся троица скромно улеглась на досках и тихо постанывала. От сердца чуть отлегло — живы! И Петр вошел в предбанник — батальная картина, маслом с кляксами писана, прямо слово.
Обглоданные кости и разбросанные везде ломти ветчины, полведра малосольных огурцов и три бутыли, литра по два каждая, одна начатая, а две законченные — и не вино, а водка. Петр сплюнул — так вот что свалило с ног молодцов, и вышел обратно на двор.
Бедолага Нарцисс там уже очухался — из черного стал чернично-синим, а белки глаз поражали своей белизной и необычайной широтой. Бедный арап с ужасом глядел на своих недавних мучителей.
Петр хмыкнул, но обласкал добрым словом беднягу и отправил его спать. Казаков же спрашивать было не о чем — трудились они рьяно и, кроме бутылок с водкой, изнахратили таз с золой и целую груду веников — дубовых, осиновых и березовых.
И были зело покусаны и исцарапаны — но Нарциссу увечий не нанесли, берегли царскую собственность, только обезболивающее в больших объемах за воротник залили, под завязку.
Голштинцы из русских и трезвые казаки потихоньку посмеивались, но в глазах была такая жуткая зависть, что Петра проняло — будь им такая задача поставлена, да с таким внушительным объемом обезболивающего, то беднягу Нарцисса затерли бы до дыр, до самой белизны скелета…
Потом последовал разговор с гонцом. Ничего нового тот не сказал о готовящимся десанте в Петербург. И пусть новостей не было, но Петр наградил гонца следующим чином, велел адъютантам его накормить и уложить служивого почивать в мягкую постель.
А сам отправился спать в баню — Маша и две девушки там уже убрались, а адъютант, приказ заранее получив, слугу с ужином направил.
Зайдя, Петр заметил, что Машенька окровавленную простынку свернула и под сарафан спрятала. И только сержант захотел с Машей наедине остаться, как адъютант громко доложил, открыв дверь предбанника:
— Гонцы из Петербурга, от фельдмаршала Миниха!
И тут же, громко топая сапогами, зашел запыленный угрюмый офицер, козырнул двумя пальцами и печальным жестом вручил пакет. Петр поднял глаза на усталого гонца — тот склонил голову, ожидая царского гнева, ведь победа, конечно, хорошо, но за наследника престола голову император снять может. Петр же, натянув на лицо хмурую маску, жестом отправил гонца, но, одарив его на прощание чином, приказал накормить и спать уложить.
Переспрашивать не стал — письмо подлинное, с поклонами от Елизаветы Романовны, с секретной закорючкой на пятой и седьмой строчках, да со знакомой размашистой подписью.
Взглянул на часы — почти одиннадцать вечера. И вызвал в предбанник на экстренное совещание свой генералитет — начальников пехоты, кавалерии и штаба.
Через пять минут, повинуясь приказному жесту императора, генералы Гудович, Ливен и Измайлов расселись по креслам, но на спинки не откидывались, а сидели на краешках, столбиками…
— Итак, господа, с мятежниками покончено. Их остатки собрались в Петергофе. Императрица с княгиней Дашковой, по всей видимости, тоже туда бежали. Вот письмо от фельдмаршала Миниха. Андрей Васильевич, читай всем, — и он отдал письмо Гудовичу.
Пока генерал читал, все присутствующие оживились, на лицах выступила нескрываемая радость. Но улыбки прятали — косо смотрели на Петра, но с пониманием, что его величество не проявляет должной скорби по погибшему наследнику престола, который и капли отцовской крови в своих жилах не имел. И какая уж тут скорбь, когда приблудная немка такой мятеж устроила в столице, хоть всех святых выноси…
— И каково твое мнение? — решительно обратился Петр к Гудовичу, нарушив царящее молчание.
— Ваше величество, боя не будет. Солдаты мятежников драться не будут, им уже все известно. А преображенцы опамятуются, ведь сегодня их гренадеры сами перешли на сторону вашего величества. Остаются измайловцы и конногвардейцы, а умирать от штыков преображенцев они не захотят. Так что завтра поутру у мятежников шатания повсеместно пойдут, а к обеду или раньше они повинную вашему императорскому величеству принесут, и всю головку изменников, всех заправил сами выдадут. А боя не будет. Нет, не будет!
Над категорическим заявлением генерал-адъютанта Гудовича подумали минутку. И Петр, и генералы пришли к выводу, что он прав — боя не будет.
Вот только мелькнувшая на секунду гримаса на лице генерал-адъютанта заставила Петра призадуматься — было еще второе решение у мятежников, но вот Гудович почему-то озвучивать его не стал, а лишь задумчиво посмотрел на императора.
Нехорошо так посмотрел, как взрослые на расшалившегося ребенка смотрят — как бы все ножи и вилки убрать от греха подальше, на углы столов войлочные нашлепки надеть, а розетки отключить.
Военный совет продолжался недолго — все пришли к пониманию необходимости двинуть войска на Петергоф и соединиться там с фельдмаршалом Минихом. Четыре часа отвели генералы на сборы и прием пищи, а выступление назначили через три часа после полуночи.
Но не успели генералы разойтись отдыхать по постелям, как дежурный офицер негромко доложил о прибытии из Пскова пяти казачьих сотен на совершенно заморенных лошадях. Генерал Гудович, получив молчаливое согласие от Петра, немедленно отдал приказ отдыхать прибывшим казакам до утра, завтракать, а затем идти вслед армии.
Однако новости пошли косяком — из Ораниенбаума прибыл морской офицер с донесением от командора Спиридова. Петр вышел из предбанника — во дворе крутились всадники. С ними был морской офицер, сидевший на казацкой лошади, как собака на заборе, причем в стельку пьяная собака.
Но вот смешков на этот счет не было — мундир моряка был изорван, все белое стало серым от копоти, голова обвязана окровавленной тряпицей. Петр с трудом узнал в этом ранее щеголеватом офицере одного из адъютантов Спиридова. Моряк откозырял императору и молча протянул пакет.
Петр прочитал послание, восторженно покрутил головой, мысленно восхитился: «Брестская крепость, мать вашу!»
И тут же написал ответное письмо контр-адмиралу Спиридову, произведя его так в новый чин, с обещанием царских милостей гарнизону за отвагу и, щедро наградив морского офицера следующим званием, отправил того обратно в Ораниенбаум.
На этом генералы разошлись с вечернего совета, а Петр прилег на кровать, решив поспать часик до очередного ночного бдения. Идти к пьяным фрейлинам ему категорически не хотелось — светские шлюшонки уже надоели ему до тошноты.
Он быстро скинул халат, забрался под пуховое одеяло и уснул. И не заметил, как из парной вышла Маша, выпила кваса из бокала, что стоял на столике, прилегла с ним рядом на кровати и, утирая слезы, начала легонько гладить ему волосы…
ДЕНЬ ПЯТЫЙ 1 июля 1762 года
Гостилицы
Петр увидел ночной город. Он с удивлением, как будто впервые, разглядывал скрытые ночным сумраком и припорошенные снегом фасады зданий. Знакомые, родные сердцу силуэты согревали душу.
Петр радостно внимал окружающие звуки и запахи: звон припозднившихся трамваев, далекий, еле уловимый перестук колес, доносившийся от железнодорожного вокзала с другого берега Ангары, клаксоны автомобилей, миазмы горящей мусорки и выхлопных газов, не выветривавшиеся даже ночью. Словом, дыхание города.
Под ногами ветер разносил обрывки целлофана, бумагу, обертки от чего-то съестного, цветные пластиковые пакеты. Пнув пустую пивную бутылку, Петр оглядел знакомую подворотню.
«Ничего не было? Это только сон? Я видел дурацкий, такой похожий на явь сон! Я просто шел, шел и… И мне показалось, что я что-то видел?»
Очередной, особенно злой и холодный, порыв ветра бросил в лицо горсть снега, и Петр вдруг понял, что ему холодно.
Шапки и куртки на нем не было. Обернувшись, он увидел их там же, где и сбросил. На снегу были следы борьбы, валялась оброненная перчатка, тускло поблескивал лезвием так и не поднятый бандитский нож. Самих гопников не было, видимо, уже очухались и успели уползти.
Петр медленно поднял шапку, отряхнул ее от уже порядкам набившегося снега. Голова соображала медленно, вроде бы и не болела, только было состояние какой-то оглушенности.
«Я, может быть, пропустил плюху?» — потерев лоб, он стал натягивать куртку, не сразу попав в рукава.
Накинутый капюшон одарил щедрой порцией снега, потекшего за воротник холодными ручейками. Полегчало. Сплюнул на снег, крови не было. Приподняв сумку, приветливо звякнувшую в ответ, Петр уже собрался уходить, как вдруг внезапно, словно по наитию, обернулся.
В проеме арки в тусклом свете фонаря он разглядел очертания фигуры, показавшиеся Петру знакомыми.
«Это же она!»
Так и не поднятая сумка жалобно дзынькнула вдогонку, но Петр этого уже не слышал. В пять прыжков он преодолел дорогу и влетел в арку.
— Ты тогда не послушал меня? — женщина смотрела на него с немой укоризной.
— Так это был не сон? — Петр взволнованно дышал, все еще не веря своим глазам.
— Нет. Ты сделал свой выбор! — женщина вплотную приблизилась к Петру и пристально взглянула ему в глаза.
— Опять выбор?! Да что вы заладили со своим выборам! Император, заговор, сражения, смерть, кровь! Это все сон, я спрашиваю?! — он кричал ей в лицо. — Это был не сон!!! Я видел смерть, сам, ты понимаешь, сам убивал! И ты говоришь про какой-то выбор? Это не мой выбор! Этого я не выбирал! Я не хотел! — Петр с силой сжал ладонями виски и опустился на снег. — Да какой, к черту, выбор! Кто меня спрашивал, кто объяснял! Я не хочу! Не хочу-у-у!!!
Захлестнувшая его ярость заставляла хрипеть, скулить, выть, но не отпускала горло, сжимала стальными тисками, разрывала когтями сердце, сжигала дотла душу.
— Они погибли, отдали свои жизни за него, настоящего, а не за меня! Это он был виноват в том, что произошло, он, он… Он допустил все это! А я сделал, что мог, но все равно ничего не исправишь, не вернешь, и никого не воскресишь!
— Нет, мой мальчик! — Рука легла ему на плечо. — Ты сделал все правильно! Да, погибли люди, были боль и страдания, но кто тебе сказал, что все в жизни бывает просто и легко? Даже ребенок, когда рождается, должен пройти через боль к свету, к новой жизни! То, что ты создал… Пойми же! В запаршивевшем стаде волки режут больных, запомни, больных и слабых овец, чтобы здоровые смогли жить и размножаться без опаски…
— Да какой я волк? Это они волки, звери… — Петр горько ухмыльнулся. Он протянул ей свои ладони, подставив их под тусклый свет фонаря: — Посмотри, где ты все это увидела? Ну же, отвечай!
— Это его линии, твоя же судьба другая. Когда ты осознаешь свой путь, его линии изменятся и станут твоими. Ты сам пишешь свою судьбу…
На мгновение ее голос пропал, и Петр услышал отголоски боя, он вновь уловил запах пороховой гари, сладкий, дурманящий аромат смерти, услышал выстрелы, крики, стоны, ржание, с содроганием ощутил внутренний животный страх и отчаянно замотал головой, отгоняя наваждение.
— Ты можешь все изменить! Хочешь?
— Но как?!
— Вспомни! Выбери другую дорогу, иди в другую сторону — и ты вернешься. Ты уже вернулся — посмотри вокруг!
Петр оглядывался по сторонам: грязная арка, снег, дома, дорога…
— Я не могу. — Он опустил голову.
— Почему? Ты же так этого хочешь!
— А как же они? Я повел их, они мне поверили! Я не могу их бросить! А Маша? Что с ней будет? Она же ждет меня… А здесь меня никто не ждет… Батя помер давно, а маму вообще не помню. И ничего не держит… Я здесь никому не нужен!!!
— Тогда иди к ним. Да, они в тебя поверили. Поверь же и ты в себя. И иди! Но ты уже никогда не сможешь вернуться! — она говорила, но Петр видел только ее глаза.
В них он видел то, в чем так боялся признаться себе — страх поддаться слабости, бросить все, отказаться, вернуться, забыть.
Петр резко, не говоря ни слова, повернулся и зашагал прочь.
— Бедный мальчик… Но ты теперь уже не мальчик! Ты выбрал свою дорогу и свою судьбу! Пролитая тобой кровь не последняя, далеко не последняя… Только ты не удержишь того, кого так сильно стремишься удержать! Ты еще многих, кто дорог тебе, потеряешь, и сам смерти в лицо не раз взглянешь… — она говорила вслед стремительно удаляющемуся Петру, но он, шагая навстречу тому, что только что мог потерять навсегда, не слышал ее.
Последние слова она произносила уже шепотом, их сорвал ветер и понес поземкой по ночному городу. Белый снег и холод…
А Петр шел и шел, не разбирая дороги и не узнавая город. Только бок холодило все больше и больше. И вой собаки… И необъяснимый холод…
— У-у-у! — Собачий вой выдернул Петра из сновидения. В первую секунду он не мог понять, где он. Что-то сильно холодило его левый бок, и он отодвинулся к краю постели. Посмотрел туда…
Это была Маша — ее ледяная рука, ее холодная кожа. Даже сквозь сумрак ночи была видна навечно застывшая синева в ее остекленевших глазах. Петр сглотнул, и этот рефлекс подавил в груди рвущийся наружу крик.
Он видел много смертей, и еще одна не могла его напугать, только остро резануло по бьющемуся сердцу. Петр застонал, глухо, с болью.
— Ты права, ведьма! За все надо платить! — Петр чуть коснулся губами лба девушки и, надавив пальцами, закрыл глаза.
Всего несколько часов назад он ласкал ее молодое горячее тело, любовался ею, строил планы — и все перечеркнуто, смертью перечеркнуто…
— Государь! Измена! — Дверь хлопнула, и в предбанник влетели казаки с офицерами. Дрожащий свет пламени одинокой свечи осветил комнату, и он вырвался из омута забвения. Его обхватили несколько горячих рук…
— Что с вами, ваше величество? Вам плохо?
Петр сфокусировал, наконец, зрение — его бережно ощупывал дрожащими руками лейб-медик. От волнения он забыл русский язык и перешел на родной немецкий. Но укорять его Петр не стал — в преданности врача он не сомневался, а сомневался лишь в квалификации. Не достигла еще медицина нужных высот…
— Со мной все в порядке! — негромко сказал Петр и затвердел скулами. — А кто ей теперь поможет?!
Медик как-то по-собачьи очень долго обнюхивал бокал и кувшин с квасом, потом нагнулся над телом Маши. Минуты три немец нюхал, касался пальцами, наконец встал.
— Это яд, ваше величество. Ее отравили. Вернее, хотели вас отравить, государь, но девушка вместо вас выпила квас перед сном. Вы же не пили из бокала?!
— Нет, слава господу, не довелось.
— Я не разбираюсь в ядах, государь, но мыслю, что от него и слуга кухонный помер, что кувшин вам сюда принес. Его казаки узнали, ваше императорское величество. И сразу к вам кинулись. А вот фрейлины ваши от другого яда умерли…
— Что?! — взревел Петр и схватил медика за грудки. — Когда?! Рассказывай же, все что знаешь, говори! Душу выну!
— Четверть часа назад, государь! — Медик преданно смотрел в глаза императора, даже не думая освобождаться. — Позвольте, я вам все расскажу…
Петр опамятовался, отпустил медика, имени которого так и не удосужился узнать, все недосуг было. Страха перед возможным отравлением уже не стало, а вот злоба бурлила, но холодная, расчетливая.
— Фрейлины ваши скончались во сне, от дыма свечей горевших. Оные ядом пропитаны были, а так как окно они прикрыли, то отравленного воздуха надышались. Спали крепко, не почувствовали ничего…
— Это я их убил, я виновен… Боже мой! Если бы не напоил их, не велел спать в моей комнате, то они живы были бы…
— И еще одно, государь. Вы слышали историю с отравлением польского короля Владислава?
— Запамятовал. Но послушаю…
— Его много раз недовольные магнаты пытались убить или отравить. Но короля берегла судьба…
— Скорее охрана и удача, а также предусмотрительность.
— Вы правы, ваше величество. Но у короля была любовница, преданная ему. Но она хотела ребенка, и тогда ей предложили мазь для быстрого зачатия. Дама ввела ее вовнутрь лона…
— И что, мой эскулап?
— Король Владислав, ваше величество, таким образом был отравлен. Мазь была ядовитой, и он получил ее от женщины в момент зачатия…
— И что ты имеешь в виду? — с настороженностью спросил Петр.
Медик выразительно покосился в сторону охраны. Петр понял и выразительным жестом отправил конвойных за дверь. Те молча повиновались и быстро вышли из предбанника, плотно затворив дверь.
— Я их чуть осмотрел и сразу побежал к вам, государь. У обоих дам лоно усыпано красными язвочками. И анус тоже…
— Что? Что?
— Анальный, сиречь задний проход. И руки…
— Ну ни хрена себе?! А чем это?
— Надо внимательно осмотреть вашу спальню и их комнату. Может, нам эти отравленные вещи попадутся…
— Смотри немедленно. Но осторожно. Не дай бог сам подцепишь заразу… Постой! — он вскочил с постели и, не замечая своей наготы, прошелся по ковру. — Я знаю, что это было. Письмо от моей супруги. Они засовывали его себе… Ну, ты понимаешь, куда. И в руках держали, когда мне читали. Охрана! Ко мне!
Не успел затихнуть крик Петра, как дверь настежь распахнулась и через нее ломанулись казаки с обнаженными саблями. Петр еле успел прикрыть медика, а то ему, бедному, досталось бы по первое число…
— Гонца из Кронштадта взять под арест немедля. Одежду снять с него всю, осторожно. Перчатки или рукавицы оденьте. Выполнять!
Казаки стремительно бросились обратно, а Петр повернулся к медику и отрывисто приказал:
— Поднимешься ко мне в спальню. Там два письма лежат — одно развернутое, другое трубочкой. Последнее, мыслю, отравленное. Проверишь его на наличие яда, запечатаешь в футляр. И отдай на сохранение Девиеру, под охрану. Здесь все прибрать. Убиенных в церковь, отпеть как должно. Они на себя смерть лютую, мне врагами моими предназначенную, приняли… — Петр свирепо обернулся к адъютантам: — Одеться! Быстро! Генералов Гудовича и Девиера позвать сюда, немедленно…
Хоть и лето, но прохладно. Однако оборачиваться в одеяло он не стал. Дрожащими пальцами закурил от свечи папиросу и ушел в парную. Там было еще тепло. Петр уселся на полку, в несколько затяжек выкурил папиросу. Рыдания комком подкатили к горлу — он вспомнил, как несколько часов назад мылся с Машей в бане…
Но он сдержался. Лишь поскреб пальцами стенку да смачно выругался, облегчив крепким словом душу.
— Это плата, плата за все! И за мою жизнь тоже…
Нарцисс словно чувствовал — зашел тихо и протянул закуренную папироску, затем протянул чашку с водкой.
— Казаки налили, ваше величество! — тихо объяснил верный арап. — Помянуть мученицу по казацкому обычаю.
Странно было услышать такие слова в устах арапа. Петр криво улыбнулся и залпом выпил водку, не почувствовав ни вкуса, ни запаха. И страха не было — казакам и Нарциссу он доверял полностью.
Камердинер через несколько минут принес охапку одежды, ловко облачил. Затем поклонился и открыл перед ним дверь. Петр, опираясь на трость, снова вышел в предбанник.
Надо отдать должное — десяти минут хватило, чтобы вынести тело, перестелить кровать и все убрать. От расставленных подсвечников с горящими свечами было светло. На столе фарфоровый кувшинчик с горячим кофе (и когда только подготовить удосужились — видно, еще вечером сварили и в печи держали), коробка с папиросами, хрустальная чашка, поставленная вместо пепельницы. Чистота и порядок…
А в качестве дополнительного интерьера в комнате застыли столбами Девиер с Гудовичем при полном параде. Петр подошел к столику, налил себе кофе, уселся в кресле и закурил папиросу. И лишь потом показал рукой на кресла — «садитесь, господа». Кофе предлагать не стал — во-первых, его в кувшинчике маловато будет, ну, а во-вторых, пусть генералы себя виновными хорошо прочувствуют.
— Докладывайте, генерал. Все, что узнали к этому часу! — совершенно спокойным, ровным, но ледяным голосом обратился император к Девиеру.
— Ваше величество, — за какие-то секунды лицо генерала смертельно побелело, он сразу просек, что обращение на «вы» не сулит ему ничего хорошего, — яд был подсыпан здесь, государь, в кувшин кваса, что для вашего питья предназначался. Действует сразу, за минуту-другую убивает. Кроме того, им был отравлен раковый биск…
— Что? Не понял.
— Заливное из раков в пармезане. Его вам на ужин подали в спальню. Двое слуг, что ваш стол накрывали, в своей каморке его съели вечером. Их сейчас только обнаружили. Остальные блюда и там, и здесь были чисты, без отравы в них подсыпанной…
А ведь точное слово — подсыпанной. Если на кухне работали с ядом, то многие блюда отравили бы, или бы в баню, когда он там мылся, принесли бы.
А что, разумно — от перегрева государь пятки отбросил. Впрочем, и в квасе ночном логика есть — ночью государь спит, и до утра охрана не спохватится.
Но биск-то еще вечером траванули, а квас много позже сюда принесли. Рисковая сволочь — ведь если бы отравление от этого чертова рачьего заливного вовремя обнаружили, то охрана была бы резко усилена, и номер с квасом уже бы не прошел. А если источник один, а ведра разные?
Петр встал из кресла, медленно прошелся по комнате, тщательно обдумывая внезапно появившуюся мысль.
Если травил кто-то на кухне, то должен был сразу в бега податься, ибо шерстить ее уже начали, если Девиер не лох. Это первый вариант. А со вторым труднее — кто-то из моих иудой стал и во время подачи блюд подсыпал, или даже прямо здесь, и в спальне.
— Надо, не мешкая, выявить тех слуг, что накрывали в бане и в опочивальне. — Петр посмотрел прямо в глаза Девиера. — И особенно из отравленных продуктов — квас и биск. Когда их принесли, и останавливал ли кто слуг, брал ли у них это. А если останавливал, то кто?
— Ваше величество! Слуга, который накрывал в спальне вчера и сегодня, исчез еще вечером. Сейчас его ищут везде. Генерал Гудович отдал приказ казакам. Со вторым я немедленно выяснять приступил, но мыслю, что отравился он по незнанию. Я в людской всех поднял и вопрос задал — так девчушка малая сразу сказала, что зрела, как Пахом, это имя его, перед тем как кувшин в баню отнести, отхлебнул из него. А из бани он на сеновал пошел да там сразу и помер. Лейб-медик говорит, что еще поздно вечером…
— А со свечами что?
— Хозяин божится, что не его свечи. Таких не держал. И не ясно, кто их в подсвечники поставил. Времени мало было для выяснения…
— Так идите, выясняйте. И каждого, кого заподозрите, под арест сажайте. И если надо, то с пристрастием их спрашивайте. Идите, время терять нельзя, — Петр отослал генерала.
Известно, что большинство преступлений раскручивают именно по горячим следам, когда события еще в памяти. А у любого преступления есть свидетели, главное — их вовремя отыскать…
— Простите, государь. Но это моя ошибка. Мне надо было настоять, чтобы мы не останавливались здесь — это вотчина старшего графа…
— Что вы морочите мне голову, генерал. Какого такого старшего брата? Объясните.
— Это же Гостилицы, ваше величество! — несколько удивленно сказал Гудович, будто Петр должен был знать, кто тут живет. — Вы, государь, наверное, запамятовали, но здесь имение графа Алексея Григорьевича Разумовского, старшего брата убитого вчера гетмана…
«Опаньки! Я в самый клоповник добровольно залез. Здесь же полно людей Разумовского, надо всего опасаться, с любой щели пакость вылезти сможет. То-то Гудович постоянно намеки делал, мне они странными показались. А ни хрена они не странные — он же меня убеждал ноги уносить с этого пристанища. Только я рогом уперся и не понимал. Значит, в резиденцию Разумовских попал».
— Андрей Васильевич, пригласите графа ко мне через час. Сошлитесь на форс-мажор. Если откажется, то арестовать и привести под караулом. И найдите слугу, что у меня в спальне был. Проверьте все, даже выгребные ямы, помойки и могилы.
— Государь, вы хотите сказать…
— Генерал, поймите одно — его надо найти любой ценой, живого или мертвого. Искать везде тщательно. Везде! Три часа вам срока. Берите солдат сколько надо. Кто его отыщет — в следующий чин произведу!
Петербург
— Так что же она вам ответила?
Простой вопрос прозвучал в очень непростой обстановке. Ведь, несмотря на ночную пору, жизнь здесь вовсю кипела и жгла, в прямом и переносном смыслах. Да и иначе быть не может в пыточных застенках, особенно в страдную пору для таких заведений.
— Жги! — негромко приказал молодой, трех дюжин лет своих еще не достигший, благообразный, худенький и невысокий мужичонка, тихо жуя просвирку — церковный хлебец.
Он был доволен жизнью, и со вчерашнего дня буквально горел на работе, почти не уделяя времени сну, еде и отдыху. Да и не мог новоявленный глава Тайной экспедиции Сената, волею грозного фельдмаршала Миниха на высокий пост вознесенный, и сенаторами поздно вечером утвержденный в сей должности, уделять внимание таким житейским мелочам.
Сейчас для Степана Ивановича Шешковского не было выхода — или он даст графу Бурхарду-Христофору правду о гвардейском заговоре, или сам будет в ничтожество обращен, как этот, вчера еще властный и надменный князь, для которого он, невзрачный чиновник, был подобен быдлу.
Повинуясь команде, мордастый и здоровенный, как дубовый шкаф, кат взмахнул кнутом. Взвизгнув в воздухе, кнут звучно впился в нежную кожу — кровь брызнула каплями во все стороны.
Истошный крик отразился на стенах — висящий на дыбе человек орал во все горло от жгучей боли. Однако мучения князя только продолжились — палач снова безжалостно ожег его кнутом со всей силы.
— Она сказала, что они хорошо к тому подготовились! — буквально вытолкала из горла слова жертва тайного сыска. А чего молчать-то — они сбежали, а ему отдувайся.
— Ну, вот и хорошо, ваше сиятельство, — голос Шешковского сплошное подобострастие и нежность. — Хорошо, что подлинную правду говорите. Она, родимая, только из-под длинника выходит. Кхе… Кнут сей так называется, а потому правда-то, кхе, подлинная выходит из-под него, стало быть.
Степан Иванович отвернулся и благожелательно посмотрел на писца — тот перестал строчить пером и преданно посмотрел на начальника. Шешковский благосклонно кивнул — писец опытный, лишнего не пишет, и от себя не прибавляет. Кхекнул еще раз многозначительно.
Палач Трофим не менее писца был опытен в своем поганом ремесле — взвизгнул кнут, и дикий животный крик пытаемого князя огласил своды подвала и еще долгие секунды отражался в каменных стенах застенка.
— А еще, ваша светлость, — ласковым голоском заговорил Шешковский, — мы любим добывать подноготную правду. Иголочки хорошие, в жаровне докрасна нагретые. Мы сейчас, князюшка, под ноготки-то ваши и загоним.
— Не надо мучить меня. Я и так все вам сейчас расскажу, как на духу, без утайки, — сломался его сиятельство, боли малой не выдержав, от одного рассказа о пытках грядущих сломался.
Все были довольны — Шешковский разговорчивостью князя, а князь — и тем, что перестали его терзать, и тем, что облегчил правдивыми показаниями душу. Не ему одному в пыточной мучиться. Пусть и другие на своей спине кнут испытают. Оттого и на душе у князя, масона известного, хорошо стало.
Не понимал только, что только начало это. И, как очные ставки пойдут, то снова в этом залитом кровью подвале по его спине кнут пройдется. То не освобождение от боли, а отсрочку от нее несчастной жертве дали. Ибо если заговорил человек под пыткою, то теперь из него всю информацию вытянут. Пытать-то на Руси издавна умели, с огоньком да выдумкой, и умельцы заплечных дел всегда имелись.
Только палачу было сейчас грустно и погано на душе. Десять часов без передыху кнутом в затхлом подвале махать да огнем жечь, рази кто выдержит. Грустно все…
На испорченном допросном листе перед Трофимом был накрыт завтрак. Не скупился Степан Иванович людям своим — чашка карасей в сметане, краюха сытного хлеба, свинины жареной шмат изрядный, селедочка с лучком, хрустящая квашеная капустка прошлогодняя. И пива штофная бутылка. Хоть пожрать можно, но при Андрее Ивановиче лучше снедь была, особенно когда знатных господ, графов и князей всяких, в подвале пытать приходилось. Но то ведь господин Ушаков, он еще при императоре Петре Алексеевиче, пытошнике изрядном, службу свою нелегкую начинал. А вот Степан Иванович из молодых, да ранних будет.
Нелегка жизнь палача на Руси, ой как нелегка! Нет, платят хорошо, грех жаловаться. Столько полковники армейские жалованья не имеют. Да и откуп от пыток зачастую дают изрядный, чтоб пытали, но не мучили.
А это ой как важно — опытный кат может тремя ударами тело до хребта рассечь, а может так кнутом погладить, что, хоть кровь во все стороны полетит, но боли-то почти и не будет. А откуп такой иной раз намного больше жалованья выходит, да еще с подарками богатыми.
А нет откупа, так одежку жертв прихватить можно, тоже денежку стоит, и немалую. Опять же харч изрядный дают, убоиной ежедневно кормят, даже в постные дни. Грех на ласку и обиход жаловаться, но поганая у них и жизнь, и служба тяжкая, ой как государству нужная.
Жизнь-то худая — заплечных дел мастера изгоями прозябают. С катами невместно знаться, родниться, в гости ходить. А в лавку войдешь, так носы воротят и продавать ничего не желают. Или продадут, но так, будто паршивой собаке кость бросят обглоданную.
А уж руку никто и никогда не протянет. И за стол один в трактире никогда не присядут, даже питухи пропойные, безденежные. И дохтур, когда тебя щупает, то говорит брезгливо и перчатки одевает на ладони. Брезгают все, ненавидят и презирают.
Ну, ничего, зато потом искательно в глаза смотрят, родственнички чуть ли не на колени встают, лишь бы жалость проявили. Упрашивают слезно. Вот и отливаются им его стенания…
Гостилицы
— Молодец, капрал. Благодарю тебя за службу верную! — Петр похлопал драгуна Степана Злобина по плечу.
За такие новости чина капрала и полсотни рублей с новым знаком святого Александра Невского не жалко. Молодец драгун, и что выжил там, и что разговор супруги с Дашковой нечаянно подслушал, и поспешил сюда с сообщением. Хорошие новости принес служивый. Как раз вовремя поспел, когда меня, как крысу, здесь отравить пытались. И, судя по всему, цианидом, синюшной отравой.
Однако рассказ капрала и вопросов много оставил. Судя по всему, Като его не «заказывала», но тогда почему письмо ее было отравлено. И отрава совсем другая, «долгоиграющая», в отличие от биска и кваса.
С двух точек его обстрелять пытались, вернее, даже с трех — путь покойного любителя господского кваса и слуги с подбитым глазом, что нашустрил в спальне, как установил генерал Девиер, не пересекались. А это означает только одно — на него совершили одновременно три покушения, а значит, ему предстоит опасаться и дальнейших попыток.
Все логично — у них сейчас просто нет иного выхода. Гвардия подчистую разгромлена, мои войска через несколько часов прихлопнут Петергоф со всеми его обитателями. Следовательно, за эти несколько часов меня обязательно попытаются отравить или убить.
Он не сомневался, что в его свите есть верные людишки супруги — та в письме проговорилась по поводу пяти попыток зачатия. Каким образом такая информация к Екатерине попала, ежу понятно. Но вот найти предателя — дело трудное, им может быть как лакей, в зале дворца бывший в то время, так и кто-то из адъютантов. Или кто-нибудь из знающих просто болтун, и языком чешет как помелом. Вопросы и вопросы, но ответов нет…
— Государь! — дверь в баню отворилась, зашел адъютант. — Приехал граф Алексей Григорьевич Разумовский.
— Зовите, — Петр подошел к столу и закурил папиросу.
В предбанник зашел еще не старый человек, но за полтинник годами, одет богато — кружева, перстни, цепочки. Рубины в золотой оправе вместо пуговиц. Глаза умные, но усталые, как у много видевшего в жизни. Поклонился уважительно, без небрежности или презрительности, и с оценивающим ожиданием посмотрел на Петра.
— Алексей Григорьевич! Вы своим людям случайно не приказали меня на тот свет спровадить? Ядом? — сразу в лоб спросил его Петр.
А чего тянуть кота за хвост. Дипломатия, конечно, вещь полезная, но и бесхитростное откровение тоже нужно. Граф хитрец изрядный, вон как глаза блестят, и потому тянуть с вопросами было нельзя.
— Нет, государь! — сразу отрезал Разумовский с металлом в голосе. И прямо глянул в глаза. В них вопрошали его боль, гнев, горе.
— Что, и мысли у вас никогда в голове не было, как бы голштинского выродка удавить? — Петр задал вопрос с не меньшим гневом, болью и горем. — Только честно!
— Были такие мысли, каюсь, ибо считал вас, государь, недоброжелателем России великим, ее хулителем, — Разумовский чеканил слова в ответ, медленно и твердо. Так только говорят люди, перешедшие ту черту, которая отделяет жизнь от смерти. — Искренне желал, и потому брату своему не препятствовал. Но только до позавчерашнего дня…
— А позавчера что, граф, постный день был?! Откровение с небес получили? Или надо мною нимб святой узрели?!
— Государь! Над верой шутить нельзя!
— Простите, граф! Это я не подумавши брякнул. Не шучу я над верой, сам искренне верую. Еще раз простите. Но на вопрос ответьте!
— А вы на него, государь, сами ответили!
Увидев искреннее недоумение Петра, Разумовский чуть улыбнулся и заговорил спокойно, с еле слышимым малороссийским акцентом. И, как Рыку показалось, вполне добродушно.
— Если я бы не знал вас долго, государь, то враз подумав, что вас пидминили. И прав я — тело-то ваше, а вот душа и ум другими стали. Полезными для державы нашей. О том и государыня Елизавета Петровна помышляла, царствие ей небесное. — Разумовский истово перекрестился. Петр также размашисто осенил себя крестным знамением и заметил, как радостно сверкнули глаза старого графа.
— Душа ваша православной стала, нашей. И, бачу, церковь рушить вы не станете, а це дило…
— Патриаршество я обратно на Руси введу, Поместный собор прикажу вскоре собрать. А крестьян монастырских заберу, не обижайтесь — нам к войне с турками готовиться надо.
— Так не можно и Богу служите, и мамоне. Це дило, ваше величество. Так вот о чем я говорю. Я позавчера все понял, когда о победах ваших узнал, государь. И кровь вы свою царственную, не колеблясь, пролили, и в бой козаков вели. И о грамоте вашей, козакам жалованной, тоже ведаю. Вот тут-то Кириллу покойному я и отказал. И людям своим накрепко приказал вас беречь. То не они вам отравы подсыпали, у меня с этим строго. За хиршу, та в ямину, без отпевания. То ваши людишки вам, государь, измену подлую учиняют. Их и треба шукать…
Петр оперся на трость, задумался. Выходит, правы те, кто писал, что молодой Алешка Розум был немного колдуном. Или, как иначе в народе говорят про таких, «знающий человек». А каким образом простой певчий хора смог бы стать тайным морганатическим мужем императрицы Елизаветы Петровны? Ведомо ему тайное, ведомо…
— То, государь, меня токмо одного касается, — словно прочитал его мысли Алексей Григорьевич и горько усмехнулся.
— А вреда вашему величеству здесь нет, и веры православной ущемления. Велите не пытать людишек моих — неповинны они. Если желаете, то сам буду отныне вашу пищу первым вкушать, спокойствия ради вашего. Но я только за брата покойного прошу — по дурости он все затеял, без знания. Потому и смерть принял, что против дела правого пошел. Не за себя прошу — род наш ославить на века не хочу. То пагуба будет…
И Разумовский преклонил перед ним колени и опустил свою седеющую голову. Петр машинально положил на волосы руку.
— Не держу зла на род. Да и на людей тоже. Дурни они. Тело своего брата возьми и похорони достойно. Но тихо, к чему врагов наших неустройством радовать. То боль наша. Иди спокойно, но гостем у меня прошу бывать часто. Это моя к тебе просьба, Алексей Григорьевич…
Проводив старого графа, Петр почувствовал голод и приказал казакам принести поесть. Сам же, ожидая завтрака, уставился в окно.
Светало. Что за привычка появилась — новый день раньше петушиного крика начинать, да еще кровь проливать. Петру на память пришла схватка с сербскими гусарами. Да, двое суток с той первой крови прошло, а сколько смертей эти дни своей жатвой собрали.
Петр потер пальцами виски — в голове стучали маленькие молоточки. Из его груди вырвался рык злобного зверя. Он вспомнил трех своих отравленных женщин и троих слуг, которых не знал. Шесть человек зараз выхлестнули, яда не пожалели. Ну что ж, тогда и он никого не пожалеет…
Дверь открылась, и Нарцисс стал расставлять из корзины принесенные «яства». Жизнь Карла Двенадцатого началась в полной красе — холодная колодезная вода, миска с кисловатой черешней и сладкой клубникой, два сваренных вкрутую яйца, свежий огурец из парника, целиком зажаренная на углях курица, половина каравая душистого пшеничного хлебушка. И неизменный кофейник с только что сваренным кофе.
Петр вопросительно посмотрел на арапа. Нарцисс все сразу понял и тихо сказал:
— Казаки сами все сготовили, а я кофе сварил.
Хм, сами… Набрали всего понемногу с грядок, а хлеб свистнули из пекарни — горячий, мягкий. А курица часа два назад еще в загоне бегала, ей головушку махом отвернули да на саблю вместо шампура и насадили. Водичку в колодце набрали, ну а к кофе ты, мой верный арап, никого не подпустишь. С вещами тоже нормально — сундуки казаки крепко охраняют.
Меры действительно предприняли чрезвычайные, и Петр, вонзив крепкие зубы в сухую куриную плоть, здраво сказал себе: «Пусть это и не очень вкусно, зато несварения желудка не будет и дольше проживешь».
Однако закончить завтрак в одиночестве не пришлось — заявился радостный, но немного озадаченный Девиер. Глядя на повеселевшую рожу генерала, Петр хотел предложить ему половину огурца, но тут его нос уловил такой запашок от генеральского мундира, что есть расхотелось.
— Ты бы хоть мундир заменил, воняет же. К царю пришел, чай…
— Прошу простить, ваше величество. Слугу с опочивальни вашей нашли, в спину кинжалом заколотый и в яму выгребную сваленный. Да жердиной его еще притопили, чтоб видно там не было…
— С чего решили, что кинжалом?
— А вот он. В яму брошен был, но мужики его через четверть часа там же нашли, — Девиер положил на стол кинжал с узким и тонким лезвием. Такие вроде бы еще стилетами называются. Петр покрутил в пальцах отмытый клинок и мысленно простил генералу его помойный запах — теперь стало понятным его происхождение…
— И что намерены делать, генерал?
— Всем кинжал сей предъявлю и мыслю, что хоть кто-то его опознает. И отравителя поймаю.
— С чего ты решил, что убийца и есть отравитель?
— Слуга по незнанию отраву принес, его могли отвлечь и в блюдо подсыпать, или свечи травленые дать. Вот потому-то его и зарезали в ретираде, чтоб не донес о своих подозрениях. Ясно одно, ваше величество, — тот, кто яд приложил, прямого входа к вам пока не имеет. Вот я его и ищу…
— А может, он сбежал уже?
— Нет, государь. Кругом гусары Милорадовича стоят и никого не выпускают. Найдем через час убийцу, никуда он уже не денется…
Дверь тихо приоткрылась, и на пороге возник адъютант со странно знакомым лицом.
— Гонец из Кронштадта от коменданта Нумерса, ваше величество. Прикажете впустить?
— Идите, генерал. Дело делайте!
На выходе Девиер столкнулся на пороге с морским офицером, последний пропустил генерала и лишь потом сам зашел. Петр внимательно посмотрел на него — взгляд прямой, честный, смотрит с уважением, но без подобострастия, хорошо смотрит.
— Ваше величество, пакет от командора Нумерса, — моряк протянул засургученное печатями послание.
— Что в нем? — слегка полюбопытствовал Петр и внезапно ощутил ползущий по спине неприятный холодок.
Моряк в смущении замялся и стал топтаться на месте, как застоявшийся жеребец.
— Ваше императорское величество, простите меня великодушно за дурные вести. Граф Роман Илларионович Воронцов и его дочь Елизавета Романовна вчера вечером умерли…
— Как умерли?! — взвыл Петр во весь голос. Дверь тут же отворилась, и в комнату вбежали казаки с обнаженными саблями. И застыли на пороге.
— Они были отравлены, и о том в письме отписано вашему величеству. — Моряк неловко поклонился.
Хотелось лезть на стену и выть во весь голос. Девять душ за одну ночь погубили — восемь отравили, а еще одного прирезали. Ярость бурлила, и в душе Петр метался раненым зверем…
У покойного графа и его дочери руки были в маленьких язвочках, а на местах порезов пальцев об острые края футляров — синяя помертвевшая кожа. Медики, которые смотрели тела умерших, в один голос, по утверждению Нумерса, твердили — яд, впитанный в кожу, должен умертвить несчастные жертвы за двое суток — оттого и язвы на руках появились, как у несчастных фрейлин.
Но попавшая в кровь отрава сделала свое черное дело через часы, ее жертвы умирали в страшных мучениях. Но успели поведать Нумерсу о своем злосчастном любопытстве и о том, что футляр для письма Лиза подменила, чтоб нечаянно и государь об него не порезался.
Как тут не выть! Все четыре его женщины смерть от него собой отвели. Четыре уже были — вещая ведьма. Осталась пятая — но о ней ни слуху ни духу. Кто она? Даже имени неизвестно. Как бы эти сутки пережить — и все, дальше семьдесят лет жизни будет. Правда, цифра была такой значительной, что у него в голове не укладывалась. Столько не живут…
Петр вышел во двор — стало совсем светло. Перед гостиницей колыхалась большая толпа лакеев и слуг, его людей, свитских из Ораниенбаума. Там что-то происходило, дико кричали, и Петр направился туда быстрым шагом. Казаки расчистили от людишек дорогу, и перед императором открылось кошмарное по своей сути зрелище.
— Это не я!!! Я не убивал! У меня его выкрали! День назад, вчера! Помилосердствуйте! У-у!!!
На земле извивался и подвывал во весь голос в кровь нещадно избитый слуга, а Девиер крутился вокруг него и без передыха пинал ботфортами. Рядом валялся знакомый стилет.
Толпа, собравшаяся кругом, сама бы кинулась на жертву и, будь ее воля, растерзала бы на кусочки, но обнаженные шпаги и тесаки голштинцев сдерживали ее пробудившийся звериный инстинкт.
— Молчать! Всем стоять!!!
От бешеного рева императора все застыли, будто увидели перед собой ожившую горгону Медузу из древнегреческого кошмара и в единый миг разом окаменели. Только слуга подполз к его ногам, обнял их крепко и заканючил:
— Это не я, государь, не я это! Не убивал я… Украли его у меня… Не я…
— Молчать!
Петр рывком поднял избитого и заглянул в плачущие глаза. И тут же отбросил в сторону бедного лакея — тоже мне, нашли стрелочника. Самое большое зверство, на которое он способен, это нарезать краковской колбасы.
Петр встречался с такой породой — от вида крови им дурно становится и глаза тусклой пленкой покрываются. Природа хорошо позаботилась, и от убийства преграду надежную в таких людях поставила.
— Да он убийца, государь! — взвыл Девиер, и от этого крика Петра захлестнула горячая волна бешенства.
Ах ты, сутяга, смертный прыщ, устроил представление, работать не умеет. И еще пререкается, козел безрогий!
— На! — От мощного удара в челюсть генерала Девиера свалило в пыль. Петр тряхнул ушибленным кулаком и в бессилии решил сам начать следствие. Он в ярости схватил первого попавшегося лакея за грудки:
— Ты меня отравить хотел?! — рык императора привел лакея в ужас.
— Не я, государь, богом клянусь!
— Может, ты и есть отравитель?! — второй схваченный, тщедушный, аж заикаться стал от безумного страха.
— Не, ик, я, ик, — взмолилась жертва царского следствия.
— Ты мне отраву подсунул? — палец императора уткнулся в грудь третьего слуги.
— Не я это сделал, государь… — побледнел тот.
И Петр повернулся к четвертой жертве.
— Я не делал, не я это… — лепет был ответом императору, и он хотел было ткнуть в пятого, но тут сам остолбенел.
«Боже милостивый! Все как люди, а у того, предыдущего, будто легкий дымок со словами вырвался. Господи! Сон, святой старец, и ложь — „будто липкий туман“. Не может быть такого. Надо проверить!»
Петр снова повернулся к третьему слуге и зловеще улыбнулся. Тот побледнел еще больше, а руки заходили ходуном.
— Кто тебе приказал меня отравить?! — чеканя каждое слово, Петр пристально заглянул камердинеру в объятые ужасом глаза. Он узнал гаденыша — тот был в зале в ту первую ночь.
— Не я это, не я!!! — в диком ужасе взвыл лакей, а изо рта вместе со словами липкий туман потянулся.
— Говори правду, падла! Душу вытащу! Говори!!! — Петр сдавил пальцами бровь, и слуга взвыл. Тогда он ткнул его пальцем в нервный узел, и дикий вопль раздался:
— То граф Кирилл Григорьевич приказал, я не мог ослушаться! И свечи мне от него передали! Прости, государь! Бес попутал! — Вопль иуды прогремел для Петра триумфальными фанфарами…
— Вот так надо, генерал! — небрежно бросил Петр остолбеневшему, как и все окружающие их люди, Девиеру. — Теперь допрашивай эту сволочь! Всего выпотроши, до донышка!
Петр с яростью посмотрел на толпу, те попятились. И тут его как обожгло — побледневший адъютант, стоявший с краю, был ему явно знаком. Это был тот самый князь, что ткнул его во сне вилкой в живот. И в памяти тут же стали услужливо перелистываться страницы однажды прочитанного им, точно останавливаясь на нужных местах…
Князь Федор Барятинский, его флигель-адъютант, мог бы стать еще и одним из будущих убийц императора Петра Федоровича в Ропше. Это он вчера и сегодня рядом крутился, и в бане князь тоже был.
И однажды прочитанные строки вспомнились — встретившись с князем после ропшинского убийства, один из мемуаристов прямо спросил, почему Федор принял участие в столь сомнительном и грязном деле.
— Что делать, мой милый? — с улыбкой, довольно непринужденно заявил князь. — Ведь у меня столь много долгов накопилось…
Со страшным оскалом на лице Петр медленно пошел на него — перед ним расступались. Будто ток пробежал по собравшейся толпе, все вздрогнули и уставились на князя.
Лицо Барятинского стало белее мела, черты исказил ужас, он, как кролик смотрит на удава, взирал на приближающегося императора. Руки заходили ходуном, и нервы князя не выдержали — он взвизгнул и бросился бежать. Куда там — кто-то подставил подножку, и князь, нелепо взмахнув руками, как куропатка крыльями, пропахал носом дорожную пыль.
И на него сразу же навалилась охрана, вывернули за спину руки, обезоружили. Подняли на ноги, наскоро обыскали и подвели к Петру.
— Где яд остатний прячешь?
Задав вопрос, он без промедления сделал адъютанту «слоника» — открытыми ковшиками ладоней хлопнул предателя по ушам. Тот взвыл…
— Говори, сука!!! — И палец сильно надавил за ухом. Новый вопль был еще громче предыдущего.
— В сундуке лежит… Там, в свертке, щепотка малая… — в помертвевших глазах князя стояли слезы и ледяной глыбой застыл животный ужас. Петр харкнул ему в лицо и холодно бросил Девиеру:
— Выбить из них все! Даю только три часа! Не сможешь — повешу и тебя, и твоих людей! Мне бездельники ни к чему! Что уставились на меня, заняться нечем?!
Через несколько секунд двор опустел, собравшиеся люди растворились, как бесплотные духи. Осталась только охрана и адъютанты. Казаки бдительно зыркали по сторонам, а на лицах всех офицеров застыла злобная гримаса. И попадись им сейчас в руки князь Барятинский — в один миг разорвали бы предателя и отравителя голыми руками…
— Все, господа! Мы выступаем на Петергоф немедленно. В этом деле пора ставить точку. Трубите поход!
Петергоф
— Като, опомнись! Бежать нам всем надо! — Григорий Орлов тормошил императрицу, но у той разом все силы пропали. Как в тумане она доехала до Петергофа, и все, будто испили разом всю.
Екатерина Алексеевна лежала на большой кровати в спальне, уставив в потолок невидящие глаза. Все это время она проплакала, а сейчас и горькие слезы кончились. И надежды никакой уже нет, что Петра Федоровича отравят. Нет, и все тут. Против судьбы особо не попрешь, когда та сама, своим щитом его прикрывает. Все кончено…
Гвардия разгромлена ее супругом, который неожиданно проявил недюжинные дарования. Да что там полководческий талант — он же другим совсем стал. Расчетливым, храбрым до отчаяния, мудрым и заботливым для своих солдат. Она сама видела, как боготворит его армия.
Солдаты Петра Федоровича не продадут, костьми лягут, животы положат, но биться до смерти будут. Это не ее трусливая гвардия, что при первой неудаче в уныние и предательство бросилась, жизни свои от наказания неизбежного спасая.
Нет, все уже кончено — княгиня Дашкова не сможет отравить Петра, пусть и не надеется. И она никуда бежать не будет, ибо нет в бегстве от самой себя спасения. И от судьбы никуда не уйдешь…
Она ехала в Россию править, царствовать. И потому три задачи перед собой поставила — понравиться мужу, императрице Елизавете и народу.
Однако Петр отвергнул ее незадолго до свадьбы, внезапно стал равнодушен как к женщине. В отместку ему Екатерина не называла его мужем, хотя и делила с ним постель. Но там они только спали вместе, боясь гнева императрицы, а к зачатию наследника Петр так никогда и не приступал.
А Елизавета Петровна стала холодна к ней после рождения Павла Петровича, хотя сама Сергея Салтыкова ей подсунула. Видно, по-женски сильно на нее обиделась.
Осталось только последнее средство — понравиться народу, в чем Екатерина и преуспела, что три дня назад и проявилось в Петербурге. Как она радовалась…
А вчера разом все и закончилось — разгром в Гостилицах и Дьяконово, десант Миниха в Петербурге, и смерть наследника Павла Петровича. И пусть княгиня Дашкова ее утешает и варианты спасения разные приводит, но это все бесполезное занятие.
Без Павла у нее нет теперь ни малейших прав на престол, на котором могут сидеть только двое — или Петр Федорович, что с армией к Петергофу вскоре подойдет, или Иван Антонович, томящийся ныне в каземате Шлиссельбургской крепости.
Вот только последний кандидат на престол вряд ли сейчас был в живых — Екатерина Алексеевна остро позавидовала Петру, у которого был Миних. А старый Живодер такого опасного претендента из лап своих никогда не выпустит и на все запреты императора наплюет.
В конечном счете то на благо Петра самого будет. А кровь пролить фельдмаршал Миних не побоится — наверняка отдал приказ убить принца Ивана Антоновича, благо сила сейчас полностью на его стороне.
И на свой счет Екатерина не заблуждалась — если этот жестокий старик к Петергофу первым подойдет, то и ей предстоит умереть, а причину смерти медики, и его, и ее, уж как-нибудь обоснуют. Или внезапный апоплексический удар приключится с ней, или геморроидальные колики от огорчений.
И сам Петр Федорович ее не помилует, тем более что отрава других людей наверняка зацепила. Даже если решит жизнь ей оставить, то верные люди отсоветуют, тот же граф Миних. Нет, все для нее кончено…
Тяжелую ночь пережили мятежники. Вечером из Петербурга прискакали конногвардейцы, а через пару часов за ними прибыли верхом императрица Екатерина с Дашковой в сопровождении немногочисленных офицеров и конногвардейцев личной охраны, с ужасным известием — флот вошел в Неву и устроил в Петербурге самую настоящую бойню.
Старый «живодер» Миних покрошил в столице гвардию, перебил добрую половину сенаторов, занял крепкими караулами все значимые присутственные места. Манифесты Екатерины и Сената везде сорваны, а тех, кто выражал хоть самую малую симпатию июньскому перевороту, незамедлительно смертным боем избивали.
Но вот только беда одна не приходит — не успело это страшное известие устрашить полностью души, как тут же пришла ужасная, ошеломляющая весть. К югу от Петергофа большой гвардейский отряд был начисто истреблен голштинцами и преображенцами, причем гренадеры Преображенского полка переметнулись на сторону императора.
Да и Петр Федорович оказался совершенно другим — перед гвардейцами был бесстрашный и мудрый правитель, который сам водил солдат в атаку, огромная куча трупов измайловцев и сбивчивые рассказы уцелевших в утренней резне 29 июня лишь подтверждали это.
Но хуже того, император Петр Федорович проявил недюжинные знания, опыт и чудовищную энергию и хорошо обложил верными войсками мятежную гвардию — как медведя в берлоге обкладывают со всех сторон охотники своими смертоносными рогатинами.
И сникла гвардия, дух выветрился — о сражениях уже не помышляли. Одно дело — навалиться всем скопом на беззащитного, а другое — видеть перед собой могучую силу, которая сама способна раздавить врага начисто, до кровавых ошметков. И примеры живые перед глазами были многочисленные — Петергоф, Петербург, Ригельсдорф, Гостилицы, Дьяконово и Ораниенбаум…
Первыми начали восстание гарнизонные солдаты и драгуны, в Петергофе стоявшие. Манифесты императора привели их в возбужденное состояние. Гарнизонные вояки еще не присягнули Екатерине, и теперь они активно подбивали других выступить против гвардии с оружием в руках.
Однако до сражения дело за малым чуть не дошло — часть солдат сбежала из Петергофа, но большинство вместе с офицерами отошли к «Красному кабачку» и там влились в наступавшие войска фельдмаршала Миниха. А когда в Петергоф пришли гвардейцы Екатерины, драпавшие что есть мочи от Ораниенбаума и Ригельсдорфа, гарнизона здесь уже не было.
К позднему утру кипевшие страсти вылились в сплошное безобразие. Бучу подняли преображенцы — они с жестокими и страстными упреками навалились на измайловцев, кричали, что те подвели и предали их, толкнули на мятеж против природного царя. Любые попытки «Екатерининских орлов» утихомирить первый гвардейский полк империи привели к тому, что гвардейцы сами арестовали и бросили в подвалы всех активных организаторов и участников переворота.
Принявший над ними командование генерал-поручик Василий Суворов самолично разоружил всех измайловцев и конногвардейцев, приказал посадить под строгий арест императрицу. Поймали лейб-медиков Екатерины Поульсена и Роджерсона, англичанина жестоко избили и взяли под караул.
Потом восставшие решили отправить к императору представительную делегацию из генералов и высших офицеров гвардии, сановников и сенаторов и, памятуя о печальной участи стрельцов, искренне надеялись, что эти несчастные посланцы, даже если и будут казнены, то вымолят для всех опомнившихся если не прощение, так хотя бы жизнь…
У павильонов и дворцов началась беспорядочная ружейная стрельба. Со звоном посыпались из вычурных окон разбитые пулями стекла. Раздались звонкие крики, гулким эхом отразились от каменных стен стоны и вопли раненых. Ржание лошадей и звон стали…
Григорий Орлов бросился к окну. Так и есть — по двору метались преображенцы и гарнизонные солдаты. Примкнув штыки, они избивали и тут же крепко связывали офицеров и кавалергардов. А вот это уже был конец, и через минуту-другую трусливые сволочи ворвутся во дворец и откупятся перед голштинским выродком императрицей и его головой…
— А вот и нет, хрен вам! Вы еще пожалеете… — Григорий глухо выругался и бросил взгляд на Екатерину Алексеевну. Глупая баба безвольной куклой лежала на кровати, и толку с нее не было.
— Ну, ничего, я тебе еще послужу! Сегодня же на престоле опять будешь. Убью я Петра! — глухо пробормотал цалмейстер, засунул за пояс пару пистолетов и обнажил шпагу. Затем Григорий Орлов резко открыл дверь и быстро вышел из опочивальни.
Через несколько минут к комнате, где лежала императрица, подбежали преображенцы. Оттеснив в сторону вставших хрупкой и ненадежной преградой фрейлин, командовавший гвардейцами прапорщик решительно заглянул в спальню и, удовлетворенно хмыкнув, тихо закрыл дверь.
— Государыня не должна выходить из опочивальни, — громко произнес молодой офицер, — и, чтобы ей никто не помешал, караул будет находиться у дверей неотлучно, до самого прибытия в Петергоф нашего законного государя-императора благоверного Петра Федоровича…
Петергофский тракт
Петр неспешно ехал по грунтовой дороге — было давно светлым-светло, по утренней прохладе его отдохнувшие солдаты шагали бодро. Однако Петр был невесел — кто часто садится на гвоздь, тот редко смеется. Ведь так гласит французская народная мудрость…
Вошло уже в привычку рабочий день с полуночи начинать, а заодно и армию ночными марш-бросками выматывать. Но солдаты вели себя молодцами, морды веселые. Лишь голштинцы изредка роптали, мол, все воюют, как люди, и лишь нас по ночам таскают, а подраться толком не дают.
Однако и у них изменения пошли кардинальные — позапрошлой ночью уходили из Ораниенбаума квелые, на победу почти и не надеясь, а сейчас весело шлепали башмаками, ночную пыль взбивая. Однако стоило Петру обогнать колонну, как разом оживились его солдаты, веселыми криками монарха преследуя. Другими стали, совсем другими…
Через два часа марша войска встали на привал, и тут к Петру подскакали казаки из полка Данилова. Новости обрадовали императора, он заулыбался, как довольный кот, и что-то замурлыкал себе под нос.
Рассвело полностью. Птички весело порхали по деревьям, а солнце уже хорошо прогрело воздух. Благодатное наступило время — ровно середина лета. И воевать больше не надо будет — казаки уже сообщили, что в Петергофе выступили преображенцы и повязали всю мятежную головку, арестовав заодно и императрицу Екатерину Алексеевну.
Получив такую приятную для всех новость, Рык немедленно приказал встать войскам на длительный привал и хорошо позавтракать. А сам завалился на повозку, тут же был накрыт одеялом предупредительным Нарциссом. Однако уснуть не удалось, и, промучившись полчаса, Петр поднялся с импровизированного ложа.
Его доблестное воинство с большим нетерпением дожидалось обещанного обильного завтрака. А пожрать было что — и с собой большой обоз из Гостилиц прихватили, чтоб нужды в дороге не иметь ни в чем, да и здесь уже казаки большое число повозок перехватили с провиантом для нужд гвардии и дворцовых в Петергофе…
Вдоль опушек рощиц кучковались у ротных флагов его гвардейцы, веселая и разноголосая речь, шутки, а на лицах радость от первого, да к тому же изрядного харча. Кормежка была знатная, каптенармусы просто с ног сбились, всех царским завтраком наделяя. Царским и в прямом, и в переносном смысле. Измайлов полсотни подвод увел с Гостилиц и Ригельсдорфа, ограбив поварню и кладовые почти полностью.
Какая уж тут щи да каша, пища наша — поглощали солдаты копченых кур и гусей, окорока и буженину, разрывали караваи белого пшеничного и кругляши черного ржаного хлеба, смачно хрустели огурцами прошлогоднего засола. Запивали все это великолепие шипучим игристым квасом и холодной колодезной водицей, хотя в котелках кое-где заваривали и крепкий чай.
У казаков рацион был еще богаче — ушлые донцы где-то с подвод утащили уйму паровых стерлядок и вареных раков с выпученными глазюками и теперь с удовольствием обсасывали клешни. Впрочем, тех же стерлядок плюс жареное мясо ели и господа офицеры, и желтые, как канарейки, голштинские гусары им тоже внимание оказывали.
А сербы поглощали трофейный гвардейский рацион — обжарили на кострах тетеревов и прочую лесную дичь, добавили к этой благодати котлы пшенной каши с салом и устроили себе небольшой праздник.
Неплохо обустроились воронежцы и кирасиры с драгунами. Распластали тесаками огромные свиные туши на добрые куски и теперь жарили их на углях. И такой запах жареной свинины на всю округу шел, что впору собственными слюнями захлебнуться. Этакий пикник!
Но главное было в другом — в каком-то произвольно установленном порядке меж ротами бегали каптенармусы с толстыми кожаными флягами и щедро наделяли всех служивых законной чаркой водки. Причем и добавку наливали, если кто-то сильно просил.
Петр разрешил это специально, чтоб солдаты от марша побыстрее отдохнули да прошлые тяготы забыли. В общем, в царском войске царил всеобщий праздник желудка.
Петр был полностью удовлетворен обходом воинства — солдаты сытые, здоровые, уверенные в себе. И, судя по взглядам, которые они на него кидали, он стал для них вроде редкостного талисмана, приносящего удачу и успех в любом деле. От такой мысли он засмеялся, а сам тоже почувствовал сильный голод.
Завтрак ему накрыли на том же барабане, чисто солдатский — шматок обжаренной на углях свинины, теплый парниковый огурец, приличных размеров балычок, краснобокая редиска с зеленым лучком, толстый ломоть ржаного хлеба и малая стопка водки для поднятия аппетита.
Петр чуть пригубил водочки и отдал стопку адъютанту, вручив тому и половину хлеба с балыком. Офицер чиниться не стал, лихо хлобыстнул, кхекнул от удовольствия и с аппетитом стал вкушать предложенное.
Позавтракав, император соизволил закурить папироску и от царской щедроты угостил своих свитских офицеров. За три дня Петр вымуштровал их капитально-теперь никто не рисковал курить в его присутствии, за исключением тех редких случаев, когда император сам предлагал всем коробку с папиросами. Но все брали только по одной папиросе. Про запас никто уже не хапал, чинность соблюдали.
Чуть попозже отмытый вчера вечером Нарцисс принес Петру горячий кофе и сыр. Император неторопливо испил пару чашек — а зачем ему спешить. Время на них работает, войска с трех сторон Петергоф оцепляют, и через пару часов оттуда ни одна сволочь уже не выползет, если в какой-нибудь щели сейчас еще и затаилась. Да и флот паруса в море распустил — вот полное колечко и замкнулось.
И еще одно обстоятельство удерживало Петра от отдачи приказа на занятие Петергофа — убийств и казней лишних не хотелось в горячке понаделать.
А не дай бог, кто-то все же решит сопротивление сдуру оказать, ведь тогда войска удержать от беспощадной расправы над всеми мятежниками будет трудно. И так победит, сидючи на месте, как в анекдоте одном — «лучше полчаса подождать, чем пять часов упрашивать».
Одних дезертиров из Петергофа уже человек триста пришло. С ними разбирались быстро — солдат и драгун гарнизонных, личность которых установить легче легкого (их однополчан у него в армии было уже пруд пруди), распределяли по ротам. А «казачков засланных», гвардейцев, солдатами переодетых, под караул крепкий брали, и их с пристрастием ребятки Девиера уже опрашивали.
Гвардейцам доверия никакого не было, и всех перебежчиков тут же под охрану воронежцев отсылали. Таяло воинство Катькино, на глазах таяло, как снег жарким летом. Чего ж со вступлением спешить?
Петр ушел к себе в палатку и завалился спать на мягкий тюфяк. Силы закончились от всех ночных волнений, и он настрого предупредил свитских, что разбудить его только тогда, когда мятежники для сдачи с повинной к его войскам выйдут…
Проснулся сам от нудного жужжания мух, и как только эти твари в палатку к нему просочились. Судя по тени на пологе, за вторую половину день перевалил, а так как его не разбудили, то к бою решающему мятежники не приступили. Петр смачно выругался — ну что ж, через пару часов он весь Петергоф раком поставит…
Разозленный Петр вылез из палатки — снаружи сообразили, что император проснулся, и полог отдернули. Еще не протерев глаза, просигналил — мыться давайте.
Скинул рубашку, нагнулся — на шею потекла теплая, нагретая солнцем вода из серебряного кувшина. Умылся, взревел мамонтом, упал на травку и начал отжиматься. Тело уже привыкло к постоянным нагрузкам — если в первый день всего десятку отжимов еле делал, то сейчас вдвое больше, и без запредельных усилий.
Выпил махом поднесенный Нарциссом бокал свежего клубничного сока, закурил поданную папиросу, пыхнул дымком первую, самую вкусную затяжку — на душеньке сразу хорошо стало. И огляделся кругом, воинство свое проверить решил…
Представшая перед ним картина вызвала живейший интерес — у дороги, в пыли, на жгучем солнцепеке, покорно стояли на коленях пара десятков человек с обнаженными головами.
«А мундиры-то у них какие знатные — зеленые, красные, синие — все золотым и серебряным шитьем разукрашены. Видать, вся их мятежная банда полным скопом передо мной тут собралась, прощение себе вымаливая. Скажут мне — царь-батюшка дорогой, повинную голову меч не сечет. Меч, может быть, и не сечет, но я-то вас, собаки, с топором и петлею сейчас смогу очень близко познакомить!»
Петр брезгливо сплюнул и медленным, очень медленным шагом спустился с пригорка, подошел к коленопреклоненному народу, остановился перед ними и презрительно бросил:
— С чем пришли ко мне, скверноподданные? И что вымаливать будете сегодня, ведь три дня назад вы меня выродком голштинским называть изволили смело. Ну и где сейчас ваша храбрость бесподобная? А про совесть не спрашиваю — ее у вас нет, а паче и гордости. С чем ко мне пожаловали?
Петр чуть похлопал по лысине старика в красном мундире с позументами и отошел в сторону.
Тот поднял на него заплаканное морщинистое лицо, подполз к царю на коленях и заканючил:
— Помилуй, государь! Бес попутал. С повинной к тебе пришли…
— Встань, да имя свое людям скажи, да в очи их честные своими воровскими глазами глянь. — Петр рывком поднял старика, ухватив хорошо за отвороты мундира.
Но тот подогнул ноги, и он поневоле опустил его. Старик тут же припал к его пыльным ботфортам, обхватил их обеими руками. И хотел было старик продолжать мольбы, но Петр звонко щелкнул его по лысине и рявкнул:
— Заткнись, а то на первом же суку повиснешь!
Старый сенатор, видно по красному мундиру, тут же затих, а Петр, раздираемый гневом, приказал:
— Все военные, кто на службе состоял и присягу мне воинскую давал, на левую сторону отойти немедля!
С десяток зеленых и синих мундиров поднялись с колен, отошли в сторону и понуро склонили повинные головы. Петр отпихнул плачущего сенатора в сторону и подошел к самому старому, полностью седому, небольшого росточка, генералу.
— Ты мятежниками командовал?!
— Я, государь! — тот бросил с каким-то вызовом, а в глазах стояла такая безысходная тоска, что Петр внутренне содрогнулся. Смерть побелила лицо прямо на глазах, за какие-то несколько секунд.
— Что по артикулу воинскому за мятеж против императора предусмотрено? И что же с изменниками сделать, кои с оружием в руках присягу, перед Господом нашим данную, презлостно нарушили и на монарха злоумышляли? Как их назвать теперь?
— Смерть положена! А название им всем одно — иуды! — Генерал вскинул голову, в глазах отчаяние, желание погибнуть.
— Эх ты, генерал Суворов! Сын твой славу великую России принесет, а ты изменником и подлецом сегодня помрешь. Так, вояки, — Петр сплюнул под ноги, — кто жить хочет, тот туда иди и на колени падай. А если кто останется стоять — тех за рощу отвести, к деревьям привязать, на глаза повязку наложить и из пяти фузей по каждому залп дать.
Однако, к его искреннему удивлению, только один встал на колени и отполз в толпу, а остальные продолжали стоять, мрачно смотря на землю.
— Никак помереть собрались, господа? Почему?
— Умей воровать, умей и ответ держать. Так говорят, ваше величество? — ответил моложавый офицер в Преображенском мундире и улыбнулся. — У нас всех просьба, государь. Поступили мы подло, позволь хоть честно умереть. Прикажи не привязывать и повязку не накладывать. Дозволь смерти в глаза взглянуть и хоть позор немного искупить.
— Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. То верно. Но и на коленях прощения можно не вымолить. Возьму и казню всех…
— Да не тряситесь вы, овцы, — с нескрываемым презрением бросил в коленопреклоненную толпу Суворов, — государь наш так шутит!
— С чего ты взял, что я в шутки здесь играю? — удивился Петр.
— Лев падалью не питается, — после короткой паузы ответил генерал, — а вы, государь, со шпагой в руках в атаки ходили. Простите меня, старого, я еще деду вашему честно служил. О нет, ваше величество, — он грустно улыбнулся, — я прощения прошу за то, что негодным монархом вас считал. Слава богу, что жестоко ошибся. И потому смерть легко принять мне будет, зная, что император наш своему деду ни в мудрости не уступит, ни в храбрости. Где нам смерть принять, ваше императорское величество? Туда идти, государь?
Петр сглотнул — он мог приказать убить трусливых и подлых гиен, что на коленях дрожали. Но вот таких врагов не мог — именно такие люди нужны всегда, что ошибки свои признают и от расплаты по счетам не увиливают.
— Полковник Рейстер! Там, за рощей всех их расстрелять, одним залпом. Половину роты поставьте. Этим честь им последнюю окажете, от лап профорса спасая. Идите, — Петр подошел к барону, чуть наклонился и еле слышно прошептал прямо в ухо:
— Предупреди всех настрого — стрелять только поверх голов, мне эти храбрецы еще потребуются. О том и им скажешь, но только после выстрелов. Наказание всегда должно быть, пусть даже и символическое…
— А вы все под розыск попадете, — обратился он к оставшимся, — и наказание за измену вашу понесете. Гудович, друг мой, разберись с ними и мне доложи о делах петергофских. Противно их слушать! Одно лишь пресмыкательство. Понял?! Так вы за своими сребрениками заявились? Ну что ж, поможем горю вашему! Дадим на бедность! Так кого за измену серебром наделить? Слово свое даю — такого без наказания в деревню отправлю и повелю только до смерти из усадьбы носа не высовывать. Кто захочет — к Волкову проситесь, а как серебряшки получите, тридцать монет, то и отправляйтесь к себе в деревню пешком, грехи замаливать…
Надо отдать должное — за серебром не пошел никто, видимо, родовая честь превысила страх перед наказанием, хотя страшно им всем было до жути, и кое-кто дрожи своей унять не мог.
— Имение у изменников отписать в казну. Все забрать! — бросил Петр подошедшему канцлеру Воронцову, что в поход тоже увязался. — Всем их крестьянам вольную дать. Если есть дети, то отписать половину. То наказание за измену будет. А теперь об искуплении вины — всех по острогам сибирским и городам воеводами и губернаторами назначить немедленно. С чадами и домочадцами, и с имуществом своим, к первому снегу всех выпроводить. А кто ранее срока уедет, до осени, то разрешить с собою по десяток-другой народу из бывших крепостных взять. Жалованье двойное всем положить, согласно новому чину и должности. И пособие денежное на месте выдавать без проволочек, чтоб устроились хорошо.
Петр закурил папиросу и прошелся в размышлениях. Заселить Сибирь образованными людьми во благо России — это дело. Но вот проблема — как бы сделать так, чтоб они все о государственном благе радели?
— Все делать будете — крестьянами волости и остроги населять, тракты обустраивать, школы и библиотеки устраивать, мануфактуры и заводы строить, казенный интерес блюсти. Кто губернатором станет, то политику вести будет, инородцев под государеву руку приводить. Через 15–20 лет службу вашу проверят досконально и о результатах мне доложат. И кто справно служил и рачительно о народе заботился, то опалу сниму, имение дам и в Россию с почетом возверну, с чадами и домочадцами. Более того, те из вас, что добычу золота и серебра наладят и достояние государства значительно приумножат, тех в сенаторы назначать буду, и царской лаской не обижен тогда будет, и почет немалый приобретет. А рудников можно много устроить, золота и серебра там хватает. Укажите потом нужным чиновникам — пусть займутся всеми без спешки, но и без волокиты. Каждому место определят, и мне доложить через пять дней безотлагательно.
«А ведь я экономическую основу под большинством петербургской аристократии с маху вышиб, без половины земли и крестьян их оставил. Большинство их Катьке уже присягнуло, а значит, в разряд изменников попало, и земли, и крестьян частично или полностью лишается. И пора. Не крепостное право распространять, а наоборот, всех крестьян свободными сделать. Почитай, на век раньше крепостное право будет отменено. И землей наделять щедро, переселение вести. Земли-то много — и Новороссия еще под татарами, и Сибирь безлюдно стоит, и с Кавказом решать надобно».
Петр уселся на стульчик и принялся стучать пальцами по барабану. К нему подошел генерал Гудович:
— Ваше величество, зачинщики мятежа в Петергофе своей участи дожидаются, под крепким караулом преображенцев сидят. Все войска мятежные давно построены. Дворцы и все павильоны нашими драгунами и матросами фельдмаршала Миниха заняты.
— А что супруга моя?
— В горячке сильной она лежит, медики за разум ее опасаются. Как известия из Петербурга получила страшные, так и занемогла.
— Ладно, разберемся на месте. Кавалерию к маршу изготовить, а пехота пусть в столицу идет. Кроме голштинцев, тех частью в Ораниенбаум направить, а частью в Петергофе оставить…
— Государь, медик ее величества Екатерины Алексеевны Роджерсон в Петергофе. Его надо немедленно допросить, наверняка он что-то знает, а может, и самолично травил это проклятое письмо.
— А что Девиер?
— Простите, ваше величество, что не доложил. Запамятовал. Вот опросные листы, — Гудович достал сверток бумаг и протянул императору. А Петр только головой покачал — ох уж эти генеральские разборки. Ему стало ясно, что Гудович хотел подставить Девиера, видно, что между генералами черная кошка пробежала…
— Но более никогда и ничего не забывай! — На резкий приказ Петра Гудович почтительно поклонился.
Император развернул листы. Замысловатая вязь писца все же не скрыла суть написанного: камердинер выполнял приказ гетмана, а Барятинским двигали своекорыстные интересы — шестьдесят тысяч рублей долга должен был выплатить покойный ныне граф Никита Иванович Панин, а еще сорок тысяч обязалась передать княгиня Дашкова после совершения князем цареубийства. Убойная бумага…
И честно отработал князь задаток немалый — пользуясь положением, взял у слуги кувшин кваса и отпил из него немного, да щепотку яда, зажатую между пальцами, потом туда и сыпанул. Встряхнул еще кувшин немного и приказал слуге отпить.
Тот, не колеблясь, отпил, показал недоверчивому цареву адъютанту, что отравы нет. Наивный бедняга. А слугу зарезал, потому как испугался, что тот о такой же внеплановой проверке ракового биска кому-нибудь расскажет.
Дождался позднего вечера и около ретирады заколол Пахома украденным у лакея стилетом, который в выгребную яму с трупом и выбросил, надеясь, что Девиер, если его найдет, то ложный след возьмет.
И прятал труп потому же — чтоб на пропавшего слугу все подозрения свалить. Умный выродок — все продумал и просчитал, дважды перестраховался. Вот только на нервы зря понадеялся — они-то князя и подвели, когда у государя-батюшки внезапно детектор лжи природный появился…
Прочитав бумаги, Петр поднялся со стульчика и весело приказал собравшимся генералам:
— Так что стоим-то, господа? Румянцев с кавалерией вперед уже ушел. На коней, господа, на коней…
Шлиссельбург
Старинная крепость просто вросла своими каменными стенами в синие воды Ладожского озера, там, где они переходят в темную текучую гладь Невы. Удобное место — мимо цитадели не проплывешь…
Древняя новгородская твердыня за свою долгую историю носила несколько имен. Вольнолюбивые жители Господина Великого Новгорода, построив на острове крепость, запиравшую ворогам путь на свой древний вечевой город, нарекли ее Орешком. И она оправдывала имя, никогда не могли враги взять приступом ее стены.
Но в тяжелое для России Смутное время пришлось отдать шведам Ингрию с крепостями Ивангородом, Ямом и Копорьем, и Карелию с Корелой.
Наложили свою лапу шведы и на Орешек, заперев навечно, как им тогда казалось, выход для русских к Балтийскому морю. И даже имя другое твердыне дали — Нотебург.
Запереть-то они смогли, но не прошло и века, как войска царя Петра штурмом взяли стены Нотебурга, пролив изрядно русской крови. И будущий император написал: «Зело крепок сей орех, но счастливо разгрызен».
Так Россия обратно отворила себе путь на Балтику, и крепость новое имя получила, символическое, с подтекстом — Шлиссельбург, что означает в переводе «Ключ-Город».
Но свое военное значение крепость потеряла, да и не могло быть иначе — Кроншлотские форты и Петропавловская крепость стали намного более твердыми «орехами» и надежнее защищали выход России к морю Варяжскому, древнему и седому.
А старая крепость получила совсем иное предназначение — стала узилищем для врагов государственных, коих распихали по многочисленным казематам и башням, ставшим тюремными камерами. Но, видно, мало врагов у русских императоров было — большинство камер стояли пустыми, так и не получив в свое чрево обитателей…
Молодой человек тяжело поднялся с дощатой жесткой кровати — вот уже скоро двадцать лет минует, как его, законного российского императора, свергли младенцем с престола. А шесть лет назад разлучили с любящим отцом, принцем Антоном-Ульрихом и бросили безжалостно в этот холодный каменный мешок.
И хотя его ничему не обучали, и охранники старались не говорить про его прошлое, но одно юноша знал твердо — он есть император Всероссийский Иван Антонович, внучатый племянник грозной царицы Анны Иоанновны и родной правнук царя Ивана Алексеевича, брата и соправителя первого императора Петра Первого.
Его маму, Анну Леопольдовну, которая рано умерла, когда ему было только четыре года, царица Анна назначила регентшей, но недолго правила молодая женщина — в одну зловещую ночь дочь Петра Елизавета свергла ее с престола и отправила в ссылку.
Императрица была осторожна и, боясь заговорщиков, упрятала семью Ивана Антоновича в Холмогоры под Архангельском, а его сюда перевезли, дабы он не смог стать знаменем для инсургентов.
И все эти годы он прожил в невыносимых условиях. В инструкции надзирателям — гвардейскому капитану и его сменщику прапорщику — предписывалось: «кроме ж вас… в эту казарму никому ни для чего не входить, когда ж для убирания в казарме всякой нечистоты кто впущен будет, тогда арестанту быть за ширмами, чтоб его видеть не могли».
Офицеры, осатаневшие от постоянного соседства с узником, всячески третировали юношу, стараясь спровадить его на тот свет, но он жил, и лишь изредка на него находило умопомрачение. И вот тогда роли менялись — теперь офицеры испытывали перед ним жуткий страх, оставаясь в камере наедине с помешанным.
Так с ним обходились все последние годы царствования императрицы Елизаветы Петровны. Так же поступал с ним Петр Федорович, ее племянник, ставший полгода назад императором.
Он посетил Ивана в крепости, велел обид не причинять, хорошо одевать и кормить, но оставил офицерам четкий приказ — если кто попытается освободить Ивана Антоновича, то царственного узника без промедления и жалости убить немедленно…
Накрытый завтрак был роскошен — копчености и жареное мясо, осетрина, клубника и бутылка французского шампанского, сладковатого игристого вина.
Он уже ведал причину такого к себе снисхождения — не держались мужчины на русском престоле. Петр Второй не правил и трех лет, как умер от оспы, сам он не царствовал и трех месяцев, а Петр Третий только полгода протянул и был свергнут собственной женой с престола.
Иван печально усмехнулся и сел за стол. Но аппетита не было — царевич лишь чуть поковырялся в блюдах и выпил два стакана вина. Сытость отяжелила желудок, и сонливость мягко охватила узника.
Подойдя к кровати, Иван Антонович лег и вскоре уснул. И снилось ему, что освобожден он из крепости и под колокольный звон и пушечные залпы вступает он на престол.
И улыбался во сне царевич. Так он и умер во сне с улыбкой на губах, без боли отлетела душа, ядом неведомым отравленная…
Петергоф
Кавалькада из доброй сотни всадников на бешеном аллюре ворвалась в Петергоф. Петр ощутил своеобразное дежавю — ведь позавчера он также галопом влетел на эту мостовую и зарубил здесь солдата.
Но сейчас ничего подобного — на всех углах посты лейб-кирасир в зеленых мундирах бывшего Невского полка, у всех дворцов и павильонов стоят надежные караулы гусар в желтых и красных ментиках.
У Большого дворца Петр остановил коня и спрыгнул с седла. Стоявший на булыжной мостовой высокий старик в фельдмаршальском мундире с голубой лентой через плечо широким шагом направился к нему.
Петр порывисто и крепко обнял Миниха, прошептал в ухо:
— Благодарю тебя за все сделанное. И никогда не забуду!
Вырвался сам из могучих, отнюдь не стариковских, объятий Миниха и троекратно, по русскому обычаю, расцеловал. Чуть отстранившись, тут же требовательно спросил у старого фельдмаршала:
— Где Роджерсон?
— В павильоне у канала, — Миних ничему не удивлялся, — а Поульсен рядышком, в соседней комнате. И княгиня Дашкова…
— Тогда туда, — и Петр быстро пошел в указанном направлении.
У одноэтажного здания среди деревьев остановился и закурил. Стоявшие у дверей голштинские драгуны вытянулись на караул, замерев.
Кинув окурок, Петр шагнул в раскрытые двери, впереди него шагал дежурный офицер. Остановились перед дверью в комнату — по обе стороны стояло по драгуну с обнаженными палашами.
— Зер гут, охрана, надежная, — пробормотал он и вошел в комнату.
Рыжий мужик в малость потрепанном камзоле сидел в кресле небольшой комнатенки, из всей мебели имелась еще жесткая кровать с наброшенным домотканым покрывалом. Окно без решеток — но за стеклом маячили две драгунские шляпы. Впрочем, те недолго были в одиночестве, рядом с ними появились три казачьих папахи.
Петр оглянулся — за ним спокойный, как удав, Миних, Гудович с яростным оскалом, невозмутимый сотник Денисов и два здоровенных казака личной охраны, страхолюдные и молчаливые.
Не говоря дурного слова, Петр подошел к вставшему лекарю и от всей широты русской души врезал тому в грудину. Англичанин согнулся, в хрипе открыл рот, и Петр тут же выдал изрядную добавку — коленом по роже, чтобы юшку хорошо пустить.
Потом император спокойно уселся в кресло и снова закурил, успокаиваясь. Казаки подхватили Роджерсона, поставили на ноги — из разбитого носа представителя Туманного Альбиона текла кровь.
— Ваше императорское величество, я есть подданный английской ко…
Договорить лекарь не успел — по жесту Петра Денисов махнул ему кулачищем в живот. Вот тут-то англичанина капитально скрючило в казачьих руках, только подогнутые ножки засучили по полу.
Петр вскочил из кресла, схватил Роджерсона за волосы и откинул назад голову. Глазки у лекаря забегали, на императора посмотреть боялся. Пальцами Петр хватанул бровь и рванул. Роджерсон взвыл от боли.
— Ты ядом письмо императрицы ко мне травил?! Отвечай, сука!
— Нет, не я, государь! Я только яд княгине Дашковой дал…
— Не ты, значит. А откуда знаешь, сволочь?! Правду говори, а то медведю скормлю!
— Так она и говорила, для кого это, и от вашей супруги разрешение было! То она сказала! А-а! — Роджерсон выл от боли — брови Петр ему вырвал, кровь заливала лицо. Денисов же помог крепко-ухватил в горсть гениталии лекаря и сдавливал их.
«А казак ведь знает, что такое интенсивный допрос пленного в разведке», — искренне удивился в мыслях Петр, но спросил вслух другое:
— А инструменты бальзамические на меня Поульсен приготовил?! Кто ему приказал?!
— Ой! А! Княгиня Дашкова ему велела… — Роджерсон уже выл от боли, пока Петр скручивал ему ухо.
— Этот яд ты готовил, сучонок? — Петр сунул под нос лекаря-отравителя бумажный пакетик, изъятый у князя Барятинского и переданный ему генералом Гудовичем.
— Я готовил! — тут же взвыл Роджерсон, едва взглянув на пакетик. — И княгине передал!
— Ах ты, сучий выкидыш, опарыш жеваный! — Петр избивал лекаря методично, превратив вскоре его лицо в кровавую маску.
Бесило его еще и то, что лекарское искусство смертоносным теперь стало, а медик без препон душевных легко отравителем стал.
— Водой отлить, в чувство привести. Показания пусть собственноручно запишет, а мы пока других отравителей навестим, о делах наших скорбных побеседуем! — Петр повернулся и вышел из комнаты.
Быстро прошел по коридору павильона и без промедления зашел в предупредительно открытую перед ним дверь, у которой застыли два вооруженных стража.
Поульсен, тщедушный мужичонка, при появлении императора встал, лицо бледное, но спокойное. Ручонки с глазками не бегают.
«Не похож на отравителя сей лейб-хирург, не похож!»
— Зачем инструмент для бальзамирования подготовил? Кого потрошить собрался, эскулап?
— Вас, ваше императорское величество, — спокойно ответил Поульсен, глядя немигающими глазами прямо на лицо императора. Только лицо еще чуть побелело, но не лгал императору хирург, не лгал — иначе ложь бы легким туманом выбивалась. — В ночь на 29 июня мне велели инструменты для бальзамирования покойного императора, то есть вас, государь, подготовить. Я не сомневался, так как собственными глазами видел похоронный кортеж.
— Ага. А кто вам приказал?
— Ее светлость княгиня Екатерина Романовна, государь.
— Ага, — Петр был обескуражен честными прямыми ответами. Его детектор безмолвствовал — медик говорил правду. Петр в растерянности почесал переносицу, ему стало ясно, что лекарь тут не при делах.
А медик продолжал говорить:
— А вчера я понял, что стал жертвой чудовищной мистификации, и задал их высокой светлости княгине Екатерине Дашковой вопрос, для чего были те пышные ночные похороны.
— Ну и что ответила вам их светлость?
— Она загадочно улыбнулась и ответила одно. Я постараюсь в точности сказать ее слова. Они были такие — «Мы хорошо подготовились». Это все, что она сказала мне, ваше императорское величество.
— Ну что ж, — задумчиво проговорил Петр, — вы сказали правду. А потому свободны. Выпустите господина Поульсена на свободу. Как говорится, с чистой совестью. Но помните, пока не разрешу, из Петергофа не выезжать! Понятно вам?!
— Да, ваше императорское величество, — склонился перед ним в поклоне лейб-хирург мятежной супруги.
Петр ободряюще ему улыбнулся и, выйдя из комнаты, направился по длинному коридору в противоположный конец павильона, где у приоткрытой двери стояли на карауле трое постовых, вытянувшихся перпендикулярами. Петр им благосклонно кивнул и зашел в комнату.
На кровати сидела, понурив голову, молодая черноволосая красотка в порядком запачканном Преображенском мундире. При виде императора она встала и чуть склонила голову:
— Я счастлива видеть вас, ваше императорское величество!
Петр малость охренел, глядя на улыбавшуюся ему женщину, с языка которой срывался легкий туман. Он в восхищении даже покачал головой — ну какова стерва, врет и не краснеет. Серьезный противник!
— А я как рад видеть, княгиня. После сделанных вами подарков мое искреннее желание увидеть вас еще больше усилилось.
— Каких подарков, ваше величество? — в недоумении выгнула красивые брови Екатерина Дашкова.
— Позвольте поблагодарить вас за репетицию моих пышных похорон. Утешили вы своего крестного отца, меня то есть, если вы подзабыли за молодостью лет. Вам ведь всего восемнадцать? Все очевидцы говорят в один голос, что эта затея вам особенно удалась! Но стоит заметить, что реальные похороны вызвали бы у вас исконное чувство гордости за проделанное!
— Я не понимаю, о чем говорит ваше императорское величество, — голос Дашковой сплошное искреннее недоумение, и Петр бы еще вчера мог бы поверить этой красотке.
— Понимаю, княгиня, истинная добродетель всегда анонимна. Но не в похоронах дело — театр этот нас пока не интересует. Вы, княгиня, и покойный граф Никита Панин свершили благое дело, и князь Федор Барятинский благодарен вам за те немалые денежные суммы, что вы ассигновали ему на уплату долгов. К некоторому сожалению, для вас, княгиня, разумеется, князю не удалось его предприятие…
— Государь, я не понимаю, о чем идет речь? Я не давала и не обещала князю Барятинскому никаких денег. Тут произошла какая-то ошибка! — Красотка вела себя достойно, отражая удар за ударом, вот только капельки пота на лбу выдавали ее напряжение.
— Ах, какая незадача! И Роджерсон, наверное, вам вот этот порошочек чудный не передавал, приправу отличную для моего стола? — Петр протянул ей пакетик. — Не желаете попробовать, отведать, так сказать?
Вне всякого сомнения, княгиня узнала отраву, так как сильно напряглась, но почти мгновенно оправилась. Достойный противник — таких не бить, а на месте убивать надо, без всякой пощады.
— Ваше величество, я не получала от Роджерсона ничего. Этот англичанин такой выдумщик…
— Ах, как вы милы, княгиня, — Петру окончательно надоел этот дешевый балаган, — от всего отмазались, никому веры не оставили. И про слугу своего ничего не сказали, что в Кронштадт письма некие отвез. Выражу вам сочувствие, вы лихо умертвили этим ядом своих любопытствующих родственников. Отца Романа Илларионовича и родную сестру Лизу. Добавлю только то, что они умирали в страшных мучениях, прочитав некое письмецо и порезавшись о некий футляр.
Этот удар застал княгиню врасплох, и она прикусила губу.
— Еще от вашего яду, князем Федором подсыпанного, четверо погибли, да еще одного слугу князь, для спокойствия своего душевного, зарезал. И у вас достойный сподвижник был, покойный гетман Разумовский, что две отравленные свечи мне в спальню тайком велел поставить. От них еще два человека погибли. И радостно мне на вас смотреть, княгиня! Прямо русские Борджиа какие-то, сеньора Лукреция — отравительница, отцеубийца, братоубийца и, слава господу, неудавшаяся цареубийца. Удручающая репутация для молодой и красивой женщины, не находите ли? И не перебивайте меня, я вам еще не все сказал! — Петр осадил открывшую было рот Дашкову, которая, наконец, себя выдала. — Все вы понимали! И где ваша истерика, с которой вы должны были встретить известие о смерти любимого отца и не менее любимой сестры? Где крокодиловы слезы и обморок? Падайте же в него быстрее, княгиня, а то казак за дверью два ведра воды устал держать…
— Что вы говорите такое ужасное, ваше величество?
— Ужасны ваши деяния! Но я хочу спросить одно — для чего вам потребовалась сомнительная слава отравителя? Молчите? Тогда я сам за вас отвечу — власть! Вот одно, к чему вы стремились. Но вы просчитались. Моя супруга, годика через три, когда б на троне крепко утвердилась, вас бы отвела в сторону — на пост президента Академии наук. И сидели бы вы долго и грустно, и крыс с ручек бы своих приручили, хлебушком кормя, — Петр говорил почти правду, именно о таком будущем Дашковой он читал. А «почти» — потому как теперь у княгини будет совсем другое будущее.
— Ваше вел…
— Молчать! Я скажу о другом. Вы надеетесь, что я отнесусь к вам со снисхождением, как к женщине. Вы заблуждаетесь — если женщина влезла в мужские игры и принялась убивать, то относиться к ней надо как к мужчине, без всякой пощады. И жалеть я вас не буду! — сказав эти слова, Петр внезапно правой рукой ударил княгиню в живот, а левой добавил в челюсть.
Дашкову сильные удары Петра сразу отбросили на топчан, от боли она согнулась и застонала.
— И затея с Ропшей тоже удачна. Конечно же, пьяные гвардейцы охотно придушили бы меня, а списано все было бы на внезапный апоплексический удар! — И вот тут княгиня побледнела, а Петр внутри улыбнулся, его догадка оказалась верна. — Все вы учли, все. И похоронами лживыми приучить народ к мысли о моей безвременной кончине, и другие ваши затеи тоже оригинальны и настоятельны. Хвалю, вы, Катерина Романовна, талантливый организатор этого июньского коп де этат.
Тут Петр осекся — «государственный переворот» он сказал на французском языке, хотя кроме сакраментального «шерше ля фам» на этой мове он ничего не знал в той своей жизни. А это означало, что он начал использовать словарный багаж императора автоматически.
— Все вы учли… Кроме одного. Я другой стал! — от бешеного выкрика Дашкова вздрогнула, а Петр одним рывком приподнял ее с кровати, заглянул в ее помертвевшие от ужаса глаза, с силой бросил обратно на ложе и выхватил проверенную шведскую шпагу.
Княгиня дико взвизгнула, наконец-то ее проняло до самого копчика, и эта стерва поняла, что с ней шутить больше не будут. Но Петр не стал ее убивать — он острой сталью, прижав Дашкову к постели, полностью разрезал на ней Преображенский мундир.
Затем за полминуты сорвал с нее всю одежду и бросил на пол. Попытка сопротивляться была молниеносно пресечена двумя решительными ударами — из разбитого носа женщины хлынула кровь.
— Носить офицерскую форму гвардии, не имея чина, есть самозванство! В общем, так, княгиня. Сейчас вы садитесь за стол и пишете все, и что знаете, и что мыслили. Все! Врать мне бесполезно — я ложь узнаю. Повторяю для тупых — я стал другим! — Пощечина отбросила нагую красотку к стене.
Странно, но, смотря на полностью обнаженную и красивую женщину, Петр абсолютно не испытывал вожделения. Он мог сделать с ней сейчас все — избить до полусмерти, истязать, придушить. Но одного он не смог бы над ней сотворить — изнасиловать. Она вызывала у него отвращение.
Краем глаза он посмотрел на присутствующих за его спиной. Миних криво улыбался, как бы говоря: «Зер гут, майн Петер, зер гут!» Гудович что-то шептал про себя, и по артикуляции губ Петру показалось: «Да повесить суку, всего и делов!»
Денисов поглядывал с нескрываемой злобой, положив ладонь на рукоять сабли. Будь его воля, сотник бы просто разрубил отравительницу на две половины.
Два конвойных казака, судя по горящим глазам, зверски и без всяких изысков изнасиловали бы княгиню до смертельного исхода, да еще бы других казаков позвали для такой забавы.
— А если писать не захотите или лжи хоть слово напишете, то смерть примете лютую. Я на вас полсотни казаков спущу, а они в три дыры насмерть затрахают. Денисов? Смогут по трое зараз?
— А то как же, государь! Турчанок и татарок распинывали не раз и не два и полусотней их имели.
— А не откусывали «уду»? — со знанием предмета спросил Петр.
— Так баба што кобылица неезженая, без узды не поедет. Колышки в землю вбивали, да ее нараскоряку за руки-ноги привязывали, а удила в рот. Но то вдвоем. А ежели втроем, то на казака сажали, нагибали и руки к ступням привязывали, ну и узду в рот, или деревяшками клыки выбивали, и завместо их вставляли. Не кусались, заразы…
Княгиня была бледна как смерть — богатый казачий опыт в этой области пришелся ей явно не по вкусу. Она куталась в одеяло и заметно дрожала, причем явно не от холода.
— Я предоставляю вам выбор, княгиня, — либо вы пишете чистосердечную исповедь, либо я ухожу отсюда и оставляю вас на ласковое обхождение казаков. И если вы полностью ублаготворите все похотливые желания полусотни донцов, то я отпущу вас на все четыре стороны. С таким богатым опытом вас в любой лупанарий возьмут…
— Государь, я все напишу… — еле слышно прошептала Дашкова разбитыми губами и ладонью утерла кровь.
— Андрей Васильевич! Принесите княгине монашескую рясу, пусть она прикроет свои прелести. И бумагу с чернилами. У вас два часа, княгиня. А ты, Денисов, поставь вокруг павильона и внутри его полсотни казаков, пусть сменят драгун на охране. И помните, княгиня, ни одного слова лжи — я сам вас проверю. И за казаками тогда дело не станет, даю слово…
Петр повернулся и, сопровождаемый свитой, вышел из павильона. На душе было пакостно. Но слово дадено, и, если Дашкова соврет в своей исповеди, ее судьба будет печальна, верная смерть отравительницу ждет, ужасная.
Если же напишет правду, то тогда он будет думать над ее дальнейшей жизнью. Но одно Петр знал точно — монастырь для нее станет лучшим вариантом будущего существования…
Ораниенбаум
Петр с болью в душе смотрел на Большой дворец. Ровно двое суток он отсутствовал, и прелестный Ораниенбаум превратился в руины Сталинграда далекого сорок второго года. Трудно было признать в закопченном и раздолбанном гаубичными бомбами здании красивый раньше Большой дворец. А крепостные ворота Петерштадта, высокая чудная башенка сейчас высилась полностью закопченной развалиной.
Петр тронул коня и шагом подъехал поближе. В канале догорала галера, множество каких-то предметов лежали на дне, накрытые покрывалом голубой морской воды. Он покачал головой — на миг представил, с какой яростью отчаяния шли на выручку галеры, как они прорывались по каналу и сколько моряков погибло в этой ожесточенной баталии.
Но трупов нигде не было видно — только высился огромный холм братской могилы. Такой же печальный холм он видел возле Нарвы — там была могила солдат гвардейских Преображенского и Семеновского полков, погибших 19 ноября 1700 года в сражении со шведами.
Возле могилы стоял на коленях священник и тихо шептал молитву. А Петр застыл — ему до глубины души стало стыдно. Он считал себя православным, искренне верующим в Творца, а не удосужился хотя бы прочитать молитву в память погибших солдат, за него отдавших свои жизни. И не было сейчас для него строже судьи, чем он сам…
Петр обнажил голову и медленно подошел к могиле. Встал на колени рядом со священником и стал читать подряд все те молитвы, которые знал. И понемногу, неожиданно для себя, он впал в необъяснимый транс — только небо и он сам, с растерзанной и кровоточивой душой…
— Вы плачете, государь? — Петр очнулся от прикосновения к плечу и тихого голоса. Понимающего голоса…
— Для чего все это было, отец? Сотни и сотни людей погибли! Для чего все это? Может быть, мне было бы лучше подставить свое горло убийцам? Пусть перерезали бы, но люди были бы живы! К чему эта кровь?! К чему все эти ненужные смерти?!
Он был искренен в своих словах и действительно был готов принять смерть, не колеблясь. Перед ним сейчас, будто в тумане, проплывали смутные лица погибших в эти окаянные дни и убитых им лично. И то, что раньше казалось примером доблести императора и воина, сейчас предстало перед ним совершенно в ином свете.
— Сын мой, твоя душа страдает и скорбит, не в этом ли объяснение всему случившемуся. Ибо в страданиях душа человеческая очищается, в скорби и страданиях. Они делали свой выбор, и ты, государь, тоже сделал выбор. Но пути Господни неисповедимы, откуда знать Им предначертанное…
— Прости меня, отче, прости. Я стал другим, совсем другим. — Перед взором Петра, когда он погрузился в молитву, была словно перелистана, другого слова он просто не мог правильно подобрать, вся жизнь его «предшественника».
«Бог ты мой, быть русским царем — и настолько не любить свою державу?! Принять православие — и так ненавидеть его?! Опираться на того же шталмейстера Нарышкина, Волкова и Мельгунова — и приказать их выпороть прилюдно за несколько дней до гвардейского мятежа. Господи всемилостивейший, каким же надо быть жутким и тупым идиотом! И угораздило же меня попасть в эту шкуру…»
— Я верю тебе, сын мой! Я знал тебя раньше, но сейчас ты стал совершенно другим. Настоящим царем, исконным, православным. Ты и меня прости, сын мой, что худое о тебе думал…
— Ах, отче, поспешно мы иной раз о людях судим. В мелочах караем, а большее не разглядываем.
— Так и Христос, сын мой, говорил — не судите, да не судимы будете. И тебе, государь, предстоит свой крест дальше по всей жизни нести, и сию ношу ты ни на чьи плечи не переложишь. То только тебе начертано. И искупление вершить…
— Какое искупление, отец мой?
— Оно тебя еще ждет, но требует смирить сердце. Есть в тебе ненависть, а это сильно помешает тебе, государь, и жить, и править. По Божьему закону и справедливости. Смири свое сердце, притуши в нем злость немалую, укрепи свой дух, умей всех выслушивать и прощать за грехи их вольные и невольные, и то станет твоим искуплением.
— Искупление?! Но память же…
— Пройдут годы, и, если сердце доброе, то черное забудется, и в душе токмо светлое помниться будет. Вот дед твой Петр Алексеевич, царствие ему Божье, а ведь при жизни некоторые его воплощением антихриста, прости мя Господи и помилуй, считали. Но вот, почитай, сорок лет прошло с его кончины, и видно всем, что велики были его начинания… Так и о тебе судить будут, взвешивать доброе и злое, тобой, государь, сотворенное.
— Я попробую. Я действительно попробую. Думаю, смогу. Благослови меня, отче. И спасибо — немалую ношу ты с моей души снял…
Священник перекрестил императора и бережно погладил его по волосам, а Петр крепко схватил старческую ладонь и стал целовать, благодарный до глубины души за обычное человеческое участие. А потом поднял свое заплаканное лицо и стал говорить про то, что наболело в душе, говорить и говорить. Искренне…
Петр сидел на траве и смотрел на голубую гладь канала. На душе стало спокойно, как-то благостно. И вода смывала боль и гнев, злобу и жестокость. Но не всю — он решил пощадить Дашкову и постричь ее в монахини, хотя такой вариант его не устраивал.
Он вспомнил отравленных женщин, бедную Машеньку, графа Воронцова и несчастных слуг — такая злоба нахлынула, что опять тошно стало. Конечно, христианское смирение и умение прощать врагов своих дело хорошее, но надо, чтобы и врагам было что тебе прощать. А княгиня более чем враг — это демон в женском обличии, исчадие…
И еще одна головная боль — а что с супругой делать? Допросить ее придется с пристрастием, «детектор лжи» используя, и что дальше прикажете? Правосудие вершить? Повесить или приказать тихонько зарезать можно, и даже, наверное, нужно. В монастырь упрятать? Так один циник правильно заметил, что клобук монашеский не гвоздем прибит. И надежда у вражин всегда будет. Если его отравят или зарежут, то вот она — готовая императрица, в монастыре. И второго сына своего, от императора-безумца прижитого тайно, сумела за границей спрятать, чтоб помешанный супруг не приказал зарезать…
Петр выругался — прикажешь теперь, царь-батюшка, и младенца неповинного убить? Лавры царя Ирода заполучить, что приказал в Вифлееме всех младенцев зарезать? Или Миниху дело поручить, пусть старый фельдмаршал думу тяжкую думает…
Он встал и закурил поданную Нарциссом папиросу. Петр все прекрасно понимал, что Миних поступает по принципу: есть человек — есть проблема, а нет человека — нет и проблемы.
Христофор Антонович вопросы сии разрешит, не даст царю-батюшке, кормильцу и поильцу, руки свои белые кровью обагрить. Сделает все так чисто и по-умному, что его государь весь в белом будет, а остальные в натуральном дерьме. И скончается его супруга внезапно от апоплексического удара вкупе с геморроидальными коликами, что с ней уже сегодня обязательно приключатся…
И чем он лучше этой всей сволочи будет? Чем? Да такой же — интересы монарха и государства всегда требуют человеческих жертв. Без этого не обойтись, и никак иначе. Тысячу оправданий любым его зверствам найдут, и он сам себя обелит. И что? Как был человек сволочью, так сволочью и остался. Себя самого хрен обманешь…
Легкий ветерок лениво гонял по парку какие-то бумажки — то ли при эвакуации они разлетелись, то ли во время бомбардировки и пожара. Одну прибило прямо к ногам, и Петр, нагнувшись, поднял ее. Развернул скомканный лист с отрывом изрядным и углубился в чтение:
«…Службу и интересы Ее Величества прилежнейше и ревностнейше хранить и о всем, что Ее Величеству, к какой пользе или вреду касатися может, по лучшему разумению и по крайней возможности всегда тщательно доносить, и как первое, поспешествовать, так и другое отвращать, по крайнейшей цели и возможности старатися и притом в потребном случае живота своего не щадить. Такожде все, что мне и в моем надзирание повелено, верно исполнять и радетельно хранить, и, что мне поверено будет, со всякою молчаливостию тайно содержать и, кроме того, кому необходимо потребно, не объявлять, и о том, что при дворе происходит и я слышу и вижу, токмо тому, кто об оном ведать должен, никогда ничего не сказывать и не открывать, но как в моей службе, так и во всем прочем поведении всегда беспорочной и совершенной верности и честности прилежать…»
Начала и конца у данной бумаги не было, а содержание больше напоминало текст какой-то придворной присяги, так как там имелись слова про «ее величество», «двор» и прочее.
Петр решил проверить свое предположение, повернулся и подозвал к себе Волкова, который маячил за спиной, увязавшись за императором в этой ораниенбаумской поездке.
Секретарь с самым заинтригованным видом подошел, и Петр сунул ему в руки бумажку. Волков проглотил ее за минуту и с разочарованным видом посмотрел на Петра.
— Что сие такое?
— «Клятвенное обещание служителей», принятое тридцать лет тому назад, при государыне Анне Иоанновне, — немедленно и четко доложил императору кабинет-секретарь.
— А ты его полностью соблюдаешь?
Секретарь замялся и стал топтаться с ноги на ногу. И со смущением тихо произнес:
— Ваше величество, простите меня покорно. Но вы стали уметь как-то отличать ложь…
— Умею, Дмитрий Васильевич! А потому советую мне более не врать, а от подношений отказаться. И тем паче от иностранных послов содержание получать, — от последних слов императора Волков стал белым, как мелованная бумага.
А Петр, понимающе посмотрев на секретаря, криво улыбнулся. Как он и предполагал, все его окружение работало на иностранных дипломатов. Практика такая была в то время широко принята…
— Присягу сию переделать немедленно. Сам лично у каждого приму ее, и сегодня же у поваров, кухонных и спальных служителей. И если кто солжет мне, то пусть на себя пеняет. Напомни всем — за ложь жестоко наказывать буду, сучьев и веревок в России на всех хватит. Ясно?!
— Да, государь.
— А тебе советую от подношений отказаться. Жалованье проси необходимое, но если брать при том начнешь, то не обижайся.
— Ваше величество, я все понял.
— Награды какие у тебя с собой есть? А то я не позаботился ранее подумать, а моряки зело отличились.
— Есть, государь, — Волков обернулся, и один из чиновников шустро принес небольшой ларец и застыл перед Петром, держа нетяжелую ношу на вытянутых руках.
Волков откинул крышку, и император, заглянув в хранилище, тихо присвистнул — богатства были собраны изрядные. Две большие серебряные вышитые звезды о восьми лучах каждая. На одной было написано русскими буквами: «За труды и отечество», и Петр, как любой нормальный историк, пусть и недоучившийся, узнал девиз ордена святого Александра Невского.
А мудреная латынь на другой звезде: «Amantibus Justitian, Pietateret, Fidem», была переведена в мозгу без замедления: «Любящим правду, благочестие и верность». То была звезда ордена святой Анны, награды, которую учредил его «отец» после смерти жены, матери императора Петра Федоровича.
Этот орден Петр Федорович привез в Россию и награждал им только своих голштинских подданных. Но награда не прижилась и со смертью императора вышла из обихода. И только Павел Петрович снова ввел этот орден в обращение, причислив его к общему капитулу российских орденов.
Кроме звезд, в ларце имелось множество других наград, но в глаза бросились два больших орденских креста для ношения на лентах. Первый крест с золотыми двуглавыми орлами между лучами был опознан сразу — орден Александра Невского. Такой же крест он вручил генералу Гудовичу позавчера в Петергофе.
Другой крест был покрыт красной эмалью, а между лучами были вычурные золотые завитушки. Петр перевернул крест на оборотную сторону. На белом медальоне в центре был начертан синий латинский вензель из четырех букв — A, J, P, F — с которых начинались слова девиза, начертанного на звезде. Правда, латинские начальные буквы, как он знал, имели и иное смысловое звучание — «Анна, императора Петра дочь».
Под большими крестами и звездами в ларце имелось полдюжины крестов святой Анны меньшего размера, второй степени отличия. А также с десяток эмалированных крестиков, похожих на орден Александра Невского, в серебряных овалах.
Петр сразу понял, что видит уже свое изобретение, с похвальной поспешностью внедренное в жизнь, и сделал себе зарок вдумчиво реформировать существующую орденскую систему, приняв новые ордена святых Георгия и Владимира, учредив их вместо Екатерины.
Но одна мысль подспудно все же никак не хотела оставить его и без того забитую размышлениями голову, и он, закрыв ларец и отослав чиновника, тихо спросил у Волкова:
— Кто из людей моей тетушки всегда верно служил России и почти не брал от иностранцев подношений?
Спросил без надежды, от отчаяния, заранее предчувствуя ответ. Еще в институте он запомнил две истории со взяточничеством и казнокрадством, связанных с именем императора Петра Первого.
Однажды Петр Алексеевич, не выдержав очередного сообщения о воровстве из казны, в сердцах приказал генералу-прокурору Ягужинскому написать грозный указ, в котором казнокрады предупреждались, что кто из них украдет ценностей более чем на одну веревку, то на оной веревке вора и повесить немедленно.
Ягужинский отложил перо в сторону, машинально потер себе шею и тихо сказал разгневанному императору:
— Ваше величество, вы рискуете остаться без подданных…
Но Петр был сильно удивлен, когда секретарь Волков, затвердев лицом и заиграв на скулах желваками, сказал:
— Бывший вице-канцлер Бестужев, Алексей Петрович. Он хоть и враг мой безжалостный, но не брал. Даже когда дом обставить ему нужно было, то он взял у аглицкого посла, но не так, хотя тот и давал, а в долг. А сумма-то немалая — пятьдесят тысяч рублей. Для каждой тысячи требовался поручитель, так вот, вице-канцлер к послу полста человек привел, и все поручились за него. Мне о том граф Алексей Григорьевич Разумовский говорил, а он еще больший ненавистник Бестужева.
— И где он сейчас? — стараясь не выдать своего интереса, как можно холоднее спросил Петр. Он вспомнил фильм о гардемаринах, и хоть туфта там проскальзывала, но многое и верным было.
— В ссылке, ваше величество, — несколько удивленно ответил ему Волков, — вы же его, государь, не помиловали и не вернули.
— Отпиши немедленно вернуть его из ссылки. А по дороге сюда пусть подумает, как нам, не нарушая мира с королем Фридрихом, навечно присоединить под любым соусом Восточную Пруссию и Голштинию. А также без войны оттяпать у Дании Шлезвиг. Пусть подумает и проблемы сии решает. А если успех будет, то милость моя безгранична к нему будет. И сам подумай, ибо одна голова хорошо, а две лучше. Но помни — тайну эту блюди, а не то, сам знаешь…
Волков поклонился и быстро отошел. Краем глаза Петр видел, как кабинет-секретарь быстро написал какую-то грамоту на походном столике и прикрепил к ней печать.
Потом подошел обратно к императору, прихватив грамоту на подносе с пером и чернилами, и попросил подписать. Петр привычно обмакнул гусиное перо в чернила и подмахнул подпись.
Волков поклонился императору и хотел было удалиться, но был застигнут внезапным вопросом:
— Через плечо подглядывал вчера? Так вот — Ломоносова, Кулибина и Ползунова с учениками ко мне вызвать немедленно! И церковных иерархов, числом изрядным в полдюжины, тоже вызвать. Но не тех, кто у Миниха в Петербурге под арестом сидят.
— Сейчас нарочного отправлю — Ломоносов Михайло сын Васильев и мастер Кулибин Иван сын Петров завтра с утра у вашего величества будут. Они в Петербурге. Механик Ползунов Иван сын Иванов в Знаменском руднике на Алтае. Отправлю за ним немедленно. За иерархами в Псков и Новгород тоже отправлю.
Петр благодарно кивнул — конечно, Волков сукин сын, но умеет работать, и оперативно нужную ему информацию собирает. Видно, вчера в Петербург гонца гонял, ибо сам вряд ли знал о существовании мастеров Кулибина с Ползуновым.
Петр закурил и задумался. Создание капсюльных патронов и нарезного многозарядного оружия с длинной пулей позволит российской армии доминировать долгое время на поле боя. Изготовить капсюльный состав несложно — сейчас есть серная и азотная кислота, ртуть и другие ингредиенты. Сделать можно и нужно, но важно тайну сохранить и рецептуру изготовления. Это же касается динамита и аммиачной селитры.
Значит, необходимо создать закрытый город, «почтовый ящик», короче, где-нибудь в глухой тмутаракани российской глубинки, согнать туда умельцев, но оттуда никого не выпускать, и никого, особенно иностранцев, и близко не подпускать. И не на пушечный выстрел, а на полет баллистической ракеты.
И этим заняться надо немедленно, чтобы к войне с Турцией, через шесть лет которая начнется, готовыми быть. И реформы военные провести — а для того вечером с Румянцевым встретиться…
Петр крепко, до хруста, сжал зубы, чтобы не стонать. Четыре дня назад он пришел в себя, но в чужой личине. Здесь, в этой спальне. На цыпочках бегал по ней, встретился здесь с Лизой, с Минихом, пережил ночные встречи со своими «добрыми дедушками».
А сейчас здесь сплошной ужас от последствий попадания и взрыва гаубичной бомбы. Петр еще раз медленно оглядел разрушенную комнату, сплюнул и вышел в закопченный от пожара зал. Печально огляделся кругом еще раз, негромко выругался и зашел в свой кабинет.
Однако и здесь его надежды не оправдались — мало того, что в комнату попало как минимум две бомбы, так в ней еще вспыхнул пожар, который, судя по всему, матросам удалось как-то потушить. Все было черным-черно от копоти, стол изувечен, шкаф с документами разрушен, а все бумаги, судя по обугленным клочкам, сгорели.
От досады Петр пнул по обломкам. И неожиданно из груды мусора и дощечек показался край металлического футляра. Он нагнулся, поднял ящичек, крышка которого легко открылась. Внутри было несколько листочков бумаги, написанных бисерным женским почерком на немецком языке, совершенно не пострадавших от последствий бомбардировки. Петр решил полюбопытствовать, и неожиданно для себя втянулся в чтение:
«1) Представляется очень важным, чтобы вы знали, Ваше Высочество, по возможности точно состояние здоровья императрицы, не полагаясь на чьи-либо слова, но вслушиваясь и сопоставляя факты, и чтобы, если Господь Бог возьмет ее к себе, вы бы присутствовали при этом событии.
2) Когда это будет признано свершившимся, вы (отправясь на место происшествия, как только получите это известие) покинете ее комнату, оставя в ней сановное лицо из русских и притом умелое, для того, чтобы сделать требуемые обычаем в этом случае распоряжения.
3) С хладнокровием полководца и без малейшего замешательства и тени смущения вы пошлете за
4) Канцлером и другими членами конференции; между тем
5) Вы позовете капитана гвардии, которого заставите присягнуть на кресте и Евангелии в верности вам (если форма присяги не установлена) по форме, которая употребляется в православной церкви.
6) Вы ему прикажете (в случае, если генерал-адъютант не может явиться или если вы найдете удобным предлог оставить его у тела императрицы) пойти
7) Объявить дворцовой гвардии о смерти императрицы и о вашем восшествии на престол ваших предков по праву, которым вы владеете от Бога и по природе вашей, приказав им тут же идти в церковь принести присягу на верность, куда между тем вы
8) Прикажете позвать дежурного, живущего при дворе священника, который вынесет крест и Евангелие, и по мере того, как солдаты будут приносить вам присягу, вы им при выходе будете давать целовать руку и вышлете им несколько мешков с несколькими тысячами рублей.
9) То же распоряжение, которое получит капитан, должно быть дано вами сержанту лейб-компании, и, кроме того, ему будет приказано прийти в покои вместе с людьми без ружей; сержант не отойдет от вас во все время исполнения им своих обязанностей, что не будет излишней предосторожностью по отношению к вашей особе.
10) Вы пошлете оповестить гвардейские полки, чтобы они собрались вокруг дворца; дивизионный генерал получит приказ собрать свои полки, артиллерию, лейб-компанию, и все, что есть войска, расположатся вокруг дворца.
11) К этому времени соберется конференция; будет выработана форма объявления об этих событиях, причем вы тут воспользуйтесь той, которую вынете со своего кармана и в которой очень убедительно изложены ваши права.
12) Эти господа пойдут в церковь, первые принесут присягу и поцелуют вам руку в знак подданства. Затем
13) Вы поручите кому-нибудь, если возможно, самому уважаемому лицу, например фельдмаршалу Трубецкому, пойти возвестить войскам в установленной форме, которая должна быть краткой и сильной, о событии дня, после чего они все должны будут принести присягу в верности. Вы обойдете, если желаете, ряды, чтобы показаться.
14) Синод, Сенат и все высокопоставленные лица должны принести вам присягу и целовать руку в этот же день.
15) После того будут посланы курьеры и надлежащие в подобном случае извещения как внутри страны, так и за границу.
16) Утверждение каждого в его должности послужило бы ко всеобщему успокоению в эту минуту и расположило бы каждого в вашу пользу.
17) Форма церковных молитв должна быть такова: „О благочестивейшем самодержавнейшем великом гдре, внуке Петра Первого, Императоре Петре Федоровиче, самодержеце всероссийском, и о супруге его, благоверной великой гдрине Екат. Алекс, и о благоверном государе цесаревиче Павле Петр.“»
Петр долго размышлял над прочитанным, лихорадочно куря папиросы одну за другой. Бумага была написана его супругой, вне всякого сомнения, на случай внезапной смерти императрицы Елизаветы. И подготовлена в виде инструкции после 1754 года, так как указан наследник Павел Петрович.
Потому и выходило, что еще до недавнего времени Екатерина прилагала все усилия для обеспечения за ним власти, а супружеские измены не мешали ей давать верные советы. Но почему это было — найти ответ пока он не мог…
Петр быстро спустился по раздолбанной лестнице и оказался в крепостном дворе. Кроме дворца, никаких зданий здесь и в помине уже не было — все сгорели, только головешки дымились. И деревья черными стояли, листву на землю обронив. Война, мать ее!
— Большой и малый дворцы, крепостные ворота цитадели восстановить к зиме. Зданий в Петерштадте никаких более не строить. Парк можно только разбить, — обернувшись, Петр приказал вездесущему Волкову. Тот послушно наклонил голову, запоминая очередное распоряжение императора.
А Петр медленно пошел к застывшему плотному строю матросов и солдат героического, так он говорил себе постоянно даже в мыслях, гарнизона. Подошел, поглядел на суровые лица людей, большинство которых имело окровавленные повязки, и молча поклонился им в пояс.
— Спасибо вам, братцы. Отныне вас всех зачисляю за мужество ваше, и моряков галер, что на помощь к вам пришли, в гвардию. И учреждаю особый Гвардейский флотский экипаж, коим пока командовать будет контр-адмирал Спиридов. А солдат зачисляю в лейб-гвардии Петергофский полк, который тоже сформирован будет. И в честь живых и погибших грянем, братцы, троекратно наше русское ура!
…Дальнейшее Петр видел как во сне. Он обласкал Спиридова и наградил его орденом Александра Невского, затем двух его помощников, хмурого пожилого моряка и сурового голштинца с вырубленным лицом, облагодетельствовал малыми Анненскими крестами.
Потом наградил четверых матросов и двух солдат знаками отличия и приказал выдать всем двойное жалованье, а также отчеканить медали и наградить ими каждого участника обороны. И под ликующие крики собравшихся, улыбнувшись им механически, он вскочил в седло и поскакал обратно в Петергоф — по его лицу текли слезы…
Петербург
К полудню конные полки Румянцева и роты новообразованного лейб-гвардии Петербургского полка на повозках и реквизированных телегах вступили по Нарвскому тракту в столицу.
Драгуны и солдаты были веселы, хотя и проделали длительный и утомительный марш. А чего горевать служивым, на что жаловаться? Сыты, довольны, деньгами изрядными облагодетельствованы да царской лаской не обижены. К тому же победители, а героев любят и уважают. Потому солдаты шли споро и дружно, с песнями удалыми…
И толпился народ на петербургских улицах, с которых уже стерли все следы вчерашних событий, и только посты вооруженных до зубов матросов еще напоминали о десанте из Кронштадта, беспощадном расстреле картечью и жестоком кровопролитии.
Но собравшиеся на улицах обыватели уже забыли о случившихся горестях и самыми ликующими воплями встретили авангард войск императора Петра Федоровича.
— А драгуны-то не гарнизонные. Из армии генерала Румянцева пришли, и этих подлых гвардейцев в один миг разметали по сторонам — неча им супротив государя бунтовать. Вот и поучили саблями вострыми…
— Наконец-то наш государь Петр Федорович показал им кузькину мать, а, Кузьма? Поделом ворам и изменникам! Говорят, под Петергофом всю гвардию положили.
— А еще, любезный, войска нашего императора, дай бог ему всяческого здоровья, уже сегодня в город вошли. Собственными глазами солдат гарнизонных видел, что новым лейб-гвардии Петербургским полком стали. Говорят, что оные солдаты Измайловский полк начисто истребили, а Кирюху Разумовского на штыки подняли. На то вору и наказание…
— Матрена, гляди сюда. Вон казаки едуть, и не балують, не беруть ничаго, и под подолы не лазят. Значится, правду люди говорят, что строг государь. Не, не балують… А зря… Я согласная…
— Выходит, паря, брехали то вчера, когда про пруссаков на улице трепались. Их и в помине не было. А войско царское крепкое, не чета гвардейцам. Солдаты старые, опытные, порядок на улицах держат крепкий. Ну, дай Боже государю нашему…
Секретарь датского посольства Шумахер записал в свой дневник: «Новая гвардия днем вступила в столицу под приветственные крики населения. И трудно представить, что радостные и ликующие толпы черни, заполонившие улицы, еще три дня назад так же проклинали императора Петра, как сейчас его громогласно благословляли».
Петергоф
Створки двери разом были открыты перед Петром двумя желтыми гусарами, что стояли около них на карауле. Император, с гневом хмуря брови, громко топая запыленными ботфортами, вошел в спальню императрицы. Привычно огляделся по сторонам, оценивая обстановку.
В просторной комнате, раз в десять больше его опочивальни в разгромленном артиллерией малом ораниенбаумском дворце, было роскошно, но не без определенного уюта. Центральное место занимала широкая, но низкая кровать, на которой без труда смог бы уместиться с десяток гренадеров, и не теснясь, а лежа на ней совершенно вольготно.
Рядом с кроватью столик на кривых ножках, уставленный баночками и скляночками с какой-то лечебной, сильно пахучей дурью. На нем же приютились графин с розоватым морсом и высокий стакан из зеленого тонкого стекла, наполовину заполненный.
Большой голубой балдахин на шести столбиках, щедро расшитый тонкими серебряными нитями в виде цветов и узоров, накрывал сверху это великолепие и его незадачливую, но честолюбивую супругу, которая маленьким клубочком уместилась с краю.
Разглядеть свою супругу Петр не смог — одеяло и чепец полностью прятали Екатерину Алексеевну от нескромных взоров. И прятали намного лучше, чем стандартная армейская маскировочная сеть скрывает готовую к стрельбе гаубицу Д-30 из его далекого прошлого. Вернее, будущего, и очень отдаленного будущего.
Плотные синие шторы, расшитые такими же цветами и узорами, как на балдахине, превращали опочивальню, несмотря на царивший снаружи яркий солнечный день, в царство прохладных сумерек. Но это не мешало разглядывать комнату, наоборот, давало глазам отдохнуть, расслабиться.
Недалеко от кровати стояло два удобных кресла с небольшим столиком, Петр тут же направился к ним и с удобством в одном расположился, вытянув уставшие ноги.
Огляделся еще раз — везде позолота и лепнина, на потолке цветные фрески с картинками ночного неба и светил, почти как в планетарии. На стене большое, намного выше его, зеркало. Рядом трюмо с пуфиками, с которым соседствует шкаф со множеством ящичков, напоминающий библиотечный каталог, но отнюдь не портивший впечатление. Видно было, что заботливые женские руки успешно разрешили проблему шарма и уюта.
В опочивальне, кроме лежащей на кровати императрицы, было еще две женщины, обеспечивавшие уход за ней. При появлении в комнате императора они дружно встали, присели перед ним в книксене и продолжали стоять, преданно и внимательно смотря на властелина. Это были спешно привезенные из Кронштадта фрейлины его двора, надежные и тихо ненавидящие лежащую на кровати супругу.
Петр прикрыл глаза — усталость навалилась внезапной слабостью. Бояться было нечего — комнату на шесть рядов уже проверили на наличие оружия, включая и шпильки. С самой Екатерины давно сняли Преображенский мундир, заменив его пеньюаром, а заодно люди Миниха проверили императрицу на припрятанную отраву. Чего ж бояться?
— Откройте одно окно и раздвиньте на нем шторы. Помогите снять ботфорты и мундир. Попить и закурить, — усталым голосом Рык отдал приказы, не открывая глаз.
Фрейлины засуетились, открыли оконную раму и отодвинули по сторонам шторы — свет ударил по глазам даже сквозь закрытые веки. Затем дамы бережно стащили с ног императора ботфорты и размотали портянки, нисколько не чинясь и не морщась (и с чего бы — не мужик же пьяный, а законный государь-император), аккуратно освободили его от запыленного мундира и шляпы, заодно сняв голубую Андреевскую ленту.
Петр открыл глаза — Нарцисс поставил на столик кувшинчик сока с бокалом, банку с дымящимся фитилем и коробку папирос. Поклонился и замер в ожидании дополнительных распоряжений.
— Выйдите все, оставьте нас, — негромко бросил Петр и прикрыл глаза. Арап и фрейлины поклонились, быстро вышли из опочивальни и закрыли за собой дверь. Рык привычно смял картонный мундштук папиросы, раздул фитиль и закурил, выдохнув клубок дыма.
— Вставайте, сударыня, хоть вам это и тягостно. Но нам с вами есть о чем поговорить, что обсудить. И расставить точки как в нашем супружестве, так и в недавних событиях, — негромко, но властно сказал Петр.
К его удивлению, супруга послушалась и села на кровати. Рык усмехнулся и указал Екатерине на соседнее с ним кресло, а сам затянулся папиросой. Женщина послушно наклонила голову, слезла с кровати и, чуть пройдя по ковру босыми ногами, присела в кресло. Именно присела, не опираясь на спинку, положив ладони на колени.
— Еще три часа назад я бы с удовольствием удавил вас собственными руками. И не погнушался бы, — Петр сделал длинную паузу и несколько раз пыхнул папиросой. — А сейчас не знаю, что с вами делать…
Но супруга ему не отвечала, сидела молча, с чуть склоненной головой. Петр помнил парадные портреты императрицы Екатерины — полноватая черноволосая женщина с пухлым лицом, с привкусом легкой порочности, умные и властные, но блудливые глаза.
Но сейчас перед ним сидела другая женщина. Нет, черты угадывались, но она была старше своих тридцати с небольшим лет. Красные, как у кролика, глаза, лицо явственно припухло, видны дорожки от пролитых слез, проявились первые морщины. Видно, что борьба за власть и вчерашняя катастрофа надломили ее хорошо. Но не сломили — иначе вела бы она себя безучастно.
Петр поднялся с кресла, медленно подошел к Екатерине Алексеевне и снял с головы чепец. Черные длинные волосы, спрятанные под ним, рассыпались по плечам, а одна прядь закрыла лицо. Женщина тут же отвела их пальцами и посмотрела на Петра.
— Для чего вы это все устроили? Для чего? Отвечайте! — с еле сдерживаемым гневом спросил он ее.
— А что мне оставалось делать, ваше величество? — последовал до жути спокойный ответ.
Петр поднял руку, ему захотелось ударить ее, как Дашкову, сильно, без жалости, чтоб кровь брызнула. Гнев раздувал Петра, как пузырь, и, прошла бы еще пара секунд, он бы ее ударил.
Но тут Петр внезапно осознал ответ не умом, а чувствами, душой, по наитию — он не смог подобрать правильный ответ. Гнев исчез, будто растущий пузырь лопнул. И действительно — а что ей оставалось делать?!
Сына вот-вот объявят незаконнорожденным, а ее саму, после обвинения в супружеской измене, упрячут в монастырь. А долг денежный, солидный, принятый от матери, о чем он читал, гнетет тяжелой ношей. И что тут прикажете делать?
— Какую сумму вы задолжали? — последовал резкий вопрос императора.
— Более четырехсот пятидесяти тысяч рублей…
— Ни хрена себе! — Петр от удивления присвистнул. — И как вы собираетесь ее выплатить кредиторам?
— Не знаю, — тихо ответила ему Екатерина.
— А меня травануть хотели именно поэтому?
— Нет, ваше величество, — словно отрезала немка, — я не приказывала и не одобряла отравление. Я до этой ночи даже не знала о том, что его готовят. И долг мой тут ни при чем…
— Угу, — удивленно протянул Петр. Он был несколько растерян — супруга говорила ему правду. Версия начала давать трещину.
— А с похоронами моими что? Неужто не мечтали меня в гробу увидеть? Только не лгите, бесполезно.
— Ваше величество, я не собираюсь вам врать. Имитация ваших похорон нужна была, чтобы мне присягать начали. А я не собиралась вас хоронить или отдавать приказ, чтоб вас убили…
— Да уж… — удивленно протянул Петр.
Либо его магический детектор лжи сломался, либо супруга действительно искренне отвечает. Иного ответа просто не было. Он в замешательстве прошелся по комнате — дальнейший его вопрос про планируемое убийство императора в Ропше был уже бессмысленным. Супруга вовсе не хотела его скоропостижной смерти.
— Хорошо, — он, наконец, принял решение. — Но отравителей я не пощажу, ибо невинные души они погубили, волки позорные. И с наперсницей вашей, что Лукрецию Борджиа постаралась переплюнуть в коварстве злобном, отцеубийцей и родной сестры отравительницей, поступлю сурово. И ей благом монастырь далекий покажется. А если не пожелает монахиней стать, так на плаху отправлю без промедления!
И впервые он уловил реакцию Екатерины — услышав про отравления и обвинение в убийстве, по лицу женщины на секунду пробежала яркая гримаса брезгливости и страха. И внутренне Петр улыбнулся — его супруга представила, что за подругу она пригрела.
— Хорошо, — еще раз повторил Петр. — Долг ваш я из своих средств заплачу, немедленно и до последней копеечки. Развод дам, если пожелаете, и имение в Восточной Пруссии или Голштинии. Пенсию пожизненную назначу. Сто тысяч в год вам хватит?
— А если я не пожелаю с вами развода, ваше величество? — тихо спросила его Екатерина. Было видно, что женщина пребывает в сильном замешательстве и не понимает, почему ее не покарали за неудачный мятеж.
— Я не наказываю вас, Екатерина Алексеевна, за измены мне, как императору и как супругу, — решил ответить на ее невысказанный вопрос Петр, — только потому, что сам, своей дуростью, глупыми действиями и решениями, а также мужской немощью оттолкнул вас от себя и направил на это. И потому прошу простить меня великодушно!
И только сейчас Петр понял, что эти слова никогда не смог бы сказать реальный, прежний император. Глаза супруги расширились до максимально допустимых природой размеров, женщина пребывала в полном изумлении и смотрела на него так, будто увидела совершенно другого человека.
И тут удивился сам Петр — Екатерина встала перед ним на колени, поцеловала его руку горячими сухими губами и прижала ее к щеке. И он почувствовал на своей ладони капли ее слез и машинально погладил женщину по голове, немного приласкав.
— Пусть это и будет моим искуплением, — вслух высказал свои мысли Петр, — хватит, пролили уже и крови, и слез. Достаточно пролили, всласть…
И тут словно плотину прорвало — Екатерина лихорадочно стала целовать его руки и ноги, уже не плача тихо, а в голос рыдая, будто не императрица она, а обычная русская баба, коих пруд пруди.
Петр остолбенел, но тут до него стало потихоньку доходить, что благодарит-то она его не только за себя, но и за тех мятежников, кого он для пущего страха перевешать поначалу собрался, а теперь передумал. Все же есть у нее чувство благодарности и заботы о ближних, есть.
Но одно ей не сказал Петр — немало вреда причинила России эта немка, но намного больше от нее было пользы. Недаром в воспоминаниях всех ее современников остался «блестящий век Екатерины Великой». Потому и простил, да еще вовремя вспомнил, что она ему недавно прочитанную в Ораниенбауме инструкцию оставила…
Петр рывком поднял Екатерину на руки, и, хотя ноша эта была еще тяжела для его рук, но он все же донес женщину до кровати и бережно положил на одеяло. А та все плакала и повторяла на двух языках — русском и немецком — «благодарю» и «дорогой».
Он хотел ее успокоить и чуть приласкать, но неожиданно почувствовал влечение к ней, а потом закипела в сердце и страсть. Он начал целовать шею женщины, а его руки стали гладить ее тело, распахнув пеньюар.
И Петр обезумел — исступленно стал целовать ее небольшую грудь, живот, плечи, нежные мягкие губы. А сама Екатерина неожиданно вспыхнула сухой вязанкой хвороста — с такой бешеной страстью еще никто из женщин не ласкал Петра. И мир вспыхнул перед ним всеми цветами радуги…
— Почему вы только сейчас стали таким, таким… ваше величество? Почему не раньше?! — Екатерина гладила его грудь ладошкой и темного цвета глазами, с крохотными слезинками по углам, смотрела на Петра. А он еще не успокоил дыхание и смутно представлял, когда это он успел снять с себя всю одежду.
И тут неожиданно в голове сверкнула мысль — а ведь это моя пятая женщина, а, значит, последняя. И надо же, угораздило — на собственную жену запал, которая только что меня с престола хотела свергнуть и живота лишить. Кому сказать — не поверят.
— Откуда это у вас? — Пальчик Екатерины уткнулся в зажившую царапину на плече.
— Здесь, во дворце, гвардеец хотел штыком заколоть, — устало произнес Петр.
А жена не успокоилась и ткнула в другую поджившую ранку, и Петр ответил, что от пули. Так и продолжилось — супруга изучала по-новому его тело, а он нехотя отвечал ей, закрыв глаза.
Но прикрыл их хитро и через ресницы смотрел, что Екатерина смотрит на него с нескрываемым уважением и восхищением, словно впервые его увидела, а не прожила с ним в супружестве полтора десятка лет.
— Оставь свои расспросы, Катюша, — тихо попросил ее Петр, погладил по исцелованному плечу и тихо добавил: — Я убивал русских людей, и тут не гордиться надо, а скорбеть.
— Простите, ваше величество…
— Ты это, Катя, оставь. Можешь меня наедине называть на «ты», обойдусь и без «величества». Надоело, если честно. И еще одно — жить с тобой мы вместе будем, начнем с чистого листа. Ты согласна?
— Да, ваше велич… да, мой дорогой…
— Нарцисс! Бумагу и чернила! Розу тебе в задницу!!!
Екатерина чуть хмыкнула, а через минуту дверь открылась, и в опочивальне материализовался верный арап. Поставив на столик принесенное, он тут же вышел из комнаты.
— Садись за столик, моя дорогая женушка, и пиши. На русском и на немецком языке пиши.
Екатерина накинула на себя пеньюар и присела за столик. Разложила бумагу, обмакнула перо в чернила и с вопросительной улыбкой посмотрела на своего супруга.
— Я, государыня и императрица всероссийская Екатерина Алексеевна, — медленно и четко выделяя слова, стал диктовать Петр, — клянусь быть верноподданной и верной женой своему мужу и императору Петру Федоровичу, во всех делах ему помощницей и мудрой советчицей. И, начиная с ним жить в любви и согласии, клянусь забыть прошлое, что приносило горе и разлад в жизнь. И буду мужу своему усладой в жизни и с радостью дарить ему детей. И не умышлять ему огорчений, и во всех делах выслушивать. В чем и клянусь и крест целую. Поставь точку, милая. А на немецком не пиши — мы с тобой русские цари теперь.
Екатерина хотела свернуть бумагу, но Петр остановил ее:
— А обязательство сие в рамочку вставь да здесь на стенку повесь. А пока на столе положи, солнышко. И иди ко мне…
Екатерина подошла к кровати и была тут же схвачена крепкими руками Петра, который прижал ее к себе и посмотрел прямо в глаза.
— А я клянусь заботиться о тебе и о наших будущих детях, холить и любить. Я буду хорошим мужем, обещаю, — Петр привлек женщину к себе, крепко прижал к груди, стал целовать и долго держал ее в объятиях. А сам ощутил, что очень уж остро реагирует его тело на осторожные ласки Екатерины, и тихо спросил ее:
— А что это такое ты делаешь, моя прелесть?
— Я должна быть тебе, муж мой, не только усладой в жизни, но и в постели. Ведь иначе я не смогу подарить тебе сына… — на последнем слове голос Екатерины чуть дрогнул, и Петр все понял.
Чтобы отвлечь женщину от ненужных и горестных воспоминаний, он принялся неутомимо ласкать ее, поставив целью как можно дольше дарить ей блаженное забытье…
Петр, высунув кончик языка от усердия, черкал пером по листку бумаги, макая время от времени в чернильницу. А в голове уже крутилась мысль о переходе на ручки со стальным пером, какими он пользовался, когда учился в школе.
Вместе с тем, несмотря на занятость, он время от времени поглядывал на кровать — Катя спала глубоким сном. Именно спала — Петр осторожно, с трудом, освободился от ее крепких объятий.
Для него стало неожиданностью то, что Екатерина оказалась далекой от того образа, который он создал на основе всего прочитанного ранее и заочных впечатлений от рассказов. Впрочем, и сам он, судя по ее удивленным и растерянным глазам, стал совершенно другим человеком, представляющим тайну для этой умной женщины…
— Чем вы заняты, мой дорогой муж? — с ощутимым немецким акцентом раздался за спиной Петра грудной голос Екатерины.
— Определяю фронт работ для вашего императорского величества, — с улыбкой ответил Петр и пододвинул к ней стопку исписанных листов.
Екатерина взяла верхние листы в руки и стала читать. Петр краем глаза наблюдал за ней и видел, что по мере их прочитывания женщина удивляется все больше и больше.
— Ты, Катенька, не охреневай раньше времени! — пряча ухмылку, с постным выражением на лице, утешил жену Петр. — Главное тут в другом. Найти исполнителей толковых, поставить перед ними задачу, оговорить сроки ее выполнения и потребные затраты, а также показать кнут и пряник…
— Что есть «кнут и пряник» и что есть «охреневай»?
— Русский язык учить надо, лапушка. Я вот за ночку единую выучил. У нас в народе даже пословица есть — будет голод, появится и голос. Ты просто прикажи, чтоб с тобой только на русском говорили, и сама на нем думай, говори и пиши всегда. Да, еще одна просьба у меня есть — пьяниц гони поганой метлой, не терплю я их. Выпить чуть могу, но на столах чтоб духа пьяного не было, ни водки, ни вина, ни пива. Лишь по праздникам великим можно ставить. И табачников гони из дворцов — комнату малую для них отведи, с окном раскрытым, и пусть там курят. А вот я курить везде буду, работа такая, да и должность позволяет. В Древнем Риме и пословица подходящая была по такому случаю — юс лови Юви, нот лови бови…
— Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку, — Екатерина показала эрудицию, легко переведя высказывание. — Я сделаю все, что вы мне повелели, ваше величество.
— Это не приказ, ваше величество. Это просьба настоятельная. Мы любое дело должны вкупе делать, с мыслью общей. И понимать, что мы делаем. Мы должны с тобой стать единомышленниками и друзьями. Понятно?
— Я понимаю, ваше величество. Я буду желать того…
— Желания мало, Катя, стремление и труд должен быть.
— Я понимаю и буду делать все…
— Вот и хорошо. А русскому человеку завсегда цель нужна. Вот для того и пряник существует — сделать ладно, чтоб потом не переделывать, да в срок назначенный, да с ценой приемлемой, будет и награда иль чином, иль деньгами. А если не сделает, то кнут ему — чина лишить, с должности снять, штраф наложить или опалу. Но запомни, ваше величество, крепко на носу заруби — крестьян в крепостные раздавать нельзя, то государству ущерб великий. Наоборот, нужно облегчать положение крепостных крестьян потихоньку, запретить истязать их, продавать без семей и земли. И карать жестоко помещиков, если указ сей переступят. Понятно тебе, милая?
— Да, мой государь.
— Тогда пойдем дальше, Екатерина Алексеевна. Первые шаги я уже сделал и у мятежников крестьян половину, или всех, если вина тяжкая, в казну отберу. А их в Сибирь отправлю — чиновниками, офицерами и даже губернаторами. Могущество Российское Сибирью прирастет. Но для того там и люди грамотные, образованные нужны. Золота и серебра в недрах без меры в тех землях содержится, добычу его начинать нужно. А с ассигнациями баловство одно — бумажные деньги подделывать легко будут, да и к рублю они доверие подорвать могут. Еще как могут…
— Я понимаю, государь…
— Зови лучше по имени-отчеству, когда дела решаем. Так удобнее, Екатерина Алексеевна. Вот смотри, — Петр протянул руку к брошенному мундиру и вытащил из-под обшлага турбинную пулю. Женщина взяла ее в ладонь, повертела, подняла глаза.
— Это есть та ваша знаменитая пуля, что за пятьсот шагов в цель точно бьет? Мне про нее вчера рассказывали, — тут немка чуть передернула плечами, видимо, от неприятных воспоминаний.
— Да, Екатерина Алексеевна. Но пуля сия вчерашний день. Есть мысль, уже в чертеж изложенная, — Петр порылся в бумагах и достал нужный лист. — Вот винтовка шестизарядная, с нарезным стволом. За минуту, пока короткая лучина горит, шесть прицельных выстрелов можно сделать — на полторы тысячи шагов. В бой не вступая, можно за версту неприятеля совершенно истребить, потерь не имея. И эта винтовка сделана через год будет, слово даю. Но, чтобы войска ею вооружить, надо заводы и мануфактуры строить, мастеров готовить. А затраты велики, и потому казну наполнять надо. А с помещичьих крестьян денег не возьмешь — они барам своим платят. А те деньги на кружева да вина тратят, петимеры…
— Да, Петр Федорович, дела великие вы задумали. И я вам во всем, муж мой, помогать буду!
— Я верю тебе! Ты для начала в наших семейных, кабинетных, делах, я хотел сказать, порядок наведи и воровство там пресеки. А то покойный граф Роман — «большой карман», канцлер и братья Нарышкины в делах бордель развели, воровство повсеместное. Казной кабинетной сама распоряжайся и долги выплати с нее. А воров ко мне направляй, я их теперь насквозь вижу, лгать мне бессмысленно. Уменьши расходы на двор, лишних прихлебателей разгони к чертовой матери. Прости, господи, меня грешного! Повод удобный уже есть. И новых не набирай. Дворцы наши, здешний и Зимний в Петербурге, обустраивай, чтоб иностранцам не стыдно показать было. Но остальные скромно, без роскоши и излишеств. Образцы новой формы безотлагательно делай — нечего офицерам и солдатам в кружева рядиться, словно бабы они, а не воины русские. Скромнее надо быть, да и экономия изрядная получится…
— Сделаю, государь. А воротник вам своими руками вышью. К осени готово будет.
— Надо бы пораньше, мое золотце! Пусть расходы большие будут, но лучше раз потратиться, зато потом экономия все покроет.
— Через две недели образцы формы для войск и сапоги готовы будут. Я сегодня же займусь.
— Молодец! Дай поцелую в щечку, разумная ты моя! — Петр посадил Екатерину к себе на колени и поцеловал женщину.
Крепко обнял ее и начал ласкать. Жена стала ему истово отвечать, какая уж там пресловутая немецкая холодность, и Петр решил про себя, что дела делами, а вот зачать наследника престола наиболее нужное сейчас дело.
Он легко поднялся с кресла с Екатериной на руках, подошел к кровати и положил на нее жену. И вскоре любовное безумие накрыло их обоих своим покрывалом…
Петербург
— Манифест его императорского величества необходимо срочно отпечатать, чтоб сегодня и огласить! — Генерал Румянцев тяжелым взором уставился на адъюнкта Тауберта.
Бедолага уже трижды проклял тот день, когда до коликов в животе испугался покойного гетмана Разумовского, как задрожал при виде отрубленной собачьей головы. Проклятые русские, не дают жить спокойно честным немцам. Теперь за эту невольную измену вся его верная служба, как говорят русские, коту под хвост.
Ну ладно бы это — но Тауберт собственными глазами видел, какую кровавую расправу устроили пьяные вояки старого Живодера на улицах столицы и в присутственных местах. А еще эта ужасная Тайная экспедиция, в которую людей загребали легко, но обратно не выпускали.
Как говорили ему знакомые и знающие люди, в Петропавловской крепости страшно пытали и истязали всех принимавших участие в злосчастном перевороте 28 июня. А глава ее, этот мизерабль Шешковский, дневал и ночевал в крепости, и только ужасные рассказы шли по городу, шепотом передаваемые друг другу.
А еще говорили, что государь император зело рассердился на измену столичных чиновников и обывателей и пообещал мятежников выкорчевать так же, как его дед царь Петр стрельцов покарал. И весь город застыл, в нескрываемом ужасе ожидая прихода императора с войсками. И вот сегодня в столицу вошла кавалерия генерала Румянцева…
— Манифест сей, — продолжил тем же холодным тоном Петр Александрович Румянцев, — при мне прочтите, дабы отговорки потом чинить не смели. Понятно вам, господин адъюнкт?
Дрожащими руками несчастный адъюнкт взял манифест и стал читать. И уже через секунды с облегчением выдохнул воздух — фразы «наказаний не чинить» и продолжать службу «в прежнем порядке» сняли с его плеч тяжелую ношу ожидания последствий.
— Ваше превосходительство, манифест его императорского величества будет немедленно отпечатан. — И Тауберт по-собачьи поймал взгляд грозного генерала, любимца императора, назначенного командующим гвардией и президентом военной коллегии…
Румянцев долго крутил в руках новую фузею, рассматривая с нарастающим удивлением. Вроде фузея та же самая, тульская, ан нет. Прямой тесак крепится как штык, и теперь можно и колоть, и рубить. Фузея стала не только своего рода короткой пикой, но и старинной совней — обоюдоострым мечом на длинной, с два аршина, рукояти. И погонный ремень широкий мастерами прикреплен, чтобы фузею в походе на плече носить или на шею вешать, как император им всем с утра показывал. Но то нехитрые, хотя и нужные приспособления.
Главное в другом — генерал покрутил крепкими пальцами на столе вытянутую, чуть больше наперстка, свинцовую пулю. Он уже видел, что за триста шагов хороший стрелок спокойно попадает во всадника. Генерал негромко выругался — простое до жути изобретение, но никому и в голову не пришло, кроме императора.
Румянцев прошелся по кабинету — государь Петр Федорович стал другим, совсем другим. Если бы генерал не знал его хорошо, то подумал бы, что императора подменили — голос из сварливого стал у него спокойным и жестким, вместо пустого кривляния полная уверенность в себе, а трусость исчезла напрочь. Теперь государь с наслаждением вдыхал пороховой дым, сам вел солдат в атаки, проявил полководческий талант, да такой, что генерал втайне заведовать стал.
А эти военные изобретения вообще дорогого стоят. И в барабанную многозарядную винтовку генерал сразу же поверил, а сейчас представил, что будет твориться с неприятелем, с турками, пруссаками и прочими, когда их за версту выкашивать пулями будут…
Генерал постоял немного, вздохнул и уселся за стол, на котором были разложены собственноручно написанные императором бумаги. И их необходимо было тщательно рассмотреть и принять решения — о любой проволочке генерал боялся и подумать, он хорошо помнил грозный взгляд царя и гостилицкое поле, усыпанное трупами мятежных гвардейцев…
Петергоф
— Может, мы погулять пойдем, Катя? Как ты себя чувствуешь? — Петр затушил окурок в пепельнице и посмотрел на жену.
— Я хорошо себя чувствую, ваше величество, — тихо ответила ему женщина, — но нам лучше посидеть в спальне.
Петр напрягся — он впервые увидел легкий туман из уст супруги. А Екатерина, чуть улыбнувшись, сразу склонила голову.
— Простите, государь. Теперь я вижу, что вы как-то умеете определять ложь от правды. Простите. Здесь, в Петергофе, скрывается Григорий Орлов — он вооружен пистолетами и жаждет вашей смерти. Простите, ваше величество, что не предупредила вас сразу. Я просто забыла, когда вы… то есть когда мы… — женщина смешалась, и самую малость покраснели ее щеки.
Петр поднялся из удобного кресла и стал ходить по комнате из угла в угол, медленно размышляя — она мне сейчас своего любовника сдала с потрохами, щадить не стала. А это значит, что свое прошлое она решительно отсекла и свой выбор сделала.
— Ваше величество, прикажите поднять всех солдат, пусть немедленно оцепят парк и найдут его. Не дай Боже, замысел успешным станет. Об этом я подумать боюсь…
— Не стоит, Катя. Мы с тобой просто погуляем под руку вдоль канала. Хорошо? А меры я приму, не беспокойся. Нарцисс!
Арап немедленно зашел в комнату и низко склонился перед императором, ожидая его приказа.
— Одеть и вызвать в кабинет фельдмаршала Миниха. Позови фрейлин — пусть оденут ее величество. Мы немного погуляем вдоль канала, а ты вели, чтоб обед к нашему приходу был подан. Обед на троих, а более никого, — тихо приказал Петр и загадочно посмотрел на Екатерину Алексеевну, та стала бледной в какой-то миг. Женщина хотела что-то ему сказать, но осеклась под предупреждающим взглядом…
Вошедшие в опочивальню слуги быстро надели на Петра новый Преображенский мундир, наложили через плечо голубую ленту и облачили в башмаки. Император чуть-чуть улыбнулся супруге и вышел из комнаты вслед за Нарциссом, который сопроводил его в императорский кабинет.
Но и там Петр надолго не задержался — переговорив с Минихом о незначительных пустяках, он достал из знакомого ларца большой крест ордена святой Анны и тут же возложил его на шею старого фельдмаршала.
Потом Петр пригласил Миниха на обед, проводил до дверей и вскоре вышел из кабинета, поигрывая тростью «доброго дедушки», оставив в комнате подарочную шпагу от другого «родственника»…
Петергоф представлял собою огромную стройплощадку — большого каскада фонтанов со знаменитым Самсоном еще не было в помине, Главный дворец только доводился до ума. Но зато имелся старый деревянный дворец Петра Первого Монплезир, и был вырыт большой канал, по берегам которого опытные руки садовников разбили чудесный парк.
Но Петр не любовался открывшимися перед ним красотами, которые до этого разглядывал лишь с военной точки зрения. Сейчас он думал о другом — если помаячить всласть у главного входа, то это неизбежно привлечет внимание Григория Орлова.
Потом можно спуститься к каналу и тихо там прохаживаться с женой под руку, отослав охрану подальше — и гвардеец не может не клюнуть на такого живца. Клюнет обязательно…
Петр прекрасно осознавал весь риск такой авантюры, ведь попади в его живот одна случайная пуля — и все, хрен он встретит пятый закат, загнется скорбно и концы отдаст.
Но страха в душе он не испытывал — четыре нечаянных встречи у него уже было с братьями Орловыми, и он выходил из них победителем. Можно назвать это как угодно — фатум, рок, судьба, кысмет — но в пятой встрече должно было решиться все. И что эта встреча состоится вскоре, в этом у него не было никакого сомнения.
Ждать супругу пришлось недолго — Петр выкурил только одну папиросу. И обомлел. В красивом зеленом платье с глубоким декольте, со стоячим белым кружевным воротником, с распущенными черными волнистыми волосами, с манящей улыбкой и нежным взором жена была настолько обворожительна и привлекательна, что у него дыханье в зобу сперло.
И Петр мысленно выругал «тезку» последними словами — если умных красавиц заменяют уродливыми дурами, то в голове у мужика кукушки кукуют и тараканы нехилые бегают, и таких нужно не на трон усаживать, а в психушке запирать. И что ему надобно было, хороняке?
Император вежливо расшаркался перед супругой и заметил краем глаза постные и ничего не понимающие физиономии Миниха и Измайлова. Однако такими удивленными были не только эти двое — практически все придворные и многие слуги впали в полный ступор, когда Петр подошел к Екатерине, ласково обнял женщину и нежно поцеловал.
Поступок этот, конечно, сильно нарушал все правила этикета, но проделать его стоило, тем более что жена охотно на него откликнулась и сама с упоением его поцеловала, чуть прикусив своими зубками нижнюю губу.
Воспользовавшись воцарившимся всеобщим оцепенением, Петр властно приказал свите и охране (куда ж без этого — положено, да и не отстанут) следовать за ним на приличном расстоянии, не ближе чем в две сотни шагов. Затем, предложив Екатерине опереться на его руку, они любящей супружеской парой медленно отправились на прогулку…
Это было самое удивительное гуляние в его жизни. Они с женой отошли от дворца на добрую версту и стали ходить вдоль канала — сотню шагов вперед, разворот и столько же назад, к небольшому беленькому столику, который принес из ближайшего павильона верный Нарцисс.
Там Петр наливал жене бокал прохладительного фруктового напитка, а сам выкуривал папиросу. И шествие начиналось снова — сто шагов вперед, сто шагов назад.
Свита поначалу также совершала подобный променад, пока там не сообразили, что выглядят по меньшей мере нелепо и смешно. Наконец придворные и охрана сгуртовались в доброй сотне метров от столика и затеяли там свои разговоры.
А Петр говорил и говорил с Екатериной. С этой умной женщиной можно было говорить о многом, начиная от военного дела и заканчивая сбором налогов. Но Петр не желал доводить жену до скуки такими государственными беседами и время от времени рассказывал ей различные смешные истории и анекдоты, стараясь выдерживать историческую реальность.
Женщина смеялась очень заразительно, а ее глаза метали влюбленные яркие искорки. Смеялся с ней и Петр, который позже прочитал ей стихи одного известного поэта, нагло выдав их за свои вирши.
Император ничем не рисковал — поэт не только не родился, но и не родился еще его отец. А если и родился, то в пеленки писался, или под столом пешком ходил. Зато над каналом прозвучало одно четверостишье:
Я помню чудное мгновенье, Передо мной явилась ты, Как мимолетное виденье, Как гений чистой красоты.«Какой удар со стороны классика», — вспомнил Петр известные слова великого комбинатора и чуть обнял жену за талию. Но Екатерина притихла, с удивлением глядя на Петра широко раскрытыми глазами. И ему потребовалось много времени, чтобы отвлечь ее от стихотворных изысканий супруга.
Интересная была прогулка — в душе Петра произошло странное раздвоение, причем два его внутренних «я» не мешали друг другу, а занимались своим делом каждый.
Первый изо всех своих сил развлекал жену, ухаживал за ней, ласкал и обнимал, а иногда и целовал. А вот второй смотрел за парком настороженным волком, стараясь разглядеть за кустами и деревьями силуэт человека или блеск вороненого пистолетного ствола.
На ту сторону канала он почти не смотрел — полсотни с лишним шагов запредельная для пистолета дистанция. Да и не тот характер у Орлова, чтобы в спину стрелять. А потому покушение с этой стороны произойдет — до столика сотня шагов, и еще две сотни шагов до свиты и охраны. Полминуты пройдет, не меньше, пока охрана прибежит и вмешаться успеет.
И опасаться Григорию Орлову нечего — безоружный шибздик, не ожидающий внезапного нападения и размякший от близости женщины с ее ласками, вряд ли устоит против верзилы, который вооружен двумя пистолетами и острой длинной шпагой.
Но и у Петра имелась пара козырей — он был полностью готов к покушению и в любую секунду мог встать за Екатерину, а стрелять тогда Орлов не будет из-за боязни поранить свою любимую женщину, и постарается решить дело в скоротечной схватке. А длинная тяжелая трость с массивным набалдашником в умелых руках может превратиться в страшное оружие.
Конечно, Петра можно обвинить в трусости — фи, прятаться за женщину. Но надо посмотреть, что еще противней — вооруженный до зубов верзила, подло нападающий из засады на заведомо слабейшего и безоружного, или последний, который для частичного уравнивания шансов только чуть прячется за любовницу данного верзилы.
Но размышления и наблюдения — это одно, а Петр при этом еще как-то ухитрялся рассказывать жене занимательные истории из жизни русских царей и императоров:
— Это случилось после Гангута, Катенька, когда мой дед, Петр Алексеевич, встретился в одном замке в Померании с королем Дании Фредериком и королем Саксонии Августом. Тем самым, по прозвищу Сильный, что бастардов своих много наплодил. Прости за такую подробность, — Петр тут остановился, ему показалось, что в глубине парка, где-то неподалеку, хрустнула сухая ветка. Но он тут же продолжил свое повествование: — Так вот. Однажды монархи поспорили после веселой гулянки — у кого солдаты храбрые и за своего владыку жизнь свою отдадут, не колеблясь. Спорили до хрипоты, пока не решили проверить на деле. И вот датский король вызвал своего гренадера и предложил выпрыгнуть из окна, отдать за короля жизнь. Бедный солдат взмолился, мол, вы что — здесь же сажени четыре, я себе все кости переломаю. Тут монархи и рассмеялись над трусостью датского солдата…
Краем глаза Петр увидел за стволом дерева мощный силуэт человеческой фигуры, но свой рассказ продолжил:
— Вызвал своего саксонца король Август — отдай, говорит, за меня свою жизнь, любезный, выпрыгни смело из окна. Но и его гренадер слабину тут же дал — не выпрыгну, высоко ведь, убьюсь. Рассмеялись монархи, и наш царь Петр вызывает преображенца. Отдавай за меня жизнь, говорит солдату, выпрыгивай в окно. Гренадер перекрестился, смело залез на подоконник и почти выпрыгнул из окна, но король Август успел задержать его…
— А дальше что, государь? — умоляюще попросила Петра Екатерина, когда тот сделал небольшую паузу.
Не очень приятно, когда на тебя наставили вороненый ствол. Петр поцеловал жену и так ловко переместился, что между ним и Орловым оказалась Екатерина. И заметил, как опустился вниз пистолет — рисковать своей любовницей Григорий, как он и рассчитывал, не стал. И Петр продолжил повествование:
— Удивились монархи крепко и спрашивают преображенца — ты же мог жизни лишиться. А тот и отвечает им спокойно: «А на хрена мне такая жизнь нужна? Ну ее, обойдусь…»
Екатерина засмеялась выразительно, ее грудь поднялась, и пленительные полушария показались из корсета. Петр тут же стал их целовать, а Катины губы коснулись его макушки.
Но не страсть сейчас двигали им — он толкал своего соперника на импульсивный шаг — кому ж понравится, когда на глазах ласкает его женщину другой мужчина.
А Петр оторвался от лобзания груди и сделал шаг в сторону. И, услышав, как щелкнул курок пистолета, моментально присел на одно колено, за долю секунды уйдя от неминуемой смерти.
Прогремел выстрел, но пуля ушла высоко над головой Петра, а Орлов разъяренным медведем проломил куст, вскинул другой пистолет и выстрелил еще раз. Но за долю секунды до выстрела вскрикнула Екатерина и заслонила собой Петра, которому пришлось ее сильно оттолкнуть в сторону.
Он все же успел — пуля только чуть чиркнула женщину по обнаженной ключице, даже крови не было, лишь малая ссадина. И взвыл от ярости Орлов, выхватил шпагу.
Но и Петр рванулся в сторону, руками перехватив трость за середину. Краем глаза он успел заметить, с каким разъяренным лицом бежит к нему верный Нарцисс, а за ним вдалеке поспешают казаки и адъютанты. Вот только их криков он не слышал, сосредоточившись всем телом и душой на схватке с Орловым. Время замерло…
Григорий на бегу выбросил вперед шпагу, и будь Петр чуть медлительнее, то стал бы он гусем на вертеле. А так не повезло цалмейстеру — уклонившись в сторону от шпаги, он от всей души врезал Орлову набалдашником трости по виску и, ухватив руками, резко толкнул в спину, придав дополнительное ускорение. Верзила головой вперед, длинной рыбиной, полетел в канал и громко плюхнулся в воду, щедро окатив брызгами и Петра, и поднимавшуюся с земли Екатерину.
— Как ты себя чувствуешь, моя любовь? — Петр достал из-под расшитого обшлага белый платочек и прижал его к ссадине на ее плече. Только сейчас он осознал, что она своим телом прикрыла его от пули, и, не оттолкни он ее в сторону, пуля попала бы жене в горло.
— Зачем ты бросилась, он бы мог попасть в тебя? — Петр тонул в ее синих глазах.
— Я полюбила тебя, мой милый. Я должна была защитить вас. — От таких слов у него запершило в глазах, и он крепко прижал ее к груди.
— Не убивай его, он дурак, — продолжила Катя, — к прошлому нет возврата, но, если сможешь, не казни его.
— Хорошо, — ответил ей Петр, нежно погладил и повернулся к каналу.
Но Орлова на поверхности не было, только пузыри из-под воды шли. И Петр понял, что несостоявшийся убийца рискует превратиться в утопленника. Сильный удар по виску может оглушить, а попадание в воду в таком состоянии гарантирует стопроцентное утопление.
— Твою мать, через… — Петр не успел высказать свои мысли по поводу незадачливого любовника-террориста. И, не раздумывая, бросился в воду.
Он почему-то ожидал холода, но его встретило своими объятиями тепло. Глубина была небольшой, но Григория Петр нашел не сразу, и лишь когда сам стал задыхаться, цепко ухватился рукой за мундир.
Всплыв на поверхность, он отволок Орлова к берегу, и тут же многочисленные руки офицеров и казаков охраны в одно мгновение выдернули его и наглотавшегося воды цалмейстера на зеленую траву.
Одного брошенного взгляда на Орлова Петру хватило, чтобы понять — Гришка нахлебался всласть потому, что получил полный нокаут. Из правого уха цалмейстера текла тонкой струйкой кровь. Распахнув мундир, он прижался ухом к груди — сердце не билось.
— На колено ко мне кладите животом, — громко приказал Петр и увидел широко раскрытые глаза Екатерины.
Он ободряюще улыбнулся жене, и тут на коленку взгромоздили утопленника. Одного надавливания на живот хватило — вначале изо рта потекла вода, а потом Григорий закхекал, завозился и его вырвало.
— Водки и сухую одежду принести, — приказал Петр и злобно посмотрел на собравшихся. — Нарцисс, останься, а всем остальным удалиться на сто шагов. Я кому приказал? Быстро!!!
Свита испарилась немедленно, оставив на траве четыре казачьих чекменя и два мундира. Через минуту появился столик с напитком и папиросами, на котором оказалось и добавление в виде небольшой кожаной фляжки, кусочка копченого сала и луковицы. Нарцисс полностью раздел императора, оставив на нем лишь кружевные панталоны, а Екатерина накинула ему на плечи казачий чекмень.
Петр размотал горлышко бурдючка, хлебнул порядочный глоток водки для снятия стресса — словно горячая струя обожгла пищевод, и через минуту стало хорошо. Кусочек сала показался райской пищей.
— Потерпи, родная, — сказал Петр жене и плеснул на ссадину чуть водки.
Катя зашипела, как кошка, но неудовольствия не показала. Наоборот, женщина так прижалась к нему, с такой радостью смотрела, что Петр на секунду пришел в замешательство — такая любовь показалась ему нереальной.
Но он тут же все осознал — Екатерина после долгих лет наконец нашла в муже защиту и опору в жизни и сейчас просто боялась хоть на секунду расстаться с ним. Она беспрерывно то гладила его пальчиками, то шептала такие ласковые слова, что Петр даже легонько покраснел.
Нарцисс же быстро разоблачил Орлова, накинул ему на плечи мундир и посадил на траву. Однако арап с такой лютой злобой смотрел на Гришку, что, дай ему волю, убил бы на месте и не поморщился. И Петр предпринял меры предосторожности, отослав арапа в сторону.
Орлов уже ровно сидел на зеленой траве и бросал по сторонам мутные, но осмысленные взгляды. Петр сунул в руки гвардейца кожаную фляжку и приказал пить. Григорий послушался, машинально приложился и выпил водку, как воду. Закашлялся и очухался, зыркнул злобно.
— А теперь слушай меня внимательно. — Петр встал напротив бывшего любовника жены и посмотрел тому в глаза. — Есть наши чувства личные, есть дела и нужды государственные. Вот потому я тебя спрашиваю, что для тебя важнее, твоя личная похоть или процветание и благо державы Российской? Если первое, то запомни — Екатерина Алексеевна объяснилась со мной, прошлое забыто нами, и мы с ней любящие друг друга супруги, желающие принести пользу России. И если ты не осознал этого, то я тебя обратно в канал затащу и там утоплю, как до этого оттуда вытаскивал! Ты почто, паскуда, в семью нашу лезешь, закон божеский переступаешь, нехристь поганая?!
Злоба бурлила в душе и искала выхода. Петр ревновал жену, к своему глубокому изумлению. И когда он представил, как лапал и целовал ее этот хорек-переросток, а сейчас мог его Катю и застрелить, долго сдерживаемый все эти дни гнев выплеснулся наружу. Схватив Гришку за мундир, Петр рывком поставил его на ноги и тут же врезал гвардейцу по роже, от души, вложив всю силу и ярость.
От удара Орлова отшвырнуло, и он снова спикировал в канал, подняв тучу брызг. На этот раз цалмейстер сам выплыл на поверхность и с трудом вылез на берег. От плюхи его губы были разбиты в кровь.
Екатерина подошла к Петру, прижалась к нему и стала ласково поглаживать по плечу ладошкой, успокаивая разгневанного супруга.
— Ух ты! — только и сказал Орлов и уважительно посмотрел на императора. Затем в его голове что-то щелкнуло, и он преклонил колени перед императорской четой.
— Ты же мог ее сейчас убить, сучий пес! — Рык еще не отошел от яростной вспышки. — Убивец недоделанный! С пистолетами да шпагой на безоружных нападать?! Где твоя честь была, или ты ее в чужой опочивальне оставил, похотливый козел!
— Прости дурака, муж мой. И меня тоже прости, — ласковый голос Екатерины произвел благотворное впечатление, и Петр начал успокаиваться.
И сразу же возникло ощущение, что жене стало стыдно за эту любовную связь с Орловым — румянец так и пылал по ее щекам. Екатерина опустилась на колени и поцеловала мужу руку, крепко прижалась к раскрытой ладони горячей щекой. Умная женщина прочитала его переживания, увидела ревность, осознала, какой стыд за нее и себя муж сейчас испытывает…
— Прошлое забыто и перечеркнуто. И ты прости меня тоже, — Петр поднял Катю с колен, — а этот… Пусть проваливает на все четыре стороны. Принуждать его к присяге на верность я не буду. Уезжайте из России, Орлов, и братьев своих заберите. А то клеймо подлецов здесь получите на всю оставшуюся жизнь. А я не буду карать вас за эту подлую попытку убийства моей жены и меня. Казначей выдаст денег, раз вы их так любите. Уходите!
— Простите, ваше императорское величество, и вы простите, государыня! — глухо прозвучал голос Орлова. Гвардеец справился с волнением и заговорил дальше: — Клянусь, что ни словом, ни делом я не причиню ущерба и огорчений. И буду уважать ваши величества и верно служить, где прикажете, не жалея сил и живота своего. На чем крест вам целую! — Орлов вытащил дрожащими пальцами из-под рубашки крест и поцеловал его.
— Ну что же с вами сделаешь?! Присягу вашу мы принимаем, Григорий Григорьевич! — Петр протянул ему ладонь, и тот коснулся ее разбитыми губами. Следом протянула руку гвардейцу и Екатерина.
— Отправитесь далеко, к американским берегам, на Аляску, губернатором. И сей богатый край к России полностью присоедините. И добычу золота там организуете. Езжайте немедленно в Кронштадт к братьям, посоветуйтесь. Можете ехать туда всей семьей, с чадами и домочадцами. Там, на рейде, возьмите шлюпку. Я вам завтра отпишу!
— Прощайте, Григорий Григорьевич, — эхом прозвенел голос Екатерины, и супруга подхватила Петра под руку. И чета медленно пошла к дворцу, но у столпившейся группы придворных остановилась.
Петр обвел всех грозным взглядом — и что ему оставалось еще в столь нелепом наряде. Но никто из придворных и охраны не думал хмыкать — адъютанты и лейб-казаки блудливыми нашкодившими котами отводили взоры к земле, понурив повинные головы.
— И это, Екатерина Алексеевна, моя личная охрана?! Так они обеспечивают нашу безопасность?! Здания и окрестности не проверяют, службой пренебрегают. Донцы, вы зачем тогда крест мне целовали, если царь собственной рукой от злоумышленников отбиваться должен. Так и скажите прямо — не желаем ваше величество охранять! Эх вы! — Петр выразительно махнул рукой, и они с женой удалились во дворец…
Петербург
Всего три дня прошло со дня принятия присяги императрице и самодержице всероссийской Екатерине Алексеевне. И вновь в столице принимают присягу, вернее, переприсягу — его императорскому величеству и самодержцу Петру Федоровичу.
Прежняя присяга объявлялась в грозном царском манифесте недействительной, так как давалась под угрозой лишения живота злокозненными изменниками и на основании вздорных слухов о преждевременной и скоропостижной кончине природного императора.
А потому все население столицы обязывалось немедленно и безотлагательно присягнуть императору до наступления ночи, а те, кто не сделает это, будут объявлены изменниками и злодеями со всеми вытекающими отсюда последствиями для оных отказников.
В этот вечер у всех многочисленных церквей Петербурга было настоящее столпотворение. Сотни людей сгрудились у входов, но порядка не нарушали и только боязливо посматривали на драгун и кирасир генерала Румянцева, что ровными шпалерами выстроились у каждой церкви. Все торопились успеть, даже больные и немощные — попасть в лапы зловещей Тайной экспедиции никому не улыбалось…
— Ой, Матрена, надо быстрее бежать, принимать присягу благоверному государю нашему Петру Федоровичу!
— А я, любезный, завсегда императору нашему верен был. И ту присягу воровскую не принимал, за болезнью сказался. А сейчас повторно сходил и принял, чтоб все видели, как я его императорскому величеству предан всей душой и телом! Вот так-то, любезный!
— Кузьма, а Кузьма. Присягнул уже? Я тоже успел, одним из первых в церкви присягал батюшке нашему, кормильцу…
Пастор Бюшинг спрятал внутри ухмылку — надменный вице-президент Юстиц-коллегии фон Эмме одним из первых прибежал к нему в кирху и быстро принес присягу, благо давалась она по прежним листам и проходила в ускоренном порядке.
Обыватель только говорил: «Клянусь в верности императору и самодержцу Всероссийскому Петру Федоровичу» — и целовал крест, а затем ставил у секретаря подпись на присяжном листе.
Давая поцеловать крест советнику, пастор увидел большие испуганные и умоляющие глаза, и сразу же сообразил, что фон Эмме теперь по гроб ему обязан и выполнит любую его просьбу.
Ведь стоит сейчас Бюшингу донести в Тайную экспедицию, как господин вице-президент вынуждал его принимать ту июньскую присягу, как не только карьера, но и вся жизнь фон Эмме будет безжалостно сломана тяжелым маховиком правосудия…
Петергоф
Стол был накрыт великолепно. Большинство блюд было абсолютно неизвестными Петру, даже приблизительные названия не мог дать. Но в одном император чувствовал уверенность — поваров он проверил на детекторе и отравы мог не опасаться.
Положить яд кому-либо по пути от кухни до столовой было невозможно из-за чрезвычайных мер. Да и всех адъютантов Петр тоже проверил, памятуя печальный опыт князя Федора Барятинского. И ничего не поделаешь — ожегшись на молоке, всегда дуешь на воду.
За накрытым столом их было всего трое — Екатерина Алексеевна в небесно-голубом платье и их двое, в гвардейских мундирах. Фельдмаршал Миних при всех орденах и регалиях, с голубой лентой через плечо, сидел чопорно, расправив плечи, и время от времени бросал на Екатерину свой тяжелый взгляд. Петру он напоминал злого бульдога, из пасти которого извлекли мозговую косточку и теперь ею же дразнят.
Жена чувствовала себя несколько скованно, было видно, что она серьезно опасается такого соседа, и на то у нее имелись все основания. Миних в кабинете, еще перед поездкой в Ораниенбаум, почти открытым текстом прямо предложил оформить императору развод любым из предложенных способов — надежно упрятать жену в самый дальний монастырь, устроить скоропостижную кончину или же поместить в каземат Шлиссельбургской крепости, рядом с Иваном Антоновичем.
К счастью, у Петра хватило ума отказаться от услуг старого Живодера, и сейчас он чувствовал себя удовлетворенным, что не укрылось от пристального взора старика.
Бурхард-Христофор чуть поковырялся в тарелке вилкой, прихлебнул из бокала вина. Только он один пил вино, несколько бутылок лакеи, повинуясь приказу Петра, шустро поставили на стол специально для старого фельдмаршала.
Сам же Петр не менее лениво дожевывал осетрину — за три дня деликатесы уже не лезли в глотку, и ему хотелось чего-нибудь попроще — толченой картошечки с бефстрогановом или обычным столовским шницелем с подливкой, да пару блинов со сметаной или маслом на десерт. А потом расположиться по вечерней прохладе у речной водички, взять пива «Жигулевского» бутылку с соленой селедочкой и лука репчатого колечко. И отдохнуть от дел праведных…
И Екатерина Алексеевна вяло ковырялась в овощном салатике, видно было, что аппетит у нее напрочь отсутствует. Умная женщина давно поняла, что Миних жаждет ее крови, а такой матерый враг любое желание пообедать отобьет начисто.
И превратился ужин на троих в сплошную пытку — Петр хотел есть, но не мог, Екатерина жаждала уйти, но не смела, а Миних хотел удавить, хотя бы мысленно, женщину, но боялся умения императора читать мысли. Потому старик только сопел и не торопился пить вино, зная, что Петр Федорович относится к винопитию резко отрицательно.
— Все убрать со стола! — Громкий голос Петра Федоровича словно стеганул кнутом по присутствующим. Лакеи побелели от страха, жена посмотрела на него испуганно, а Миних удивленно.
— Водки очищенной штоф принести, и лимон в него выдавить. Гуся доставить. Мне закурить. Бегом!
Лакеи засуетились, и не прошло и минуты, как стол опустел. Петр задымил принесенной папиросой, поблагодарил улыбкой верного арапа. И тут перед ним водрузили блюдо с гусем, горячим, прямо из печи.
Коричневая хрустящая корочка ласкала взор, а чудный запах сразу вызвал слюнки, как у собаки Павлова. Рядом с гусем встал караульным запотевший штоф, появились три тарелки, бокалы, вилки, ножи, салфетки. Застыли шеренгой, ожидая приказаний, ливрейные халдеи с преданными глазами.
— Так, ребята. Мы с фельдмаршалом матерые вояки, сами разберемся. А потому — кругом! Вон отсюда!
Лакеи словно под цунами попали, и уже через несколько секунд двери в столовую были осторожно закрыты. Петр встал с кресла, взял штоф и привычно набулькал в три бокала — жене с палец, им с Минихом на три пальца.
Старый студенческий расклад. Правда, в последнее время девчонки требовали соблюдать равноправие — феминизм, однако. Затем император разделал гуся — мужчинам досталось по здоровенной лапе, больше смахивающей на мосол, а жене положил на расписную тарелку крылышки. Взял стакан в руки и пристально посмотрел на жену и Миниха.
— Я хочу выпить за то, — начал он речь, — чтоб эта русская кровь была последней. Выпьем же и забудем эту войну, никому не нужную. И о том, прошлом, более не вспоминать и не напоминать! До дна!
Водка пошла хорошо, в желудке стало сразу же тепло, и он закусил горячей гусятиной. Миних хлобыстнул чуть ли не одним глотком, чуть морщась, выпила и Екатерина. Вот только к закуске она не прикоснулась, сидела с открытым ртом, а на глазах выступили слезы.
— Что ты, милая, закусывай. Тебе мясо есть надо, чтоб мне наследников сильных и здоровых рожать!
Рядом кхекнул Миних, от таких слов Петра он подавился куском гусятины.
Петр постучал старика по крепкой спине — тому полегчало. Екатерина аккуратно ела крылышки, на щеках появился румянец.
— После первой и второй промежуток небольшой, — Петр шустро разлил водку по бокалам в прежней дозировке.
Все трое выпили водку почти одновременно, словно старались с помощью данного способа избавиться от задних мыслей. Петр ласково и ободряюще улыбнулся жене — ему понравилось, что та, не чинясь и не ломаясь, разделила с ними это простое угощение. И надо же — сидят за одним столом трое природных немцев, но пьют совершенно по-русски. Как говорили в общаге — с кем поведешься, от того и забеременеешь…
— Екатерина Алексеевна, и ты, Христофор Антонович. Вы оба нужны не только мне, но и державе Российской. А потому прошу простить друг другу обиды, вольные и невольные, и в дальнейшем жить и трудиться во благо. И потому поцелуйтесь в знак примирения.
Старый фельдмаршал закряхтел, подошел к императрице и чуть приложился к ее щеке старческими губами. Екатерина Алексеевна ответила Миниху тем же — под давлением Петра Федоровича стороны заключили если не мир, то долговременное перемирие.
Петр чуть обнял жену и прошептал ей на ушко:
— Спасибо тебе. Иди в опочивальню, отдохни немного. Уж больно денек бурный выдался. Я скоро приду…
Взяв жену под руку, он проводил ее до дверей и вернулся за стол. Налил по третьей:
— По остатней, фельдмаршал. Как говорят монахи: «Чару пити — здраву быти, втору пити — ум веселити. Третью пити — ум устроити. А много пити — без ума быти». О делах будем завтра разговаривать, а сегодня отдых уже нужен, с ночи на ногах кручусь. Ну что, вздрогнули?!
Выпив водки, они дружно закусили горячей гусятиной. Поговорив еще несколько минут, Миних встал, попрощался, и Петр уважительно проводил старого вояку до дверей и раскрыл их перед фельдмаршалом. А сам вернулся к столу, сел в удобное кресло и закурил папиросу. Мысли ползли в мозгу медленно, как обкуренные анашой черепахи.
Петр прикрыл глаза. Он действительно сильно устал — ровно четверо суток прошло, как он оказался в чужой шкуре. А столько событий уже промелькнуло, сколько смертей прошло перед ним…
Но он переломил в себе внутреннюю тяжесть, медленно вышел из столовой и, пройдя через анфиладу комнат, зашел в опочивальню. Внутри царил сумрак, на окнах плотно задернуты шторы.
Екатерина тихо лежала под одеялом, и Петр не стал ее беспокоить, а тем более звать на помощь услужливого Нарцисса. Скинув мундир, император стал разоблачаться. Он впервые раздевался без помощи, но ухитрился сделать это чуть быстрее. Правда, до установленных нормативов, принятых в Советской Армии, было далековато, но нынешняя форма, на него надетая, была намного более сложной и вычурной.
Оставшись в кружевной рубахе и панталонах, он подошел к кровати с другой стороны и залез под одеяло. Катя, хоть и посапывала, его ожидала, придвинулась ближе, крепко обняла руками.
Горячее тело женщины умиротворяющим образом подействовало на него, Петр Федорович быстро согрелся, сам подгреб жену к себе, чуть приласкал и вскоре рухнул в сонное царство владыки Морфея…
Петр проснулся от тревожного ощущения, что пропустит что-то очень для него важное. Он открыл глаза — сумрак в комнате чуть сгустился и принял странный красноватый оттенок. Петр поспешно поднялся с кровати, подошел к окну и чуть раздвинул шторы.
Мир был погружен в красный цвет заката, который обволок нижнюю часть горизонта. Багрянец небесный отразился в глазах Петра, запомнился, как снимок фотографической карточки.
— Пять закатов, — прошептали губы, — пять закатов пережито. И семьдесят лет жизни впереди.
Он жадно впитывал в себя картину уходящего дня, вдыхал вечерний воздух, который сочился легким освежающим сквозняком через щель в неплотно закрытой оконной раме. Именно в такие моменты как никогда остро чувствуется потребность жить. Жить. Радоваться листве, небу, детям. Детям. Петру остро захотелось прижать к себе маленького человечка, которого у него никогда еще не было. Услышать его неуклюжий топот…
— Что с тобой, мой милый? — Теплая ладошка легла ему на плечо. Петр обернулся и крепко обнял жену. Его сразу затрясло лихорадкой.
— Я хочу детей, своих детей. Слышать их, обнимать. Понеси сына, сегодня, я так хочу…
— И я хочу, очень хочу…
Петр смял слова поцелуем и принялся ласкать ее тело руками. Затем рывком поднял на руки жену, донес и положил ее на кровать. Горячие ласки он не прерывал ни на одну секунду — жадно целовал губы, шею, щеки, плечи грудь, живот. Раскрыв ноздри, он впитывал ее чарующий запах, как впитывает воду сухая губка.
И Екатерина отвечала ему горячими ласками и поцелуями. В каком-то жарком бреду они сорвали друг с друга легкие рубашки, и Петр навалился на нее всем телом.
Екатерина вскрикнула, и он погасил этот невольный стон поцелуем. Но то был не стон боли, а крик радости — она испила его досуха, и сама отдавала всю себя без остатка. И взрыв наслаждения накрыл их обоих с головой, пронзив тела острой сладострастной судорогой…
— Как хорошо прижаться к тебе, чувствовать твое семя внутри. Семя, которое зародит во мне новую жизнь. Я счастлива, муж мой. У нас будут дети, я подарю их тебе.
— Конечно. — Он чуть погладил ее по щеке. Ее прелестная головка уютно устроилась у него на плече, и он боялся пошевелиться, чтобы не потревожить жену. И только получал радость и удовольствие от ее горячего тела. — У нас будет четыре сыночка и лапочка дочка…
— Как хочешь, милый. Я буду стараться…
— Мы будем стараться вместе, — Петр извернулся, поцеловал ее мягкие губы. — Я покурю немного.
— Конечно, мой дорогой…
Петр поднялся с постели и, совершенно не стесняясь своей наготы, подошел к столику, уселся в кресло и подкурил от фитиля папиросу.
— Надо делать зажигалку или спички, — тихо пробормотал про себя и выдохнул клубок дыма. Стало хорошо, но Петр тут же отогнал от себя расслабуху, налил в бокал напитка и отнес его Екатерине. Только напоив жену, он вернулся обратно и сел в кресло.
Это была его женщина. Да, его. Только его, и не иначе.
Он не мог объяснить, почему так произошло, только на уровне ощущений. Как собака, все понимает и чует, а сказать языком не может.
Докурив папиросу, он открыл большую луковицу часов и посмотрел на циферблат — одиннадцать часов вечера с несколькими минутами. Пятый день заканчивался на самой достойной ноте. А впереди их ждет вся жизнь, и даже больше. Все впереди…
Он поднялся, вернулся обратно под одеяло и крепко обнял жену. Тихо спросил о наболевшем:
— Тебя не пугает мое обезображенное оспою лицо? Только честно скажи, правду.
— Путало, сильно пугало. Но я терпела, ведь то болезнь. А сейчас, как ты стал по-настоящему моим мужем, я радуюсь и оспин не замечаю. Понимаешь, я их не вижу, просто не вижу. Ведь ты у меня такой другой — сильный, нежный, умный. Иной…
— С чего ты взяла, что я иным стал?
— Видимость осталась, но только видимость. Даже тело твое стало крепким, ты без труда поднимаешь меня, ты одолел братьев Орловых, сразил их, а ведь они известные силачи. Ты другой, мой муж, без кривляний и сварливости, без постоянной и безумной лжи, безудержного хвастовства и скрываемой трусости. Нет в тебе этого. Зато есть другое, ваше величество. И это другое мне нравится, и за него я тебя полюбила всем сердцем, искренне. Я ни в чем вам не солгала… — женщина договорила последние слова, поднявшись над ним, красивая, с рассыпанными по плечам черными волосами.
— Мне садовник в детстве нагадал, что я проживу с мужем долго и умру, когда мне будет больше восьмидесяти шести лет. Я верю этим предсказаниям, ведь многое уже сбылось в этой жизни, — тихо заговорила Екатерина и еще крепче прижалась к нему своим телом.
Петр знал, что в истории императрица и до семидесяти лет не дотянула, но тут его словно обожгло. А ведь она-то жила без мужа, и потому предсказание не сбылось. Ведь установлено, что женатые мужчины и замужние женщины живут намного дольше холостых. А так как гвардейцы Петра убили, то и срок жизни ее сократился…
— Мы будем жить долго, очень долго, — погладил ее Петр, — и потому ничего не загадывай, сама все увидишь, мое солнышко…
Она была настолько красива и привлекательна, что Петр потянулся губами и поцеловал жену…
— С чего ты взяла, мое солнышко, что я стал иным?! Может, этот другой просто недавно покинул мое тело? А все это время я только мог молча смотреть на его кривляния?
Екатерину словно разряд тока ударил, она отшатнулась и широко открытыми глазами посмотрела на него. Даже сквозь плотный сумрак комнаты Петр все же разглядел, как заблестели в очах сверкающими бриллиантами капельки слез.
— Прости меня, прости. Боже мой, какая я глупая! Прости, — Екатерина в каком-то беспамятстве стала исступленно ласкать его, буквально перецеловала все его тело, не оставив без внимания и ласк ни единого пятнышка, буквально омыв его слезами и поцелуями.
И накопившаяся страсть пронзила его чудовищным разрядом, и супруги, да, именно супруги — муж и жена, стали единым, как любовью и самой природой благоразумно заложено…
Сквозь сон Петр услышал, как его часы пробили двенадцать раз. Он тут же припомнил, что оставил их крышку открытой. Дотянулся рукой до столика и закрыл луковицу.
На его плече спала Катюша, тихо причмокнула во сне мягкими губами. Уставшая, нежная, горячая. Он поцеловал ее волосы с мятным запахом. Провел по ним пальцами. Вздохнул счастливо.
— Спи, родная. Нам предстоят великие дела, — тихо прошептал Петр, обнял женщину, закрыл глаза. Через несколько минут бывший сержант Советской Армии и студент-недоучка в одном лице, волею судьбы ставший императором, спал крепким сном…




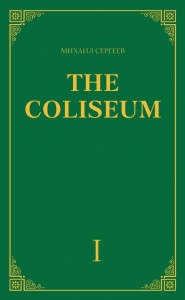

Комментарии к книге ««Попаданец» на троне. «Бунтовщиков на фонарь!»», Герман Иванович Романов
Всего 0 комментариев