Мишталю Анатолию,
имеющему храбрость
быть моим мужем.
«Всё есть всё».
Миша Мишталь.
ЗАЛ ПРИБЫТИЯ
Тяжёлая взвесь белой ночи цвета и запаха несвежих простыней, влажная и душная, как опостылевшие объятия, обволакивала, проникала всюду, парализовывала, отражала меня и оттого была неприятна. Никаких возвышенных мыслей не рождалось внутри, и невозможно было найти достойных слов описать это возлюбленное всеми явление природы, характерное для Петербурга в середине июня, никаких желаний, никаких чувств, кроме головной боли и жажды. Взгляд рылся в сумерках углов неприбранной равнодушной комнаты, натыкаясь на мебельные тела, грязную посуду, разбросанные повсюду, исписанные какой–то чушью листы примятой бумаги. Наконец это вызвало тошнотворное головокружение и усилило великую сушь истерзанного накануне нутра. Две на четверть недопитые бутылки сухого красного пыльно и отрешённо поблескивали из–за ножки стола, как будто имели разум и могли понять свою несостоятельность – я никогда не допивала последних глотков – в них нет ничего, кроме паскудной взвеси горьковато–терпкого осадка в подкисающем наполнителе. Неопрятная надменность бутылочного стекла раздражала, но в тоже время побуждала к действию, и за это я была ей благодарна. Требовалось некоторое время и усилие для сборки разбросанного по дивану тела, части которого сопротивлялись согласованности движений. Это злило, но сил придавало.
В аквариумном сумраке коридора неуверенно пошатывался силуэт соседа – вечнонетрезвого Димона.
– Это…. У тебя там…. Это…. Осталось? – органично вписался в блеклое пространство сипловатый голос.
– Да…. Как всегда…. Забирай – я ли сказала, или Димон сам себе ответил, зная, что услышит именно это, по звуку было трудно отличить, а челюсти мои были несколько анестезированы, как перед удалением зуба.
– Ты это…. Куда, это… – по моей просьбе словом «это» сосед мой заменял традиционное бульканье, которое я не выносила ни в каком состоянии. Разница впрочем, не очень велика, но требовать большего смысла не было – Я это…?
– Да. Конечно – челюсти оживали – я же сказала. Забирай. Но пить будешь не у меня. Понял, Димон? Не у меня. Я скоро вернусь.
На самом деле я не имела представления, когда смогу вернуться в тёмно–серое подобие жилища, так и не сумевшего стать домом. Но добавлять к убогому интерьеру храпящую тушу Димона было уже свыше моего равнодушия.
– Димон! У себя.
– Да это… Я, это…, возьму и, это…, к себе.
Героически борясь с притяжением всего находящегося поблизости, Димон с третьей попытки аккуратно вписался в проём непомерно узкой и неустойчивой по его ощущениям двери. Минуты три погремел в моей комнате и вновь возник в коридоре, трепетно прижимая к груди две на четверть недопитые бутылки сухого красного и, на всякий случай, не задавая больше лишних вопросов, стремительно, как мог, проскользнул мимо меня и исчез в провале своих покоев. Я могла быть спокойна за своё обиталище.
Ночь впустила меня как незваного гостя, натужно ощеряясь старческим ртом подворотни. Глотнула и выплюнула в белесое варево улицы.
Изломанный, покрытый шрамами, как шкура доисторического животного, асфальт тротуара, казалось, вздрагивал от прикосновения каблуков, как будто мои шаги приносили ему страдания. Я остановилась, чтобы лучше рассмотреть простёртое подо мной серое чудовище. Мне стало жаль его, лежащего на спине, покрытого с боков разросшейся коростой домов. Я посмотрела вдоль простирания облупившегося брюха, и взгляд мой упёрся в туман, окутавший площадь неподалёку, наткнулся на дрожащий силуэт обелиска, или это был рог на морде спящего третий век дракона. Ощутив всю зыбкость незыблемого, и весьма встревожившись, я поспешила свернуть в боковой проезд к Московскому вокзалу, по какой-то причине открытый этой ночью.
Проведя большую часть жизни в центре города, в бесконечной толпе проспектов, улиц, магазинов, подворотен, коммуналок, я никак не хотела становиться частью этого многокомпонентного студня и всегда искала уединения. Возможно, это кажется странным, но многолюдные суетливые вокзалы мне весьма подходили в качестве убежищ. Всеобщая отрешённость, прощание с прошлым, как с действительностью, общительная замкнутость, ощущение новизны перемен, дороги и ухода от всего в себя.
Мне нравилось, дождавшись отправления какого-нибудь поезда дальнего следования, остаться на перроне. Как встречный холодный ветер, меня огибал поток проводивших, частично печальный, частично удовлетворённый, не очень шумный, не слишком стремительный – он впадал в город. А я оставалась здесь, в причастии к отъезду, но и не с теми, кто уносился в своё будущее, трясясь в утробе вагона, отсчитывающего точки двух параллельных прямых мерным постукиванием. Здесь на крапчато-серой асфальтовой полосе жёсткой платформы между мирами, глядя вслед уносящемуся змеящемуся телу поезда, превращающемуся из физического объекта в геометрический, я могла позволить себе не думать, не осознавать, а только ощущать реальность и нереальность. И не видеть между ними границ и не находить различия, а главное, и не искать его. Что бы ни происходило во внешнем мире, в мире вне вокзала, как бы ни затрагивали меня любые события, какое бы ни оказывали влияние на моё бытие, здесь это не имело никакого значения, превращалось в ноль, что приносило обновление.
Сегодня, в это время суток, я никак не могла ожидать, что какие–то незначительные неполадки на железной дороге приведут к сбою в расписании, и последний уходящий поезд опоздает в своём отправлении на два часа. Дождавшись моего прихода. Он уже вздрагивал, как возбуждённое беговое животное перед стартом. Я видела его вибрирующую пупырчатую спину, ощущала запах готовности. Захотелось коснуться рукой его пыльного живого бока – он оказался тёплым. Поезд осторожно подался вперёд, я отдёрнула руку, и резко, как будто получив разрешение, мимо моих глаз заскользило грациозное членистотелое зеленовато-бурое чудище. Я смотрела в сторону его извивающегося, согласно маршруту, хвоста, слушала добродушный затухающий рокот и оттого не заметила медленно и тихо подкравшейся, опять же неурочной, электрички из какой-то таинственной Будогощи. Я там никогда не была, и это название приводило меня в восторг своей готовностью и приятием могущественного будущего.
Электричка устало грохотнула створками сонно разъехавшихся дверей и вывалила на перрон, прямо передо мной, единственного привезённого ею в этот час пассажира. Высокий, худощавый старик в хорошо послуживших кирзовых сапогах, в неизменной, не зависящей от времени года и погоды помеси кафтана и полушубка, обросший седыми лохмами и всклокоченной бородой, в которой ухмылялся неожиданно чувственный рот, уставился на меня своими опасно глубокими глазами. Грубовато-развязно хмыкнув, он порылся в бездонном кармане и извлёк яблоко, всё в табачной крошке, смачно плюнул на него, обтёр о рукав и протянул мне. Я взяла.
– Спасибо.
– Меня встречаешь, дочка?
– Вас?
– А кого ж ещё? Я один приехал.
«Почему бы и нет» – подумала я – «А что? Пусть так. Колоритного деда прислала мне далёкая Будогощь»
– Хочешь выпить, отец?
– А-то нет.
– Пойдём? Здесь в зале ожидания «Чижик–Пыжик» работает круглосуточно.
– «Чижик-Пыжик»? – хохотнул дед – подходящее название разгуляться до утра, не забыть бы до какого.
– Ну, ты крут, старик. Гулять до потери памяти в твоём…. Как зовут тебя?
– Григорием – имя прозвучало гордо со значением.
– Распутин что ли?
– Он самый.
– Ага. Здорово.
– Хочешь, паспорт покажу? – Не дожидаясь моего ответа, дед запустил ручищу в тот же карман, в котором почивало моё яблоко, и вытащил новенький почти не помятый и чистый паспорт. Надо же, даже обменять сподобился вовремя. – Держи! Любуйся! Не верит.
Я машинально открыла впихнутый мне в руки документ. Справа от фотографии деда было напечатано: Распутин Григорий Ефимович. Пол Муж. Дата рождения: 21. 12. 1916.
– Не фига себе! – вырвалось у меня – Простите.
– Да ладно. Насладилась? Возвращай бумагу.
– Нет, правда… – я была в замешательстве, не знала что говорить, все слова казались либо бестактными, либо пошлыми. А дед был невероятно похож на своего знаменитого тёску, убитого в год… Чёрт, в день рождения… И я выпалила:
– Надо же! Всю жизнь мечтала напиться с Распутиным! Думала неосуществимо. На этом свете.
– А я три часа тряс задницу в электричке и мечтал о такой молодухе под рюмочку. Дед потянулся, молодецки притопнул и притянул меня к себе, обхватив за талию. Причмокнул и запел на весь перрон:
– Окрасился месяц багрянцем…
Я подхватила, и, постепенно снижая децибелы, мы направились в обнимку к зданию вокзала. Уже в дверях «Чижика-Пыжика» наш на удивление слаженный дуэт был допет страстным шёпотом.
В кофейне, как ни странно, было довольно людно, но справа от входа, в углу, у окна пустовал, явно ожидая нас, уютный столик, моё любимое местечко, преданный друг и свидетель различных моих состояний и частых визитов. Я усадила старика озираться и привыкать к довольно милому интерьеру заведения, надо отметить, мало характерному привокзальной забегаловке, и отправилась в очередь, к стойке. Странная вещь, когда приводишь кого-то первый раз в хорошо знакомое тебе место, вдруг начинаешь видеть всё немного по-другому. Как будто к твоему взгляду и опыту добавляются чужие ощущения. Пространство преобразуется, и ты заостряешь своё внимание на деталях, которые раньше не замечал, твоё отношение к ним уже не совсем твоё, а совместное с кем-то и невозможно отделаться от будоражащей смеси чувств потери и приобретения. Мне всегда нравился вмонтированный в стену огромный аквариум с живыми рыбами и керамическим Чижиком Пыжиком с удочкой в крыле. И я не замечала, что над всей этой, с позволения сказать, городской пасторалью простирается некое подобие радуги грязновато–пастельного оттенка, более похожее на пролёт тяжёлого бездарного моста, нежели на оптическое атмосферное явление.
Я посмотрела через зал в угол. Ну, естественно, глаза деда светились радостным острым ехидством. Что ещё? Светильники могли бы быть поинтересней? Ну и чем тебе не нравятся, старый чёрт, летящие по небу над рекой то ли чайки, то ли листы бумаги, от которых исходит сияние? Знаешь, что на этой бумаге? Дед было кивнул, словно соглашался, но тут же затрясся от беззвучного смеха – вот именно, мало ли что там может быть. Ну, погоди, сейчас закажу двойную «Гавайскую ночь», и минут через двадцать всё станет вполне гармонично.
Из коктейлей наличествовал только глинтвейн. Очень уместно при плюс двадцати трёх на улице. Хотя, пикантно и может оказаться вполне эффективно. Однако, если старик и впрямь молотит под известную личность, можно услышать много новых эпитетов. Любопытно.
Григорий Ефимович втянул в рот изрядную долю напитка, покатал там, внутри, громко глотнул
– Не остыла, упаренная.
– Что?
Он не обратил никакого внимания на мой вопрос, сплюнул и вдруг изрёк:
– Знаешь, если тебе не нравится эта штукатурка разноцветная на стене, сядь к ней спиной и смотри на меня по-другому.
– А глинтвейн?
– А что глинтвейн? Хорош, коли в рот вхож, ежели хошь. А коли не хошь то и джин не хорош.
– Джин? И часто вы джином балуетесь?
– Я им никогда не баловался. А пил бывало. Там есть что-нибудь из спиртного? – дед кивнул в сторону стойки.
Я принесла ему пол–литра водки «Санкт–Петербург»
– Ну вот – добродушно усмехнулся он – разбираешься.
– Разве что в этом.
– А в чём тебе ещё надо? Знать, что есть-пить, чтобы жить-быть, а остальное суета.
– Да хотелось бы побольше интересов и понятий.
– Ну, это другое дело
– И разбираться в этом.
– Зачем?
– Ну, может быть чтобы, наконец, в себе разобраться.
Старик выпил, крякнул в рукав, положил локти на стол, вперился мне в самое нутро своими абсолютно трезвыми глазищами:
– Ты правда хочешь, чтобы я сказал?
– Да.
– Я тоже не сразу понял. Но это бывает, когда цели нет, стало быть и цельности, разваливаешься на части и роешься потом в собственных кусках, как скупой рыцарь в сундуках. Приятно, а без толку. Ты чем занимаешься? Пашешь? Сеешь?
– Нет. Не пашу и не сею. Я – гид переводчик.
– Старые сплетни новым гостям рассказываешь? Да ещё и с иллюстрациями. Творческое занятие.
– Иногда я пишу.
– Вот в этом всё и дело.
– В чем?
– В иногда.
– Слушай, я понимаю, ты много пожил, ты опытный и, вероятно, мудрый, но откуда ты знаешь, что нужно мне?
– Ты спросила, я предположил и ответил.
– Может, у меня и таланта никакого нет.
– Знаешь, чего у тебя нет?
– Чего же?
– Веры!
– Ты чего, дед! Ты о чём? И ты туда же? Хочешь меня увлечь новомодной российской идеей! Чтобы я бегала по очередям за божьей благодатью, как за дефицитом? Сам побойся Бога.
Дед смеялся:
– Остынь ты! Завелась! Наступил на больное? А я о Боге вообще не говорил.
– Прости. Давай замнём. Я сама начала ерунду всю эту. Забудем?
– Ты не забудешь. Вот послушай:
В лохмотьях собственной души
век отшагаем, отболеем,
Безверья каменной аллеей
К чертям на праздник поспешим.
– Это ещё откуда?
– Со дна бутылки. Видишь? Кончилось.
Я принесла ему ещё пол-литра.
– А ты, дед Григорий, пашешь-сеешь? Чем ты занимаешься? – Я забыла о его возрасте и не подумала, что он в принципе уже давно может только на печи лежать или на диване, или где там заслуженные пенсионеры валяются в этой их Будогощи.
– Да я пахал и сеял. Теперь вот жну – ответил старик с лёгкой усмешкой, вовсе не обидевшись на мою очередную бестактность.
– Может быть, ты – поэт?
– Я? Господь с тобой, дочка! Правда словами поиграть люблю, да и они со мной вроде развлечься не отказываются.
– Кто?
– Что.
– Кто что?
– Слова всё-таки «что» по договору. Вот и у меня с ними договор заключён: я их не мучаю, не терзаю стихами или доморощенной прозой, а они приходят ко мне на помощь в любой момент, когда и какие потребуются. В карманах не роюсь.
– То есть? – я покрутила в руках подаренное мне яблоко. Машинально надкусила его.
– А то и есть. Если мне нужно человеку что-то сказать, действительно нужно – трезвым голосом проговорил старик, прикончив вторые пол-литра, – Бог, которого ты так боишься, посылает мне нужный текст.
– Ага, посылает. SMSочкой. А ты берёшь и пользуешься, и контракт у тебя, то есть договор, не просто со словами, а с самим создателем.
– Знаешь, где самые подходящие слова?
– Да уж конечно. В молитве или в священных писаниях…
– Оказывается, знаешь.
– Нет. Просто предполагаю, что могу услышать. Извини, позволяю себе считать, что всё это человеческое творчество.
– Так я его Богу и не приписываю. Всем известно, что Библии апостолы писали, – в общем–то обычные мужики, просто делали они это с верой. А ты почитай – не все они были высокообразованные талантливые писатели, но даже Пушкин признавал огромную ценность Евангелия, в том числе и литературную.
– Возможно. Но есть ещё всякие наложения, связанные с переводами. Иногда несколько раз переведённый талантливыми авторами текст становится шедевром в отличие от посредственного первоисточника.
– Ну да. Тебе – гиду, виднее. Но, знаешь что я тебе скажу. Пиши ты на любом языке, переводи по десять раз, если тебе есть что сказать и есть тот или те, кто должны тебя услышать, и ты убеждена в том, что говоришь, то есть – веришь, уж прости, то это будут нужные слова в лучших своих проявлениях. А язык вообще один, открой рот и посмотри в зеркало. Я однажды вот так вот с датчанином одним сидел. После пары литров мы друг друга прекрасно понимали: он мне душу свою изливал на своём наречии, а я советы давал по-русски, через год встретились – он так благодарил.
Я не могла сдержать душившего меня смеха с примесью хмельной истерики.
– Ещё пол-литра, отец?
– Хватит пока. Пошли, прогуляемся. Уж день небось…
Минуя огромный суетливый зал прибытия с нелепой стелой Петру, торчащей перед переходом в роскошно–величественное главное здание и аккуратно проманеврировав между створками огромных дубовых дверей, мы вышли на площадь, носившую когда-то гордое звание Знаменской. Солнце уже строго и покровительственно взирало на город, как на ребёнка, требуя показать чисто вымытые утренней росой руки проспектов, личики и ладошки площадей.
У меня появилась забавная идея совместной прогулки со стариком Распутиным по строго конкретному маршруту.
– Отец Григорий, ты куда-нибудь торопишься?
Он остановился, задумался, порылся в бороде. Я ждала, чувствуя, что мне очень хочется, чтобы он был сейчас свободен, чтобы ещё немного побродить, чтобы был повод не возвращаться к себе, оставаясь с ним.
– Пака нет.
– То есть, мы можем…
– Хотелось бы город посмотреть. Давно его не видел. Представляешь, я последний раз ещё в Ленинграде был. Так что давай, гид-переводчик, переводи…
– А, долго ходить сможешь, дедушка?
– Смотри сама не зажалуйся.
Я взглянула снизу вверх в лицо высокого статного мужика и вдруг очень ясно ощутила нелепое отсутствие связи между его внешним обликом и датой рождения. Выпив весьма изрядно, значительно больше меня, он был заметно трезвее, глаза сияли явно ярче моих. Если бы не глубокая морщина на переносице над крупным горбатым носом и седые лохмы, он вообще выглядел бы моим ровесником. В довершение ко всему между небрежно взлохмаченными усами и бородой ухмылялись такие губы, что рождалось порочное желание поцелуя. Я смутилась и отвела взгляд, дед коротко хохотнул, и мы довольно бодро двинулись в сторону Лиговского.
Как я любила эти названия, ставшие для меня именами: Гончарная, Лиговский, Пушкинская, Кузнечный, Загородный. Это был мой ареал обитания, – территория доверия – здесь ничего не может случиться плохого. Это маршрут длительных вечерних прогулок с отцом в моём детстве, путь философских бесед и поэтических игр. Сейчас, держа крепко под руку знакомого мне несколько часов человека, так близко, что я слышала его мерное, в унисон с моим, дыхание, я ощущала смешанное чувство умиротворения и тоски… по давно покинувшим меня.
– Эх, отец Григорий, и отчего ты мне не отец?
– Как знать? Я многим отец. А твои родители?..
– Их уже нет.
– Так что спрашивать некого…
– Может тебя спросить?
– Давай, коли нужда. Охотно отвечу. Прямо сейчас – быстро проговорил дед, восторженно оглядываясь на Владимирский собор, мимо которого мы проходили. – Действует. Конечно, она должна была сюда вернуться. Свято место не долго пусто.
– Кто она?
– Как кто? Да Богоматерь Владимирская. Я во сне её видел в восемьдесят девятом…
– Так собор тогда Епархии вернули, кажется.
– Ну, я и говорю. Спрашивай, что хотела.
– Не сейчас. Вопрос как-то не сформулировать. Не созрел ещё, похоже.
– Ну, пошли, куда вела.
По Загородному мы вышли к Гороховой. Появившиеся уже вполне многочисленные встречные прохожие с любопытством поглядывали на нас. Женщинам явно был интересен мой спутник. Я ощутила ревность и не знала, что с этим делать: удивляться, противиться или наслаждаться.
Чего ждала я от прогулки? Она была нужна мне, как обычное простое времяпрепровождение с ничего незначащим полупьяным общением? Или я хотела показать своему новому знакомому, что могу быть интересной, нужной, стать такой, хотя бы в мелочах. Ему ли? Себе ли, ушедшему из моего мира отцу? Или были ещё какие-то надежды, сумасшедшие и тайные даже от меня. Различные мысли и чувства свалились в кошаче-собачий, рвущийся изнутри на части клубок, катающийся мотком из мягких игрушек и проводов под напряжением, заставляющий трезветь во всех отношениях с присущими процессу тошнотой и головной болью. Хотелось срочно бросить какой-нибудь кусок или каплю разыгравшемуся, дёргающему за горло желудку. Но мерзкий старец пресек все мои попытки заглянуть не только в круглосуточный супермаркет, но и в гостепреимно-уютное кафе «На Гороховой», так удачно открытое в столь ранний час.
– Хватит пока, дочка, дай плоти отдохнуть, усмири её.
И я послушно, неожиданно для себя, смирилась, целиком.
Вовремя. Вдруг, будто из-за подвергшихся выветриванию отвесных серо–бурых утёсов доходных домов, прячущих в складках облупившегося декора остатки чудом задержавшихся сумерек, выплыл по Большому Казачьему мой любимый дом 61 дробь 1. Он был целиком освещён солнцем, нарочито выделившим для полноты эффекта архитектурные особенности раннего модерна и напоминал растр гигантской галеры, входящей в гавань. На мгновение выхваченная лучом, словно омытое прибойной волной имя корабля, высветилась над высокой угловой дверью вывеска «Эдем».
– Вон дом, в котором я некоторое время жил в Ленинграде – услышала я голос старца, донесшийся до меня, как мне показалось, сквозь шум ветра и волн. И точно в полусне я увидела словно выточенную из морёного дуба ладонь, резанувшую воздух поперёк моего взгляда. Она указывала направо, на тот дом, к которому я и вела старика, а теперь не хотела или боялась даже смотреть на этот псевдоклассический развязно наглый фасад с отвисшей от удивления челюстью высоченной арки, внутри которой зияла вопящая надпись «Азимут» – смотри сюда! Вот оно направление твоих поисков, здесь всё, что тебе нужно, от общества петербургских эгоистов до салона красоты «Распутин».
«Приплыли» – пронеслось в моей больной голове и застряло где-то на пути к уже распахнутому рту.
– Что уставилась шально? – смеясь, пророкотал дед – Чего ждёшь? От кого?
И вдруг зашёлся совсем уж гомерическим гоготом:
– Гляди туда! Стоматология – «Эдем»! Многообещающее название. Я бы не рискнул.
– Ладно же! – я схватила его за руку – Пошли. До Мойки отсюда уже совсем недалеко.
Я ждала вопросов, но их не последовало. Старик молча озирался по сторонам, и на лице его не застыла, играла усмешка-улыбка, а у меня вряд ли хватило бы слов описать все выражаемые ею чувства. Мы шли так быстро, точно боялись опоздать туда, где уже находились наши мысли, словно они, мысли, могли не дождаться, уйти дальше, и всё будет упущено. Мне стало казаться, что вовсе не я выбираю маршрут нашей экскурсии, а напротив, ведома этим человеком, возникшим из какого–то непознаваемого бытия или небытия. Для своих, по моим подсчётам лет, он был фантастически неутомим, как призрак, как тень отца Гамлета.
– О! Господи! – Пронеслось в моей голове, и тут же слова, вырванные из пространства, свалявшиеся в залежалый ком, как-то сгруппировались и рассыпались на ритмично–зарифмованные строки.
Я не Офелия и не сойду с ума
Цветам ломая их изящный face,
Я встану рядом, ибо я сама,
за эту жизнь держусь как за эфес.
Всё твой вопрос – в нём лёд и кипяток
Не смешаны в пропорциях неравных
Я при рождении сделала глоток,
Который, по сценарию, отравлен.
О страшный дар – без удержу любить
Нам отсулил могучий неврастеник.
Отмщенья жаждем или not to be
И мы всегда сражаемся за тени.
Кто мой отец? И кто его убил?
И что стократ твоих теней дороже –
Сегодня Гамлет мой, ты слышишь, Билл?!
Мы друг без друга умереть не можем.
На последней строке мозг зациклил, и она стала повторяться бесконечным рефреном. Я начала отставать, Григорий Ефимович оглянулся. Какие у тебя глаза, старик?! Помнится в «Чижике-Пыжике» они светились цветом хорошо разбавленного коньяка, а сейчас такие же, как асфальтово-бурая вода канала Грибоедова, ползущая под Каменным мостом, под нами. Всё правильно – никто толком не мог запомнить твой взгляд. Историки-биографы до сих пор спорят, описывая ощущения, воздействия, всё что угодно. О чём это я? Это совсем другой человек, тёзка, однофамилец… Человек ли? Ну да, конечно, тень отца… Чего ты хочешь от меня?
– Устала, дочка? – знакомый, почти родной голос заставил сознание вернуться в тело, застрявшее занозой посреди улицы, потягивающейся в объятиях утреннего солнца.
– Нет, всё в порядке. Просто засмотрелась.
– И много увидела?
– Кое-что.
– Собственные фантазии? А что ты хотела увидеть? И зачем?
Я не знала ответа, а старик знал.
– Мне кажется ты хочешь перешить наряд, даже не примерив. Может лучше принять мир таким, как есть. Укутайся в него, согрейся, а там и перекраивай, если окажется не по размеру. Или как?
Я попыталась зрительно представить предлагаемые манипуляции – получилось слабовато, хотя и забавно. Однако мозги встрепенулись.
– Григорий Ефимович, а тебе как твоя жизнь? Впору?
– Да по-разному бывало. По молодости выпадал, пока не подрос, позже всё по швам трещало. Лез вон из кожи, бежал, ломал дрова, сжигал мосты, строил замки… Никогда не был праведником, но всегда верил в Божью волю и силу смирения.
– Силу смирения?
– Да. Что тебя смущает? Трудно позволить себе быть тем, кем в самом деле являешься? Не нравится желать того, чего действительно хочешь? Не можешь остановиться в поисках потерянного вчера?
– Ты вообще про что?
– Про тебя. Примерь к себе, может, поймёшь, что я сказал, тогда завтра найдёшь гораздо больше, чем потеряла сегодня.
– Ну, конечно, и останется только возлюбить ближнего как самого себя.
– Вот именно – не меньше и не больше – поймаешь равновесие, будешь счастлива.
– Чего?
– Простите, сударыня, не подумал – вам это слово уже жмёт. Такое банально-нереальное. Так куда нам теперь? Налево, конечно.
Оставив Гороховую, мы свернули на набережную Мойки. Меня начинала раздражать манера старика говорить со мной то насмешливо, то поучительно назидательно, как с первоклассницей. С чего ты взял, что живёшь правильнее и мудрее меня? Только потому, что старше в два раза? Почему я всё это слушаю, пытаюсь поверить, думаю что-то предпринять. От дурацких мыслей во рту появился привкус недозревшего яблока. «Рано» – пронеслось где-то между душою и разумом ранящее слово. «Или поздно» – заставила я себя подумать усилием воли.
– Вовремя – донеслось откуда-то извне.
– Что?
– Во время моей бытности школьным учителем я здесь часто бывал.
– Где?
– Да здесь же, на Мойке, 94. Тут дворец работников просвещения был. Однажды меня позвали сюда на какой-то идиотский конгресс и окончательно убили во мне педагога.
– Это традиция такая – приканчивать вас в Юсуповском! Продолжим!
И я обхватила старика Распутина за шею. А он – гад, слегка нагнулся к моему неосторожно приблизившемуся лицу и смачно чмокнул прямо в губы, как бы пробуя их на вкус
– М–да. Яду, как всегда, не хватит.
И это всё? Никаких больше эмоций, переживаний? Только насмешка, которую можно было бы считать похабной, если бы…. Если бы что? Если бы я не любила уже этого человека, как самоё себя, если бы он не стал вдруг для меня воплощением. Чего? Детской фантазии? Самой невероятной и возможно потому наиболее реальной за всю мою взрослую жизнь. Я постаралась как можно незаметнее посмотреть на огромного, как ночная тень, человека, стоящего рядом, чтобы увидеть его напряжённо застывший взгляд, тяжело ложащийся на классический фасад, на шестиколонный портик, напоминающий щербатую ухмыляющуюся пасть.
Старик нагнулся, что-то поднял с земли.
– Быть дождю.
– Почему?
– Улитка. – Он посадил моллюска на ладонь, и тот не испугавшись и не прячась в своей раковине, пополз по его коже, оставляя мокрый след.
– Они никогда не возвращаются туда, где были.
– Откуда ты знаешь?
Он не ответил. Я посмотрела на безоблачное небо над нами, на дома и деревья, приготовившиеся к жаре и засухе. Может быть это была сумасшедшая улитка?
– Почему?
– Да они и не помнят и желают только одного – наслаждения едой. И для этого тащат на себе бремя собственного дома, и растут вместе с ним, и оттого не имеют ни права, ни сил, ни возможности оставить его.
– Ну, прямо философия улитки.
– А мы меняем жилища, бежим оттуда, где были счастливы, и возвращаемся туда, где нас убивали. Или наоборот.
– И кому лучше?
– Так и я об этом. Не знаю. Видишь, мы не в состоянии понять даже улитку, а что уж там человека.
– Ага, кантовские вещи в себе. Здорово. Для чего это всё?
– Так просто. Может тебе интересно будет увидеть, что Кант для нас проще, чем улитка. Он нам ближе.
– А улитка? Ближе твоему Богу.
– Это сказала ты.
– Ну и что?
– Мысль уже не о себе. И диапазон пошире.
– Ну, спасибо.
Дед осторожно положил улитку на землю, повернулся спиной к Юсуповскому дворцу, облокотился о чугунную ограду парапета и долго смотрел на равнодушно сонную Мойку, монотонно скользящую мимо, как лента конвейера, уносящая прочь собранные кем–то мгновения.
– Можешь считать это смешным, а можешь… как хочешь. Но в 42-ом я здесь чуть не умер, причём не столько от ран, сколько от усердия лекарей, а в 58-ом от пожара. Так что да, традиция, наверное.
Я тут же произвела в голове вычисления, сколько было лет приблизительно тому, когда его первый раз чуть не прирезали, и сколько в декабре 16-го. Цифры получились нехорошие, тревожные, вызывающие озноб.
– Считаешь? Столбиком в уме? – гадкий дед опять ржал, как жеребец на выгуле. – Так ведь нет ничего достоверного. Все сведения процентов на 80 – выдумки. Вот одни говорят, что он был в молодости конокрадом, а другие…
– Что конём в зрелости – мне просто необходимо было сказать какую-нибудь грубость.
– Легче? – с искренним сочувствием спросил старик – Может, пойдём уже отсюда?
– Пожалуй – произнесла я как во сне.
И начала просыпаться где-то очень глубоко внутри себя. Тяжело, с неистовым желанием ни за что не открывать глаза, пока не вспомню и не осознаю того, что случилось накануне. Вроде бы ничего не изменилось вокруг. Разве что солнце стало ярче и жарче. Стоило это заметить, и процесс усилился. Свет и жар свернулись воронкой, падающей с неба, с востока, преломились в глазах человека, стоящего между мной и солнцем и врезались мне в лицо. Согрело или обожгло? Осветило или ослепило? Какая разница? Я сдалась.
– Веди теперь ты, отец Григорий.
Какими-то улочками, переулками, извилистыми, тенистыми, но душными, как родовые пути, проходными дворами, пропахшими человеческим нутром, я продиралась за своим проводником сквозь сгустившийся от начинающейся полуденной духоты воздух. Мы почти не говорили, и я не узнавала дороги, не задумывалась о маршруте, целиком отдавшись чужой воле, первый раз в жизни получая от этого болезненное наслаждение. И впервые мне удалось увидеть в открывающейся передо мной двери не игру древесной текстуры или узор орнамента, кричащий об архитектурном стиле, а просто вход в храм. Вежливая прохлада, гостеприимное спокойствие полумрака на миг оглушили, но, что странно, не хотелось покидать это полубесчувственное оцепенение. Однако, непозволительная роскошь отрешённости, точнее, искажённое восприятие собственных чувств было обречено, я очень медленно, осторожно начала вбирать в себя внешний мир, или, он впускал меня, но я его не узнавала. Два с половиной лестничных пролёта, широких и некрутых, оказались такими трудными и долгими, точно приходилось подниматься из плотных океанских глубин, где я провела большую часть жизни. И теперь свет и воздух могут стать губительны. Но любые меры предосторожности не уберегли бы от разрывающей боли первого вдоха, когда я, стоя под куполом, посреди храма, рискнула поднять голову и посмотреть вверх.
Старец осторожно придержал мой локоть.
– Ничего. Это хорошо. Правильно.
– Что правильно?
– То, что ты чувствуешь.
– А что я чувствую?
– Что-то… Боль, наверное.
– Боль?! Конечно! Я не спала всю ночь, не ела больше суток, я шаталась по… – у меня перехватило дыхание, я поняла, что не права, что несу какую-то чушь, неуместную и обидную для нас обоих – Прости.
– Ничего. Это хорошо. Правильно. И пора…
Ни к чему было задавать новый вопрос. Моё бунтарство иссякло, и мне не хотелось сопротивляться.
По-прежнему придерживая мой локоть, осторожно и нежно, меня вели через храм, куда-то в северную его часть. Так отец ведёт свою дочь к венцу – подумала я, нет, немного не то.
– Почитай тут пока. Через десять минут начало. Я подойду.
– Что читать? – Но вопрос завис рядом со мной, так как мой поводырь исчез среди колон, икон и свечей, а я осталась перед запертыми дверями крестильни и честно пыталась вникнуть в тексты, вывешенные на стенке для ознакомления с порядком проведения таинства. Трижды перечитав заголовок «Символ веры», я ощутила себя буксующим разлаженным механизмом, переполненным выше краёв маслом, пусть высококачественным, но неподходящей марки. Сама вера для меня до сих пор являлась символом непостижимой жизни, где понятия «нельзя» и «можно» не имеют смысла запрета или разрешения, а означают нечто единственно возможное, некую осознанную необходимость, если воспользоваться знакомой с детства формулировкой. Символ веры, как функция более высокого порядка, четвёртое измерение – об этом можно слышать, читать, с этим можно смириться, как с бесконечностью космоса. И снова меня смутило удивительное свойство зарождающейся сегодня мысли – материализовываться в виде игры тепла и света. Солнце, хлынув в южные окна храма, вовсе не притушило, а скорее усилило свет сотен свечей, горящих перед иконами. Тёплыми, мягкими ладонями оно легло мне на плечи и повернуло снова лицом к открывающимся дверям. И я увидела собственную тень, уже вошедшую в небольшую уютную комнату и преклонившую голову к подножию купели. Ладони слегка сжали плечи, подталкивая меня вслед за тенью.
– Иди, дочка. Я с тобой.
И я послушно перешагнула порог, снова наслаждаясь подчинением чужой воле.
Нас было много… в этой комнате для таинств. Три младенца на руках волнующихся потенциальных крёстных матерей. Один, молча и пугающе осмысленно оглядывался, меня тревожил взгляд его тёмных внимательных глаз, сканирующий пространство. Другой спал. Так богатырски мощно, что заполнял всё вокруг себя непробиваемым спокойствием – хотелось находиться именно рядом с ним. Третий истошно орал, требуя немедленных разъяснений или прекращений любых возможных манипуляций, связанных с его жизнью. Его тщетно пытались угомонить рожками, сосками, ласками, но он отвергал всё и вся и был мне близок и понятен. Ори, малыш, отдувайся за нас обоих, требующих истолкований действий, неверующих в символы и страшащихся мира горнего. Я улыбнулась ему, он увидел, замер на пару секунд, и вдруг, возможно мне показалось, подмигнул заговорщически и удвоил вокальное усердие.
Четверо дошкольников жались поближе к батюшке – три девчушки с ангельски вдохновенными личиками, почти не различимые в своём благоговении, казались близняшками. Мальчик, сжимающий в кармане, судя по очертаниям, крупный чупа-чупс, весь сосредоточился на процессе ощупывания. Зря, мамаша или кто там, ублажаете оглашенного конфетой. Бедный-бедный и дисциплинированный, наподобие циркового медведя, он явно чувствовал себя, как на арене.
Подросток, лет тринадцати – четырнадцати пытался скрыть смущение нарочито скучающим выражением лица. Он то замирал « по стойке смирно», то, наоборот, пытался принять развязно-расслабленную позу, всё время при этом озираясь в страхе кого-то или что-то задеть и, разумеется, благополучно пару раз пихнул достойного господина в костюме и галстуке, пришедшего, наконец, к Богу, но даже здесь не находящего спокойствия.
Парень с девушкой, похоже, молодожены, совершали свой первый осознанный шаг к венчанию.
Пожилой неприкаянный с отчаянным желанием чуда в изношенных, выцветших глазах, стоял особнячком в сторонке и сам не слышал собственного шепота, да и никто не слышал, а можно было лишь угадать: «Грешен». Я пару раз произнесла это слово про себя, одновременно с ним и очень смутилась, почувствовав брата.
Священник мелодично выводил свой текст, и язычки пылающих свечей отзывались в такт молитве. Возможно, я не очень внимательно слушала, но смысл всё же грузился в какие–то глубинные файлы подсознания, минуя стадию вывода. Скорее завораживал ритм – сколько же во мне языческого.
– Отрекаюсь – прозвучало вокруг меня. От чего? Уже не важно. Ещё трижды повернувшись лицом к пристально взирающему солнцу, сметающему остатки теней с лиц, мы произнесли это слово.
Я стояла перед купелью, глядя на своё отражение, восторженно слушая музыку потрясающего оркестра, в котором солировал безупречный альт молитвы священника, ему вторил джазовый саксофон окрещённого младенца, и справа мелодично ухнул контрабас отца Григория:
– Назови своё имя.
– Мария – ответила первая скрипка.
Господи, слышишь, это моё имя.
Но, когда новообращённые, одухотворённые до полупризрачного состояния, выплыли неторопливой вереницей из обители святой купели и встали в очередь перед алтарём, конечно, возникли ассоциации с паломничеством к райским вратам, но появился вопрос…
– Зачем же, так сразу? Минуя всю жизнь?
– Детка, это всего лишь причастие.
– Причастие? Интересно. Там пьют вино? Забавно.
– Что–то вроде последней капли для нелинейного эффекта – старец смотрел на меня в упор – он явно подозревал возможность нелинейной реакции.
– Последней капли? Господи! Для чего? Грязная муть осадка, горечь, взвесь разочарования и сомнения. Никогда не пью последних капель!
Я попыталась обойти этого великана, который казалось заполнил собой все возможные проходы наружу. Из храма.
– Стой! Муть и горечь выплёскиваются как раз из-за последней капли. Остаётся чистота. Да и не вино это вовсе.
– А что? Опять символ? Чего? Самодовольства? Глотнул и очистился? Микстура покаянная?
– Кровь Господня.
– Приехали.
Я присела на скамеечку напротив Николы-Чудотворца. И почему все старцы сегодня так похожи?
– Кровь, говоришь, отец? Ну, я вас, ребята, братва православная, поздравляю. Язычники приносили в жертву богам животных. Ну, в худшем случае, друг друга… Господа христиане пошли куда дальше…
– Не бойся своих мыслей – медленно проговорил Григорий Ефимыч – я тоже это всё думал. Да кто не думал? Вот скажи, что могло быть наиболее ценным для жителя пустыни 2000 лет назад?
– Вода, наверное. Как и сейчас – мне самой очень хотелось пить, и я сразу сообразила.
– Вода – слово прозвучало как выдох. Распутин опять внимательно разглядывал моё лицо. Это смущало, но и успокаивало одновременно. Он вновь медленно заговорил, продолжая смотреть, и мне захотелось остаться вот так вот здесь, в этом храме, навсегда, между двумя взглядами, под их присмотром. Николы с иконы и Григория рядом с ней. И со мной.
– Вода – кровь земли, кровь праха. Вот тебе и символ язычника: кровь это жертва. А что божественней воды? Возвышенней праха? Вино и хлеб. Вот и вкушайте, причащаясь небу, отрываясь на миг от земли.
– Нелинейный эффект. – Дошло до меня наконец.
Я отправилась в очередь. Я оказалась последней. А вино густым и сладким, утоляющим и голод и жажду всего лишь одним глотком.
– Вот, дочка, я тебе отец. Как ты хотела.
– И что? Это ведь праздник?
– Разумеется. Ещё какой.
– И?
– Что?
– Ну… Если праздник?
– А? Мы идём к тебе.
Я вспомнила своё обиталище.
– Слушай, у меня и закусить-то нет…
– Значит будет. Купим всё что нужно. Борща наварим.
– Борща?
– Научу.
– Зачем мне кулинарные навыки?
– И котлеты нажаришь, и холодца настудишь, и селёдочку…
– Ты чего, отец Григорий? Проголодался так? Вон кафешка!
– Кафешка – это будни. А у нас праздник.
– Да ну? Какой же? День кухарки?
– Сама говорила – праздник. Крестины. Теперь всё будет по-другому, иначе. Не сразу, конечно. Но ты заметишь…
– Чудо?
– Скорее, работа. А чудо тоже. Знаешь в чём?
– Любопытствую.
– Тебе понравится.
– Борщи варить?
– Угу.
Мне было смешно. И прежде всего от того, что я ему верила. Ему. А себе всё меньше, да и вообще не очень. Стало быть эта шизофрения должна была скоро закончиться, и я не понимала чем. Это мне не нравилось. Мне казалось опасным начинать новую жизнь, промаявшись почти полсрока. Это чревато приобретением идей, надежд, желаний. Я оглянулась на своё отражение в витрине. Вообще–то я ожидала худшего. Однако увиденное только прибавило тревоги. Что делаю? Куда иду, о, Господи?
– На рынок – услышала я весёлый басок Распутина – На Кузнечном, думаю, есть всё, что нам может понадобиться в данный момент.
– Ну да, и селёдочка.
Дом мой в какие–то давние времена был неуютным неприбранным и нелюбимым жилищем. Невзирая на последний этаж, создавалось ощущение подземелья, вероятно от темноты, заползающей из двора–колодца в окна, уставившиеся на запад. Только изредка, поздними летними вечерами, солнце пыталось пробиться сквозь мутные стёкла, что только усиливало впечатление подвала и раздражающе указывало на перманентный, раз и навсегда установленный, беспорядок. Сегодня же всё сговорилось крушить и изменять самоё себя. На самом деле никакого чуда не произошло. Просто мой вечно жаждущий сосед Димон, разумеется, неудовлетворённый добытыми остатками последних капель, взлелеял в себе надежду найти ещё что-нибудь, возможно мною неучтённое или подло зажиленное, и в одиночку обработал мою комнату, как не удалось бы, ну, скажем Сухумскому питомнику в полном составе. То есть, явись мы с отцом Григорием несколькими часами раньше, в моём обиталище вряд ли можно было бы заподозрить периодическое присутствие человека разумного и прямоходящего. Но у нас нашлось много интересных, важных и неотложных дел. А вот сердобольная сестрица проживающего поблизости от меня антропоморфного Везувия явилась вовремя. Она раз в полгода находила в себе неимоверные силы для посещения беспутного братца Димонушки в целях не столько общения в силу кровной привязанности, сколько для устранения наводимых им бесчинств. Ну возможно, она пыталась с ним разговаривать, но я даже не могу вообразить себе о чём. Поскольку отделить причинённый ущерб от уже имеющегося ранее было не возможно, то эта героическая женщина вычистила всю квартиру, и та засияла. Как знаменитые конюшни после проведённой Гераклом санобработки. Искоренив разруху, она каким-то, в данном случае действительно чудом, устранила и самого виновника. То есть дом встретил нас чистым и безлюдным пространством, залитым солнечным светом.
Дом ждал событий.
А я опять ждала вопросов. То есть я не очень хотела отвечать на них. По крайней мере не на все. Но отсутствие не просто человеческого любопытства, но даже вежливой заинтересованности не столько смущало сколько обижало, чуть-чуть.
– Слушай, отец, ты как, действительно всё знаешь про меня или тебе безразлично?
Дед выкладывал овощи в мойку, ласково их оглаживал, что–то нашёптывал. Услышав мой дурацкий вопрос, он на секунду замер, медленно на счёт «три» повернул в мою сторону лицо и в том же темпе вопросительно приподнял бровь. Вот же обаятельный – старый чёрт – весёлая мысль отодвинула зарождающуюся было досаду, и я засмеялась. А дед снизошёл: слегка приподнял уголки губ, открыл рот, снова закрыл, пожевал паузу пару секунд и начал вещание:
– Знаешь, если кому-то хочется про биографию поговорить, то он не ждёт вопросов, а выплёскивает собственные мысли терпеливому слушателю. Правда, мысли эти… Сама понимаешь… Чайник поставь.
– А ножик дать? Для овощей.
– Нет, спасибо.
Отец Григорий порылся недолго всё в том же волшебном кармане и достал «небольшой», по виду похожий на детский меч, в потрёпанных кожаных ножнах ножик, лезвие которого было всё в характерных для высококачественной дамасской стали змеиных разводах. Увидев мой восхищённый взгляд, Распутин довольно хмыкнул, подбросил ножик, разумеется, элегантно поймал его:
– У меня был друг в Златоусте. Ему удалось возродить древний рецепт оружия. Делал ножи, топоры. К нему приезжали из-за границы. В частности мой знакомый датчанин. Мы тогда вместе завалились к нему посреди зимы. Жуткий был мороз, а потом резко оттепель. Мы проснулись, а друг мой исчез куда-то. По сей день не знаю, куда он делся. Может, гения в себе осознал, и не смог с этим справиться. Талант, а тем более гениальность, зверь мощный и дикий, им нужно уметь управлять, уметь подчинять его себе, а иначе сожрёт. Ножик я храню. Хочешь? Посмотри.
Тёплая берестяная рукоятка легла в ладонь аккуратно, но немного тревожно, словно я пожимала палец ожившего тираннозавра, доброжелательного и спокойного исключительно по воле находящегося рядом хозяина. Я отдёрнула руку.
– Сильная вещь.
– Да уж. И послушная. – ответил Распутин с гордостью. Он очень быстро отделил овощи от кожуры, нарубил их в мелкие кусочки, и началось таинство. Даже, если бы я действительно не желала ничему научиться, я не могла бы оторваться от этого зрелища. Верховный друид варил эликсир силы, ну или тёмный колдун приворотное зелье. Старик помешивал ложкой, что–то шептал в кастрюлю, а оттуда ему отвечали довольным шкворчанием. Время от времени он добавлял новые ингредиенты, нюхал, вкусно причмокивал и снова бормотал. Иногда замирал, уставив указательный палец левой руки в потолок – информацию считывал из космоса о готовности варева, судя по всему, получал её и продолжал ритуал. Он наготовил множество еды, словно мы ждали гостей. Понятия не имею, сколько прошло времени, но, когда на стол, вымощенный, блюдами, салатниками, соусниками, креманками, мы поставили свечи, нас окружила ночь. Мягкая и пушистая, с повадками дымчато-голубой персидской кошки, которая помахивала хвостом возле собственной морды, периодически прикрывая им горящий пристальным вниманием глаз и опасно помурлыкивала откуда–то издалека раскатами грома.
Еда была… можно сказать, восхитительна, можно подобрать ещё кучу синонимов, придумать метафоры и как–то поэтически описать даваемое ею наслаждение. Корче говоря, это был первый случай в моей жизни, когда молчание за столом не могло быть неловким, оно было физиологически оправданным. Почувствовав, наконец невозможность не то что наполняться, но даже производить жевательно-глотательные движения, я неимоверным волевым усилием разжала натруженные челюсти, чтобы задать истомивший вопрос.
– Ты там, над кастрюлей, какие заклинания нашёптывал?
Ну и ржал же этот старый мерин. Или не мерин? Мерин не мерин, никем неизмерян.
– Девочка моя, я действия свои, процесс, если угодно, комментировал, ну и молился, конечно.
– То есть овощам перекличку делал?
– Заметила? Точно. Любую вещь по имени назови, она и откликнется, вступит во взаимодействие и возможно даже выполнит твою волю, если захочет.
– Ага, если захочет.
– Лучше, если захочет.
– Ну про имена вещей это ещё Урсула Ле-гуин насочиняла, а вот про взаимные с ними желания…
– Что ж удивительного? Насилие искажает, как сейчас модно говорить, всю информацию. Ты получаешь не совсем то что требуешь, а переломанный, лишённый собственной воли, а стало быть, и энергии суррогат. Так со всем: от приготовления еды до огранки алмаза. От приручения собаки, до воспитания ученика. Требуются договоры.
– Так ты уговаривал свёклу?
– Типа того. И она вполне гордится своим участием в таком борще.
– Не сомневаюсь.
– Только вслушайся: свёкла в борще – джазовый аккорд, а не словосочетание.
Я повторила за ним, сохраняя акценты.
– Точно! Если ещё добавить: морковь и капуста. Это же саксофон и тарелки – целая композиция получается.
Мы пропели весь рецепт борща в блюзовом квадрате и приступили к аранжировке других блюд.
Наконец, доверчиво отдавшись мягкому лону кресла, держа в руке бокал восхитительного французского сухого кагора, я ощутила всю силу усыпляющего счастья. И прежде всего от того, что рядом был он – отец Григорий. Отец…
Меня разбудил джаз банд. Гроза, подобравшаяся в середине ночи к нашему двору, устроила под моими окнами грандиозный сейшн. И я не могла не включиться. Танцы с дождём в объятиях струй – это то чего я желала. В ритме грозовых разрядов и вспышек, электризуясь до эротического экстаза, я посреди двора – колодца не ощущала города, вокруг был океан. Промокшее платье ласково льнуло к ставшему по–детски гибкому телу, и душа в кои–то веки не рвалась наружу. Плоть и дух, объединились в нечто неистовое, живое, как разгулявшаяся стихия. Восторг, сходный с тем, что обрушился на меня в храме вместе с последним глотком, преобразовался в мысль: вот оно – причастие! Ещё одно! Смотри, мать природа, взирай отец небесный – я здесь, между вами. Я ваше дитя! Мой невольный выкрик стал последним аккордом. Дождь кончился. Гроза уходила на запад, унося с собой частичку меня. Эй, слышишь, подари её там кому-нибудь: принцу или бродяге, любому, кто вздумает танцевать в ритме этого дождя.
В дверном проёме парадной, как–то уж очень нереально освещённом неоновой лампой, огромный силуэт Распутина вновь напомнил мистическую тень отца. И эта тень улыбалась без сарказма и насмешки – постоянных спутников её обладателя, пугающе доброй была улыбка и печальной. Совсем чуть–чуть. Так что я сразу всё поняла.
– Нет! Не сегодня! Не сейчас! Пожалуйста.
– А когда же?
– Завтра. Хотя бы завтра. У нас, у меня очень интересная экскурсия по городу. Хочешь? А потом, утром, послезавтра, я провожу тебя. Тебе ведь… куда?
– В Будогощь.
– Ну, да. В светлую Будогощь. Послезавтра. Или завтра.
– Завтра никогда не наступает. Это иллюзия, рождающая соблазн подчиниться мечтам или планам – у кого что. Ты давно поняла это. Всё происходит сегодня. А такие вещи прямо сейчас.
– Я не готова.
– Никто никогда не готов. Можно только осознать неизбежность как необходимость и смириться.
– Хорошо. Хорошо. То есть отвратительно. Но, я попробую.
Последние капли дождя упали под ноги.
– Почему, скажи, всё время нужно терять?
– Не всё. Некоторое.
– Что?!
– Некоторое время нужно терять, чтобы потом находить. Взамен утраченному времени новое пространство.
– Ну да – разбрасывать и собирать.
Я немного успокоилась, увидев, как привычная усмешка изогнула фигурной скобкой его губы и выразительно приподняла одну бровь – мне очень захотелось научиться делать так же.
– Сходи, переоденься – в мокром простудишься.
– Ну почихаю немножко.
– Не стоит. У тебя же интересная экскурсия. Нужно хорошо выглядеть, не с распухшим же носом заморским принцам свои достопримечательности показывать.
– Ой! Ты о чём? Кого когда волновала моя внешность?!
– Тебя. Веришь мне?
– Да ну?
– Ты знаешь, в глубине души, что очень привлекательна. Пора смириться и с этим.
– Зачем ты мне это говоришь?
– Чтобы ты знала, что это заметно. И что я это хорошо вижу.
Надо же, я и впрямь почувствовала себя красавицей и попыталась взглянуть на Распутина, кокетливо повторяя его излюбленный финт бровями.
– Я похожа на тебя?
– Да. Только в три раза моложе.
– В два.
– Никому не говори.
– Ну почему же. Этим можно гордиться.
Он смеялся. Он обнимал меня, прижимая к своей груди так почему-то привычно, так знакомо. Господи, как было хорошо, спокойно, уютно. Сейчас. Я – истерзанная штормами, избитая ураганами галера, наконец-то нашедшая подходящую бухту, где ветер нежно дует на раны, а волны ласково убаюкивают. Можно, я останусь здесь навсегда. Нет, не галера. Я гораздо древнее, я рыба, заблудившаяся в океане, и вот меня нашёл сородич.
– Пойдём.
– Куда? Зачем?
– Туда, где нас ждут.
– А нас ждут?
– Ещё как!
– И ты знаешь кто? Знаешь где? Знаешь?
– И ты тоже знаешь.
– Нет.
– Знаешь и ждёшь, но ждать тебе легче, чем пойти самой навстречу. Но ты уже сделала шаг.
– Поэтому мы встретились?
– Возможно.
Начиналось вокзальное утро, суетливое, отвлекающее от всех проблем, кроме своих, дорожных.
Ещё сутки назад я бежала сюда от себя самой, от дремлющих и бодрствующих чудовищ. Я всего лишь искала защиты и не ждала подарков. Убежище бродяги – перекрёсток дальних дорог, всегда предоставляющий шанс перемены. Он дал мне больше, чем я хотела. Сутки назад. Вчера, чтобы отобрать сегодня.
Когда-то я любила это шумное место, его толчею, неугомонность, его живость и запах привокзальных буфетов, букетов, рекламных буклетов, запах гари сжигаемых мостов и тлеющих надежд. Я продолжаю любить, невзирая на боль предоставляемой разлуки.
– Забери меня с собой, отец Григорий, в Будогощь.
– Нет. У тебя и здесь найдётся чем заняться, гид-переводчик.
– Ну, да. Ты у нас всё знаешь.
– Не всё, конечно…
– Кто ты?
– В точку!
– Ты не хочешь ответить на этот вопрос? Не можешь?
– Да. Потому что на самом деле ты хочешь знать, кто ты.
– А на этот вопрос?
– Я знаю того, кто знает ответ. И ты тоже.
– Отец Григорий?
– Мм?
– Я ещё увижу тебя?
Всё-таки как потрясающе он умеет делать это: глаза говорят – возможно, брови приподнялись – сама подумай, и ни звука при этом.
– Может…, может лучше, если ты ещё очень долго не узнаешь ответа на мой вопрос, отец. А, когда узнаешь… Пусть он тебе понравится.
– И тебе, Мария.
ВНУТРЕННЕЕ МОРЕ.
Уступи, уступи Богу понемногу
Уста, уста станут пить,
Стану лить…
Воду на дорогу.
Боже, в чаше покажи
Сердцу ретивому:
Снова путь тебе лежит
К неродному дому.
Где же, где же дом родной,
Дом родной… нет в помине.
Ляжет от судьбы одной – до иной,
Путь отныне.
Где душа моя – там и я:
Мы едины.
Так дождись меня от огня
До седины.
Братьев и сестер
Созовешь согреться.
Разожжешь костер
От моего сердца.
Буду я нежна, горяча,
Как захочешь.
Я твоя княжна, я жена.
Днем и ночью.
Только ты дождись,
Ты дождись, понемногу…
Слезы, как дожди
Размыли дорогу…
Я – рыба. Я родилась в ночь с 28-го на 29-ое февраля, за пару минут до полуночи. Наверное, это могло бы означать, что я всегда всё успеваю в последний момент, или, наоборот, не успеваю, или делаю что-то преждевременно, но это вообще ничего не значит, кроме самого факта, что это так, и я имею день рождения раз в год, как все нормальные люди. Я думаю, моя жизнь, по крайней мере, до сих пор, была лишь чередой беспорядочно сменяющих друг друга фактов, между которыми невозможно установить никаких причинно–следственных связей. Иногда мне кажется, что кто-то, курирующий моё человеческое существование, ангел – хранитель или кто там – дежурный по жизни, просто задался целью расстраивать все мои планы и выкладки. Стоит мне более или менее логично сложить мозаику из своих ощущений, поступков и мыслей и увидеть наконец некую смысловую картинку собственного мира, как он, этот дежурный, берёт (или хватает) меня за руку и тащит куда-то и говорит моим внутренним голосом: «Смотри, это то, что ты имела ввиду.» И я с обречённым спокойствием, или с ужасом, или с отвращением, в зависимости от настроения, созерцаю хаос верных поражений, ошибочных ненужных побед, очарований какой-то ерундой, разочарований в великом. Я понимаю, я ничего не знаю о своей жизни, и оттого она лишена всякого смысла, или наоборот. Наверное. Всё, что я могу, как настоящая рыба, это чувствовать, или предчувствовать и понимать, что все умозаключения относительны, а попытки упорядочения сродни генеральной уборке в курятнике – имеют смысл только в процессе. Интуиция, осознание предстоящих возможностей, вероятно, компенсирует бесполезность наведения порядка в прошлом. Она помогает увидеть в давно знакомых людях безликих, равнодушных созерцателей моих попыток выплыть против течения. Позволяет разглядеть в случайно встреченных отца или принца, независимо от внешности, статуса и ещё, Бог знает какой социальной чешуи. Интуиция – мой спаситель и мой палач.
Есть ещё одна форма моего существования – беспокойство. Было бы только о чём – логичное и оправданное, оно обостряет все чувства, включая интуицию, весь отпущенный мне по наследству, хотелось бы и сверх того, разум и дарит уверенность в себе и своих действиях. Однако, появление уверенности, я знаю, как это опасно, порождает новое беспокойство, и так далее. Вероятно, всё это можно было бы как-то систематизировать и описать, опираясь на матанализ, но мне, слава Богу, лень. Представляю классический труд: «Математические основы интуиции, беспокойства и идиотизма, свойственные престарелой, лучше зрелой, «рыбе»».
Но хуже всего, когда всё хорошо и переживать не о чем, и я могу стать беспечной, как аквариумная рыбка. Включается воображение, и отсутствие беспокойства и повода к таковому вызывает… очередное, новое беспокойство, и даёт мне право метаться в своей утихшей заводи, поднимая привычную муть горьковатого илистого осадка.
Сон. Всё, что мне нужно, я вижу вокруг себя и чувствую своим гибким телом ласкающий океан. Я снова в потоке.
Нежелание просыпаться будит вначале сомнение: надо ли. Утро щекочет веки: не притворяйся. Необходимо срочно вспомнить: вчера случилось что–то хорошее. Это всегда происходит одинаково: волнение, предвкушение, осознание, приятие, разочарование – и всего–то.
Распутин? Отец?
Он снова покинул меня, уехал. А я зачем-то опять осталась. И почему было не рвануть в эту Будогощь, начать.… Да кто меня здесь держит? Никто. Что? Работа? Она мне только нравится. И всего-то?
То-, –либо, –нибудь, – мелкие частицы, проникающие в мою жизнь, как вредоносные свободные радикалы. Они извращают понятия, ощущения, отношения. Где-либо, делая что-нибудь, получаю всего-то.
Необходимо подняться и идти дальше, то есть на работу. Минуя привычное и обыденное: душ – я умылась ночной грозой, завтрак – только не после вчерашнего, макияж – а вот это, пожалуй, лишь бы не заражённый ещё одним паразитом: «кое– «, маскирующимся под частицу «бы» – кастрированное «быть». «Кое-как» превращается в «как бы», скрывая совсем иной смысл.
Иду. Аккупунктирую асфальт каблуками-шпильками, глажу взглядом шершавые бока домов, стараюсь отворачиваться от клоачных отверстий подворотен. В городе, набегу, так трудно смотреть вверх. Требуется остановиться, прервать продиктованную стремительность, зацепиться за поребрик тротуара корягой мысли в общем потоке сознания. Небо на Невском – взлётная полоса моих сумасшедших грёз.
Ветру не хватало места развернуться, как следует, и порвать в клочья старый обветшавший полог кибитки. В горах он давно бы справился с этой проблемой, но здесь, среди злосчастных ветвей, он путался, злился, драл листву и лишь слегка обтрёпывал края отяжелевшей от бесконечного дождя ткани. Он как преданный пёс нёсся за табором уже очень долгое время, иногда забегал вперёд, дул в лица, как бы спрашивая: зачем было покидать горы, зачем бежать среди мокрых отчуждённых деревьев, охраняющих только сырость болот, зачем топить свою страсть в промозглом тумане, вернитесь! Но кто прислушивался к его собачьему вою и скулежу? Наконец одинокий валун, почти полностью погрузившийся от мирской суеты леса в мягкое лоно почвы, вероятно разбуженный недовольным ворчанием ветра, оттолкнул от своего лба скрипучее колесо, и кибитка подпрыгнула, вскинув края палатки, и ветер, воспользовавшись неловкостью повозки, раздвинул занавес входа.
Она открыла глаза. Полоса неба, унылая, монотонно серая, как равнинная река, омывающая глинистые берега, хлестнула больно по зрачкам, привыкшим к темноте, и она зажмурилась. Только что она мечтала о побеге, продумывала, как незаметно, под шум дождя и ветра, спрыгнет на землю, слегка отстанет от обоза и больше никогда его не увидит. Она приблизительно определила, в какую сторону нужно идти, чтобы вернуться к родным горам и была уверена, что никому не придёт в голову, искать её в этом направлении – все знали, что возвращаться нельзя – там беда, там ждёт какое-то наказание, даже смерть, и виновата в этом именно она. Именно из-за неё они покинули родные долины среди живописных скал, склонов, поросших стройными грабами и буком, и пустились в сумасшедшее странствие к зловещим лесам с тёмными дубами и елями. Она думала, если её не будет, если ей удастся исчезнуть, все смогут вернуться назад, и постепенно всё забудется. А она пока переждёт где-то неподалёку.… Вот только в чём её вина? Никто не говорил об этом, а спрашивать было страшно. Раз молчат, значит всё очень серьёзно, настолько, что даже досужие болтушки не касаются этой темы в своих бесконечных пересудах. И почему ей ничего не известно? Или она не помнит?
Она пододвинулась поближе к выходу, ветер кинулся к её лицу, облизал щёки. Холодно. Очень холодно. И мокро. За шумом дождя и ветра едва был различим скрип колёс повозки, плетущейся впереди. Остаться одной, здесь? Но сейчас так удобно, все дремлют, никто ничего не заметит до вечера. Она спрыгнула на землю, мокрая трава обожгла ноги холодом. Деревья, смахивая ветвями пелену дождя, равнодушно взирали на неё, без укора и любопытства: делай что хочешь – нам всё равно. Впереди и позади пала размытая дорога, однообразно унылая и привычная. Это слегка ободряло, и она попыталась юркнуть вбок к деревьям.
– Куда? Бесова кровь? – отец больно держал её за локоть. Обычно он не говорил с ней. Вообще не замечал. Она взглянула на него и увидела в тёмных, гагатовых глазах… страх.
– Что вылупилась? Марш в кибитку!
– Мне нужно…
– Ничего тебе не нужно. Марш, сказал.
Она смотрела на него в упор, и чувствовала, что может вырваться, убежать, и он побоится поймать и ударить её. От этого стало невыносимо жутко: кто же она? Бесова кровь? Чтобы цыган так назвал родное дитя, должно было произойти что-то очень скверное
– Папа?
– Марш на место! Иначе… – он захлебнулся собственным хриплым шёпотом и закашлялся.
– Иначе что?
Гнев, порождённый неслыханной дерзостью девчонки, придал ему смелости, и он схватил её и швырнул в кибитку как зарвавшуюся собаку.
– Сидеть. Пора бабке разобраться с тобой.
Она забилась в угол среди одеял, укуталась, но всё равно знобило от холода, страха и возбуждения. Отец её ненавидел и боялся, а мать только плакала, но это было так давно и не здесь, в дороге, а там, в горах. Уже несколько лет матери не было, и ей хотелось думать, что та, наверное, любила её или хотя бы жалела, пока была жива. Старшие братья и сёстры тоже избегали общения, как отец, как и все остальные тётки и дядьки. И только бабка, которая всё знала, иногда подзывала её к себе и велела сделать что-нибудь по хозяйству.
Однажды она осмелилась спросить о свое вине.
– Нет на тебе никакой вины, за которую гонят. Но что есть – лучше не знать. Никому.
– Это так страшно?
– Это лучше не знать.
Дальше расспрашивать не имело смысла.
Дождь и ветер продолжали свою бесконечную возню. Сырость и отсутствие надежды не позволяли согреться даже под грудой одеял и всякого тряпья. Может быть, если бы, хоть кто-то был рядом, хоть кто-то живой и тёплый. Но она одна мёрзла в этой повозке для общих пожитков и ждала привала, костра и немного еды, если позволят присесть где-нибудь сбоку. Она зарылась глубже в груду лохмотьев, просунула руки между колен и стала часто дышать открытым ртом, так меньше трясло и становилось теплее, и приглушённый голос бури снаружи превращался в убаюкивающее бормотание. Ей стало казаться, что влажный воздух вокруг неё становится плотнее, вообще превращается в воду, мягкую и спокойную, какая, наверное, может быть на дне океана, о котором она ничего не знала, или знала, когда-то очень-очень давно, или сама придумала. Она любила придумывать то, чего не бывает, а потом верить в свои фантазии.
А потом, если вдруг оказывалось, что всё так и есть, как она себе представляла, она становилась счастливой, потому что это был смысл её жизни. И вот сейчас повсюду была вода: тихая, нежная, мягкая. И не ощущалось больше никакого холода, только приятное щекотание лёгких волн, вызванных её собственным дыханием. Тело стало гибким и крепким, руки превратились,… Она не знала, как это называется: похоже на крылья с кистями. В общем-то, ей ничего и не нужно было знать, только чувствовать своё тело, мир вокруг, кем-то заботливо для неё созданный, и наслаждаться покоем и приятными ощущениями. Течение несло её вниз, и она с удовольствием отдавалась лёгкому потоку – там небольшие подводные пещерки, в них много всякой еды и опять же покой и нега.
Около самого дна она увидела знакомую тень существа такого же, как она, только более крупного и сильного. Они часто встречались здесь, и не известно было ни тому, ни другому, что их больше влекло в это ущелье: еда или нечто другое… Она радостно метнулась вниз, к нему, и они медленно закружили друг за другом, лаская друг друга потоками воды. Это было наслаждением. Она знала, что такое наслаждение – это отсутствие страдания, и ещё она знала, что это всё, что ей нужно.
Резкий луч света разорвал пелёны воды: холод хлынул внутрь и выплеснул океан из её сознания: в полосе потемневшего, сумеречного неба появился черный силуэт отца:
– Иди. Тебя зовёт Шамана.
Бабка тоже всегда ездила одна в своей кибитке. Но не потому, что никто не хотел быть с ней, или она, ни с кем не желала делить своё походное жилище. Её повозка была чем–то вроде палаты советов, храма и лазарета, потому присутствовать в ней постоянно могла только жрица. Здесь всегда было тепло, сухо и уютно. Приятно пахло чем–то пряным, и было много всяких диковин, невероятно интересных и притягательных, до которых запрещено было даже дотрагиваться. Бабка перебирала и перекладывала сухой тканью травы, встряхивала какие–то порошки в полотняных мешочках, чтобы их не попортила сырость, открывала свои заветные флакончики, нюхала содержимое, и по выражению её лица можно было сразу догадаться о состоянии припасов: всё было в порядке.
– Садись рядом. Поможешь мне упаковать руту, совсем боюсь потерять траву. Это не трогай.
– Что это?
– Омела. Не для твоих рук.
– Почему?
– Не трогай этого сейчас, до поры до времени. Ещё года два, или хотя бы год…. Поняла?
– Почему?
– Твоя сила не вызрела. Если ты съешь незрелый плод, тебе будет плохо. И цветку плохо, если ты раньше времени возьмешься за него. Ему будет плохо – он не забудет, не сможет тебе помочь.
– А рута?
– А руте ты уже не страшна. Уже второй месяц, как я заметила.
– Ты заметила?
– Конечно. А ты зря ко мне не пришла, я бы всё рассказала.
– Я думала, это наказание.
– А это и есть наказание всем женщинам. Слава Богу, ты – женщина. Но нести его надо гордо. И в чистоте.
– Ты звала меня только просушить траву? Ведь не только для этого. Правда? Ты должна разобраться со мной? Как? Меня будут судить всем табором?
Бабка молчала.
– За что? Скажи, наконец. Почему он такой злой? Тебе что–то известно. Ведь так? Я хотела убить его? Убить отца?
– Нет, не хотела. Я знаю, что ты пытаешься, можешь попытаться, бежать. Все это знают и стерегут тебя.
– Зачем. Ведь…
– Что ведь? Думаешь, если ты убежишь, табору будет легче? Глупая. Для нас есть ты или нет тебя, не имеет значения, к сожалению. К большому сожалению.
– Ты не хочешь мне объяснить ничего. Почему меня ненавидит отец? Почему все сторонятся меня? Почему умерла мать? Почему я даже имени своего не знаю? У меня есть имя?
– Нет. Никто не решился назвать тебя. Пока.
– Почему? Что я сделала?
– Ты – ничего. Ты родилась. Этого достаточно. Тёмной зимней ночью, на полнолуние, и в затмение, в полночь, перед первым весенним месяцем, но весна тогда пришла поздно, как будто зима не хотела прощаться с тобой. И тебя облизала черная собака раньше, чем я успела принять роды. И твой отец не знал, что ты должна быть. А остальное лучше пока не знать тебе
– Кто мой отец?
Бабка сделала вид, что не желает продолжения разговора. Она достала ларец с лечебными камнями, чтобы промыть их в отваре хвощей.
– Кто мой отец?
– Тот, кто не дал тебе имя. До сих пор.
– Кто?
– Он придёт, чтобы сделать это.
– Поэтому табор… Куда? Кто эта чёрная собака? Это просто собака?
– Не совсем. Так говорят цыгане, когда посреди зимы, в лунное затмение вдруг прекращает идти снег, дует чудовищный ветер, а за ним приходит гроза. Ты появилась на свет под шум бури, во время дикой пляски дождя и вихря. Так бывает очень редко. На моей памяти это было один раз.
– Когда я родилась? Мой отец – цыган?
– Я должна была сказать тебе только то, что сказала. А теперь.… Беги. Никто ничего не заметит до завтра. Но не туда, куда собиралась. Беги к северу. Если выживешь…
– Что? Говори, что?
– В тебе великая сила, помни. Великая. И в этом твой дар и твоё наказание. И проклятье… только не вижу, чьё… Лучше и вовсе не знать, чем нести такое. Я помню сказания нашего народа, я слышала чужие. Это бывает. Очень редко. Бог тебя храни.
Она выпрыгнула из бабкиной повозки. Вокруг плотным коконом смыкалась ночь, зачёркивая очертания кибиток, деревьев, дороги. Ветер бросился в ноги и заскулил в юбках, пытаясь порвать их своими колючими, но беспомощными зубами.
– Не ты ли, чёрный пёс, что облизал меня? – шёпотом спросила она – Жаль, не ты. Был бы хоть кто–то со мной.
Ветер ткнулся мокрым носом в её лицо, полетел в сторону, к северу, как будто приглашал за собой. Она даже улыбнулась ему вдогонку. В соседней кибитке кто–то заворчал, и она, испугавшись, что её могут увидеть, юркнула к деревьям в темноту и побежала, что было сил, пока хватит сил. Она решила, что будет так бежать через лес, сколько возможно, чтобы не думать ни о чём, чтобы убежать так далеко, чтобы не было сил вернуться, чтобы не помнить от усталости и голода кто она, точнее то, что она не знает кто она. Так лучше забыть об этом. «Это не я, это не я, это кто-то другой продирается в мокрых одеждах через лес, я просто придумала его, просто придумала, а меня вообще нет ещё. Я – рыба, кистепёрая рыба, притаившаяся где-то на дне, ждущая свою добычу или своего любовника» – думала она и удивлялась незнакомым словам, появляющимся невесть откуда в её мозгу. Ей казалось, что ветер и впрямь бежит с нею рядом, подгоняя навязчивый мелкий дождь, и она представляла, что он тот самый пёс, плывущий в море над рыбой. Становилось трудно дышать, и сильно болели ноги, избитые корнями и камнями. «Какие ещё ноги. Это плавники. Я ударилась плавником о корягу. Здесь в этой заводи, где я никогда не была, очень дурная вода. Надо убираться отсюда как можно быстрее, надо плыть, плыть». Она поднырнула под очередной выступ, и тут её что-то с силой ударило в грудь, и она стала медленно погружаться на дно. Это было даже приятно – снова в покой. Навсегда. Забиться поглубже и не вылезать.
Её уже начал покрывать ил и водоросли, когда она увидела над собой знакомую тень огромной горбоносой рыбы. «Ты нашёл меня, чтобы спасти?» Рыба кружила над ней, поднимая потоки воды, создавая целый вихрь, который в свою очередь вытолкнул её тело из расщелины, поднял и понёс куда-то вверх, к свету, и на своём лице она ощущала дыхание океана.
– Маша! Мария! Пора! Да проснись же! Не дома на диване.
– Чёрт! Простите. Плохо спала сегодня. Эта гроза… и всё такое.
– Я не буду спрашивать, что «всё такое». А то рискуешь остаться без работы на сегодня и потерять интересный заказ.
– Что? Опять внеплановая экскурсия? Ведь о другом договаривались.… Это ж готовиться нужно. Хоть чуть-чуть. Я же просила.
– Тебе не нужно. Ты это вдоль, поперёк, по диагонали и с закрытыми глазами дождливой безлунной ночью…
– Хватит! Куда?
– По Распутинским местам. С иностранными гостями. По «англицки» надо. Так что, вон твой автобус, а в нём принцы заморские ждут с нетерпением возможности коснуться бесславных страниц российской истории. Их просто торкает от этой темы. Они тащатся, когда какой-то народ сам себе нагадит, а потом с гордостью всем об этом вещает.
– То есть?
– Ну, евреи своего бога распяли, а русские свою душу расстреляли, и, заметь, не одну, ну и так далее.
– Да я не про это. То есть, мне опять на Мойку, на Гороховую…?
– Опять?
– Ладно, ладно. Забей. Чёрт.
– Ну? Идёшь?
– Да иду, иду, конечно. Ну, дед…
– Какой дед?
– Старый
– А?
– Ага!
Автобус подмигивал мутным глазом поворотника и ехидно улыбался, скалясь моторной решеткой, или как эта пасть у него называется. Не сильна я в их анатомии. Водитель приветливо махнул рукой из окна. Я обрадовалась – это был Сергей Михайлович – Филолог-фольклорист по образованию. Так что иноязычным господам, если у меня по какому-либо вопросу не найдётся нужных слов, будет возможность развлечься и пополнить свои лингвистические коллекции расписными, многослойными русскими матрёшками. Всё складывалось на редкость удачно – то есть поводов для беспокойства хватало.
Стиль моей работы зависел, как правило, от двух факторов: темы экскурсии и моего настроения. Факторы вовсе не были взаимосвязаны, что было бы логично, наверное. Петербург Достоевского в равной степени мог меня раздражать или восхищать или придавать мне сил, уверенности, прочих положительных эмоций и свойств или наоборот лишать меня последних желаний в этой жизни. В то же время, внутренний восторг, порождённый, Бог знает чем, (думаю, только он и знает), мог заставить меня так увлечённо рассказывать о революционном Петрограде, что гостям это смутное время начинало казаться самой светлой и романтичной эпохой нашей истории. Так что я не имела любимых или нелюбимых тем, была почти на всё согласна, в смысле экскурсий, что весьма устраивало моё руководство и предоставляло мне некоторые бонусы в виде хорошей машины, достойного напарника и интересных клиентов, преимущественно заграничных, но это уже вследствие владения языками. Я так же не всегда заостряла своё внимание на гостях. Это уже зависело от настроения: буду ли я токовать о возвышенном искренне и самозабвенно или мне нужно повести за собой массы и утвердиться в качестве безооговрочного лидера на пару часов.
Сейчас я была растеряна. К этой экскурсии, сама того не подозревая, я усердно готовилась весь предыдущий день, все выходные. И что мне теперь вещать о своей прогулке со святым старцем? Забавно получилось бы. Я оглядела пассажиров в автобусе. Две трети, как всегда, импортные пенсионеры, у которых есть время и средства продолжить интерес к жизни посредством знакомства с миром. Несколько студентов с диктофонами наготове. Ну, конечно, куда интереснее, чем в архиве сидеть. И двое мужчин, на лицах которых были штампы: «artman». Ну, что же, отец Григорий, спасибо.
Я представилась. И когда услышала своё имя, прозвучавшее эхом, тому, в храме, над купелью, почувствовала такую волну блаженства, любви и силы, как будто я находилась не здесь, в механическом нутре автобуса, в центре горда, на краю истерзанной июньской жарой суши, а где-то в глубине океана, нежно прохладного, заботливо несущего, ласково баюкающего.… Всё что я не успела или постеснялась сказать старику, я вложила сейчас в свой рассказ – это был мой гимн любви своему городу, его истории и многому другому, вдруг появившемуся у меня. Я не замечала времени. Мой напарник, умница, был органичен, и мне не приходилось комментировать ему свои намерения – мы оказывались в нужном месте в нужное время. Пару раз он помог мне проиллюстрировать распутинскую знаменитую манеру говорить, как её представляют библиографы, с чем был знаком профессионально. Весьма уместно. И в конце, когда автобус, мурлыкнув, затих перед зданием Думы на Невском, всеобщий выдох: «Wow!» стал самой искренней благодарностью. Пенсионеры ещё позадавали вопросы, попросили поподробнее остановиться на некоторых моментах личной жизни знаменитого русского – я не стала их разочаровывать, – они услышали, что хотели. Студенты воспользовались любопытством пенсионеров и пополнили свои знания нашей истории пикантными подробностями. И все были счастливы и стремились одарить нас с Сергеем Михайловичем какими-то сувенирами, от чего мы вежливо пытались уклониться. И вот всё кончилось. И я повернулась к восторженной группе спиной.
– Простите. Вы потомок господина Распутина?
– Что? С чего вы решили?
– Ваш рассказ был достаточно красочен для этого. – Двое артменов догнали меня.
– Ну, да. Я его дочь.
– Внучка?
– Ну, или внучка.
Ну вот. Я не напрасно беспокоилась. Ну что может быть нужно двум солидным дядькам – варяжским гостям от гида-толмача? Не приключений же они ищут на свои драгоценные европейские задницы – не то место и не тот, в смысле не та, клиент.
– Прошу прощения. Это – шутка. Я не являюсь потомком господина Распутина.
– Но ваш рассказ. Экскурсия была… красочной. Эмоциональной. Так не говорят об исторической личности, если не имеют к ней никакого отношения. Если вы, конечно, не актриса или…?
– Нет, я не актриса. Но… герой нашего сегодняшнего повествования сам был весьма горяч, общителен, с ним случалось множество странных, мистически окрашенных историй, и я подумала, что избрав подобный стиль, смогу лучше отразить тему.
– Ещё кое-что. Мы изучали архивы, поскольку не праздное любопытство… Распутин интересует нас, как персонаж, связанный с нашей работой.
– То есть?
– То есть, как мы поняли, вы знаете даже больше, чем могут предложить документы.
– Не думаю. Возможно, я могла окрасить излишними подробностями свой рассказ, но никто достоверно не знает того, что происходило с ним на самом деле. Например, когда он был в Индии или путешествовал с цыганами.
– И вы говорили то, о чём не знаете достоверно. Где вы брали эти сведения? Не могли бы вы сослаться на источники? Это особенно интересно.
– Нет. Я, действительно не думала о том, чтобы быть документально точной – меня интересовала эмоциональная сторона, поскольку автобусная экскурсия носит больше развлекательный характер, и мало кто реально запоминает слова экскурсовода. Опять же наличие студентов.… Это небольшая, дозволенная, если хотите, шалость…
– Если я правильно понял, вы просто сами придумали некоторые части…
– Да.
– Это же находка! То, что нужно!
– Что нужно?
Они несколько замялись, переглядываясь.
– Мы не знаем насколько это корректно.… Не могли бы вы оставить нам свои координаты? Телефон?
– Все мои координаты, которые корректно получить, можно взять в нашем экскурсионном бюро. Если у вас больше нет вопросов, благодарю за внимание. Успехов.
И я, элегантно, как могла, поклонилась и поторопилась скрыться, затеряться среди автобусов, справедливо полагая, что бежать за мной никто, разумеется, не будет. Ну, кто сомневался в моих способностях создавать себе проблемы? Нужно будет ещё как-то объяснять это всё руководству. Приехали.
Становилось довольно душно, солнце снова прогнало все облака и самолично, в одиночестве взирало на город, как на сдобный пирог, пропекая в нём все уголки и закоулки. Жар дрожал в воздухе, приглушая звуки и слегка искажая видимость. Ничего не хотелось. Я очень надеялась, что на вторую экскурсию никто в такую жару не явится. Господа, гости нашего города, воспользуйтесь услугами речных трамвайчиков. Ей-богу, никакие автобусные кондиционеры не сравнятся с ласковым речным ветерком. И экскурсоводам не так напекает голову, что они начинают нести всякую отсебятину-околесицу, вводя вас в заблуждение.
– Маш, ты чего там нарассказывала сегодня, что принцам датским башню снесло, и они требуют тебя, как девушку по вызову, на весь завтрашний день?
– Кому снесло?
– Да вон, торчат, уже час. Ждут вердикта.
– Так. Не поняла.
Мои артмены расположились в тени, упавшей в изнеможении от здания Думы на раскаленный асфальт. Они сидели на ступеньках и уплетали мороженое, поглядывая в нашу сторону. Увидев меня, они закивали нам, заулыбались точно старым приятным знакомым.
– Чёрт!
– Я уже не первый раз сегодня слышу от тебя это слово. И, знаешь, начинаю любопытствовать, к чему бы.
– Ты сказал – принцы датские?
– Один – датчанин. Другой – американец. Кажется. Может, тоже датчанин, но сейчас – американец.
– А принцы почему?
– Так. Ассоциация. Кто-то из них режиссёр, кто-то продюсер. Мотаются по миру за сюжетами. Как я понял, сейчас у них очень в моде тема последней царской семьи. Ну, всё та же белиберда: «wow! Русские своего царя замочили, как уважающее себя европейское государство. Они теперь раскаиваются. Челом бьют, грехи замаливают. Нужно им помочь разобраться в их собственной истории. Какая там фигура позабористей и поскандальней? Распутин? То, что надо. А сексуально как!» Давай, пользуйся.
– Чем пользоваться?
– Чем-чем? Любопытством. Как охотник или рыболов. Рыбы, знаешь, какие любопытные. Особенно крупные и хищные, как эти две. Они и в неводы, в сети большие, попадают не потому, что дуры слепые, а потому что им очень интересно взглянуть, кто там запутался.
– Откуда ты знаешь про рыб?
– Я ж – рыбак. Ты, похоже, тоже. А рыбак рыбака…
– Я, может быть? рыба, как раз.
– Значит, – акула. Я тебя знаю.
Так, – всё – срочно собирать пожитки – и в Будогощь!
Я в третий раз в последние двое суток не узнала собственного дома. Димон исчез надолго, согласно записке его сестры, заботливо оставленной для меня на дверке холодильника. Но какой–то светлошерстый мохнатый уютный пёс поселился здесь и занял собой всё пространство. Это он слизал, как коросту со старой раны вечную пыль и мрак и теперь дремал здесь повсюду, создавая ощущение покоя и защищённости. Или не уезжать ни в какую Будогощь? Принцы датские могут очень даже оживить моё бренное существование. И чего я беспокоюсь? Что такого, чего у меня нет или чего я не имею права отдать, может им пригодиться? Ну, ищут ребята приключений в виде, предположим, информации. Дадим им это в полном объёме. Их не волнует достоверность? Меня тем более. У меня вообще собственные отношения со стариком. Я предупреждала. А что, забавная тема получилась бы – взгляд на душу России, олицетворённую Распутиным, в конце девятнадцатого – начале двадцатого века, пропущенный через, м-м – душу русской женщины, живущей сейчас, то есть в начале двадцать первого. А то, что я не совсем русская, то, что во мне, наверное, две трети Земного шара, в смысле генов и крови, так это ещё и лучше, поскольку Россия тем и славится, что ассимилирует с лёгкостью всё, что в неё попало. Мне даже есть захотелось от предвкушения новой забавы. И я вспомнила, что не нужно выходить из дома в духоту усталого вечера, чтобы приобрести какой-либо снеди, что мой холодильник набит вкуснейшей едой, приготовленной накануне. И шальная мысль притащить завтра в свою уютную коммуналочку заморских снобов от искусства, чтобы накормить их всеми нашими борщами, селёдочками и котлетками, вдруг подкатила радостно к горлу и перебила мне аппетит. Естественно, нужно оставить угощение нетронутым. И вообще лучше уйти отсюда. Мало ли что придёт мне в голову, и я нарушу всю эту сытость, покой и чистоту, оставшиеся здесь после старика. Не в Будогощь, так хотя бы на Невский уйти по раскалённому асфальту, вразвалочку, как чайка по песку. А там подняться в людском потоке над суетой обыденности и улететь…
Дыхание океана стало тёплым и приобрело аромат какой-то знакомой травы или древесной коры. Захотелось непременно вспомнить, что могло так пахнуть, как будто от этого зависело, стоит ли оживать. Волны, казалось, ещё мерно покачивали её расслабленное тело, сжимая его всё сильнее. Только это вовсе были не волны, а чьи-то руки крепко схватили её, и она в страхе раскрыла глаза и увидела лицо старика. Он что-то сказал. Незнакомая речь прозвучала отчуждённо пугающе, и она снова зажмурилась. Он продолжал говорить, но она крепче сжимала веки и даже прикрыла их ладонями. Тогда он замолчал. Через некоторое время она почувствовала, что лежит на теплой шкуре, от которой терпко пахнет диким зверем и травой или корой. И вдруг её лицо обдало паром, и она снова услышала чужие слова, они произносились спокойно, уговаривающе. Она поняла, что ей предлагалось выпить какой-то настой, что кто-то заботился сейчас о ней, и ей казалось, что здесь, в тепле не могло произойти ничего дурного, что можно подчиниться без страха. И она послушно сделала глоток обжигающей жидкости, как она и ждала, невероятно вкусной. Тогда она решилась и взглянула на того, кто сейчас ласково гладил её лоб, что-то нашёптывая, как это делала бабка, когда лечила кого–то, или снимала порчу. Она увидела его профиль. Он был не так стар, как показалось вначале из–за длинных белых волос и бороды. У него были густые брови, очень крупный горбатый нос, «как у моей рыбы» – подумала она. Он повернулся к ней и улыбнулся сдержанно, приподняв только краешки губ, и от этой улыбки она снова зажмурилась, потому что стало щекотно глазам, и потому что она больше не хотела видеть это лицо без этой улыбки. Старик задал какой-то вопрос, но она даже не попыталась ответить – если она не понимает его речи, то он уж точно не разберёт её спутанный испуганный лепет. Она, надеясь, что её милосердный спаситель сам догадается, что она чужая, что ей здесь страшно, что она не знает языка и обычаев тех, к кому попала, тех, о которых в её таборе рассказывали много волнующих историй на ночь, вскочила с мягких уютных шкур на земляной пол и бросилась к ногам старика. Он быстро поднял её, что-то добродушно сердито бормоча, и снова улыбнулся, покачал головой и протянул ей чашу с напитком. Она взяла и стала пить мелкими глотками, ощущая, как внутри неё становится тепло и мягко, как тяжелеет тело, и перестаёт бить озноб. И впервые за несколько лет она почувствовала, что может просто позволить себе заснуть, ничего не опасаясь. И она ощутила, как медленно расправились плавники, как жабры, промытые свежей водой, раскрылись и запульсировали, и как тот, огромный, который её нашёл, поплыл рядом с ней, слегка касаясь её бока своим, чтобы ей легче было придерживаться нужного направления и глубины. К свету, к чистой воде, к еде, к наслаждению – прочь из грязной взвеси осадка.
Она очнулась от своих грёз в темноте и не сразу поняла, что сотни красных глаз – это угли, тлеющие в очаге, а шёпот океана – это мерное дыхание старика. Было тепло, сухо и невероятно спокойно. Так спокойно, что даже страшно. Она протянула руку в сторону дышащёго океана, и её пальцы коснулись чьей-то сухой теплой щеки. Мужчина лежал рядом с ней, на шкурах, и тут она поняла, что согрета теплом его тела. Это было ужасно – она никогда ещё не была так близко, рядом с чужим человеком. Только, если её бил отец…. На мгновение она замерла, ужас рос где-то внутри её живота, заставляя напрягаться всё тело, не было никакой возможности больше находиться здесь, рядом, и она, как обезумевшая кошка прыгнула в сторону. Что-то упало со звоном, кто-то пискнул, и она замерла присев на корточки рядом с очагом, зажав голову руками, уже, не понимая жива ли и будет ли жива через мгновение. Его ладонь осторожно коснулась её плеча. Он присел рядом с ней и тихо и ласково стал что-то говорить. Его голос, похожий на шорох дорогой ткани, из которой шили праздничные одежды её соплеменники, завораживал её и успокаивал. Она расслабилась, слушая старика, и позволила снова взять себя на руки. Он отнёс её на ложе, укутал шкурами, лёг рядом и обнял. Больше не было страшно. Он не хотел ничего плохого, он просто согрел её.
Она стала думать, что, наверное, это – сон. Она всё еще спит где-то в лесу, под мягкими лапами ели или сосны. Дерево греет её. Возможно, уже давно пора проснуться. Ведь её могли найти здесь дикие звери или, что хуже, её соплеменники, бросившиеся на поиски. Она попыталась. Не получилось. Тогда она резко села на своем ложе и сильно закрутила головой в разные стороны, отчего старик снова проснулся и снова стал терпеливо уговаривать её и гладить её лоб и виски. Она послушно легла. Нет, конечно, она вовсе не под деревом, она вообще, похоже под землёй – может быть, она умерла и теперь в раю, а этот старик – ангел, который будет теперь заботиться о ней. О, это было бы слишком хорошо, но тогда почему она всё чувствует: и жажду, и тепло, и голод? Как во сне, потому что чуть-чуть в тумане. И тут, как ей показалось, она догадалась. Её вообще не существует – она – чужая фантазия, она снится огромной рыбе, притаившейся в океане. Иначе откуда бы ей знать про океан, которого она никогда не видела, и о котором ничего не рассказывали её соплеменники. Откуда-то из глубины памяти выплыла тень, и она вспомнила взгляд холодных зеленовато-бурых глаз, и презрительный изгиб беззвучно шепчущих губ. Она касается кончиками пальцев шершавого чешуйчатого бока и плавников, похожих на огромные кисти, украшающие бархатные портьеры во дворце. Каком дворце? Она была там однажды или это тоже был рыбий сон? Она снова села, но теперь как можно тише, чтобы не потревожить деда. Медленно, боясь увидеть самое страшное из ожидаемого, она повернула голову в сторону дыхания океана и осторожно протянула руку. Её пальцы коснулись шершавой прохлады. В темноте, спящий под шкурами старик… нет огромная рыба, укутавшаяся в иле, мерно шевелила кистями плавников и жабрами. И она тоже была рыбой, смотрящей сумасшедший сон про людей. Что ж, пусть так и будет.
Резкий свет ударил в веки, и снова стало приятно темно, но как-то не так, как мгновенье назад. Она открыла глаза. Полумрак вокруг помогал разглядеть подробности. Угли в очаге почти прогорели, и он лишь слегка дымился. Земляные стены, украшали звериные шкуры. Ими же было укрыто земляное ложе. Всюду под потолком висели пучки сушёных трав. В выдолбленных в стенах нишах стояли какие-то металлические сосуды, коробочки, смастерённые из древесной коры. Это было знакомо. Бабкина кибитка тоже была набита подобными вещами. Рядом с её постелью стояла деревянная чаша, наполненная ароматным отваром. Она сделала глоток. Питьё отличалось от того, что она пила накануне, но тоже было приятным, сладковатым на вкус, хоть и немного терпким. Справа от ложа она обнаружила выход, прикрытый особо толстой шкурой. Сквозь щель проглядывало солнце. Она поднялась. Ноги сначала не хотели повиноваться, но потом вспомнили свою обязанность и смирились с ней.
Она так привыкла к бесконечному дождю и ветру, сопровождавшему их табор почти на всём пути, что солнце, обрушившее с неба свой неистово радостный свет, показалось ей враждебным. Едва выглянув из-под шкуры, закрывающей узкий проход, она снова бросилась обратно в уже ставший привычным, и оттого успокаивающий, полумрак. Она сидела, зарывшись в ещё тёплые, согретые её телом во время сна, шкуры и старалась вспомнить всё, что с ней случилось за последние сутки или больше, чтобы уловить хоть какую-то логику, найти хоть какое-то объяснение тому, что она видела вокруг. Здесь в этом странном жилище, вырытом в земле, было довольно уютно и просторно. Невольно занятая своими мыслями, она не сразу прислушалась к звукам снаружи. Или ей так не хотелось ничего знать о внешнем мире, от которого нечего было ждать, кроме вечной тоски…. Однако этот мир был настойчив и требовал внимания. Сквозь пение птиц, ворчание ветра в листве, тихий смех где-то рядом бегущего ручейка она уловила знакомый ей голос. Но теперь он не напоминал шёпот бархата, он был властный и строгий. То, что она слышала, более всего было похоже на странно звучащую мелодию. В этом был ритм и некоторая выразительность, но совсем не похожая на страсть и боль, присущие песням её народа. Ей стало любопытно и очень захотелось увидеть своего спасителя и, чтобы оправдать возможное безумство предстоящего поступка, она подумала: раз он там, снаружи, поёт, значит и она может выйти туда, послушать. Она тихо прокралась к выходу, приподняла шкуру и выглянула. Свет снова бросился к ней, и ветер облизал её лицо. «Просто мой старый пёс нашёл себе нового друга, и они теперь резвятся здесь вдвоём» – успокоила она себя. Постепенно привыкнув к забытому на родине солнечному свету, она осмотрелась. Жилище старика, и её теперь, было хорошо замаскировано среди нагромождения валунов, оставленных здесь когда-то морем, убегающим в спешке от враждебного холода. Откуда это пришло ей в голову? Ах, да – это рыба всё знает про море.
У неё закружилась голова, и она присела на вылезшие из-под земли корни дуба, свернувшиеся в виде очень удобного сидения. Голос становился всё чётче, и некоторые слова повторялись, она уже их запомнила, только не знала значения. Она посмотрела в направлении, откуда раздавалось мерное пение, и увидела своего старика. Никакой он был не старик. Скорее, возраста её отца, или даже моложе. Почему-то ей захотелось, чтобы он был моложе. И ещё он показался ей очень красивым. Таких мужчин она не встречала: со светлыми, почти, белыми длинными шелковистыми волосами….
От этих мыслей ей стало страшно и захотелось убежать, но она не могла решиться – оторвать от него взгляд сейчас – значило умереть. И она встала и сделала шаг по направлению к нему. И тут только обнаружила, что он был не один: вокруг него на камнях, вросших наполовину в почву, корнях, милостиво предоставленных дубами, расположилось несколько подростков, её ровесников или чуть старше. Она заметила, что среди них была только одна девочка. Вдруг все оглянулись в её сторону. В их глазах читалось холодное любопытство. Самый высокий мальчик что-то презрительно произнёс и тут же получил от старика резкий, как удар хлыста, ответ. Юноша быстро взглянул в её сторону, покраснел и замолчал, потому что остальные ребята стали смеяться. Старик кивнул ей приветливо и жестом приказал подойти.
Это был именно приказ, и ослушаться было невозможно. Но она с удивлением для себя обнаружила, что рада повиноваться, что готова сделать всё, что он скажет. Смешанное чувство восторга и досады заставило её остановиться. Она исподлобья взглянула на нежданного повелителя. Он опять улыбнулся, слегка приподняв краешки губ, и сделал шаг по направлению к ней, снова повторил свой жест и что-то произнёс мягко, но так, что сопротивляться она была не в силах. Он предложил ей сесть рядом с девушкой на корень. Та ласково взглянула и охотно подвинулась. Через мгновение песня старика продолжилась. Он о чём-то рассказывал и показывал травы, коренья и цветы. Большинство из этих растений она знала. Они были целебными. «Этот старик, наверное, их шаман» – подумала она и решила впредь так и называть своего спасителя, – ведь он ещё, скорее всего, не очень стар, вполне молод.
Шаман пел и раскладывал на длинном, обтёсанном наподобие своеобразного стола, бревне пучки травы, связанные конским волосом. Он несколько раз обошёл вокруг своих слушателей, они, не шелохнувшись и не произнося ни звука, следили за ним глазами. Потом он остановился и замолчал, закрыл глаза, подняв руки к небу, что-то прошептал и, наконец, внимательно оглядел учеников. Она уже поняла, что попала на урок, и ей было очень интересно и странно видеть всё происходящее и принимать в этом участие. У неё в таборе бабка, как правило, выбирала кого-то одного, точнее одну девочку, наиболее толковую, усердную и достойную, чтобы обучить её всем целительским премудростям. Свою внучку, повинную в чём-то ужасном, она обучала тайно. Оттого, наверное, та впитывала каждое слово, каждую крупицу дарованного незаслуженно знания…. Учитель что-то сказал высокому юноше – это слово она слышала уже несколько раз. Парень вскочил и подошёл к столу. Он стал аккуратно вынимать из некоторых связок веточки, стебли, собрал небольшой пучок и подал шаману. Тот осмотрел его внимательно и одобрительно кивнул. Один за другим, ученики по очереди подходили к травам и в полной тишине собирали свои снадобья. Она внимательно следила за ними и видела, как её новые товарищи, боясь ошибиться, готовят самые простые смеси, чтобы унять простуду или промыть рану. Один из мальчиков собрал целых три букета, и шаман похвалил его, хотя и исправил неточности в двух из них. Наконец, все, кроме неё, уже справились с заданием, и она снова услышала это слово, которое значило «подойди». Она вскочила и быстро почти подбежала к столу. Она очень волновалась, но дотронувшись до травы, и взглянув в улыбающееся лицо своего учителя, несколько успокоилась. Она оглянулась на ребят, те с любопытством смотрели на неё, только Олаф, так звали высокого юношу, презрительно ухмылялся. Она отвернулась, она чувствовала злость, но так нельзя составлять сборы. И она снова посмотрела на учителя, а потом закрыла глаза и подняла руки к небу, как это недавно сделал он, Ветерок лизнул её пальцы, погладил по лицу, тронул веки, и она успокоилась. Руки потянулись к травам, ладони раскрылись и застыли ненадолго над пучками, излучающими особую силу. Они, как ветер, умели дуть на ладони, только все по-разному. Она заметила, ещё на бабкиных уроках, что, даже если ей не удавалось запомнить какой-нибудь уж очень сложный рецепт, излечивающий, например, смертельную горячку или помогающий при падучей, достаточно было представить болезнь в виде подводного чудища, нападающего… на прекрасную рыбу, и руки начинали улавливать дыхания трав. Оставалось только найти те, что готовы сейчас оказаться вместе, то есть, чьё дыхание созвучно.
Она составила сбор, помогающий при головной боли и протянула его шаману. Тот одобрительно кивнул. Тогда она собрала снадобье от простуженного горла и груди. Потом особо ценное средство от колотья в сердце. Она видела, что уже все ребята столпились вокруг неё и с интересом наблюдали за ней. Они пытались задавать вопросы, но она молчала. Она ведь не могла ответить, и не только потому, что не знала их языка…. Какие-то слова, например, названия растений, она уже понимала и даже могла бы, наверное, произнести, если бы… если бы могла говорить. Она же – сон… Она составила несколько растений вместе. Это она сделала впервые. Здесь была незнакомая ей трава, но она обещала крепкий и долгий ночной отдых. Шаман с особой осторожностью взял из её рук небольшой пучок и стал объяснять его назначение остальным ребятам с некоторой тревогой в голосе. Она знала, о чём он предупреждал. Этой смесью нельзя пользоваться часто – она может завладеть человеком, украсть его сны, а потом жизнь. Наконец, она взяла в руки два цветка, чьё дыхание было столь горячо, что сердце её забилось и заныло. Она взглянула в лицо своего учителя. Он не смотрел сейчас на неё, объясняя девочке назначение одного из снадобий, и она почувствовала что-то неприятное, что нужно было бы немедленно изгнать из себя, но колени дрожали, а сердце не хотело оставаться внутри её тела. Она взяла ещё один полыхающий цветок и ещё один. Голова её кружилась, и рука потянулась к омеле – это было последнее необходимое здесь растение. «Нет! Не смей! Убьёшь и себя и его!» – она не знала, чей это голос, он не был похож на бабкин, а рыбы, как известно, молчат. Её пальцы разжались, и трава посыпалась на землю, под ноги мужчине.
Учитель стоял рядом с ней, он слегка придерживал её, должно быть, она чуть не упала: она чувствовала слабость и стыд. Он смотрел ей в глаза строго, но не зло и что-то тревожно говорил. Она приблизительно понимала, что. И от этого было ещё ужасней. Она оглянулась на ребят, они собрались все вместе, в стороне, несколько испуганные, они не понимали, что произошло, и не слышали слов, обращённых только к ней. Она отвернулась. Голос постепенно смягчался и стал похож на шорох праздничной ткани…. И вдруг из её глаз ринулся океан, горько–солёный и бурный. Его было так много, он никак не кончался, он душил её в своих объятьях, швырял своими волнами. И она кинулась к старику, к шаману, к учителю, мужчине, чужому, но единственному, кто не ударит…. Она спрятала лицо в одежды на его груди, вцепилась ногтями в складки ткани – ему придётся её убить, если он захочет сейчас оттолкнуть её. Он не оттолкнул. Он гладил её волосы. И становилось спокойно. И океан постепенно послушно затихал в глубине её сердца.
Душный вечер устало плёлся на запад. Воздух застыл – даже ветру было тяжело поднять свою собачью морду, и он дремал где-то в подворотне, изредка напоминая о себе ленивым помахиванием хвоста. Прохожих, однако, нисколько не убавилось – гостеприимный Невский открывал свою вечернюю программу. Почти все столики кафешантанов были заняты, и моя мечта о прохладительном коктейле чуть было не рухнула в расплавленный асфальт. Я уже была готова покориться судьбе и отправиться назад, к Московскому вокзалу, к слабоалкогольной прохладе «Чижика-Пыжика», но все же заставила себя свернуть по Малой Садовой в безумной надежде найти что-либо подходящее в пешеходной зоне. Как это ни странно, я сразу обнаружила то, что искала и уютно расположилась в удобном плетёном кресле за круглым стеклянным столиком. Я знала, здесь можно выпить чудесный кофе и коктейль.
Быть может, имело смысл достать блокнот и набросать коротко весь сотворённый мной только что сюжет, чтобы потом подробней, ничего не забыв, настучать его по голове всетерпеливой клавиатуре, но было лень. К тому же, как всегда казалось всё это полной белибердой, интересной только мне, и то, в ближайшие полчаса. Я вообще не была поклонницей собственного сочинительского таланта. А сюжетное творчество всегда казалось всего лишь детской игрой, каковой это для меня и было с самого раннего возраста, с того момента, когда я себя помню. Моя мама, наученная тяжким жизненным опытом и новомудрыми книгами о воспитании, не баловала меня своим вниманием, да и не очень позволяла общаться со сверстниками. И мне ничего не оставалось, как придумать себе другую жизнь, товарищей, приключения и всё то, что я могла получить при несколько иных обстоятельствах вполне реально. Однако, фантазия – штука неуёмная и непредсказуемая, и постепенно мои изыскания всё более удалялись от того, что являлось земной жизнью. Отец же всячески поощрял и поддерживал эту невинную игру в наших вечерних прогулках. Поэтому, должно быть, сочинительство всяких полудиких историй стало почти рефлекторным для меня, так как было сопряжено с ощущением свободы и защищённости. К тому же, я была убеждена, что большинство людей развлекает себя приблизительно так же, и только некоторым, особо самоуверенным и самовлюблённым приходит в голову поделиться своими изысками с окружающими. Что ж, кое у кого получается вполне забавно….
Однако, давешние слова отца Григория о том, что можно было бы и не иногда записать…, хотя ничего такого он и не говорил. Только намекнул, кажется. Но, намёк действует куда сильнее, чем совет, которым тебе тычут в лоб. Я попыталась вспомнить точнее его слова, но получалось слабо. И вообще в голову пришла мысль, а не выдумала ли я сама и Распутина и ночную прогулку. Нет, холодильник был забит едой – это я знала, а взяться ей было больше не откуда, кроме как из моих грёз, стало быть, всё реально. Вот чёрт! А если вообще всё реально, как сон древней рыбы в глубине доисторического океана времён девона или карбона – когда там водились кистепёрые латимерии. Господи, они и сейчас водятся. Может быть, латимерия – мой тотем.
Я пила ароматный гляссе и наслаждалась воздействием кофеина на перегретые невыспавшиеся мозги. Меня вполне забавляла мысль о тотеме в виде доисторического животного, хотелось её развить. Я даже не поленилась достать блокнот.
– Здравствуйте. Добрый вечер. Не помешаем? – над моей головой прогремели слова, произнесённые с приличным акцентом – Мы никак не можем найти свободное место…
– Можете сесть и продолжать по-английски – я приняла смиренно неизбежность встречи. Сама виновата – где же ещё болтаться бедным иностранцам жарким июльским вечером, как не в окрестностях Невского проспекта? Следует обратиться с вопросом к подсознанию: «меня–то чего сюда принесло?».
– Душно, не так ли? А знаете, нам дали ваш телефон, и мы уже звонили вам домой.
– И меня там не оказалось, что вас огорчило, и вы просто не знали, как убить такой тяжёлый вечер, и тут сама судьба…
– Вы абсолютно правы, Мария. Это – судьба. Но позвольте нам представиться.
– Представляйтесь.
– Я Сеймон. Сеймон Кейси – продюсер, агент и всё такое.
Я кивнула рыжеватому датчанину, изобразила подобие вежливой улыбки и взглянула в лицо второму принцу.
– Олаф. Олаф Дарк. Режиссёр, – произнёс низким скрипучим голосом высокий русоволосый кельт.
Ну, кто бы сомневался. Вот все и собрались по очереди. Чёрт! Кто все-то? Тяжёлая вещь – жара и бессонница: всё реально, когда все собираются – бред!
– Ну, про меня вы уже знаете. Приступим к делу. Что же вас интересует из того чем я могу помочь, разумеется?
– Распутин, – высокий Олаф смотрел прямо в глаза, мучая меня ещё кучей дополнительных немых вопросов. Мне захотелось врезать ему и убежать, пришлось смириться посредством натянутой не по размеру улыбки.
– Распутин, значит. Судя по роду вашего занятия, проектируется очередной историкомелодрамтический боевик? Разве не достаточно уже британцы натешились этой темой?
– Вы о фильмах 66-го и 96-го? Вы видели оба? – Глаза Сеймона светились азартом охотника на дичь.
– Увы.
– То есть? – охотник почуял добычу.
– Ну, первый из них, на мой взгляд, конечно, вообще образец позора европейской кинематографии. Честно говоря, я не поняла его смысла. Старец, а его так и называли, там просто тривиальный, скучный и развратный злодей, владеющий гипнозом и, извините занимающийся исключительно своим половым вопросом. Я уже не говорю обо всём остальном.
– О чём остальном? – Олаф был раздражён, и меня это радовало, всё-таки удастся ему врезать с оттяжкой.
– Может быть, я хочу слишком много, но мне кажется, если берёшься рассказать о чужой истории, делай это хотя бы минимально, с учётом её, в смысле этой истории, особенностей. Я не очень понятно выразилась? Простите.
– Нет. Куда уж понятней. Вот вы сами и определили, зачем мы к вам пристаём и тратим ваше время и внимание. – Этот высокий кельт умел держать удар.
– Зачем же? Ведь второй опус оказался вполне сносен. По-крайней мере, Распутин там великолепен…
– О, да этот парень горазд, перетянуть одеяло на себя. Он везде самый крутой!
– Может, он и правда самый крутой, если вы об исполнителе главной роли?
– Такой актёр не очень удобен, знаете ли. – Судя по тому, что они произнесли эти слова дуэтом, их весьма волновал затронутый мной вопрос. Отлично. Есть шанс покуражиться.
– Да ну? Конечно, если ему приходится вытягивать весь фильм. Однако, насколько я знаю, есть режиссёры, которые счастливы с ним работать, а мы потом восторгаемся готовыми шедеврами.
– Спасибо. Не то чтобы очень тонко, но вполне доходчиво.
– Я рада, что мы начинаем понимать друг друга.
– Ну, если так, то продолжим – Сеймон попытался быть учтивым и очаровательным, но он нервничал, и получилось несколько раздражённо. – Мы не хотим делать новый проект на старую тему. Никаких ремейков. Как раз совсем другое. Ну, например, если бы он выжил, вроде вечного старца. Или реинкарнировал, возможны варианты…
Мне стало не по себе. А почему бы и нет. Немного добавить изюму, разнообразить сюжет, и получится неплохая мелодрама в стиле городского фентези.
– Хорошо. Как вам такая история? – и я в общих чертах рассказала им события прошедшей ночи, приправив их некоторыми пикантностями и романтическим соусом.
Они сидели и молчали, уставившись на меня, ещё минут пять после того, как я, наконец, описала захлопнувшуюся перед моим носом дверь электрички, похожую на райские врата.
– Господи! – Завопил вдруг Сеймон так, что за соседним столиком кто–то пролил от неожиданности кофе себе на колени. Может, Мистер Кейси сейчас получит в чайник, подумала я с надеждой, но он даже не услышал отборных русских эпитетов в свой адрес. А жаль, весьма обогатился бы впечатлениями.
– Это Вы к кому? Официантов у нас зовут иначе.
– Это мы к Господу Богу, который надоумил нас сесть в ваш автобус.
– Претензии? Он не любит.
– Хвала и благодарности! Он будет доволен. Скажите, Вы это всё сами придумали? Когда? Это опубликовано?
– Что?
– Вы это описали? Издали где–нибудь?
– Да это произошло только вчера!
У них обоих наступил ступор. Я выжидала и обдумывала способ выкрутиться. Наконец Сеймон усилием воли и с Божьей вездесущей помощью обрёл–таки дар речи:
– Произошло?
– Ну, не то, чтобы буквально. То есть я общалась с одним дедушкой, а придумать можно что угодно, было бы желание.
– Что угодно? – Нет, всё–таки ступор ещё продолжался. Может, оставить их здесь, пусть наслаждаются полученным.
– Что угодно.
Я попыталась встать. Но они с двух сторон одновременно схватили меня за руки. Тут же отпустили, испугавшись, и перебивая друг друга, горячо зашептали, оглядываясь на соседние столики:
– Нет, вы уж нас простите. Не уходите!
– Может быть это назойливо, невежливо, не по–европейски, но мы не можем отпустить вас, если вы не пообещаете завтра…
– Всё это повторить и рассказать.
– А, может быть, сейчас пойдём к «Чижику–Пыжику»?
– Нет уж! Увольте. Мне нужно выспаться. Если вы хотите услышать от меня что–либо ещё боле или менее внятное. Завтра.
И я решительно поднялась.
– Позвольте хотя бы проводить вас немного.
– Ну, если очень хочется – Чего было возражать, – адрес мой они всё равно уже выведали. Интересно, они заплатили сребреники, или коллеги доверили мою судьбу варяжским гостям, бесплатно?
– Надо же – не унимался Сеймон – Что угодно! Я год буду думать и ничего, кроме вариаций на известные уже темы с известными сюжетами из себя не вытяну.
– Зато вы способны всякую ерунду облагородить и втюхать публике под видом фирменного духовного блюда. А я свои опусы буду в лучшем случае давать читать друзьям, с надеждой не потерять их уважение.
– Значит, мы нашли друг друга – Сеймон расплылся в самодовольной улыбке великодушного победителя. Я промолчала.
– Что угодно! – включился теперь Олаф. И что их так припёрло-то? – А что ещё вы могли бы предложить?
– Предложить? Простите, я ничего не предлагаю.
– Ну, да, конечно, я не так выразился. Просто расскажите что-нибудь ещё из придуманного вами…
Ну, понятно, мальчикам охота послушать сказку на ночь, а заодно и обзавестись парочкой чужих идей: мозгососы импортные. Да, ладно, мне не жалко. Потом, если воспользуются, будет весьма забавно обсудить это с приятелями за красненьким.
– Хотите? Только коротко. Сюжет фильма ужасов.
Артмены энергично закивали.
– Смотрите! Маленькому мальчику восторженные любящие родители дарят на годовщину, то есть годик ребёнку, огромного забавного плюшевого мишку. Они очень рады, потому что сами в детстве мечтали иметь такого же, правда, будучи несколько постарше. Но они так поглощены своими чувствами к малышу, что торопятся снабдить его всем, чем были обделены сами.
– Дальше! – На меня смотрели две пары хищных глаз. Они были даже привлекательны в образе диких животных. Я чувствовала себя обожаемой укротительницей тигров. Потом попробуем засунуть голову им в пасть и скажем: «Фу!».
– Дальше: они кладут гигантского Тедди ребёнку в кроватку, целуют на ночь и, довольные собой, отправляются в спальню допраздновать, так сказать, знаменательное событие. Малыш остаётся один на один с этим монстром игрушечной индустрии, который смотрит на него в упор стеклянными немигающими глазищами. Ребёнку, естественно, неуютно и тревожно, и он пытается избавиться от плюшевого чудовища. Но это очень трудно. Зверь большой и тяжёлый, а мальчик ещё не очень силён и ловок. Происходит что-то вроде борьбы, понимаете, в результате которой медведь сваливается на уставшее чадо и чуть ли не душит его. Малыш отчаянно вопит, но родители, поглощённые друг другом не сразу слышат его.
– Это ведь не всё? Это только завязка!
– Вы угадали. Наконец, кто-то реагирует на неполадки в детской, и, когда испуганные родители врываются к своему первенцу, они обнаруживают его полузадушенного, то есть почти неживого под их ценным подарком. Разумеется, мальчика тут же реанимируют, а медведя наказывают, бьют по попке и ставят в угол в детской же, чтобы сыночек знал, что добро побеждает. Сами понимаете, что эта ночка останется в подсознании, а частично и в сознании будущего гражданина на всю жизнь.
Казалось бы, он должен возненавидеть плюшевые игрушки больших размеров, но, напротив, он испытывает к ним непреодолимую тягу вплоть до некоторых извращений в подростковом возрасте. Ну, вы понимаете?
– Да, конечно. Это как раз то, что нужно. Сексуальный уход от проблемы.
– От страха. В общем-то, мысль тривиальная, но вполне подходит к попкорну.
– То есть? Ах, ну да: вы имели в виду аудиторию любителей хорроров.
– Разумеется.
– И как мы разовьём сюжет?
Я решила не заострять внимание на этом «мы», чего уж тут рыпаться. Я просто дарю идею, которая меня не очень греет. Никаких авторских прав и обещаний. Пользуйтесь. Я под таким, как бы это назвать, «movie» имя своё не поставлю.
– Дальше мальчик, разумеется, вырастает, но свою тягу к медведям не оставляет. Он их коллекционирует, будучи студентом. А, окончив университет, самый лучший, разумеется, он вообще должен быть умница – отличник, последствия такой травмы даром не проходят в любящих материнских руках. Да… Он открывает свою фирму по производству плюшевых роботов. То есть, он и его кампания занимаются разработкой самой изысканной бытовой техники.
Представляете, у вас по дому бродит огромный плюшевый медведь, который убирает мусор, подаёт вам газету и кофе и при этом ещё напевает ваши любимые хиты. Всё бы хорошо, но иногда, медведь перестаёт слушаться. Дальше есть варианты: либо вышедшие из–под контроля владельцев, роботы тривиально убивают своих хозяев, и тогда сюжет строится на этом с последующей развязкой по закону жанра среди производственных конструкций. То есть мировая общественность, наконец, осознаёт что её, как всегда изнасиловали, и начинает защищаться. А, засевший в своём офисе злодей – жертва детского подарка, управляет армией озверевших роботов. И добро уже почти побеждает. То есть куча спецэффектов с пиротехническим антуражем, и какой-то Брюс Уиллис отрывает башку последнему монстру. Но тут после титров можно показать устало бредущего, печально ворчащего и такого страшно трогательного мишку, последнего, случайно уцелевшего, который попадает в поле зрения очередного малолетнего «ботаника» с книжкой по углублённому матанализу в руках. А можно усугубить ситуацию.
– Как?
– Видимые разладки и нападения происходят по желанию самого заказчика. Когда владельцу становится скучно жить, он может запрограммировать медведя на агрессию различной степени, по желанию.
– О! это благодатная почва! Сколько можно поубивать народу! Надоевших жён, например. – Сеймон был просто в восторге.
– Вы несколько отклонились от темы. Хотя такие варианты вполне возможны и мужья с любовницами тоже окажутся в некоторой опасности. Но дальше можно, например, предусмотреть систему наказаний, описанную в инструкции. То есть вы натешились нападающим на вас пылесосом, ловите его, шлёпаете по мягкой плюшевой заднице и ставите в угол. Граждане с нереализованными подсознательными желаниями, а таких большинство, в восторге. Медведи захватывают мир. Главный герой обгоняет Билла Гейтса. Но иногда полиция бывает обеспокоена тем, вы это придумали сами… Что же дальше? Конечно, немного любовного киселя. Владелец…
– Давайте придумаем ему имя. Может быть, Тэд. И название будет подходящее: Тэд и Тедди.
– Пусть Тэд. Он должен влюбиться и подарить своей пассии самого последнего, в смысле технических наворотов, роскошного мохнатого робота, который способен превратить её жизнь в сплошной праздник освобождения от быта. Он даже в состоянии рассчитать семейный бюджет и сделать необходимые покупки по интернету. Но в нашего Тэда тоже кто-то влюблён, кто-то, кто с ним давно вместе, кого он никогда не воспринимал, как объект сексуального интереса. Дальняя кузина из не очень богатой семьи, которая в детстве завидовала огромному количеству плюшевых мишек своего братца. Ну, что-то в этом роде.
– Очень неплохо. Вполне в стиле.
– Теперь кузина выросла и трансформировала свою зависть в страсть. Она ни с кем не может делить ни Тэда, ни Тедди. К тому же она – ближайшая помощница главы фирмы ещё с момента её проекта. Дальше всё понятно. Сцены битвы на конструкциях. Я бы убила их всех. Особенно Тэда с удовольствием задушила бы, наконец, мягкими медвежьими лапами. Однако, боюсь, что погибнуть суждено только несчастной злодейке, попытавшейся уничтожить возлюбленную своего кумира.
– Боюсь, вы правы. – Олаф был счастлив.
Честно говоря, я думала, они просто посмеются вместе со мной. Это же просто игра. Ничего серьёзного. Ахинея и чушь! Но они стали на серьёз обсуждать детали развязки: кого как повезут в клинику, последние слова любовников друг другу. Я была в шоке.
– Мария, а с медведями что будем делать?
– Да что хотите. Тэд может ужаснуться содеянному. Ведь хороший стресс иногда ставит мозги на место. И потом отозвать всю продукцию, чтобы уничтожить опасных монстров. Денег он уже и так достаточно на этом заработал. А может быть, этих роботов уничтожили какие-нибудь другие, созданные конкурентами, или же последнее «прости» бедной кузины, которая запрограммировала мишек на самоуничтожение в случае, если она их не распрограммирует через 24 часа. Любая ерунда, далёкая от реальных возможностей может стать эпилогом.
– Спасибо.
– Простите? Вы что серьёзно?
– Это вы несерьёзно относитесь к себе и своему таланту. А так же, вероятно, не очень хорошо подумали о нас. Мы ещё не решили, конечно, что делать с этим сюжетом. Но, уверяю Вас, он может быть очень прибыльным – Олаф говорил горячо, даже не пытаясь сдерживать свои эмоции. А я не знала, как себя вести: обидеться? Оскорбиться? Мне было просто смешно. И я решила поступить честно.
– Почему вы смеётесь? Я, мы… Возможно мы предложим Вам контракт совместной работы.
– Что? Контракт? – Смех меня душил не хуже плюшевого Тедди. Наверное, это было вообще похоже на истерику.
Они встали напротив, скрестив руки на груди и внимательно меня разглядывая. Они давали понять, что будут так стоять сколько угодно, пока я не успокоюсь и не начну мирных переговоров. То есть у них времени предостаточно – вся ночь, по крайней мере. Нет, ребята, сегодня вы ко мне не пойдёте. Сегодня я не могу. И «Чижик-Пыжик» тоже будет завтра, если вы не передумаете. Я перестала хохотать и постаралась произнести как можно спокойно и буднично:
– Спасибо, что проводили. Если вы ещё не поменяли своих планов, завтра, после… 12-ти я в вашем распоряжении.
– Отлично. Завтра в 12:00 мы будем ждать вас здесь.
На углу Гончарной, напротив входа на Московский вокзал, мы стали прощаться. Джентльмены галантно кивнули, и Сеймон припал на секунду к моей руке, весьма деликатно и сдержанно. Мне даже понравилось. А Олаф не сделал этого. Он как–то странно взглянул, коротко и… жарко или душно, как ошпарил. Мне стало очень нехорошо от этого, очень тревожно и тоскливо одновременно. Я не могла понять его. Злость, раздражение, неприязнь – всё не то, – я пыталась найти смысл в этом, а его, наверное, вовсе не было. Просто устал человек. И я тоже.
И меня ждал дом. Мой дом. Один из моих нелюбимых, холодных и тусклых миров, в котором я поселила себя. Как будто за что-то сослала из рая. Я очень надеялась, что соседа моего всё ещё нет, и это оправдалось. Ну, хоть что-то, хоть какая-то радость и награда. Я как будто забыла, что дом изменился, против моей воли, невзирая на моё сопротивление. Он принял в себя свет и уют, принесённые чужим человеком, стариком, моим крёстным. Я опустилась в кресло. Ничего не хотелось трогать, нарушать. Мне казалось, если я передвину хотя бы стул, эта гармония исчезнет, и случится что-то непоправимое. От чего я перестану верить в произошедшее со мной чудо. Я и так уже постаралась – выложила всё иностранцам. Правда, никакого запрета на распространение информации не было. Но я всё ещё любила сказки, в которых надо молчать о своих связях с добрыми волшебниками и крёстными-чудотворцами. Иначе кто-то придёт и отберёт. Я только не понимаю, что тут можно отобрать. Я огляделась, осторожно поднялась и отправилась в душ.
Прохладная вода, мгновенно рухнувшая сверху на перегретую голову, показалась целебным источником. Это было то, что нужно. Я рассчитывала, что стоя здесь смою с себя не только городскую пыль, но и всю мишуру, забившую моё сознание, а может быть и глубже. Я блаженствовала, прикрыв глаза, подставив лицо под струи, как вчера во время дождя. Я снова была на дне океана, мне снова было спокойно, и на меня смотрели сквозь прозрачную чистую воду зеленовато-рыжие глаза древней, как мой мир рыбы – латимерии. Возможно, я как раз всё правильно сделала. Говорил же старик о каком-то датчанине в своей жизни. Случайные совпадения наиболее интересны, и, если уметь разобраться, или просто быть достаточно зрячим, то можно увидеть в них гораздо больше смысла, чем в закономерностях. Эх, отец Григорий, где ты сейчас? Или это ты как раз наслал на меня иностранных гостей? Я попыталась представить лицо старика, как бы он отреагировал на мой вопрос. Мне показалось на мгновение, что я даже увидела его полуулыбку и финт бровями. Всё было хорошо. Я на всё имела право, даже на свободное высказывание своих мыслей и выражение чувств. Потрясающая возможность, дарованная не всякому и не во все моменты жизни. Я наслаждалась своими грёзами, представляя попеременно, то улыбающегося Отца Григория, то возлюбленную латимерию: у них было так много общего, особенно в изгибе губ, во взгляде пристально глубоком. Хотя Распутинскую внешность уж никак не назовёшь рыбьей. Так и мой тотем тоже был не очень-то карпообразным. Любим же мы обожествлять… Медленно, сквозь шипящие змеящиеся струи, выплыло лицо Олафа. Чёрт! Пора заканчивать водные процедуры. И спать. Спать до 11-ти. Потом опять душ, тушь. И ничего не трогать. Только ничего не трогать, кроме собственной постели. Я прокралась в комнату и юркнула, никуда не глядя, под простыни. За окном начал выводить свою ночную серенаду старательный бродяга дождь. Вот оно – блаженство.
Берег. Ноги утопают по щиколотку в горячем песке. Ветер поднимает песочины и гонит их вдоль берега, бросает в лицо, под ноги, обволакивает тело песчаным коконом, и ты осыпаешься в собственные следы, как высохшая башенка песчаного замка.
Берег усеян раковинами и осколками цветного стекла, обтесанными морем, превращёнными в самоцветы. Стакан из–под попкорна забит доверху сокровищами, но невозможно прекратить собирать. Есть надежда, что всё решится само собой, не останется ракушек и осколков, кончится песок, обжигающий ступни, и море, наконец, дотянется своим мокрым прохладным языком и слижет с берега покрытое песком и солнцем тело, как хлебную крошку с губы. Два различных тела, одинаково нуждающихся в первозданной неге воды.
Рыба, выплюнутая случайной неосторожной волной во время раздраженного ворчания моря, задыхается на берегу, раздувает жабры в беззвучном отчаянии – её страдание невыносимо для глаз, ублажённых созерцанием берега. Её тело ещё сохранило прохладную шелковистость моря и упругость волны. Она замирает в ладонях, словно понимает и принимает грядущее спасение. Два тела утопают в объятиях воды, теряя песок, прах земли и жар солнца. Легко лежать на поверхности солёной и плотной, медленно погружаясь в негу влаги. Трудно дышать водой. Почему? Откуда эта нелепая мысль? Откуда взялось само понятие мысли? Сами понятия? Было счастье бытия, пребывания. И всё. Всплыли понятия и память. Мне не нужна память, мне нечего помнить – у меня всё хорошо. Было. Я не хочу помнить берег, сухой песок и влажные руки на моём теле. Я не хочу помнить и ждать, потеряв обладание моментом. Мне необходима глубина моря. Откуда мне это известно и почему считаю это правдой? Я не хочу ничего знать об ошибке и лжи. Я начинаю тонуть в океане понятий, и мне не хватает воздуха свободы. Трудно дышать.
Берег рядом, за узкой полосой моря. Над его песчаным телом поднимается марево полдня. Даже отсюда, с нескольких метров видны раковины, обточенные куски стекла и редкая галька. Жарко смотреть. Вода чиста и прозрачна, как призрачна. На глубине проплывает рыба. Беззвучность её движения сопровождается воображаемым хором каких–то древних сакральных песнопений. Пространство наполняется звуками и обретает не только море и берег. Появляется небо, подчёркнутое крыльями чаек и альбатросов. Достаточно даже неба, чтобы потерять границы. Глубина становится спасением от суеты, на мгновение, чтобы опомниться и принять мир без границ. Может быть, раствориться, раскрыться настежь и вырваться из сетей понятий и названий. У меня было имя. Кто я? Зачем мне это знать, чем это поможет? Для чего мне нужна помощь? Господи!? Это не моё имя, похожее на выдох волны на песок – это мой зов в неведомое. Слово, принесённое с берега горячими руками спасителя. В глубь! Плыть так быстро, чтобы потерять чужие мысли, как собственную чешую. Это уже тревожит, когда узнаешь названия своих частей, теряешь целостность. Это болезнь, живущих на суше. Руки спасителя были заразны. В глубь! В древность, туда, где не было этих рук. Я очень крупная древняя рыба, мои плавники похожи на кисти наземных растений, мои глаза огромны и удобно устроены на моей горбоносой голове, чтобы видеть вокруг и уцелеть и узнать своё имя – латимерия. И нет другого спасения, кроме рук. Огромная рыба тенью проносится где-то возле самого дна, странная, тёмная и шершавя на вид, как глубина времен. Потом быстро возвращается, мечется, как будто что-то потеряла. Какая красивая рыба – её не поймать просто руками. На память. А жаль. Она гораздо ценней всех раковин и кусков стекла и гальки и других даров берега. Ноги погружены по щиколотку в прохладную солёную воду. Я делаю шаг, наступаю на огромную раковину неизвестного мне брюхоногого, и она рассыпается с воплями мобильного телефона.
Первой мыслью было не открывать глаза, не отвечать, потому что ничего хорошего в этом звонке не могло быть. Я чувствовала какую-то гадость. Но руки бывают предателями, они поднесли к уху, виновато дрожащую трубку:
– Ало?
– Машка, не сердись, но иностранцев придётся отложить.
– Отложить? Куда? – Я не сразу поняла, о чём ворковал шеф.
– То есть: куда? Они что, у тебя?
Реальность медленно начала трясти мои озябшие от насильственного пробуждения плечи.
– Окстись, начальник! Нет у меня никого и быть не может.
– Да? Жаль, конечно. То есть, жаль, что быть не может. Ты ещё подумай над ответом. Потом. Завтра. А вот сегодня придётся съездить вместо Натальи Павловны нашей незабвенной. У неё, понимаешь, подготовка к свадьбе дочери. Короче, я вчера тебя беспокоить не стал. Всё равно тема тебе известная.
– Что? Опять Распутин?
– Да, нет. Петродворец. Ну, через полтора часа у Думы. Вечером будешь дома, а завтра дам выходной. Договорились.
– А если нет? – мой вопрос был задан удовлетворённым гудкам.
Я почувствовала себя проституткой в борделе, которая не имеет права даже выбрать себе клиента. Чёрт! С момента моего крещения это слово просто преследует меня. Я швырнула смятые простыни в угол. Испуганный пододеяльник попытался зацепиться за подлокотник дивана, и я рванула его так, что он погиб посредством разрыва. Не буду реанимировать. Всё к чёр… Нет, достало, осто…! Ну, и чего я, собственно взбесилась? Чего я, собственно ждала? Кажется, я мечтала, что никакие принцы датские не будут меня донимать. Вероятно, добрая фея уловила мои желания. Эх, прав был шарманщик. Ну, что? Нет никого, кроме меня, в нашем агентстве, что ли? Потом я подумала, что артмены, вдоволь натешившись вчера моим бредом, решили, что незачем им больше терять своё драгоценное режиссерско-продюсерское время, о чём и известили моё начальство, ну, а шеф уже поделикатничал. И эта мысль показалась мне очень даже правдоподобной, и стало горько и стыдно. Я даже перестала беситься, а просто медленно подошла к холодильнику, достала блюдо селёдки под шубой и в первый момент хотела выкинуть его в ведро, но потом вспомнила глаза отца Григория и… наш ужин. Взяла столовую ложку и погрузила её в податливо мягкое чрево блюда. Я ела эту селёдку, почти не чувствуя её вкуса. Я очень старалась ни о чём не думать. Просто нужно привыкнуть. Привыкнуть к своей прежней жизни, в которой я и мои фантазии находятся в разных мирах. Я творец-изгнанник, создающий мир, в котором не имею права жить. Такой своеобразный Моисей, вечно умирающий в пустыне на границе земли обетованной. Мне понравились мои очень «скромные» рассуждения на свой счёт. Самооценка на высшем уровне даже подняла несколько настроение. Осталось только смириться с необходимостью выйти из дома, не распугав при этом окружающих. Я взглянула в зеркало. Ничего особенного. Ну, ничего. Обычное скучное лицо стареющей интеллигентки со следами печали и недорогой косметики. Печаль оставим, – ей нет цены, а косметику пора сменить.
Всё обыденно: мелкий дождь, усреднивший температуру воздуха до плюс двадцати, Невский, подставивший небу своё многократно асфальтированное брюхо снулой рыбы, небо без глубины и желания полёта, раздражение вечно опаздывающих прохожих и добровольно во всём виновный, не приходящий вовремя муниципальный транспорт. Мир, созданный не мной. Или мной. Эта мысль больно шевельнулась в голове с намерением устроиться по удобней. Всё знакомо, всё было. Утихшая заводь, отрезанная от моря лагуна с застоявшейся гнилой водой. Вот тогда-то мы и обрели, кто ноги, кто крылья, когда потеряли надежду. Когда? Когда я её потеряла? Я знала, что мне предстоит день шизофреника, анестезированный воспоминаниями.
Кое-как я провела требуемую экскурсию. То есть я старалась всё рассказывать правильно, даже с поэтическим подкрашиванием необходимой информации. Но я не помню лиц тех, кто задавал вопросы и кому я отвечала.
Я отработала на совесть, и это было самым противным, потому что я снова почувствовала себя проституткой, не получающей удовольствия. Забрав в конторе положенное вознаграждение, я поспешила удалиться, чтобы не встретиться с шефом и больше никому не испортить сегодня настроение. Мне необходимо было снова перерыть комод прошлой жизни, разложить там всё по полочкам и выбросить, наконец, ненужное, что уже не пригодиться, и найти что–то ценное, о чём я забыла, заставила себя забыть. И вот оно мне может понадобиться, а я даже не помню, что это.
«Чижик Пыжик» ждёт и готовит коктейли.
Столик был, конечно, свободен. Ещё бы. Это только доказывало принадлежность данного мира. Я представила себе Творца всемогущего, отпускающего в новорожденное тело, то есть в материальный мир, душу. Приподняв брови и стараясь говорить медленно и доходчиво, он изрекает:
– Вот тебе некий шаблон, дочь моя, все получают одинаковый, можешь не проверять. Что сделаешь, то и будет твоё.
А мы не верим. Мы проверяем. Вторгаемся в чужие миры, ломаем их, убеждаемся в правоте Господней, жалеем тех, кто не выдержал наших агрессий и завидуем тем, кто приумножил и приукрасил. А потом возвращаемся к себе, а там погром.
Я решилась на мгновение поверить в то, что отец Григорий и потом датчане появились в моём утихающем омуте не просто так, как агонистическая галлюцинация. Я возомнила, что смогла чуть-чуть преодолеть раскисшую грязь обыденности, и что у меня появился шанс добраться до моря. Но я возможно, ошиблась. Распутина я ждала. Я, действительно всю жизнь ждала этой встречи, потому что она была мне обещана человеком, не успевшим меня обмануть. А к принцам я не была готова. Я сама отпугнула их. Ну и чей это, спрашивается мир? И опять было горько стыдно. Ведь я обещала, что справлюсь.
Бокал с «Карибским рассветом» темнел в моей ладони и слегка дрожал. Не хотелось разбавлять это прохладное слабоалкогольное чудо тепловатой солью, и я отвернулась. И удалось сдержаться. «Пора оставить это. Не забыть, просто оставить. Смириться. Ты всю жизнь пытаешься хранить верность там, где это не нужно» – говорила во мне моя единственная подруга.
У кого не было первой школьной любви? У меня не было. Одноклассники мне казались детьми, более старшие ребята не замечали. И я влюблялась в литературных героев: начиная капитаном Бладом и заканчивая реальными персонажами Ирвинга Стоуна. По мере взросления в моей голове сформировался образ моего возможного… друга, и поэтому я была хорошо подготовлена к незапланированной, разумеется, встрече на выставке. Он «чуть вошёл, я вмиг узнала». Полгода я бегала к нему в мастерскую. Он был терпелив и снисходителен. Я часами могла рассматривать альбомы, которые ему привозили из-за границы, и его удивляла моя тяга к современному искусству. Постепенно стало понятно, что нам было о чём говорить и о чём молчать. И у нас появилась игра на следующие полгода, а мы решили на всю жизнь: я тихо рассказывала какую-нибудь историю, которую сочиняла на ходу, и, если она заинтересовывала его, он начинал рисовать. Так появились две мои любимые картины: «Сон латимерии» – океан, рождающий мысль. И другая – она называлась «Глаза старца». Это совершенно сумасшедшее полотно размером метр на два, на котором были изображены треснувшие песочные часы, внутри которых обрушиваются дома, церкви, люди. Всё превращается в песок, изменяющий свой цвет от черного к голубому. Он хотел подарить их мне. Но сначала они должны были оказаться на выставке.
Мы готовились всей компанией. Это казалось праздником, каким–то прорывом, событием века. Выставка современного искусства в СССР. Работы художников абстракционистов, мирные, лишённые политической подоплёки, кому они могли навредить? И кому они были нужны? Никто и не поверил, когда сказали, что выставку запретили. Никто и не прекратил работу.
Никто и не поверил… И я не поверила… Даже когда появились милиционеры, а потом солдаты… Даже когда «сон латимерии» хрустнул под колёсами бульдозера, как высохшие рыбьи кости, а «Глаза старца» долго волочились по земле, зацепившись рамой за какой–то крюк, глядя с отрешенной надеждой в небо…
Я поверила только последним словам: «Ты ещё встретишь его. Ты обязательно встретишь его. И обещай мне, что ты справишься».
От меня требовалось, чтобы я забыла вой разбушевавшихся бульдозеров, вопли милицейских сирен и скорой помощи, окрики солдат, шёпот, умирающего на моих руках, моего любимого, случайно сбитого какой–то тёмной машиной и собственный крик «Не уходи! Я всё равно буду искать тебя!», когда он замолчал. Я долго после этого слышала только его шёпот в тишине и свой крик.
Ещё через полгода меня выписали из клиники и отпустили во взрослую жизнь, где были университет, иностранные языки, работа, командировки, друзья, случайное неудачное замужество на пару лет с последующим разменом жилплощади, сосед Димон, а любви больше не было. Была подруга – художница, от которой требовалось тоже всё забыть. Мы ничего не помним. Уже двадцать семь лет.
Бокал постепенно перестал дрожать. «Я встретила его, кажется?» «Что мне делать дальше? Что, если я не справлюсь?» «Прости, я не имею права. Я помню: «Глаза старца» и «Сон латимерии»… и «Соло для рыбы», которую мы не успели…. Я справлюсь».
Мне стали понятны слова старика о моих попытках писать. И я вспомнила, я поняла, на кого он был так похож. Только много старше. Ему должно быть около пятидесяти девяти. А принцы здесь, наверное, и не причём. Просто, чтобы испортить мне настроение и заставить немного соображать. И, слава Богу.
– Добрый вечер. Мы очень надеялись найти вас здесь. – Лицо мистера Кейси сияло счастьем. Даже суровый Олаф сверкал безупречными зубами.
Я обрадовалась. Честно, не скрывая этого.
– Добрый вечер. Простите, я не успела вас предупредить. Срочная работа.
– О, нет. Что вы это мы виноваты, что не оставили вам возможности связаться с нами. Нужно немедленно исправить эту оплошность. – Сеймон был просто на высоте проявлений радости
– К чему спешить?
– Ну, мы опять заслушаемся и забудем обо всём на свете. – Олаф уже доставал визитку и строчил на ней свой местный гостиничный номер телефона – Вот, пожалуйста. Возможно, что-то нужно уточнить…
– Или напьёмся
– Простите, что? Напьёмся? Нам по душе это идея. Три «Маргариты», пожалуйста.
Потом было ещё три «Маргариты»…. Потом было решено, что пора бы отужинать где-нибудь. И мои скороспелые сотоварищи стали выбирать подходящий праздничному настроению ресторан. А я вспомнила, что рестораны и кафе это – будни, и, будучи уже вполне свободной от предрассудков, предложила им свои апартаменты. Я знаю – у них совсем не принято тащить к себе в дом-крепость кого попало, тем более трёхдневной знакомости, но это ведь мой мир и мой выбор, и они, помолчав минутку, наконец, сообразили, о чём речь, и радостно закивали своими европейскими башками. Тут я, конечно, несколько заволновалась, ведь яства, наготовленные давеча, были изрядно мною уменьшены в количестве и имели, в общем-то, уже предельный срок реализации. Но, слава «Маргарите», внушающей смелость! Мои гости, разумеется, были просто счастливы, посетить Кузнечный рынок с перспективой русского национального домашнего обеда, о котором много наслышаны. Да ещё и в таком исполнении. В каком таком, они объясняли, путано смущаясь, так что мне стало отчаянно весело, как жителям известного осаждённого города, которым больше нечего было терять.
Спасибо тебе, отец Григорий, я прекрасно помнила всё, что требовалось закупить и как это выбрать на рынке. То есть я провела соответствующий случаю мастер-класс. Эти два гидроидных полипа просто сочились, переполненные впечатлениями, за которыми, собственно, они и притащились в нашу взбаламученную лагуну. Они покорно волокли мешки с овощами, мясом и прочей снедью, за которые сами же и расплачивались. Опять же относясь к этому как к процессу познания российского менталитета. Неплохая экстрим-экскурсия получалась. Может, предложить шефу, как вариант дополнительных услуг за особую плату? Сейчас ещё коммуналочка на Гончарной отыграет свою партию, возможно, на бис …. Я даже пожалела, что Димонушки, скорее всего не будет.
Мы поднялись на верх, я открыла дверь, и в первый момент лица окутал душноватый мрак подземелья. Он заставил Олафа отпрянуть и чуть не свалиться с лестничной площадки. Я инстинктивно схватила его за руку и дёрнула на себя, спасая от возможного падения, и оказалась в объятьях. Это произошло случайно, очень быстро, но мы оба почувствовали… мы физически почувствовали наличие друг друга… Вторжение…. Или приглашение?
– Извините, пожалуйста. Я испугалась.
– Это я виноват. Просто сразу так темно. Простите.
А Сеймон хохотал, и огромное ему за это спасибо. Этот смех, так, кстати, звучащий в полумраке нашей неловкости, позволил улыбнуться и сделать вид, что невольное соприкосновение наших тел не имеет никакого значения и будет навсегда обоюдно забыто.
Они осмотрели мои палаты. Они очень старались быть максимально тактичными и это им неплохо удавалось. Разве что посещение санузла с двумя различными стульчаками и двумя рулонами туалетной бумаги, висящими на неровно оштукатуренных и выкрашенных ещё советской зелёной масляной краской стенах, их сломало.
– Вы здесь всегда живёте? Или это некое особое место?
– Я всегда живу в этом особом месте.
– Но, у вас есть…?
– Нет. Это моё жильё. Моё и моего соседа, который занимает комнату за стеной.
– А сколько ещё комнат?
– Нисколько. Это двухкомнатная квартирка, рассчитанная на маленькую семью, как и во многих городах Европы, насколько мне известно. Просто… Просто у нас иногда так складываются обстоятельства…. Ну снимают же у вас студенты квартиры целой компанией?
– Но, это студенты…. Простите.
– Да ладно. Я не часто здесь бываю. Сплю только. Но, насколько я помню, у нас была цель, и, уверяю вас, размеры и качество моего жилья нисколько не помешают нам её достичь.
Они обрадовались возможности отвлечься каким-то делом, и я начала руководить:
– Будем варить борщ.
– О, мы слышали про борщ. Нам даже называли ресторан, где его готовят неплохо.
– Мы его приготовим сами. Вслушайтесь в это слово: борщ.
Они проговорили его несколько раз со своим датско-английским акцентом. Звук «Щ.» им удавался с трудом, получалось «жч» на конце.
– Нет, это будет не домашний, а столовский жесткий и не наваристый супчик – боржч. Мягче, с лёгким языком, как будто вы бы хотели свистнуть, но вспомнили, что это неприлично.
Сеймон понял, и у него почти получилось. Олаф предпочёл оставить попытки овладевания звуком «Щ».
– Это знакомый вам лук. Нет, я сама нарежу. Тут важна особая тонкость.
Они обступили меня, как старательные ученики, утирая глаза, но, не отводя взгляда от лука, взъяренного от нарезания. Слёзы текли по их щекам, и это было так трогательно, что я сама промыла им лица холодной водой, что довело Олафа до полного экстаза, и мне перестал нравиться взгляд его серых глаз, прячущихся в густых длинных ресницах, как омуты в камышах. Я сунула ему мешок со свёклой:
– Это уже промыто. Нужно тонко почистить от кожуры.
– Это?
– Да. Это по-русски «свёкла». Английский «красный корень», возможно, звучит даже романтично с дополнительной подкраской. Но вслушайтесь: «Свёкла в борще».
И я поведала им теорию джазовой обработки кулинарных изысков. Праздник начался. Даже чувство голода приобрело некую иную форму, когда хочется подождать ещё чуть–чуть, чтобы насладиться затем в полной мере.
Я оказалась неплохой ученицей. Борщ, котлеты, овощное пюре, салатики: словом всё то, что по легендам русская баба регулярно готовит своему мужику, получились не хуже, чем у моего давешнего учителя. Не хватало только его самого. Очень не хватало. «Я всё равно найду тебя, слышишь!»
– Что-то не так? Вы в порядке? – Сеймон встревожено смотрел мне в глаза – Наверное, вы устали. А мы так эксплуатируем…. Но всё невероятно вкусно. Это правда, если у тебя не было русской…
– Заткнись! – Олаф рявкнул, как цепной пёс, у которого попытались отобрать кость.
А у меня получился, наконец, финт бровями
– Может, договорите?
– Нет. Простите его. Он объелся. Он пьян. И, наверное, нам пора. Вообще скоро утро. Вам, возможно, опять на службу?
– Нет. Мне обещан выходной.
– Тогда мы придём и всё доедим. Можно?
Непосредственность последней фразы развеселила нас на столько, что полностью разрядила возникшее напряжение и позволила Сеймону снова говорить:
– И у нас осталось три дня. Нужно поработать со сценарием.
– С чем?
– Я подумал, возможно, у нас получится сделать фильм – притчу: «Взгляд» или… «Глаза Старца». Что-то вроде.
– Фильм?
– Лучше – фильм.
– А что могло быть хуже?
– Хуже? Наверное, ничего.
– Я так и думала.
Через минуту напряжённого молчания до них дошла эта непреднамеренная игра слов, и нам удалось распрощаться весело и непринуждённо и достаточно галантно со стороны Сеймона.
В мытье посуды, если психологически правильно подготовить себя к этому процессу, много медитативного и даже сакрального. Вовсе не грязь, остатки того, что приносило наслаждение, безжалостно выбрасываемые, смываемые навсегда горячей водой, чтобы даже запаха не осталось, подготавливают мысли к освобождению: всё отработанное должно быть уничтожено. Жаль, не всегда получается, а происходит постоянное перемывание одних и тех же деталей. «Мувитворцы. Надо же. А могло бы быть забавно». Я пыталась убедить себя в том, что мне это всё безразлично, пока не поняла, что просто не верю. Не верю этим парням, своим силам, не верю в возможный успех, и вообще во всё происходящее последние три дня. Может быть, дьявол появился, когда творец усомнился в своём творении, а мы уже по образу и подобию продолжаем этот пагубный путь? Да, с самооценкой явно что-то происходило не совсем адекватное. Мужики постарались. Ладно, всё просто: через желудок лежит путь не только к их сердцу. Это, судя по всему, у них вообще центральная стратегическая транспортная развязка. А, говорят, они любят глазами. А вот мы ушами, это точно – чем больше лапши, тем, соответственно, сильнее чувство. И мозг вполне удовлетворён процессом. Больше ничего и не требуется, слава Богу. Мне не очень понравился дальнейший ход моих мыслей. Я вознесла благодарность небесам за непреодолимую тягу ко сну прямо в данную секунду, и наскоро приняв душ, рухнула на диван, не расстилая постели.
Дождь. Он за меня прочтёт вечернюю молитву.
Я снова бреду по берегу моря, и струи дождя прошивают мне плечи. Я ложусь на спину, на ещё не совсем остывший песок, и песчинки впиваются в кожу, оставляя рисунок-татуировку в виде кельтского растительного орнамента. Немного больно, и я поднимаюсь. Вода смывает узор, но не касается маленького кусочка где-то между лопаток. Я чувствую его, как будто он навсегда остался на мне родимым пятном. Это место начинает жечь, и я бегу в море, окунаюсь, но боль не стихает. Я ныряю глубже. Плыву под водой и забываю…
Здесь, наверху очень лёгкая вода, она вкусна во рту. Она пенится мелкими нежными пузырьками в жабрах, распрямляя их. Потом она вырывается и струится по телу, по бокам, попадая сквозь кисти плавников, лаская их – это наслаждение. Если увеличить скорость, можно услышать песню океана, даже, когда он спокоен, и, кажется, что молчит. Сюда часто приплывает он и другие. Мы собираемся вместе, сначала просто мчимся друг за другом, что есть сил, потом резко тормозим, расправляя плавники, и слегка сгибая тело, а дальше сам океан подхватывает наш танец и кружит нас. Мы отдаёмся его воле, расслабляемся, и он заворачивает нас в вихрь, в воронку, и тогда тот, кто оказывается в самом низу, с силой устремляется вверх и выпрыгивает из воды над поверхностью моря, чтобы увидеть горизонт. Это очень важно: подняться и увидеть. А потом можно упасть вниз, уступая дорогу другому. Танец может длиться очень долго, особенно, если над океаном идёт дождь. Тогда создаётся особый ритм. И однажды, подхваченная большой волной, к небу устремляется вся стая. Потом в изнеможении, отбив плавники и животы о твёрдую воду, мы опускаемся на дно, чтобы замереть на несколько часов в своих воспоминаниях и грёзах. Тогда он всегда остаётся рядом, и поток, очищенный его широкими мощными жабрами, нежно ласкает моё тело.
Многоногий дождь шлёпал мокрыми пятками по земле, камням, корням, трепал ветви деревьев и травы своими влажными ладошками. Сдирал последние листья и смеялся в лицо разбушевавшемуся ручейку. Ветер носился за дождём, подвывая и покусывая его, разбрасывая повсюду промокший лесной мусор, волоча его за собой. Ветер рвался, в жилище, согреться, драл края шкуры, плотно прикрывающей вход, но ему не удавалось приподнять даже обвязанную льном кромку, и он бился всем телом о мокрую тяжёлую кожу, соскальзывал вниз и снова бежал за дождём. А здесь, внутри, было тепло и сухо. Она уже стала привыкать к тому, что жильё должно быть таким. За это время, с тех пор, как она живёт здесь, она ко многому привыкла и стала забывать свою прежнюю жизнь. Ей и хотелось забыть всё, кроме бабки и языка своего народа. Ей казалось, что память о двух вещах делала её сильнее. Бабку помнить было легко благодаря знаниям, подаренным ею. Знаниям, которые помогли ей первое время выжить в её новом мире. А язык, слова, которых она уже не слышала и не произносила сама, постепенно исчезали куда-то. И она стала пытаться вспоминать песни и заклинания, а иногда уходить в лес и там, тихо петь, чтобы никто не слышал. Чужую речь она уже понимала хорошо, только не говорила. Совсем ничего. Вначале она боялась, потом поняла, что быть молчаливой в этом мире безопасней и спокойней, хотя здесь и ценились способности сочинять. Она могла бы делать это. Она даже мысленно пробовала на уроках, у своего шамана, точнее она уже знала, что его называли друидом, и у него было имя – Риголл. Ей очень нравилось это звучное имя, но и его она не произносила вслух. И люди считали её немой. Ей было немного совестно обманывать своего учителя, которого она любила почти так же как когда-то мать и бабку или всё-таки по-другому. Она старалась пока не думать о таких вещах. А просто поклялась, что это единственная ложь, которую она позволит себе по отношению к нему. Клятва, любовь, благодарность и природные способности помогли ей стать одной из самых прилежных учениц. Конечно, в искусстве врачевания она была первой. Даже Олаф оказался далеко позади. По астрономии и математике она быстро догнала своих товарищей благодаря дополнительным занятиям. Риголл был очень терпеливым и хорошим учителем, а её старательности не было границ – она готова была слушать его без перерыва и сразу же выполняла все задания. Так что очень скоро звёзды и числа стали её друзьями. Их мир поразил её, и она окуналась в него, находя всё новые возможности, закономерности, сочетания. Только изучение истории и законов кельтов давались ей с трудом. Она не могла в своей голове отличить реальные факты от легенд, а задавать вопросы не получалось, она ведь молчала. И от неё ничего и не требовали.
Сначала её побаивались, но это нисколько не удивляло. Наверное, люди чувствовали, что она в чём-то виновна. Её хотели изгнать и вообще принести в жертву каким-то богам, и только влияние и заступничество Риголла – главного друида спало её. Он привёл своего коня, чтобы сжечь животное вместо человека, как обычно поступали друиды. Конь был красивый, белый, с серой длинной гривой, которую так приятно было расчесывать. Он стоял рядом с костром и отрешённо смотрел в землю, как будто спрашивал разрешения войти. Это было невыносимо. Она тогда поняла, что огонь должен погаснуть, он не имеет права на эту жертву. Она готова была сама броситься туда, затоптать, закрыть своим телом. Но Жрец крепко держал её. И тогда она собрала всю свою волю, всю силу своих мыслей, всю любовь, которая полыхала в ней в этот момент жарче любого пламени, свернула в жгут и обрушила этот кокон на полыхающие ветви. «Где ты, ветер, мой чёрный пёс, где твой друг дождь? Куда запропастились, мои вечные спутники!?» – кричало её сердце так сильно, что разрывало ей грудь. «Пусть, если оно разорвётся, то моя кровь зальёт ваш неправедный огонь!» И когда слёзы хлынули из её глаз, и она выдохнула с силой свои беззвучные рыдания, пёс-ветер проснулся и вскочил вихрем, сбившим с ног часть собравшихся возле огня жрецов. И в то же мгновение конь заржал, топнул и поднялся на дыбы, а в ответ ему прогремел гром, и с неба обрушился океан.
Она очнулась на ложе из шкур. Риголл гладил её волосы и шептал какие-то заклинания, которых она ещё не знала. Заметив её встревоженный, взгляд он улыбнулся:
– Всё в порядке. Костёр погас, и конь остался жив. Он теперь твой. А люди дали тебе имя. Раз уж мы всё равно не знаем, как тебя зовут.
Она резко поднялась, так, что голова её закружилась, и она снова рухнула на шкуры, опять вскочила, схватила друида за руки и стиснула их со всей силы. Он осторожно уложил её и долго внимательно смотрел в тёмные, огромные глаза, в которых читал больше, чем ей казалось.
– Твоё имя – Дану. В честь богини ветра. – Медленно, четко проговаривая каждый звук, произнёс он.
«Нет, пожалуйста, только не ты!» – мысль больно пульсировала, заставляя дрожать всё её тело. «Ты – мой учитель. Я слишком люблю тебя, чтобы ты оказался тем…. Пусть лучше я вообще не узнаю его. Никогда!»
– Тебе не нравится? Это не твоё имя?
Имя ей нравилось. Очень. К тому же первым его произнёс он – Риголл – верховный друид этого народа. Так пусть народ и будет её отцом.
– Если бы ты могла сказать, как тебя называли раньше, в твоём племени.
Она хотела, чтобы он знал. И она придумала. Ещё не достаточно владея руническим письмом, она воспользовалась магическим языком чисел – он понял.
– У тебя совсем не было имени?
Она кивнула.
– Можешь объяснить, почему. Если тебе известно, конечно.
Она испугалась. Ей совсем не хотелось рассказывать ему о том, что она знала о себе.
– Тебе страшно? Что-то было не так, как должно быть? Что? Тебе не принимал твой народ?
Она кивнула опять, но потом закрыла лицо руками, давая понять, что продолжение этого разговора ей неприятно и очень тяжело.
– Ты что–то сделала запретное? Нет? Конечно, нет. На тебе проклятие? Не бойся, то, что может считаться проклятием твоего народа, не обязательно так ужасно для нас. И наоборот. Ты знаешь, что случилось с тобой?
Она не знала, но боялась, что Риголл будет не доволен, что он перестанет доверять ей, что тоже будет думать об её ужасной вине, искать причину и обязательно найдёт, и всё окажется так плохо, что он прогонит её. Она, Дану, не вынесет этого. Лучше бы её убили, сожгли на костре, как и собирались. Тогда она встала, подошла к нише, где на мягкой льняной ткани лежал жертвенный нож, положила ладони справа и слева от лезвия, поблескивающего в ожидании прикосновения, и зажмурилась от горечи слёз, которые застряли в уголках глаз, не находя выхода. Она опустила голову, чтобы эти жгучие капли незаметно упали с лица на земляной пол, и почувствовала на своих плечах руки учителя. Он осторожно развернул её к себе лицом и прижал к груди:
– Не нужно бояться, дитя. Не нужно. Ничего плохого не может сделать тот, кого слушается ветер, кому подчиняются травы, кого не боятся кони и собаки. Нет зла рядом с тобой. Поверь мне. Я бы почувствовал. Так бывает. Иногда человек рождается не там, где должен, и не в своё время. Иногда люди ошибаются, видя дурное там, где непонятное им. Но это тоже испытание. Нужно найти себя. Ты молчишь. Люди слышат только твоё дыхание, как голос ветра и видят…. То, что они видят. Поэтому сегодня кельты назвали тебя Дану. Это хорошее имя, и оно подходит тебе.
Она закивала и крепче прижалась к нему. Это казалось очень странным – два любимых человека: бабка и этот мужчина видели в ней разное и как бы одно и то же. Впрочем, бабка, вовсе не считала её исчадьем ада, в отличие от остальных соплеменников. Она говорила, что девочка не такая, как все, другая, цыганка по крови, но не по духу, или наоборот? Она уже не помнила. Не важно. Теперь это было не важно. Теперь есть Риголл. Она живёт с ним, у него, и никогда не покинет это жилище. Теперь она знает, что ей нужно делать, и никто не называет её страшными словами и не считает лишней и ненужной. И этот чужой народ с непонятной историей и странной верой, которая ей оказалась ближе, чем родная, принял Дану и нашёл ей место.
На следующий день к их жилищу пришли две женщины. Одна из них была высокая светловолосая красавица, на поясе которой висел дорогой и довольно тяжёлый меч – это была мать Олафа. Другая, помоложе, и без оружия – его старшая сестра. Они принесли Дану одежды изо льна и шкур и кожаные сапоги очень тонкой работы, каких у неё никогда не было. Риголл долго о чём–то говорил с ними, казалось, спорил, но ей не было слышно. И она не хотела знать. Потом мать Олафа подошла к ней. Некоторое время они смотрели друг на друга. «Вероятно, не нужно опускать глаз, каков бы суров не был взгляд подошедшей» – подумала она.
– Ты,– сильная девочка – Наконец медленно проговорила женщина – и твой учитель хвалит тебя не меньше, чем моего сына. Если тебе будет что–нибудь нужно… как девушке…
Дану кивнула и постаралась сдержанно улыбнуться.
– Хорошо. Моё имя Бригита. А это – моя дочь, сестра Олафа – Гайрех. Ты можешь прийти к нам.
Затем, попрощавшись с друидом, выказав ему положенное по статусу уважение, они скрылись в лесу в направлении посёлка.
Риголл подал Дану новые одежды:
– Видишь. Это удобные платья и красивые. Кельтские девушки с удовольствием носят такие. Они хорошо сшиты и украшены соответственно твоему статусу ученицы друида. И это дар. Я пока не стану объяснять тебе, что он значит. Просто семья Эраннана выразила тебе своё… особое отношение. Пока этого достаточно. Ты можешь переодеться.
Она схватила льняные платья из ткани, выбеленной солнцем. Они нравились Дану своей изящной простотой. Она рассматривала их, вертела в руках и удивлялась, что такая мелочь, просто новая одежда, способны вызвать в ней особенный восторг. К тому же, это подарок! Первый раз в жизни. Наверное, сегодня день её рождения. Пусть будет так. Ветер тоже начал любопытствовать. Он растрепал ей волосы, как бы говоря: « Ну-ка, приведи себя в порядок! Заплети косы, как кельтские девушки. Сними свои обтрёпанные обноски, иначе я порву их в клочья!» Она рассмеялась, отвязала бабкин платок от пояса и содрала с себя старые цыганские рубаху и юбки, на которых уже давно не возможно было различить никакого рисунка, кроме дыр. И тут её окутала плотная, как вода океанских глубин, тишина. Только ветер слегка гладил её голые лодыжки. Она замерла…, оглянулась…. Риголл стоял недалеко… Пучок омелы, который он бережно увязывал только что, выпал из его рук, и белые ягоды бусинами запрыгали по камням. Он был очень напряжён, его губы были полуоткрыты, как будто он собирался что-то сказать ей. – Они, эти губы, изогнутые, как лук, стянутый тетивой перед выстрелом, вздрогнули, когда она оглянулась. И лишь на долю мгновения огонь, похожий на жертвенный, вспыхнул в его зрачках. Но этого оказалась достаточно, чтобы обжечь её, пройти сквозь всё её тело ото лба до низа живота. Страх, стыд и… удовольствие…, и ещё что-то приятное и недозволенно болезненное смешались в ней, и она застыла, не зная, что делать, глядя в глаза цвета крепкого травяного отвара, которые уже были спокойны и доброжелательны, как обычно. Он подошёл к ней, поднял с земли цыганский платок и набросил ей на плечи, прикрыв наготу.
– Прохладно. Ты можешь простудиться, а скоро праздник. Красный, сопливый нос тебе не к лицу, я заметил. Иди и оденься.
Потом он подал ей платья, упавшие на камни и улыбнулся:
– Ну же. Иди.
Наконец, она смогла пошевелиться, схватила обновки и бросилась с ними в чащу леса наперегонки с ветром, путавшимся в её босых ногах. Несмотря на холод, ей хотелось омыть своё тело в ручье, прежде, чем надеть чистые, белые одежды, от которых пахло свежей травой. Почти не чувствуя этого холода, она натирала себя глиной, смывала её с тела вместе с остатками прошлой жизни. Она, то смеялась, то замирала, обхватив себя руками, и всё время видела в росинках на пожелтевших листьях, в каплях, невысохших на камнях пылающие глаза Риголла. Она почувствовала ЭТО первый раз в жизни и поняла, что чувствует. Её цыганская кровь не дала бы сейчас ей замёрзнуть, даже просиди она в этом ручье до вечера. «Нужно быть осторожной, не стоит спешить. Я понравилась ему… Он…. Только не торопиться. Всё возможно…, это возможно, но не сейчас. Пока я ребёнок для него. Только ребёнок. Уже не совсем. Не спешить» – мысли свивались в её голове в коконы, снова разматывались, рвались, она никак не могла сосредоточиться и решить, как вести себя дальше. Подумав, что лучше всего сделать вид, что ничего не было, или, что незачем придавать какое–то значение тому, что было, она вылезла из ручья, промокнула воду старой одеждой и надела новую. Платья приятно легли на плечи, мгновенно превратив холод в лёгкий покалывающий жар, сапоги были слегка великоваты, но зато хорошо согревали ступни. Она спрятала рваные юбки и рубаху под большой камень и только бабкин платок снова повязала на бёдра на цыганский манер. Потом она посмотрела на своё отражение в ручье и осталась весьма довольна. Постояла ещё немного, вспоминая цыганскую песню, о девушке, ждущей своего Баро. Это была длинная песня. В ней рассказывалось о неразделённой вначале любви, о колдовстве, о том, как цыганская девушка отказывается от богатого жениха, от помощи колдуньи, от воли родителей и ждёт, и, в конце концов, добивается того, что её возлюбленный приходит к ней ночью. Вообще-то эта песня заканчивалась плохо, как большинство цыганских историй: на утро любовников убивали. Дану такой конец не нравился, и она придумала свой, где девушка со своим возлюбленным убегают из табора, и никто больше их никогда не видит.
Уже немного начинало темнеть, когда Дану вернулась домой. Риголл вышел ей навстречу, услышав её шаги, несмотря на то, что она старалась идти как можно тише. Он был явно встревожен, он ждал и беспокоился, и даже не скрывал этого. О, это было так приятно, она улыбнулась.
– Тебя долго не было. Волосы мокрые. Плескалась в ручье. Конечно, я мог бы догадаться и согреть воды. В следующий раз, когда захочешь, нужно согреть воды.
«Интересно – подумала она – ты считаешь, что я первый раз купалась в этом ручье? Или меня, наконец, стали замечать чуть–чуть по–другому». Правда, она не часто видела кельтов, плещущихся в воде, разве что, в жаркие дни. Да и цыгане не слишком жаловали это занятие. Воду любила она. Ничего странного для рыбьего сна, в котором ветер и дождь – всего лишь часть океана.
Постепенно Дану стала замечать странную вещь: чем лучше и теплее относились к ней окружающие, тем меньше её тело реагировало на холод и сырость. Она забыла свой бесконечный озноб, который сопровождал её в таборе.
Сейчас была глубокая осень, и роса по утрам каменела, покрывая траву мелкими кристаллами, которые приятно покалывали босые ноги.
Риголл вставал обычно очень рано и уходил в лес перед самым рассветом собрать некоторые растения. Она тоже просыпалась и следила за ним тихо, притворяясь ещё спящей. Дождавшись, когда он отойдёт от дома достаточно далеко, она поднималась, быстро сбрасывала рубаху и выбегала наружу. Ветер тут же кидался ласкать её горячее тело, она ложилась на колкую траву и ждала дождя. Как правило, он появлялся хотя бы на пару мгновений, чтобы умыть свою подругу. Она каталась по траве и чувствовала, что тело её становится гибким, лёгким и чистым, что холод окончательно покидает его, и ей не требуется огня, чтобы согреться. После истории с жертвоприношением у неё вообще было сложное отношение к огню. Она понимала и принимала его необходимость, она даже могла смотреть на него, но не доверяла ему и, возможно не любила бы его вообще, если бы не Риголл, для которого пламя было священным. Это примиряло её и с очагом в доме и с друидским костром.
Когда учитель возвращался, она уже готовила завтрак: молоко, сыр, лепёшки и обязательный отвар из трав и кореньев с мёдом, придающий силы и бодрость. Потом приходили ученики, и весь день, как правило, был посвящён учёбе и необходимым друидским ритуалам.
Сегодня Риголл не ушёл до рассвета, он достал своё оружие, разложил его на огромной медвежьей шкуре и стал внимательно осматривать лезвия меча и других клинков, каждый из которых имел своё имя.
Ветер и дождь бесились снаружи, не понимая, почему они до сих пор не видят Дану. Они так трепали кожаную дверь, что друид рассмеялся:
– Дану, милая Дану, похоже, если ты не выйдешь к ним, они разнесут наше жилище.
Она встревожилась, откуда он знал, что это именно её зовёт бушующая стихия.
– Я не буду смотреть, делай, что делаешь обычно.
Что? Он знал, чем она занимается, когда он уходит? Или только догадывался? А, может быть, он видел? Случайно. Она почувствовала, что не может выбрать, какой ответ на этот вопрос устроил бы её больше. Он подошёл к ней, присел рядом.
– Я хочу, чтобы ты поселилась в доме Эраннана. Это было бы правильно, учитывая…. Впрочем, они сами предложили. И, возможно, скоро ты там и будешь жить. Но…, то, что ты делаешь по утрам, твои особые ритуалы… Я понимаю.
Она вспыхнула, вскочила, внутри опять была буря, гораздо сильнее, чем та невинная игра природы снаружи. Как это, она должно жить в чужом доме, расстаться с Риголлом?! Приходить только на уроки?
– Я случайно узнал! Не бойся, я не следил за тобой. Это – нормально, учитывая, что ты Дану. Так и должна вести себя жрица, наверное. Я не решил пока, как быть, но, если ты хочешь, ты можешь переехать прямо сегодня. Я поговорю с Бригитой, и ты в полной безопасности будешь…. Что? Что с тобой?
Она схватила его ладони и уже готова была нарушить свой тайный обет молчания, но взгляд её был так выразителен, что любой бы догадался:
– Ты не хочешь? – она почувствовала в его голосе старательно скрываемую радость, или всё же ей показалось.
О, нет, конечно, она не хотела. Она только привыкла к новому жилью, только привыкла доверять ему, Риголлу. Только начала чувствовать свою силу – всё это он читал в её глазах, и это смущало и радовало его и приводило в смятение.
– Хорошо. Ладно. Скоро большой праздник. Мы все пойдём в другое место, в Эмайн, а потом…, потом, возможно всё решится.
Приближался самый важный день в году кельтов – Самайн. Всё, естественно, подчинялось подготовке к великому празднику духов и героев. И в друидской школе заучивались древние баллады, сочинялись новые, плелись особые венки из засушенных летом цветов, готовились танцы. Ученики, возбуждённые предстоящим весельем обсуждали прошедшее, то, что они видели раньше. Но тогда они были ещё детьми, и им приходилось только издалека наблюдать за общим взрослым разгулом воинов, друидов, царей, и только в этом году они будут допущены, ко всем ритуалам и пиршеству. В этом отношении Дану была с ними на равных. Риголл подробно рассказал ей историю и значения каждого действа. Он был весьма талантливым рассказчиком, и она как будто всё увидела своими глазами, и теперь ждала с нетерпением, стараясь не думать о возможных последствиях. К тому же она твёрдо решила, что уйдёт от Ррриголла только в качестве жертвы.
Солнце теперь ленилось и нехотя вставало лишь только незадолго до полудня, поэтому танцы с дождём Дану совершала в полной темноте, и в этом было гораздо больше приятного и сильного, чем раньше. Однажды, закончив свои омовения, она увидела, точнее, почувствовала чей–то пристальный взгляд. Она сначала испугалась, потом рассмеялась и, в чём была, то есть без одежды, прыгнула на влажную, тёплую волчью шкуру, покрывающую лошадиную спину.
– Ну, тайный мой наблюдатель, ты ведь не проболтаешься – шепнула она ему по-кельтски и тут же изумилась, услышав этот язык из своих уст.
– Я буду говорить только с тобой, чтобы потом, когда придёт время, я смогла сказать ему…. Сказать ему…– Она побоялась произнести сейчас даже в уши коню слова, предназначавшиеся Риголлу.
– Неси меня.
И конь ринулся сквозь кусты и деревья вглубь леса наперегонки с ветром, который взвыл от восторга и принял эту новую игру с особым рвением. В азарте бешеной гонки она, конечно, не думала, что хитроумное животное имеет тоже своё представление о жизни, и не смотрела по сторонам, уцепившись руками за густую гриву и спрятав в ней лицо, когда конь поднялся на дыбы и коротко ржанул. В этот момент совсем рядом, из-за дерева, за ними следила пара восхищённых глаз её возлюбленного учителя, а расшалившийся ветер хлестал его по щекам голыми ветвями.
В этот день Риголл пришёл домой очень поздно, когда собравшиеся ученики уже начали волноваться или, возможно надеяться, что занятия отменятся и можно будет вдоволь наиграться в этом интересном месте, где всё дышало тайной, особенно с появлением Дану. Но он вернулся, ближе к полудню, лёгким кивком головы утихомирил развеселившуюся молодёжь, и, как всегда, спокойный и серьёзный, провёл свои обычные уроки.
Только вечером, он приготовил себе отдельное место для сна.
– Я заметил, ты уже не мёрзнешь по ночам. Поэтому так будет удобнее.
Она не возражала. Ей самой так было легче. Пока.
За неделю до праздника занятия несколько изменились. Теперь больше времени уделялось искусству сочинения баллад, пению и умению владеть оружием. Для Дану это было новым. Ей нравились кельтские мечи и луки больше, чем цыганские кинжалы и плётки. В таборе ей не разрешали дотрагиваться даже до небольшого ножа, который носила за поясом любая цыганка. А Риголл смастерил для неё изящный лук, и она довольно быстро поняла, как им пользоваться. Конечно, она не достигла такой меткости выстрела, какую демонстрировал Олаф. Но иногда у неё получалось не хуже, чем у Ингрид – второй ученицы друида. А вот меч был очень тяжёл, и в нём чувствовалась такая сила, что Дану никак не могла научиться, даже держать его в руке. Он казался ей живым и очень своенравным существом, не желающим подчиняться, и она испытывала некий трепет, прикасаясь к нему. Но в этой школе никто никого не торопил, не требовал выполнения заданий. Если ученик не был готов принять знания, значит, у него нет в том необходимости, по крайней мере, в данный момент. Но посещать занятия друида и научиться малому, было недопустимо. Это было позором для семьи ученика, и расценивалось, как слабость всего рода. Поэтому лениться никому в голову не приходило, и каждый был лучшим хотя бы в одном или в двух предметах, но имел права вообще не успевать в чём–то, что, конечно не являлось особо важным для его будущей жизни. Любая девушка могла себе позволить не уметь сражаться, а любой юноша мог так и не научиться сочинять песни. Но Дану очень хотелось владеть мечом. Ей казалось это красивым. Учебные бои между юношами и девушками были похожи на танцы. И она снова и снова кивком головы просила Ингрид потренировать её, но тяжёлый меч выскальзывал из её рук, хотя это был самый маленький клинок из коллекции Риголла, предназначенный для ребёнка. И она злилась и даже плакала, не стесняясь окружающих. И, когда в очередной раз оружие, взвизгнув, от негодования вырвалось из неумелых ладоней и заплясало в груде камней с лязгом, похожим на хохот, Дану закрыла голову руками и села на землю с намерением больше не вставать и умереть тут от горя и позора. В этот момент она услышала скрипучий басок Олафа:
– На. Возьми. Я принёс это тебе.
Она почувствовала на своём плече прохладное лезвие.
Дану медленно повернула голову вправо, туда, где ощущала лёгкое прикосновения металла. Он был очень небольшой, почти такой же, как тот, с которым она никак не могла справиться, но казался всё же, как будто легче. Изящнее. Цвет лезвия несколько отличался, он был более тёмным, и по нему змеился странный узор. Дану посмотрела на Риголла, который спокойно наблюдал за учениками со стороны: все советы на сегодня он уже дал и теперь занимался своими делами, предоставив ребятам возможность оттачивать полученные в последние дни навыки. Все молчали и ждали реакции учителя. Риголл осторожно положил на камень какой-то свиток, поднялся и подошёл к Олафу. Он осмотрел меч, принесённый юношей, и не глядя на Дану, молча кивнул и отправился к своим свиткам. Она взяла оружие, берестяная рукоять разместилось в её руке, как дома. Она чувствовала его расположение и лёгкость. Ей это очень нравилось, но реакция учителя несколько настораживала. Не глядя на Олафа, не поблагодарив его даже кивком, она подбежала к Риголлу и протянула меч ему.
– Это хорошее оружие, Дану. Оно подходит тебе, правда? Его сделали не кельтские мастера, но это не имеет значения. К тому же это подарок Олафа, а это очень важно, хотя ты постаралась даже не обратить на это внимания.
И он улыбнулся, давая понять, что ей пора заняться уроком. Всё вроде бы было хорошо, но она почувствовала, что что–то случилось, какой–то осадок мутный и тяжёлый поднялся, взбаламутил всё вокруг, и она перестала видеть окружающее, а, главное Риголла. На долю секунды. Но это произошло. Она решила, что непременно разберётся с этим позже, когда все уйдут. А пока, она подошла к Олафу, кивнула ему и, улыбаясь, дотронулась до его руки. Юноша отдёрнул ладонь, вспыхнул:
– Можешь не благодарить. Это я…. Чтобы ты могла научиться. Это всё пока. Учись с Ингрид.
Пару часов спустя, когда уже начало темнеть, и ученики засобирались по домам, Ингрид позвала Дану:
– Мне нужно кое-что тебе сказать. Можно?
Дану кивнула. Она понимала, что девушки не стремятся общаться с ней не потому, что она плохая и в чём-то провинилась. Просто, она чужая, пока, и не говорит на их языке… и вообще не говорит. Но ей хотелось, чтобы с ней просто иногда поболтали. То есть она бы послушала, а потом…. Она даже не знала, что обычно делают подружки, оставаясь наедине: колдуют, гадают? Не станут же они только болтать.
– Дану, ты, правда, можешь попросить дождь, чтобы он пошёл?
Она кивнула, а потом пожала плечами.
– То есть у тебя получается, но не всегда.
Она кивнула.
– А чтобы он не шёл?
Дану пожала плечами.
– Попробуй, пожалуйста.
Дану вопросительно взглянула на Ингрид.
– Понимаешь? Будет праздник. Будут танцы. Тебе хорошо – у тебя брови и ресницы чёрные и длинные от рождения, и волосы вьются. А мы завьём свои косы, начерним углем глаза. Представляешь, как всё это будет выглядеть под дождём?
Дану не верила своим ушам, какие простые, обыкновенные вещи волновали девушку, которая управлялась с луком и мечом наравне с юношами, которая разбиралась в травах и звёздах и прекрасно пела.
– Чему ты удивляешься? Все девушки хотят выглядеть красивыми на празднике. А представляешь, если промокнет одежда. Нет, это не смешно, она станет почти прозрачной. Придётся просто уйти.
Дану закивала, она была согласна, если одежда промокнет, большей части девушек точно придётся уйти.
– Вот. А ещё…. Тебе Риголл рассказывал? Это время свадеб. Ну, когда девушки и парни выбирают друг друга и становятся женихами и невестами. Тебя–то уже выбрали. И ты тоже.
Кто это её выбрал? Неужели тот, кого выбрала она, и всем, кроме неё это видно.
– Ты что, не поняла? Или ты забыла, что учитель рассказывал?
Она пыталась вспомнить, что Риголл мог рассказывать на тему её выбора, и ей это казалось абсурдом.
– Олаф сегодня при всех признался…. Ты чего? Он принёс тебе подарок. Очень дорогой, а ты приняла. Да ещё и спросила разрешение главного друида. Считай, тебя замуж позвали. Я тебя поздравляю. Олаф самый красивый парень, самый сильный. И отец его – наш правитель. Его сестра мне рассказывала: он, то есть отец его, вначале и слышать о тебе не хотел, но после того, как ты загасила огонь, он бы, наверное, сам на тебе женился, если бы не боялся Бригиту.
Сказанное Ингрид медленно, как тяжёлая вода, заполняла сознание Дану. Ну, конечно, она совсем забыла…. Она и не слушала внимательно, когда Риголл рассказывал о свадебных обрядах, считая, что вряд ли это её когда-нибудь коснётся. И как он мог так спокойно согласиться? А что ему было делать? Дать этому Олафу при всех его же мечом по шее? Она ведь приняла дар из его рук? Что же делать?
– Дану? Ты чего? Ты как будто не очень рада. Кивни, я никому не скажу, да и кто мне поверит, что мы с тобой друг друга поняли.
Дану кивнула.
– Ты не любишь его?
Она опять кивнула.
– Ты просто забыла, не поняла, зачем он принёс тебе подарок?
Она закивала быстро–быстро.
– Слушай, это скверно, конечно. У тебя есть другой парень?
Дану насторожилась. Нет, она не должна выдавать своих чувств. Это только её и Риголла, и с этим она разберётся как–нибудь сама.
– Это ещё хуже. Так бы они могли выяснить в поединке, кто из них имеет больше права. Ладно…. Ты, главное, постарайся остановить дождь, а я что–нибудь придумаю. Если честно, мне он самой нравится, если ты не против.
Она была не против.
– Так, постараешься остановить дождь?
Конечно, она постарается. Только остановите Олафа! Жените его на себе и оставьте ей её учителя! Если…. Если, конечно, он тоже будет не против.
Дождавшись, когда счастливая Ингрид, наконец, ушла, Дану схватила меч и кинулась к Риголлу, который всё ещё продолжал сосредоточенно разбирать свитки. Она протянула ему клинок.
– Что ты хочешь спросить? Я уже говорил тебе: это отличный клинок и отличный подарок.
Она швырнула меч на траву.
– Подними. Так нельзя поступать с оружием.
Она смотрела исподлобья и не шевелилась.
– Пожалуйста, подними! Как бы ты не относилась к этому, ты приняла этот меч, теперь он твой, и ты не имеешь права оскорблять ни его, ни Олафа.
Она и не собиралась никого оскорблять. Она просто не хотела подчиняться обычаям, с которыми практически не была знакома. Если всё так серьёзно, она завтра же вернёт Олафу подарок. Дану прекрасно может обойтись без оружия. Она не сможет жить без Риголла.
Она вглядывалась в его лицо, пытаясь понять его чувства. Он был невозмутимо спокоен. Так спокоен, что не оставалось сомнений в его добром отношении. И не более. Он смотрел, он просто ждал, что она поднимет брошенный ею меч, подчинится, уступит. И она понимала, что, сколько бы ни сопротивлялась, она находилась во власти этого человека. Она подняла меч и осторожно положила его рядом с Риголлом на сплетённые корни дуба, под которым тот сидел. Потом повернулась к нему спиной и медленно пошла в сторону леса.
– Не задерживайся, пожалуйста. Завтра подъём очень ранний. Мы выходим сразу после завтрака.
Может быть ей остаться здесь, не ходить вообще на этот праздник, дожидаться Риголла. Тогда никто не заставит её выходить замуж за Олафа. Или, наоборот…, за ней приедут и увезут в чужой дом. Она брела среди деревьев, почти не замечая ничего вокруг. Ветерок тщетно пытался погладить её волосы, лицо, лизал её руки, стирал со щёк капельки мелкого, печального дождика. Если нет выхода, если она так ошиблась, и если Риголлу она не нужна, возможно, пора уходить. Вообще уходить, попытаться вернуться куда-то. Она почему-то очень смутно помнила, куда ей нужно вернуться, как будто прошло несколько веков, а не несколько месяцев со дня её побега. Или изгнания. Этого она уже тоже не помнила. Кроме древних печальных песен и уроков бабки, она вообще мало что знала из прежней жизни.
Нет, просто так она не может сдаться. Есть способ, она знает, как заставить мужчину любить. И она уже начала искать белые, как зрачки варёной рыбы, ягоды омелы и корни травы, которую не использовали друиды, а цыгане называли приворот–трава, и бабка строго настрого запретила даже дотрагиваться до неё. Дану присела на корточки перед пожухлым растением, провела ладонью над размякшим бурым стеблем и почувствовала болезненный укол холода. Она выдернула маленький, похожий на клубок извивающихся змей корень, отряхнула от земли и спрятала в холщёвый мешочек, висевший на поясе, под цыганским платком, к нескольким ягодам омелы – она уже достаточно выросла, чтобы взять эти растения силой. Потом, стараясь не думать, что она сделает дальше, Дану вернулась домой.
Риголл увязал все свитки, спрятал их в нише, под шкуры, рядом с оружием, и теперь собирал пучки сухих снадобий, чтобы иметь их в походе на всякий случай. Он встретил девушку улыбкой:
– У тебя уставший вид. Ложись. Я сам справлюсь со всем – сказал он, когда она попыталась ему помочь.
Лучше бы он ничего не говорил, позволил ей уложить в туесок несколько трав, но он отказался от её помощи. Он уже относился к ней, как к гостье, чужой невесте. Она бросилась на шкуры, зарылась в них и больше не смогла сдерживать слёз. Испугавшись, что он увидит, как дрожит её тело, она хотела замереть, это не удавалось, и она снова выбежала прочь из землянки. Риголл попытался остановить её, но она оттолкнула его с силой, и он с трудом удержался на ногах, схватившись в последний момент за ветку дерева. Она прыгнула на спину своему коню:
– Унеси меня отсюда, куда угодно, сбрось меня где–нибудь наземь, если я ему не нужна. Без него, я сама себе не нужна – шептала она в тёплые мохнатые уши.
Конь поднялся на дыбы, заржал, топнул, поднялся ещё раз, и она, не удержавшись, полетела вниз на мягкую, размокшую под мелким дождём почву.
Риголл поднял её, он не говорил ни слова, он вытер её испачканное грязью лицо и руки, прижал к себе и стал медленно покачивать, как будто успокаивал младенца.
« Хорошо, – думала она, – пусть хотя бы так, хотя бы ещё немного, побыть вместе, а потом…, потом она обязательно что–нибудь придумает, она заставит его…, он увидит в ней женщину и не сможет отказаться от её дара».
К утру дождь и ветер усилились. Но Дану это нисколько не заботило, она проснулась даже раньше Риголла и выбежала в лес, совершить свой ежеутренний ритуал. Ну и пусть, если он выйдет сейчас, полюбуется, от чего пытается отказаться. Но он не вышел.
– Дану, девочка, пора собираться! Слышишь? Скоро придут другие жрецы. Ты должна уже быть одета.
Она оглянулась на голос, который раздавался со стороны их дома: пора так пора. Ещё, действительно не время.
Дорога в Эмайн была не очень дальней. Всего два дневных перехода. Ехали верхом. Риголл, окружённый другими жрецами, восседавшими на преимущественно белых лошадях, возглавлял их довольно многочисленный отряд. Следом ехало семейство Олафа, на очень красивых, грациозных разномастных конях. Потом чинно трусили на деловитых лошадках, норовистых скакунах, плохо обученных хулиганах остальные жители кельтского поселения. Замыкали праздничное шествие группа подростков – учеников Риголла. Дану была с ними. Она без особого интереса вслушивалась в их весёлую болтовню по поводу предстоящего гульбища.
– Ты помнишь наш уговор?
Дану кивнула своей давешней подружке.
– А сейчас ничего нельзя сделать? Уж больно зябко.
« Не сейчас» – показала она жестом.
– Ладно. А тебе, что, совсем не холодно?
« Нет»
– Вот везёт. Мне бы так научиться. Вряд ли у меня получится.
«Почему?»
– Ну, во мне не живёт Богиня.
«Что?»
– Ты не знаешь? Он тебе не сказал? Ты знаешь, что значит твоё имя?
Дану знала, что имя может означать что угодно, но это вовсе не имело отношения к истинным качествам человека. По крайней мере, у цыган было так. Имя должно украшать, подчёркивать некоторые качества, выделять достоинства, но, если оно означает Ворон или Роза, это вовсе не обязывает человека стать грозной птицей или прекрасным колючим цветком.
– Дану – это Богиня.
«Ну, и что. Я же не Богиня».
– Ты просто ещё не почувствовала. Ты ведь делаешь, то, чего не могут другие…
«Ты тоже божественно сражаешься. А Риголл так вообще тогда – верховное Божество»
Они вместе засмеялись, и Дану стало кок-то легче. Она подумала, что, возможно и правда обладает какой-то особенной силой, и тогда эта сила должна ей помочь. А вдруг Риголл знает, и просто боится? Нет, уж это точно, нет. Он бы не стал с ней возиться из страха, если вообще, ему ведом страх. Ему же всё про неё известно. Всё? Низкий басок, тихий, почти шёпот, прервал её приятные размышления.
– Где твоё оружие, Дану?
Она, как можно холодно, взглянула на Олафа. Риголл утром заставил её взять подаренный меч. И она согласилась нацепить его на пояс, как часть маскарадного костюма. Она кивнула.
– Хорошо. Очень хорошо смотрится на тебе. Там, на празднике мы будем танцевать.
Она хмуро смотрела перед собой.
– Пожалуйста, не откажи мне, когда я тебя позову.
Она вспыхнула, она готова была оттолкнуть Олафа, но тут дерзкая мысль прижатым диким котёнком извернулась у неё в голове и цапнула за душу.
«Да, она будет танцевать с Олафом. Конечно, будет. И вы все запомните этот танец. Не бойтесь, ничего плохого. Но ваши мелодии, хороши, да танцы холодны…»
На второй день путешествия к ним присоединилась ещё одна группа празднично разодетых кельтов. Как раз та самая, с которой прошлой зимой, незадолго до появления Дану, клан Эраннана очень серьёзно ссорился из-за какой-то ерунды. То ли кто-то у кого-то увёл жену, то ли коня, и друиды никак не могли решить на чьей стороне правда – получалось не на чьей. А в результате, обидчики с обеих сторон, как это бывает в подобных случаях обошлись без помощи поэтического правосудия, несколько уменьшив численность друг друга. В этом конфликте погиб Сеймон – старший брат Олафа, оставив жену и дочь на попечение своей семьи. Но, поскольку смерть, по мнению кельтов, всего лишь середина длинной жизни, Бригита и родственники погоревали о преждевременной неожиданной разлуке положенное время, как, впрочем, и потерпевшие с другой стороны, и продолжили свой земной путь, забыв про обиды. Поэтому сейчас оба клана радостно приветствовали друг друга, обмениваясь новостями, поражаясь тому, как выросли новые женихи и невесты, хвастаясь приобретениями в виде добытой где-то утвари, кубков, вылепленных из незнакомой тонкой белоснежной глины или новыми членами семейств, например, Дану. Все шумно радовались, обнимались, даже периодическое бряцание металла казалось вполне дружественным, хотя и напоминало о своём присутствии здесь в качестве оружия.
Через некоторое время, после последнего привала, к ним присоединилась ещё одна небольшая группка шумящих на весь лес всадников, и вскоре этой довольно многочисленной праздничной толпой они выехали из чащи на открытое, раскрашенное всеми возможными цветами зрелой осени пространство. Только мелкий дождь, да неугомонный ветер размывали палитру, превращая реальную картину в пейзаж, созданный небрежной кистью художника – модерниста.
Дану любовалась возникшим так внезапно видом, напоминающим ей что-то смутно из её прежней очень далёкой жизни. В памяти всплыло цыганское слово, обозначающее: степь и ещё какие-то слова, которых она никогда не слышала. Но это было только отдалённо похоже. В центре холмистой долины, на самом высоком и живописном холме, где собралось немыслимое количество людей, по представлению, Дану, она увидела странное величественное сооружение из гигантских каменных столбов, расположенных по кругу. «Вот место, где живут Боги» – подумала она.
– Эмайн, смотри, это Эмайн. Уже почти все собрались. Мы прибыли, наверное, последними.
– Слава Одину, успели. Иначе сойти нам всем с ума. Помните в прошлом году? Ульрих из клана Зиггерта погнался за ланью в лесу и заблудился….
– Да все знают.
Дану не знала, и ей стало очень любопытно, что же случилось с Ульрихом, явно сбежавшим с предстоящего празднования. Она посмотрела на Олафа.
– Я расскажу. Для Дану.
– Точно. Она же ничего не слышала.
– Ульрих – старший сын Зиггерта был женихом Хельги – дочери Карнаха. Он хотел преподнести невесте свадебный подарок. Но никак не мог выбрать. У неё было всё, что ей нужно. Он следил за ней целый год, но так и не увидел, чего бы она хотела. Однажды, когда они собирали коренья, мимо них пробежала прекрасная белоснежная лань. Это огромная редкость. Хельга увидела её и потеряла покой. Она мечтала теперь видеть её снова. Поэтому Ульрих и пустился в лес на поиски этой лани. Но целый месяц он не мог её выследить. Как будто и не было такой вовсе. Только перед самым Самайном, когда их семья уже почти пришла в Эмайн, на кромке этой долины и леса, в кустах мелькнуло что-то белое, и Ульрих потерял голову. Забыв обо всём, он преследовал эту бесовскую лань и пропустил время зажжения ритуального огня. В тот самый момент, когда Друид поднял факел, Ульрих выскочил из леса, но он уже опоздал. Он забыл, кто он, как его имя, даже то, что он человек. Он до сих пор бегает где-то в лесу без одежды и без оружия в стаде ланей. Иногда охотники видят его, но не трогают, потому что боятся, что его безумие накинется на них. Нельзя опаздывать в Самайн.
Дану чуть не разрыдалась от жалости к этому незнакомому ей Ульриху. Она злилась на Хельгу, за то, что та стала виновницей безумия своего жениха, она даже передёрнула плечами от отчаяния и больно стукнулась локтем о привязанный к поясу меч. И тут ей стало дурно. Он взглянула на Олафа. «Нет, я не стану причиной твоего безумия. Есть девушка достойная тебя. А я люблю другого, но я клянусь, ты будешь счастлив. Возможно, не сразу».
Они приближались к Эмайну. Дану поискала глазами Риголла. Но его нигде не было. Она дотронулась до рукава подруги и кивнула в сторону группы жрецов.
– Ты хочешь знать, где Риголл? Он же – главный. Он будет сидеть рядом с королём, но ты его ещё увидишь. Потому что спим мы так же, как дома. Это очень важно, особенно для девушек, которых выбрали. Поэтому ты будешь спать в его доме. Правда, когда мы будем это делать, неизвестно.
И она рассмеялась. А Дану немного успокоилась. Перспектива провести несколько ночей и дней без учителя была для неё катастрофой, не то, что весельем.
Она видела цыганские праздники, когда собирался весь табор. Женщины готовили яства, мужчины устраивали состязания на лошадях или просто боролись друг с другом. Ночью все рассаживались у большого костра, много ели, пили вино, пели свои печальные песни, весело танцевали. Потом все разбредались по своим кибиткам, и наутро никто и не вспоминал давешнего веселья. Зато это могло быть так часто, как хотелось цыганам.
У кельтов было иначе. Все их праздники были чётко подчинены календарю, которого у цыган вообще не было. Дану знала о четырёх великих неделях, которые праздновались в первые дни последних месяцев зимы, весны, лета и осени. Главной был эта, носящая гордое и странное имя Самайн.
– Скоро будет зажжение королевского огня. Нам нужно готовиться. Дану, ты сможешь помочь? С дождём?
Да, она чуть не забыла, переполненная впечатлениями. «Конечно, Риголл, ты будешь разжигать костёр. Я сама преподнесу тебе свадебный подарок» Она кивнула подруге. В этот момент дождь усилился и полил сверху почти сплошным потоком, как будто предчувствовал своё скорое будущее и торопился излить на землю как можно больше воды, пока его не остановили.
Девушки и женщины попрятались в домах, землянках, прочих укрытиях, временно сооружённых для многочисленных гостей, которые Дану не сразу разглядела, за грандиозными каменными столбами. Мужчины: короли, воины, жрецы собирались вокруг Кромм Круаха, где должны были принести в жертву Богам всех первенцев от скота. Дану пошла к мужчинам. Она видела своего учителя, окружённого жрецами, стоящими недалеко от жертвенного камня. Кто-то ещё, одетый очень красиво, высокий и властный был там. «Наверное, это король» – догадалась она. Жрецы поднимали руки к небу, моля дождь остановиться. «Смешные», подумала Дану, «И ты Риголл, тоже смешной. К утру у вас, несомненно, получится. У тебя, мой возлюбленный, это вышло бы куда быстрей, если бы меня не было здесь. А так, не ты хозяин моему коню. Знаешь ли ты это? Чувствуешь? Почему не просил меня? Или ты всё понимаешь. Даже больше, чем я думаю?» Она приближалась к жертвеннику. Риголл стоял к ней спиной. Вдруг он опустил руки и резко повернулся. Все расступились. Между ним, верховным жрецом, управляющим миром кельтов и ею, дочерью неизвестного народа, изгнанной собственным племенем, осуждённой и презираемой отцом, бушевало пространство без людей, без животных. Только ветер неистовствовал, выдирая травы с корнями, и дождь добивал землю, втаптывая в грязь всё на своём пути.
«Это мой час, любимый. Я дарю его тебе! И никто не скажет, что ты зря привёл меня в ваш мир. Ветер, верный мой чёрный пёс, дождь, верный мой чёрный конь, помогите вашей Дану! Лягте к моим ногам, уйдите в землю! Пройдите насквозь, выйдете с другой стороны – там океан! Омойтесь его волной, очиститесь от праха земного. И придите снова, когда я позову вас!» Она не знала, как эти слова родились в её голове, да это было не важно. Она повторила их мысленно трижды, как и положено повторять любую просьбу: первый раз, чтобы прислушались, второй, чтобы заслушались, третий, чтобы услышали. Она так считала. И, когда, она подняла глаза к небу, то увидела синий праздничный бархат, расшитый на цыганский манер, жемчугом созвездий. Было тихо, так тихо, что казалось, это шелестел небесный бархат.
– Спасибо, Дану, спасибо, девочка.
Риголл стоял рядом с ней, и только она могла слышать его слова.
Через минуту Верховный друид поднял факел, пылающий огнём короля, и праздник начался.
Независимо от того: сплю я, просто грежу или активно бодрствую в течение ночи, утро всегда, почти, приходит внезапно. Оно врывается незваным гостем, разливая повсюду свой шум и свет, и отбирает у меня свободу. Теперь я что-то должна. По крайней мере, вставать с постели. Я должна, как житель некоего социума приводить себя в приемлемое для него состояние: умываться, что–то делать со своей внешностью…, слава Богу, можно не завтракать, но требуется одеться. И вся эта суета необходимый минимум, за которым следует стадия выполнения планов и достижения целей, завершаемая оценкой полученных результатов. Зачем мне всё это? Почему бы не залечь где-нибудь на дне океана на несколько тысячелетий, предоставив миру вокруг возможность самостоятельного развития без моего участия. И ведь не получится. Потому что вначале, конечно, ты ощутишь свободу и начнёшь неистово творить. Постепенно ты создашь вокруг себя очередную объективную реальность, которая в свою очередь примется диктовать свои условия. Это закладывается ещё в детстве: любая игра должна идти по правилам, которые по сути своей являются ограничениями необузданной свободы. А иначе просто неинтересно. Безграничная свобода скучна, как и любое однообразие. Итак, да здравствуют препятствия, заботливо взращенные нашим неутомимым мозгом, приветствуем вас трудности и неприятности, окрашивающие нашу жизнь разнообразными оттенками бытия – возлюбленные чада наших тщательно продуманных поступков. Этот мир совершенен для всякого рода творцов. В том числе и своего счастья.
Только нужно успеть выстроить свою объективную реальность иначе за тебя это сделают другие, и тебе просто не останется места и времени.
Покончив с обычными, милыми утренними процедурами, я вырвалась, наконец, из сферы влияния друидской глубокой осени и осознала себя в середине петербургского лета. Я была готова. Я просто подошла к молчащему телефону и сказала ему:
– Ну, давай! Уже пора.
И протянула руку к трубке. Поэтому меня не застал врасплох ехидно улюлюкающий вызов.
– Алло? Это Мария?
– Олаф? Доброе утро. Как поживаете?
– Спасибо. А Вы?
– Думаю, Вы догадываетесь.
– Не понял?
Ещё бы он понял. Ритуал приветствия пошёл не по схеме. Ну, простите.
– Спасибо тоже.
– А? И как вы располагаете временем?
– Как мы договорились, так и располагаю.
– То есть, мы можем увидеться?
– Насколько я помню, вы собирались доесть то, что не осилили давеча.
– О! Это очень мило. А вы не завтракали?
– Нет.
– Тогда…. Как мы можем подойти?
– Как хотите.
– В течение получаса?
– Без проблем.
– До встречи.
До встречи, до встречи, мои братья – кельты. Да-а-а…, чего только не намерещится, дай себе волю. Как бы ни было безразлично, я всё-таки осмотрела своё жилище. Вроде всё в норме, даже вполне уютно. Странную особенность приобрёл мой дом после визита старца, он стал жилым.
А вот я, кажется, не очень. Или ничего? Или какая разница, не женихов привечаю. Но я освежила своё лицо дорогой косметикой, подаренной мне сотрудниками ещё ко дню рождения. Надо же когда-то попробовать. А потом я сняла привычные джинсы с трикотажной кофточкой неопределенно тусклого оттенка и надела маленькое чёрное платье, приобретенное ещё весной в модном бутике по настоянию подруги. Считалось, что оно мне к лицу, ну и к телу тоже. Ожидая невесть чего, точнее, стараясь ничего не ждать, я рискнула подойти к зеркалу. Шока, разумеется, не было, а появилось желание всё снять, смыть, стать самой собой, небрежно неухоженной, плюющей на условности, но только не видеть этот журнально-элегантный силуэт в комплекте с малознакомым face. Не успела. Это что же целых полчаса жизни может уйти у человека на, как бы помягче, – гардероб и туалет? Интересно, что бы сказал по этому поводу отец Григорий? «Не может» он бы сказал, «а должно». Вот чёрт! Ведь это мои мысли. И с ними наперевес я отправилась открывать дверь. Платье оказалось кстати, – «кельты» явились с цветами. Мы явно не ожидали друг от друга взаимно-вежливой подготовки. Я воззрилась на свёкольно–красные розы, соображая для меня ли они, или так, по случаю. А мужики ошалело искали глазами рядом со мной ещё кого–то. Меня, наверное.
– О! Это Вы?
– Угу. Соседей нету.
– Мы и не думали
– О соседях?
– Да.
– Тогда проходите.
– Вам… – Олаф поперхнулся и, протягивая букет, закашлялся.
– Вы сегодня потрясающе выглядите.
– Я хорошо выспалась. И у меня выходной.
– Вам очень к лицу выходные.
– Я это учту. И передам ваши слова начальству. Кофе?
– Если не трудно.
– Уже не трудно.
Вырез моего декольте так глубоко потряс гостей, что творческий процесс начался сразу же, во время завтрака, без долгих рассуждений о планах и перспективах. Героем дня и сценария назначался Распутин Григорий Ефимович, спроецированный нашим свободным разумом из туманного прошлого в смутную российскую современность. То есть, явился «святой» старец некой ностальгирующей по соцромантизму даме, подходящих по сюжету зрелых в пределах сексуального интереса, лет и перевернул её мировоззрение на столько, что она с оголтелостью, свойственной её великой родине кинулась изменять самоё себя и ближайшую упомянутую уже неоднократно реальность. Как ему удалось выжить? Если, кто-то ещё не в курсе, то у Гарри Гуддини российские корни, стало быть, способности были получены генетически от нашего великого фокусника эпохи революций, известного своим многократным отцовством. Ну а временная неувязочка легко разрешалась потомственными кельтами с их пространственно-временными играми. Мне пришла было в голову мысль превратить сей интригующий персонаж в обыкновенного авантюриста. Дескать, импозантный такой старичок вскружил голову милой дамочке, прочитавшей всего Пикуля и готовой к чему угодно, лишь бы малореальному. В принципе, даже цели его не имеют в данном случае значения, поскольку последующая реакция со стороны героини была настолько неординарно незапланированной, что дед забыл обо всём на свете, ибо ему предстояло выпутываться из весьма щекотливых обстоятельств. Здесь может быть что угодно: от неземной любви с возведением предмета обожания в статус полубога-гуру и, как следствие, создание секты, до навязчивого состояния препроводить заплутавшую душу к самому создателю, освободить её, уже почти святую, от тягот земного бытия любыми доступными расшалившемуся воображению способами. Например, сжечь заживо, поскольку всё остальное, как известно, ранее не помогло.
Мы даже весьма серьёзно стали подумывать о финале. Во всех случаях требовались криминально кровавые разборки с последующим заключением главной героини под стражу и дальнейшем препровождении в тюрьму, где она, героиня, наконец, обретает подлинную свободу духа, ибо совершила-таки главный поступок своей жизни. Отвратительная идея, превращающая всё пережитое мною в реальности, даже не в фарс, а, в некоего рода, порнографию, весьма зацепила моих милых соавторов. Но я не могла даже возразить, поскольку сама всю эту гадость выдумала, пытаясь защитить присвоенную себе интеллектуальную собственность от чьих-либо посягательств, как тот самый авантюрист. Мне оставалось только наблюдать за их рвением и пытаться вмешиваться по мере возможностей. Мы просидели до вечера, сюжет разваливался на части, к моему величайшему удовольствию.
– Может, он всё-таки не авантюрист? – осенила Олафа светлая мысль.
– А кто? Быстрее, кто? – Сеймон терял терпение.
– Да, неизвестно кто. Вся интрига в том, что он – неизвестно кто. Фантом, иллюзия. Девушка так долго не растрачивала свой творческий потенциал, что….
– Превысила допустимую массу, и произошёл соответственный взрыв, породивший или вызвавший к жизни, или просто притянувший из неведомых миров требуемый персонаж.
Это был нокаут. Теперь мне точно необходимо было убедиться. Когда там ближайшая электричка на Будогощь? Но сначала, что сначала-то? Я почувствовала в своих руках тяжесть. Господи, я начинала терять над собой контроль: когда и откуда я извлекла две бутылки сухого красного? Димон же подчистил всё в пределах человеческой досягаемости из моих запасов.
– О! Это так кстати! Вы абсолютно правы!
– Я?
– Где у вас бокалы?
– Так, всё это никуда не годиться. Перерыв. Наверное, ты прав, Олаф. Фантом более соответствует…
– Чему, простите, более соответствует Фантом? – мне было уже не забавно.
– Реальности.
– Так. Ещё Раз. Фантом более соответствует реальности, чем обыкновенный авантюрист?
– Естественно. Нашей героине легче создать гомункулуса, чем воздействовать на реальное лицо. Она же – подлинный творец-одиночка. Мир в себе для себя – её объективная реальность.
– И это вся шизофрения для неё одной. В её мозгу? – мне был очень интересен ход их мыслей. Уж больно он был для меня актуален в данный момент.
– Нет, конечно! В том всё и дело. Творческий потенциал! Это – основная мысль. Особь долго спит, копит энергию… – Сеймон задумался и уставился на фотографию в рамочке, висевшую у меня над письменным столом – вот, как эта дохлая рыба.
– Это не дохлая рыба. Это окаменевшая рыба.
– Тем лучше. Окаменевшее. Замершее сознание. В низшей точке пути тело находится в состоянии покоя. Небольшой толчок…. Требуется небольшой толчок, и оно летит вверх! Но там, наверху, оно тоже остановится. В самой верхней точке. Оно зависнет там в своём максимуме, на гребне волны. Это и будет момент творения. А пока спит. И видит сон.
– И что? Что там, в верней точке?
– А что угодно. Там можно всё.
– Знаете, я в общем-то так и думала.
Мы уже держали в руках бокалы, заполненные до краёв напитком цвета крови, очень хорошо сочетавшимся с розами, замершими в вазе между нашими поднятыми руками
– За нашу даму и наш успех!
– За успех нашей дамы!
– За наш общий, ладно? За наш общий успех. За успех трёх, как минимум, объективных реальностей.
– Реальность одна! Но на троих.
– Да на троих. Это по-нашему, по-русски. Когда на троих.
– Давайте всё-таки выпьем.
– Да на троих.
Мы прикончили эти обе бутылки так быстро, что не успели за время их распития придумать ничего путного, а, следовательно, требовалось повторить. Потому как мы чувствовали, что в данном напитке вполне может быть обнаружен требуемый толчок, чтобы разбудить рыбу. Было решено, что Сеймон попытается ещё раз перечитать весь сотворённый нами бред о Распутине в одиночестве. На всякий случай. Там могли затесаться мысли. А мы с Олафом сходим и купим.
Как ни странно, дождя не было, ветра тоже. По-крайней мере, я ещё не Дану. Правда, я иду куда-то рядом с Олафом, а Сеймон, всё ещё живой, сидит у меня дома под фотографией рыбы-латимерии и читает текст о Распутине. Такова объективная реальность на данный момент.
– Вы прекрасны в этом платье.
– Что?
– Вы очень красивы. Вам идёт это платье.
– Это откуда? Это чья реплика?
– Это не реплика. Это я набрался смелости вместе с вашим вином. Этот цвет платья и ваших волос. У вас не совсем славянская внешность, хотя и очень…
– Вообще–то во мне течёт цыганская кровь, насколько я знакома со своей родословной. И, знаете, как не странно, есть примесь ирландской.
– Правда? Я тоже ирландец наполовину.
– Простите, а Сеймон вам не брат?
– Нет, что вы. Он – датчанин. Мы просто очень давно знакомы. Так давно, что….
– Что кажется, не первую жизнь.
– Да, именно так.
– Как знать.
– То есть. Вы тоже верите в бессмертие души? Как христианка? Или как верили кельты?
– Я не знаю. Если честно, я вообще плохо разбираюсь в этих вопросах. Возможно, прав Сеймон. Мы все чья-то, кем-то созданная, кому-то приснившаяся объективная реальность. И сейчас не двадцать первый век вовсе, а какое-то время середины девонского периода.
– Дальше.
– Что дальше?
– Пожалуйста, продолжайте.
– Ладно. Представьте, земля, то есть суша, ещё пуста. Только стали появляться первые растения, а в океане царят… рыбы. Огромные и прекрасные кистепёрые рыбы, которые тоже созданы по образу и подобию. И вот одной рыбе, одной влюблённой рыбе…
– Влюблённой?
– Конечно, ведь требуется толчок. Она и не осознаёт до конца своей любви, только ощущает. Ведь, если осознает…
– Потеряет цель, нет, потенциал, потому что приобретет ориентир.
– Наверное. И всю свою силу отдаст любимому или просто истратит на обычное материальное чувство.
– Грустно.
– Ещё бы. Но она спит и во сне…. Она же переполнена этой энергией. Она творит, она создаёт вокруг себя миры и населяет их.
– Наш мир – это мир, созданный кистепёрой рыбой?
– Мой мир. Вы слышали о тотемах? Я думаю это всё – творцы.
– Тотемы?
– Ну, да. Гигантская черепаха видела сны про индейцев, вомбат про австралийских аборигенов, огромным серым псам или волкам снились славяне с ирландцами, а мы разнокровки – плоды творчества рыб и ракообразных или головоногих моллюсков.
– Почему головоногих?
– Ну, они самые умные.
– А? И, стало быть, имеет место огромное количество соприкасающихся, переплетающихся миров….
– Ну, да. А человек – венец творения, раз уж ему так хочется. Правда, мы уже насочиняли, как минимум богов и инопланетян. Вот такая вот теория тотемной эволюции.
– А в начале всего?
– Бог. Законы Гегеля. Всё развивается по спирали. Бог – творения – боги…
– А дальше?
– Возможно, опять Бог, отрицающий самого себя. Вот вам и постулат о конце света.
Очевидно, нестарая ещё, то есть в возрасте требуемой привлекательности, женщина в маленьком чёрном платье, рассуждающая о философии Гегеля посредине Невского проспекта тёплой белой ночью выглядит весьма сексуально. И никакие разговоры, рамки приличия и европейского воспитания не в состоянии помешать древним инстинктам, творить свои ритуалы, опять же во сне отнюдь нечеловеческом. Но я почувствовала тишину вокруг себя, исходящую со стороны Олафа, настолько звенящую, что мне показалось мимо моего лица пролетел залп стрел распоясавшегося Амура. Ирландец смотрел на меня, а я думала: « Правда ли реальный мужик, не актёр, играющий страсть, способен на такое красноречие во взгляде или кто–то, в данном случае я, сочиняет очередную крепкую интрижку».
Однако, мы уже почти достигли нашей цели и успели вовремя до наступления «комендантского» часа приобрести требуемое. Теперь всё встанет на свои места.
– Очень тёплая ночь.
– Да, Олаф, конечно. Но нас ждёт Сеймон.
– Думаете?
– Уверена, он уже извлёк всё возможное и даже сверх того из нашего опуса.
– Ладно.
Всё же на нашей предательски тёмной лестнице мне пришлось опереться о его руку и почувствовать, как дрогнули его пальцы, сжимая мою ладонь, и как изменилось дыхание у нас обоих. На мгновение, которого оказалось достаточно.
– Ты можешь остановить меня, если… – в каком-то кино я слышала эту фразу, наверное, это пароль.
– А ты можешь остановить меня?
Я ждала, что обязательно должна хлопнуть дверь парадной или какому-то соседу срочно потребуется выйти из своей квартиры незадолго до полуночи, но ничего такого не происходило. Как будто само пространство, сплетаясь со временем, создавали вокруг защитный кокон. Вопрос – зачем? Кому из нас это было нужно? Это была не просто попытка удовлетворения тривиального желания двоих полупьяных, разнополых особей приблизительно равного возраста. Это был способ воздействия, создание той самой реальности, когда сказать «нет» или «да» может кто-то третий, а первый и второй обязаны подчиниться. Хорошо, пусть. В конце концов, это не самое неприятное из того, что мне до сих пор предлагалось. И вот в тот самый момент, когда невозможно стало ни говорить, ни дышать, когда наши глаза закрылись, но в моей больной голове успела всё-таки пролететь нелепая мысль « ах, как это похоже на маленькую смерть, что посреди жизни». В этот самый миг грянул гром, и молния взорвалась где-то очень близко, полоснув светом по нашим опущенным векам.
– Кто-то смог. – Мне хотелось, очень сильно, превратить всё в шутку.
– Что?
– Остановить нас.
– Мне показалось иначе.
– Нет, Олаф, пожалуйста. Пойдём…. Пойдёмте.
Мы поднимались, казалось, целую вечность по последнему лестничному пролёту под повторяющиеся раскаты грома, сопровождаемые дробью внезапно хлынувшего дождя. И в этом грохоте, в этом избиении жестяных оцинкованных крыш и карнизов слышался сатанинский хохот.
Сеймон встретил нас мерным похрапыванием в такт дождю. Но он мгновенно проснулся, стоило нам осторожно коснуться стеклянными донцами поверхности журнального столика.
– Я тут наскрёб кое-что. Уверен, будет шедевр, если наша Мария ещё немного постарается. В том числе и потерпеть нас.
– Да куда я от вас денусь? – сама не знаю, как это вырвалось.
– Классная идея. Признаться я подумывал.
– О чём, простите?
– Деться-то уже и правда некуда. Так сложилось исторически: мы приехали сюда найти вас, и нашли, и глупо было бы прекращать и разрывать наш так удачно спевшийся интернациональный творческий союз. Много слов, да?
– Да.
– Ладно. Но ведь понятно всё.
– Не совсем – мне действительно было не всё ясно. Я чувствовала, что этот тип пока мы пытались с Олафом наладить некую форму контакта, что-то придумал и теперь клонил в сторону своей выдумки. Причём у меня создавалось неприятное чувство, что датчанин убеждён в непогрешимости своих намерений.
– Ну, если мы не закончим Распутина за оставшиеся два дня, мы можем продолжить совместную работу….
– По переписке?
– Нет. Это совсем не то. Мой опыт показывает, что такой союз разваливается, даже не начавшись. Почта, особенно электронная, враг любого творческого начала.
– А как же эпистолярный жанр?
– Вы можете назвать это творчеством? Для меня это духовно интеллектуальный эксгибиционизм. Вы читали письма великих? Всё равно, что заглядываешь в их спальню и туалетную комнату, а они это знают. То есть снял штаны, но искренности не получилось. Простите за откровение.
– Не обращайте внимания, Мария, для Сеймона интернет – больное место. Он так и не научился пользоваться электронной почтой в нужном объёме. Максимум на что он способен, это прочесть ваше послание и отослать небольшой ответ вместе с вашим предыдущим письмом. То есть нажать на «отправить».
– Сам хорош. Он – мерзкий геймер! Он играет в эти квесты, или что там ещё, как тинэйджер. Его самая большая цель…, Сказать?
Я кивнула, потому что говорить уже не могла.
– Получить level!
– Это ужасно! – наконец я справилась с собой. – Олаф, это правда?
– А чего мне ещё хотеть рядом с этим типом?
– Мне нравятся ваши отношения, ребята.
– Правда? Так вступайте в наш союз.
– Только, зачем я-то вам? По-моему, у вас всё хорошо.
Они переглянулись. Потом Олаф взглянул на меня с многозначительностью. Не сводя этого взгляда, откупорил бутылку и опрокинул её в бокалы.
– За объективную реальность. На троих.
И мы продолжили попытку реанимировать сценарий, но, похоже, мы его теряли.
– Пусть это будет реальный, самый настоящий, сумасшедший монах, который, действительно выжил, раскаялся. И что? Ну, Олаф, Мария, не спите!
– Как же он упустил-то Россию?
– Почему же упустил? В войне выиграли, Сталина пережили, в застое выстояли. Что там ещё? Всё молитвами.
– Получается какой-то религиозно патриотический памфлет. К тому же эдакий чудотворец потом навещает серую обывательницу с целью чего? Совместного возрождения великой Родины. Скучно.
– Согласен.
Мы чувствовали, что вот– вот поймаем, найдём нечто, что прекратит наши поиски и превратит обычный сценарий второсортного историко-фэнтазийного кино в философско-зрелищный шедевр. Мы написали несколько диалогов, сцен. Как будто реставрировали старинную фреску, покрытую многовековым слоем запёкшейся пыли, подчищая осторожно фрагменты. Мы догадывались, что должны увидеть, но только догадывались. Чем дальше мы пытались продвинуться, тем больше я понимала, что моя поездка в Будогощь неизбежна. Только нужно было это как-то объяснить моим коллегам. Да и на работе, очевидно, придётся взять отпуск.
К утру, когда всё уже было допито, доедено. Когда каждый из нас успел по очереди вздремнуть и проснуться от внезапного крика коллег, нашедших очередную удачную реплику, когда было уже непонятно, отчего так гудит в голове: от выпитого или выдуманного, на пороге появился Димон.
– Ты, это… не одна?
– Это мой сосед Димон. Он не говорит по-английски. Правда, по-русски, тоже не очень.
– Ты им чего сказала?
– Тебя представила. А они – Олаф и Сеймон – мои коллеги по работе. И сейчас мы в принципе заняты, если ты не против.
– Это…, а там…. Осталось?
– Нет, Димон. Даже осадка нет.
– Может сходить?
– Чего он хочет, этот парень?
– Предлагает сходить за добавкой.
– У него светлая голова. Может и мне с ним? Проветриться?
– Сеймон, вы не сможете разговаривать. Он не…
– А зачем? Мы же за добавкой, а не поговорить.
И Сеймон подошёл к моему соседу, протянул ему руку:
– Сеймон. Сем.
– Димон.
–ОК, Дэймон!
– ОК, Сем!
Мне показалось, что языкового барьера, как и любого другого там не будет. Это необъяснимый факт, но всё же, факт. Два мужика собрались в магазин. У них есть общая цель, близкая их желудкам. Стало быть, они справятся. А дождь незаметно кончился.
Когда дверь сообщила, что мы с Олафом остались вдвоём в пустой квартире, мне в первый момент хотелось броситься за Сейманом с Димоном, но я словно вросла в это своё уютноё кресло. Гадкое тело не подчинялось, даже язык высох и отказывался принимать участие в моей жизни. Олаф сидел напротив и смотрел, и молчал. «Чёрт, ну скажи хоть что-нибудь!» Мы молчали. Но его бесстыжие глаза, похожие на тёмные омуты, поросшие камышом ресниц, просто орали во весь свой европейский разрез о том, о чём мы оба пытались не думать. Или только я пыталась.
Он встал и подошёл, он присел передо мной на корточки и положил свои ладони на подлокотники моего кресла. Он провёл тыльной стороной ладони по моей руке от запястья до локтя. Так, наверное, дрессировщики трогают дикую кошку, проверяя её настроение, прежде, чем погладить или начать какой–либо трюк. Я не шевелилась, потому что не решила, как быть. Его лицо оказалось опасно близко с моему, так, что наши губы соприкоснулись краешками. Я всё ещё не знала, что делать, но думать я тоже не могла. Он слегка повернулся:
– Мария – прошептали его губы, только касаясь моих, и тут мой рот предательски дрогнул и раскрылся, наверное, для того, чтобы сказать «нет». Не получилось. Но более того, уже через мгновение, я обнаружила, что мои руки обнимают его шею, а пальцы перебирают короткие волосы, похожие на очень ухоженную кошачью шерсть, на его затылке, и английские слово «Yes» становится больше похоже на стон…
А потом я задала самый глупый вопрос, который задают все бабы в подобной ситуации:
– Олаф, ты женат?
– А это важно?
– О, Господи! Не в том смысле. Да, для меня это важно. Очень. Но только знать ответ. Мне ничего не нужно от тебя. Я не стремлюсь замуж. Понимаешь, и это ничего не меняет. Просто, ответь и забудь.
Мне очень хотелось, чтобы он сказал «да», что у него всё хорошо, прекрасная семья, куча детей.
– Был. Она погибла.
– Чёрт! Прости!
– Прошло уже семь лет.
– Всё равно. Я знаю, что время не имеет значения, оно вообще не существует, когда так….
– В автокатастрофе. Мы очень любили друг друга, как это не банально….
– Олаф, не надо!
– Нет, ты сказала, что это важно. Это так. Потому что ты первая после неё, и я не понимаю, почему мне нужно быть с тобой. Очень нужно…. Как будто это уже было когда-то, ещё до неё…. Подожди…. Мы тогда поссорились из-за ерунды, я плохо помню из-за чего. Кажется, у меня что-то не ладилось со сценарием, и я не сдержался, а она хлопнула дверью, и я не выбежал за ней. Я услышал шум мотора на улице – это была моя машина, но я был зол и не придал этому значения. Я просто забыл, что она ещё плохо водит. Она даже не пришла в сознание. Если бы не Сеймон, я бы тогда умер тоже.
– Сеймон?
– Да. Ты ведь спросила, не братья ли мы. Почти. Её нет, а он со мной. У нас осталась дочь. Она живёт у моей матери. Это хорошо. Маленькая, светловолосая девочка. Ей десять лет, и она очень любит петь и собирать гербарии, как её мама.
А ты была замужем?
– Нет, я не успела.
– То есть? Прости, если…
– Он тоже. Его сбила машина. Не моя. Это было около двадцати лет назад. Но всё равно, болит. Понимаешь? И я не могу ни с кем, кроме тебя…. Только это не имеет значения, потому что это не любовь. Между нами.
– Да, не любовь. Но, я не понимаю, почему мне нужно….
Он запнулся, как будто испугался собственных уже произнесенных слов или, что хуже, невысказанных мыслей. Он уставился на портрет латимерии на стене.
– Зачем здесь эта рыба?
– Я уже говорила. Это – мой тотем.
– А без шуток.
– А я и не шучу. Я же – рыба по гороскопу. А ты, кстати, кто?
– Стрелец, если не ошибаюсь. Стало быть, этот камень не мой тотем. Не хочешь говорить, я не ….
– О чём говорить я не хочу?
– О рыбе.
– Да, сколько угодно.
– Ладно. Только Сеймон, похоже, опять прав. Как всегда.
– Кстати, где они? И в чём он прав?
– Где они, видней этому Дэймону.
– Как ты сказал?
– Дэймону.
У меня похолодело внутри. Его звали Дэймон. Того кельта из соседнего вражески родственного племени. Огромного, очень сильного воина, который занёс свой меч над Головой Сеймона, чтобы напугать, обратить в бегство, наказать за хитрость и интеллектуальное превосходство, а потом хохотать над этим на совместной пирушке. Но кто-то окликнул, кто-то хотел остановить, и огромная башка отвернулась, перестала следить за рукой. А кельтский меч был тяжёлым.
– Мария, что?
– Пойдём. Их нужно найти.
– Ты что-то подозреваешь?
– Я не знаю. Всё это когда-то было. Понимаешь? Я вижу про это сны, я думаю об этом, то есть, я придумываю, но мне кажется, вспоминаю чью-то чужую жизнь. Но так много совпадений. Когда-то меня очень радовало, если то, что я нафантазирую, оказывается правдой. А теперь мне страшно. Я боюсь своих мыслей.
Он схватил меня за плечи, даже присел, пытаясь лучше проникнуть взглядом в мои зрачки, достать до самого дна. Но я знала: там нет дна, там вода, а потом толстый слой илистого осадка, а потом…, никому неизвестно, что потом.
– Ты должна ехать с нами.
– Что?
– Ты уже это знаешь.
– С вами. Куда?
– Нам нужно дописать всё это вместе. Мы не сможем, или не вправе действовать в одиночку. Потому что очень много ошибок.
– Это какой-то бред. Послушай, мы все свихнулись. Куда я поеду? У меня здесь работа. И где Сеймон?
Мы услышали их смех во дворе, а потом хлопнула дверь парадной, и через минуту или пять, послышалось брюзжание замочной скважины, разбуженной ключом. Когда они вошли в комнату, мы всё ещё стояли обнявшись.
– Только не говорите мне, что это не то, что я думаю. Я не думаю. Я знаю, потому что всё придумал. И спасибо Дэймону. Классный у тебя сосед, детка.
– Димону?
– Ты это,… поезжай с ними. Дело… это, будет.
Я оторвалась, наконец, от Олафа, подошла к Димону. На меня смотрели неопределённого цвета мутноватые глаза, с трудом выглядывающие из набухших потемневших век.
– Димон, ты про что?
– Сэм дело говорит.
– Сэм? Он тебе что-то говорил, а ты понимал? Может, ты тоже ему что-то говорил? Димон?
– Слушайте, Маша, Дэймон сказал, что Вас можно называть Маша. Послушайте, что он Вам говорит.
– Откуда вы знаете, что он говорит? Вы же не понимаете по-русски.
– Зато я понимаю Дэймона. И, знаете, это не первый случай. Мне отец рассказывал, как он познакомился однажды с одним русским мужиком. Они сидели вместе в каком-то пабе и через часок нашли общий язык. У отца проблемы были. Ну, обычные, любовные. И он нашёл собеседника выложить наболевшее. Так тот не то что всё понял, но умудрился дать нужный совет. Собственно, благодаря этому я и появился на свет. А мужика того имя было Григорий Распутин. Так что я в некотором роде нашему герою обязан жизнью.
– Как понимаешь, я тоже – хрипло добавил Олаф.
– Ты… это…, не дури. Чего тебе здесь? Это…. Ты здесь никто и звать тебя никак, а с ними… это…
– Что с ними? Димон, напрягись. Договори.
– Поезжай с ними в эту их долину киношную.
– В movieдол? Так он в Голливуде, Димонушка. А они европейцы.
– А это… пофиг. Тебе не всё… это… равно, где… это… у тебя будет, наконец, это… имя.
Я была в ступоре, полном душевном параличе. Я стояла посреди своей комнаты в центре почти равностороннего треугольника, по углам которого возвышались трое мужиков, излучающих в мою сторону разноокрашенную, но равносильную доброжелательность. Я ждала, что сейчас почувствую заворачивающуюся водяную воронку вокруг своего тела, потому что наступила моя очередь увидеть свой горизонт и понять, как устроен мир. Да вот так и устроен, как ты захочешь. В данный момент. Ты – рыба-латимерия, вдохновлённая разгульной игрой своей стаи, а значит, и присутствием ЕГО где-то уже близко, выпрыгивай, поднимись над водой, чтобы увидеть. В тот момент, в ту долю секунды, когда почти прекратится движение своего тела, когда ты замолчишь, наконец, внутри своего мозга, в момент перехода энергий, ты зависнешь в небе над океаном и придумаешь, дотворишь то, что хочешь, потому что увидишь и поймёшь, что горизонт это иллюзия, что нет границ. Ничему нет границ.
– Мне нужно в Будогощь. На один день. Ребята, вы можете отправляться в свою гостиницу, можете оставаться здесь с Димоном. Я вернусь сегодня вечером.
– А завтрак?
– Некогда. Я… спасибо вам. Я очень вас всех троих люблю. Так. Пока. До вечера.
Я выбежала из дома. Я очень надеялась успеть на электричку. Я не ответила на шумное приветствие вокзала – не обижайся, друг, и не скули колёсами по рельсам. Я не стала задерживаться у касс, чтобы купить билет, и двери раздражённо лязгнули стальными челюстями у меня за спиной. Вагон был набит. И свободных мест не было. А я так надеялась вздремнуть эти несколько часов. Ладно. Не имеет значения.
– Садитесь.
– Что, простите? – я была уверена, что мне показалось
– Садитесь. Я всё равно выхожу через пару остановок. А вам до конца.
– Почему вы решили?
– Не знаю, показалось. Интуиция. Я, знаете ли, рыба по гороскопу. А у нас очень это развито.
И высокий тощий подросток поднялся, освобождая мне место, через пару секунд я уже потеряла его из виду в толпе суетящихся пассажиров.
Слава Богу, я не успела даже начать думать. Очевидно, мои сновидения просто не поместились в этой толчее и отстали от меня и от поезда вместе с моими мыслями. Пусть подождут в «Чижике–Пыжике».
– Будогощь! Конечная! Просьба освободить вагоны!
Конечная, говорите. Только не для меня.
Я вышла на перрон и огляделась. Ничего примечательного. Обычное здание вокзала, характерное для Ленинградской области, обещавшее не маленькое сельцо, а вполне крупный посёлок. Вот я и приехала на деревню к дедушке в прямом смысле этих слов. И где, интересно, я буду искать своего святого старца, если таковой вообще существует?
На привокзальной площади шумела группа цыганок. Они весело что–то обсуждали, переупаковывали свою поклажу и не приставали к прохожим. Ну, если кто–то и может мне помочь, то это именно они.
– Простите, дамы….
– Тебе погадать, красавица?
– Я сама вам что угодно нагадаю. Мне правду нужно одну узнать.
– Это уж точно, что, что угодно – старая цыганка рассматривала меня в упор без особых эмоций и вдруг отпрянула.
– Говори, давай, говори. Девки, идите сюда. Все. Ты ведь из наших, дамочка?
Они столпились вокруг меня, и стало тихо.
– Я частично из ваших. Но это не моя вина и не мои заслуги. Но помощь мне нужна ваша.
– Говори – старая цыганка смотрела исподлобья.
– Вы здесь живёте в Будогощи? Или часто бываете? Быть может, вы знаете, нет ли здесь такого старичка Григория Ефимовича Распутина?
– Эк, чего захотела? Распутин ещё в прошлом веке помер. Убили его.
Я схватила старуху за локоть:
– Теперь ты говори!
– Что тебе нужно?
– Я сказала, мне нужен Распутин!
– Нет его! Был! Давно когда–то. Принёс цыганам девчонку, младенца, полукровку, как ты. Порченую.
– Почему порченую?
– Его спроси.
– Скажи, где он? Пойду, спрошу!
– А я знаю? Сам, видать, нагулял с какой-то молодухой из наших. Кто ж перед ним устоит? Сам роды принял. А потом принёс, как найдёныша. Говорят, в ту семью и принёс, бесстыжий, где бабу обрюхатил.
– Когда это было?
– Не помню. Мы счёт времени не ведём, как вы. Может, в прошлом году, а может, в прошлом тысячелетии. Он же вечный, как жид. У каждого народа свой такой. А потом убёг ещё, где нагадить. А потом снова прибёг. Дочку искать. Всё! Ничего больше не знаю.
– Где та цыганка, мать?
– На кладбище. Где ж ещё? Давно было, говорю.
– А девчонка?
– Сбежала. И ты беги!… Пока зовут.
Они как–то одновременно повернулись ко мне спиной и заспешили в сторону электричек. А я не могла даже сказать спасибо. Я стояла, обхватив руками голову, крепко сжимая её, чтобы она не лопнула от всего услышанного, и долго не могла почувствовать, что кто-то трясёт ремешок моей сумочки. Наконец, до меня дошло присутствие ещё кого-то в этом кошмаре, и я оглянулась.
Старый цыган кивком пригласил меня следовать за собой, и я повиновалась. Мы прошли несколько улочек, зашли в какой-то дворик, поросший буйной растительностью. В дальнем углу находилось что-то, показавшееся мне сараем. Но я ошиблась, это была маленькая кузница. Цыган порылся в каких-то лохмотьях и достал паромасляный свёрток. Он протянул его мне. Я взяла. Развернула.
Кинжал в потертых кожаных ножнах, довольно крупный, похожий на детский меч, с лезвием, покрытым характерными змеистыми узорами, свободно поместился берестяной рукоятью в моей руке, как будто узнал её.
– Он сказал, – пора вернуть.
Я молча переводила взгляд с цыганского лица на лезвие и обратно.
– Ещё он сказал, что у него всё хорошо. А Вам пора. Да и мне тоже.
Я ещё успевала на обратную электричку.
Несколько часов пути назад в полупустом вагоне были сейчас более чем кстати. Я не собиралась обдумывать то, что услышала от цыганок – мои мысли вряд ли бы что-то прояснили, скорее наоборот. Я решила принять полученную информацию, как факт, не требующий доказательств и как руководство к действию. У меня было много способов уйти в свои фантазии. Сейчас можно было, например, представить себе стук колёс, как шум дождя. Но колёса не стучали, а как-то скрежетали по рельсам. К тому же дождя тоже не было. Там, куда я стремилась, не было сейчас дождя. Я растерялась. Всегда было очень легко попасть в мир, который считался собственными грёзами: где угодно, в любой момент. Теперь я как будто стояла перед запертой дверью собственного дома с ключами в руке. Но кто-то сменил замок. Здесь некто был до меня и счёл моё убежище своим. Я нашла этот мир, я приспособила его, достроила и собиралась жить-поживать…. И вдруг мне стало смешно – перед глазами возник красочный теремок из детской сказки. Что же мне теперь кричать: кто–кто в теремочке живёт? Я – не мышка-норушка и не лягушка-квакушка, а я рыбка-береговушка. Слава Богу, не медведь Тедди.
Пару часов я билась с этой дверью. Электричка неслась к Петербургу, пассажиры так удачно дремали, даже динамик молчал, а у меня ничего не получалось. Я не могла вспомнить, как выглядят мои герои, я забыла лицо Риголла, и это ужасало. Часам к семи вечера я была в городе. Вокзал как будто проигнорировал моё появление. Дескать, иди себе мимо, домой иди, некогда мне тут с тобой – вон, сколько народу, в Крым да на Кавказ собрались. А тебе уже никуда не нужно. С чего ты взял? Ладно, я поспешила выйти на Гончарную. Пять минут, и дома. Только не хочется. Я не готова сейчас видеть своих соавторов. А тем более что-то придумывать про Распутина. Но и Невский меня не привлекал. И я побрела по Лиговскому в сторону Обводного канала, стараясь просто не о чём не думать, ничего не желать. Мимо Перцевского дома, мимо какого-то отеля, которого здесь раньше не было, мимо решётки Сангальского садика, в ворота, в садик, к костру, на котором дворники сжигали обрезки или обломки тополиных веток и несколько запоздавший в этом году пух. Я уставилась на огонь и подумала об Олафе, о том, что это его стихия и что он, наверное, любит смотреть на костры так же как я на воду. Но до воды далеко, а огонь – вот он. Танцует. Он всегда танцует, когда он есть. Или мы видим его только во время танца. Я подняла ветку, до которой хотело дотянуться пламя, но ему не удавалось, и оно тут же лизнуло пожухлые листья, как бродячий пёс угощение. Огромный рыжий неприрученный пёс хрустел костями дерева, повиливая множеством своих хвостов и сверкая множеством своих глаз, в которых….
Горел великий огонь короля. И праздник был в самом разгаре.
Теперь повсюду, по всей холмистой долине пылали костры, зажжённые от царского пламени. После того как были принесены жертвы богам, можно было и людям приступить к трапезе.
Дану не хотелось смотреть, как сжигают первенцев домашних животных, и она не понимала Риголла, принимавшего в этом участие, как он ни старался объяснить ей тайный и важный смысл жертвы. Ей было просто жаль отчаянно мычащий и блеющий молодняк. «Им больно и страшно» думала она – «и они ничего не думают о будущей жизни. Наверное, так же жестоки боги по отношению к нам, людям. Они знают, что потом всё будет хорошо, а мы знаем, что нам сейчас плохо. А может быть, если бы мы не приносили этих жертв, то и нами бы не жертвовали». Она испугалась своих мыслей. Ей очень хотелось поговорить с кем-нибудь. Хотя бы с подружкой, но это было невозможно. И она стояла в одиночестве, издали наблюдая за общим весельем, пока не услышала за спиной хрипловатый голос Олафа.
– Пойдём.
Она не отреагировала, даже не обернулась.
– Ты не хотела смотреть, как сжигают ягнят?
Она кивнула.
– Ясно. Уже всё кончилось. Ты потом поймёшь и привыкнешь.
Она замотала головой, давая понять, что никогда не поймёт этих жертвоприношений.
– Знаешь, а ещё недавно кельты сжигали людей.
Риголл ей рассказывал, что это было не так. Существовал такой выразительный образ в их друидских историях, чтобы усилить впечатление. И она взглянула на Олафа с усмешкой.
– А вдруг он просто пожалел тебя. Риголл. Чтобы тебе было не очень страшно с нами.
Дану повернулась к Олафу спиной, давая понять, что ей не интересен этот разговор.
– Прости, пожалуйста. Просто уже готова еда. И скоро начнутся танцы. Ты обещала. И… больше никого сжигать не будут. Наверное.
Она не выдержала и улыбнулась, а он покраснел. Ей, конечно, было немного приятно, что он стоял рядом с ней и ждал и боялся, что она откажется идти с ним. Этот юноша считался самым красивым, сильным и умным среди сверстников. И все девушки были в него влюблены. Дану это знала. И ещё она знала, что вызывает зависть даже у своей подружки. А это было плохо. Она взглянула на Олафа, стараясь лучше разглядеть его лицо: не только глаза: глазам она научилась не верить ещё у цыган. Она всматривалась в складки его губ, в мимику, посмотрела на его ладони. «А ведь это не любовь» – подумала она с облегчением – «это что-то другое. Возможно, я нужна ему, потому что не такая, как остальные кельтские девушки, потому что меня считают почти богиней? Это…» – она вспомнила слово, которое знала только по-кельтски – «это – тщеславие молодого воина, будущего правителя. И ещё немного страсти». Слово «страсть» она пока знала только по-цыгански. Она снова кивнула Олафу и зашагала в сторону костров.
Они вместе подошли к главному пиршественному столу, где сидели правители и друиды. Он был огромный, умело и быстро сколоченный из цельных стволов деревьев и ломился от обилия еды. Дану такого ещё никогда не видела. Здесь были орехи, ягоды, мёд, сыр, варёное и жареное мясо, рыба и ещё какие–то варева и жарева, незнакомые Дану. Она увидела верховного короля, который самозабвенно поглощал огромный свиной окорок. Поймав её взгляд, он на секунду задумался, потом узнал её и радушно закивал. Рядом с королём справа от него сидел Риголл. На блюде перед ним тоже лежала гора какой-то снеди, но он держал в руке кубок и ничего не ел, а смотрел куда-то, задумавшись. Дану стало трудно дышать – ей захотелось к нему так сильно, но было нельзя, и это злило её. Она ждала, что он увидит её, как король, кивнёт ей, но он не замечал, казалось ничего вокруг себя, поглощённый своими мыслями. Она попыталась понять, куда он смотрит и оглянулась, чтобы проследить за его взглядом, но кроме сгущающейся темноты ночи, там ничего не было. И только, когда она резко повернула голову назад, то увидела на одно мгновение, его лицо, которое в этот момент было обращено к ней, только к ней… Он медленно опустил веки и снова отвернулся. Без улыбки, без кивка. Невыносимо понятно. Всё понятно. Настолько, что всякая еда и питьё теряет смысл, как и любые другие проявления жизни. Она не может ошибаться. Он…. Нет, этого просто не может быть. Потому что она так сильно этого хочет. Скорее всего, она ошиблась. «Посмотри, пожалуйста, посмотри сюда ещё раз. Я здесь. Если тебе не всё равно, если…» Король о чём-то заговорил с ним, и он, улыбаясь, закивал тому в ответ.
Она понимала, что может выдать себя тем, что постоянно смотрит на Риголла, ловит каждый его взгляд. «Ну и что. Почему я должна скрывать это? Что страшного в том, что я люблю и хочу быть с тем, кого люблю». Она думало о том неосторожном обещании, которое дала Олафу по незнанию. Почему люди вообще должны выполнять любые свои обещания? Даже если всем от этого только хуже. Даже, если они порождают ложь, притворство, убивают чувства, все чувства. К тому же, как быть, если она и подруге пообещала, что постарается что–то сделать, чтобы Олаф остался свободен. Какое обещание теперь главней? Тогда она подумала, что самое главное это то, в чём она поклялась себе. Потому, что в клятве себе невозможно обмануть.
– Дану! Пойдём танцевать! – Весёлая компания молодых людей и девушек, её товарищей по учебе уже поднялись со своих скамей.
– Пойдём! У нас здорово получится. Слышишь, какая музыка? Неужели можно усидеть на месте? – подруга взяла Дану за руку.
– Ты мне обещала. – Олаф стоял прямо позади неё. Он слегка коснулся плеча девушки, и она вскочила, как дикое животное, готовое к обороне.
– Извини. Я просто хотел…. Пойдём?
Она оглянулась на Риголла, беседовавшего с королем.
– Танцуйте, молодёжь! Веселитесь! Выбирайте себе пару побыстрей, пока вас никто не выбрал из Другого мира. Будем играть свадьбы. У вас впереди семь ночей. Поднимем же кубки по одному за каждую! – и король сам встал из–за стола, поднимая высоко над головой огромный кубок, наполненный хмельным мёдом. Риголл поднялся рядом с ним, он улыбался Дану и всем остальным своим ученикам.
– Ну, давай. Чего ты ждёшь? – подруга снова тянула её за собой. – Или ты хочешь пригласить танцевать самого верховного жреца? Это ещё никому не удавалось.
Разумеется, такая фраза для Дану могла быть только руководством к действию. Она обошла огромный стол и направилась прямиком к Риголлу. И ей была абсолютно безразлична та тишина, которая сопровождала её сейчас, и она не видела удивлённых взглядов, устремлённых на неё. Она просто встала перед своим учителем и слегка кивнула. Он спокойно снова поднялся со своего места, взял её за плечи, как это делал раньше, когда пытался объяснить ей какие–либо её ошибки, улыбнулся и чмокнул в лоб:
– Иди, дитя. Ты вполне заслужила праздник. Олаф ждёт тебя.
Она продолжала смотреть на него и не уходила. Тогда он нагнулся к её уху и прошептал:
–Пожалуйста. Мы не можем танцевать с тобой, хотя я не против. Но ты должна идти с Олафом. Я потом подойду посмотреть. С королём.
Она поняла, что сейчас проиграла, что поступила глупо, и что ей ничего больше не остаётся, как идти со всеми остальными и ждать, когда её возлюбленный соблаговолит явиться и вскользь взглянуть на неё и на её товарищей. Тогда она решила тоже улыбнуться, скопировав холодноватую мимику Риголла как можно точно, и чмокнуть верховного друида при всех в щёку, почти коснувшись края губ. Как она и рассчитывала, её поступок вызвал приступ безудержного веселья у короля и некоторое замешательство у друида. Всё-таки она не была кельтской девушкой. Никто толком не знал, кто она, и откуда взялась, поэтому некоторая недозволенная для её подруг вольность ей прощалась. Особенно на празднике, особенно после фокуса с дождём. А вдруг и в самом деле богиня?
Она опять решила ждать. Ждать ночи, когда сможет остаться с ним наедине. У неё уже было желание заговорить, попытаться объяснить Риголлу, что не может стать женой Олафа. Но она боялась. Она долго думала, почему кельты так ценили то, за что её ненавидели цыгане. Она решила, что вероятно, в том и была её страшная вина, её порча, как говорила бабка, что она могла договориться с дождём и ветром. Только там, в таборе она и не пыталась это сделать. Просто дождь и ветер сопровождали её повсюду. «Это», она думала «от того, что она снится рыбе, и рыбе без воды сна не увидать». Ещё она думала, что чувствуют те, кто ей снятся? И почему Риголл, который с ней так нежен в её грёзах, так…, она стеснялась вспоминать некоторые свои сны…., Наяву он совсем другой. Может быть, всё-таки заговорить? А, возможно, всё дело в том, что она сейчас молчит? И цыгане гнали её, и отец бил именно за игры с дождём, потому что она была обыкновенной, как все, только порченной. А здесь она другая, она молчит, она может лишь звучать, как ветер и дождь, и если, она заговорит, Риголл тоже прогонит её. Ей стало страшно. И она стала думать про страх, который мешает делать то, что необходимо сделать. Что страх не даёт нарушить ошибочные обещания, не даёт заговорить с тем, с кем необходимо заговорить, не даёт открыть свои чувства. И не важно за кого: за себя и свою жизнь, или за другого – это всё равно страх. Это ловушка для свободы. И она решила перестать бояться, набраться смелости и однажды ночью, ближайшей ночью заговорить с Риголлом.
Эти несколько ночей и дней, когда не нужно было ничего запоминать на уроках друида, когда не нужно было сосредоточенно думать над его заданиями, мысли Дану были предоставлены ей в личное пользование. Об этом она тоже подумала. А так же и о том, что думать, благодаря занятиям со жрецом, она научилась по–другому. Теперь её сознание, она знала это хорошее слово, не прыгало от одного к другому, как мелкая птица по веткам в поисках мухи, теперь она умела контролировать свои мысли, концентрировать их, и иногда происходили очень странные вещи. Ветер с дождём стали более послушны. Отвары из трав, приготовленные ею, если она очень старалась, были более действенны, чем раньше. Конь иногда приходил на её мысленный зов. Она попробовала во время разговора с подругой, точнее, когда та говорила возбуждённо об их замечательных танцах, а Дану только кивала головой или пожимала плечами, начать мысленно представлять себе дождь. И вдруг подруга взглянула на Дану внимательно и спросила:
– Ты ещё можешь его задерживать? Тебе не сложно? Осталось два дня. Завтра очень важно.
Нет, ей было не сложно. Более того, она знала, точнее, догадывалась, что можно сделать, как помочь всем и себе в том числе. Нужно было начать думать. Думать об Олафе не как о своём враге, пытающемся завладеть ею, Дану, против её воли, а как о счастливом женихе её подруги. Думать о Риголле…. О, Господи, да она всё время о нём думает, и ничего не получается. Он любит её, как дитя, как ученицу или, что ещё хуже, как дочь. Лучше бы вообще не любил. Было бы проще, наверное. Она нащупала ягоды омелы и дурмана, спрятанные в мешочке на поясе под цыганским платком. Можно сварить два отвара. Для Олафа – эликсир забвения, как учил друид и для Риголла – зелье, которое варила старая цыганка, не её бабка, а другая, которая, как говорили в таборе, и погубила мать Дану. Она видела, что становится с мужчиной, выпившим это, как он меняется, перестаёт быть самим собой и всё, чего он желает…. Разве ей нужен такой Риголл? А потом, когда она добьётся своего колдовской ценой, он рано или поздно всё равно поймёт, что она сделала, и возненавидит её, как бы и она возненавидела любого, совершившего над ней такое насилие. Но, главное, это будет уже не совсем Он, не тот, кого она любит. «Нет! Никогда!», мешочек развязался, и трава чуть было не просыпалась прямо Дану под ноги при всех во время танца. Она ухватилась за бок рукой, придерживая пояс, и бросилась бежать в темноту прочь от костра, от танцующих и поющих, к лесу, где можно всё это выбросить, а лучше зарыть с обещанием никогда не варить приворотного зелья.
Отбежав порядочно, так, что её точно не возможно было разглядеть среди кустов жимолости и лещины, она остановилась. Увидев неподалёку высоченный дуб, Дану решила, что это самое подходящее место для её личного маленького таинства. Она опустилась на колени перед дубом, который в мыслях олицетворяла с любимым учителем, с друидом, как, впрочем, он сам её и учил.
– Прости меня, прости мне даже то, что я могла подумать сделать такое. Пожалуйста, помоги мне. Скрой эти ягоды, пусть они исчезнут среди твоих корней вместе с моим желанием получить любовь обманом. Пусть сгниют, пусть у любой, что попытается сварить такое зелье, ничего не получится, никогда. Я просто хочу, чтобы он любил меня. Слышите, боги и все обитатели других миров? – просто любил. И был свободен, как… – она задумалась и вдруг неожиданно для себя прошептала – Как сама любовь.
Потом она стала рыть землю руками, чтобы спрятать грешные ягоды, траву и коренья. Она вырыла отдельные ямки для омелы и дурмана. Подальше друг от друга, «чтобы не знали дороги», закопала, разровняла землю, присыпала сверху увядшей дубовой листвой и только после этого, успокоившись, поднялась и отряхнула с подола приставшие комочки земли и обрывки листьев. Потом она подошла и обняла дуб и прижалась к нему всем телом, как к мужчине. Её тело дрожало, она никак не могла оторваться от шершавой коры дерева, тёплой и сухой. Ей казалось сейчас, что этот дуб придаёт ей сил и вселяет уверенность, что всё будет, как она хочет. Рано или поздно. Нужно только подождать. Немного подождать.
– Дану!
Она никак не ожидала услышать сейчас здесь этот хрипловатый басок.
– Я искал тебя всюду. У тебя всё в порядке? – Олаф подошёл к ней, почти вплотную.
«Нет, Олаф. У меня не всё в порядке, когда ты так близко»
Олаф слегка покачнулся и чуть не потерял равновесие. Он сделал шаг назад.
«Хорошо, Олаф. Я не твоя невеста. Твоя невеста ждёт там, где все танцуют. Она скучает. Иди к ней, Олаф»
– Пойдём. Там светло. Весело. Пойдём со мной. Скоро и наш с тобой праздник. И тогда. Тогда мы сможем побыть вдвоём. Только вдвоём. Если ты не против, Дану?
Он попытался внимательно рассмотреть её лицо, но она отвернулась и быстро зашагала в сторону весело пляшущих костров. Нужно было набраться терпения и праздновать со всеми конец лета и начало новой жизни.
Эти дни были похожи на бесконечный танец, отчаянный, необузданный. Полный смутного предчувствия и ожидания. Постоянное, непрекращающееся ни днём, ни ночью, застолье сопровождалось неистовыми плясками, песнями, играми, потасовками, примирениями и всевозможными шалостями и вольностями. Можно было подумать, что действительно открывается сид, и мир наполняют всевозможные существа, и их уже не отличить от людей, или же людей от демонов, богов и прочего населения другого мира. Дану была свидетелем попытки ритуального умерщвления короля, которого попытались утопить в бочке с вином, но, то ли вина там уже почти не было, то ли славный правитель умудрился выдуть оное в процессе утопления, но попытка провалилась. Тогда сюзерена буянящего и ломающего члены своим мучителям поволокли на костёр и, возможно, сожгли бы там заживо, если бы не вовремя подоспевший верховный друид, сумевший усмирить пламя и вытащить слегка подшпаренного владыку, который, впрочем, тут же уснул, свернувшись калачиком на медвежьих шкурах, расстеленных на земле рядом с огнём.
Она видела кельтов, затеявших охоту друг на друга с настоящим боевым оружием. Эту игру никто не думал останавливать, она так и длилась два с половиной дня, то есть ночи, пока один из охотников не подстрелил дичь, и та, счастливая, умерла, смеясь. Дану не знала, куда дели тело, она была в ужасе. Но Олаф объяснил ей, что ничего страшного не произошло, что убитый, скорее всего, уже где-то возродился снова и что в такие дни умирать вообще одно удовольствие, если у тебя, конечно, нет других планов.
Она видела музыканта, который несколько суток не прекращал играть на своей арфе, и было совершенно не понятно, как он обходится без сна. Иногда к его губам подносили кубок с мёдом, он останавливался на мгновение, делал глоток и продолжал игру. Дану подошла поближе и заметила, что глаза его закрыты, что он сидит почти, не шевелясь, и только руки ласкают арфу, и та издаёт свои божественные стоны.
Он спит, объяснили ей, он настолько хороший музыкант, что нет разницы в его игре во сне и во время бодрствования. Однажды он так играл две недели, пока не проголодался очень сильно. Тогда он проснулся, поел, как следует и перестал играть. «Нет музыки на сытый желудок» – были его слова.
Ещё её удивляли танцы. Мужчины и женщины, юноши и девушки становились в ряд, брались за руки и танцевали одними ногами. Ей не сразу удалась эта странная пляска, но, когда она смогла почувствовать её, то поняла, что в этих совместных, синхронных движениях страсти не меньше, чем в диких плясах её народа.
Но особенно ей понравилась одна игра, в которой она долго не могла принять участие. Называлась она «озарение песни». Кто-то приносил какой-то неизвестный предмет или часть чего-то или задумывал что-то. Другой игрок должен был взять прутья, положить их на этот предмет или коснуться ими лица того, кто задумал, быстро сочинить четверостишие, спеть его и принести небольшую жертву богам, например, бросить бусину в костёр. Как правило, загадка сразу разрешалась.
– Дану, поиграй с нами. Давай. Загадай что–нибудь!
Она согласилась. Она видела, как загорелись глаза Олафа, и как насторожилась её подруга.
– Ты можешь задумать, чтобы кто-то сделал что-то – тихо произнёс Олаф – а я узнаю, что ты хочешь.
Она кивнула. Это было то, что нужно. Она была уверена, что Олаф прочтёт её мысли сам или при помощи песни, не важно. Она постарается, чтобы он понял её верно.
Они встали друг напротив друга. Олаф поднял изящные, лишенные мелких веток и листьев прутья боярышника и нежно провёл ими по щеке Дану. Потом он закрыл глаза и запел:
– Упавший луч Луны
В воде сломался весь
Я слышу всплеск волны
И древней рыбы песнь.
Вдруг он остановился, замер, потом подошёл к Дану очень близко, чтобы никто не мог услышать его слова:
– Зачем?
Она смотрела прямо ему в глаза и думала: «Сделай это. Она твоя невеста»
– Ты – моя невеста.
«Так не должно быть. И ты это знаешь. Она была твоей невестой до того, как Риголл нашёл меня. Она твоя, а я его»
– Она ещё не была моей невестой.
«Должна была стать. Сделай это»
Ребята вокруг стали терять терпение.
– Эй, Олаф, что за ерунду ты пел про рыб? Ты понял, что нужно делать?
Олаф кивнул. Он отступил на шаг от Дану и, не сводя с неё глаз, громко произнёс:
– Дану хочет, чтобы я танцевал рядом с Ингрид, её подругой. Так ведь? Ты ведь этого хочешь? Правда?
Она молчала.
– Так, Дану? Он угадал? – послышались голоса со всех сторон.
Она посмотрела на подругу и, увидев мольбу в её глазах, улыбнулась.
– Здорово! Танцевать, а потом снова….
Теперь всем хотелось разгадывать молчаливые загадки Дану.
– Я хотел придумать другую песню. Ведь это были не мои слова – тихо прошептал Олаф, пока остальные скакали вокруг них, выражая восторг. Дану пожала плечами.
– Что ты хочешь?
Она посмотрела в сторону Ингрид.
– Ладно. Мы будем танцевать. Но остальное….
Она отвернулась от него.
– По-моему, ты просто капризная девчонка!
Она решила не реагировать.
Весь вечер и ночь Олаф к удовольствию Ингрид танцевал только с ней.
А утром начался последний день праздника. И Риголл нашёл Дану и сказал:
– Пойдём.
Ей не понравился его тон, отрешённо доброжелательный. Она попыталась остановить его, чтобы он объяснил ей, в чём дело. Но он итак начал говорить на ходу, не глядя на Дану.
– Пора, моя девочка. Родители Олафа готовы. Как я понимаю, он тоже. И ты. Сегодня последний день. Всем будет приятно закончить этот праздник свадьбами. Новая семья вернётся в этом году в нашу деревню. И ты будешь жить в его доме, а не в моей землянке отшельника.
Она шла рядом с Риголлом. Тело послушно двигалось, она как будто всё чувствовала, но как-то издалека. Это всё происходило не с ней, не может Риголл выдавать её замуж. Наверное, она так устала от этого праздника, что уснула где-то у огня и ей снится страшный сон. Потом её разбудят, и всё кончится.
Недалеко от центрального костра собралось уже всё семейство Олафа, король и его семья и ещё какие-то люди, и Ингрид, в глазах которой она увидела боль и отчаяние, как в отражении в застывшей воде. И потом, когда она стояла перед королём и ещё где-то, она не понимала, что происходит вокруг и видела только глаза Ингрид.
Потом был последний пир, прощальный, свадебный и танцы. И вот, когда зазвучала музыка, особенно весело и неистово, Дану ожила.
Она вышла в круг перед костром, оглянулась, увидела Риголла с его неизменной печальной улыбкой и взмолилась:
«Пора, пора, ветер, пёс мой. Мчись по свету, по тьме, по сумеркам, найди моего многоногого, многогривого скакуна. Пусть летит ко мне, пусть топчет землю и всё, что на ней. Пусть выбивает искры пламени своими копытами. Ветер и дождь, освежите меня, напоите меня, дайте мне сил».
Резко поднявшийся вихрь рванул подол её платья, обнажив стройные ноги, готовые к бешеному танцу, какого здесь не видели. И, когда в такт музыке ударил гром, она развязала цыганский платок, развернула его за спиной, расставив руки в стороны и пошла по кругу, ведя плечами, так начинался древний цыганский танец.
А через мгновение ливень стал её партнером. Он обнимал её тело, делая прозрачными её одежды, он сплетал в косы мокрых жгутов её распущенные волосы и смывал грязь с её босых ног. Музыканты не могли остановиться и самозабвенно играли эту незнакомую мелодию дождя. Когда же, спустя, неизвестно, сколько времени: час или день, танец закончился, дождь слегка поутих, Дану в изнеможении упала в объятии Риголла, и тот бережно передал её Олафу. Она так и не увидела восторг и вожделение в глазах всех собравшихся мужчин и другие, но не менее сильные чувства на озябших, промокших лицах женщин.
А дождь и ветер продолжали свою оголтелую пляску, втаптывая в землю ослабевшее пламя костров, остатки праздничных трапез и разорванные одежды деревьев.
В небольшом помещении, куда Олаф принёс свою невесту, было относительно светло от огня смоляных факелов, воткнутых в специальные углубления в бревенчатой стене. Здесь было тепло и сухо. Вдоль стен стояли несколько небольших дорожных сундуков, а посредине слегка возвышался над земляным полом огромный бревенчатый настил, покрытый шкурами. Это было место для сна, как догадалась Дану. Олаф опустил её на шкуры, и она моментально вскочила, озираясь по сторонам в поисках выхода.
– Не бойся. Это наше место на сегодня. Сам король пригласил нас сюда. Никто не войдёт в двери, пока мы сами не выйдем.
Он обошёл вокруг ложа, встал напротив Дану и начал медленно отстёгивать пояс с мечом. Сняв его, он положил оружие на один из сундуков. Потом нерешительно взглянул на девушку и приподнял подол своей рубахи. Немного подождал, но всё-таки сдёрнул одежду, обнажив свой безупречный мускулистый торс.
– Что же ты стоишь. Раздевайся. Или ты хочешь, чтобы я помог?
Дану испуганно замотала головой.
– Тогда сама. Твоя одежда промокла. Лучше сними её. Ты такая красивая….
Он не успел договорить. Дану резко отстегнула ремень, на котором был привязан меч, и подняла оружие над головой.
– Стой! – Олаф быстро схватил свой клинок и направил его в сторону Дану.
Она усмехнулась, а потом приставила остриё к своему горлу и посмотрела в глаза Олафу.
«Видишь. Какова твоя любовь. А я бы даже не пошевелилась, если бы мой возлюбленный сделал, как я»
– Что ты хочешь? Ты же не сказала «нет»! Ты приняла мой дар. Ты была согласна!
«Но меня никто не спрашивал. «Да» я тоже не говорила. А меч…. Это была моя ошибка, и я возвращаю его тебе».
И она бросила клинок на ложе в самый центр, так, что он оказался посредине, между нею и Олафом.
– Что ты наделала? Зачем? Мы бы могли любить друг друга! А теперь…. Разве ты не знаешь, что это значит?
Она знала. Она слышала от Риголла об этом обычае кельтов, и теперь чувствовала себя в полной безопасности, считая Олафа честным парнем, почитающим законы своего народа. И совершенно справедливо. Она опять пристально посмотрела ему в глаза. Как ни странно, он как никто другой умел услышать её мысли. Вероятно, потому что хотел. Если бы не Риголл, она бы, конечно, могла полюбить Олафа, к несчастью Ингрид. Но сейчас…. Сейчас нужно молча объяснить этому парню, почему она не хочет и не может принадлежать ему.
Почему она раньше не сделала этого? Надеялась, что её возлюбленный не допустит свадьбы? Но он допустил. Он сам это всё устроил. Об этом она будет думать, но позже.
«Олаф» – она подошла к нему. Он стоял, подняв голову, опустив руки, в которых всё ещё был зажат меч и не шевелился. Его глаза были закрыты. Дану тихонько дотронулась до его ладони кончиками пальцев. Он отдёрнул руку и взглянул на неё.
– Хорошо. Давай, если можешь, как там, на поляне, когда я при всех спел твою дурацкую песню, объясни мне. Только,… сядем.
Они опустились на шкуры по разные стороны от брошенного Дану меча.
– Начинай. Я попробую услышать.
«Я люблю другого мужчину»
– У тебя кто-то был? Это ерунда, если дело только в этом…
«Нет, не было. Я сейчас люблю. И всегда буду. Пока живу и в следующей жизни. Во всех жизнях»
– Кто он? Ну, да, конечно, ты не скажешь. Он кельт?
«Да. Но не смей даже пытаться угадать его имя»
– А он любит тебя?
«Не знаю. Похоже, что нет. Но для меня это не имеет значения. Если он не хочет, я не буду требовать его внимания»
– Ты пыталась объяснить ему?
«Мне кажется, я давала понять, но он не…, наверное, не хотел понимать»
– Ерунда, он ничего не понял. Или…. Или он любит другую?
«Вряд ли. Я бы почувствовала. Хотя, надо проверить. Но дело не только во мне. Дело в тебе и Ингрид»
– Ингрид? Ингрид не моя.
«Почему ты так решил?»
– Ингрид слишком красива.
«А я не слишком. То есть, как раз для тебя»
– Я не то хотел сказать. Ингрид я знаю давно. Даже был влюблён в неё до тебя. Но она…. Это девушка для короля или его сына. Мне показалось, хоть ты и чужая, хоть в тебе и живёт богиня, но ты…. Нет, не то….
«Я просто другая. И ты увлёкся новизной. А теперь пытаешься оправдать свою ошибку!»
Олаф уставился на Дану в полной растерянности.
– О, боги! Что нам делать теперь?
«Я уйду»
– Нет, Дану. Куда ты пойдёшь? Нам нужно потерпеть год, а потом мы можем расстаться. Только год. До следующего Самайна.
«Ты сможешь терпеть это целый год? А Ингрид? Она тоже может не выдержать, и будет ещё одна ошибка. А тот, кого я люблю, возможно, никогда не поверит мне или не дождётся. А я? Я не смогу!»
– Куда ты пойдёшь?
«Не важно. Сейчас ты ляжешь спать, а утром меня уже не будет. Скажи им что угодно, что положено говорить в таких ситуациях, чтобы ты стал свободен и женись на Ингрид»
– Ничего я не стану говорить такого. Скажу, что…, что ты не хотела быть моей женой, а я не желаю овладевать тобой силой. И если Ингрид это не смутит, предложу ей… быть вместе…. Потом. Сейчас я ещё не понял до конца. Ты свободна, Дану. Какие мы все дураки!
«Ложись и засыпай. Ты мой единственный друг сейчас. И так будет всегда»
– Прощай, Дану, прощай, друг. Найди свою любовь и… стань его любовью.
Она дождалась, пока Олаф уснул, и бесшумно выскользнула наружу к ветру и дождю, которые радостно окутали её влажной дымкой, чтобы никто не смог разглядеть крадущийся в темноте стройный силуэт. Она пробралась в жилище, где они иногда ночевали с Риголлом, но его там не оказалось. Ни его, ни его вещей. Друид уехал сразу, как передал Дану Олафу. И это очень обрадовало девушку. Снова очутившись под дождём, она стала думать о своём коне, и вскоре услышала осторожное цоканье копыт по размокшей земле.
– Можно я стану считать тебя свадебным подарком?
Конь закивал своей серебристой от капель дождя головой и тихо ржанул.
– Тс! Никто не должен нас видеть и слышать.
Через мгновение всадница растворилась в пелене мелкого дождя.
Дану возвращалась в лес, в жилище Риголла. Ей предстояло два дня пути. Но и она, и конь прекрасно знали дорогу, а дождь и ветер могли спрятать их и от диких зверей и от любых других врагов.
Ночь она продремала на спине тихо трусившей лошади, а утром остановила коня, чтобы он мог отдохнуть немного, напиться из ручья и пожевать последней, ещё не пожухлой травы, задержавшейся среди древесных корней. К тому же ей нужно было решить два вопроса. Немного подумав, она выбрала «песнь озарения».
Поскольку приложиться прутьями было не к чему и не к кому, она воспользовалась другим способом, подсмотренным у жрецов.
Мерно покачиваясь в такт приплясывающему дождю, она положила в рот большой палец руки и затянула нечто среднее, между «а», «о» и «у». Потом родилось положенное четверостишие-вопрос:
– Мы немы, немощны и глухи,
Мы слепы без своих начал.
О, Боги, нелюди и духи,
Скажите, кто меня зачал?
Она ничего не почувствовала. Тогда она открыла глаза и огляделась вокруг. И тут Дану увидела среди почти голых ветвей колючих кустов застрявший лист дуба. Значит, дерево было недалеко. Дуб в окружении боярышника – это именно то, что нужно. Через минут десять она его увидела на берегу ручья, где пасся её конь. «И незачем был лезть в чащу. Ведь сразу приехали, куда нужно». Она даже рассмеялась, заметив на дубе дремлющую омелу. Теперь всё получится. Более всего она боялась увидеть сейчас Риголла. Она понимала всю нелепость предположения, что тот может оказаться её отцом, но на всякий случай, следовало знать.
Встав под деревом, она сосредоточилась и повторила свою попытку. Опять безрезультатно. Что-то она делала не так. Очевидно, нужно было придумать новое четверостишие, и, ах, да жертва. Маленькая жертва.
Она снова обхватила одной рукой дуб, прикусила зубами большой палец другой руки и запела:
– Я принимаю этот мир
Его начало и конец
Вода, огонь, земля, эфир,
Скажите, кто был мой отец!
Пропев песнь, она сильно сжала зубы и прокусила свой палец до крови. Потом она вынула его изо рта и поднесла к ягодам омелы. И, когда белое стало красным, дождь разорвался на облака перед её глазами. Где-то сверкнули молнии, очень близко к её рукам, ветер взвыл, как пёс, потерявший хозяина. И она увидела с ужасом для себя высокого мужчину со светлой длинной бородой и горбатым носом. «Не может быть!» – кричала её душа! «Это неправда!» «Действительно неправда!» Это был не Риголл! Очень похож, но не он. Она даже вспомнила: однажды, когда была жива её мать, он приходил и приносил подарки всему табору. И был праздник, который закончился ужасной дракой, потому что её приёмный отец чуть не зарезал этого человека, а мать помогла ему, этому монаху…. Да, это был сумасшедший монах, принесший цыганам новую весть про единого бога и его сына….
– Спасибо тебе, Бог, которого я не знаю! – крикнула Дану, и её конь заржал в ответ.
Другого вопроса она решила не задавать. По крайней мере, прямо сейчас. Она так устала за последнюю неделю от праздников, от сомнений, от принятых решений и от мыслей, бесконечно бодрствующих в её голове, даже во время короткого отдыха, что хотела только одного: нескольких часов сна в одиночестве. Под корнями дуба она нашла довольно глубокую нору. Хозяина не было, зато было всё приготовлено для того, чтобы можно было согреться и забыться. Дану забралась как можно глубже, свернулась калачиком на сухой подстилке из листьев и закрыла глаза. Всё было хорошо. Она узнала достаточно, чтобы сделать задуманное. А сейчас только спать. Но не получалось. Она перевернулась на другой бок, потом ещё раз, потом решила немного подумать специально о чём-нибудь приятном. Например, помечтать о встрече с Риголлом. Иногда такие немного смущающие, предназначенные исключительно для личного пользования, грёзы помогали довольно быстро окунуться в мир снов. Она вспомнила его лицо, руки, а потом и слова Риголла, произнесённые на одном из уроков о том, что в жизни каждого человека наступает момент, когда он может получить ответ на любой вопрос, не прибегая ни к каким заклинаниям, оракулам и гаданиям. Нужно просто почувствовать и понять, что ты хочешь узнать на самом деле, что важно только для тебя. И глаза её мгновенно открылись. Ну, что ещё?! Любит её Риголл или нет, сейчас не важно. Она ему не безразлична, а остальное решится. Семья, где она родилась, тоже больше не волновала её. Ах, да – её вина…. Но ведь, Риголл ей всё объяснил, и её вполне устроили его объяснения. К тому же, порча или особенность, проклятье или дар, всё равно, это перестало быть главным вопросом. Это больше не мешало жить. Тогда, что?
Она перевернулась на спину – всё тело ныло, оно нуждалось в покое, оно было истерзано мыслями, как будто избито прибоем. Как будто она была рыбой, слишком неосторожно подплывшей к самому берегу и выброшенной рассерженной волной на песок в наказание. Но что-то или кто-то поднял скользкое тело и снова уронил его в океан. Так что было хорошо, но ещё немного больно и беспокойно.
И она увидела эту рыбу, как отражение в воде.
– Кто ты?
– Я – ты.
– Я твой сон?
– Я – твой сон.
– Как же может присниться то, чего ты не знаешь?
– Как же можно придумать, создать то, что есть?
– Ты была до меня.
– Я буду и после, когда ты будешь снова.
– После. Это в другой жизни?
– Другой жизни не бывает.
– Что же такое смерть?
– Это конец строки вечно поющейся песни озарения, чтобы не терялся смысл.
– Чтобы начать другую строку?
– Чтобы продолжить.
– Но почему рыба?
– Я тоже спрашиваю, почему человек?
– Почему дождь?
– Почему ветер?
– Почему огонь?
– Почему сон? Чей? Или мы все этого сна?
– А он наш.
– Наш, а мы его….
Волны баюкали её тело. Корни дуба с землёй укрывали её от дождя. Чтобы он не мешал ей спать. Огонь согревал её руки….
Пламя, обрушившееся на ветку в моей руке, подобралось к самым пальцам, и, обжегшись, я потеряла из виду и Дану и рыбу. Я не получила ещё ответа! И я взяла ещё одну ветку и протянула её огню. Он согласился…
Она проснулась от глухого стука и от того, что мелкие комочки земли ударили её по щекам. Это конь бил копытом у входа в нору, чтобы вырыть оттуда Дану. Она выглянула наружу. Конь поднял свою лохматую голову с непричёсанной, спутанной гривой и весело заржал.
– Ладно. Уговорил. Сейчас расчешу тебя. Где ты умудрился так испачкаться?
Она омыла коня в ручье, расчесала его, вынула из длинных волос колючки и ветки. На лодыжке она заметила рану от укуса.
– Ах, вот в чём дело! Ночью явился хозяин норы, и ты не пустил его. Надеюсь, не убил?
Конь замотал головой.
– Ну и хорошо. Нору мы ему освободим. А рану твою залечим. Давай ногу.
Конь поднял больную ногу, и Дану приложила к ране мазь, которую всегда держала при себе и которая очень быстро заживляла любые болячки, особенно если немного пошептать.
– Постой спокойно, и скоро боль пройдёт, и мы поедем.
К полудню они были уже довольно далеко от норы, в которой ворчал и копошился старый волчара – бирюк, приводя её в порядок после непрошенной гостьи.
Дану хорошо выспалась ночью, но это не мешало ей снова задремать на спине своего друга и проснуться только к вечеру, когда уже знакомый лес приветствовал их, помахивая почти голыми ветвями деревьев. Ещё около часа пути оставалось до землянки Риголла.
Она остановила коня. Чем ближе была их встреча, тем больше она волновалась. Она пыталась прогнать никчёмные сомнения, не имеющие никакого значения. Но они, как колючки репейника в лошадиной гриве, запутывались в её мыслях. А вдруг он просто прогонит её, ведь она нарушила кельтские законы. Или он там, в своём доме, не один. Вдруг он потому и уехал так быстро, спихнув её Олафу, что его кто-то ждал. И она не выдержала. Она снова попыталась пропеть четверостишие. Чтобы узнать его намерения. Но как она ни старалась подобрать слова, как ни кусала свои пальцы, как ни резала их острыми осколками камня, ничего не получалось, как будто она кричала в воде. Или в пламени. «Он закрылся от меня. Он знает, что я буду спрашивать!» – думала она в отчаянии. Оставалось последнее – прийти к нему.
Друид оглянулся на шорох копыт в увядающей траве.
– Что ты здесь делаешь?
«Я люблю тебя!»
– Что ты здесь делаешь?
– Я люблю тебя!
Риголл слегка пошатнулся и на мгновение замер, услышав её голос. Впервые.
– Ты – жена Олафа.
– Я не жена ему.
Она подошла к нему очень близко, ближе, чем расстоянии руки, согнутой в локте. Они почти касались друг друга.
– Я не стала его женой.
– Почему?
– Я же сказала. Я люблю тебя. А он Ингрид.
– Ингрид? Я знал…. Но это было раньше. Пока не появилась ты.
– Даже самому мудрому не открывается истинность чувств?
– Ты преувеличиваешь.
– Насчёт чувств?
– Нет.
– Тогда ты преуменьшаешь.
– Тебя всё равно будут искать.
– Зачем? Мы обо всём с Олафом договорились.
– С Олафом, но не с его семьёй.
– Риголл, пожалуйста, если я не нужна тебе, неприятна, не нравлюсь, просто скажи это. Прогони, а лучше убей. Принеси в жертву своим богам, как…, кого вы приносите в жертву? Я не могу без тебя! И я… хочу тебя. Тебе не может быть всё равно?
Он стоял, закрыв глаза, не шевелясь, опустив руки вдоль тела, и только сжатые кулаки выдавали дикое напряжение, с которым он уже не в силах был бороться. Она медленно развязала цыганский платок, скинула влажную от дождя рубаху и, когда осталась совсем без одежды, взяла его руку и положила на своё плечо. Горячая ладонь скользнула по её спине, и она услышала выдох океанской волны, страстно набрасывающейся на берег.
Когда они проснулись в тишине такой непривычной без дождя и ветра, вечно суетящихся снаружи, было уже далеко за полдень. Но они решили ещё некоторое время оставаться здесь внутри, в полумраке. Однако, ближе к вечеру они вспомнили об оставленном ещё вчера ужине возле очага. Еда была холодной, и угли давно погасли. И они поняли, что вокруг не так уж тепло, как им казалось. Риголл поднялся, надел свою белоснежную рубаху, чтобы выйти за приготовленным ещё до праздника хворостом, хранящимся в сухом углублении среди корней огромного дуба, растущего позади его землянки. Он откинул толстую медвежью шкуру, прикрывавшую вход, и колючий, холодный свет разметал по углам разорванный в клочья полумрак.
– Дану!
Она мгновенно выпрыгнула из горячих ещё шкур и, в чем была, то есть в браслетах и монисто, выбежала босая на сияющий, переливающийся всеми оттенками от голубого до фиолетового, снег.
– Ты простудишься, и я буду поить тебя самым отвратительным отваром с лакрицей, которую ты ненавидишь.
– Нет. Не будешь!
Она слепила огромный снежный ком и запустила им в Риголла, но он ловко уклонился.
– Я сварю его из одной лакрицы. И добавлю туда прошлогоднего тёмного мёда!
Она снова запустила в него снегом:
–Будешь пить это сам. И дрыхнуть всю ночь.
– Думаешь, дрыхнуть?
– Вообще–то не уверена. А я не простужусь. Снег это ведь тоже дождь, только он уснул. Наверное, он обнаружил твою лакрицу с тёмным мёдом и, наконец, может поспать. Проверь.
– Постой, Дану. Эта тишина. Твои вечные спутники словно застыли.
– И что?
– Ты немного… изменилась этой ночью. Мне кажется тебе лучше…. Словом, лучше подождать пока снова хотя бы задует ветер….
– То есть?
Она почувствовала, как холод наконец-то добрался до её сознания.
– Пойдём. Сначала тебе всё-таки нужно согреться. Ты, конечно, очень горячий зверёк, но можешь обморозить свои прекрасные лапки и дождик, полагаю, расстроится, не говоря уже обо мне.
Он поднял её на руки и отнёс к ложу, чтобы закутать в шкуры, чтобы она сидела в тепле, пока он будет разжигать огонь и согревать ужин.
Часа через полтора Риголлу удалось, наконец, добраться до очага.
– Дану. Я думаю, нам нужно поужинать и уходить.
– Почему? Здесь твой дом. Мне показалось, теперь и мой тоже.
– Я чувствую, что не всё просто. Понимаешь, мы даже перед исполнением простых заклинаний должны выдерживать некоторый пост. Это касается не только еды. Прежде всего, не еды. Собственно, поэтому друиды чаще всего – отшельники.
– Но ты ведь сам говорил, что жениться можно и вам тоже.
– Конечно, но, девочка моя, мы с тобой, точнее я, нарушил закон.
– В чём же?
– Я не имел права быть с тобой, пока не поговорил с семьёй Олафа.
– Прости меня. Я не знала этого. Я вообще думала… Я просто
– Ты просто любишь, а я должен был немного потерпеть. Даже такую любовь.
– Ты жалеешь?
– Нет. Наверное, ты не совсем поняла. Мне просто нужно было поговорить с Эраннаном, чтобы они отпустили тебя. Нужно было выждать всего пару дней.
– И ты бы смог?
– Как видишь. Теперь придётся уходить.
– Я могу уйти сама, спрятаться где-нибудь. А ты с ним поговоришь.
– И ты думаешь, я теперь смогу отпустить тебя? Я был уверен, что моя любовь, моё желание – это всего лишь испытание, которое посылают боги. Что ты, юная и прекрасная должна любить такого же юного и прекрасного…
– Нет никого лучше тебя ни в одном из миров. Хочешь, я расскажу тебе про тебя? Про огромную горбоносую рыбу, которая жила задолго до людей и живёт до сих пор?
Она начала рассказывать ему о своих снах, точнее о снах рыбы, и о глазах, красивых женских глазах, которые ей мерещатся в пламени с начала Самайна. Как будто она смотрит в огонь, как в воду и видит своё отражение. И он, забыв обо всём, слушал её.
– Где эта ведьма?! – людские крики снаружи и конский топот прервал этот странный рассказ, в котором Риголл верил каждому слову.
– Риголл, она околдовала всех и сбежала. Ты поможешь выследить её?
Он взглянул на Дану, он хотел показать ей, чтобы она спряталась в шкурах на ложе, но не успел. Разозлённая, как фурия, воинственная Бригита, нарушив закон, ворвалась без приглашения в жилище верховного друида.
– Она здесь?! Эта тварь здесь?! Она и тебя околдовала, друид?!
– Нет, Бригита! Не спеши!
– Теперь мне понятно, почему и Олаф, и этот старый дурак Эраннан не захотели искать правды и возмездия. Она свела с ума всех. Ничего, на женщин её чары не действуют.
– Бригита, остановись! – Риголл поднял руки, чтобы преградить дорогу разъярённой валькирии. Пламя лишь слегка поднялось к потолку и тут же опало в
очаг.
– Что? Обессилил? Гайрех, где тот чёртов змеиный меч, который эта ведьма швырнула на ложе моего сына?!
Движения её были стремительны и точны, и лезвие не в силах было сопротивляться. По тому, как оно вошло в очень верное место под ребром и вышло между лопаток, Риголл понял, что оружие милосердно, и мучения будут недолги.
– Я вернусь, любимый. Я обязательно найду тебя. Только не забывай… танцевать… с дождём… иногда.
Я видела. Он держал её на руках. Я так тоже однажды держала…. Я слышала его вой, переходящий в вой ветра и пламени, которое таки добралось до моих пальцев.
– А ну, чего тут у огня шалите? Взрослая женщина, а туда же, как малолетка – ветки жечь.
– Бригита?
– Какая я тебе Бригита? Ишь, имя выдумала. Нечего тут мешать. – И пожилая высокая и мощная дворничиха стала затаптывать огонь ещё не до конца наевшийся и сердитый.
Я повернулась к ней спиной и зашагала прочь из этого сада.
– Эй! И вещички свои заберите. Мне чужого добра не надо. А то теряют, а потом говорят, что у них украли.
Дворничиха догнала меня и сунула в руки свёрток с кинжалом, который я обронила возле костра и не заметила как.
– Спасибо.
– Конечно. Нам чужого не надо, говорю.
Обратный путь к дому казался бесконечно долгим. Так бывает в некоторых противных плохо отрегулированных снах. Когда, кажется, что продираешься сквозь уплотнившийся до киселя воздух, в котором ноги становятся тяжёлыми и чужими, как мысли. После всего увиденного можно было бы научиться передвигаться побыстрее.
Более всего меня беспокоило, что я могу не застать своих соавторов. Я даже подумала в какой-то момент, что их вообще не было, что они мне примерещились так же, как Дану и Риголл, только в пламени собственного хмельного угара. Ничего себе похмелье. Ну, просто эксклюзивный вариант белой горячки, демо-версия.
Даже Лиговский притих, даже Московский вокзал, как будто замер, и Невского не было слышно, и не шевелилась в дрожащем воздухе асфальтовая спина дремлющего дракона Гончарной.
Дома был один Олаф.
– Мария, где ты пропадала так долго?
– Я же предупредила, что меня не будет до вечера.
– Хорошо бы ты предупредила до какого.
– Не поняла?
– Ты уехала вчера утром. Ты в курсе?
– Если честно, не очень. Подожди….
У меня не укладывалась эта информация никак. Единственное разумное объяснение могло быть, что я заснула где-то на вокзале в той самой Будогощи после бессонных ночей с мужиками. Просмотрела цыганские грёзы о Распутине.
Правда, свёрток с кинжалом несколько портил впечатление. Стало быть, я задремала стоя у костра. Это тоже не очень получалось. Ладно, хорошо. Кельтские игры со временем. Или цыганские. Какая разница. Лучше принять сумасшедшую идею, как данность, чем пытаться понять нечто подобное. Есть же телепередача «Необъяснимо, но факт» – это сюжет для неё, и только-то.
– Где Сеймон?
– Они с Дэймоном.
– С Димоном.
– Как?
– «Ди». Димон. У вас тоже есть звук «ди». Что?… То есть где они.
– Дэ… Димон повёл Сеймона куда-то свой Питер показывать.
– Понятно. Экскурсия по кабакам, дворам и подворотням.
– А ты что же?
– Я ждал тебя.
Он подошёл очень близко. Он коснулся неуверенно моей ладони. Правильно, что неуверенно. Ты ведь чувствуешь, что не должен…, что мы не должны это делать. Ну, посмотри мне в глаза.
– Мария, что случилось?
– Как звали твою жену?
– Что?
– Имя твоей жены? Ты мне так и не сказал.
– Зачем тебе? – Он насторожился. – Какое дело в имени? Ты уверена, что твоё имя то, что есть на самом деле?
– Да. Меня зовут Мария.
– Ага. Так всех зовут. Анна Мария. Стелла Мария. Ещё?
– У нас дают одно имя при крещении.
– То, которое есть в ваших святках. А как тебя звали в детстве?
– Маша.
О, господи. Я забыла. Моя прабабушка называла меня иначе, а родители ей запрещали. А она объясняла, что ничего плохого: «Дана, Даночка» – Богом данночка. А теперь – к психоаналитику, если денег хватит.
– Пожалуйста. Её звали Ингрид?
– Гайрех. У неё было древнее валлийское имя. Её отец был валлиец.
– А Ингрид?
– Какая Ингрид?
Он резко отвернулся и подошёл к окну. Он положил локоть на раму и прислонился к нему лбом.
– Почему ты спросила про Ингрид?
– Мне показалось.
– Тебе показалось? Тебе показалось? Кто ты, чёрт возьми?! Прости! Я знаю Ингрид. Да. Но тебе, откуда известно это имя? Мы знакомы… с тобой…. Я не знаю, сколько времени мы знакомы. Мне кажется, – вечность. Как будто ты – часть меня, как Гайрех, как…, Ингрид. Как Сеймон.
И меня тянет к тебе. Понимаешь? Я не уеду отсюда без тебя!
– Возьми. Это твоё – я протянула ему свёрток.
Он обернулся. Его взгляд скользил по моей руке к продолговатому кокону, как будто сканировал.
– Разверни.
Его руки дрожали. На мгновение, одно лишь мгновение, он застыл, увидев содержимое.
– Как ты догадалась? Я так давно мечтал! И нигде не мог найти такой образец. Я коллекционирую. Это именно то!
Конечно, ты мечтал, Олаф! Чёрта с два! Судя по всему, ты знал, у кого должен быть твой меч. Что же ты теперь молчишь и не скажешь мне, всё, что думаешь по этому поводу? Боишься? Что я скажу тебе, что ты сумасшедший? Правильно боишься. Скорее всего, я так и скажу. Потому что не верю в то, что всё это правда! До конца не верю. Мне ещё нужны доказательства. Я боюсь, так же как и ты, показаться чокнутой, застрявшей где-то в своём глубоком детстве. А на самом деле, гораздо раньше. Мы оба дрожим от страха, что нас признают сумасшедшими, и поэтому мы улыбаемся друг другу, чтобы прищурить глаза, Чтобы скрыть свои чувства в складках век, и стремимся превратить всё в шутку. Да здравствует, здоровое чувство юмора.
– Нет, правда, я и не ждал….
– Думаю, это лучшее, что я могла тебе подарить.
– Но. Я тоже хочу….
– Не нужно. Пожалуйста. Ничего не нужно. Вы с Сеймоном итак подарили мне незабываемые впечатления. Заставили потрудиться мой мозг. И, если у вас что-то получится со сценарием, это будет лучший подарок.
– У нас.
– Что?
– Не у вас, а у нас – тебе следовало сказать. Мы уже неразделимы. Вчера, когда тебя не было, Сеймон заказал билеты. Три билета. Сначала мы летим в Стокгольм….
– Ага. Вообще-то я работаю. Служу, так сказать в турагентстве гидом-переводчиком, если вы не в курсе.
– Это ты не в курсе, что Сейм поговорил уже с твоим шефом.
– И что?
– Тебе остались формальности.
– Продолжай.
– Подписать контракт. Визы у тебя и так есть. Так что, поэтому, сначала в Стокгольм.
– А потом?
– Да вся Европа наша. Потом в Великобританию. Ты ведь хочешь увидеть….
– Стоунхендж.
– Ну, да.
– Очень.
Я бросилась к телефону
– Шеф?
– Машенька! Успеешь заехать подписать заявление. Мы его с Сеймоном напечатали.
– Какое заявление?
– Я даю тебе творческий отпуск. На год. Ну, на всякий случай, мало ли чего. Мужики они, вроде, дельные, и в них я не сомневаюсь.
– Так чего же тогда не уволил меня вообще на фиг?
– Вот и я думаю, чего не уволил? С тебя дуры станется взбрыкнуть и прогадить и эту жизнь тоже?
– Какую эту?
– Новую, европейскую, вымощенную красными дорожками. Всё, ты уволена!
Больше всего мне захотелось в данный момент есть. Как будто известие о моём увольнении сулило мне в будущем нищету и голод, и следовало наесться напоследок, если уж не впрок. Я кинулась на кухню к холодильнику. Но, увидев виноватую физиономию Олафа, поняла, что моя затея бессмысленна.
– Ну, что? В «Чижика–Пыжика»?
– М-м….
– Я есть хочу. И пить. «Карибский рассвет» с британским сэндвичем – моя последняя воля.
– Вообще-то….
– Олаф! Мария, вы ещё не собрались? До регистрации три часа! Нам нужно захватить свои шмотки в отеле и заехать в её офис. Ты ей сказал? – Сеймон появился в дверях моей комнаты деловой и трезвый, против моего ожидания. За его спиной маячил Димон. Он пошаркал ногами, прокашлялся и захрипел несмоченным алкоголем голосом:
– Ты… это…, не волнуйся. Я прослежу за квартирой и прочим. Мы… это…, договорились с Сеймом.
– Договорились?
И тут Димон меня добил, проговорив на неплохом английском:
– Я в школе изучал этот язык. Мне даже учительница говорила, что я способный. Вот с твоими друзьями и стало что-то вспоминаться. Я понял не только на уровне интуиции, что они хотят от тебя. Я понял то, что говорит Сем. Мне кажется, тебе следует согласиться. Нет. Я уверен.
– Спасибо, Димон. Похоже, у меня нет выхода.
– Это верно – сказали они втроём. А мне показалось, что где-то в каком-то фильме уже был этот диалог.
– Мария, пора. Где твой багаж?
– Багаж? А зачем мне багаж? Вот все документы в сумочке. Нужно что-то ещё?
– Ну, не знаю. Дамы обычно….
– Не понимаю, что в Европе нет магазинов, или слишком малы счета на ваших кредитных картах? Чемодан я куплю в Стокгольме. Не возражаете?
Они не возражали. Их очень развеселила моя идея с багажом.
По дороге в аэропорт я пыталась понять, в который раз, что же всё-таки происходит. Всего три, или четыре дня, точно уже не установить, прошло с того момента, как я протрезвев и в очередной раз решив вести иной образ жизни, встретила неурочную электричку из Будогощи, и вот уже я еду в Стокгольм. Точнее лечу. Невзирая на свой панический страх, который я испытываю перед самолётами с детства. Я даже уверена, что всё пройдёт хорошо. Потому что мы ещё не дописали наш сценарий. Может быть, не все соавторы собрались? Ингрид? Ну и на что я ещё надеюсь? Григорий Ефимович уже сказал своё слово. А Левон погиб у меня на руках. И я за нас обоих придумываю дальше нашу жизнь.
– Тут у меня одна вещь, Сеймон. Мне Мария сделала подарок. Нужно это как-то оформить, как сувенир. Ты умеешь делать это.
– Подарок? Покажи.
Олаф развернул сверток, и дремлющий кинжал послушно лёг на руки Сеймона.
– Это то, что ты хотел. Не так ли?
– Именно. А ты не верил. Ни ей, ни мне.
– Ребята, я, конечно, понимаю, я отдала, то есть подарила эту штуку и больше не имею к ней никакого отношения. Но ваши последние слова меня слишком заинтриговали, чтобы не задать вопрос. О ком, о ней, идёт речь?
– Олаф, ты не сказал? Я, думаю, ей следует знать. Раз уж так всё складывается.
Олаф замотал головой, он пытался остановить Сеймона, но тот продолжал:
– К чему все эти твои игры? Ты всю жизнь не можешь разобраться со своими женщинами и фантазиями. Не втягивай Марию в эту забаву. Хорошо? Нет, я, конечно, понимаю, творческая личность и всё такое. Но параллельные миры здесь ни при чём.
Он повернулся ко мне, не желая больше созерцать страдание на лице Олафа, и тихо и буднично произнёс:
– Речь идёт об Ингрид. Моя младшая сестра, его школьная любовь. Он делал ей предложение. А она заявила, что выйдет замуж только после того, как он ей подарит булатный кинжал. Представляете? То ли она во сне видела, то ли ей шарлатанка какая-то предсказала, что жених должен ей такое преподнести. Нет, ну смешно, конечно. Только она замуж так и не вышла, а он – вдовец. Вот, оказывается, зачем он в Россию мотался. А мне говорил за сюжетом.
Сеймону было очень весело. Он хохотал, подбрасывая маленький изящный меч, и тот осторожно всегда возвращался в его ладонь.
– Отдай сюда. Ты оформишь?
– Разумеется. Мария, где Вы нашли это сокровище?
– Мне его крёстный оставил. Сказал, чтобы отдала тому, кому он нужен. Мне Олаф показался наиболее подходящей кандидатурой.
– Да, а я ещё твоим бредням не верю.
– Каким бредням, Сеймон? – Я подумала, что если не услышу сейчас, то никогда не рискну задать вопрос и никогда не получу ответ. Олаф ведь что-то знал о том же, о чём и я. Не то чтоб уже знала. Начинала понимать. Наверняка.
– Он, что не рассказывал? И чем же вы занимались? Неужто сценарий писали? Он всех этим загружает. А вас помиловал? На самом деле всё просто, даже я понял. Так что вы тоже не запутаетесь. По Гегелю всё. Ничего нового. Был себе Бог. Поднапрягся, создал мир с тварями. А твари тоже напрягаются. И каждая создаёт свою реальность. И вот всё это, насозданное, так сказать, существует параллельно, взаимопроникает, переплетается, создаёт самоё себя и себе подобное. Короче, сплошной секс на всех уровнях.
– Причём здесь секс?
– А как же, если идёт постоянное взаимодействие тварей с попыткой проникновения в миры друг друга. И общий радостный оргазм от совместного созидания.
– Не слушай его, Мария, он всё извратил. Как первый раз живёт, ей Богу.
– Или мало прожил в прошлый.
– Что?
– Маша, вы тоже, что ли этой ерундой увлекаетесь?
– Ещё как.
– Ага. Какая у русских есть поговорка? Кажется: «рыбка рыбку узнает сразу»
– Вообще-то там речь идёт о рыбаках. Но принцип вы угадали.
ВОЗДУШНЫЙ ОКЕАН.
Я так и не поняла, почему мы улетали из «Пулково-1». Диспетчерам виднее, а мне всё равно. Не помню, когда я в последний раз видела наш аэропорт. Моя любовь к путешествиям на самолётах распространялась даже на акт прощания. Если, например, нужно было проводить группу, я всегда просила кого-нибудь из коллег заменить меня, чтобы даже не видеть помещения с пугающим названием «терминал». Теперь я находилась внутри. И ничего не чувствовала: не было никакой тревоги, переживаний, даже ощущения предстоящего отъезда, то есть, полёта. Естественно: Ингрид должна получить доказательство свободы Олафа, и пара, прождавшая несколько веков, кажется, даже больше тысячелетия, обязана, наконец, воссоединиться. Так что, соберись сейчас здесь все обречённые, приговорённые, террористы и прочие провокаторы авиакатастроф, сегодня не их день. Салон Боинга шведской кампании мне показался даже вполне уютным, несмотря на суету и некоторую чрезмерную мягкость кресел. Только, когда мы уже поднялись в воздух, я немного пожалела, что самолёты теперь не летали над городом, с которым я не успела попрощаться и даже не знала, увидимся ли мы снова. Значит, увидимся, подумала я, напряжённо всматриваясь в иллюминатор. Наш лайнер сразу выбрал направление строго на запад, ему даже, похоже, не нужны были никакие манёвры, насколько я в этом понимаю. Отсюда, с высоты и немного издалека, город был похож на чудовищный нарост, на коросту, покрывающую нездоровую кожу планеты. Это поразило меня так неприятно. Мои любимые проспекты, шпили, купола пропали, растворились среди каких–то бесформенных ячеек уныло серого каменного панциря. Я отвернулась.
– А почему Стокгольм? – наконец, очень вовремя созрел у меня вопрос.
Сеймон с Олафом что-то обсуждали и не расслышали моей реплики.
– Мне кто-нибудь объяснит, наконец, почему мы летим в Стокгольм, а не в Дублин или в Копенгаген, ну или в Париж?
– Что, Маша? Извини?
– Я спросила, почему мы не летим в Париж?
– В Париж?
– Или в Лос-Анджелес?
– Лос-Анджелес нам пока не нужен. В этом месяце. – Сеймон произносил это таким тоном, словно в августе мы уже будем звёздами Голливуда.
– Ты не подумай ничего такого. Про сценарий. Он, знаешь ли, уже почти готов. Жарко нынче в Лос-Анджелесе очень. А Стокгольм, сама понимаешь… – Ехидство Олафа меня только ещё больше заинтриговало.
– Так, парни. Куда мы летим? Или я сойду на ближайшей остановке. Где там? Ага, в Хельсинки.
– К Богу. Летим.
– Не надо шутить, пожалуйста. Мы в самолёте, и мне может быть страшно, а вы про Бога.
– Нет, он не страшный. Он просто Бог, без которого у нас ничего не решается.
– И…, его резиденция в Стокгольме?
– Нет, конечно. В Стокгольме его любимая кофейня, где он переживает очередной творческий кризис. А резиденция…, кстати, в Лос-Анджелесе есть одна из его резиденций.
– Ага. А можно поподробней.
– Про кофейню? Так ты её увидишь часа так через три, я думаю. Или про резиденцию?
– Нет, про Бога.
Они уставились на меня, как будто я спросила что-то, что всем известно, ещё с раннего детства.
– Ну, не сильна я в вашей религии.
– Религии? Ах, да! Чёрт! Мы же тебе ничего о нём не говорили. Знаешь, просто такое ощущение странное – Сеймон повернулся ко мне всем корпусом, давая понять, что я должна приготовиться слушать его долго и внимательно. – Как будто, как будто не пять дней прошло, а мы уже годы вместе маемся.
– Пять?
– Да, не суть: пять – шесть. Важно впечатление. Прав был Олаф, что нам нужно в Россию, что только здесь, ах, нет, уже там,– сказал он, глядя в иллюминатор – мы найдём недостающий…, то есть тебя.
– Ага. И представите меня Богу на его суд. Беспристрастный и справедливый?
Они переглянулись.
– Вообще-то, скорее… принесём тебя в жертву.
– Без замены, по кельтскому обычаю?
– Без замены.
– Ладно. У меня опять-таки нет выбора?
– Это верно – сработал рефлекс.
– Могу я хотя бы поинтересоваться о… сущности того Божества, коему на заклание меня отправляют. Это – всемогущий и вездесущий… или он отвечает за какое-либо одно проявление киномироздания?
– Скорее первое. Потому что он ещё и директор собственного театра. У тебя, кстати, нет какой-нибудь пьески на примете?
– Есть, кстати.
– О, можешь её перевести на английский, пока летим? Он с другими языками не очень…. Хоть и Бог.
– Без надобности. Она и написана-то была не по-русски, чтобы соблазна не было её куда-нибудь пристроить.
– Покажи! – заверещали они дуэтом так, что подошла бортпроводница:
– Что-нибудь желаете?
– Да! То есть, нет. Мы её желаем – показал Сеймон в мою сторону пальцем весьма невежливо и многозначно, и стюардесса, смущённо улыбнувшись, отошла от нас к другим пассажирам.
– Скажи, что она у тебя с собой. Пожалуйста.
Я выдержала паузу, как это делал Григорий Ефимович. Сеймон и Олаф сидели тихо поскуливая. Жаль, что у них нет хвостов. Потом я сделала финт бровями и достала небольшой кулончик, висевший у меня рядом с крестильным крестиком, спрятанный от посторонних глаз, маленькая, изящная, инкрустированная перламутром флешкарта, в которую я уложила весь свой многолетний литературный груз – моя действительно ценная ручная кладь.
– Что это?
– Моя пьеса. И ещё кое-что. Гигабайт интересующей вашего Бога информации, которую я вам ну никак не могу показать без ваших ноутов, так предусмотрительно сданных в багаж.
– Ведьма!
– Ну, конечно.
– Нет, я в лучшем смысле этого слова.
– Да, я так и подумала. Так что там на счёт Бога?
– Хорошо. Пока он тебя не сожрал…
– Боюсь, подавится – Олаф никак не мог прийти в себя от полученной информации о наличие готовых пьес – ведь этот кусок даже больше, чем он может проглотить сразу.
– Слушай. Это, действительно, интересно. И всё очень не просто. Ему….
– Богу?
– Да. Было восемь лет, или десять,
– Ему было четыре.
– Да, точно, четыре, когда его с братом засыпало песком в карьере. Брата нашли быстро, и всё прошло без последствий. А этот пролежал несколько минут без жизни. То есть, клиника, понимаешь? Потом месяц в коме. А потом… потом, он стал аутимиком. Причём, странным таким аутимиком. Он ни с кем не общался, не разговаривал. Только читал. Сначала, в пять-шесть лет, представляешь, только книги по физике и математике, потом по химии и биологии. Потом по теории искусств. Наши родители дружили. Поэтому я знаю подробности. Кое-что и сам помню. Мы с Олафом ходили в школу… Он ведь старше нас лет на десять, кажется.
– Дальше – эта история меня занимала невероятно. Это был новый сюжет, который валялся у мужиков под ногами, а они не желали этого видеть.
– Однажды. Он собрал всю макулатуру про искусство и устроил огромный костёр на заднем дворе. А потом пришёл к нам.
– Тогда мы уже учились в колледже. Нам было по двадцать с небольшим. То есть около тридцати лет назад.
– А ему?
– Ему? Точно помню – ему тридцать два.
– Это было в конце семидесятых – начале восьмидесятых? – я снова подсчитала в уме столбиком даты, и мне стало тяжело дышать, но я решила отогнать все возможные ассоциации и выслушать историю до конца.
– Ну, да, правильно.
– Он пришёл к вам. И что?
– И заговорил. Он сказал, что всё понял. Что единственная сфера деятельности человека, достойная иметь место – это искусство. Творчество. Что прав Шекспир и что пора стать режиссёром этого большого театра и позвал нас в свою труппу. А остальное, он сказал, от лукавого. Ну, чем не Бог? И мы за ним пошли. Он как-то очень быстро после этого поступил в академию, получил нужное образование, и не одно. В общем, мы ни разу не пожалели с тех пор, что связались с ним.
– И всё было успешно?
– Да по-всякому. И премии имели и провалы. Дело не в этом. Дело в том, что нам очень хорошо всем вместе, когда мы делаем это дело. Как будто тогда всё не зря. Ошибки, победы, поражения – не имеют значения. Понимаешь? Значим только процесс творчества.
– Совместного созидания.
– И очень плохо, когда мы не знаем, что делать дальше. Когда стоим на месте. Это Олафу пришла идея разбавить наш коллектив вливанием другой крови.
– А Бог?
– Он странно отреагировал. Вроде, делайте, что угодно, только меня не впутывайте. А результат должен быть. Ну, по-божески.
– А вы его так и называете? Так и обращаетесь к нему? Бог.
– Нет, конечно. Мы зовём его гуру. Учитель.
– А семья?
– То есть? Ах. Нет, он не женат. Ему нужна Богиня.
– Богиня?
– Ну, да. Он нормальной ориентации. Это мы однажды поняли. Хотя некоторое время и сомневались. Моя жена мне всё объяснила. Я не очень обиделся. Чего уж там.
– Ваша жена, Сеймон?
– Да ладно. Это мы проехали. Это невысокая плата за счастье для всех.
– Плата? Знаете, у нас есть, были…. Потому что остался только один…. Мэтры, тоже своеобразные божества для людей определённого склада мышления. Они считали и утверждали. Да, и они хотели: «счастья всем даром, чтобы никто не ушёл обиженный….»
– Гениально. Просто гениально. Я, кстати читал «Пикник» – Олаф не то чтобы удивил меня тем, что знал моих любимых авторов, это было как раз, вполне, логично – меня смутил его тон, как будто данная мысль задела его так же давно как и меня, и не давала покоя. – Но я не согласен! Счастье не может быть даром. По крайней мере, на этом отрезке жизни от рождения до смерти. Очень похоже на шведский стол в круизе по системе: всё включено – ешь не когда хочешь, а когда можешь и не то что действительно хочешь, а всё подряд, из любопытства и страха упустить что–либо. Счастье надо заработать, оплатить…. И, чем выше цена, тем полнее результат, если хотите. А иначе…, иначе оно обесценивается.
– Вы о чём ребята? – Сеймон откровенно хохотал, его тоже терзали подобные мысли – Какое счастье? Какие цены? Иллюзии и мифы народов мира. Всё просто: либо ты – творец! Либо мне жаль тебя, несчастного! И неважен результат, который получаешь лично ты, и какова цена: господство над миром, созданным тобой? Хвала тебе, если ты справедливый правитель. Или богатство? Оно в надёжных руках, если исчезнет всеобщая нищета. Или любовь? Я ничего не знаю про любовь, до сих пор, кто бы мне о ней не рассказывал.
– Я тоже.
– Что тоже, Мария?
– Ничего не знаю про любовь.
Стокгольм нас встретил ливнем, танцующим зажигательную ирландскую, или, в данном случае, шведскую, джигу на всём пути от аэропорта «Арланда» до вымощенных средневековым булыжником узеньких улочек центра, где даже одному человеку бывает тесновато протиснуться между безупречно оштукатуренных стен, а с дождём и подавно.
Я возила сюда наших туристов. На пароме и на автобусе. Я неоднократно бывала здесь и успела влюбиться в город, похожий на декорации к спектаклям или фильмам по книгам Астрид Линдгрен или Сёльмы Ладенгёрф. Так глупо, но он никогда не казался мне настоящим, а лишь иллюстрацией любимых детских сказок. С самого первого дня, когда я взглянула снизу на его черепичные крыши в поисках мужчины в самом расцвете сил. И дождь, вечный дождь, как по заказу, лично для меня. Хотя, я знаю, здесь часто светит солнце.
– У меня тоже есть тут любимая кофейня.
Сеймон взглянул на часы.
– Ещё час у нас есть. Пошли.
Перейдя узенький мостик Riddar husbron, можно было за десять минут добраться по набережной до пятиугольной площади Kornhamns Torg, пройти вперёд ещё метров десять и, наверное, самым узким переулочком Triewalds выйти как раз к дому 18 на самой длинной улице Старого города с самым длинным названием Vasterlanggatan. Там и находилось милое уютное заведение, рассчитанное не более, чем на пятнадцать посетителей, там обычно я и проводила свой досуг пока мои экскурсанты, предоставленные сами себе, осматривали достопримечательности и сувенирные лавки. Но по привычке я пошла прямо к Королевскому дворцу, чтобы потом свернуть направо и пройти свой путь целиком, как я это делала с группой. А мои спутники молчали и шли рядом, повинуясь моему маршруту. Они ничего не сказали и тогда, когда мы вошли в маленькое аккуратное помещение. Они заговорили только с двумя шведками, радушно засуетившимися у стойки.
– Мне каппучино. Двойной. И мороженое в вафельном рожке, банановое.
– Почему-то мы так и подумали.
– А вот и наш гуру. Знакомьтесь: Мария Данилова – писательница из России и Лайон Риголл.
Можно сказать, что ничего не изменилось. Только стало очень тихо, так тихо, что даже не слышно дождя, даже сердце замерло, прислушиваясь и ожидая первой фразы.
Он стоял напротив меня на расстоянии руки, согнутой в локте, как позволяли кофейные столики, абсолютно спокойный. Только руки, прижатые к телу и сжатые до хруста в суставах кулаки, выдавали его напряжение.
– Потанцуешь со мной?
Откуда-то издалека раздался неестественно громкий голос Сеймона:
– Правильно! Молодец. Это как раз в его стиле. И как ты догадалась? Он же танцует только под дождём. Давайте отсюда и до Ратуши. Слабо в ритме танго с грозой? Туристам на радость!
А потом я просто взяла его ладонь и положила себе на плечо.
И через мгновение ощутила дыхание океана на своей щеке.


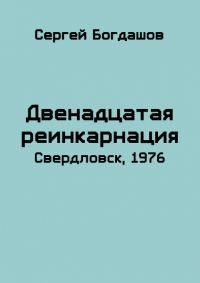

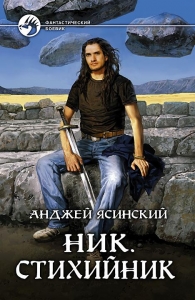
Комментарии к книге «Соло для рыбы», Сюзанна Кулешова
Всего 0 комментариев