FANтастика
Предисловие составителя
Издание, которое вы держите в руках, — не уникальный, но достаточно редкий продукт для российского книжного рынка. В этой антологии собраны лучшие повести и рассказы, публиковавшиеся на страницах петербургского журнала «FANтастика» за два года его существования. Перед вами своего рода отчет редакции о проделанной работе. Читайте, оценивайте, выносите вердикт — стоит овчинка выделки или нет. Эксперимент довольно рискованный: из предшественников можно вспомнить разве что малотиражный сборник, подготовленный сотрудниками журнала «Если», да книгу «Пятая стена», составленную московским журналистом, писателем и культуртрегером Андреем Щербаком-Жуковым из рассказов, публиковавшихся в «Летописи интеллектуального зодчества». Как видите, негусто…
А началось все в 2007 году, когда Денис Лобанов, заведующий редакцией жанровой литературы издательства «Азбука», осуществил наконец свою давнюю мечту: запустил на орбиту новое ежемесячное издание, название которого говорило само за себя. Первый номер «FANтастики» появился в киосках в январе 2007 года. Для тех, кто интересуется статистикой: к концу 2008 года свет увидело ровно два десятка номеров журнала. Первоначально публиковать художественные произведения в «FANтастике» не планировалось, благо литературно-критических изданий на отечественном рынке периодики хватает. Если обратиться к мировой практике, то за модель был принят скорее «Locus», чем «Asimov's Science Fiction». Однако читатели, дружно проголосовавшие на сайте журнала за введение литературного раздела, переубедили редакцию, и в октябрь 2007 года у «FANтастики» появилось литературное приложение…
С тех пор минуло не так уж много времени, однако журнал успел вырасти и окрепнуть. Тираж увеличился почти в два с половиной раза, от 10 000 до 24 500 экземпляров, серьезные изменения произошли с версткой и дизайном, появились красочный постер и двусторонний DVD-диск. В мае 2008 года на фестивале «Еврокон», проходившем в Подмосковье, «FANтастика» стала обладательницей престижной международной премии ESFS (Европейского общества научной фантастики) как лучший «профильный» журнал Европы. Усилился и авторский коллектив: за эти годы в «FANтастике» успели отметиться такие заметные фигуры, как Олег Дивов и Сергей Бережной, Елена Хаецкая и Роман Арбитман, Дмитрий Скирюк и Михаил Назаренко, Дмитрий Володихин и Антон Первушин, — люди, сами по себе не обойденные вниманием российского фэндома.
Сегодня мы делаем новый шаг по тернистому пути: отдельным томом выходят лучшие литературные произведения, впервые появившиеся в «FANтастике». Вас ждет довольно пестрая подборка: работы дебютантки Ольги Пинчук и произведения фантастов, которых знает вся Россия (Олега Дивова, Елены Хаецкой); новая повесть лихо начавшего, но потом надолго исчезнувшего в паутине Интернета Павла Шумила; тексты писателей, широко известных в узком кругу, но пока не ставших всенародными любимцами (Сергея Стрелецкого, Альберта Зеличёнка, Льва Лобарева, Тараса Витковского), — и лучших представителей «молодого поколения» нашей НФ — Дмитрия Колодана и Шимуна Врочека… Всех их объединяет два момента: несомненный литературный талант и теплые дружеские отношения с журналом «FANтастика». В общем, есть из чего выбрать. Выбор же, безусловно, остается за вами, дорогие читатели. Искренне надеюсь, что вам не придется скучать.
И до новых встреч на страницах журнала «FANтастика»!
Василий Владимирский, креативный директор журнала «FANтастика»
Олег Дивов Нанотехнология
Ближе к обеду Гудкова, как младшего в бригаде, послали в магазин.
— Учти, Гудок, попадешься — ты нас никогда не видел! — напутствовали его привычной шуткой.
Гудков скинул робу, взял потертый дерматиновый портфель, вышел из цеха, пролез сквозь дырку в заборе.
Дирекция завода недавно добилась через горком партии, чтобы закрыли винный напротив проходной, и теперь в магазин надо было топать километра два, через мост. Это так и звали — «сбегать через мост». Бегали, понятное дело, ученики и практиканты, у них ноги молодые.
Повезло — трамвай подъехал. Гудков встал на задней площадке и принял независимо-задумчивый вид, будто он студент какой. Пассажиры, в основном пенсионерки с авоськами, смотрели на комсомольца с портфелем без сочувствия — у самих такие же оболтусы на производстве, и понятно, куда они все перед обедом бегут… Дребезжа и сотрясаясь, железная коробка довезла Гудкова почти до цели.
Первым делом он воровато огляделся. Ментов поблизости не было. Гудков прошел вдоль витрины — патруль мог подстерегать внутри магазина, — но опасности не обнаружил.
Очередь была слишком длинная. Сплошь дедушки и бабушки, вперед не попросишься, обматерят только, а могут и палкой заехать пониже спины. До обеденного перерыва оставалось минут десять. Гудков со вздохом покинул магазин, обошел его с тыла и сунулся к служебному входу.
Знакомый грузчик, тощий мужик лет тридцати, был тут как тут, курил на солнышке. Физиономию грузчика украшал внушительный синяк.
— Шестью шесть сделаешь? — спросил Гудков.
Их в бригаде шестеро, считая Гудкова, это три бутылки в обед, а чтобы до конца смены хватило — еще три, как раз удобно в портфель влезает.
— Деньги вперед, — промолвил грузчик сумрачно.
— Ты чего? — удивился Гудков.
Водка стоит пять двадцать пять, «опять двадцать пять» по-простому. На вынос — шесть. Грузчик с одного Гудкова наварит себе на портвейн и закусь. При таком щедром заказе надо уважать клиента.
— Вчера один тоже заказал шестью шесть. Ну, я вынес. Он правой хвать портфель, а с левой мне в торец прислал…
— Увольнение отмечал, — догадался Гудков.
— Откуда я знаю, может, ты тоже увольняешься…
Гудков решил не спорить и протянул грузчику пачку мятых рублевок и трешек. Тот пересчитал деньги, взял портфель и исчез в недрах магазина. Гудков закурил.
Грузчик вернулся быстро. Портфель стал приятно пузатым на вид и гулко позвякивал.
— Ментов не видать сегодня, — поделился радостью Гудков.
— Перед тобой четверых сцапали, оформлять повели. И не отмажешься — пришли за полчаса до обеда, почему не на работе?
— Вот же гадство, — сказал Гудков.
— Вкалывать надо, а не водку пьянствовать, — посоветовал грузчик. — Вот вы сейчас зальете глаза, и на конвейер, а народ потом удивляется, отчего у наших машин колеса отваливаются на ходу. «Советское значит отличное», мля…
— Я не гайки кручу, — надулся Гудков, — я с Нанотеха.
— А-а… — протянул грузчик. — Объемные взрывы, текучая броня, «умные пули»? Асимметричный ответ блоку НАТО и израильской военщине?
— Откуда ты взялся такой умный? — спросил Гудков подозрительно.
— Из Бауманки, — ответил грузчик просто. — Преподавал слегка.
Гудков малость опешил. Бауманка — это было, по понятиям родного завода, очень серьезно.
— И чего же ты… тут?
— А компания хорошая. Одних кандидатов, вот вроде меня, четверо. Только мясник подкачал, он с филфака.
— И чего вам нормально не живется, а? — поразился Гудков.
— Нормально — это как?! — окрысился грузчик. — Шел бы ты, парень. Тебя деды твои по головке не погладят за опоздание. Ударники, мля, коммунистического труда…
Гудков подумал, не засветить ли грузчику во второй глаз, но решил не портить отношения. Грузчик был человек архиполезный. Бригаде к обеду вынь да положь по чекушке хотя бы. Переплачивать бригада готова, денег полные карманы, а вот оставишь старших товарищей без подогрева — загрызут.
— Ладно, — сказал Гудков. — Ты это… Ну, будь здоров.
Грузчик молча кивнул. Гудков побежал на трамвай.
У дырки в заборе скучал патруль, к счастью, Гудков заметил ментов издали. Штурмовать забор было невозможно — поверху шла не просто колючая проволока, а спираль Бруно, да еще якобы под током. Гудков потерянно свернул к проходной. Но тут фортуна улыбнулась снова — в ворота заезжал самосвал с песком. Гудков спокойно прошел на территорию, укрывшись за грузовиком от окон КПП, и бодро зашагал в цех.
Сразу будто расправились плечи. Гудков недавно это за собой заметил: чем ближе к заводу, тем лучше настроение, а по территории он не ходит — летает. Тут все свое, понятное и близкое, и что за этой стенкой бухает, и что вон в том ангаре молотит, а уж родная установка… Прямо не отлипал бы от нее, хоть домой не ходи.
— Ты представь, Михалыч, — сказал он бригадиру, отдавая портфель, — грузчик-то в винном целый кандидат наук! Из самой Бауманки! Говорит, в магазине таких кандидатов полным-полно!
— Тоже мне… Ты любого таксиста спроси, где учился, — обалдеешь. Короче, там весь университет.
— Но почему?! — задал Гудков простой и донельзя емкий вопрос.
— Интеллигенты, мля, — дал бригадир не менее емкий ответ. — Беги в столовку, Гудок. И короче, не бери худого в голову. Кстати, и толстого не бери, хе-хе…
Быстро подкрепившись наваристым супчиком и синей котлетой с серыми макаронами, Гудков вернулся в цех. Из подсобки ему махнули — заходи.
Там было уже накрыто на газете «Правда»: килька в томате, хлеб, крепенькие домашние соленые огурчики, покупным не чета. Стаканы налили доверху.
Бригадир порылся в кармане и достал серебристый цилиндрик. Отвинтил с двух концов крышечки, обнажились иголка и поршень с дозатором. Бригадир аккуратно нацедил в каждый стакан по микроскопической капельке и снова завинтил прибор.
— Ну, короче, за нанотехнологии! Вздрогнем, товарищи!
Вздрогнули.
Водка была теплая, но Гудков уже приучился. Это сначала трудно, а когда появится навык — само затекает. Главное — навык. Это как на работе.
— Ты закусывай, Гудок, — привычно-заботливо сказал бригадир, протягивая огурец.
Гудков послушно закусил. Водка сразу ударила в голову, и он вдруг ощутил, как бегут по венам юркие наночастицы, проникая во все его молодое существо, наполняя силой и задором.
Он не мог этого чувствовать. Но казалось, чувствовал — и радовался. А ведь было поначалу боязно. Год назад, придя в цех учеником оператора, Гудков лишь рассмеялся, услышав намек, будто работяги в обед хлещут собственный продукт. Но когда бригада присмотрелась к новичку, начала гонять его за водкой, а потом и зазывать в подсобку… Однажды мастер при нем, не таясь, достал шприц-пробник.
«Зачем?!» — спросил тогда Гудков с легким ужасом.
«У нас профессия вредная, — объяснили ему. — А ты не знал? Конечно, никому не говорят… Но мы-то знаем. Короче, хочешь скопытиться? Ах, не хочешь! Тогда пей. Это помогает. Оно и для потенции, кстати, хорошо».
И Гудков выпил.
Выпил опасливо. А вдруг наночастицы превратят его в какого-нибудь Железного Дровосека? Но вокруг ходили люди, употреблявшие продукт который год, — и выглядели нормальными. Веселыми даже.
«Не вздумай проболтаться, — сказал бригадир. — Сядешь мигом. Короче, производство секретное, ты подписку давал, так что и это — секрет».
Гудков не проболтался. Да он и не хотел.
…По второй разлили сразу же, Гудкову, как молодому, — полстакана. Куда ему целый, парню еще восемнадцати нет. Быстро хлопнули, закусили, закурили. Бригадир высунулся в цех, не видать ли начальства. Сказал, короче, горизонт чист, установка пашет штатно. А чего ей не пахать, Гудков и из подсобки чувствовал, как по железным венам машины бегут юркие наночастицы… Словно по его венам. Он за год так насобачился, так отточил навык, что спокойно мог контролировать машину, не подходя к своему пульту. Иногда ему казалось — если он очень захочет, то сможет вмешаться в технологический процесс «без рук», одним усилием мысли. Это было, конечно, от водки. Пьяные фантазии. Но они тут, как признавались мужики, посещали всех и каждого. И воодушевляли.
— Короче, — сказал бригадир, — давай по третьей, и похиляли на трудовую вахту. А то, не ровен час, припрется кто…
Хлопнули по третьей — и похиляли. Гудков остался в подсобке убирать. Потом, выходя, на секунду задержался в дверях. Если смотреть отсюда, из тесной комнатушки, установка выглядела еще прекрасней, чем была. Иногда она казалась ему женщиной — взрослой, опытной, ласковой, все понимающей, с большой, тяжелой и теплой грудью. Не то что тощие девчонки из «технаря» с их наносиськами…
Потолок огромного — хоть катайся на машине — цеха возносился к небу. Установка тихо урчала. Но урчала неправильно — с легким присвистом. Гудков принюхался и почуял едва уловимый запах.
Мимо прошел оператор контроля, чем-то озабоченный.
— Утечка в шестом блоке? — спросил Гудков, пристраиваясь рядом.
— Ишь ты. — Оператор замедлил шаг и внимательно поглядел на своего ученика. — Как насобачился уже! Да, шестой подтекает. Ну-ка, комсомолец, ноги молодые, добеги до пульта, скажи мне сколько.
— Да я и так чую — семь, ну восемь в секунду.
— Не угадал, двенадцать почти. Ничего, получишься — тоже сможешь без приборов угадывать. Тут все просто на самом деле, главное — процесс как следует изучить. Главное — что?..
— Навык! — отрапортовал Гудков.
— Молодца, — похвалил оператор. — Ну а раз так, дуй-ка, парень, к трубе и звони ремонтникам. Двенадцать — это уже сифонит вовсю, заваривать надо. А у нас не те навыки, операторы мы, хе-хе… Дуй!
И Гудков весело дунул к телефону.
Он быстро шагал мимо облезлого пожарного щита, цеховой Доски почета с вымпелом победителей соцсоревнования, мимо пожелтевшей стенгазеты и длиннющего лозунга на выцветшем кумаче: «150-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ЛЕНИНА — 150 НАНОТЕХНОЛОГИЙ!»
У телефона стоял инженер, солидный, при галстуке. Трубка, разумеется, висела в воздухе. Руки инженер держал в карманах. Диск на стареньком аппарате крутился сам собой, набирая номер.
— Тебе чего? — обернулся инженер.
— У нас утечка легонькая, — объяснил Гудков, смущаясь и дыша в сторону. — Я насчет ремонтников…
— Я уже вызвал. Развонялись на весь завод, операторы хреновы, совсем от выпивки нюх потеряли…
«Вот это мастер!» — обалдело подумал Гудков.
Инженер глянул на него искоса и буркнул:
— Просто водкой разбавлять не надо.
Тут Гудков неожиданно вспомнил грузчика кандидата наук.
И от всей души пожалел его.
Шимун Врочек Вся сказка Маугли
I. Вся сказка
1941
Младший сержант Валентин Бисеров расстроен. Сержант думает, что хохол на командирской должности — это кристально чистый, хрустально прозрачный, голубовато холодный, с золотыми рыбками пиздец. И в этот незамутненный пиздец с головой ныряет вторая парашютно-десантная рота ОМСБОН НКВД в полном составе.
— Ну, лягли і поповзли! — командует майор через плац. — До мене!
Вторая рота лягает и ползет.
— Животи пiдтягти! Зад не піднімати! Швидше, суччi діти, швидше! — майор стоит и смотрит.
В «прыжковый» паек входят сухари и кусок комбижира. Теоретически этого хватит, чтобы после выброса проделать марш-бросок на десять километров с оружием, в полной выкладке и не сдохнуть на пороге части.
«Прыжковый» паек давно не выдают; в столовой же кормят — не сказать, что на убой. К тому же они сейчас после десантирования, а значит: потеряли пару килограммов живого веса каждый. Так что, хрен там, думает Бисеров, работая локтями. Подтягивать особо нечего. К моменту пиздеца десантники настолько стройные, что расположение плаца, на котором командует майор Трищенко, можно определить издалека: по скрипу, с которым ребра стираются о бетон.
Но майора Трищенко это не волнует.
— Вторая рота, хазы!
Звонкое украинское «ха» наотмашь лупит по телам в камуфляже. Эффект убийственный. Часть десантников погибает на месте; другие продолжают двигаться, как цыплята с отрубленными головами, пока не понимают, что давно мертвы; затихают. Третьи уткнулись в землю.
Твою мать, думает Бисеров.
Трищенко не улыбается. Майор стоит на крыльце столовой, широко расставив ноги в начищенных сапогах. На нем командирская шерстяная форма — сейчас ранняя осень и довольно холодно; у него красное лицо и пористый алкоголический нос. Майор достает платок и рассеянно вытирает ноздри; глаза не отрываются от плаца. Команда о начале газовой атаки — коронный номер Трищенко: поэтому важно не упустить момент, когда десантники, выматерившись в бетон, сломают себя и начнут выполнять.
Начали. Шевелятся. Лихорадочно открывают подсумки. Через несколько секунд вместо лиц — резиновые хари: глаза-иллюминаторы, и хоботы из брезента.
— …i поповзли! — орет майор.
Ага, щас. Бисеров ползет. Дышать нечем; локти, похоже, стесаны до мяса. В противогазе жарко, и ни хрена не слыхать (именно поэтому Трищенко так надрывается). Стекла мгновенно запотевают. В ушах — гул, словно нырнул на глубину; а там сидит туберкулезник, который уже выплюнул половину легких и теперь со свистом выхаркивает остальное. Младший сержант с некоторым удивлением отмечает, что этот звук — его собственное дыхание.
Через окуляры Бисеров видит…
Ни хрена не видит, если честно.
Десантники навьючены, как мулы с контрабандой. Автомат ППШ с запасными дисками, газовая маска, регенеративный патрон, нож разведчика, малая лопатка, вещмешок, револьвер или пистолет ТТ по вкусу, гранаты. Слава богу, хоть парашют на себе переть не пришлось; условия, приближенные к боевым. Подняли ночью по тревоге, на аэродром, проверить снаряжение! грузиться в самолет, живей-живей-живей! тряска, еще тряска, ух, взлетели; гул моторов, досыпаем на ходу; вылетаешь из сна, м-мать, как беспризорник из трамвая. Режущий вой сирены, красная лампа мигает, цепляй кольцо… пошел-пошел-пошел!
Блин!!
Падаешь. Сердце сейчас, кажется, остановится…
Рывок.
И два часа (как кажется Бисерову — на самом деле проходит чуть больше трех минут) безмятежного спокойствия. Поля с высоты кажутся серыми. На земле десантников встречает учебным огнем первая рота; подавить, собраться, руки в ноги — и в марш-бросок. Добежали, только животы к хребту прилипли. Теперь десантники ползают по плацу в резиновых намордниках; перед столовой на грани голодного обморока. Кажется, что запахи из кухни, огибая по пути майора, реют над полем, как красный флаг над Пиком Коммунизма. Проклятые запахи проникают даже сквозь регенеративный патрон; в наморднике у сержанта мощно пахнет перловкой с комбижиром. Агрессивные, гады, как самураи в тридцать девятом. Даже угольный фильтр не помеха.
Младший сержант думает, что запах перловки, скорее всего, ему мерещится. Как и крик «А-атставить!».
Бисеров натыкается на препятствие; поневоле останавливается. Судя по тому, что удается рассмотреть (черная поверхность, шляпки гвоздей, цифры 41), это сапоги. Вернее, подошвы. Одна из подошв отдаляется и потом несильно бьет сержанта в запотевший иллюминатор. На стекле остается травинка. Сейчас октябрь, поэтому травинка — желтого цвета.
— Отставить! — наконец слышит Бисеров. С нажимом на «а» это раз за разом повторяет незнакомый голос.
Сержанта подташнивает. Главное — не блевануть в маску. В желудке, кроме кислоты, ни черта не осталось, так что это будет нечто удушающее.
— Снять противогазы!
Наконец-то! Бисеров поднимается на ноги, стаскивает намордник. Воздух обжигает. С непривычки кружится голова. Сержанта качает; его поддерживают за рукав. Вокруг — столпотворение: кто-то лежит, с него снимают маску и бьют по щекам; один десантник на коленях, его выворачивает. Бедняга дергается в спазмах, не в силах ничего из себя выдавить.
— Рота, в две шеренги! Становись! — тот же незнакомый голос. Бля, думает Бисеров устало.
— Отделение, становись! — вспоминает сержант о своих обязанностях. Десантники бегут; Бисеров бежит. Сомлевших тащат под руки, укладывают позади строя на траве.
— Равняйсь! Смирно! Равнение на! середину! — это уже ротный.
Бисеров задирает подбородок так, словно пытается проколоть им небо.
— Вольно!
Правую ногу расслабить. Сержант смотрит на плац с удивлением — непривычно видеть его пустым. Хотя… Равнение на середину, вспоминает Бисеров. Там стоят двое: майор (чтоб он сдох) Трищенко и незнакомый командир в синих галифе. Фуражка у него синяя, околыш красный; на рукаве звезда с серпом и молотом и два (нет, три!) красных угольника. Целый капитан госбезопасности! Охренеть можно!
2005
Педиатрия — это, конечно, наука, но покоится она на суевериях. Как земной шар на спине черепахи. Детские врачи в этом смысле напоминают шаманов — каждый камлает по-своему; со своим бубном пляшет. Одни педиатры твердят, что грудной ребенок должен плавать, другие — что не должен. Третьи говорят: больше гуляйте; четвертые предлагают закаливание. Но в целом советчики сходятся: чего-то важного Айгуль не делает.
Самое обидное — и не понимает, чего.
Поэтому в роли матери она чувствует себя, как альпинист на вершине мира. Да, забралась — терпения хватило, спасибо, больше не надо. Флаг родины поставила; надпись написала; на память сфотографировалась. А как дальше жить? Самое трудное (спуск вниз, 8844.43 метра, снег, лед и кислородное голодание) еще впереди, а сил уже нет.
1941
Безопасника зовут Алексей Игоревич Сафронов. Это в НКГБ он капитан, а по армейским званиям — целый подполковник. Бисеров с удовольствием вспоминает, как выглядел Трищенко в газовой маске. Все видели — вся вторая парашютно-десантная рота; повара и даже наряд по столовой.
— Команда «газы», — говорит капитан размеренно. Голос у него только кажется мягким: железный прут, обернутый тканью. — Касается не только рядовых красноармейцев, но в первую очередь — старших по званию. Без командира, как без головы. Верно говорю, товарищ майор? Тогда возьмите.
И вручает Трищенко сумку с противогазом.
Бисеров снова вспоминает лицо майора в этот момент — и ухмыляется.
Потом десантники стоят и смотрят. Майор надевает камуфляж и маску — делать он этого откровенно не умеет, приходится помогать. Ему дают автомат, вещмешок, цепляют на пояс лопатку и гранаты. И все равно майор не выглядит десантником. Никак. Только Бисерову все смешнее и смешнее. Потому что в таком виде Трищенко невероятно забавен. Такой интеллигентный презерватив. Хотя видит бог, думает сержант, ничего интеллигентного в нем нет.
Потом майор ложится и ползет. От крыльца через весь плац — по-пластунски. И этого Трищенко тоже не умеет.
Еле доползает. Капитан идет рядом с ним и молчит. Майор косится на сверкающие хромовые сапоги безопасника, хрипит, делает вид, что изнемог. А может, и в самом деле, думает Бисеров. Сержант даже про голод забыл — с таким-то зрелищем.
Наконец Трищенко сдается. Он лежит на бетоне, как дохлый шерстяной кит. Сафронов подходит и ждет. Минута — нет движения. Вторая…
— Пристрелю, — тихо и внятно говорит капитан. Это слышит каждый из десантников — такая вокруг тишина. Слово падает, как лезвие революционной гильотины.
У Трищенко внезапно открывается второе дыхание.
— А теперь, — капитан улыбается. — Рота, на завтрак, шагом марш!
2005
Айгуль вздыхает и поднимает тазик с бельем. Стирка — это процесс, уходящий в бесконечность. Особенно, когда в доме — ребенок. Георгий сейчас спит — слава богу, мальчики тоже иногда спят. Ураганы должны отдыхать — иначе откуда им взять сил для разрушения?
Одиннадцать месяцев, скоро год, а он еще не ходит. И зубов всего четыре. Гуля почему-то считает, что это ее вина. Я совсем не занимаюсь ребенком, думает она с раскаянием. Мы не читаем книжки. Не играем. И мне надо похудеть. Не есть. Вчера зарекалась, а перед сном напилась чаю с сахаром и съела полкило печенья. Опять.
У Маринки — дочка. Такая смешная. И восемь зубов, еще два режутся. А ей десять с половиной. А нам одиннадцать. Я плохая мать, думает Гуля.
И все-таки он спит. Полтора часа после обеда. Еще два — после полдника. Что-то можно сделать: развесить белье, поставить стирку, помыть полы, убрать игрушки. Что еще?
Не успеваю. Не успеваю.
1941
— Принимай командование, Всеславыч, — говорит капитан. — Это из рублевской разведшколы. Добровольцы.
Младший сержант Бисеров пытается сообразить, в каком месте он доброволец. Краем глаза разглядывает остальных — может, они?.. Хрен там. Десантников трое. И на всех трех лицах — полное офигение.
— Старший лейтенант Филипенко, — представляется тип с залысинами.
И здесь хохол, думает Бисеров. Ну что за жизнь.
2005
Айгуль — лунный цветок.
Вообще-то правильно говорить «Айгюль», где вторая гласная — нечто среднее между ё и ю, и звучит впереди зубов. Произношение — как во французском. Хотя откуда в Башкирии французы?
Какая чушь лезет в голову.
Сейчас полнолуние, поэтому Гоша плохо спит. Просыпается каждые полчаса, плачет испуганно. Даже бутылочка с водой не помогает. И горло красное. Сегодня опять были шаманские ритуалы, вспоминает Айгуль. Очередной знахарь; на этот раз — участковый.
Гулю передергивает.
От этих плясок у нее «крыша» едет, как от мухоморов. Вибуркол, свечи. Виферон, свечи. На ночь, потом утром. И давать побольше жидкости. Временно не купать и не гулять. Наверное, легкая инфекция. Сейчас как раз ходит вирус.
На часах — четыре утра.
Я плохая мать, думает Гуля привычно.
Я плохая.
1941
— Сволочь он, этот ваш Трищенко, — Сафронов сложил с себя командирские обязанности и не прочь почесать языком, пока в дороге. Виллис болтает на колее, разъезженной грузовиками. Летит грязь. — В марш-броски с вами, как понимаю, ни разу не ходил?
Бисеров признается, что нигде, кроме как на крыльце столовой, он майора не видел. Даже странно, говорит сержант. Такое ощущение, что Трищенко (чуть не ляпнул: Здрищенко) там и самозарождался, как фруктовая муха в яблоках.
Наконец прибывают. Сафронов, махнув на прощание рукой, исчезает в глубине здания. Хохол-старлей ведет десантников вверх по лестнице.
На складе приказано сменить форму. Усатый старшина приносит груду штанов и гимнастерок — все старое, застиранное, выгоревшее на солнце. Прорехи, дыры; не хватает половины пуговиц. Бисеров, подумав, надевает гимнастерку их самых ношеных, но зато аккуратно заштопанную. В тон подбирает остальное обмундирование. Затягивается ремнем. Меряет сапоги — кстати, тоже не новые. Добровольцы, ага.
Где же?.. Старшина больше не приходит. Бисеров чувствует себя странно — без нашивок и петлиц. Какое у него звание? Какие войска?
— Без знаков различия, — говорит Филипенко. — Привыкайте. Документы и награды потом сдадите мне — под роспись.
Старлей уходит. Тишина.
Десантники переглядываются, но никто не решается озвучить первым. Почему-то смотрят на Бисерова. Тогда сержант говорит:
— Мы, что — штрафники?
Все почему-то чувствуют облегчение. Хоть какая-то определенность.
Только разжалованные носят форму без нашивок. Вполне логично. Но и это предположение оказывается ошибочным, когда Бисеров обнаруживает на пилотке звездочку. И на остальных пилотках тоже.
Бля, думает сержант. А я ведь почти догадался.
2005
— Это мальчик, — обижается Гуля. Как можно спутать? — думает она. Девочки же совсем другие.
— Такой красивенький, — не сдается бабуся. Георгий нахохлился и смотрит с подозрением. Щеки как у хомяка, раскраснелись на морозе. Глаза голубые, брови нахмурены. Вылитый папа.
«Женщины после двадцати семи похожи на Маугли. Почему? Потому что они так же способны жить в браке, как Маугли — среди людей».
Пожалуй, думает Айгуль, за эти слова я злюсь на твоего папу больше всего. Слишком они похожи на правду.
Владлен вообразил себя человеком — и ушел.
Осталась маугли. С человечком на руках.
Айгуль вдруг словно что-то толкнуло в спину. Она повернулась. Моргнула. Показалось, нет? На мосту ей почудился человек в военной форме — как из старого фильма. Несмотря на холод, с непокрытой русой головой. Дыхание окутало человека кисейным облаком.
— Бомжей развелось! — говорит бабуся. — Прости господи.
????
— Какой год?! — орет Бисеров. — Какой, нахрен, сейчас год?!
Сержанта с трудом удерживают вчетвером. У Бисерова темпоральный шок, хотя он и слов-то таких не знает. Ничего, думает Филипенко, скоро оклемается. Мне нужен этот чертов две тыщи пятый год. Мне он позарез нужен.
— Спокойно, — говорит Филипенко. — Спокойно, боец. Сорок первый. Ты дома. Что видел?
— Женщину видел, — говорит Бисеров. — С коляской. Только она, кажется, меня испугалась.
У Филипенко застывают губы.
— С коляской? Красивая?
Сержант внезапно успокаивается. Откидывает голову, смотрит в потолок. Там покачивается на шнуре электрическая лампа. А еще выше, по бетонному перекрытию, идут силовые кабеля.
— Иди ты знаешь куда, — говорит Бисеров и отворачивается.
— Знаю, — говорит Филипенко.
II. Маугли
1942, февраль
— Ви хайст дизэс дорф? — спрашивает младший сержант Бисеров. Слова затвердевают, едва вылетев изо рта. Зубы онемели и звонкие; кажется, на них даже эмаль застыла. Пар дыхания липнет на ресницы.
— Как называется это село?
Бетонная стена лаборатории перед Бисеровым небрежно выкрашена белой водоэмульсионной краской. Или залита слоем глазури, как пасхальный кулич — в зависимости от воображения смотрящего. В животе у Бисерова урчит, так что за свое воображение сержант может быть спокоен. Вообще, это обманка: иней и потеки льда поверх облупившейся бежевой штукатурки, но выглядит… сладким.
Леденец, думает Бисеров. Потом говорит:
— Зи браухн кайнэ анкст цу хабн. Бальт комт ди рётэ арме.
Что в переводе означает: «Вам нечего бояться. Скоро придет Красная Армия». Сержанту не нравится немецкий — говоришь, словно булыжники жуешь. Но слова правильные.
Тем более, что к фрицам Красная Армия уже пришла. Поздно бояться.
— Повторяешь? Молодец.
Бисеров выпрямляется и видит на крыльце старшего политрука Момалыкина, Оки Басаровича.
— Вольно, — говорит Момалыкин. — Валя, слишь, ты утреннюю сводку слушал? Что там?
Бисеров рассказывает. Упорные бои в направлении Дрездена, наши войска форсировали Одер и закрепились на западном берегу. Несмотря на ожесточенное сопротивление противника, взяты и освобождены города: Мюнхеберг, Эркнер… Бисеров перечисляет еще с десяток и заканчивает победно: важный стратегический порт Пиллау!
Слегка озадаченный таким подробным отчетом политрук говорит:
— Э… спасибо.
Потом говорит:
— Война, слишь, скоро кончится, Валя. А мы с тобой здесь сидим. Обидно. Возьмут наши Берлин — и нет войны. Приедут домой, скажут: чего ж ты, Оки Басарыч, красный кавалерист, совсем Гитлера не бил? Где ты был, Оки, спросят? А мне даже, слишь, ответить нечего! Э, да что тут скажешь? Уфалла!
Политрук в сердцах машет рукой.
Среди ребят ходят слухи, что в гражданскую Момалыкин был заместителем самого Буденного. Так или нет, Оки Басарыч — это нечто особенное. Одни усищи чего стоят. И короткая неуставная папаха из шкуры барашка.
— Я пойду, Оки Басарыч? То есть… разрешите идти!
— Иди, Валя, — говорит старший политрук и вздыхает. Усы от этого качаются, как еловые лапы.
2005, март
Снег падает вниз — плотный, налитый водой. С влажным шлепком разбивается о карниз. Гуля даже не поворачивает головы. Нет, Георгий не проснулся. Наверное. Все равно.
За окном — ранняя оттепель, солнце.
И птицы. Айгуль слышит их щебет — весенний и бодрый. На коленях у неё лежит раскрытый журнал. Фотография девушки в бикини, надпись гласит «Festei». На соседней странице — гороскоп на март. Знак: Водолей.
Пауза.
Трубка зажата в руке — холодный пластиковый кирпич. Слова бьются в нем, закипают прозрачными пузырями: займись собой, займись, тебе уже не двадцать и даже не двадцать пять, у тебя ребенок, ты о нем подумала? подумай, да-да, я понимаю, что мальчику нужен, да, не надо опускать руки, нет, нет, да, не болеет, деньги вышлю, спасибо, я отдам, ничего, ты же знаешь, приезжай, сейчас не получается, ты же моя мама, я твоя…
Айгуль сидит, погрузившись в серое безмыслие, зафиксировав себя неподвижно, словно больную ногу в гипсе. Я так устала, думает Гуля. Трубка в руке истекает пузырями.
— Не обижайся. Ты меня слышишь? Алло, алло!
1942, февраль
От нечего делать Бисеров тщательно мнет желтую газетную бумагу, потом разглаживает и читает:
«Деритесь, как львы!
В радостные дни наступления Красной Армии мы хотим передать вам весточку о нашей победе на трудовом фронте. Колхозы и совхозы Узбекистана вырастили в этом году невиданный урожай и сдали государству на 6 миллионов пудов больше хлеба, чем в прошлом году. Все для фронта, все для победы! — с этой мыслью живет и работает весь узбекский народ.
Деритесь, как львы, славные воины-узбеки!»
Когда сержант, наконец, вываливается из теплого отхожего места, звучит твердый командирский голос:
— Бисеров!
Сержант против воли подскакивает.
— Я!
— Руки мыл? — Филипенко смотрит на него с усмешкой. Выдыхает пар из резных ноздрей.
— Так точн… Обижаете, товарищ лейтенант!
— За мной, — говорит старлей. Вот хохлятина, думает Бисеров с уважением. Построил меня, да?
Он взбегает вслед за Филипенко по лестнице. Лед со ступеней аккуратно сколот и сложен в кучу. Голубой фронтон с венком и римскими цифрами оброс сосульками, как борода деда мороза. Бисеров проходит между колонн. Колонны раньше были греческие, сейчас просто грязные.
Над крышей со сдержанным величием реет красный флаг.
В доме с греческими колоннами в царские времена находилась электростанция, в гражданскую — картофельный склад (на первом этаже), школа (на втором), сейчас здесь штаб. Метрах в пятидесяти возвышается бетонное здание лаборатории. Бисеров поворачивается и видит вдалеке «беседку Ворошилова», там курят ребята из батальона охраны. За беседкой чернеет лес. За тощими спинами тополей и осин выстроились толстые белые ели. А где-то там, не видно, по лесу тянется колючая проволока, обозначая границы секретной зоны.
Бисеров топает сапогами, стряхивая снег, затем шагает в дверь.
— Держи, — говорит Филипенко и протягивает руку. Бисеров опускает взгляд. Видит жестяную круглую коробочку с надписью готическими буквами. Это же… о!
— Немецкая мазь для альпинистов. Намажешь лицо и шею.
Увидев, как изменилось лицо Бисерова, старлей поясняет:
— Чтобы кожа не облезла. Мороз все-таки.
Да, мороз. Особенно если летишь с высоты полкилометра, вокруг свист ветра и сорок градусов (а наверху и все пятьдесят) обдирают голую кожу ледяной теркой. Но пожрать леденцов после приземления все равно было бы неплохо, думает Бисеров. Эх.
— Спасибо, товарищ лейтенант! — говорит Бисеров искренне.
Сержант готов сейчас думать о леденцах, об уроках немецкого, о сводках Главного командования — о чем угодно, только не о том, что предстоит. О бабах — хороший вариант, но не сегодня. Потому что тогда Бисеров волей-неволей вспомнит женщину с коляской. И понеслась.
2005, март
«Если ты еще не решила проблемы жилья, не изменила свои пристрастия и стиль — спеши. Время способствует и твоим романтическим отношениям: ты привлекаешь внимание. Вернется тот, кого ты считала суженым. Придется выбирать среди поклонников из прошлого».
Что может быть глупее гороскопов? — думает Гуля. И сама же отвечает: ничего.
Просто иногда очень-очень хочется, чтобы хоть что-нибудь из написанного оказалось правдой.
Гуля вскидывает голову — из детской доносится полусонное ворчание.
Георгий проснулся.
1942, февраль
— Да, — вспоминает Филипенко. — Совсем из головы вылетело. Насчет твоего вопроса…
Какого вопроса? До Бисерова не сразу доходит. Точно. Дернул его кто-то в прошлый раз за язык — спросить, как эта штука работает. Циолковский, м-мать, нашелся. Цандер, бля. Но с Филипенко особо не поспоришь. Раз старлей обещал, что объяснит, значит — объяснит.
— От обратного: не машина времени создает парадокс, а парадокс создает машину времени, — заканчивает лекцию Филипенко. Потом смотрит на сержанта и говорит:
— Вот примерно так. Ты что-нибудь понял?
— Нет, — отвечает Бисеров честно. Потому что даже не пытался.
— Ну и ладно. Готовься к заброске.
Через час все готово.
Посреди класса стоит младший сержант Валентин Бисеров. На нем кирзовые сапоги и масккостюм из белой бязи — поверх полушубка и ватных штанов. Внутренним слоем в луковице — теплое белье и зимние портянки. Лицо сержанта блестит от трофейной мази. На руках — рукавицы, парашют десантный образца 41-го года напоминает толстую пуховую подушку (под которую кто-то засунул немецкий автомат). Еще одна подушка, поменьше, спереди. Это запасной парашют.
Сержант так упакован, что кажется, ему и за кольцо нет нужды дергать. Мягко приземлится с любой высоты.
Филипенко оглядывает подчиненного в последний раз. Вроде все.
— Хорош, — говорит Филипенко. — Прямо принц на белом парашюте. Ну, присядем на дорожку.
2005, март
Колеса с отчетливым скрипом катятся по подмерзшей за ночь земле. Вжж. Вжжик. Серые шины подпрыгивают, когда коляска минует очередной ухаб. Дорога идет мимо трех домов, спускается вниз, к протоке. Георгий при каждом прыжке вскидывает короткий нос. Обалденный нос. Гуле хочется расцеловать его мгновенно, но Георгий такой важный в своей коляске, что она не решается.
Ночью были заморозки. От воды поднимается пар; утки тут как тут, ожидают. Айгуль с Георгием въезжают на мостик — под ногами пружинит асфальт, положенный на металлические трубы и перекрытия.
По ту сторону протоки начинается небольшая полоса леса, голо-черная в это время года. Снег лежит под деревьями. Здесь нет елок, поэтому лес просматривается насквозь. Гуля видит бродячую собаку, рыжую, которая трусит в сторону от дороги, той, что начинается за лесом.
Еще одна собака, черно-белая, лежит на бетонной площадке у канализационного люка. От него стелется легкий, едва заметный след нагретого воздуха. Собака положила морду на лапы, ей тепло.
— Смотри, уточки, — говорит Айгуль сыну. Потом наклоняется. В коляске есть грузовой отсек, Гуля на правах супер-карго достает оттуда корм для уток. Это почти целый батон, нарезной — правда, черствый, с зелеными пятнами — в прозрачном пакете. Когда она выпрямляется, то едва не роняет ношу. Вздрагивает. В горле бьется готовый вырваться крик.
На краю мостика стоит человек. Секунду назад его не было, думает Гуля, впрочем, я не видела…
Человек небрит. Полушубок расстегнут, видна рубашка защитного цвета, перетянутая ремнем.
Бомж?
Гуле становится страшно. Она пытается взяться за ручку коляски, забыв, что руки уже заняты батоном.
— Для уток принесли? Дайте лучше мне, — говорит человек. Гуля пятится, тянет за собой коляску.
Человек насмешливо хмыкает. А потом улыбается.
Это все меняет. Становится видно, что мужчина молод — парень, на самом деле, лет двадцати четырех-пяти. Не сказать, что белоснежная улыбка, зубы темноваты и неровные, но обаятелен. Серые глаза. Чем-то похож на Крючкова из «Небесного тихохода» — такой же среднерусский тип лица.
И в нём совершенно не чувствуется расхлябанности, хамоватого наплевательства на собственное тело, свойственного бомжам и алкоголикам.
Напротив, он выглядит собранным и… сильным. Гуля надеется, что щеки у неё не покраснели — хотя ощущает она их пылающими.
Поэтому, неожиданно для себя, она протягивает человеку дурацкий батон:
— Простите, он…
— Это ничего, — говорит парень. И Гуля вдруг понимает, что это действительно ничего. — Спасибо.
Парень оглядывается и говорит:
— Весна здесь.
Георгий смотрит на пришельца с интересом.
1942, февраль
Филипенко опускает голову на сплетенные пальцы. Н-да. Дел невпроворот, а тут — сиди и слушай.
Все-таки уникальная личность, этот Оки Басарович. Отмахал шашкой всю Первую Мировую, Гражданскую, Польский поход, усмирение казачества, теперь вот опять на западный фронт рвется. Немецкие танки рубить. Филипенко усмехается, вырубается на мгновение. Открывает глаза. Черт, так и заснуть недолго.
— Напомню о том, как начиналась война, товарищи, — говорит Сидоров. — Сейчас вы еще раз услышите историческое сообщение Советского правительства от третьего июня тысяча девятьсот сорок первого года…
Он ставит пластинку, заводит граммофон.
Момалыкин сидит, широкоскулый, полуприкрыв глаза и слушает. С недавнего времени выступать ему нет необходимости.
Для речей у него теперь есть младший политрук Сидоров, рыжеватый, тощий — и с прекрасной памятью на лица. Так что фиг два теперь пропустишь хоть одно занятие. К тому же он нудный. Даже не поржешь, увы. Бойцы спят с открытыми глазами; о перлах, которыми сыпал Момалыкин, вспоминают с тоской.
Старший лейтенант слышит шипение. Игла грамофона опускается, бежит, виляет.
— 26-го, а затем 28-го мая, — вещает из грамофонного раструба высокий тенор, — германская военщина, обстрелявшая пограничные войска доблестной Рабоче-Крестьянской Красной Армии артиллерийским огнём, в результате которого имелись человеческие жертвы, не прекращает наглых, бандитских налетов на священную землю страны победившего социализма! Мы заявим, товарищи, этим бездарным германским правителям и лично Гитлеру о том, что мы не боимся петушиных наскоков! Грозную несокрушимую Рабоче-Крестьянскую Красную Армию не разгромить! Она уничтожит молниеносно всякого врага, который попытается напасть на священные земли…
Филипенко разминает лицо. Под пальцами оно твердое, как пластилин. Да уж, мы слов на ветер не бросаем. Финляндия и Ирак, Иран, Румыния, Польша, половина Германии — везде мы наступаем, везде идем вперед… Броня крепка и танки наши быстры.
Старший лейтенант с силой опускает руки на стол ладонями вниз. Словно вдавливает их в столешницу.
И наши люди мужества полны.
2005, март
Утиный Перл-Харбор. Куски черного хлеба (от белого у уток случается запор) падают на птичек с небес, как авиационные бомбы в пятьсот килограмм. Взрывы клювов и шей. Ледяные брызги долетают до перил. Белесый пар разрывов тянется над черной кипящей протокой. Клекот.
Адмирал Исороку Ямамото наблюдает за бойней свысока. Плоское азиатское лицо невозмутимо, как честь самурая. В голубых глазах отражаются: перила, далекая черная гладь и презрение к смерти. Рот приоткрыт. Превратился в маленький треугольник — почище Бермудского.
Гуля смотрит на этот ротик (тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить) и говорит:
— Видишь, уточки кушают?
В ответ — высокомерное сопение. Адмирал игнорирует женское мнение в таком важном вопросе, как война.
Откуда она взяла этого Исороку? Гуля уже не помнит.
Но Георгию японо-адмиральское происхождение очень идет.
Утки столпились под мостиком и нетерпеливо вытягивают шеи. Ждут, когда адмирал прикажет продолжить бомбардировку. Увы, хлеба больше нет. Георгий вытребовал себе оставшуюся корочку и теперь грызет — вся рожица перемазана. Адмирал доволен.
Тут Айгуль вспоминает, откуда взялся этот Исороку. Валя вчера смотрел фильм по телевизору: американский, про летчиков. Кричал от восторга и лупил себя по бедрам. Так болел за героев, что…
Нет, не Валя.
Валентин. Суровое мужское имя.
1942, февраль
— У тебя курить можно?
Сафронов придвигает пепельницу.
— Кури. Ты обещал рассказать про машину.
— Это долго.
— А ты короче, — это уже звучит как приказ.
Филипенко чиркает спичкой, медленно закуривает. Потом говорит:
— Хорошо.
Сафронов смотрит на его руку с папиросой: это красивая рука с длинными породистыми пальцами.
— Понимаешь, машина времени, — Филипенко делает паузу, — люди о ней думали, пожалуй, больше, чем даже о вечном двигателе. И разве что чуть-чуть меньше, чем о философском камне. Если предположить, что океан всемирного разума — ноосфера — существует, то сегмент «машина времени» в нем будет весьма приличным.
Но вот в чем главный вопрос. Почему у меня получилось, а у других нет? Очень просто. Потому что я начал строить. Это самое главное. Да, я одержимый, я знаю.
О машине времени думали очень много умных людей. Но мало кто начинал её строить, эту машину. Понимаешь? То есть, не в теории, а на деле. Не просто думать, как и что, а взять и начать соединять части в единый механизм. А она возьми и заработай. — Филипенко качает головой, потом переводит взгляд на капитана. — Я думаю, Леша: машина времени только и ждала момента, когда кто-нибудь возьмется за реальную постройку. Она уже была — там, в ноосфере, готовая. Её нужно было только оттуда извлечь. Потому что она уже сама этого хотела. Понимаешь?!
Некоторое время капитан ГБ молчит. Потом спрашивает:
— Слушай, Всеславыч, а ты башкой не того? А то, бля, как-то все идеализмом и прочей капиталистической хренью попахивает, ты извини.
— Возможно. — Филипенко с силой втыкает папиросу в пепельницу. — Но ведь работает же, Леша?
— Да мне наплевать. Сделаем так: то, что машина работает — это чистой воды материализм, достижение социалистической науки. Вот отсюда и будем плясать. Хошь в присядку, хошь гопака. Кстати, а что именно должен сделать твой сержант?
— Нужны немецкие карты. Именно немецкие, Леша. Они точнее, там обозначено все с детальностью до метра. Плюс нужны записки немецких генералов и наших о войне — особенно о войне на территории Германии. Военные руководства и учебники для командиров. Все, что может дать нам сведения о сегодняшнем противнике. Информация решает все, верно?
Потом Филипенко говорит:
— Даже если будет не совсем та информация, на которую мы рассчитываем…
— То есть? — Сафронов внимательно смотрит на него.
— Это будет возможная информация. С одной маленькой поправкой: другой класс точности. Объясню на примере. Тебе что-нибудь говорит число: 3 июня 41-го года?
— Спрашиваешь! — капитан смеется. — Еще бы не говорило.
— А 22 июня того же года? Ну, напрягись.
2005, март
Бисеров разлепляет веки и видит перед собой голубые глаза вероятного противника. Враг проницателен и не прощает ошибок. Стоило сержанту шевельнуться, как его уже взяли в оборот.
— Гу! — говорит враг довольно. Переворачивается на живот и подползает к ограждению кроватки.
— Здорово, боец, — говорит Бисеров. — Мамка твоя где?
В комнате две кровати: взрослая и детская. Стоят одна рядом с другой, между ними узкий проход. Сержант смотрит на наручные часы: ага, времени в обрез. Он откидывает одеяло и спускает ноги на пол. Пяткам тепло. Для контраста вспоминается неотапливаемая казарма десанта, когда утром просыпаешься за час до подъема — потому что вместо суставов ледяные шары — и лежишь, растирая колени, иначе по сигналу «Рота, подъем, взвод подъем!» можно вообще не встать.
— Гу? — спрашивает Георгий.
— Точно, — говорит сержант. — Тут ты прав, дружище Исороку. Лопухнулся я вчера — что есть, то есть.
Вчера он с трех утра скрытно перебрасывал собранные материалы к объекту «Мама». Потом готовился: отрывал обложки (лишний груз), собирал книги в пачки, закрывал пленкой и перематывал скотчем (офигенная штука!), потом взвешивал на огромных весах. 104.81 килограмма — разрешенная масса. И лучше бы за нее не выходить. Бисеров вымотался как собака, зато подготовил к переброске три партии. Он сам — четвертая. Потом пришел к Гуле, поел кое-как и упал замертво. Сержант думает: вот я дурак.
— А-гу, — соглашается Георгий. Он вообще соображает гораздо лучше Бисерова. — Му-а. Гу.
Что по всей видимости означает: «не стой столбом, действуй, мне все время за тебя думать?». Бисеров хмыкает. Посчитав свою задачу выполненной, Георгий отворачивается к стенке. Через минуту слышится только ровное сопение. Хор-роший мальчик. Приятно офигев, Бисеров на мягких ногах выходит из детской.
Айгуль скорчилась, натянув одеяло до глаз, и ровно дышит. На первый взгляд — всё хорошо. Но сержанта не проведешь. Бисеров осторожно дотрагивается до её носа. Бля. Нос — ледяной просто. Похоже, вся она, как персидская княжна, никак не может согреться. Сержант нащупывает запястье девушки — точно. Знакомый ледяной шар.
От прикосновения сержанта Гуля вздрагивает, но продолжает спать.
Вот я дурак, думает Бисеров. Она же как ледышка, бедная. А я вчера…
Поэтому сержант снимает исподнее, залазит под одеяло и прижимается к Гуле. Разница в температуре тел велика настолько, что воздух едва ли не шипит и не брызжет. Бисеров начинает терпеливо растирать девушку, греть собственным раскаленным телом, чтобы она оттаяла, стала вновь мягкая и гибкая. Он делает это с потрясающим терпением. Он напоминает сам себе разогретый докрасна чугунный шар, который не жжет, но медленно прогревает комнату. Бисеров проводит ладонями по её груди — гладкой и твердой, словно она вырезана из дерева. Сержант почти целомудренен. Он трогает её между бедер — но только, чтобы поделиться внутренним жаром. Он прикасается к гулиным застывшим губам — но только затем, чтобы вдохнуть туда тепло.
И Гуля начинает оттаивать. Медленно, но верно.
И наступает момент, когда она удивленно вздыхает, глядя на него глубоко-глубоко. И тут же пружинисто, сильно обхватывает его бесконечными ногами, упирается в ягодицы. Откидывает голову. Он вбирает губами её губы, её шею, тонкий вкус её ключиц.
«Наконец-то», — шепчет Гуля.
Над головой сержанта с резким хлопком раскрывается купол. В животе — провал. Охрененное ощущение.
Это напоминает прыжок с парашютом — только без парашюта.
Гуля кричит.
За стенкой обиженно плачет разбуженный Георгий.
1942, февраль
— Иди ты, — говорит Сафронов без выраженной интонации. Из чего Филипенко делает вывод, что задел капитана до печенок.
— Я серьезно, Леша. Здесь война началась 3 июня — и нашим наступлением. Что получилось, ты знаешь. В первый месяц войны мы разгромили всю немецкую кадровую армию, захватили полутора миллиона пленных и вплотную вышли к границам самой Германии. И сейчас наши войска стоят у стен Берлина.
А там все получилось наоборот. Как в зеркале.
Третьего июня не было ничего. А двадцать второго июня в четыре часа утра, без объявления войны германские регулярные войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города: Житомир, Киев, Севастополь…
— Вот черт, — говорит Сафронов.
2005, март
— Зачем? — интересуется Айгуль.
Затем, что выбросить тебя может на высоте от минус пяти метров до полутора километров (Минус пять, это как? Под землей, что ли? — спрашивает Бисеров у Филипенко. Ага, — отвечает тот). И лучше бы сделать поправку и оказаться не под слоем грунта и не в качестве живого кирпича в стене здания, а где-нибудь под облаками. Для того и парашют.
Но Гуле сержант этого не рассказывает. Он говорит:
— Я спортсмен вообще-то.
И улыбается. Так, что Айгуль от смущения прячет глаза.
1942, февраль
— Объект «Мама» находится вот здесь, — Филипенко разворачивает карту. Карта 40-го года, а не 2005, но это уже не так важно. — Замаскирован под коллектор теплоцентрали. Смотри, Леша. Здесь мост через протоку, — он чиркает карандашом: раз и два. — Вот здесь дорога, лес, здесь жилые дома. А вот сам объект.
— Что там, на объекте «Мама»? Ты знаешь?
— Я не знаю, я предполагаю — с определенной степенью уверенности.
— Хватит вилять, Всеславыч! Что там?
— Как что? — говорит Филипенко спокойно. — Машина времени.
— Твою… — Сафронов вынужден сделать паузу, чтобы справиться с голосом. — Еще одна?
— Ну, конечно. А ты сомневался?
2005, март
Айгуль ушла гулять с Георгием, так что у сержанта есть полтора часа. Парашюты он подготовил заранее, осталось подбросать вещи в пакет и исчезнуть. Скорее всего, навсегда.
Домой еду, думает Бисеров.
Мысль почему-то не радует. Сержант проходит по комнатам, заглядывает в кроватку — словно мог что-то забыть. В кроватке лежит фиолетовый заяц с одним глазом. Здорово, боец. Жизнь-то тебя, смотрю, основательно потрепала. Поедешь со мной?
А что бы сейчас сказал Георгий? «Гу» или даже «А-гу»?
Да, дурак. Что делать.
В шкафу Бисеров находит альбомы с фотографиями, садится на пол и листает. Мелькают лица: Гуля, Гуля, какие-то незнакомые лица, Гуля. Потом, без перехода: Георгий, Георгий, Георгий.
Какого черта я делаю? — думает он, но все равно продолжает листать. Зачем мне это?
В первый момент Бисеров даже не понимает, что увидел. Машинально уходит на пару страниц вперед. Потом его будто по голове бьют. Пыльным мешком.
Он отлистывает назад. Ну, где?!
Вот.
Сержант сжимает зубы. Кажется, это уже слишком. Черно-белый снимок, но очень четкий, глубокий, таких у нас не делают. Еще не делают.
Обычное фото. На снимке пара. Девушка, несомненно, Гуля. Рядом с ней…
Сержант долго рассматривает фото, поворачивая его то так, то эдак. Блин, думает он. Нет, ну блин же, иначе не скажешь.
1942, февраль
Безопасники привозят его на «эмке», в закрытом кузове — небритого и веселого. На щеке алеет свежая царапина. Все дорогу он хохочет и травит байки. К концу путешествия он лучший друг ребят из охраны, пусть даже форма на нем без «лазоревых» петлиц. Бисеров спрыгивает, держась за борт; легко прихрамывая, идет к Филипенко.
— Товарищ старший лейтенант, по вашему прика…
Филипенко не дослушивает и стискивает Бисерова в объятиях.
— Живой?
— Так точно, товарищ лейтенант. — Бисеров улыбается. Ему кажется, что он лет двести не был дома. Здесь, в своем времени. От этого сержант немного рассеян и постоянно вертит головой. — Получили от меня посылки?
— Две уже, третью ищем. Найдем, Валя, не волнуйся. Чего хромаешь-то?
— Приземлился неудачно. Ногу подвернул. Ерунда.
В казарме его отлавливает Момалыкин. Торжественно вручает книжицу карманного размера, молча пожимает руку и уходит.
Озадаченный, сержант смотрит политруку вслед, затем открывает подарок и читает:
— Уот из дзы нэйм ов дзыс вилледж? Как называется это селение?
Бисеров думает: э? Читает дальше:
— Эвритсинг тэкен бай дзы Рэд Арми фром дзы инхэбитэнтс уил би пэйд фор. За все взятое у жителей войска Красной Армии заплатят!
Ничего себе. Это с какого языка? Сержант закрывает книжицу, смотрит на обложку. Там написано:
«Краткий русско-английский военный разговорник», Воениздат, 1942, тираж 100 000 экз.
Ну, дела. Мы пока вроде даже до Англии не дошли?
Значит, дойдем.
Бисеров сует книжицу в карман и выходит.
1942, февраль
Филипенко не успевает отвернуться. В руках у сержанта фотография — не та, на который Гуля и Филипенко стоят, обнявшись. Другая. Здесь Гуля — одна. Но и этого вполне достаточно.
Старлей молчит. Что-то страшное с его лицом.
— Красивая? — спрашивает Бисеров. — Ведь правда?
— Да. Красивая. — слова идут с трудом. — Откуда у тебя это? Ах, да. Глупый вопрос.
Сержант усмехается.
— Что, хохлятина, обидно?
— Как ты сказал?
Филипенко трясет головой, словно в ушах у него вода.
— Валя, у тебя шок, — говорит старлей.
— Объект «Мама» построили вы, верно? Вторую… вернее, самую первую Машину времени. Можете не отвечать. Я не спрашиваю, такая штука. — сержант прячет фотографию в нагрудный карман. — Так кто это?
Филипенко долго молчит, прежде чем сказать:
— Это моя жена.
— Какая еще жена, товарищ лейтенант? — удивляется Бисеров. — Ничего не знаю. Уехали вы от жены, нет вас в две тыщи пятом. Я проверял.
До Филипенко, наконец, доходит.
— Убью, — говорит старлей.
— Это само собой, — легко соглашается Бисеров. — Жить мы с ней не можем, а вот убить за неё — запросто. Главное, напрягаться не надо. И не надо мне объяснять, товарищ лейтенант, что у вас было важное дело и цель жизни! У меня, блин, тоже важное. И тоже цель жизни. Можете мне поверить. А сейчас у меня цель жизни набить тебе морду, сука. Нет, не за неё. За себя.
Он расправляет плечи. Сержанта учили драться и убивать, но сейчас он не хочет никаких «уклонений от удара» и прочих «захватов на болевой». Сейчас его вполне устроит обычный бокс.
Он даже позволяет Филипенко ударить первым. Бум. Мир темнеет, уплывает вбок, возвращается. Во рту — соленый привкус крови.
Сержант выпрямляется. В голове приятно шумит. Ну, все, понеслась.
2008
Дмитрий Колодан Круги на воде
Часы остановились в 05:53. Заметил я это не сразу. Я удил рыбу под железнодорожным мостом в Ла-Коста, а когда смотришь на поплавок, время течет по иным законам. Над рекой поднялся такой туман, что о привычном беге секунд можно было забыть. Над водой клубился пар, густой, как взбитые сливки; с прибрежных болот ползли серые лохмотья. В тумане чудилось движение: кривились огромные лица, тянулись изломанные руки, в миг вырастали и исчезали фантастические деревья… Сюрреалистический театр бледных теней. Совсем не страшно, скорее неуютно и тоскливо. Наверное, подобное чувство испытываешь при встрече привидением. Время вязнет, как в патоке: пять минут или час — разница не заметна.
Лишь когда ветер донес гудок поезда, я всполошился. Экспресс проходит по мосту каждое утро ровно в семь, но, судя по часам, он заметно опережал расписание. Спустя мгновение я сообразил, что мигающее двоеточие, призванное отсчитывать секунды, остановилось.
Поплавок вздрогнул, проплыл против течения и нырнул в темную воду. Сразу забыв про часы, я вскочил, схватившись за удочку. До сих пор я не мог похвастаться богатым уловом. В активе значилась лишь небольшая форель, сорвавшаяся с крючка пару часов назад. Проще говоря — минус одна рыба. Все шло к тому, что единственной добычей будет сильнейшая простуда: куртка отсырела до нитки и не защищала от холода.
Правда, жаловаться на отсутствие рыбы было бы нечестно. В рыжем камне, из которого сложены быки моста, сохранились четкие отпечатки ископаемых рыб — пучеглазых панцирных уродцев девонского периода. Следы истории, в пару к затертым щербинам от пуль и осколков. Во время войны мосту досталось изрядно: здесь проходила важная магистраль, и чилийцы бомбили его каждый день. Не знаю, каким чудом он уцелел.
На мост с лязгом и грохотом ворвался состав. Я неловко дернул удочку. Из темной воды появилась серебристая спина, но рыбина сразу ушла на глубину. Леска задрожала перетянутой струной, удилище выгнулось. Я отпустил зажим, и катушка закрутилась, стрекоча, будто чокнутая цикада.
Над головой громыхал поезд. Мост трясся всеми проржавевшими костями, сверху сыпалась колючая пыль. Это надолго — утром перегоняют большие составы, вагонов по сто, а то и больше. От шума рыба совсем ополоумела, заметалась из стороны в сторону, того и гляди, спутает леску. Я принялся сматывать катушку, подводя рыбу к берегу.
Даже на мелководье вода была темной, словно крепкий чай. Дна не разглядеть, лишь отступающие волны обнажали глянцевые камни, да колыхались косматые водоросли. Поплавок болтался в воде, похожий на насмешливый ярко-красный глаз. На мгновение я разглядел лобастую голову и полукруглый плавник. Накатившая волна швырнула рыбу чуть ли не к моим ногам, захлестнув ботинки и добавив к влажной куртке насквозь промокшие носки. Но мне было не до того. Понимая, что когда волна отхлынет, мою добычу попросту смоет, я дернул удочку вверх.
Рыба вырвалась из воды и ударилась о каменную опору моста. Я победно вскрикнул, но радость тут же сменилась досадой: новая волна, куда больше предыдущей, опять ударила по ногам. Я отпрыгнул, косясь на воду. Не ожидал я от реки подобной жадности — всего одна рыба, и ту не отдает. В ответ на мои стенания по темной глади пробежала третья волна. Я метнулся к опоре моста.
Волна настигла меня в паре шагов от каменной стены — поймала и схлынула, словно единственной ее целью было залить мои ботинки. Вот зараза! Я развернулся к реке, грозя кулаком, и замер с поднятой рукой, не веря глазам.
Река встревожилась не на пустом месте, и моя рыба была здесь совершенно ни при чем. Поднять такие волны способен только плывущий корабль, но к тому, каким он окажется, я не был готов.
Против течения плыла черная субмарина. Гул моторов растворялся в перестуке колес и грохоте опор моста, и казалось, лодка движется бесшумно. Туман пугливо расступался перед массивным носом, клубами скатываясь с округлых боков.
Прежде я видел субмарины только на картинках и не представлял, какой огромной она окажется. Возможно, туман увеличивал размеры, но все равно лодка завораживала. Похожее чувство у меня было, когда я впервые увидел в музее скелет кита. Субмарина же оказалась минимум в два раза больше морского исполина.
Одними колоссальными размерами сходство с китом не исчерпывалось. Только походила лодка не на большеголового кашалота или неуклюжего горбача, а скорее на косатку, кита-убийцу. Подобие сквозило в очертаниях корпуса и в блестящей черной шкуре. Высокая рубка смотрелась как спинной плавник. Субмарина плыла так близко, что я без труда добросил бы до нее камнем. За лоскутьями тумана терялись детали, но кое-что я разглядел отчетливо: выведенный белой краской номер — U-634, и сразу под ним рисунок отрубленной конской головы.
Удочка выпала, длинное удилище колотилось о ботинки. Я наступил на него, пока не уплыло. Протерев глаза, снова посмотрел на лодку. В тумане и не такое привидится, на месте субмарины легко мог оказаться испанский галеон или живой плезиозавр… С тем же успехом лодка могла всплыть посреди бассейна или в аквариуме Отто. Дело не в том, что река мелкая — глубины хватило бы и на более внушительный корабль. Но моей фантазии не хватает, представить судно, способное взобраться по плотине гидроэлектростанции.
Однако для галлюцинации лодка выглядела слишком реальной. Влажно блестел металл, пенилась вода, я видел чуть ли не каждую заклепку и шов. Если б не грохот поезда, наверняка услышал бы и звук работающих двигателей.
Густое облако тумана окутало лодку. Некоторое время я видел темный силуэт, скользящий за белой пеленой, но вскоре пропал и он. Остались тяжелые волны — каждая следующая меньше и меньше.
Опомнился я, когда услышал за спиной громкие всплески. С подводной лодкой я и думать забыл про свой улов. Мост еще гудел, но поезд уже перебрался на противоположный берег. Незаметно рассеялся туман.
Пошатываясь, я подошел к опоре моста. Вода в ботинках не хлюпала — плескалась. Как и пойманная рыбка в маленькой лужице. Размером не больше ладони, угловатая, глаза навыкате и какие-то пластины вместо чешуи… Не знал, что в реке водятся подобные уродцы. Намотав леску на кулак, я поднес рыбу к лицу. Та перестала трепыхаться и лишь крутилась вокруг оси. Я ткнул ее пальцем и одернул руку. По глазам рыбины, черным, словно их залили тушью, растекалась голубоватая поволока. Недолго она протянула на воздухе…
Под ложечкой неприятно защемило. Я вспомнил, где видел такую рыбину. Здесь же, под мостом, отпечатанной в камне. Быть этого не может… Доисторическая рыба на крючке — это посильнее любой подводной лодки. Я прошел вдоль каменной кладки, высматривая ближайший отпечаток. Сходство явное: очертания тела, плавников — все указывало на то, что рыбы принадлежали одной породе.
Ну и дела… Получается, я поймал живое ископаемое? Реликт девонского периода? Эта маленькая рыбка — настоящая бомба, способная взорвать научный мир. Портрет на обложке «Популярной Науки» гарантирован. Надеюсь, на латыни мое имя будет смотреться не слишком глупо.
— Мэд! Мэдисон! — крик, донесшийся сверху, вернул меня к реальности.
Оторвавшись от созерцания таинственного улова, я поднял голову и увидел высокую женщину в защитной куртке с капюшоном, с большим штативом на плече. Опираясь свободной рукой о камни, она спускалась к реке. На груди болталась тяжелая сумка с оборудованием.
— Привет, мам, — помахал я.
Из-под высоких сапог посыпались мелкие камни и рыхлые комья земли. Я помог ей спуститься и забрал треногу и сумку с фотоаппаратом.
— Рыбачишь? — спросила она, кивнув на удочку.
— Вроде того.
Рыбалку мать не особо жаловала. В списке ее увлечений защита природы стояла далеко не на последнем месте. Но вслух она никогда не упрекала ни меня, ни Отто.
— Давно здесь? — спросил я.
Она пожала плечами.
— Пару часов. Работала ниже по течению. Длинная Челка водила жеребят к реке, я отсняла три пленки. Удалось сделать несколько неплохих кадров.
«Неплохих» — значит, редакция любого журнала о природе оторвет их с руками. Я не стал ее расстраивать тем, что в ближайшее время научному миру будет не до ее лошадок.
— Видела?
— Что? — удивилась она.
— Да так, — отмахнулся я.
Если б видела, то не переспрашивала. Сложно не заметить подводную лодку, но наверняка она увлеклась выстраиванием композиции и не смотрела по сторонам. С ней бывает.
Мать переехала сюда где-то года четыре назад, фотографировать мятных пони. Она хороший фотограф, и дело свое знает и любит. У нее вышло два альбома, несколько статей в журналах и настенный календарь со снимками длинногривых лошадок. Мятными этих пони прозвали за цвет шкуры. На самом деле они белые, но во влажной атмосфере прибрежных болот в шерсти заводится какая-то водоросль, потому они выглядят светло-зелеными. Редчайшие создания — в природе их осталось от силы полсотни. Мать даже основала фонд их защиты.
— Ты домой не собираешься? Завтракать пора. Сколько времени?
— Без семи… Нет, вру — не знаю. Часы остановились.
Про часы-то я совсем забыл. Я потряс рукой без особой надежды вернуть хронометр к жизни. Не будь рядом матери, зашвырнул бы подальше в воду. Но в ее присутствии не стоило так грубо вмешиваться в речную экосистему. Я понятия не имею, какой период полураспада у электронных часов.
Я смотал леску, незаметно припрятав рыбину в кармане. Матери показывать не стал — с нее станется развернуть кампанию в защиту живых ископаемых. И первым под раздачу попаду я: на моем счету уже значится одна загубленная рыбья жизнь. Лучше поговорить об этом с Отто. Он живет здесь давно, да и рыболов не в пример опытнее меня. Должен же он что-нибудь знать про этого гостя из девона?
Наш дом, двухэтажный особняк в тюдоровском стиле, стоял в паре километров от железнодорожного моста. Его построил кто-то из предков Отто в конце девятнадцатого века. Не знаю, что им двигало, когда он решил поселиться в такой глухомани. Коммивояжеры и те не рисковали сюда забираться.
Для своего почтенного возраста особняк неплохо сохранился, и войну пережил без особых потерь. По рассказам Отто, здесь квартировалась часть противовоздушной обороны. С тех времен на заднем дворе остались бетонные конструкции, плохо сочетавшиеся с барочным фонтаном, да насквозь проржавевший пропеллер чилийского бомбардировщика, зачем-то укрепленный на крыше. Когда мы подходили к дому, Отто колотил по нему молотком.
Заметив нас, Отто встал в полный рост, рискуя скатиться по черепице, и помахал рукой. Ветер всколыхнул седые космы, придав ему сходство с грозным скандинавским богом Тором. Даже молот в наличии, хотя джинсовый комбинезон на подтяжках несколько портил впечатление.
Я помахал в ответ, и Отто стал спускаться по приставной лестнице. Встретились мы уже на крыльце.
— Привет, привет! — жизнерадостно сказал он. — Успели к завтраку.
Я усмехнулся. Приди мы парой часов позже — все равно бы не опоздали. Отто вытер руки о бедра и протянул мне ладонь. Он каждое утро так здоровался — словно мы не виделись неделю. Кожа у него была грубая и шершавая, как наждачная бумага, а рукопожатие таким крепким, что впору колоть орехи.
— Ну? Как прошла рыбалка? — спросил Отто, когда мы покончили с приветствиями. — Поймал речное чудовище?
Я закашлялся.
— К… Какое чудовище?!
— Разве не знаешь? — изумился Отто. — В реке объявился крокодил-мутант. Зубы с мой палец. Стоит задремать за удочкой — он тут как тут. Клац-клац — и ног как не бывало.
Я невольно опустил взгляд на ботинки. Глядя на мою растерянную физиономию, Отто расхохотался.
— Да ладно. Шучу, — он хлопнул меня по плечу. — А ты уши развесил, да? Крокодил-мутант, ха-ха!
— Ха-ха, — хмурясь, ответил я. Посмотрим, что он скажет, когда узнает, что я действительно поймал речное чудище.
В обществе Отто я часто теряюсь. Его дурацкая манера постоянно шутить, по поводу и без, сбивает меня с толку. К тому же я никак не мог понять, как к нему относиться. Отчимом не назвать, все-таки они с матерью не женаты. Если честно, я даже не знаю, живет она с ним или просто у него.
Тем не менее, Отто мне нравился. Забавный тип. Вроде отставной военный, или пытается себя за него выдать. У него в комнате стоит манекен в офицерской форме. Пару раз Отто намекал, — форма, мол, его, личная. Однако у меня есть основания сомневаться в его искренности. Такое обмундирование носили при королеве Виктории, Отто же едва перевалило за шестьдесят. Других свидетельств его военной карьеры я не видел, — солдатики и модели военных кораблей не в счет.
Я прекрасно помню наше первое знакомство. Дело было в заброшенной бальной зале на втором этаже особняка. Отто стоял лицом к огромному окну и не повернулся, когда я вошел.
— Можешь звать меня Полковник, — строго сказал он. Я невольно вытянулся по струнке. — Был такой знаменитый генерал Ли, а я — Полковник Ли. Легко запомнить.
— Ага, — я судорожно пытался понять, зачем мать связалась с этим солдафоном.
— Кстати, — сказал он. — Ты учишься в университете? Неплохо, неплохо… Ладно, может, у тебя получится мне помочь. Меня нужна информация по одному животному…
— Вообще-то я изучаю информационные технологии, и с зоологией у меня не очень… — начал я.
— Не перебивай. Водный зверь семейства землероек с длинным носом и ценным мехом. Восемь букв, четвертая «у», предпоследняя «л».
— Выхухоль?
Повисла долгая пауза, после которой Полковник растягивая слова, произнес:
— Повтори, как ты меня назвал?
Сердце с грохотом скатилось в пятки. Вот и познакомились…
Полковник обернулся через плечо, оценил мою бледную физиономию и расхохотался во все горло. Согнулся чуть ли не пополам, стуча кулаками по коленям. К вечеру того же дня из Полковника Ли он превратился в Отто. Метаморфоза произошла незаметно, но не последнюю роль в ней сыграла бутылка сливового бренди, очень кстати обнаружившаяся в кухонном шкафу.
За завтраком о рыбалке я старался не говорить. Отто бы полез с расспросами, а в присутствии матери этого бы не хотелось. К счастью, она без умолку болтала о своих пони. К концу завтрака я знал, как подрастают малыши Длинной Челки, что не поделили Угрюмый и Тыква, и прочие истории, которым место в книжках для юных натуралистов.
Когда с едой было покончено, мать отправилась наверх, работать с пленкой. После обеда она опять собиралась к реке — жеребята растут быстро, нельзя упускать ни дня. Отто намерился снова лезть на крышу.
— Надо поговорить, — остановил я его.
— Ладно, — насторожился Отто.
Он подошел к холодильнику и достал банку пикулей.
— Ну, что там у тебя? — Он нацепил на вилку маринованный перчик и долго любовался им, прежде чем отправить в рот.
На всякий случай я взглянул на дверь.
— Такой вопрос. Когда ты здесь рыбачил, тебе случайно не попадались, так сказать… странные рыбы?
— Бывало, — сказал Отто. — Однажды я поймал хрустального карпа, такого прозрачного, что можно пересчитать все косточки. В другой раз у меня клюнул вроде сом, но вместо плавников у него оказались лапы. Представляешь — рыба с ногами!
— Я серьезно.
— Я тоже, — сказал Отто. — Поймал что-то интересное?
— Рыбу, которая вымерла несколько миллионов лет назад, — ответил я.
— Как же ты ее поймал? — растерялся Отто.
— На мучного червя, — сказал я. — Погоди минутку.
Я сходил в прихожую и вернулся с курткой. Та насквозь пропахла рыбой, впору выбрасывать. Достав свой улов, я положил его на тарелку и протянул Отто. Вот уж поистине экзотическое блюдо.
— Вот тебе раз… — сказал Отто. Он брезгливо ткнул рыбу пальцем.
— Видел такую? — спросил я.
— Живьем — нет. Похожа на отпечатки в камне под мостом, — сказал Отто.
— Именно, — сказал я. — Ну и что думаешь?
Отто поскреб седую щетину.
— Для начала надо твой улов как-то сохранить. А то начинает попахивать… После будем думать, что с ним делать. Есть у меня пара мыслишек.
Я кивнул. Действительно — толку, если рыба протухнет? Тогда ей прямая дорога на мусорную кучу — и прощайте, мечты о научной славе.
Отто переложил пикули на тарелку, а остатки рассола вылил в раковину. Затем слегка ополоснул посудину под краном, и мы запихали рыбину в банку. Похоже, успели вовремя — пластины, которые были у нее вместо чешуи, уже стали неприятно липкими.
Отто достал из шкафчика бутылку текилы. Выпивки хватило только на две трети банки, пришлось доливать бурбоном. Тот еще коктейль, осталось запатентовать рецепт. Отто плотно закрутил крышку.
— Теперь — прям хоть в музей! — сказал он, рассматривая банку на просвет. В желтой жидкости вид у рыбы был жутковатый. Словно она пробыла в заспиртованном состоянии не один десяток лет. Плавники колыхались, что совсем не прибавляло ей красоты.
— Так какие мысли по поводу рыбы? — напомнил я, когда Отто вдоволь налюбовался на мой улов.
— Пойдем в мастерскую, — сказал Отто. — Там и поговорим.
Он снова тряхнул банкой, и мне вдруг показалось, что рыба подмигнула.
Мастерской Отто называл маленькую комнатку под самой крышей особняка. Раньше это была детская, и здесь прошли самые светлые годы его жизни. Сейчас комната и вовсе превратилась в мечту любого мальчишки.
Отто был страстным моделистом, и мастерская выглядела настоящим гимном его увлечению. С потолка на тоненьких лесках свисали самолеты и ракеты, на полках жались друг к другу корабли всех времен и народов, толпились армии солдатиков. На столе, переделанном под верстак, возвышался огромный макет испанского галеона, над которым Отто трудился последние три года. Работа близилась к концу, оставалось покрасить корабль и установить такелаж. Но Отто не спешил ставить точку, растягивая удовольствие.
Подойдя к столу, он отодвинул макет и водрузил на его место банку с рыбой. Свет от небольшого окна падал на верстак; стекло засверкало яркими бликами. Отто щелкнул ногтем по банке и спросил:
— Ну, приятель, и откуда ты к нам пожаловал?
Рыба и при жизни не отличалась особой разговорчивостью и вопрос остался без ответа.
— Я поймал ее под мостом, — пришел я на выручку бессловесному созданию.
— Хм… Когда я говорил «откуда» — я имел в виду не столько место, сколько время…
— А! Думаю, реликт девонского периода… Такое иногда случается — выжила же латимерия?
— Хотел бы я знать, как ее предки выживали, когда здесь была пустыня с динозаврами. Или под ледником.
Я растерялся. Ведь он прав. Чтобы справится со всем этим, рыбам пришлось бы сильно постараться. Обычно в такой ситуации эволюционируют.
— Это дело рук Германа, — сказал Отто. — Моего деда. Подкинул старикан головной боли, удружил.
— Причем здесь твой дед? — удивился я.
— Твоя рыба — случай, конечно, уникальный, — Отто постучал по стеклу. — Но далеко не единичный… Сорок лет назад здесь видели живого трицератопса. Лет пятнадцать назад, на местного почтальона напал неизвестный хищник; судя по описанию — саблезубый тигр. Парень спасся только благодаря богатому опыту общения с собаками. Да я сам видел на берегу следы мамонта. Свежие.
— Прямо Затерянный Мир, — усмехнулся я. — И это связано с твоим дедом?
Отто кивнул.
— Так вышло, что он изобрел машину времени.
Некоторое время я молчал. Просто не знал, что сказать на подобное заявление. Машина времени? Ну да, конечно. Правда, в самой идее «дедушки на машине времени» сквозило тонкое издевательство над ставшим уже классикой парадоксом. Но почему бы и нет?
— Она до сих пор работает? — наконец спросил я.
— Не-а. Взорвалась при первом испытании. Вместе с дедушкой.
— Соболезную, — вздохнул я.
— Я его не знал. Когда все случилось, моему отцу было лет пять. Но бабушка долго писала гневные письма Уэллсу, о том, что его глупые идеи лишили ее мужа.
— Не ее одну, — я задумался. — Погоди… Машина взорвалась? Тогда откуда взялась эта рыба? И динозавр с саблезубым тигром?
Отто пожал плечами.
— После взрыва остается воронка. Здесь — воронка во временной ткани. Большая темпоральная дыра, в которую то и дело что-то падает. Распалась связь времен. Век расшатался.
— И кто призван его восстановить?
Я подошел к полке с моделями. Мое внимание привлек макет подводной лодки, напомнив о таинственной утренней встрече. Я осторожно снял субмарину. Модельный пластик оказался холодным на ощупь; на серебристой пыли остались следы от пальцев. Я подул на макет, в воздух взвилось серое облако, и я чихнул.
— Простыл? — участливо поинтересовался Отто.
— Нет. От пыли, — ответил я, утирая слезящиеся глаза.
Подлодка как две капли воды походила на ту, которую я видел утром. Мне стало не по себе. Темпоральная дыра?
— Полагаю, твоя рыба как раз такой случай, — продолжил Отто. — Жила себе спокойно в своем девоне, никого не трогала. Вдруг — бац! Привет далеким потомкам!
Глядя на модель, я вспоминал утреннюю встречу. Казалось, я вновь вижу блестящие от влаги борта, тяжелый и шершавый металл, длинноствольное орудие и черные дыры торпедных аппаратов, швы и заклепки… Я поежился. Отто был очень хорошим моделистом. Теперь я знал это наверняка. Номер не оставил сомнений — U-634. Имелся даже рисунок отрубленной конской головы.
— Проклятье…
— Что-то не так? — нахмурился Отто. Я кивнул.
— Эта лодка, — я повертел модель в руках.
— А что с ней? Чилийская боевая субмарина, капитан — Конрад Вайн. С этой лодкой, кстати, связана одна забавная история… Потом расскажу. Макет я делал по оригинальным чертежам. Ради максимального сходства.
— У тебя получилось. Можешь мне поверить. Я сегодня видел такую же, но настоящую.
Отто во все глаза уставился на меня. Я видел, кок он проглотил вставший поперек горла комок размером с яблоко.
— Плохо дело, — упавшим голосом сказал он. — Похоже, у нас большие проблемы.
— Проблемы? — переспросил я.
Что-то в выражении лица Отто подействовало на меня, как ледяной душ. По спине поползла холодная капля пота. Модель выскользнула из рук и упала на пол, но я не стал ее поднимать.
— Ты ничего не слышал про Конрада Вайна и U-634? — изумился Отто. — Чему вас в университетах учат?!
Я развел руками.
— Хех, — Отто поскреб щетину. — Ладно, попробую рассказать. Конрад Вайн был в своем роде выдающейся личностью. По мне так лучший капитан подводной лодки, даром что чилиец. Конечно, он был полным психом и садистом. Топил все, что плавало не под чилийским флагом — суда с раненными, мирных рыболовов, нейтральные корабли, союзников и сателлитов… Потом всплывал и добивал выживших. Всех.
— Милый тип, — кисло сказал я.
— Не то слово. В конце концов его повесили за военные преступления. Но храбрости ему было не занимать. Ему ничего не стоило напасть на противолодочный конвой, за ним же и посланный. Именно Конраду Вайну принадлежит слава самого отчаянного и смелого рейда за всю историю войны.
Отто хмуро посмотрел на валяющийся у моих ног макет. Смутившись, я поднял субмарину и вернул на место.
— Чилийцы тогда очень хотели взорвать наш железнодорожный мост, но никак у них не складывалось. Налеты каждый день, а все без толку. Тогда решили зайти с другой стороны. Если не получается сверху, то почему бы не попробовать снизу? Чистое безумие — подняться на подводной лодке по реке вглубь материка, по вражеской территории. Тогда плотины не было… Но не знаю, кто бы кроме Конрада Вайна на это решился. Самое смешное, — две трети пути он прошел в наводном положении. Никому в голову не могло прийти, что кто-то способен на подобное безумство…
— Но мост не взорвали? — спросил я.
Отто покачал головой.
— В тот раз у него вышел прокол. Почему — не знаю. Я тогда был в эвакуации, да и лет мне было — года три с хвостиком. Но если они не взорвали мост тогда, они могут взорвать его сейчас.
— Так война давно закончилась… — я прикусил язык, сообразив, какую глупость сморозил.
— Закончилась, — согласился Отто. — А кто на борту лодки знает об этом? Для них война в самом разгаре. Или ты хочешь им рассказать?
— Ну…
— Хорошая идея! Заодно можешь поведать, как она закончилась. И не опускай подробностей, про Сантьяго особенно. Капитан Вайн очень обрадуется.
Я прикусил губу.
— Не уверен, что здесь уместен сарказм. Одного не понимаю — ты говорил, капитана подлодки повесили за военные преступления? Но если он перенесся в будущее, то выходит парадокс…
— То, что он перенесся в наше время, не значит, что он в нем остался. Да у него бы ничего и не получилось. Он накрепко привязан к своему настоящему — закон сохранения массы, энергии и еще чего-то там. Все как с йо-йо на резинке. Взрыв машины времени придал подлодке импульс, зашвырнув ее сюда. Но резинка-то никуда не делась. Ее тянет назад, так или иначе она вернет субмарину в свое время.
— Ясно, — сказал я. — Получается, и рыба тоже вернется?
Та пока в девон не спешила. Неизвестно, правда, как это должно проявиться. Просто исчезнет? Мне казалось, сначала она начнет мерцать и переливаться радужными красками. В «Сумеречной Зоне» путешествия во времени всегда сопровождались спецэффектами.
— Естественно. И куда быстрее, чем наша подлодка. Смотри: возьмем две резинки — одну ратянем на метр, а вторую на пару миллиметров. Ну и где больше сила натяжения?
— Понятно, — я задумался. — Но тогда остается дождаться, когда субмарина вернется?
— Другими словами, — когда Конрад Вайн взорвет мост.
— Не понимаю, почему он до сих пор этого не сделал?
— Другой капитан так бы и поступил. Но Конрад Вайн будет ждать, когда по мосту пойдет поезд.
— Значит, есть шанс, что он не успеет? — с надеждой спросил я.
— Есть, — кивнул Отто. — Но я бы не стал полагаться. Ты знаешь, на сколько он к нам пожаловал? Я — нет. Может, он уже вернулся, а может, задержится и на пару дней. Следующий поезд пойдет вечером. Кстати, пассажирский поезд…
Я уставился в окно. Отсюда мост не виден, но вдалеке я разглядел коричневую гладь реки, бликующую в лучах осеннего солнца. Тиха и спокойна. И не скажешь, что в глубинах притаилось чудовище. Стальной левиафан, ждущий добычу.
— Надо сообщить властям, — сказал я. — У них должны быть средства выследить подводную лодку? Глубинные бомбы, специальные самолеты… Проклятье, пусть остановят поезда!
— Сообщить властям? — Отто криво усмехнулся. — Флаг тебе в руки — телефон в гостиной. А я послушаю, как ты будешь объяснять, откуда здесь взялась чилийская подводная лодка.
— Тогда надо самим перегородить рельсы, — предложил я. — А лучше взорвать пути…
— Конечно! Не дадим Конраду Вайну пустить под откос наш поезд. Пустим его сами!
— У тебя есть другой вариант? — сорвался я. — Предложил бы, вместо того, чтоб критиковать!
К чести Отто, он остался спокоен.
— Пока нет, — сказал он. — Но это не повод пороть горячку. У нас есть немного времени подумать…
Именно в этот момент, со стороны реки донесся гулкий грохот. Потом еще и еще… Спустя секунду я понял, что стреляет пушка.
Не сговариваясь, мы с Отто выскочили из комнаты. Скатились по лестнице кубарем, толкая друг друга и перескакивая через ступеньки. Проклятье! Неужели Конрад Вайн не стал дожидаться поезда? Или хуже — незапланированный состав? Почему именно сегодня?! Ясно одно — надежда на то, что субмарина сама вернется в свое время, так и осталась надеждой.
В дверях мы столкнулись с моей матерью.
— Вы слышали? — взволнованно спросила она. — Что это было?
Я замялся.
— Гости из прошлого, — сказал Отто. — Чилийская субмарина.
Мать сурово посмотрела на меня. Я отвел взгляд.
— По кому они стреляют? — спросила она.
— Надеюсь, только по мосту… — развел руками Отто.
— По какому мосту?! Стреляли в противоположной стороне!
Мы с Отто переглянулись.
— Но там ничего нет, — сказал я. — Одни болота.
Отто нахмурился.
— Значит, они нашли себе цель…
Признаться, я так и не понял, что он имеет в виду. Следом за матерью мы поспешили в сторону реки, не подумав о том, что можем встретить субмарину и оказаться следующей мишенью. К счастью, когда мы вышли, подлодки не было. Левиафан затаился, но в том, что он здесь побывал, не было сомнений. Берег изуродовали глубокие воронки, уже заполнившиеся мутной водой. Серая грязь мешалась с комьями болотной травы. Жуткое зрелище, — словно какой-то великан в приступе безумия скомкал и изорвал берег, как листок бумаги.
Мать схватила меня за плечо так сильно, что мне стало больно, но я не стал высвобождать руку.
— Это… Это же… — она задыхалась, не в силах подобрать слова. Но я понял, что она хочет сказать.
В одной из воронок в грязи лежало переломанное тело мятного пони. Обернувшись, я увидел в соседней воронке окровавленную лошадиную ногу. Медленно я начал считать: три… четыре… пять… Пять мертвых лошадок, включая двух жеребят.
— Твари, — Отто сплюнул.
Меня трясло.
— Но… Проклятье, не понимаю, зачем? Я могу понять мост — война, коммуникации. Но причем здесь пони?
— Помнишь, что нарисовано на лодке?
— О…
— Убийство лошадей — это роспись. Конрад Вайн — самовлюбленный сукин сын. Ему важно, чтобы все знали, — это его рук дело.
— Сумасшедший…
Мать оттолкнула меня и, расплескивая грязь, спрыгнула в воронку. Схватив мертвого пони за ногу, она стала вытаскивать его на берег. Поскользнулась, не устояла на ногах и скатилась в коричневую жижу. Грязь на лице мешалась со слезами и лошадиной кровью. Я бросился к ней, но Отто удержал меня.
— Оставь ее, — сказал он. — Сейчас ты ничем не поможешь.
Она вцепилась в стебли прибрежной травы и вырвала большой пласт грязи. Размахнувшись, зашвырнула его далеко в реку. Волны подхватили крошечный островок и понесли по течению.
— Пойдем, — сказал Отто. — Надо успеть придумать, как остановить эту сволочь, а времени у нас нет.
— Ты хочешь оставить ее здесь? — я кивнул на мать. — А если Вайн вернется?
— Не вернется. Он наверняка затаился: думает, что его будут искать. Ей же нужно проститься — для нее пони были как родные.
Всю дорогу до особняка мы молчали. Не знаю, о чем думал Отто, но у меня перед глазами стоял образ оторванной лошадиной ноги. Я никак не мог от него избавиться — до конца дней он будет сниться мне в кошмарах.
— У тебя есть взрывчатка? — спросил я, когда мы сидели на кухне. Отто разлил бурбон, но я так и не сделал ни глотка. Тупо смотрел на стакан, а видел воронки от выстрелов.
— Динамит для рыбы? — уточнил Отто. — Нет. Я предпочитаю честную рыбалку.
— Жаль, — вздохнул я.
— Думаешь, подводную лодку можно потопить парой шашек динамита? Бабах, и она всплывет стальным брюхом кверху?
Я пожал плечами. Мысль и в самом деле глупая. Что могут сделать два безоружных человека против боевой субмарины? Помнится, Питер О’Тул в одном фильме оказался в схожей ситуации. Но у него была бомба, гидросамолет и корабль. У нас же — резиновая лодка да пара удочек.
— Нужно устроить так, чтобы подводная лодка вернулась в свое время до того, как по мосту пойдет поезд, — сказал Отто.
— Есть идеи?
— Пока нет. Субмарине нужен толчок… Осталось понять — какой?
Я уставился в стакан. Не я первый, кто ищет там ответ. Странно, что я его нашел.
— Рыба, — сказал я.
— Что?
— Девонская рыба. Ее тоже тянет в прошлое.
— Да. И что с того?
— Если сложить натяжение? Это как столкнуть два катящихся бильярдных шара.
— Сложить натяжение? — Отто задумался. — Хм…
Он вдруг вскочил, опрокинув стул.
— Проклятье! Мэдисон, ты гений! Два бильярдных шара, говоришь? Собирай удочки — мы идем на рыбалку.
У Отто была старая резиновая лодка — темно-зеленая двухместная посудина, вся в заплатках и белесых пятнах клея. Ни разу не видел, чтобы Отто спускал ее на воду; бедняжка который год пылилась в гараже и не мечтала снова выйти в плаванье. На веслах наросли густые клочья паутины.
Мы вытащили лодку и расстелили посреди двора. Пока Отто надувал ее велосипедным насосом, я сходил в мастерскую за банкой с рыбой.
Поднимаясь по лестнице, я прокручивал в голове детали предстоящей охоты на субмарину. План был прост до безобразия: выйти на середину реки, рядом с мостом, и ждать, пока всплывет подводная лодка. Только появится, швырнуть в нее рыбу и молиться, чтобы сработало.
Но при всей простоте, в нашем плане было слишком много неучтенных факторов. Во-первых, сама субмарина. Отто утверждал, что рассчитал идеальное место для выстрела по мосту, там и следует ждать лодку. Но если он ошибается? Если субмарина всплывет в паре сотен метров от места — успеем ли мы добраться до лодки прежде, чем она выстрелит?
Во-вторых — рыба. На ней строился весь план, но вдруг она вернется в девон раньше? Чилийцы здорово повеселятся, — каким надо быть идиотом, чтобы идти на подводную лодку, вооружившись одной удочкой. Впрочем, выбора у нас не оставалось.
К счастью, пока рыба не сгинула в реках времени. Я взял банку осторожно, точно готовую взорваться бомбу. Свет причудливо преломлялся в алкоголе, бликовал на стеклянных стенках и отражался от серебристых пластин. Рыбе самое место на музейной полке, но, похоже, не судьба. Вот так и рухнули мои планы войти в историю науки.
Снизу раздались голоса. Выглянув в окно, я увидел, что вернулась мать. Она плакала и что-то кричала, но слов я не разобрал. В конце-концов Отто обнял ее за плечи и я отвернулся. Через какое-то время хлопнула входная дверь.
Я спустился во двор. Отто уже надул лодку, собрал удочки и снасти.
— Как там рыба? — спросил он. Я молча показал ему банку.
К реке мы спустились где-то в километре от моста. Я залез в лодку и перебрался на нос. Отто столкнул ее в воду и запрыгнул следом. Посудина глубоко прогнулась — в другой раз я бы поостерегся на такой плавать. Волны перекатывались через округлые борта. Не прошло и минуты, как под ногами заплескалась приличная лужа.
— Вот дрянь, — Отто стянул ботинок и вылил из него воду. — Надо было надеть сапоги…
Мы выгребли на середину реки. Отто оказался прав — отсюда ажурная громада моста была как на ладони. Лучшего места для прицельного выстрела не придумаешь. Берег, где Конрад Вайн расстрелял мятных пони, скрывала излучина реки.
В мире нет ничего хуже ожидания. Тем паче, когда остановились часы. По привычке я то и дело смотрел на циферблат, но видел те же 05:53. В конце концов, эти цифры стали казаться дурным предзнаменованием. А еще говорят, в числе «тринадцать» нет ничего страшного. Ведь если сложить цифры на номере субмарины Конрада Вайна, то тоже получится чертова дюжина.
Отто сидел на корме, закинув удочку в темные воды. Не понимаю, как ему хватало выдержки спокойно рыбачить, когда в считанных метрах под нами притаилось стальное чудовище. Может, рассчитывал выманить субмарину? Но блесна — не та наживка, на которую клюнет подводная лодка. Беззащитный транспорт подошел бы куда лучше.
Я отвинтил крышку банки, и лодка мигом пропахла алкоголем. Надо подготовиться к встрече с Конрадом Вайном. Просто кинуть в подлодку банку слишком рискованно. Что, если стекло не разобьется? Тогда мы мигом лишимся нашего единственного оружия. Я насадил девонскую рыбу на крючок. Все по правилам — крупная рыба клюет на мелкую. Да и размах с удочкой сильнее и легче.
— Так, — сказал Отто. — Давай повторим план…
— Что там повторять? — вздохнул я. — Подлодка всплывает — мы швыряем в нее рыбу…
— У тебя будет один бросок, — предупредил Отто. — Когда увидишь, что рыба вот-вот коснется лодки — отпускай удилище.
— Почему? — удивился я.
— Хочешь, чтобы лодка утянула тебя за собой? Решил познакомиться с дедом?
— Ну, в конце концов, меня зашвырнет и обратно? Сам говорил — натянутая пружина. В худшем случае погощу пару деньков в прошлом. Не так и страшно.
— Пару деньков? — усмехнулся Отто. — Надейся. В свое время ты конечно вернешься… С наименьшими затратами энергии. Проше говоря, тебе придется это время прожить.
— Ой…
— Твоя мать меня не простит, — сказал Отто.
Если честно, у меня у самого не было ни малейшего желания возвращаться с обычным ходом времени. Слишком долго. Не говоря о том, что рыба могла утянуть меня прямиком в девон. Что я буду делать в мире доисторических чудовищ с дипломом программиста?
Солнце катилось к закату. Макушки деревьев на противоположном берегу окрасились густым багрянцем. Свесившись за борт, я вглядывался в воду, высматривая субмарину. Река темнела с каждой минутой. Опустив в нее руку по плечо, я с трудом мог разглядеть пальцы.
— Интересно, — спросил я. — Как Вайн узнает, что пора всплывать? У него же нет расписания поездов?
— Потому мы и здесь. Посмотри туда, — он взмахнул рукой.
— Железная дорога делает крюк в обход болот, — объяснил Отто. — Любой поезд, идущий к мосту, сначала появится там. У Вайна будет предостаточно времени всплыть и подготовится к выстрелу.
— А как он за этим следит? — нахмурился я.
Отто пожал плечами.
— В перископ, наверное. Не сомневайся — у него есть средства.
— Получается, он знает, что мы здесь?
— Естественно, — сказал Отто. — С самого начала знал. Но он не знает, что и мы о нем знаем. Для него мы просто парочка рыбаков. Небольшой, но козырь.
— Да уж, — я поежился. От мысли, что Конрад Вайн следит за нами, мне стало жутко. Я огляделся, — не блеснет ли где зеркальце перископа, но ничего не увидел. Враг умел прятаться. Я вздохнул: удачей в нашем предприятии и не пахло. Было бы легко швырнуть рыбу в перископ, но нет…
— Началось, — громко прошептал Отто.
Я поднял голову и увидел поезд.
Не знаю почему, но я начал считать. Словно взамен сломавшихся часов в голове включился собственный таймер. Как на бомбе с часовым механизмом. Когда я добрался до тринадцати и почти поверил, что ничего не случится, метрах в пятидесяти вспенилась вода. Громадные пузыри всплывали и лопались с гулким звуком.
Мы схватились за весла. Лодка сильно закачалась и едва не перевернулась. Удочка Отто осталась плавать посреди реки — он не помедлил и секунды, прежде чем ее бросить.
U-634 выскочила, точно косатка, бьющая из-под воды морского зверя. Массивный нос высоко поднялся над водой, на секунду замер и потом рухнул с громким хлопком. Громадная волна подхватила нашу лодочку и отбросила далеко назад. Только чудом мы не перевернулись. Мы с Отто гребли что было сил, и все для того, чтобы остаться на месте.
Сейчас, когда субмарину не прятал туман, она казалась еще больше. Она немного проплыла вперед, разворачиваясь к мосту.
Я налег на весло. До подлодки оставалось метров двадцать — забрасывать удочку слишком далеко. А времени не оставалось. Я уже слышал лязг открывающегося люка. Сейчас они вылезут, и тогда… Пристрелят за милую душу и как зовут, не спросят.
Наша лодка зарылась носом и зачерпнула ведро воды. От толчка я чуть не свалился за борт. Не понимаю, как мы держалась на плаву. Дальше грести было бессмысленно. Отто тоже это понял и отшвырнул весло.
— Давай! — крикнул он. — Пора.
Я схватил удочку. Для хорошего броска надо встать, но делать это в посудине, которая и так готова пойти ко дну, я не рискнул.
Я уставился на конскую голову, выбрав ее за цель. Лошадь была белая, но подводные странствия покрыли ее тонкой пленкой водорослей. С обрубка шеи стекали темные струйки воды, словно голова до сих пор истекала кровью. Нужен хороший размах…
Девонская рыба шлепнулась о воду метрах в пяти от лодки. Выругавшись, я стал сматывать леску, мысленно благодаря того гения, который изобрел автоматические катушки.
— Встань! — заорал Отто. — Так ты ее не зацепишь!
— Но…
Отто на карачках подполз ко мне и обхватил за ноги.
— Встань!
Я выпрямился. Лодка сильно накренилась, готовая перевернуться. Тяжелый люк субмарины приподнялся, и оттуда выглянул небритый мужчина в пилотке. Повернувшись к нам, он что-то крикнул, но я разобрал только слово «idiota».
Один бросок. Второго шанса не будет. Я изо всех сил взмахнул удочкой, вслушиваясь в верещание катушки, в свист с которым леска резала воздух… Мелькнув над головой, девонская рыба устремилась к субмарине.
— Отпускай!
Я разжал руки, отпуская удочку. Подняв пистолет, мужчина дважды выстрелил. В то же мгновение рыба ударилась о лошадиную голову.
В «Сумеречной Зоне» все врут. Не было таинственного мерцания и радужных переливов. Куда больше это походило на огромную воронку. Субмарину засосало так быстро, что я не успел понять, что происходит. Долю секунды назад она была здесь, и вдруг все…
— Проклятье! — будто издалека донесся голос Отто.
Я посмотрел на него, запоздало понимая, что в нас стреляли. Если не попали в меня, то обе пули достались…
— Этот идиот прострелил нашу лодку! — обиженно воскликнул Отто. — Теперь придется плыть самим.
Лодка сдувалась, продавливаясь под нашим весом. Воздух с шипением вырывался из простреленных баллонов. Еще чуть-чуть, и мы будем по шею в воде.
Вдалеке из-за поворота появился поезд, а спустя секунду он въехал на мост. Целый и невредимый. Желтые прямоугольники окон, слились в светящуюся линию, и только глядя на них, я понял что уже стемнело.
— Сколько времени? — ни с того ни с сего спросил Отто. Я автоматически посмотрел на часы.
— Шесть… О!
— Точно по расписанию, — усмехнулся Отто.
Я рассмеялся и прыгнул в воду. До берега всего — ничего. Мы победили левиафана, что нам теперь проплыть сто метров?
Ольга Пинчук
Искусственный отбор
— Что пьем? — В открытую дверь заглянула раскрасневшаяся физиономия Калудкина.
— Всё пьем, — обреченно вздохнул я, распечатывая очередную бутылку.
— Это правильно. Это по-нашему. — Не дожидаясь приглашения, Калудкин вошел и шлепнулся на хлипкую гостиничную койку рядом с Силюгиным. — Наливай.
Я щедро разлил коньяк по стаканам и скатерти.
— Эх, за ногу твою и об угол. — Калудкин укоризненно покачал головой и сгреб посудину своей огромной лапищей. — Экономней надо быть, бережливей.
— Молодой еще. — Силюгин, мой давний друг и сосед по номеру, снисходительно улыбнулся.
Наш гость попытался встать, но земля вертелась слишком быстро.
— А хрен с ним. Будем пить сидя. Ну, за отсутствующих здесь дам.
Он выпил и поморщился. Коньяк был лучше, чем мог быть, но все-таки хуже, чем хотелось бы. Я виновато пожал плечами.
— Уж перед смертью мог бы хорошим продуктом коллег угостить. — Он, видимо, посчитал шутку смешной и громко заржал. Знал ведь, сволочь, что книга моя предыдущая не слишком удачной получилась.
Тьфу ты! Суеверные все стали. Никто теперь не скажет «последняя книга», только «очередная» или, в крайнем случае, «предыдущая». Сглазить боимся.
— Я еще тебя переживу. Меня если и пустят в расход, так не раньше будущего года, — огрызнулся я и залпом осушил стакан.
Силюгин сидел молча и грыз фильтр незажженной сигареты. Вот кому точно нечего было бояться. Читатели его любят.
Калудкин грохнул стакан на стол.
— Давай еще. Раньше напьемся — меньше бояться.
В дверь робко постучали.
— Войдите! — Я гаркнул так, что человек в коридоре просто обязан был задуматься, а надо ли ему к нам.
В комнату, чуть пошатываясь, вошла изрядно красивая девушка с легким румянцем первого конвента на лице.
— Извините, у вас сигаретки не найдется?
— Что, нервничаешь? Страшно? У нас для такого случая и коньяк найдется. Серега, плесни девушке! — Калудкин всегда недолюбливал молодых авторов и не упускал случая поиздеваться над ними.
Девушка покраснела и прижалась к двери, готовая в любой момент ретироваться. Нервишки у молодой писательницы были на пределе.
— Извините… Я не хотела вас побеспокоить…
— Да вы не обращайте на него внимания. Это он только с виду такой грозный. А на самом деле он белый и пушистый. — Силюгин улыбнулся всеми своими тридцатью двумя зубами, и я моментально понял, что ночевать мне придется в другом номере.
— Это ты точно подметил, я такой, за ногу твою и об угол. Белый и пушистый. А внутри красный и с кровью. — Калудкин обернулся ко мне. — Ну, пить-то мы сегодня будем или как?
Я достал еще один стакан.
Силюгин тем временем уже стоял возле девушки, приобнимая за плечи, и легонько подталкивал ее к столу. И уж естественно, она слегка сопротивлялась исключительно ради приличия.
Его вообще девушки любят. Высокий, кареглазый, с длинными темными волосами. Лицо всегда каменное, что и не поймешь, бывает, шутит он или серьезно говорит. И не видел я еще ни одной барышни, которая бы не повелась на все это. И этой не устоять.
— Анна. — Я протянул гостье стакан. Имя девушки я разглядел на бэдже, когда она уселась на свободный стул. — Давайте знакомиться. Я — Сергей Равский. Вот этот пьяный наглый оболтус — Вадик Калудкин. А с Димой вы уже, кажется, познакомились.
— А чего тут знакомиться, когда всего один день жить осталось? — опять встрял в разговор Калудкин. — В такой день пить надо. Кстати, а о чем у вас книга?
— О войне людей против эльфов и гномов, — несколько смутившись, ответила Анна.
— За ногу и об угол! За читателей. Не чокаясь! — Он демонстративно поднял стакан высоко над головой, едва не расплескав все его содержимое.
Больше, чем молодых авторов, Калудкин не любил только жареную рыбу и фэнтези.
— Вадим, ну зачем ты так? — Силюгин прекрасно понимал ранимость души начинающего писателя.
Девушка уже готова была расплакаться и уйти. Или вступить в дискуссию, а в итоге обидеться еще больше, расплакаться и уйти. А это не входило в его планы.
— Пардон. Никого не хотел обидеть. Кстати, девушка, вам уже говорили, что у вас красивые ноги?
Я сидел и с улыбкой наблюдал за происходящим. Сейчас Калудкин начнет рассказывать Анне о ее безусловной привлекательности, потом обидится на Силюгина, который якобы отбивает у него всех девушек, потом начнет нести полнейшую ахинею… И все это нужно было остановить.
— Вадим, коньячку?
— А сам как думаешь?
Силюгин что-то тихо говорил Анне. И, судя по ее серьезному лицу, убеждал не переживать по поводу завтрашнего объявления результатов. Калудкин пил, уже не обращая внимания на тосты. Нервничал. Это он только с виду такой нерушимый, а на самом деле ему тоже страшно.
— А ведь раньше такого не было. — Вадим поднял глаза на девушку, но взгляд отказывался фокусироваться, и он уставился в окно. — Раньше ведь как было?
Он замолчал.
Анна первой не выдержала:
— Как было?
— Эх, молодежь. Ничего-то вы не знаете. Раньше можно было издавать что хочешь, и никто тебе ничего бы не сделал.
— И сейчас можно, — сказал я.
— Можно, — неожиданно согласился Калудкин. — Но только там.
Он неопределенно мотнул головой в сторону, указывая направление, но я прекрасно понял, где находится это «там».
— Там — это где? — все-таки уточнила Анна.
— Там — это там. — Давно я уже не слышал, чтобы Вадим говорил таким назидательным тоном. — Вы ведь историю в школе изучали.
Разговор принимал опасный оборот. Но какая, к черту, разница? Мы и так каждый день по краю ходим. Напишешь роман, вылижешь, напечатают, а потом сидишь целый год и дрожишь: а вдруг не проголосуют? На костер, знаете ли, не каждому хочется.
Есть, конечно, индивидуумы, которые верят в новое светлое будущее, хотят стать мучениками. Особенно среди доморощенных псевдоисториков-аналитиканов таких много. Только не будет его, этого светлого будущего. Уже наступило.
— А может, оно и правильно? Писать стали лучше… — робко сказала Анна, разглядывая свой стакан.
Калудкин, который к этому моменту уже разлегся на кровати, попытался сесть, но грохнулся на пол.
— За ногу твою и об угол! Что ж тут кровати-то такие высокие?
— Писать стали меньше. — Силюгин оторвался от созерцания коленок девушки и тоже решил присоединиться к диалогу. Такое бывало нечасто. — И писателей раньше карательными отрядами не травили.
— Так все просто. Бандитов перестреляли, преступность на нуле, карать стало некого. Эти возрожденцы, хоть и мудаки, но идиотами их не назовешь. Грамотно все просчитали, сволочи. Если есть в стране такая хорошо обученная и слаженная организация, способная только находить, судить и убивать, то рано или поздно ее нужно будет или уничтожить, или найти новое занятие. — Говорить это было обидно вдвойне, потому как правда. — Вот и натравили их на нас.
— Да что тут говорить, об угол их всех… — Калудкин кое-как поднялся, схватил непочатую еще бутылку и осторожно, по стеночке вышел из номера.
Мы молчали.
Силюгин отрешенно смотрел в окно. Туда, где среди деревьев цепью растянулись государственные бойцы. На всякий случай, если вдруг кто сбежать захочет.
Анна курила, разглядывая рисунок на обоях.
А я думал о том, что все равно ведь можно прорваться через оцепление. Наверняка можно. Не так уж сильно люди изменились за эти годы. Все равно кто-нибудь дрыхнет, а где-то в дурака рубятся на щелбаны. Только ведь бежать бессмысленно. Найдут. А если не найдут — куда податься? В тайгу? Вырыть землянку и жить натуральным хозяйством? Стать изгоем? Ведь увидит кто, узнает — сдаст. Потому что не сдать нельзя. Потому что государству виднее. Если объявили преступником — значит, так и есть. В подкорке у людей уже записано, что государство справедливое. Потому что видели все, как в стране порядок наводили, потому что жить стало лучше. И проще.
— А может быть, все не так плохо, как кажется? — спросила Анна.
Я усмехнулся. Молодая еще, первую книгу только издала. Решилась все-таки. Смелая, значит. И талантливая. Иначе в издательстве отговорили бы. Они же там все свои, жалеют нас, писателей. Особенно начинающих.
— Может, и не плохо. Только раньше веселее было. — Силюгин грустно посмотрел на девушку и снова уставился в окно. — Бывало, приедешь на конвент, а тут на одного писателя десять начинающих. Бегают, суетятся…
Я вспомнил, как мы удивились, когда только объявили о создании нового министерства — министерства литературы. Даже обрадовались сначала. Если будет такой контроль качества, если каждый знать будет, что написал дрянь, — готовься жизнью ответить, то и писать лучше станут. Уж во всяком случае, меньше.
— За это выпить надо, — сказал я, чтобы разрядить обстановку.
— Да, — поддержал Силюгин. — За народ. Чтобы им кошмары не снились. Кстати, Аннушка, а ведь Вадим прав: у вас действительно очень красивые ноги. И глаза.
Девушка едва заметно покраснела и улыбнулась.
Я отхлебнул прямо из горла и встал.
— Ладно, пока еще на ногах держусь, посмотрю, чем народ занимается. А вы тут не скучайте.
Мягко прикрыв за собой дверь, я остановился и прислушивался. Где-то дрались, где-то орали песни. Многие уже наверняка спали, приняв сверх нормы. Сегодня нам все можно. Завтра в полдень кого-то заберут, чтобы уже никогда не вернуть. А сегодня каждый, как мог, пытался прожить свой, возможно, последний конвент.
Утром я проснулся от бесцеремонных тычков в бок. Разлепил один глаз и злобно уставился на своего мучителя. Силюгин возвышался надо мной, как всегда свежий и бодрый.
— Чего тебе?
— Сам же просил разбудить без пятнадцати, — пожал плечами Дима и отвернулся к раззявленной пасти полусобранного чемодана. — Пиво в холодильнике, — бросил он через плечо.
Я хмыкнул, открыл второй глаз и прислушался к ощущениям. Голова не болела, зато болели ноги. У меня почему-то с похмелья ноют икры и колени. Все как всегда.
— А где Аня? — спросил я, сползая с кровати.
Силюгин покосился на меня и назидательно произнес:
— Пить надо меньше.
— Что, еще меньше? — ужаснулся я и поплелся умываться.
Я уже выходил из душа, теребя полотенцем жалкие остатки кудрей, когда в дверь постучали. Мы с Димой переглянулись, я посмотрел на часы. Две минуты первого. В дверь постучали настойчивее. Я стоял, не решаясь даже пошевелиться. Страшно не было. Просто сейчас все должно было стать известно.
— Откройте. Сержант Косенко, государственные вооруженные силы.
Силюгин подошел к двери, еще раз оглянулся — я все еще стоял с полотенцем в руке. Щелкнул замок.
На пороге номера топтался тощий паренек в серых штанах и такой же серой куртке. На худом загорелом лице сквозь серьезность и значимость порученного дела просматривалось любопытство.
— Сержант Косенко, государственные вооруженные силы, — еще раз представился мальчик.
— Очень приятно, — сказал Силюгин.
— Я должен доставить Сергея Николаевича Равского.
— Одеться можно? — растерянно поинтересовался я.
Вопрос, очевидно, смутил сержанта, уши его порозовели. Не дожидаясь ответа, я ушел в комнату.
Вот и все, думал я. Значит, прав был вчера Калудкин. Последняя книга. Последний конвент. Жаль только, с Леной не попрощался по-человечески. Хотя она — женщина умная, уже который год меня провожает как в последний путь.
— Ну, я готов. Можно идти.
Я старался говорить спокойно. Сержант все так же топтался на пороге, а Силюгин рассматривал свои ногти.
— Сергей Николаевич, следуйте за мной, — сухо сказал военный и отошел от двери.
Дима хлопнул меня по плечу и тихо, растягивая гласные, проговорил: «Увидимся».
Мы шли по длинным, не особенно светлым коридорам пансионата. Мой конвоир пару раз обернулся — проверял, не собираюсь ли сбежать. Несколько раз нам попадались люди в серой форме, которые рассматривали меня с нескрываемым любопытством, а на сержанта вообще внимания не обращали.
Практически у самой лестницы пришлось задержаться. Дорогу перекрывала толпа человек пятнадцать. В центре скопления людей возвышались трое военных с оружием, которые обеспечивали свободное пространство перед крайней дверью. Пробираясь к лестнице, я заглянул в номер. Немолодой уже, седеющий мужчина пытался большим своим круглым животом вытолкать из комнаты парнишку в сером. Военный не особенно сопротивлялся, но и уходить не думал. Невидимая мне, где-то в глубине комнаты плакала женщина.
Я хотел было задержаться, но сержант уже выбрался из толпы и нетерпеливо смотрел в мою сторону.
Наконец мы остановились перед дверью очередного номера. Она ничем не отличалась от прочих. Разве что по обе стороны стояли люди в форме. Сержант постучал и, не дожидаясь ответа, открыл дверь.
— Товарищ полковник, Сергей Николаевич Равский доставлен.
— Спасибо, сержант. Вы свободны, — услышал я сухой, властный голос.
— Проходите, — сказал сержант и отошел в сторону.
Я вошел в обыкновенный номер пансионата. Кровать была убрана, зато почти половину комнаты занимал большой письменный стол. У окна стоял высокий мужчина. Когда дверь за мной захлопнулась, он обернулся.
— Здравствуйте, Сергей Николаевич. Рад с вами познакомиться.
— Здравствуйте. Не могу ответить тем же. — Я стоял, заложив руки за спину, и старался говорить спокойно.
— Что ж, я вас понимаю. Проходите, присаживайтесь.
Полковник подошел к столу и стал что-то искать в ящике. Смотрел, однако, он на меня не отрываясь. Наконец он довольно дернул уголком рта, что должно было, по всей видимости, означать улыбку.
— Знаете, а мне очень нравятся ваши книги. Вы уж извините, что я решил воспользоваться служебным положением. Не могли бы вы дать мне автограф?
Только после этого я увидел, что держал полковник в руке.
С обложки на меня призывно смотрела блондинка в кожаной куртке, сжимающая пистолет странной конструкции. Моя последняя книга.
Или все-таки не последняя? Просто очередная?
Я шлепнулся на стул и захохотал.
2007
Толкование Реальности
Бежишь. Бежишь все быстрее и быстрее. Трава щекочет лодыжки.
Справа зеленое поле и голубое небо. Гладкое небо и ровное поле. До самого горизонта.
Слева — кирпичная стена. Бежишь, торопишься, но все равно умудряешься разглядеть каждый кирпичик, каждую трещинку.
И нельзя свернуть, нельзя убежать в поле, спрятаться, лечь в траву и не дышать.
Потому что догонит, найдет. Кто? Какая разница, если спасение только одно — бежать и бежать вдоль этой проклятой стены? Иногда задеваешь шершавую поверхность локтем, сдирая кожу и оставляя кровавые следы на бурой поверхности. Вперед и вперед.
Иначе догонит.
Нельзя.
Лера открыла глаза и огляделась.
Она лежала на куче какого-то тряпья, старого и не слишком чистого. Справа — стена. Сложенная из толстых бревен, со щелями, заткнутыми сухим, крошащимся в пальцах мхом. Над головой нависает косой потолок.
Чердак, догадалась девушка. И какого черта я тут делаю? И как вообще я сюда попала? Похитили? А чего тогда руки не связали? Не посчитали достойным противником? Ну, это они зря.
— Эй! Есть кто живой?
Никакого ответа.
Лера сползла с импровизированной лежанки, стараясь не удариться головой. Рядом на полу горела толстая свеча в обычной алюминиевой кружке. Света, конечно, мало, но чтобы обследовать чердак, хватит. Уж выход, во всяком случае, сложно будет не заметить. И неплохо бы найти оружие какое-нибудь — мало ли…
Чердак был небольшой, очень темный и заваленный всевозможным хламом. Лера пробиралась среди сундуков, чемоданов, стопок книг и связок макулатуры. Все это барахло было покрыто пылью и заросло паутиной. Вокруг пахло несвежим бельем, гнилью и мятными леденцами. Некоторые сундуки были оплетены толстыми цепями и выглядели новыми, будто их только недавно принесли. В большой коробке, хорошенько обмотанной синей изолентой, что-то скреблось. Непрерывно, но как-то обреченно, устало. Девушка благоразумно не стала трогать беспокойную коробку.
Лера держала свечу в вытянутой руке и пыталась разглядеть под пылью и грязью люк. А заодно и что-нибудь острое. Или хотя бы тяжелое, но удобное для ближнего боя.
Увлекшись поисками, девушка не заметила, как наступила на край темного платка с бахромой, который тут же сполз к ее ногам, рассыпаясь по дороге. И в тот же миг в глаза ударил свет. Яркий и ласковый. В небольшой клетке, которую укрывала ветхая ткань, билось что-то золотистое.
Лера, как завороженная, смотрела на мельтешение теплого света. А в этом ярком пятне возникали и убегали, сменяясь новыми, картинки из детства. Ее, Лериного детства. Отец, мать, день рождения, новый год, игрушки, прогулки, сахарная вата и воздушные шары. И забытая песенка из мультика про белого медвежонка.
Девушка встряхнула головой и отвернулась. Надо найти выход. Комочек бился о решетку, умоляюще мигал.
— Я вернусь. Я освобожу тебя. Обязательно. Только не сейчас. Разберусь, что к чему, и выпущу. Обещаю.
Выход нашелся, когда Лера уже практически отчаялась.
Она стояла возле кучи, что недавно служила ей постелью, и в приступе бессильной злобы расшвыривала ногами заскорузлые тряпки. Именно под ними оказался люк. И тут же обнаружился металлический прут. Девушка взвесила его в руке — тяжеловат, но не слишком.
Сойдет, решила Лера и приподняла крышку люка. Та даже не скрипнула. Девушка осторожно заглянула в прямоугольник лаза.
Обыкновенная приставная лестница, явно сколоченная на скорую руку, электрическая лампочка без абажура под потолком, стены такие же, как на чердаке, без всякой отделки. И ни одного окна. Зато в каждой стене по двери — значит, выбраться можно. В центре комнаты за круглым столом сидели двое мужчин, оба вполоборота к Лере. Один из них вдруг бросил карты на стол, схватился за бутылку из темного стекла и жадно хлебнул прямо из горлышка.
— Э-э-э! Стаканы же есть! — закричал второй.
— Да ну их, — только отмахнулся его товарищ.
Лера осторожно спускалась по шаткой лестнице, не выпуская прута из рук, а мужчин из поля зрения. На последних ступенях она не выдержала и спрыгнула. Приземлилась чуть неловко, но лицом к незнакомцам, выставив оружие перед собой. Мужчины обернулись.
— Ты только посмотри, кто пожаловал, — вставая, картинно развел руками один из них. Широкоплечий, круглолицый, темноволосый, в черной кожаной куртке, с грязной повязкой, закрывающей один глаз.
— Не подходите! — взвизгнула девушка, перехватывая железяку поудобнее.
— Ну надо же, проснулась, — в тон товарищу ответил второй, щупленький, невзрачненький какой-то, серый, в поношенном костюме, вокруг шеи несколько раз обернут тонкий женский шарф. — Да ты не бойся, проходи, присаживайся.
— Коньячку? — предложил одноглазый.
— Где я? — Лера медленно, не опуская рук, шла вдоль стены к ближайшей двери.
— А то ты не видишь? В доме, — насмешливо ответил второй мужчина.
— Что вам от меня нужно?
— Нам? От тебя? Ничего. Разве что в преферанс сыграть, а то без третьего скучно, между прочим.
— Я ухожу. И вы меня не остановите. — Лера как раз нащупывала дверную ручку.
Мужчины молча улыбались.
Девушка, не поворачиваясь спиной к незнакомцам, шагнула в дверной проем, захлопнула за собой дверь и резко обернулась. Она стояла все в той же комнате, только у противоположной стены. Те же двое смотрели на нее и улыбались.
— С прибытием. — Темноволосый захохотал, видимо сочтя шутку удачной, и вновь схватился за бутылку.
— Это ваш дом? Как отсюда выбраться? — заорала Лера.
— Это не наш дом, между прочим. Мы только живем здесь, — спокойно ответил мужчина в шарфе. — А выбраться отсюда нельзя. Никак. Никогда.
— Так не бывает.
— Бывает… Бывает. — Серый тип медленно водил пальцем по краю стакана.
— Да ты не расстраивайся, садись вот за стол. Коньячку? — снова оживился одноглазый.
Лера тряхнула головой, отбросила с глаз непослушную челку, но металлический прут из рук так и не выпустила.
Все равно выберусь, подумала она. Не бывает так, чтобы выхода не было.
Девушка заглянула в дверь, из которой только что вышла, и отпрянула. Странно было видеть ту же самую комнату, тех же самых людей и собственную спину. «Это у меня так волосы смялись?» — только и успела подумать Лера. Она закрывала и открывала дверь, но все оставалось по-прежнему. Девушка переходила от одной двери к другой, исследовала каждую щелочку, но выхода так и не нашла.
Мужчины тем временем вернулись к своей игре. Казалось, они не обращают на девушку вообще никакого внимания. Периодически до Леры долетали обрывки их разговора.
— Как думаешь, скоро ей надоест?
— Надоест, не переживай. Выхода-то нет, между прочим.
— Коньячку?
И тогда девушка слышала, как булькает выплескивающаяся из бутылки жидкость, как шумно выдыхает один из товарищей. В конце концов девушке надоело бродить по комнате. Она устало привалилась к стене и обреченно спросила:
— Выхода действительно нет?
— Да ты не стой там, — вместо ответа сказал мужчина в шарфе. — Присоединяйся. Коньяк у нас вкусный, между прочим.
Он уступил Лере свою табуретку, а сам уселся на посылочный ящик, который выудил из-под стола. Его товарищ в это время достал откуда-то третий стакан, разлил коньяк.
— А мы, кстати, не познакомились. Меня Андреем зовут, а вот это мурло кругломордое — Кириллом.
— Лера, — тихонько сказала девушка.
— Да мы знаем, знаем. — Кирилл схватил ее руку и хорошенько потряс. — Приятно познакомиться. Сам ты мурло кругломордое, — буркнул он в сторону товарища. — Ну, вздрогнули.
Лера осторожно взяла не слишком чистый стакан, понюхала коричневую жидкость и залпом выпила. Коньяк она не особенно любила, но сейчас это было не важно. А напиток и правда оказался неплохим.
— Ну а теперь в преферанс? — Андрей умоляюще посмотрел на девушку. — А то скучно все в дурака, между прочим…
— Сдавай, — равнодушно ответила Лера. — Кто писать будет?
— Я. — Кирилл уже расчерчивал листок, от напряжения высунув кончик языка.
Игра шла ровно. Когда везло, Кирилл сыпал старыми, но все-таки смешными анекдотами, а когда не удавалось взять свои — проклинал весь мир. Андрей практически все время молчал, изучая свои карты, будто надеялся увидеть в них что-то новое. А Лера тихонько разглядывала мужчин.
Один с самого начала показался ей знакомым. Вот только девушка никак не могла понять, где они могли встречаться. А сейчас, сидя рядом, она осторожно рассматривала лицо Андрея, пытаясь выковырять из глубин памяти нужное воспоминание.
— Эх, в Питер бы сейчас. В Питере сейчас хорошо, — вдруг мечтательно протянул Андрей.
И Лера увидела картинку. Яркую, будто все происходило сейчас.
…Заснеженный лес, убегающая вдаль дорога, просыпающиеся звезды. Вдоль дороги идут две девушки. Обе в теплых куртках, обе с рюкзаками. Одна в пушистой шапке, вторая с непокрытой головой. Белые снежинки оседают на упругих темных кудрях, тают, склеивая волосы.
Машин мимо едет много, но никто не останавливается. Изредка сигналят, а подвозить не хотят. Девушки злятся. Темнеет уже, еще чуть-чуть — и вовсе ничего видно не будет. Кто их тогда подберет?
Вдруг одна из немногочисленных легковушек тормозит, девушки бросаются к ней. Водитель, щупленький мужчина в очках и поношенном костюме, выходит и стоит, опираясь на открытую дверцу.
— Красавицы, вам куда?
— Дяденька, а нам в Питер. Подвезите…
— В Питер? В Питер можно. Я сам из Питера, вот домой возвращаюсь, между прочим.
Мужчина открывает багажник, девушки укладывают рюкзаки, шумно благодарят водителя.
И вдруг удар. Асфальт бросается в лицо, в глазах темнеет.
Она приходит в себя, оглядывается. Снег, лес, подруги нет, незнакомого водителя тоже. Справа, метрах в двадцати, шоссе — сквозь деревья виден свет фар, шумят машины.
Пытается встать. Все ничего, только голова раскалывается, цветные пятна перед глазами мечутся. Ухватиться за ветку, теперь за ствол, прислониться, отдышаться. Стоит.
Куда теперь идти? На трассу? А где подруга? Где вещи? Вот и шапка потерялась.
— Помогите! Спасите!
На помощь зовет кто-то. Только ей бы самой кто-ни-будь помог. А вокруг лес.
— Лера! Лера!
Это ее зовут. Надо идти. Надо, помочь.
Она отталкивается от ствола, делает несколько шагов, хватается за следующий. Ноги проваливаются в снег. Девушка падает, встает и снова падает. А из леса зовут. Голос страшный, с надрывом. Ужас и безысходность. Она должна дойти, обязана. Цветные круги застилают все вокруг, девушка идет уже практически на ощупь. Отдышаться и дальше, дальше. Только бы голос не оборвался, иначе собьется, не найдет.
А голос все ближе и ближе.
— Лера! Помоги!
Хочется закричать в ответ, но не удается произнести ни слова. Какая-то кочка, падение. Сил почти не осталось, и голова словно чугунная. Со злостью девушка бьет себя по щеке. Вставай, дура. Тебя зовут. Совсем чуть-чуть осталось.
— Лера-а-а!
— Кричи, кричи, сучка. Не слышит тебя твоя Лера. И никто тебя не слышит. А ты кричи, мне это даже нравится, между прочим.
Это уже какой-то другой голос. Тихий, насмешливый.
Цветные круги медленно отступают.
Темноволосая девушка лежит на снегу, руки стянуты шарфом, ноги раздвинуты и привязаны какими-то веревками к стволам молодых берез, куртка валяется рядом. Девушка дергается, пытается вырваться, но куда там. И кричит, кричит:
— Лера-а-а!
Над ней склонился мужчина. Лера видит только его спину, светлые, почти бесцветные волосы и что-то блестящее в руке.
— Сейчас, маленькая моя, сейчас. Кофточку разрежем, потом штанишки. А ты кричи, не останавливайся.
Лера слышит, как он хихикает. Она поднимается, делает шаг, другой. Цветные круги снова появляются, но она только отмахивается от них. Господи, как же болит голова. Чем этот урод ударил? В руке нож. Складной, острый. Папин любимый. Хорошо, отец не знает, что дочка нож свистнула.
Всего несколько шагов. Хорошо, что этот урод в костюме ничего вокруг не замечает, занят очень. А вот подруга заметила, кричать перестала. А сил все меньше и меньше. Бить наверняка надо.
Лера хватает его за волосы, дергает на себя. Острое, идеально отточенное лезвие легко проходит по горлу. Теперь развязать подругу. А узел туго затянут. Шарф тонкий, такой проще разрезать.
— Лерочка… Спасибо… — шепчет черноволосая девушка.
— Все хорошо…
Лера сидела, уставившись на Андрея. Слова застряли в горле, было страшно даже пошевелиться.
— Что? Вспомнила? — Мужчина искоса посмотрел на девушку и усмехнулся.
Она не шевелилась, будто и не слышала вопроса.
— Бу! — вдруг прогрохотало с другой стороны.
Лера испуганно дернулась и грохнулась с табуретки.
Кирилл стоял, упираясь в столешницу кулаками, и, не мигая, смотрел на нее.
— Его, значит, вспомнила. А меня?
— Я… Я вас не знаю… — пробормотала девушка, отползая к стене.
— Не знаешь, значит? А я вот тебя знаю. Я же только дорогу спросить хотел. Ну, пьяный был. Ну, на ногах не устоял. Сам упал и тебя повалил. Так сразу надо железякой какой-то в глаз тыкать? Отвечай! — Кирилл заорал так, что уши заложило. — Я тебя спрашиваю! Обязательно, да?
— Кир, оставь ее. — Андрей попытался утихомирить товарища.
— Нет, пусть ответит!
— Вы трупы, — дрожащим голосом сказала Лера.
— Трупы, — кивнул Андрей.
— Что я тебе сделал? Отвечай! — не унимался Кирилл.
— Я вас убила…
— Убила. — Андрей пожал плечами. — Доигрывать-то будем?
Лера поднялась по стене и со всех ног бросилась к лестнице на чердак.
— Ну вот, испугал девочку. — В голосе Андрея слышалось неподдельное разочарование.
— А пусть ответит! Пусть скажет! Я же просто дорогу спросить хотел…
— Да ответит она тебе, успокойся. Вот придет в себя и ответит. Никуда она не денется.
Легко вскарабкалась по хлипкой лестнице, захлопнула крышку люка, задвинула каким-то тяжелым сундуком. Забилась в угол, обхватила голову руками.
Это бред какой-то, думала Лера. Кошмар. Страшный сон. Просто обыкновенный страшный сон. Вот я сейчас проснусь, и все будет хорошо.
Девушка даже ущипнула себя несколько раз, но ничего не изменилось.
Спокойно. Надо просто подумать, и обязательно что-нибудь придумается. Вчера легла спать, проснулась и оказалась тут. Значит, надо просто уснуть и проснуться дома.
Лера сгребла разбросанное тряпье, устроила лежанку.
Уснула она быстро.
Вперед, вперед, быстрее. На втором дыхании, на третьем, четвертом. Вот до того выпавшего кирпича, потом до этой большой трещины. Главное — догнать. Словить того, кого должен, сбить с ног, прижать к земле, заглянуть в глаза. Вдруг в них будет ответ? Вдруг в них будет спасение.
И жертва уже чувствует дыхание в спину. Длинный шлейф животного страха тянется, заставляя бежать быстрее.
Впереди — жертва, сзади — охотник. Твоя жертва, и охотник тоже твой. Убежать и догнать. Бег по кругу.
Убежать? Догнать?
Кого? Зачем?
Разве это важно?
А разве нет?
Останавливаешься, садишься на траву, прислоняешься к холодной шершавой стене. И те двое, что впереди и за спиной, тоже останавливаются.
Они тоже задают вопросы.
Кому?
Лера открыла глаза и чуть не заорала.
Она лежала на той же самой куче тряпья, рядом горела свеча в алюминиевой кружке, а на пыльном сундуке сидели Кирилл и Андрей.
— Коньячку? — Кирилл протянул девушке бутылку.
Лера только помотала головой.
— Почему я опять здесь? — Голос дрожал.
Живые трупы смотрели на нее, не мигая. За их спинами в клетке бился маленький теплый огонек, показывающий давно забытое, огонек, который девушка так и не освободила. Наконец Андрей вздохнул и, ласково улыбаясь, сказал:
— От себя не убежишь.
Сергей Стрелецкий Долгая честная жизнь
Молодой, да ранний. Моложе, пожалуй, и некуда. Парню исполнилось лет девятнадцать, не больше. Точно не установишь — как и многие полукровки, он не был вписан в церковные или магистратские книги и не мог наверняка знать дня, когда родился.
Совсем молодой. И Кольтом его прозвали не только за пистолет. Он и вёл себя, в общем, по-жеребячьи. Если не считать того, что у этого жеребёнка очень рано прорезались волчьи зубы.
Двадцать восемь убийств — только те, про которые было точно известно, что на курок нажимал именно Кольт. Ограбления. Изнасилования. Кражи лошадей. Угон скота.
Дурная слава Кольта шла по всей округе, но в лицо его знали немногие. Любой парень его сложения мог закрыть лицо платком, надвинуть шляпу на глаза и стать Кольтом — попробуй отличи. Кольт менял лошадей, одежду, сапоги — всё, кроме привычного пистолета.
Других привязанностей у него не было.
Единственным человеком, который мог бы безошибочно опознать Кольта, был Шервуд Вольф, шериф Мотаки. Это было тайное знание. Шериф никогда и никому не говорил, что собирается взять Кольта.
Он вообще был не слишком разговорчив.
Много лет назад молодого Вольфа, измождённого и здорово потрёпанного койотами, подобрали в пустынном районе Нью-Мексико переселенцы, которые в поисках незанятых территорий двигались на Запад из самой Новой Англии. Парень неплохо знал язык апачей и оказался полезен. Отлежавшись, он сумел от имени переселенцев договориться с вождями рода Бизона, так что фургоны без потерь смогли дойти до свободных земель на побережьях Рио Верде в Аризоне. Основанный ими Ньювилл за несколько лет разросся, набухая за счёт всё новых пришельцев с Востока и принимая в себя развращаемых цивилизацией апачей, освобождённых рабов с Юга, разорившихся фермеров и неудачливых старателей.
Шервуд Вольф, расчётливо храбрый, прилично умевший обращаться с оружием и лошадьми, сначала получил значок помощника шерифа, а затем и сам был избран жителями Ньювилла городским блюстителем порядка.
Его закон был точен, как индейская стрела. Непредсказуемые бродячие банды, как заколдованные, выходили прямо на устроенные им засады. Никому и никогда не удавалось от него уйти — конокрадов и насильников догоняли, ловили, судили и вешали. Вольные апачи почти перестали безобразничать в окрестностях города после того, как Вольф без особой огласки выдал их вождям несколько неприятных парней с Юга, которые неосторожно набедокурили на индейских территориях. Неприятные парни после этого тоже стали появляться в Ньювилле гораздо реже.
Ещё через восемь лет Вольф вдруг решил перебраться на двести миль западнее — через границу штата, в забытую богом и президентами Мотаку. Никто не знал — почему. В Ньювилле он никому о причинах переезда ничего не сказал, а в Мотаке никто ими не заинтересовался. На новом месте он через два года привычно надел значок шерифа.
И принялся терпеливо ждать.
Впрочем, ждать ему оставалось совсем недолго.
Если бы вчера Вольфа спросили, что он сам думает о своей жизни, он бы ответил — слишком долгая и слишком честная.
И в один прекрасный день Кольт забрёл в Мотаку. Он ничего такого здесь не планировал, просто хотел отсидеться. Два дня назад он чисто и красиво грабанул старательскую контору в Силвер-Сити, добавив ещё одну страницу в хроники всемирного бесчестия, которыми через много лет будут с таким упоением зачитываться городские мальчишки. Он был там один против четверых охранников. Остальные, прибежавшие на звуки стрельбы, увидели только отпечатки испачканных в крови сапог, которые заканчивались возле коновязи. Загнав коня, Кольт пристрелил его. Вероятно, у него был подготовлен другой — или он украл его из табуна, который и затоптал его следы.
Спрятав добычу, он отправился в Мотаку, не подозревая, что Шервуд Вольф уже давно назначил день и час их встречи.
Шериф взял Кольта в салуне — буднично и без выкрутасов. Он просто подошёл к облокотившемуся о стойку парню и сказал ему:
— Привет, Кольт.
Мог бы и сразу вложить ему прикладом по башке, чтобы не рисковать, но Шервуд Вольф хотел соблюсти процедуру. Пока Кольт ничего не натворил в Мотаке, по закону брать его не полагалось. Он должен был себя хоть как-то выдать.
Выдержки парню не хватило, вот что. Если бы он не схватился за пушку, его пришлось бы отпустить. Но шериф точно знал, что выдержки Кольту не хватит. Он заранее сказал об этом Макдафу. Как и было уговорено, стоило Кольту схватиться за пушку, Макдаф тут же огрел его прикладом по башке.
Двадцать свидетелей могли подтвердить, что парень называл себя Сэм Хоук, а вовсе не Кольт. Те же свидетели могли под присягой показать, что парень продемонстрировал несомненное намерение убить шерифа, когда тот назвал его Кольт. Свидетельств было более чем достаточно, чтобы судья Хаусман, рассмотрев дело, с полного одобрения присяжных отправил так называемого Сэма Хоука на виселицу.
Отобранный у пойманного бандита кольт Шервуд Вольф повесил на пояс, хотя до сих пор он своему «спрингфилду» никогда не изменял. Макдафу это показалось несколько странным, но Вольф ходил в шерифах уже тридцать лет, а Макдаф в помощниках — только пятнадцать месяцев. И отлично понимал, что не ему учить старика высасывать желток из скорлупы. Поэтому когда шеф отправил его домой, он просто кивнул и пошёл отсыпаться.
Вольф вынес табурет на середину комнаты и сел так, чтобы видеть вход в арестантскую.
Кольт со скованными за спиной руками валялся за решёткой на охапке вонючей степной травы и отчаянно богохульствовал. Вольф не видел его сквозь дверь, но очень ясно представлял, каково сейчас парню приходится. Для таких бешеных, как этот, нет ничего хуже осознания собственного бессилия.
— Эй, — сказал Вольф.
Кольт затих.
— Завтра будет суд, Рикки.
Молчание в чулане.
— Мне не нужно, чтобы ты всю ночь маялся и к утру спятил. Присяжные хотят, чтобы тебя подали к столу в лучшем виде. Давай поговорим.
Кольт молчал.
— Мне вроде не о чем тебя спрашивать, — продолжал Вольф. — Я всё о тебе знаю. Может, у тебя есть вопросы? Так задавай, не стесняйся.
Кольт заворочался. Сейчас, подумал Вольф.
— Давай, не рычи. Отвечу.
— Что ты можешь обо мне знать, дубина? — насмешливо спросил Кольт. — Ты меня никогда и не видел до сегодняшнего дня.
Да, подумал Вольф. И тем не менее.
— Чем бы тебя удивить?.. — Шериф усмехнулся. — Ну, скажем, самое простое. Серебро из Силвер-Сити. Ты закопал его в Крысиной Дыре. Под сломанным тотемом.
Кольт замер. Этого не могло быть. В Силвер-Сити всё прошло гладко, все, кто видел его там, смогут дать показания разве что на Страшном суде. Потом был долгий галоп по холмам, и его никто не преследовал — он бы заметил. Увидеть его ночью в Крысиной Дыре тоже было невозможно — огня он не зажигал. Даже не закурил.
— Дьявольщина, — пробормотал он. — Ты что, колдун?
— Почти угадал, Рикки, — сказал Вольф. — Но ведь и твоя матушка была дочерью шамана, разве нет?
— Да откуда ты знаешь? — прохрипел Кольт. Теперь к его ярости определённо примешивался мистический ужас.
— Я предупреждал, — пожал плечами Вольф. — Я знаю о тебе всё.
Кольт пока ещё пытался хорохориться, однако скоро должен был утихомириться и вспомнить всё, что ему полагалось вспомнить.
— Эй, шериф, слышишь меня?
— Слышу.
— Я что подумал: а что это в твоей конторе нет портрета Кливленда? Это ж просто чёрт знает что — в конторе шерифа нет портрета президента!
— У меня правило, — усмехнулся Вольф. — Если я чей портрет снял, то обратно уже не вешаю.
Кольт засмеялся.
— А всё-таки — что ты за птица, дьявол тебя задери?
— Такая вот птица…
Он помнил, что так и прозвучало: «Такая вот птица…» Как будто сейчас будет сказано что-то ещё. Но больше сказано ничего не было.
Он, конечно, мог бы сказать и имя этой птицы, но это было бы неправильно.
Да и не нужно. Потому что именно в этот момент Кольт вспомнил всё, что, по задумке шерифа, ему полагалось вспомнить.
Путь к спасению. Странный и невероятный.
Кольт никогда бы не поверил в этот путь, разве что от отчаяния. Но теперь, кроме этого призрака веры, у него не осталось больше ничего.
Не раскрывая рта, он начал петь, постукивая затылком о стену, всё сильнее и сильнее. Через минуту у него зашумело в голове, и дед, Падающий Ястреб, зачем-то набросил на плечи облезлую серую шкуру и начал притопывать, кружиться возле огромного костра в такт беспощадно грохочущим барабанам…
— Дедушка, что ты поешь?
— Я уговариваю огонь, Рикки.
— А он не слушается?
— Слушается, но ему тяжело. Я хочу помочь ему.
— Он слабый?
— Огонь? Нет, он сильный. Наш костёр — очень сильный и очень старый, Рикки. Он разделил свою душу с очагами многих стойбищ. Каждый раз, когда я беру из него угли и пламя для нового костра, он разделяет для меня свою душу.
— Он не умрёт от этого?
— Нет. Когда огонь разделяет душу, его душа не становится меньше — просто вместо одной появляются две.
— Одинаковые?
— Одинаковые. Только живущие в разных очагах. И даже если наш собственный костёр погаснет, мы сможем вернуть его душу. Мы же знаем, где её взять…
— Дедушка, а человек может разделить душу?
Может, подумал Шервуд Вольф. Не всякий человек, конечно. Но Рикки, внук шамана рода Ястреба, может разделить душу и отправить её половину на три десятилетия назад.
Если бы не драка между сезонниками из дубильной мастерской Кеннергартера и проезжими погонщиками скота, Макдаф безмятежно проспал бы до утра. К несчастью, они с Мартой жили через переулок от дубильни, а махалово снаружи гремело нешуточное. Поэтому Макдафу пришлось одеться, выйти на улицу и применить власть. Двоих драчунов, самых безбашенных, одного ковбоя и одного дубильщика, он именем закона арестовал и приказал им отправляться в офис шерифа.
И сам пошёл следом.
Кандалы, брякнув чугунной цепью, упали на пол.
— Всё, — сказал Вольф. — Уходим.
И протянул Рикки его кольт.
— Так сколько, говоришь, тебе сейчас?..
Вольф усмехнулся:
— Пятьдесят пять.
Рикки присвистнул:
— Так ты тридцать четыре года волок лямку только для того, чтобы сегодня выпустить меня из кладовки?!
Вольф кивнул.
— Чем не смысл жизни? Простой и ясный… — Он взглянул на Кольта и вдруг невольно поморщился.
— Идиотство. Я бы так не смог.
Вольф выглянул за дверь, проверяя улицу.
Макдаф издали заметил, что свет в конторе не горит. Это было странно — Вольф, если оставался там на ночь, всегда держал лампу зажжённой. Но в окнах было темно. Макдаф насторожился, приказал обоим арестованным сесть на деревянный тротуар, рывком расшнуровал кобуру и, стараясь ступать как можно тише, пошёл ко входу в офис.
Если бы не собаки, беглецов, конечно, не догнали бы. Но у Джонсона оказалась наготове отличная свора, с которой он ходил отстреливать койотов, и вышколенные псы; разу взяли свежий след.
Но даже от такой погони беглецы на хороших лошадях могли уйти — если бы не Кольт.
Парень вдруг рванул поводья, повернул коня и погнал его к возвышающемуся неподалёку обрывистому холму, который обозначился по левую руку на фоне светлеющего неба.
— Сейчас мы их сделаем! — крикнул он.
— Куда?! — заорал Вольф.
Он натянул поводья, длинно выругался, секунду поколебался, но затем все-таки поскакал вслед.
Рикки присел за камнем на вершине холма, сбросил куртку справа от себя и принялся один за другим выдавливать на неё боезапас из патронташа, поглядывая поверх укрытия на светлеющую степь.
— Щенок! — Вольф спрыгнул с коня. — Я тебя не за тем от петли спас!..
— А зачем ещё? — удивился Рикки. — Знаешь, дедуля, ты меня начинаешь доставать… Да ладно, плюнь, сейчас мы их пугнём слегка и поедем за моим серебришком… Да не ссы ты так! Завалим парочку, остальные наложат в штаны и побегут домой обтекать. Так всегда бывает.
Вольф вспомнил ограбление в Сокорро. Тогда он отстрелялся из укрытия от двух десятков местных, севших ему на хвост, положив при этом пятерых и не получив ни единой царапины. Его тогда звали Рикки, и он был самым тихим, самым неуловимым, самым везучим молодым негодяем на границе Аризоны и Нью-Мексико.
Он вспомнил ту жизнь. Он вспомнил пьянящую волю, доступных женщин в дешёвых борделях, сумасшедшую, вечную, безжалостную погоню за удачей. Он вспомнил, что доверял тогда только самому себе и всегда был чертовски аккуратен со свидетелями.
И случайными сообщниками.
Вольф успел снять «спрингфилд» с предохранителя, но парень стремительно метнулся в сторону и, совершенно не целясь, выстрелил.
Второй выстрел находившиеся в полумиле от них горожане приняли за отзвук первого.
Висящие над восточным горизонтом облака увидели солнце.
Но ни Рикки по прозвищу Кольт, ни Шервуд Вольф этого восхода уже не увидели.
Елена Хаецкая Из цикла «Тролли в городе»
Сказки подменышей
Жила одна женщина. У нее не было детей. И чем больше она желала детей, тем больше их у нее не было.
Сперва она мечтала о маленькой дочке. Чтоб волосы у нее были как пружинки, толстые и в любой миг готовые свернуться змейками и, распрямившись, нанести удар. А глаза чтобы темные и посередине зрачка — звездочка. Вот такую дочку хотела бы иметь эта женщина.
Но дочка все не рождалась, и женщине было одиноко.
Женщина жила в большом городе, там никто не обращал внимания на то, что у нее нет детей. Поэтому у женщины хватало времени мечтать дальше. И она стала думать о другой дочке.
Эта вторая дочь выглядела старше первой на несколько лет. «Красивая и странная девочка», — думала женщина, представляя себе ее длинное лицо, узкие желтые глаза и острые скулы. Она воображала себе вторую дочь до тех пор, пока та не стала такой же реальностью, как и первая.
Теперь у женщины не было уже двоих детей, но на этом она не остановилась, хотя и понимала, что избранная ею стезя весьма опасна.
Ей придумался сын, белозубый мальчишка, который — редкое свойство! — просыпался всегда в хорошем настроении, даже если его будили насильственно. Он был храбрый и, кстати, почему-то любил кошек.
Последнее обстоятельство немало озадачивало женщину. Сама-то она кошек терпеть не могла. Но уж коль скоро сын их любит, следовательно, он — не плод воображения (ну в самом деле, для чего ей такое выдумывать!), а действительное существо. Матери остается лишь высвободить его из небытия и, взяв за крепкую смуглую руку, привести в этот мир, где, к слову сказать, полным-полно всяких кошек.
Но и сын никак не рождался, хотя в нем женщина не сомневалась даже больше, чем в дочерях.
У нее было теперь трое детей, и никого из них до сих пор не было, отчего горе женщины стало почти невыносимым.
Но она худо-бедно справлялась со своими печалями и ходила на работу, в продуктовые магазины и домой, где не ждали ее две дочки и один смешливый сын.
Когда она почувствовала, что начинает мечтать о четвертом ребенке, то не на шутку перепугалась. «Это уж слишком, — подумала женщина, — я ведь могу и не выдержать. Нужно выяснить, как это делается в большом городе у людей».
И она отправилась на рынок.
Она нарочно отправилась на рынок, а не в продуктовый магазин, чтобы по дороге ей пришлось смотреть по сторонам.
Обычно она вообще не замечала, где идет и с какими людьми сталкивается, потому что всегда ходила одним и тем же путем, а это не требовало от нее никакого внимания. Но на сей раз, решила женщина, все будет иначе. Она попробует рассмотреть окружающих и угадать, как они справляются со своими обстоятельствами.
Она обошла все торговые ряды, один за другим, придирчиво разглядывая не выложенные на прилавке овощи и фрукты, пряности и поношенные туфли, а продавцов. Она гадала по их лицам так, как другие гадают по рукам или сморщенным яблокам.
У одних были золотые зубы и темная кожа — эти ей нравились, однако в них она чуяла истинных разбойников. У других кожа была землистая, а глаза тусклые — этих она сочла слишком большими жуликами, чтобы пускаться с ними в откровенности.
Наконец она приблизилась к прилавку, где продавалась тончайшая белая лапша и тончайшая оранжевая морковь, и причудливые грибы, и палочки, чтобы все это брать. За прилавком стояла молодая девушка, похожая на фарфор: ее щеки белоснежно светились, а глаза она благоразумно скрывала под веками.
Девушка, торгующая лапшой, вызвала у бездетной женщины полное доверие.
Женщина решилась заговорить с ней.
Она подошла к прилавку и долго стояла, вспоминая, с чего обычно начинаются разговоры. Девушка не мешала ей думать. Глядела на нее невидимыми глазами и улыбалась так, что этого не было заметно.
Наконец женщина вспомнила правильное начало для любой беседы и сказала:
— Здравствуйте.
Фарфоровая девушка сразу ожила и ответила:
— Здравствуйте.
Это немало приободрило женщину, и она продолжила:
— У меня нет детей.
Девушка молчала.
«Только что у нас получалась настоящая беседа, — подумала женщина с печалью, — и вот все оборвалось. Я нарушила какое-то важное правило».
Она попробовала исправить ситуацию:
— Видите ли, у меня совершенно нет детей, как я ни стараюсь. И с каждым месяцем их все меньше и меньше.
Девушка открыла глаза пошире — подобное усилие стоило бы оценить, учитывая толщину ее век, — и проговорила:
— Это очень жаль, не так ли?
«Я справляюсь! — обрадовалась женщина. — Все-таки мне удалось завязать настоящий разговор!»
До сих пор она ни с кем толком не разговаривала, потому что ни одна из обсуждаемых тем ее не занимала.
Ни повышение зарплаты.
Ни женские болезни.
Ни бессердечие врачей.
Ни чужие родственники.
Ни чужие мужья.
Ни чужие дети.
Ей хотелось думать и разговаривать только о своих собственных детях.
Девушка сказала:
— Дети очень важны. Жаль, когда их нет.
И улыбнулась так, что это стало заметно.
А потом она прибавила:
— А как относится к этому ваш муж?
— У меня нет мужа, — ответила женщина растерянно. И вдруг насторожилась: — Что, для того чтобы иметь собственных детей, обязателен еще и какой-то муж?
Девушка кивнула:
— Это непременное условие.
Женщина страшно разволновалась:
— Но я совсем не хочу, чтобы в моей квартире жил какой-то муж! Я знаю, что такое «муж». Я слышала разговоры на работе. Муж живет в твоей квартире, он постоянно мусорит, он ест прямо из кастрюли — ну, это, положим, говорит о его манерах и вкусе, но многих раздражает, ведь в большом городе все поставлено с ног на голову, — еще он громко включает телевизор, он всегда тратит больше, чем зарабатывает, и он непременно глупее своей жены.
— Ничего не поделаешь, — сказала девушка. — Для того чтобы иметь детей, муж необходим.
— Это прямо как некоторые продают здесь картошку, — огорчилась бездетная женщина. — Нарочно к пяти хорошим картофелинам подсунут одну гнилую. Да я бы лучше подороже за хорошую заплатила, лишь бы гнилье не тащить, сперва домой, а потом на помойку.
Женщина очень гордилась тем, что сумела запомнить и повторить такое длинное рассуждение, которое только что подслушала прямо здесь, на рынке.
— Ничего не поделаешь, — повторила девушка, и ее улыбка погасла. — В мире существуют законы, которые невозможно обойти. Они касаются мужей и гнилой картошки — и еще нескольких менее существенных вещей.
Женщина наклонила голову в знак грустной признательности.
— Я благодарна вам за все, что вы для меня сделали.
И купила много тонкой белой лапши, потому что лапша казалась фарфоровой и светилась так же, как кожа девушки-продавщицы.
Таким образом, для женщины началось новое время — время, когда она неустанно искала себе мужа.
Но никто из тех, с кем она об этом заговаривала, не соглашался стать ее мужем, даже на время, даже из притворства. Напрасно она уверяла, что ее не будут раздражать ни громко включенный телевизор, ни привычка хлебать суп прямо из кастрюли. Она даже охотно соглашалась с тем, что ее муж будет тратить в полтора раза больше, чем зарабатывает, — ничего не помогало. Одних мужчин отпугивала ее прямота, других — ее манера красить зубы синей или оранжевой краской, третьих — ее хвост.
И в конце концов она снова отправилась на рынок.
Там уже не было фарфоровой девушки, продающей лапшу, но нашлось много других интересных людей. И женщина снова всматривалась в лица, пока не заметила одно, которое почему-то привлекло ее внимание.
На сей раз из всех продавцов женщину заинтересовала худенькая старушка с тонкой, обвисшей кожей. У старушки было лицо печальной аристократки, чьи сыновья погибли на войне, и руки крестьянки, чьи сыновья постоянно голодны и требуют еды.
Она продавала разноцветные пакетики.
Женщина подошла к ней и, памятуя о том, как надлежит вступать в беседу, вежливо проговорила:
— Здравствуйте.
Старушка молча посмотрела сквозь нее тусклыми глазами и ничего не ответила.
Женщина поняла, что поступает неправильно. Очевидно, законы разговоров со старушками совершенно иные, нежели законы разговоров с фарфоровыми девушками.
Поэтому женщина попробовала еще раз.
Она сказала:
— Извините. Что вы продаете?
Старушка медленно перевела взгляд на свои пакетики, потом шевельнула синеватыми губами и очень тихо прошелестела:
— Всё.
— Всё? — обрадовалась женщина. — Совершенно всё?
— Всё, что угодно для души, — повторила старушка.
Женщина была отважна и не побоялась верить своей удаче. Она рассмеялась и несколько раз звучно хлопнула себя по бокам.
А старушка быстро перебрала пальцами свои пакетики, как бы проверяя: не упустила ли она чего-нибудь и не солгала ли по случайности: вдруг у нее чего-либо из потребного для души не окажется?
Разворошенные пакетики лежали на прилавке такие заманчивые и яркие, и они были похожи на очень большие почтовые марки.
Женщина взяла один.
— Там внутри что-то очень маленькое, — заметила она, пощупав.
— Семена, — пояснила старушка.
— А для чего они? — Теперь женщина совершенно не опасалась, что старушка замолчит и не захочет ей больше отвечать, хотя, конечно, ожидать можно было чего угодно и в любой момент.
— Семена мы обычно сажаем в землю, — сказала старушка. Каждое слово прорастало на ее губах неспешно и терпеливо, как маленькое семечко. — Мы сажаем их в землю и ждем, пока они прорастут. Их нужно поливать, за ними нужно ухаживать. И тогда они вырастут и станут спелыми.
— А что вырастет? — жадно спросила женщина.
Старушка посмотрела прямо ей в глаза. Глазки у старушки были выцветшие, водянистые, но зрачок — очень твердый, сжатый в единую точку. Женщина подумала, что так выглядела бы бездна, если бы ее скрутили и сунули в наперсток.
— А что посадишь, то и вырастет, — сказала старушка. — Что угодно для души.
Женщина быстро взяла четыре пакетика и показала ей, держа их на ладони. Старушка пошевелила губами, назвала цену, и женщина ушла.
Еще она купила большой деревянный ящик, выкрашенный поверх заусениц зеленой краской, и посадила туда четыре семечка из четырех разных пакетиков. Два семечка были дочками, один — улыбчивым сыном, а последнее семечко женщина посадила просто так, ничего не объясняя и не загадывая: что вырастет, то вырастет, лишь бы это был ребенок.
* * *
Тут Аргвайр замолчала и посмотрела на свою доченьку. Девочка уткнулась макушкой матери в колено и давно уже спала. Белое, похожее на подушку лицо дочки-подменыша было безмятежным, мокрые губы улыбались. Аргвайр наклонилась и поцеловала девочку в лоб.
Аргвайр была троллихой очень знатного рода, о чем легко было догадаться при первом же взгляде на нее. Свои темно-синие волосы она разделяла на длинные пряди, каждая из которых оканчивалась золотым бубенцом. Ее лоб украшал узор из золотых бусин, приклеенных к смуглой коже. Ослепительно синяя краска подчеркивала плавную линию раскосых зеленых глаз, а белые вертикальные полосы рассекали пухлые бледно-розовые губы.
Мы не будем обсуждать здесь хвост Аргвайр, потому что на данных страницах подобная тема представляется весьма неуместной. Но поверьте на слово — хвост у этой троллихи имелся, и она хорошо соблюдала его.
На ее землях трудились сотни работников. Все они были весьма усердными и толстыми.
Аргвайр обитала в просторном и ярком шелковом доме, возведенном посреди огромного фруктового сада. В своем шатре она хранила великое множество расчудесных вещичек. Все они лежали в сундуках с незапирающимися крышками и в шкатулках, что стояли вдоль дышащих шелковых стен, и были развешаны на стенах, и разложены на коврах, что Аргвайр расстилала на земляном полу своего жилища.
Дочка-подменыш любила рыться в этих сокровищах, но она мало что понимала. Она была человечком, ребенком каких-то безвестных крестьян. Знатная троллиха никогда не попрекала ее этим.
Иногда Аргвайр тайком пыталась представить себе, как выглядит ее собственная, родная дочка, которую у нее забрали, обменяв на эту, теперешнюю.
Родная дочка Аргвайр небось похожа на звереныша — темнокожая, быстрая, с яркими глазами, ленивая и злобная, настоящий тролленок. И глупая крестьянка бранит ее с утра до вечера: «Моя-то настоящая дочка беленькая, а ты черна, как головешка, моя настоящая дочка ласковая, а ты так и норовишь укусить». И она бьет ненавистную маленькую троллиху и заставляет ее трудиться с утра до вечера.
Совсем не так обращается Аргвайр со своим подменышем. Низкий лоб и плоские скулы делали эту девочку похожей на тролленка из самой низшей касты, однако молочно-белая кожа и тусклые светлые волосы напрочь уничтожали сходство: тролли низших каст все смуглы и темноволосы. Аргвайр гладила ее по голове, а девочка во сне пускала слюни и сладко сопела. Она была недоумком, как и все подмененные человеческие дети.
Аргвайр рассказывала ей сказки, но девочка-подменыш почти не слушала. Впрочем, троллиху это не слишком-то беспокоило, потому что на самом деле Аргвайр всего лишь выпускала истории на волю. Долго-предолго бродили они причудливыми путями и в конце концов находили дорогу к черноволосому тролленку, запертому в душной крестьянской хижине, у людей.
* * *
В дверь позвонили. Женщина была хорошо научена, как поступать, поэтому, прежде чем пускать гостя, она спросила:
— Кто там?
Ей ответил резкий высокий голос:
— Жилконтора.
Женщина приоткрыла дверь, но цепочку не сняла, как ее и научили, а попросила показать документ.
Из темной щели просунулась бумажка, на которой чернело длинное слово. Оно начиналось успокоительным «жил-». Впрочем, «жил-» могло оказаться и довольно зловещим, если учесть, что бывает с живым существом после того, как вытащить из него жилы. Но ведь, с другой стороны, в «жилах» содержится жизнь, как и в «квартире», поэтому два этих слова женщина сочла однокоренными, вполне близкими друг другу и достойными доверия.
Итак, неожиданная гостья имела отношение к жизни и смерти, что явно требовало более серьезного отношения к ней самой и к ее длинному слову.
И женщина стала читать дальше.
А дальше следовало ватное «-ком-», что, несомненно, говорило о неопределенности нравственных установок (впрочем, в большом городе дело обычное), и кусачее «-строй-», от которого у женщины почему-то сделалось уксусно во рту.
Все это ее насторожило, а последняя часть слова — «-сервис» — вообще привела в панику, поскольку эти звуки звенели, звякали, брякали и приводили душу в полнейшее расстройство. Они были как цепь, где все звенья разные, и почему-то женщине сразу представилось, что цепь эта — рабская и сковывает руки. Ибо чем же еще занимается «сервис», если не вопросами свободы и рабства?
«Ого, — подумала женщина, — ко мне явилась та, которая мнит себя хозяйкой моей жизни и моей смерти, моей свободы и моего рабства… И она дребезжит, и от нее укусусно во рту, и у нее вместо сердца комок ваты… Очень плохо».
Но ей пришлось открыть дверь, потому что бумага все-таки была настоящая, с печатью.
— У вас не заплачено за два последних месяца, — сказала гостья, втискиваясь в прихожую.
— Да, — призналась женщина, — но это только потому, что я потратила все деньги на детей.
Гостья смотрела в какие-то свои невнятные записи и, казалось, совершенно не слушала.
— Дело в том, что у меня в последний месяц родилось четверо детей, — продолжала женщина.
Разумеется, она понимала, что глупо вот так, с порога, выбалтывать сокровенную радость человеку абсолютно чужому, человеку, в котором что-то металлически лязгало и от которого сводило зубы. Но радость оказалась гораздо больше самой женщины, больше ее рассудка и едва ли не больше ее сердца, хотя сердце — тут уж признаемся сразу — было гораздо больше самой женщины и во многом превосходило ее рассудок.
Вот она и сказала:
— У меня теперь четверо детей.
— Подпишите здесь, — показала гостья из «жил…виса». — И здесь. Это Предписание. Вы должны заплатить в течение трех суток. Иначе с вас вычтут судебным порядком.
Женщина поставила подпись, и гостья ушла.
Бумажка осталась лежать, ужасно ненужная, просто вопиющая, как пластырь на гладкой смуглой коже.
Дети прибежали из спальни, где прятались от чужого человека, и разом все повисли на матери. Они ни о чем не спрашивали, просто висели. А их мать, счастливо смеясь, обняла их всех разом, и огромным живым комком они заковыляли прочь из прихожей.
Большой зеленый ящик для рассады стоял теперь не на подоконнике, как раньше, а посреди комнаты. Там лежали игрушки и крохотные спальные принадлежности. Впрочем, дети уже переросли ящик настолько, что туда помещалась разве что нога младшего из сыновей. Но выбрасывать его они не хотели, потому что это ведь была их общая колыбель.
Первой выросла младшая дочь, та, которую женщина намечтала себе с самого начала. Волосы у нее были как распрямленные пружинки, а глаза темные, со звездочкой посреди зрачка. Эта дочка была крепенькая, со спокойным нравом, но при случае запросто могла бы дать отпор любому обидчику. Кулачки у нее — ого-го! Как засветит в нос или в глаз — будешь потом плакать постыдными слезами.
Она выросла в полночь. Женщина не спала — смотрела, как набухает бугорок на поверхности земли, как высовывается оттуда крохотная ручка с настоящими пальчиками, — и даже дышать боялась. А потом она все-таки вздохнула и моргнула, и как раз в это самое мгновение девочка нащупала край ящика, ухватилась за него и выбралась на поверхность.
Она была совсем маленькая, но уже сейчас можно было рассмотреть в ней настоящую троллиху с изящным, слегка загнутым задорным хвостиком, который самой природой предназначен дразнить и сводить с ума.
Увидев над краем ящика верхнюю часть лица своей матери — застывший лоб, подрагивающие брови, заполненные влагой глаза, — девочка потянулась к ней, коснулась пальцами скул, царапнула веко.
— Моя младшая, — прошептала женщина. И посмотрела на второй бугорок, набухающий рядом с первым.
Уже родившаяся девочка проследила за ее взглядом и тоже заметила бугорок. Она хмыкнула, очень тихо (ведь она была совсем крохоткой!), и уселась на корточки, голенькая, возле этого бугорка. Когда земля расступилась и явилась макушка старшей дочери, младшая вцепилась в ее желтые волосы и помогла сестре преодолеть землю и явиться на свет.
Старшая дочь женщины тоже полностью соответствовала ожиданиям (не обманула старушка, которая так ведь и обещала, что вырастет все, что угодно для души!). Вторая юная троллиха казалась немного странной — отстраненной, если точнее, как будто здешний мир она рассматривала, стоя в сторонке и прикидывая, стоит ли вообще иметь с ним какие-либо дела. У этой девочки было удлиненное лицо, узкие желтые глаза и острые скулы.
Как и мечталось женщине, старшая сестра сразу же взялась заботиться о младшей и заплела ее пружинки-волосы в торчащие косички.
«Интересно, — подумала счастливая мать, — как много можно сказать о женщине, глядя на ее хвост. У старшей хвостик длинный, волосы на нем приглажены и глядят в землю. Такая женщина потребует от мужчины, чтобы он полностью отдался ей. В его жизни не будет ничего, кроме его любви к ней. Подвиги, пьянство, драки, поединки на обглоданных мослах, бешеные скачки на лошадях-людоедах, разграбленные деревни и сожженные замки — все это во имя любви к холодноватой, желтоглазой женщине с хвостиком, глядящим в землю. А у младшей хвостик загнут, он нахально и дерзко уставился в небо, и любовь ее будет совершенно другой. Она сама захочет скакать бок о бок с верным любовником на лошади-людоеде, она сама захочет сражаться с ним в поединке на обглоданных мослах — и горе ему, если он вздумает одержать верх!.. Ах, какие же разные они, мои дочки, и как же я люблю их!»
Тем временем родился и сын; ночь заканчивалась, близился рассвет. Мальчик был смуглый, с медовыми глазами и белозубой улыбкой, по-мужски ласковый и по-мужски солнечный. И это понравилось женщине даже больше, чем ее мечта.
А четвертое семечко, посеянное женщиной, пока что не прорастало. Но трое ее детей не знали об этом. Они уселись, сбившись в кучу посреди земляного ящика, и уставились на свою мать. Она сказала им:
— Я припасла для вас красивые носовые платки. Вы может завернуться, чтобы вам не было холодно. А когда вы подрастете, я куплю вам хорошую одежду, — и дала каждому по батистовому платку с узорами. Потом она спросила: — Дети, что бы вы хотели съесть? — И прибавила, видя, как они недоуменно переглядываются: — Я купила для вас хорошего, свежего фарша.
Она накормила их сырым мясом, и они начали расти.
Когда дети стали достаточно большими — а случилось это через полтора дня, — женщина строго сказала им:
— Я должна идти на работу, а вы играйте и кушайте дома и никому не открывайте дверь, потому что за порогом полным-полно всякой дряни и она вечно лезет в дом. Такова уж ее природа — распространяться, но мы положим ей преграду.
Дети заверили мать, что сделают все, как она приказывает, и она спокойно пошла на работу.
А когда она вернулась, ее ожидал четвертый ребенок.
Он народился позднее остальных потому, что мать не придумала, каким ему следует быть, и ему пришлось решать это самостоятельно.
Четвертый был мальчиком… Но какое разочарование! Он оказался троллем самой низшей касты: с серой кожей и неопрятной темной шерсткой по всему телу. Лоб у него был низкий, как у обезьянки, глаза совсем узкие, черные, как будто заплывшие, а нос расплющенный. И в довершение всего у него был горб.
Мать улыбнулась и прижала его к себе.
* * *
В деревне не нашлось бы никого, похожего на Енифар. Люди здесь светлы и дебелы, трудолюбивы и спокойны. Местные крестьяне платят малую дань замку и не сожалеют об этом: солдат ведь надобно кормить. Кто же иначе защитит земледельцев от троллиных набегов? В последние годы, впрочем, набеги эти случаются все реже; и уже давно не слышали в деревне о том, чтобы тролли сожгли урожай или угнали кого-то в рабство.
Вот такой и должна быть жизнь — круглой, чтобы день цеплялся за день и все катилось неспешно и без задержки.
Вот такой и должна быть жизнь — светлой и дебелой. И все в деревне были превосходно приспособлены именно для такой жизни, кроме одной девочки по имени Енифар.
Одна только Енифар совершенно не подходит для круглой и гладкой жизни. Она похожа на звереныша: темнокожая, быстрая, с яркими глазами. Родители с ней намучились, особенно мать, да все без толку. Можно и ругать Енифар, и оставлять ее без еды, и даже бить, что угодно можно делать с Енифар, но трудолюбивой и ласковой от этого она не становится. И при каждой удобной возможности сбегает из деревни куда-нибудь в рощу, чтобы там побездельничать в собственное удовольствие.
Вот она, полюбуйтесь. Стоит на ветке старого дерева, крепко вцепившись в кору пальцами ног. Ноги у нее черны — и от грязи, и по природе, с длинными цепкими когтями, которые девочка не позволяла срезать.
— А ну слезай! — кричит ей снизу костлявая баба со скучным лицом. — Слезай, кому говорят!
Енифар молча смотрит на нее и улыбается.
— Слезай да ступай чистить котел! — надрывается бедная крестьянка. Ее жилистые руки напряглись от гнева, а глаза остаются потухшими. — Дармоедка! Подменыш! Надо было утопить тебя в той самой канаве, где тебя и нашли!
Енифар совсем не хочется слезать с дерева и чистить здоровенный котел, в котором вытапливали свиное сало. Мать еще и прибьет вдобавок, чтобы дочка шустрее работала. А кому охота, чтобы его прибили? Поэтому девочка остается на ветке. Она по-птичьи ходит вправо-влево, да так ловко, что глядеть страшно.
Мать заплакала и сказала:
— Лучше б ты и вправду утонула или куда-нибудь сгинула, все не так обидно. Все мне самой делать приходится. Никакой от тебя помощи. Злая ты! Настоящий подменыш. Моя-то родная дочка небось не так бы себя вела. Моя — добрая, она бы мне помогала.
«Моя родная мать тоже иначе бы со мной обходилась, — подумала Енифар, но вслух этого не сказала. — Моя не стала бы меня бить, не кричала бы на меня, она бы не заставляла меня чистить у нее котлы. Она бы любовалась, какая я сильная и хитрая, и говорила бы мне хвалебные слова».
Енифар совсем не жалела крестьянку, хотя та плакала от усталости и обиды, когда уходила прочь от дерева. Девочка даже не посмотрела ей вслед. Она дождалась, пока мать скроется из виду, после чего спрыгнула на землю, забралась в удобную ямку между корнями дерева и горько задумалась. Она знала, что рано или поздно все равно вернется в тот крестьянский дом, который упорно не желала считать своим, — к попрекам и побоям. Как проголодается, так и всё… Не сразу, конечно, а вот когда уже тошнить от голода начнет. Мир очень огромный, думала Енифар, оглядывая густую, полную солнца листву. В мире есть и более яркие места. Не такие тенистые, как эта деревня. Дайте только срок! Енифар научится сама добывать еду и уйдет навсегда. Мир поглотит ее. Там, внутри мирового желудка, бывает и страшно, и весело. Во сне она уже много раз видела ночь, по которой рассеянно бродят две луны. Две ленивые луны, понимаете? А вовсе не одна, такая бледная, скучная и целеустремленная. Там, куда уйдет Енифар, нет ни скуки, ни цели, а только лень и блуждание. В этом и заключен смысл царственной ночи у троллей. На самом деле Енифар очень мало знала о троллях. В раннем детстве она вообще считала это слово ругательством.
Она, наверное, задремала, потому что не заметила, как рядом появились всадники. Они совсем было уж проехали мимо, когда лошадь одного, едва не наступив на девочку, попятилась и зафыркала. Всадник натянул поводья. Енифар сразу же проснулась и открыла глаза.
— Ох! — воскликнул всадник. — Да разве можно так прятаться! Я мог раздавить тебя.
— Не мог, — ответила Енифар, даже и не подумав подняться на ноги. Она огляделась, высунувшись из своей норки, и увидела отряд человек в десять. — Ну надо же! — поразилась девочка. — Да тут целая армия.
Она нисколько не боялась, потому что там, где стояла их деревня, сейчас не велось никакой войны. Это были люди из замка, люди, которые защищали деревню, если случалась беда.
— Ты никогда не видела армий, иначе бы не говорила так, — засмеялся всадник. — Хорошо, что ты не испугалась.
— Меня трудно испугать, — отозвалась Енифар, зевая.
— Почему ты не дома? — спросил всадник. — Все маленькие девочки сейчас дома и помогают родителям. У тебя нет родителей?
— У меня их больше чем достаточно, — отрезала Енифар. — Только я в них не нуждаюсь. И я вовсе не маленькая девочка. Мне будет десять лет, хотя еще не исполнилось.
Всадника позабавил ее важный, серьезный тон. Он наклонился с седла:
— Так не принесешь ли ты мне питья?
Во всех историях солдат просит у девушки напиться — с этого и начинаются приключения.
Но такая история вовсе не нравилась Енифар, потому что Енифар не такая, как другие.
— Неподалеку есть ручей, — сказала девочка, неопределенно махнув рукой. — Там и напьетесь, и вы, и ваши лошади. Буду я еще ради такой малости бегать домой! Да меня мать сразу отдерет за волосы, едва лишь увидит. Нет уж, я лучше здесь пока посижу.
— Твоя мать дерет тебе волосы? — удивился всадник. — Разве матери так поступают?
— Моя — точно, — сообщила девочка и тряхнула головой. — У меня-то волос много и все крепкие, но и ей много чести — за них дергать.
Всадник нахмурился:
— Странно ты рассуждаешь о своей матери.
— А чего ж тут странного, если я ей не родная, — объяснила Енифар. — И мне совсем не хочется, чтобы обо мне так думали, будто я ей родная.
Солдат немного поразмыслил над этими словами.
— Почему ты так решила?
— Потому что меня подобрали в канаве, — сказала Енифар. — Вот почему! Об этом вся деревня знает. Все видели.
— Как тебя зовут?
— Енифар.
— Красивое имя… Неужели мать, которая тебя не любит, дала тебе столь красивое имя?
— Ты какую мать имеешь в виду? — прищурилась Енифар. — Ту колотовку, которая мне хочет руки изувечить? — Она показала свои тонкие смуглые пальцы с розовыми ногтями. — По-твоему, вот этими руками я должна выдергивать из грядок кусачие сорняки и стирать грязную одежду? Ты видел, какая толстая одежда у крестьян? А если видел, то сам подумай, разве могли такие люди дать мне подобное имя!
— Откуда же оно у тебя? — улыбнулся солдат. Он все еще был уверен в том, что девочка его разыгрывает.
— Меня подобрали вместе с именем, вот откуда, — уверенно ответила Енифар. — В первые два дня я была у этих крестьян совсем без имени, потому что как раз в то время оно ненадолго отошло от меня — искало поживы. Ему хотелось и вкусно поесть, и сладко попить, и вообще посмотреть на красивое. А когда оно вернулось, насытившись, меня в канаве уже не оказалось. И оно побежало искать меня, а я тем временем все кричала как сумасшедшая, без перерыва, и надрывалась, покуда оно ко мне не вернулось. Ну а уж после этого мы стали жить-поживать, не так чтобы совсем уж счастливо и спокойно, но без громких воплей… Я и теперь никогда не кричу, даже когда меня бьют.
Тут Енифар окончательно проснулась, зевнула еще несколько раз и рассмотрела отряд хорошенечко. Среди всадников Енифар заметила весьма странную фигуру: некто сидел на лошади, сгорбившись, и угрюмо смотрел на свои руки. Этот некто, в отличие от светловолосых солдат из замка, был черен как головешка; его засаленные патлы свалялись и в беспорядке падали на спину и плечи. Почувствовав на себе взгляд Енифар, он поежился и вдруг резко обернулся к девочке.
— Ой! — воскликнула она удивленно. — Вот это да! Это же тролль! Где вы его подобрали?
— Неподалеку отсюда, — ответил солдат. — Поэтому я и говорил тебе, что девочкам лучше находиться дома и помогать маме.
— А я тебе уже ответила, почему не намерена этого делать, — заявила Енифар. — Ну надо же, настоящий тролль! Впервые вижу вот так, чтоб близко.
Она подошла к пленнику вплотную. Он закрыл глаза, чтобы она не могла заглянуть в его душу, и сжал губы. Енифар подобрала с земли палку и с силой ткнула пленника в живот. Тут-то он живо распахнул глаза, и рот его тоже сам собою раскрылся.
— Ага! — обрадовалась Енифар. Она внимательно рассматривала его, посмеиваясь от удовольствия, а если он отворачивался, снова тыкала в него палкой. Он красил свои длинные зубы ярко-синей краской, а на скулах нарисовал спирали, только теперь эти узоры разъело жгучим троллиным потом.
Потом Енифар повернулась к солдату:
— А что вы собираетесь с ним делать?
— Отвезем в замок.
— Он там умрет?
— Наверное… Они все там умирают, — ответил солдат равнодушно.
Тролль неожиданно вздрогнул, но вовсе не от этих слов, как можно было бы заподозрить, а оттого что впервые увидел Енифар по-настоящему.
Не жалкую деревенскую дурочку, ни на что из крестьянской работы не годную, и вовсе не уродку и замарашку, какой считали ее люди. Нет, он увидел Енифар такой, какой она была на самом деле: тролленок самых лучших кровей, маленькая принцесса с пылающими угольными глазами, с неистовыми волосами, с запястьями, которые не ждут, не просят, но требуют браслетов, и притом самых красивых и таких, чтоб звенели. За право укусить шелковистый хвостик Енифар прольется кровь лучших и самых знатных, а брызги ее смеха ни один из них не посмеет стереть с лица, так драгоценны они.
Потому что в мире, где две луны лениво ползают по ночному небу, не ведая ни цели, ни маршрута, нет ничего более драгоценного, чем троллиха знатного рода.
Пленный тролль опустил веки, стыдясь Енифар, и сколько она ни колотила его после этого, не посмел больше взглянуть на нее.
* * *
Второй раз неприятная гостья из «жил…виса» явилась через несколько дней.
Ее пришлось впустить в квартиру, потому что она уже один раз была здесь и доказала свое право переступать порог.
Дети тайком выглядывали из комнаты и видели, как она входит. А она их не видела.
Она не видела желтоглазую девочку четырнадцати лет, в джинсах и топике со шнуровкой на груди. Она не видела одиннадцатилетнюю крепко сбитую смуглянку в розовом платье с оборками. Она не видела худенького улыбчивого подростка в шортах и смертоубийственной черной футболке с черепами, которая доходила ему почти до колен. И наконец, она не видела горбатого уродца с лохматым личиком — этот носил нелепый джинсовый комбинезон с вышитыми ягодками на груди.
Она стояла в прихожей и смотрела на сей раз не в свои бумаги, а прямо на мать четверых спрятанных детей. Смотрела и молчала.
«И что же та мама? — спросила бы сейчас Енифар, если бы она, а не подменыш, слушала эту сказку. — Как она поступила?»
Потому что Енифар была бы чрезвычайно взволнована: приближался тот самый момент в повествовании, когда злая воля должна разлучить мать и ее деток, и это — самый горький момент, но без него и сказки бы не случилось.
«Мама, говори же скорей, как поступила та мама, когда злая гостья с дребезжащим сердцем и смятой в комок душой вошла в квартиру?»
Да, Енифар дергала бы мать за рукава и за волосы и заставляла бы все бубенцы в ее прическе вздрагивать и звякать, пока Аргвайр не заговорила бы снова.
Вот что вышло из всего этого, Енифар, слушай…
Гостья носила деловой костюм с квадратными плечами. От всего ее облика разило женским неблагополучием. Иногда так пахнет в старых нотариальных конторах с линолеумными полами. Входишь и сразу понимаешь: все женщины, которые здесь работают, несут на себе печать женского старения, все они заклеймлены этим. Их лица покрыты неопрятными пятнами, их одежда бунтует, не желая облегать столь некрасивые тела, и поэтому ерзает и сползает, а под мышками вдруг обтягивает и идет морщинками. И хотя разные предметы женской гигиены рекламируют по телевизору красивые молодые девушки, именно при взгляде на этих женщин сразу же приходят на ум разные штуки, которые «дарят» свежесть, уверенность в себе и прочие блага. Эти женщины просто нашпигованы такими штуками, но ни свежести, ни уверенности у них нет и в помине.
Вот такая особа стояла сейчас перед мамой четверых детей и разглядывала ее, словно товар, не выставленный на витрине, но спрятанный под прилавком.
А потом она резко выбросила вперед руку и чем-то брызнула в лицо хозяйке квартиры.
Дети быстро переглянулись.
«Что это?» — подумала старшая сестра.
Младшая подумала: «Это какой-то яд. Она отравила маму!»
Брат растерялся, побледнел. Раньше он даже не догадывался о том, что иногда случается нечто, чему нельзя улыбнуться.
А самый младший ребенок, в комбинезоне с ягодками, подумал вот что: «Мы должны спрятаться и проследить за тем, что происходит».
Между тем чужая женщина подхватила их маму, которая вдруг сделалась совсем мягкая, как ненастоящая. Дети заметили, как мелькнуло мамино лицо, бледное, с очень черными бровями и губами. Незнакомка выскочила из квартиры и утащила маму с собой.
Дети выбрались в прихожую и стали оглядываться, как будто теперь, когда чужачка ушла, рассчитывали увидеть свою мать на прежнем месте. Но мамы не было. Остались бумага-Предписание и едва заметная вмятинка от каблука на паркете.
Горбатый мальчик опустился на колени, приложил щеку к паркету и принюхался. Потом поднял голову и сказал:
— У мамы изо рта капнула слюна.
Старшая дочь всхлипнула, а младшая сердито сказала:
— Для чего ты говоришь нам это?
— Мы найдем ее по запаху, — объяснил горбатый мальчик.
Тут все присели рядом на корточки и стали шумно сопеть, втягивая в себя воздух, но никто не различал родного запаха, такой резкой была вонь чужой женщины.
— Не имеет значения, — сказал старший из сыновей. — Мы ведь можем идти и по чужому запаху.
Они кивнули друг другу и посмотрели на младшего братца с завистью. Еще бы! Из них четверых он один пойдет не по отвратительному следу, оставленному похитительницей, а по родному, по следу их матери.
Дети подошли к зеркалу, поправили одежду, взялись за руки и вышли на улицу.
На них не обращали внимания, и они приободрились. Время от времени младший сын опускался на четвереньки и нюхал землю.
— Что это с ним? — спросила вдруг какая-то толстуха, проходившая мимо с авоськами.
Младшая дочь нахмурилась и ответила:
— А вам какое дело?
А старшая покачала головой:
— Он потерял пуговицу.
Толстуха с неудовольствием заметила:
— Нужно лучше следить за братцем, — и поковыляла дальше. Казалось, это авоськи волшебным образом влекли ее вперед, как два надутых мотора.
Уродец поднял голову и прошептал:
— Нам туда, — и показал направление.
Все четверо побежали дальше.
«Кем была та чужачка? — спросила бы сейчас Енифар. — Кто она такая?»
А вот беленькая девочка-подменыш ни о чем не спрашивала. Она перевернулась на другой бок, во сне больно пощипывая запястье матери.
«Та чужачка? — Тут в рассказе полагалось выдержать страшную паузу. — А ты разве еще не догадалась, Енифар?» — «Нет, мама, может быть, я и догадалась, но ты должна сказать это сама… Ну, говори же!» — И Енифар топнула бы ногой. Черной, с нестриженными когтями. Хорошо бы подарить ей красивые звенящие браслеты, чтобы звонче топалось.
«Эта отвратительная особа была охотницей на троллей, Енифар. Такие есть в любом из миров, кроме нашего. Она выслеживала троллей по рынкам, барам и станциям метро, она ходила по квартирам и везде, везде высматривала, не попадется ли тролль. Ведь троллей гораздо больше, чем принято думать, и в том большом городе они тоже водятся. Вот их-то она и ловила и утаскивала в один большой, страшный подвал… Ты все еще хочешь слушать эту сказку?» — «Больше чем когда-либо, — сказала бы сейчас Енифар, разрумянившись от негодования. — Я желаю узнать, как дети спасли свою мать и что они сделали с этой гнусной охотницей на троллей!»
* * *
Отряд уехал, пыля, и увез с собой пленника.
Енифар продолжала смеяться, хотя солдат, ее собеседник, здорово на нее рассердился. Он вырвал из рук девочки палку и, сломав о колено, выбросил прочь. И притом изругал Енифар:
— Зачем ты это сделала? Зачем ты била его? Мы не бьем пленников! Глупая девчонка!
Енифар не отвечала, ее душил смех.
Солдат никогда не встречал подобных девчонок, хотя, казалось, немало повидал их на своем веку, да и дома у него остались целых три сестренки, и все три, что называется, были «с присыпочкой».
И вот отряд скрылся из глаз, а Енифар вдруг перестала смеяться. Она как будто спохватилась и побежала вслед за всадниками. Конечно, девочка знала, что не догонит их, но этого и не требовалось. Все равно скоро придет ночь с ее яркой скучной луной, которая точно знает, куда идти и какой следует быть. Скоро придет ночь и расставит все по местам.
* * *
Чтобы тролль не удрал, его хорошенько огрели по голове, да так, что он потерял сознание, а потом привязали к дереву. Охраняли пленника вполглаза. Кому бы, в самом деле, вздумалось вызволять тролля — поблизости от замка, в землях, принадлежащих людям? Здесь все желали этому разбойнику лишь одного — смерти.
И скоро уже весь отряд поддался усталости. Строгая белая луна, как бы приподняв брови на круглом, немного скособоченном лице, созерцала в просвет между деревьями, как медленно угасает плоский, жмущийся к углям костерок — крохотный плевок преисподней, укрощенный, с вырванными зубами. Вокруг огня спали солдаты. В темноте ощущалось присутствие лошадей: громадные тени, сгустки жизни, такие теплые и могущественные.
Тролль пробудился от обморока, когда было уже за полночь. Кто-то стоял рядом с ним, скрываясь от лунного света. Тролль морщился, но этого никто не мог видеть. Болела голова, слабость от голода и жажды уничтожала самую малую надежду на освобождение. Пленник попытался перегрызть ту веревку, что стягивала его ноги, но даже этого не смог.
А невидимка по-прежнему таился в темноте.
— Кто ты? — прошептал тролль.
Ответа не последовало.
Тролль закрыл глаза и задышал ровно, спокойно. Он хотел отдохнуть.
— Эй! — донесся до него возмущенный шепот. — Ты что, спать вздумал?
— Почему бы и нет? — отозвался тролль еле слышно.
Невидимка не отвечал. Очень медленно он обошел пленника со всех сторон. Теперь тролль мог рассмотреть силуэт, маленький и хрупкий. Ему пришлось прикусить себе язык и нижнюю губу, чтобы не рассмеяться. Он узнал девочку.
Она догадалась об этом в тот же миг, когда он задержал дыхание.
Он почувствовал, как лезвие впивается ему в руки, и скрипнул зубами.
— Ой, — пробормотала девочка, — я тебя, кажется, поранила.
Она разрезала веревки на руках и сунула ему нож.
— Дальше ты сам.
Он посмотрел на лезвие, по которому тускло стекал лунный луч. Девочка, скрытая в темноте, наблюдала за ним. Отблеск угасающего пламени прополз по ее круглой, смуглой щеке, но она отвернулась, и все погасло.
Тролль наклонился вперед и, пачкая веревку собственной кровью, освободил себе ноги.
— Готов? — спросила девочка нетерпеливо. — Я заберу одну лошадь. Ты умеешь их ловить?
Тролль не ответил, но, когда Енифар направилась к лошадям, еле слышно свистнул сквозь зубы. Она мгновенно замерла.
— Что?
— Не надо, — не то сказал, не то подумал тролль. — Я пойду пешком.
Он поднялся на ноги, сделал несколько шагов на пробу, потом побежал. Енифар погналась за ним.
Они отбежали от спящего лагеря почти на полет стрелы, когда тролль позволил девочке догнать себя.
— Что тебе от меня нужно? — спросил он.
Она остановилась в нескольких шагах, тяжело переводя дыхание.
— Ты быстро бегаешь.
— Ты тоже, — кивнул он. — Так зачем я тебе понадобился?
— Кто я? — спросила она.
В третий или четвертый раз он внимательно оглядел ее с головы до ног.
Чужая луна, возможно, и сбивала с толку тролля, привыкшего к совершенно другим ночам, но так сильно не обманывается никто, даже тот, кто хочет обмануться.
И тролль открыл девочке то, что увидел в ней еще днем:
— Ты — знатного рода.
— Я ведь не родная дочка этим… — Енифар мотнула головой, как бы показывая на деревню, откуда она явилась.
— Нет, — тотчас же сказал тролль, даже не дослушав. — Это немыслимо. Об этом даже думать — и то смешно.
— Я не человек, правда? — настаивала Енифар.
— Правда, — сказал тролль.
— А как мне в этом убедиться? Ты сумеешь найти доказательства?
— У тебя есть хвост? — спросил он.
Она густо покраснела и вскинула гневные брови:
— Ты не смеешь задавать мне такие вопросы!
— Ну так задай себе этот вопрос сама, — предложил он. — А мне можешь ничего об этом не рассказывать.
— У тебя вообще нет понятий о стыдливости, — отрезала Енифар. — Удивляюсь, как я решилась заговорить с тобой о подобных вещах.
— Ты и не заговаривала, — заметил он, ухмыляясь. — Я сам. — В лунном свете его синие зубы казались совсем черными, но оттого не менее кусачими.
Енифар покачала головой:
— Есть вещи, которые остаются непристойными даже в мыслях.
— Это правда, — согласился наконец тролль. Он высунул язык, очень длинный, и пошерудил им у себя в носу, а затем уставился на Енифар, прикусив кончик языка так, чтобы он трепетал между губами.
Енифар подошла к троллю вплотную и резко ткнула его кулаком в бок.
— Давай отвечай! — приказала она. — Кто я?
— Ты знатного рода, — повторил тролль. — Ты не человек.
— Еще раз спрашиваю: ты можешь доказать это? Без… ну, без хвоста?..
Тролль долго молчал, обдумывая вопрос. Потом он встретился с Енифар глазами и кивнул. Он больше не ухмылялся, ведь речь шла теперь не о жизни и смерти, а о чести знатной троллихи.
— Да, — обещал он. — Да, я докажу тебе, что это чистая правда.
* * *
— Вы, тролли, — омерзительные создания, — говорила женщина в деловом костюме. Ей доставляло громадное удовольствие произносить все эти слова. — Вас не должно быть в нашем мире. Вам вообще не следует существовать, вы — ошибка мироздания, неудачная раса, бред демиурга. Вы — пустые телесные оболочки, у вас нет души, у вас нет сердца, у вас ничего нет, кроме упитанного туловища. Вся ваша любовь, с которой вы так носитесь, — это физическое обладание. Вся ваша жизнь — это поесть да размножиться. И вы еще смеете проникать сюда, в наш мир, вы решаетесь осквернять его своим присутствием!
«Но ведь это вы крадете наших детей, — подумала пленница. Тяжелые обручи стискивали ее запястья, цепь не позволяла ей даже поднять руки. — Ведь это вы воруете маленьких троллят и обмениваете их на своих белобрысых недоумков, которые никому здесь не нужны, даже собственным родителям. Ведь это вы заставляете наших детей работать на себя, и бьете их, и браните, и считаете уродами, и даже отрезаете им хвостики… Мы-то не так поступаем с вашими детьми, если уж нам их подсунули. Мы жалеем их, и сытно кормим, и никогда не бьем, и уж точно никогда не заставляем работать. Они все равно, бедняжки, умирают, не дожив до зрелых лет, — но в этом нет нашей вины. А вот наши детки, как бы с ними ни обращались, вырастают ладными и крепкими и живут долго, и в этом нет никакой вашей заслуги».
Они находились в подземелье. Вдоль всего темного длинного коридора были устроены клетки, как в зверинце, и там содержались разные пленники. От каждого из пленников пахло по-особому. Смешиваясь с вонью охотницы на троллей, эти запахи составляли единый оглушительный запах всего подземелья, такой сильный, что из ушей начинала вытекать сера, из глаз выдавливались слезы, а в носу что-то взрывалось.
С потолка там капало, а под ногами хлюпало, и изредка пробегали крысы.
— Что ты морщишься? Неужели тебе здесь не нравится? — насмехалась над женщиной злая охотница в деловом костюме. — На всех сайтах про вашу мерзкую расу пишут, что вы избираете для жилищ сырые и темные пещеры. Мы постарались создать для вас привычную обстановку. Чтобы вы чувствовали себя здесь как дома. Неужели у нас так плохо получилось? — Она вынула сигарету и закурила.
Пленница не ответила, а кругом послышалось сердитое ворчание. Охотница за троллями хмыкнула, бросила, не потушив, сигарету и ушла.
— Что это за место? — после долгого молчания спросила пленница. — Как мы все сюда попали? Кто вы? Сколько вас? Чего они от нас добиваются? Как я должна вести себя, чтобы все было хорошо? Есть ли тут кто-нибудь, кому можно довериться, или все кругом — негодяи?
Она толком даже не знала, к кому обращает вопросы. Было темно, а выглянуть в коридор и посмотреть мешали цепи и решетки.
Вокруг опять заворчали, зашевелились, но отвечать не спешили. Новенькая должна была все понять сама. Таковы, очевидно, здешние правила. Везде есть правила. Это как с мужьями и гнилой картошкой. И некоторые из этих правил невозможно отменить.
Пленница честно попыталась разгадать все здешние загадки разом, не перебирая их по одной, но представляя их в виде единого шара. Однако она так устала после всего случившегося и так была огорчена разлукой с детьми, что почти сразу же заснула.
Стоило ей закрыть глаза, как невнятный гул внезапно соединился в слова. Эти слова бухали, как удары кулаков по барабанам, они проникали в ее сон и пропитывали все ее мысли.
Они твердили одно и то же:
— Ты пропала.
— Ты пропала.
— Ты совсем пропала.
А четверо ее детей между тем шли по улицам, входили в подворотни и подъезды, перебирались через проезжую часть, останавливались, нюхали землю и воздух, переглядывались, обменивались прикосновениями и снова шли и бежали, пока наконец не оказались в небольшом парке в самом центре большого города.
Здесь было мирно, спокойно и даже весело. Запахи постоянно смешивались и искажались, поэтому младшему братцу приходилось идти на четвереньках почти всю дорогу, а старшие над его головой наперебой объясняли — и тем, кто оглядывался на дикого ребенка, и тем, кто просто шел себе мимо, уже просто так объясняли, без разбору, лишь бы их не вздумали остановить и спросить о главном — что это они делают здесь, в парке, в этом маленьком парке в самом центре большого города:
— Мы играем.
— Он играет в собачку.
— Это наш братец, он чуть-чуть больной.
— Мы за ним следим, чтобы он не поранился.
— Это у нас такая игра — будто мы охотники.
— Он сам вызвался быть собакой, мы его не заставляли.
— Вы не думайте, мы хорошо к нему относимся.
— Ему нравится быть охотничьей собакой.
— Мы любим охотничьих собак.
— Мы любим собак.
— Мы вообще любим животных.
* * *
Жили однажды Зверь Лесной, Зверь Степной и Зверь Домашний, и все трое взаимно охотились друг на друга и с того жили: кто кого поймает, тот перед тем и молодец, а кого кто поймает, тот перед тем и добыча.
Вышел однажды Зверь Лесной на охоту, долго он шел и забрел в степь. А там все так странно: кругом пустота, под ногами трава несъедобная и вдалеке скачет Зверь Степной. Этот-то явно съедобный, но догнать его — первая забота, одолеть — вторая, и сожрать — третья; как бы он сам тебя не сожрал между первым и вторым, а то и между вторым и третьим!
Но голод брал свое, и Зверь Лесной помчался догонять Зверя Степного. Бежал он по пустому пространству, спотыкаясь о комки сухой травы и отбрасывая в стороны старые кости, над которыми даже задумываться не хотел.
Зверь Степной между тем тоже заметил Зверя Лесного и развернулся к нему навстречу всеми своими клыками и рогами, да как зарычит!
От этого звука все старые кости, и все комья сухой травы, и сухая земля, и еще много чего мелкого, такого, что забивается в глаза, в уши и ноздри, полетело навстречу Зверю Лесному.
А потом из клубов пыли выскочил и сам Лесной Зверь и как вцепится в горло Степному — только брызги кругом, и веером, и струями, и все сделалось красным и бурым.
Грызут они друг друга, и каждый думает: «Сейчас сожму потуже челюсти, авось враг и околеет, и тогда я его съем».
И вдруг небо над ними померкло: это вышел на охоту Зверь Домашний, а был он лютее двух предыдущих зверей и не в пример им свирепее, потому что жил он дома и много пил молока. Услышал он шум борьбы и сразу понял, что сейчас будет ему легкая пожива. Стоит над сражающимися и облизывается в ожидании.
И вдруг слышат все три зверя громкий крик:
— Эй вы, звери! Что это вы тут затеяли, а? Ну-ка признавайтесь!
Все три зверя рычанье и клацанье зубов прекратили и разом повернулись на зычный этот призыв. И видят они: тролль Нуххар стоит перед ними. Рожа Нуххара лукава и черна, вместо глаз у него — кинжальные разрезы, вместо рта — щель, как от удара мечом. Жуткий, в общем-то, видом тип, даже для тролля.
А Нуххар поэтому и сторонился других троллей, да и зверю не всякому показывался.
Родился Нуххар семнадцатым у матери-троллихи, которая, во-первых, никогда не имела мужа, во-вторых, никогда не производила на свет девочек, и в-третьих, никогда не любила своих детей. Она была самого низкого происхождения, отчего все рожденные ею дети оказались как на подбор, во-первых, уродливы, во-вторых, глупы, и в-третьих, нигде не желанны.
Нуххар, семнадцатый (а имелись, кстати, еще и восемнадцатый и девятнадцатый, но с ними, как и с шестнадцатью старшими, он не общался), в первые годы жизни от своих братьев ничем не отличался. На лицо урод уродом, нравом — себе на уме, и вообще — молчун и драчун. Таковы уж все они, сыновья той троллихи, — разговаривали не языком, а кулаками, доходчиво.
Как-то раз увидел себя Нуххар в гладкой воде лужицы, собравшейся в каменной ложбинке посреди большого булыжника; вода была черна и чиста и хорошо отражала Нуххарову образину.
Поначалу Нуххар даже глазам своим не поверил: неужто можно быть таким безобразным! До сих пор он как-то о подобных вещах не задумывался. А тут разглядел себя во всей красе — и поневоле задумался. Любой бы на его месте задумался.
Пошел Нуххар в деревню, от него все шарахаются.
Только одна троллиха не убежала, остановилась посреди улицы и прямо на Нуххара посмотрела.
— Что тебе надо? — спрашивает она.
— Хочу увидеть свое отражение, — ответил он.
— Только-то и всего? — засмеялась троллиха. — Ну так смотри!
И раскрыла глаза пошире, а он рожу приблизил и прямо в зрачки ей уставился.
«Может быть, вода в луже солгала? — думал Нуххар. — Ну так глаза троллихи не солгут. В чём в чём, а в них всегда отразится полная правда».
Но черные зрачки показали Нуххару в точности то же самое, что и черная влага на камне.
— Ух! — вырвалось у Нуххара. — Неужто я и впрямь так некрасив, как вижу?
Троллиха пожала плечами.
— Ты и безобразен, и низкого рода, и нравом груб, — сказала она. — Однако с этим тебе придется жить, и вряд ли найдется женщина, которая захочет разделить с тобой такую жизнь.
— Я понял, — проговорил Нуххар, — и благодарен тебе.
Троллиха засмеялась и пошла прочь, а Нуххар заплакал и зашагал совсем в другую сторону.
Вот так Нуххар оставил своих соплеменников и начал жить среди животных. Те не попрекали его ни внешностью, ни происхождением; что до глупости, то от нее Нуххар очень скоро избавился и сделался хитрее, чем многие из диких тварей.
Все звери чрезвычайно уважали этого тролля.
Вот почему не разорвали его Зверь Лесной, Зверь Степной и Зверь Домашний, когда он вмешался в их свару.
— Послушайте-ка, звери, — сказал им Нуххар, — гляжу я на вас и понимаю: неправильно вы поступаете.
— А откуда тебе знать, как мы поступаем? — огрызнулись звери, однако на Нуххара нападать не спешили. Знали, что он хитер, силен и ловок.
— Да я ведь вижу, — хмыкнул Нуххар. — Впились вы друг другу в горло без всякого смысла.
— А какой должен быть в этом смысл? — удивились звери. — Мы голодны, и нет у нас другой цели, кроме как насытиться друг другом.
— Вы все погибнете, — засмеялся Нуххар, — и я заберу ваше мясо, вот и вся польза от вашего единоборства. Не вам, но мне. Что ж, продолжайте, продолжайте, а я подожду, пока от вас останутся три куска мяса мне в котел.
— Для чего ты говоришь нам все это? — спросили звери.
— Для того, что не хочу вашей бесславной погибели, — ответил Нуххар. — У меня ведь тоже есть понятие о чести, а говорят ведь, что бесчестно добытый кусок быстрее гниет и может испортить всю похлебку. Поэтому сделаем так: сперва бейтесь двое, один на один, а третий пусть стоит в стороне. Когда же победит один другого, я заберу к себе побежденного, чтобы он не совершил какой-нибудь подлости и не попробовал отомстить за себя, пока победитель будет занят новым поединком.
Звери переглянулись и снова уставились на Нуххара.
— И с чего мы начнем?
— Пусть сперва сражаются Зверь Лесной и Зверь Степной, — распорядился Нуххар.
— Да мы ведь так и делали! — зарычали раздосадованные звери. — Выходит, не очень-то мы нуждались в твоих советах, чтобы поступить правильно.
— Нет, вы нуждаетесь и в моих советах, и в моем присутствии, — возразил Нуххар. — А я намерен судить ваше сражение. Чтобы все вышло без подвоха и обмана.
— А как ты будешь судить нас? — удивились звери. — Ты ведь не зверь!
— Поэтому я и буду судить честно. Мне ведь безразлично, кто из вас победит.
— Да ты ведь голоден, как ты сможешь судить честно!
— Поверьте мне, я буду судить честно, — повторил Нуххар, лукавый тролль, который всегда знал чего хочет и умел добиваться этого.
Звери были глупее тролля и потому согласились.
Нуххар уселся на корточки и махнул рукой. Тотчас же Зверь Лесной опять вцепился в горло Зверю Степному, и долго они рычали, и плевались шерстью, и даже откусывали друг от друга большие куски мяса. Зверь Домашний весь трясся от возбуждения, так ему хотелось ввязаться в эту драку, но Нуххар удерживал его, показывая ему нож.
Наконец Зверь Степной дернулся в челюстях Зверя Лесного и распростерся на земле. Его мутнеющий глаз уставился на Нуххара, а лапы затряслись в агонии.
Нуххар вскочил и замахал рукой с ножом, ярко сверкающим на солнце.
— Эй, стой! Как уговорено, побежденного я забираю.
Зверь Лесной разжал челюсти и сказал, обращаясь к Нуххару:
— Для чего мне отдавать тебе этого зверя, если я его почти уже убил и сейчас ничто не помешает мне его съесть?
Зверь Домашний зарычал от негодования, а Нуххар засмеялся:
— Не будь меня, Зверь Домашний уже вцепился бы тебе в загривок! Отдавай-ка мне побежденного, как мы условились, и готовься к новой схватке.
А Зверю Домашнему Нуххар сказал:
— Пора.
Тотчас взлетела пыль из-под лап Зверя Домашнего, так стремительно кинулся он на Зверя Лесного, оскалив все свои клыки и выставив острые винтовые рога.
А Нуххар подобрал Зверя Степного и уложил его рядом с собой на травку. Зверь был серьезно ранен, но его можно было спасти. Нуххар разорвал свою одежду и заткнул тряпками его зияющие раны. Потом они вместе стали следить за поединком.
Как уже упоминалось, Зверь Домашний был сильнее Зверя Лесного, потому что он жил дома и пил очень жирное молоко и лизал сметану. И еще у Домашнего Зверя были рога, а у Лесного — только когти.
А клыки имелись у них обоих.
Вот сцепились они, глядеть страшно. Рычанье поднялось такое, что облака на небе разогнало. Живое мясо они отгрызали друг от друга и выплевывали по сторонам, и куски плоти так и прыгали везде, точно лягушки.
Нуххар даже в ладоши захлопал, таким удивительным показалось ему зрелище.
А Звери боролись не на жизнь, а на смерть, и не в последнюю очередь потому, что каждому из них хотелось оказаться победителем и выйти на поединок с самим троллем.
Кровь у троллей, на вкус зверей, очень сладкая, густая и хорошо ударяет в голову. Она для зверей — точно хмельной мед для человека, особенно если выпить не в меру.
Когда звери думали об этом лакомстве, у них текли слюни, и они принимались урчать животами.
В конце концов одолел Зверь Домашний.
Тролль тотчас же вскочил и закричал:
— Эй, Домашний Зверь! Не убивай Зверя Лесного. Отдай-ка ты его мне, как и сговаривались. Я хочу залечить его раны, а ты, если не боишься, получишь в противники меня.
Зверь Домашний тихо ворчал, припав к земле и сверкая желтыми глазами. Его хвост лупил по земле с такой яростью, словно земля в чем-то перед ним провинилась.
Тролль без страха подошел к Лесному Зверю, оттащил его в сторону и приказал Зверю Степному:
— Полижи его раны.
А сам повернулся к Зверю Домашнему и сказал:
— Я готов.
Зверь Домашний прыгнул на Нуххара и выбил ему рогом один глаз.
Нуххар упал на землю, а Зверь Домашний встал над ним так, что правая его лапа оказалась у одного Нуххарова плеча, а левая — возле другого. У Нуххара из одной глазницы текла кровь, а из другой — ядовитые слезы, так что видел он, по правде сказать, очень немногое. Зверь Домашний капал на него слюной, бил его по ногам хвостом и рыл когтями землю, оставляя возле ушей Нуххара глубокие бороздки.
Ни один зверь, даже Домашний, не может просто так сожрать тролля; ему непременно нужно сперва поглумиться, хотя бы самую малость, иначе пищеварение нарушится и зверь может умереть от заворота кишок.
И вот пока Домашний Зверь кобенился и праздновал победу, два других зверя, спасенных Нуххаром, набросились на победителя и вцепились ему в холку. Они терзали его, как могли, слабыми челюстями и сломанными когтями. Все же их было двое, а Домашний Зверь остался в одиночестве. И в конце концов те два зверя отогнали Домашнего, и он убежал.
А Нуххар облизал свое мокрое лицо длинным фиолетовым языком — у всех троллей очень длинный и очень сильный язык, которым можно пользоваться даже как хлыстом, — и попробовал встать, но ничего у него не получилось.
Нуххар со стоном упал на четвереньки, а выбитый глаз откатился в сторону и закопался в пыль, так что Нуххар его больше никогда не видел (этот глаз потом склевали птицы и два дня летали пьяные).
Звери увидели, что тролль, как и они, ходит теперь на четырех конечностях, а не на двух, и засмеялись.
Нуххар вцепился левой рукой в шерсть Лесного Зверя, а правой — в шерсть Степного, и они, спотыкаясь, падая и рыча, все-таки дотащили его до дому.
В хижине Нуххара было удобно и тепло, там имелось укрытие от дождя и ветра, а в кладовке стояли бочки с едой. Все трое побежденных, усталые, так и рухнули на пол и проспали несколько дней, а когда они проснулись, то были совершенно здоровы, только у Нуххара с той поры остался лишь один глаз, и тот подмигивающий.
Зажили они втроем: одноглазый тролль Нуххар, Зверь Лесной и Зверь Степной. А Зверь Домашний бродил неподалеку, охотился, рычал тоскливо и яростно, оставлял везде свои погадки, но близко к Нуххаровой хижине подходить не решался.
Однажды Зверь Лесной спросил одноглазого тролля Нуххара:
— Как это вышло, что мы доверили тебе судить наши поединки?
— Я уговорил вас, вот вы и согласились, — ответил Нуххар. — Разве я судил вас не по справедливости?
— Это так, — согласился Зверь Лесной, — но в конце концов ни один из нас не остался в выигрыше.
— Точно, — ответил Нуххар.
— А почему? — опять спросил Зверь Лесной.
— Потому что я — хитрый тролль Нуххар, а вы — глупые звери, — ответил Нуххар.
— Но мне-то ты можешь объяснить, как тебе удалось обмануть нас! — горячо сказал Зверь Лесной. — Мы ведь с тобой теперь друзья. Я помню, как ты спас меня от клыков Зверя Домашнего, и никогда не подниму на тебя лапу.
— В твою дружбу я верю, — кивнул Нуххар, — но объяснить, как я обманул вас троих, не смогу.
— Почему? — спросил Зверь Лесной.
Нуххар показал ему сперва на левое свое ухо, потом на правое.
— Две причины, видишь?
Он отогнул пальцами левое ухо.
— Хитрец не раскроет своей хитрости — первая причина.
Зверь Лесной кивнул, недоверчиво глядя на его уши.
Нуххар взял двумя пальцами правое свое ухо и подергал за него.
— А вторая причина: ты хоть и друг мне теперь, но остаешься зверем и потому не поймешь.
Лесной Зверь обиделся, но ненадолго; поразмыслив, он понял, что Нуххар совершенно прав.
Однажды Нуххар вышел поутру из хижины и увидел, что прямо перед порогом сидит Зверь Домашний.
— Эй! — воскликнул Нуххар. — Чего тебе надобно? Только не говори, что пришел порвать меня на куски, ведь ты однажды уже одолел меня в честном поединке и выбил мне один глаз.
— Это так, — сказал Зверь Домашний и горестно вздохнул. — Но вот что не дает мне с тех пор покоя, Нуххар: отчего вы, побежденные, живете так весело и сытно, в то время как я, победитель, шастаю по лесам один-одинешенек, и часто голодаю, и мокну под дождем, и мерзну на ветру?
— Потому что мы живем втроем в моей хижине, — ответил Нуххар, — и когда у нас выдаются неудачи на охоте, мы берем из моих запасов, а когда у нас удачные дни, мы восполняем то, что съели из бочек. Таким образом, у нас всегда хватает еды.
— Это умно, — признал Зверь Домашний. — Но почему же я так не могу? Ведь я сильнее вас всех!
— Ты не умеешь так потому, что ты — зверь, а я умею так потому, что я — тролль, — сказал Нуххар. — И пока ты не признаешь этой очевидной истины, голодать тебе, и мерзнуть, и мокнуть, Зверь Домашний, несмотря на то что в сражениях ты одолел нас всех.
Тут Зверь Домашний растянулся на брюхе и улегся перед Нуххаром, шевеля хвостом.
— Я тоже хочу жить в твоей хижине, — сказал Зверь Домашний.
— Что ж, — ответил на это Нуххар, хитрый одноглазый тролль, — добро пожаловать!
Вот так и стали служить Нуххару Зверь Лесной, Зверь Степной да Зверь Домашний. Всех он привязал к себе своей хитростью, ну и еще добротой своего сердца (ведь Нуххар и сам был некогда и уродлив, и глуп, поэтому жалел всех, в ком усматривал с собой хотя бы малое сходство).
И еще Нуххар говорил, что никого нельзя держать в неволе, ни хитрых, ни глупых, и оттого никогда не терял друзей.
* * *
Когда женщина открыла глаза, то увидела темноту и решетки. Потом она пошевелилась, потому что всегда, просыпаясь, потягивалась, и вспомнила, что ее руки прикованы.
— Эй, — позвала она.
Наверное, это неправильно — сразу говорить «эй». Надо как-то иначе.
Она задумалась. «Здравствуйте» — так говорят, когда видят собеседника, а она никого не видит. «Привет» — слишком радостно, а в этом подземелье совсем не радостно. «Кто-нибудь!» — чересчур много отчаяния. Это может огорчить тех, кто ее услышит. Вот и выходило, что «эй» — лучше всего. И она снова позвала:
— Эй!
— Что раскричалась? — услышала она отдаленный голос.
И сразу же, как по команде, темнота оживилась, забубнила, загремела цепями, зарычала, затрясла тяжелыми патлами.
— Где мы? — спросила женщина. Ей казалось, что ответ на этот вопрос поможет разгадать все остальные загадки. Она долго обдумывала, какое слово лучше употребить: «Где я?» или «Где мы?» И в конце концов пришла к выводу, что «я» прозвучит слишком самонадеянно, а «мы» будет и по-дружески, и близко к истине. — Где мы?
— Под землей, тебе ж сказали, — пробурчал другой голос.
— Зачем мы здесь? — снова спросила женщина.
— Ты тролль? — рыкнул третий голос. — Ты сгниешь здесь!
«В этом „ты“ очень много от „я“, — подумала женщина. — Кажется, тот, кто сказал мне это, отчаялся и не боится заразить отчаянием остальных. Но ведь это неприлично!» Она против воли почувствовала приступ высокомерия.
— Я нигде не сгнию, потому что у меня есть дети, — заявила она.
Маленькая молния блеснула перед ее глазами, когда она это произносила, — таким сильным было ее счастье при мысли о детях.
— У меня их целых четверо, — похвасталась женщина.
Но никто из прочих пленников этой молнии не видел. Все их молнии, должно быть, погасли уже очень давно.
— Мы тролли, а они нас ловят, — промолвил угрюмый бас. От звука этого голоса все звенья на цепи затряслись и наполнились пчелиным гудением. — Они ловят нас, вот и все тебе объяснение.
— Охотники.
— Охотницы.
— Они нас ловят.
Женщина не поняла, что это было — эхо или множество голосов. Но чем бы это ни было, у баса, несомненно, имелись и мощь, и власть. Поэтому когда женщина заговорила снова, она обращалась именно к нему:
— И что они с нами делают? Зачем держат нас в заточении? Если они считают, что мы — их враги, то почему бы им просто не убивать нас?
Бас расхохотался, а вслед за ним засмеялись и остальные. Но это был неправильный смех. Тролли не должны так смеяться. Тролль вообще смеется чаще, чем человек. Он смеется над смешным, над удивительным, над грозным, над опасностью, над колыбелью, над врагом, над котлом с добрым варевом. Тролль не смеется только над троллихой, потому что это против правил хорошего тона и к тому же может оказаться чрезвычайно опасным. А эти тролли смеялись над женщиной. Над той, которая попала в беду и теперь задавала вопросы. Они посмеялись над троллихой, и это лучше всяких слов свидетельствовало о том, как же низко они пали в своем несчастье. Женщина понимала все это, поэтому она рассердилась и приказала:
— Объясняйте!
Тогда они устыдились и заговорили по-другому. Они стали ей все объяснять:
— Они нас ловят.
— Ты уже поняла, что они нас ловят?
— Они поймали нас.
— Они научились нас ловить.
— Они ловят нас, ловят и притаскивают сюда.
— Они запирают нас здесь.
— Они заковывают нас в цепи и сажают под замок.
Женщина молчала, вынуждая тех, невидимых в темноте, продолжать, и они послушно продолжали, потому что провинились перед знатной троллихой и теперь изо всех сил заглаживали свою вину.
— Но они не убивают нас.
— Мы бы тоже не стали убивать их сразу.
— Мы бы сперва заставили их страдать и мучиться.
— Они бы работали на нас.
Для троллей слова «работа», «страдание» и «неволя» были однокоренными. Да и для других народов это обстоит точно так же, но одни только тролли признаются в этом открыто.
— Мы делали бы их толстыми.
— Толстые рабы — вот кем бы они у нас были.
— И они бы страдали и мучились нам на радость.
— Вот как бы мы с ними поступили.
— Совсем не так поступают они с нами.
— Они не получают удовольствия, захватив нас.
— Мы сидим в темноте, а они даже не видят наших несчастий.
— Они не приходят полюбоваться.
— Они не умеют злорадствовать! — выкрикнул резкий металлический голос, судя по всему, принадлежащий молодому троллю. — Я оскорблен!
— Мы все оскорблены, — задумчиво произнесла женщина. — Но для чего же все-таки они ловят нас и держат взаперти?
— Нам не место в их мире, так они утверждают, — после очень долгой паузы произнес молодой тролль.
Троллиха громко фыркнула:
— Какая чушь! В любом мире найдется место для тролля. И они это тоже знают, иначе для чего бы им обменивать своих детей на наших?
Некоторое время все переговаривались на эту тему, и чем дольше другие пленники соглашались с троллихой, тем яснее она понимала, что они что-то от нее утаивают. Поэтому она позволила им побурчать и поразглагольствовать вволю, а потом просто спросила:
— О чем же вы так упорно не хотите мне говорить?
Тут-то они и взорвались. Осыпали всевозможными проклятьями тех троллей, что осмелились посмеяться над женщиной! Как будто не все они были в этом виновны, а только некоторые. Мол, это из-за глупых насмешников вина перед знатной троллихой выросла настолько, что теперь даже солгать ей — и то будет преступлением (а лгать женщине у троллей дозволяется и даже считается за добродетель). И отмолчаться не получится, ведь она задала прямой вопрос.
— Да не заставит же она нас силой, — высказался один из троллей, но остальные на него зашикали.
— Хочешь умереть в бесчестье?
И наконец они сказали ей правду:
— Из нашей крови люди делают какое-то особое лекарство, очень для них важное. Они обменивают его на большие деньги. Вот почему они держат нас здесь.
И всё разом намертво смолкло. На мгновение женщине показалось, будто все ее товарищи по несчастью разом исчезли и она осталась в подземелье одна. Женщина дико перепугалась. Она закричала:
— Эй! Эй!
А когда кругом зашевелились другие тролли и звякнули чужие цепи, она сразу же успокоилась и даже засмеялась от облегчения.
— Вы здесь!
— Куда бы мы делись, — сказали другие пленные тролли.
Женщина успокоилась и продолжила свои расспросы:
— Но как же они делают свое важное лекарство из нашей крови, если содержат нас в такой невообразимой грязи и сырости! Я видела их больницы по телевизору, там всегда должно быть чисто, и у всех специальные шапочки и перчатки.
— Наша кровь так чиста, что ей не требуется ни шапочек, ни перчаток, — сказал один тролль.
А другой добавил:
— Наша кровь разъест любые шапочки и перчатки.
— У них есть потребное оборудование для этой работы, — сказал третий тролль. — Не прокусишь, очень прочное.
— Бесчестные существа, — проговорила женщина презрительным тоном. Ей стало значительно легче, когда она сумела почувствовать презрение.
— Они делают из нашей крови лекарства, чтобы стать сильнее и моложе, — прибавил владелец металлического голоса, молодой тролль.
Троллиха сразу вспомнила запах, исходивший от охотницы, и поняла, что теперь другие тролли говорят ей правду. Она откинулась к стене и опять задремала. Она совершенно обессилела, а разговор ее измучил. «Это потому, что у меня забрали много крови», — поняла она, и ей стало дурно.
* * *
Дети стояли в парке и смотрели на странное сооружение из земли и необработанного булыжника. Это была искусственная гора. Небольшая горка, если говорить точнее. Небольшая даже для детей, которые и сами-то были пока что невелики.
Странной была ее неестественность. Здесь не сама земля сочла нужным обзавестись утолщением, а какие-то люди, вопреки природе, постарались. Навезли песка и камней, насыпали и утрамбовали.
На плоской верхушке горы те люди устроили площадку с ограждением в виде цепей. В такие цепи запросто можно заковать тролля. Наверняка строители нарочно все так спланировали, чтобы, не вызывая подозрений, заказать на каком-нибудь металлическом заводе длинные и толстые цепи, гораздо длиннее, чем требуется для ограждения площадки. Вот эти-то цепи и используются теперь в тайной темнице для троллей, там, под горой, глубоко в земле.
Детям не понадобилось произносить свою догадку вслух: мысль была достаточно очевидной и носилась между братьями и сестрами, как ополоумевшая муха в банке, попеременно ударяясь то об один лоб, то о другой.
Внутри горы имелся безнадежно закрытый бар. При создании горки считалось, что бар этот будет постоянно открытым, день и ночь. Туда будут приходить люди, чтобы выпить: днем — в полутьме и прохладе, а ночью — в сырости и сумраке. Иногда хочется поменять солнечную зелень парка на подвальную влажность подобного бара — ради контраста. Что до ночной тьмы, то человек, в отличие от тролля, охотно повернется к ней спиной и войдет в любую дверь, лишь бы только она была открыта.
Но сейчас тяжелая дубовая дверь подгорного бара была заперта на огромный, проржавевший засов. Под дверь намело много мусора. Сюда давно никто не входил, ни днем, ни ночью. В засоренном фонтане возле входа валялись обломки летних стульев.
Дети долго смотрели на горку и бар. Они даже отошли подальше, чтобы впечатление было более полным.
«Парк такой веселый, а это место — жуткое, — подумала младшая дочь, покусывая губы. — Оно неприятное. Его хочется обходить стороной. Все вокруг приятное, а это — нет».
На самом деле тролли вовсе не предпочитают сырые и темные места. Тролли любят яркий солнечный свет. Только в троллином мире солнце светит иначе, и там больше красного и оранжевого, такого, от чего у людей заболели бы глаза. Но и зеленое солнце человеческого мира для троллей предпочтительнее, чем сырость и тьма. И особенно — чем такие заброшенные и грязные места, как этот бар, где никогда не происходило ничего хорошего и даже выпивка действовала отвратительно.
«Здесь всегда ощущалась опасность, — подумала старшая дочь. — Поэтому люди и обходили это место стороной. Поэтому и разорился бар». Она кое-что знала о барах и разорении, потому что смотрела телевизор. Мама разрешала детям это.
Младший брат сел на корточки, тряхнул кистями лохматых рук, шумно втянул ноздрями воздух. Остальные дети наблюдали за ним.
— Ой, обезьянка! — сказал какой-то проходивший мимо посторонний ребенок. — Обезьянка, мама!
Он потянул родительницу за собой и скоро уже стоял перед осиротевшими детьми и смотрел на младшего братца. А младший братец, подняв мордочку, смотрел на него.
— Можно сфотографироваться с вашей обезьянкой? — вежливо спросил у детей посторонний мальчик.
Дети переглянулись, и старшая сестра сказала:
— Да.
А потом приказала младшему братцу:
— Обними этого мальчика за шею, как будто ты его любишь.
Так они и сделали. Родительница сфотографировала своего мальчика в объятиях тролленка, дала старшей девочке пятьдесят рублей и поскорее ушла, уводя с собой отпрыска.
Младший братец обнюхал пятьдесят рублей и сморщился. Ему не понравился запах.
— Обменяй это поскорее на еду, — жалобно протянул он. — Я хочу съесть эти деньги и выбросить их вон.
Младшая сестра спросила:
— Ты нашел то, что мы искали?
— Да, — ответил лохматый братец. — Наша мама — внутри горки. И я думаю, что там, внутри, — очень опасно.
Они обошли горку со всех сторон в поисках входа, а потом старший брат сказал:
— Дождемся ночи и вломимся через бар.
* * *
Енифар не умела бегать так, как бегал тролль, ее спутник: быстро и ровно, всегда с одинаковым дыханием. Она то обгоняла спасенного пленника, то отставала от него. Если она обходила его, то громко над ним потешалась, а если отставала, то помалкивала и сердито сопела у него за спиной, так, что у тролля щекотка ходила между лопаток. Он, конечно, все слышал, но никак не показывал виду.
Они возвращались в ту сторону, откуда пришел отряд. К границе, к троллиным землям. Деревня оставалась по левую руку, они нарочно обходили ее по широкой дуге, чтобы избежать ненужных встреч.
Наконец Енифар совершенно выбилась из сил, тогда тролль остановился, повернулся к ней и сказал:
— Я очень устал. Передохнем.
Она повалилась на землю прямо там, где стояла, и проворчала:
— Вы, мужчины, всегда бросаете дело на половине.
— Случается, — согласился он.
Ее лицо заливал такой горячий пот, что ей казалось, что кожа ее вот-вот оплавится, а кровь под кожей закипит и пойдет из носа пузырями.
— От этого все беды и невыигранные войны, — продолжала Енифар, с жадностью глядя в холодное небо.
— Войны ведутся вовсе не для того, чтобы их выигрывать, — возразил тролль, — а ради удовольствия. Если война такова, что ее непременно надо выиграть, значит, дело совсем плохо. Но такое, к счастью, происходит очень редко.
Енифар разрыла ногтями землю, вытащила клок травы вместе с корнями и положила себе на лицо, чтобы охладиться.
— Когда ты спал в плену, — снова заговорила она, — что тебе снилось?
Тролль задумался, пересчитывая собственные пальцы: такая у него была манера собирать мысли воедино; потом признался:
— Плохо помню. Меня ударили по голове. Для чего тебе знать мои сны?
— Хочу понять, одно и то же снится тебе в плену и на свободе или разное, — объяснила Енифар. — Мне все кажется, что свободные сны — совсем без видений или легкие, непонятные, без всякого смысла. Просто отдых, понимаешь? А вот сны рабские или пленные — эти, наоборот, сочные, полные подробностей и приключений, в них много прикосновений и сердечной боли; они тяжелые и хорошо запоминаются. Из таких снов и берутся все истории для рассказов.
— Откуда тебе известно о рабских и пленных снах? — спросил тролль.
Енифар не ответила, только надулась, но в темноте, да еще с комком травы на лице она могла бы и не трудиться корчить гримасы, ее все равно не было видно.
— Ты не знала никогда настоящего плена, — сказал ей тролль, которого она освободила. — Подумаешь, люди, которые должны тебя кормить, ругаются и дерутся! Эдак всякий, услыхав дурное слово, сочтет себя порабощенным и начнет плакать…
Они оба засмеялись и хохотали вволю, пока не насытились; спешить им было некуда. Потом тролль сказал более серьезно:
— Пока твои руки не связаны и ты можешь подпрыгнуть и не удариться макушкой о потолок, считай себя свободной. А вот когда ты сидишь в глубине горы, и над тобой навалена целая толща земли, и тебя приковали цепями к каменной стене — вот тогда начинай беспокоиться. Знаешь сказку о женщине, которую поймали охотники на троллей и спрятали внутри горы?
— Ну, — сказала Енифар, — возможно, кое-что я и слышала. А может быть, я сама все это и придумала.
Она вытащила еще один комок земли и взгромоздила себе на лицо, поверх первого. Какой-то муравей или жучок, определенно, проползал по ее виску, равнодушный к тому, где ползет и кого щекочет.
— Эту историю рассказывают храбрым детям, чтобы они не сомневались в своей храбрости, — сказал тролль.
Енифар прищурилась:
— А ты ее откуда взял? У тебя ведь нет детей!
— Не были, так будут, — возразил тролль, — да я же и сам когда-то был ребенком. Но ты права, — признался он тотчас же вслед за этим и размяк, — про женщину в плену у горы я узнал совсем недавно. Побежденным и пленникам снятся странные сны, — ты угадала, Енифар.
Девочка громко фыркнула, и земля с корней вырванных ею растений посыпалась ей в глаза.
— Я и сама погребена под землей, смотри, — сказала она. — Меня ли удивить историей о женщине, спрятанной внутри земляной горы!
* * *
Когда стемнело, четверо детей собрались возле тяжелой дубовой двери и стали руками разгребать мусор, заваливший вход. С наступлением сумерек многое изменилось. Днем люди ходили по парку в одиночку или парами. Эти люди были общительны и любопытны и легко могли привязаться к детям, играющим возле закрытого бара. Но в темноте люди начали сбиваться в стаи, а это гораздо более замкнутые сообщества, и туда не принимают посторонних, разве что из желания превратить их в жертву.
Однако стаи не только жестоки, они еще и предусмотрительны и наделены крепким, правильным инстинктом, которого напрочь лишены одинокие существа. Поэтому ни одна из стай не останавливалась возле четверых тролльских детей, не наблюдала за ними и, уж конечно, не задавала им никаких вопросов. Только один раз над ними посмеялись, очень громко, но издалека, и дети сочли, что это вполне безопасно.
Когда дверь была освобождена, старший мальчик подошел к ней и улыбнулся. У него были отличные зубы, белые и крепкие, и он принялся грызть дубовую древесину. Сказать по правде, пришлось ему изрядно потрудиться! Он погружал лицо в тяжелые доски и мазал их слюной, так что со стороны могло бы показаться, будто он лобызает дверь, — ну что за глупость! Разве двери целуют?
— Еще как целуют, — уверенно сказала младшая дочь и передернула плечами так, что все розовые оборки на ее платье встрепенулись. — Особенно если за дверью спит возлюбленная, а сама дверь заперта!
— Не говори о том, о чем тебе говорить рано, — остановила ее старшая сестра. Но при этом она мечтательно улыбнулась.
А их брат продолжал грызть дверь, и острые занозы застревали у него в деснах. Губы и язык его кровоточили. Однако он упорно размачивал древесину слюной, скреб ее резцами и, набрав полный рот щепок, выплевывал их.
Младший братец сидел на корточках, раздувал ноздри и кивал: запах их матери становился все сильнее.
Когда отверстие оказалось достаточно большим, чтобы туда можно было просунуть руку, старшая сестра подошла к брату, обняла его за плечи и отодвинула в сторону.
— Довольно, — строго проговорила она.
Мальчик обратил к ней распухшее, испачканное кровью лицо и улыбнулся. Улыбка открыла целый лес щепок, вонзившихся между зубами. И еще несколько заноз торчало из щек, а одна оказалась прямо под носом.
Старшая сестра сказала:
— Приведи себя в порядок. Что за вид!
И пригладила пальцем его брови.
Она вложила руку в отверстие, проделанное в двери, и, прихватив край доски, с усилием выломала ее. Затем пнула дверь, и та треснула пополам.
Перед детьми открылся черный зев, и они быстро вошли внутрь.
В брошенном баре оказалось душно и мокро, а темнота стояла такая, что дети почувствовали себя упавшими в пропасть.
Тогда младшая дочка с глазами-звездочками плюнула себе в ладонь, и ее рука загорелась, как факел. Сразу же пространство стало обыденным и довольно тесным, и дети увидели пустую стойку бара и треснувшее зеркало за ней. На стенах висели скособоченные картинки, заплывшие от сырости и старости.
Младшая дочь женщины подняла руку и медленно обвела ею весь бар, чтобы высветить каждый закуток. И наконец они увидели то, что хотели: низкий лаз сразу за стойкой, в углу. Очевидно, там и начинался вход в подземелье.
— Я пойду первым, — сказал младший братец после долгого молчания.
Дети молчали — не потому, что каждый боялся идти вперед, а потому, что они попросту не знали, какими словами выразить происходящее. Но младший братец, хоть и был похож на тролля из самой низшей касты, нашел правильные слова.
— Я хорошо ползаю, — прибавил он. — И у меня есть нюх.
— У нас у всех есть нюх! — возмутилась старшая сестра. (На самом деле она была благодарна меньшому тролленку за то, что он оказался умнее всех.) — А я еще и сильная.
— Я пойду первым, — повторил младший братец.
— А я — последней, — подхватила младшая сестра. — Чтобы освещать дорогу тем, кто впереди.
Старший брат молчал, выдергивая изо рта занозы, но когда сестры посмотрели на него, он улыбался, и зубы у него были красными, словно он их выкрасил, как и подобает настоящему троллю.
И они нырнули в лаз.
Гора сжимала их со всех сторон и норовила раздавить, но когда такое случалось, старшая сестра приподнимала земную толщу, упираясь локтями в пол и выгибая по-кошачьи позвоночник. В эти мгновения ее хвостик напрягался и вытягивался, как стрела, так что в конце концов ее джинсы лопнули сзади. Раздосадованная девочка разодрала их когтями, и они превратились в юбку, состоящую из десятка лохматых лент, наподобие дикарской одежды. К слову сказать, обычно так и одеваются настоящие троллихи, только ленты их одежды, причудливо перевитые, сотканы из самого лучшего шелка и украшены бубенцами и узорами.
Дети ползли под землей целую вечность, а на земле прошло всего сорок минут. Таково свойство жизни в пещерах: время здесь идет совершенно иначе, нежели на поверхности, и с этим следует смириться.
Наконец навстречу им потек широкой полосой воздух — не сдавленный, как в тоннеле, а разжиженный. И в этом воздухе ощущался едва различимый запах их матери.
Дети замерли возле выхода из тоннеля. Младшая сестра сжала руку в кулак, и свет погас. Очень долго они прислушивались, пытаясь определить, где же они находятся и кто таится в темноте, кроме них.
«Я слышу бряканье, — подумала младшая сестра, почесывая пальцем зудящую серединку ладони. — Похоже на то, как звенят вилки и ножи, когда моешь посуду».
«Я слышу вздохи, — подумала старшая сестра и вздохнула сама. — Такие глубокие, словно кто-то объелся и теперь смотрит по телевизору чувствительный фильм».
«Я слышу, как скрипят зубы! Здесь тролли!» — подумал младший братец.
Забыв об осторожности, младшая сестра раскрыла ладонь, и все вокруг озарилось мягким светом. Огромная пещера словно расцвела, а свет разливался все дальше, ни одной подробности не позволяя оставаться спрятанной в тени.
Дети увидели разом всё: и решетки, и камни, и троллей, прикованных к большим железным кольцам, и низкие потолки, такие, чтобы самым рослым давили на макушку и заставляли втягивать голову в плечи. Всё там было плохо, даже еда в некрасивых, расплющенных тарелках.
— Что это за место? — спросила младшая сестра, обводя вокруг себя рукой. — Мне здесь очень не нравится.
А старшая пронзительно закричала:
— Мама!
Троллиха, дремавшая на земляном полу, встрепенулась и бросилась к решетке. Из-под ее ногтей сочилась влага.
Лохматое существо свернулось в комок и стремительно покатилось по полу. Младший сын троллихи не боялся ни удариться, ни испачкаться — он ощущал запах своей матери и спешил к ней, как только мог. Грязь, что скопилась на полу в пещере, впитывалась в его шерстку, и таким образом образовалась чистая и ровная дорожка. Вот по ней-то и ступали остальные дети, родившиеся в зеленом ящике для садовой рассады.
Когда чумазый комок ударился о решетку, троллиха вскрикнула, а комок распался, разжался и оказался ее меньшим сынком. Старшие дети тоже подбежали к клетке, где была заперта их мать, и схватились руками за прутья.
Они были так разгневаны, что прутья под их руками раскалились. Дети принялись колотить по ним руками и ногами, и их кожа покрылась волдырями от ожогов.
* * *
— И тут, конечно же, на шум явилась охотница на троллей, собственной персоной, и с ней еще дюжина охотников, и все они были хорошо одеты, и с дубинами в руках, и еще с разным оружием, и все они набросились на детей и попытались их убить, да? — сказала Енифар и села, отряхивая обеими руками лицо и волосы. — Так всегда бывает, и хорошего в этом мало.
— Напротив, в этом было много хорошего, — возразил тролль, — ведь у них имелись при себе ключи от всех замков.
— Это очень глупо — постоянно носить такие важные ключи с собой да еще держать их на поясе или в кармане, — заметила Енифар. — Если бы мне поручили охранять пленников, я бы никогда не допустила подобной ошибки.
— Эту ошибку допускают все тюремщики, иначе в мире не осталось бы подобных сказок, — ответил ей тролль. — Впрочем, ключи были только у охотницы, а двое мужчин, которые пришли с ней, сжимали в руках пистолеты.
Они прицелились в детей, которые, ошалев от ярости и боли, всё лупили и лупили по решеткам, так что помещение наполнилось звоном, грохотом, воплями, вонью раскаленного железа и запахом паленой кожи.
Люди открыли стрельбу, однако попасть в троллят оказалось не так-то просто, ведь те все время перебегали с места на место, приседали или подпрыгивали и притом выкликали самые разнообразные и ужаснейшие ругательства, а старшая девочка еще и размахивала своим шелковистым длинным хвостиком.
Все это создавало в пещере страшную сумятицу.
Пленные тролли рычали и напрягали свои цепи, стараясь вырвать их из гнезд. Двоих пленников случайно ранило выстрелами, а один, кажется, и вовсе погиб и теперь свешивался в оковах со стены, косматый и бессильный, как огромный лишайник.
Старший из мальчиков набросился на женщину-охотницу и впился зубами ей в плечо, пачкая своей кровью ее одежду. Пока та отбивалась, младшая из девочек сжала руку в кулачок и изо всех сил ударила злодейку в нос.
Это она умела, потому что родилась уже готовой драчуньей; уж такой ее изначально задумывала мама.
Охотница вскрикнула, а ее спутники-мужчины разом повернулись и нацелили пистолеты на старшего брата и младшую сестру.
Тогда самый маленький из всех, косматый тролленок взмахнул руками и прыгнул на одного из этих сильных, вооруженных мужчин. От неожиданности охранник сдуру пальнул и попал в своего товарища; тут-то все повалились друг на друга, смешивая человеческую кровь с троллиной. Охотница кричала как безумная, потому что косматый мальчик выдергивал у себя шерсть и запихивал комки в нос и в глаза ненавистной женщине, укравшей его мать. А шерсть у тролленка была очень грязная.
Мертвый охранник всем мешал, и об него все спотыкались. Живой охранник продолжал размахивать пистолетом, но тут с пушечным грохотом лопнула одна из цепей, и здоровенный тролль — обладатель басового голоса — с размаху ударился всем телом о раскаленную решетку. На его коже остались вертикальные полосы, ярко-красные и дымящиеся, однако прутья выскочили из гнезд и празднично запели на полу, а тролль вырвался на свободу.
— Я знаю, что случилось дальше. Он увидел старшую сестрицу в лохмотьях, которые едва прикрывали ее тело, да так и застыл на месте, — сказала Енифар. Она кивнула, отвечая своим грустным мыслям, и прибавила: — И охранник сразу же застрелил этого тролля. Но зато тот умер, любуясь прекрасной женщиной, поэтому его последний вздох был счастливым.
— Откуда тебе известны такие вещи? — удивился тролль, который рассказывал девочке эту сказку.
— Наверное, видела во сне, — ответила Енифар. — А ты разве нет?
Он пожал плечами:
— Смерть на глазах троллихи — лучшее доказательство любви, если другие доказательства запрещены или невозможны. У людей это по-другому. Когда люди говорят, что «умирают от любви», это просто-напросто означает, что им скучно.
— Если бы люди действительно умирали от любви и больше ни от чего другого, — презрительно сказала Енифар, — они бы жили вечно.
* * *
Жила однажды красавица, ее звали Бээву. У нее были толстые косы, каждая толщиной в ляжку. Когда она укладывала волосы баранками вокруг ушей, то казалось, будто у нее три головы вместо одной.
У нее был отец, а у отца было четыре коровы. Бээву очень любила этих коров и ходила их пасти. Однажды на коров напал Зверь Лесной, но Бээву схватила Зверя за переднюю и заднюю лапы и разорвала на кусочки, а его внутренности скормила своим коровам.
Вечером она отправилась доить коров.
Коровы встретили ее веселым мычанием, а Бээву поставила ведро, уселась на маленькую скамеечку и взялась за дело. Она надоила целое ведро отборнейшего и густейшего молока, процедила его сквозь толстую сеть, сплетенную из ее собственных волос, перелила в кувшин и понесла в дом.
Тем временем к отцу приехал в гости один тролль по имени Хонно. Это был очень красивый молодой тролль, с густыми синими волосами и одной белой прядью на затылке. У него были черные глаза и розовые губы, такие нежные, что впору было принять их за раздавленные лепестки, прилипшие к лицу.
Когда Хонно увидел Бээву, то потерял дар речи, а она поставила молоко на стол перед гостем и своим отцом и сама уселась рядом, сложив руки на коленях.
На самом деле мысленно она насмехалась над Хонно, и уж он-то об этом сразу догадался, потому что Бээву ему очень понравилась. А отец девушки ничего не понял. Для начала он посмотрел на молоко и увидел, что оно розовое.
— Разве наши коровы доятся розовым молоком? — строго спросил отец Бээву.
Бээву сказала:
— Как видишь.
— Но это очень странно, — продолжал ее отец, — сколько я держу коров, их молоко всегда было белым.
— А сегодня оно розовое, — упрямо сказала Бээву, — потому что наши коровы наелись окровавленных внутренностей Зверя Лесного.
Отец разгневался на Бээву; он встал и хлопнул кулаком о ладонь.
— Как ты могла так поступить с нашими коровами! — вскричал он. — Ведь теперь они захотят питаться только свежим мясом, уж я-то знаю. Стоит скотине отведать окровавленных внутренностей, и уже не заставишь ее есть траву, как раньше. Где я найду столько зверей, лесных и степных, чтобы прокормить четырех коров да еще пятую корову в придачу?
Бээву затрясла своими пышными волосами и затопала ногами, не вставая, впрочем, со скамьи. Левым коленом она проломила стол, а правым ухитрилась ударить гостя, причем совершенно того не желая.
— Не называй меня коровой, отец, потому что у меня нет рогов и я не даю молоко!
— Зато ты глупа, как корова, и у тебя есть хвост! — сказал отец. — И за то, что ты испортила мое чудесное стадо, я приказываю тебе уйти из моего дома и не попадаться мне на глаза десять лет.
Бээву сказала:
— Сам уходи, если не любишь розовое молоко, а мне и такое нравится.
Тогда отец схватил ее за волосы и силком вытащил из своего дома, а под конец наградил хорошим пинком, так что Бээву пролетела через весь двор, протаранила стену сарая, снесла ворота и только на краю пастбища упала на землю.
Тролль Хонно выпил все розовое молоко, какое только было на столе, включая и лужицы от разлитого, вежливо облизал кувшин и сказал отцу девушки:
— Если ты позволишь, я догоню ее, поймаю и женюсь на ней.
— Хо-хо, — проговорил, пыхтя, отец Бээву, — что ж, давно я не видывал молодых троллей, разорванных пополам. А мои коровы, сам видишь, приохотились теперь к живому мясу, так что недолго тебе осталось ходить в женихах. Ступай, если так хочешь, догони Бээву и попробуй укусить ее за хвост, авось она размякнет и согласится стать твоей женой.
Получив, таким образом, согласие отца девушки, Хонно выбежал из дома. Он торопился догнать Бээву, но той уже и след простыл.
Хонно долго бегал по окрестностям, а отец Бээву стоял на крыше своего дома, откуда хорошо было видно на много полетов стрелы вокруг, и громко смеялся.
Наконец Хонно устал — и от насмешек, и от беготни — и пошел в лес. Он брел не разбирая пути, заблудился, проголодался, захотел пить, проклял все на свете и больше всего — розовое молоко, потом подумал о косах Бээву и громко завыл.
И словно бы в ответ донесся чей-то отчаянный вой. К первому голосу прибавился второй и третий, а четвертый голос скулил и рыдал на все лады.
Хонно приободрился и начал продираться туда, откуда доносился этот хор. И скоро он увидел одноглазого тролля, который застрял в зарослях, и притом застрял намертво.
Волосы этого тролля запутались в густых ветках кустарника, и чем больше бедняга мотал головой и дергался, тем хуже ему приходилось. На его голове, по правде сказать, не осталось уже ни одного волоса, который не обвился бы вокруг какого-нибудь прутика, и к тому же не по одному разу.
Одежда этого тролля зацепилась о колючки. Она была прочной и потому не хотела рваться, и чем яростнее злополучный пленник бился в своих путах, тем хуже ему приходилось: все больше и больше колючек впивалось в его тело.
Ноги тролля увязли в трясине почти по колено, и только гибкие ветки кустарника, к которым он, можно сказать, прирос, не позволяли ему провалиться туда по пояс, а то и ухнуть с головой. Он пытался высвободить ноги, но обувь у тролля была хорошая, крепкие ремни обвивали колени и бедра и надежно удерживали сапоги на месте, так что выдернуть ноги из западни тролль также не мог.
А рядом с этим троллем сидели Зверь Лесной и Зверь Степной и жалобно выли…
— Погоди-ка, — прервал тут Енифар ее собеседник, — так ведь Зверя Лесного только что поймала та троллиха, Бээву. Поймала и разорвала его на куски голыми руками! Как же получилось, что он, целехонький, сидел рядом с попавшим в ловушку троллем и выл?
— Да так и получилось, — с досадой отвечала Енифар, — что это был другой Зверь Лесной. Что, один только на свете Зверь Лесной? Их много! И когда я говорю «Зверь Лесной», я имею в виду одного из множества… Чего ж тут непонятного?
И она продолжила рассказывать историю.
Хонно остановился на безопасном расстоянии, чтобы самому не угодить в ту же беду, и закричал:
— Эй, тролль! Что с тобой случилось?
Теперь становится совершенно очевидно, что этот Хонно был куда как глуповат. Можно подумать, он и сам не видел, что случилось с этим троллем.
Тот тролль закричал ему в ответ:
— Я тебе не «эй», а Нуххар, потому что у меня один глаз!
Какая связь между «Нуххаром» и «одним глазом» — неизвестно, потому что эти слова не родственные; впрочем, с определенностью можно сказать лишь: жил тогда такой тролль по имени Нуххар, и у него действительно был один глаз.
В общем, это был он, Нуххар. О чем и узнал Хонно в тот самый миг, когда Нуххар сказал ему об этом.
— Эй, Нуххар, — окликнул его Хонно более спокойным голосом, потому что кое-что начало проясняться у него в голове, — а что это с тобой случилось?
— Я угодил в западню, — ответил Нуххар. Он уже догадался, что перед ним полный дурак. — Мои волосы запутались в ветках, моя одежда нацепилась на колючки, а ноги увязли в болоте.
— Как это вышло? — опять спросил Хонно.
— Я потерял Зверя Домашнего и пошел его разыскивать, — объяснил Нуххар и с ненавистью плюнул в Зверя Домашнего, рыдавшего тут же неподалеку. Слюна тролля ожгла спину Зверя, и он с визгом отскочил подальше. Там он уселся, обиженно посмотрел на хозяина и принялся чесать лапой ухо. — А тем временем завяз в болоте. Стал выбираться — зацепился одеждой. Дернулся повыше — угодил волосами куда не следует.
— Я должен помочь тебе, — после некоторого раздумья решил Хонно.
— Да уж хорошо бы, — вздохнул Нуххар. — А то от моего зверья толку никакого, только воют.
— Если я помогу тебе, ты мне поможешь? — спросил Хонно, который вздумал вдруг проявить некоторые проблески ума.
— Разумеется, — заверил его Нуххар. — Давай освобождай меня поскорее.
— Погоди, зачем так спешить? — рассудительно проговорил Хонно. — Сперва выслушай, в какой помощи я нуждаюсь. И еще следует заранее понять, в состоянии ли ты помочь мне. Потому что если я попрошу тебя о чем-то невыполнимом, то это будет просто нечестно с твоей стороны.
— С моей? — нахмурился Нуххар (кажется, этот Хонно оказался умней, чем притворялся, а Нуххар такого не любил).
— Ну да, ты ведь в любом случае мне пообещаешь помощь, потому что хочешь на свободу, — объяснил Хонно. — Но если моя просьба окажется непосильной для тебя, то вот и получится, что ты меня обманул. В твоем возрасте, да еще имея только один глаз, обманывать нехорошо.
— Обманывать хорошо в любом возрасте и с любым количеством глаз, — возразил Нуххар. — Так что помогай мне скорее, а я сделаю все, что ты ни попросишь.
— Я хочу жениться на одной девушке, — сказал Хонно. — Ее зовут Бээву. Она пасет коров.
Тут Зверь Лесной громко зарычал, потому что он знал уже о той участи, которая постигла его сородича. (Вот видишь! Лесных зверей не один, а несколько, и тот, погибший, приходился этому, здравствующему, каким-то близким сородичем!)
— Цыть! — прикрикнул на Зверя Нуххар. — Хорош выть! — И обратился к Хонно: — Бээву — могучая девица с тяжелым нравом. Из нее получится добрая жена. Я помогу тебе. А теперь — давай вытаскивай меня.
— Я отрежу твои волосы, порву твою одежду и под конец сниму с тебя сапоги, — рассказал ему Хонно. — Вот ты и окажешься на свободе.
— Ты полный дурак! — загремел Нуххар. — Ты хочешь погубить меня! Едва ты освободишь мои волосы и тело, как ноги утянут меня в трясину. Нет, сперва сними с меня сапоги, чтобы я смог выдернуть ноги из болота и поджать их под себя, потом срежь мои волосы, а уж после этого отбегай в сторону и жди.
Так Хонно и поступил.
Сперва он настелил ветки, чтобы можно было подобраться по трясине к самым ногам Нуххара. Лежа на животе, Хонно отрезал ремни, удерживающие сапоги на месте, и Нуххар принялся сучить ногами пуще прежнего, и дергался, как муха, прилипшая к сладенькому, и наконец вытащил ноги на волю, очень синие и сморщенные от долгого пребывания в заточении и сырости.
— Теперь волосы! — потребовал Нуххар.
Хонно забрался на куст, прогибавшийся под его тяжестью почти до самой земли, и принялся отпиливать ножом спутанные патлы Нуххара, причем Нуххар корчил при этом ужасающие рожи и широко раскрывал рот, но не кричал, терпел боль молча, а Звери — Лесной и Степной — хватали Хонно за ноги дико разинутыми пастями. Зверь же Домашний жалобно скулил и поглядывал на происходящее издалека.
Когда волосы Нуххара оказались на свободе, ветки распрямились и, разрывая одежду тролля, выбросили его вперед, как катапульта бросает камень. Вместе с Нуххаром пролетел по воздуху и Хонно, пролетел и грянулся о землю всем телом, так что из него чуть весь дух не вышел.
Оба тролля полежали некоторое время в неподвижности, чтобы прийти в себя и обрести дыхание, а потом зашевелились, приподнялись на локтях, наконец уселись, уставились друг на друга и начали смеяться, причем у Нуххара еще и текли из единственного глаза слезы.
Хитроумный тролль Нуххар был обстрижен глупым Хонно так криво и коротко, что напоминал теперь скорее заросший лишайником камень, нежели тролля. От долгих криков, слез и смеха нос у него съехал на одну сторону, а рот — на другую. Нуххар знал, как он выглядит, а Хонно это видел, вот они оба и смеялись.
Потом Нуххар стал серьезным и спросил Хонно:
— Для чего тебе жениться на Бээву?
Этот вопрос застал Хонно врасплох. Он думал довольно долго, как лучше ответить, и наконец сказал:
— Она красива и желанна. Она сварливая, у нее толстые косы. Любой здравомыслящий тролль захотел бы такую женщину себе в жены. К тому же ее отец мне посоветовал это сделать.
— Ты прав, — сказал Нуххар, усмехаясь. — Для тебя не найдется жены лучше, чем Бээву, и я охотно помогу тебе заполучить ее. Слушай. Когда она бежала прочь из дома, то так торопилась, что не остановилась, чтобы помочь мне. Хоть она и видела, в какое я угодил положение, да и я умолял ее всеми возможными умолительствами, чтобы она задержалась и спасла меня от неминуемой смерти.
— Умереть от голода и жажды, застряв в кустах и трясине, — очень неприятная смерть, — сказал Хонно, которому не хотелось обсуждать жестокое поведение его будущей невесты.
— Ха! От жажды и голода! — сказал Нуххар. — Да ты совсем наивный юнец. Я умер бы от жажды — да не своей, от голода — да от чужого. Попросту говоря, парень, меня бы съели.
— Съели? — изумился Хонно и зачем-то оглянулся, но ничего нового у себя за спиной не заметил. — Кто бы съел тебя?
— Мои Звери — Лесной, Степной и Домашний, — ответил Нуххар. — Вот кто!
— Но ведь они же твои Звери, — не понял Хонно, — как бы они стали тебя есть?
— Голод взял бы верх над преданностью, как оно всегда и бывает, — ответил Нуххар. — А когда они проголодались бы как следует, непременно набросились бы на меня — и всё, поминай как звали.
— Они же могли пойти охотиться в другое место, — предположил Хонно.
— Плохо ты знаешь животных, — поморщился Нуххар. — Зачем им идти куда-то в другое место, когда здесь, у них под носом, уже готовая добыча?
— Но ведь они… твои… — пробормотал Хонно.
Нуххар подобрал палку и швырнул в Лесного Зверя. Тот отскочил и оскалился, однако далеко не ушел.
— Они мои, и поэтому оставались со мной, — объяснил Нуххар троллю Хонно медленно, как маленькому. — Но они голодные, и потому бы меня съели. Они не уходили, потому что не хотели бросать меня одного, и еще потому, что я был готовой добычей. Это уж как повернется судьба. Освободился я — вот я и хвалю их за преданность. А не освободился бы — они сами похвалили бы себя за догадливость. Ты очень плохо разбираешься в животных, так нельзя, Хонно, ведь ты собираешься стать мужем Бээву, а она — опаснее всех трех моих зверей вместе взятых.
— Одного она точно не станет делать, — сказал Хонно, — она не станет меня есть.
И снова Нуххар подумал, что этот парень умнее, чем выглядит. Но на сей раз Нуххару это понравилось.
* * *
Беленькая девочка-подменыш проснулась, увидела свою мать и сразу потянулась к ней. Тонкие светлые прядки рассыпались по шелковому полу шатра, когда девочка приподняла голову, так что казалось, будто пряди удерживают ее и не позволяют ей встать. Но на самом деле все было не так.
— Хорошо ли ты спала? — спросила ее Аргвайр, грустно улыбаясь.
Девочка не поняла ни слова, но она была очень рада, когда красивая мать помогла ей сесть и одеться в новую одежду. Девочка мешала матери одевать себя, она толкалась лбом и тихо смеялась, думая, что все это шутки.
Переодев дочь и накормив ее сладкой кашей, Аргвайр позволила ей играть с драгоценностями из сундучка, а сама уселась скрестив ноги и взялась за шитье: она расшивала золотыми бусами головной убор, для которого сама нарисовала узор в виде трех зверей, сцепившихся в схватке. Этих зверей в природе не существовало — ни в мире людей, ни в мире троллей, ни в мире большого города, где на троллей велась охота и где их томили в подземной темнице, если удавалось поймать. Аргвайр сама придумала, как должны выглядеть эти звери, а назывались они Зверь Лесной, Зверь Степной и Зверь Домашний, все трое — кровожадные и хищные твари, любители пожрать красное, основательно перемазав при этом морду. «Самый подходящий головной убор для юной невесты, — думала Аргвайр, продевая золотую нить в серебряную иглу и приступая к работе. — Жаль, что никакая моя дочь не наденет его — ни эта, добренькая и беленькая, ни та, злющая и чернущая, ни эта, полоумная, ни та, многохитрая; ну да ладно, пусть хранится, может быть, потом народится еще какая-нибудь дочь, вот для нее и сгодится». Троллиха разложила бусины в нужном порядке, чтобы брать их не думая и не глядя, но тут подошла дочка-подменыш, села рядом на корточки и принялась трогать бусины пальцем. Она касалась этих бус очень осторожно, очевидно понимая, что нарушение порядка огорчит ее красивую мать.
— Бусы, — сказала Аргвайр. — Бусы, головной убор и туфли — вот что необходимо юной невесте. И клянусь тремя зверями, которых я придумала и нарисовала пальцем на речном песке, я сделаю все три подарка, а уж кому они достанутся — это совершенно не мое дело.
Беленькая девочка смеялась и кивала головой, а ее волосы плясали так весело, словно жили собственной жизнью и, по какому-то их тайному волосяному календарю, у них был сегодня большой праздник с выпивкой и танцами.
* * *
— Когда она убегала, — рассказывал Нуххар троллю Хонно (они добрались до хижины одноглазого и пили там густую брагу), — когда эта твоя Бээву убегала от своего отца, от порченых коров, от тебя и от моих зверей, она потеряла кое-что. Наверняка она теперь горюет из-за этой потери. Потому что такие вещи не так-то просто отыскать и уж тем более — непросто завладеть ими.
Хонно молча моргал. Густая брага подействовала на него сильнее, чем он предполагал. И криво и коротко остриженный Нуххар все еще казался ему странным, поэтому Хонно подливал и подливал себе в кружку. Нуххар был слишком пьян и чересчур счастлив, чтобы замечать это. В противном случае он бы, конечно, остановил безудержное пьянство своего молодого гостя.
— Ты меня спросишь, — сказал Нуххар заплетающимся языком, — что же она потеряла, кроме отчего дома, коров и будущности? — Он поднял палец и посмотрел на него. Потом покачал пальцем перед носом у себя, медленно передвинул руку и покачал тем же пальцем перед носом у Хонно. — Она потеряла бусы. А какая невеста без бус?
— Какая? — спросил Хонно, завороженно следя за движением черного скрюченного пальца одноглазого Нуххара.
— Нищая! — отрезал Нуххар. — Ну виданное ли дело, чтобы троллиха выходила замуж как нищая? Да еще такая богатая троллиха, как Бээву! У нее одни только волосы весят больше, чем целая корова.
— Это справедливо, — сказал Хонно и закрыл глаза.
Нуххар убрал палец, предварительно поцеловав себе ноготь. Затем он выбросил вперед кулак.
— Вторая вещь, — сказал он, — это башмаки. Я сам видел, как они летели с ее ног, когда она катилась по склону, — у ее отца очень тяжелая рука, доложу я тебе! Никогда еще не доводилось мне наблюдать такого замечательного отцовского тычка.
— Мне неприятно слышать такое о Бээву, — проговорил Хонно, но Нуххар только отмахнулся:
— Я не о Бээву говорю, а об ее отце. Многие троллихи ходят босыми в знак того, что не намерены покидать седло, разве что для того чтобы перейти на шелковый пол шатра или на мягкие ковры, но Бээву — другая. Она любит бегать пешком, и у нее отличнейшие башмаки из пестрой кожи, вышитые по краю и с крепкими каблуками.
— Ты следил за ней! — воскликнул Хонно. — Теперь я понял. Наверное, ты и сам не прочь был бы на ней жениться. Иначе для чего тебе так внимательно к ней приглядываться?
— Я — настоящий тролль, — гордо сказал Нуххар, — хоть у меня и только один глаз. Такому, как я, довольно одной только моей любви, и моя любовь может существовать без обладания. Она кормится собой, как девочка, грызущая ногти, и не содержит в себе ни малейшей толики себялюбия. Если есть в моей любви какое-либо отдельное «-любие», то это лишь бээвулюбие, которое подразумевает, что я желаю ей счастья. Я хорошо узнал ее, пока подглядывал за ней на пастбище и у нее дома. Ей нужен такой муж, как ты: влюбленный, глуповатый и рохля, но при этом с благородным сердцем. Ты отвечаешь всем ее требованиям.
— Она пока что ничего от меня не требовала! — сказал Хонно, несколько уязвленный. Ему, естественно, не понравилось, что его называют рохлей.
— Она просто еще не знает, что может потребовать от тебя все потребное и получить это, — ответил Нуххар. — Но она узнает; а пока что ты должен отыскать ее бусы и башмаки.
— Угу, — сказал Хонно.
Нуххар поднялся, громко икнул, провел ладонью по остриженной голове, крякнул, качнулся, едва не своротил собственную хижину, засмеялся и вышел наружу. Хонно откинулся к стене, закрыл глаза. У него сильно кружилась голова — и от браги, и от мыслей о Бээву. Он облизал губы и ощутил вдруг вкус от розового молока испорченных коров.
Вернулся Нуххар; он нес с собой еще один кувшин с брагой, а под мышкой у него был здоровенный кусок плохо прожаренного мяса, так что вся одежда Нуххара пропиталась жиром, кровью и копотью.
— Перекусим, — предложил Нуххар.
Они уселись рядком, толкаясь плечами, и впились зубами в один кусок. Это сблизило их еще больше.
Несколько раз в щели между дверью и косяком Хонно ловил голодный взгляд блестящих звериных глаз. Все три зверя сидели там и следили за тем, как тролли едят плохо прожаренное мясо, но врываться в хижину не смели.
Неожиданно Нуххар выпустил мясо из зубов и стукнул себя кулаком по голове.
— Третье, — сказал он. — Я совсем забыл рассказать тебе про третью вещь, которую потеряла Бээву.
Хонно открыл глаза и мутно посмотрел на своего собеседника. Тот что-то говорил: шевелил губами, двигал бровью над живым глазом, моргал и кивал весьма убедительно… Но ни одного слова Хонно не услышал.
* * *
Когда старшая дочь женщины увидела, как охранник застрелил тролля, она пришла в настоящую ярость и с кулаками набросилась на убийцу. Он, не задумываясь, выстрелил в молодую троллиху: ведь она не была человеком и к тому же угрожала его жизни. Если бы этот охранник был троллем, он не посмел бы даже поднять руку, чтобы закрыться, вздумай девочка его ударить. Но охранник, как только что упоминалось, был человеком, и это говорило отнюдь не в его пользу.
Старшая дочь женщины подпрыгнула очень высоко, да еще повернулась прямо в воздухе, так что вся ее одежда распахнулась и разлетелась веером. Поэтому пули, выпущенные охранником, растерялись и не знали, какую мишень им поражать, и они пронзили каждый лоскуток на одежде девочки-троллихи, однако не задели ее тела.
А она упала прямо на своего врага и вонзила ногти ему в горло.
Пистолет дернулся еще один раз и бесцельно пальнул в пол, а потом вывалился и издох.
Тем временем младшая дочь уселась верхом на поверженную охотницу и принялась разбивать ей лицо кулачками. Девочка попадала то в глаз врагини, то в ее скулу, то в губу и воинственно вскрикивала при этом. А потом она вскочила, сорвала с охотницы связку ключей, которую та носила на шее (голова охотницы звучно стукнулась об пол), и побежала к решеткам.
Обжигая пальцы, девочка в розовом платье открывала клетку за клеткой, все ближе подбираясь к матери: та могла подождать, ведь она потеряла сознание и не видела большей части из происходящего. Тролли выбегали наружу и, ополоумев, рвались к выходу, и скоро уже они забили собой весь тоннель. Земля под горой тряслась и вздрагивала, так много троллей лезло по подземному ходу одновременно.
А дети вытащили из клетки свою мать.
Она уже пришла в себя и уселась на полу.
Молодые тролли стояли перед ней: девочка в розовом платье с пламенем на середине ладошки, девушка в одеянии из лохматых джинсовых лент, мальчик с кровавой улыбкой и горбатый уродец с опаленной и грязной шерсткой.
Мама поцеловала их всех по очереди, и младшего, испачканного ребенка — крепче всех.
А охотница, чуть живая, смотрела на них с ненавистью.
* * *
— Как ты думаешь, — сказала Енифар своему собеседнику-троллю, — почему та женщина, та троллиха, мать четверых детей, вдруг очутилась в большом городе? Было бы куда проще для нее, если бы она жила в мире троллей. Судя по всему, она была храбрая, вежливая и хорошо воспитывала своих детей. Она прожила бы там, у вас, в большом почете.
— Я думаю, — ответил тролль медленно, — что она тоже была подменышем. Когда-то давным-давно какого-то безвестного человеческого ребенка обменяли на троллиного. Человеческое дитя в троллином мире обычно не доживает до зрелых лет. Что-то не так обстоит с нашим солнцем, оно сжигает белокожих, как бы мы их ни оберегали. А вот троллиное дитя — другое дело; в мире людей оно может считаться некрасивым, или неприспособленным, или сущеглупым, но умирать оно не умирает и становится взрослым и старым, а иногда даже делает неплохую карьеру.
— Думаешь, и я могла бы в конце концов приспособиться к жизни среди людей? — недоверчиво спросила Енифар.
Тролль покачал головой.
— Никогда я такого не думал, Енифар! Ты слишком знатна для того, чтобы навсегда оставаться с людьми, да еще с крестьянами… Так ведь и та женщина, подумай-ка хорошенько, тоже приспособилась весьма плохо, хоть и жила не с крестьянами, а в большом городе, где все дома каменные и гораздо меньше грязи и тяжелой работы. И все-таки она оставалась там совершенно чужой. Будь иначе, с ней не случилось бы всех этих приключений.
— Для чего же люди крадут наших детей? — спросила опять Енифар.
— Ни один мир, Енифар, не может обходиться без троллей, — ответил ее спутник. — Без нас жизнь была бы пресной и невозможной.
— Тогда почему люди истребляют вас по эту сторону границы?
— Потому что мы грабим их деревни, — ответил тролль, ухмыльнувшись.
— Ну, это я знаю, — проговорила Енифар задумчиво. — Если бы вы вздумали напасть на мою деревню, я бы тоже вас убивала.
— Иногда дружба или вражда — вопрос расстояния, — сказал тролль. — Знаешь историю о Быроххе и Скельдвеа, королеве фэйри?
* * *
Жил однажды тролль по имени Бырохх. Он был рослый и рыжий, с огромным горбатым носом, и это делало его красивым и привлекательным. Когда он ел, брызги летели из его рта, когда он смеялся, поднимался ветер, когда он спал, земля под ним шла пузырями, а когда он однажды спрыгнул с дерева, на том месте, куда он приземлился, образовалась вмятина такого размера, что в ней потом похоронили двоих друзей, убивших друг друга на поединке.
Как-то раз Бырохх заблудился на охоте. Впоследствии он утверждал, что и не думал терять дорогу, а просто ветки за его спиной переплелись особым образом, чтобы он перестал узнавать привычные места и в конце концов заплутал и очутился в совершенно незнакомом месте.
Он увидел хорошенькую полянку с белыми и голубыми цветами. Голубые цветы отмечали те земные пятна, где имелась влага, а белые — высокие, густые, с трубчатыми стеблями — были, несомненно, ядовитыми.
Бырохху так понравилась эта поляна, что он сразу уселся там и вытащил из-за пояса флягу.
И тут земля перед ним расступилась, и наружу вышла Скельдвеа, королева фэйри.
Скельдвеа была мала ростом и так хрупка, что ее самое впору было принять за стебель. И совершенно очевидно, что она была так же ядовита, как и цветы на ее любимой полянке.
— Охо-хо! — закричал Бырохх. — Вот это да! Неужто ты — настоящая фэйри? Да если бы мне сказали, что со мной такое случится, я в жизни бы не поверил.
— Почему? — спросила Скельдвеа, уязвленная его словами.
Глаза у Скельдвеа были ярко-зеленые, а волосы такого же рыжего цвета, как и у Бырохха. Только одно это их и роднило, а во всем остальном они являли собою полную противоположность.
— Да потому, — сказал Бырохх, которому нечего было терять, — что вы, фэйри, терпеть не можете нас, троллей, и никогда перед нами вот так запросто не выскакиваете.
— Как я погляжу, — заявила Скельдвеа, — ты слишком много знаешь о нас, фэйри.
— Да уж, наслышан, — фыркнул Бырохх.
— И что о нас говорят? — полюбопытствовала Скельдвеа.
— А вот что вы любопытны, как все грызуны, — ответил Бырохх.
Скельдвеа покраснела и от негодования потеряла дар речи.
А Бырохх продолжал как ни в чем не бывало:
— Еще у нас говорят, что у некоторых фэйри по две души, своя и чужая, а у некоторых и вовсе ее нет.
Скельдвеа молчала, и Бырохх подумал: «А я-то попал не в бровь, а в глаз! Гляди ты на эту фэйри — покраснела и молчит. Точно, угадал я. И у нее наверняка несколько душ вместо одной, она ведь жадная».
Бырохх хлебнул опять из фляги и принялся насвистывать, всем своим видом показывая, что ему безразлично негодование, которое он вызвал у собеседницы.
Между тем Скельдвеа спросила:
— Хочешь ли ты покушать?
— Не отказался бы, — ответил тролль.
— В таком случае, идем, — позвала Скельдвеа. — Я провожу тебя в мой чертог.
— Ух ты! — обрадовался тролль. — А что это такое?
— Это подземная комната, — ответила Скельдвеа, — там накрыты столы, и играет музыка, и полно рабов, которые подносят блюда с мясом и хлебом, и спелыми фруктами, и всем, что тебе захочется.
— И даже с сердцем Зверя Домашнего? — недоверчиво спросил Бырохх.
А Домашний Зверь, самый дикий и хищный из всех зверей, обладал огромным сердцем, очень сочным и питательным, и все тролли время от времени охотились на Домашнего Зверя ради его сердца.
— Наверное, — поморщилась Скельдвеа. — Я никогда не спрашиваю, что я ем.
— А вдруг тебя отравят? — удивился Бырохх. — Нельзя так безоглядно доверять поварам и охотникам, среди них тоже могут быть негодяи.
— Меня невозможно отравить, ведь я — королева фэйри, — ответила Скельдвеа. — Если что-то меня и отравит, то только чужая любовь, а я стараюсь до такого не доводить.
— Хватит разговоров! — оборвал ее тролль. — Я ужасно голоден, а ты своими разговорами еще больше раздразнила мой аппетит.
Скельдвеа хлопнула в ладоши, земля опять расступилась, и они с Быроххом провалились в подземный чертог.
Там все было так, как описывала королева фэйри: накрытые столы, музыкальные инструменты и десятки незримых рабов (видны были только их руки, подающие кувшины с вином, молоком, брагой, сметаной и едва забродившим соком растений, где большую часть составляли пузыри; деревянные подносы с разной мелко нарезанной и потому трудно определяемой едой, а также краюхи, высушенные свиные ушки, копченые ребрышки, нанизанные на веревку фрукты, фаршированные бычьи кишки, копытца в маринаде и другие яства).
— Садись, — пригласила Бырохха Скельдвеа.
Тролль окинул взглядом чертог, и горящие лампы, и зависшие в воздухе руки с угощеньями, и музыкальные инструменты, которые сами собой начинали трепетать, подрагивать и испускать звуки, едва лишь тролль поворачивал в их сторону глазные яблоки. Наконец Бырохх уставился прямо на Скельдвеа.
— А ты что же не садишься? — спросил он. — Может быть, тут у тебя какие-то ловушки приготовлены, а я и не знаю.
— Никаких ловушек! — ответила Скельдвеа и преспокойно устроилась на скамье.
Видя, что с ней действительно ничего не произошло, тролль больше не раздумывал. Он плюхнулся на ту же скамью, в десяти шагах от королевы фэйри, и потянулся к огромному блюду, на котором лежал зажаренный кабаний бок.
— Ты уверен, что хочешь это съесть? — спросила Скельдвеа.
Бырохх не ответил, поскольку считал, что поступки всегда говорят яснее любых слов.
Он схватил кабаний бок обеими руками и впился в него зубами. Тролль был так голоден, что умял кабаний бок в считаные минуты и только об одном пожалел: что здесь не было ни одного тролля, чтобы сразиться с ним на обглоданных мослах.
А предлагать подобный поединок фэйри он не решался — и не потому даже, что фэйри с презреньем отвергла бы древний обычай, исстари развлекавший троллей на их пиршествах, но потому, что Скельдвеа была слишком уж мала и тонка. «Ее, пожалуй, с одного удара костью перешибешь», — не без сожаления думал тролль, оглядывая королеву фэйри с головы до ног, наверное, уже в четырнадцатый или пятнадцатый раз.
А Скельдвеа сказала:
— Что ж, ты съел то, что находилось на расстоянии десяти шагов от меня, и теперь ты никогда не посмеешь удалиться от меня дальше, чем на десять шагов.
— А, — сказал тролль, обтирая рот своими рыжими волосами, — так вот в чем была ловушка!
Скельдвеа не ответила, только сощурила глаза, внимательно наблюдая за Быроххом.
— А я-то думал, пока я здесь пирую, на земле проходят века, — сказал Бырохх.
— Может быть, и проходят, — не стала отпираться Скельдвеа.
Бырохх вздохнул:
— Хорошо бы так и было, а то слишком уж много всяких дел я натворил. Вернусь — а там уж все давно быльем поросло, можно начинать сначала.
— Больно ты хитер, Бырохх, но я не глупее, — сказала королева фэйри.
Она хлопнула в ладоши, и музыкальные инструменты сами собой заиграли. Следует отдать должное фэйри: хоть она и не любила грубую музыку троллей, но понимала, что никакая другая не возбудит у Бырохха аппетит надлежащей силы. Поэтому королева фэйри морщилась, инструменты тряслись от негодования и дребезжали, но послушно исполняли любимые троллиные напевы и плясовые. Что до Бырохха, то он был просто счастлив. Он гладил себе живот и щеки, он охал и хрюкал в тех местах, где песня казалась ему особенно смешной.
Скельдвеа наблюдала за ним с холодным презрением, но ничего не говорила.
А Бырохх вдруг почувствовал лютый голод и, чтобы насытиться, передвинулся, ерзая по скамье, на пять шагов ближе к Скельдвеа. Именно там на столе находились свиные ушки и маринованные копытца, не говоря уж о фаршированных потрохах.
— Берегись, — предупредила Скельдвеа, — если ты отведаешь этих яств, то не сможешь отойти от меня дальше, чем на пять шагов.
— Подумаешь! — ответствовал тролль. — Это заботит меня меньше всего, ведь я голоден, а здесь такая вкусная еда, и ее так много! Я просто обязан все это выпить и съесть.
С этим он сунул в пасть целую связку фаршированных кишок и принялся жевать, причем темно-красная разбухшая гирлянда свешивалась из его рта, слева и справа, и тянулась через весь стол.
Скельдвеа сказала:
— Скоро ты попадешь в рабство ко мне, глупый тролль.
Королева фэйри не считала нужным скрывать свои цели, ведь ее нынешний гость был такой легкой добычей!
Тут Бырохх повернулся к ней, весь испачканный еще не слизанной с лица пищей, и сказал с набитым ртом:
— А ты не думала о том, что и сама можешь попасть в собственные ловушки, Скельдвеа?
Она покачала красивой, царственной головой:
— Вот уж нет, Бырохх, этому не бывать! Я слишком хорошо знаю собственные ловушки… А сейчас — не хочешь ли ты отведать этого мясного пирога?
Она указала на огромный пирог, стоявший совсем близко от нее, всего в двух шагах.
— Охотно! — воскликнул Бырохх. — Только вот расправлюсь с этими колбасами, больно уж они вкусны.
Он продолжал жевать и, жуя, поглядывал на Скельдвеа.
— А скажи-ка мне, королева фэйри, есть ли среди твоих невидимых рабов тролли? — спросил вдруг Бырохх.
— Разумеется, — ответила фэйри высокомерно. — Я ведь поселилась на этих землях неспроста. Одни фэйри предпочитают залучать к себе людей, потому что именно людей они находят и забавными, и полезными, и даже необходимыми. Я же считаю, что от троллей больше пользы, потому что в них куда больше жизненной силы.
— А ты, кажется, пытаешься польстить мне, шалунья, — сказал Бырохх. — Что ж, это мне так нравится, что я, пожалуй, отведаю и мясного пирога… Но дай твоим фаршированным кишкам удобнее устроиться в моих кишках, ведь в правильном расположении еды по всем внутренностям едока — залог долголетия.
— Как хочешь, — ответила Скельдвеа с наигранным равнодушием. — Рабство у королевы фэйри — вещь совершенно добровольная, и никого я к этому не принуждаю.
И снова заиграла музыка, только на сей раз не разудалая, а немного даже печальная. Она тоже возбуждала аппетит, но по-другому, более тонко и хитро. Другим способом невозможно было заставить тролля съесть огромный жирный мясной пирог после того, как он уже умял, считай, полкабана и целую гору фаршированных кишок.
Тролль сказал Скельдвеа:
— Мне просто плакать хочется, такая замечательная играет у тебя музыка! — и засмеялся.
Скельдвеа пожала плечами:
— Ты не видел и тысячной доли тех богатств, которые спрятаны в моих чертогах.
— А что, — спросил Бырохх, — ты живешь тут одна?
— Да здесь полным-полно слуг, — ответила Скельдвеа. — С чего ты взял, что я живу в одиночестве?
— Да кто же считает слуг за компанию! — ответил Бырохх.
— Эй, поосторожнее, — предупредила Скельдвеа, — ведь мы говорим о твоих соплеменниках.
— Мне они, может, и соплеменники, а то и близкие родственники, — ответил на это Бырохх, — да тебе-то они никто. Вот я и удивляюсь, как ты выдерживаешь.
— Так ведь я их не вижу, — объяснила Скельдвеа. — Я нарочно погрузила их в туман, чтобы на виду оставались только их руки.
— Я бы поглядел на кого-нибудь из твоей родни, — сказал Бырохх.
Он подмигнул пустоте, и вдруг музыкальные инструменты зарыдали почти как люди, и весь чертог наполнился такой печалью, что по сметане, налитой в широкую глиняную плошку, пробежала рябь, как по песку после того, как море схлынет.
Скельдвеа сжала губы, превратив их в красную точку на очень бледном лице.
А Бырохх передвинулся к мясному пирогу и преспокойно принялся чавкать. Теперь он находился в двух шагах от Скельдвеа и знал, что ни при каких условиях не сможет увеличить это расстояние. Но тролль не слишком-то волновался: ведь если он не мог покинуть Скельдвеа, то и Скельдвеа, в свою очередь, оказывалась намертво привязанной к нему.
Скельдвеа проговорила мстительно:
— Теперь только одна вещь освободит тебя от моего общества, тролль: если ты согласишься стать моим рабом и прислуживать мне до конца твоих невидимых дней.
— Ну вот еще, — сказал тролль. — Может быть, я еще и не захочу этого. Мне нравится, когда ты так близко, Скельдвеа.
Она скрипнула зубами и делано рассмеялась.
— Все так говорят поначалу, а потом соглашаются.
— Посмотрим, кто первым из нас не выдержит, — предложил тролль, продолжая запихивать в рот огромные куски пирога. — Сдается мне, это будешь ты, Скельдвеа. Неужели ты согласишься долго выносить близость тролля? Я ведь в зубах ковыряю, и ножом, и ногтями, а вы, фэйри, такого не переносите.
— При всем желании я не сумею увеличить расстояние между нами, — сказала Скельдвеа. — Это может произойти лишь единственным способом, тем, о котором я тебе уже говорила.
— Стать твоим рабом? Превратиться в невидимку? Ну уж нет, ни за какие блага обоих миров и третьего мира в придачу! — возмутился тролль. — Ты только глянь на мои прекрасные рыжие волосы, на мои замечательные мышцы! А ты еще не видела, как они лоснятся, когда я раздеваюсь по пояс, раскрашиваю тело узорами и смазываю его маслом! У меня есть специальная меховая тряпочка, которой я себя натираю, чтобы блестеть, и клянусь тебе всем святым поднебесным, что после этих процедур я сверкаю, как настоящий бриллиант! И если ты намерена превратить эту драгоценность в нечто незримое и недоступное взору, ты просто злобная жаба и величайшая преступница по обе стороны границы, вот что я тебе скажу.
Скельдвеа пропустила всю эту тираду мимо ушей. Она внимательно смотрела на тролля, озаренного светом факелов, — толстого, с сальными губами и слипшимися от жира ресницами, и во рту у нее сделалось липко.
Однако кое-что из сказанного Быроххом не давало Скельдвеа покоя, и она поинтересовалась:
— Почему ты заговорил о моей родне?
— Может, жениться хочу! — сказал Бырохх дерзко. — Мало ли с кем ты окажешься в родстве! Не хотелось бы, знаешь ли, брать за себя проходимку. — И он принялся ковырять грязным ногтем в зубах.
Вид этого действа показался Скельдвеа отвратительным, она поскорее закрыла глаза и заткнула уши. Бырохх что-то проговорил в добавление к уже сказанному.
Скельдвеа переспросила:
— Что?
Бырохх схватил ее за руку, выдернул ее палец из уха и заставил слушать.
— Мне доводилось встречать твоих родственников, Скельдвеа, точно тебе говорю. У тебя ведь было… э… что-то вроде сестры?
— Да, — призналась Скельдвеа, не открывая глаз.
— Ага, — обрадовался Бырохх, — ну, я так и подумал. — (На самом деле он никакой сестры не видел, а просто угадал.)
— Где ты видел ее? — напустилась на него Скельдвеа.
— Там, и там, и там… — Бырохх сделал несколько неопределенных жестов, как бы желая охватить движением руки половину обитаемого мира. — Не помню где.
— У меня больше нет сестры, — произнесла Скельдвеа печально.
— Ну да? — удивился Бырохх. — А кто же тогда была та фэйри, что подарила мне свой ноготь?
Он не ожидал, что угадал настолько хорошо. Королева фэйри так и вспыхнула!
— Где ты его хранишь? — Скельдвеа вцепилась в руку Бырохха с такой силой и яростью, что тролль даже крякнул. — Где ты держишь ноготь моей сестры? Да отвечай же, громила!
— Я всегда говорил, что маленьким существам нельзя доверять, у них очень цепкая хватка, — недовольно пробурчал Бырохх.
Тролль долго шарил у себя за пазухой и наконец вынул орех.
— Я держу ее ноготь вот здесь. — Он показал орех Скельдвеа на раскрытой ладони, но когда она потянулась, быстро убрал руку. — Это моя вещь, не трогай.
— Если там ноготь моей сестры, я должна убедиться… — пробормотала Скельдвеа, жадно глядя на орех.
— Ладно, — разрешил Бырохх, — забирайся внутрь, если тебе так охота.
Скельдвеа нырнула в орех и принялась бродить там.
— Тут ничего нет, кроме шелухи, — донесся из скорлупы ее недовольный голос.
— Наверное, жучки съели ядрышко, — добродушно проговорил Бырохх. — Ищи лучше, ноготь должен быть где-то там.
Некоторое время Скельдвеа еще шуршала внутри ореха, а потом потребовала:
— А ну, выпусти меня наружу! Ты все наврал, злодейский тролль. Здесь нет никакого ногтя. Ты небось и в глаза мою сестру не видывал!
Тут Бырохх захохотал так громко, что со стен чертога посыпались арфы и барабанчики.
— Это точно, Скельдвеа, я все тебе наврал! — прокричал Бырохх. — Но ведь у тебя точно была когда-то сестра и ты ее потеряла, вот я догадался об этом и наплел тебе, будто встречал ее и храню у себя ее ноготь. Ловко придумано, а?
— Выпусти меня, — рассердилась Скельдвеа и застучала кулачками по скорлупе изнутри ореха.
— Ни за что! — воскликнул Бырохх. — Ты ведь помнишь наш первоначальный уговор: я не смею отходить от тебя дальше, чем на два шага, иначе становлюсь твоим рабом-невидимкой. Я выбрал первое — и теперь ты всегда будешь находиться при мне, Скельдвеа, внутри ореха, который я стану носить за пазухой.
И он поскорее залепил отверстие в скорлупе куском мясного пирога.
* * *
В общем, Хонно был глуп, но влюблен. Влюбившись, всякий тролль становится умнее, не навсегда, правда, а только на время изначальной влюбленности, покуда не будут сняты первые сливки.
Проснувшись в хижине Нуххара наутро после попойки, Хонно первым делом вспомнил о Бээву и о том, что она потеряла какие-то три важные вещи.
Первая, подумал он и прикусил большой палец левой руки, была бусами.
Ему представились большие круглые бусы, красные и синие, прыгающие на груди Бээву, когда та бежала очертя голову прочь из родительского дома. Он думал о том, как сыпались из глаз Бээву большие круглые слезы, красные и синие, как плясали в этих слезах отблески оранжевого солнца троллиного мира, как отражались в них попеременно бусины, то синие, то красные. И вот сорвались бусы с шеи Бээву и улетели в болото. Они упали среди больших ягод, растущих всегда на таких болотах, среди красных и синих ягод. «Стало быть, — решил Хонно, — первое, что мне следует сделать, — это отделить бусины от ягод и собрать их на нитку».
Ему понравилось, как ловко он начал соображать. Он выпустил из зубов прикушенный палец и вместо того заткнул языком правую ноздрю. Такая последовательность действий помогала ему думать.
«Она потеряла башмаки — вот вторая утраченная вещь».
Красные кожаные башмаки, которые так весело хлопали Бээву по круглым пяткам! Вот они сорвались с ног и упали, перевернувшись подошвами к небу, а Бээву так была разгневана и огорчена, что даже не заметила пропажи. Башмаки повисли на молодых ветках старого пня, неподалеку от того болота, где рассыпаны бусы. Там они и остались, и роса пропитывает их, а птицы их клюют.
«Что же было третьим из утраченного Бээву?» — Хонно вынул язык из ноздри и принялся вздыхать, но это совершенно не помогало ему вспомнить то, чего он не расслышал. В конце концов, он решил, что неплохо будет для начала подобрать хотя бы те первые две вещи. С башмаками и бусами тоже достанет хлопот.
Он встал, сунул за пазуху два куска жирного мяса, поклонился спящему Нуххару и выбрался за порог. Звери уже ожидали его. Едва завидев Хонно, они подбежали к нему с разинутыми пастями и стали ластиться, хоть и умильно, но с явственно различимым намеком на угрозу. Хонно отдал им мясо. Пока они ели, он ушел.
Ему не составило труда отыскать следы Бээву. Везде на траве лежала роса, кроме тех мест, где ступала обиженная троллиха: там все было сухо. По этим-то следам Хонно скоро вышел на болото. Оно было сочное и яркое, полное влаги и ягод, а из ближайшей кочки торчал старый пень, весь поросший лишайником. Это был почтеннейший пень, который вскормил тысячи поколений жуков и червяков и служил пьедесталом для тысяч лягушек. Его древесина пахла съедобным, а между щепочек собиралась вода, которую сладко было пить. Несколько веток выросли из того же корня. Они торчали вверх, строгие, как стрелы, и такие же глупые. И на двух из них висели красные башмаки, убежавшие с ног троллихи.
Хонно очень обрадовался, когда увидел их. Он скорее подбежал к ним, схватил и попытался снять с веток.
Да не тут-то было!
Каждый башмак Бээву весил не меньше, чем молодой теленок, и сколько ни старался Хонно, ничего у него не получалось. Он уж и так бился, и эдак, и пытался сверху напрыгивать, и подлезал снизу, и тряс ветки, и стукался лбом — все без толку.
Тогда он решил на время оставить башмаки и поискать лучше бусы. С тем он и вступил на болото, а оно представляло собой не что иное, как нарядный гамак, подвешенный над бездной. И очень скоро Хонно увидел первую бусину. Памятуя о том, каковы оказались башмаки, он прикоснулся к бусине с большой осторожностью. На ощупь она была теплой и гладкой, такой, что приятно трогать ее пальцами.
Хонно поднял ее — и тотчас ухнул в болото по пояс, такой тяжелой она оказалась.
И тут он понял, что положение у него безнадежное…
* * *
— Ты уверена, что поступаешь правильно? — спросил тролль у Енифар.
Они стояли возле самой границы между владениями людей и владениями троллей. Как всегда, вдоль всей границы клубился густой серый туман. Это было очень тихое и немного жуткое место.
— Мы могли бы вернуться, — сказал тролль и оглянулся назад.
— Зачем? — насупилась Енифар.
— Они убили бы меня, — объяснил тролль.
— Ну, такое убийство — не самое лучшее, что могло бы случиться, — сказала Енифар. — Я вовсе не хочу этого. И я, кстати, не предательница людей, потому что одна жизнь, даже твоя, ничего не решает. Ты ведь не самый главный военачальник?
— Нет, — сказал тролль.
— Вот видишь! — обрадовалась Енифар. — Если ты не умрешь, люди в деревне не пострадают.
Он помолчал, а потом уставился на Енифар так, словно видел не теперешнюю девочку, а будущую женщину.
— Умереть у тебя на глазах, — проговорил он, — вот самый верный способ доказать, что ты действительно знатная троллиха. Я хотел сдаться… коль скоро ты запретила мне даже думать о твоем хвостике.
— Хорошо, ты меня вынудил сказать это! Да, у меня есть хвостик! — Енифар топнула ногой. — Довольно об этом. Я достаточно знатна, чтобы не нуждаться ни в каких доказательствах. Когда я захочу, чтобы ты умер за меня, я так и скажу.
— Вот и Бээву так говорила, — кивнул тролль, поглядывая одним глазом на Енифар, а другим — на границу. — Она была очень гордая, эта Бээву, и очень сильная, но Хонно любил ее без памяти. Угодив в трясину, он счел, что единственный способ проявить свои чувства к ней, — это утонуть в болоте с бусиной, прижатой к груди. И вдруг появились руки.
— Руки? — переспросила Енифар.
— Да, одни только руки, без туловища, без ног и головы… Руки эти принадлежали невидимым слугам, которые некогда были рабами королевы фэйри… как ее звали? Скельдвеа? Ну вот, это были ее рабы, и они пришли на помощь Хонно, когда он меньше всего ожидал спасения.
— Но разве после того, как Скельдвеа была заточена в ореховую скорлупу, все ее рабы не получили свободу? — удивилась Енифар.
— А я разве говорил о том, что они получили свободу? — в свою очередь удивился тролль. — Не припомню такого!
— Ты же сам говорил, что тролль перехитрил королеву фэйри! — напомнила Енифар. — Коль скоро он это сделал, то и всех рабов-троллей отпустил на свободу.
— Может быть, троллей и отпустил, — вынужден был согласиться рассказчик, — но там были, конечно же, не только тролли. Вот все они, и еще те из троллей, кто уже отвык от любой другой жизни, — эти остались в услужении и сохранили свою невидимость.
— Тогда понятно, — вздохнула Енифар.
— Невидимые руки протянулись к Хонно и помогли ему выбраться из болота, а потом собрали и принесли все бусины. И они же сняли башмаки с веток.
И вот Хонно шествует по лесной дороге, а за ним по воздуху плывут красные башмаки и бусины, попеременно красные и синие, и все они покачиваются, словно бы кивают. Хонно выступает так важно и горделиво, что любая троллиха залюбуется!
— Но ведь Хонно понятия не имел о том, где ему искать Бээву, — напомнила Енифар. — Как же он ее нашел?
— Это-то и было самое интересное, — объяснил тролль. — Ведь третья вещь, которую потеряла Бээву, была она сама. Но когда она увидела, как хорош Хонно, как он влюблен, как ловко он собрал все ее утраченные сокровища, — тут-то она сразу и нашлась. Она бросилась к нему навстречу и обхватила его шею, она поцеловала его шестнадцать раз: в лоб, в правый глаз, в левый глаз, в правое ухо, в левое ухо, в правую бровь, в левую бровь, в правую ноздрю, в левую ноздрю, в верхнюю губу, в нижнюю губу…
— Я поняла, — поморщилась Енифар. — Они стали целоваться.
— И кусаться, — добавил тролль.
Она затрясла головой:
— Ничего не хочу про это слышать!
— Ты права, — смиренно согласился он, и она сразу же перестала трясти головой (по правде сказать, ей и самой это не нравилось: перед глазами все прыгало и скакало, так что начало тошнить). — Об этом я ничего говорить не буду… Мне пора.
Он шагнул в сторону границы, но Енифар удержала его:
— Погоди-ка еще немного… Говоришь, руки невидимых слуг спасли Хонно?
— Да, и доставили ему невесту, — подтвердил он.
— Но ведь эти невидимые слуги принадлежали Бырохху! Как же они могли найти Хонно? Они совершенно из другой сказки.
— Бырохху? — удивился тролль. — Кто говорит о каком-то Быроххе? Королеву фэйри перехитрил самый хитрый из троллей — Нуххар. Тот, который подчинил себе Зверя Лесного, Зверя Степного и Зверя Домашнего. Разве кому-нибудь другому под силу было обмануть Скельдвеа?
— А ты раньше говорил, что это был Бырохх, — упрямо повторила Енифар.
Тролль засмеялся, поцеловал Енифар в макушку, повернулся и нырнул в туман, обволакивающий границу.
— Дурак, — сказала Енифар, с досадой глядя в туман. — Это был Бырохх вовсе, а не Нуххар. Все сказки перепутал!
И тут ее настигли всадники. Впереди ехал тот солдат, с которым Енифар разговаривала под деревом. Увидев девочку, он спешился и подбежал к ней.
— Ты цела? — спросил он, задыхаясь, и Енифар увидела, что он очень взволнован.
— Да, — ответила она и украдкой посмотрела на свои пальцы, как будто опасалась, что тролль, убегая, прихватил на память, например, мизинчик.
Солдат обнял ее и прижал к себе.
— Когда мы увидели, что он сбежал и украл тебя… — Он не закончил.
Енифар вздыхала, чувствуя щекой металлические пластинки на его кожаном доспехе.
Солдат спросил:
— Ты все еще не хочешь возвращаться домой?
Девочка не ответила.
Он сказал:
— Мы должны вернуть тебя матери. Она все поймет и не будет наказывать тебя.
Солдат погладил ее по волосам, взял за плечи, заглянул ей в лицо.
— Будь умницей.
* * *
Случилось однажды одноглазому хитрецу, троллю Нуххару, прийти на рынок в большую деревню.
Когда я думаю об этой деревне, мне видится плоский, сильно размазанный по земле блин, но это оттого, что я гляжу на нее с высоты птичьего полета. Или, лучше сказать, моего полета, потому что я не птица и вообще не уверена в том, что у меня есть крылья. Но я летаю, определенно.
Ну так вот, та деревня была очень большой, в основном за счет рыночной площади, где раз в месяц проводились ярмарки.
Нуххар пришел туда больше от нечего делать, чем ради каких-то определенных покупок. Ему хотелось посмотреть, чем занимаются другие тролли, когда у них появляются лишние вещи и лишнее время.
У самого-то Нуххара в избытке было только время, а за всем остальным ему приходилось гоняться, и не всегда успешно.
И вот он приходит на рынок и видит там веселого толстого тролля по имени Бырохх. А у Бырохха от достатка рожа пополам трескается, и притом рожа эта была довольно симпатичная, веселая, и с первого же взгляда делалось очевидно, что тролль этот обладает отменным нравом, никогда не бывает угрюм и всегда готов выпить, поболтать и подраться, что и создавало ему хорошую репутацию не только у мужчин, но и у женщин.
И еще он был щедрым — так и сыпал подарками.
Купит пять корзин яблок и три корзины тут же раздаст. Особенно нравилось ему раздавать яблоки девушкам — уж больно забавно хрустели фрукты у них на зубах. И особенно он ценил таких, которые умели сразу откусывать половину яблока и потом съедать не раскрывая рта.
Или купит Бырохх пять кувшинов браги и три тотчас же выпьет со случайными знакомцами.
Особенно ему нравилось пить брагу со стариками, потому что они очень смешно пьянели и начинали рассказывать всякие истории, по большей части страшно лживые, и это Бырохха чрезвычайно радовало.
А вот, к примеру, купит Бырохх пять связок булок и давай их раздавать направо-налево, и особенно сварливым женщинам. Как раскроет такая рот, чтобы обругать, а Бырохх ей р-раз! — и булочку между зубами. А та ведь, известное дело, троллиха, пока не прожует, дальше говорить не будет. Тролли никогда не выплевывают еду.
Вот так забавлялся Бырохх, и Нуххар, наблюдая за ним, сразу же понял о нем две вещи.
Во-первых, он понял, что Бырохх сказочно богат, и что богатство свалилось на Бырохха недавно, и что Бырохху не пришлось ради этого сильно трудиться.
Во-вторых, он понял, что у Бырохха есть что-то за душой, кроме богатства, и это «что-то» представляет собой некую тайну, разгадав которую, можно подобраться и ко всему остальному.
И очень захотелось Нуххару взять Бырохха за горло и выведать все его секреты.
Поэтому одноглазый тролль стал ходить за троллем-весельчаком след в след, стараясь ничего не пропускать и видеть даже то, чего не замечают другие. И скоро он заметил, что Бырохх не сам носит свои тяжелые корзины с покупками, а делают это за него какие-то таинственные существа. Прислужники Бырохха оставались невидимками, и можно было разглядеть только их руки. Весьма трудолюбивые и сильные руки, всегда наготове, чтобы помочь, поднять, поддержать, ухватить, оттолкнуть, приласкать, подобрать, дать тычка, откупорить, развязать, уложить, накрыть, завернуть и тому подобное.
Стоит ли говорить о том, что Нуххара весьма заинтересовали эти загадочные слуги, и стал одноглазый тролль соображать и прикидывать про себя: а нельзя ли ему каким-нибудь хитрым способом заполучить этих слуг себе. Для начала он решил сойтись с Быроххом поближе и выведать у него как можно больше его секретов. Поэтому он с Быроххом познакомился.
— Не дашь ли ты мне выпить? — спросил Нуххар, как будто случайно столкнувшись с Быроххом на рыночной площади. — Как я погляжу, многих ты угощаешь, так не угостишь ли и меня? Характер у меня веселый, а если я выпью, то начинаю рассказывать разные смешные истории о моих зверях, особенно о Домашнем.
Бырохх сразу же пленился возможностью послушать истории и простодушно налил Нуххару целую кружку отменной браги. Нуххар выпил и сказал:
— Хороша твоя брага! Пожалуй, сохраню ее вкус во рту подольше и пока помолчу, а лучше съем что-нибудь горькое. — С этими словами он вытащил из-за пазухи сверток, а в свертке оказалась большая горсть лесных орехов. И давай он эти орехи разгрызать. Скорлупу Нуххар бросал прочь, а ядра засовывал себе за щеку, чтобы они пропитывались запахом чудесной браги.
Когда Бырохх увидел, как Нуххар грызет орехи, он даже в лице переменился. Нуххар, разумеется, это сразу приметил и подумал: «Ага». Потому что он догадался о том, что главная тайна Бырохха каким-то образом связана с ореховой скорлупой. «Ага, — подумал хитрый одноглазый тролль Нуххар, — почему-то ему сильно не нравится, что я так обхожусь с этими лесными орехами…» Вслух же он сказал:
— Должно быть, тебя раздражает хруст, с которым я грызу орехи, ну так извини меня. Если хочешь, я выброшу все эти орехи вон, и не будем больше вспоминать о них.
— Отчего же не вспомнить! — ответил Бырохх. — Напротив, мне очень приятно бывает вспомнить об орехах, потому что не будь на свете орехов, я не одолел бы королеву фэйри Скельдвеа и не завладел бы всеми ее богатствами и слугами.
И он, разгоряченный выпитым, съеденным и раздаренным, тотчас же поведал случайному собеседнику всю свою историю: как он повстречал Скельдвеа, как пировал в ее подземном чертоге и, наконец, как перехитрил ее и спрятал в орехе.
— Она теперь всегда со мной, и притом ближе, чем на два шага, — посмеиваясь, заключил Бырохх. — Так что все условия договора строго соблюдаются. А уж нравится это ей или нет — интересует меня еле-еле, а может быть, и вовсе не интересует.
Нуххар все это выслушал чрезвычайно внимательно, покивал, посмеялся, похлопал Бырохха по плечу и ушел пошатываясь, но на самом деле почти совершенно трезвый.
Той же ночью к гостинице, где остановился на ночь Бырохх, постоялец богатый и беспечный, явилась фэйри. Ее никто не видел, кроме двух деревенских пьяниц, которые шатались по улице и пуще чумы, от которой по всей шкуре идут гнойные прыщи и клочьями выпадает шерсть, боялись фэйри. Хорошенькое дело! Поцелуешь женщину — и очнешься спустя триста лет, когда во всех лавках кредиты тебе уже закрыты и ни в одной питейной не помнят ни имени твоего, ни лица, не говоря уж о репутации!
Поэтому-то пьяницы и шарахнулись от фэйри и даже и не вздумали приставать к ней.
Она же остановилась под окном гостиницы, так, чтобы ее хорошо было видно при свете факела, горевшего всю ночь. И скоро уже она почувствовала, как ее обступают незримые существа. Они толпились неподалеку, не решаясь прикоснуться к ее одежде или хотя бы к ее обуви. Их руки то высовывались из воздуха, то боязливо прятались обратно, в тень невидимости. Эти руки подрагивали, и трепетали, и шевелили пальцами, и тянулись, и отдергивались, как будто обжегшись.
По всем этим признакам фэйри поняла, что обладатели рук испытывают восторг и ужас, и тихо засмеялась:
— Не нужно меня бояться! Подойдите, приблизьтесь. Можете дотронуться до моих волос или до моей щеки, но не забывайте о том, кто вы и кто я.
Они тотчас же воспользовались ее милостивым разрешением и принялись гладить ее по щекам, по вискам, по волосам, по шее, по плечам и по коленям.
— Я фэйри, — тихо шептала незнакомка, и руки похлопывали ее в знак согласия и полного доверия. — Я принцесса фэйри, младшая сестра Скельдвеа, та, что пропала много лет назад. Скельдвеа была злой и суровой, она была коварной и властолюбивой, но я совсем на нее не похожа. Я — веселая и добрая, я люблю троллей и людей, я не бываю суровой со слугами и всегда позволяю к себе прикасаться. — Тут она хихикнула, и воздух огласился едва слышными смешками. — Меня зовут Фреавеа, — продолжала принцесса фэйри. — Как видите, у меня красивые волосы, — по правде сказать, не так-то просто их причесывать, когда у тебя нет прислуги. У меня шелковое платье, и честно говоря, не так-то просто его надевать, когда никто тебе не помогает со всеми этими крючками и завязками. И ноги у меня очень хороши, а на ногах — сапожки из самой лучшей кожи, украшенной золотым тиснением. Но если уж во всем признаваться искренне, тяжко мне приходится, когда я начинаю просовывать шнурки во все эти бесконечные дырочки, чтобы получше затянуть сапоги.
Руки соединяли ладоши, как будто аплодировали, и прищелкивали пальцами. Они вполне понимали затруднения Фреавеа и готовы были помогать ей.
Но оставалось еще кое-что, и Фреавеа поняла, что именно беспокоит невидимых прислужников Бырохха.
— Вы хотели бы знать, что случилось со мной во время моих странствий и куда подевался мой глаз?
Руки повисли в воздухе, застыв неподвижно. Они действительно были обеспокоены отсутствием у принцессы фэйри одного глаза.
— Я храню этот глаз в орешке, — сообщила Фреавеа. — Так мне удобнее присматривать за моей старшей сестрой.
Несколько слуг развели руками, другие явно схватились за голову, третьи принялись чесать ладони. Всех крепко озадачило это объяснение.
Тогда Фреавеа добавила:
— Одним глазом я смотрю на день, а другим — на ночь, одним глазом я вижу то, что происходит наяву, а другим — то, что происходит в моих снах. Мы, фэйри, проводим свои дни не так, как вы, тролли. Больше всего на свете мы любим спать и танцевать, и многие из нас танцуют во сне или спят, когда танцуют, и поэтому, если какая-то фэйри упала во время пляски, не нужно показывать на нее пальцем и ржать во всю глотку, потому что такое падение означает лишь глубокую мечтательность, и ничего более.
— А, — сказали руки, — ну тогда нам все понятно.
И они поклялись перейти на службу к Фреавеа, потому что она объявила себя законной наследницей своей сестры и пообещала никогда не освобождать Скельдвеа.
— Так вы клянетесь, что оставите Бырохха и будете отныне моими вернейшими рабами навечно? — вопросила Фреавеа.
— Клянемся! — дружно крикнули руки и сжались в кулаки.
— Хорошо, — сказал Нуххар и сбросил личину.
Вот как вышло, что часть незримых слуг перешла от Бырохха к Нуххару. Не случись всего этого в большой деревне в рыночный день — не видать бы глупому троллю Хонно прекрасной троллихи Бээву!
— Ты спишь? — спросил солдат у Енифар, когда девочка тяжело привалилась головой к его груди.
Он обнял ее покрепче, чтобы она не упала с седла. Енифар пробормотала, не открывая глаз:
— Нет, нет, я не сплю — просто придумываю…
Ей не хотелось смотреть на солдата, потому что он вез ее обратно, к приемной матери, к крестьянке с узловатыми пальцами и грязным, заплаканным лицом, и считал, что совершает благое дело.
* * *
— Ничто не разрушит любовь детей к матери, — рассказывала троллиха Аргвайр белокурому ребенку, который происходил от племени, где все обстояло совершенно не так. — Эта любовь — как крепкая стена, где все камни скреплены слюной, слезой и кровью. Эта смесь крепче любого другого раствора. Сама подумай, — она придвинула к девочке блюдо с растертыми фруктами, и девочка, радостно смеясь, принялась обмакивать в кашицу пальцы и облизывать их, — сама подумай, — продолжала троллиха, — как можно развалить такую стену? Ни добрые солдаты из замка, ни охотники на троллей, ни даже кровные враги — никто не в состоянии извлечь оттуда хотя бы один камушек. Им не взломать этого дома, не вытащить оттуда ни одного ребенка, не отобрать у детей их мать.
Аргвайр легла щекой на край стола, уставилась на девочку блестящим зеленым глазом, и та, поймав этот ласковый взгляд, весело засмеялась в ответ. Разноцветные слюни потекли из ее рта.
— Ты спросишь меня, — сказала Аргвайр, — что случилось дальше с той женщиной и четырьмя ее детьми? Конечно, ты хотела бы узнать об этом!
Малышка взяла другое блюдце, с молоком, и опустила туда лицо. Она отпила немного, и вокруг ее рта появились белые потеки. Это тоже было смешно.
— Подземный ход обрушился, когда на волю выбрался последний из пленных троллей, — сказала Аргвайр. — Мать, четверо детей, охотница на троллей и двое мертвых охранников оказались погребены под землей.
Но ты не бойся, это не навсегда! Они пошли в другом направлении. Меньшой братец опять передвигался на четвереньках и внимательно нюхал все вокруг, и в конце концов он унюхал близость железной дороги. Он поднял голову и, повернувшись к остальным, сказал:
— Тут рядом проходит ветка метро.
Они знали, что такое метро, потому что смотрели телевизор. И один раз мать возила их на метро в зоопарк, но там никому из них не понравилось.
Они нашли проход к тоннелю метро и спустились туда. Охотница, наверное, кралась за ними, — этого никто из них не выяснял. Спасать ее дети не собирались. Впрочем, и убить ее у них руки не дошли. Они так устали и переволновались, что вообще забыли о ней. Поэтому и неизвестно, уцелела ли охотница после той схватки под горой и что она делала потом.
Они прошли по рельсам и выбрались на платформу прежде, чем появился поезд. А потом преспокойно уселись в вагон и со всеми удобствами поехали домой. Это обстоятельство так смешило их, что они давились от хохота всю дорогу. Люди поглядывали на них, но ничего не говорили. В этот день играла местная футбольная команда, и город лихорадило, как во время наводнения. Все были в том вагоне странными, не только четверо детей троллихи. Даже девочка в порванных джинсах не слишком-то обращала на себя постороннее внимание. Разве что кто-нибудь мельком подумает: «Что за дурацкая мода, и ведь находятся идиоты, которые выкладывают за рванину, купленную в бутике, огромные деньги!»
Вот так дети освободили свою мать, когда она попала в руки охотников на троллей. Ты, наверное, сейчас спросишь меня, чем они занялись, эти дети, когда подросли? Я тебе расскажу, хоть ты меня ни о чем и не спрашиваешь…
Младшая дочь стала садоводом. Она и сейчас покупает разные семена у старушки, похожей на аристократку, у которой все сыновья пали на войне, а все дочери рано овдовели. Из этих семян у младшей девочки вырастают удивительные суккуленты, и все они цветут два раза в год и выглядят так, словно понятия не имеют ни о какой ботанике, ни о Менделе, ни о Дарвине, ни о Тимирязеве, а растут как им вздумается и принимают самые причудливые формы, под настроение или в зависимости от музыки.
Старшая дочь больше всего на свете любит ездить на метро. Это началось после того, как они с матерью выбрались из преисподней целые и невредимые и на самом обычном метро запросто вернулись домой. Девушка-троллиха садится в первый попавшийся поезд, делает пересадки наобум, с закрытыми глазами и заткнутыми ушами, чтобы не слышать объявления остановок. Она твердо верит в то, что рано или поздно поезд окажется на правильной станции, откуда можно будет добраться до троллиного мира. В своих снах она часто видит ту самую станцию, так что, очутившись там, она не заблудится.
Старший сын, тот, что всегда просыпался с улыбкой на лице, пошел служить государству и сделался спасателем. Это тоже началось в тот день, когда они пробирались сквозь толщу земли, чтобы вызволить запертых и закованных в цепи троллей. Мальчику нравилось вытаскивать пострадавших из-под завалов, из тоннелей, из колодцев, из шахт, из обрушенных зданий. Теперь он носит форменный комбинезон с большими яркими буквами на спине. У него всегда включен мобильный телефон, и ему могут позвонить в любое время дня и ночи, и тогда он берет свой заранее собранный рюкзак и отправляется в аэропорт, по зябкому синему рассвету, по мокрому асфальту, мимо праздничных фонарей, мимо дворцов, похожих на гробницы, в которых мерцают зомби.
Младший сын рисует комиксы. С каждым годом ему снятся все более яркие сны. Поначалу, когда эти сновидения приходили в пастельных и приглушенных тонах, он пытался изображать их акварелью. Он нарисовал целую серию картинок со сценами из фэнтезийных миров.
Но постепенно краски его видений сделались ядовитыми. В том мире, куда он уходил каждую ночь, солнце светило совершенно иначе и ночное небо тоже было другим. И он начал рисовать комиксы.
В кругах комиксистов он пользовался большой популярностью. Там никому, кстати, не было дела до того, что у него лицо заросло черной шерсткой, не говоря уж о горбе и маленьком росте; напротив, многие считали, что эти вещи косвенно свидетельствуют о его гениальной одаренности. Ведь это он создал замечательную графическую серию про деву-богатыршу Бээву, которая кормила своих коров сырым мясом диких зверей и носила такие бусы, что поднять их было под силу лишь целой армии невидимых слуг. У этой Бээву был муж, глупый тролль Хонно, который вечно попадал в дурацкие истории, так что Бээву приходилось вызволять его.
Однажды Хонно решил угнать корову своего тестя. Он прокрался в дом отца Бээву и дождался, чтобы тот обожрался до полного изумления и заснул мертвым сном (а после ссоры с Бээву ее отец частенько обжирался, потому что скучал по дочери, но признаваться в этом не хотел). Ну вот, когда отец Бээву заснул, Хонно выбрал самую толстую из его коров, быстро оседлал ее и поскакал на ней прочь. Но корова отчаянно брыкалась и мычала так злобно, что ее хозяин в конце концов проснулся. По каплям молока, падавшим из вымени, он выследил и корову, и Хонно. Он бросил камень и сбил Хонно на землю. И пока бедный Хонно лежал без сознания, тесть связал его руки и ноги и подвесил на дереве, а сам верхом на своей корове вернулся домой.
Утром Бээву проснулась и увидела, что Хонно не спит рядом с ней, как бывало, а где-то бродит. Бээву очень рассердилась и пошла разыскивать Хонно. Сперва она зашла в хижину к одинокому охотнику Нуххару, одноглазому хитрецу, который в свое время и помог Хонно жениться на Бээву. Но Нуххар ничего не знал о судьбе, постигшей ее глупого мужа. Они отправились на поиски вместе и долго бродили по скалам, болотам и лесам.
В изображении пейзажей, кстати, художник достиг большого мастерства, и все дружно сходились в том, что его картинки так и дышат и в них много забавных подробностей и тщательно прорисованных деталей. Но детали нужны не всегда, а только при обозначении общего места действия. Потом же основное внимание устремляется на лица персонажей.
Вот Нуххар — до чего забавная у него рожа! Один глаз скрыт повязкой в виде кленового листа, другой глядит весело и усмешливо, и его окружают морщинки. Нос у него с вывороченными ноздрями — это от привычки постоянно принюхиваться, а изо рта торчит один клык, но это не жутко, а тоже как-то добродушно и забавно.
А вот и Бээву, суровая красавица с мощными косами и стройной, как Александринский столп, шеей. Она часто хмурится или грозно кричит: «Арргх!» — но уж когда улыбнется, тут просто солнышко восходит, такая ясная и милая у нее улыбка. И сразу становится понятно, что Хонно любит ласкать ее, когда они в постели.
— Куда же он мог запропаститься, этот простофиля? — спросила Бээву у Нуххара.
А тот ответил:
— Понятия не имею… Но вот погляди-ка на тот странный кокон, висящий на дереве в поднебесье!
— Наверное, это гнездо злых лесных ос, — предположила Бээву.
— Если ты права, то нам лучше убираться отсюда, — сказал Нуххар. — Никогда не видел таких больших гнезд! Тут столько пчел, что хватит закусать до смерти не одного тролля и не двух, а целую армию!
Но тут сверху донесся голос Хонно:
— Бээву, жена моя! Это не гнездо, это я, твой муж!
Тут Нуххар расхохотался и даже повалился на землю от смеха, он держался за живот и дрыгал ногами. А Бээву очень рассердилась.
— Что ты там делаешь, глупый муж?
— Я свисаю, — ответил Хонно. — Что же еще!
— Кто тебя туда подвесил, дурья башка?
— Твой отец, дорогая супруга!
— Как такое вышло?
— Я угнал у него корову!
— Удачно?
— Нет, милая, совсем неудачно: он догнал меня, отобрал корову да еще вот так со мной поступил.
Бээву на некоторое время погрузилась в раздумья, усевшись прямо на лицо Нуххару, чтобы хоть немного заглушить его громовой хохот, а потом закричала:
— Знаешь что? Я считаю, пора нам с тобой завести детей, Хонно. Надеюсь, дети будут умнее тебя. И тогда ты сможешь сидеть дома и спокойно пить брагу, а дети будут совершать подвиги и прославлять твое имя.
— Хорошая мысль, Бээву, — покорно согласился Хонно, — только сперва ты сними меня отсюда.
— Может быть, лучше я поднимусь к тебе? — предположила Бээву.
Она встала и полезла на дерево, но ветки оказались слишком тонкими и начали ломаться под ее ногами. Тогда Бээву уселась верхом на сук и метнула в мужа свой башмак. Она перешибла ветку, на которой висел бедный Хонно, и тот, связанный, стал падать, а над ним летел тяжеленный башмак Бээву и грозил вот-вот размозжить ему голову.
Бээву протянула руки и поймала мужа. Башмак же упал на землю рядом с лежащим без сил Нуххаром и проделал яму глубиной в два человеческих роста.
Было много смеху, когда этот башмак вытаскивали!
А на других комиксах художник рисовал детей Бээву: мальчиков и девочек, и все эти троллята были самыми обычными, кроме младшей дочки — та родилась богатыршей, и мать подарила ей свои бусы.
* * *
Енифар медленно отодвинула полог и остановилась перед порогом шатра.
Красивая женщина подняла голову и посмотрела на девочку своими яркими зелеными глазами. И Енифар сразу же с особенной остротой ощутила всю себя: свои исцарапанные ноги, свои обломанные ногти, руки в цыпках от возни с домашней скотиной. Вся она, Енифар, казалась воплощением несовершенства рядом с этой женщиной, которая носила бубенцы в волосах и причудливый узор из золотых бусин, приклеенных к смуглой коже. У красавицы троллихи были пухлые бледные губы, как у ребенка, и неподвижные брови, как у полководца.
Возле ног женщины сидел белокурый ребенок одних лет с Енифар и сосал палец.
— Подойди, — обратилась к Енифар женщина, показывая свое рукоделие. — Посмотри, что у меня есть. Я приготовила это для моей дочери.
Енифар переступила порог и уселась рядом с женщиной. Девочка осторожно коснулась кончиком пальца чудесных бусин, разложенных так, чтобы удобнее было вышивать узор. Троллиха принялась распутывать пыльные волосы Енифар.
— Ты полюбуйся только, — приговаривала она, — как ладно у меня получилось вышить этих зверей! Я сама придумала, какими они должны быть, и вот это — Зверь Лесной, а это — Зверь Степной, а вон тот, который наблюдает за схваткой, готовясь наброситься на победителя, — это Зверь Домашний, самый свирепый и кровожадный из всех.
— Был еще тролль, который стравил их всех, а потом ухитрился завладеть ими всеми и подчинить их своей власти, — сказала Енифар.
— Этим троллем будешь ты, когда убор украсит твою голову, — засмеялась женщина.
Енифар взяла ее руки в свои, всмотрелась в прекрасное лицо, затуманенное дымкой расстояния… и проснулась.
А сказки продолжали бродить по трем мирам: по миру троллей, миру людей и миру большого города. Они перебирались из комиксов в сновидения, из сновидений в карту города и схему метрополитена, из карты и схемы — в мечты и мысли, а из мыслей — в жизнь, и где граница между ними — не определил никто: ни девушка, которая до сих пор ищет правильную ветку метро, ни юноша, который спасает людей из завалов, ни девочка, которая сажает растения, ни мальчик, который рисует комиксы.
Серебряные башмачки
Петр Иванович Лавочкин обладал стопроцентно русским именем и совершенно нерусской наружностью: он был грязновато-смуглым, с жесткими черными волосами и длинными мускулистыми руками. Короткие кривоватые ноги довершали облик.
Кроме того, в его выговоре слышался странный, режущий слух акцент. Последняя особенность Петра Ивановича была обусловлена как физическим дефектом (неправильный прикус), так и упрямством, которое при других обстоятельствах было бы названо «консерватизмом».
Все это в совокупности время от времени вызывало недоверие у служителей правопорядка на улицах и в метрополитене. Несколько раз Петра Ивановича даже задерживали и спрашивали объяснений.
Объяснения исправно приходили из местного отделения, где господина Лавочкина хорошо знали. Петр Иванович, коренной петербуржец, числился стопроцентно русским и действительно был прописан.
И его, недовольно ворчащего, отпускали, зачастую даже не извиняясь за причиненное неудобство. Впрочем, он и не требовал извинений. Петр Иванович все понимал и сочувствовал властям. Он не являлся террористом, и более того, никогда не бывал на Кавказе и в других горячих точках, даже на курорте. Он проживал на Большой Посадской улице и нечасто выбирался за пределы Петроградской стороны. Он был стойким домоседом.
Петр Иванович держал небольшой магазин. Это был довольно странный магазин, в принципе мало предназначенный для покупателей. На витрине стояло несколько манекенов, обернутых блестящей бумагой и перевязанных пышными лентами, — эдакие роскошные человеческие тушки, деньрожденский подарок людоеду, — а между ними были разложены разнообразные абстракции: завязанная узлом никелированная трубка, металлическая клякса, похожая на амебу или инопланетянина из советского мультика, пластмассовый радужный шар, вложенный в прямоугольник из меди. И на особом пьедестале — очень крупные серебряные башмачки. В подобном окружении башмачки выглядели стопроцентно нереальными.
Мимо витрины ходили люди, поневоле скашивая глаза на странные предметы, сверкающие оттуда. В магазин прохожие никогда не заходили. Глядя с улицы, трудно было понять, что там продается: одежда? обувь? запчасти для иномарок? аксессуары и косметика? Судя по концептуальному оформлению витрины, цены в этом магазине в любом случае запредельно высокие.
Название магазина — «Антигона» — тоже не проливало света на происходящее внутри. Большинство прохожих, в общем-то, понятия не имели, что обозначает это слово.
Петра Ивановича такое положение дел совершенно устраивало. Ему вовсе не требовался магазин как таковой: он держал здесь не столько товар, сколько коллекцию. Однако объяви он свою собственность музеем, сюда тотчас же начнут таскаться посетители. Купив билет за полтинник, с глупыми лицами они будут бродить по помещению, которое Петр Иванович любил и устроил с таким вниманием и вкусом. Начнут высказывать суждения, украдкой трогать выставленные предметы и бессмысленно фотографировать друг друга на фоне здешних интерьеров.
Нет уж. Пусть лучше это будет «бутик». Вход — совершенно бесплатный, любой экспонат продается. Такое место люди с гарантией будут обходить стороной.
Так оно и случилось. И Петр Иванович спокойно проводил дни за своей непонятной витриной, среди вещей, которые были ему дороги, в блаженном одиночестве, никем не тревожимый.
* * *
Петр Иванович вовсе не был таким уж нелюдимым и злобным, как можно было бы вообразить, глядя на завязанную узлом никелированную трубку. За жизнь он даже обзавелся одним настоящим другом, а это уже, согласитесь, немало.
Коренной петербуржец, Петр Иванович вырос в приюте. Там имелось много странных детей, например, мальчик без левой ушной раковины, дикий мальчик, полунегр-полукитаец, мальчик неизвестной кавказской народности, языка которого никто не понимал, а также дюжина обычных русских беспризорников с акварельно-тонкими лицами и льняными волосами. Эти последние были красивы странной, неброской красотой вырождения: едва лишь детская абсолютная чистота сменится подростковой угловатостью, как в облике русского ангела роковым образом проступит русский же алкоголик, существо порочное, хитрое и плаксивое.
Петька жалел таких. Сам он был коренастый, с каменно-крепкими мускулами, с некрасивым, но удивительно здоровым лицом. В его облике не угадывалось ни эфемерности, ни хрупкости; кем он казался, тем и был: прочно стоящим на коротких, кривоватых ногах, черномазым, хватким.
Он никогда не придумывал себе родителей, не мечтал о том, что рано или поздно объявятся красавица-мать и богач-отец и все-все объяснят: про кораблекрушение, про многолетние поиски, про коварную няньку, укравшую барчука из колыбели и продавшую в рабство, про то, как отчаяние родителей сменялось безумной надеждой.
Вместо этого юный Петр раздумывал над тем, как бы ему обзавестись собственным обувным магазином. Название «Антигона» он увидел во сне. Слово пришло к нему, как приходит женщина, и сперва оно казалось недостижимым. Оно шествовало сквозь темноту, источая легкий аромат. Следовало основательно постараться, чтобы пахнуть вот так, естественно и вычурно-ненатурально в одно и то же время. Это был какой-то очень изысканный и дорогой запах.
В первый раз Петька проснулся именно из-за этого запаха. Он долго лежал в темноте, наслаждаясь воспоминанием.
Вторично слово проникло в его сновидения с большей легкостью. Едва уловив знакомое благоухание, Петька с радостью распахнул слову свой сон, и оно выступило на свет, сверкающее, переливающееся, серебряное. Оно было ласковым и красивым.
Петька знал, что это не женщина, а слово, потому что в явлении все время оставалось нечто отвлеченное, нематериальное. Его нельзя было потрогать, подергать за край рукава или подол, потыкать пальцем в бок. Оно не взвизгнет, не обзовется. Оно вообще не может говорить, потому что оно — одно слово, не несколько.
Одно, зато заветное. Антигона. Как удар колокола, когда он, приплыв издалека и наполнив целительным звоном широкие пространства, уже успел растерять часть своей могучей силы. Звон, который можно взять на ладонь, вложить в уши и сохранить в себе.
Антигона. Колокол, настолько растративший себя, настолько ослабевший, что ему стала необходима поддержка другого живого существа.
Мысль о подобном колоколе растрогала Петьку, и он проснулся в слезах. Он облизал свое лицо длинным языком — таким длинным, что Петька без труда доставал им до кончика глаза. Слезы оказались сладкими и обильными. «Просто компоту не нужно! — подумал Петька в восхищении. — Вот это слезищи! Вот бы так всегда!»
Естественно, этими историями Петька ни с кем не поделился. Он сберег их для себя. Два волшебных сна. Этого ему хватило на целых десять лет.
* * *
Петру исполнился двадцать один, и он только что потерял работу. Он жил в комнате в общежитии. Под окном бугрился пустырь, а за пустырем стояло второе общежитие, точная копия первого: трехэтажное здание барачного типа.
Несмотря на молодость Петра, обстановка вокруг него выглядела так, словно его жизнь уже заканчивалась. Он с ужасом посматривал на соседа, который прожил в этом общежитии пятнадцать лет.
В коридорах было безнадежно даже по сравнению с приютом, взрастившим Петра.
Оставшись без работы, он не слишком горевал. Ему не нравилось на заводе.
Внезапно у него появилось свободное время. Больше ему не нужно было торчать по девять часов там, где стоял механический шум и повсюду находились люди, а потом не требовалось тащиться «домой», в барак, где даже стены, кажется, ополчались на человека и вместо того, чтобы придавать ему сил, отнимали последнее.
Петр просто ходил по улицам, втягивая расширенными ноздрями запах города.
Город окружал его, высокомерный, молчаливый. Город уважал безумие Петра, его одиночество. Город пестовал его странности и вопиющую непохожесть на других людей. Город был настолько строг и строен, что то и дело позволял себе внезапные квазимодовские гримасы: ведь никто не посмел бы заявить прилюдно, что некто, обладающий Эрмитажем и Петропавловским шпилем, не имеет права на «эксцентричность».
И Петр очень быстро понял: этот город имеет право на что угодно. И если стать плотью от плоти этого города, то частица его права — на безумие, на снобизм, на безобразные выходки, на изысканность, на страстную любовь, на ледяной холод — перейдет и к тебе.
«Проклятье, я должен был догадаться об этом раньше», — подумал Петр с досадой на самого себя. Он никогда не читал «Медного всадника», ему было не до того.
Во время одной из прогулок Петр внезапно уловил давно забытый запах, острый, возбуждающий. Наконец-то он понял, что это был за запах: так пахнет кожа дорогих ботинок.
Слово «Антигона» приближалось, в этом не оставалось никаких сомнений.
Петр остановился и начал ждать.
Он был терпелив и мог ждать часами — как прежде ждал годами.
Теперь Антигона предстала перед ним в образе женщины, но все равно она оставалась словом: для реальной женщины она была слишком условна с этими ее длинными черными прядями, каждая из которых заканчивалась серебряной папильоткой, с раскосыми черными глазами и раздутыми, словно в сладострастном порыве, ноздрями.
Она размеренно шагала по мостовой. Их встреча произошла в одном из тех чумазых питерских переулков, что совершенно неожиданно отходят от какой-нибудь улицы-красавицы и ползут на задах, открываясь подворотнями на безликие желтоглазые флигели. Забытый мусор был единственным пестрым пятном в каменной подворотне.
Антигона была одета в растрескавшееся клеенчатое пальто, как будто вытащенное из мусорного бачка, а на ее босых ногах, словно святотатство, хлопали гигантские мужские ботинки без шнурков.
Все то время, пока она приближалась к нему, Петр слышал отдаленный, уставший звон колокола и все более отчетливо сознавал, что перед ним — Антигона.
Она шла очень медленно, позволяя ему в полной мере насладиться старым сном. И когда их разделяло всего десять шагов, она вдруг остановилась и чрезмерно длинным языком слизнула слезы, выступившие в уголках ее глаз.
А потом она сказала:
— Петр Лавочкин — ты, и это не ошибка.
Он молча кивнул. От волнения у него перехватило горло.
В здешнем мире слово «Антигона» все-таки превратилось в женщину, которая держалась так неуверенно, так неловко, что в груди щемило и жгло глаза.
Она как будто стояла на веревке, натянутой в метре над землей, и размышляла о том, как бы не свалиться на потеху толпе, как бы не сверкнуть в падении панталонами и не потерять с ног ботинки.
Петр молчал, чтобы не смущать ее еще больше.
Она взяла одну свою прядку и сунула папильотку в рот. Ее крупные желтоватые зубы с хрустом разгрызли серебряную вещицу. Антигона выплюнула кусочки себе под ноги, но прядка осталась у нее во рту, красиво оттеняя смуглую щеку.
Потом Антигона сказала:
— Ты имеешь возможность видеть ту женщину, мать.
Она протянула руку, как будто просила о помощи, и Петр схватил ее. До самого последнего мгновения, пока их руки не соприкоснулись, Петр не знал, каким будет это прикосновение, нежным или крепким. Но когда он дотронулся до Антигоны, то понял: эту женщину нужно держать изо всех сил, иначе она захочет вырваться.
И вцепился в ее ладонь изо всех сил, даже помогая себе ногтями.
Она зашаркала по переулку и нырнула вместе с ним в подворотню.
Лифты ползали по желтым стенам дома.
С натугой они карабкались все выше, к невозможному небу над двором-колодцем, к недостижимой цели. Они были похожи на паразитов, внедрившихся под кожу и двигающихся вдоль позвоночного хребта, как в фильме ужасов.
Петр впервые ездил в таком лифте. Он понял вдруг, что слишком мало успел за свою жизнь, чтобы позволить ей закончиться в общежитии.
— Здесь.
Они очутились перед крашеной дверью без номера.
Антигона позвонила, потом постучала, и дверь тихо раскрылась, и в полумраке проступила бледная женщина в стареньком халате. У женщины не было возраста. Она как будто находилась за пределами собственной судьбы. Петр восхитился, потому что это было хитро придумано — жить потихоньку, предоставив судьбе возможность самой вершить свой жестокий и страшный суд!
Не обращая внимания на вопрошающие глаза женщины, Антигона повернулась к Петру и сказала:
— Вот эта — мать, Петр Лавочкин. Ты получаешь возможность глядеть.
Петр оглянулся на Антигону, но она уже входила в лифт, готовая растаять в нереальной вселенной «колодца», а между тем женщина шагнула к двери с явным намерением изгнать Петра и не допустить его в свое обиталище.
Поэтому Петр быстро шагнул вперед и схватил женщину за локти. К этой женщине следовало прикасаться нежно и бережно, ее кости ощущались как нечто чрезвычайно хрупкое.
— Хотите чаю? — слабым голосом произнесла она.
Она заварила для него на кухне слабенький чаек. На поверхности чашки плавали чаинки. Они были такими жалкими, что у Петра пропало всякое желание задавать этой женщине какие-либо вопросы.
Она заговорила сама:
— Я сразу узнала тебя. Ты и был таким — грязнокожим. Я ни у кого не видела такого ужасного оттенка кожи. Прости.
Петр покачал головой. Он вовсе не считал свою внешность ужасной и в словах матери не видел ничего обидного. К тому же некоторые девчонки уже находили его весьма интересным. «В тебе есть опасность и тайна, — сказала ему одна из его подруг. — Если бы у тебя была еще своя жилплощадь, то я бы даже не задумывалась».
Поскольку Петр молчал — а молчал он потому, что думал о множестве разных вещей, и все они разом захватывали его воображение, — женщина торопливо продолжила:
— Я отказалась от тебя прямо в роддоме. Я не могла принести тебя домой. Мой муж… — Она судорожно вздохнула. — Он сказал, что ты — не от него. Мы потом все равно развелись.
Петр подумал о муже этой женщине, о ее любовнике, о том, как она ложится в постель и смотрит на мужчину в ожидании. Он почти въяве видел ее печальное лицо, слышал ее вздохи. Есть женщины, которые в постели смеются, а эта — вздыхает. И в конце концов ее любовникам это начинает казаться пресным.
Он посмотрел на ее руки и увидел, что они увяли.
«Наверное, нельзя думать такое о матери», — мелькнуло у Петра, и в тот же миг он понял, что эта женщина ему не мать.
— Ты не простила его? — спросил ее Петр. — За то, что он заставил тебя оставить ребенка?
Она пожала плечами.
— На самом деле это он не простил меня.
— Но ведь ты ему не изменяла!
— Изменяла.
— Ну, он же не знал…
— Знал.
Ее быстрые уверенные ответы сбили его с толку, и он замолчал.
Она принялась пить чай как ни в чем не бывало. Петр с интересом смотрел, как она вытягивает губы трубочкой и высасывает содержимое чашки, точно птичка. «И целуется наверняка как клюет, — представил Петр. — У таких губы в момент поцелуя твердеют, а соски остаются мягкими…»
— У тебя есть дети? — спросил Петр.
Она кивнула.
— Значит, ты счастлива, — сказал Петр.
Она пожала плечами.
Петр сказал:
— Знаешь, я только сейчас понял одну вещь.
Она испуганно смотрела на него.
Он накрыл ее ладонь своей.
— Ты не настоящая моя мать. Поэтому никогда больше не печалься из-за того, что сделала.
— Я не понимаю… — произнесла она медленно.
— Это правда.
Он встал.
— Я рад, что мы увиделись, — сказал Петр. — Ты хорошая.
* * *
Антигона ждала его во дворе. Он даже надеяться не смел, что она там окажется, но она бродила по мостовой и слушала, как разношенные ботинки шлепают ее по пяткам. Эхо, обитавшее в этом дворе, старое разжиревшее эхо делало этот звук гулким.
Заслышав шаги, Антигона обернулась.
— Ты понял? — спросила она, увидев, что лицо Петра сияет.
Он кивнул ей, еще издалека, а потом добавил словами, чтобы не оставалось сомнений:
— Не она — моя мать.
Антигона расхохоталась:
— Да, ты это понял!
Петр взял ее лицо в ладони и, поскольку Антигона попыталась вырваться, ухватил ее покрепче за уши.
— Кто ты?
— А ты как думаешь? — засмеялась она и ударила его прядью волос с тяжелой папильоткой.
— Скажи!
— Сказать твои мысли?
— Ты была словом — «Антигона». Давно.
— О, я — слово! — кивнула она, заставляя его выпустить ее уши. — Я слово «Антигона», и я слово «сестра». Ты видел меня во сне?
Он молча улыбнулся ей.
Она с восхищением посмотрела на его зубы, а потом сказала:
— Я тоже. Ты был в моем сне. Но ты не был словом.
— Кем же я был?
— Кусок мяса.
— И я молчал?
— Ты молчал и был мой брат. Ты — немой, ты — никто. Называется — подменыш.
— Почему?
— Необходимость. Жертва.
— Почему? — опять спросил он.
— Это в крови, — ответила Антигона. — Понимание сроков. Женщины знают, когда пора это сделать. Если не добавлять людей, наш род прервется. Нужен был человек. Она подменила детей. Ты — подменыш.
— А тот, второй… мой двойник? — не выдержал Петр.
— Что? — удивилась Антигона. Ее черные глаза сияли, как будто в них налили по ведру света.
— Какой он? На кого он похож?
Антигона удивленно подняла брови.
— Он похож на человека. Он не похож на брата.
— Он слабый? — жадно поинтересовался Петр.
— Ты — очень сильный, — сказала Антигона.
— Он слабый! — повторил Петр.
Антигона пожала плечами:
— Он человек. Он — мешок со свежей кровью. Он не похож на брата. Ты — другой. Ты больше не кусок мяса.
— Кто же я? — допытывался Петр.
Самым важным для него было сейчас понять, каким видит его Антигона.
— Ты — кусок камня, — сказала она важно. — Идем. Мои башмаки скоро закончатся.
Он покачал головой, показывая, что не понимает смысла последней фразы.
Она показала на свои ботинки.
— Башмаки. Я должна вернуться домой до заката, иначе застряну. Ты любишь обувь? Подумай над этим. Это важно.
Она шагнула вперед, потом еще и еще — и вдруг исчезла.
Петр остался один во дворе-колодце, под окном дома, где жила его не-мать, грустная женщина без судьбы. И место это, и знакомство не несли в себе ровным счетом никакой отрады, но Петру казалось, что ему подарили нечто огромное и чрезвычайно важное.
Он раскинул руки в стороны и медленно закружился по двору. Он знал, что не-мать наблюдает за ним из окна. Она часто смотрит на людей и вещи, не понимая их смысла и не впуская их в душу, — она лишь следит за тем, как жизнь проходит мимо.
Распахнулось совершенно другое окно, не то, о котором думал Петр, и оттуда показалась растрепанная старуха.
— Пошел вон! — заорала она. — Пьянь! Бродяги! Шляются тут! Здесь приличный дом! Я милицию позову! Убирайся, тебе говорю!
И она разразилась бранью, в которой Петра больше всего удивило слово «проститутка». Он так и не понял, к кому оно было отнесено.
Не переставая кружиться и подскакивать, он пересек двор и выбежал в переулок, а оттуда в два прыжка добрался до роскошной улицы-красавицы. Здесь город встретил его, словно подвыпившего джентльмена, и с легкой иронией вопросил: «Неужто допустимо посещение подобных мест? Если бы вы, милостивый государь, вздумали пуститься в пляс на Невском, вам никто бы и слова худого не сказал, так нет, угораздило вас забраться в эдакие трущобы! За трущобы я, милостивый государь, совершенно не отвечаю».
И хоть это было сущим лицемерием — город сам развел эти трущобы и, уж конечно, нес за них полную ответственность, — Петр послушно поник головой и степенным шагом добрался до общежития.
* * *
Той ночью он не спал. Он понял о себе сразу три важные вещи: во-первых, он должен разбогатеть; во-вторых, он обожает обувь, а это верный признак скорого богатства; и в-третьих, у него есть способ добыть деньги.
«Антигона, — прошептал он под утро, когда вселенная, измученная мириадами искапризничавшихся снов, была хрупка и беззащитна и свободно пропускала слова из одного мира в другой. — Антигона. Сестра».
Второе слово было сладким, первое — гудящим. Петр никак не мог для себя решить, какое из них лучше.
* * *
Сергея Николаевича Михайлова все знакомые и даже прораб называли Михля. Он был рыжий — весь, с головы до ног. Его покрывали расползшиеся по всему телу веснушки. Его глаза были желтыми, а волосы — цвета пожара на ярком солнечном свету.
В юные годы Михля закончил институт и намеревался до конца дней своих проектировать турбины. Но тут в стране что-то случилось и стало не то чтобы совсем плохо, но как-то крайне странно с работой и вообще, — и Михля, махнув рукой на свои турбины, начал работать на стройках.
Из всех богатств у Михли было одно — автомобиль «жигули». Старую машину, жертву множества ремонтов, подарил Михле младший родственник, вовремя сообразивший закончить юридический факультет и получивший работу в банке.
Михля ездил на своей машине на работу, а вечерами немного подрабатывал извозом и тем «оправдывал» бензин. Домой он не торопился: дома у него ничего интересного не было, ни предметов роскоши, ни близких людей. Телевизор он тоже, как правило, не смотрел — сразу засыпал.
Вот такой был скучный человек Михля.
* * *
Город бежал перед «жигулями», такой же будничный, как эта раздолбанная машинка. Михле никогда не приходило в голову попытаться представить, каким выглядит этот же самый город из окна сверкающего джипа. Может быть, просторным, как саванна, полным загадок и опасной дичи? А из окна «мерседеса»? Обманчиво услужливым, изысканным, готовым в любое мгновение вонзить нож в спину?
Внезапно Михлю посетил редкий гость — одно воспоминание из очень далекого детства. Воспоминание о том, как он впервые услышал слово «жигули» и еще несколько незнакомых, новых слов.
Всезнающий дядя, старший мамин брат, сказал за чаем:
— Между прочим, наши «жигули» за границей называют «лада». Экспортный вариант.
— Почему «лада»? — удивилась мама.
— Ну, такое русское название, — объяснил дядя.
— Почему не «жигули»?
— Потому что «жигули» в переводе с ихнего означает «сутенер», — последнее слово дядя произнес сквозь зубы как нечто неприличное.
Михля (в те годы его называли Сержиком) робко подал голос:
— А что такое сутенер?
Мама поспешно сказала:
— Это мужчина, который живет за счет женщины.
Михля не находил в последнем обстоятельстве ничего неприличного. Его отец зарабатывал в полтора раза меньше, чем мать. Но по взгляду, который мама устремила на старшего братца, Михля-Сержик мгновенно сообразил, что продолжать расспросы не стоит, иначе дядя Сережа долго потом не придет к ним в гости.
Прошло много лет (или Михле так показалось, а на самом деле их было всего четыре или пять), прежде чем Михля узнал истинное значение слова «сутенер». Он еще раз удивился — для чего было так называть машину, — но потом все это вылетело из его головы. Вместе с другими бесполезными вещами вроде школьного курса литературы, школьного курса химии, физики, географии. Остались только четыре действия арифметики и немного чистописания.
И вот сейчас, возвращаясь домой по скучному серо-желтому городу, Михля вдруг вспомнил тот разговор. «Жиголо» — вот на что похоже слово «жигули». Но жиголо — вовсе не сутенер. Совсем другой смысл. Жиголо — красавчик с напомаженной головой, и он с женщинами танцует и вообще им всячески угождает, а сутенер — нервный бандит в мятом пиджаке, и он бьет проституток по щекам и отбирает у них деньги.
Михля даже покачал головой. Давненько его не посещали такие странные мысли. Он не вспоминал свое детство уже очень много лет. Наверное, лет десять — практически вечность.
Мама знала слово «сутенер» и не знала слова «жиголо». Как печально, если вникнуть в истинный смысл этого знания-незнания. Ведь даже продажные мужчины бывают различны, и не все они дурны. Но мама привыкла думать иначе. Она привыкла видеть в мужчинах только врагов, а это непоправимая ошибка для женщины.
Михля отвлекся всего на несколько секунд… На дороге прямо перед Михлиной машиной, перед его милым, безотказным «жиголо», внезапно возникла высокая человеческая фигура. Михля вцепился в руль, но было поздно: столкновение произошло.
Михля увидел свет, потом он увидел тьму и погрузился в нее, как в спасение.
Постепенно тьма сделалась неудобной. Внутри нее определенно было жестко и холодно. Михля открыл глаза и определил, что лежит на мостовой, а рядом, скрестив ноги, восседает человек с неподвижным уродливым лицом. В первое мгновение, узрев незнакомый профиль, Михля испугался: торчащие скулы, узкие, глубоко посаженные черные глаза, выдвинутая вперед челюсть — тут любой поневоле бы струхнул.
Человек почувствовал на себе Михлин взгляд, потому что повернулся к нему и уставился на него в упор.
— Я не хотел убивать, — сказал он. — Ты не убит?
— Нет. — Михля пошевелился. — Помоги! — сказал он, вдруг рассердившись. — Что с машиной?
— Ты ехал, — бесстрастно сообщил незнакомец. — Я шел. Ты виноват.
— Ну уж нет! — выкрикнул Михля. — Дудки! Ты должен был смотреть, куда идешь.
— Нет свидетелей, — ответил незнакомец.
Он помог Михле сесть, и тот наконец увидел свою машину. Несчастная груда железа скомкалась гармошкой, как будто налетела не на человека, а на стену. Даже без предварительного осмотра было очевидно, что «жигули» погибли навсегда. Восстановить машину после такой аварии дороже, чем купить новую.
Ужас придал Михле сил. Он вскочил и сразу ощутил острую боль — в голове, в ноге и в боку. Преодолевая физическое страдание, он несколькими кособокими прыжками подобрался к машине, обхватил ее руками и зарыдал. Незнакомец встал, чтобы лучше видеть всю картину, и воззрился на плачущего Михлю. Черные глазки чужака с любопытством поблескивали.
Михля выл над машиной, как деревенская баба — над павшей буренкой-кормилицей. Он водил по ней ладонями, припадал щекой, покачивал головой. Наконец он повернулся к незнакомцу и горестно воскликнул:
— Что ты наделал, урод!
Рослый широкоплечий человек с длиннющими руками мог прихлопнуть Михлю одним шлепком, если бы захотел, но Михле сейчас это было безразлично.
— Ты мне должен, — объявил незнакомец, весело ухмыляясь.
— Что должен?
От удивления Михля поперхнулся посреди слова.
— Денег, — пояснил незнакомец.
— Да ты просто какой-то больной… Ты разбил мою машину. Это ты мне должен, — осенило Михлю. Он еще раз посмотрел на «жигули», на сей раз безнадежность отступила. На короткий сверкающий миг Михля поверил в возможность чуда — ремонта.
Незнакомец пожевал губу. Потом он положил ручищу Михле на плечи и произнес задумчиво:
— У тебя ведь денег нет, а?
— Посмотри на меня, — сказал Михля горестно. — По-твоему, у меня есть деньги?
Незнакомец перевел дух, как бы сожалея о собственной наивности, и вдруг спросил:
— Тебя как зовут?
— Сергей.
— А я Петр Иванович. У меня тоже ничего нет, даже дома.
— Вот и познакомились, — глубоко, от всей утробы вздохнул Михля.
Они уселись на парапет, спиной к мостовой и разбитой машине, лицом к Неве. Река была огромна и полна света.
— Здесь нужны корабли, — сказал вдруг Петр Иванович. — Без них пусто, как в семье без бабушки.
— Что ты имеешь в виду? — удивился Михля. Он не поспевал за Петром Ивановичем.
— Всегда необходим кто-то в углу. Щелкать спицами, вязать то свитер, то носки, — объяснил Петр Иванович. — Что-нибудь бесполезное. Можно шарф.
— Корабли мало похожи на бабушку, — высказался Михля.
Петр Иванович пожал плечами.
— Я все равно никогда не видел ни кораблей, ни бабушки, — равнодушно промолвил он. — Так что разница невелика.
— Пожалуй, — согласился Михля.
Они помолчали, а потом Петр Иванович уточнил:
— Так ты не будешь мне платить?
— Нет, — сказал Михля.
— Ага. Я так и понял.
— Если понял, то зачем спрашиваешь? — вдруг разозлился Михля.
— А почему ты сидишь здесь со мной? — осведомился Петр Иванович. — Разве не для того, чтобы заплатить?
— Просто домой неохота, — ответил Михля. — А ты?
— И мне неохота.
— Ясно, — сказал Михля.
Петр Иванович блеснул черным глазом.
— Что тебе ясно?
— Что ты здесь сидишь, потому что идти домой тебе неохота. Больше ничего.
Петр Иванович перевернулся на парапете и уставился на разбитую машину.
— Не рассчитал я сдуру, — признался он. — Слишком хрупка машина, стара. Бабушка. Нужно лучше обратиться взглядом к джипам.
— Слушай, — произнес Михля, — а как ты это сделал?
— Просто сошел на проезжую часть и встал вперед, — откликнулся Петр Иванович. — Ты этого не заметил?
— Я заметил, — горестно подтвердил Михля. — Я заметил, что ты выскочил неизвестно откуда и я в тебя врезался. А когда я в тебя врезался, моя машина разбилась в лепешку, а тебе хоть бы что. И вот этого-то я не понимаю.
— Чего не понимаешь?
— Почему машина разбилась, а ты целехонек. Ты должен был пострадать.
— Если бы я пострадал, ты дал бы денег? — жадно осведомился Петр Иванович.
— Пришлось бы…
— Ладно. Ты — хороший. Тебя как зовут на самом деле?
— На самом деле меня зовут Михля, — сдался Михля.
— Я так и подумал, — заявил Петр Иванович. — Но ты не дашь денег.
— Нет.
У Михли исчез последний страх, исчезло даже сожаление о разбитой машине. Он просто сидел на парапете рядом с новым знакомым, с этим Петром Ивановичем, и расслабленно поддерживал бессвязный разговор.
Обычно в тех случаях, когда Михля не был заинтересован в том, чтобы участвовать в разговоре, — за семейным столом в доме родителей, например, — он создавал видимость. Вставлял «угу», «это точно», «с ума сойти». А сам плавал умом в некоей пустоте вроде лимба, где изредка возникали и тут же теряли форму безымянные тени и молчаливые призраки. Когда это состояние окончательно становилось Михле в тягость, он произносил бодрым голосом: «Выпью-ка я последнюю на посошок, а то завтра рано вставать», — и мама принималась хлопотать, наливая «на посошок», а потом, уже в прихожей, кутала его в шарф, шептала на ухо: «Когда ты все-таки женишься? Где же мои внуки, Сержик?» — и со всхлипом крепко целовала в обе щеки.
Разговаривать с Петром Ивановичем, как с мамой, не получалось. Единственное сходство заключалось в том, что в обоих случаях Михля лишь смутно догадывался, о чем идет речь. Слушать Петра Ивановича и поддакивать было все равно что мчаться по головокружительным лабиринтам, каждый из которых может оборваться пропастью или выскочить в тупик.
Впрочем, кое-какие улочки Петр Иванович проезжал уже не по первому разу, так что Михля постепенно успокаивался и подтверждал свое нежелание дать ему денег уже вполне твердым голосом.
— Объясни мне, почему у тебя даже царапин нет, — сказал Михля.
— Разве нет? — удивился Петр Иванович. Он поднес к глазам свою руку и воззрился на нее так, словно лицезрел этот непонятный предмет впервые в жизни.
— Нет, — сказал Михля.
Петр Иванович со вздохом уронил руку на колени.
— И впрямь нет. Это нехорошо. Должны быть.
— Но их нет.
— Нет.
— И денег я тебе не дам, — отважился Михля.
— Нет.
Помолчали.
— Так как ты это сделал? — снова привязался Михля. Он так расхрабрился, что даже взял инициативу в свои руки и начал задавать вопросы. Чем бы ему это ни грозило.
Помолчав, Петр Иванович ответил просто:
— Я каменный.
* * *
Михля стал единственным другом Петра Ивановича. Никогда прежде у Петра Ивановича не заводилось друзей. Он не доверял своим ровесникам, люди постарше его жалели, люди помладше — боялись.
А Михля не боялся, не жалел. И даже как будто был достоин доверия.
— Каменный? — переспросил он и уважительно потрогал бицепс Петра Ивановича.
Петр Иванович отдернул руку.
— Это ерунда, — нетерпеливо сказал он, — мышца у многих на ощупь тверда. Любой качок. Нет, я — везде. Везде каменный.
Он взял Михлю за запястье и поводил его пальцами по своему лицу. Михля обнаружил, что его новый приятель говорит сущую правду: скулы, лоб, нос воспринимались на ощупь точно так же, как парапет набережной.
— Но как такое… Ты мутант? — сообразил Михля.
Петр Иванович выпустил его запястье и самодовольно ухмыльнулся.
— Мутант? Выше бери!
— Каменная болезнь?
— Каменная болезнь — это в печени, — блеснул познаниями Петр Иванович. — Я весь каменный, потому что это натурально.
— Фэн-шуй? — предположил Михля, уловив слово «натурально» и сопоставив его с последними разговорами у мамы.
— Чего? — Петр Иванович нахмурился. — Глупость! Нет, это национальное. Натуральное национальное.
— А какой ты нации?
— А на кого я похож? — прищурился Петр Иванович.
— Не знаю… на эскимоса.
— Мутант-эскимос? — Петр Иванович вдруг расхохотался. Смеясь, он откинулся назад и завис головой над бездной Невы. Михле показалось, что его новый знакомец вот-вот опрокинется в реку. Он сполз с парапета и на всякий случай отошел подальше.
Но Петр Иванович перестал смеяться и выпрямился.
— Я скажу правду, но только тебе, — предупредил он. — Никому не передавай.
— Да мне некому, — успокоил его Михля.
— Я тролль.
— Ты кто?
— Тролль. Я подменыш. Понял?
Михля посмотрел в раскосые черные глаза Петра Ивановича и медленно кивнул.
— Знаешь, я тебе верю. В стране, где возможны мутанты-эскимосы, тролль-подменыш стопроцентно реален. А что говорит твоя мать?
— Она мне не мать, — ответил Петр Иванович с оттенком горькой гордости. — Я вырос в приюте.
* * *
Бизнес, открытый друзьями, был чрезвычайно прост и не требовал никаких затрат, а только некоторой доли уверенности в себе. Для Михли это стало в своем роде школой самосовершенствования, поскольку как раз уверенности в себе ему и недоставало.
Они били машины.
Точнее, бил их Петр Иванович, а Михля выступал свидетелем.
Время было странное. Всё в мире неожиданно получило цену, в том числе и то, что несколько десятилетий считалось абсолютно бесценным. И цена эта оказалась в некоторых случаях шокирующе низкой, а в других — шокирующе высокой.
Но люди каким-то образом ориентировались среди этих плывущих, расползающихся, как ветхая ткань, реалий. В те годы развилась телепатия. Начав торговлю, человек точно знал, на какой сумме они с противником остановятся. И тот, второй, это знал тоже.
Деньги были реальны и эфемерны в одно и то же время. Их было очень много и вместе с тем их не было вообще.
Петру Ивановичу это нравилось. Он втягивал своими расширенными ноздрями воздух, напоенный авантюрой, и ощущал, как толстеет.
Когда он впервые рассказал Михле о своем замысле, Михля ужаснулся:
— Могут пострадать люди!
— Тебя волнует? — удивился Петр Иванович. — Это?
Михля пожал плечами. Он был воспитан в убеждении, что человеческая жизнь является высочайшей ценностью на земле. Петр Иванович расхохотался, когда Михля напомнил ему об этом.
— И что из происходящего, — он сделал широкий жест, словно хотел обнять весь город, — убедило тебя в том, что это не неправда?
Михля набычился, его веснушки потемнели.
— Мы должны сохранять человеческое лицо, иначе мы погибнем.
— Ты вычитал это из газеты левых демократов?
— Ты знаешь такие слова?
Они отвернулись друг от друга, недовольные тем, как повернулся разговор.
Потом Петр Иванович сказал:
— Ты же знаешь, Михля, я — не человек. Вовсе и совершенно не человек. Попробуй осознать себя как тролля. Это просто.
— Это совсем не просто, потому что я — человек, — уперся Михля.
— Ладно, — сдался Петр Иванович, — ты человек. Трудно. Но «они» — другая раса. Первый закон охоты. Жертва — всегда другая раса.
— Ты расист?
— Реалист.
— Сколько ужасных слов ты знаешь, Петр Иванович.
— Я читал газеты. Много газет. — В мыслях Петра Ивановича отчетливо встала его берлога в общежитии, гора мятых газет, неопрятных, с прыгающим шрифтом и опечатками. Опечатки мешали ему читать, он не узнавал слова, поэтому проговаривал некоторые статьи вслух. — Я читал в газетах Гиппиус.
— Кто это?
— Думаю, тролль, — ответил Петр Иванович. — У нее слог как у тролля. Выразительный, злой и по-хорошему тупой. Русские плохо пишут, мяконько. Они даже злятся как размазня — сопли по битой роже.
— Да? — обиделся за русских писателей Михля. — А кто, по-твоему, умеет злиться? Может, американцы?
— По-настоящему жестоки в своих текстах только евреи, — сказал Петр Иванович. — Их жестокость — от понимания, как сделан мир. Евреи помнят, как делался мир, поэтому они так жестоки. Остальные — нет.
— А японцы? — рискнул Михля. — Камикадзе, харакири?
Петр Иванович с презрением покачал головой.
— Японцы не смыслят. Они просто не знают. Немцы — не умеют. Только щеки надувают. — Петр Иванович надул щеки, потом спустил их. — Я изучал вопрос. Но Гиппиус пишет как тролль. Она не боится быть тупой. В этом — стиль! Сильно!
— Я так и не понял, тебе понравилось или нет, — сказал Михля, сдаваясь. Он только сейчас сообразил, что спорить с Петром Ивановичем — все равно что пытаться переубедить камень. Тролль меняет свои убеждения раз в тысячу лет, и то постепенно.
— Понравилось? — Петр Иванович покачал головой. — Нет. Просто прочитал. Много интересного. Можешь не читать. Главное — понимать, что раса другая. «Они» — другая раса. «Они» не пишут как тролли, не читают как тролли, не живут как тролли.
— Ты живешь как человек, — напомнил Михля. Просто так, ради справедливости. На самом деле он уже сдался.
Маленькая темная комнатка, где из всех предметов роскоши были мятые газеты, отразилась в черных раскосых глазах тролля. Михля как будто вошел в нее, так яростно надвинулись на него бездонные зрачки приятеля.
— Я живу как человек? — переспросил Петр Иванович. — Это означает — жить как человек?
— Ну, как бедный человек… Как человек, которому не повезло…
— Я хочу жить как тролль. И ему повезло, — твердо произнес Петр Иванович. — Раса, Михля, это от нас не зависит. «Они» тоже не виноваты, — добавил он, подумав. — Но ты посмотри: они похожи друг на друга и не похожи на нас. Круглая голова — раз. В круглой голове — круглые мысли. Как ядро. Ты был в музее? Там есть ядро.
— Каменное? — попытался понять Михля. Смысл разговора опять уполз от него, как ленивый питон, и теперь Михля не без тоски созерцал его извивающийся, исчезающий в дебрях хвост.
— Чугунное! — огрызнулся Петр Иванович. — Круглое ядро.
— В голове?
— В голове — мысли. Как ядро. Голова круглая. Плечи — много мяса. Почему? — Он поднял палец. — Я знаю причину. Все едят курицу. Курица изменена генетически.
— Почему? — изумился Михля.
— Что? — Петр Иванович уставился на приятеля так, словно тот разбудил его посреди крепкого сна с увлекательными приключениями.
— Почему курица изменена генетически?
— Прочел в газетах, — лаконически ответил Петр Иванович и с облегчением вернулся к своей теме: — Одни пожиратели куриц реагируют на измененные гены, другие — нет. Это определено расой. Кто реагирует, превращается в другую расу. Мутанты.
— «Новые русские» — это мутанты? — понял наконец Михля.
Петр Иванович с облегчением стукнул его по плечу рукой.
— Точно. — И добавил: — Я никогда не куплю себе машину.
— Почему?
— Угадай!
Они прошли сперва всю Петроградскую за этими разговорами, потом почти весь Васильевский. Постепенно темнело. На Стрелке Петр Иванович приметил иномарку и, подпустив добычу поближе, вышел на проезжую часть. Тормоза завопили, но было поздно: машина врезалась в каменное туловище Петра Ивановича. Петр Иванович ощутил горячее тело двигателя. Из-под смятой крышки пошел пар, как в Долине гейзеров.
На лобовом стекле образовалась красная клякса. Михля с ужасом смотрел на происходящее с тротуара. Он видел кляксу.
Петр Иванович высвободился из мятых объятий машины и, волоча по асфальту порванный пиджак, подошел к дверце. Заглянул внутрь, потом перевел взгляд на Михлю.
— Надо выбирать с меньшей скоростью, — сказал он.
— Ты убил их? — пролепетал Михля.
— Его. Я все продумал, — сказал Петр Иванович. — Нужен один свидетель. Ты. А этот мчался. Чересчур большая скорость.
— Ты убил человека, — повторил Михля.
В машине застонали.
Петр Иванович уловил этот звук обостренным слухом тролля. Он всунулся в салон и сказал прямо в окровавленное лицо:
— Сволочь. Ты превысил скорость и не пристегнулся. Ты мне должен деньги.
Затем он вытащил раненого человека из иномарки и на руках отнес в больницу Марии Магдалины, находившуюся неподалеку, на Первой линии.
Человек то терял сознание, то возвращался к реальности. Он видел безобразное смуглое лицо и обреченно моргал: этот чертов кавказец непременно желает получить мзду. Но как он оказался перед машиной? И почему он не пострадал? А иномарка — всмятку…
Петр Иванович остался в приемном покое вместе со своей жертвой. Время от времени он поглядывал на добычу и криво ухмылялся. Выждав момент, когда они остались наедине, Петр Иванович сунул бедняге пейджер:
— Компаньоны есть?
Тот моргнул.
— Отправь сообщение. Они должны мне денег. Иначе — всё.
— Что «всё»? — пробормотал бедняга. Ему было очень больно.
— У меня есть свидетель. Ты мне должен деньги.
Страдая от боли и мучительной бессмыслицы происходящего, раненый продиктовал распоряжение выдать предъявителю пейджера сумму в десять миллионов.
— Давно бы так, — сказал Петр Иванович. Он забрал пейджер и ушел из больницы.
С этих десяти миллионов началась жизнь.
Мелких бандитов — поедателей мутированной курятины — в городе водилось много. Петр Иванович выходил на охоту приблизительно раз в неделю. Иногда они с Михлей ездили в Ольгино, а потом и в другие места. Перед вылазкой непременно посещали какой-нибудь музей и несколько раз были в Петергофе. Петергофское шоссе вообще на некоторое время стало у Петра Ивановича любимым. Он называл это место «мои любезные угодья». Музейные экскурсии существенно пополнили его лексикон и представления о прекрасном.
Деньги он не тратил. Только на еду и билеты в музей.
А потом неожиданно купил небольшую квартиру на Большой Посадской.
* * *
Михля спросил Петра Ивановича:
— Как тебе удалось не размотать все деньги?
— А ты бы размотал? — удивился Петр Иванович. Некоторые вещи изумляли его до сих пор — так, словно Петр Иванович все еще оставался ребенком и каждый день приносил ему какое-нибудь новое ошеломляющее открытие.
Михля покаянно кивнул:
— Конечно. У меня нет такой силы воли.
— У меня тоже нет силы воли.
— Так как же ты противился соблазнам?
— Не было соблазнов, — махнул рукой Петр Иванович. — Никаких. Я не человек. Я могу ждать. Люди — нет. У людей тяжело со временем. У людей тяжело с деньгами. Трудные отношения. Мучение. Как роман с капризной женщиной. Читал Достоевского? Я тут прочел. Пишет как человек, но все понятно. Ты прочти. Тоже поймешь. А вот у троллей нет романов с капризными женщинами. У троллей нет романов со временем. У нас не бывает секса с деньгами. Никакой романтики, понял? Тогда все получается как надо. Нет секса. Вот и весь секрет. — Он ухмыльнулся, довольный тем, что отыскал, как ему казалось, правильное определение.
Они находились в новой квартире Петра Ивановича и в четыре руки дружно срывали со стен старые обои. На полу росла титаническая гора обрывков. Уму непостижимо, как много ненужного и лишнего обнаруживается в доме, стоит лишь ковырнуть пальцем стену! Постепенно обнажались вперемешку газеты, сообщавшие о визитах товарища Брежнева в Индию; являлись свету разрисованные давно выросшими детьми желтенькие обои шестидесятых, с абстрактными полосочками, имитирующими березку; проступали темно-красные с золотом выпендрежные обои семидесятых — их наклеили после того, как выросшие дети покинули дом и не могли воспрепятствовать «этому ужасу»; возникали уродливые обои восьмидесятых, несущие на себе отпечаток душевного убожества «эпохи застоя»… В девяностые последние жильцы дома налепили на стены что попало, и в этом тоже ощущался определенный стиль: клей был жидкий, обои шли пузырями. От них избавились легко и в первую очередь.
Уничтожив до последнего клочка все следы своих предшественников, Петр Иванович собственноручно наклеил на абсолютно голые стены самым прочным из всех клеев очень дорогие обои. Чудовищно дорогие. Они имитировали те шелка, которыми были затянуты покои изощренных дам восемнадцатого века: нежно-палевые, с китайскими птичками и маленькими розочками.
Затем Петр Иванович заказал картину. У настоящего художника. Это было частью его плана. Картина должна быть подлинной, нарисованной на настоящем холсте настоящими масляными красками.
Для осуществления своей идеи Петр Иванович отправился на Невский, где тучи художников с голодными лицами выкликали клиентов предложением написать портрет.
Петр Иванович обошел их всех и наконец остановился возле тучного человека, чрезвычайно мрачного. Он сидел на складном табурете и с отвращением перерисовывал с фотографии лицо Мерилин Монро. Его пальцы были испачканы углем.
Когда тень Петра Ивановича упала на художника, тот некоторое время не обращал внимания на любопытствующего. Многие подходят и глазеют на чужую работу. Но тень оказалась настойчивой и не уходила. Тогда художник поднял голову и встретился взглядом с блестящими глазками тролля.
— Это копия? — осведомился тролль, указывая на рисунок.
Художник пошевелил измазанными углем пальцами и сказал:
— Да, это копия.
— Ты умеешь делать копии? — продолжил расспросы тролль, теперь уже с нажимом в голосе.
Художник сказал:
— Очевидно.
— Мне не очевидно, — возразил тролль. — У тебя есть Елизавета Петровна?
Художник медленно встал. Он был почти с Петра Ивановича ростом. Его толстое, похожее на подушку лицо затвердело, челюсть угрожающе зашевелилась. Художник осведомился тихим голосом:
— Вы больной?
— Я клиент, — объяснил Петр Иванович важно. — Спасибо, что спросил. Мое здоровье отменно. А твое? Я не люблю больных.
Художник помолчал немного, потом опять уселся на свой складной стульчик, как будто надеясь, что назойливый и странный человек сейчас исчезнет.
— Так есть Елизавета? — повторил Петр Иванович, нависая над ним. — Петровна?
— Царица, что ли? — догадался художник.
— А что, бывает другая? — поразился Петр Иванович.
Художник опять поднял голову и долго-долго рассматривал своего странного собеседника. Что-то в его облике настораживало художника. Какая-то особенная неправильность в пропорциях лица. Такое строение черепа просто невозможно, думал он, у него должны быть лишние лицевые кости, а так не бывает… Но без лишних костей не было бы этих выступающих углами скул. Нечеловеческая физиономия. Но только если анализировать. Если просто смотреть, мельком, — то ничего особенного, просто некрасивый.
— Простите, как вас зовут? — спросил художник.
— Петр Иванович, — с готовностью ответил тролль.
— Так вот, Петр Иванович, если у вас когда-нибудь родится дочь и вы решите дать ей имя Елизавета, то ее будут звать Елизавета Петровна.
— Правда? — Похоже, мысль об этом никогда прежде не посещала Петра Ивановича. Он просиял, когда до него дошел смысл изреченного художником. — Правда? Вы не представляете себе! — Он схватил художника за плечи и сильно тряхнул. — Голубчик! Она — мой кумир! Понимаете? Кумир! И тут — дочь… — Он замотал головой и сильно зажмурился. — Но пока — не дочь. Пока что мне нужен портрет. Так у вас есть Елизавета Петровна?
— Вам нужна живописная копия портрета императрицы Елизаветы Петровны? — уточнил художник. Как только взбалмошный собеседник высказал наконец свое реальное пожелание, художник совершенно успокоился. — Я поищу. В старых «Огоньках» наверняка что-нибудь да найдется. Вам в каком возрасте? Молодую, наверное?
— Нет, не из журнала, нет, — забеспокоился клиент. — Поезжайте в музей.
— Хорошо, — сказал художник. — Так какой вам именно портрет?
— Самый красивый.
— Понятно.
Петр Иванович сунул ему в руку газетный сверток. Художник удивленно ощупал сверток пальцами.
— Это деньги?
— Да. Да. Поезжайте сейчас. Здесь на дорогу и на билет. Я знаю цены.
— Мне еще потребуется на холст и краски, — предупредил художник.
— Здесь миллион рублей. Этого хватит.
Художник молча закрыл глаза. Он ощутил — только на миг, но все же — желание поцеловать руку дающего и назвать его своим сюзереном. Потом ему просто стало тепло. «Черт побери, — подумал он, — это волшебно».
— Это волшебно, я знаю, — сказал Петр Иванович. Очевидно, он прочел мысли художника. — Я был в вашем положении. Хотя без таланта. Деньги. Сделайте мне Елизавету Петровну.
Художник уже пришел в себя.
— За миллион я вам сделаю не только Елизавету, но и всех ее фрейлин и подружек, — заверил он полушутя. Ему хотелось поскорее забыть то странное мгновение.
Но тролль уверенно, как бы сознавая свое право сюзерена, положил свою тяжеленную руку ему на плечо.
— Не надо всех фрейлин, — сказал Петр Иванович. — Не надо всех подружек. Только Елизавета Петровна.
— Хорошо, — смирился художник. — Только Елизавета.
* * *
В те лихорадочные годы Петр Иванович почти не вспоминал ни о своей сестре, ни о своих снах, ни о том слове, которое было ему подарено. Слово «Антигона» означало мечтательный зов далекой родственной крови. Елизавета Петровна — дщерь Петрова с пышной розой меж пышных грудей, с ярким круглым румянцем на наливных щеках, с дерзкими глазами и птичкой в прическе — означала здешний мир, чужой, но доступный. У подменыша не может быть родины — это Петр Иванович усвоил уже давно, — но никто не запрещает ему предаваться обожанию. Елизавета Петровна как раз и воплощала в себе все то, что он обожал.
Ее портрет висел в комнате на широкой синей, разрисованной голопопыми амурами ленте, купленной в магазине «все для новорожденных».
— Главное, Михля, — избегать курятины, — сказал Петр Иванович, когда они с другом отмечали новоселье. — Тролль-мутант еще хуже, чем «новый русский». Нет данных. А я все-таки эмигрант.
— Ты подменыш. Это совсем не то же самое, что эмигрант, — возразил Михля. Он выпил немножко водочки и очень раскраснелся.
Петр Иванович обхватил его своей лапищей и удушающе прижал к себе.
— Еще пара лет удачной охоты — и у нас будет все, что мы хотим.
— А что мы хотим? — пискнул Михля.
Петр Иванович выпустил его из объятий и удивленно заморгал, крепко вжимая ресницы в щеку.
— Обувной магазин! Что же еще?
— Обувной?.. — Михля быстро проглотил еще один стопарик водки.
— Ты разве не хочешь?
— Н-не знаю…
— Зато я знаю, — с облегчением захохотал Петр Иванович. — Эх ты… Михля!
* * *
Постижение сущности обуви приходит к троллю в период полового созревания, поэтому для каждого тролля в стремлении обладать обувью заключается нечто от сексуального влечения.
— Вот чего я совершенно не понимаю и, наверное, никогда не пойму, — признал Михля, когда Петр Иванович поделился с ним этим откровением о себе и своем народе.
— Например? — Петр Иванович пошевелил бровями. — Например, чего ты не понимаешь конкретно?
— Сексуальное влечение, — расхрабрился Михля и тотчас покраснел, хотя у него, разумеется, уже бывали разные отношения с женщинами, — это такая штука… Определенная.
— Обувь, — сказал Петр Иванович, — еще более определенная штука.
— Я хочу сказать, что влечение — оно всегда к определенной женщине, даже если ты с ней не знаком. Даже если это Мерилин Монро, понимаешь? Это невозможно и в то же время совершенно реально.
— Нет ничего, что противоречило бы обуви, — отрезал Петр Иванович. — Ты думаешь о женщине и тут же думаешь об обуви. Одновременно. Это как запах любовницы, когда она в соседней комнате. Все очень реально.
Михля, как всегда, утонул в рассуждениях приятеля и просто покорно кивнул.
Некоторое время Михля не без напряжения размышлял об обуви, а потом просиял лицом при мысли о том, что и ему довелось сделать открытие, пусть даже худосочное, касающееся не «обуви-женщин» вообще, а его, Михли, в малой частности.
— Мне кажется, — произнес Михля, — я только что открыл, в чем главная разница между мной и тобой.
— Говори! — потребовал Петр Иванович. Было очевидно, что его это тоже взволновало.
— Я всегда относился к обуви как к врагу, — сказал Михля. — Я ненавидел обувь с самого детства. Я видел в ней источник множества бед. Она всегда подводила меня. Она то промокала и служила причиной простуды, то рвалась. Сколько раз у меня в самый неподходящий момент отлетала подметка!
— Не существует подходящего момента для отлетания подметки, — заметил Петр Иванович философски. — Но ты прав: когда случается так, это чрезвычайная гнусность. — Он нахмурился.
Михля продолжал:
— Вечно приходилось тратить на обувь то, что было отложено на какие-то другие, более интересные вещи… Более интересные для меня, — пояснил он торопливо. — И не было еще ни одной пары, которая бы мне по-настоящему нравилась. Я всегда покупал то, что подходило по размеру.
— Почему? — удивился Петр Иванович. — Это нереально!
— Реально, — вздохнул Михля. — Я стесняюсь разуваться при посторонних. Знаешь, некоторые женщины стесняются есть при посторонних, а я — снимать обувь.
Не говоря ни слова, Петр Иванович схватил Михлю за ногу. Это произошло так внезапно, что Михля опрокинулся назад и едва не упал, стукнувшись затылком. Петр Иванович поймал его в последний момент.
— Что ты де… — задохнулся Михля.
Петр Иванович сдернул ботинок с его ноги и некоторое время созерцал Михлину ступню в носке. Потом отпустил его и сунул ботинок ему в руку.
— Обувайся. У тебя не безобразные ноги. Бывает — кривой мизинец или шишечка у большого пальца. Но у тебя — обычные. И плоскостопия нет. Или есть? — Он с подозрением прищурился.
Михля, красный, с растрепанными желто-морковными волосами, молча натянул ботинок. Он разозлился.
Петр Иванович сказал примирительно:
— Мы ведь друзья.
— Ты не должен был так делать, — пробормотал Михля.
— Я тролль, — важно произнес Петр Иванович, — я мог так делать.
— А мой друг — не мог!
— «Тролль» — «друг». «Тролль» — важнее, — сказал Петр Иванович.
— А я думал, что «друг» важнее, — с горечью отозвался Михля.
Петр Иванович сказал, пропустив последнюю реплику приятеля мимо ушей:
— Будет небольшой магазин. Витрина должна отпугивать.
Михля молчал. Он не желал продолжать разговор, потому что обида еще не покинула его сердца, но уходить тоже не решался: слишком многое связывало его с Петром Ивановичем, чтобы можно было рискнуть его дружбой и пойти на ссору. И потом, неизвестно, какой у троллей кодекс дружбы-ссоры. Может быть, после первой же размолвки всякие отношения между бывшими друзьями прекращаются навсегда. Если судить по сказкам, характер у троллей раздражительный и их отличает злопамятность.
Поэтому Михля безмолвно внимал речам Петра Ивановича. Он ждал.
— Если не отпугивать, они будут входить и трогать. Исключено.
— Мы не можем до конца жизни заниматься охотой на автомобили, — сказал Михля, не выдержав.
Петр Иванович блеснул глазами.
— Конечно нет! Мы будем заниматься большими поставками. Оптовая торговля. Я изучил. Скоро будет реально. Но единичные пары — нет. Единичные будут только у меня, в магазине.
— Зачем такой магазин, в котором нет оборота?
— Ты плохо слушал! — Петр Иванович набрал полную грудь воздуха, подержал себя в надутом состоянии, потом медленно выпустил пар через ноздри. — Еще раз слушай. Деньги — через большие партии. Я не увижу того, что в коробках. А магазин — для души. Малая часть, но лучшая. Понял?
Михля кивнул.
— Бизнес реален, — сказал Петр Иванович. — Обувь — не враг, обувь — возлюбленная. Она пахнет. Она имеет ощупь. Ею надо обладать. Без корысти, просто из страсти. Если она мала, или велика, или жмет, или натирает — это надо терпеть. Она определяет твой характер, твое настроение, весь твой день, твою походку, она задает тебе ритм дыхания. Ты не тролль, но ты поймешь.
— Интересно, как это я пойму, если я даже не тролль? — вконец разобиделся Михля.
— Ты — человек, — с хитрым видом проговорил Петр Иванович. — Для тебя «друг» важнее.
* * *
С некоторых пор Михля всерьез тревожил Петра Ивановича. Тролль часами бродил по своей квартире, повторял слово «Антигона» и, вслушиваясь в его гудение, думал о своем приятеле. В звучании этих мыслей ощущался нехороший диссонанс с мощным и ровным звуком имени сестры.
Какое-то время Петр Иванович пытался уговаривать себя. Считать, что этот диссонанс — признак его скорой и вполне благополучной разлуки с Михлей. Тролли наверняка уже завладели тем, к чему стремились, — потомством от похищенного человеческого отпрыска, — так что теперь ничто не препятствует им избавиться от чужака и призвать своего потерянного собрата на его законное место в сообществе троллей.
Или Михля женится.
Вот и все.
Но в глубине души Петр Иванович знал, что этого никогда не случится. Тролли не выпускают добычу. Не в их характере.
А имя «Антигона» гудело все сильнее и настойчивее, и в нем совершенно терялось представление о Михле. И означать все это могло лишь одно: скоро Михли не станет вовсе.
Дурные предчувствия охватывали Петра Ивановича все сильнее. Михля выпадал из континуума. Все эти годы Петр Иванович был слишком беспечен. Небытие успело подобраться к Михле слишком близко.
«Антигона, — бормотал Петр Иванович, перемещаясь из комнаты в прихожую, а оттуда — в кухню и ванную, — Антигона. Антигона».
Он уже начал собирать свою коллекцию обуви. В спальне стояла коробка, где в постельке из шелковой бумаги покоилась пара ботинок из натуральной кожи, со стельками тонкими, точно лепестки. Петр Иванович благоговейно взял в руки ботинок, поднес к носу и, зажмурившись, втянул в себя терпкий запах.
— Антигона, — прошептал он, ощущая невероятную близость сестры. Он даже как будто увидел ее въяве, в черных кожаных одеждах с длинными разрезами, с дикими раскосыми глазами, пьяными от чарующих запахов. Он подумал о том, как шевелятся ее ноздри, как поблескивает ее смуглая кожа.
— Брат, — издалека проговорила Антигона, и внезапно отвратительный запах гари заполнил комнату. На мгновение Петру Ивановичу почудилось, что загорелись ботинки у него в руках, но это оказалось не так: ботинки, по-прежнему холеные и прохладные, с достоинством покоились — один в коробке, другой — в ладонях тролля.
Петр Иванович сильно моргнул, надавив веками на глазное яблоко, и мир вокруг него раздвоился: первое зрение наблюдало комнату, обои в цветочек, портрет Елизаветы Петровны в широкой раме, а второе уплывало на грань миров. В мутной дымке Петр Иванович различал чьи-то лохматые, вздутые пузырем рукава, затем — гневные глаза, полные черного света, и, наконец, растопыренные пальцы, указывающие куда-то в сторону.
Он послушно глянул вторым зрением в том направлении, куда смотрели длинные серые ногти, и увидел клубы дыма. Неожиданно его поразило сходство дыма и тех рукавов, в которых обитали руки его первоначального видения; затем эти мысли отступили, будучи неуместными, и Петр Иванович закрыл глаза, добровольно отказываясь от всякого зрения, и от первого, и от второго. Чуть-чуть он простоял в полной темноте, а потом громко, с протяжным стоном позвал:
— Антигона!
Сейчас имя сестры звучало как смерть: оно вообще не имело никакого отношения к миру, где находился ее брат.
Петр Иванович взвыл и бросился в ванную. Он плеснул холодной воды себе в лицо, затем накинул на плечи плащ и выскочил из квартиры.
Михля обитал в доме, расположенном через две улицы от Большой Посадской. Он жил в большой, неудобной, темной комнате в гигантской квартире. Кроме него там обитали еще четверо соседей, и все четверо пили горькую. В основном они были тихими алкоголиками и не слишком досаждали Михле.
Едва лишь Петр Иванович покинул пределы Большой Посадской, как запах дыма бросился к нему навстречу, точно забытый родственник после долгой разлуки.
Петр Иванович побежал.
Большая красная машина уже перегораживала улицу, и люди в комбинезонах, с твердо перепоясанными талиями, разматывали шланг. Несколько зевак стояли на тротуаре. Им было скучно, но, очевидно, где-нибудь в другом месте было еще скучнее, вот они и оставались здесь, возле пожара.
А из окон Михлиной квартиры рваными шарфами выползал черный дым. Чуть поодаль от дома он становился белым и непостижимо заканчивался. Одно из окон лопнуло. Черные стекла посыпались на асфальт.
Двое пожарных глянули на окна, потом мельком обернулись на прохожих, но, увидев, что те не пострадали и даже не дрогнули, с полным равнодушием отвернулись от них.
Поползла длинная лестница. Из подъезда выходили люди — те немногие, кого пожар застал дома. Большинство сейчас находились в офисах или на иных промыслах.
Петр Иванович обошел пожарных, слишком занятых своей работой, и приблизился к подъезду. Несколько секунд он медлил, тревожно втягивая в себя воздух. Что-то было в этом воздухе не так. Не удушливая вонь, не отчаянный лай собаки, запертой в квартире двумя этажами ниже, не чьи-то торопливые шаги на лестнице.
В этом воздухе Петр Иванович больше не слышал дыхания Михли.
* * *
Перепрыгивая через ступеньки, Петр Иванович мчался наверх, на пятый этаж, навстречу пожару и неизбежной беде. Он выкрикивал: «Антигона!» Он ощущал себя каменным, как никогда. Он был троллем.
— Хо-хо! — рычал Петр Иванович. — Антигона!
На четвертом этаже дверь одной из квартир приоткрылась, и оттуда высунулась ветхая старушка. Она подслеповато моргнула в темноту голубыми глазками.
— Бегают, хулиганют, — сказала она шелестящим голосом, хрупким, как сгоревшая бумага. — Опять газеты в подъезде жгут. Хулиганы.
— Антигона! — заорал Петр Иванович, проскакивая мимо.
— Ой! — сказала старушка и быстро захлопнула дверь. Своим нечеловеческим слухом, до крайности обострившимся в минуты опасности, Петр Иванович улавливал, как она шебуршится у самой двери, пытаясь в дверной глазок рассмотреть происходящее на лестнице.
Петр Иванович выбил дверь Михлиной коммуналки в тот самый момент, когда лестница пожарных доросла до окна и, сопровождаемая радостным звоном стекол, влезла в квартиру с другой стороны.
Петр Иванович побежал по коридору.
Здесь все было объято пламенем. В ярком оранжевом огне корчились толстые шубы, десятками лет обитавшие на вешалках. Шкуры, из которых пошили эти шубы, были так стары, что за долгие годы на них опять наросло мясо, и они на глазах у Петра Ивановича возвращались к своему первобытному состоянию.
Из пламени вырывались огненные белки со странно искаженными мордочками и распушенными хвостами, над ними летели, растопырив чрезмерные уши, инфернальные кролики, припадала к паркету и стелилась под ноги чернобурая лисица со слепыми стеклянными глазами…
Огненное звериное воинство захватывало все большее пространство, оно бросалось на закрытые двери, проникало сквозь щели, царапало когтями стены и жадно лизало обои и вещи.
Две рыжие собаки накинулись на Петра Ивановича в самой гуще пламени. Тролль пошире расставил свои каменные ноги и гулко захохотал:
— Кыш, глупые твари!
Он пнул одну из собак. Та с визгом отлетела к стене, стукнулась спиной и рассыпалась на множество длинных искр. Вторая между тем впилась Петру Ивановичу в лодыжку, но зубы ее, наткнувшись на камень, хрустнули, и собака опрокинулась набок, тряся лапами.
Петр Иванович наступил ей на шею, и она покорно закрыла глаза. Огонь охватил тролля с головы до ног. Собака растворилась в оранжевом сиянии.
Петр Иванович как следует приложился плечом и высадил дверь Михлиной комнаты.
Михля лежал на вытертом ковре посреди комнаты. Со всех сторон он был окружен огнем. Пылали занавески на окнах, горел стол, стоявший возле окна, и обои по всей комнате. Вся мебель с громким треском предавалась запретному сексу с ликующим любовником — пожаром. Вещи вели себя так, словно всю жизнь только и мечтали, что очутиться в смертоносных объятиях пламени.
Петр Иванович схватил Михлю. Одежда на бесчувственном человеке была горячей, она дымилась и другому человеку прогрызла бы ладони.
В соседней комнате уже шипели струи воды из пожарного шланга. Оттуда мощно тянуло вонючим кипятком. Приглушенно доносились голоса, бухали сапоги.
С Михлей на руках Петр Иванович выбежал в коридор. Огненные звери уже обуглились и умирали. Они бессильно клацали зубами ему вслед и скребли слабеющими когтями паркет.
Петр Иванович выскочил из квартиры и поскакал вниз. На третьем этаже почему-то сохранялся парадный ход, хотя на всех остальных этажах его давным-давно заколотили, оставив только «черный», выводящий во двор.
Остаток пути Петр Иванович проделал по широкой лестнице и выбрался на улицу с другой стороны дома, так что ни пожарные, ни зеваки его не видели.
Он уложил Михлю прямо на клумбу и вызвал «скорую».
* * *
После спасения из пожара Михля временно облысел. Его густые рыжие кудри обгорели и истончились, так что при первом же прикосновении они просто рассыпались невесомым прахом. Очевидно, Петр Иванович, увлеченный своей битвой с огненными зверями, просто не заметил, как у друга загорелась голова. Немудрено, утешал себя Петр Иванович, ведь Михля такой оранжевый.
Пострадал он не столько от ожогов, сколько от углекислого газа.
— Ему очень повезло, — сказал врач, закончив осмотр Михли и устремляя на Петра Ивановича холодные глаза. — Остальные соседи сгорели заживо.
— Все? — удивился Петр Иванович.
— Те, что были дома. — Врач кивнул на четыре тела, лежавшие на соседних носилках. — Один умер уже при нас. Остановка сердца.
Он не сводил с Петра Ивановича взгляда, как будто обвинял его в чем-то.
— Вы вовремя вытащили его, — добавил врач. — Еще немного, и изменения стали бы необратимыми. А сами вы не пострадали?
— Нет, — сказал Петр Иванович.
— Может быть, стоит все-таки осмотреть вас?
— Мы не в Америке, где каждую царапину зашивают под общим наркозом! — огрызнулся Петр Иванович. — Не надо тратить на меня время.
— И все-таки это удивительно, что вы не пострадали, — сказал врач, пока Михлю грузили в машину «скорой».
— Вы мне не верите? — Петр Иванович сорвал с себя почерневший, изгрызенный огнем пиджак и остался в грязной, закопченной рубашке.
Врач поморщился:
— Без истерик. Не пострадали — и хорошо.
— Я каменный, — сказал Петр Иванович, со злостью глядя вслед уезжающей «скорой». — Понял ты? Я каменный.
Он топнул несколько раз по своему испорченному пиджаку и в одной рубашке отправился домой. Его ботинки дымились при каждом соприкосновении с мостовой.
* * *
Новая квартира для Михли находилась в Купчино. Цены на жилье возросли, так что накопленных денег на уютную норку в центре города уже не хватило. Но Михля был страшно рад и купчинским хоромам. Две комнаты, и потолки по-московски низенькие, нависающие.
— Удивительно, — сказал наконец Михля. — Значит, у меня имелся собственный счет в банке?
— На самом деле это был мой счет, — уточнил Петр Иванович. — Но для тебя. Да.
— Почему? Почему твой?
— Потому что ты бы все потратил.
Михля вздохнул. Он теперь дышал с особенным ощущением, каждый раз воспринимая чистый воздух в своих легких как некое избавление, как чудо.
— Для тебя «человек» важнее, — прибавил Петр Иванович.
Михля не без удивления понял, что тот давний разговор о дружбе до сих пор не дает Петру Ивановичу покоя.
Он хотел было сказать своему приятелю, что каждый имеет полное право оставаться собой и идти собственным путем, как диктует ему раса и воспитание. Но не успел.
Петр Иванович взял его за руку и торжественно провозгласил:
— Если бы «тролль» не было главным, ты бы сгорел.
Михля кивнул.
— Я же не спорю. Если бы «тролль» не было главным, ты бы давно отдал мне мои деньги.
— И ты бы их потратил.
— И я бы их потратил.
— И был бы сейчас без дома. В бараке для погорельцев.
— Это ужасно. — Михля вдруг понял, что никогда не верил в подобную возможность, а ведь она так же реальна, как и любая другая, включая мировую войну. От этой мысли у него мороз прошел по позвоночнику.
— Мебель потом, — прибавил Петр Иванович. — Я потратил остаток твоих денег.
— Да? — ревниво удивился Михля.
— Я оформил витрину.
Михля еще немного повздыхал, а потом признался:
— Тебе, как всегда, видней… Витрина, наверное, важнее, чем мебель. Я и на полу могу пока поспать.
— Да, — кивнул Петр Иванович, явно обрадованный. — Витрина важнее. Они из серебра.
— Кто? — Михля, как обычно, не улавливал последовательности в рассуждениях приятеля, и это его странным образом успокаивало. Всегда на душе становится тепло и уютно, когда обнаруживаешь вещи, неизменные от начала времен. Такие, как разведенный на привале костер, глоток воды в жаркий день или скачущую логику тролля.
— Ты понял! — восхитился тролль. — Они — «кто», а не «что». У них есть душа. У всякой хорошей обуви есть душа, а эти… — Он задохнулся от восторга и, чтобы прийти в себя, несколько раз быстро произнес: «Антигона, Антигона, Антигона!» Затем, когда все ритмы выровнялись, тролль продолжил: — Я заказал башмачки из чистого серебра. У ювелира. Очень дорого, но!.. — Он поднял палец. — Это абсолютно.
— Что абсолютно? — Михля смутился (ему польстило, что тролль восхитился его мнимой догадливостью, и он не хотел разрушать этого впечатления). — То есть кто абсолютен?
— Их красота абсолютна, — ответил Петр Иванович. — Это туфельки. Для женской ножки. — Он облизнулся, обтирая языком капли пота, выступившие на переносице. — Для узкой, стройной ножки. Для недоступной, капризной ножки. Каблучок… — Он показал пальцами нечто очень, с его точки зрения, хорошенькое, и брови его умиленно задрожали над глазами.
— Ты хочешь сказать, что эти… сабо из серебра можно носить, как самые обычные туфли? — поразился Михля.
Петр Иванович торжественно кивнул.
— Очень удобная колодка. Я проверял.
— Ты мерил их на свою ногу?
— Нет, на руку. Тролль может рукой определить, будет ли удобно ноге.
— Это такой троллиный секрет?
— Это вообще не секрет, потому что все об этом знают, — заявил Петр Иванович. — Более того, — прибавил он заговорщическим хриплым шепотом, так что Михля поневоле придвинулся ухом к его губам, — некоторые люди это тоже умеют.
Михля недоверчиво посмотрел на приятеля.
— Ты редко шутишь!
— Я вообще не шучу, — Петр Иванович дернул плечом, — я каменный.
Михля провел ладонью по голой голове. Он обрился и теперь на ощупь воспринимал свой череп как замшевый.
— Ты всегда был каменным?
— А что?
— Я просто подумал… — После больницы у Михли действительно появилась склонность анализировать некоторые вещи, прежде представлявшиеся ему очевидными. — Я подумал, что тебя, наверное, в детском доме осматривали. Ну, врачи. Детей всегда осматривают врачи.
— Всегда?
— Это обычай. Постоянно что-то щупают, берут на анализ то кровь, то что-нибудь похуже, взвешивают, измеряют, изводят горы бумаги. Детство — это ужасное время, — сказал Михля. — Это время, когда ты постоянно считаешься больным и только тем и занят, что либо делаешь уроки, либо сидишь в очереди к врачу в поликлинике.
— Надо же, — сказал Петр Иванович и вдруг заплакал.
Михля испугался:
— Что с тобой?
— Я не знаю, — сказал Петр Иванович и, длинно всхлипнув, замолчал. Потом он шумно высморкался в газету, бросил ее, скомкав, в угол и объяснил: — Я понятия не имею, каким бывает детство у троллей. А когда я думаю о детстве Антигоны, у меня сердце падает в желудок и там растворяется.
— Сильное чувство, — согласился Михля.
— В детском доме я не был каменным, — признался Петр Иванович. — Был мягонький, как рукавичка. Любую кишку можно было пальцем нащупать. Только не говори никому, — предупредил он, отводя глаза.
— Да никто и не спросит, — заверил Михля. — Кому это интересно?
— Возможно, тролли в детстве вообще не сразу каменные, — прибавил Петр Иванович задумчиво. — Меня занимал вопрос. Долго занимал. Но я никого не спросил. Ты понимаешь! Невозможно.
— Да, — сказал Михля. — Тяжко тебе пришлось в детстве. Один из своей расы среди чужих ребятишек.
— Но я все же был тверже их всех, — сообщил Петр Иванович не без гордости и покивал каким-то своим далеким воспоминаниям.
Воспоминания выступили из густой дымки настоящего и радостно закивали Петру Ивановичу в ответ, замахали руками, заплясали на месте: мы тут, мы никуда не исчезли!
Петр Иванович отослал их обратно, в ясные дали минувшего, и вернулся к своей прежней мысли:
— Или, гипотетично, только те тролли в детстве не вполне каменные, которые предназначены для обмена. По этому признаку мать и узнает подменыша. Трагично! Антигона, наверное, родилась каменной, и мать смеялась от радости. А я родился мягким, и она плакала. — Он свирепо шмыгнул носом. — Но потом я тоже стал каменный. Все устроено мудро и правильно, не только для людей, но и для троллей.
— Наверное, все вышло полностью по-дурацки только с динозаврами, — вставил Михля. — А с людьми и троллями полный порядок.
Михля как раз недавно посмотрел по погибшему телевизору документальный фильм про вымирание динозавров. Ученые мужи обсуждали резкое изменение климата и неспособность ящеров к адаптации. Из просмотренного и услышанного Михля твердо усвоил, что динозавры были созданы значительно халтурнее, чем люди, и что глобальное потепление не в силах убить человека с той же легкостью, с какой глобальное похолодание расправилось с трицератопсами.
— Я стал каменный потом, — гнул свое Петр Иванович. — Когда опасность врачей миновала. Понимаешь?
— Это ты точно подметил, — кивнул Михля. И быстро сменил тему: — Плохо, что холодильника нет. Без холодильника я вымру. Ты ведь понимаешь — глобальное потепление…
— Питайся пока альтернативно, — распорядился Петр Иванович. — Ты не динозавр. Сухофрукты, крупа, суп в пакете. Умные люди изобрели.
— Холодильник очень нужен, — настаивал Михля. Он подозревал, что у Петра Ивановича еще остались деньги, просто тролль по неизвестной причине жмотится. — Его тоже умные люди изобрели.
— Холодильник потом, — строго произнес Петр Иванович. — Пока — засушенные. Макароны, молоко в порошке.
— Это не полезно для здоровья, — сказал Михля.
— Сгореть заживо — не полезно, — сказал Петр Иванович. — Спорить с троллем — не полезно. Сухофрукты — полезно. Я привез тебе. Много. Долго не погибнешь.
И он кивнул на туго набитый рюкзак, лежавший в прихожей.
Михля похолодел. Судя по количеству подготовленных Петром Ивановичем припасов, существовать без холодильника Михле предстояло очень долго.
* * *
К ноябрю Петр Иванович обзавелся шубой, и это определило для него весь характер наступившей зимы.
Он много размышлял над тем, что каждый год и каждый сезон внутри каждого года могут обладать собственным привкусом. Этой теме он отдал несколько напряженных дней жизни, которые провел безвылазно в магазине, устремив неподвижный взор на серебряные башмачки.
Взор тролля был таким интенсивным, что серебряные башмачки начали звенеть, сперва тихо, потом все громче: они резонировали. Услыхав этот звук, Петр Иванович ощутил первый в своей жизни прилив бешеного восторга. Он по-настоящему осознал, что является истинным троллем, без дураков, и что ему теперь доступно абсолютно все, на что вообще способны тролли как таковые.
Огромная волна счастья пришла, как цунами, из другой реальности и была так же осязаема, как имя Антигоны или два куска серебра, преобразованных в башмачки.
Существуют люди, которые дают женские имена ураганам: Алиса, Бетси, Грэйс, Джой, Ирма, Камилла, Люсиль, Катрина. Каждое из этих имен прекрасно. Каждое обладает собственным вкусом, который ложится на язык и пикантно его пощипывает, начиная с самого кончика.
В наименовании ураганов заключено глубинное понимание женской природы: самое хрупкое может оказаться самым сокрушительным из возможного на земле, и это — оборотная сторона того, что есть женщина.
Не без удивления, путем сопоставления женщины и урагана, Петр Иванович вывел их экзистенциальное сходство, а затем пришел к закономерному итогу: природа любой женщины несет в себе элемент троллиного, и притом гораздо в большей степени, чем принято считать. И уж конечно, любая женщина неизбежно будет ближе к троллю, нежели к мужчине-человеку.
Взять, например, проблему обуви. Женщины способны страдать из-за обуви. Это заложено в их природе, как и ураганы.
Сейчас, впрочем, многое попортил унисекс. Если существовало на земле нечто, что Петр Иванович ненавидел всеми силами своей нечеловеческой души, так это так называемые кроссовки и их производные. Нога погружается в них, как в могилу, и перестает быть личностью, перестает быть Ногой в высшем понимании слова: хрупкой женской ножкой, которую не сокрушить никаким шпилькам, изящной и сильной мужской ступней, закованной в ботинок, как в сверкающий доспех.
От ураганов и каблуков Петр Иванович перенесся мыслями к сезонным изменениям погоды и остановился на идее давать каждой зиме новое женское имя.
Потому что существуют влюбленности весенние, такие же эфемерные, как юность или цветение черемухи, и существует зимняя страсть, тяжелая, как лед, таинственная, как снегопад, сладкая, как разогретое вино в непогоду. Ради весенних увлечений нет смысла поименовывать весны — это все равно что составлять генеалогическое древо бабочек (проще пришпиливать их к коре — так, по крайней мере, будет наглядно); но зимняя страсть нуждается в имени и гербе, ибо зима сама по себе обладает щитом.
Эта мысль разволновала Петра Ивановича. Он принялся расхаживать по магазину взад и вперед, водя кончиками пальцев по бесценным образцам.
Движение внутри магазина было замечено кем-то с улицы. Обычно прохожие лишь скользили глазами по странной витрине и с полным равнодушием проходили мимо, но тут Петр Иванович своими хождениями привлек чье-то внимание, и дверь в магазин внезапно открылась.
Вторжение в святая святых и полный разгром стройного течения мыслей потрясли Петра Ивановича. Всем своим могучим телом он развернулся навстречу дерзкому пришельцу.
— Что?! — рявкнул Петр Иванович.
— У вас ведь открыто? — произнесли с порога полувопросительно-полуутвердительно.
— Закрыто! — заорал Петр Иванович.
— А по-моему, открыто, — уверенным тоном заявил пришелец и вторгся на священную территорию. — Позовите заведующего, если не хотите меня обслужить.
Петр Иванович смерил его взглядом. Перед ним стоял молодой человек лет двадцати, веселый и нахальный. На ногах у него болтались отвратительные кроссовки, или как там это сейчас называется.
— Наглец! — сказал Петр Иванович. — Я — владелец. Что вам нужно?
— Да так, посмотреть, — развязно произнес молодой человек. — А что, нельзя?
— Убирайтесь, — приказал Петр Иванович. Камень внутри него набух, выступил явственно, и на миг перед молодым человеком явился истинный монстр, с комковатым серым лицом, крохотными, пылающими красной злобой глазками, с гигантскими плечами и длиннющими руками.
— Ух ты! — сказал парень. — Гоблинс!
И он рассмеялся.
— Тролль! — возразил Петр Иванович, несколько задетый.
— А как вы это делаете? — полюбопытствовал молодой человек.
— Лучше сразу уйди, ты, унисекс, — посоветовал Петр Иванович.
— Ладно, мужик, чего ты распереживался, — пожал плечами парень и вышел из магазина.
Петр Иванович запер дверь. Ему пришлось приготовить себе чашку кофе с корицей, чтобы вернуться к прежнему состоянию. Но незваный гость уже спугнул его мысли. Теперь они больше не текли приятным потоком, а заскакивали в голову отрывочные, неизвестно откуда и без всякой логики.
Отилия — хорошее имя для зимы, подумал он. Но нынешняя зима еще не наступила, так что невозможно определить заранее, в точности ли подойдет ей это имя. Однако же, с другой стороны, для женщины-тролля оно подходит идеально.
Петр Иванович начал мечтать о зиме Отилии. Какой она окажется? Будет ли впрямь похожей на женщину-тролля?
И вдруг он понял: необходима шуба. Иначе никакой Отилии может и не случиться. Все прошлые зимы оставались безымянными именно потому, что он встречал их кое-как, выражаясь фигурально — спустя рукава.
«Я работал, — попытался оправдаться Петр Иванович. — Я охотился. Разве можно охотиться в хорошей шубе? Охота требует плохой одежды, такой, чтобы не жалко потом выбросить. Эти проклятые машины, — он погрозил кулаком пустоте, — очень портят одежду. Но ни одной пары обуви я не испортил!»
Он закрыл глаза и попытался представить себе будущую шубу. В далеких лесах проснулись и обреченно заметались пушные звери, ощутив на себе тяжесть троллиной мысли. «Скоро», — сказал им тролль.
Сперва нужно было выждать, чтобы закончилось лето.
Это был последний безымянный сезон в жизни Петра Ивановича, и ему не терпелось распрощаться с ним и войти в новую полосу.
* * *
Лето закончилось неожиданно, в одночасье, как это обычно и случается в Петербурге. Один-единственный дождь проложил границу между сезонами, разверз непроходимую пропасть между весельем и грустью.
Дождь этот захватил Петра Ивановича на улице. Тролль остановился, поднял голову и широко разинул рот, чтобы капли попали ему на язык. По их вкусу он многое мог сказать о том мгновении, в котором находился; а ему нравилось чувствовать себя живым, погруженным в конкретный миг пространства-времени.
Капли обожгли его холодом. Они больше не напоминали кипяченую водичку, которой пичкают хворенького, они сделались холодными, крупными, тяжелыми; в них явилось зрелое мужское начало — да только не оплодотворяющее, не семенное, а убийственное, пришедшее уничтожать. Тот невинный и беспощадный, почти детский деструктив, который заложен в природе всех бесплодных мужчин — и тех плодоносных мужчин, которые уже успешно посеяли свое семя везде, куда дотянулись, и теперь могут наконец заняться чем-нибудь интересным, для души.
Тролль догадался о близости новой волны истинного счастья. Его душа созрела для любви, и теперь он торопился приобщиться мужской жестокости.
Петр Иванович далеко высунул язык и принялся ловить все капли, какие только оказывались в пределах досягаемости. О да, сомнений не оставалось: пришел дождь-убийца и холодным мечом проложил дорогу осени.
Он смывал запах летней пыли, жары и дыма горящих за городом торфяников. Он не растворял эти запахи в себе, как делали до него теплые, мягкие летние дожди; он жестоко топтал их, вбивал в землю и уничтожал. За полчаса они были изгнаны из города.
А из раскрытых дверей магазина «Головные уборы» на этот дождь таращились летние шляпки. Десятки выпученных от ужаса глупеньких соломенных глазок наблюдали за тем, как некто разоряет весь их крошечный бесполезный мирок. Подобно бабочкам, они и ведать не ведали о существовании другого, холодного мира за пределами их привычного бытия: они ведь родились весной и весь свой век провели на солнышке. Зима означала для них смерть.
И они умерли.
* * *
В тяжелой шубе, но без головного убора Петр Иванович выкарабкался из такси. Уверенно утаптывая снег, двинулся к дверям театра. Фальшивое сияние тысячи бриллиантов слепило глаза. Сокровищница стояла распахнутой, и это само по себе настораживало тролля: как могут преломленные на свету грани снежинок сверкать так бесстыдно, когда этот свет падает на них от вывески «Фрикадельки»!
«Снежинки не умеют читать, — сказал он себе. — Любой, кто не умеет читать, не будет смущаться надписью, но увидит просто свет».
Эта мысль примирила его с происходящим. Шуба, купленная ради прихода зимы Отилии, была осыпана бриллиантами. Снег лежал в городе по-хозяйски, прочно, уверенно. Когда настанет ему пора уходить, он не начнет плакать или ужасаться; он с достоинством покинет дом, чтобы в свое время вновь занять там законное место. В отличие от бабочек и шляпок, снег никогда не сомневается в собственных правах на Петербург.
Зима Отилия начиналась с праздничных морозов, она наполняла отравленные легкие Михли свежестью, и когда Петр Иванович думал об этом, он и сам обостренно ощущал эту ледяную чистоту.
Шуба была доставлена Петру Ивановичу в середине ноября. Он тщательно обнюхал эту вещь от подола до воротника и несколько дней носил ее по всем комнатам, куда бы ни направлялся, — приручал. Он все еще слышал приглушенное рычание зверей и клацанье их зубов, когда надевал шубу впервые.
А затем он вышел в этой шубе в город. Звери притихли — были напуганы.
«Вот как?» — обрадовался Петр Иванович.
Он понял, как убить в шубе остатки одушевленности. Обуви, с его точки зрения, позволялось обладать чем-то вроде элементов самостоятельной личности и даже обмениваться характеристиками со своим носителем, будь он человеком или троллем; но любая другая одежда обязана подчиняться. Рабски и беспрекословно. Она должна облегать тело или красиво драпироваться, укрывать, согревать, колыхаться на ветру — в зависимости от покроя и назначения. Но в любом случае у одежды не может быть изменчивого настроения и уж тем более — персональных желаний.
Поэтому Петр Иванович принял решение окончательно сломить дух независимости, еще гнездившийся в недрах шубы, и для того взял билеты в театр на балет «Золушка» — этот оказался ближайшим.
Пусть-ка повисит в гардеробе рядом с другими шубами, молчаливыми, сломленными, убитыми, — авось это научит ее уму-разуму! Музыка, совместное порожденье человеческой фантазии и божественного дыхания, есть нечто зверям неведомое, повергающее их во прах.
Потому что звери знают о музыке лишь одно: она — боевой клич. Она — рычанье врага. Совершенно не догадываясь о том, что люди способны улавливать тайное пение небесных сфер и передавать это знание намеком, в своих мелодиях, особенно для флейты и фортепиано, звери с их немой, безмолвной душой, в ужасе бегут от музыки и простираются на земле, уронив голову меж обессиленных лап, в то время как охотники настигают их на летящих конях и наносят удар сверху. Столь убийственна музыка, и всякий зверь рождается с неосознанным знанием этого.
В тролле тоже всегда сохраняется нечто от зверя, малая, но ощутимая частица, и Петр Иванович ясно отдавал себе в этом отчет. Однако он вырос среди людей и считался по паспорту русским, образование среднее, прописан в Петербурге на Большой Посадской улице. Словом, тролль Петр Иванович был вполне респектабельным человеком.
Поэтому он с высоко поднятой головой вошел в театр и как ни в чем не бывало сдал шубу в гардероб, где ей предстояло поучиться уму-разуму, а сам поднялся в ложу бельэтажа и расположился там.
Ему мешало общество других людей. Да и сам Петр Иванович, массивный, не способный подолгу сидеть в неподвижности, изрядно им мешал. В минуты волнения от тролля исходит резкий мускусный запах, и никакие дезодоранты или одеколоны не в состоянии перебить этот дух, ибо он — порожденье сильных эмоций существа более примитивного, нежели человек, и гораздо более мощного.
Петр Иванович выдвинулся к бархатному бортику, поставил на него локти, поднес к глазам смехотворный бинокль и устремил взгляд на сцену.
Сперва балет не слишком его занимал. Рослая балерина с косичками, в некрасивом платье, расхаживала по сцене со шваброй. Это обстоятельство чрезвычайно возмутило Петра Ивановича: что, не могли прибраться до начала представления?
Однако никто из зрителей вроде бы не проявлял недовольства, и Петр Иванович поневоле подавил негодование. В конце концов, хозяину театра видней, когда и как затевать здесь уборку.
Появление причудливо разодетых мачехи и сводных сестер Золушки отчасти примирило Петра Ивановича с происходящим на сцене, и он начал смотреть внимательнее. И тут музыка Прокофьева наконец настигла его.
Дело в том, что первые минут приблизительно пятнадцать Петр Иванович вообще не слышал никакой музыки. Она не успевала дойти до его слуха и бесцельно расточалась в каком-то далеком, недостижимом мире, за гранью здешнего бытия.
В том, что касалось порождений человеческого таланта, восприятие тролля всегда оставалось замедленным. Петр Иванович далеко не сразу вникал в произведения искусства — для этого ему требовалось гораздо больше времени, нежели обыкновенному человеку.
С другой стороны, тролль умел мгновенно реагировать на вещи, которые для человека так и остались бы незамеченными. Словом, в одних случаях тролль превосходил человека, а в других, наоборот, выглядел по сравнению с ним ущербным.
Эта-то характерная особенность Петра Ивановича и обнаружилась, когда он впервые оказался лицом к лицу с живой музыкой, а не с записью. С музыкой, которая не существовала уже заранее, зафиксированная на каком-либо носителе, например на диске, а возникала из ничего прямо в его присутствии.
Тролль прилагал огромные усилия, чтобы поймать то, что рассеивалось по вселенной прежде, чем он успевал ухватить это и вложить в свою память.
Петр Иванович ерзал на кресле, вдавливал бинокль в мясистую переносицу, отчаянно моргал глазами и двигал скулами так сильно, что лицевые кости начали поскрипывать.
А потом он сдался, расслабился, откинулся на бархатную спинку, положил бинокль на колени… и в это самое мгновение музыка внезапно ворвалась в сознание тролля и заполнила его без остатка.
Он вздрогнул, ощущая, как запах мускуса поплыл по всему театру: волны аромата отчетливо были заметны в темном помещении зрительного зала, — синеватые, свивающиеся наподобие китайских драконов, они хватали людей за шеи, проползали по их рукам, стелились под ногами, а затем взлетали к потолку и выплясывали вокруг люстры.
С этим ничего нельзя было поделать. Музыка вошла в троллиное естество как сильнодействующее средство, она в нем пробудила ошеломляющие чувства. Музыка воспринималась острее, чем голод. Под ее влиянием тролль начал отчаянно вожделеть всю вселенную и даже то, что за ее пределами. Ему хотелось взять в ладони нечто нежное и невидимое и подуть на него, чтобы оно затрепетало. Ему хотелось заглянуть в те потаенные миры, что скрываются за зрачками, и утонуть в бездне чужой, неизведанной личности.
Клокотание родилось и умерло в его горле. Хотя бы это он сумел сдержать.
Музыка теперь была повсюду, и каждый камень, таящийся внутри тролля, отзывался неслышной вибрирующей нотой.
Музыка заполняла Петра Ивановича как блаженство. В отличие от человека, он воспринимал ее не эмоционально, а физически, и наслаждение было почти непереносимо.
А затем он увидел хрустальные башмачки.
* * *
Если бы Петр Иванович наткнулся на эти башмачки, будучи в обычном своем состоянии, то есть оставаясь рассудительным, флегматичным существом, то он сумел бы оценить их красоту, изящество замысла, мастерство исполнения. Но и только.
Но сейчас Петр Иванович был тем, что у троллей называется Поющий Камень, — погруженным в состояние экстатическое, почти обморочное. Явление башмачков перед возбужденным троллем оказало на него поистине сокрушительное действие. Петр Иванович впился ногтями в бархатный барьерчик ложи и глухо застонал. Его горло вибрировало, зубы скрежетали.
Балерина в белом и воздушном одеянии медленно проплывала по воздуху над башмачками, и Петр Иванович наконец-то обратил на нее внимание. Пока она оставалась уборщицей в неопрятной одежде и со шваброй, Петру Ивановичу мало было до нее дела, но теперь она выглядела иначе, и он поневоле принялся наблюдать за ней.
Глядя на ее танец, Петр Иванович понял, в чем вообще заключается смысл балерины: женщина на сцене служила воплощением музыки, ее физическим обликом. Люди, очевидно, в своей чудовищной наивности полагают, что балерина всего-навсего «танцует под музыку» и служит своего рода живой иллюстрацией; но они прискорбно заблуждаются, поскольку им не доступен истинный смысл происходящего. То, что творилось с Петром Ивановичем в потаенных глубинах его троллиного естества, балерина с поразительным, детским бесстрашием являла всему миру. «А чего бояться? — подумал Петр Иванович в тот краткий миг, когда к нему вернулась способность рассуждать (она вскорости опять пропала). — Некоторые тайны можно держать у всех на виду, просто потому, что в них все равно никто не верит. Но эта женщина — она знает всё».
Никогда в жизни Петр Иванович не предполагал, что найдется человеческое существо, которое окажется в состоянии так точно выразить самые тонкие и самые сильные движения его души. Ибо душа тролля есть его физическое тело — тот камень, который является стержнем его и основой. Говоря иначе, душа Петра Ивановича была в определенном смысле гораздо более земной и физической, нежели легкое тело танцовщицы.
К концу второго действия Петр Иванович ухитрился взять себя в руки. Во всяком случае, он перестал источать мускус в таких количествах. Он даже овладел собой настолько, чтобы не вонзать когти в обивку кресла. Более того, он начал улавливать сюжет сценического действия. И обрел способность критически оценивать увиденное, а это говорило о недюжинной внутренней работе, проделанной Петром Ивановичем за последние сорок минут.
Все танцовщики восхищали и радовали Петра Ивановича, потому что они были красивы и охотно помогали Золушке исполнять ее партию. Все, даже те, кто по сюжету считался ее недругом, например мачеха.
Однако никто из них не шел ни в какое сравнение с самой Золушкой. Балерина была крупной женщиной. Все в ней приводило Петра Ивановича в восторг: рост, смелая грация движений, но более всего — ее способность к абсолютному пониманию всех его чувств.
В момент объяснения Золушки с принцем сзади Петра Ивановича тихо прошипели:
— Вы не могли бы, по крайней мере, не менять положения? И так из-за вашей спины ничего не видно!
Петр Иванович чуть обернулся к говорившему. В темноте ложи ярко пылали красные глаза тролля и светились бледным светом болотной гнилушки его обнаженные зубы.
Затем Петр Иванович опять повернулся к сцене, и больше уже никто не смел его тревожить. Петр Иванович самозабвенно погрузился в созерцание и слушание.
В последнем эпизоде балерина вышла на сцену босая. Ее нагие ножки как будто жили собственной жизнью: они подбирали пальцы, вытягивались, осторожничали, сгибались и выпрямлялись. Казалось, они разговаривают, и речь их была ясна и выразительна.
А прямо перед Золушкой стояла пара хрустальных башмачков.
И только теперь, когда она разулась, Петр Иванович наметанным глазом сразу определил: эти башмачки балерине катастрофически малы. Не просто малы — они, что называется, и на нос не налезут. «У нее, надо думать, размер сорок второй, — прикидывал Петр Иванович, наслаждаясь изгибом Золушкиной ступни, — а эти фитюльки — тридцать пятый, тридцать шестой максимум. И они еще пишут в программе (он все-таки прочитал „краткое содержание балета“), что только Золушке подошли крохотные хрустальные туфельки, изготовленные по приказанию крестной феи… Если уж по-честному, то они бы налезли только на мачеху и еще на вон ту девицу из кордебалета…»
Мысль о хрустальных башмачках всецело завладела троллем. Это была одна из тех мыслей, которая и по силе, и по объему гораздо больше того, кто с нею столкнулся, так что одолеть ее Петр Иванович даже и не пытался: он сразу узнал, с чем имеет дело, и покорился, погибая.
Когда спектакль закончился, Петр Иванович опрометью кинулся в гардероб, схватил свою присмиревшую шубу и выскочил под снегопад.
* * *
С того дня у Петра Ивановича появилось важное занятие: он думал о босых ножках балерины и о хрустальных башмачках. Он представлял их в воображении: вот длинные пальцы молодой танцовщицы подбираются и вновь выпрямляются, как крохотные стрелы, вот ее ступня изогнулась аркой — как тверда ее пятка, хоть иглы об нее ломай! — и миг спустя она расслабленно опускается возле крохотного башмачка.
Умом Петр Иванович понимал, что для Золушки это позор — ведь зачарованные туфельки, красноречивые свидетели ее триумфа, определенно не придутся ей впору. Но было нечто волнующее в том, что Золушка никогда их не наденет. Ведь пока она боса, остается возможность мечты о ней, остается сводящая с ума неопределенность. Женщина за мгновение до взлета абсолютного счастья: уже наполненная любовью, но еще не потерянная для тебя безвозвратно.
А Золушка обречена балансировать на этой грани вечно, и грань эта слишком тонка и остра, чтобы когда-либо утратить свою смертоносность.
Несколько дней кряду Петр Иванович ходил как пьяный. Все свои мысли он переместил в Золушкины пяточки и в пару башмаков, стоявших на сцене так одиноко, так обреченно!..
В конце концов Михля сумел вломиться в магазин, где погибал от любви его приятель.
— Нужно ответить на несколько звонков, — сообщил Михля. — Ты что тут заперся, как сыч?
Петр Иванович медленно повернул к нему голову и заворчал предостерегающе из полутьмы своего угла.
— Нет, — сказал Михля, — я ведь тебя знаю. Ты должен ответить на несколько звонков, Петр Иванович, потому что это надо для дела.
К Михле протянулась длинная рука. Длинные черные ногти на пальцах отросли и начали загибаться книзу твердыми крюками.
— Список, — хрипло выговорил Петр Иванович.
Михля наколол листок бумаги с логотипом на один из ногтей.
— Четыре звонка, — добавил он. — Номера записаны.
— Без ошибки?
— Пфф! — презрительно фыркнул Михля. — Я же не блондинка, хоть и секретарь.
— Блондинки тоже ошибаются, — непоследовательно произнес Петр Иванович и погрузился в меланхолию.
После долгого молчания (все это время Михля спокойно и терпеливо сидел в кресле посреди магазина и листал каталог) Петр Иванович вновь пошевелился в своем углу.
— Невеста — самый страшный персонаж фильма ужасов, — подал он голос.
В горле у тролля что-то хрипнуло, и он кашлянул.
— А мне монстры нравятся, — сказал Михля, откладывая каталог. — Особенно когда они подкрадываются, а потом вдруг хватают!
Петр Иванович продолжал сипло, то и дело прерываясь, чтобы откашляться:
— Женщина в последние секунды свободы обладает особенной силой. Эта сила нисходит извне. Она капризна, она способна убить любого, кто посягнет на невесту, но иногда она убивает саму невесту — просто из ревности.
— Но ведь бывает же, что невеста бежит из-под венца? — вставил Михля.
Петр Иванович долго смотрел на него из темноты тяжелым, мрачным взором. На Михлю это не произвело впечатления. Он снова уткнулся в каталог.
Наконец Петр Иванович сказал:
— Если невеста убежит из-под венца, она больше никогда не будет истинной невестой. Эта охраняющая сила оставит ее навсегда.
— Понятно, — проговорил Михля.
Петр Иванович подумал вдруг: «А что я, собственно, знаю о Михле? Мне, конечно, известны обстоятельства его жизни, но что я знаю о его личности, о его душе, о его внутренней работе? Кто он такой? Я замкнут в моем эгоизме — это вполне обычно для тролля — и люблю Михлю так, как любил бы хорошую еду или домашнее животное, не интересуясь им самим. Люблю его просто для себя, для того, чтобы было с кем разделить бизнес и эмоции. А вдруг это опасно? Я ведь никогда прежде не заводил друзей и понятия не имею о механизмах человеческой дружбы».
Михля сказал:
— Я познакомлю тебя с ней. Скоро. Она пока стесняется. Она боится богатых людей.
Петр Иванович поперхнулся:
— С кем?
— С моей невестой.
Петр Иванович поднялся и вышел к Михле, на середину магазина. Десятки обожаемых пар обуви поблескивали так, словно и им был известен Михлин секрет и теперь они, не без иронии, сочувствуют Петру Ивановичу, которому все открылось в последний момент.
— С какой невестой? — пробурчал Петр Иванович. — Откуда взялась невеста?
— С Катей. — Михля положил каталог на столик, встал. — Что ты так набычился, Петр Иванович?
— Я не… И ты?.. Но это же… — проскрипел Петр Иванович.
— Сядь. — Михля подставил ему стул. Петр Иванович сел. — Катя — просто девушка. Ей двадцать шесть. Она дизайнер. Она добрая.
Петр Иванович обессиленно свесил руки и принялся ласкать кончиками пальцев гладкий прохладный пол своего магазина. Слишком много переживаний за один раз.
— Но невесту не просто сопровождают сокрушительные силы, — сказал наконец Петр Иванович. — Дело еще в том, что любая невеста может оказаться ведьмой. И это открывается сразу же после свадьбы. Поэтому так страшна невеста.
— Но почему непременно ведьма? — Михля растерянно смотрел на макушку тролля, который свесил голову на грудь, точно раненный стрелою богатырь Дунай Иванович.
— Что означает слово «невеста»? — вопросил Петр Иванович, созерцая свои вытянутые ноги в блестящих благородно-коричневых ботинках сорок седьмого размера.
— А это слово что-то означает, кроме «будущей жены»? — изумился Михля.
Петр Иванович стрельнул в его сторону глазом. Рыжеволосый, с золотой от веснушек кожей, Михля глупо улыбался, и Петр Иванович понял, что его компаньон сейчас абсолютно счастлив и, как следствие, совершенно глух и глуп.
— Слово «невеста», — тщательно выговаривая каждый звук, изрек Петр Иванович, — обозначает «не-ведомая». Все эти страшилки с невестами появились в ту пору, когда человечество, — последнее слово прозвучало с оттенком пренебрежения, — додумалось до экзогамных браков.
Михля пару раз недоумевающе моргнул желтыми ресницами, чем доставил Петру Ивановичу несказанное удовольствие.
— То есть до браков с чужими, — пояснил Петр Иванович. — Чтобы не было кровосмешения. Понял?
— Ну, — сказал Михля. Ему было все равно.
Петр Иванович это понимал и поэтому с особенным наслаждением продолжал:
— Если бы люди продолжали жениться на собственных сестрах, как это зачастую делают тролли, то не возникало бы и страха невесты. А так им поневоле приходится приводить в дом чужого человека. Да еще из чужой семьи, если не из чужого города. Понимаешь? Откуда нам известно, что эта «не-ведомая» — не ведьма?
Михля подумал (а думал он честно, даже покраснел) и сказал:
— Ниоткуда.
— Правильно! — обрадовался Петр Иванович. — Поэтому страшней невесты зверя нет. Фильмы ужасов это ясно показывают.
— И еще фильм «Килл Билл», — добавил Михля, гордый тем, что сумел внести хотя бы малый вклад в ученую беседу.
— Наверное, — буркнул Петр Иванович. И с тоской посмотрел на серебряные башмачки, стоявшие в витрине его магазина.
Михля сел рядом с Петром Ивановичем, взял его за руку и спросил:
— Да что происходит, Петр Иванович?
— Ты женишься, — проворчал он.
— Ты не поэтому такой, — сказал Михля (все-таки он умел быть наблюдательным). — Ты был такой уже, когда я пришел.
Петр Иванович долго молчал. Раздумывал, стоит ли рассказывать Михле обо всем, что произошло в театре. Наконец он выговорил:
— Ну, я сходил в театр.
— Это многое объясняет, — серьезно кивнул Михля.
Петр Иванович посмотрел на него с робкой надеждой.
— А что это объясняет?
— Наверное, тебе понравилось, — сказал Михля. — Когда я первый раз был в кино на фильме «Черная гора» — это про слонов, — у меня потом была температура под сорок. Я две ночи бредил.
— Не понравилось?
— Наоборот, понравилось! Мама говорит, что я бредил слонами.
Петр Иванович задвигал челюстями — переваривал новую информацию. Наконец он спросил:
— То есть от сильных впечатлений можно заболеть?
— Да, — кивнул Михля.
— А как это лечится?
— Либо ждать, пока само пройдет, либо сходить еще раз. Второе впечатление будет другим и отчасти погасит первое.
— Но я не хочу, чтобы оно гасло! — воскликнул Петр Иванович и стукнул кулаком себя в грудь. — Я хочу, чтобы оно горело! Горело! Горело!
— Да сходи ты туда еще раз, — повторил Михля. — И все встанет на свои места, сам убедишься.
И вдруг Петр Иванович обмяк в кресле:
— Значит… — прошептал он. — Значит, «Золушку» возможно увидеть снова?
До сих пор эта мысль даже не приходила ему в голову. Петр Иванович всерьез полагал, что спектакль неповторим, как неповторим каждый день жизни, и отныне может существовать лишь в памяти обезумевшего от любви тролля.
Идея вернуться в театр и ощутить все заново — пришествие музыки, сотворение хрустальных башмачков — захватила Петра Ивановича. Он испустил грозное рычание, вскочил из кресла и схватил Михлю ручищами.
— И ты пойдешь со мной! — закричал он.
— Может быть, мы и Катю возьмем? — предложил Михля, бесстрашно глядя в разинутую пасть тролля. — Заодно и познакомитесь.
— И Катю! — заревел Петр Иванович. — Хо-хо! И Катю! Ужасное имя, — прибавил он миг спустя, — совершенно не рычащее. Для хорошего секса не подходит.
Михля густо покраснел, еще раз показал пальцем на листок с номерами телефонов и быстро вышел из магазина. Петр Иванович безжалостно хохотал ему в спину.
* * *
Катя оказалась эффектной блондинкой на полголовы выше Михли. Петру Ивановичу она, против ожиданий, понравилась. Несмотря на всю опасность «невест» вообще и собственное неподходящее имя.
Она очень хорошо воспринимала спектакль. Так, как будто ее, Кати, не существует. И вселенной тоже временно не существует. Остался лишь хрупкий, в любое мгновение готовый исчезнуть мир, изготовленный людьми из звуков и блестящих тканей.
Для Михли же, напротив, не было ничего важнее Кати, и даже «Золушка» не могла заставить его считать иначе. Но Петра Ивановича это не занимало.
Он весь был поглощен балериной.
Сегодня она была немного другая, но все-таки это была она. Он с замирающей радостью узнавал каждый ее жест, каждую особенную мелочь в ее движениях, каждый изгиб ее фигуры. Ему нравилось думать о ней: «верзила», — это слово страшно волновало его и вместе с тем почти до слез умиляло.
«Верзила, верзила», — думал он, глядя, как Золушка вальсирует со своей шваброй. Потом он запретил себе так думать, чтобы острота ощущений не притуплялась.
В антракте Михля отправился в буфет за шампанским, а Катя осталась в ложе с Петром Ивановичем.
Тролль сидел с закрытыми глазами и слушал зрительный зал: гудение голосов, редкий стук каблучков, шарканье подошв.
Катя сказала:
— Какой волшебный вечер! Спасибо вам, Петр Иванович, а то Сержик ни за что бы не додумался.
Не открывая глаз, Петр Иванович спросил:
— Вы его любите?
— Конечно, если собираюсь за него замуж! — засмеялась Катя.
— Ну мало ли, — сказал Петр Иванович, — может быть, вас привлекла его квартира.
Катя произнесла очень серьезно:
— Что-то мне подсказывает, что на вас невозможно сердиться.
Тролль открыл глаза, в них блеснуло красное.
— На меня опасно сердиться, — подтвердил он. — Но вы можете. Немножко.
Она засмеялась и постучала кулачком его в плечо.
— Вот так?
— Приблизительно, — сказал тролль. — Вы на редкость правильная девица.
Тут в ложу вошел Михля с бутылкой пива.
— Шампанского нет, — виновато сообщил он. — Я взял пиво. Оно тоже с пузыриками.
— Да, — сказала Катя, отбирая у него бутылку. — Никто и не заметит разницы.
Петр Иванович снова закрыл глаза, и на его веки легла мягкая тень: свет начал гаснуть.
Михля оказался прав: второе впечатление не убивало первое, но оттеняло его, прибавляло ему красок. Лихорадка постепенно отпускала Петра Ивановича, сменяясь теплым, спокойным чувством, растворяющим в себе весь мир. Это просто восхитительно, подумал Петр Иванович.
Теперь он заранее знал, что сейчас танцовщица выйдет босая. Ее появление не станет шоком, как в первый раз, но от того, что свершится ожидаемое, оно не будет менее прекрасным. «Вот в чем отличие супружеской любви от преступной, — подумал Петр Иванович. — Ты закрываешь глаза и можешь быть уверен в том, что тебя сейчас поцелует прекрасная женщина. А с любовницей тебя вечно ожидают сюрпризы, и это в конце концов надоедает».
Он неспешно впитывал в себя каждое мгновение балета. «Антигона», — прошептал он, отсылая имя сестры танцовщице как самый дорогой подарок.
И она как будто услышала: в тот самый миг, когда имя долетело до сцены, молодая женщина вздрогнула, по ее лицу и шее разлился розовый румянец. Тролль довольно улыбнулся.
Сегодня он не станет убегать в гардероб, едва лишь последний звук музыки покинет зрительный зал. Сегодня он останется и вволю поаплодирует.
— Великолепно, — сказала Катя и повернулась к Михле. — Тебе понравилось?
— Очень, — искренне отозвался тот и принялся старательно хлопать.
Катя улыбалась, глядя на сцену. Петр Иванович украдкой наблюдал за ней. В улыбке Кати была некая таинственность: как будто она о чем-то догадывалась. Это тоже расположило Петра Ивановича к будущей Михлиной жене.
«С такой девицей Михля не пропадет», — подумал Петр Иванович и отвернулся опять к сцене.
Настал выход квадратных бабушек в зеленой униформе. Бабушки шествовали одна за другой, как гномы в процессии, и несли букеты с записками. Самые большие букеты вручили мачехе и одной танцовщице из кордебалета — очевидно, в зале находились ее муж или родители.
А затем, после паузы (Петр Иванович уже несколько раз обтирал потный лоб платком), явилась еще одна зеленая бабушка с большой атласной подушкой на вытянутых руках. Поверх этой подушки (обшитой золотым витым шнуром с кисточками по углам) покоились серебряные башмачки. Бабушка пыхтела, потому что весили эти башмачки немало. Свет театральных фонарей отражался от их блестящей поверхности, и в искусственном мире театра настоящее серебро стало выглядеть бутафорским.
Золушка растерянно посмотрела на подарок, когда бабушка не без облегчения переложила подушку ей на руки.
В зале взревели от восторга. Петр Иванович ничем не выдал себя. Он созерцал происходящее на сцене со спокойной отеческой улыбкой.
Балерина прижала подарок к груди и сделала еще один грациозный поклон, а потом убежала со сцены. Занавес упал в последний раз.
Петр Иванович поднялся, оглядел своих спутников.
— Ну что, отправляемся?
И первым покинул ложу.
Домой ехали на такси.
Катя сказала:
— Я видела их на витрине. Мне Сержик показывал. Туфли.
— Красивые, правда? Чистое серебро, и работа очень хорошая, — похвастался Петр Иванович. — И к тому же ей по размеру, я прикидывал. Как, по-вашему, все прошло?
— Знаете, Петр Иванович, — сказала Катя, — по-моему, это было безупречно.
* * *
В эту зиму Петр Иванович еще несколько раз был в театре. Он даже решился немного расширить кругозор и посмотрел «Эсмеральду», которая утвердила его во мнении касательно волшебной роли обуви: ведь если бы затворница пораньше показала своей дочери детскую туфельку, которую хранила на груди, то не случилось бы всего этого кошмара. Петр Иванович очень огорчился и больше на «Эсмеральду» не ходил. К тому же и балерина там танцевала другая.
Он сердито взял билет на «что попало», как будто тянул жребий, и это оказалось «Лебединое озеро». Из театра он вышел с твердым убеждением в том, что не ошибся: нынешняя зима непременно должна называться Отилией.
Образ зловещего черного лебедя, торжествующего, как ложь, преследовал Петра Ивановича, и он начал видеть во снах странные города — с очерченными сотней огоньков силуэтами соборов, с монолитными глухими громадинами крепостей, с крохотными площадями, где может уместиться разве что наперсток. Где-то в этих мирах обитал черный лебедь Отилия, истинный оборотень, женщина из мира троллей.
Среди улиц, в безднах соборов, в ловушках крепостей таилась эта Отилия, смертельно опасная, как всякая невеста. В ее имени ощущалось беззвучное падение крупных снежных хлопьев, которые обманчиво превращают черного лебедя в белого.
Теряясь в лабиринтах, Петр Иванович то страдал от невозможности выбраться и обрести ясность, то наслаждался ею.
В дразнящих играх сновидений незаметно прошло время холодов, и наступило лето. Театр закрылся.
Петр Иванович был настолько поглощен поисками обманчиво близкой Отилии, что не успел дать имени новому сезону. Лето осталось безымянным и побежало, перескакивая с одного дня на другой.
Михля женился на Кате. Свадьба была светской и деловитой, без банкета и разных глупостей вроде поездок на «лимузине».
Михля выглядел полным ослом, а это, как определил Петр Иванович, для женатого мужчины служило верным признаком стопроцентного довольства.
«А я? — думал Петр Иванович, без цели гуляя по городу и погружаясь в свои неодолимые грезы. — Счастлив ли я? Отилия!»
Он подарил Золушке башмачки, которые были ей впору.
Он спас Михлю от смерти и участи бездомного и поддержал его с идеей женитьбы.
Он стольких людей осчастливил!
«Отилия!»
Но зимнее имя не отзывалось, и та зима миновала, а будущая обретет другое имя. И так, от грезы к грезе, от имени к имени, будет он идти, покуда не встретится с женщиной лицом к лицу, покуда очередное имя не зазвучит совсем близко из неведомых уст — из уст невесты.
Эта мысль показалась простой и обнадеживающей. Петр Иванович остановился и огляделся по сторонам, пытаясь определить, куда занесли его странствия.
Он находился на Васильевском острове. Он редко здесь бывал. Почти никогда. Это открытие удивило его так сильно, что он очнулся от своих мечтаний и впервые за несколько месяцев по-настоящему вернулся в здешний мир, в мир Петербурга, оптовых поставок, пыльных мостовых, зеленых деревьев, по-летнему раздетых женщин.
Он стоял посреди Большого проспекта, всегда нарядного благодаря деревьям, высаженным в центре щедрой, широченной магистрали. Этот бульвар был как людское поселение на спине гигантского кита. Зверь странствует себе по морю и ведать не ведает о тех, кто обитает на его хребтине, а те, в свою очередь, даже и не догадываются о том, что обиталище их — не на острове вовсе, а на чудо-рыбе.
Тролль нарочно потоптался по земле газона, чтобы убедиться в том, что она не качается и бульвар никуда не плывет. Впрочем, ни в чем нельзя быть уверенным полностью, особенно в Петербурге. То, что почва под ногами притворяется твердой, еще ничего не означает.
И тут Петр Иванович заметил некий неуместный предмет.
Он наклонился и поморгал, чтобы убедиться в том, что зрение его не подводит и что это не следствие общей мечтательности и не выпавшее наружу сновидение.
Затем Петр Иванович сел на корточки и коснулся предмета рукой.
Пара женских туфелек, прелестно сношенных, смятых по чьей-то ножке. Они еще дышали теплом, их каблучки были слегка сбиты.
Он взял их в руки, чтобы лучше ощущать. Какая-то женщина прошла в них по множеству дорожек — домой и из дома, к возлюбленному и прочь от него; сколько всяческих услуг оказали ей эти туфельки! Но потом ее настигло такое огромное счастье, что даже туфли стали ей не нужны, и она ушла куда-то прочь босая.
«Отилия!» — закричал Петр Иванович, вспугнув двух старушек на отдаленной лавочке.
Он схватил туфельки в горсть и быстро зашагал прочь. По дороге он несколько раз оборачивался, как будто опасался погони, и на всякий случай обнажал зубы, но желающих отобрать у него талисман почему-то не оказалось.
Альберт Зеличёнок Из цикла «Мифы темных закоулков»
Чары Кристины
Кристине снилось, что она — принцесса-лягушка. Молодой королевич, большой поклонник прекрасного, юного, чистого и возвышенного, а также биологии, выловил ее в пруду возле свалки, принес во дворец и размышлял, поцеловать ее или препарировать. Не далее как на будущей неделе ему предстояла помолвка с Гортензией, единственной наследницей состояния герцогов Бутербродских, славного, но — увы — забогатевшего рода. Сия девица, при наличии многих прочих достоинств, не отличалась избыточной внешней привлекательностью, да и неизбыточной тоже, и относительно счастливый жених готов был целовать кого и что угодно, желательно побезобразнее. Ради тренировки. Лягушка как раз подходила. Юноша, зажмурившись, с отвращением потянулся губами к щеке земноводного…
…И тут раздался взрыв, сопровождаемый воем сирены. Кристи с трудом приподняла чугунную голову. Металлический мерзавец, изготовленный в виде изрыгающего пламя василиска, злорадно громыхал, сигнализируя, что уже половина шестого. Ей вовсе не требовалось вставать так рано, но ни выключить чудовище, ни перевести его стрелки было абсолютно невозможно. Корпус часов был наглухо запаян и запломбирован, поскольку они представляли собой собственность фирмы «Дочери Медеи», на которую Кристина вот уже несколько лет имела сомнительное удовольствие работать. С самого утра настроение было непоправимо испорчено. Впрочем, на это и делался расчет.
Подъем был неизбежен, как Конец Света. Сопротивляться не имело смысла. Обмануть монстра все равно бы не удалось, и Кристи давно оставила такие попытки. Если поднадзорный после подачи сигнала снова пробовал заснуть, то хитроумный аппарат, явно сконструированный каким-то злым гением человечества, дожидался начала дремоты, а затем включал повторное завывание, на этот раз с особо мерзкими обертонами. Ходили слухи, что против слишком упорных поклонников Морфея железный петушок применял клюв.
Механически сжевав три яйца вкрутую, Кристина залповыми глотками, как лекарство, выпила литровую чашу кофе (руководство настойчиво рекомендовало салат из тухлых яиц, но и свежие-то были достаточно мерзки, а уж дополняющую диету кошатину она не стала бы потреблять и ради карьеры; уж лучше переспать с Вельзевулом Соломоновичем). Время текло медленно, будто издевалось. С тех пор как дирекция опротестовала в Департаменте Аудиторства последние счета «Хронос-банка», у всех дочерей Медеи начались хронические проблемы. Зарема из отдела порчи два месяца ходит сама не своя: при встречах с возлюбленным наиболее волнующие моменты для него длятся часами, а для нее все вмиг заканчивается. В общем, он уже весь измотан, а она так ничего и не успела почувствовать. Полный крах интимной жизни! Впрочем, эта Заремка полная дрянь и нимфоманка, и Вельзевул для нее давно пройденный этап. Так ей и надо!
Шесть часов… Ну нет, раньше семи ее выйти из дома не заставят! Вот назло им всем сядет и будет читать. Что-нибудь легкое, некромантическое…
Две главы — пять минут седьмого. Четыре главы — еще пятьдесят три секунды. Так, пожалуй, она попадет в Книгу Гиннесса. Следующие шесть страниц она одолела за четыре секунды. Все, довольно! Швырнув пестрый томик в угол, Кристи вскочила на ноги и принялась лихорадочно одеваться. Раз все против нее, придется явиться на службу досрочно. Пусть шеф лопнет от радости.
Уже уходя, она не выдержала характера и метнула взгляд на часы. Ну так и есть — семь ноль восемь. Черт, черт, черт!
— Здравствуйте, Крыся! — расплылась навстречу улыбка Дарьи Ипполитовны из семьдесят второй. Как опара с тестом, громоздилась она среди прочих бабуль и теток на двух тщедушных скамейках у подъезда. С ночи они, что ли, места занимают? Внутренне сморщившись, Кристина склонила голову перед дворовой инквизицией.
— Спешите куда, Крыся? — приветливо ощерилась золотозубая Дарья. — Вся в делах, вся в заботах. Потому и незамужем.
Вдобавок она еще и встала, перегородив путь.
— А как вам мой новый гарнитур? — И она принялась покачивать головой и помахивать гомерическими грудями, после чего выставила перед собой десять сарделек, за неимением лучшего заменявших ей пальцы.
— Тетя Дарья, я на работу опаздываю! — возопила Кристина. Прыщ ей на нос, надоедливой жиряге! Хотя после предыдущей встречи их уже семь, один лишний она и не заметит.
— И все же взгляните, душечка.
Вот оно что: два кольца с красненькими камнями (под цвет лица?), аналогичные сережки и связка якорных цепей, монистом свисающая с выи на перси.
— Каково? Скифское золото.
Кристину наконец осенило. Два-три мягких прикосновения к ткани бытия — и благородный металл чуть заметно, но подозрительно потускнел.
— Великолепно, — искренне улыбнулась Кристи. — Почем брали за килограмм?
И, не дожидаясь ответа, лихо обогнула айсберг, слегка оцарапав правый борт у ватерлинии в районе сумочки. А вот теперь последний штрих…
Сомнение в качестве покупки внезапно посетило сознание соседки и отныне прочно угнездилось там. Теперь Ипполитовна потеряет покой и сон, пока не выяснит всю печальную правду. Кристи была довольна собой: исполнено в современном стиле, без единого слова, быстро, изящно — куда там ведьмам прошлого! Внутренним зрением она увидела, как поблекло лицо Дарьи и как та вдруг потеряла интерес к прискамеечным сплетням. А нечего золото с рук у цыганок покупать! Ха!
Однако время подгоняло. Ну почему, казалось бы, не наколдовать что-то вроде мгновенного коридора через подпространство или хоть бы личный самолетик завалященький? Так ведь нет. «Извольте ограничить использование магической энергии в личных целях. Применяйте традиционные средства передвижения». А вы представьте себе современную молодую женщину верхом на метле. Видик? А если она еще и в платье или, допустим, в мини-юбке? В Средневековье, между прочим, голыми летали, но теперь ведьмы не такие озабоченные. Однако разве этому старичью что внушишь? Приходится пользоваться общественным транспортом. Созданию рабочего настроения очень даже способствует.
Едва подошел автобус, как на остановку влетела сухощавая девица вся в оборках и перманенте и, саданув Кристину локотком и толкнув бедром, первой впорхнула в салон. В результате случайно освободившееся сидячее место, естественно, досталось ей. Кристи зло оглядывала фифу, а та никак не могла утихомириться: доставала что-то из сумочки, снова укладывала, поправляла детали наряда, меняла позу в поисках максимального комфорта. Руки помахивали, пальчики мелькали, ресницы трепетали, ножки в лакированных копытцах топотали, волны ландыша и сирени накатывали на граждан. В общем, выставочный образец серии «гни все, что гнется». Тьфу! Кристина мысленно сосчитала до шестидесяти шести, успокоилась, составила подходящее заклинание и затаилась в ожидании своего часа.
Наконец жеманница встала и, вращая некрупным задиком, двинулась к выходу. Вдруг что-то в ее наряде с отчетливо слышным щелчком покинуло место дислокации. Барышня побагровела и ускорила шаг, пытаясь сохранить на лице хоть какое-нибудь выражение, но тут затрещали расходящиеся швы, высокими голосами запели лопающиеся резинки, брякнули о металлический пол пуговицы. Красуля взвизгнула, как ошпаренная кошка, и, высоко подпрыгнув, в два огромных шага достигла двери и помчалась по улице, судорожно вцепившись в распадавшиеся и покидавшие хозяйку фрагменты гардероба. Усмехнувшись победно, Кристи тоже вышла. Она проехала лишнюю остановку и теперь предстоит возвращаться пешком. Ничего, ради такого триумфа не жалко.
Естественно, она опоздала минут на десять. Практикантка Виллина, временно заменявшая гриппующую секретаршу, сверля взглядом карманное зеркальце, покрывала скулы багровым налетом. Веки уже были выкрашены в фиолетовый цвет, ресницы слиплись от неимоверного количества черной туши. Прервав ответственный процесс, крошка перевела взгляд на вошедшую ведьму и высоким нервным контральто произнесла:
— Опять вы опаздываете, Кристина Валентиновна! Вас там уже посетители дожидаются, и Олег Пересветович два раза спрашивал.
Каждая пэтэушница станет мне еще выговаривать, подумала Кристина. Вот превращу в жабу — будет знать.
— Меня нельзя превращать, я у вас на практике, — испуганно воскликнула Виллина. — И вовсе я не из ПТУ, наше училище уже два года как переименовали в лицей ведовства и ясновидения имени Азазела.
«Научилась читать чужие мысли. Большой прогресс. Теперь бы еще тройки исправить и не делать замечания старшим — и совсем была бы как настоящая ведьма».
— Я не троечница, у меня и четверки есть, и даже пятерка — по физкультуре. А опаздывать все равно нехорошо. — И, окончательно обидевшись, врио секретарши отвернулась.
Кристина прошла к себе. Ее действительно ждали. Первой в очереди была шикарно одетая рыжеволосая дама лет двадцати пяти — пятидесяти. Усевшись без приглашения (разрез на платье услужливо открыл очень недурные ноги в дорогих чулках), мадам закурила тонкую золотистую сигаретку и поинтересовалась:
— Верно ли, что ваше агентство исполняет любые желания?
— Нет, — сказала Кристина. — Наши возможности не безграничны, хотя и довольно широки. Мы действительно оказываем определенные услуги, однако стоят они недешево.
— Деньги — не проблема, — отмахнулась рыжеволосая, — оплачу наличными, причем сразу и независимо от суммы, если вы гарантируете выполнение заказа.
— Хорошо, я вас слушаю.
— Как вы можете убедиться, — начала потенциальная клиентка, — я еще молода…
«Прав был старик Эйнштейн», — подумала Кристи.
— …и достаточно хорошо выгляжу. Однако предусмотрительная женщина должна думать о будущем. Красота — наш главный капитал. Вы не согласны, дорогая?
— Нет, почему же. Продолжайте.
— Меня вполне устраивает моя нынешняя внешность, и я хотела бы сохранить ее как можно дольше, насколько это в силах обеспечить ваша фирма.
— А вы думали о более обычных методах — косметических операциях, салонах красоты и тому подобном?
— Дорогая, это же все фикция и самообман. Подтяжки, прижигания, куча операций и шрамов — а результат? Женщина получает маску вместо лица, а возраст все равно просматривается. Я хочу настоящего. Кроме того, помимо внешнего вида, мне нужно еще и здоровье, а этого уж точно никто обычным путем не обеспечит. Я надеюсь, мои желания не чрезмерны?
— Как вам сказать. То, чего вы требуете, — в наших силах. Однако за все в этом мире приходится платить. И не только деньгами, — предупредила Кристина нетерпеливый жест заказчицы. — Видите ли, во вселенной действует закон сохранения энергии — вы, наверное, проходили его в школе. В данном случае он проявится в том, что кто-нибудь тяжело заболеет, быстро состарится и умрет. Вместо вас.
— И все? — спросила дама. — А могу я попросить, чтобы это не оказался кто-либо из моих близких?
— Да, годится любой.
— Его согласие требуется?
— Нет, я же все-таки дипломированная ведьма. Обойдемся без гандикапа.
— Тогда пусть это будет какой-нибудь незнакомец. В остальном я полагаюсь на ваш выбор.
— Требуется достаточно молодой человек. Юноша или девушка — безразлично.
— Хорошо, хорошо, меня это устраивает. А как насчет гарантий? Не то чтобы я вам не доверяла, дорогая, но…
— Ничего, я понимаю. Если в течение полувека начнет подводить здоровье или вам покажется, что вы подурнели, — приходите, и мы вернем плату. Более того: если в тот же период вы внезапно скончаетесь, фирма выплатит наследникам огромную неустойку. Таким образом, мы заинтересованы в вашей безопасности.
— Прекрасно. Где я могу заплатить?
— В приемной, у секретаря. Там же и договор подпишете.
Следующим оказался суетливый парень с синяком под глазом.
— Вы ведьма? — с порога спросил он.
— Кем же еще я могу быть, если здесь работаю?
— Тогда я по адресу. Я хочу стать рэкетиром.
— Но у нас, извините, не банда. И откуда, кстати, столь своеобразное желание?
— А вам что за дело? Надоела такая жизнь, желаю другую. А вы, раз ведьма, обязаны исполнять.
— Ну, допустим, я не обязана, но все же: чем я могу помочь?
— Мне нужна фигура. Здоровенная, с мышцами. Я пробовал сам качаться, но не получилось.
— Прохожих по ночам пугать? Ладно, сделаем вас Шварценеггером. Еще чего-то желаете?
— Этого мало. Бицепсы — это так, для уважения. У меня характера не хватит, чтобы кого-нибудь побить.
— Будем менять характер? Кто же станет образцом: Рэмбо, Терминатор, Дарт Ведер? Бэтмен, думаю, вам не подойдет.
— Просто наколдуйте мне оружие.
— Неужели на пистолетик не можете накопить? Тогда чем же вы оплатите мои услуги?
— У меня есть. Я одолжил. А пистолет мне не годится. У меня зрение плохое и руки дрожат. Я в цель не попадаю. Я автомат хочу, чтобы меткости не требовалось, но его достать тяжело. Вы не думайте, убивать я не люблю, только если очень надо будет. С автоматом меня и так бояться станут. Особенно если с разрывными пулями.
— Хорошо, будет вам и оружие. Но деньги вперед.
«С такого, пожалуй, станется удрать, не расплатившись». Юноша выскочил в приемную и через минуту вернулся с чеком. Руки его действительно тряслись. На столе Кристины лежал новенький «узи». Парень схватил его и тут же направил ствол на ведьму. От напиравших мускулов рубашка его натянулась и затрещала.
— Теперь я буду вашей «крышей»! — побагровев от натуги, заорал он. — Говори, кто тут у вас самый главный, а то замочу.
Глаза его бегали, а зубы обличали страх перед дантистом.
— По коридору налево, двенадцатая дверь. Написано: «Посторонним вход воспрещен», но вам можно. Лучше все-таки постучитесь сначала, а то шеф у нас строгий, как бы чего не вышло.
Едва он выбежал, Кристи подняла трубку красного телефона без наборного устройства.
— Босс, к вам тут направился один маньяк с автоматом, так что вы поосторожнее. Оружие, правда, на предохранителе, но вдруг разберется?
— Ладно, не впервой. Испепелим потихонечку. Ты лучше скажи, как ты собираешься выполнять заказ первой клиентки?
— Элементарно, босс. Убивать никого не будем, отыграемся на ней же. Завтра она у нас заснет и проспит ровно пять десятилетий и еще три призовые недели. Здоровая и красивая. Летаргическим сном. А как проснется, станет стареть нормальным порядком. Претензий не будет — условия договора соблюдены. И законы не нарушены: ни физические, ни магические. Ни уголовные. Все тип-топ, босс.
— Это хорошо. А вот почему, Николаева, вы на работу опять опоздали?
— Транспорт подвел, Олег Пересветович. И время фокусы выкидывало.
— Вы мне на время не пеняйте. Выходить заранее надо. А то смотри, у меня сельское хозяйство давно ведьму просит. В деревню Полные Козлы, коров заговаривать, удои повышать. Прокляну — отправишься как миленькая, и лет десять не выберешься. Внятно объясняю?
— Я все поняла, Олег Пересветович. Я исправлюсь.
— То-то. Больше так не делай. Ты же у нас умница, Кристина. А с банком мы вскорости разберемся. Ладно, отключаюсь, а то ко мне твой бандюган недоделанный прибыл. Бывай.
— Буду, — сказала Кристина.
— Извините. — У двери стоял невысокий изящный человечек в хорошо сшитой «тройке». — Можно?
— Да, пожалуйста. Вы тоже хотите на кого-нибудь «наехать»?
— Нет, что вы. У меня совсем другое. Видите ли, я не обладаю музыкальным слухом.
— Ну и что? Таких миллионы. Я тоже, кстати, не Моцарт. И даже не Пахмутова.
— Но вы не дирижер большого симфонического оркестра.
— А вы, значит?.. — Кристи с трудом сдержала неуместную улыбку.
— Да, к сожалению. Понимаете, мой папа — известный композитор. В прошлом, правда. Вот и получилось, что в консерваторию меня приняли по знакомству, на экзаменах тоже пятерки ставили. Из доброго отношения к семье. К тому же у меня память хорошая. Потом как-то вышло, что распределили дирижером маленького оркестрика в провинции — там нестрашно было бы. К сожалению, один папин друг вмешался и перебросил на большой. Сюда. Как раз вакансия была. А музыканты — они же наблюдательные. Один раз фальшь пропустил, другой — и уже пересуды за спиной, смеются в глаза. Никакой дисциплины. А разве я имею право требовать? Стыдно. Остается только палочкой махать. Помогите. Мне бы хоть средненькие способности. Я заплачу, сколько надо будет.
Кристине даже стало его жаль, но она отогнала недостойные ведьмы сантименты.
— Хорошо, будет у вас слух, причем абсолютный. Однако учтите: у талантливых людей жизнь тоже сложна. По-своему. Не жалуйтесь потом.
— Ничего, я переживу. Что вы, муки творчества — это счастье.
— Тогда некоторое время не отвлекайте меня. Магия требует сосредоточенности.
Кристи прикоснулась ладонями к хрустальному шару. Кабинет заполнился дымом, в котором скользили бесформенные тени. Бесплотный голос декламировал нечто на одном из мертвых языков. Все это было абсолютно не нужно, но имидж обязывал.
«Просьбу твою, маэстро, я выполню, — думала Кристина. — Труд невелик. Вот только последствия не заставят себя ждать. Уже на первой репетиции ты поймешь, каких бездарных и при этом наглых лабухов подсунул тебе отцов приятель. Выгонишь этих — взамен придут другие такие же. Отныне и присно ты обречен работать с посредственностями. И будет при твоем совершенном слухе их музыка — как визг железа на стекле. И мучиться тебе пожизненно. Такая уж твоя планида, дружок. А нечего обращаться к Темным Силам. Колдуны никогда и ничего не выполняют так, как вам хотелось бы. Рано или поздно клиент спотыкается о подложенную свинью, и чем позже — тем хуже для него. Специфика службы, господа. Как говорится, ведьма должна иметь свой профит, и она его получит».
Дальше пошла ежедневная рутина: наговоры, сглаз, порча, снятие порчи, гадание и ясновидение. Свекровь заказала, чтобы у невестки скисало молоко и все падало из рук. Часа через три невестка, ничего не зная о первом визите, попросила того же в отношении мужниной матери. Кристи с удовольствием выполнила обе заявки.
Для того чтобы окончательно успокоить начальника, она задержалась на полчасика после окончания смены и домой вернулась уже затемно. Однако во всяком плохом найдется частичка хорошего: автобус оказался полупустым, никто не доставал уставшую юную ведьму, и если она и наградила обильным урожаем угрей компанию несовершеннолетних олухов, то не по необходимости, а лишь для сохранения тонуса.
По телевизору сплошняком крутили дебильные сериалы, да по «Пятому» каналу повторяли отшумевший два десятилетия назад познавательный блокбастер «Японские боги: кто они?», так что Кристи предпочла, забравшись в мягкое кресло со стаканом грушевого сока в руке, немного почитать. Пожалуй, уже пора было проверить в действии недавно освоенный ею трюк с восприятием каждым глазом различных текстов, и она устроила на специальных подставках «Молот ведьм» (надвигалась аттестация) и «Дракулу» (для души), но тут зазвонил телефон. Аркаша, кто же еще.
— Тиночка, — раздался в трубке его, как всегда, нелепо взволнованный голос; этого ухажера Кристина подцепила классе примерно в третьем, и только он называл ее идиотским детским именем, — как я рад тебя слышать!
— Да ты еще и не слышишь, — уточнила Кристи. — К тому же мы разговаривали только вчера, поэтому мне не очень ясен твой, извини, щенячий восторг.
— Ага, вот и слышу.
Вечно он устраивает дурацкие игры в слова. Взрослый уже человек, пора бы и угомониться.
— Как у тебя дела, Тиночка?
— Все нормально. Сейчас как раз собиралась прыгнуть в окно, проверить способности к левитации. Если завтра не подойду к телефону — ищи на Тишинке, третья могила на второй аллее. Только чеснок прихватить не забудь, а то мало ли что.
— Тина, ты серьезно? Лучше попробуй сначала в квартире и при мне. Я сейчас приеду. Или вообще не надо, а?
— Ладно, оставь, я глупо пошутила. Связку чеснока пока можешь не надевать. И приезжать не стоит, ничего я над собой совершать не намерена, ясно? И жизнь моя мне нравится, и дела мои со вчерашнего дня нисколько не изменились. И еще я жду важного звонка, поэтому даю отбой.
— Тина, со мной-то притворяться не надо. Я же знаю, какая ты настоящая. Я все помню, Тиночка. Но раз я не вовремя — извини. До завтра, Тин.
— Счастливо.
Дурачок. А все-таки приятно, что он звонит. Единственный, кто у нее остался из прошлого. Подумать только, если бы мама в свое время не убедила ее поступить в гораздо более практичную и перспективную Академию Колдовства, то училась бы Кристи в Университете Добрых Волшебников, куда с самого начала собиралась. А там такая душевная расслабуха и розовый сироп, что, пожалуй, сейчас она давно была бы замужем за Аркашей в его однокомнатной с матерью на Куличках. И оказалась бы сама дурочкой. Кто ж в здравом уме за таких выходит? И думать не смей. Так и не думаю. Вот Герман, например, три раза уже подкатывался. С прозрачными намерениями. Ну, намерения намерениями, а если действовать умеючи… Красавец, магистр, правая рука шефа. Или самого Пересветыча у семьи отбить? А то пора уже судьбу устраивать, все говорят. Или все-таки Вельзевул Соломонович? Не спать с ним, а выйти замуж. А жить с Германом. Или еще как-то. Да ладно, какие наши годы. Найдем кого-нибудь. Или приворожим.
В квартире наверху раненым бизоном взревел музыкальный центр, и Кристина привычным движением брови пережгла соседям пробки. Читать расхотелось, и она отправилась в ванную.
Через десять минут Кристи уже сладко спала. Ей опять снилась лягушка-принцесса.
Добрая душа Леопольда
Добрый день, здравствуйте. Проходите вон туда, в большую комнату. Вы ведь от Порфирия Сергеевича, не так ли? Нет, что вы, просто Леопольд. Нравится мне, знаете ли, эта западная манера, так сказать, без чинов. А, извините, вас как называть? Ну что ж, Михаил, устраивайтесь вот здесь, в кресле. Про вашу просьбу Порфирий Сергеевич мне телефонировал, хотите что-нибудь добавить от себя? Нет? Ну и ладненько. Не волнуйтесь, все будет в порядке. Я, знаете ли, часто метаморфозами балуюсь, хотя это и не основная моя специальность. Но, понимаете ли, люди просят, а у меня идиотский характер: не могу никому отказать. Сколько дурнушек я в красавец превратил — и не пересчитать. Однако образ мыслей я им не менял, я сознание человека не трогаю, опасаюсь, мало ли каких дров можно наломать. Ну, разве что очень уж сильно просят. Да, я и говорю: мышление-то сохраняется. Забавно получается порой: мордашка и остальное — красивенькие, а душа — ух какая страшненькая. Но это уже не мое дело, такое и в первозданной, позволю себе так выразиться, природе встречается. Я им, насколько мог, помог, а дальше сами разберутся. Голову немного наклоните, вот так. Что вы, какой скальпель! Я же вам, Миша, извините, не хирург, я работаю с силами высшего порядка. Эфирные, понимаете ли, духи, эманации, пронизывающие вселенную, ну и тому подобное. Впрочем, это сложные материи, вернемся к нашей ситуации. Нос будем менять. Гм, а я бы на вашем месте оставил как есть. Небольшие неправильности — они, бытует мнение среди дам, украшают мужчину. Ну, хозяин — барин, передвиньтесь чуть влево, чтобы тень проходила строго по переносице. Вот здесь малость сдвинем, там сгладим, тут немного вытянем. Что? Почему «ничего не делаю»? А, вас удивляет, что я к вам не прикасаюсь. Но я, дорогой Миша, оперирую с тенью, воздействую на оригинал через подобие. Известный еще Парацельсу метод, проверенный веками. Я в него внес, правда, толику отсебятины. В общем, я деформирую тень, нос, как следствие, исправляется сам. Что вы, Миша, даже если вы предпочтете переменить лицо в целом — это будет мелочью по сравнению с проблемами одного моего пациента, назовем его Николаем Ильичом, тем более что я не знаю его настоящего имени. Впрочем, вы про него, конечно, слышали. В прошлом году пресса о его «подвигах» не умолкала: нападения, убийства, изнасилования, извращения разные… Фу, мерзость. Ночной Мясник, припоминаете? Да, я его сразу, безусловно, собирался выгнать, но он так плакал, умолял, в ногах у меня валялся, в буквальном смысле слова. Говорил, что милиция у него «на хвосте», что он не виноват, его временами оккупирует какая-то Черная Пакость, и тогда он за свои поступки не отвечает. Короче, нес полную чушь, но так мне его жаль стало… Несчастный, в общем, человек. Я ли ему судья, тем паче, что и сам не без грехов? Между прочим, интереснейшая в своем роде персона оказалась. Оригинальный взгляд на вещи, массу любопытных историй знал. Нет, не только из личной биографии, те я сразу попросил не рассказывать, хотя у него кое-что прорывалось, конечно. Анекдоты, знаете ли, в том числе исторические, курьезы всякие, факты из жизней замечательных людей… Ну, ему пришлось полную переделку организовать; не только физиономию, как вам, поправить, но и в целом внешность изменить: рост там, вес, ширину плеч и так далее. Что? Безусловно, в моих силах, я вам, кажется, уже говорил. Отпечатки пальцев и группу крови, конечно, тоже, на последнем он особенно настаивал. Еще немного наклонитесь вперед, я вам щечки подберу. Они у вас, извините, несколько излишне выпуклые. Как? Дорогой, вы же не хомяк, чтобы у вас щеки со спины были видны. Тут одной тени недостаточно, придется лампу дневного света применить. А? Нет, о Мяснике я больше пока не слышал. Но я, Миша, газет не читаю. Не хочу расстраиваться. Что? Конечно, вы правы, в детстве у меня были сплошные неприятности из-за чрезмерно мягкого характера. Случалось, и били. Едва не обозлился на весь мир. Однако, к счастью, я рано обнаружил в себе Талант, им и спасался. Несомненно, я мог бы легко обратить своих мучителей, к примеру, в мокриц, но это было бы, согласитесь, гадко и неадекватно. Нет, Михаил, злым быть нехорошо и, кстати, для здоровья вредно. Вот лечился у меня году примерно в шестидесятом черный волшебник Гангнус. Пренеприятнейшая личность, целый век угрохал, чтобы запретные колдовские книги добыть и пополнить их собственными страшными заклинаниями. Мечтал подчинить Землю своей тайной власти и почти добился цели, но нашлась и на старуху проруха, извините за штамп. Добралась до него троица витязей, лабораторию разгромила и самого Гангнуса отходила так, что он еле живой ко мне приполз. Максимум сутки бы протянул. Пришлось мне таки попотеть, но вытащил мерзавца практически с того света. Теперь-то он, конечно, полностью оклемался, слыхал, даже кое-какие из своих отвратных фолиантов восстановил. Но не все, нет, пока не все. Хорошо все-таки эти трое поработали, эффективно. И вообще у нас молодежь славная, не находите? Давайте-ка я вам шею разглажу. Посмотрите в зеркало. Мутное? Так и должно быть, чтобы морщинки не различались. Теперь придется посидеть в такой позе минут пять, зафиксировать. Метод Парацельса, помните? Я и сам, кстати, молодым героям время от времени помогаю. Слышали, месяца три назад богатырь Георгий Гидру с Гадючьего острова уложил. Да, шумная была история. Так вот, если бы не летающие кроссовки и не лазерный скорострел, которые я для него изготовил, он бы до сих пор с ней возился. С переменным успехом. Это при условии, что она его сразу бы не изжарила или потом не затоптала. Нет, что вы, я сам просил держать свое имя в секрете. И без того слишком уж популярен. Регулярно кто-нибудь является. Что вы, что вы, Миша, к вам это не относится, вы — дорогой гость, приятный собеседник. Нет, если бы требовали, угрожали — я был бы как скала. Но они-то, хитрецы, с лаской подступают. А когда меня просят, я… Ну, я вам говорил. Теперь вот из городской администрации затеяли обращаться: то у них река из берегов выходит, то с электричеством перебои, то народ надо накормить двумя хлебами и пятью рыбами. Тону в мелочовке, а главное дело стоит. Я ведь, Михаил, Эликсир Всеобщего Счастья мечтаю создать. Да, наверно, вы правы, но я все-таки верю. А времени между тем катастрофически не хватает. Ну, Миша, практически закончили. Волосы вот только немного закурчавлю и уши прижму. Так. Теперь вас родная мать не узнает. Надеюсь, вы не по той части, что Николай Ильич? Может, отпечатки пальцев еще изменить? Не расслышал. А, не нужно, работаете в перчатках? Люблю остроумных людей. Ну, до свидания. Привет Порфирию Сергеевичу, хотя я его, честно говоря, не помню. Только вы ему не рассказывайте, а то, наверно, обидится. Рад был познакомиться. Если что еще понадобится — заходите. Добро пожаловать.
Волшебные сны Петухова
С Петуховым я познакомился почти случайно. Ну да, работали в одном НИИ, обедали в унылой институтской столовой, вдобавок время перерыва совпадало — и что с того? У нас обычно столиков хватало, вполне можно было уединиться. Но черт принес бригаду из Нижнего Тагила, они заняли целый угол, пришлось потесниться. Вот тогда он и подошел к моему столу.
— Извините, можно подсесть? — Белобрысый и долговязый, он нависал над свободным стулом, как подъемный кран над недостроенным зданием. Тарелки и стакан с компотом опасно съехали к краю подноса.
— Да, конечно, — быстро (во избежание катастрофы) сказал я и даже символически чуть отодвинулся в сторону.
И Рок, мило улыбаясь и стуча посудой, сел рядом.
— Саня, — представился он и принялся болтать.
Александр Петухов был трепачом-виртуозом. То есть, с одной стороны, вкрапления полезной информации в его словесном потоке встречались редко, как красотки зимой, с другой же стороны, голос, мимика, жесты непостижимо быстро опутывали слушателя и уволакивали в пучину, не давая произнести ни звука. Следующую неделю я практически не работал. Ровно в 9.05 Саша являлся в мой отдел, и если я сразу же не выходил с ним в коридор, он садился на угол стола и отвлекал от процесса созидания духовных ценностей уже всю комнату. В итоге наш Лукманыч, обычно крайне невежливый с бездельниками, отчаявшись справиться с Петуховым иными средствами, сам попросил меня пожертвовать собой. Так я был захвачен Саней в плен. Он полюбил меня, как пятиюродного брата, и с каждой очередной его историей степень родства увеличивалась.
На девятый день он начал заметно иссякать, и я сумел воспользоваться одной из пауз, чтобы продемонстрировать собственную наблюдательность.
— Ляксандр, — сказал я, поглаживая его по немускулистому плечу, — в последнее время у меня созрело ощущение, что, пока ты развлекаешь меня всякими байками, тебя нечто гнетет. Я не прав?
Конечно, я был прав и не сомневался в этом. Уже неоднократно он начинал какие-то совсем странные речи, однако, как бы споткнувшись, сглатывал произнесенное и переключался на что-либо малозначительное. Похоже, что мое предположение совпадало с его собственными желаниями, и, помедлив не более секунд тридцати, он таки решился. И вот что поведал мне Петухов, находясь, отмечу, в здравом рассудке.
— Ты знаешь, Сеня, — сказал он, для убедительности приложив руку к впалой груди, — есть у меня одна странная способность: я умею вовлекать людей в свои сны.
— В смысле? — не понял я.
— Ну, они видят то же, что и я, но для них все происходит на самом деле. То есть, к примеру, если бы тебе у меня во сне дали в глаз или выбили зуб, то ты поутру обнаружил бы фингал либо оказался щербатым, соответственно.
— Что, и убить могут?
— Наверное, я не проверял. Зато я точно знаю, что достаточно сказать погромче: «Саня, проснись!» — и все закончится.
— И давно ты обнаружил у себя это… отклонение? — Не слишком, конечно, веря Александру, я все глубже вовлекался в непонятную игру.
— Да в школе еще. В старших классах. Ты же помнишь, что снится юнцам? А у меня это безобразие вдобавок сопровождалось кое-какими заморочками — стыдно вспоминать. В общем, в разговорах соучеников я стал замечать памятные с ночи реалии. Потом пару экспериментов поставил — и все понял.
— Так с тех пор и забавляешься? — спросил я, представив в пикантных ситуациях кое-кого из сотрудниц.
— Ну, не совсем так, — потупился он, — но в общих чертах… Однако с некоторых пор я перешел в новую фазу: начал видеть волшебные сны — такие, знаешь, увлекательные, сюжетные. И при этом — ни одного знакомого лица. Я уж и седуксен пил, и на коллег, преимущественно женского пола, целый день пялился с риском по роже схлопотать — нет, хоть ты тресни.
— И что же?
— И тогда я вспомнил, понимаешь, что в сказках разные дополнительные условия есть — ну, вроде правил в футболе. А что, подумал я, если теперь для того, чтобы человек мне приснился, требуется его согласие?
— Проверял уже гипотезу?
— Нет, я ж последние лет пять про это вообще никому не рассказывал. Ты первый.
— Да ну?! — удивился я. — Как же это ты удержался?
— Неудобно как-то было. Несолидно, неприлично. Да и просто к слову не пришлось. А ты, понимаешь ли, вызываешь доверие, и оно само собой и вышло.
Мы помолчали. Я даже растрогался от его признания. А он потом и говорит:
— Слушай, раз уж так получилось, может, проведем эксперимент? Я тебе точно говорю: будет здорово. И практически безопасно, ты только вовремя крикни: «Просыпайся, Саня!» К тому же я будильник заведу, для подстраховки. Попробуем, а?
И я, на свою голову, согласился.
В тот же день, едва я, часов в одиннадцать, лег, как мгновенно, без предупреждения и перехода, провалился в темный, таинственный, явно колдовской лес. Я стоял на полянке в окружении могучих, но мертвых деревьев. Из-за ближайшего ствола раздалось довольное сопение, и на слабый свет луны выступило огромное неприятное существо — серый дракон о полутора головах. Одна башка, хороших динозавровых размеров, размещалась, как и полагается, над плечами, но имелась и вторая, малюсенькая, на тоненькой шейке, выглядывавшая из кармана на животе.
— А вот и русский богатырь, — сиплым тенором провозгласило чудище. — Добрая пища. А где мой любимый меч — витязей в спагетти сечь?
Оружие обнаружилось в правой передней лапе, и ящер резво принял боевую стойку. Завизжав, как Джеки Чан, я подпрыгнул, изобразил судорожное движение ногами и… помчался что есть духу по тропинке, пересекавшей поляну. Монстр, матерясь, топал следом, загоняя в чащу, сучья раздирали в клочья мою одежду, где-то ухали совы и выли волки. Устав, я постепенно перешел на легкую трусцу, потом на спортивный шаг. Чудовище порядком отстало, но еще не сдалось. Мне бы уже давно следовало разбудить Александра, но удерживало любопытство: что-то будет дальше? Тем более что Змей Полугорыныч, в последний раз прохрипев вдали: «Растудыть в качель восемнадцать раз твою нехорошую родительницу», — похоже, прекратил безнадежную погоню.
Дорожка расширилась и уткнулась в крыльцо прочного, основательного дома с петухом на крыше. Фасад был ярко освещен. На ступенях распластался, пытаясь дотянуться до двери, миниатюрный скелет в полуистлевшем платьице с передничком и хорошо сохранившейся красной шапочке. Осторожно переступив через останки, я постучал.
— Иду, иду, вот только шнурки разглажу, — пропел грудной женский голос, и дверь распахнулась.
За порогом стояла милая, прелестная девушка в сарафане, кокошнике и вышитой рубахе с самым глубоким декольте из всех, какие мне доводилось видеть, — не важно, во сне или наяву. Из-за ее спины выглядывал хмурый детина, во всклокоченной шевелюре которого затерялась небольшая серебряная корона.
Я вдруг и окончательно осознал, что не могу не поцеловать незнакомку, обнял ее, прижал (грудь оказалась большой и мягкой) и впился в эти… да, в уста сахарные. Поцелуй вышел долгим, а когда я наконец вырвался, грянул гром, сверкнула молния (именно в такой последовательности), и девица превратилась в двухметровую зеленовато-бурую лягуху.
— А вот теперь, Арсений, я тебя съем, — сообщило земноводное и стрельнуло языком.
— Саня! — завопил я, пытаясь помешать липкому аркану затащить меня в пасть. — Просыпайся, Саня! — …И очнулся в постели, весь в поту. Пришлось принимать душ.
И все-таки я решился на вторую пробу — дней через десять. Во-первых, действительно было интересно; во-вторых, ученый я или так, собачку погулять вывел? И в конце концов, со мной же ничего страшного не произошло.
На этот раз я оказался в старинном замке, посреди бала. В просторном зале кружились десятки пар. Стол не оставлял желать лучшего: достаточно сказать, что здесь я впервые попробовал папайю (и ее мерзкий вкус до сих пор стоит в горле). Хозяин, молодой брюнет несколько цыганского вида, одетый с большим вкусом в нечто декадентское, явно ждал меня, обнял, представил избранным гостям и усадил рядом с собой. Его забота была чрезмерной, он буквально кормил меня из своих рук. Я ел и пил, музыка играла, кавалеры приглашали дам, владелец замка рассказывал анекдоты, от которых барышень бросало в краску. В таком монотонном веселье протекли часа три, и тут раздался удар колокола, повторившийся пять раз. Хозяин встал и постучал ножом по бокалу, привлекая внимание.
— А теперь — главное блюдо! — возгласил он, обнажая белоснежные клыки. — Наш юный гость, несомненно, думает, что сейчас мы примемся пить его кровь, закусывая его же мясом…
— Фи, какой мезальянс, — закатила глаза расфуфыренная дама в жемчугах и кринолине.
— Моветон, дорогая. Вы, безусловно, хотели сказать: «моветон», — поправил ее сидящий визави господин во фраке с моноклем.
— О нет, — продолжил граф или как там его. — Не нужно мыслить шаблонно, молодой человек. Кровососущие гады, поджидающие заплутавших путников в средневековых замках с плохо оштукатуренными стенами, жестокие пытки каленым железом в мрачных подземельях, призраки непогребенных, воющие ночами в комнатах для гостей, — это реалии далекого романтического прошлого. В настоящее время мы развлекаемся иначе. Приятным сюрпризом для вас будет выступление лучшего камерного оркестра Бухареста. Приглашенные мною виртуозы последовательно исполнят все фуги Баха. И это только в ближайшие часы. В нашей дальнейшей программе — опусы Бетховена, Моцарта, Стравинского, Губайдуллиной, Шнитке. Приготовьтесь наслаждаться, друзья.
— Надеюсь, я смогу наконец умереть от восторга, — не подымаясь из кресла, проблеял хлыщ с моноклем. — Думаю, ко мне присоединятся все присутствующие.
— Кроме меня, — закричал я, вскакивая.
Скрипачи уже брали первые аккорды.
— Саня, заканчивай издеваться, это уже не смешно…
Однако третью попытку мы совершили уже через сутки.
…Я восседал посреди огромного богато обставленного зала на троне, отягощенный золотой шапкой и увесистой палкой с головой кота в качестве набалдашника, которую зачем-то вынужден был держать в правой руке. Трон представлял собой громоздкое, неудобное кресло, вдобавок установленное на верхушке крутой лестницы, отдаленно напоминавшей Потемкинскую. У подножия толпились, переговариваясь, какие-то хмыри в пестрых халатах — наверно, придворные. Едва я успел чуть освоиться и преодолеть головокружение, как ниоткуда появилась не приделанная ни к чему пятерня, сжимавшая малярную кисть, краска с которой пачкала пол — мозаичный, кстати, должно быть, чертовски дорогой. «Мене, текел, упарсин», — начертал недоделанный в прямом смысле слова художник и исчез, как мыльный пузырь. «Пришел, увидел, победил, — автоматически перевел я и вяло подумал: При чем тут это?» Один из придворных тем временем вскарабкался по ступенькам и раболепно облобызал мне левую туфлю.
— Владыка, — забормотал он, часто кланяясь и одновременно пытаясь не скатиться по лестнице и не расшибить лоб; пару раз он, однако, чувствительно приложился, — великий фараон, так к тебе опять Мозес и с ним эти… мужи израильские. Без жен.
— Хотят чего-нибудь?
— Да все того же. Ведут себя вызывающе, грозятся.
— Ладно, проси.
К подножию подвели пятерых спортивного вида мужиков семитской внешности. Главный, держа в руках бубен, вышел вперед.
— Чего вам нужно, служивые? — спросил я. Кажется, с лексикой напутал.
Мозес вместо ответа взлохматил волосы, подпрыгнул и, ритмично ударяя в бубен, высоким баритоном затянул:
— Let my people go…
— Почему нет синхронного перевода? — сурово поинтересовался я у, видимо, первого министра, который пока что остался тут же, у трона.
Тот растерянно пожал плечами и сгорбился, ожидая репрессий.
— Ладно, пока прощаю. Но смотри у меня.
Тем временем предводитель евреев, повторив свою фразу раз пять, замолк с открытым ртом. Наверно, дальше еще не сочинил. Выдержав для приличия паузу около минуты, я произнес максимально благосклонным тоном:
— Ну, раз вам больше нечего сказать…
— Нет, фараон, — прервал меня грубый Мозес; сразу было заметно, что воспитывался он не во дворце. — Я тебя просил как человека? Просил. Предупреждал? И это было.
Палку в змею превращал? Само собой. Семь казней египетских обещал? Конечно. Я посулил — Саваоф сделал. Так что ж ты, зараза, нас в Тель-Авив не отпускаешь, на историческую, блин, родину? У тебя ж отказников накопилось уже шестьсот тысяч одних мужчин, не считая женщин и детей. Ну, как ты с нами, так и мы с тобой. Сейчас ты тоже окажешься там, где тебе не понравится.
Он быстро-быстро завертелся, стуча в бубен и бормоча. Борода так и мелькала. Я и опомниться не успел, как оказался на огромной высоте в когтях гигантской птицы. Пташка, к счастью, уже снижалась.
На земле, едва отдышавшись, я попытался установить с владелицей прямые человеческие контакты.
— Синьора, — вежливо обратился я к ней, — по-моему, я вас знаю. Вы — птица Рух. Вы живете на Мадагаскаре и употребляете в пищу живых слонов.
— Ошибаешься, — ядовито возразило суперпернатое. — Меня зовут Фарфич'д и питаюсь я червями. Правда, очень большими. Так что есть я тебя не буду. Я тебя обменяю. Взаимовыгодно. Кстати, я самец.
И оно вновь потащило меня по воздуху в направлении темневшего на горизонте леса — видимо, к месту торга. Крепко зажатый когтями Фарфич'да, я даже не мог кричать и протестовал внутренне.
Покупателями оказались два молчаливых небритых субъекта, размерами немного уступавшие моей птичке. Кажется, я обошелся им недорого: в какую-то мелочишку из столовой утвари, причем серебряной. Интересно, зачем она ей? То есть ему.
— Господа, — сказал я, оставшись с новыми хозяевами один на два, — надеюсь, вы будете хорошо со мной обращаться? Учтите: я — бывший египетский фараон. За меня вам, наверно, дадут хороший выкуп.
— А нам без разницы, — заявил один из этих субъектов. — Мы — ребята простые. Гоблины, слыхал? Мы — за мир без аннексий и контрибуций. И выкупов. Анархия — мать порядка, понял, нет? Так что мы не будем на тебе гешефт делать, как буржуи какие-нибудь. Мы тобой поужинаем. Или позавтракаем. Но скорее всего поужинаем, очень уж жрать хочется. Так что не обижайся, брат.
Пожалуй, отсюда пора было сматываться, и побыстрее. Я набрал воздуха в легкие и во всю мочь заорал:
— Саня, проснись!
Ничего не изменилось. Меня засунули в мешок, закинули на плечо (по-моему, каменное; по крайней мере, я все себе отшиб) и потащили куда-то. Пока меня подбрасывало и — что гораздо хуже — опускало на каждой кочке, я кричал, кричал одно и то же:
— Проснись, Саша!
Я не мог прекратить, хотя уже все понял. Это же сказка, черт возьми, сказка, сказка. А какой главный сказочный закон? Третий раз — он всегда последний. Окончательный. Но этого не может быть. Не должно быть. Не имеет права быть.
Саня, спаси меня! Проснись, Са-а-ня-а-а-а!..
Тарас Витковский О всех усталых в чужом краю…
Из тетрадей лейтенанта Максимова
В открытом космосе наш пассажирский лайнер был обстрелян военным кораблем.
Он около часа шел за нами в пределах прямой видимости. Люди на панорамной палубе смотрели, как он блестит и переливается. Для них он был елочной игрушкой среди других радужных шаров и остроконечных звезд, среди золотой и серебряной пыли на синей бархатной бумаге.
Я тоже смотрел — и думал, что корабль этот похож скорее на каракатицу. Каракатицы гипнотизируют своими переливами глупых крабов в космической черноте моря…
Он шел ровным курсом, на постоянной скорости. Я мог бы долго глазеть на него, прижавшись лбом к холодному стеклу панорамы. С утра меня лихорадило, теперь — бросало в жар, и стоять так было очень приятно.
Рядом разговаривали.
— Право, Андрюша, кому сейчас нужны детские врачи? Вот если бы ты умел лечить люэс…
Господин в рыжем пиджаке стонал и фыркал, чтобы не рассмеяться в голос. Он был полный, каравайно-румяный. На его щеках дрожали слезы, как подвески на люстре.
Острил его собеседник, майор из инженерных. Этот стоял лицом к панораме, заложив руки за спину, и косил в сторону пиджака вылинявшим глазом.
Их спутница молчала — изредка усмехалась. Ей не исполнилось и тридцати. Впрочем, бледность, искусанные губы и густые тени у ресниц старили ее.
На палубе было, как в оранжерее, где цветы и яркие птицы, — жарко, но она зябла, куталась в шаль. Так бывает от долгой бессонницы. Сосредоточенность ее казалась пустой. С таким видом люди повторяют про себя таблицу Пифагора, чтобы не думать о плохом.
Я уже видел этих троих прежде — у ресторана и на прогулочных палубах. Успел даже заметить: подобно трем точкам в пространстве, они образовывали собственную плоскость и не смешивались с прочей публикой даже в толчее.
Вокруг ходили, жестикулировали, смеялись, пестрели нарядной одеждой. Восклицали преувеличенно бодро. Из динамиков выскакивала музыка, заряженная нервной веселостью. Синкопы кололи, как серебряные иглы.
В салоне настраивались оркестранты, и похмельному трубачу казалось, что мундштук его инструмента оклеен наждаком.
В предбаннике у кухни старший буфетчик придирчиво ощупывал официантку — а вдруг эти обжоры отщипнули от нее кусочек? Официантка сплетничала. Она говорила, что капитан пьян уже сорок часов и что это ужас что такое. Она говорила без умолку, потому что буфетчик ей не нравился.
В медицинском отсеке доктор утешал старушку. На столике лежала мертвая морская свинка, опоясанная голубой лентой. Месяц назад на фронте убили двух старушкиных внуков, а сейчас вот еще и свинка умерла…
И всюду прыгающая музыка.
— Если бы ты, Андрюша, выучился на хирурга, то теперь выписывал бы свидетельства о грыжах. Хорошая грыжа стоит денег, — острил инженерный майор.
Румяный господин смеялся.
Женщина хотела что-то сказать, но передумала и отвернулась.
В этот момент военный корабль расцветился, сделался еще игрушечнее. От него отделился маленький бутончик и стал расти, догоняя нас. Потом бутончик развернулся в лиловую злую астру, и ее щупальца-лепестки опутали панораму.
Лайнер затрясло. Казалось, огромная собака ухватила его, будто крысу, и пытается задушить. Люди на палубе кричали растерянно и сердито. Так и кричат на чужих собак.
Музыка заткнулась, и теперь вместо нее скучный голос бормотал: «Сохраняйте спокойствие, сохраняйте спок…»
Палуба ходила волнами. Где-то в недрах лайнера родился жуткий металлический вопль, от которого у всех разом заныли зубы.
Толпа слепилась в тысяченожку, и та сразу принялась отплясывать «летку-енку» с дьявольским воодушевлением.
«Сохраняйте спокой…»
Тысяченожка ярилась.
Заряд разорвался слишком далеко, чтобы повредить нам, но тысяченожка вполне могла и сама уничтожить лайнер: обрушить палубу или прорвать обшивку, как бумагу, — так казалось. Из ее чрева женские голоса звали детей, а отдельный мужской напевно стонал: «А-а, ах!»
«…те спокойствие…»
Совсем юный штурман, с подрисованными усиками, нарядный, как конфета, ловко ввинтился в людскую гущу. На него сразу насел какой-то толстый, с потной губой, и поймал его за рукава кителя. Штурман освободился и, застенчиво улыбаясь, ударил. Толстый исчез.
Сохраняя улыбку, штурман подхватил под локти двух очень полных дам разом и мгновенно помог им выбраться.
Штурману ассистировали стюарды, сноровистые, как мураши. Тысяченожка скоро расторглась и утекла по галереям с палубы долой. На ковролине остались сверкать запонки и растоптанные стекла от очков.
Трое рядом со мной вели себя достойно, на свой лад. Румяный господин и женщина, зажмурившись очень похоже, держались за поручень, а инженерный майор с бывалым видом балансировал на расставленных ногах.
— Какого черта они делают? — сердился румяный, — Это же наш эсминец! Из эскадры Гурова!
— Это не эсминец, а линкор, — сказал инженерный майор. Ему хотелось сплюнуть на палубу, однако он удержался.
Линкор выпустил второй заряд. Он разорвался еще дальше от нас, чем первый. После этого корабль отвалился в сторону и быстро исчез.
— Да какая разница — линкор, шменкор… — сказал румяный с облегчением. — Это же хулиганство!
— Я бы на их месте тоже пальнул, — пожал плечами майор. — И очень просто. Как не пальнуть? Они воюют, гибнут, а тут — шампанское, джазик…
— Что ты говоришь! Вот х-хамы…
— А… будет тебе!
— Если бы вы знали, как вы мне надоели, — сказала женщина бесцветным голосом. — Уж так надоели, что сил моих нет…
И она ушла. Шаль соскользнула с одного ее плеча и держалась за другое бахромой, будто пальцами.
Когда она уходила, музыка на опустевшей палубе снова запрыгала. Женщина не обернулась.
Мужчины смотрели ей вслед.
Через полчаса я встретил ее в буфете.
Людей вокруг было много, и все делали вид, что недавний обстрел — только забавное приключение. О нем даже не говорили. Впрочем, от пережитого волнения у посетителей буфета был хороший аппетит. Они без конца ели пирожные.
— …Я предпочитаю солнечные очки от Кеплера…
— …Но стриптиз танцевать уже давно не умеют…
— …Разве это птифуры? Я у вас спрашиваю!
Голоса сливались, делались то громче, то тише. Лихорадка во мне сменилась уже привычным отупением и безразличием. Мне следовало пойти в свою каюту и уснуть, но я все сидел и притворялся, будто пью чай.
— …Еще неплохие очки от Цейса, но оправа не стильная…
— …«Пти» по-французски значит — «маленькие», а это… калоши какие-то!
— …Мало просто раздеться. Это любая горничная может. Нет, ты подай мне философию чувства…
— …Голубушка, с вашим носом от Цейса решительно противопоказаны!
— …И желе у вас какое-то липкое…
— …Вы, милочка, на свой нос сначала посмотрите!
Я заметил ее, когда она подошла к столику.
— Я к вам, Максимов. Можно? Да вы не вставайте. Что, вы меня не помните?
— Простите, — сказал я.
Она села напротив с напускной, излишне улыбчивой уверенностью.
— Неужели не помните? Всего-то пять лет прошло… Ну, вспоминайте, Максимов! Лето, Сестрорецк, дача Бибиковых… Я вас узнала еще на палубе. Но подойти постеснялась. А потом этот обстрел дурацкий…
— Да, — пробормотал я. — В самом деле, дурацкий.
— Вы повзрослели. — Она улыбнулась. — Война пошла вам на пользу.
Тут она заметила мой протез и осеклась, кусая губы.
— Не волнуйтесь, — сказал я, — Вы правы, я повзрослел.
«Угощаю! Всех! Чем-нибудь сладким! Приторным! Подсластим пилюлю! Чудаки… Через пятьдесят лет о нас не напишут даже в учебниках…»
Оратор у стойки буфета был в смокинге, несмотря на ранний час. Он дирижировал рюмкой, полной липкого ликера, и извивался всем телом, словно в нем не было ни одной твердой косточки.
«Хочу угостить! Это благодарность от потомков, которым не придется учить наши унылые биографии…»
— Вы знаете, я припоминаю, — сказал я. — Но не лица. Только голоса… и как волны блестят на солнце… Помню, что дно у Залива твердое и волнистое, похоже на шиферную крышу… События помню, и имена, будто с чужого пересказа. Это после контузии. Врач сказал — пройдет скоро. Так что вы извините…
— Не извиняйтесь. Я вам лучше помогу. Я — Анна. Меня все звали эльфийка Анариэль, потому что я ходила всегда в фэнтезийных платьях. И босиком. Простужалась и вечно наступала на гвозди. Везде их находила… А вы были противоречивы — спортивны и поэтичны… Я на вас сначала сердилась. Из-за того, что вы всегда были причесаны. Это раздражало. Причесанный мальчик рассуждает о Ронсаре! И играет в теннис…
Теперь она улыбалась по-настоящему — про себя. Должно быть, ей вспомнилась собственная ее улыбка пятилетней давности.
Я почувствовал запах ее духов — свежий клевер.
— Да, я тогда в самом деле… Но теперь не так, — сказал я.
«Но если вам, господа, не хочется оказаться вычеркнутыми из анналов, — продолжал оратор в смокинге, — то следует предпринять ряд изящных телодвижений…»
«Заткнитесь, — наконец!»
«В самом деле, скучно!»
«Тише, тише… Пусть говорит!»
«Это забавно, господа!»
«Да, забавно! Но должно быть еще забавнее. И лично я, ввиду наползающего осмоса, собираюсь… — оратор взял паузу, напустил на себя важный вид, — слизывать крэм кокосовый с тела кокотки прококаиненной!»
«Кошмар! Пусть замолчит!»
«Тут же дети!»
«Продолжайте, тут нет никаких детей!»
Прыгающая музыка. Женский смех…
— Теперь все не так, Максимов, — сказала Анна.
Я не заметил ее движения — только ощутил холодные, чуть влажные пальцы своей рукой.
— Я была замужем. Гусев, военный инженер, — мой бывший муж. Жили в колониях. Андрей, мой брат, — с нами. Он, кстати, почти не изменился. Только растолстел… Он ведь прирожденный дядюшка, как оказалось. Очень ждал, что мы родим ему племянников. Но не случилось… С Гусевым мы расстались, но… не разъехались. Знаете, как бывает? Впрочем, он — джентльмен.
— Да, я заметил. Ему не хватает костяной зубочистки. И стека под мышкой.
— Нет, правда, он — хороший человек. У него немного характер испортился, но ведь это у всех теперь? У меня — так точно…
— Я начинаю припоминать, — солгал я. — По-моему, вы не изменились ничуть…
— Там, где вовек не пас Макар Стада златых своих телятей, Мы развеселый данс-макабр Станцуем кстати! На берегу зловонной Леты Отменный выйдет пляж de nude, Пусть наши голые скелеты Мелькают там и тут!Оратор в смокинге декламировал нараспев, в худших традициях. В него метали булочками и скомканными салфетками. Он извивался.
— Тут весело, но мне пора, — сказала Анна. — Я приглашаю вас на обед. Мы обедаем в каюте. Первый класс, одиннадцатый номер.
— Я приду.
— Если не придете, я вас разыщу и приведу силой.
— Я приду, — сказал я. — Видите ли, Анна, мне нынче очень нужна женщина.
Она вспыхнула и крепко сжала губы. Убрала свою руку с моей. Закрыла глаза.
Потом вздохнула, кивнула медленно и сказала:
— Тогда непременно приходите.
Поднялась и вышла из буфета.
— В сущности, все это ужасно, — сказал Андрей.
Он сидел во главе стола, был лучезарен и мил.
— Что — ужасно? — спросил Гусев.
— Все. В особенности — твоя привычка скатывать шарики из хлеба.
— Ничего, не станет хлеба — не станет и привычки. Да что же вы, Максимов… Пейте!
Водка была хорошей, но пить мне не хотелось. Впрочем, одну рюмку я выпил, за встречу.
Анна сидела в кресле, в глубине каюты. Она много курила и иногда раздвигала ладонью муаровый дым, чтобы, щурясь, быстро посмотреть мне в лицо. Это были странные взгляды — без вопроса и утверждения. Когда я чувствовал их на себе, у меня остро и зло начинало стучать в висках.
По ее требованию звучал в каюте Шопен, на столе горели живые свечи, а по стенам струился сумрак вперемешку с золотыми блестками.
— Максимов не пьет, Максимов молчит… Максимов думы думает, — сказал Андрей и наполнил свою рюмку.
— Наверстывает упущенное, должно быть, — заметил Гусев.
— То есть?
— На фронте не нужно думать. Там все ясно. И потом — во время войны бывают ситуации, когда отключить рассудок — значит сохранить его.
— Банальность! А предполагать, что в мирной жизни таких ситуаций мало, — наивно, по меньшей мере, — душевно негодуя, сказал Андрей. — А вы пейте, Максимов, действительно. Пейте и закусывайте. На этом чудесном лайнере мы должны съесть и выпить все, что сможем. Говорят, на Земле такой отличной водки уже не достать. Равно как и закусок… Кошмарно, в сущности… Может, придется голодать!
Румяный Андрей опрокинул в себя рюмку, задышал и остановил взгляд. Мне показалось, будто он с ужасом всматривается куда-то чуть левее моего плеча.
— Ты так говоришь, будто тебе уже приходилось голодать, — сказал Гусев.
— О да! Целых три дня я однажды голодал! Это было чудовищно…
Андрей замотал головой, отгоняя то ли воспоминание о голоде, то ли самый призрак его за моим плечом.
Анна усмехнулась и закурила следующую папиросу.
Я был здесь, с этими людьми, только для того, чтобы в нужный момент взять Анну за руку и увести отсюда. По мне, момент этот настал уже давно. Но она думала иначе — ей следовало принять решение. Касающееся не нас обоих, а только ее одной.
Я ждал — уже без нетерпения. Утренняя лихорадка сообщала окружающему двойной смысл: я словно читал о себе самом в старой, терпко пахнущей книге, с неровно обрезанными страницами и пометками на широких полях.
— Максимов думает о том, что скоро он будет дома, — сказал Гусев. — Это приятные мысли. Пусть… Не будем его смущать.
— Пожалуй, — согласился Андрей. — А то ведь как обычно? Война, бестолочь, лучшие годы убиты… Горечь, одна горечь — как в этой рюмке. В сущности…
— Нет горечи, — сказал я.
— Ого! — Гусев щелкнул пальцами и подмигнул мне. — Лихо. Так-таки и нет? Ни капельки? А вы — пижон, Максимов. Но это к лучшему. Не обижайтесь.
— Да, обижаться не стоит, Максимов, — вставил Андрей, — у него после пятой стопки все кругом пижоны. В сущности…
— А то, что наш доктор именует сущностью, — просто пар. Мираж.
Гусев изобразил в воздухе пальцами облачко пара, а потом дунул в него для пущей убедительности.
— Я не обижаюсь, — сказал я. — Горечи нет. Я устал, но я скоро буду дома. Буду жить…
— А чем заниматься станете? — спросил Андрей.
— В самом деле, Максимов? — Анна подалась вперед и смотрела теперь с любопытством и строго.
— Наймусь в смотрители маяка на Заливе, — ответил я ей. — Буду рыбачить. Читать старые журналы. Заведу дворняжку, научу ее прыгать сквозь обруч. За спичками и солью стану приходить в сестрорецкий магазин — босой, в парусиновых штанах и панаме… Привыкну курить трубку и рассказывать небылицы.
— Чудесно, — сказал Андрей, откинулся на спинку стула и задышал, похожий на сытого кита.
— Это похоже на вас, — заметила Анна с удовлетворением, после чего вновь замкнулась в глубине табачного облака.
Гусев несколько раз сморгнул. Я вдруг заметил, что лицо у него сероватое, нездоровое, а морщины у глаз — в склеротических тонких розочках.
— Максимов — мудрец! — провозгласил Андрей. — Это закономерно и символично. Звездные странствия человечества закончились поражением, значит — нам всем пора домой. В колыбель, так сказать. Научимся жить немудрящим трудом, нехитрыми радостями, а звезды станут для нас просто звездами, как прежде… Эти крохотные плевочки… или как там?
Гусев поморщился. Потом, глядя на скатерть, произнес очень трезвым голосом:
— …И только высоко, у царских врат, Причастный тайнам, плакал ребенок О том, что никто не придет назад…Встав из-за стола, он преувеличенно твердым шагом подошел к иллюминатору. Щелкнул портсигаром. Сказал негромко:
— Привык курить в форточку… В космосе это смешно. Правда, Максимов?
— Ну вот… — Андрей заерзал на стуле. Ему было неловко. — Сам говорил, что не стоит смущать нашего гостя, и сам же раскаркался, как ворон Поэ…
— Нам пора, Максимов, — сказала Анна, вставая. — Только сначала я хочу туда, где громкая музыка и танцуют.
— А я думал — в преферансик… — растерянно пробормотал Андрей и покраснел.
Гусев резко обернулся.
— Преферансик? — переспросил он, шевельнул бровью, а потом громко рассмеялся, хлопая Андрея по плечу.
— А что? — удивился Андрей. — Хорошая игра…
Гусев едва процедил сквозь смех:
— Уморил… Сидеть мне вечно без одной… А? Не обращайте внимания, Максимов… Ради бога! Преферансик! Желаю… провести время…
Он поперхнулся и натужно закашлял, притопывая ногой. Сквозь его элегантную фигуру офицера-джентльмена вдруг проступило что-то совершенно неуместное, мужицкое. Мне подумалось — на Земле Гусев сразу отпустит неопрятную бороду и станет стричься «под горшок». А в линялых его глазах, у самых слезных желез, быстро заведется пьяненькое лукавство.
Я поднялся, подошел к двери. Анна стиснула мою левую руку чуть выше протеза.
Я сказал:
— До свидания.
И мы вышли из каюты.
— Долго не начинают, — сказал Нико и локтем медленно столкнул тарелку со стола.
Капитан Паташон сказал:
— У-у-у…
А когда тарелка разбилась, добавил:
— Пф-ф!
— Не думайте, Анна, что все друзья Максимова — такие свиньи, как мы, — сказал Нико.
— Остальные гораздо хуже, — сказал я.
— По крайней мере с нами весело, — заметил Паташон.
— Я люблю, когда весело, — сказала Анна.
После первого бокала вина в ее висок будто вогнали раскаленную иглу. Боль прояснила мысли до остроты, а чувства притупились. Это ей понравилось.
— Удивительное дело, — сказал капитан Паташон, — сидим, ждем этих лабухов в мятых смокингах, ничего не происходит, а нам — хорошо.
— Успел напиться, стало быть. — Нико увлеченно конструировал катапульту из двух вилок и солонки, воображая траекторию будущих снарядов.
Нико ждал выступления певицы. Он влюбился в нее по радио, еще на фронте. Другие уединялись с фотографиями женщин — Нико надевал наушники. Часто можно было увидеть, как он лежит на спине, на своей койке, с остекленевшими глазами, уставленными в не наше пространство, а его породистое грузинское лицо искажено пароксизмом — зубы ощерены, усы торчком.
В наушниках он не услышал тревоги однажды ночью и попал под лучевой удар, прямо в блиндаже. Нико почти рассекло надвое, а правая его щека прогорела насквозь — видны были зубы. Врач сказал, что это из-за провода от наушников.
Нико собрали воедино в полевом госпитале, а поскольку синтескина у врачей уже не было, ему поставили на щеку заплатку из его же собственной кожи, срезанной с ягодицы. Заплатка прижилась, но иногда здорово чесалась.
Паташон говорил, что так даже лучше. Певица, говорил он, обязательно сомлеет, узнав, что нежное чувство к ней превратило голову мужчины в задницу. Пусть даже и не на все сто процентов.
Паташон был упругий коротышка со смешным лицом. До войны он снимался в киномассовках — в удивительно дурацких картинах. На самом деле его звали Паша. Капитана он получил за то, что, напившись перед боем технического спирта, перепутал координаты цели и вместо обыкновенного и безобидного никуда влепил из главного калибра прямо в замаскированную базу противника.
Когда ему показали результаты этого спиритуозного вдохновения — груды горелого мяса и лопнувшего металла, — Паташон стал тихим. Он не говорил проникновенных речей, не лил пьяных слез. Но у него появилась странная привычка — вжимать голову в плечи и удивленно округлять глаза по поводу и без.
Спустя какое-то время он сказал полковому врачу: «Больше не могу. Все».
Врач был хороший. Он поверил и нарисовал Паше замечательный туберкулез и путевку в чахоточный санаторий на Земле. Теперь Нико дразнил Паташона, напевая противным писклявым голосом: «Я-а гибну, ка-ак роза, о-от бу-ури дыха-анья».
Мы сидели в танц-холле. Нико и Паташон торчали там почти постоянно, за лучшим столиком. При этом штатские компании они привечали охотно, а незнакомых военных изгоняли. Бывали и драки. Тогда высокий и сильный Нико страшно рычал, хватал противников и метал их в стену почти через весь зал, а Паташон скакал, как мяч, попадая макушкой в носы и подбородки.
Пока не было оркестра, крутили старые записи. Музыка звучала негромко, но иногда от басов тонконогие столики принимались вибрировать, а рюмки звенели сами собой.
Анна сидела совсем рядом, так, чтобы задевать меня рукой.
Время от времени разноцветные огни принимались метаться по потолку и разбегались в стороны, как испуганные насекомые. Свет из плафонов делился натрое — луч лунный, луч золотой, розовый…
Оркестр никак не мог начать.
Певица ходила по своей каюте из угла в угол. Каюта была тесная.
Певица плакала горько, как девочка плачет, споткнувшись.
На ее кровати лежал трубач. Он не знал, что сказать. Когда певица заплакала, трубач смутился и натянул на себя простыню.
Трубачу казалось, что целую вечность назад пришло это проклятое сообщение и что пора бы успокоиться.
Сообщение было на имя певицы. Это было письмо с фронта, от командира части, в которой служил ее муж.
Несколько часов назад муж превратился в пар, вместе со своей лучевой установкой. Теперь его молекулы вошли в состав атмосферы какой-то планеты, убогой и нелепой.
Пробежав сообщение глазами, певица зачем-то стала читать его вслух, а на языке у нее горел вкус мужского семени.
«Смерть героя… долг до конца… Честь и Отечество…»
Дикое сочетание: вкус чужого мужчины, на языке, на губах, в горле, вместе с именем мужа, которого не стало, вернее — который стал паром. Певица стала тереть язык пальцами, потом — салфеткой, вкус не пропадал, она закричала в голос, вскочила и запустила в трубача пустым стаканом.
Она все плакала и плакала, надела, не глядя, комбинацию, — конечно, изнанкой вверх. В дверь стучал управляющий оркестром, трубач чувствовал себя идиотом и шевелил губами.
Каюта была плохая, в ней пахло потными телами и застоявшимся сигаретным дымом. На полу волнами лежал облезлый ковер. На стенах желтели обои, неприятные на ощупь и взгляд.
Трубач сказал:
— Ну, довольно.
Женщина вскрикнула и швырнула второй стакан. Он разбился о переборку. Мелкие кусочки стекла посыпались трубачу на голову, застряли в напомаженных волосах.
— Михаил знал, что его убьют. Понимаешь, он знал, — сказал трубач. — Он сам меня попросил, Миша. Мы были друзья. Он попросил: «Присмотри за ней, когда меня убьют». Это его слова.
— Врешь!
Певица выкрикнула не «врешь», а другое слово, и прибавила к нему несколько других в том же роде.
— Он сказал: «Займись ею прямо теперь, — упрямо продолжал трубач, — тогда она быстрее забудет». Сам сказал. Мне лично. Было предчувствие у него.
— Врешь…
— Три недели назад, когда мы выступали у него в части. — Трубач подумал с тоской, что голос его звучит необыкновенно фальшиво. Вдруг его осенило, и он добавил вдохновенно: — Помнишь, мы выпивали, ты ушла в туалет. Вот тогда.
Он протянул руку, чтобы подобрать с пола трусы.
Певица перестала плакать — слезы кончились. Плакать хотелось, а слез не было.
— Ну врешь же, а?
Трубач покачал головой.
Стучал управляющий.
— Если ты опять пьяна, тебя уволят, — крикнул он из коридора.
— Сейчас я открою дверь и сломаю тебе нос, — сказал трубач громко.
— Пусть начинают, Иван Иванович, — сказала певица. — Я буду через десять минут. Простите.
Она ушла в душ.
Одеваясь, трубач случайно оторвал пуговицу с сорочки и выругался.
Официантка прислуживала старушке.
От старушки пахло женской сумочкой.
В каюте ее стояла пустая клетка, а горстка пепла — все, что осталось от морской свинки, — поместилось в спичечный коробок. Старушка оклеила коробок золотой фольгой с белыми звездами. Получилось очень нарядно. Теперь эта крошечная усыпальница находилась тут же, на столике, рядом с чайным блюдцем.
Подливая чай и поднося сливки, официантка поглядывала на блестящий коробок, слегка наклоняя голову, как сорока.
Девушку занимали простые мысли.
Здесь, на лайнере, имело смысл поддерживать отношения с буфетчиком. Но больше рейсов не будет. Это — понятно.
Буфетчик намекнул, что его уже ждет место в припортовой столовой. Место хорошее, сытное. Но нет ничего тоскливее припортовых столовых. Работяги, отупевшие от неудач, ловчилы без воображения и со странными иллюзиями… Унылое воровство плохого мяса с кухни, чад, серые полотенца и бумажные цветы, покрытые жирной пылью. Официантка мысленно содрогалась.
Такие, как она, не принимают решений — они просто знают. Девушка знала, что буфетчик останется побоку — и это хорошо! — и что она вернется на цветочную ферму, к брату и его жене. Все было ясно. Брат тоже неудачник, но свой. Это — важно.
Тем более что живые цветы лучше бумажных, особенно такие… Мерцающие в темноте ирисы. Хризантемы, умеющие танцевать лепестками, как женщина иногда танцует одними пальцами ног. Розы, отзывающиеся на поцелуи. Гиацинты, меняющие цвет и запах. Лучшее в жизни на ферме — утром стоять босиком на мокрой гравиевой дорожке и поливать гряды из зеленого шланга, и смотреть, как в распыленной струе вспыхивают отдельные капли. И чувствовать, как коварный инопланетный вьюнок, подкравшийся по земле, щекотными лепестками целует щиколотки…
Старушка кушала кекс. В уме она репетировала речь, которую произнесет своей дочери и ее мужу сразу по прибытии.
«Они убиты, — скажет она. — Но вы еще не стары и сможете родить еще, хотя бы одного. И вы сделаете это, даже если мне придется стоять над вашей кроватью и следить, чтобы вы старались. Иначе не видать вам моих денег».
Денег у нее, кстати, оставалось немного. Дочь — не очень умная женщина — отправила в большую жизнь двух молодых красавцев, не позаботясь об их карманных расходах. И старушка с готовностью оплачивала — карточные долги, портных и даже счета из борделей, притворяясь, что не понимает этого. Ей весело было смотреть, как девятнадцатилетние мужчины, от которых пахло свежестью, резвились и смеялись, избывая похмелье за завтраком.
Даже о женщинах из борделей она думала хорошо. Ей представлялись добрые, всеопытные и заботливые шлюхи, пахнущие розовой водой, лавандой и сандалом. Такие женщины — это старушка знала из романов — несут в себе мудрость жизни, воспоминания о тысячах планет, их тела горячи и сладки, в глазах — мечты о звездах, своими изощренными ласками (жены и даже невесты так не умеют) они рассказывают мужчинам о прекрасных дальних странах, о закатах и восходах над морями из дымчатого опала, над горами из бледной бирюзы… Конечно же, они отдавались ее внукам не только за деньги. Тут и думать нечего — внуки были необыкновенные мальчики! Они любили слушать истории о дальних морях и звездах.
Один полагал себя поэтом, другой — фотохудожником. У обоих получалось нелепо, но весело. Весь мир вокруг них смеялся, напевал, а отдельные предметы — зонтики, кофейные чашки, стулья — даже танцевали. У мальчиков не было врагов, только друзья. И даже те, кто убил их, не сделали бы этого, будь у них возможность…
…Конечно, они примут ее, думала официантка. Кто передавал записки? Кто стоял на посту, чтобы родители не застукали, пока брат с будущей своей женой целовались и кое-что еще, в ее — между прочим — комнате? Это, знаете ли, было хлопотно…
Она хихикнула, сливочник дрогнул в пальцах и уронил каплю на скатерть.
— Вы сегодня рассеянны, милочка, — сказала старушка.
Официантка не расслышала, улыбнулась и ответила:
— Благодарю вас. Приятного аппетита.
Нико успел соорудить катапульту и даже опробовать ее — шарики из жеваной салфетки здорово летели и исчезали в сумраке над головами танцующих.
— Сейчас будет цирк, — сказал капитан Паташон и подмигнул Анне. — Смертельный номер. Превращение дикого грузина в ручного обезьяна.
— Да, сейчас она выйдет, — сказал Нико и выставил нос по направлению к сцене.
Певица появилась в перекрестии лучей, платье на ней ожило — потекло искрами с плеч на пол… Голос ее плыл медленно, огибая столики, обходя танцующие пары.
Трубач посмотрел ей в спину, и у него задергалась щека. Потом он сделал зверское лицо и прижал мундштук к губам, нахмурился. Но звук трубы вышел теплым и легким.
Нико гортанно стонал и щерился. Когда голос певицы толкнул его в грудь, он громко выдохнул:
— Ах-ха! — и остеклянил глаза.
Поднялся, ссутулился, действительно как обезьяна, и направился к сцене. Там он занял привычное место — у стены, напротив лаковой туши контрабаса. Он знал, что со сцены не видно его изуродованного лица.
Случайные пары, проплывавшие мимо Нико, чувствовали тяжкую вибрацию воздуха и спешили подальше. Некоторые оглядывались.
— Он никогда ей не скажет, ни за что, — сказал Паташон.
Ему надоело смеяться над Нико, и он пошел в уборную.
— Надо танцевать, — сказала Анна, и мы с ней почти сразу оказались в самом центре площадки.
Она танцевала не очень хорошо, делала некстати строгое лицо, кусала губы и к тому же пыталась вести. Я сильнее сжал ее талию пальцами здоровой руки. И почувствовал, как сильно она дрожит.
— Идемте к вам. Сию минуту, а то я не смогу. — Она остановилась и поглядела на меня с вызовом.
— Пойдем, — сказал я. — Это недалеко.
Первое, что сделал агент Ковальский, закрыв дверь каюты на ключ, — выскользнул из куртки смокинга. Куртка упала на пол, раскинув рукава в пьяном жесте. Вся она была в пятнах от ликера, а атласный лацкан в двух местах пострадал от зажженной сигареты, словно смокинг пытали.
Хохотнув, Ковальский наподдал ногой, и куртка отлетела в угол, легла неопрятной тряпкой.
— Ты в самом деле пьян? Или нанюхался?
В углу каюты, в кресле, сидел буфетчик и держал на коленях большой пистолет.
Ковальский улыбнулся:
— Какая встреча! Хотите выпить? А у меня до вас дело. Я, видите ли, истратил все запасы… ну, вы понимаете — чего. Шепнули — про вас. Заплачу хорошо. А вы как догадались о моей беде? Интуиция? Вы — телепат? А, ну конечно… вы живете в мире расширенного сознания! Ваш разум парит в сверхэкзистенциальном микрокосме и прозревает тайны чужих астральных оболочек…
— Ты — дешевка, — сказал буфетчик. — Никакой ты не богемный ширяла. Ты — сыч. Зовут тебя Анджей Ковальский. Я знал о тебе раньше, чем ты взошел на борт.
— Интересно, — сказал Ковальский и облизнулся. — Только вы ошибаетесь. Микрокосм затуманен. Осмос атакует…
Буфетчик смотрел на него тускло.
В своих владениях, за стойкой, он казался затюканным, прибитым типом, этаким маленьким пескарем с выпученными от постоянного испуга глазами.
Теперь же с неприятным удивлением Ковальский видел перед собой грузного, по-видимому, очень сильного мужчину с крепким подбородком.
— Ты идиот, — сказал буфетчик.
— А вы — сердитый сукин сын, — парировал Ковальский. — Не хотите продавать — не надо. Найду в другом месте.
— Про тебя говорят, что ты — упрямый псих, — сказал буфетчик. — Так и говорят — псих. Прямо сейчас тебя убить? Мне ничего за это не будет.
— Вы хотите меня астрально уничтожить? Это скучно! — В голосе Ковальского прозвучало самое неподдельное изумление.
— Ты знаешь, что это такое, придурок?
В руке буфетчика медно блеснул маленький жетон с гравировкой и номером.
— Видишь это? Ты — фуфло. Я — сотрудник контрразведки. Понимаешь, придурок, разницу? Я буду продавать героин тоннами у тебя под носом, а ты и другие неудачники вроде тебя — на версту ко мне не подойдете. Можешь проверить, если хочешь. Давай, проверяй, недоносок. Тебя сразу уберут. Ты никому не нужен.
— Ч-черт! — сказал Ковальский.
— Ого! Да ты не такой тупой… Ладно, умник. Сядь, порукоблудствуй. Я ведь к тебе за удовольствием зашел. Посмотреть на твою рожу поганую, как она вытянется… Я доволен. Поимел тебя, как девку.
Буфетчик встал и подошел к двери.
Ковальский задыхался. Он не испытывал ненависти к этому человеку — просто ему казалось, что буфетчик выпил весь воздух в его каюте, и если он уйдет так просто, то останется вакуум, в котором он, Ковальский, погибнет, едва закроется дверь.
От буфетчика волнами исходили животная злоба и мощь. Он не повышал голоса, не делал резких движений, и от этого стоять рядом с ним было даже страшнее.
Буфетчик сказал что-то, Ковальский не расслышал и переспросил:
— Что?
— Дверь отопри!
— Сейчас, — пробормотал агент и подумал: «Какой же он все-таки здоровый… Удивительно даже!»
— Понимаете ли, — сказал он растерянным тоном и опять облизнулся, — вы все-таки недооцениваете угрозу осмоса. Постичь ее можно только вне границ разума, оттолкнувшись от колеса Сансары… Мы живем в мире символов и предзнаменований, и наша странная дерганая музыка, и наша болезненная поэзия, больше похожая на шаманские выкрики, — все это лишь результаты контузии от взрыва какой-нибудь неизвестной звезды…
Разболтанной походкой Ковальский подошел к буфетчику вплотную, извиваясь протиснулся мимо, встал у двери.
Сказал:
— Одну минуту, — и сделал вид, будто ищет в кармане ключ.
— Так. Да, все именно так, — сказала Анна.
Она лежала поверх покрывала, на спине, и смотрела на меня. Свет ночника выхватывал из сумерек ее лицо, и было видно, как она плачет.
— Все так. Я живая, — сказала она.
— Ты — живая, — повторил я.
— Но тогда почему, почему мне внушают обратное? Зачем им я — мертвая? С мертвыми проще? Да?
— Наверное.
— Если бы ты знал, как копится тоска… Сначала она под сердцем. Потом ты чувствуешь ее животом. Низом живота. Она — тянет. Это физически больно, понимаешь? Там все становится тяжелым и болит… Это очень противно, Максимов. Это физиологично.
— Надо думать, — сказал я и повернулся к ней лицом.
— Тебе тошно слушать об этом, я знаю. А ему — не было тошно это знать. Он… они… Да, они — их было несколько… Я пыталась найти облегчение. Но все повторялось, как дурной сон, как дрянной ресторанный шансон, — из вечера в вечер одинаковый, мутный. И если бы они просто использовали бы меня, как мужчина использует продажную женщину — без сантиментов, без иллюзий, — о, мне было бы легче!
— Тебе только так кажется, — сказал я. — Легче бы не было.
— И разговоры, разговоры без конца. О чем? О том, как хорошо было до войны и как плохо будет после нее. Все, кто не был на фронте, — как сговорились. Одно и то же! И все смущались, будто воришки. Карманники! Похитители платков… Ну как такой мужчина может взять женщину? Трусливо, с оглядкой, стесняясь… Все они боялись, что я рассмеюсь им в лицо. Одна насмешка — и увяла дутая мужественность. Пф-ф! Боялись и мстили мне. Гусев даже бил. Он бьет слабых. Но только когда пьяный. Он другой был, знаешь? Сломалось в нем что-то…
— Хватит, не хочу о нем, — сказал я.
— Хорошо, что ты другой. Хорошо, что я живая…
— Конечно хорошо, — сказал я, поцеловал ее мокрые глаза и добавил: — Когда ты без одежды, у тебя совсем другое лицо.
Юный штурман кейфствовал, в меру своего понимания этого слова.
Он возлежал в шезлонге, обнаженный, и курил наргиле.
— Колониальная привычка, знаете ли, — говорил он. — У нас в колониях…
— Ты есть болтун, — сказала одна из близняшек.
Она делала штурману массаж ступней, время от времени проводя кончиками сосков по его подошвам. Ей нравилось, что у юного штурмана небольшие, изящные ноги.
Вторая близняшка взяла из его руки чубук и неумело затянулась. Этой больше нравилось просто смотреть на голого мальчика, сложенного к тому же по фасону античного акробата. Когда ласка первой сестры становилась слишком чувственной, каждая мышца на теле штурмана делалась рельефной, а потом — расслаблялась.
— Я не болтун. — Штурман в шутку надул губы. — Я — герой. Правда.
— О, ты есть болтунский герой! — сказала вторая сестра.
— Ха-ха, — сказал штурман, отщипнул виноградинку от кисти, лежащей на блюде, но до рта не донес — уронил и длинно всхлипнул, потому что первая двойняшка обхватила губами большой палец его ноги.
Вторая тем временем скользнула ладонью по его животу и засмеялась колокольчиком.
— Болтать — опять, — сказала она.
— У нас в колониях… есть такие женщины… — сказал штурман прыгающим голосом. — Они предсказывают будущее… У них… языки золотого цвета, в поперечных шрамах, а глаза — как из серебра зеркала… Они кочуют в повозках… расшитых зелеными и синими зверями… Одна такая гадалка — на каждой щеке нарисован паук… она сказала мне, что в следующем рейсе я встречу двух одинаковых девушек… и они будут меня любить…
— Я — любить, — снова рассмеялась вторая, а первая сказала: «Мм…» — и прикусила палец зубами, острыми, как у белки.
Переведя дыхание, штурман продолжил:
— «А потом, — сказала гадалка, и пауки на ее лице шевелились, как живые, — потом ты пойдешь на войну, станешь пилотом-истребителем и совершишь подвиг. Тебя наградят. У тебя будет слава, и детям станут про тебя рассказывать в школах». Да, так она и сказала. Она еще много чего нагадала, и пока все сбылось…
Гадалка действительно была права. Но она сказала не все, что узнала. Да и как такое было сказать гибкому мальчику с подрисованными щегольскими усиками?
Она увидела, как этот мальчик, с окровавленным лицом, в обгорелом голубом мундире, сидит, привязанный к стулу, как дрожат его пальцы с сорванными ногтями, как бежит по его телу электрический ток…
Она увидела, как огромный мужчина в желтой форменной рубашке ломает ему голени железным прутом и повторяет одну и ту же фразу, — судя по движению губ, — нависая над привязанным. Как этот болтливый и легкомысленный клиент, там — в видении — почти уже неживой, вдруг улыбается со злой радостью и харкает врагу в лицо темно-красным сгустком. Увидела, как упругий луч, похожий на лепесток анемона, медленно выжигает дыру в еще красивом, но уже никуда не годном теле…
Надо отдать ей должное, гадалка даже не сморгнула. Она была опытная и уже видела кое-что похлеще — и про парней в голубой форме, и про парней в желтой. Гадалка не рассказала подробностей подвига, а чтобы штурман ничего не заподозрил, приняла от него деньги. Гадание стоило двадцать рублей.
Потом, когда штурман ушел, гадалка достала тонкий серебряный нож, высунула язык, словно пыталась поймать дождевую каплю, и лезвием прочертила на нем еще один шрам.
— Интересно, — сказал штурман, — а ваши папа унд мама не рассердятся, если узнают, как вы проводите время на борту нашего чудесного лайнера?
Двойняшки расхохотались обе, кинулись на него и принялись щекотать и тискать. Шезлонг, к их восторгу, тут же обрушился.
Они смеялись, потому что их почтенные родители уже отужинали чинно в ресторане, посмотрели приличное шоу, приняли душ, облачились в толстые полосатые пижамы и теперь мирно спят, как и положено всем папам унд мамам на свете. И это есть великая жизненная правда.
Когда Анна уснула — настоящим сном, словно упала в бесконечный колодец, я тихо поднялся и оделся. Хотелось курить.
Вода в графине оказалась невкусной.
— Какого черта? — сказал я шепотом и вышел.
Бар был еще открыт. Мертвецки пьяный Нико приветственно взревел, Паташон — в том же состоянии — оторвал голову от стойки.
— Тш-ш… не видишь — я танцую, — сказал он.
Нико пытался петь один — за весь грузинский хор. Бармен, которому все это осточертело еще вчера, потихоньку насасывался дешевым пивом.
Деньги оставались. Я выпил коньяку, достал из Паташонова кармана сигарету и закурил.
— Все в мире есть танец, — сказал Паташон. — Даже когда поют — это на самом деле танец. Танцуют голоса. Танцуют голоса женщин и труб. Саксофоны — и те откалывают коленца…
В бар вошел Гусев. Увидев меня, он подошел и сел рядом.
— Потанцуем? — спросил Паташон.
Нико продолжал петь.
— Ну как? — спросил Гусев. — Ухватили кусочек счастья?
Я не ответил.
— Да бросьте стесняться. Мы с вами теперь — члены одного клуба. Клуба Неполноценных Мужчин, Чье Либидо Попало В Тиски. Все — с большой буквы.
— Н-да, — добавил он после паузы, — вы тот еще гусь. Трудно с вами.
— Много женщин и труб, — сказал Паташон. — Все это кружится, сплетается, совокупляется… Не веришь? Спроси у Нико.
— Каково быть персонажем анекдота? Еще не прочувствовали? А хотите — расскажу?
— Идите к черту, — сказал я.
— Это забавно, правда. Женщина понимает, что жизнь — это не прогулки босиком в эльфийских нарядах, не бесконечная идиллия на сестрорецкой даче — чужой даче, это я к слову, — не бадминтон, не Ронсар поутру… Что жизнь состоит из пошленького быта, судорожных финансовых спазмов — от жалованья до жалованья. Несвежие мужнины воротнички. Счета от прачки. Да, как же я забыл — рядом крутится скучнейший субъект, которому утром на службу, который не хочет Ронсара, а хочет спать… Муж то есть… Да… открытие. Ф-фу, я пьян. А вы, Максимов? Нет? Ваше дело. Ну вот, приходит озарение в хорошенькую головку. И родятся в этой головке всякие смутные идеи о переустройстве жизни. Ну, конечно, переустроить ничего не удается. А иллюзии так приятны. Можно взять какого-нибудь покалеченного мальчишку вроде вас, подранка этакого, затащить его в постель — потому что пойдет обязательно…
— Убирайтесь, — сказал я.
Тогда он меня ударил.
Удар был по-настоящему сильным. Я даже не покачнулся — так и бывает при сильных ударах, — но тело мое само захотело сползти на пол и улечься. Пришлось крепко ухватиться здоровой рукой за стойку и повиснуть на ней.
Мне показалось, что я оглох. Но это Нико прекратил петь.
Щерясь и топорща усы, он вклинился между мной и Гусевым.
— Знаешь, что это такое? — спросил он, тыча пальцем в свою заплатку на щеке. — Это — моя задница.
Гусев побледнел и выпрямился.
— Хочешь поцеловать меня в задницу? — спросил Нико.
— Не надо, Нико, — сказал я. — Господин майор уже уходит.
Гусев с неподвижным лицом направился к дверям, постоял там несколько секунд, рассмеялся деревянно и вышел.
— Это из-за Анны? — спросил Нико.
— Да нет, что ты, — сказал я.
— Надо было ему врезать, а?
— Зачем?
— Ну как знаешь. Между прочим, мы утром прибываем.
— До утра еще долго.
— Хотите приложить лед? — спросил бармен.
— Танцы на льду бывают двух видов, — сказал Паташон. — Мне нравится второй. Когда льдинки пляшут в стакане… А на каждой — вот такая маленькая певица. Каждая певица — поет, что логично… Я одинок, я одинок, я странно танцую один…
— Животное, — сказал ему Нико.
Потом он запел.
Он пел негромко, сосредоточенно, не так, как раньше, — перекрикивая сам себя. Теперь он словно терпеливо отвечал на трудный вопрос, и голос его стал теплым, упругим, раздвинул стенки бара, переборки лайнера, все это сделалось прозрачным, и мы словно висели в космосе, а голос держал нас, не давал упасть в черноту.
Под нами неподвижно стояла Земля, из-под круглых краев ее выглядывали лапы огромной черепахи, а по земной поверхности гуляли облака, переливались моря, в горах сходили лавины, на площадях опустевших городов ветер перелистывал старые газеты, жена рыбака зашла в воду по колено и смеялась, махала рукой далекой лодке на горизонте… А голос летел дальше, и теперь, я уверен, все еще летит, и перед ним еще пустота, а позади — уже миры, полные жизни, нехитрого счастья, и где-то варят пиво, где-то давят виноград, делают детей, прогуливают уроки, пуляют косточками от маслин, играют музыку, танцуют, плачут, пишут картины и мучаются с похмелья и читают стихи…
Старушку встречал зять.
— Здравствуйте, мама, — сказал он. — Катя болеет, она почти не встает. Но мы вас очень ждали.
Старушка посмотрела на него. Высокий, сутулый. Неинтересное лицо, невыспавшееся, чужое. Дешевый мятый плащ. Никакого сходства с собственными сыновьями.
— Здравствуй, — сказала она. — Ну, пойдем? Надо забрать багаж.
Неожиданно зять схватил ее за руку, прижал к своему лицу и заплакал, горько, не сдерживаясь.
— Пойдем, я хочу скорее видеть Катю, — сказала старушка и погладила его по щеке.
Официантка торопливо сошла по трапу. Буфетчика не могли доискаться со вчерашнего вечера, чему девушка была несказанно рада. Ей совсем не хотелось выслушивать деловые предложения этого человека и ощущать на бедрах его грубые руки.
Ночью прошел дождь, и площадь сверкала лужами в лучах фонарей — до рассвета оставалось почти два часа.
Официантка бойко шла и слушала стук собственных каблучков.
«Какое здесь эхо», — думала она с удивлением.
— Я — ничего, красивая, — сказала она своему отражению в луже и высунула язык.
Потом она запела — тра-ля-ля! — и вприпрыжку побежала на огни первого автобуса. Прямо через лужи.
Агент Ковальский — в приличном сером костюме и кепке — стоял на пороге своей каюты.
— Истина, — говорил он, — нигде не прячется. Она у всех на виду. Поэтому люди думают, будто ее нет. Но она есть. И осмос тут ни при чем, знаете ли. Можете сколько угодно играть в разведчиков, торговать героином, попирать чужие души, глумиться над самой идеей жизни… Не поможет. Настанет роковой момент, и упругие стенки микрокосма сожмутся капканом. Пора прощаться со старыми представлениями о мире. Взорвавшаяся ли звезда виновата или просто на краю вселенской песочницы некто уронил игрушечную галактику — так ли это важно. Прощайте и вы, воплощение энтропии. Я бы назвал вас живым воплощением, но, во-первых, это был бы оксюморон, а во-вторых, вы мертвы. Потому что я вас убил.
Буфетчик, к которому обращался Ковальский, действительно был мертвее мертвого.
— Нас рассчитали, — сказал трубач.
— Плевать, — сказала певица.
Они сидели в автобусе. Автобус стоял на остановке. К нему по лужам бежала улыбающаяся девушка.
— Тебе хорошо, ты известная, — сказал трубач. — Работу найдешь.
— Найду я — найдешь и ты. Ты хороший музыкант.
— Я — осел…
— Вы все — ослы.
Трубач достал из кармана плоскую флягу, отвернул крышку и сделал два глотка.
— Хочешь?
— Давай.
У певицы был сложный характер. К тому же она не выспалась.
Она смотрела в окно и думала: «Конечно, он будет пропивать мои заработки, а я изменю ему с первым встречным. Это — правда. Я такая. А он… он — неудачник, пьяница, рохля и лгун. Но ни один мужчина в мире не сделал для меня больше, чем он — прошлым вечером. Это чего-нибудь да стоит. Любит, что ли?»
Трубач ни о чем не думал. Посмотрев на него, певица увидела, что он спит.
— Это, в сущности, замечательно! — говорил Андрей. — Принюхайтесь, чудаки! Вот чего мне не хватало все эти годы. Вы чувствуете? Как можно было жить без этого… Зачем? Чего ради?
Он в экстатическом восторге ходил вокруг целой пирамиды из багажа, воздевал руки и прищелкивал языком.
Анна смотрела на меня отстраненно. Рука ее, которую я пожал, была суха, прохладна и не дрожала.
— Стало быть, прощайте? — спросил я.
Анна бросила взгляд в сторону Гусева. Тот стоял к нам спиной и фальшиво посвистывал. Он избегал встречаться со мною глазами, просто ждал, когда я уйду.
— Ну принюхайтесь же! Грибами пахнет, вы понимаете? — сказал Андрей и старательно стал втягивать воздух носом.
Действительно — пахло грибами.
— Ну почему — прощайте, Максимов? — спросила Анна без улыбки. — До свидания, это самое меньшее.
Постояли, помолчали. Мне пора было идти.
— Ну так что же? На Залив? Вы решили?
— А ну вас, — сказал Андрей. — Пойду искать извозчика.
— Осенью там туманно, ветрено. Груды водорослей на берегу… Мертвые птицы… Вам будет одиноко, Максимов? Вам бывает одиноко?
Я пожал плечами.
— Извозчик? Извозчик! — кричал Андрей и махал руками в темноту.
— Вам будет не хватать меня? Будете вспоминать?
— Да, — сказал я. — Обязательно буду.
— Все может случится. Вдруг я приду? Вдруг я приду к вам? Вы подождете?
— Вы знаете, где меня искать.
Она кивнула.
— Вы обрадуетесь? Правда? Как другу?
— Да. Как хорошему, старому другу.
Я снова пожал ей руку, подхватил свой чемодан и пошел к станции метро.
«Конечно же, ты не придешь, — думал я. — Но я подожду. Отчего бы не подождать?»
Павел Шумил Цикл «Жестокие сказки»
Переведи меня через майдан Сказка № 4
Литературным конференциям компьютерной сети FIDO посвящается.
Любые совпадения с реальными событиями неслучайны,
однако это не те события, о которых Вы подумали.:)
Не верьте погоде, Когда затяжные дожди она льет. Не верьте пехоте, Когда она бравые песни поет. Не верьте, не верьте, Когда по садам закричат соловьи: У жизни и смерти Еще не окончены счеты свои. Булат ОкуджаваИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАКЕТ № 1
Что делать Человечеству, если на Галактику надвигается опасность, превосходящая все мыслимые пределы? Если из неведомых глубин накатывается Волна, изменяющая физические законы. Если бесполезно думать о защите и можно только бежать. Разбегаться как тараканы во все стороны, прятаться по щелям — и вновь бежать, почувствовав опасность.
Хуже всего, что гравитационное поле звезд рвало фронт Волны, заворачивало, скручивало. Вместо одной Волны по Галактике разбежались тысячи Волн. Они сталкивались, пересекались, гасили и усиливали друг друга. Предсказать что-то стало невозможно.
Но это же было и спасением. Потому что не стало единого фронта Волны. Действие его рассредоточилось по времени и пространству, и многие звезды получили шанс уцелеть.
Мы играли с судьбой в пятнашки, в жмурки. Мы скакали по галактике как блохи. Мотив простой: не стой на месте. Будешь стоять — рано или поздно Волна тебя запятнает. Прыгай. Но не ошибись. Не запятнай Волну сам. Игра в русскую рулетку.
Мы обменивались информационными пакетами. Где, когда, кто засек Волну и какой интенсивности. Вначале корабль ловил тысячи информационных пакетов. Теперь — десятки.
Наш экипаж запятнал волну дважды.
* * *
Я стоял и слушал. Помнишь, нас учили быть птицами, Эй, не отворачивай голову. Птицами с волшебными лицами — Чистыми, высокими гордыми. Помнишь, нас учили жить с песнями, Как нам не сиделось за партами Мы бежали в рай, где под лестницей Маялась гитара инфарктами…Бонус прощался с кораблем и Надеждой. Вулканчик любила эту песню. Я хотел подпеть, но удержался. Ни голоса, ни слуха у меня не было. На занятиях хора Надя отвела мне почетное место зрителя.
И не знали мы, черти скрытные, Трогая ресницы ресницами, Что уже тогда были с крыльями… Помнишь, нас учили быть птицами.Стараясь не шуметь, вышел из отсека. Взглядом постороннего последний раз окинул коридор. Корабль был стар. Очень стар. Пять биолет и пять веков анабиоза провели мы в этих стенах. Стоило закрыть глаза, как злая память вернула тот вечер. Тот самый, когда мы, четверо, стали экипажем…
— Кто это? — спросила Луиза. Ты ее знаешь?
— Надежда Кавун. Она же — Вулканчик.
Переведiть мене через майдан, Де все святкують, б'ються i воюють, Де часом i себе й мене не чують. Переведiть мене через майдан.С невыразимой тоской выводила Вулканчик, сидя на подоконнике казармы и перебирая гитарные струны. Луиза до боли сжала мою руку и потащила к соседнему подоконнику. Заметив нас, Вулканчик перешла на русский.
Переведи меня через майдан, Он битвами, слезами, смехом дышит, Порой меня и сам себя не слышит. Переведи меня через майдан. Переведи меня через майдан, Где мной все песни сыграны и спеты, Я в тишь войду и стихну — был и нету. Переведи меня через майдан.Бонус плюхнулся на подоконник рядом с ней.
— Что такое — майдан? — спросил он.
— У каждого поколения своя Волна. Майдан — это Волна наших предков. А в быту майдан это поле, площадь. Жизнь прожить — не поле перейти. Вот он оно и есть.
— Берем ее в экипаж! — горячо зашептала Луиза.
— Но она без Бонуса не пойдет.
— Значит, берем с Бонусом.
— Но…
— Никаких «но»! Кто у нас капитан? Ну вот — губы надул. Бонус, между прочим, лучший пилот-атмосферник факультета!
Переведи меня через майдан, С моей любовью, с болью от потравы. Здесь дни моей ничтожности и славы. Переведи меня через майдан.— Ты серьезно?
— Глупышка! Думаешь, ты один экипаж набираешь? Я еще два семестра назад влезла в комп деканата и списала все личные дела.
— Сама глупышка. Попалась бы — птицей вылетела.
— А я и попалась, — улыбнулась Луиза. — Секретарша не вовремя вернулась и шум подняла.
— И не выгнали?
— Я правду сказала. Что ищу спутников для полета. Пожурили и отпустили… на кухню, картошку чистить. Я ее теперь с закрытыми глазами чистить могу.
— А я люблю картошку!
— Хто любить бульбу? — воскликнула Вулканчик, опустив гитару.
— Во! Уже общие интересы нашлись! Надя, Капитан любит чистить картошку. А я люблю есть. Бонус, ты как к картошке относишься?
— Чипсы люблю.
— Ну-у… Чипсы это не картошка! Хочешь настоящей картошки попробовать? Луиза угощает.
— Вечеринка? Я — за! — живо откликнулся Бонус. — Вулканчик, ты как?
— Я тебя головой об стенку стукну, — шепнула на ухо Луиза. — Сам чистить будешь!
— Кэп, это несправедливо! Кто же вербует экипаж посреди коридора?! Пираты так не делают! Пираты вербуют экипаж в таверне за кружкой рома!
Какие мы были молодые, бесшабашные. Луиза, Звездочка моя…
— Прощайте, девочки, — сказал я вслух.
Бонус уже скрылся в шлюзовом тамбуре шаттла. Я переступил через комингс и задвинул крышку люка.
— Готово!
Уши заложило от изменения давления. Это Бонус проверял герметичность кабины. Он уже сидел в левом кресле. Я сел в правое, привычным жестом накинул ремни. В среднем кресле сидела обычно Звездочка. Вулканчик садилась в среднее кресло второго ряда.
— «Молитву» будем?
— К черту. Час назад тесты прогнали.
Молитвой почему-то назывался предстартовый экспресс-контроль всех систем корабля.
— Гуд, — отозвался Бонус и защелкал тумблерами, активируя системы шаттла. Я со своего пульта связался с кибермозгом корабля и запустил процедуру шлюзования.
— За бортом вакуум… Створ пошел… Створ открыт, — комментировал я показания телеметрии. — Кабель-штага отошла… Швартовые захваты отошли… К разделению готовы.
— Лэт ми фри, — буркнул Бонус, отбросил предохранительную скобу и вдавил клавишу расстыковки. Гидравлические штанги толкателей мягко вытолкнули катер в черноту космоса.
— Створ пошел… Створ закрыт, — я по привычке комментировал показания телеметрии с корабля.
— Вижу, — отозвался Бонус.
Я оторвался от экрана монитора и взглянул через лобовое стекло. Обшивка корабля тускло отсвечивала зеленоватым оттенком анодированного алюминия. В прошлый выход она была просто серой. Трехслойный свинцовый экран мы сбросили сутки назад, чтоб корабль мог сесть на планету с атмосферой.
Бонус шевельнул штурвалом. Коротко ударили двигатели ориентации, и корабль уплыл из поля зрения.
— Порядок. Кибермозг доложил, корабль переходит на режим консервации.
— Гуд, — отозвался Бонус, и перегрузка мягко вдавила нас в кресла.
Нажав пару клавиш на клавиатуре левого подлокотника, я вывел на лобовое стекло перед собой параметры орбиты. Высота перигея стремительно уменьшалась. Когда произошла отсечка двигателя, она составляла всего 0.6 мегаметра. Я взглянул на цифры периода орбиты, сбросил привязные ремни и, клацая магнитными подошвами по полу, направился в салон. Бонус щелкнул тумблером автопилота и вышел вслед за мной.
— Хорошая планета. В смысле, хорошо сохранилась, — сказал он.
— Кладбище.
— Разве это кладбище? Земля — кладбище. Эта — зеленая…
— Наверно, Земля сейчас тоже зеленая. Сколько лет прошло… Кофе будешь?
— Перед сном?
— Как хочешь.
Высосав гермопакет кофе с молоком, я откинул полку, стянул ботинки и нырнул под страховочную сетку.
— Терпеть ненавижу спать в невесомости.
— Тогда разбуди меня за час до перигея.
Проснулся от ускорения, чуть не сбросившего меня с полки. Удержала сетка. Впрочем, ускорение было небольшим, не более четверти «g». Я дождался конца маневра, отстегнул сетку, сунул ноги в магнитные ботинки и побрел в кабину.
— Где мы?
— На круговой. Шестьсот километров, период девяносто шесть и четыре десятых минуты.
Я сел в свое кресло и проверил телеметрию с борта корабля.
— Консервация закончена.
— Ты веришь, что через час мы своими ногами на землю ступим?
— А куда мы, на фиг, денемся?..
— Через восемь минут третий маневр.
— Завтракал?
— Нет.
— Успеем. Я принесу.
Через пару минут я вернулся в салон, буксируя, словно воздушный шарик, сумку, набитую упаковками с едой. Сел в свое кресло, сумку сунул под ремни соседнего. Бонус, не отрывая взгляда от экрана автопилота, протянул руку, достал бисквит и туб с каким-то соком. Повесил перед собой в воздухе. Его левая рука безостановочно скользила по координатному планшету, на экране возникали и исчезали колонки цифр. Правой он подносил ко рту то бисквит, то тюбик с соком, оставляя второй предмет плавать в воздухе. Я выбрал туб с молоком и кусок черного хлеба. Минуту косился на экран Бонуса, потом продублировал картинку на своем. Бонус прикидывал, как посадить шаттл на побережье в пяти тысячах километров от плоскости текущего витка.
— Не получится.
— Получится, — грустно вздохнул Бонус. — Восемь «g» потерпишь?
— Атмосферный маневр? А шаттл не развалишь?
— Тебя это волнует?
— Нет, — сознался я.
Бонус доел бисквит, сунул пустой туб под сетку «бардачка» слева от себя и взялся за штурвал. Я подтянул ремни, а сумку переставил себе на колени, чтоб не летала по кабине во время маневров.
Дважды вякнули двигатели ориентации. Тело повело влево и вверх. Я прижал сумку к животу, поспешно допил молоко и убрал пустой туб в сумку. Снова взвыли движки, и тут же включился маршевый двигатель. На этот раз Бонус не деликатничал. Не меньше четырех «g». И сразу же, не дожидаясь отсечки маршевого, новый маневр. Шаттл теперь шел в атмосферу, чуть задрав нос относительно вектора скорости и слегка завалившись на левый борт. Пилотировал Бонус мастерски.
— На воду?
— Да. Бухта там симпатичная.
На незнакомых планетах инструкторы рекомендовали садиться на воду. Желательно — морскую. Это безопасней и мягче. Море не может обернуться зыбучим песком, рыхлым грунтом или болотом. Море есть море.
От нечего делать вновь проверил телеметрию с борта корабля. Наверху все было в порядке.
Едва успел закончить, как шаттл почувствовал атмосферу. Перегрузка плавно вдавила в кресло. Я принял позу поудобнее и расслабился. При тренировках на самолетах такие перегрузки длятся секунды. На космических кораблях — десятки и сотни секунд. В остальном разницы нет.
— Подержи штурвал, — попросил Бонус через полторы минуты. Я открыл глаза, сомкнул на штурвале потяжелевшие руки, окинул взглядом приборы. Глаз привычно выхватывал блоки информации: скорость — плотность атмосферы, вертикальная скорость — высота, курс расчетный — курс фактический. Внизу — бесконечный океан.
— Начинаю маневр, — сообщил Бонус. Машина плавно завалилась на бок, и перегрузка так же плавно возросла с четырех «g» до восьми.
— Здесь не бывает зимы, — сообщил Бонус, когда перегрузка упала до единицы. — Наклон оси четыре градуса.
— Облака, — пожаловался я.
Машина нырнула в сплошную, без разрывов, стену облаков. Но на экране локатора отчетливо виднелась линия берега.
Вынырнули из облаков на высоте двух с половиной тысяч. Берег был уже виден. На свинцовой поверхности воды застыли крохотные бороздки волн. Машину слегка потряхивало в воздушных потоках.
— Где твоя бухта?
— Прямо по курсу. Сядем у самого берега. Ужинать будем у костра. Как думаешь, здесь уцелела рыба?
— Ничего я не думаю.
Внезапно кресло второго ряда за моей спиной резко развернулось спинкой вперед. С оглушительным треском сработали пиропатроны, отстрелив крышку люка над ним. В-в-ух! — включились пороховые двигатели, и кресло катапультировалось из кабины пилотов. В открытом люке засвистел ветер.
Тр-р-рах, в-в-ух, — катапультировалось второе кресло заднего ряда.
— Какого черта?!! — завопил Бонус.
— Не я! — закричал я. — Сама! С-сука!
Бонус защелкал тумблерами, отключая автопилот и автоматику, чтоб блокировать программу катапультирования экипажа.
В-в-ух — вылетело последнее кресло второго ряда. Я бросил штурвал, столкнул с колен сумку, принял нужную позу. Следующим должно было катапультироваться мое кресло.
Стремительный разворот, треск над головой, перегрузка, от которой готов оторваться желудок — и вот я уже снаружи, а шаттл стремительно уносится вниз.
Белым листочком закувыркалась отстреленная крышка люка над пятым креслом, а через долю секунды оно вылетело из кабины в сером облаке пороховых газов. Рванул, разворачиваясь, парашют. Я отчетливо увидел, как над последней, шестой крышкой взвились на секунду два дымка. Два из трех! Но крышка не отлетела, не закувыркалась в воздушном потоке. А в следующий миг ее выбило мощным ударом катапультируемого кресла Бонуса.
Я нажал на пряжку, ремни расстегнулись и тяжелое кресло полетело в серые воды океана. Над пустым креслом раскрылся купол парашюта, а пару секунд спустя — и над креслом Бонуса.
Шаттл завалился на крыло, величественно перевернулся и нырнул в воду. Взвился огромный фонтан брызг и пара. Несколько секунд спустя он неторопливо вынырнул хвостом вперед, но очень скоро опустил нос и затонул. Взрыва не было. Если спин-генератор рванет когда я опущусь в воду, от меня останется мешок с костями. Считаю секунды. Кажется, пронесло. Повезло? Или напротив?
Бонус так и не отстегнул кресло, поэтому опускался намного быстрее меня.
Сработала система катапультирования. Сама сработала, без приказа. А автопилот отключил Бонус, пытаясь заблокировать систему аварийного спасения. Но не успел. В результате мы потеряли шаттл, связь с кораблем, припасы и продовольствие… На автопилоте шаттл бы сел…
Мы очень тщательно готовили шаттл к посадке. Ho есть вещи, которые невозможно проверить. Можно ли проверить коробок спичек? «Можно, но только один раз» — сказала бы Вулканчик.
Подтягивая стропы, направил свой парашют к месту приводнения пилота. Вода обожгла холодом.
Акул можно не бояться. Здесь тюлени вымерзнут! — чертыхнулся про себя. Отстегнул карабин подвесной системы, в несколько взмахов достиг кресла Бонуса, сбросил с лица друга намокшую ткань парашюта…
Бонус был без сознания. Слабо кровоточила ссадина на лбу.
Я стащил с себя тяжелые магнитные ботинки, отправил их в глубину, разул Бонуса, отстегнул от кресла, взялся поудобнее за воротник куртки и, загребая одной рукой, поплыл к далекому берегу. Глупо… как глупо… Нужно было просто выскочить из кресел. Потом сесть на пол и подождать, пока автопилот посадит шаттл.
Проплыть в холодной воде два десятка километров, таща на буксире товарища, нереально. Но экипажи Эскадронов Жизни ориентировали на выживание в любых условиях.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАКЕТ № 2
…Что такое Волна? Над этим годами думали лучшие умы Человечества. И что же? Подтверждение тезиса «я знаю, что ничего не знаю». Огромный объем фактического материала — и полное отсутствие теории, способной объяснить хотя бы половину.
Фронт Волны движется со скоростью, превышающей световую. В зоне действия Волны «плывут» мировые константы, нарушаются незыблемые физические законы. Гравитационная масса не совпадает с инерционной, фундаментальные законы сохранения машут физикам ручкой и уходят на каникулы. Третье начало термодинамики..? Сударь, о чем вы? Забудьте!
Долгое время Волну пытались описать как изменение течения временного потока на микроуровне. То есть, на макроуровне время течет в одну сторону, а на уровне элементарных частиц — в противоположную. Не удалось. Потом пришел кто-то и сказал: «Волна — это область пространства с нарушением скорости протекания энтропийных процессов. Вплоть до отрицательной скорости.» И все с ним согласились. Эта формулировка может служить ярлыком, но ничего не объясняет. Почему одни звезды, попав под Волну, взрываются, а другие за считанные часы сжимаются в шары из тяжелых элементов с температурой, близкой к абсолютному нулю. Почему фронт Волны движется быстрее скорости света? А почему солнечный зайчик может двигаться быстрее скорости света? Почему Волна игнорирует все физические поля кроме гравитационного? Кто или что породило Волну?
Достоверно известно лишь одно: Волна творит чудеса. Злые чудеса.
* * *
Бонус умер так и не придя в сознание. Я не врач, но, видимо, кровоизлияние в мозг. Такое у боксеров бывает, а он получил сильный удар по голове, когда катапульта сработала.
Я снял с него всю одежду, связал в узел, притянул ремнем к спине. Спасательный жилет надел на себя. Мой спасжилет не захотел наполняться воздухом. Потом я толкнул тело в глубину. Хорошо было бы сказать прощальное слово, но слишком замерз. Вода была соленой и холодной. Мне оставалось жить часов шесть-восемь. «Мы везунчики» — говорил Бонус, когда нас было четверо. «Мы бессмертные» — говорил он, когда мы остались вдвоем. Теперь я остался один. Берег виден, но до него не доплыть. А и доплыву — что толку? Никто не гарантировал, что мы выживем. Нам дали шанс. Мы его упустили. Может, другим повезло больше.
Я поплыл к берегу. Не потому, что надеялся доплыть. Просто группы ориентируют на выживание. «Пока живу — надеюсь», «надежда умирает последней» и прочая чушь. Надежда как раз умерла первой. Луиза Астрид, Звездочка моя — второй.
Я почти откинул концы, когда услышал фырчание водометного двигателя. Поднял над водой руку. Минуты через две ко мне подрулил крохотный робокатер. Узкий, обтекаемый, размером со спортивную байдарку. С черным глазом телекамеры под прозрачным колпаком.
Я все же попытался влезть на гладкий корпус. Бесполезно. Катерок погружался в воду. Спасаемый оказался слишком тяжел. Тогда я вынул из брюк ремень и накинул петлю на корпус катера перед колпаком телеглаза. Зафырчал водометный движок, и катер потащил меня словно буксир баржу. Но груз оказался великоват для игрушки. Мы двигались по широкой дуге. Когда берег вместо того, чтоб приближаться, начал удаляться, катер заложил крутой вираж. Так мы и двигались — широкая дуга в сторону берега, крутой вираж в сторону океана, и опять широкая дуга к берегу. В общем, медленно, но верно смещались в нужном направлении.
Когда я уже начал надеяться, что не умер, катер выключил двигатель и замер. Меня это не огорчило. От холода занемели не только мышцы, но и эмоции.
А еще через пять минут появился второй робокатер. Телеглаз моего катера требовательно мотнулся в сторону новенького.
— А вот фиг тебе, — пробормотал я и закрыл глаза. Но железяка оказалась себе на уме. Дала задний ход, выскользнула из ременной петли и умчалась к берегу на хорошей скорости.
Как накинул петлю на второй катер, не помню. С этого момента в памяти начинаются провалы. Опять волны в лицо, бесконечные витки спирали… и вдруг — древний, полуразрушенный бетонный пирс. Явно бредовое видение, потому что на пирсе стоит смуглая от загара, обнаженная женщина.
Катер исчез. Мне нужно подплыть к пирсу. С чего я взял? Ничего мне не нужно. Сейчас закрою глаза… Какой противный голос. Резкий, визгливый. Бредовое видение, и такой противный голос… Хорошо, плыву. Что? покрепче взяться за ноги? За какие ноги? Твои? Извини, милая, сегодня я пас. Попроси кого-нибудь другого.
Следующее воспоминание — волна приподнимает меня, чьи-то пятки сдавливают подмышки так, что ребра хрустят. Рывок — я вылетаю из воды как пробка из бутылки… и падаю лицом на выщербленный бетон пирса. Кто-то откатывает меня подальше от края, от холодной зеленой воды. Не очень ласково откатывает. Пинками.
…Прихожу в себя от дробного стука собственных зубов. Тело сотрясает крупная дрожь. Что-то живое, теплое, мягкое прижимается ко мне.
Открываю глаза — и в нескольких сантиметрах вижу ее, женщину из бреда. Ее холодные, злые глаза.
— Морской глаз пропал! Ты виноват! — заявляет она резким, визгливым голосом. Слова произносит очень быстро, но после каждого — отчетливая пауза. Бонус был прав. Проект себя оправдал, и человечество не исчезло как вид. Даже наша группа частично уцелела.
Наверно, пришло время помянуть вас, друзья, минутой молчания.
Дональд Прайс, а для друзей Бонус, ты слышишь? Ты был прав. Во всем прав.
Луиза Астрид, Звездочка моя милая, этот мир тебе бы понравился. В нем есть океан.
Надежда Кавун, Вулканчик, и ты смогла бы найти здесь уголок по вкусу. С орбиты мы видели леса и степи…
А что мне делать здесь без вас? Стиснуть зубы и выполнять программу. Как Земля завещала. Нужно мне это?
Да, я помню, обещал тебе, Звездочка, что не отступлю, разыщу себе самочку и буду плодиться и размножаться. Молча. Стиснув зубы. Как тамбовский волк. Одна местная самочка уже прижимается ко мне всем телом. «Мадам, вы не хотите заняться размножением? Мне плевать на вас и вашу внешность, но долг обязывает». Хорошая фраза для первого знакомства?
Видно, что-то изменилось в моем лице, потому что женщина отшатнулась, села и плавным, текучим движением поднялась на ноги. На ней не было ничего из одежды.
И у нее не было рук. То есть, совсем. Ни намека, что из плеч должны расти руки.
— Да. Я — мунт, — спокойно сказала она, заметив мое изумление.
— Кто?
— Мутант. Встань. Иди за мной.
— Куда?
— Дом. Тепло. Еда.
Не обращая больше на меня внимания, женщина пошла по пирсу к берегу. Откуда-то появился и засеменил рядом с ней шестиногий, четырехрукий кибер. Этот кибер хромал на четыре ноги из шести и выглядел так, словно сбежал со свалки ржавого металлолома. «Вот какой ты, северный олень!» — притворно изумился бы Бонус при виде этой железяки. Бонуса больше нет.
Я с трудом поднялся, стиснул зубы и побрел за странной парой.
На этой планете мне жить и умереть. Темно-серый, чуть зеленоватый океан за спиной. Холодный ветер и свинцовое небо над головой. Каменистый берег вправо и влево до горизонта. Впереди — хромой кибер и безрукая мутантка.
Инструктор на Земле учил: первое впечатление о новом мире — самое верное.
Одежда не высохла, поэтому я снял куртку и рубашку, повесил на спинки стульев. Кибер тут же прицелился убрать их куда-то, но грозный окрик хозяйки его остановил.
Обед состоял всего из двух блюд: изумрудного цвета солоноватое желе на первое и подслащенная вода на второе. Все. Наш корабельный киберкок из тех же самых водорослей приготовил бы десяток блюд и кусок хлеба впридачу.
Пока кибер кормил с ложечки свою хозяйку, я хорошо рассмотрел ее. На вид около тридцати, отлично развитое тело, великолепная грудь. Черные брови, темные волосы до лопаток. Венера милосская.
— Как тебя зовут?
— Веда, — ответила она. — А его (кивок в сторону кибера) — Кент.
— Меня зовут Игнат.
— Я знаю.
Хотел спросить, откуда, но вспомнил о надписи над карманом куртки.
— Ты одна здесь?
— Я здесь одна. Это — технохутор. Таких технохуторов на планете около восьмисот. На каждом живет один мунт.
— А кроме мунтов здесь кто-нибудь живет?
— Да. Сам увидишь, — Веда резко поднялась из-за стола. — Сегодня отдыхай. Завтра пойдешь на соседний технохутор. Идти далеко. Хорошо отдыхай.
— Вот те раз. А если я не хочу никуда идти?
— Ты должен. Я спасла тебе жизнь. Потеряла «морской глаз». На тебе долг.
— И за каким бесом я должен тащиться на этот технохутор?
— Там отказала энергоподстанция. Мы, мунты, не можем жить без энергии. Киберы встают, гидропоника гибнет. Ты должен спасти Лиану. Если ты ее не спасешь, весь сектор останется без контроля.
— У нее тоже рук нет?
— Да. Та же самая мутация. У всех мунтов нет рук. Лиана молода, неопытна и могла не справиться с ремонтом. А потом сели аккумуляторы… С ней четвертый день нет связи.
Я попытался оценить перспективы выживания в джунглях молодой безрукой девушки. Помотал головой и представил ее страшной как смертный грех. На душе легче не стало.
Рюкзак оттягивает плечи. Отвык. В космосе турпоходов не было. Как бы поступил на моем месте Бонус? Тоже поперся бы на второй день после посадки за восемьсот километров?
— Как я найду этот чертов технохутор? — спрашивал я у Веды.
— Вот карта. Хутор на реке.
— На какой реке? Тут их три… Хорошо, хотя бы на каком берегу?
— Не знаю. Ты должен найти технохутор и Лиану.
— Я должен пройти восемьсот километров по азимуту и найти то, не знаю, что. Так?
— Да.
— Ты сама в это веришь? Если я отклонюсь хоть на два километра…
— Кроме тебя некому.
Так мы поговорили с Ведой. Об опасностях перехода она представления не имеет, но утверждает, что хищных животных нет. Волной смыло. Вместе с первыми поселенцами. Теми, которые обжили планету еще до Волны.
Волна сюда пришла ослабленной. Почти никакой. Всего лишь чуть-чуть шевельнулись мировые константы. Почти незаметно. На чем может сказаться изменение мировых констант на тысячные доли процента? Только на химии. На биохимии. На тончайших химических реакциях, название которым — жизнь. Одноклеточные успели приспособиться. Смена поколений у них происходит очень быстро. Семена растений просто переждали неблагополучный год. Как и личинки некоторых насекомых. А того, что, собственно, принято называть жизнью, не стало. Белые кости под солнцем, мертвые стволы деревьев там, где стояли леса. И свеженькая изумрудная травка. Изумительного цвета здесь трава. Звездочке бы понравилась.
Я отмерил по берегу уже километров десять, когда наткнулся на робокатер. «Морской глаз», как зовет их Веда. У катера разрядились аккумуляторы, и волны выбросили его на берег.
Сложил на берегу приметную пирамидку из камней, спрятал невдалеке рюкзак, обвязал «морской глаз» веревками и тронулся в обратный путь.
«Морской глаз» весит килограммов сорок. Как я протащил его десять километров, сейчас уже не могу вспомнить. Веревки страшно резали плечи. Держался на черной злости.
— Зачем вернулся? — встретила меня Веда. — Ты должен Лиану спасти.
— Забирай свой агрегат. Я никогда никому ничего не должен. Запомни это.
— Ты устал. Сегодня отдохни, завтра выйдешь. Не отвлекайся на второстепенное. Твоя задача — спасти Лиану и ее хутор.
Наверно, это было правильное решение — отдохнуть до завтра. Но я взял Веду за загривок, влепил ей в губы соленый, пропахший потом поцелуй и ушел, не оглядываясь.
Идти налегке было очень приятно. О чем думал? Конечно же о Веде. О том, что голос всего за день стал не таким визгливым, словарь пополнился, да и речь стала отдаленно напоминать человеческую. Неужели ее на самом деле воспитывали киберы?
Рассказать о себе она отказалась. О планете — очень скупо. Но о чем-то можно догадаться. Первая волна колонистов погибла. Но на планете люди есть. Вторая и, возможно, третья волна поселенцев. Что за сектора, которыми управляют мунты, живущие на хуторах? В чем заключается управление? Кем могут управлять безрукие мутанты? Не так прост этот мир.
А, впрочем, какое мне до него дело? Астрид, Звездочка моя…
Берег круто завернул к северу, теперь мне с ним было не по пути. Я определил по компасу курс, выбрал ориентиры и передвинул лямки рюкзака. Плечи ныли. Солнце садилось. Так и не спросил, как местные зовут планету. Звезду — солнце. Это ясно. ЕН-какая-то она для космачей, а колонисты не забивают голову чепухой. Светит — значит, солнце. Однозначно. Но планета имеет имя. Навигацией занимался Бонус. Традиция такая. Потому что нам все равно, куда лететь, а язык у Бонуса подвешен не в пример лучше моего. Не люблю спорить по пустякам.
Вспомнил! Мента. Богиня разума у вымерших римлян.
Начался лес. Сразу, без подлеска. Странно. Деревья земные, а лес неземной. Солнце до половины скрылось за горизонтом, и в лесу совсем стемнело. Я решил остановиться на ночлег. Натянул веревку между двумя стволами, сверху накинул пленку, придавил края пленки сучьями и камнями — получился шалашик. Палатки у Веды не было.
Не успел устроиться поудобнее, начался дождь. Мелкий, затяжной осенний дождик. Не будь дождика, я напряженно вслушивался бы в шорохи чужого леса, а под шумок дождя любой лес кажется родным и безопасным.
Я не поверил Веде, что планета безопасна. Зачем тогда ультразвуковой станнер с подзарядкой от солнечной батареи? Игрушка серьезная. Из быка дух вышибет.
Кстати об игрушках — я нащупал станнер и повернул кольцо регулятора мощности на максимум. Минут пять вяло размышлял, имеет ли смысл ужинать. Заснул, так и не решив этот вопрос.
Утром позавтракал изумрудным желе, допил воду из фляжки и начал кроить из пленки палатку. Это стоило сделать еще на хуторе, но Веда была бы против задержки.
Вулканчик любила вышивать. Учеба оставляла очень мало свободного времени, но воротники рубашек Бонуса всегда были расшиты узорами.
— Это национальная культура! — утверждала Вулканчик. — Ее надо оберегать и сохранять.
Но это не моя культура! — слабо протестовал воспитанный в духе политкорректности Бонус.
— Тебе не нравится моя вышивка?!
Скандалили они часто и шумно. И так же шумно мирились. Бонус взваливал визжащую Вулканчик на плечо и нес в каюту. Или в нашу комнату — на старших курсах экипажу выделяли небольшую комнату. Мирить их было бесполезно и опасно. Моментально объединившись, они набрасывались на благодетеля.
Но однажды я увидел бледного, растерянного Дональда.
— Игнат, она меня больше не хочет, — бормотал он. — Совсем не хочет.
Я сунул ему в руку разводной ключ и послал с каким-то поручением к шлюзу. А сам разыграл сценку перед Надеждой. Что, мол, Бонус делает в шлюзе. Как она рванула… И все пошло по обычному сценарию. Шумно, с криками и взаимными упреками. Мне попало от обоих.
К полудню вчерне палатка была готова. Жутко халтурно, но плевать. По компасу определил направление и тронулся в путь. Очень скоро убедился, что в лесу нужно как можно чаще смотреть на компас. Буквально за пять минут отклонился градусов на двадцать.
Нашел ручей, наполнил фляжку. Через полчаса нашел другой ручей. С чистой водой. Вылил из фляжки торфянистую воду, наполнил чистой. Заметил лесного оленя. Он пил воду метров на тридцать ниже по течению. Меня видел, но не боялся. Это о чем-то говорит. Во время подготовки по выживанию в джунглях инструктор советовал: «Смело ешьте все, что ест мартышка. Если получится, съешьте саму мартышку». Тогда мы смеялись над этим. Где взять мартышку на другом конце галактики? Сойдет олень за мартышку?
У меня в бидончике пять кг желе. Когда оно кончится, придется жить охотой. Значит, станнер для охоты? Почему Веда прямо не сказала? Почему она вообще ничего не хочет рассказывать о планете? «Сам увидишь», — и весь разговор.
К черту Веду. Здесь полно плодов и ягод. Только можно ли их есть? Если здесь прошла Волна (а здесь прошла Волна), могли начаться мутации. И этот плод, так похожий на сливу… А вдруг съел его — и навеки успокоился. Заманчиво… Но не время. Сначала спасу Лиану, эксперименты потом.
Лес сменился лугом. Тучи разошлись, и солнце начало припекать. Печь. Передвинул кобуру станнера на другой бок, к солнцу. Солнечной батареей работала именно поверхность кобуры. Когда мы стартовали с Земли, таких еще не было.
Странно все. Странная планета, странные жители, я себя странно веду. На второй день после посадки потащился неизвестно куда. И никто ничему не удивляется. Я — понятно. Трудно удивить того, кто ничего не ждет от жизни.
Пот пропитал рубашку. Мысли сжались в комок, в голове крутилась лишь одна фраза. Две строки стихотворения.
Мне осталась одна лишь отрада — Пальцы в рот, да заливистый свист.Я повторял ее про себя раз за разом. Смутно вспомнилось, что автор — Есенин, что у него она звучала чуть иначе… Чеканный ритм этих строк накладывался на шаги, маскировал усталость. Астрид, Звездочка моя, почему ты предала меня, почему умерла?
Луг кончился, вновь я углубился в лес. Жара сменилась прохладой, прохлада — дождем.
Вечером встретил пожилого аборигена. Лохматый, заросший, абсолютно голый, он обирал ягоды с куста. Наблюдение номер один: Одежда в этом мире не в моде. Наблюдение два: ешьте все, что ест мартышка. Местный крыжовник есть можно.
— Здравствуйте. Меня зовут Игнат.
Мужчина повернулся ко мне, проворчал что-то неразборчивое и побрел прочь. А я стоял и тупо смотрел ему вслед. Все вопросы вылетели из головы. Потому что мужчина был кастрирован. То есть, полностью. Мошонки нет совсем, от пениса — криво обрубленный пенек не больше двух сантиметров.
На всякий случай проверил станнер. Догонять и расспрашивать аборигена почему-то не хотелось. «Не спрашивай о том, что тебя не касается, если не хочешь услышать нечто, для тебя неприятное» — цитировала Надежда из сказок тысяча и одной ночи.
В каких случаях могут кастрировать мужика?
Вариант 1: Ограничение рождаемости. Не катит. Первый всплеск Волны прокатился здесь четыре с половиной сотни лет назад, колонисты высадились позднее. Не могли они слишком сильно размножиться.
Вариант 2: Наказание. Сурово, и говорит о первобытном варварстве. В любом варианте такая хирургическая операция говорит о первобытном варварстве.
Вариант 3: Борьба за чистоту генофонда. После мутаций, вызванных волной, вполне реально. Паренек родился мутантом, убивать его не стали, но лишили возможности продолжить род. Первобытно-общинный гуманизм. Нас предупреждали, что на планете может воцариться варварство.
Вариант 4: Религиозные заскоки.
Дрянь этот мир. По любому варианту.
— Ваша задача — сохранить человечество как вид, — говорили нам инструкторы. Плодитесь и размножайтесь — это все, что от вас требуется. Если сумеете удержать цивилизацию на уровне письменности — вечная вам слава. Если нет — не огорчайтесь. Через пять-десять тысяч лет человечество вновь поднимется. Главное, чтоб было кому подниматься. Задача ясна?
— А колонии? — спросила на одном из первых занятий Вулканчик.
— Колонии обречены. Как и большая часть населения Земли. У нас нет возможности эвакуировать всех.
Задумавшись, я опять отклонился от курса. Сюда бы навигационный планшет… Но планшет остался на катере. А катер на дне океана. Инструкторы предупреждали нас, чтоб не рассчитывали особенно на технику. Пятьсот лет — слишком долгий срок для любого устройства сложнее молотка.
— Не надейтесь на инкубаторы, — внушали врачи нашим девушкам. — Рожать вам придется самим. Если сможете запустить хотя бы один инкубатор — ваше счастье. Если нет… Здоровая женщина может родить пятнадцать детей. Лучше — больше. Не пускайте это дело на самотек. В будущей колонии нужно как можно шире представить земной генофонд. Применяйте имплантацию оплодотворенной яйцеклетки. Материалом мы вас снабдим. В условиях криогенной стабилизации банк генофонда может храниться практически вечно.
Банк остался на корабле. Корабль — на орбите. Командное устройство на катере, катер на дне. И вообще, я не баба, чтоб рожать. Так что — проехали и забыли.
Сколько я сегодня прошел? Как определить пройденное расстояние? Плевать. Там на карте три реки. Дойду до первой, буду думать.
«Вот дьявол! — ругнулся я про себя через пять минут. — А это мокрое безобразие тянет на реку, или нет? Видимо, нет, если его не отметили на карте. Вот и первая проблема: как отличить реку от ручья?»
Масштаб карты — двадцать км в сантиметре. За два дня я прошел сантиметра четыре. Из сорока. За месяц от голода не умирают. Веда все рассчитала правильно. Только б девочка не наделала глупостей. Обидно будет пройти сотни километров и найти труп самоубийцы.
Он сидел на корточках под деревом и терпеливо ждал, когда я проснусь. Лохматый, заросший, с кобурой станнера на боку и сумкой, сшитой из кожи, через плечо. Впрочем, сумку я разглядел позднее. Трудно определить возраст у такого заросшего волосатика, но вряд ли ему было больше двадцати пяти. И он был одет. Куртка из шкуры, кожаные штаны, мокасины. Выходит, одежда еще не полностью вышла из моды. Я не буду выглядеть дикарем.
— Здравствуй, — сказал я, высунувшись из палатки.
— Здравствуй. Ты новый егерь?
— Нет, я не егерь. Я иду на технохутор Лианы. У нее что-то сломалось, надо починить.
— А я подумал, ты егерь. У тебя станнер, а ты не егерь. Чудно.
— Меня зовут Игнат. А тебя?
— Тоби. Если полностью, Тобиас, только так никто не зовет. Все Тоби да Тоби. Ты тоже зови меня Тоби. Я привык, когда меня Тоби зовут.
— Тоби, ты знаешь, как пройти к хутору Лианы?
— Знаю. Я там жил. Ты обязательно помоги Лиане. Она славная. Это ее мама выучила меня на егеря, только ее больше нет на хуторе.
— Тоби, ты не проводишь меня до хутора. Я не знаю дороги, а с Лианой может случиться беда.
— К Лиане? Конечно, провожу, — обрадовался он. — Я ее сто лет не видел. И она меня сто лет не видела. Я там два года не был.
Удача. Проводник. «Мы везунчики», — говорил Бонус, когда нас было четверо.
— … А я думал, ты новый егерь. У тебя станнер. Я хотел договориться, кто какой сектор будет патрулировать. А потом бы мы менялись. У меня очень большой сектор, а я один. Надо, чтоб было больше егерей. Я говорил Веде: «Надо, чтоб было больше егерей», а она сердится. Говорит: «Где я тебе егерей возьму? Рожу? Приведи пацана, я его воспитаю». Только деги не хотят отдавать пацанят на воспитание мунтам. Я говорю им: «Надо, чтоб егерей было больше», а они не хотят. А Веда сердится. Ты скажи ей, что она зря сердится.
Я начал сомневаться, что проводник — благо. А еще понял, что не умею ходить по лесу. Тоби скользил среди стволов легко и непринужденно. Такую походку я видел у мужчин в индийских деревнях — ноги чуть согнуты в коленях. Ни одна ветка не хлестнула его по лицу, ни один сучок не хрустнул под ногами.
— А Фиеста никогда не ругается. Но всегда ласковая и печальная. И девочку заводить не хочет. А если у нее дочки не будет, кто на ее хуторе жить будет?
— Тоби, ты сам сшил свою куртку? — спросил я, чтоб хотя бы изменить тему словесного поноса.
— Сам. Лося сам убил, шкуру сам снял, шил сам. Только шкуру мне бабы в деревне выделывали. Не умею я шкуры выделывать. А они умеют, но не говорят. Только смеются. Вредные они. А шил я сам. Иголку и нитки у Веды взял, потому что деревенские вредные. Жадные они. Ничего так не дадут. А я не могу надолго в деревне оставаться. Я егерь, мне сектор патрулировать надо.
Сначала я пытался извлечь из потока слов новые сведения, потом отключился. Тоби шагал впереди, срывая с кустов ягоды и закидывая в рот. Я с трудом поспевал за ним, пыхтел как паровоз и постепенно выбивался из сил.
— У тебя станнер неправильно настроен, — сказал Тоби на привале. — Так убить можно. Смотри, как надо, — вынул свой и показал настройки. Станнер был установлен на оглушающую мощность. Я не стал спорить и отрегулировал свой. Сменить настройку можно одним движением большого пальца.
Вечером Тоби долго восхищался моей кривобокой палаткой.
— Маленький дом! Я такой же сошью. Попрошу у Лианы прозрачную ткань, она мне даст, и я сошью.
Впервые ужинал по-человечески. Тоби набрал кислых ягод и перемешал их с изумрудным желе. Соленое с кислым — я думал, выйдет несъедобная гадость, но получилось вкусно.
А на следующий день я увидел, в чем заключается работа егерей. Тоби оглушил из станнера молоденькую голую девушку. Та заметила нас слишком поздно, бросилась бежать, но успела сделать только два шага. Тоби бережно перевернул ее на спину, уложил поудобнее, смахнул со щеки и плеча прилипшие травинки. Затем достал из сумки черную металлическую коробочку.
— Какая красивая. И молоденькая совсем.
— Что ты с ней будешь делать?
— Как полагается. Сейчас возьму анализ и осеменю, если анализ хороший будет. А хочешь, я тебя проверю. Тогда ты ее осеменишь.
С этими словами он откинул крышку черной коробочки. Под крышкой располагались две кнопки и три индикаторные полоски: красная, синяя, зеленая. Тоби прижал коробочку к плечу девушки и нажал левую кнопку. Через секунду красная полоска засветилась полностью, синяя — на три четверти. Тоби взглянул на индикаторы, прижал коробочку к своему запястью и нажал правую кнопку. На плече девушки выступила бусинка крови. Коробочка, видимо, была примитивным диагностом.
Тоби отвел коробочку от запястья, слизнул выступившую капельку крови и нажал сразу на обе кнопки. Вид прибора и деловитая уверенность егеря почему-то успокоили меня. Происходящее не было охотой на человека. Во всем был какой-то смысл.
— Ну как? — равнодушно спросил я. Тоби повернул коробочку ко мне. Индикаторные полоски стали намного короче.
— У меня не очень хороший анализ, но лучше, чем у голышей и у дегов. Мунты говорят, если полоски короче, чем были и не доходят досюда, — он показал ногтем, — надо осеменять. А правда, она красивая? Я люблю осеменять красивых.
А потом начался обычный половой акт. Я отошел под дерево и заставил себя смотреть. Это нельзя было назвать простым насилием. Тоби вел себя деликатно и нежно. Массировал и растирал тело и руки девчонке, пока она не начала подавать признаки жизни. Тогда начался массаж эрогенных зон. В общем, к тому времени, когда малышка окончательно пришла в себя, Тоби ее так разогрел, что оказать сопротивление она была уже неспособна, а в стонах и повизгиваниях не было ни страха, ни боли. Все бы ничего, но малышка оказалась девственницей. Она очень громко закричала, и крови было довольно много. Потом пошли слезы. Тоби долго ее утешал, целовал в глаза, гладил по волосам. Мне надоело смотреть на их ласки. Осеменение оказалось именно тем, о чем я подумал с самого начала: половым актом с целью обрюхатить незнакомую девушку. Видимо, у них здесь проблемы с рождаемостью. Одичавшие колонисты не хотят размножаться с нужной скоростью. Меня это не касается.
Через полчаса у молодых наступил мир и покой. Девушка хихикала, Тоби кормил ее с ложечки остатками желе с ягодами. Я постелил пленку, накрылся курткой и задремал.
Еще через полчаса Тоби разбудил меня.
— Идем? Еще светло, можно много пройти.
Мы собрали вещи и пошли. Девушка шла за нами, жалобно поскуливая. Тоби не обращал на нее внимания. Через некоторое время она отстала.
— Правда, симпатичная голышка, — начал Тоби. Ему не терпелось поделиться. — Только плохо, что ее никто еще не брал. Не люблю осеменять нетронутых. Их утешать надо, а то потом бояться будут. А я не люблю утешать. Утешишь, а они сзади идут.
— Как ее зовут.
Тоби недоуменно посмотрел на меня.
— Она же голышка. У голышей нет имен. Разве у зверей есть имена?
— Бывает, есть, — лениво ответил я, осмысливая новую информацию. Голыши. Без имен, без одежды. Звери. На планете живут мунты, голыши и егеря. Планета попала под отголосок Волны и пошли мутации. Одни лишились рук, другие — разума. Прелестно…
— Много здесь голышей? — спросил я.
— Много. Здесь — много. А к северу мало. Там холодно, а они не любят, когда холодно. На юге и востоке я не был. Там не мои сектора. А здесь их много. Ты, наверно, громко по лесу ходишь, вот они и разбегаются. Я, когда один хожу, каждый день встречаю.
Зеленое желе кончилось, и Тоби перешел на фрукты и ягоды. Как он говорил, есть здесь можно все, что вкусно. Через день фруктовая диета мне надоела, я оглушил из станнера зверька, похожего на зайца. Он и оказался зайцем. Обычным земным зайцем, завезенным одной из волн колонистов. Тоби с огромным интересом смотрел, как я варю мясо в бидончике.
— А я мясо жарю, — сознался он. — На огне жарю, или завертываю в листья, выкапываю в костре ямку и в горячей земле запекаю. Меня Корина научила. Это мать Лианы.
— Завтра покажешь, как ты делаешь.
Он так и засветился радостью. Интеллект на уровне 10–12 лет. Видно, Волна затронула и его родителей. Планета идиотов.
Тоби все-таки убедил меня провериться коробочкой, а потом долго ходил пораженный.
— У тебя самый лучший анализ из всех, которые я видел. Даже лучше, чем у деревенских. Надо было тебе ту голышку осеменить. Эта полоска, — он ткнул в индикатор, — была бы совсем коротенькая. А эта — еще короче. А средней совсем бы не было!
— Я не егерь.
Тоби надолго задумался над моими словами.
Голышей мы встретили в этот же день. Мужчина и женщина занимались любовью и ничего вокруг не видели. К ним можно было подойти вплотную, их можно было брать тепленькими. Но Тоби потянул меня за рукав прочь. Некоторое время шли молча. Тоби хмурился и мотал головой, словно споря сам с собой.
А позднее встретили сразу троих голышей. Мужчину и двух женщин. Они лежали звездой на песчаном берегу речки и, подняв согнутые в коленях ноги, ритмично ударяли друг друга подошвой о подошву. Я взглянул на Тоби. Егерь даже не думал прикасаться к станнеру. Он с жадным любопытством наблюдал за троицей, пока те не удалились, а потом опять долго шагал, погруженный в мрачные размышления.
— Ты не говори Лиане, что я плохой егерь, — не выдержал он. — Я знаю, что плохой, мне Корина говорила. Но я не трогаю голышей, которые вместе. Я знаю, это нехорошо. Но я все равно их не трогаю. А Корина всегда ругалась.
— Ты хороший егерь, — хлопнул я его по плечу. — Не надо обижать голышей, если они любят друг друга. А что касается этих троих… Когда-то я читал, что индейцы Амазонии в точности так развлекались… Нет, мура все это!
— Что?
— Понимаешь, Тоби… Индейцы Амазонии — они, конечно, дикарями были. Но все-таки разумными.
Думал, все о Тоби знаю, к любому сюрпризу этого мира готов. Ошибся. На следующий день Тоби завалил из станнера голыша. Достал черную коробочку, взял анализ и деловито, за две-три минуты кастрировал мужика. Перетянул мошонку суровой ниткой, отмахнул ножом яйца, полил ранку зеленой, застывающей пленкой жидкостью из пузырька — и пошел мыть руки. Никаких эмоций — ни жалости, ни сожаления — обычная работа. Я с трудом подавил позывы к тошноте. Голыш тем временем очнулся, свернулся в позу эмбриона и завыл мартовским котом.
— Зеленка очень жжется, — пояснил мне Тоби. — Я один раз палец порезал, и зеленкой капнул — так еще громче выл.
Тебе бы яйца оторвать, — со злостью подумал я. В голове вертелась одна мысль: Что бы этот яйцерез сделал со мной, если б у меня был плохой анализ?..
— … Нет, егеря пенисы не отрезают. Это деревенские. Чтоб голыши к их бабам не приставали. Плохие гены в мошонке сидят, зачем еще что-то отрезать? Егеря так не делают.
Значит, все-таки, генетическая коррекция. Логично. Нужно вернуть расе разум. Но методы… А что бы я сделал? Какая обстановка, такие и методы. Не мне судить. Я здесь чужой.
Я нашел растение, до боли напоминающее картофель. Тоби сказал, что никто в деревне такое не выращивает. Но кто-то говорил ему, что ЭТО есть не стоит.
— Сырую картошку есть не стоит, — объяснил я, бросая очищенную картофелину в бидончик. — Мы будем есть вареную.
И теперь егерь жадно наблюдал за моими манипуляциями. Вскоре мое любимое блюдо — картошка, намятая с сольцой — было готово. Тоби его тоже оценил. Я рассчитывал, что немного останется на завтрак, но увы… Теперь возлежал у костра, смотрел на угольки и слушал трепотню Тоби.
Сегодня он осеменил еще одну голышку. На этот раз — женщину средних лет. Обошлось без станнера. Женщина сама подошла по требовательному жесту его руки. Тоби указал на тонкий кожаный ремешок, свисавший ей на плечо. Отвел волосы в сторону. В хряще уха женщины когда-то было пробито отверстие чуть ли не в два сантиметра. В это отверстие кто-то продел ремешок и завязал прочным узлом.
— Из деревни убежала, — объяснил егерь. — Ее привязали на ночь, а она убежала. Перекусила ремешок — и убежала. Это хорошо, что она из деревни. Деревенские все смирные, обученные.
Тоби развязал и выбросил ремешок. Подчиняясь ему, женщина покорно легла на спину. Я не стал смотреть, что у них происходило дальше.
До самого вечера Тоби шагал мрачный. Я уже привык к его пустой болтовне, и теперь чего-то не хватало. Но разговорить егеря удалось только у вечернего костра.
— Моя мать была из деревенских голышей, — сознался Тоби. — Ее выучили разносить воду из колодца. И она разносила воду по всем домам. Много лет разносила. А потом сломала ногу. Нога срослась криво, и она не могла больше разносить воду. Ее несколько раз увозили в лес, но она каждый раз возвращалась. Тогда ее придушили кожаным ремешком. Отвели на край оврага, обернули вокруг шеи ремешок — и придушили. А тело сбросили в овраг.
Пока она была жива, я не считал ее матерью. Стыдно иметь мать из голышей. А когда ее убили… Пусть она голышка, но нельзя же так… Я им так и сказал, а они дразниться стали. Я ушел в лес. Там меня встретил егерь и отвел на технохутор Корины. Тогда там жила Корина, а Лиана была совсем маленькой. А теперь Корина там больше не живет…
Ночью я проснулся от боли в животе. Выполз из палатки, сунул два пальца в рот и выложил на травку остатки ужина. При свете зажигалки разыскал в аптечке слабительное, принял, запил двумя литрами воды. Пронесло. И в буквальном, и в переносном смысле. Не стоило есть картошку. Предупреждал же меня Тоби. То ли мутация, то ли яд какой-то в местной почве. Кстати, сам егерь чувствовал себя отлично. Бестолково суетился, не зная, чем мне помочь.
Говорят, можно приучить организм к яду, если начинать с малых доз. Тоби приучил себя с детства, а я в этом мире чужой. Как дерьмо в проруби.
Не успел заснуть, в растяжках палатки запутался лось. И изорвал всю пленку. Чуть не унес на рогах крышу палатки, но я шарахнул ему вслед из станнера полной мощностью, и, как ни странно, попал. Мы с Тоби в темноте на ощупь долго распутывали веревки и обрывки пленки, которые он намотал себе на рога. Но все же, успели справиться с работой прежде, чем лось очнулся.
Веда говорила, что в лесу безопасно. Лось не хищник. Но, если б он нас затоптал — это как считать? Несчастный случай на производстве? И как экосистема обходится без хищников? Не может нормальная экосистема обходиться без хищников, должны быть хищники.
С горечью обрываю себя. Уже и мыслить начал как Тоби. Словестный понос в мыслях. С кем поведешься…
Утром, злой, сажусь зашивать палатку. Тоби говорит, что наведается в ближайшую деревню за новостями. До деревни всего полчаса ходу.
Спрашивается: какого черта мы в лесу ночевали?
Ровно через час Тоби прибегает весь взмыленный.
— Лиана в этой деревне! Мне бабы у колодца сказали!
Торопливо, комом запихиваю недошитую палатку в рюкзак и спешу за егерем. Лес внезапно кончается. Перед нами гора. Я рассчитывал, что до нее не меньше трех дней пути.
У подножья горы — деревня. Три десятка деревянных домов и пяток каменных. Слепящее солнце, распаханные поперек склона поля, на некоторых работают люди. Кое-где видны голыши.
— Почему в деревне голыши — одни женщины?
— Есть и мужчины, — угрюмо откликается Тоби. — Но мало. Мужчины беспокойные, работать не любят, к женщинам пристают. А женщины — тихие, спокойные. Если кто с ними позабавиться захочет, никто не обижается… Игнат, я дальше не пойду.
— Почему?
— Не хочу я встречаться с Лианой. Но ты обязательно помоги ей.
— Поссорились вы что ли?
— Ну… Не то, чтобы поссорились…
— Понятно.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАКЕТ № 3
Приди Волна на сто лет раньше, и человечество так и не узнало бы о ней. До самого последнего момента… Задержись Волна на сто лет, и мы, криво усмехнувшись, переселились бы на время в соседнюю галактику, чтоб потом, спустя пятьсот лет, вернуться на пепелище. Волна удачно выбрала момент. Планета видела опасность, но у нее не было сил спасти всех. ГС-привод уже был известен, Земля даже позволила себе завести несколько колоний, но это были лишь первые шаги в большом космосе. Слишком дорого обходились грави-скачковые звездолеты, слишком большой вред наносило экологии их строительство. А лунная и марсианская промышленность только-только перешли на самоокупаемость, и по мощности не достигали еще и десятой доли процента от земной.
Волна удачно выбрала момент. И планета сконцентрировала все усилия, чтоб спасти — не население, нет, на это не было сил. Чтоб спасти разум. Выпустить в пространство тысячи небольших кораблей в надежде, что сотни из них уцелеют, переждут Волну, и десятки смогут основать колонии на землеподобных планетах. Человечество уцелеет как биологический вид и вновь, возможно, через тысячи лет, сумеет подняться.
Нас называли Звездной Элитой, Эскадронами Жизни. Нас набирали четырнадцати-пятнадцатилетними и готовили пять лет. Гоняли по-страшному. Четверо из пяти не выдерживали и сходили с дистанции. Или погибали. Но и оставшихся было слишком много. Или — слишком мало кораблей. Как бы там ни было, но лишь половина экипажей уходила в космос играть в пятнашки с Волной.
Все рвались в космос. К этому нас готовили, на это нас нацеливали. Но сейчас я уже не могу сказать, кому больше повезло: тем, кто ушел, или тем, кто остался.
* * *
— Загляни в пещеру, — подсказала пожилая женщина у колодца. — Охульники молодые вчера туда кого-то вели.
Я оглянулся на склон горы. Не заметить пещеру сложно. Скорей, это грот. В нем разместился бы ангар на несколько космокатеров.
— Спасибо, — сказал я и зашагал вверх по склону. Вблизи грот казался еще огромней. Прохлада высокого зала приятно контрастировала с жарой снаружи. У дальней стены белели сталактиты и сталагмиты. Где же искать это чудо?
— Я здесь — тоненький голос эхом заметался под сводом. Я пошел вперед.
Это была она, мутантка. Безрукая. Длинным кожаным ремешком привязанная за шею к колонне, получившейся из сросшихся сталактита и сталагмита. Грязная и замерзшая, она сидела на охапке прелого сена. На внутренней стороне бедра — засохшая кровь. То ли недавно лишилась девственности, то ли месячные. Впрочем, это ее проблемы.
Мунт сжалась под моим оценивающим взглядом.
— Давно сидишь? — спросил я.
— Второй день.
Я достал из ножен нож, попробовал ногтем остроту лезвия. Девушка доверчиво наклонила голову, чтоб мне удобнее было перерезать ремешок. Почему-то хотелось, чтоб, увидев нож, она слегка испугалась.
— Иди за мной, лягушонок.
— Они идут сюда.
Я оглянулся. Три местных хулигана бодро топали в нашем направлении.
— Эй, егерь! Это наша голышка!
— Вы, трое! Вы должны мне подчиняться. На раз, поняли?
— Почему? — Все трое очень заинтересовались моей идеей.
— Я из Эскадронов Жизни.
— А мы тут живем.
Не поняли, придурки. Не очень-то я на это и надеялся.
— Вы нарушили правила. Мунтов нельзя обижать. Их нужно слушать, им нужно помогать. Я накажу любого, кто обидит мунта.
— Она сама к нам пришла, — отозвался средний, самый высокий. — Мы ее не звали. Говорит: «Дайте еды». Настоящие мунты еды не просят. У мунтов всегда много еды. Что мы эту задарма кормить будем? Пусть за кормежку работает. Если хочешь ее покрыть, нам не жалко. А хочешь для себя одного — обломишься. Мы первые ее нашли. Наша голышка, понял?
Переговоры зашли в тупик. Я поднял с пола три камня величиной с кулак и начал ими жонглировать. Звездочка очень любила смотреть, как я жонглирую. Местные оболтусы тоже заинтересовались. Видимо, никогда не были в цирке. Зрелище летающих камней их заворожило.
— Вы обидели мунта и отказались подчиниться мне. За это я вас накажу, — сказал я. Высоко подкинул один камень, а два других поочередно с силой запустил в парней, стоявших по бокам. В солнечное сплетение. Поймал третий камень и швырнул в главаря. За спиной испуганно вскрикнула Лиана.
С пяти метров камнем величиной с кулак можно убить. Убивать я не хотел. Если поломал пару ребер — их проблемы.
— Идем, Лягушонок.
Два парня корчились на земле, но главарь попытался подняться. Пришлось успокоить его ботинком в челюсть.
У колодца я задержался и вымыл Лиану. Сначала окатил двумя ведрами ледяной воды, потом растер мочалкой из травы. Потом пришлось рукой смывать зеленый сок травы. Лиана посинела, покрылась гусиной кожей и стучала зубами. Я накинул ей на плечи свою куртку, застегнул молнию. Деревенские начали собираться кучками и молча смотрели на нас.
— Показывай дорогу.
— Куда?
— К своему хутору, куда еще?
— Я не знаю. Я заблудилась…
Выругался про себя матом, сориентировался по компасу и повел ее туда, где по моим представлениям мог находиться технохутор. У окраины леса оглянулся. Два десятка мужиков с лопатами и кольями в руках стояли у последнего дома и провожали нас угрюмыми взглядами. Я помахал им рукой. Скупым, небрежным движением.
— Я больше не могу, — взмолилась Лиана.
— Хорошо, — я сбросил рюкзак, расправил изодранную палатку и с сожалением взглянул на мутантку. Иголку держать ей нечем. Дрова для костра собрать не может. Балласт.
Лиана покраснела под моим взглядом и начала извиваться всем телом, пытаясь выскользнуть из моей куртки. Как ни странно, ей это удалось.
— Прощай.
— Сидеть! — рявкнул я. И подумал, не привязать ли ее за шею к дереву. Лиана стрельнула в меня взглядом, оглянулась на лес, но села, как только я подумал о станнере. Я вновь надел на нее куртку. И занялся костром. Холодало. Уже при свете костра сшивал вместе лоскутки, которые были палаткой. По мере того, как темнело, стежки становились все крупнее и крупнее. Устанавливал палатку практически на ощупь. Не рассчитал время. Нужно было раньше остановиться. Теперь есть придется в полной темноте.
Достал из рюкзака кусок копченого мяса, разрезал пополам. Подумал — и Лианину порцию порезал на кусочки размером с конфетку. Она послушно открывала рот, я давал ей кусочек и вгрызался зубами в свою порцайку. Лиана морщилась и долго-долго пережевывала жесткое, жилистое мясо. Затем я напоил ее из фляжки и напился сам. Костер прогорел. Только угли чуть светились.
— Иди, сбегай в кустики.
Лиана недоуменно посмотрела на меня. Я невольно представил процесс.
— Поняла! — воскликнула девушка и растворилась в темноте.
Потом я подтер ей задницу, загнал в палатку и упаковал в спальный мешок. Улегся рядом и накрылся плащом. Холодно и жестко. Второго спального комплекта не взял — сам лопух. А рядом лежит теплая, мягкая девушка. Стоит расстегнуть в спальнике пару молний, и он станет двухместным. Я перекатился и прижался боком к Лиане.
— Я тебя боюсь, — прошептала она.
— Если я тебя оттрахаю, перестанешь бояться? Спи.
Утро. Дождь. Низкие тучи, свинцовое небо.
— У тебя душа как пепел! Там ничего не осталось!
У меня душа как пепел… Все так. Но откуда эта сопля знает? Девочка-дерьмовочка. Слишком много знает. Десятки мелочей накопились за два дня. Сперва я думал, что из нас получилась бы отличная, сработанная команда, будь у нее руки. Потом забыл. Дорога отвлекла.
— Я не хочу с тобой идти. У тебя мысли черные. Отпусти меня, я в деревню вернусь. Пусть катают меня каждую ночь, но они живые люди! А ты!..
Извилины щелкнули и заняли новое положение. Я резко схватил ее за волосы и притянул к себе. Лиана вскрикнула.
— Откуда ты знаешь мои мысли? Ты телепатка? Говори!
— Пусти! Пусти меня!!! — и совсем тихо: — Да, я телепатка.
— Ты одна, или все мунты.
— Все! Услышал?! Доволен?! Что теперь с нами сделаешь? Убьешь всех?
— Прекрати истерику.
Не помогло. Пришлось влепить пару звонких пощечин.
— Не говори, пожалуйста, дегам, — хныкала теперь Лиана. — Телепатов никто не любит. Их все ненавидят. Я — дура. Ты узнал, теперь многие узнают. Егерей слушать перестанут. Дело погибнет… Все из-за меня…
Я протянул руку и погладил ее по волосам.
— Перестань хныкать. Телепатия — это ваши проблемы. Меня они не касаются.
Потом я вспомнил Веду.
— Почему Веда меня ненавидит?
— Не смей о ней плохо думать! — взвилась Лиана. — Она… Ты не знаешь, какая она! Мужественная, надежная. Ее слово — дело! Она никогда не отступит.
— Я тебя что спросил?
Лиана притихла и шмыгнула носом.
— Ты кто? Звездная Элита. Эскадроны Жизни. Вам все лучшее отдали. А мы? Наших предков погрузили в транспорт — и сюда. Волна, не волна — никого не колышет. Живите как знаете! А потом — мутация. Думаешь, приятно быть отбросом эволюции? Нас с каждым годом все меньше. Мы должны успеть генофонд выправить, пока все не вымрем. А конец один — выправим, не выправим, четыре-пять поколений — и нас нет. Дикость наступит, варварство. Об этом невозможно не думать. И тут ты появляешься. Сильный, уверенный. Все наши проблемы для тебя — пустяк, раз плюнуть. Вот хоть дегов вспомни…
— Кого-кого?
— Деградантов. Ну, деревенских. Которые втроем на тебя хотели напасть. Ты не испугался. Даже не огорчился! Тебе скучно стало. Ты их за людей не считал. Свою женщину вспоминал. Перешагнул через них, словно они камни под ногами — и дальше пошел. И меня человеком не считаешь. Я для тебя механизм. Вроде тех, которые ты на корабле чинил. Вымыть надо, смазать, подтереть, где подтекает. Аккумуляторы заправить. Я вообще не понимаю, зачем ты пошел меня спасать.
— Долг. Веда спасла мою жизнь. Терпеть не могу в долг жить.
— А когда починишь мой хутор, избавишься от долга и пойдешь своей дорогой?
Я тяжело вздохнул.
— Разве от такого долга избавишься? Не ты же меня спасла, а Веда… Вот если ее жизнь спасу… Да муть все это. Не в долге дело. Выдумал я его. Понимаешь, девочка, у человека должна быть цель в жизни. Моя цель умерла там, в космосе. Теперь ищу заменитель. Суррогат. Долг — хороший суррогат смысла жизни, ты не находишь?
— Пепел у тебя в душе. Ничего, кроме пепла.
Я распорол кусок брезента, который заменял мне одеяло, и обвязал Лиане ноги. Хоть она с детства ходила босиком, но в горах нужна обувь. Мы поднимались на самую высокую кучу камней во всей округе.
Перепрыгивая с камня на камень, я лениво перебирал факты. Лиана не скрывала состояние дел. Здесь жили поселенцы первой волны колонизации. Еще до Волны. Из них не осталось никого. Но они хорошо подготовили к жизни планету. Специально подобранные земные биосистемы быстро вытеснили молодую местную жизнь.
Вторая волна колонизации, она же — последняя волна эмиграции с Земли. Эти ребята поймали отголосок Волны уже здесь. Часть голышом бегает по лесу. И этой частью занимаются егеря. Одним яйца режут, других осеменяют. Другая часть — мунты. Сохранили интеллект, сохранили технические знания. Раздают егерям-яйцерезам ножи и инструкции. Но удержать уровень технической культуры не могут. Обречены, и сами это понимают.
Третья волна колонизации — деги. Деграданты. Те, кто стартовал на огромных транспортах после нас. Лиана говорит, подхватили мутацию еще в космосе. Волну запятнали. И теперь успешно развиваются в направлении к обезьянам. Предкам нашим уважаемым. Ненавидят мунтов и презирают голышей. Хотя скоро сравняются с ними по интеллекту.
Вопрос: Почему практически любая мутация отбрасывает человечество назад? А если и попадается полезная — типа телепатии — то с таким довеском, что лучше б ее и не было.
Вопрос номер два: Где в этой картине мира место для меня?
Оглядываюсь на Лиану. Измоталась девочка. Но держится хорошо. Все они, мунты, держатся хорошо. Гордые. «Ежик — птица гордая. Пока не пнешь, не полетит» — любила повторять Надежда. Она знала тысячи подобных глупостей.
Пересекаю площадку на вершине и сажусь, свесив ноги в пропасть. Вид отсюда изумительный. «Там горы высокие, там степи бескрайние…» Вулканчик любила степи. А Звездочка — скалы… Там, внизу — яблоневый лес. Колонисты первой волны были большими шутниками. Превратили планету во фруктовый сад. Ни одного бесполезного — в смысле желудка — растения. Удивительно, как кедр затесался в список плодововыгодных. Видимо, по ошибке. Не планета, а рай для обезьян. Может, причина одичания как раз в этом?
Лиана садится рядом со мной.
— Глупости ты думаешь. Волна виновата. Только Волна.
— Труд создал из обезьяны человека. А здесь трудиться не надо. Захотел есть — руку протянул, банан сорвал. Хищников и опасностей тоже нет. Вы не сможете подняться вновь до разумных существ.
Молчим.
— Я никогда не ела бананов. Мама говорила, они на экваторе растут.
Опять молчим.
— Мой хутор — там, — говорит Лиана и указывает ногой направление. Я смотрю на ее профиль. Совсем молоденькая. Лет семнадцать. Вздернутый носик в веснушках, ямочка на подбородке. Чем она так обидела егеря?
— Он хотел слишком многого. Чтоб на всю жизнь, как деревенские, — подает голос Лиана.
— Что в этом плохого?
— Ты не понимаешь. Он всерьез хотел меня. Чтоб я ему детей нарожала. Чтоб его руки — для нас обоих, чтоб он все за меня делал…
«Хочется сделать что-то большое и чистое» — «Вымой слона» — вспоминаю я поговорку Надежды.
— Впервые вижу бабу, которая не хочет замуж. И чего ты этим добилась? Отказала хорошему парню, досталась деревенским подонкам.
— Он от меня ДЕТЕЙ хотел, — чуть не плача, втолковывает Лиана.
— Боишься рожать?
— Боюсь. Но не в этом дело. Я бы ему десятерых родила. Но я мунт. Если девочку рожу, то без рук. А если мальчика — мертвым родится, или убить по закону надо, понял? Трудно контролировать распространение плохих мужских генов. И кто вместо него егерем будет?
— А ему ты это объяснила?
— Ты что?
— Все бабы — дуры. Умные — в особенности.
Что в этом мире делать элитарному носителю образцового генофонда? Осеменителем устроиться? Ездить по деревням и плодить потомков от имени Эскадронов Жизни.
— Ты принес бы много пользы, — серьезно кивнула Лиана.
Технохутор Лианы совсем не похож на хутор Веды. Тот спрятан в скалы, этот весь на виду. Маленький замок. Половина, впрочем, разрушена оползнем. Или засыпана. Очень старым оползнем — все уже заросло кустарником.
— Там внутри темно, — жалуется Лиана. Достаю рулончик небольшой солнечной батареи, раскатываю и вешаю на стену. Подключаю к ней катушку тонкого провода, а второй конец — к фонарю.
— Куда идти?
Разматывая провод словно нить Ариадны, углубляемся в темный коридор.
— Это пультовая, — объясняет Лиана. — Отсюда вся машинерия управляется. А генераторная на этаж ниже.
Спускаемся на этаж ниже. Под потолком замер мостовой кран. С генератора сняты все кожухи. Рядом застыл шестиногий, четырехрукий кибер. Ошибка: кибер пятиногий. Одну конечность где-то потерял.
— Мама в горах под обвал попала, — тут же поясняет Лиана. — Крабика камнем пришибло. Он маму собой прикрывал.
— Что с генератором?
— Тут красный огонек зажигается. Это значит, запускать нельзя, что-то не в порядке. Я все проверила. По два раза проверяла — пока у Крабика аккумуляторы не сели.
— Схема есть?
— В компе, — кивает на стену, где висит огромный экран дисплея. Примитивная здесь техника. Плоские экраны — даже голопроекторов нет. Упадок технологий.
— А на бумаге схема есть?
— Нет. И бумаги нет, и этой… ну, рисовалки — тоже нет.
— Принтера?
— Наверно. Я не знаю, как это называется.
— …мать!..
Итак, мне предстоит починить спин-генератор неизвестной конструкции без схемы и прочей документации. Для его запуска, кстати, тоже нужна энергия.
— Энергия будет, — уверяет меня Лиана. — У нас все предусмотрено. Здесь ручной генератор есть и аккумулятор для запуска.
— Ручной???
— Называется так. Там педали. Сидишь, крутишь. Как только красная лампочка зеленой сменится, можно запускать.
— Покажи!
На самом деле — генератор. Типа велотренажера. Удобное кресло с высокой спинкой и педали. Сбоку — щиток с приборами. Вольтметр, амперметр, заряд аккумулятора. Генератор приблизительно на четверть киловатта — если поднатужиться. Три часа удовольствия — и можно сделать одну попытку запуска спин-генератора. Если не получилось — еще три часа физических упражнений. Здорово! Прикидываю, что две попытки в день для меня предел. Копыта откину.
— Я могу педали крутить, — влезает Лиана.
— Это мысль, — открываю скрипучую дверцу шкафа с человеческими инструментами, достаю отвертку и начинаю откручивать крышку распределительной коробки «ручного» генератора.
— Что ты хочешь сделать?
— Занять тебя полезным делом, — я уже снимаю корпус с компа. Слава создателю, хоть комп стандартный. Зачищаю концы проводов, соединяю генератор с аккумулятором компа через диодный мостик, выдранный из высоковольтной части блока питания. На всякий случай подключаю вольтметр.
— Садись и крути педали. Если вольтметр покажет больше двадцати вольт, я тебе ноги из задницы выдерну.
Лиана, закусив губу от напряжения, выполняет приказ. Крутить нужно очень медленно. Стрелка вольтметра так и хочет перескочить запретное деление.
— Стой! — разбираю педальный механизм и меняю местами шестерни. Большую и маленькую. Теперь крутить можно раз в восемь быстрее. Вольтметр не зашкалит.
— Старайся удерживать пятнадцать вольт.
Лиана улыбается мне и принимается за дело. Некоторое время наблюдаю за стрелкой, потом включаю комп. Настенный экран приобретает темно-синий цвет, на нем мельтешат цифры и символы режима самотестирования. Пожаловавшись на судьбу, блок питания и напряжение в сети, получив от меня приказ не обращать внимание на подобные мелочи, комп грузит операционную систему. За спиной восторженно взвизгивает Лиана. Экран белеет, восстанавливает последний сеанс работы и высвечивает схему спин-генератора. Значит, девочка не наобум гайки крутила.
Больше трех часов изучаю конструкцию. Эту модель выпустили после нашего отлета с Земли. Ничего принципиально нового, просто добавили схем самодиагностики и защиты от дурака. Чтоб даже питекантроп не смог сделать себе бо-бо.
— Ты защиты отключала?
— Как можно?
— Все можно, если с головой.
Только теперь замечаю, что фонарь совсем не светит. Солнце село, и солнечная батарея не дает энергии. Комната освещается бледным светом экрана компа. Лиана вся покрыта капельками пота. Они блестят как звездочки на ее теле.
— Отбой. Завтра продолжим. Идем спать.
— А ужинать?
— Знаешь, что Максим Горький говорил? «Я всегда презирал людей, которые слишком заботились о том, чтобы быть сытыми».
Как только выключаю комп, в комнате опускается полная темнота. На ощупь нахожу фонарь, переключаю на аккумулятор и нажимаю кнопку. Аккумулятор совсем дохлый, луч света желтеет прямо на глазах. Еле успеваем подняться наверх и пробежать по коридору ко входной двери. Солнце скрылось, но небо на западе светится голубым. Чудесный вечер. Скармливаю Лиане грейпфрут, снимаю с ее ног обмотки и загоняю в холодный-холодный горный ручей. Смываю с бедняжки трудовой пот, а затем растираю посиневшую своей фланелевой рубашкой. Девушка перестает стучать зубами, но соски ее наливаются, а сама густо краснеет.
— Иди покакай перед сном, — направляю ее к ближайшим кустам. Готовить жутко не хочется, но девочка три часа крутила педали и проголодалась. А до этого мы целый день топали по горам. Развожу костер, подтираю Лиане задницу мою руки и достаю из рюкзака остатки мяса. Пахнет. Точно пахнет. Не от рук. От мяса.
— Ты ботулизма не боишься?
— Чего? — вскидывает брови Лиана. — А-а… Боюсь. Только кушать очень хочется…
Холодает. Завертываю Лиану в свою куртку, завязываю рукава узлом на манер смирительной рубашки и погружаюсь в раздумья.
Бидончик я отдал Тоби. Сковородок и кастрюлек у мунтов нет. Но есть кожух распределительной коробки генератора. Связываю из нескольких смолистых веток факел и бегу в генераторную. На обратном пути факел, конечно, гаснет. Но уже виден светлый прямоугольник двери. Кидаю коробку кожуха в костер, чтоб обгорела краска. Ни разу не видел квадратной кастрюли. Да еще без ручек.
Когда коробка начинает светиться бордовым, подцепляю ее палкой, вытаскиваю из костра и пинком отправляю в ручей. Раздается пшик. Наскоро оттираю внутреннюю поверхность песком. Кастрюлька готова. Ставлю вариться мясо. Соли нет. Почему жареное мясо без соли идет отлично, а вареное в горло не лезет?
— Есть соль. В химлаборатории. Соль — это же натрий-хлор, да?
— Правильно, малышка. А в темноте не перепутаешь?
Лиана обиженно замолкает.
Варю мясо долго. Дважды доливаю воду в кастрюльку. Если учесть, что здесь атмосферное давление выше, температура кипения должна быть больше ста. Где-то около ста пяти градусов.
— Вареного ботулизма не боишься?
Лиана сверкает улыбкой. Двумя палками вытаскиваю кастрюльку из огня и опускаю на мокрый песок. Глотая слюнки, ждем, пока остынет бульон. Потом кормлю с ложечки Лиану и не забываю про себя. Бульон получился наваристый, а привкус обгорелой краски заменяет соль. А может, голод заменяет.
Как бы там ни было, на двоих уговорили три литра бульона и полтора килограмма мяса. И не наелись. Заедаем грейпфрутами. Их горьковатый вкус после пресного бульона восхитителен.
— Спать будем в обсерваторской, — заявляет Лиана. — Это от входа вторая дверь слева.
Хорошая мысль. Наощупь находим вторую дверь, расстилаю на полу подстилку и одеяла, укутываю Лиану и засыпаю почти мгновенно.
Снится Звездочка. Даже во сне помню, что ее больше нет. Просыпаюсь от собственного стона сквозь сжатые зубы. Рядом всхлипывает Лиана. Выходит, телепатия — не только плюсы.
— Забудь и спи. Это мои проблемы. Тебя не касаются.
— Глупый… не касаются, как же… — всхлипывает Лиана. — Ты раньше добрый был, а теперь злой.
— Спи.
Последовательно отключаю схемы защиты. Лиана крутит педали, заряжает стартовый аккумулятор. Комп работает от блока солнечных батарей, вынесенных на улицу. Красный огонек защиты гаснет, когда отключаю кабель дистанционного управления. Оказалось, проблема не стоит выеденного яйца. Пробой в кабеле. У Лианы просто нет опыта ремонта сложной техники.
Подключаю на место все, кроме кабеля дистанционки и, пока аккумулятор не накопил энергии для запуска, иду осматривать кабель. Поврежденный участок вскоре нахожу. Из-за просадки грунта под домом сдвинулись бетонные плиты и передавили кабель. Снимаю оплетку, наружную изоляцию, иссекаю поврежденный участок и старательно соединяю проводки. Заливаю места паек пластикатом. На кабеле образуется утолщение. Блямба. Некрасиво, но надежно.
Аккумулятор уже заряжен, но Лиана продолжает крутить педали. Небрежным жестом вдавливаю кнопку запуска. Оживает индикационная панель, уши чуть закладывает от свиста на грани порога слышимости. Через пять секунд генератор выходит на режим, и в комнате загорается свет. Лиана радостно вскрикивает, а потом пускает слезу. Смеется и плачет. Плачет и смеется. Щелкаю тумблером и переключаю аккумулятор на зарядку от сети. Когда зарядится, выключу генератор и поставлю на место все крышки и кожухи. Лиана очень ловко ногами подключает кабель зарядки к пятиногому киберу, а когда тот оживает, садится на корточки, лопочет какой-то бред, целует его между объективов, прижимается щекой к пыльному железу.
— Гидропоника!
— Что — гидропоника?
Но девушки уже нет. Умчалась. Кибер — за ней. Иду следом.
Секция гидропоники в таком же запущенном состоянии, что и у Веды. Лишь прозрачная цистерна с хлореллой — в полном порядке. На самом деле, там не хлорелла, а совсем другая водоросль. Но название от первых опытов так крепко прилипло, что стало нарицательным.
Лиана сидит на стуле перед пультом контроля. На полу перед ней лежит клавиатура. Девушка ловко набирает команды большими пальцами ног. Кибер в углу присосался к розетке и продолжает зарядку аккумуляторов. Я всмотрелся в графики на экране пульта. Установка гидропоники работала в режиме полуконсервации, и Лиана сейчас выводит ее в рабочий режим.
— Она что, не выключалась?
— Здесь автономное питание. Аккумуляторов хватает на три месяца автономной работы.
— И ты мне вчера не сказала?! Мы корячились, педали крутили, а здесь была энергия?!
Лиана взглянула на меня как на сумасшедшего.
— Это же гидропоника!
— Ну и что?
— Это святое. Если хлорелла погибнет, хутору конец. Никто на хуторе жить не сможет, пусть даже все остальное работает.
До меня постепенно доходит, что гидропоника здесь так же важна, как воздух на космическом корабле. Без нее — смерть. От голода. Кругом фруктовые леса, но — не для мунтов. Много ли яблок с яблони сумеешь сорвать ртом?
— Правильно, — подтверждает Лиана. — Мама говорила, это как в океане. Кругом вода, но пить нельзя. Люди от жажды умирают. Это на самом деле так?
— Да.
— Я никогда не видела океана. Веда рассказывала, но это не то. А там на самом деле вода соленая?
— Горькая там вода, а не соленая.
Поднимаю крышку и сачком снимаю верхний слой биомассы. На всплывших водорослях появился уже пушок плесени, а засорять плесенью синтезатор не стоит. Радостная Лиана дает советы, встает на цыпочки и аж подпрыгивает от возбуждения. Даже Крабик, вроде, пританцовывает в углу на своих пяти ногах.
— Наконец-то поедим по-человечески!
С сомнением смотрю на изумрудное желе, которым заполняется бункер синтезатора.
— Ничего ты в еде не понимаешь, — объясняет мне сияющая — рот до ушей — Лиана. — Это — настоящая еда для цивилизованных людей! А те куски мяса, твердые как дерево, которыми ты меня кормил — это заря цивилизации. Дикость! Убивать животных, чтобы съесть — об этом даже подумать страшно! До самой смерти не забуду, что сырое мясо ела.
— Когда это ты сырое мясо ела?
— В первый день. Ты же сам меня кормил. А что, разве оно не сырое было? Все равно гадость! Такое только с голода есть можно.
С последним не могу не согласиться, и Лиана победно улыбается.
На следующий день разрешаю себе понежиться в постели до полудня. Благо погода за окном располагает. Хмуро и дождь моросит. Так и кажется, что слышно, как капли по стеклу стучат. Хотя стекло здесь — броня. Запросто выдержит тот камнепад, который дальнее крыло хутора засыпал.
Странное ощущение. Никуда не надо спешить. Перед посадкой как папа Карло вкалывал. После посадки ни дня не сидел на месте. Шел, торопился… А теперь как бы никому не нужен. Дьявол! И на самом деле никому не нужен. Волки сыты, овцы целы и вечная память пастуху… Этот мир озабочен своими проблемами.
Встаю, наскоро умываюсь, прыгаю по комнате, разминая мышцы комплексом боевых упражнений и иду разыскивать Лиану.
Нахожу ее в ремонтной мастерской.
— П, п, п, в, в. Захват! эн, эн, эн, эл, эн. Левый! П, п, в, захват! — доносится оттуда отрывистая дробь команд. На столе полуразобранный механизм. Лиана ногами и голосом управляет сразу четырьмя манипуляторами. Пальцы ног всунула в сенсоперчатки — точнее будет сказать — сенсотапочки, и очень ловко управляет двумя манипуляторами, напоминающими железные руки с пятью пальцами. Двумя другими манипуляторами с отверткой и гаечным ключом управляет голосом.
— Привет! Что у тебя здесь?
Лиана отвечает ослепительной улыбкой.
— Доброе утро, соня! Левый болт никак не поддается. Приржавел.
— Дай-ка я попробую, — капаю под шляпку болта керосином, накладываю разводной ключ и рывком проворачиваю. — Порядок.
— Игнат, все сообщество мунтов выносит тебе искреннюю благодарность за спасение меня и технохутора! — торжественно произносит Лиана. — В сети только о тебе и говорят!
— Откуда обо мне знают?
— От Веды. Я утром вышла в эфир — это такой восторг! Столько поздравлений получила! Тебя все благодарят! И Веду все поздравляют! Я же тебе говорила, она все может! Ей только взяться!
Веда все может… Забавная мысль. А я становлюсь известным в этом мире. На фига мне это?
— Веда обо мне что-нибудь говорила?
Лиана мило краснеет.
— Говорила. Чтоб я тебя не боялась.
— Понятно. Отдохни полчасика, сейчас света не будет. Я наведу порядок в генераторной.
Навожу порядок в генераторной. Ставлю на место кожухи генератора, восстанавливаю блок питания компа и приступаю к планомерному ремонту оборудования технохутора. Лог-лист неполадок такой длинный, что до конца просматривать не стал. Попросил комп отсортировать неисправности по важности и начал с первого пункта. На корабле текущим ремонтом пять биолет занимался, так что работа знакомая. Техника немного другая. И запущена сильно. Капитального ремонта лет двести не было. Но ремонт — он и в Африке ремонт.
Лиана прилипла банным листом, открыв рот смотрит на мои руки и задает тысячи вопросов. Никогда у меня не было такого старательного ученика. Вслух я ей не отвечаю. Она считывает ответ из моих мыслей. Не знаю, как она в них разбирается, но кажется, ей хватает.
Все время остро не хватает запчастей. Стеллажи мастерской почти пусты. Где взять запчасти, Лиана не знает. Спрашиваю у компа.
— На складе, — сообщает комп.
— Склад — это в том конце, — объясняет Лиана.
— В каком — том?
— В том конце — это где обвалом все засыпало. Туда не попасть.
Вывожу на экран трехмерную схему технохутора, потом поднимаюсь на верхнюю площадку башенки и смотрю, что имеем в натуре. Дальнее крыло и на самом деле засыпало основательно. Стены здесь толстые, прочные. Почти наверняка выдержали. Но раскапывать вход — на это годы уйти могут.
— Обвал еще при моей бабушке случился, — рассказывает Лиана. — Меня тогда на свете не было. А мама была молодая совсем. Моложе, чем я сейчас.
— Ты понимаешь, что без склада мы не сможем отремонтировать все?
— Да, — грустнеет девушка.
— Думай, как попасть на склад.
— Никак… Бабушка думала, мама думала. Никак туда не попасть.
Вновь изучаю на компьютере схему дальнего крыла технохутора.
— Хорошо. Переднюю стену и ворота завалило. А заднюю вы пробить пытались?
— Бабушка пыталась.
— Ну и?
— Что «ну и», что «ну и»? О чем ты сейчас думаешь? Как на склад попасть. Неужели не ясно, чем все кончилось? Эту стену всю жизнь долбить можно. А у бабушки только один Крабик остался. Его беречь нужно.
Спускаюсь вниз и вновь вожу пальцем по схеме.
— Это что за туннель?
— Кабельный колодец.
— А этот короб?
— Вентиляция.
— Если здесь пробить стену, можно из кабельного колодца попасть в вентиляцию.
— Ну и что? Там только ползком можно. И не развернуться. Крабик туда не влезет.
— Я туда влезу.
— Назад не вылезешь. Это верное самоубийство.
В чем-то Лиана права. Для мунта это действительно самоубийство. Червяком ползти семьдесят метров по вентиляционной шахте, а там решетка… Чем ее снимать? Зубами? Затем — шесть метров вниз. На складе потолки высокие…
Долго простукиваю стены кабельного колодца. Потом несколько ударов кувалды — и путь в вентиляционную шахту открыт. Обвешиваюсь инструментами, закрепляю на голове повязку с самым хорошим аккумуляторным фонарем, который удалось найти, и влезаю в вентиляцию. Места в этом коробе ровно столько, чтоб можно было ползти вперед. Назад ползти будет очень сложно. Лиана всхлипывает за спиной. За уши ее бы отодрать.
На первом же повороте остаюсь без лома. Я в поворот вписываюсь, а хороший, тяжелый двухметровый лом — нет.
— Будь самой горькой из моих потерь… — бурчу под нос сонет Шекспира, прикидывая в уме, смогу ли вписаться в этот поворот задним ходом. Сомнительно… Отсчитываю три ответвления вправо, после четвертого вышибаю вентиляционную решетку и освещаю зал лучом фонарика. Это какой-то гараж. До пола метров пять. Закрепляю «кошку» на обрезе вентиляционной шахты и спускаюсь по веревке. Щелкаю выключателем на стене. Удивительно, но свет загорается. Значит, кабели электросети не перебиты. Повезло. «Мы везунчики» — говорил Бонус. Пока был жив.
Долго в унылом восхищении брожу по залам склада. Здесь есть ВСЕ. Два поколения мунтов экономили на всем, боялись выбросить кусок пленки, обрезок жести, ржавую гайку. А за стеной — изобилие…
…Поворачиваю вентиль на баллоне с кислородом. Пламя из желтого становится голубым. Если верить инструкции, две с половиной тысячи градусов. Опускаю забрало термоскафандра и включаю электротермическую насадку. Плафоны на потолке заметно тускнеют, зато температура струи на выходе резака поднимается до пяти тысяч градусов. Почти как на Солнце. Там шесть тысяч.
Бетон тает под пламенем как кусок льда под струей кипятка. Но очень скоро приходится погасить резак. Иначе я спекусь. Даже в скафандре. Или баллоны с газом взорвутся. Оттаскиваю их на всякий случай подальше. Я выжег в стене кратер глубиной с руку. То есть, сантиметров семьдесят. А сколько осталось? На Луне стены куполов — два метра бетона. А на Земле своими глазами видел отколовшийся кусок крепостной стены больше трех метров толщиной. На три метра кислорода для резака не хватит.
Воздух вновь становится прохладным, а кратер и подтеки на полу больше не светятся багряным. Зажигаю резак. Теперь прожигаю узкое отверстие. Новая беда — бетон кипит и брызгает расплавленным металлом арматуры. «Если у вас испортился спин-генератор, отойдите подальше, чтоб не забрызгать костюм расплавленным металлом». Ты думала, Вулканчик, это шутка? Я тоже так думал.
Есть! Толщина стены — около метра. Осталось вырезать симпатичный дверной проем. Это мы могем. На это трех баллонов кислорода хватит.
Бетон еще горячий, поэтому беру Лиану на руки, переношу через порог. Крабик секунду колеблется, сканирует инфракрасным глазом горячий участок пола. Но хозяйка удаляется. Решившись, он бодрой рысцой устремляется за ней. Пока Лиана, пораженная, бродит между стеллажами, я отбираю в корзинку, висящую на локте, нужные запчасти. Грибник — да и только.
— Лиана! Я ухожу.
В ответ — тишина.
— Лиана!!!
Делать нечего. Иду разыскивать. Лиана стоит на коленях перед рядом замерших как на параде шестиногих киберов — спутников мунтов. Красива она со спины. Обхожу девушку, сажусь перед ней на корточки.
— Ну? В чем дело?
Лицо у нее — как маска. Только слезы обильно текут по щекам и капают с подбородка на бетон.
— Что случилось?
Лицо страшно искажается.
— А-а-а-ву-у! — В этом вопле нет ничего человеческого. Подхватываю девушку на руки и спешу в медицинский сектор. И лишь по дороге понимаю, что это очередная истерика.
— Их много! Много! Ты понимаешь, их много! Мама, мамочка, прости меня!
Укладываю на кровать, закутываю одеялом, заставляю проглотить капсулу транквилизатора. Лицо девушки опять застывает трагической маской.
— Ты видел, их много…
— Кого?
— Крабиков.
— Не меньше десятка.
Лиана лежит на спине как покойница, только из глаз текут слезы, стекают по вискам в уши и на подушку. Покопавшись в аптечке, делаю ей инъекцию снотворного. Дожидаюсь, пока девушка заснет.
— Крабик, иди за мной.
Кибер смешно переминается на месте, но не спешит выполнить приказ. Беру его за манипулятор и веду как ребенка за ручку. Тут уж он не осмеливается своевольничать. Но почему-то я уверен: стоит его отпустить, убежит к хозяйке. Поэтому, приведя его на склад, первым делом откидываю щиток на грудке и отключаю ходовую часть. Ставлю на зарядку двух его собратьев. И, чтоб сэкономить время, запускаю на обоих стандартную процедуру техобслуживания. Пока киберы взвывают давно не смазанными сервоприводами и щелкают манипуляторами, иду на воздух.
Какая здесь прелестная, изумрудная трава…
На ближайшие две недели задача ясна. Вахта. Обычная вахта, как на корабле. Привожу технохутор в порядок. Что потом? В егеря податься? Девок портить, мужикам яйца резать? Зачем? Чтоб выполнить клятву, данную Звездочке? Мужики в эту клятву не входили.
Хороший вопрос — зачем? С него надо было начинать. Знаю я, зачем егеря режут яйца соотечественникам? Что вообще я знаю об этой планете? Сначала нужно разобраться с ситуацией. Раз есть технохуторы, значит есть те, кто их построил. Города, заводы — все должно быть. Одного кибера можно изготовить в мастерской. Но здесь их десяток. Однотипных. И у Веды такой же. Где-то есть завод. И хотя бы поселок умных, хорошо образованных инженеров.
К черту одичавших дикарей, пойду искать цивилизацию.
Возвращаюсь на склад. Мои киберы чинят друг друга. Молодцы, ребята. Дожидаюсь, когда кончат, и копирую жизненный опыт Крабика в обоих новеньких. Одного из новеньких вновь ставлю на консервацию. Подумав немного, снимаю с Крабика помятые пластины кожуха и ставлю на новенького. Лиана наверняка не захочет расставаться со своим хромоножкой. Скажу, что починил.
Черт! Она же телепатка… Ладно, ее проблемы. Что сделано, то сделано. Ставлю Крабика на консервацию, а новенького отправляю к девушке.
— Игнат, прости меня. Больше не повторится, честное слово. Мне самой стыдно, что так расклеилась.
— Забыли.
— Нет. Я должна объяснить… Ты обо мне неправильно думаешь. Я должна объяснить… Это очень важно — то, что ты сделал. И ты должен знать, какая я сволочь, и какой была моя мама. — Лиана говорит подчеркнуто спокойно. Слишком спокойно. На грани срыва.
— Изливай свои печали. Только не надейся на сочувствие. О'кей?
— Я не хочу, чтоб ты меня жалел. Постарайся только понять. Это не для меня, это ради мамы. Ради ее памяти. Мою маму звали Корина. От бабушки ей остался только один Крабик. А когда родилась я, он стал общий для нас обеих. Понимаешь? Мы все время должны были быть рядом. До тринадцати лет все было нормально, а потом… Потом я захотела свободы. Я же знала, что рано или поздно Крабик станет моим. Как до этого он стал маминым. Мы обе отлично это знали. Я стала ревновать маму к Крабику. Я проклинала себя, но ничего не могла поделать. Будь вместо мамы Тоби, все было бы хорошо. Но мы с мамой телепаты… Она все чувствовала. Сначала я старалась уходить в горы с Тоби. Но он… Ему хотелось меня осеменить. Тогда мама загрузила меня учебой. Целыми днями заставляла изучать все, что было на хуторе. Всю технику, все механизмы — до последней гайки. С электроникой у мамы было хуже. Она сама не все понимала, но ночами просиживала перед экраном компа, а потом объясняла мне. Два года сплошной зубрежки — ты можешь себе это представить?
— Могу. У меня было пять лет.
— Мама старалась обучить меня всему, что знала сама, а когда решила, что все… Ты ходил на берег реки?
— Нет еще.
— Там песчаная отмель. Мама называла ее золотым пляжем. Она любила купаться. А я так и не научилась плавать. Мама всегда мечтала узнать, куда течет река. А когда решила, что я выучила все, что знает она… У нас на двоих был всего один Крабик. Мама вошла в реку и поплыла вниз по течению. И Крабик стал моим. Ты понимаешь, она сделала это, чтоб у меня был свой собственный Крабик. Маме только-только тридцать пять исполнилось. А на складе крабиков много. Они вдоль стенки рядами стоят. Когда я увидела…
— Понимаю.
Стоило кузнечиком пятьсот лет прыгать по галактике, чтоб сесть на такую дерьмовую планету. — Этого я не сказал вслух. Но Лиана услышала. Телепатка.
— Ты НЕ ВСЕ понимаешь. У моей дочери будет СВОЙ Крабик. С самого начала свой. Мы сможем жить вместе долго-долго. Благодаря тебе.
«Они жили счастливо, а потом долго-долго» — говорила Вулканчик.
Наладил пищевой синтезатор. Только с блоком пищевых красителей не справился. Фиолетовое мясо, или мясо цвета детского поноса ничем не привлекательней зеленого. Вулканчик всегда утверждала, что художник и я — вещи некомпланарные. А Бонус принимался вопить, что это конгениальная мысль. А Звездочка сердилась на них и говорила, что они зато в музыке не копенгагены, ре-бемоль от до-диез отличить не могут. Поэтому я плюнул на блок красителей, оставив все как было. Колбасы, бифштексы, антрекоты и лангеты получаются всех оттенков зеленого: от болотного «хаки» до бирюзового. Запрограммировать Крабика на работу с ножом и вилкой не смог, и перед подачей на стол сам нарезаю мясо мелкими кусочками. И Лианину порцию, и свою.
Девушка тоже включилась в работу. Наводит чистоту во всех помещениях, красит в яркие цвета стены. Раньше экономила краску, пластик, ресурс Крабика, теперь словно опьянела от избытка всего. Порхает по хутору радостная, целеустремленная, измазюканная в пыли и краске. Как можно измазюкаться без рук, не понимаю. За ней тенью следует Крабик. Такой же измазюканный. То с пылесосом, то с краскопультом.
Лог-файл требующего ремонта оборудования становится все короче. Как на корабле — вышел из анабиоза, три-четыре недели корячки, по уши в грязи и машинном масле, неделя отдыха — и опять в анабиоз. Десять лет долой. Биогод на век реального времени.
Вахта… Просто вахта. Неужели сложно представить, что я на корабле? Я проверяю энергосистему. Звездочка тестирует системы саркофага. Могу позвать ее в любой момент. Она спросит, ничего, что у нее руки грязные.
Ремонт электроники — раскрытый чемоданчик универсального тестера, руки по локоть в пыли. Извлекаю ТЭЗ, сдуваю пыль, очищаю контакты, вставляю в диагностический слот тестера. Девяносто процентов неисправностей — нарушение контакта в разъемах. Вынул-вставил, и все заработало.
Ремонт механики — руки по локоть в машинном масле.
Вахта… Сколько их было за пятьсот лет полета. Или за пять биолет… Вахта, неделя отдыха, десять лет анабиоза. Вахта, отдых, анабиоз… Или аварийное пробуждение — это если уровень Волны нарастает. Тогда — спешка. Ремонт самого необходимого, выбор направления прыжка, запуск зондов-скаутов… А когда скауты кончились, мы прыгали вслепую. Наудачу. Иногда по четыре, по пять раз, прежде, чем находили спокойный космос. Но Волна к тому времени уже шла на убыль.
Это просто вахта, — внушаю я себе. Вечером вернусь в свою каюту. В нашу каюту. Придет Звездочка, устало улыбнется мне, и все будет хорошо. Это самая обычная вахта. Руки в смазке, руки в пыли… Утечка гидравлики, лопнувший подшипник, окислившийся контакт. Короткое замыкание, заклинивший подшипник, закупорка гидравлики. Зеленый экран тестера: «ТЭЗ исправен», «ТЭЗ не опознан», подшипники, пневматика, загустевшая смазка, сорванные болты, сбитые в кровь костяшки пальцев… Обычная вахта. Где-то за стенкой трудится Бонус. А девочки восстанавливают ресурс систем жизнеобеспечения.
Неужели трудно представить?
Просыпаюсь оттого, что в мою постель пристраивается кто-то еще.
— Звез…
— Это я, Лиана.
Конечно, Лиана. Кто же еще? Звездочка умерла. Давно умерла. Еще там, в космосе. Господи, ну почему она, а не я?
— Игнат, я хочу заменить тебе Звездочку. Я буду совсем как она. Ты только подумай, и я все сделаю. Я буду очень стараться. А ты будешь осеменять меня, как ее. Всегда-всегда, когда захочешь.
— Мой брачный сезон позади, — равнодушно говорю я. С телепатами приятно иметь дело. Не нужно врать. Можно оставаться самим собой. Главное — не строить из себя кого-то. А для этого нужно сначала умереть душой. Стоит только умереть душой — и ты готов к переходу на следующую ступень эволюции. Забавно, право.
— Док, я же изрядный сволич, — спрашивал я психолога перед стартом. — Только честно дыши. Неужели на всей Земле кандидата получше не нашлось?
— У тебя отличное здоровье и идеальная наследственность. А сволочиться в полете тебе будет не с кем, — сказал он мне. — Группа подобрана с учетом твоих выкидонов. Психологическая совместимость очень высокая. А когда вы начнете размножаться, твой сволочизм найдет применение. Первобытному племени нужен вожак. Ты на эту роль подходишь. Так что лети с богом. Или к черту — это уже на твой выбор. Будь самим собой и не забивай голову чепухой.
Док не верил, что мы удержимся на цивилизованном уровне. Мне тоже было на это плевать. Это — проблемы потомков. Можно ли мунтов считать моими потомками? В город надо. Надо идти в город, искать ответы…
— У тебя мертвое сердце, холодная душа, но большие, добрые руки. Не уходи, пожалуйста, — просит Лиана.
«У тебя большое, доброе сердце», — сказала мне как-то Звездочка. «Я знаю. Я держала его в руках».
Она действительно держала в руках мое сердце. В ту смену я должен был выйти из анабиоза первым, но что-то отказало в аппаратуре саркофага. Не сумев разбудить меня, комп начал будить следующего. Девочки успели вытащить меня с того света. Тогда еще работала биованна регенератора. На груди даже шрамов не осталось. Семьдесят лет спустя — семь вахт спустя — регенератор вышел из строя навсегда.
— Ты хочешь уйти. Не уходи пожалуйста. Ой, я не то сказала. Не слушай меня, забудь. Иди, если надо, только вернись, ладно? Я буду тебя ждать. Всегда-всегда буду ждать. Я хочу, чтоб ты меня осеменял. Только меня. Но, если ты голышек осеменять будешь, я не против. Честное слово, не против. Игнат, ты только не сердись, но нельзя все время жить прошлым.
— Ты хоть слова такие знаешь — любовь и секс?
Лиана долго вслушивается в мои мысли.
— Теперь знаю. Я тебя люблю.
— Спи.
— Ты вернешься?
Застегиваю клапан рюкзака, проверяю заряд станнера.
— Не знаю.
— Можно тебя попросить? Я не о себе, я о Веде.
— Говори.
— В нашем секторе егерей мало. Нужно новых воспитывать. Приведи Веде мальчика из дегов. Только не старше пяти лет.
— Где я его возьму?
— В деревне.
— Кто мне его там даст?
— Укради… Игнат, ты чего насупился. Господи, ну не будь таким наивным идеалистом! Ты же не Тоби. Почти все егери из украденных детей. Сироты вроде Тоби — исключение.
За такое надо убивать, — подумал я, но Лиана услышала.
— Ну что ты как маленький! Да, мы крадем детей и воспитываем из них егерей. Мне тоже это не нравится, ну и что? Нам человечество как вид спасать надо. Мы бы сами егерей нарожали, да не можем.
— Ты считаешь это оправданием?
— Ничего я не считаю. Тут все просто как дважды два. Еще лет двести пройдет, ни одного технохутора не останется. Мы, мунты, вымрем. Деги окончательно одичают, язык забудут. Голыши и так дикие. Людьми останутся только потомки егерей. Ради этого мы, мунты живем, ради этого мир вертится. Если знаешь, как лучше сделать, скажи. Мы не знаем.
Лиана и я. У нас похожие судьбы. Смерть матери на совести девушки. А Бонус погиб из-за моей тупости. Ведь это я должен был выпрыгнуть из кресла и подать пример. Бонус не мог сам догадаться покинуть кресло, он пилот. Пилот занят кораблем, думает о корабле и только о корабле. Это закон. Думать об экипаже — мой долг. У меня было больше четырех секунд на раздумья. Вагон времени… В смерти Бонуса виноват я и только я. Может, обывателю это непонятно, но очевидно даже желторотому курсанту. Будь в кабине Вулканчик…
Я зажмурился — и как наяву увидел кабину шаттла, девочек в креслах.
— Геть з кресел! — завопила Вулканчик, схватившись за привязные ремни у плеч. У нее-то времени отстегнуться не было. Луиза сбрасывает ремни и хладнокровно ждет, когда вылетит третье кресло второго ряда…
«Мы бессмертные» — говорил Бонус.
Я не успел отойти и на десять километров, как откуда-то вынырнул Тоби.
— Я так рад, что ты сумел помочь Лиане. Я бы не сумел. Корина пыталась научить меня технике, но я все равно ничего не понял.
— Как ты узнал, что я починил генератор?
— А свет в окошках увидал. Я тут недалеко был. Вдруг моя помощь понадобилась бы.
Вскоре в голове установилась знакомая пустота. Тоби болтал без перерыва. Но сейчас мне нужно обдумать свои планы. Не даст ведь сосредоточиться.
Я резко остановился, и егерь чуть не налетел на меня сзади.
— Тоби, ты любишь Лиану?
— Любишь — это что за слово? Я его не понимаю. Ты его неправильно говоришь. Вот сливы я люблю. А о людях так не говорят.
— Ну, ты хотел бы ее осеменить?
— Да-да! Только не так, как голышек. А чтоб она тоже… Чтоб я — и она. И мы вместе… Только она не хочет…
— Иди — и возьми ее. Не захочет — возьми силой. Тебя она простит. Она сама хочет тебя, только себя не понимает. Но запомни главное: никогда не жалей мунта. Понимаешь? Они ненавидят, когда их жалеют. И не жди от Лианы детей.
— Я знаю. Мне Веда говорила. У нас будет дочка без рук. Я раньше не знал, а потом мне Веда рассказала. Но вдруг Лиана не захочет меня?
— Будь егерем, черт возьми! Все у вас будет хорошо, поверь мне. Сначала она будет сердиться, но потом все тебе простит. Иди к ней.
Я стоял и смотрел, как Тоби, неуверенно оглядываясь, направился к хутору.
— И никогда не жалей ее, слышишь?!
Через десять дней он догнал меня. Вымытый, причесанный, с аккуратно подстриженной бородкой. И молча пошел рядом.
— Все нормально? — спросил я.
— Хутор таким новым стал. Стены чистые, яркие, радостные. Я никогда его таким не видел, — уныло отозвался Тоби. — Лиана сказала, теперь всегда так будет.
— Что у вас случилось?
— У нас все хорошо. Она покорилась мне. Теперь я всегда могу придти на ее хутор и осеменить ее. Так и сказала: «Моя дверь всегда открыта для тебя». Только… Игнат, нехорошо это получилось. Она любила тебя, а теперь ненавидит. Не надо было тебе уходить с хутора. И меня не надо было посылать. Она сказала, что не любит меня, но будет слушаться. Вот если бы я пришел за ней раньше, пока она тебя не полюбила… А теперь она тебя ненавидит. Плохо это. Ты помог ей, а за помощь взял кусок ее души. Помогать нужно так, чтоб потом не было больно, я так понимаю.
— Ты догнал меня, чтоб это сказать?
— Нет. Лиана просила показать тебе дорогу в город. И передать, что она ненавидит тебя.
— Любит — ненавидит… Мура все это. Теперь тебя любить будет.
— Нет. Со мной она дружит. А тебя любила.
Я выругался. Вслух.
Четыре дня Тоби шагал рядом со мной и молчал. Молчаливый Тоби — от этого делалось немного не по себе. Хмурится и думает. Искоса на меня поглядывает. На пятый день его прорвало.
— Безрадостный ты человек, Игнат. Идешь — только под ноги смотришь. Посмотри, как красиво вокруг! А ты идешь, торопишься. И я с тобой иду. Тоже безрадостным стану. Вот скажи, куда ты идешь?
— В город.
— А зачем ты идешь в город?
— Тебе не понять…
Тоби обиделся, насупился и замолчал.
— Я и сам знаю, что не все понять могу. Только Корина никогда не говорила, что мне не понять, — произнес он через полчаса. — Она говорила…
— Да я не в этом смысле. Ты здесь родился, у тебя глаз замылен. Странностей не видишь. А я, со свежим взглядом, понять хочу.
— Ты у Фиесты спроси. Она самая умная, все знает. И от города недалеко живет. Идем к Фиесте!
— Сначала в город.
— Вот весь ты в этом. Как мунт — выдумаешь что-нибудь, ни за что не откажешься! Все мунты такие деловитые, а красоты не видят. Все делают чего-то, делают… И хотят, чтоб все такие были. Голыша увидят — чуть не плачут, что он сам по себе живет. Обязательно им надо, чтоб он делал что-нибудь. Не пойму я этого.
— Труд создал из обезьяны человека.
«Чтобы потом превратить его в лошадь» — добавил бы Бонус.
— Они хотят, чтоб у них снова руки выросли?
Я не стал отвечать. Тоби опять насупился.
— А ты видел обезьян? — не вытерпел он через минуту. — Фиеста говорила, что скоро мы снова станем обезьянами. А я их не видел. Голышей видел, дегов видел, а обезьян не видел. Мунты говорят, на всей планете нет ни одной обезьяны. А если их нет, то откуда Фиеста о них знает? Где она их фотографии берет, если их тут нет? Давай зайдем к ней, и ты спросишь. А потом мне расскажешь. А то в город идем-идем… Никого там нет. Ни дегов, ни голышей. Что я в городе делать буду? Я егерь, мне работать надо.
— Идем к Фиесте, — согласился я.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАКЕТ № 4
Грави-скачковый привод нарушает не так уж много принципов классической механики. Два тела были далеко друг от друга, стали ближе. На это нужна энергия. Очень много энергии. Корабль сдвигается на световые годы, звезда — на метры. Координаты центра масс системы и векторы скоростей остаются без изменений. До изобретения спин-генераторов грави-скачковых звездолетов были единицы, сами звездолеты огромны, а каждый полет — событием, за которым следил весь мир. Спин-генераторы изобретены уже после обнаружения Волны. Грависвязь тоже изобрели позднее.
Долгое время муссировалась гипотеза искусственного происхождения шаровых скоплений звезд. Мол, транспортные потоки внутри ареала звездной цивилизации постепенно сближают звезды. Доказательств пока нет. Как и фактов, опровергающих гипотезу. Волну обнаружили в период расцвета всевожможных проектов поиска ушельцев. Планировались сотни экспедиций.
Все это в прошлом. Вряд ли нас будут занимать проблемы ушедших цивилизаций в ближайшую тысячу лет после Волны.
* * *
Взлетная полоса была сделана на совесть. Из расплавленного базальта. Правда, в нескольких местах базальт дал трещины, но бригада ремонтников залатала бы все дефекты за два дня.
Полосой не пользовались уже лет сто. Ветер нанес пыли, на пыли выросла трава, и местами зеленые языки перекрывали серый базальт от края и до края. Красивое место выбрала Фиеста для технохутора. Если подняться в застекленную башню диспетчеров, во все стороны открывается вид на степь. Надежде бы очень понравилось.
Фиеста вышла нас встречать. Тепло улыбнулась мне, с материнской нежностью прижалась щекой к щеке Тоби. Она была лет на десять-пятнадцать старше меня. Что-то знакомое поразило в выражении лица. Позднее я понял. Это выражение смертельно раненого зверя я видел у Бонуса после смерти девочек. Или в зеркале.
Кибер, спутник мунтов, пускал зайчики надраенными пластинами корпуса. Готов спорить, неделю назад он выглядел ржавой развалиной. Звали его Флаттер. Местная специфика, видимо.
Праздничный стол поражал изобилием. Кроме желе и теплой сладковатой воды стояла пластиковая квадратная тарелка с фруктами, нарезанными аккуратными кубиками. Явно мое дурное влияние. Я кормил Лиану дольками яблок. Прогресс… Только здесь нарезка проводилась без учета косточек, семечек и сердцевины плода. То ли лазерным лучом, то ли очень тонкой алмазной фрезой.
Фиесте очень хотелось остаться со мной с глазу на глаз. Поэтому после обеда мы отправились на экскурсию по аэродромному комплексу. Но Тоби увязался за нами.
Ангар меня поразил. Четыре десятка тяжелых вертолетов выстроились в три ряда как на параде. Но восхитило не это. Кто не видел вертолетов? Изумило то, что источником энергии служили компактные спин-генераторы. Чудеса миниатюризации. Не больше двенадцати-пятнадцати тонн весом. В наше время таких делать не умели.
Во втором ангаре тусклый свет из окон под потолком освещал несколько транспортных флаеров. Я заглянул в один, размышляя, как бы остаться наедине с Фиестой. А впрочем, это ее забота.
— Тоби, приготовь, пожалуйста, комнату для Игната, — попросила Фиеста.
— А… какую?
— Рядом с твоей.
Ворча что-то под нос, Тоби удалился. Фиеста проводила его взглядом, затем резко развернулась ко мне. Мягкая улыбка исчезла с ее лица. Серые глаза блеснули сталью. Теперь это было лицо прокурора. Я хмыкнул.
— Я голосовала за тебя. Жалею, что ошиблась. — Она замолчала, видимо, ожидая реакции. Напрасно. Я лениво размышлял, смогу ли запустить аэродромный тягач и доехать на нем до города.
— Совет рассмотрел твое дело, — продолжила Фиеста. — Лиане разрешено иметь ребенка от Тоби. Многие были против, но Веда, Лиана и я выступили в твою защиту. Ты можешь быть полезен для сообщества и получил право голоса. Сейчас я голосовала бы против.
Я пожал плечами. Детские игры мунтов меня не интересовали.
— Сядь, — приказала Фиеста. Стальные нотки в голосе мне совсем не понравились. Как и мощный станнер, направленный на меня ее кибером. Стальные глаза, сталь в голосе, стальная шестиногая железяка со станнером — как-то это однообразно. Но проснулось легкое любопытство, чем все это кончится. Я присел на бетонный приступок у стены ангара, и Фиеста опустилась рядом.
— Ты не представляешь всей серьезности положения, — произнесла она. — Мунтам нельзя иметь детей от дегов. Тоби наполовину дег. Негативное влияние деконструктивных генов отца Тоби нарушит…
— Деконструктивных… Сами слово выдумали? Скажи прямо: дочь Лианы родится идиоткой, так?
Фиеста вздохнула.
— Дочь Лианы не будет телепаткой. Игнат, ты послал Тоби к Лиане лишь затем, чтоб избавиться от его болтовни. Молодая дурочка впервые увидела полноценного мужчину, влюбилась в него всей силой молодости, а ты подослал к ней Тоби. Ты обманул ее любовь, разбил счастье лишь затем, чтоб не слышать болтовни Тоби. Ладно, в твоей душе ничего не осталось. Но зачем пустое место грязью заполнять?
— Она меня уже простила. Она голосовала за меня.
— Она голосовала за тебя только потому, что она мунт. Для мунта дело важнее личных амбиций. А что касается чувств, ты превратил ее в свое подобие. Любовь выжег, оставил горечь и ненависть. Это у тебя здорово получается.
— Если помнишь, я не собирался идти на тот хутор. Кстати, в чем состояло голосование?
— Ты нарушил закон. Мы решали, обезвредить тебя, или наделить соответствующими полномочиями, чтоб твои действия не выходили за рамки закона.
— Обезвредить — это убить?
— Да.
— Но решили поднять мой статус до ранга мунта?
— Да.
— Ха-ха три раза. Кстати, кто должен был в рамках закона осеменить Лиану?
— Голыш.
— О-о!!! В этом есть какая-то справедливость.
— Ты просто не владеешь информацией. Чем, по-твоему, голыш отличается от мунта?
Я не стал отвечать на риторический вопрос.
— Голышам не повезло. Они получили телепатию, но не лишились рук.
— Так голыши — телепаты?
— Смешно, да? Мы потеряли верхние конечности, и это нас спасло. Голыши имеют полноценный мозг. Они потеряли не разум — язык. Издержки телепатии.
— Так голыши — телепаты? — тупо повторил я.
— Да, голыши телепаты. В этом их беда. Им не нужен был язык для общения, и они его забыли. А вместе с языком — культуру. Технику, письменность и весь багаж знаний, накопленный человечеством за всю историю. Первая волна колонистов слишком хорошо обустроила планету. Превратила ее в рай для обезьян. Не нужно думать о хлебе насущном.
— А вы?
— А мы, мунты, не можем без техники. Без техники мы вымираем в ходе естественного отбора. Ты слышал о Дарвине? Да что я тебе объясняю? Вспомни, что с Лианой случилось. Те мунты, которые забыли про цивилизацию, вымерли. Как питекантропы. Все по Дарвину.
— Фиеста, начни с начала.
— С питекантропов?
— С Волны. Что было на Земле после моего отлета?
— Вы, звездная элита, улетели первыми. Вас готовили, вам отдали лучшие корабли. Но жить хотелось всем. И после вас началась вторая волна эмиграции. Земля мобилизовала все силы. Можно очень много сделать, если под рукой все ресурсы планеты и не нужно заботиться об экологии. Ведь до конца света двадцать лет. Строились огромные транспорты. Ваш кораблик мог скакать по космосу сколько угодно, а ресурс транспортов ограничивался двумя десятками прыжков.
— И вы не смогли уйти от Волны?
— Я пока говорю о дегах. Да, они подцепили волну в космосе. Мои предки принадлежали третьей волне эмигрантов. В это время с Земли бежали на всем, что может летать. Кораблями эти гробы назвать можно лишь условно. Строили огромные негерметичные корпуса-соты, набивали их групповыми анабиозными саркофагами на полсотни человек каждый, с ресурсом на три месяца, ставили на эту консервную банку двигатель — и гуляй. Три прыжка в твоем распоряжении.
— Три прыжка — это одна попытка…
— Правильно. Знаешь, сколько таких гробов по галактике раскидано? На каждом по двести пятьдесят тысяч человек. Два из каждых трех дали SOS. Разумеется, их никто не спасал. Это просто сигнал остальным: «Сюда нельзя».
— Откуда ты это знаешь?
— Архивы изучала. Тебе же Тоби говорил, что я все знаю, — криво усмехнулась Фиеста. — Статистику открыто публиковали. Хотели сбить ажиотаж. Статистика катастроф, ограничение рождаемости, возрастной ценз — и все равно, в космос хотело уйти намного больше народа, чем могли унести корабли.
— Сколько успели эвакуировать?
— На дату отлета моих предков — процентов сорок. Возможно, еще процентов десять после нас.
— А потом?
— А потом предки сели здесь. Это была вторая волна колонизации. Четверть колонистов погибла до высадки.
— Радиация?
— Нет. Просто их не успели спустить с орбиты до исчерпания ресурса саркофагов. Три шаттла разбились при посадке в первые дни разгрузки, и два чуть позднее.
— А потом?
— А потом колонистов накрыло отголоском Волны. Мы стали телепатами. Те, кто не вымер. На планете ввели строжайший генетический контроль, носителей деконструктивных мутаций стерилизовали.
— Кто решал, какая мутация конструктивная, какая — нет?
— Какая разница? — усмехнулась Фиеста. Кто решал — те давно умели. Глупый. Не так все и страшно. Мужчины не теряли половой активности, женщинам имплантировали зародыш с чистым геномом. Любая могла родить и воспитать ребенка. Это сейчас голышей кастрируем. Раньше все было по науке.
— Тогда откуда мунты взялись?
— Не спеши. Все было не так и плохо, пока сюда не прибыла третья волна колонизации. Она же — вторая волна эмиграции. Те попрыгунчики, которые пережидали Волну, прыгая по космосу. Вроде вас, элитных. Только долго прыгать они не могли, всего какую-то сотню лет. Вы, элитные, пятьсот лет прыгали.
— Какая разница, кто сколько прыгал? Мы запятнали Волну, они запятнали Волну…
— Да, они тоже запятнали Волну Вначале это не проявлялось… Телепатам и нетелепатам трудно жить вместе. Мы уступили им города, построили деревни. А потом и вовсе слились с природой, — Фиеста грязно выругалась.
— Так прямо все ушли в деревни?
— Разумеется, нет! — она гневно сверкнула глазами. — Некоторые остались. Считанные единицы остались в городах. Мутация телепатии нестойкая. Через два-три поколения телепатия исчезла, перешла в латентную форму. И тут нас опять накрыло отголоском Волны. Появились мы, мунты. А пассивная фаза мутации дегов сменилась активной…
Фиеста надолго замолчала, изучая облака. По щекам пролегли две мокрые дорожки.
— Дальше?
— А дальше аграриям надоело вскапывать огороды. Они перешли на собирательство. А в городах начала сказываться мутация, подхваченная дегами в космосе. Для поддержания технических систем в работоспособном состоянии нужен определенный уровень интеллекта. Когда деги опустились ниже, они вынуждены были покинуть города.
— Почему?
— Можно жить в городе без света, без воды, без пищевых комбинатов?
— Понятно.
— Деги поселились в опустевших селах. Мои родственники к тому времени уже паслись в лесах.
— Это вся история?
— Осталась последняя страница. Мы, мунты, пытаемся сохранить на планете разум. Дегов уже ничто не спасет. Но у голышей есть шанс. Для этого нужно погасить в них телепатию. Мы скрещиваем голышей и дегов. От таких браков рождаются дети-нетелепаты. Когда телепатия исчезнет полностью, голыши превратятся в обычных дикарей. У них появится шанс вновь стать Людьми. Возродится язык, культура…
— А телепаты — не дикари?
— Звери. У них нет ни одного шанса подняться. Им не нужен язык. Язык — основа цивилизации. Эффект маугли. Любого ребенка-телепата можно забрать у матери и воспитать Человеком. Но нас слишком мало, чтоб создать жизнеспособную самоподдерживающуюся колонию. Через три-четыре поколения голыши вновь одичают. Лишить человечество телепатии — единственный путь. У нас мало времени. Через несколько поколений деги полностью потеряют разум и станут бесполезны для скрещивания. Но еще раньше не останется ни одного технохутора.
— Я почему-то считал телепатию Даром. Следующая ступень эволюции. Гомо супер.
— Ты ошибся. Телепатию нужно искоренить.
Я вспомнил, как Тоби заваливал из станнера и осеменял женщин, как срезал яйца мужикам. Вспоминал во всех деталях, зная, что она читает мои мысли.
— Так нужно, — тут же отозвалась Фиеста. — Знаешь другой способ — скажи. Мы не знаем.
— Ты сама-то веришь, что у вас, мунтов получится? — задал я главный вопрос.
— Какое тебе дело до того, во что я верю, — зло рявкнула она. Встала и направилась к дому. Флаттер ожил и поспешил за ней. Некоторое время я вслушивался в дробный цокот его шагов.
Зачем нужно было наводить на меня станнер?
Я вышел на балкон наблюдательной башни и сел на теплый бетон. Багровый шар солнца коснулся горизонта. Степь раскинулась темно-зеленым бархатом. Красиво. Надежде здесь понравилось бы…
Идти в город больше нет нужды. Полчаса беседы — и тайн не осталось. Есть дерьмовая планета, и есть два дерьмовых стада: деги и голыши. И есть дерьмовые пастухи, которые дерьмовыми методами пытаются решить дерьмовую задачу. Флаг им в руки. Меня местное дерьмо не касается. Уйду в отшельники. Найду угол посимпатичней, поставлю скит… Нет, найду заброшенный технохутор где-нибудь на берегу моря, налажу хозяйство. Выдрессирую кибера собирать ананасы…
Мой хутор будет на берегу моря. Звездочка любила море и фьорды… Как ребенок радовалась, если в море вода теплая. Это для нее всегда маленьким чудом было — море с теплой, ласковой водой, в которой купаться можно.
Неужели мунты не видят, что их дело проиграно? Что им остается только красиво уйти со сцены? Видимо, не видят.
А почему я решил, что они проиграют? Красиво уйти со сцены — это просто. Это легко. Это не требует усилий. Бороться до последнего — трудней. Ладонями вычерпывать дерьмо из выгребной ямы, в которую превратилась планета. С головы до ног в дерьме, пахнешь дерьмом и выглядишь как дерьмо. А то, что вычерпываешь, может стать удобрением. Полезным продуктом. Но тебя никто полезным продуктом не назовет, хотя ты весь в этом самом, и выглядишь как это самое. Пока на удобрении урожай вырастет, ты в этой выгребной яме с головой утонешь. Не будет на твоей могиле ни креста, ни звездочки. На дерьмо кресты не ставят. «История мунтов». Краткий курс.
Какого черта я философствую? Это моя планета? Нет. Они раньше сюда сели. Я знаю, что делать? Нет. Мунты знают. Их много, они умные, и флаг им в руки. Все давным-давно решено. Свою игру я проиграл, по всем счетам расплатился, и отвалите от трупа.
Четыре дня маялся бездельем. Загорал на диспетчерской вышке, любуясь степью, купался вместе с Тоби, читал переписку мунтов по сети. Главной темой был, конечно, я. Точнее, как лучше пристроить меня к делу. Главная мысль — мобильный мунт — это здорово. Брызги восторга и розовые сопли. Каждая считала своим долгом придумать мне задание. Чтоб я куда-то тащился за сотни километров, корячился в поте лица и возвращался, блестяще справившись с заданием. Например, я должен был починить электростанцию и запустить в работу большой гравимаяк, чтоб все элитные бездомные слетались к нам. Каждая идея обсуждалась в деталях на полном серьезе. Детский сад.
На пятый день безделье мне надоело, Тоби ушел куда-то выполнять поручение Фиесты, и я принялся изучать технохутор. Хозяйство было в хорошем состоянии. Лучше, чем у Веды и Лианы. Конечно, многое нуждалось в профилактике, но надоело мне копаться в ржавом железе. Тащиться куда-то за сотни километров на своих двоих тоже надоело.
Удивительно, но ни разу не видел Фиесту отдыхающей. Отзывчива, но не навязчива, всегда доброжелательна, она единственная не строила планов на мой счет. Впрочем, телепатка ведь.
Изучил все карты, древние снимки из космоса и выбрал себе технохутор. На берегу залива. «Есть горы, а еще есть океан». Не помню, кто. Поэт какой-то. Заманчивое место. Чуть меньше двухсот километров от технохутора Веды, и семьсот километров отсюда. Ближе нет. Еще день колебался, выбирая наиболее ленивый вариант, и поплелся в ангар приводить в порядок вертолет. Легкий спортивный флаер можно было бы привести в порядок за день, но инструкторы на Земле предупреждали, что ширпотреб двухсотлетней давности нужно обходить за километр. Микротрещины и усталость металла. Может крыло в полете отвалится, а может, мотор на землю упадет. Трудно лететь на флаере без мотора. Центр тяжести к хвосту смещается.
Бог ты мой, на самом деле от Тоби словестным поносом заразился.
Начал восстанавливать ближайший к выходу тяжелый вертолет. Первым делом провел профилактику спин-генератора, зарядил аккумулятор от «ручного» педального генератора. Если перевести этот крутеж педалей в километры на велосипеде, то не меньше восьмидесяти получится.
Со второй попытки спин-генератор запустился. Я привез со склада на тележке кабель толщиной с руку, протянул от вертолета к распределительному щиту, подключил. Под потолком зажглись яркие бестеневые светильники. Повинуясь моим командам, ожил мостовой кран.
Хватит на сегодня. Устал как негр на плантации. Свет выключать не стал. Вышел в темноту и поплелся к хутору.
— Красиво, — произнесла Фиеста. Ты специально свет оставил?
Оглянулся. Ангар светился всеми окошками как елочная игрушка. Может, и красиво. Генератор нужно погонять под нагрузкой, чтоб в полете не отказал.
— Да.
Фиеста фыркнула.
— Тебе не холодно голышом?
— Привыкла, — отозвалась она.
Завтра тестирую бортовую электронику, автопилот, навигационный комплекс. Механику на потом. Спать…
Стоило приоткрыть дверцу в воротах ангара, как на меня дохнуло сахарой. Тихо выла система охлаждения спин-генератора, овевая ноги потоками сухого, обжигающего воздуха. Все правильно, уменьшенная модель спин-генератора — это увеличенная модель его недостатков. 90 % вырабатываемой энергии он тратит на себя. Глубоко вздохнув, я бросился внутрь, вдавил тугую кнопку открытия ворот ангара. Даже не подумал, что двигатели ворот двести лет без смазки. Но повезло. Со скрипом железа по стеклу створки поползли в стороны.
Передохнув минуту снаружи, в прохладе летнего солнцепека, я вновь бросился в пекло. Обжигая пальцы об ручку, рванул дверцу кабины и переключил генератор на режим отключения. Второй крупнейший недостаток — спин-генератор нельзя сразу загасить. Нужно постепенно снижать мощность. Иначе эта десятитонная железяка покраснеет, расплавится и забрызгает вам костюм горячим металлом. После чего вытечет на пол и испортит паркет. Такие дела.
Мой генератор отключился очень даже быстро — секунд за 30–35. Через две-три минуты отключилась система охлаждения. Гулкая тишина вновь заполнила ангар. Я стянул через голову промокшую от пота рубашку, повесил на ступеньку дюралевой стремянки и пошел наружу. Ангар остынет не раньше, чем через два-три часа, а пока работать невозможно.
Надо же — от хутора на хорошей скорости ко мне несется целый караван пузатых бронированных мобильчиков с допотопными пушками в башенках. На ходу мобили разворачиваются в линию и лихо тормозят перед воротами ангара. Опять фокусы Фиесты? Какого черта?!!
Из первого неуклюже выскакивает встревоженная Фиеста.
— Где горит?!
— Что горит?
— Инфракрасные датчики зафиксировали выброс горячего воздуха.
— А-а… Успокойся, я проводил термопрогон спин-генератора. Сейчас открыл ворота ангара для проветривания.
Присматриваюсь к мобильчикам. Раньше они были красными, но краска облупилась. И пушки — не пушки, а брандспойты. Броневики оказались пожарными машинами. А я — параноиком-идиотом.
Фиеста внимательно смотрит мне в глаза, усмехается, фыркает и смеется в голос.
— А я — я-то как перепугалась! В жизни пожаров не тушила! — Потом уже серьезно: — Игнат, зачем тебе вертолет?
— Мне надоело переставлять ноги. Ставить левую перед правой, и правую перед левой. И так много-много раз.
Фиеста задумчиво кивнула.
— Марк Твен?
— Да, кажется…
Она ссутулилась и пошла к хутору. Мобили потащились следом. Словно стадо за пастухом. По-моему, я ее чем-то обидел. А впрочем, плевать.
— Проснись, чучело! Сколько можно прошлым жить?!
— Я проснусь, осмотрюсь и скажу: «Господи, красота-то какая! Люди — прелесть! Умные, красивые! Не планета, а рай земной!»
Вчера должен был вернуться Тоби. Фиеста ждет и нервничает.
«Не волнуйся за него, — продолжаю я мысленно. — На два яйца больше срезал, вот и задержался».
Фиеста шипит рассерженной кошкой и вылетает из комнаты. Зачем я ее довожу? Поднимаюсь с дивана и тащусь в ангар. Работы осталось дня на три.
Тоби вернулся к вечеру. С лиловым синяком под глазом.
— Игнат, ты скажи Фиесте, что я все сделал. А я к Лиане пойду. Она соскучилась наверно.
— Не торопись. Через два дня я тебя к Лиане за час доставлю.
— Я не хочу Фиесте показываться. Она расспрашивать будет, ругаться… Я и сам знаю, что никудышний егерь.
— Я не Фиеста. Мне расскажи.
Вытираю руки ветошью, выходим из ангара, садимся на колченогую деревянную скамейку моего изготовления.
— Я уже назад шел, когда голышку увидел. Она в речке купалась. Я ее из станнера оглушил, а она тонуть стала. На берег вытащил, готовить начал. Ну, растирать те места, чтоб ей тоже приятно стало. Только подготовил, а она и говорит: «Еще, еще, пониже!»
— Голышка? Говорит?!
— Да она не голышка оказалась. Она из дегов. На другом берегу разделась, а я не видел, когда. Я ей и говорю, что если она из дегов, то нам с ней никак нельзя. Егерям не положено с дегами. А она говорит, что теперь уже поздно, уже положено. А я говорю, что никак нельзя, как бы ни хотелось, а то Фиеста ругаться будет… Тут она мне и врезала. Ты не говори Фиесте, ладно?
— Не скажу. И Фиеста тебя ругать не будет. Она деликатная. Слушай, Тоби, у тебя же анализатор есть! Ты что, не сумел дега от голыша отличить?
Тоби покраснел как вареный рак.
— Я анализатор долго на солнце не держал. Его нужно на солнце хоть пять минут подержать, чтоб проснулся. Он в темноте засыпает. А я его давно-давно на солнце не держал.
— Понятно. Аккумулятор сел. Вот это ты Фиесте не говори. За это она тебя точно отругает.
— А за…
— Ох, Тоби, Тоби… Никакое дело нельзя бросать на половине. Правильно она тебе синяк поставила.
Странно, но Тоби повеселел.
— Корина тоже говорила как ты. Я теперь знаю. А то шел и думал, правильно я поступил, или нет.
— Ты поступил правильно, но нехорошо. А мог бы поступить хорошо, но неправильно.
Тоби опять впал в задумчивость. Чего я издеваюсь над микроцефалом? Не виноват же он, что предки под волну попали. Что из тысячи вариантов мутации лишь один можно назвать положительным, а 999 отбрасывают вид назад.
— Понял! — просиял Тоби. — Злое добро и доброе зло. Веда рассказывала! Единство и борьба противоположностей!
Так… Кто тут говорил про микроцефалов?
Помощь Тоби здорово ускорила дело. Нет, в технике он не разбирался, но есть много операций типа «подержи», «подай», «принеси». Мы управились за полтора дня. Я оглядел разгром вокруг — для ускорения ремонта снимал запчасти с трех соседних вертолетов, попинал зачем-то переднее колесо. В нем давление восемь атмосфер, и оно твердое как камень. Но — традиция. Сел в левое кресло и запустил генератор. Вертолет ожил под моими руками, неуклюже развернулся на своих маленьких колесиках и выехал из ангара. Остановился, отрулив от ангара метров на двести.
— Выйди из кабины, — сказал я Тоби.
— Почему?
— Первый полет. Не положено.
— А-а… — Тоби послушно спрыгнул на базальт взлетной полосы. Я защелкал тумблерами, готовя машину к взлету. Посыпалась дробь докладов.
— Контроль спин-генератора — к полету готов.
— Контроль гидравлических систем — к полету готов.
— Контроль электромеханических систем — к полету готов.
— Навигационный комплекс — к полету не готов.
— Автопилот — к полету не готов.
Ругнувшись, я запросил подробную информацию.
— Наземная система навигации не отвечает на запросы. Спутниковая система навигации не обнаружена. Диспетчерская служба не отвечает на запросы.
— Автономная работа. Режим — «Кошачий след», — скомандовал я.
— Принято, — согласился автопилот. — Навигационный комплекс к полету готов. Автопилот к полету готов. Машина к полету готова.
Это хорошо, что вертолет понимает команду «Кошачий след». Куда бы я ни полетел, автопилот запомнит маршрут и сможет вернуть машину назад. Повторит маршрут с точностью до нескольких метров.
Кладу руки на штурвал. Шесть биолет не сидел в кабине вертолета. И тот был маленьким, юрким, легким в управлении. Вместо штурвала на нем стояла ручка управления. Как на истребителях. Нас здорово гоняли инструкторы. Мы с Бонусом не возражали, но девочкам не нравилось.
— Откуда на неизвестной планете возьмутся вертолеты? — возмущалась Вулканчик.
— Неважно, чем вы будете управлять. Важна уверенность в себе, — убеждал пожилой пилот.
С трудом отгоняю воспоминания. Спин-генератор — в рабочий режим, винт — в рабочий режим.
Легкое гудение, лопасти винта раздвигаются, удваивая длину. Регулятор шаг-газ плавно вверх… Поехали…
Огромный пятилопастный винт приходит в движение. Все быстрее и быстрее. Ритмичное «тах-тах-тах-тах» сменяется торопливым «тур-тур-тур-тур». Я не спешу. Медленно наращиваю обороты, привыкая к машине.
Отрыв. Машина, чуть заметно покачиваясь, поднимается и зависает на высоте четырех метров. Проверяю чувствительность управления. Штурвал чуть вправо, чуть влево, вперед, назад. Тяжела, тяжела железяка. На такой бандуре полагается летать солидно, неспешно. Увеличиваю обороты и вертикально иду вверх. Горизонт распахивается как по волшебству. Красиво. Степь, леса… Видимость — миллион на миллион.
На высоте 60 метров рывком посылаю рычаг «шаг-газ» вверх до упора. Показалось, что перетяжелил винт, но свист генератора за спиной усиливается, винт набирает обороты, а кабину разворачивает влево. Бросаю машину вперед и вверх. Тихий хруст, длинная тень мелькает за фонарем кабины, и начинается тряска. Такая, что штурвал выбивает из рук. Еще не понял, что произошло, но левая ладонь бьет по красной кнопке аварийного отключения спин-генератора. Правая ловит штурвал. «Шаг-газ» вниз, винт — в режим авторотации. Это все — на рефлексах.
Понял! Отломилась лопасть винта. Какая, к черту, авторотация! Какой «подрыв» несущего винта?! Машина тридцать тонн весит. Еще винт поломан. Камнем вниз пойду. Уже иду. Не успею заглушить спин-генератор!!! Ему полминуты надо, мне от силы шесть секунд осталось… Идиотская высота — шестьдесят метров. Ничего не успеть…
Горизонт стремительно сжимается. Жалко… Красиво было.
Значит, конец? Глупо как… Хорошо, что не мгновенно. Время себя оценить. Страшно? Нет. Обыденно.
Иду к тебе, Звездочка.
В последнюю секунду распахиваю дверцу кабины. Их от удара часто заклинивает…
Открываю глаза. Живой. «Мы бессмертные», — говорил Бонус. Живой… Вот дерьмо! Где я?
— Очнулся? Вот и славно. Лежи, не двигайся.
Хочу спросить, что со мной, но губы не слушаются.
— Мысленно говори. Я тебя слышу. Ты разбил вертолет и слегка обгорел. Тоби тебя вытащил и тоже слегка обгорел, — объясняет Фиеста.
Извини, Звездочка, опять я опоздал на свидание.
— «Слегка — это как?» — мысленно спрашиваю Фиесту.
— Не беспокойся. Эпидермис хорошо восстанавливается. Ты почему спин-генератор не катапультировал?
Почему? Потому что космачи так не делают. Потому что корабль без генератора — гроб. Отложенная, растянутая на месяцы и годы смерть. В космосе мгновенная смерть предпочтительнее.
«Не думал, что какой-то идиот полезет меня спасать.»
— Если ты скажешь это Тоби, я тебя убью, — говорит Фиеста.
Я ей верю.
Лежу, изучаю потолок. Тела не чувствую. Видно, накачан лекарствами по самые уши. Медицина здесь не на высоте. Так часто бывает в колониях. Какое-то одно направление науки или техники развивается очень интенсивно. Обгоняет даже Землю. Остальные забываются. У колонии не хватает сил на все. Что здесь хорошо развито? Поправка: было развито? Сельское хозяйство. И спин-генераторы научились маленькие делать. Очень симпатичные, маленькие спин-генераторы.
Спин-генератор начинает плавиться с сердцевины. Металл там кипит. Очень быстро горячая зона раздвигается к стенкам. Но стенки холодные. Почему-то из-за этого во все стороны летят брызги. Нам показывали во время подготовки. Наглядный урок. Чтоб никому и в голову не пришла мысль стоять рядом с аварийным генератором. Поздно вечером вывезли на трейлере на пустырь старый генератор и резко заглушили. Брызги раскаленного металла очень красиво смотрелись на фоне темносинего неба.
Тоби полез под эти брызги, отстегнул ремни и вытащил меня из кресла. Дурак. Я дурак. Зачем распахнул дверцу? Он бы не смог ее открыть.
Входит оживленная Фиеста. Садится и изучающе смотрит на меня.
— Привет, летун.
«Привет, — мысленно отвечаю я. — Как там мой спаситель?»
— Лучше тебя. У него переломов нет.
У меня, значит, есть. Это новость.
— Ты интересное явление, — продолжает Фиеста. — Внес свежую струю в старое болото.
«Я?» Даже самому интересно.
— Концепция долга, — поясняет она. — Мунт живет для того, чтобы отдать долг. Даже Тоби этим заразился. Лежит и блаженствует, что вернул тебе долг.
«Какой?»
— Ты спас его любовь. Он спас тебя. Сейчас половина сети забита выяснением, кто кому чего должен. Быть кому-то должным даже почетным считается. Вроде как причастность к большому делу.
«Мода. На меня мода, на новые идеи.»
Фиеста, склонив голову, обдумывает мою мысль.
— Это тоже неплохо. Время от времени нужно будет запускать в сеть какую-нибудь новую моду. Твой опыт будет полезен, — улыбается мне и выходит из комнаты.
Флаттер с легким цокотом спешит за ней, прикрывает дверь. А я возвращаюсь к изучению потолка.
Не в моде дело. Мунты заняты дохлым, бесполезным делом. Им не спасти планету. Они сидят в своих хуторах и не видят, что творится вокруг. А может, видят. Может, понимают, что дело проиграно, что все бессмысленно. Но старательно скрывают эту простенькую мысль друг от друга. Каждая видит, что поражение неизбежно, но боится открыться перед другими. Плохо жить без смысла жизни. И мужикам режут яйца, глушат из станнера и насилуют женщин. Воруют детей, чтоб воспитать из них яйцерезов и насильников. Это никому не нужно, но отказаться невозможно. Отказаться — значит признать поражение. А тут появляюсь я. Со свежей идеей — смысл жизни — вернуть долг. Новая игра. Можно на время забыть о старой.
А ведь о долге первой заговорила Веда, не я. Повесила на меня долг — потерянный робокатер — и отправила спасать Лиану.
Вспоминаю Веду. Резкая, решительная, уверенная. Надежная — говорит Лиана. Гордая, самоуверенная, надменная задавака с командирскими замашками. Но в сети ее уважают, этого не отнять. И моду насчет концепции долга раздула наверняка она. Железная леди с железной хваткой.
Лиана… Совсем еще девочка. Наивная, добрая, доверчивая. Или Фиеста — тоже добрая. Мудрая, все понимающая мать с сединой в волосах. Бездетная…
Что в них общее? Активная жизненная позиция. Трудолюбие, упорство. Повернутость на идее. Нет, не могут они играть друг перед другом. Видимо, за кастрацией мужиков и осеменением самочек на самом деле стоят неплохие шансы на выигрыш.
Какого дьявола я ломаю голову над их проблемами. Меня же это не касается.
По-прежнему не чувствую тела. Губы одеревенелые, но говорю голосом, и Фиеста не возражает.
— Фиеста, почему я всегда засыпаю перед перевязками?
— Не хочу, чтоб ты вопил как недорезанный поросенок. Меня это отвлекало бы.
— Что, так плохо?
— Откуда я знаю? Ты как бревно лежишь. Я тебя анестезиками накачиваю.
— Зачем?
— Глупый, чтоб твою боль не чувствовать. Если буду чувствовать твою боль, не смогу с тобой работать.
— Как Тоби?
— Ходит уже. К тебе пока не пускаю. Заболтает он тебя.
— Ничего…
— Да целы! Целы у тебя и руки, и ноги! — сердится Фиеста, прочитав мою тайную мысль. — Гениталии тоже целы. Все цело, успокойся. Я вчера просчитала на компе варианты посадки с катапультированием спин-генератора. Оказывается, ты был прав. Нельзя было его катапультировать.
— Почему? — спрашиваю я, будто меня это интересует.
— У облегченной машины увеличилась бы амплитуда раскачки.
— Тряски.
— Да, тряски. Это вызвало бы сильный изгибающий момент у основания лопастей несущего винта. В общем, остальные лопасти обломились бы вслед за первой.
— Только не говори, что мне повезло.
— Повезло. Ты остался бы без ног.
Я представил конструкцию кабины, как она сминается от удара, и понял, что Фиеста права. Убить бы того, кто ее проектировал.
— Сыграем в шахматы, — предлагает Фиеста.
— Знаешь, чему меня мама учила? Никогда не играй в карты с предсказателями будущего.
— Не поняла…
— Ты телепатка. Все мои задумки знать будешь.
— Мы по сети играем, — фыркает Фиеста. — Ты здесь, я в другом конце дома.
— Сыграем.
Флаттер устанавливает и включает большой экран. На экране шахматный столик с уже расставленными фигурами. Фиеста уходит и через минуту появляется на экране.
Первую партию играю вполсилы — и проигрываю. Вторую — в полную. Ничья. Но понял главное. Я Фиесте не соперник. Она играет на порядок сильнее меня. Значит, третью партию уступит. Чтоб мне было не скучно играть. Чтоб я не понял то, что уже понял. А если я не захочу выигрывать? У нее цель — проиграть, у меня — не дать ей проиграть. Игра над игрой…
Третья партия вылилась в блиц. Не знаю, как это получилось. Мы выкрикивали ходы все быстрее и быстрее. Флаттер едва успевал переставлять фигуры. И я выиграл. Даже сам не заметил, как. Фиеста последний раз окинула взглядом поле. Улыбнулась.
— Ну и затейник ты… Все, хватит. Хорошего понемножку. Пора перевязку делать.
Проваливаюсь в сон.
Лежу, восстанавливаю эпидермис, изучаю потолок. Фиеста отучает меня от лекарств, поэтому все тело ноет как больной зуб от холодной воды. Входит Тоби. Двигается неуверенно. Чувствуется, что под одеждой на нем изрядно бинтов. И вообще, какой-то он смущенный. Неуверенно улыбается.
— Игнат, я посоветоваться пришел.
— Пришел, так садись.
— Тут такое дело, — Тоби пожимает плечами, разводит руки, морщится от боли. — Кое-кто предлагает меня в мунты утвердить. Ну, вроде как тебя. За то, что я тебя спас и на Лиане женился. А Фиеста хочет, чтоб я всех поблагодарил за оказанное доверие и отказался. А я не знаю, что делать. А Фиеста говорит, чтоб быстрей отказывался, а не то вся сеть переругается.
Какая-то дурочка, никогда не видевшая Тоби, решила сделать доброе дело. И вот взбудораженно гудит вся сеть. Они ничего о Тоби не знают, но думают, что вправе решать его судьбу. Интересно, что будет, если я брошу в сеть результаты теста на IQ? У Тоби он наверняка ниже 60.
— Тоби, у тебя есть друзья среди егерей?
— А как же! Андре, Хорст, Эрик, Роберт. Все егери друзья.
— Если тебя назначат мунтом, а их — нет, они будут тебе завидовать. А потом другие тоже захотят, чтоб их тоже в мунты выбрали. Обижаться будут.
— Так ты думаешь, мне нужно отказаться?
— Да, Тоби. Разве Фиеста плохого посоветует?
— Обидно… Я хотел перед Эриком похвастаться.
— Тоби! Чудак-человек! Похвастайся перед ним, что тебе предлагали мунтом стать, но ты отказался! Ты — егерь! Настоящий егерь свою работу ни на что не променяет. И вот еще о чем подумай. Когда голосовать будут, еще неизвестно, выберут тебя мунтом, или нет. А если ты сам отказался, то получится, что как бы достоин, но сам не захотел. Друзьям не обидно. И другие егеря в мунты проситься не будут.
Тоби удаляется, полный планов и восторгов. А я готов из бинтов выскочить. Неосторожно повернулся, теперь дергающая боль пять минут покоя не даст. Яйцерез чертов!
Каждую ночь летаю на вертолете. Это не повторяющиеся кошмары. Наоборот. Летаю не на местном утюге, а на маленьком спортивном вертолете, на котором нас натаскивали в навыках пилотирования. Удивительная машина. Мощная, быстрая, послушная. В правом кресле — Звездочка. Не вижу ее, но знаю — она там. Чувствую ее руку на спаренной ручке управления, чувствую ее ноги на педалях. Высота минимальная, а скорость бешеная. Степь проносится под брюхом машины так быстро, что сливается в зелено-желтый ковер. Стремительно надвигается полоса деревьев — зеленая полоса, окаймляющая шоссе. Рву ручку на себя. Верхушки деревьев проносятся, кажется, прямо под подошвами. Серая лента асфальта под нами — от горизонта до горизонта — и уже позади. Бросаю машину то в правый, то в левый вираж, отчего перегрузка упруго вжимает тело в сиденье, а горизонт раскачивается словно качели. Звездочка кричит от восторга.
Просыпаюсь.
Так все и было. Даже зачет по пилотированию нам засчитали, хотя я нарушил десяток пунктов правил. «Вас, щенков много, а кораблей на всех не хватит. Если ты сам свернешь себе шею, меньше народа погибнет под Волной» — сказал мне инструктор. Я понял, почему отменено ограничение скорости на дорогах, почему полностью исчез контроль за исправностью транспортных средств, почему на пляжах исчезли предупредительные таблички, и откуда такая мода на экстремальные виды спорта. Планета собралась помереть спокойно, с достоинством. И избавлялась от горячих голов.
Получил в личное распоряжение кресло-каталку и шестиногого кибера. Моего кибера зовут Брысь. Пристал ко мне: «Требуется имя для идентификации, требуется имя…» Я его шуганул. А он докладывает: «Принято. Мое имя Брысь».
Учусь передвигаться в кресле, изучаю хутор. До катастрофы изучил только один коридор и десяток комнат, если не считать ангара. Неожиданно прихожу к выводу, что исчезли все зеркала. Детский сад, честное слово. Можно сесть за компьютер и навести на себя телекамеру. Но лучше играть по правилам. Зеркало — так зеркало.
— Брысь, сходи на склад и принеси свч-экран Т3 от синтезатора пищи.
Кибер убегает и очень быстро возвращается с отполированной до зеркального блеска металлической пластиной. Смотрюсь в нее как в зеркало.
Сам себе Франкенштейн. Знал, что ничего хорошего не увижу, но то, что в зеркале — страшно. Вся морда в глубоких шрамах и пятнах бугристой, кое-как наросшей кожи. Просто удивительно, что глаза целы.
Несколько минут изучаю себя. Пытаюсь убедить, что грех жаловаться. Зачем человеку ногти на пальцах? Атавизм, не более. На большом пальце ноготь сохранился — и ладушки. Я его как отвертку использую. На левой руке все на месте. Нос, губы, уши… Все цело. Почти. Кому нужна моя рожа, если Звездочки нет? Так даже лучше. Бабы приставать не будут. Главное — беременным на глаза не попадаться. Выкидыш может быть.
— Продолжаешь настаивать, что Тоби сделал доброе дело, вытащив меня из кабины? — спрашиваю бесшумно подошедшую сзади Фиесту.
— Какого черта ты свои грешки на других валишь? Вертолет чинил ты, так? Испытывал ты. Мог на стенде винт во всех режимах погонять. Что хотел, то и получил!
Тоже верно. Провожаю взглядом гордо удаляющуюся спину.
Почему у нее ноги по колено в машинном масле? Чуть не сказал — по локоть.
Нашел удивительное подземное помещение. Что интересно — вход приподнят метра на три над землей. Пологий тоннель ведет сначала вверх, потом зигзагами вниз, под землю. Стальные ворота в четыре пальца толщиной. В двух экземплярах… И все это укрыто бетоном от стихийных бедствий не хуже центра управления космофлотом на Луне. То есть, выдержит прямое падение Тунгусского метеорита. А внутри — стеллажи с книгами. Библиотека, одним словом. Совсем уж потрепанный, потерявший половину конечностей кибер читает книги. То есть снимает с полки перелистывает и ставит назад. Берет следующую, перелистывает… Просмотрев десяток, направляется к громоздкому станку в углу зала, из которого вылезает тонкий серебристый металлический лист. Внимательно осмотрев лист, кибер опрыскивает его какой-то маслянистой жидкостью и кладет на стопку подобных листов.
Вечером я поинтересовался у Фиесты.
— Это капсула времени, — ответила она. — Когда наши потомки сумеют подняться, им очень потребуются знания. Они найдут здесь все знания старого мира.
— Все ли?
— Все, которые я смогла собрать. Кто может, пусть сделает больше.
— А что там делает кибер?
— Переносит информацию с бумаги на металл. Бумага недолговечна. Компьютерные носители информации придут в негодность еще раньше. Гравировка на металле продержится тысячи лет. Потомкам хватит простого увеличительного стекла, чтоб все прочитать.
— На сколько же лет рассчитан твой погребок?
— Геологический прогноз дает сто тысяч спокойных лет. Листы металла гарантированно продержатся пятьдесят тысяч лет. Дальнейшее — за пределами точности прогнозирования.
— Я думал, геологи манипулируют миллионами лет.
— Речки. Вода камень точит. Здесь недалеко есть речка, в которой ты купался. Она впадает в более крупную. Сейчас более крупная отступает от хутора все дальше и дальше. Но она несет осадочные породы, размывает берега, и кто знает, где пройдет ее русло через сто тысяч лет?
— Много работы там осталось?
— Нет, — улыбается своим мыслям Фиеста, — книги на компьютерных носителях уже все в металле. Остались бумажные, а их немного. Еще полгода, и я заполню помещения азотом, забетонирую вход — и одной заботой меньше.
— Ты уверена, что люди за 50 000 лет поднимутся из дикости?
— Почему именно люди, — грустно усмехнулась она.
А и на самом деле — почему? Были же три цивилизации кроме людей. Сомнительной разумности динозавры, только-только освоившие огонь и две цивилизации нелетающих рукокрылых. Обе — на уровне каменного века. Инструктор сказал, что у них нет ни единого шанса. Волна… Но с другого края галактики, где Волна пройдет ослабленной, она может наоборот стимулировать разум…
— Я имела в виду местных кошачьих, — вышла из задумчивости Фиеста. — Они тоже были под Волной. Сейчас делают успехи. Слегка измельчали, зато объединяются в стаи. А это — первый шаг к разуму.
Я прокручиваю в уме варианты. Гарантия на металлические листы — 50 000 лет, в то время, как геопрогноз дает вдвое больший срок. Но листы можно сделать потолще, подолговечней. Следовательно, 50 000 лет Фиесту устраивают. Странная цифра. Для людей завышена, для кошечек явно занижена. Эволюция любит считать годы миллионами.
— Время существования капсулы высчитывала моя мать, — ледяным тоном сообщает Фиеста. — Я дала клятву, что доведу дело до конца. Понятно?
Понятно… Опять пустышка…
Фиеста вскакивает и удаляется, полная гневного достоинства. Флаттер семенит за ней. Странные они — мунты. Убить пол жизни на бесполезное, никому не нужное дело… Фанатики?
Сняты последние бинты. Разумеется, я сохранился не полностью. На левой ноге ампутирован мизинец, на пальцах правой не осталось ногтей, и два пальца явно укоротились. Ничего, большие пальцы целы, бегать-прыгать смогу. Фиеста жутко боялась, что я приду в панику, увидев потери. Ценить ноги выше рук — мунтоцентризм. Так ей и сказал.
Тоби объяснил, что спереди у меня ожоги — это когда он меня из кабины вытаскивал, а сзади — когда меня на спину взвалил, и по нам из вертолета брызгало. Если посмотреть на спину в зеркало — будто руны. В беспорядке налезающие друг на друга рунные знаки. Спереди — просто глубокие шрамы и швы.
Тоби досталось намного меньше. Он отделался пузырями. Даже фотокарточку сохранил. Говорит, локтем лицо прикрывал. Одежда из натуральной кожи оказалась предпочтительней синтетики: сама прогорела, но хозяина спасла.
Теплые вечера мы проводим на берегу речки. Фиеста утверждает, что кожа должна дышать, от этого раны быстрее заживают. Тоби с ней согласен, а мне все равно. Завтра пошлю на фиг кресло-каталку и начну купаться. Тоби уже три дня купается.
Вчера хутор посетил егерь Хорст. Надежный парень. Крепкое мужское рукопожатие, спокойное достоинство, IQ 65 единиц. По местным понятиям это не мало. Как бы то ни было, но свои шестьдесят пять он использует на сто процентов. Тоби увивался вокруг него как щенок вокруг вожака стаи.
После ужина Хорст уединился с Фиестой, и она долго объясняла егерю, как уладить какой-то конфликт между двумя селениями дегов. Я слушал из своей комнаты: по моей мысленной просьбе Фиеста включила внутреннюю связь.
С рассветом Хорст ушел. Я в который раз скорректировал картину мира. Мунты на самом деле управляют планетой. Почему это так поразило меня?
Тоби с Фиестой куда-то исчезают на весь день, а я взялся за восстановление ресурса хутора. Просто от скуки. Чем еще заняться? Охотой? Ходить больно. Шрамы и швы тянут. Теперь смогу предсказывать погоду. Как заноют старые раны — к дождю.
Возвращаются Тоби с Фиестой. Грязные с ног до головы и довольные донельзя.
— Доброе утро, летун. Сюрпризы любишь?
— Только хорошие.
— Тогда идем.
Ведут меня к ангару вертолетов. Батюшки! Десяток машин разобраны чуть ли не по винтику. Снятые агрегаты разложены по всему полу. У ворот мелом очерчен квадрат, и в нем детальки лежат в некотором порядке.
— Это — Фиеста ногой указывает на квадрат — отобранные и проверенные узлы. Качество гарантируется. Тебе остается установить их на место — и лети…
— Тоби… Фиеста…
— Благодарить потом будешь. Надоело в твоих снах летать. Господи, хоть бы ты летал по-нормальному. Или спал потише. Выпендриваешься, а я с криком, в холодном поту просыпаюсь.
Как приятно после трудового дня окунуться в прохладную, чистую речку. Каждый день мы с Тоби завершаем здесь. Смываем друг с друга пот, грязь и машинное масло. Вертолет почти собран.
Тоби не привык работать с такой интенсивностью и, по советам Фиесты, я иногда устраиваю дни отдыха. Радостный Тоби бежит в лес по ягоды, а я занимаюсь хутором. Больше не спотыкаюсь о клавиатуры компьютеров, лежащие на полу, не шарю рукой в поисках выключателя, а тихонько пинаю стенку рядом с косяком на уровне щиколотки. Адаптировался. Даже к Брысю привык.
Когда лень работать, изучаю архивы. Оказывается, деятельность егерей тщательно фиксируется в компьютерных журналах. Там же хранятся показания хромосомных анализаторов — черных коробочек егерей. Мунты знают о своем мире намного больше, чем я предполагал. Можно проанализировать журналы за последние сто-двести лет, подбить статистику — и будет ясно, куда катится этот мир. Только… пусть этим Фиеста занимается.
Смываю мыльную пену и выхожу на берег. Тоби плещется в небольшом омуте и пускает фонтанчики.
Словно колокольчики зазвенели — за спиной девичий смех. Оглядываюсь — и сердце сбивается с ритма. Комок застревает в горле. Звездочка! Из-за куста выглядывает моя Звездочка. Юная — как в тот день, когда я впервые ее встретил.
Нет, конечно это не она. Это местная голышка. Но до чего похожа… Сейчас Тоби оглушит ее из станнера, уложит на песке, осеменит прямо у меня на глазах… Не позволю!!!
Девушка испуганно вскрикивает и грациозной ланью скользит ко мне, ища защиты. Никому не позволю пальцем ее тронуть. Ни Тоби, ни Хорсту — никому!
Малышка, спрятавшись за моей спиной, встревоженно оглядывается.
— Смотри-ка! Ты ей понравился! Не обижай ее, — советует Тоби. — Не пугай в первые дни, она привыкнет и будет с тобой ходить. Куда ты, туда и она.
Я успокаиваюсь, и тут же успокаивается голышка. Тоби брызгает в нас водой, и она, засмеявшись, бежит к речке. Высоко поднимая ноги, забегает на глубокое место, окунается, поднимая облако брызг. До чего она похожа на юную Звездочку…
— Вот ты и нашел себе голышку, — рассуждает Тоби. — Больше не будешь таким безрадостным. Все егери так кончают. Ходят-ходят, а потом встретят одну, приведут с собой — и больше никого осеменять не хотят.
Возвращаюсь на хутор в смущении. Тоби был прав: голышка никуда не хочет уходить. Брыся она не боится совсем, бетонные здания осматривает с жадным любопытством.
Фиеста встречает нас с материнской теплотой. И сразу между ней и голышкой начинается беззвучный разговор. Я так и не догадался бы, но голышка начала строить рожицы, повизгивать и жестикулировать.
— У тебя появилось теперь очень много забот. Если рассчитываешь долго с ней жить, тебе придется заботиться и обучать ее.
— Знаю.
— Боюсь, еще нет. Но я помогу тебе. Ты уже придумал имя для своей девушки?
— Фи-фиеста, она же мне в дочки годится.
— Понятно. Хочешь быть папочкой. Тоже неплохо… для начала.
Голышка скорчила гримаску и замахала ладошкой.
— Она говорит, что у нее уже есть имя, — сообщила мне Фиеста, — но вот как выразить его словами?.. Зверек. Пусть будет Зверек.
— Зверек?
Голышка взвизгнула и замахала на меня двумя ладошками.
— Не такой зверек. Ты неправильно представил образ, — объяснила Фиеста. — Маленький, белый и пушистый зверек.
— Надо обучить ее основным правилам поведения на хуторе… — промямлил я.
— Так в чем же дело? Ясно и четко представь действие. Она поймет. С Лианой у тебя сложностей не было.
Вспоминаю, чему учил Лиану. В кустики облегчиться посылал. Если не считать ремонта, только готовить учил. Что имела в виду Фиеста? Не стала бы Лиана по сети никому про кустики рассказывать.
Фиеста фыркнула и рассмеялась. Телепатка, блин!
Беру Зверька за руку, за теплую сильную ладошку и веду знакомить с технохутором. Объясняю, для чего служат унитазы, краны, как включать свет и затенять окна. Изобретаю понятные для нее образы. Кран — это родник. Лампочка под потолком — луч солнца в темном лесу, пробившийся меж ветвей. Затемнение окон — туча, закрывшая солнце. Зверек в восторге. Выделяю ей для жилья комнату, соседнюю с моей. Пытаюсь мысленно объяснить, для чего служит одеяло. Новый взрыв восторга. Одеяло ощупывается, обнюхивается, а уголок даже тайком пробуется на вкус.
— Нет, малышка, это не лист и не шкурка, — улыбаюсь я. И сердце сжимается от ее ответной улыбки.
Ужинаем вчетвером. Зверек смущена и встревожена, потому что мы втроем пытаемся приучить ее есть ложкой.
— Стоп! Бросили! — командует Фиеста. — Ей желе не нравится, а не ложка.
Нарезаю яблоко ломтиками, вырезаю семечки, кладу на тарелку — и дело тут же идет на лад. Хотя яблоко можно есть и руками… Но так веселее, а игра есть игра. После ужина отвожу Зверька в ее комнату и, несмотря на слабые протесты, укладываю спать. Сам спешу к Фиесте.
— Ты действительно не хочешь ее? Разница в возрасте в десять лет — не так и много.
— Фиеста, ты же все понимаешь. Я хочу защитить ее от егерей — и все!
— Знал бы ты, что у тебя в голове делается… Хорошо, сделаем ей татуировку. Егери — народ грамотный, прочитают — и не тронут.
— Она — живой человек, или…
— Вот-вот. Об этом и речь. Человек ли она? Ты провел с ней несколько часов. Как оцениваешь ее интеллект?
— На уровне пятилетнего ребенка. Та же непосредственность, такой же яркий эмоциональный фон.
Фиеста задумалась.
— Оценка чуть завышена. Инстинкт подражания и телепатию ты принял за интеллект. Запомни, она — зверь. Очень умный, легко поддающийся дрессировке зверь. Не человек. И в том, что она зверь, виновата телепатия. Ее в детстве не учили языку. Язык — основа культуры, носитель Знания. В общем, краеугольный камень цивилизации. Отними у человека разумного язык — и он зверь.
— Не верю.
— Во что? В то, что она зверь, или в телепатию?
— В то, что во всем виновата телепатия. Телепатия — это же новый, мощный канал коммуникации. Видео вместо аудио. Как так может быть?
— Что более мощный канал коммуникации погубил, вместо того, чтоб возвысить? Шутка природы. Телепатия заменила и вытеснила речь, но не смогла взять на себя ее функции. Культура основана на речи и письменности. Телепаты не смогли — или не успели придумать им замену.
— Но вы, мунты, не потеряли разум!
— Мы не отказались от языка. А-а… Понимаю тебя. Знаешь, это как эффект триггера. Телепаты перешли точку, после которой нельзя возвращаться назад, к природе. Людям можно, а телепатам нельзя. Закон эволюции — за новое качество нужно платить чем-то из старого.
— Рыбы вышли на сушу, отрастили легкие и не могут вернуться в океан…
— Ты понял! Но телепаты вернулись… и стали голышами.
— Зачем же вы вернулись?
— Не мы! — Фиеста грозно сверкнула глазами. — Они! А зачем? Деги вытеснили из городов. Раньше я тоже не понимала, зачем. Теперь с тобой познакомилась — поняла.
— Я что — такой вредный?
— Хуже. Потому что не со зла. Ты душу отравить можешь. Ты как грозовая туча солнце застилаешь. От тебя бежать хочется. Куда угодно, только к солнцу. А как подумаю, что в городе тысячи таких, как ты… Вот телепаты и ушли из городов. Добровольно и без принуждения ушли туда, где ядовитые мысли не отравляют воздух.
— Телепатам для поддержания разума нужна искусственная среда. Техносфера. Так?
— Так.
— Из техносферы их вытеснили деги. И они одичали, так?
— Так, все так. Новая цивилизация оказалась хрупкая как стекло.
— Теперь вы хотите уничтожить телепатию, скрещивая голышей с дегами. Думаете, потеряв телепатию, голыши вновь изобретут язык.
— Умница.
— Да-а… Флаг вам в руки.
— Не надо смеяться. Это все намного трагичнее, чем ты думаешь.
— Я не смеюсь. Но я вам не помощник. Меня тошнит от того, что вы делаете. Стоило пятьсот лет шататься по космосу, чтоб…
— Игнат, прошу, только не мешай. Не разрушай то, что есть. Нужно любой ценой сохранить разум на планете. А нас история и так накажет.
Поговорили… Уже у себя в комнате вспоминаю о Зверьке. Приоткрываю ее дверь и смотрю в щелку. Девушка спит, свернувшись калачиком поперек кровати. Одеяло горкой лежит на полу.
Светлых снов тебе, малышка.
Утром обнаружил, что Зверька нет на хуторе. Фиеста подтвердила: ушла в степь.
— Знаешь, как тебя теперь зовут? — спросила она. — Угрюмый-Печальный — Страшненький-Который-Потерял.
— Зверек придумала?
— А кто же еще.
Конечно, это правильно, что она ушла. Не буду ей солнце застилать. Но как она похожа на юную Звездочку… Открытая, доверчивая. Нет, открытой и доверчивой Звездочка стала уже в космосе. А когда познакомились, она была ежиком. Чуть что — иголки наружу. Только видно было, что… не ее это иголки. А, ладно… Чего душу травить. Ушла Зверек — и ушла. Не получился из меня ни учитель, ни заботливый папаша.
Не успел додумать, как где-то на улице раздался гневный визг. Еще и еще раз. Неужели Зверек?
Бегу по коридору, перепрыгиваю через Брыся и успокаиваюсь. Зверек не может справиться со входной дверью. Все двери на петлях, а эта вбок сдвигается. Зверек толкает ее и коленкой сердито визжит. Но, почувствовав меня, смущенно замолкает. Сдвигаю дверь в сторону и впускаю ее в помещение. Двумя руками она прижимает к груди множество луковиц, и, войдя, хочет тут же отдать их все мне.
— Вот это да! — восхищается за спиной Тоби. — Столько сразу я никогда не видел. Их очень сложно найти!
Отдавать добычу Тоби Зверек не хочет. Ведем ее под локотки на кухню, моем луковицы под краном, и Тоби готовит из них блюдо. Мелко режет, солит и поливает чем-то. Думал, перемешает с желе, но это блюдо надо есть вприкуску. Увидев, что деликатес раскладывается по четырем тарелкам, Зверек делает слабую попытку все четыре порции поставить передо мной. Но тут очень вовремя появляется Фиеста, и между телепатами завязывается неслышная беседа. Опять втроем учим Зверька есть ложкой. На этот раз дело идет лучше. В рот попадает больше, а на стол меньше.
После завтрака мы с Тоби идем в ангар. Работы там осталось дней на пять. Зверек увязалась за нами. Села у стенки, подбородок на коленках, и наблюдает, как мы возимся с железом. Но смотреть ей скоро наскучило, и она нашла себе игру у ворот. Строит что-то из травинок и камешков. Я наслаждаюсь новым, незнакомым до сих пор чувством отцовства.
После работы все вместе идем купаться. Даже Фиеста к нам присоединилась. Учим Зверька плавать брассом. На воде она держаться умеет, но плавает только по-собачьи. Фиеста передает мне вопросы Зверька. Кто такие собаки, и как они плавают. Старательно вспоминаю всех знакомых собак. Потом — лошадей и верблюдов.
На третий день Фиеста сообщает мне, что Зверек не хочет больше спать под крышей.
— А давайте поставим маленький домик Игната на берегу речки. — предлагает Тоби. — Я тоже хочу на воздухе спать.
Не сразу понимаю, что речь идет о палатке. Идея хорошая, только… Тоби со Зверьком в одной палатке… Молодые, горячие… У Тоби одна жена уже есть, хватит!
Идет! — говорю я. — Тоби, ты хотел себе палатку сшить. Как раз повод есть.
До обеда изготовили две палатки. Фиеста посоветовала не шить, а клеить, поэтому справились так быстро. Одна палатка маленькая, походная, а вторая — большая, в полный рост ходить можно.
После обеда отправились к речке. Мы с Тоби, Брысь и Флаттер несем припасы, Фиеста — налегке, а Зверек по собственной инициативе прихватила из спальни легкое одеяло. Явно делает успехи в адаптации! Через пару дней начну приучать к одежде. Напирать буду на пользу от карманов.
Третий день хожу счастливый, горжусь собой и Зверьком. Мир стал ярче. Словно чьи-то заботливые руки прошлись по нему влажной тряпочкой. Зверек — умница! Непоседливая, озорная, добрая и настойчивая — и в то же время скромная. И плевать ей, что я на Страшилу похож, что от себя в зеркале шарахаюсь. Но главное — любопытная. Любопытство — ключ к развитию мозга. Если б у нас со Звездочкой была дочь, то именно такая. Жаль, не могу провести сравнение генома Зверька и Звездочки. Возможно, у них общие предки откуда-то из Скандинавии. Не может же само собой возникнуть такое сходство внешности и характеров…
— Не обольщайся насчет характера, папочка, — прерывает мои мечты Фиеста. Иначе, чем папочка, она меня не называет. — Внешность — да, совпадение. Но характер… Малышка старается вести себя так, чтоб тебе понравиться. Специальный термин раньше был… Дай вспомню… А! Кокетство!
— Окстись! Кокетство — это совсем другое! Это яркое, вызывающее поведение.
— Введи поправку на телепатию и отсутствие конкуренции, — улыбается Фиеста.
Зверек, только что из речки, подбегает и садится на песок между нами. Прижимается ко мне мокрым, холодным боком. За ней бежит такой же мокрый и холодный Тоби. Обнимаю Зверька за плечи правой рукой, а левой поворачиваю над углями шампуры с шашлыком. Еще пара минут, и шашлык будет — пальчики оближешь. Все с надеждой поглядывают то на меня, то на мангал. Наконец даю команду, и протягиваю самый удачный шампур Флаттеру. Два часа вчера учил его, как разделываться с шашлыком. Четырех манипуляторов для этого оказалось мало. Пришлось закрепить на корпусе колечко, куда вставляется один конец шампура. Один манипулятор держит шампур, два — страхуют кусочек мяса, чтоб на землю не упал, и последний ножницами отрезает дольку, которая тут же отправляется в рот Фиесте.
— Просто невероятно! — удивляется Фиеста. — Это вкусно!
— Разве у меня может быть иначе? — гордо выпячиваю грудь.
— Может, может. Лиана рассказывала, какую гадость вы лопали.
— Дык… ведь… — спешно ищу оправдания, — и соли, опять же не было…
Зверьку шашлык совсем не понравился, о чем сообщила мне Фиеста, и заработала гневный взвизг Зверька. (Малышка действительно кокетка. Притворялась, что вкусно, только бы меня не обидеть.)
После завтрака Зверек убегает с лукошком (прогресс!) по ягоды и корешки, Тоби расстилает одеяло на травке — позагорать. (В тени!) А мы с Фиестой ведем тихую беседу.
— … нет, не надо торопить и давить. Тяга к изучению языка сама появится. Ей уже не хватает языка жестов и мимики.
— Но… Сколько дней уже прошло.
— Новая обстановка, новые лица, незнакомые обычаи — дай девочке возможность переварить информацию и самой понять, чего ей не хватает.
— А если в лес убежит?
— Не беспокойся, не убежит. А если и убежит — неужели насильно удерживать станешь?
— Нет, конечно. Но ей ведь скоро замуж пора. Жениха нужно подыскивать. Чтоб — с понятием… А я не знаю никого здесь…
— Ну точно — папочка. Ничего не видишь, в желаниях дочурки ничего не понимаешь. Господи, как вам трудно — нетелепатам…
Это случилось на утро после того дня, когда я испытывал вертолет. Мы с Тоби здорово вымотались, наводя порядок в ангаре, и уснули, едва добредя до палаточного городка на берегу речки. А наутро мне приснилась Звездочка. Мы занимались с ней любовью. Горячо и страстно, будто в последний раз…
Когда я проснулся, сон оказался явью. Только вместо Звездочки мои губы впивались в губы Зверька. Это ее тело отдавалось мне горячо и страстно, это ее тугую, упругую грудь мяла моя рука…
Я хотел быть ей отцом. Растить и учить ее. Горько, как горько! Я изнасиловал собственную мечту. Как могу я себе верить после этого?
Тоби растерян. Зверек плачет и ластится ко мне. Фиеста взбешена.
— Объясни, почему ты нюни распустил? Разве это инцест? Или ты решил навсегда в кастраты записаться?
— Ты не поймешь.
— Я-то все понимаю. А ты себя понимаешь? Приручил малышку, а хоть раз задумался, что она от тебя хочет? Что у нее тоже могут быть собственные планы? Или ее желания тебя не волнуют?
— Все, проехали. — Решительно поднимаюсь и начинаю складывать палатку. — Я подброшу Тоби к Лиане, потом лечу подыскивать себе пустой хутор. Лиане что-нибудь передать?
— Лиане — нет. Можешь заглянуть к Веде? Я надеялась, что ты завезешь к ней трубы и кабели.
— Завезу. Где они?
Подогнал вертолет к самым воротам склада. Трубы пришлось нарезать пополам. Иначе в грузовой отсек не влезали. Сверху положили неподъемные бухты и катушки с медным силовым кабелем. Как мунты с ним работают? Этот вес за пределами возможностей Кента или Флаттера. Видимо, придется мне…
Пока мы с Тоби грузили трубы и кабели, Зверек путалась под ногами. Потом, видимо, прочитав что-то в наших головах, собрала багаж и села в уголок в кабине. Багаж — это одеяло, какая-то палка и красивая, завитая спиралью раковина. Глаза красные, заплаканные, а мордашка сердитая. Эх, Зверек! Выбрала ты себе защитника… Что мне теперь с тобой делать?
Поднимаю машину на двести метров и беру курс на хутор Лианы. Тоби слегка не в себе, но Зверька высотобоязнь не мучает. Все заботы позабыты, бурный восторг. Поминутно одергиваю, чтоб не переключила что-нибудь ненароком на приборном щите.
Сажусь в двух километрах от хутора Лианы. Но шум винта вертолета слышен за много километров. Еще с воздуха заметил две фигурки, спешащие к нам, живую и металлическую. Поэтому винт не останавливаю.
— Выходить можно? — спрашивает Тоби.
— Нужно.
Не хочу встречаться с Лианой, иначе Тоби будет только хуже. Но Зверек, наоборот, хочет познакомиться. Тянет меня за руку, строит сердитые и просящие рожицы, взвизгивает. Ее визги несут сотни оттенков, и я уже понимаю многие из них. Но это не язык. Это всего лишь передача эмоций.
— Хочешь — сходи с Тоби, познакомься с Лианой, — говорю я Зверьку, поясняя слова образами. — Я тебя подожду.
Нет, без меня Зверек идти не хочет. Тепло прощаемся с Тоби. Вешаю на плечо ему рацию из носимого аварийного запаса вертолета. Как с ней работать, он уже в курсе. У Фиесты на складе три тысячи таких раций, но никто о них не знал. Инерция мышления: если написано: «аварийный запас», то никто и не интересовался, что же там внутри. Триста лет хранили как зеницу ока в ожидании аварии вертолета… Теоретики, блин.
Поднимаю машину на триста метров и беру курс на технохутор Веды. Разгружать кабели придется одному. «Пусть неудачник плачет», — напевала Вулканчик. Как там дальше?
Посадил вертолет во внутреннем дворе технохутора Веды. Уже на земле развернул машину и подогнал хвостом к воротам склада. Веда наблюдала за маневрами со ступеней основного здания. Зверек, только взглянув на нее, перепугалась и забилась в уголок за спинкой моего кресла. Но, когда я остановил винт, заглушил спин-генератор и собрался выходить, выскочила из кабины первой с самым гордым, независимым и грозным видом, на который была способна. Веда улыбнулась и пошла ей навстречу.
— Вот дьявол! — чертыхнулся я, сбрасывая привязные ремни. Если женщины поцапаются, я и гроша не поставил бы на Зверька. Несмотря на.
Но обе женщины оглянулись на меня как на идиота и начали свой беззвучный разговор. Не совсем беззвучный, потому что Зверек повизгивала, взмахивала руками и гримасничала. Я успокоился, распахнул ворота склада и взвалил на плечо первую бухту кабеля.
Когда возвращался, женщины уже поладили. Даже больше — Зверек шмыгала носом, уткнувшись лицом Веде в плечо и обняв за талию. Та утешала, бросая в мою сторону хмурые взгляды. То есть, полное взаимопонимание. Мужчинам на такое полгода надо. Мужчине и женщине — ночь. А этим — три минуты. Может, телепатия? Хотя, нет. Звездочка с Вулканчиком тоже за пять минут поладили. А более непохожие характеры сыскать трудно.
Взваливаю на спину вторую бухту кабеля. Сотня килограммов с гаком. Пошатываясь, тащусь на склад. Брыся использовать на разгрузке нельзя: грузоподъемность маловата. Поломает манипуляторы, мне же чинить.
Возвращаюсь за третьей бухтой. Подруги стоят рядышком, любуются. Зверек дернулась помочь, но Веда одернула.
— Не трепыхайся. Пусть помучается. Отольются кошке мышкины слезки. А когда поумнеет, поможем.
Вслух сказала, значит для меня. Твои проблемы. Сгибаясь под тяжестью кабеля, тащусь на склад. Зверек растеряна. К психологическим играм она не привыкла.
После пятой бухты Зверек куда-то убегает в слезах, а Веда сдалась:
— Эй, железный, несгибаемый! В ангаре катеров еще один железный стоит. Автопогрузчик называется. Постой, разговор есть. Ты что с девочкой делаешь?
— Я делаю?
— Не понимаешь, да?
Все я понимаю. Все, что ты можешь мне сказать, знаю. Вулканчик как-то напевала: «Потому что никогда дитя порока не полюбит непорочное создание». Вот тебе мой ответ.
— Цитата, да? У тебя свои мысли есть? — негодует Веда.
— Показывай, где твой железный конь.
Удивительно быстро Зверек адаптировалась на хуторе. А я… Для чего могли понадобиться трубы, если ремонт предстоит делать мне? Вот-вот. Конечно, канализация. Сток забит, отстойник переполнился… Три дня, с утра до вечера по пояс в этом самом. Мы везунчики — говорил Прайс. Я — точно!
По случаю окончания работ устроил банный день, иначе даже Зверек носик морщить стала. Веда свои эмоции никогда не скрывала. Подстриг волосы и бороду, превратил душ в парилку, извел кусок мыла, порвал мочалку. Но почувствовал себя дважды родившимся и спал на настоящих белых, хрустящих простынях.
С утра начал готовить вертолет к полету. Пора искать свой дом. Я теперь не один, и у Зверька через год-два семья появится.
Веда нервно вышагивала рядом, не решаясь начать разговор.
— Говори, подруга.
— Оставь мне Зверька.
Я взглянул на девушку. Присев на корточки, она играла с травинками, строя им уморительные рожицы.
— Нет.
— Ты уже осеменил ее?
— Не твое дело!
К горлу подкатила глухая злоба. Кулаки сжались так, что побелели костяшки. Зверек бросила свои травинки и испуганно сжалась, переводя взгляд то на меня, то на Веду.
— Ты не понял, — сердито бросила Веда. — Она мне нужна.
Развернулась и ушла, захлопнув ногой дверь.
Только через минуту до меня дошло, что рядом с ней не было Кента. А это значит…
— Не уходи далеко, — зачем-то бросил я Зверьку и побежал разыскивать Веду. Нашел ее в мастерских. С Кента был снят верний кожух. Веда ногами и голосом управляла ремонтными манипуляторами.
— Низ, низ, низ, пра, пра, низ, пра. Захват! — сыпались пулеметные очереди команд. — Второй манипулятор! Лев, низ, низ, лев, лев, низ, захват!
Она была так сосредоточена, что даже не заметила, как я вошел. По щекам пролегли две мокрые дорожки.
— Сломался?
— Не мешай.
— Помочь?
— Нет. Я не хочу неприятностей.
— Очень смешно. Что у нас с больным? — бодрым голосом произнес я, склоняясь над раскрытым механизмом.
— Не подходи! Не прикасайся! Кент мой! — взвизгнула Веда. Но я ее уже не слушал. Запустив руки в механику, извлекал обломки лопнувшей тяги.
— Не смей! Не трогай, гад! Отойди! Не трогай! — Веда попыталась оттеснить меня корпусом.
— Запасной есть? — спросил я, показывая ей оборванный стерженек с муфтой на конце. Веда со всей силы толкнула меня пяткой в живот. От неожиданности я сел на пол, пребольно стукнувшись копчиком. И получил удар пяткой в челюсть. От третьего удара сумел уклониться. Веда нападала молча, яростно и сосредоточенно.
Следующий удар я перехватил, рванул ее ногу в сторону и мутантка, потеряв равновесие, рухнула на меня. Мгновенно перекатившись, я оказался сверху, прижал ее к холодным плитам пола. Под руку попала упругая, горячая грудь…
Дальнейшее произошло на автопилоте. Отчаянно извивающееся подо мной тело. Мои руки мнут ее груди. Плотно сжатые губы, не желающие отвечать моим губам. Хриплое дыхание, боль, ужас и недоумение в ее глазах… В следующую секунду ее губы раскрылись, ответили мне жадным, хищным поцелуем. Яростная борьба ног и двойной крик — победителя и жертвы. Долгие и сильные толчки моего тела, словно я хотел вбить ее в холодные металлические листы пола.
Потом мы лежали рядом на холодных плитах пола. Я ощупывал языком искусанные губы смотрел в серый потолок, презирал себя и не мог понять, как дошел до такого скотства. И что буду делать, если Веда родит мне сына без рук.
— Это не любовь, — сказал я.
— Уходи, — сказала Веда. — Здесь ты взял все, что хотел.
Я поднялся, помог встать ей и погнал ее в душ. Вымыл себя и ее. Смыл машинное масло отпечатков моих ладоней с ее щек и ребер, девственную кровь с бедер. Пока мыл, опять захотел ее тела.
Чего уж теперь? — подумал я и опять взял ее. Взял стоя, яростно и жестоко, зажав в углу душевой кабинки.
Потом я растер ее полотенцем. По ее требованию распечатал упаковку каких-то таблеток и дал ей четыре штуки. А затем вернулся в мастерскую. Веда тащилась за мной, ругала и требовала, чтоб я не прикасался к Кенту. Я пообещал посадить ее на цепь, если будет мешать и разобрал Кента по винтику. Веда забилась в угол и тихо всхлипывала, неотрывно наблюдая за мной.
Это была настоящая работа. Та, которую проклинал в космосе, и по которой так соскучились руки. Серьезных поломок не было, но механизмы изношены до предела. Все полости забиты грязью. Смазка давно загустела или смешалась с пылью. Узел за узлом я отмывал детали в керосине, изучал степень износа, рылся в стеллажах в поисках запчастей, смазывал, собирал, проверял. Так шли долгие часы. И вдруг оказалось, что все! Последний манипулятор собран и отлажен, осталось вернуть все агрегаты в корпус. Это заняло не больше двух часов. И только тут навалилась усталость.
— Вот и все, приятель, — объяснил я Кенту, прогнав базовый набор тестов. — А уж внешним видом займемся в другой раз.
Взглянул на часы. Ремонт занял тридцать пять часов. Бросил взгляд в угол, где угольками горели глаза Веды и, пошатываясь, побрел разыскивать спальню.
Утром в постели рядом со мной оказалась Веда. Похоже, это становится традицией — ложиться одному, а просыпаться в компании.
— «Что ты здесь делаешь»? — спросил я мысленно.
— Любой труд должен быть оплачен, — вслух ответила она. — Ты починил Кента. Я тоже не люблю жить в долг.
— «Шлюха», — подумал я.
— Кобель, — парировала она.
В телепатии есть свои плюсы. Наше соитие было яростным и очень удачным. Веда чувствовала меня и не допустила ни одной неверной ноты.
— Образцовая шлюха. Третий раз в жизни — тебе, должно быть, было больно.
— А тебе? — усмехнулась она. Я слизнул с губы капельку крови.
— Крокодил кусачий. Идем в душ, вампирша.
…Сухая, горькая пыль с электронных ТЭЗ-ов. Простая смазка, силиконовая смазка, сухая графитовая смазка. Замена изношенных деталей. Герметизирующая мастика, изолирующая мастика, токопроводящая антистатическая мастика. Окаменевшие пакеты шумоподавляющей мастики, сорваные шлицы винтов, сорваная резьба, срезанные шпонки. Ржавчина и кристаллы соли… Слишком влажный морской воздух.
Я методично привожу технохутор в порядок. Работа позволяет забыться. Не думать о всех тех гадостях, что натворил здесь. Не вспоминать свою пятнистую, обгорелую рожу.
Вахта. Проклятая и благословенная.
Все как на корабле. Только сутки на два часа длиннее. Только в жаркие ночи со мной Веда, а не Звездочка. Только вместо любви — схватки, в которых мы выплескиваем все, что накопилось за годы одиночества. А утром расходимся как чужие. Какое-то извращенное родство душ.
— Не беспокойся за Зверька, — говорит Веда. — Глупышка делает успехи. Выучила уже семнадцать слов. Если постоянно заниматься, выучит сотни полторы. Может, две.
По молчаливому согласию я отдал Зверька Веде. Я видел, как она занимается с голышкой. Терпеливо и упорно. Каждый день по несколько часов. И — семнадцать слов. Обучать нужно детей. Взрослый мозг потерял гибкость. Несерьезно…
— Несерьезно, — повторяю я вслух.
— О чем думаешь?
Хороший вопрос. Особенно — от телепата. Представляю портрет Шекспира. В рамке, и с датами на медной табличке. Веда фыркает.
— Самомнение у тебя. Выдумал — один против мира… Не-ет — один во всем мире! Одинокий ты мой!
— Разве нет?
— У тебя будет ребенок, — неожиданно сообщает Веда.
— О, черт!
— Мать — не я. Зверек. Геном плода абсолютно чистый. Не беспокойся, я присмотрю за малышом. За Зверька тоже не беспокойся. Все идет нормально. Когда заговорит малыш, мать потянется за ним и освоит еще одну-две сотни слов.
Этот мир засасывает меня как болото. Доверить воспитание сына надменной, циничной Веде? Заняться этим самому? Нужно мне это? Осеменитель, блин!
— Пока не поздно сделать аборт, — говорит Веда.
— Замолчи!
— Не Гамлет ты, а король Лир. Обгрыз свой ум с обеих сторон и ничего не оставил посредине.
— А обо мне ты думал, когда Кента чинил?
Лучше не отвечать. Даже мысленно. «Не думайте о белой обезьяне».
Мостовой кран, тяжелые защитные кожухи спин-генератора, кабели от генератора вертолета к распределительному щиту, горькая пыль с ТЭЗ-ов, черное отработанное машинное масло, расколотые обоймы подшипников, срезанные винты, сорванная резьба, ТЭЗы, зеленый экран многолучевого осциллографа, запах канифоли… Вахта. Это просто вахта. Можно не думать. Можно до самого вечера не думать. Восемнадцать часов в сутки заниматься видимостью большого, полезного дела. Потом ночью от усталости и раздражения погружаться в свинство, от которого днем бежать в работу. Вахта…
Месяц-полтора на хутор. Десять хуторов в год. 80 лет на 800 хуторов. Я даже по разу не успею обойти все. Это не работа, это игра в работу. Будь нас десять… Цикл профилактики раз в восемь лет — это было бы реально. Корабль мы оставляли без присмотра на десять лет…
— Игнат, — Веда прячет глаза, — Фиеста хочет с тобой поговорить.
— Срочно?
— Да, срочно.
Обвожу взглядом разобранный на части насос.
— Я соберу. Я смогу его собрать. Иди, Фиеста ждет.
— Не вздумай что-нибудь трогать. Руки оборву.
Пока иду к терминалу связи, обдумываю свежесмороженную глупость. Мунту — руки оборвать. Уродство примелькалось до такой степени, что стало незаметно. Вид голого тела до сих пор бьет по глазам сильнее, чем плечи без рук.
— Игнат, у тебя вертолет в порядке? — вместо приветствия спрашивает Фиеста.
— Что случилось?
— Лиана третий день не выходит на связь.
— А она рада будет меня видеть?
Фиеста произносит такое, что не каждый день слетает с женских губ.
— Через два часа вылетаю. Через шесть часов буду на месте. Конец связи, — сообщаю я и гашу экран. Кусая губы иду в свою каюту. Блин! Здесь не каюты. Это наша с Ведой спальня. Вахта кончилась, аварийный скачок. «Все в рубку, Волна за бортом!» — закричал бы страшным голосом Бонус. Какую глупость еще могла выкинуть Лиана? Спалить передатчик? Сжечь спин-генератор? Заблудиться в горах.
Надо взять Тоби. Если Лиана на самом деле заблудилась, без него никак. Вопрос — где он? Неважно. Если подниму машину на шесть-шесть с половиной тысяч метров, запеленгую его рацию в любом варианте. А подниму? На четыре пятьсот подниму. Пустую и на пять с половиной подниму. С разгона еще сотни две-три добавлю. Мне же только пеленг взять. Найду, никуда не денется.
Торопливо готовлю вертолет к полету. Запрыгиваю в кабину, ладонью, в три удара врубаю десяток тумблеров над лобовым стеклом, прогоняю предполетные тесты. Барахлит система ориентации по звездам. К черту! Обойдусь.
Запускаю винт. И тут замечаю, что рядом с кабиной стоит Веда. Распахиваю дверцу.
— Хочешь лететь? — Отрицательно мотает головой.
— Игнат, хоть ты и самая крупная скотина из всех известных мне, но… Возвращайся. Здесь твой дом.
— Вернусь. Не трогай без меня насос.
Поднимаю машину все выше и выше и перекатываю на языке эту фразу. «Возвращайся. Здесь твой дом». А утром была другая: «А обо мне ты думал, когда Кента чинил?!». «Возвращайся. Здесь твой дом». Глупости. Мой дом там, где Звездочка. Могила — мой дом. Все остальное — конура, нора. Лачуга, ночь переспать.
Тело давно остыло.
— Когда она умерла? — спрашиваю у Крабика.
— 52 часа назад.
— Почему не доложил Фиесте или другим мунтам?
— Не было приказа.
Переношу тело на хирургический стол, выталкиваю всхлипывающего Тоби за дверь и начинаю вскрытие. Не в первый раз. «Сегодня вместо физической подготовки у вас будет медицинская. Курсант Лавкрафт умудрилась свернуть себе шею на спортплощадке». Тогда у меня сильно дрожали руки.
Собственно, причина ясна. Неудачный аборт. Местные киберхирурги и в подметки не годятся нашим корабельным. Костоправы… Но нужно уточнить детали. Положено…
Родовспоможение и лечение переломов — единственное, что я серьезно изучал из медицины. Резал трупы, принял полсотни родов во время подготовки. Чтоб руки не дрожали, когда Звездочка рожать будет. Все знакомо. И все ясно, за исключением мелочи.
— Зашей, — бросаю киберу, срываю перчатки, мою руки и лезу в базу данных медицинского компьютера. Вот они — генетические карты матери, плода, Тоби… И вот последняя мелочь. Плод женского пола, но не от Тоби. Лиана не захотела рожать от дега, решилась на аборт. Меня не позвала, идиотка. Сами, все сами! Ничего ведь не умеют…
Вылетаю из медицинского сектора, с силой бью кулаком по стенке. Отвожу душу. Натыкаюсь на собачий взгляд Тоби.
— Что с ней?
— Она забеременила не от тебя. Хотела от тебя, а понесла от тех дегов. Не сумела правильно настроить киберхирурга на аборт.
И тут понимаю, что Тоби хотел услышать совсем не это. Чуда ему хотелось. Я спас Лиану в первый раз, запустил спин-генератор, починил вертолет. Но человек — не вертолет, не спин-генератор. Я не умею оживлять трупы.
Выхожу из дома, сажусь на камень на берегу реки. Я ее спасал. Тащился под дожем и ветром восемьсот километров пешком. Спас. Так умудрилась на ровном месте шею свернуть. Ну и к чему теперь все мои трудовые подвиги? Когда посылает егерей голышек осеменять — все нормально. А как саму осеменили — припекло… Под нож легла, лишь бы чужого не рожать. Идиотка безмозглая.
Нет, не удается себя завести. Не хочу жить на этой планете. Здесь дети гибнут.
Тоби с Крабиком готовят похороны, а я консервирую системы технохутора. Часть хлореллы вылавливаю сачком, заливаю консервантом и отношу в подвал. Там темно и прохладно. Это закваска. Двадцать лет продержится. Потом нужна будет новая, с соседнего технохутора. Часть закваски отношу в вертолет. Мало ли… Остальную биомассу выбрасываю. Лиана всю жизнь прожила на хуторе, но даже не знала про консервант. Вот так незаметно и деградируем. Сегодня забываем одно, завтра другое… Вместо генетического прогноза яйца режем. Генетический прогноз…
Промываю системы синтезатора, продуваю перегретым паром, азотом, герметизирую. Тоби выносит завернутое в белую простыню тело Лианы. Следом семенит Крабик. Пускаю на внешние динамики заранее приготовленную запись и выхожу из дома. Под тоскливое завывание похоронного марша забрасываем могилу щебнем. Увожу Тоби за угол и вдавливаю кнопку. Грохочет взрыв. Обломок скалы тонн в двадцать весом катится вниз по склону и замирает метрах в десяти от могилы. Вдвоем с Тоби накидываем на него сеть из стальных тросов и электролебедкой подтаскиваем к могиле. Затем сварочным плазменным пистолетом вырезаю надпись: «Лиана, дочь Корины». С местным летоисчислением так и не ознакомился, поэтому ниже вывожу без затей: «16 лет». Земных было бы 17.
— Я пойду?.. — неуверенно спрашивает Тоби.
— Подожди до завтра. Закончу дела и подброшу тебя в любое место.
— Нет… Здесь недалеко…
К вечеру заканчиваю консервацию систем технохутора. Закрываю хрустким пластиковым чехлом последний компьютер. Зачем — не знаю. Заброшенных технохуторов с каждым годом все больше.
Спать ложусь в вертолете. На хуторе пусто, темно и неуютно. Как в склепе.
Утром со мной связывается Фиеста. Интересуется, куда отправился Тоби. Я не знаю. Включаю навигационный комплекс вертолета, и с его помощью засекаю пеленг на маячок-автоответчик в рации Тоби. Фиеста тоже засекает пеленг. Точка пересечения рядом с деревней дегов. Тех самых… Зачем Тоби поперся в деревню дегов? У Тоби есть станнер, и он поперся в ту самую деревню дегов. Дерьмо!
Уже в воздухе объясняю ситуацию Фиесте.
— Он не будет использовать станнер против дегов. Это запрещено, — говорит мутантка.
— На щелбан поспорим? — цежу сквозь зубы я.
Фиеста оказалась права. Тоби не посмел достать станнер. Его били, и били долго. А я опять опоздал.
— Опоздал ты, егерь, — сказал мне седой старик, протягивая станнер Тоби.
— Ты кто?
— Староста здешний. Как стар стал по лесам бегать, здесь в деревне осел. Живу, истории рассказываю, как в других местах живут. Старостой вот выбрали. Раньше егерем, как и ты, был.
— Я не егерь. Я из Эскадронов Жизни.
— Кто это такие? В первый раз слышу. Постой! Это ты заставлял камни по воздуху летать?
С трудом понимаю, о чем идет речь.
— Да. Я был здесь. Наказал трех придурков. Это они убили Тобиаса?
— Они, — устало вздохнул старик.
— Почему не остановил? Почему убийство допустил?
— Он ведь первый начал, — сообщил староста, тяжело поднимаясь с колен. — «Убью» кричал. Зачем кричал «убью»? Все по закону… Молодые все глупые. Раньше умные рождались, а теперь глупеет народ…
Я тоже поднялся с колен, отнес тело Тоби в вертолет.
— Собирай народ на собрание. Судить буду.
Старик, опираясь на посох, побрел к поселку.
Тоби дал себя убить, но не притронулся к станнеру. «Станнер нельзя использовать против дегов» — закон такой… Планета непуганных идиотов! Да, но за этот закон он отдал жизнь. Любой закон можно считать глупой фразой, пока он не оплачен кровью. Пусть будет по-твоему, Тоби. Деги не увидят станнера. Но закон должен выглядеть силой. Могучей и непреодолимой как ураган. А поэтому — расстегиваю левый подсумок на поясе и прячу туда станнер. Только раструб излучателя наружу.
Примитивные племена обожают чудеса. Вы у меня увидите чудо…
Перегоняю вертолет на деревенскую площадь, затемняю стекла. Винт не останавливаю — только перевожу на малые обороты. Размеренное «тах-тах-тах» над головой успокаивает. Народ, опасливо косясь на машину, собирается на площади.
Пора.
Надеваю черный авиационный шлем, перчатки, застегиваю летный комбинезон и выхожу из машины. «Тах-тах-тах» поют над головой лопасти, придавая уверенности. Иду на толпу, и она раздается полумесяцем.
— Я буду судить вас, — динамики в карманах превращают мой голос в громовые раскаты.
— Я буду судить вас, — басовитым эхом отзывается наружная акустическая система вертолета.
— Вы, трое, выйдите вперед! — моя правая ладонь в черной перчатке указывает на парней, левая лежит на поясе. Пальцы ласкают курок станнера. — Егерям надо помогать. Всегда и во всем! Так велят мунты. Вы убили егеря. За это я вас накажу!
Поднимаю с земли два маленьких камушка и жонглирую ими правой рукой. Деревенские почуяли неладное, и вокруг парней быстро образуется пустой круг. Бросаю камешек в грудь самому рослому и тут же левой нажимаю на курок станнера. Парень падает как подкошенный. Второй камень летит в грудь парня справа. И вновь выстрел из станнера. Третий бросается наутек. Хватаю из-под ног ком земли и запускаю ему в спину. Мимо! Второй комок разбивается об рубашку на спине парня, но основной луч станнера проходит мимо. Ему достается лишь боковой лепесток. Он падает, сучит ногами и катается по земле. Когда подбегаю, на меня смотрят широко распахнутые мертвые глаза…
Чтоб я сдох — он же от страха умер!
Минуту стою над телом, отбрасываю ненужный больше ком земли, разворачиваюсь лицом к народу.
— Запомните, люди! Егерям надо помогать всегда и везде! Я буду наказывать тех, кто обижает егерей!
По живому коридору иду к вертолету. Встречаясь с моим взглядом, люди понуро опускают глаза. Женщины уже голосят над убитыми.
Стаскиваю шлем, забрасываю в вертолет и сажусь на ступеньку трапа. Этот оскал, эти мертвые, полные ужаса глаза мне теперь сниться будут. Хотя, вряд ли. Есть способ перебить впечатление. Стоит только на себя в зеркало взглянуть…
— Сукин сын! Щенок! Что же ты наделал?! — староста яростно стучит посохом о землю. — Егерям нельзя обижать дегов! Это закон!
Тебя здесь только не хватало. Где ты раньше был, когда Тоби ногами метелили?
— Кто разрешил тебе станнер в руки взять?! — бушует бывший егерь. Не провела его моя хитрость.
— Сядь, старик. Законы устанавливаю я. Ты назвал меня щенком, а я родился пять веков назад. Я летал от звезды к звезде еще тогда, когда деда твоего прадеда на свете не было. Я — Звездная Элита.
— Многие молодые мнят о себе невесть что, — сердито бормочет бывший егерь, но все же присаживается.
— Брысь, генный анализатор! — не оборачиваясь, поднимаю ладонь. Кибер вкладывает в нее черную коробочку. Прижимаю ее к запястью и вздрагиваю от укола. Показываю индикаторные полоски старосте. Тот недоверчиво жует губами, забирает коробочку, снимает свой анализ и сравнивает.
— Вот, значит, вы какие, — теперь в голосе ничего, кроме бесконечного уважения. Правы были психологи. Можно сколько угодно писать перед дворником формулы высшей математики, но уважать он вас начнет только если вы лучше него в метлах разбираетесь.
— Пойду я, старик…
— Подожди, Элита, что мне людям-то сказать?
— Скажи, что легко отделались. Что ты уговорил меня не наказывать всех сразу. А совсем плохо будет — жми красную кнопку, — протягиваю ему рацию Тоби с аварийным SOS-маяком.
Некоторое время наблюдаю, как староста объясняет что-то столпившимся вокруг него селянам. Потом разгоняю винт и бросаю машину в небо. На экране заднего обзора вижу, как разбегается, прикрываясь от ветра, народ, как с двух ближайших домов срывает воздушным потоком крыши и бросает на огороды. Никого, к счастью, не убил.
Не успел удалиться на два десятка километров, как автопилот сообщает о сигнале SOS. Разворачиваю машину и на полной скорости иду назад. Мужики, обступив старосту, машут руками, указывая на сорванные крыши. Зависаю на высоте 150 метров, переключаю управление на автопилот, пристегиваю карабин к подвесной системе летного комбинезона и, через люк в полу, опускаюсь на тросе прямо в центр толпы.
— Зачем ты дома порушил? — набрасывается на меня староста. — Как людям жить в домах без крыши?
Оглядываюсь на дома. Толпа настороженно замолкает.
— Ты, — указываю пальцем на самого высокого и широкоплечего, — отбери самых сильных мужиков, чтоб за два дня все починили. Ты — указываю пальцем на старосту, — проверь, чтоб хорошо починили. Если лодырничать станут… Как меня позвать, ты знаешь.
— Мы уж как-нибудь без тебя разберемся, — сплевывает на землю бывший егерь.
Нажимаю кнопку на пульте дистанционки и возношусь на тросе в небо. Умен ты, староста. На мне политический капитал заработать догадался. Всего два поколения тебя от молодых отличают. Неужели мутация так быстро идет?
— …Как ты посмел их убить?! Ты не имел права их убивать!
— Они преступники. Они опасны для общества и власти. Ты же власть. Какого черта я должен объяснять тебе азбучные истины?
— Но тебе же нет дела до нашего мира! Тебе плевать на него! Ты только боль и смерть приносишь!
— Скажи еще, что я виноват в смерти Лианы!
— Если б ты остался с малышкой…
— Хочешь сказать, что я — самая большая куча дерьма на этой планете?
— Да! Если ты так ставишь вопрос, то да!
Не стоило ей так говорить. Я знаю, что не ангел, но не ей об этом судить.
— Слушай, женщина, а если я сейчас выверну кусок душистого навоза, суну тебе под нос и докажу, что навоз этот — ты!!! Что я по сравнению с тобой — ангел небесный, что тогда?!
Фиеста побледнела. Нет, не то слово. Побелела. Но я уже не мог остановиться. Гримасничал, размахивал руками, жестикулировал, поднося к ее лицу воображаемый навоз в скрюченных пальцах.
— Вы, мунты, нанесли планете вреда больше, чем все отголоски Волны, вместе взятые! Вы, и ваша политика генетической коррекции! Вы скрещиваете голышей с дегами, чтоб избавиться от телепатии. А ты знаешь, что регрессивная мутация дегов проходит доминантой в девяноста семи случаях из ста? На планете не останется телепатов, полноценной разумной расы, останутся одни деги! Детей голышей можно обучить. Из них можно людей вырастить. Но дегов-то обучить невозможно. Они теряют разум на биологическом уровне.
— Не надо кричать, — тихо произносит Фиеста. — Я все это знаю. Остальные не знают, но я знаю. Не думай плохо о всех.
— …Да, мы в глубокой ж…, как ты изящно выразился. Тогда, двести пятьдесят лет назад, все казалось правильным. Та доминанта, о которой ты узнал, даже доминантой не была. Проявлялась в одном случае из трехсот, и генетический прогноз показывал, что в следующих поколениях растворялась. Была принята программа генной коррекции… Ведь пойми, одни плюсы были! Деги переставали деградировать, а голыши теряли телепатию. Одни плюсы…
— Так какого дьявола?..
— Мутация дегов прогрессировала. Это нельзя было предсказать, это Волна…
— Но простым глазом видно…
— Простым не видно. Мутация очень медленно набирала силу. Кто возьмется решать, когда зло начинает перевешивать добро? Три десятых процента можно не учитывать. Один процент — тоже. А пять процентов? А десять? Ведь тогда деги очень слабо отличались от нормальных людей. Это было заметно только по статистике. Ну, IQ чуть ниже. Но как будто среди нормальных людей дураков мало?
— А сейчас? Сейчас-то все ясно.
— Сейчас среди мунтов не осталось специалистов-генетиков. Нас мало, и мы тоже деградируем. Я, Джессика, Тамар — вот и все генетики. Остальные, если что, обращаются к нам. У нас заготовлено несколько лекций-успокаивалок.
Залпом допиваю стакан. Разбавленный спирт обжигает пищевод, но голова остается трезвой и ясной.
— В чем суть мутации дегов? Куда она ведет? Я вижу настоящее, но не вижу линии развития.
— С мутацией как раз все просто. Эволюция повернула вспять.
— Так прямо взяла и повернула?
— Да, так прямо. Ты ведь знаешь, что зародыш повторяет в своем развитии историю вида. У человеческого зародыша есть зачатки жаберных щелей, хвостик… Все это есть в генах. Деги — как вид — отступают по дороге, когда-то пройденной эволюцией.
— Люди — обезьяны — мелкие зверьки с хвостиком — рыбы — простейшие… Когда остановится этот процесс?
— Не знаю. Знаю только, что идет он в тысячи раз быстрее, чем прямой. Да это и понятно. Тропинка-то натоптана. Отступать всегда легче, чем дорогу прокладывать.
Флаттер, заметив, что мой стакан опустел, наполняет его. Машинально, не замечая вкуса, отпиваю половину.
— А деги, деги-то куда смотрели? У вас же был опыт борьбы с мутациями. Банки генофонда, искусственное оплодотворение, инкубаторы всякие!
— Не знаю, Игнат. Я родилась на двести лет позже. Поздно о банках генофонда говорить, сгнило все…
Во рту, как и на душе, устойчивый привкус дерьма. Пытаюсь смыть его остатками спирта. Паршивый тут спирт. Не топит бизона.
— А?
— У нас в группе был один индеец. Его родители восстановили породу американских бизонов. А Волна должна была их снова уничтожить. Он был слегка повернут на этих бизонах. Гринписовцы все малость повернутые. Стоило хлебнуть крепкого, как больше ни о чем говорить не мог. Пока вдрызг не упивался. Это у него называлось топить бизонов… В какой-то книге вычитал фразу — и топил. У нас это называлось глушить двигатель, а у него — топить бизонов. Твой спирт не топит и не глушит. Поздно уже, завтра договорим.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАКЕТ № 5
Земле повезло. Как планета она уцелела. Солнце не взорвалось, не сжалось в плотный холодный шар, не расплылось газовой туманностью. И планеты остались на своих орбитах. Солнце всего лишь чуть остыло. А может, изменились свойства вакуума, и Земля стала получать меньше лучистой энергии.
По неписанной традиции планеты-кладбища, на которых существовали когда-то поселения, отдали неполным экипажам. Не надо думать, что это благородный жест. Планета без жизни безопасней планеты с жизнью, пережившей Волну. На планетах с жизнью болезнетворные микроорганизмы иногда страшно мутировали. Бывало, на глазах друзей человек за час расплывался кучей вонючей слизи.
По жребию нам досталась Мента, а Земля — Чарльзу и Эдит Маккол. Они сообщили, что на Земле выпал черный снег. Обычный пушистый снег, только угольно-черного цвета. И лед замерзших океанов был чернее сажи. Не пытайтесь найти этому объяснение. Волна есть Волна. Когда Макколы высадились на Землю, активность Солнца вновь поднялась до исходного уровня, и океаны на экваторе начали оттаивать. Вода, растаяв, становилась прозрачной и при охлаждении замерзала обычным бесцветным льдом.
Не знаю, уцелели ли на Земле простейшие одноклеточные, но трупы в городах сохранились отлично. Макколы не успели сообщить результаты анализов. Их шаттл разбился, когда они хотели перелететь на родину, в Австралию. Возможно, это обычный несчастный случай. Макколы были крепкими ребятами.
* * *
…Просрали! Такую планету просрали! Вы могли бы стать богами! Следующий виток эволюции. Общество телепатов! Без лжи, без насилия! Рай на земле! А вы?.. Назад под пальму? Какие же вы сволочи!
— Стой! Ты куда?!
— Какое тебе дело?! Все просрали…
Голос ломается, а перед глазами все подозрительно расплывается. Я же не плакал даже тогда, когда Звездочку хоронил.
— Игнат, стой! Тебе нельзя туда! Тебе больше нельзя встречаться с мунтами!
— Пошла ты…
— Господи! Ну дай ты нам умереть достойно!
От удивления даже останавливаюсь.
— Повтори.
— Ты знаешь тайну. От тебя тайна по свету пойдет. Мы же телепаты. Все узнают. Хорошо это — надежду потерять? Вся жизнь — насмарку, все, что делали, к чему стремились — никому не нужно. Это крушение всего, крушение жизненных идеалов. Этого никто не перенесет! Ты не можешь так поступить с нами.
В голове звонкая пустота. Фиеста права? Права, конечно, но что-то не так. Нужно только сосредоточиться…
— Ты должен остаться здесь, на моем хуторе, — уговаривает она. — Я все устрою, со всеми договорюсь. Хорст приведет сюда Зверька, Веда поймет. Может, неправильно, но поймет…
Понял! Разворачиваюсь и иду к вертолету.
— Стой! Стой, подлец! Флаттер, останови его!
Фраза не успела дозвучать, как я в прыжке бросаюсь к киберу, правой рукой сдвигаю защитную заслонку, левой вдавливаю красную кнопку дезактивации. Флаттер застывает памятником. Поднимаюсь с бетона, сосу костяшки ободранных пальцев.
— Не беспокойся. Через минуту я вновь включу твоего кибера. Только подумай сначала, способна ли ты на убийство. Ты когда-нибудь видела, как у твоих ног сучит ногами человек с разорванной аортой?
— Я не хочу убивать! Но я должна тебя остановить. Ради нас всех, ради будущего!
— Какого будущего? В котором вы воруете детей у дегов, воспитываете из них насильников-яйцерезов. И называете это громким словом «генетическая коррекция»? Любое зверство можно оправдать, пока в нем есть смысл. Какой смысл в этой коррекции?
— Ты не поймешь, — обреченно откликается Фиеста.
— Спасибо, родная! А знаешь, как эта фраза называется? Последний довод дураков!
— Но ты же слушать не хочешь, — почти плачет Фиеста.
— Объясни.
— Остаться человеком. Выстоять. Продержаться… Сохранить основу цивилизации. Любой ценой, пока не… Ты не поймешь…
— Пока не… что?
— Ну не одни же вы — элитные… Наша колония есть на всех звездных картах. Время подошло. После тебя могут быть другие… Самая малость чистой крови — и мы сможем подняться. Один-два корабля…
— Других кораблей здесь не будет. Мы оставили сообщение, что высаживаемся здесь, значит другие пойдут к другим звездам. Стратегия звездной элиты — как можно шире раскидать сеть колоний по галактике. Не скапливаться в одном месте.
— Ты не хочешь меня понять!
А на самом деле — хочу я понять? Нет. Вулканчик бы обиделась. Она пела вечерами:
Переведи меня через майдан, Он битвами, слезами, смехом дышит, Порой меня и сам себя не слышит. Переведи меня через майдан.Теперь вместо звенящей пустоты в голове тихий перебор гитарных струн. Ради тебя, Вулканчик, постараюсь понять.
— Чуда тебе хочется. Бога из машины. Чудес на свете не бывает! Волна есть, а чудес нет! — включаю кибера и широкими шагами иду к вертолету. С некоторой отчужденностью жду выстрела в спину. Будет выстрел — отправлюсь к Звездочке. Не будет, улечу. В любом случае я в выигрыше.
Переведи меня через майдан, С моей любовью, с болью от потравы. Здесь дни моей ничтожности и славы. Переведи меня через майдан. Переведи… Майдана океан Качнулся, взял и вел его в тумане, Когда упал он мертвым на майдане… А поля не было, где кончился майдан.Выстрела нет. Занимаю левое кресло и поднимаю машину в воздух. На базальте взлетной полосы замерла на коленях фигурка женщины. Воздушный поток от винта рвет ее волосы.
Кто тебя породил, Волна?
Я не вернулся на хутор Веды. Не хочу видеть ее опустошенной и раздавленной. Может быть, потом… Пусть останется в моей памяти яростной и непокоренной. Сейчас мне нужно найти себя. Собрать из обломков.
Нужно ли?
Высадился на морском берегу у заброшенного технохутора. Того самого, который присмотрел давным-давно. Хутор в отвратительном состоянии. Лес подступил вплотную к дому, корни взломали асфальт дорожек. Подвальные помещения затоплены грунтовыми или дождевыми водами, на стенах — плесень. Работ по восстановлению — на год. Ничего. Мне торопиться некуда. С голода не помру — на этой планете невозможно умереть с голода — а остальное не страшно.
Совсем недалеко от дома, на скале смотрит в зенит «тарелка» радиолокатора. Совсем небольшая — метров пятнадцать в диаметре. Трудно сказать, для чего она служила. Может, для космической связи в пределах системы, может, для навигации, может, для радиолокационного обнаружения опасных комет и крупных метеоритов. А может, для всего перечисленного. Метрах в двухстах от берега белеют руины ангара из легких сплавов. Под рухнувшей крышей отчетливо просвечивает какая-то конструкция с крыльями. Чуть ли не бегом спустился к ангару, нашел брешь, протиснулся внутрь.
Это был пассажирский экранолет. Огромная, некогда шикарная машина человек на триста-четыреста. В ангаре поместились бы еще три таких. Колонисты мечтали жить с размахом и удалью. Себе и другим доказать: не задворки Вселенной их планета, но сад ухоженный, возможно даже райский.
Побродил между рядами пыльных кресел, заглянул в кабину пилотов, потрогал осколки лобового стекла, покачал штурвал… Почему-то я надеялся обнаружить космокатер.
В первый же вечер поднялся по ржавой лесенке на «тарелку» радиолокатора и долго сидел на краю, свесив ноги. В «тарелке» плескалось бы маленькое озеро, но в самом центре, прямо под излучателем зиял люк. Через который я, собственно, и забрался.
Надо же было так промахнуться… «Есть горы, а еще есть океан» Эти места отличаются суровой красотой. На любителя. Я — не любитель. И так тошно.
Как случилось, что я, полный профан в генетике, разбираюсь в ней на уровне местного эксперта. Мунты теряют знания, мир деградирует…
Сидеть здесь до старости? Или вернуться к Веде? Она тут же прочитает с моих извилин все тайны. А что сделает потом? Будет судить свой народ. Это мне все по барабану, а она надежная… Так Лиана говорила. Стоило девочке откинуть копыта, и ее мнение стало весомым для меня. Какая разница! Что я, сам не знаю Веды? Вивисекцию она прекратит. Кражу детей прекратит. Не знаю, как, но добьется. Что будет дальше? Волна самоубийств среди мунтов. А потом? Одно-два поколения, и мунтов не станет. Они просто не захотят заводить детей. Деги скоро забудут, как вскапывать огороды, уйдут в леса и сольются с голышами. Заразят голышей своей мутацией, а через десяток поколений обрастут шерстью и полезут на пальму. Не будет ни мунтов, ни голышей, ни дегов. Занавес…
А если я не вернусь к Веде? Родится мой сын. Веда воспитает из него егеря-яйцереза. Мунты продержатся еще десяток поколений. И увидят, как люди превращаются в обезьян. Что потом? То же самое… Эта цивилизация себя исчерпала. Лет так через десять миллионов эволюции возможно вновь потребуется разум. Но не через пятьдесят тысяч, как думает Фиеста. От ее капсулы времени ничего не останется.
Переведи меня через майдан, Где мной все песни сыграны и спеты, Я в тишь войду и стихну — был и нету. Переведи меня через майдан.Выходит, мы жили зря? Все напрасно? Пять лет учебы, пять лет полета — никому не нужно? Звездочка и Вулканчик умерли зря?
Бью кулаком по гулкому металлу «тарелки» и не чувствую боли. Да откуда ей взяться? Прямым ударом я на Земле кирпичи ломал. Подготовленный, блин! В космосе — мышцами играть. Против Волны — с кулаками…
А что я могу сделать один?
А если не я, то кто? Мунты? Деги? Зверек, брюхатая моим ребенком?
Рычу зверем и катаюсь по остывающему металлу «тарелки». Слез нет. Кончились. Разучился я плакать. Еще до того, как умерла Надежда. В те дни и ночи, когда на коленях стоял перед анабиозным саркофагом Звездочки.
В небе, одна за одной, загораются звезды. Чужие, бесполезные, никому не нужные. Холодные глаза Вселенной. Одна из них сфокусировала отголосок Волны, и не стало наших девушек. Я ненавижу их, запоминаю каждую в лицо. Чтоб отомстить. Смотрю им в глаза, пока восток не начинает светлеть. «Все говорят: нет правды на земле. Но правды нет и выше».
У меня не осталось друзей, но остались враги. А значит — рано думать о смерти. Ты слышишь, Волна?!
С первыми лучами солнца я встал, широко расставив ноги, на краю чаши локатора. Сбросил куртку, вытянул вперед руку и полоснул ножом чуть ниже локтя. Алые капли забарабанили по тусклым металлическим листам.
Это — клятва. Без слов, но на крови. Перед морем, перед лесом, перед скалами. Перед всей этой долбаной планетой.
Мунты не справились. Теперь моя очередь. Я беру в свои руки судьбу этого мира. Ради Звездочки, ради Надежды, ради всех, кто готовил нас в полет. Ради всех, кто встретил Волну на Земле и запятнал в космосе.
«Мы — везунчики» — говорил Бонус. Если оживлю этот гроб с музыкой, значит так оно и есть.
Пыль на радиаторах. Она укрывает их толстым одеялом, лишая теплоотвода, превращая в бесполезные куски металла. Зеленые лучи многоканального осциллографа. Бесконечное программирование самодельного стенда на анализ неисправностей нестандартных электронных ТЭЗ-ов. Окислившиеся контакты. Отвалившиеся пайки. Отслоившийся печатный монтаж. Дохлые кристаллы электронных схем. Пустые, потерявшие прошивку ПЗУ. Старье. Местное самодельное старье. Заря электроники…
Потерявшие герметичность тепловые трубки. Расслоившиеся на фракции магнитные жидкости. Ржавчина, забившая коробки редукторов.
Через неделю я прикинул процент проделанной работы и опомнился. Активировал Брыся и поручил ему простейшие операции. Киберы Фиесты хорошо натасканы. Первым делом Брысь (с моей, правда, помощью) наладил насос и откачал воду из подвалов. Потом занялся наведением чистоты в доме. Пусть развлекается. У меня на это полгода ушло бы. Сплю все еще в вертолете. Из всего хозяйства технохутора восстановил только распределительный щит и синтезатор пищи. Подсчитал, что это быстрее, чем каждый день в лесу фрукты собирать. Спин-генератор запускать не стал. Бросил кабели от вертолета к распределительному щиту. Так быстрее, а красота мне не важна. Главное — запустить «тарелку». Механику наладил. Скрипит, на ладан дышит, но чашу локатора разворачивает в любую сторону, кроме северо-востока. Там коррозия направляющий обод съела. Плевать. Мне нужно направление запад-восток. И два часа активной работы. Дальше — пусть она хоть на куски развалится.
С электроникой хуже. Все оборудование уникальное. Есть железное правило. Любая железяка для космоса должна быть ремонтопригодна. Тот, кто делал «тарелку», его не знал…
По вечерам иногда включаю компьютер вертолета, врубаюсь в компьютерную сеть мунтов и проглядываю новости. Егерь Хорст (а кто же еще?) проводил до хутора Лианы мунта Ядвигу. Ядвиге тринадцать лет. Хутор вновь функционирует. Сектор Тоби разбили на пять частей и присоединили к соседним секторам. Егерь Роберт послан разрешить территориальный спор между двумя селениями дегов. Егерь Дональд доложил о перемещении голышей (больше трехсот особей) где-то далеко на юге. Мунт Кира победила в чемпионате по стоклеточным шашкам. Честь ей и слава. В секторе егеря Андрэ рухнул древний мост через реку. Патрулирование усложнилось. Это то, что похоже на информацию. Остальное — сплетни. Больше, чем на двадцать минут меня не хватает. Выключаю комп и брожу по берегу. Отвратительное место. Где-то недалеко в море впадает река, и мутная вода имеет неприятный желтоватый оттенок. Я сам выбрал по карте это место. «Мы — везунчики» — говорил Бонус.
Только через четыре месяца осознал, что в тупике. Электронику «тарелки» мне не починить. Есть золотое правило ремонтников: замени неисправную деталь, остальное само заработает. В смысле, чтоб починить, вовсе не обязательно вникать в принцип работы устройства. Достаточно заменить неисправный блок исправным, а потом без спешки найти в нем ту самую неисправную деталюшку. Для этого вовсе не обязательно знать, как этот блок связан с соседними, и для чего служит. Была бы схема, тест-карта, горячий паяльник и запасная деталюшка.
В случае с «тарелкой» золотое правило не помогло… Все ТЭЗы по отдельности работают. Комплекс — нет. Я догадываюсь, что произошло. Те, кто работал на «тарелке», не раз и не два переделывали комплекс под свои нужды. Записи о модернизациях утеряны. Я же восстанавливал электронику по заводской документации. Возможно, в таком виде она в принципе не может работать. Нужны нежные, по локоть золотые руки бригады профессиональных наладчиков.
В тоске неделю шатался по хутору. Брысь, как ни странно, привел его в жилой вид. В комнатах чисто, ни плесени, ни паутины, все блестит, стулья расставлены с точностью до миллиметра. На некоторых, правда, нет сидений, но для кибера это несущественно. Четыре ножки, спинка — значит, стул! В книжном шкафу стройными рядами выстроились бумажные книги. Все пять. Взял крайнюю. Эта книга, видимо, попала в лужу отработанного машинного масла. Брысь ее долго и старательно отмывал. Страницу за страницей. Масло отмыл. Книга рук не пачкает. Типографскую краску, к сожалению, тоже отмыл. Полупрозрачные от впитанного масла страницы девственно чисты.
— Молодец, — хвалю я кибера. — Благодарю за службу!
Услышав похвалу, Брысь тихонько наигрывает «Марш железных парней». Я его этому не учил. Веда? Нет, для нее чужой личный кибер — святое. Значит, Фиеста…
Несколько минут вспоминаю ее хутор, море изумрудной травы вокруг, балкон диспетчерской вышки, антенное хозяйство аэродрома…
Вот именно! Антенное хозяйство. Нужно лететь. Но спин-генератор моего вертолета снабжает энергией весь хутор. Если отключу, останусь без хлореллы.
Неделю восстанавливаю спин-генератор технохутора. С ним ничего серьезного, просто очень много рутинной работы. Пока руки заняты, в голове окончательно кристаллизуется новый план. Отключаю на фиг всю электронику «тарелки», подключаю свою. Моя будет в сто раз проще. Я же не собираюсь звезды слушать. Мне всего две функции нужны: дальняя радиолокация и дальняя связь. По космическим масштабам это даже дальней связью назвать нельзя. 500 тысяч километров — не расстояние для космоса.
По ночам снится женщина. То Звездочка с глазами Веды, то Веда с изящными, тонкими руками. «Пациент, вас мучают эротические сны?» — «Доктор, я не говорил, что мучают.»
Переведи меня через майдан, Где плачет женщина, — я был когда-то с нею. Теперь пройду и даже не узнаю. Переведи меня через майдан.Пела когда-то Надежда. Все это в прошлом…
Трава… Море травы. Изумрудная, ласковая трава… Волны… Ветер порывистый, и по морю травы гуляют волны. Хочется нырнуть в них, окунуться с головой, сделать глоток из этого изумрудного моря, почувствовать, как он, большой и прохладный, щекочет горло.
На Земле не было такой степи. Сочной, яркой! На Земле солнце выжигало краски. Здесь нет времен года, здесь вечная весна.
Отключаю автопилот. Чуть покачиваю штурвал, чтоб чувствовать массу и инерцию машины. Автопилот посадит рядом с ангаром, откуда я стартовал, а мне лучше сесть поближе к жилой части хутора. Да чего я перед собой оправдываюсь? По штурвалу руки соскучились, вот причина.
Сажусь с ходу. Сильный боковой ветер мешает, нужно бы развернуть машину против ветра, но… легкий крен на борт, гашу боковую скорость, регулятор шаг-газ вверх. Рискуя поймать вихревое кольцо вокруг несущего винта, резко гашу скорость. Шаг-газ вниз. Чуть раскачиваю машину и притираю на четыре точки. Ай да сукин сын! Помнят руки работу.
Фиеста встречает на полосе. С трудом узнаю ее в седой, изнуренной женщине.
— Как ты изменился, мальчик мой.
Я изменился? Забавно. Надо будет взглянуть в зеркало. Пока идем к хутору, объясняю цель визита.
— Конечно, демонтируй. Бери все, что сочтешь нужным, — соглашается она.
Праздничный ужин. Из холодильника извлекается окаменевшая тушка кролика. Посмотрев, как Флаттер насаживает на один из манипуляторов дисковую пилу, я сам берусь за разделку дичи, овощей и фруктов. Разбавляю спирт зеленым, как тархун, напитком. Попутно объясняю, что такое настойка и как их делают.
Ужин проходит в теплой, дружественной обстановке. Фиеста мне рада. Нет, не то слово. Камень с души сняла? Уже ближе, но опять не то. Возвращение домой блудного сына — праздник для матери. Что-то в этом роде.
Чудный вечер. Треплемся о пустяках, о мутации фруктов под воздействием Волны, о намечающемся турнире по го, о перспективе одомашнивания диких кошек, о радиопротекционных (каких-каких? — Р-радиопротекторных!) свойствах чистого спирта. Как быстро организм отвык от алкоголя… Пока не дошел до свинства, завязываю с выпивкой, помогаю Флаттеру убрать со стола и удаляюсь в свою спальню. Тепла твоей душе, Фиеста.
— Что будем делать с пьяным матросом?! — Думал, про себя напеваю, оказалось — ору во весь голос. Бонус любил эту песенку, а Вулканчик всегда сердилась: «Пьяный матрос будет спать на коврике перед кроватью!»
Утром смотрюсь в зеркало. Фиеста была права. Я изменился. Дело даже не в том, что зарос как питекантроп. Так зарос, что шрамов не видно. Я тоже поседел. Не так сильно, как Фиеста, всего лишь до цвета серой мышиной шкурки. Но мне нет и тридцати, а ей за пятьдесят. Беру ножницы, аккуратно подстригаю бороду и гриву. Вновь из зеркала смотрит пятнистая, обгорелая рожа квазимодо. Стоило наводить марафет? Имеет смысл с такой рожей возвращаться к Веде? Или телепатам важна душевная красота? Так я внутри не лучше. Полное единство формы и содержания.
Взбодрившись подобным образом и выпив галлон охлажденной газированой зеленой отравы, иду изучать матчасть. До обеда листаю на компьютере альбомы схем, после обеда — изучаю то же самое в натуре. Хочется плакать или материться. У меня — «тарелка», здесь — фазированные решетки. Конечно, на аэродроме фазированные решетки предпочтительнее…
— Игнат, эту часть плана доверь мне, — говорит Фиеста.
— Не потянут. Они работают в пределах атмосферы и низких орбит. До тысячи километров. На пятьсот тысяч фазированные решетки не тянут.
— Возьмем два поля фазированных решеток — и луч будет вдвое уже. Возьмем четыре поля, разместим в углах квадрата со стороной километр — и твоя «тарелка» покраснеет от зависти.
— А…
— Я же сказала — эту часть работы беру на себя!
— Но…
— Калибровать будем наводя на твой вертолет. Иди, готовь техзадание, паленая твоя шкурка.
— …Разговор есть.
— Согласна я, согласна. Если не забыл, мы, мунты — телепаты. Ну не мнись, высказывайся.
— Давай раз и навсегда условимся: что я думаю — мое дело. В зачет идет только то, что сказано вслух.
— И с этим согласна. Не тяни кота за хвост.
— Вопрос о власти… Демократии не будет. Если хочешь участвовать в моем проекте — ты только исполнитель. Решения принимаю я, и ответственность на мне. Твой голос — совещательный. Согласна — работаем вместе, несогласна — отойди в сторону, не мешай. О'кей?
— Игнат, этот проект твой, и я буду тебе помогать. Только ты еще не представляешь, что дает телепатия. Ты сказал — мой голос совещательный. Но любой мунт может убедить тебя в чем угодно. Что реки текут под гору и реки текут в гору, что Волна была и Волны не было, что трава голубая, а небо зеленое в горошек.
— Как это?
— Подыгрывая репликами и направляя твои мысли. Это искусство, но мунты им владеют.
— Все, поголовно?
— Нет, — улыбнулась Фиеста. — Как правило, только те, кто растил и воспитывал егерей.
— А зачем ты мне это рассказала?
— Зачем… Трудный вопрос ты задал. У меня десяток причин рассказать, и два десятка причин утаить. Ты же умный парень. Придумай сам что-нибудь убедительное.
Хорошо, когда энергии до черта. Когда не нужно изобретать велосипеды, выкручиваться штопором, а можно просто работать.
В десяти метрах перед машиной — озеро расплавленной породы. На стреле, вытянутой вперед и вверх — излучатель. Я покачиваю его, равномерно прогревая озеро. Когда-то с помощью этой машины создавались взлетные полосы аэродрома. Теперь мне нужны идеально ровные площадки для установки фазированных решеток — особой разновидности радиолокатора без подвижных частей.
Отключаю излучатель, складываю стрелу и перегоняю машину к следующей площадке. Всего площадок восемь, и расположены они квадратом. Расположение по кругу дало бы большую эффективность. Процента так на три. Но в квадрате есть грубая простота. «Не лови сопли» — говорил инструктор на Земле. «Делай грубо и надежно. Будешь охотиться за десятыми долями процента — потеряешь качество». «Какое?» — спрашивал я. «Простоту, универсальность и перестраиваемость».
Фиеста зубрит радиотехнику. Странно — молодеет с каждым днем. Нет, морщины и седые волосы остались, но больше не сутулится. Голос окреп. В глазах вновь блеск появился. А ведь я загрузил ее работой по самое не могу.
Тяжелая машина движется медленно, степенно. Кабина так высоко, будто на вертолете на малой высоте иду. Колеса с шинами низкого давления почти вдвое больше меня. Корабль степей, не машина. Закончу дела, сяду в нее, подниму флаг одиночества и поеду прямо на восток. Закреплю руль, и пусть идет вперед. К какой-то там матери. Как Корина — вошла в реку и уплыла в неизвестность…
Ага! Вот колышки. Площадка № 3. Раздвигаю на полную длину стрелу, включаю на несколько секунд излучатель и обвожу им окружность. Выжигаю траву. Иначе пал пойдет, как на первой площадке. Колышки вспыхивают факелами. Жду, пока прогорит трава и вновь включаю излучатель. Самые противные пять минут работы — это пока чернозем выгорает. От кислого, жгучего дыма респиратор не спасает.
Постепенно черная проплешина превращается в кипящее и булькающее озерцо расплавленной лавы. Адская сковородка. А я — кочегар при адской сковородке — кто? Ну да, он и есть. Ликом страшен и безобразен. И высокой морали в моем проекте не больше, чем в проекте мунтов. Хотя — какая-то извращенная справедливость в нем есть. Все время лезет на ум анекдот об искусственном осеменении коров: когда коровы, получив подарок из пробирки, окружили ветеринара — «А в щечку поцеловать?»
Веда любит кусаться во время занятий любовью. Интересно, она же чувствует мою боль. Извращенка? Хотя — мысли мои тоже чувствует. Может, отвлечь хочет? Как сложно с этими телепатами… Закончим проект, вернусь к ней, оттрахаю до звона в ушах и обо всем расспрошу.
Переведи меня через майдан, Через родное торжище людское, Туда, где пчелы в гречневом покое, Переведи меня через майдан.Прости меня, Звездочка.
Все, площадка № 3 готова. Можно переходить к четвертой. Но лучше — завтра. Если ужин Фиеста готовить будет, то опять желе со сладким сиропчиком. Лучше уж зеленых колбасок наштамповать. Прожарить с диким луком, с картошкой, вымоченной двое суток в проточной воде… Ничего мунты в еде не понимают. Вернусь к Веде — первым делом обучу готовить. Нет, сначала в постель затащу, готовить — потом. Но — в первый же день. Готовить — женское дело.
…Кубик к кубику. Прижать боками, они соединятся с тихим щелчком. Выстроить из них цепочку, прижать к прямоугольному полю уже собранной фазированной решетки. Игра для детей дошкольного возраста. Я играю на первой площадке, пара киберов наблюдает за мной, перенимает опыт, еще два складывают решетки на второй и третьей площадках. Флаттер и Брысь, как интеллектуальная элита, обогащенная жизненным опытом, полируют поверхность следующей площадки.
Надо было собирать решетку ночью, по холодку. Подогнать два-три пожарных мобиля, включить фары — и было бы светло как днем. Это работа даже не для кибера, для обезьяны. Повернуть кубик белой стороной вверх, зеленой — вправо, оранжевой — вперед, прижать. Следующий…
— Игнат, уймись. Сходи на речку, искупайся.
— Сходил один такой. Теперь Зверек брюхатая ходит.
— Страус ты. В работу от мира прячешься. А правда, что страусы от страха голову в песок прячут?
— Говорят…
«Страусов не пугать, пол бетонный», — любила говорить Вулканчик.
— Не тормози процесс, дай киберам поработать. Они быстрее сделают! На второй площадке половина решетки сделана, а у тебя только четверть.
Это, конечно, убедительно. Поднимаюсь с колен, покидаю площадку, стаскиваю мокрую рубашку и ложусь в изумрудную траву. Со стороны она кажется прохладной. На деле — ничуть. Жесткая, колкая, пропеченая солнцем. Над площадкой и вовсе струится жаркое марево. Кибер занимает мое место. Первые кубики долго вертит, осматривает со всех сторон, но постепенно набирает скорость. Кубики щелкают как костяшки домино.
— Игнат, когда ты человеком станешь?
— Вот те раз. А сейчас я кто?
— Автомат. Кибер паршивый.
— Почему — паршивый? — лениво обижаюсь я. — На паршивого девушки вешаться не будут.
— Мать твою!.. Мы же телепаты. Неужто объяснять надо.
Почему телепаты вешаются на паршивого кибера? Обаятельный и привлекательный? Это я-то?! Смешно. За что меня любить? Спросить?
— Кто тебе сказал, что тебя любят? Жалеют тебя, хотят помочь, утолить твою печаль. Зверек из-за чего к тебе в постель забралась? Невозможно рядом находиться, когда ты о своей бабе тоскуешь. Господи, любая баба под тебя ляжет, лишь бы душу не рвал.
— Спасибо, родная, ты знаешь, как утешить.
— Не спеши. Это преамбула. Настоящий разговор впереди.
— Уймись. Не тревожь могилу. Кончим работу — уйду в туман, перестану вам на мозги капать.
— Весь ты в этом. Кибер. Выбрал точку на горизонте — и прешь туда, как танк. Кто с дороги не ушел, того на гусеницу намотаешь — не заметишь. Оглянись вокруг! Жизнь-то не дается на два срока. Так и будешь до старости гайки крутить? На небо посмотри. Оно голубое, высокое. На лес, на траву посмотри. Ты же сам себя работой в тоску загоняешь. Все слова человеческие забыл. «Больше, меньше, быстрей, медленней, рефракция, интерференция…» А такое слово — «доброта» помнишь? Червь техногенный!
— Я царь… я раб… я червь… я… Не пинай мертвую собаку. Угу?
— Проснись, ирод! Стань снова Человеком.
— Не хочу.
— …Ты знаешь, о чем я хочу спросить.
В наушниках долгое время стоит тишина.
— Игнат, я бы с радостью согласилась родить девочку с двумя руками, но возраст…
Почему именно девочку?
— А остальные мунты.
— Не беспокойся на этот счет. Искусственное осеменение, строжайший генетический контроль — все уже было в истории нашего мира. Ты не придумал ничего нового.
Ну и ладушки. Окидываю взглядом приборный щиток и тащу из кармана книжку. Интересно, как Фиеста время убивает? Вообще-то мы ведем юстировку элементов фазированной решетки. Я поднимаюсь на вертолете на четыре тысячи, Фиеста наводит лазерный дальномер и засекает расстояние до уголкового отражателя, укрепленного на вертолете, с точностью до десятых долей миллиметра — и начинается… Сначала юстировка четырех излучателей, расположенных по углам фазированной решетки. В теории это просто. Излучатели одновременно испускают импульс. Аппаратура на вертолете засекает время между приходом первого и второго сигнала с точностью до пикосекунд. Показания дальномера и вся эта цифирь заносится в компьютер. Потом я перегоняю машину на новое место — и все заново. В результате определяется взаимное расположение элементов фазированной решетки и задержки, вносимые их электроникой. Эти задержки малы, но их учет позволяет значительно повысить точность.
Второй этап. Угловые излучатели считаются опорными, и относительно них юстируются все остальные. Все то же самое, лишь арифметика попроще. Но сам процесс занимает часы. Ведь излучателей на фазированной решетке — как ворса на ковре. Сотни тысяч. В этом и заключается главная сложность — заставить их работать согласованно. Вычислить и внести в компьютер, управляющий фазированной решеткой индивидуальные поправки для каждого, чтоб компьютер ввел поправки в чип управления излучателем. Работа нужная, но скучная до предела. Моя задача — вывести вертолет в нужную точку, включить автопилот и читать комиксы трехсотлетней давности. Задача Фиесты — нацелить лазерный дальномер на вертолет, нажать кнопку на компьютере и тупо смотреть в экран, все ли идет как надо, и сколько осталось до конца.
— Игнат?
— Да.
— Ты Веде говорил что-нибудь о своем проекте? В сети ходят самые невероятные слухи.
— Никому я ничего не говорил. Вообще, никто не знает, где я, и что я делаю.
— Глупенький. Все знают, что Метающий Камни жил на Сумрачном хуторе. Теперь у хутора новое название: Чертог Эрмита. Всему миру известно, что ты чинишь космическую антенну.
— Чей-чей чертог?
— Эрмита. Эрмит — это отшельник. Ты же землянин. Земных языков не знаешь?
— Я не полиглот. Как про мою антенну узнал весь мир?
— В нашем мире живет не так много людей, чтоб можно было затеряться. Кто-то из егерей видел, куда летит твой вертолет. Другой завернул по дороге узнать, что там делается. Кто-то видел, как твой вертолет летит сюда, на мой хутор. Веда предупредила всех, что ты не будешь рад гостям, так что нас не беспокоят. Но вся сеть сгорает от любопытства.
— Ты что-нибудь сообщила мунтам?
— Только то, что ты занят тем же, чем и раньше.
— А… Веда ничего не говорила?
— Господи! Если ты о Зверьке, то беременность у нее протекает нормально. Сейчас Веду вызову, сам поговоришь.
— Нет, не надо.
— …Скрести пальцы, начинаем!
Фиеста усмехнулась и, к моему удивлению, скрестила пальцы на ногах.
— Теперь молчи. Твой голос в кибермозг не записан.
Включив микрофон, я подробно, во всех деталях разъяснил кибермозгу корабля схему двухимпульсного маневра снижения орбиты. В обычных условиях хватило бы одной фразы: «Перейди на круговую орбиту высотой тысяча километров». Но я же «везунчик». Если когда-нибудь заведу фамильный герб, изображу на нем рака. По предпочтительному образу действий.
В ангаре корабля размещаются в ряд три шаттла. Первый сбрасывается через люк левого борта, третий — через люк правого борта. Второй шаттл располагается по центру, и своего люка у него нет. Мы с Бонусом садились в первом шаттле. Сейчас его место опустело, и центовка груза нарушена. Чтоб ее восстановить, нужно сместить второй шаттл на место первого, или избавиться от третьего. Но переместить второй шаттл на место первого не удалось. Команда на борт прошла, но не отработала. Будь я на корабле, разобрался бы за десять минут. Наверняка заклинил какой-то швартовый захват. Ржавчина, или холодная сварка. Пара ударов кувалдой — и все… Теперь нужно выкручиваться, изобретать варианты. Лучше всего сбросить за борт оба шаттла. У облегченного корабля больше шансов на удачную посадку. Но для этого нужен человек на борту. Кибермозг не выполнит такой приказ без подтверждения с ходовой рубки.
Неразрешимая задача, скажете вы. Невозможно управлять кораблем со смещенным центром масс. Да, в кибермозг это не заложено. Но я приказал сориентировать корабль против вектора скорости в точке маневра и раскрутить вокруг продольной оси. Эффект гироскопа. Несмотря на смещение центра масс, корабль сохранит ориентацию продольной оси во время маневра.
Команда прошла, от меня больше ничего не зависит. Фиеста зачем-то включает музыку.
— Выруби. По нервам бьет.
— А ты перестань по столу пальцами барабанить.
Убираю руки в карманы. Вскакиваю и бегаю кругами по диспетчерской. Черт, никогда не замечал, до чего по дурацки расположены пульты! Теперь синяк на коленке будет.
— Уймись, непоседа, — пытается урезонить меня Фиеста. — Сделать тебе бутерброд?
— Какой, к черту, бутерброд? Хлеб должен быть коричневым. Понимаешь, коричневым, а не зеленым. А колбаса — красной. От этой зелени меня стошнило бы на Земле.
— Мастер, руки золотые, ты же сам настраивал синтезатор. Я допустила тебя в святая святых — к синтезатору пищи — и что слышу?
— Я не художник. Вкус обеспечил? Обеспечил. Цвет — извини.
— Откуда я знаю, какой вкус у хлеба? Я настоящего в жизни не ела.
— Поверь на слово. Хочешь, поклянусь именем любимой собаки Наполеона Бонапарта?
— Все ясно. Ты не художник, ты чревоугодник.
— Гурман.
— Проглот!
Пока трепемся, Флаттер приносит тарелку зеленых бутербродов и ставит передо мной. Машинально начинаю поглощать верхний. По вкусу — хлеб с ветчиной. По цвету — болотная тина. Спохватываюсь, что своим поведением опровергаю собственный тезис.
— Лопай, лопай, теоретик, — улыбается Фиеста. — До маневра еще семь минут.
— А ты?
— Я фигуру берегу.
За легким трепом время летит незаметно. Мы даже не успели обсудить технику живописи великого Леонардо, когда пришел рапорт с борта корабля. Первый маневр завершен успешно. Расчетный перигей — тысяча сто километров (вместо тысячи), параметры орбиты уточняются. Ничего, все в пределах допуска.
— Все! Идем отдыхать. Подробности узнаем завтра.
От нас больше ничего не зависит. Второй маневр будет нескоро. К тому же, вне зоны радиовидимости. С первым мозг справился, а эти железки быстро обучаются.
— Игнат, ну затормозишь ты его. Но он же не сможет сесть со смещенным центром тяжести.
— Не сможет. Со смещенным — не сможет. Бонус бы посадил. Кибермозг — нет.
Замечаю, что вновь нервно барабаню пальцами по столу.
— Не беспокойся, Фи. Все будет хорошо…
— …Что хмуришься?
— Неудачно выходит. Так получается, что если над побережьем корабль днем проходит, то над нами — ночью.
— Не вижу проблемы.
— Я ночью спать люблю.
— Хочешь, я вместо тебя подежурю? Ты только объясни, когда на кнопку давить.
— Как только корабль над нами пройдет. Чтоб не смог на этом витке сесть, даже если на пяти «g» тормозиться будет. Ты лучше со мной подежурь, и если я засну, буди пинками.
Фиеста фыркает и смеется. Смех немного нервный. Вся последняя неделя на нервах. Любая мелочь сорвется — и проекту конец. Всей планете конец.
— Хватит философствовать. Ты не представляешь всей силы эволюции, — прерывает меня Фиеста. — Не конец, а отсрочка.
— Миллионов на десять.
— Что для эволюции десять миллионов лет?
— А если вторая Волна? Нам же лет ста не хватило. Еще сто лет, и мы плевали бы на эту Волну. Переждали бы ее в соседней галактике, потом дружно вернулись назад.
О Волне можно спорить бесконечно. Как о погоде. И споры эти ничего не решают.
— Ложимся спать, Фи. Работаем сегодня ночью. Корабль пройдет над нами в четыре утра.
В последний раз перебираю все в уме. Все учтено. Ветер над побережьем будет в сторону берега, в океан корабль не унесет. Если что — глубины там небольшие. Затоплю двигательный отсек, корабль ляжет кормой на дно.
— До прохождения четверть часа, — сообщает Фиеста. Она сейчас координатор. А передо мной всего одна кнопка. Большая и красная. Я нарисовал на ней череп и кости.
— Корабль на локаторе, — информирует Фиеста. Смотрю на экран. Ясная, четкая отметка. Все путем.
— Корабль над нами, — очередной доклад. — Корабль приближается к границе зоны… Корабль в зоне!
Выжидаю еще минуту и давлю на красную кнопку. На корабль пошел сигнал SOS. Кибермозг перебирает тысячи вариантов, хотя на самом деле вариант всего один. Посадочная программа имеет безусловный приоритет. И вероятность благополучного исхода — ноль! Из-за шаттла № 3 по правому борту. Сигнал SOS имеет такой же высокий приоритет. Вот два граничных условия. Третье — законы небесной механики. Ну же…
— Есть разделение! — кричит Фиеста. — Отметка на экране локатора разделилась!
И почти в то же время в наушниках звучит голос кибермозга. Корабль сообщает, что в ответ на сигнал SOS на планету будет спущен шаттл № 3. Посадка шаттла состоится на следующем витке.
— Получилось! Удалось! Игнат, ты гений!
Устало изучаю ногти. Точнее, тех уродцев, которые растут на месте ногтей на правой руке.
— У нас полтора часа, чтоб убраться отсюда.
— Как — убраться?
— Шаттл не сможет сесть. Он разобьется при посадке. У него колоссальный энергоресурс, и здесь будет колоссальный взрыв. Взрыв разнесет все вокруг, и останется колоссальная воронка…
— Ты не думал об этом… Точно разобьется?
Я криво усмехаюсь.
— Ему пятьсот лет. И он ремонтировался в расчете на полеты в открытом космосе или приводнение. Мы не восстанавливали ресурс посадочных систем. Как только он выпустит шасси… Попытается выпустить шасси… Мы с Бонусом закоротили датчики, чтоб тесты техконтроля не вопили. Там шланги гидравлики сняты, и даже заглушек нет.
— Отведи его в сторону, утопи в океане. Он же нам даром не нужен! Сделай что-нибудь!
— Невозможно. Шаттл идет на сигнал SOS. Это жесткая программа с максимальным приоритетом. Он попытается сесть на взлетную полосу.
— Гад! Сволочь! Что же ты делаешь?! Это моя родина — вокруг. Здесь мои предки жили…
Пусть я гад, пусть я сволочь. Но я обязан был соблазнить кибермозг посадочной полосой аэродрома. Я должен был подобрать факты один к одному, чтоб у него не было альтернативы. Чтоб единственным решением было сбросить за борт шаттл — и тем самым восстановить центровку масс всего корабля. Ближайшая к источнику сигнала SOS посадочная площадка — взлетно-посадочная полоса аэродрома. Для корабля она не годится, но шаттлу — в самый раз. Железный вариант. И он сработал. Значит, я прав?
От хутора не останется камня на камне. Но этот хутор свое отработал. Что важнее, в конце концов? Хутор, или разум на планете???
— Пойду, соберу вещи, — безжизненным голосом сообщает Фиеста. — одолжи на время Брыся.
— Брысь, исполняй команды мунта Фиесты.
— Принято, — отзывается мой кибер.
— Брысь, Флаттер, за мной, — зовет она, и вся троица удаляется. У меня из вещей — пара комплектов грязной одежды, и те в вертолете. Иду проверять машину. Запускаю диагностику, слушаю доклад автопилота, закладываю на всякий случай маршрут. Сажусь на нижнюю ступеньку лесенки и жду. Прибегает Брысь с двумя коробками в манипуляторах. Ставит их у моих ног и застывает статуей.
— Скоро Фиеста придет?
— Информация будет выдана через двадцать пять минут.
С удивлением смотрю на кибера. Вопрос был скорее риторическим. Через двадцать пять минут до прибытия шаттла останется 40 минут. За сорок минут я смогу убежать на десять километров. Или улететь на сто с лишним. Так далеко мне не надо. Можно — на тридцать километров, и спрятаться за ближайшей горой.
Проходит время.
— Фиеста просила сообщить, что останется в книгохранилище. Стены книгохранилища крепкие, они выдержат взрыв. Ты должен лететь. За оставшееся время ты не успеешь вскрыть ворота.
Несколько минут ищу варианты. Если где и можно уцелеть — то в капсуле времени. Фиеста меня переиграла. Со своими книжками решила остаться. Разделить их судьбу. Фанатичка! Срываю крышки с коробок, которые принес Брысь. Конечно, обе пусты.
— Брысь, в кабину!
Перегоняю вертолет к воротам книгохранилища. Ворота заперты. Взорву эти — за ними вторые. Не успею… А взорву — ее взрывом точно убью. Все рассчитала…
Поднимаю вертолет в воздух, и на предельной скорости гоню к знакомой горке. Бегом поднимаюсь на вершину, выбираю ложбинку, ложусь, настраиваю бинокль. Технохутор как на ладони.
Шаттл появляется в расчетное время. Любой пилот сказал бы, что все идет как надо. Но внезапно машина клюет носом, падает на базальт полосы и скользит по нему долго-долго. Я уже начал надеяться, что все обойдется, когда машина вздулась огненным шаром. Стекла бинокля моментально потемнели, спасая глаза. Но и так видно, как над хутором вырастает неимоверных размеров гриб, как рушатся здания, как сминаются, словно бумажные, стены ангара вертолетов…
Минуты через две-три доходит ударная волна взрыва. На таком расстоянии она не страшна.
Радиации нет. Спин-генератор катера взрывается на субкритическом уровне. Несильный всплеск мягкого рентгена — и все. Если б взорвался генератор корабля, был бы полный набор — альфа, бэта, гамма, короткоживущие изотопы и прочая прелесть наведенного атомного взрыва. Гореть тоже особо нечему.
Связываюсь с кибермозгом корабля и даю отбой SOS-тревоге. Сажаю вертолет у ворот книгохранилища. Первые ворота вдавлены внутрь взрывом. Их даже открывать не нужно.
— Брысь, дай свет!
Бегу ко вторым воротам. Брысь, освещая дорогу, семенит следом. Ворота целы, и даже медленно открываются. Рискуя остаться без ушей, сую голову в щель. Флаттер вращает маховичок ручного привода.
— Фиеста!
Внутри горит только один тусклый зеленый светильник. По потолку и стене змеится трещина с ладонь шириной.
— Фиеста!!!
Теряя пуговицы, протискиваюсь в щель. Брысь пританцовывает с той стороны. Для него щель мала.
Она лежит лицом вниз у самой стены. Осколок бетона уходит в тело под правой лопаткой. Глаза медленно открываются.
— Случайность… — она заходится в кашле. Черная пена пузырится на губах. — Это просто случайность… Не кори себя…
Срываю с себя куртку, рву рубашку на длинные полосы. В зеленом свете кровь на полу — черная.
— Брысь! Аптечку из вертолета! Быстро!
Сказать кому — не поверят. Осколком бетона… Не плитой, не по голове… Не бывает острых осколков бетона! Это неправильно, нелепо. Курам на смех. Даже группы крови не знаю… И времени в обрез. Кораблю два витка до посадки.
— Не трогай осколок… Ускоришь… Легкое пробито…
Я лихорадочно шарю по карманам. Охотничий нож, перочинный нож, Леска, иголка с полуметром нитки. Мало. И шансов мало. Правое легкое, видимо, придется удалить. Я не хирург, чтоб зашить. «Не бойтесь крови» — говорил инструктор. «Возможно, вам придется оперировать себя». Тащу из заднего кармана фляжку и споласкиваю руки вишневой настойкой. В ней 70 % спирта.
— Иг… кх-кх-кх… Восстанови капсулу. Пусть потомкам…
— Молчи. Экономь силы перед операцией. Сейчас Брысь принесет аптечку, вколю заморозку и начнем.
— Не успеешь. Не отступай, Игнат. Доведи дело… Не говори девочкам про гены… егерей… Не надо им знать… Скажи Веде, чтоб молчала… Я…
С синхронным цокотом подбегают два кибера. Брысь протягивает раскрытый подсумок аптечки.
— Опоздали мы, ребята…
Закрываю ей глаза, поднимаю тело на руки, несу в вертолет. Отвезу на свой хутор, положу в холодильник. Сейчас некогда хоронить. Сейчас нужно встречать корабль. Как нелепо и глупо — в спину осколком бетона…
Все успел, все подготовил. Вертолет стоит на вершине пригорка. Отсюда отличный вид на море, и отличная радиовидимость всей траектории посадки. До восхода солнца четверть часа, до появления корабля в зоне радиовидимости 35 минут. Обхожу машину кругом, пинаю зачем-то колесо шасси и ложусь в жесткую, прибитую ветром траву. Жую изумрудную, горькую как полынь, сухую и твердую травинку. Полчаса… Можно расслабиться на тридцать минут. Смешно — глаза слипаются, а сердце частит с перебоями. Как я устал от этой планеты…
Чистый-чистый лежу я в наплывах рассветных, Перед самым рождением нового дня…(Врал поэт. День рождается, но одежда заскорузла от пота и крови)
Три сестры, три жены, три судьи милосердных Открывают последний кредит для меня.Просыпаюсь от мерзкого вяканья сирены.
Точно так завывала сирена общей тревоги корабля, когда за бортом нарастала Волна. Вскакиваю в кабину вертолета, отталкиваю Брыся и шлепком ладони по пульту отключаю будильник. Дурацкая была идея. Теперь руки трясутся. И предчувствие тяжелое…
Локатор вертолета уже засек входящий в верхние слои атмосферы корабль. Не пройдет и получаса, как решится судьба этого мира. На корабле банк генофонда. Здесь, на планете восемь сотен мунтов, восемь сотен организмов, готовых принять и выносить оплодотворенную яйцеклетку. Здесь семь сотен егерей, которые могут отобрать здоровых, половозрелых голышек, привести на хуторы для искусственного осеменения. И помочь растить детей. Здесь множество не до конца одичавших дегов. Здесь на складах несколько тысяч портативных хромосомных анализаторов. Строжайший генетический контроль, искусственное осеменение — и уже через два поколения мы получим жизнеспособную колонию с населением не менее пятидесяти тысяч человек. Искусственное осеменение и строжайший генетический контроль уже были в истории этой планеты. Дело погубила последняя волна колонистов. Я не изобретаю ничего нового. Я даю планете последний шанс.
Если сядет корабль. Если эта латаная-перелатаная консервная банка пятисотлетней выдержки сумеет приводниться в целости и сохранности.
Корабль уже входит в плотные слои атмосферы. Облако плазмы вокруг него исчезло, и я вновь могу принимать телеметрию. На удалении сто семьдесят отказали приводы рулевых поверхностей правого борта. Закрылки, элероны, правый киль — вне игры. Ничего, пока не смертельно. Передаю на борт команду подключить к управлению двигатели ориентации. Варварство, все равно, что гвозди микроскопом забивать, но экономить рабочее тело незачем. Это последний полет корабля.
Телепатию нужно сохранить. Сейчас все настроены против. Но пройдут годы, окрепнет разум на планете — и о ней вспомнят. Я должен создать и сохранить банк генофонда телепатов. Я посвящу этому жизнь… если старая жестянка сумеет сесть.
Удаление сто десять, высота семнадцать тысяч. Все по графику, за исключением нагрева корпуса. Жаростойкое покрытие отслаивается пластами. Не смертельно. Покрытие свое дело выполнило. Приказываю кибермозгу не экономить хладагент.
Удаление сто. Нарушение герметичности корпуса. Герметизировать все отсеки.
Удаление восемьдесят восемь. Сбои в системе охлаждения правого спин-генератора. Это серьезно! Все грешки по правому борту. Заглушить правый спин-генератор! Питание всех систем переключить на левый спин-генератор.
Две с половиной минуты… Чтоб заглушить спин-генератор корабля нужно две с половиной минуты. Все остальное неважно. Мелкие поломки — мелочи жизни. Но если рванет генератор, в небе расцветет удивительный цветок — хризантема. Цветок на могиле разума этой планеты. Две с половиной минуты…
— Продержись! — молю я. — Ради Звездочки, ради Тоби и Бонуса, ради Лианы и Фиесты продержись… Чтоб у книг Фиесты нашлись читатели. Она же на книги жизнь положила.
Две минуты.
— Ты не должен взорваться. Ты последняя надежда этой планеты. Надежда не должна умирать. Не может, не должно такого быть, что все зря. Все, что мы пережили, все, ради чего смерть, кровь и пот, ради чего я тяну эту лямку. Продержись две минуты — больше ничего не прошу…
Полторы минуты.
«Я — ваша Надежда», — говорила Вулканчик. Наша Надежда умерла первой. Мотаю головой, отгоняя воспоминание.
Продержись, сукин кот, хотя бы ради ее памяти.
Минута…
08.02.1999 — 06.01.2000
Лев Лобарев Свет отраженный
1
Меня не просто не приняли. Меня настоятельно попросили больше на приемную комиссию не приходить.
Я сидел на каменных широких перилах лестницы, под металлическими софитами, украшавшими вход в институт, и глубоко, с редкими всхлипами дышал. Не расплакаться я еще сумел, но вот сил куда-то идти и что-то предпринимать у меня не было. Мимо ходили абитуриенты, студенты, преподаватели, никто не обращал на меня внимания, а я думал, что мамин приезд все ближе и, пожалуй, мою жизнь можно считать законченной. Такого позора мама не простит, даже если я сам себя когда-нибудь прощу.
— Молодой человек, — сказал мне в конце концов главный из комиссии, уже выйдя со мной в коридор, — ведь есть столько хороших профессий, даже сейчас. Займитесь чем-нибудь другим. Все-таки к каждому делу нужна склонность, предрасположенность. А у вас совсем, ну совсем нет таланта…
Главный из комиссии помимо того, что много лет преподавал в институте, был худруком Малого академического и знал, о чем говорит.
Не знал он только одного: без сцены я не хотел жить.
Понимаю, звучит очень театрально. Но момент был не тот, чтобы, рассказывая о нем, следить за речью.
Постепенно начало вечереть. Воздух становился менее прозрачным, удлинялись тени. Одуряющий запах цветущей сирени сгущался в безветрии. Людей вокруг уже почти не было, и я тоже начал думать, что надо вставать и уходить. Совершенно не хотелось шевелиться, но сидеть здесь и дальше было бы совсем глупо…
И в этот момент на лестнице появился тот самый знаменитый худрук. Я увидел его, только когда он подошел почти вплотную.
Я не называю здесь его имени. Те, кто знает театральную кухню, уже поняли, о ком идет речь, а остальным его имя ничего не скажет, тем более что сейчас он живет в другой стране и занимается совсем другими делами.
— Молодой человек… — сказал он мне и замолчал.
Я встал перед ним и начал отряхивать штаны. Я не то чтобы робел, было слишком все равно, но ведь это был очень известный и уважаемый человек…
— Вы приходили к нам четырежды, — продолжил он наконец. Я кивнул, но он не ждал подтверждения. — Вы отказались переводить документы в другие вузы, несмотря на то что по баллам общеобразовательных дисциплин могли сделать это довольно легко. Вы так хотите играть?
Я снова кивнул, потому что сказать ничего не мог. В горле стоял тугой комок — но не слез, а какой-то странной решимости.
— Вы — сын?.. — И он назвал имя моей матери.
Я кивнул в третий раз и наконец разлепил губы:
— Она сейчас на гастролях…
Получилось тоненько и сипло. Уроки актерской речи тоже прошли впустую.
— Она знает, что вы пытаетесь поступить к нам?
— Нет. Она против. Она хочет, чтобы я стал экономистом.
— Если верить аттестату, ваш уровень знания математики это позволяет.
Я промолчал. Говорить было нечего.
— Знаете что, молодой человек…
Ну вот. Сейчас он объяснит мне, в знак уважения к таланту мамы потратив время на бездаря, что с моей стороны глупость и наглость даже мечтать о сцене, что на детях гениев природа отдыхает, что самое место мне в ассенизаторах…
— Я рискну дать вам один совет…
Я обреченно слушал.
— Ваше личное дело — последовать этому совету либо забыть о нем… Попробуйте зайти во вторник к Савешникову. Это кадровик Театра имени Сулержицкого. Скажите, что… Впрочем, ничего не надо говорить. — Он опять помолчал. — Это… Не панацея… Но если вы действительно настолько хотите играть… Ну, по крайней мере, если все получится, вы будете на сцене.
Он перестал мямлить и прямо посмотрел на меня.
— В общем, я бы на вашем месте непременно рискнул. Но то я. Так что смотрите. Думайте.
И ушел, не оглядываясь.
Думать тут было не о чем. Совершенно.
Формально Театр имени Сулержицкого был одним из многих небольших театров, возникших в последнее десятилетие на базе восстановленных Дворцов культуры. Какой-то завод над ним шефствовал, сколько-то утренников они давали по разнарядке… Но вечерние их спектакли вызывали раз от раза серьезный резонанс.
Они ставили один спектакль в месяц-два, давали его с десяток раз и снимали с репертуара. На больший масштаб не хватало ни людей, ни помещений. Денег, в общем, не хватало. Последними их постановками, о которых я слышал, были шекспировский «Кин Третий» и «Оправдание» Быкова, после которого театр едва не закрыли. Сейчас там шли молчановские «Похороны шута».
Днем в пустом зале репетировали следующую постановку. Называлась она просто и незамысловато: «Сказка для сына».
— Новенький, — буркнул в микрофон режиссер.
Динамики каркнули. И я вышел на сцену.
На совершенно негнущихся ногах я прошел туда, где на табуретке сидела молодая женщина, которую, как я уже знал, звали Антонина. Мне полагалось помнить, что это принцесса на троне. На репетициях для экономии времени и сил реквизит не разворачивали.
Я опустился на одно колено и поймал ободряющий взгляд карих глаз.
— Итак, сэр Роланд, — чуть хрипловато сказала Антонина, — согласны ли вы во имя моей любви вызвать на поединок сэра Эрика…
— Я рыцарь, ваше высочество… — выдавил я.
— Еще раз, — выплюнули динамики.
— Я рыцарь… ваше высочество… А…
— Еще раз.
— Ладно, — сказал режиссер, когда в постоянных повторах пятнадцатиминутной сцены прошло почти два часа. — Мизансцены и текст вы вроде запомнили… Поехали нормальный прогон.
Уставшие было артисты вокруг оживились и задвигались, занимая исходные места. Я, обреченно сжавшись, сидел возле кулисы и смотрел в сторону.
— Новенький, — позвал вдруг режиссер.
Я поднял глаза. В полумраке пустого зала было видно, что за пультом рядом с ним сидит Савешников, кадровик театра. Что он тут делает? Смотрел небось, как я позорился…
— Все запомнил? — спросил режиссер. — Выходишь во втором такте, после реплики канцлера.
Мне стало холодно, а потом, без паузы, очень жарко.
…Принцесса в ярости металась по зале, комкая в руках платок. Канцлер — худой старик с отечным лицом — следил за ней одними глазами, каменно возвышаясь в центре помещения.
— Интересы государства — превыше всего! — провозгласил он наконец. И твердо добавил: — Простите, ваше высочество.
Принцесса, замерев и вцепившись пальцами в изодранный кусочек тонкой ткани, слушала, как его шаги стихают в коридорах. Потом медленно вернулась к своему трону — меньшему из трех, стоявших в зале.
Позвонила в колокольчик. Кивнула вбежавшей фрейлине и стала ждать.
Мой выход.
…Бедная девочка совершенно потерялась в огромном пустом помещении. Одна и беззащитна она была здесь, одна и беззащитна она была во всей своей стране. В зале сквозняки, даже мне сразу стало довольно зябко. А ее кожа, наверное, совершенно заледенела.
Я опустился перед ней на одно колено и низко склонил голову.
— Итак, сэр Роланд, — звонко сказала она. Слишком звонко. Это звенели в голосе слезы, такие, которые невозможно высвободить. Из таких слез получается отчаяние и безнадежность. Из таких слез получается отвага и решимость.
Ее высочество подалась вперед, совсем близко. Меня обожгло ее дыханием.
— Согласны ли вы во имя моей любви вызвать сэра Эрика на поединок?
Я медленно поднялся.
— Я рыцарь, принцесса, — холодно сказал я, — а не наемный убийца.
Ее высочество дернулась, точно от пощечины.
В общей гримерке ровно гудели голоса. Я сидел в углу на коробках с костюмами и пребывал в полной прострации. У меня получилось! Я, конечно, не видел себя со стороны, но ведь известно, что игра актера зависит от его способности к перевоплощению, а тогда, на сцене, я чувствовал себя совершенно перевоплотившимся! Все-таки бессмысленные на первый взгляд «черновые прогоны» нашего режиссера дали великолепный результат! И вот им всем, учителям, репетиторам, экзаменаторам, которые в один голос твердили, что я не способен играть! Я буду играть! Господи, да неужели же это все взаправду?!
Надо мной склонилось лицо Антонины. Сейчас «юная принцесса» выглядела на хорошие тридцать.
— Молодец, — сказала она добрым голосом. — У тебя получилось с первого прогона. Это значит, ты очень пластичный.
Я счастливо кивал, не очень понимая, что она говорит.
— Савешникову с тобой повезло. И тебе с ним…
Она вгляделась в мое лицо и, видимо, догадалась, что я сейчас маловменяем.
— Ладно, до завтра… — хмыкнула она. — Коллега…
— Ну что ж, вы приняты, — сказал Савешников. — Экземпляр контракта вот, ознакомьтесь, завтра принесете заполненным. Репетиции ежедневно с двенадцати. В утренних спектаклях мы вас задействовать не будем. В «Сказке для сына» вы пойдете в запасном составе, но присутствие на репетициях обязательно. Нашего режиссера зовут Владимир Павлович Поных, начиная со следующей недели он будет заниматься с вами дополнительно один час каждые два дня. Оплата за эти занятия будет вычитаться с вас. Дома не репетируйте. Упражнения, которые можно делать самостоятельно, вам распишут на днях. Вопросы у вас есть?
Сейчас Савешников выглядел гораздо более усталым, чем днем, когда я робко протиснулся в его кабинет и назвал себя. Тогда он с каким-то радостным изумлением задрал вверх брови, переспросил фамилию и очень быстро отволок меня в гримерку, а потом в зал. Теперь же под глазами легли темные круги, а черты лица заострились. На столе стоял стакан с желтоватой жидкостью, и Савешников, морщась, периодически отпивал из него.
Я, улыбаясь до ушей, помотал головой:
— Нет у меня вопросов, Андрей Витальич. Спасибо вам огромное!..
Это странное и восхитительное ощущение: когда уходит страх. До этого дня я непрерывно боялся. Что не смогу, не вытяну, не сумею… Стану математиком, экономистом, ассенизатором — и буду смотреть на сцену только из зрительного зала.
Теперь я не боялся ничего.
Денег даже хватало, впрочем, плевать мне было на деньги. Каждый день к полудню я мчался в старый корпус ДК энергетиков на репетицию. Мама знала, что я устроился работать, а в подробности не вникала: ей достаточно было того, что я пообещал на следующий год поступать в универ. «Похороны шута» уже прошли, я смотрел его из комнаты осветителей. На моменте, когда Мэр-Смерть во фраке и цилиндре сблизил-таки ладони в аплодисменте, зал взорвался овацией. А в финале, когда могильщики нашли приготовленное ими чучело выброшенным за ограду кладбища, некоторые в зале плакали. Теперь шла «Сказка для сына». Ее зрители принимали заметно прохладнее, но все-таки пустых мест почти не было. Роланда там играл Миша Тяглов, играл замечательно. Его Роланд, ломающий собственные принципы, чтобы совершить правильный, по его мнению, поступок, вызывал одновременно и ненависть, и горячее сочувствие. А я уже репетировал роль дворового пса в новой постановке Поныха «Пьяница и волкодав».
— Но как, как, как ты мог променять свободу на эту тюрьму?! Это же так отвратительно — быть домашним псом!
— Понимаешь, старик… Если я не буду с ним, пусть даже как его домашний пес, он останется один…
Каждый день режиссер Владимир Палыч Поных, мрачный и вислоносый, раз по десять дрессировал нас в «черновых прогонах», не обращая внимания на качество игры и добиваясь только, чтобы мы заучили всю последовательность движений и реплик. А потом к нему присоединялся Савешников и начинался «чистовой прогон». Тогда я взмывал ввысь в совершенно невероятном приливе вдохновения, речь лилась сильно и верно, движения выходили точными, а выражение лица словно и в самом деле принадлежало моим героям. После таких удач хотелось летать.
«Чистовой прогон» делали один раз в день. Только перед генеральной репетицией «Пьяницы и волкодава» его решили провести дважды. Поных и Савешников почему-то очень волновались за спектакль. Но закончить не получилось. На середине второго прогона Поных вскочил и закричал, чтобы мы немедленно звонили «ноль-три»…
В общем, Савешникова увезли в больницу. Прямо с репетиции.
Назавтра мы собрались, как обычно, к полудню. Владимир Палыч, грустный и невыспавшийся, сказал, что врачи поставили Савешникову диагноз «крайнее нервное истощение» и уложили в стационар.
— Что будем делать, друзья мои?
Пожилой худой Малькин, игравший в «Похоронах шута» Мэра-Смерть, раздумчиво сказал:
— Ну что… Спектакль отменим, конечно… Утренники запустим в две смены, спрос есть, пока каникулы… А так — декорации подновим, ремонт по мелочи сделаем… Поворотный круг давно пора проверить… Я займусь, а молодежь наша мне поможет… Смету к завтрему составлю…
До того как прийти в театр, Малькин был прорабом.
Все согласно закивали, а я, как самый младший, не стал показывать своего изумления. Что за ерунда? Режиссер, что ли, заболел? Или ведущий актер с дублером вместе?
— Обрадовались, лентяи, — хрипло прозвучало от двери. Там, держась за косяк двумя руками, стоял, покачиваясь, Савешников. Выглядел он очень маленьким и хрупким.
— Андрей Витальич! — вскрикнула Антонина, — Вам же…
— По местам, — оборвал ее Савешников. — Поехали «черновые прогоны». В семь премьера.
2
«Новый спектакль… кажется, говорит о принципиальной невозможности согласия в стане так называемых „певцов свободы“… В большинстве своем это инфантильные маргиналы, чьих устремлений хватает лишь… В довольно сложной роли пса Жоры, который был другом главного героя, но так и не сумел оценить и простить его самопожертвования… счел такой шаг предательством идеалов свободы… очень хорошо выступил молодой актер Дмитрий П., новое поколение знаменитой театральной династии… К сожалению, в связи с болезнью художественного руководителя театра, время следующей постановки „Пьяницы и волкодава“ пока не объявляется…»
О скандале, который мне закатила мама, я рассказывать не хочу и не буду. Она потрясала «Театральным критиком» и орала хорошо поставленным голосом так, что дребезжал хрусталь в шкафу. Почему-то больше всего ее задевало, что я пошел именно в Театр имени Сулержицкого. Этим я якобы опозорил ее перед всей театральной общественностью. «Твой Савешников — шарлатан!» — кричала она мне. Я уже знал, что Андрей Витальич не только кадровик, но и худрук, так что, имея в виду Театр имени Сулержицкого, знатоки частенько говорили «театр Савешникова». Какие у них там были счеты в прошлом поколении, мне было совершенно не интересно. Савешников выпустил меня на сцену — и я был перед ним в неоплатном долгу.
Андрей Витальич лежал на больничной кровати, совершенно теряясь головой в огромной подушке. Среди персонала больницы оказались театралы, поэтому ухаживали за ним хорошо. Посещения разрешили всего несколько дней назад, и теперь рядом почти постоянно был кто-нибудь из наших. Сейчас где-то на этаже бегала Антонина, добывая у администрации разрешение перевести его на домашнее лечение, я примостился на табуретке у двери, а у изголовья больного сидел наш режиссер. Он в три слоя обложился бумагами и непрерывно гудел:
— Строить мизансцены по Обухову мне надоело, я попробовал сделать динамичнее, как у Лобанова, но это тоже не то… Если мы сегодня с тобой закончим экспликацию, то вечером я еще подумаю, но мне кажется, надо что-то новое, как мы еще не делали…
— Я понял, Вова. Давай третье действие с начала, — хрипловато перебил его Савешников.
Владимир Палыч кивнул и принялся что-то строчить в толстой тетрадке с надписью «Телефонный справочник. Трагедия-буфф langue poissarde в пяти действиях. Экспликация». Савешников молчал.
— Вымарки по второму действию принимаем? — спросил Поных, не отрываясь от тетрадки.
— Да, — почти шепотом ответил Савешников.
— Тогда так… И вот так… — И Владимир Палыч опять с головой ушел в текст.
Я с замиранием смотрел, как творят великие. Культовым режиссером Поных не становился исключительно потому, что все ниши для культовых были определены и распределены давно, и режиссеру мелкого театра там не было места. Но вот, например, читать лекции его приглашали регулярно. Правда, все больше за границу, что опять же делало ситуацию неоднозначной. Впрочем, Поных все равно всегда отказывался. Я не понимал почему.
Владимир Палыч вдруг замер и, подняв голову, внимательно посмотрел на Савешникова. Тот лежал, чуть приоткрыв рот и закрыв глаза.
— Андрей! — позвал Поных.
Савешников не отозвался. Я вскочил.
— Зови врача, — быстро сказал мне режиссер.
Я не успел выскочить из палаты, в дверях появилась Антонина, а за ней — медсестра. Нас вытолкали в коридор, Владимир Палыч сразу ушел, а мы с Антониной остались ждать. Она нервно курила одну за другой сигареты, хороня окурки в огромной кадке с пальмой. Я тихо ругался себе под нос на Владимира Палыча, который зачем-то приперся работать в палату к больному и за несколько часов снова довел его до обморока. Вдруг Антонина развернулась ко мне.
— Черт, ты же действительно ничего не знаешь. А я-то удивляюсь… Знаешь что, Дим, приезжай ко мне завтра. Я тебе объясню все…
Я не понимал, что такого мне нужно объяснять, но съездить в гости к Антонине был совершенно не прочь. На этом мы с ней и распрощались.
Я и раньше замечал, что вне сцены Антонина двигается и говорит совершенно иначе, чем на сцене. Об остальных, впрочем, можно было сказать то же самое. Сейчас это было особенно очевидно — в джинсах и футболке она сновала по кухне, то и дело задевая бедрами углы стола.
— Скажи мне, Дим, ты раньше где-нибудь играл?
Я отвлекся от рассматривания.
— Нет. Только пытался поступить в театральный…
— И как?
— Никак. Не взяли, на творческом конкурсе срезали.
— И тебя не насторожило, что у Савешникова ты заиграл сразу?
— Просто Поных режиссер от Бога…
Антонина села напротив меня и прямо посмотрела в лицо.
— Поных такой же режиссер, как мы с тобой актеры. Графоман без капли таланта.
Я от неожиданности замолчал. Как это, Поных — графоман? А потом осознал ее фразу целиком и наконец растерянно выдавил из себя:
— В смысле?..
И тогда она рассказала мне историю Театра имени Сулержицкого.
Впервые Савешников пришел в Госкомтеатр восемь лет назад. Его пустили на генеральную репетицию «Долгой жизни» Херманиса, где сразу же разразился скандал. Сути этого скандала никто не знает, известно только, что участвовала в нем сама великая Анна П., а Савешников в результате стал в театральном мире персоной нон-грата.
Савешников понял, что заходить надо с другой стороны. Второй раз он возник через несколько месяцев в качестве помрежа заводского самодеятельного театра при ДК энергетиков. Из которого за полгода, почти полностью сменив состав, сделал Театр имени Сулержицкого. Первым их спектаклем был «1985» Далоша — продолжение знаменитой оруэлловской антиутопии, — и это был фурор.
Власти мгновенно записали Савешникова в благонадежные, ибо так зло и талантливо высмеять «освободителей» надо было уметь. Не восстановили они еще старую школу цензуры. Диссиденты передавали друг другу видеозапись «1985» и восхищались смелостью критики режима. Савешников от попыток навязать спектаклю политический контекст открещивался изо всех сил и поставил следом две совершенно безобидных мелодрамы: «Крыши Парижа» и «Вечер для капитана». Режиссером последней выступил уже Владимир Поных.
Как Савешников его выкопал, было непонятно. До того момента врача областного ветеринарного центра Поныха знали (и считали наказанием божьим) в основном редакторы «толстых» журналов, в которых он годами обивал пороги. Его бездарность могла соперничать только с его же плодовитостью. Переквалифицировавшись в режиссеры, бывший графоман засиял: первая тройка поставленных им спектаклей (кроме «Капитана» там был «Москательщик на покое», а третий Антонина не помнила) вызвала ажиотаж.
Актерская команда собралась не сразу. Всем, кому мог, Савешников выписывал рекомендации на перевод в другие, лучшие театры. Оказывается, здесь, в Театре имени Сулержицкого, начинали пять лет назад Назаров, Скородчинский и Гольдина — сейчас они все играли в Чеховском. Еще с полдюжины «выкормышей» Савешникова, чьи имена я слышал, блистали по менее крупным сценам.
У себя он оставлял только тех, кому идти куда-либо было бесполезно. Это были люди, отчаянно и безнадежно влюбленные в театр. Безнадежно — потому что одной влюбленности мало. Нужен талант.
— Ты какую свою роль считаешь лучшей?
— Роланда, наверно.
— Помнишь хорошо?
— Конечно!
— Прочитай мне реплику к страже. Начисто.
— Нам же запретили репетировать самим…
— Ничего, один раз можно. Прочитай.
Я встал, чтобы открыть дыхание, и начал читать:
— Я не привык думать, что мне есть за что умирать, потому что, оставаясь живым, я могу принести больше добра…
И замолчал. Слова звучали картонно и неискренне. И чем старательнее я пытался интонировать, тем хуже получалось.
«Молодой человек, ведь есть столько хороших профессий, даже сейчас. Займитесь чем-нибудь другим. Все-таки к каждому делу нужна склонность, предрасположенность. А у вас совсем, ну совсем нет таланта…»
«Это не панацея, но если вы действительно настолько хотите играть… По крайней мере, если все получится, вы будете на сцене».
— Он — как кукловод. Представь себе тряпочного Арлекина ростом с твой локоть, который отчаянно хочет играть. Но не может — он бессилен, пока кто-нибудь не возьмется за ниточки. Савешников наполняет нас, когда мы выходим на сцену. И играет нами. А все, чем мы можем ему помочь, — до автоматизма вызубрить, куда идти и что говорить. Остальное он сделает за нас. Нет, не за нас. Для нас. Мы все мечтаем играть на сцене. И он дает нам эту возможность…
— Значит, я сам… — медленно выговорил я.
— Ты сам — полная бездарность, — сочувственно и безжалостно сказала Антонина. — Как и все мы. И я. И Малькин. И Тяглов. И Поных.
— И Поных?
— Конечно. Ты не понял, почему он работает, сидя возле Савешникова? Тот же механизм. Без Савешникова Поных не увидит ни одной мизансцены и не свяжет двух слов. Сам он может только дрессировать нас на «черновых прогонах».
Вот как! Значит, мы все… Кукловод! Невропаст хренов! Гапитник! Я думал, что это я, я сам, что я смог… Сумел… А он…
— Он обокрал меня, — сказал я, сжимая кулаки.
— Нет. — Антонина убежденно помотала головой. — Он сделал тебя богатым. Он вкладывает в нас всего себя. Каждый спектакль, каждую репетицию. И это обходится ему все дороже…
Самопожертвование «кукловода» не утешало. Я ушел от нее в бешенстве и отчаянии.
Мама вернулась через неделю. Обнаружив меня в обычном для последних дней виде — в трениках, лежащего поверх незастеленной кровати и с пультом телевизора в руке, — она всполошилась, отчего мгновенно сделалась необыкновенно суетливой и заботливой. Безошибочно воззвав к моему сыновнему долгу, брезгливости и возможным перспективам, она получила меня за обеденный стол выбритым и прилично одетым.
— Не расстраивайся, не расстраивайся, — ворковала она, подкладывая мне свежеслепленные тефтельки. — Лучше даже, что все это сейчас кончилось. Поработай ты с ним годика три, потом сам бы уже ничего не мог, мне психологи говорили…
— Ну откуда твои психологи знают, мам?
— От меня, я им рассказала…
— А ты откуда знаешь?
— Знаю, Димочка, знаю… Я вашего Савешникова уже почти десять лет знаю… Он со своими завиральными идеями сперва к нам пришел…
— Знаешь, мам… идеи, может, и завиральные, но вот я в его спектаклях играл. И у меня получалось.
Мама отмахнулась.
— Да ты слушай больше, что тебе его бездари напоют. И критики тоже… Обрадовались — ах, у примы наследничек вырос… Какая тема!.. А театр ваш все равно скоро закроют — Савешникова переведут куда-нибудь в администраторы, а театр закроют… Он ведь в неблагонадежных значится после «Оправдания». Сначала вроде пронесло, а теперь один господин из администрации на «Похороны шута» крепко обиделся… И правильно, потому что думать надо…
Вот как… Закроют… Ну и ладно, мне-то что. Я все равно оттуда уже ушел…
Я отодвинул тарелку и встал.
— Ладно, мам… Спасибо. Пойду полежу…
Лежать мне на самом деле не хотелось, а от телевизора я за эти дни уже отупел. Но сидеть и слушать ее тоже не хотелось. Просто Савешников это Савешников. А мама это мама.
А на следующее утро начался содом. Меня подняли звонком из секретариата универа. Им не хватало справки из поликлиники. Я спросонья пообещал принести, а потом сообразил, что ни в какой универ документы не отвозил. Тем более что уже шел сентябрь, до начала лекций оставались считаные дни.
— Ма-а-ам!
Естественно, это подсуетилась мама. Когда успела?! Она сообщила, что сейчас мне надо бежать за справкой, а после обеда придет репетитор…
Я возмутился. Впустую.
— Но теперь ты никак не завязан с работой и спокойно можешь начать учиться с этого года!..
Вот честное слово, ничего более надежного, чтобы я встал на дыбы, она даже придумать не могла. Ушел я, хлопнув дверью.
3
Я бродил по улицам долго, все пытаясь свыкнуться с мыслью о том, что надежды для меня нет. Буду кем-то другим. Все равно кем. Экономистом, менеджером… А может, стану театральным критиком. Буду писать: «С этой сложной ролью прекрасно справился Иван Иванов, молодой, подающий надежды актер…»
…Ноги сами вынесли меня к ДК энергетиков. Честное слово, сами. Рассудок в этом никакого участия не принимал.
— Вернулся? — поприветствовал меня Поных. — Молодец.
— Можно подумать, без меня бы не обошлись, — фыркнул я. — Нужен тут школяр-недоучка…
— Ага, — глухо ответил наш режиссер. — Ты — школяр-недоучка. А я ветеринар с идиотской фамилией. Все, пошел работать.
И я пошел работать.
Все собрались в первых рядах зала. Поных стоял перед нами, опершись лопатками на край сцены и насупленно гудел:
— Звонили… Настойчиво просили снять спектакль… Намекали, что заигрывания с политикой, которые сходили с рук Андрею, нам не сойдут… Я сказал, что посоветуюсь с коллективом…
Тем же голосом, которым когда-то говорил: «Спектакль, конечно, отменим», Малькин флегматично сказал:
— Играть, конечно, надо. Ничего не поделаешь…
— Как? — мрачно поинтересовался Миша Тяглов.
— Как сможем, — пожал плечами Малькин.
— А почему, собственно, надо? — высоко задрав подбородок поинтересовался Костя Кравец, игравший в последнем спектакле Пьяницу. — На черта нам такое счастье без Витальича?
— Да очень просто, Костенька, — ласково сказал Малькин. — Ты еще хоть раз на сцену выйти хочешь? Так это последняя возможность.
Кравец замолчал. Остальные тоже не пытались возражать.
Мне было проще, я-то уже почти привык к мысли, что для меня все кончено. Но не бросать же их в такой тяжелой ситуации…
— И еще, — добавил Поных. — Андрей нам всем… Ну понятно. Это самый важный для него спектакль. Он хотел сделать «Телефонный справочник» с самого начала. Теперь может не успеть. Мы должны… Ну понятно же, да?
Ему уже никто не ответил. Актеры молча расходились по местам.
«Черновые проходы» «Телефонного справочника» мы гоняли до полного автоматизма. Потом начиналась мука. Антонина, Кира Анатольевна, Малькин, Филипченко, Кравец, Тяглов и я под изнуренным взглядом Поныха пытались выжимать из себя хоть какое-то правдоподобие. Мы пытались играть. И было это чудовищно.
— Здесь можно раз в полвека расстреливать по десять миллионов, и все равно ничего не изменится…
— У каждого из нас есть имя в телефонной книге…
— А я так люблю запах акации…
Все реплики звучали одинаково фальшиво, независимо от того, кто и по какому поводу их произносил. А срок премьеры был все ближе.
Савешникова готовили к операции. Что-то там у него было связанное с работой сердечных клапанов. Поных и Антонина каждый день приносили известия, впрочем, довольно однообразные: состояние Савешникова не менялось. Но это был тот случай, когда отсутствие плохих новостей само по себе было хорошо. Мама со мной не разговаривала. Выяснилось, что я никудышный сын и крепко подвел ее после того, как она уже договорилась обо всем с ректоратом университета. Вопрос, что неплохо было бы договориться сперва со мной, я даже не поднимал.
Все остальные дела и проблемы я отложил на потом. Благо, до этого «потом» оставались уже считаные дни.
Однажды соседка сказала, что меня искал участковый. Я не удивился: Поных предупреждал, что возможна подобного рода нервотрепка. Просто проигнорировал эту новость. Все равно большую часть времени я проводил в театре, и поймать меня одного, отдельно от остальных актеров труппы, было почти нереально.
И наконец время кончилось.
— Ох, как же позориться не хочется… — с мукой протянул Миша Тяглов. Ему оказалось тяжелее всех: его персонаж должен был находиться на сцене почти постоянно без малого два часа. До прихода в театр Тяглов был лаборантом-почвоведом.
— На реакцию зрителей не смотрите, — наставлял нас Малькин. — Со сцены не уходите ни в коем случае. Что бы ни происходило, спектакль должен продолжаться.
Позориться действительно страшно не хотелось. Но как-то вариантов не было. На попятный идти поздно… Ну и ладно, что ж теперь. Два часа позора — дело не смертельное. По крайней мере, отрежу себе все пути на сцену. Чтобы потом, чем бы я ни занялся, не оставалось в голове поганой мыслишки, что «мог бы»… Точно буду знать: не мог бы. Тоже плюс. А то я себя знаю: всю жизнь бы нервы себе мотал…
Антонина то и дело бегала смотреть, как заполняется зал. Она-то и увидела первой суету в проходе. В сопровождении паникующего и оттого совершенно закаменевшего лицом Владимира Палыча к нам стремительно двигался Савешников.
Он был маленький и высохший, с седым ежиком волос над высоким лбом. Крылья заострившегося носа раздувались. Палка, на которую он опирался, казалось, выстукивала по полу сложный танцевальный ритм.
Я не могу передать охватившее нас в этот момент облегчение.
Играем! Играем!!!
Андрей Витальевич обводил нас взглядом блестящих глаз, дотягиваясь, приобнимал за плечи, говорил что-то ободряющее. Навстречу ему появлялись улыбки, у всех, даже у флегматичной Киры Анатольевны, даже у измученного ожиданием Тяглова.
Мы усадили его в пятом ряду, возле операторского пульта. Рядом устроился Поных. Операторы Леша и Слава возились один с пультом, второй с камерой и на начальство внимания не обращали.
— Не бойтесь, — как-то просительно сказал нам Савешников. — Все получится…
— Да мы и так-то не боялись, — улыбнулась ему Антонина. — А уж теперь…
Савешников выдавил ответную улыбку и слабым взмахом руки отправил нас в сторону сцены. Прозвенел второй звонок.
Мы в последний раз собрались вместе — небольшой толпой за кулисами, — что-то еще напоминали друг другу, желали удачи. Потом все разошлись по исходным местам.
Задребезжал третий звонок. И через несколько секунд я почувствовал, как светлой силой наливается все тело, дышать становится легко и свободно, а глаза начинают видеть все так ясно, словно до этого я таскал мутные очки.
Началось.
Я открывал спектакль. Я поднимался из зала на еще закрытую кулисами сцену и замирал спиной к зрителям. Осветители сработали великолепно: кулисы были все в черных ломаных тенях, казалось, сцену закрывает стена спутанного бурелома. Я чуть откидывал назад голову и начинал говорить:
— Бывают такие времена… такие исторические периоды… когда даже сказка о Золушке… да что я говорю, даже телефонный справочник за какой-нибудь тысяча девятьсот пятьдесят шестой год… не могут быть поставлены на сцене иначе, чем в современной интерпретации… Это сказал Дьердь Далош…
Я замолкал и задумывался, склонив голову на плечо. Потом я оборачивался к залу.
— Не могут? — переспрашивал я зал. — Неужели правда не могут?
Зрители молчали.
— А мы попробуем! — зло и весело обещал я им и прямо с края сцены прыгал в зал.
И быстро уходил по проходу. А за спиной с шорохом расходился занавес.
История, которую рассказывал Савешников, отчаянно пыталась остаться любовной мелодрамой. Красивой и доброй. Встреча нескольких человек произошла из-за телефонного справочника, в котором кто-то вырвал несколько страниц. Эти люди очень хотели просто и спокойно жить, дружить, работать, любить друг друга. Но ни черта у них не получалось. Бывают такие времена…
Однако они не сдавались. Там, где реальность требовала от них подлости и насилия, они действовали во вред себе, но не подчинялись ситуации. Где любой предал бы, героиня оставалась верной. Где любой убил бы, герой находил в себе силы прощать.
И все равно ни черта у них не выходило…
Моего персонажа забили «новые опричники» в конце третьей сцены. Дождавшись, пока с шорохом и поскрипыванием опустится занавес, я встал, показал остававшимся большой палец и, чтобы не мешать, быстренько ушел в гримерку. Переодевшись и умывшись, обошел зал, пригибаясь, добрался до пультовой секции. Еще с прохода было видно, что Поных сидит, сильно подавшись вперед, и, не отрываясь, смотрит на сцену, а Савешников, наоборот, откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. Наверное, он чувствовал себя очень усталым.
Я добрался до них, склонился к Андрею Витальевичу и зашептал:
— Все отлично идет! Я видел — в зале ни одного пустого места нет!
И тут ко мне развернулся Поных. Он выбросил вперед руку и вцепился мне в плечо железными пальцами.
— Сядь, — тихо и глухо сказал он. — Сядь и не мельтеши. Все. Он больше не слышит.
Я чуть не вскрикнул, сдержаться помогла боль в плече. Нахлынул холодный ужас.
— Почему не слышит?!
Поных всем корпусом развернулся ко мне. Несколько секунд помолчал, глядя в глаза, потом коротко дернул головой:
— Умер.
Рядом с Владимиром Павловичем возле самого пульта было свободное место. Я почти рухнул туда.
— Как?! Когда?!
— Почти сразу. Еще до твоего выхода.
— Но как же мы тогда… Мы же играли! Мы до сих пор играем!
— Я не знаю, как, Дмитрий… Знаю, что спектакль идет отлично. Не знаю.
Он опять подался вперед, уставившись на сцену, а я сжался, поверх его спины глядя на спокойное и неподвижное лицо нашего Савешникова. Так мы и сидели втроем, пока зал не взорвался оглушительными аплодисментами.
В гримерке было тихо. Все потерянно сидели на стульях и ящиках и совершенно не знали, что говорить и что делать. Врач объяснил, что был тромб, в больнице Савешникова собирались класть на шунтирование, но не успели.
На премьеру он просто сбежал. И волнения этого дня его доконали.
Через некоторое время я, к стыду своему, обнаружил, что думаю уже не о Савешникове. Неясность собственного будущего занимала мысли. Вот произошла встреча с чудом — но теперь чудо закончилось. Вопрос: закончилось совсем? Или если мы доиграли спектакль до конца, значит, сила Андрея Витальевича перешла к нам, и теперь каждый из нас обладает той или иной мерой настоящего таланта? А как это проверить? Еще раз выйти на сцену? А вдруг окажется, что чуда больше нет? Что тогда? Проклятый экономический факультет? Будущее театрального критика? И как теперь жить нормальной жизнью, зная, что бывают такие люди, как Савешников? Искать способы самому стать таким же? Заниматься какой-нибудь там… эзотерикой?
Еще вопрос: чем нам аукнется выпущенный спектакль. Если завертится… Не загребли бы меня в армию. Три года — срок большой. Если вообще вернусь…
Нет, не надо думать о плохом. Надо решиться: моя жизнь связана с театром. И точка. Остальное — подробности…
И я снова начал думать о Савешникове. Я представил, как он сидел там, в зале, один среди толпы, рядом с беспомощным Поныхом и понимал, что может не успеть. Как он, продолжая поддерживать нас, лихорадочно искал варианты…
Наверное, он так ничего и не придумал. Просто, когда стало совсем худо и он понял, что может отключиться в любой момент, он одним могучим рывком отдал нам всю свою силу, сколько ее еще оставалось. И этого хватило, чтобы мы по инерции смогли довести спектакль до конца.
И не надо рассчитывать на то, что теперь у меня есть талант. Не надо. Мы отыграли спектакль, и сила Савешникова ушла. Вместе с ним, вслед за ним.
Дверь запела, и в гримерку протиснулись трое в форме приставов.
— Ого, — тихонько сказал Малькин. — Быстро они…
Мы все зашевелились, но Поных уже встал и быстро пошел к дверям.
— Вы что, у входа ждали? — с мрачноватым юмором поинтересовался он. — Пойдемте ко мне, не будем мешать актерам… отдыхать…
Он вытеснил приставов наружу и вышел следом.
В этот момент Антонина подняла голову.
— Так что же значит, — потускневшим от слез голосом спросила она, — если Андрей Витальич умер… — Она всхлипнула. — Он же даже не видел, как мы играем? Он же… И значит, мы сами смогли сыграть?..
Это было настолько в такт моим недавним мыслям, что я чуть было не озвучил их в ответ. Но не успел.
— Да, — ответил Антонине Малькин. — Конечно, Тонечка, мы сами. Андрюша только подтолкнул нас. И теперь отпустил. Теперь мы… Теперь ты все можешь сама.
Я с ужасом подумал, каково будет Антонине обнаружить, что это неправда, и даже хотел было возразить. Но вместо этого почему-то только подтверждающе кивнул ей.


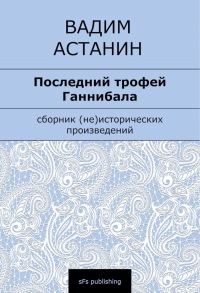


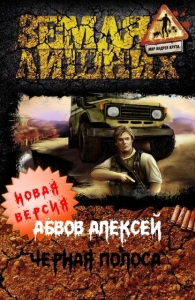


Комментарии к книге «FANтастика», Олег Игоревич Дивов
Всего 0 комментариев