Евгений Витковский ЧЕРТОВАР
— Звезда стражница, — сказал он, — звезда все видит, она видела, как Кавель Кавеля убил. Месяц увидал, да испугался, как християнская кровь брызнула, и сейчас спрятался, а звезда все над Кавелем плыла, Богу злодея показывала.
— Кавеля?
— Нет, Кавеля.
— Да ведь кто кого убил-то: Кавель Кавеля?
— Нет, Кавель Кавеля.
— Врешь, Кавель Кавеля.
Спор становился очень затруднительным, только было слышно «Кавель Кавеля», «нет, Кавель Кавеля».
Николай Лесков. На ножахМОЛЯСИНА (от ст. слав. «молити», т. е. молиться; ср. также мнение М. Фасмера о происх. от гл. «молсать», т. е. «грызть» загадку) — культовый предмет у мн. разновидностей секты кавелитов (см.), возникшей в России не поздней XVIII в. из православия (см.) и хлыстовства (см.). Простейшая, некультовая молясина известна также как богородская игрушка (см.), однако отличается от последней наличием круглой подставки, на которой с помощью стержня и чертовой жилы (см.) укреплена главная вращаемая во время радения (см.) планка с двумя установленными на ней фигурами. Простая молясина — две одинаковые фигурки, изображающие Кавелей (см.), поочередно наносящих друг другу удары по голове. Молящийся вращает планку и приводит в движение фигурки, произнося т. н. «кавелеву молитву»: «Кавель Кавеля любил, Кавель Кавеля убил», вводя себя в состояние религиозного экстаза. В просветлении он стремится достичь знания: Кавель убил Кавеля, или все-таки Кавель Кавеля. По поверию кавелитов, после обретения такого знания наступит Начало Света (см.). Известны усложненные молясины, выполненные народными мастерами из драгоценных металлов, камня, слоновой кости, редких пород дерева и т. д. В виде Кавелей бывают изображены люди, животные, птицы, насекомые и т. д. В еретических молясинах фигуры могут быть не идентичны, известны пары «зверь-птица», «кит-слон» и т. д. Молясины в России служат предметом широких народных промыслов. Лучшая в Соединенном Королевстве коллекция молясин принадлежит семье бывшего дипломата, сэра Джорджа Макдуфа (Глазго).
Британская Энциклопедия1
И вот опять попали мы в глушь, опять наткнулись на закоулок.
Зато какая глушь и какой закоулок!
Н. В. Гоголь. Мертвые души (часть вторая, первая редакция)На левом берегу Волги, начинаясь у слияния с рекой Шошей и кончаясь у впадения в Волгу реки со звучным названием Созь, пятьсот лет более-менее благополучно простояло малое Арясинское княжество. Потом, будучи превращено в уезд, потом в район и опять в уезд, оно благополучно простояло еще пятьсот лет с гаком, и если не процветали, то и не бедствовали его города: древний Арясин, Недославль, Городня, Упад и совсем заштатный городок Уезд, — то же и крупные села, и мелкие, и хутора.
Первое упоминание об Арясинском княжестве сохранилось не в летописях, но в письме митрополита Никифора к Владимиру Мономаху, датированном по привычному нам летоисчислению одна тысяча сто одиннадцатым годом. В письме митрополит сетовал, что его нерадивые холопы «в вере некрепки яко арясини». Впрочем, и археология, и предания утверждают, что Арясин лет на сто-двести старше, а то и поболе.
Весьма достоверной считает современная наука первую половину жития Св. Иакова Древлянина, окрестившего арясинцев. Объявился Иаков в тех местах лет через десять после известного крещения киевлян, что-то около тысячного года, и память этого святого ныне Державствующая Российская Воистину Православная Церковь отмечает по старому стилю 25-го апреля: примерно в этот день, по весеннему заморозку, сверг неистовый древлянин в Волгу местнопочитаемого идола Посвиста, бога восьми ветров. Потом святой загнал в Волгу мало что соображающих арясинцев и крестил их. Однако наутро народ, которому Иаков то ли по бедности, то ли по уж очень сильной святости не выставил выпивку, учинил бунт. Вынули из Волги идол Посвиста, украсили цветами, предались хороводу и блуду с медовухою, а Иакова Древлянина бросили с того обрыва, откуда прежде свергли Посвиста. Иаков, однако ж, не утоп, а только был покалечен: вынесло святого пятью верстами ниже по течению на отмель, там и остался Иаков стоять, и проповедовал тридцать лет и три года. Уцелел на Арясинщине в народной памяти не один Иаков, — в его честь у Волги воздвигли монастырь, — но и Посвист Окаянный: согласно поверью, на Осеннего Посвиста кукушка гнезда не вьет, девка косы не плетет и лыка не вяжет.
Страница истории, когда великим князем на Руси был Святополк II Изяславич, большая сволочь, хоть и внук Ярослава Мудрого, историками нелюбима. Между тем именно от кого-то из младших сыновей Святополка вели свой род князья Арясинские. Самая ранняя арясинская летопись, «Жидославлева», с неодобрением упоминает Святого Александра Невского за битву на Чудском озере: и положил-де князь своих ратников слишком много, и лицом-де был нехорош, и вообще всю битву-де с начала до конца придумал и вписал в летописи задним числом. Основания не любить Александра вообще-то возникли позже, когда его племянник, Михаил Ярославич Тверской, стал великим князем Всея Руси: согласно квитанции, выданной ханом в Золотой Орде и там же нотариально заверенной. Год шел по Р. Х. 1304-й, год тяжелый и бурный, «бысть буря велика в Ростовской волости», и немало беженцев из Ростова Великого запросилось на Арясинщину. Князь Изяслав Романович, прозванный «Изя Малоимущий», беглецам не совсем отказал, но велел селиться «с боку припеку»: по другую сторону Волги, на спорной земле, которую считали своей многие соседи. Поскольку дошли беженцы «до упаду», то и основанный ими город получил имя Упад, и стал форпостом южных рубежей Арясинского княжества.
Следующий год выдался опять плохой, и напал «мор на кони, и мыши жито поели, и глад был великий». Князь Михаил Ярославич Тверской крупно переругался в Орде с князем Московским Юрием Даниловичем, уехал домой в Тверь, узнал, что по темному делу там замочен его любимый боярин Акинф, и злость решил сорвать на Москве, благо та была ближе Орды и не в пример слабей — именно потому морду набить именно ей и следовало. Михаил собрал немалое, хотя голодное войско, и двинулся вниз по левому берегу Волги, несмотря на гадкую погоду и лишь недавно вставшие реки. Двигаясь таким путем, князь подступил под Арясин, где решил укрепить свое войско, призвав на помощь хоть и Малоимущего, но какого-никакого князя Изяслава.
Лагерем встал Михаил на берегу безымянного озера, которым разливалась тут река Ряшка, выше озера носившая имя Тощей, а ниже, при впадении в Волгу — Тучной. Было холодно, князь Михаил грелся с помощью закупаемых лично для него в Новгороде фряжских напитков, — войско же мерзло и тихо роптало. Князь послал к Изяславу гонца («Идем, брате, воевати Москов!»), но более умудренный жизнью арясинец послал с тем же гонцом не ответ, а вопрос же: «На кой тебе, княже?» Михаил швырнул опустевшую братину в рожу собственного холопа и заорал: «Покажу, на кой!»
И сошлись две рати на некрепком льду безымянного дотоле озера, и была битва, не то, чтоб великая, но, как говорили на Руси в конце XX века, результативная. Среди холопов князя Изяслава был баснословного роста кузнец Иван, человек уже немолодой, потерявший на медвежьей охоте ногу. Однако ж был он все-таки кузнец, притом хитроумный, потому отковал он себе железную ногу, и в народе был прозван Иван Копыто. Видать, именно под железной ногой Ивана лед проломился в первый раз, а уж потом его стали бить другие. Приключилось настоящее ледовое побоище, буквально весь лед на озере был побит. Увидав такие потери, мигом протрезвевший князь Михаил с остатками войска рванул на Москву; дальнейшие подробности этого похода сгорели вместе с архивами Мусина-Пушкина при Наполеоне, но, похоже, дело обернулось для тверичей нехорошо. Как пишет историк Сергей Соловьев, «после этого Юрий Московский стал стремиться к усилению своей волости, не разбирая средств». То же пишет и Николай Комарзин: «Одни города стояли за князя Тверского, иные за Московского. В других областях царило безначалие и неустройство», — понятно, в последней фразе прославленный ученый имел в виду прежде всего Арясинское княжество.
Хотя победой битву за озеро, получившее с той поры имя Накой, не назвал бы самый безумный историк, но простой арясинский люд воспринял ее именно так. Обросло легендами мужество князя Изяслава, даром что князь к озеру близко не подходил, ну, а кузнеца Ивана Копыто числили в народе местным святым. Улица, на которой стояла кузня утонувшего в битве Ивана, получила имя Копытовой; в особо страшную грозу осеняли себя арясинцы крестным знамением и шептали: «Иван копытом ударил». Почти семь столетий минуло с битвы за Накой, а и поныне таскали рыболовы со дна озера вместо красноперки либо чехони то подшлемник, то шестопер, то еще какую железину. Набожный арясинец читал про себя молитву, а потом бросал добычу в озеро со словами: «Возьми, Иван, свое добро обратно». Представлялся Иван арясинцам богатырем непомерной силы, на железной ноге, и больше всего боялся рыболов того, что однажды эту ногу вытащит. Бытовала легенда, что последний князь Арясинский, Василий Борисович, именно тем свою вотчину и сгубил, что мрежью ногу Иванову вынул; хоть и бросил ее, помолясь, в озеро, а все одно сгинул потом ни за грош.
В 1318 году князь Изяслав отправился в единственный в своей жизни военный поход, на Кашин, увяз в болоте Большой Оршинский Мох, с половиной войска и нервным тиком на глазу прибыл домой и по такому случаю велел возвести в Яковле-монастыре у Волги, на месте сожженного татарами деревянного храма — каменный, целый и поныне, хотя был в нем при советской власти то шелкопрядильный цех, то агитпункт по борьбе с колорадским непарным шелкопрядом. Вовсю боролись Тверь и Москва в те далекие годы за почетное звание «Третьего Рима», — Арясин на него не претендовал и вообще старался вести себя потише. В 1328 году князь Александр II Михайлович Тверской допустил до того, что его сограждане пришили личного ханского посла. С этого времени для Твери как для «Третьего Рима» было все кончено, однако ж не все было кончено для Арясина: от Твери его отделяли Волга и болота, а от Москвы — только Волга, да и то не совсем, потому что стоявший на правом берегу Упад ничьей власти над собой, кроме Арясинской, признавать не хотел, — ну, условно и татарской, но только до поры.
Тем временем князь Московский по имени Иван, достоверно, что уже тогда Данилович, но еще, кажется, не Калита (как прозван был позже) в одночасье подкопался сразу под всех князей, перенеся метрополию из Владимира в Москву; в сентябре того же года князь зачем-то посетил и Арясин, ночевал в Яковле-монастыре, остался доволен погребами — и во все его княжение арясинцев не притесняли. Шли годы, отнюдь не текли молоком и медом реки Арясинщины — Ряшка, Волга, Большая да Малая Созь, а также и затерянная в болотах речка Псевда; был в княжестве и глад, и мор, и выгорал город почти дочиста, и наводнением его топило чуть не по самые маковки церквей, и полярное сияние страх на людей наводило, а единожды явилась комета о семи хвостах, развалилась прямо над городом на четыре бесхвостых и пропала, по какому случаю изрекла игумения Агапития, что быть теперь Золотой Орде впусте, и не будут русские платить десятину татарам, а будет наоборот; ну, стало по слову ее, хоть и много позже.
В 1375 году князь Московский Дмитрий Иоаннович (тот, которому потом народ присвоил почетное воинское звание «Донской») пошел войной на Тверь; летописи утверждают, что присоединилось к нему в том походе девятнадцать князей. На самом деле князей было ровно двадцать, летописцы все как один забыли упомянуть Романа Григорьевича Арясинского, прозванного Непоспешным, — и с той поры великая обида на московских летописцев затаилась в арясинских сердцах. Пятью годами позже, к примеру, в битву на Куликово поле арясинское ополчение не вышло: сказалось больным. Москва не обиделась; про Арясин, по обыкновению, просто забыли.
Забыли про него и через сто лет, при Иоанне III Васильевиче, более известном как Иван Великий. Сожрав сперва Пермь, потом Новгород, в 1485 году Москва окончательно присоединила Тверь к своим владениям — исполняя дисциплинарное наказание за симпатии к Литве. Тверь сдалась без осады. Но двумя годами позже про недоприсодиненный Арясин все же вспомнили. Арясин и разговоров о войне не потерпел, но, очарованный мрачной харизматичностью Ивана, попросил оставить хотя бы номинальную должность своему князю Василию, — в память о том, как в битве за Накой все-таки вступились арясинцы за честь Москвы. Москва с высоты своего величия что-то пробормотала, и каждая сторона истолковала это бормотание в свою пользу.
В 1491 году Иван III велел удельным братьям прислать полки на помощь своему любимому союзнику, крымскому хану Менгли-гирею, с которым они много ранее того не оставили бревна на бревне от города Сарай-Берке, столицы Золотой Орды. Василий Арясинский войска не послал за неимением оного. Эту причину счел бы уважительной кто угодно, но не Москва. Когда Василий приехал в Москву извиняться, его сразу упекли в застенок, и больше ничего с тех пор о нем не известно; сколько ни копались историки в архивах, следов Василия не нашли. Поэтому считается — условно, конечно, — что окончательно потеряло княжество Арясинское независимость именно в 1491 году накануне открытия Америки и взятия Гранады. Кстати, именно поэтому в августе 1991 года весь Арясинский уезд отмечал пятисотлетие потери независимости, великий праздник для города, — весь уезд пил три недели без продыху, а когда похмелился и протрезвел, то известные события были все уже позади. Арясинцы похмелились еще раз и вернулись к трудовым будням.
Василий Арясинский сгинул молодым и бездетным; неведомо почему на арясинский престол веке в шестнадцатом претендовали отдаленные потомки князя Тверского Димитрия Михайловича «Грозные Очи», женатого на литовской княжне, но были это определенно самозванцы. Но и то правда, что никакой власти твердо стоять на Руси без самозванцев невозможно. Бог весть почему, прозвище скандального князя Димитрия перешло на две сторожевые башни, воздвигнутые у впадения Тучной Ряшки в Волгу, — но, если при князе Борисе Романовиче, затеявшем постройку башен, арясинцам еще было что сторожить, то после пропажи его сына в московском застенке стеречь Арясин сама же Москва обязана и оказалась. С этого времени превратился Арясин в обычный русский городок, каких не перечесть, и зажил памятью о прежней славе: об убитом в 1252 году у Переславля Залесского татарином Невруем воеводе Жидославе, коему посвящено обнаруженное Комарзиным «Слово о дружине Жидославлевой», сгоревшее, что известно вполне достоверно, в пожаре 1812 года без единой копии; о пресловутом кузнеце Иване Копыто, герое битвы за Накой; наконец, о боярине Федоре Калашникове, которого казнил Лжедимитрий I около 1605 года, — но боярин еще раньше успел изобрести свой знаменитый автомат. Пережил Арясин кое-как и царя Ивана Васильевича, и Смутное время, а в более поздние годы прославился своими приволжскими ярмарками. И, хотя порою торговые ряды выстраивались на шесть верст, от берега Волги вдоль Тучной Ряшки до главной площади города, получившей в незапамятные годы название Арясин Буян, сразу выявилось экономическое противоречие между природными жителями правобережного Упада и левобережного Яковлева монастыря. Монастырь хоть и был женский, но выгоду свою видел зорко.
Товары, шедшие из Москвы, либо же из Персиды, требовалось перевезти на левый берег, а дозволить бесплатный перевоз упадовцы, люди небогатые, никак не могли. Они устроили переправу, пристань коей со своей стороны обставили кабаками, и торговали в тех кабаках зелеными вином собственного курения. Так как лодка из Волги могла войти прямо в Ряшку и пристать к Арясину Буяну, дело для монахинь получалось куда как невыгодное. Игуменья помолилась и приняла меры.
В будущем году монастырь возвел на правом берегу Волги церковь Святого Иосафата, невдалеке же от нее поставил крепкую пристань для лодочников, при коей учинил семь белокаменных кабаков, вино же в них было и чище, и дешевле упадского. Всякий, выпивший в любом из этих кабаков семь чарок, да пожертвовавший что-нибудь на церковь Иосафата, пошлины за перевоз уже не платил, лишь обязывался торговать, не отходя от монастыря далее, чем на триста шагов. Шаги бывали разные, но все равно до города оставалось их еще много, и в два следующих года торговцев на Арясином Буяне заметно поубавилось. Упадовцы жаловались в Арясин и в Москву, но управы на монастырь, женский к тому же, там найти не смогли. Напротив, царские люди наезжали на упадовские кабаки, выпивали зелие, ломали лодки, а отсыпаться ложились под защитой монастырских стен. Упадовцы, ясно, сопротивлялись, непьющих купцов из Персиды подвозили прямо на Арясин Буян, да только много ли запросишь с непьющего? Пошли драки, и не сказать, что без смертоубийства.
Все жаловались на всех, а между тем гуляла что в тех кабаках, что в этих одна и та же голь, и никакие указы трех первых царей Романовых покою на ярмарке не споспешествовали. Ездили по жалобам — принимать меры — из Москвы то дьяки, то дворяне, получали натурой с каждой стороны, отбывали домой, а пьянка с дракой продолжалась. Наконец, уже в начале XVIII века, заявился на волжский берег собственной персоной государь Петр Алексеевич, прикидывающий, как сподручней проложить дорогу из Москвы на Синт-Питербюрх, увидел пьяное разорение по одну сторону реки, нестерпимые соблазны при женском монастыре по другую сторону реки, поскреб сперва в затылке, потом в казне, притом чужой, да не в одной, и принял великое по тем временам решение. Петр выдал деньги на строительство моста через Волгу — благо она в тех местах не больно-то широка.
Строили мост лениво, больше ста лет строили его арясинские начальники, лишенные допетровского чина воевод и тем огорченные со всеми русскими последствиями, которые бывают с человеком от огорчения. Когда прошла при государе Николае Павловиче железная дорога из Москвы в Петербург совсем стороной — так и вовсе постройку моста забросили, сославшись на то, что средства кончились. Однако полупостроенный мост повел себя необычно, чисто по-арясински: половина людей мост видела, и ветку одноколейки, проведенную на Арясин, эта половина тоже видела и веткой пользовалась; другая же половина, к счастью, меньшая, не видела ни моста, ни построек на левом берегу Волги, включая две полуразрушенные башни Грозные Очи и Яковль-монастырь. Электричка «Москва-Арясин», выходившая из Москвы с Николаевского вокзала ровно в шесть тридцать, запросто могла вместо условленного пункта назначения попасть в лежащее восточней на правом берегу Волги Конаково, бывшее Кузнецово, славное своими фарфорами и фаянсами. Арясинщина оборонялась от непрошеных гостей, словно ей только теперь их терпеть надоело: тысячу лет покатались сюда за так — и хватит.
Напротив, если изредка в поезде на Конаково сидел человек, угодный Арясину, то он незаметно для себя он переваливал через Полупостроенный мост и прибывал на скромный вокзал в Арясине, от которого к пристани на Буяне вела главная в городе Калашникова улица. На углу Жидославлевой возвышалась единственная в городе, но зато чистая гостиница «Накой», — в точности наискосок от нее размещалась мэрия, — прежде, конечно, горсовет. Рядом стоял гостиный двор, тоже отреставрированный, а дальше располагалась набережная.
В очень хорошую погоду можно было взять на Буяне лодку и покататься по озеру, пристать к островку с Иоанно-Предтеченской часовней, где архимандрит Амфилохий раз в год служил поминальную требу за упокой души Ивана Копыто, — хоть о его канонизации в Москве и слышать никто не хотел. В лавках было полно местных сувениров, среди которых на первом месте лежали прославленные арясинские кружева, — а в рюмочно-чарочных и косушечно-стопочных подавали, кроме прочего, крепко заваренный местный цикорий, лучший на всю Россию. Процветал на Арясинщине и еще один промысел, не совсем легальный; дело в том, что над бывшим княжеством часто гремели грозы. Грибы в лесах, как известно, растут от грома, а еще лучше от него растут «чертовы пальцы»; эти камешки-стрелы арясинские бабы давно стали собирать вместе с грибами, по-тихому продавали их офеням, а те относили в далекую Киммерию, где иметь на комоде шесть или двенадцать «громовников» всегда считалось признаком порядка и достатка.
Хлебов на Арясинщине спокон веков почти не сеяли, даже для винокурения и то всегда прикупать приходилось, в тех же Кимрах, например, до которых от Арясина было рукой подать. Половина пригодных под пашню земель была занята тутовником, из всех северных русских земель прижившимся только здесь. Едва ли не тысячу лет жили здесь тутовые посадки, защищенные, по слухам, сперва молитвою Святого Иакова Древлянина, а потом его же чудотворною иконою, которую бережно хранил Яковль-монастырь. Спокон веков заведенные, от деда к внуку передавались тут шелковарни, с давних пор были известны и шелкомотальные машины, быстро раскручивающие кокон на нитки, и любой арясинский первоклашка, едва научившись считать, уже знал, что на два с половиной фунта размотанного шелка требуется от десяти до шестнадцати свежих арясинских коконов. Впрочем, шелкопрядение давно считалось занятием для неумех, ибо кружевницам нужна готовая нить и не более. А на более — не хватало урожая арясинских тутовников. Но в гостеприимных домах здесь всегда подавали к чашечке свежезаваренного цикория вазочку с вареньем из плодов шелковицы, — перед тем на стол, понятно, стелилась арясинская, ручного кружева, салфетка.
Кружева Арясин творил в России лучшие, куда там вологодским. Самые драгоценнейшие уже более ста лет плела обширная, чуть не треть большого села Пожизненного обжившая семья Мачехиных. Кружева у Мачехиных были дорогие, цветные, и делились на три сорта: светло-палевые, будто легкий дым — «каспаровые»; желтые, блестящие, мало не как золото — «бальтазаровые»; наконец, черные, текучие, как ночная вода в Тощей Ряшке — «мельхиоровые». Названия те пришли от стародавних времен, говорят, их задолго до Никона вывел какой-то грамотей-начетчик из потаенной священной, но давно потерянной книги, именуемой в народе «Наитием Зазвонным». Приезжала, кстати, за тем «Наитием» большая экспедиция из Москвы, трижды попала в Конаково, а потом ученых людей за пустое катание на электричке лишили субсидий.
И еще много было тут церквей, притом даже шатровых, излюбленных нынешними митрополитами и светской властью, — а в последние годы строились все новые и новые: вслух о причине говорить побаивались, но все знали, что по некоторому поводу вывелись в бывшем княжестве и черти, и другие всевозможные бесы — даже те, что на переправе от Упада к монастырю безобразничали. Что, как, да из-за чего — было не совсем понятно, однако точно известно. Вместо чертей и бесов побаивались на Арясинщине человека, имя которого разве что шепотом, одними губами произносили — «Богдан».
И цикорий, и кружева, и вообще все, что не шло на Арясинщине к собственной потребе, выкупали у населения посредники, куда что потом девалось — все прекрасно знали, но тоже лишнего не болтали, а только губами вышептывали — «Киммерия». С тех пор, как вразумилась Россия и восстановила у себя правильного государя, хлеб и прочие удовольствия поставляла сюда Москва: у Арясина скапливались деньги от кружевного промысла и от цикорийного, чтоб расплатиться за все нужное, — и денег еще прибавилось в последние годы, когда ушли из приболотных сел цыгане, а поместился в этих селах никому до этого не ведомый Богдан. Все семь церквей ближайшего к тем местам села Суетного, вопреки запрету Амфилохия, дружно и ежедневно поминали в заздравных молитвах Богдана: и у Ильи-Пророка, и у Варвары-Мученицы и, что весьма неожиданно, в стоявшей на отлете одноглавой церковке с неудобным, хотя древним названием «Богородицы-что-у-Хлыстов». Амфилохий ежегодно о Великом Посте делал батюшкам внушение за такое нарушение и… отпускал грехи, епитимью налагая самую мягкую; сам-то он очень хорошо знал — кто такой Богдан Арнольдович Тертычный.
2
Вашу мать звали Елена Глинская?
Генри Каттнер. Механическое эго— Неправота неправых, и к тому же еще всяческая неправота. Ты будешь отмерзать или нет?
Вопрос повис в воздухе. Вынужденное безделье посреди недели тяготило. К тому же не давал покоя страх покушения: теперь, лишившись мощной защиты Имперской Федеральной Службы, он запросто мог превратиться из охотника в дичь. Его звали Кавель Адамович Глинский. И никак иначе.
Его звали так от рождения, и кто знает — не первым ли он был из числа тех, кого в лето пятьдесят какого-то позднего года окрестили на Смоленщине этим именем. Присланный из епархии новый батюшка, иерей Язон, водворившись в село Знатные Свахи Сыргородского уезда (тогда — района), очень сильно запил. Поп нарекал Кавелями всех младенцев мужского пола, продолжалось это долго, покуда под конец Петрова поста почтенный служитель культа не рухнул у церковной ограды в приступе белой горячки. Лишь когда очухался батюшка маленько, приступили к нему бабы, мамаши новорожденных Кавелей, с вопросом: что это за имя такое и где его в святцах искать. Батюшка раскрыл глаза и дал последнее в своей жизни объяснение: «Так ведь Кавель Кавеля убил же? Или нет? Убил? Убил! Вот… В честь и во славу великомученника Кавеля…» Больше ничего из батюшки не выжали, сыргородская «скорая», вызванная по прошлой беде еще месяц назад, наконец-то прибыла и увезла его в больницу, а там почтенный, по слухам, преставился самым тихим и скромным образом. Бабы с огорчением перекрестились и пошли нянчить шестнадцать орущих парней: все, как один, не исключая и пару близнецов, эти парни получили в крещении странное, расколовшее русскую землю имя — Кавель.
Село по множеству противоречивых соображений скоро расселили, будто коммунальную квартиру. Сперва собирались на его месте космодром строить, потом — водохранилище, еще думали под ним хоронить урановые отходы, а в итоге вселили в запустевшие избы турок-месхетинцев, от которых отплевалась Грузия. Свахинцы, более-менее великороссы, хотя с изрядным польско-белорусским подпалом, рассеялись по Руси. Юный Кавель Адамович Глинский удачно очутился в ближнем Подмосковье, в городке под названием Крапивна; еще в шестидесятые городок был насильственно включен в черту Москвы, но столичности от этого не приобрел, все равно ездить в него приходилось на поезде с Курского вокзала. Так и вырос Кавель Адамович провинциальным москвичом, для которого, несмотря на драгоценную прописку в столице, слова «поехать в Москву» означали простое: насущную еженедельную необходимость. «Все вкусное» в Крапивне было только оттуда, ибо в своих магазинах имелись преимущественно серые макароны, пластовый мармелад и плодово-ягодное вино.
Годы школьные, семидесятые, Кавель Адамович помнил смутно. Все десять лет просидел он за партой с одним и тем же мальчиком, которого звали Богдан Тертычный. Мальчик был смугл, низкоросл, коренаст, редковолос, к тому же молчалив, — словом, в товарищи годился мало, но Кавель тайно обожал соседа за то, что тот защищает его от обидного прозвища «Каша», как-то естественно возникавшего при попытке образовать уменьшительное от имени Кавель. За «кашу» Богдан, не говоря ни слова, шел прямо к обидчику и очень привычно, без единого слова выбрасывал вперед левую руку, после чего грандиозный фингал от челюсти до брови не заживал пять недель. Богдана боялась вся школа, от директора до истопника включительно. Богдан был прирожденным мстителем за себя и за своих, никогда не лез в драку первым, но всегда давал сдачи, — и очень мощно давал. Никогда не носил он пионерского галстука, тем более — комсомольского значка, никогда и никто не поставил его в угол и не выгнал за дверь. Но и другом он не был — никому. Соседа по парте защищал, видимо, потому, что считал ниже своего достоинства сидеть за одной партой с объектом издевательства.
Старшие братья обработанных Богданом остроумцев пытались отделать его, подловив по дороге домой, где угрюмый крепыш жил с матерью-медсестрой, — но все без пользы. Богдан выворачивался из-под брошенного в него кирпича, — через мгновение тот, кто рискнул кирпич бросить, лежал на дороге с множественными переломами, а Богдан уходил своей дорогой. По всем предметам были у него дежурные четверки, кроме поведения, тут Богдан требовал пятерку, и ее ставили. Пятерку по физике, однако, он получал не за страх, а за совесть, приборы слушались его, как рабы, лабораторные работы сходились до десятого знака после запятой. При всем при этом Богдан умел быть незаметным.
Только этот жутковатый защитник и оставил в душе Кавеля что-то вроде теплого чувства, ничего интересного больше школьные годы не принесли. После окончания школы Кавель Глинский почти потерял Богдана из виду, но кое-что о нем знал: в основном по каналам своей весьма привилегированной работы: Богдан бросил свой Бауманский, в армию не пошел принципиально, предпочел месяц психушки с получением несъемной «пятой» статьи, потом сошелся с женщиной старше себя на двенадцать лет и отбыл в деревню. Имелся и адрес, да много ли в адресе корысти?
Думая обо всем этом далеком, Кавель Адамович поднял полупудовую замороженную треску — и снова ударил ею о кухонный стол. С рыбины осыпалось немного льда, больше ничего не произошло, рыба была из морозильника — поддаваться усилиям безработного она не желала. Знала, наверное, эта подлая рыба, что никакой он больше не следователь Федеральной Службы по Особо Важным Религиозным Делам, а всего лишь рядовой следователь по особо тяжким преступлениям в эмведэ, проще — милиционер, мусор в прямом и переносном смысле, да и то пока что без кабинета, только в понедельник освободить место в конце коридора обещали. Знала, наверное, проклятая рыба, — Хемингуэя начиталась, не иначе, — и о том, что треску Кавель не любит и вообще готовить не умеет, знала рыба, что Кавеля в понедельник бросила жена, знала, что очень трудно становиться специалистом по несанкционированным убийствам после того, как почти пятнадцать лет ты проборолся с незарегистристрованными сектами, и очень успешно проборолся. А теперь следственный отдел у Службы ликвидировали, и остался бы Глинский у разбитого рыбьего корыта, кабы не лютая недостача следователей в простом эмведэ. Что поделаешь, когда больше ничего не умеешь?.. Пойдешь в мусора, в менты, если по научному называть эту профессию.
Разъедрить твою мать в золотую ступу, Федеральная Служба! Целый институт создали, чтобы узнать, откуда пошла на Руси ересь кавелитов. Пришли к выводу, что в девятнадцатом веке уже была, даже письменные и печатные свидетельства есть. Однако, согласно радиоуглеродному анализу старинных молясин, тех, что еще без чертовой жилы делались, время их изготовления можно датировать довольно точно: не позже восемнадцатого века, не раньше двенадцатого. Есть смутные свидетельства наличия молясин у хазар и половцев. А сами кавелиты считают, что спор их, великий вопрос, возник с той самой поры, когда… ну, Кавель Кавеля… Это все знают. А с каких все-таки пор? Бабушка на воде вилами надвое писала.
Если нижний круг из-под молясинной планки отнять, то выглядит она почти точно как богородская игрушка, только там мужик и медведь поочередно стучат по наковальне, а в молясинах наковальни нет, там стучит один мужик другого по голове, а потом наоборот. Считается, что одинаковые эти фигурки — Кавели. Берет кавелит молясину, раскручивает и начинает твердить: «Кавель Кавеля любил, Кавель Кавеля убил…» Через полчаса можно такого молящегося на операционный стол без наркоза класть и резать что хочешь, — скажем, два опыта на аппендиксе поставили — даже не кровило. Ничего, балда, не чувствует, шевелит червеобразным отростком и повторяет: «Кавель Кавеля любил…» Полный улёт, словом. Если б все кавелиты были такие, можно бы на них попросту плюнуть. Но ведь идет среди них вечная молва, что спор о Кавелях должен в России однажды разрешиться, вот только тогда и жизнь пойдет, после Начала Света. Ну, а пока что главное дело — побить оппонента.
Оппонентов же — тысячи разновидностей. Ныне давно отслуживший свою службу и расформированный Институт был до колик обрадован, найдя на втором курсе юридического факультета МГУ юношу по имени Кавель. Пьяный поп Язон наградил Глинского вместе с именем еще и будущей профессией, — парня тут же завербовали в младшие лаборанты. Тот думал, что ему работы по самое Начало Света хватит. Хватило бы, но Служба именно на сектах решила сэкономить. Ох, отрыгнется России такая экономия…
Треска не сдавалась и не поддавалась ни ножу, ни топорику. Рыба явно была упрямой кавелиткой, точно знавшей, что новую свою службу Глинский уже ненавидит почти так же, как любил прежнюю. В понедельник Глинский на эту новую работу впервые вышел, и сразу ему сунули дело об убийстве на платформе Тридцать третий километр. Дело гиблое, ни свидетелей, ни личности убитого, одинёшенький труп в отечественной одежде и с портфелем, а в том портфеле молясина, простая, типа «медведь-медведь». Что ж, «братцы-медвежатники» нынче имелись в любой деревне и в каждой подворотне, таких молясин Глинский и в коллекции не держал бы, кабы не стремление к полноте собрания. Новый начальник, подполковник с битыми змеями на погонах, приказал временно «работать дома», — что было нарушением всех законов, — но до поры Кавель Адамович решил будущего начальника преступником еще не считать. Он предполагал, что на новой его работе, как и везде, преступников окажется полным-полно. Прямо на столе начальника стояла запрещенная щеповская молясина, хозяин кабинета наивно выдавал ее за пепельницу, но Глинский был уникальным профи, не такими трюками мозги ему запудривать. Мысленно, к уже полученному делу об убийстве, Кавель Адамович завел еще и дело о преступном гнезде щеповцев, противопоставивших себя всему миру, заявляя: «Мы щепа единственно правильная, как лес порубили, так мы полетели! «Но это пока только в мыслях.
В портфеле убитого молясина типа «медведь-медведь» была очень изношенная, ее Глинский осмотрел тщательно. Надо полагать, если молясина и вправду принадлежала покойному, тот крутил ее целый день, медведи били друг друга молотами по башке, а «медвежатник» шептал: «Кавель Кавеля…» По опыту прежней работы Кавель Адамович знал, что «медвежатники» обычно люди сильные, чаще деревенские, и в радении способны взвинтить себя до такого состояния, что молясину разнесут, сами в припадке бухнутся, избу раскатают по бревну, невредима останется только чертова жила. Та, на которой круг вертится, фигурки движутся; порвать чертову жилу никому пока не удалось, хоть пирамиду Хеопса на нее подвесь, все цела будет. Сколько денег Федеральная служба извела, эту жилу пробуя порвать, сдуру связали жилой два самолета, приказали улететь в разные стороны. Ну, угробили самолеты, а чертова жила и теперь цела.
Ладно. Убитый, судя по приметам в деле, был из городских. Стало быть, мог оказаться как «медвежатником», так и «медведевцем», то есть принадлежать к небольшой секте, отколовшейся от «братцев-стреляных» прямо во время скандала в московском бюро радиостанции «Свобода». С нынешним документом Кавелю Адамовичу в чердачные лабиринты «Свободы» нечего было и соваться, да и с прежним было рискованно: возьмут между делом интервью, а потом, сволочи, выпустят в эфир в знаменитой программе «Раскол за неделю». Кавель Адамович оставил рыбину в покое, глянул на входную дверь и на дверь в кабинет, и сделал выбор в пользу последней. Отер пальцы о фартук и пошел к письменному столу. Больше идти было почти некуда, мебель из гостиной Клара вывезла подчистую, даже электропроводку — скрытую! — из стен вынула. А в кабинете у Кавеля, кроме письменного стола, дивана и стула, были только стеллажи с молясинами, по всем четырем стенам. За годы трудов Кавель насобирал их столько, что в первый же миг, как обнаружил бегство жены, подумал не о Кларе, а о том, что освободилось место для новой экспозиции, для стеллажей, можно будет якутскую коллекцию расставить, подлинные «комаринские» заправить под стекло с сигнализацией, как в музее. И лишь потом выползло из глубин рассудка мерзкое напоминание о том, что ему, Кавелю Адамовичу Глинскому, едва ли теперь предстоит скорое пополнение коллекции.
Ему теперь предстоит изо всех сил раскрывать несанкционированные убийства.
Никому больше не нужны его необъятные познания. Никто не запишется к нему на прием за три дня, чтобы узнать, «влобовская» молясина изъята в очередном «корабле», или, напротив, «полбовская». «Влобовцы», сторонники правильного (по их мнению) разрешения вопроса о том, как убил Кавель Кавеля — «что в лоб, что пo лбу» — считали, что Кавель Кавеля убил именно ударом «в лоб», и находились вне компетенции Глинского, ибо кое-как, нехотя, все же зарегистрировались на Малом Каретном, а легальными ведает отдел генерал-майора Старицкого, с этим — туда. Но вот если молясина «полбовская», ну, тогда это к нам, к майору Древляну, вот вам к нему записочка: это молясина страшная, придумал ее ересиарх Платон Правша, он по сей день сидит где-то в лесах и твердит, что варил Кавель полбу, — это каша такая, вообще-то пшеничная, но в секте используют вместо нее особый горный ячмень, — да и получил пo лбу. Ест Платон Правша эту кашу пять раз в день и все ждет, что мученического венца сподобится. Насчет венца наша организация пока не торопится, хотя как только поймает этого быстрого разумом Платона… Ну, это посетителю знать не положено. А майор Древлян и сам не отличит полбовскую от влобовской, у этих отметина на лбу вот такая, а у этих — вот этакая, и один только Глинский во всей Федеральной службе различает подобные тонкости.
А сейчас Кавель Адамович вновь был наедине с коллекцией. Он подошел к полке у окна, узкой, на такой в ряд больше двух молясин не поставишь. Но определил он сюда редкие, иной раз кровью добытые. Ох, как пришлось унижаться, какие бредни выдумывать, чтобы отнять у темного следователя-низовика подлинную слоноборскую молясину, — ведь ее, быть может, держал в руках, а если не держал, то наверняка благословил глава секты, сам Марий Молчальник! Глинский любовно снял молясину с полки. На слегка выщербленном диске, вырезанном из цельного спила мамонтового бивня, свободно вращалась планка, но фигуры на ней были необычные: на одной стороне робкий, поджавший хвост китенок, на другой — грозный, занесший длинным хоботом хрустальную кувалду слон; по молясине и сомнений быть не могло, что если кит да вдруг на слона налетит, то слон, и только слон, окажется победителем, беспощадно сборет врага. Таких молясин за всю службу видел Кавель Адамович только две; одну из них, к счастью, успешно присвоил.
Рядом с шедевром слоноборов, которые слоньим духом борют, размещалась менее редкая молясина китоборов, последователей знаменитого поэта и философа Ионы Врана. На ней слон был совсем маленький и хилый, зато кит — просто устрашающий. При вращении планки он грозно распахивал пасть и наскакивал на слона; ясно было, что в случае возможного налетания царя морей на грозу суши именно последнему уготована погибель. Таких молясин у Глинского было три, две стояли в ящике в прихожей, а на полку он отправил лучшую, такую красивую, что и впрямь можно было поверить в сказку о том, что лучшие молясины делают в неведомой миру Камаринской Киммерии, не обозначенной на картах и почти никому не видимой. В папках Глинского хранились записи молитвенных приговорок китоборов, но, увы, ни одной слоноборской: последние следы почитателей Слона терялись в городке Вяртсиля близ Ладоги, на всё еще строго засекреченном металлопрядильном заводе имени К. П. Коломийцева, официально производившем гвозди, неофициально — колючую проволоку. По очень левому, очень щедро оплаченному заказу Мария Молчальника там склепали настоящего водоходного слона. По слухам, все слоноборы в того слона вошли, затворились и ушагали в глубины Ладоги, дабы привести неправильно поставленный вопрос к общему знаменателю, найти в темноводных глубинах кита и — сбороть его.
Глинский криво улыбнулся. Кабы все так просто. Исполинский мозг Мария Молчальника не предусмотрел скорого ответного хода противника: твердые духом китовым китоборы удалились куда-то на восток, и опять же по слухам — стали строить там грандиозного сухопутного кита, на вёсельной, паровой и парусной тяге. Как достроют, так загрузятся в него, поедут, найдут слона — и навеки того сборют. Слишком уж буквально поняли обе секты неправильную кавелитскую загадку, решив привести двух великих зверей к одному знаменателю, сухопутному либо же водоходному. Звери поменялись стихиями, но… Кавеля Адамовича Глинского все эти дела по служебной линии теперь не касались. Он перевел взгляд на прочие редкости.
Топоровцы. Яростная ингерманландская секта, на всех перекрестках твердящая, что все люди — евреи, потому что произошли от коммунистов, а если наоборот — то это тоже архиверная точка зрения, следовательно не иначе как при помощи топора Кавель убил Кавеля. Оттого, что в их молясинах использовались вместо молотов тяжкие топоры, эти их молитвенные мельницы (так иной раз называли молясину восточные миссионеры, члены Общества Потери Сознания, члены «Вишну-Ё» и прочие) разлетались после недели или двух, проведенных в радениях. В коллекции Глинского молясина была новенькая, снятая с тела отстреливавшегося сектанта в одна тысяча девятьсот девяносто… Боже мой, как время-то бежит.
Рядом стояло истинное резное чудо: костромская молясина кавелитов-колесовцев, веривших, что Кавель Кавеля не иначе задавил колесом, притом древнекостромским, колесо-то, как все знают, под Костромой-то и выдумано. Вывернутая как латинское «эс» молясина этот факт наглядно демонстрировала. Кавели-бояре стояли на двухколесных повозках, и падали один к ногам другого поочередно, дабы шея каждого была переехана, дабы каждый встал, дабы все началось по новой. Изделие было дорогое и ювелирное. Глинский бывшего владельца молясины сам допрашивал и на суде был свидетелем, ничего, дали что-то условно, а больше он не попадался. Молясина была почти не изношена, колесовцы кровное добро неизменно берегли и портить не позволяли. Но недавно колесовцы зарегистрировались в Малом Каретном — и перешли в ведение Старицкого.
Жаль, ведь и его по штату сократили. Кажется, пошел служить вахтером в офис Вероники Морганы, верховной кавелитки России, давно заявившей, что еще в утробе матери знала она: Кавель Кавеля убила, а не наоборот. Разъяснений у нее не спросили, сдуру зарегистрировали в Малом Каретном, вот и арендовала она офис в помещении бывшей кулинарии гостиницы «София» на Триумфальной площади, сроком на девятьсот девяносто девять лет. В том же здании, только на чердаке, засели малозначительные «полевые», интересные только ненавистью своего курбаши Наума Бафометова к донельзя законспирированным «лесным братьям»: те ушли в глубокое подполье, скрываясь во всякой зелени — в том числе и среди зеленых столов богатых казино. «Лесная» молясина у Глинского тоже была, правда, ветхая. На ней Кавели играли в карты: каждый держал в одной руке бубнового туза, в другой — канделябр; при помощи последнего смертельные удары и наносились. Но молясина, увы, была ветхая.
Глинский вздохнул снова. Если б все были такими безвредными, как эти лесные, ничего, кроме академического интереса, он бы, следователь, ни к каким кавелитам не испытывал бы. Тихими были «ноевцы», следившие за тем, чтобы число членов секты не перевалило за восемь человек, по числу некогда бывших в ковчеге. Даже и «антиноевцы», которых интересовал только Всемирный Потоп как способ эстетического и весьма порнографичного самоутопления: среди них попадались вообще-то почти одни престарелые дамы. К тихим относились кочующие, очень многочисленные «журавлиты», их перелетная молясина тоже имелась у Глинского, и накрепко была она прикручена к стеллажу проволокой, ибо улететь могла в любое время года. За столетия — сотни, тысячи молясин разных толков накопила Россия, и лишь немногие Кавель Адамович никогда не держал в руках. Была у него в коллекции и молясина «корабля» Кавеля Истинного. Именно из-за этой страшной секты Кавель Адамович, лишившись работы, чувствовал себя неуютно. Ибо Кавеля Адамовича звали Кавель.
А боялся он теперь другого человека, которого тоже звали Кавель Адамович Глинский. Еще одного из шестнадцати Кавелей, обреченных на вечное изумление паспортисток алкоголизмом давно покойного попа Язона. По слухам, он был последним из шестнадцати парней. Глинских в селе была добрая половина, и Адамы тоже встречались, так что если Кавель Кавелю и приходился родственником, то не ближе пятого-шестого колена. Однако «младший» Кавель выбрал для себя очень неординарную стезю. В те годы, когда будущий следователь маялся на юридическом факультете и зубрил основы латыни, Кавель-младший удалился в вологодские леса, в чащобы и трущобы, где собрал вокруг себя людей, наименовавшихся Истинными Питомцами Кавеля Истинного: иначе и не могли называть себя люди, душами и телами которых правил самый настоящий Кавель, даже по паспорту — Кавель. И для этих людей древний вопрос о том, Кавель Кавеля либо наоборот, действительно был разрешим. Найдет Кавель Кавеля, убьет Кавель Кавеля, вопрос сам собой решится, немедля наступит вожделенное Начало Света.
Первой жертвой секты стал в тогдашнем Ленинграде Кавель Николаевич Беззубов, ничего худого от жизни не ждавший выпускник института физкультуры. Его, преподавателя какой-то там более чем средней атлетики, схватили ученики прямо на тренировке, связали эспандерами, доставили на руках в штаб-трущобу Глинского, в лесную и овражную глушь, и там ересиарх торжественно принес своего незадачливого тезку в жертву. Ничего не случилось, не настало Начало Света, да и власть вполне устояла. Кавель-ересиарх тоже вывернулся, объяснил, что Кавель этот — не окончательный Кавель, поскольку не Глинский, стало быть, не от глины взят — и уж особенно если он не сын Адама, что ясно по отчеству. Теперь многочисленные Кавели Федоровы и Журавлевы могли спать относительно спокойно, хотя, конечно, иным хищным Кавелям в жертву мог сгодиться любой. Всего же Кавелей Глинских существовало только четверо, считая ересиарха, но один из оставшихся имел неуместное для россиянина отчество Казимирович, — да еще был он виртуозом аккустической гитары и вечно пропадал на гастролях. Таким образом, единственным Кавелем Адамовичем Глинским, кроме недоступного для изуверов следователя Федеральной Службы, был троюродный брат ересиарха, его полный омоним. За жизнь этого Кавеля очень боялась жена, видный человек в псковском губкоме, контролер тамошний, она заставила мужа сменить фамилию на свою, стал он Федоровым, — но имени, увы, сменить не успел: он был украден во Пскове из приемной родной жены и немедленно попал на трущобный вологодский алтарь.
Федеральная Служба чисто случайно арестовала одного из Истинных, проведала подробности человеческого жертвоприношения и встревожилась не на шутку: после гибели Федорова-Глинского осталась сиротой девочка Юлиана, еще в младенчестве проявившая себя как вундеркинд с редчайшими данными авиаконструктора, притом специализировалось дитя в области тяжелых пикирующих истребителей-бомбардировщиков. Девочку забрали из яслей и засекретили, однако засекретишь ли тяжелый пикирующий истребитель Федюк-25, нынче уже взятый русской армией на вооружение? Но Истинных, кажется, юная Юлиана Кавелевна не интересовала. Начало Света все медлило, престиж ересиарха трещал по швам.
Он решил свои дела одним махом: устроил «ночь дубовых вил» и принес в жертву всех в секте, кто роптал на недостаточно скорое продвижение к Началу Света. А следом устроил охоту за очередным Кавелем. Им чуть не стал Кавель Модестович Журавлев, уроженец того же года, того же села, еще одна жертва попа Язона.
Этот Кавель заинтересовал Истинных потому, что сам подался в кавелиты, сам основал собственный толк, или, как чаще говорили, «корабль». Поразмыслив над знаменитой дилеммой и над собственной фамилией, уединился Кавель Журавлев на заброшенном хуторе Брынин Колодец под Вязниками Владимирской губернии и за три года упорных трудов сконструровал перелетную молясину. Именно белый перелетный журавль, стерх, стал основой учения «журавлевцев», именующих себя также и «стерховцами». На их молясине два белых, выточенных из моржовой кости журавля, с неимоверной лаской тюкали друг друга по клюву и все время норовили взлететь. «Кавель Кавеля любил, Кавеля Кавеля… долбил!» — с придыханием бормотали стерховцы на своих радениях. Раз в год, якобы по заповеданию священной книги «Наитие Зазвонное», такие молясины отпускались на свободу, на их место закупались новые, а старые улетали зимовать не то в Южной Индии, не то на Тапробане, она же Цейлон и Шри Ланка; случалось, что весной молясины прилетали обратно. На этот случай, по установлениям Кавеля (Журавлева, понятное дело), нарекшего себя Навигатором, весь «корабль» должен был заранее переселиться, ибо «негоже старого журавля в руки брать». Якобы «перо стерха за тысячу верст» — или «за тысячу ли» — еще в древнем Китае было символом выговора с занесением в личное дело, вот такое перо им однажды уже досталось, — поэтому все журавлевцы были резко настроены против китайцев.
При кочевом образе жизни журавлевцев разыскать таковых Истинным оказалось непросто. В Брынином Колодце их давно след простыл, и лишь гнездовья вернувшихся молясин отмечали места прежних стоянок в Передосадове, Почепе, Новоназываевске и Смердыни; в городе Мухояре на улице Неизвестного Ударника, дом три дробь а, Истинные напоролись на засаду и, как говорится, пришедши по шерсть, ушли стрижеными. Федеральная Служба неделю фрагменты тел сортировала, цельные тела сектанты успели унести. Но после того боя Кавель-ересиарх от журавлевцев отступился, ибо не хотел, чтобы Кавель Журавлев пришил его самого: может, и наступит тогда вожделенное Начало Света, но Глинского-нелегала это не устраивало. Он занялся поиском остальных Кавелей, сумел прикончить единственную среди них пару близнецов, но теперь их старший брат, Тимофей Лабуда, поклялся отомстить Истинным (по профессии он был киллером, к тому же очень дорогим), и гонялся за ними так, как никакая Федеральная Служба не умела, — да и вообще она подобного садизма сроду не санкционировала, толку-то от него — чуть. Кавелю Адамовичу вспоминать не хотелось все эти костяные пепельницы и подозрительные струны, которыми отмечал свой путь вышедший на тропу войны киллер. На его арест был выдан ордер, но всех вольных станичников на Руси не переловишь, очень уж она, матушка, большая. Да и трудно было искоренить обычай кровной мести, исконный в родном селе, в Знатных Свахах: очень уж горячая кровь текла в жилах уроженцев этого села, говорят, при каком-то прежнем царе целую зиму черкесский полк там был на постое. Так что Кавель-ересиарх сам был и охотником, и дичью одновременно.
Однако в похожем положении оказался теперь и Кавель-следователь, хотя из охотников-то его как раз выперли. Жаль. «Истинные», конечно, были самой запрещенной из запрещенных сект. Россия нынче претендовала на звание очень цивилизованной страны и человеческие жертвоприношения в ней были анафематствованы специальной статьей уголовного кодекса и высочайшим указом аж о семи пунктах. Хоть какая-то защита для тех, кто государству ценен. Кавель Адамович с грустью посмотрел на клавишу вызова экстренной помощи: провода, ведшие к ней, Клара тоже отрезала. «Подалась в кавелиты? Или в кавелитки?» — равнодушно подумал Глинский. Ничего в таком предположении не было странного, Клара десять лет была замужем за человеком по имени Кавель. К молясинной коллекции она как будто была равнодушна, знала, что продать эти сокровища почти невозможно, даже пытаться опасно, ибо за каждым экспонатом тут стояла чья-то жизнь, минимум — чья-то свобода. Клара считала, что ни одной молясины Кавель никогда не купил (почти так оно и было). Кто бы продал? У сектантов своё — только для своих.
А все-таки с трупом на Тридцать третьем километре нужно что-то делать, в понедельник начальник-щеповец кабинет предоставит и сразу результатов захочет, знаем мы начальство. Глинский с тоской присел к письменному столу, с тоской отодвинул бесполезный компьютер и развязал тесемки на тоненькой папке. Протокол железнодорожной полиции, акт вскрытия, квитанция из морга, конверт с фотографиями. В него, получая дело на руки, свежеиспеченный специалист по несанкционированным, а потому нераскрываемым убийствам до сих пор не заглянул. Глинский вынул из конверта четыре фотографии, разложил перед собой и в первую минуту ничего не понял. Во вторую минуту не поверил глазам своим, в третью — поверил. Ничего себе — скучная работа. Ничего себе — «без особых примет».
Сфотографированный покойник был негром.
В неграх Кавель разбирался не очень, все-таки негр — не молясина. Однако его познаний хватало на то, чтобы отличить западноафриканский, он же североамериканский тип лица — от типа лица негра с восточного побережья Африки или с юга. Убитый был вылитый «сэчмо», то есть Армстронг (не космонавт, а джазист) в молодости. «Интересно, какие молясины употребляли у него в оркестре?..» — подумал Глинский о привычном. И понял, что подполковник-щеповец, кажется, не просто так подсунул ему дело с Тридцать третьего километра. Все-таки не при каждом неопознанном негритянском трупе имеется молясина. Или при каждом?
Негр, согласно экспертизе, был убит ударом тяжелого плоского предмета по черепу, прямо сверху. По предположению эксперта, убитый наклонился, закуривая, — хотя никаких сигарет, никакой трубки и вообще следов того, что негр был курильщиком, не имелось. Глинский, увы, знал, где и кто бьет именно так, сверху: так бьют Кавели кувалдами друг друга на самых простых молясинах. Неужто это опять убийство Кавеля? Имя это, насколько удалось проверить Глинскому, все-таки не давалось живым людям нигде, кроме села Знатные Свахи, да и то лишь попом Язоном накануне белой горячки, — а негров в родном селе, сколько помнил следователь, не было. Пришлый Кавель? Первый случай.
Орудие убийства, проломившее всю верхнюю часть черепа, понятно, отсутствовало. Глинский поежился. Именно так был убит Кавель Федоров-Глинский, отец вундеркиндши-авиаконструкторши. Шестипудовым молотом по черепу. Лично Кавель-ересиарх удар и нанес — в тогдашнем гнезде Истинных, в Старой Пузе на реке Юг возле Великого Устюга, как следствие показало. Жаль, тогда, когда Истинные из Старой Пузы рванули когти под Воронеж, не заложил их никто. Потом они много еще куда бежали: в Лало-Лельске Мордовской губернии полкорабля Федеральная Служба из гранатометов положила, в Хренце возле Холмогор Истинные сами федералам засаду устроили, выскочили из подпола с примкнутыми деревянными вилами и под клич: «За родину! За Кавеля!» — пошли в атаку. Тоже их там хорошо положили, но опять и ересиарх, и ближние его подручные все ушли, и отыскались их следы только после очередного жертвоприношения, — ухлопали Истинные тогда по ошибке государева человека в Подмосковье, но всех не охранишь, Вильгельм этот сам был из блюдущих, гербы досматривал у выездных дворян. Государь гневаться изволил, но недолго, ибо нашлись доказательства того, что был оный Вильгельм давним агентом мирового диалектического материализма. Слишком велика Россия даже для Федеральной Службы, погоня за Истинными становилась похожа на игру в шашки, — однако не на русской доске восемь на восемь клеток, а на такой, число клеток которой равно числу «эн», а хрен его знает, какое это число.
Итак. Налицо удар по голове на манер Истинных, медведевская молясина, отсутствие документов и негритянское происхождение. Глинский прикинул, что раньше он и с половиной таких улик успешно выходил на след очередного противозаконного корабля, припирал корабельщиков к стенке и… всего лишь принуждал зарегистрироваться, а дальше пусть у Старицкого голова болит. Интересно, у кого сильней болит голова: у генерал-майора, когда но становится вахтером, или у Кавеля, когда он мучится над убиенным негром? У Вероники Морганы, к которой пошел трудиться Старицкий, в офисе одни бабы. Зато вахтер у нее — генерал-майор. Престижно.
Заскулил телефон, и тут же прозвучал резкий звонок в дверь. Глинский такие ситуации ненавидел, но решил, что за дверью подождут полминуты.
— Слушаю, — выдохнул он в трубку.
— Кавель Адамович? — спросил мужской голос с неуловимым провинциальным акцентом.
— Я вас слушаю, — повторил Глинский.
— Кавель Адамович, если вам будут звонить в дверь, ни в коем случае не открывайте…
— Уже звонят!
— Ни в коем случае! Скажите, есть кто-нибудь, кто мог бы вам помочь… не по службе, а лично, так сказать? У меня нет времени, у вас его тоже нет. Я могу только передать кому-нибудь ваши слова, кого-то вызвать, дать телеграмму — но только если это человек сильный, способный вас защитить…
В прихожей раздался выстрел. Кавель оглянулся. Судя по щелчку о плинтус и брызнувшие щепки, стреляли не в дверь, а под нее. Кавель соображал быстро: видимо, опасность была серьезной.
— Запоминайте! — выпалил Глинский. — Тверская губерния. Арясинский район. Село Выползово. Тертычному Богдану. Текст. Спаси если помнишь. Каша тэ-че-ка…
— Немедленно шлю! — сказал голос, и прозвучали гудки отбоя. Кавель достал служебный «бош», шестьдесят четыре выстрела в минуту на автоматическом режиме, семь первых рассматриваются как предупредительные, самое то что надо для перестрелки в квартире, по заверениям инструктора, во всяком случае. Но Кавель боялся, что сейчас это мало поможет, и не зря боялся: до автоматического режима дело не дошло. Дверь открылась, и прямо в лицо следователю ударила сильная струя; уже теряя сознание, он заметил, что жидкость — коричневая, резко пахнет мылом и недорогим армянским коньяком, ныне известным как бренди «Вечерний». Огнетушитель они, что ли, такой гадостью зарядили? — еще успел подумать Кавель, захлебываясь. Он потерял равновесие, закашлялся; из коридора вылетела сеть, опутавшая его с ног до головы, а через миг кто-то непомерно проворный уже заклеивал Глинскому рот и уши пластырем. Глинский сквозь коньячный дух и мыло успел заметить, как омерзительно возник другой запах, приторно-сладкий, и сознание покинуло Кавеля на той мысли, что теперь, когда его убьют, всю уникальную коллекцию молясин уничтожит первый же изувер: найдет свою, порадеет, приберет, а остальные спалит, растопчет, поломает, — дальше были только тьма и тишина.
В комнату вошли двое санитаров, следом явился полицейский майор с нашивками медицинской службы. Он осмотрел спеленутого и усыпленного Кавеля, отклеил пластырь на глазах, пощупал пульс, остался доволен. Закурил длинную «Императорскую» пахитоску фабрики «Суматра», — нынче они снова вошли в моду.
— Грузите, — сказал он санитарам и третьему человеку, все еще державшему опорожненный из-под коньяка и мыла огнетушитель.
— На Неопалимовский, десятый бокс. Не давать просыпаться. Следить за пульсом.
Из-за его спины высунулся кряжистый горбун, сощурился.
— Кондратий Глебович, — укоряюще сказал он, — можно ведь и прямо нам сдать. Чего вам возиться?
Майор брезгливо посмотрел на горбуна, благо был на две головы выше.
— Пятьдесят процентов — не деньги. Уплатите все сто, будет разговор. Еще двадцать пять за оказанное сопротивление. И еще пятьдесят за нанесенные моим людям травмы.
— Кондра-атий Глебович, — горбун присел от майорской наглости, — мы же половину заплатили вперед, а вторая при мне! Ну, посудите сами, кому он нужен, кроме нас?
— Мне нужен, — отрезал майор, — очень ценный экземпляр. Долихоцефал. Для вивария. Вскроем череп, исследуем. Потом, конечно, уже не нужен будет. Потом забирайте даром, даже… десять процентов верну.
Горбун присел еще ниже.
— Ну, Кондратий Глебович, ну, мы же уговаривались… Ну, вы за горло берете… Какие там травмы… Нет у меня сейчас таких денег на руках…
— И не надо на руках. У вас три дня. Он у меня на Неопалимовском поспит. Привозите деньги, живым налом. Лучше желтым перчиком, тогда… пять процентов уступлю. И не дурите, у меня боксов много, и вовсе не во всех капельницы и сиделки, как в десятом, там у нас другие приспособления имеются. — Майор посмотрел на часы. — Так что до пятнадцати ноль-ноль в понедельник, двадцатого то есть, можете перчиков привезти. Аржаны зеленые, можно синие, новые, немятые, но принцев мне маленьких уже никаких, амадеусов не разменяешь потом… Не привезете — сделки не было, аванс аннулирован. Приступаю к научным изысканиям. Всё. Логгин Иваныч, всё. Дискуссий не будет.
Горбун насупился.
— Нехорошо вы с нами, нехорошо. Привезу, конечно, но вот ужо будет на вас Начало Света, будет!.. Еду, еду…
Горбун исчез. Майор проследил за погрузкой Глинского на носилки, проводил санитаров до двери. Потом быстро вернулся в кабинет, жадно пошарил глазами и схватил гордость хозяйской коллекции — слоноборскую молясину. Сунул за полу форменной шинели и вышел из квартиры, не забыв спрятать окурок «Императорской» в тяжелую золотую пепельницу с крышкой, саму же пепельницу — в боковой карман.
На кухне сиротливо и очень медленно отмерзала треска. Дважды звонил телефон, но взять трубку было некому. Затем ее нехотя сняли: на место происшествия явился участковый, — соседи все-таки перепугались выстрела, позвонили в шестьдесят четвертое. Участковый был росл и угрюм, в трубку только сопел. В трубке тоже молчали. Участковый глянул на определитель номера: увы, звонили из автомата. Наконец, тишина раскололась.
— Ты не жди, что я вернусь, — сказал женский голос. — Если хочешь, подай в суд. На бывшей площади Прямикова, нынче она Андроньевская. Повестку пришлешь Веронике Моргане в офис, она знает, где меня найти.
Участковый внимательно прислушался к гудкам отбоя, положил трубку. Квартира была пуста, однако время рабочее, и мало ли что. Вызов, безусловно, ложный. Взгляд участкового скользнул по стеллажам — и застыл, остекленел. Полицейский схватился за край стола и медленно опустился в хозяйское кресло, потом достал шарик нитроглицерина и рассосал его. С тревогой поглядел на часы, поднес к уху. Снова поглядел на часы, потом задумчиво сверил их показания с термометром, укрепленным за окном, в открытой всем весенним ветрам лоджии. Потрогал свой лоб, убедился, что сильного жара нет. Потом тихо ругнулся и шагнул к полке Глинского, на которой обрел предмет, столь сильно потрясший его сердце. Это была редкостная, из розоватой кости сработанная «воробьясина»: на ней один воробей стремился заклевать другого, — и, понятно, наоборот.
— Настоящая, киммерийская… — пробормотал полицейский, — миусской, наверное, резьбы. Ох, не зря догадался на Рождество жареными воробьями разговеться, — вот, хотя бы увидел… Взять, что ли? Нельзя, заметят…
Полицейский принюхался, посмотрел под ноги. Похоже, здесь кого-то с мылом выкупали в коньяке. На мгновение страж закона задумался: может, такое необычное радение тут было? Как, интересно, выглядит она, эта, ну, коньясина?.. Заветная игрушка с дерущимися воробьями заградила очи его разума, спеленала весь полицейский здравый смысл. Участковый охватил вожделенный предмет обеими руками, накрыл подвернувшейся салфеткой, сам себе сказал: «Ну, Ефрем Илларионович, помогай Кавель, давай теперь Кавель ноги!» Бормоча «Мучениче Кавельче, по… помогильче!», — заложил полицейский молясину за пазуху и рванул из квартиры Глинского куда подальше, не подумав составлять акт: приставы-гибельщики непременно заметят, что святая воробьясина прилипла к рукам участкового, уж лучше с погонами проститься, чем с ней.
Только-только убрался участковый из подъезда дома на Волконской площади, как в квартире Глинского опять зазвонил телефон — долго и назойливо, терпя и сороковой звонок, и пятидесятый, кто-то пытался призвать Кавеля Адамовича к трубке. Телефон все-таки умолк, но причиной этого был примечательный факт: в будку напротив дома Глинского, стоявшую возле овощного магазина, постучал человек средних лет, нахальной и не совсем трезвой наружности, и спросил Глинскую, зачем это она и звонит и глядит в бинокль одновременно; бинокль ему не нужен, а вот телефон — весьма. Клара извинилась, мысленно выругала себя за лишнюю бдительность. Видела она, что и вытрезвительская машина убыла, и полицейский вниз по переулку рванул, так что давно пора было приступать к собственному делу. Неумело изображая, что сгибается под бременем хозяйственной сумки, Клара вошла в свой бывший дом, где надеялась не встретить никого из соседей; в этом она преуспела, — по меньшей мере, ни с кем здороваться не пришлось. Поворочала ключом, удивилась, что дверь не отпирается, случайно обнаружила, что та вообще не заперта.
Из шкафа в прихожей Клара достала две молясины, как две капли воды похожие на образец, ранее предъявленный Вероникой: на каждой баба бьет дубиной другую, тоже с дубиной. Всем ведь известно, что Кавель была женщиной, само слово-то женского рода ведь! Теперь предстояло найти еще две, именно про четыре священных круга в коллекции Глинского писал в своем доношении вахтер Старицкий, а Вероника, глава корабля, ему верила, он много лет был у нее на окладе, она его в генералы произвела, а теперь и еще повысила. Моргановцы карали за владение священной мельницей даже нетрусливых вишну-ётов, не говоря о потересознаньевцах и рядовых коллекционерах. Но предание медленной смерти возлагалось на более опытных сестер. Кларе было приказано лишь изъять молясины.
Искомые шедевры нашлись в особой застекленной горке, где владелец держал хрисоэлефантинные экземпляры — иначе говоря, сработанные из мамонтовой кости и золота. Золото шло на инкрустацию, вопреки нормальной традиции: вообще-то именно слоновой костью полагалось бы изображать белые руки Кавелей-девиц. Но тут именно руки были золотыми: слыла великомученица Кавель величайшей мастерицей на все руки, мотыгу изобрела, колесо, сеяла-пахала, скот разводила, на охоту ходила, а как явилась на нее с дубиной лютая, эта, как ее, ну, — и понеслось радение. За такую молясину, антик-обсоси-гвоздок, отдавали жизнь люди и почище бывшего супруга Клары. Вероника Моргана не могла оставить святые вещи еретикам на поругание, попади такая молясина к окаянным «ярославнам премудрым», так растопчут, осквернят, чур, чур, чур.
Теперь упаковать: весят четыре штуки немало, можно не делать вида, что тяжесть несешь; выйти из дома, дотащить до бывшей «Софии», два квартала отсюда — вот и кончен «послух», посвятит ее Вероника в настоящие сестры. Но серьезно боялась Клара, что еще по пути налетят на нее со знаменитым воплем «Лихо! Лихо! Кавелиха!» — окаянные врагини-ярославны, силища-то у них ярославская, немалая, отымут сумку, могут и убить. А не убьют, так и сама Вероника не легка на руку, и прощай тогда мечта о мире во всем мире, о долгожданном Начале Света! Клара узкими переулками засеменила прочь от Волконской, дворами бывшего Совета Министров РСФСР, потом он же музей рукоприкладства имени Ильи Даргомыжского, поскорей к Веронике, та, небось, уже струны рвет на контрабасе. Это была правда: на своем медитативном контрабасе, без которого и мантры-то в голову не лезли, Вероника Моргана с утра третий раз меняла струны, так изнервничалась.
Однако слишком долго квартира Глинского, как всякое святое место, пустой оставаться не могла. Вызвавший сразу после выстрела полицию сосед, ночной таксист Валерик, позвонил в дверь трижды, длинными звонками. Потом осторожно толкнул, — дверь, понятно, распахнулась. Кошачьей походкой вошел двухметровый таксист — в котором безошибочно распознавалось лицо кавказской национальности — в прихожую, заглянул в пустую гостиную, на кухню, в ванную, в сортир, и лишь потом заглянул в кабинет. Жадным взглядом обшаривал он стеллажи Кавеля Адамовича, искал вожделенный предмет, а найдя — рухнул на колени, точь-в-точь как стояли фигуры на искомой диковине. Точней, Кавели стояли там на коленях поочередно; этот толк кавелитов возник при толковании строки из народной песни «Может быть, и просил брат пощады у Кавеля». Пошадовцы-коленопреклонцы, от которых недавно со скандалом отложился корабль «низкопоклонцев», полагавших, что не на колени повалился Кавель, а злому брату в ноги повалился, — так вот, пощадовцы твердо верили, что Кавель перед смертью только встал на колени и кроток был до последнего мгновения. Валерик, пользуясь профессионально ночным образом жизни, нередко возил единоверцев на радения в Ясенево. Он-то знал, как люто не хватает сейчас молясин: добрую половину истребили раскольники, и хуже, эти отщепенцы отрядили тайного человека в Арясин и там заказали еретическую, невиданную доселе молясину, сразу прозванную в народе «челобитной», — ну, а крепкие в старой вере пощадовцы оказались в положении евреев после погрома. Кое-кто, конечно, кое-что уберег, но мало, мало для простого ежедневного поклонения, чего уж мечтать о правильном ежедневном — пятиразовом!..
По неказистости, по топорности фигур — как того требовала простая вера пощадовцев — Кавель Адамович таких молясин держал в коллекции всего одну. Да Валерик и не ждал найти больше, к тому же когти отсюда нужно было рвать поскорее, он-то, сосед как-никак, был тут засвечен насквозь. Но он понимал также, что покуда здесь есть хоть одна молясина, пусть вовсе непонятная, место это для кого-то свято, а потому и пусто не будет. Сделать то, чего хотел бы больше всего — сжечь всю эту ересь к чертовой матери — он никак не мог: огонь перекинется на его собственную квартиру, пожарные же, завидев столько благодати в квартире Глинского, займутся прежде всего грабежом, — в итоге его же, Валерика, квартира дотла как раз и выгорит.
Мартовский день клонился к вечеру, из ярко освещенного магазина, на который смотрели окна квартиры Глинского и лоджия, потекли ручейком люди с тыквами невиданных размеров. Сегодня владелец магазина сбывал невостребованные московским землячеством невест-украинок тыквы; видать, пошел мартовский свадебный сезон, когда бабы дают согласие, а не наоборот, потому что когда жениху-сватающемуся дают отказ, то ему тыкву выносят, «гарбуза» по-ихнему. Тыква — предмет долговременного хранения, но не вечного же, так вот, пустил их г-н Курултаев в продажу за бесценок, поштучно. В метро нынче постановлением мэрии вход с тыквами был воспрещен, предполагали, что слишком уж соблазнительно вмонтировать в них что-нибудь взрывное. Поговаривали, что скоро перестанут пускать в метро с кабачками, а там — бери выше — и с огурцами. Но на кабачки и огурцы пока не было сезона, а тыквы до метро не докатывались, из них варила кашу беднота, ютившаяся в старых домах вокруг Волконской.
Ветхая старушенция, обеими руками обнимая необъятную тыквищу, перебралась от овощного к подъезду дома Глинского, втиснулась в него, тяжко отдуваясь, без помощи лифта взобралась на третий этаж, а там, не выпуская тыквы из рук, ногой отворила дверь молясинной квартиры, вошла, и опять же ногой за собой дверь затворила. В кабинете старушенция заметно оживилась, позыркала дальнозоркими глазками по полкам и очень быстро нашла то, что хотела. «Ной, не ной — Антиной иной!» — пробормотала она, ловко приподняла заранее спиленную крышку тыквы и опустила в полое нутро овоща неприглядную для стороннего взгляда антиноевскую молясину, выполненную в виде круглого ковчега; кто знал секрет, мог приоткрыть окошко, включить подсветку, а там творилось такое, что и в порнографических фильмах показывать обычно стесняются. Старушка на разглядывание времени не имела, она дело сделала, пыль с полки шалью подмела, тыкву захлопнула — и своим ходом отбыла в переулки, прилегающие к Волконской. Очень вовремя. У подъезда с визгом затормозил шестисотый мерседес, из него вышел статный подполковник с двумя битыми змеями на погонах, потом выскочил шофер, держа объемистый саквояж. Оба, подполковник и шофер, устремились в жилье Глинского, никого там, понятно, не ожидая застать. Валерик наблюдал за ними в щелку из-за собственной двери.
Подполковник, в отличие от предыдущих визитеров, тщательно запер за собой дверь, снял фуражку и огляделся. Потом надел фуражку и откозырял своему же шоферу:
— Осмелюсь доложить, госпожа генерал-подполковник, могу приступить к выполнению приказа!
Шофер-генерал, вдали от посторонних глаз и не думавшая притворяться мужчиной, небрежно бросила подполковнику саквояж и направилась в кабинет Глинского.
— Эта… Эта… Эта… — тыкала женщина-генерал в хозяйские сокровища, те перекочевывали в саквояж. Отбор был закончен в несколько минут. Липовый шофер по незаметному жесту начальства осмотрел пепельницы. Все было тщетно, ни единой щеповской молясины не имелось. Генерал-шофер стояла посреди комнаты и сверлила подполковника-шофера взглядом, а он растерянно смотрел в окно, дожидаясь озарения.
— В прихожей! — Генерал только фыркнула. Велик щеповский корабль, не обделил Кавель подлинную щепу от Своих порубок, умные щеповцев уважают, глупые боятся: но как могла отсутствовать в знаменитом от Москвы до самого Арясина собрании Глинского щеповская молясина? Щеповская у окна должна стоять, на почетном месте — даже у атеиста, даже у еретика поганого! Кто посмел спереть без ведома?..
Прав оказался, однако, подполковник: разве что не приплясывая, вернулся он в кабинет, держа в руках две громадные и очень тяжелые молясины, такие поставить на стеллаж хозяин просто не смог бы, диаметр основания — двадцать вершков, наш русский ярд. Генерал поняла причину недолжного размещения священных предметов и мысленно помолилась за упокой души бывшего владельца; что ж, не виноват он, что не по деньгам ему было под щеповские шедевры заказать хрустальные ковчеги-поставцы. Голый-босый хозяин, даром, что Кавелем звали, ну — вредные игрушки теперь — в саквояж, а драгоценности нужно упаковать отдельно. На просторных кругах стояли атланты, кряжистые, наподобие тех, что у Эрмитажа в Питере балкончик отжимают. Каждый держал за спиной булыжник типа «орудие пролетариата».
— А походных у него что ж, ни одной? — брезгливо спросила генерал.
Подполковник повторил обыск — походные щеповские маскировались обычно под пепельницу с обсидиановым блюдцем. Но нет, некиммерийскую дешевку Глинский у себя держать брезговал. Значит — сперли. Ну, да ладно, все наши будут, упокой, Кавель, душу Кавеля-хозяина на лоне Кавелевом. Генерал, оформляя Глинского к себе «безнадежным следователем», убедилась: ни серьезных покровителей, ни связей «каких надо» у него не было. За все годы работы в Федеральной Службе этот олух не позаботился о плацдарме для отступления на черный день! Ну, упокой, Кавель… Неправота неправых, и к тому же еще всяческая неправота, так сказать…
Подполковник достал еще один саквояж, упаковал драгоценности, и бывшее начальство Глинского покинуло квартиру. На улице генерал немедленно вернулась в мужское обличье и угодливо юркнула за руль, подполковник же степенно сел справа, и мерседес отчалил.
Свечерело почти вовсе, а поток посетителей в квартире Глинского не иссяк. Забежал на минутку техник-смотритель, спер перелетную журавлясину средней сохранности и был таков. Заявился сосед с последнего этажа, кровожадно схватил «стреляную» с пулеметами, несколько раз чихнул от поднятой пыли и вознесся домой на лифте. Мелкой трусцой добежал с рабочего места в бывшей «Софии» бывший коллега, вахтер Старицкий, уволок все три «влобовские», ибо тайно к влобовцам принадлежал, — как не примкнуть к тому, чем заведуешь? Почтальон позвонил раз, позвонил два, а потом прокрался и сунул себе в сумку драгоценную и загадочную «сизокрысину», предмет поклонения чуть ли всех сотрудниц Трехгорбой Мануфактуры. Наконец, почтенный господин Курултаев пришел из своей квартиры над овощным магазином: он целый день следил в бинокль и в зеркало, и вот теперь, выждав нужное мгновение, лишил коллекцию Глинского возможности бороть кого бы то ни было духом китьим. Из-под рухляди в лоджии вынырнул лысеющий акробат, размассировал затекшую за сутки выжидания поясницу, спрятал на груди под трико «душеломовскую» и, как пришел через лоджию, так через нее и сгинул. Поток посетителей не иссякал до позднего вечера, чуть не последними из музея Даргомыжского приходили «духорусские спасателевцы», обе женского рода — и ничего себе.
Когда полки Глинского стали напоминать советскую библиотеку, по которой прошлась цензура, явился гость, визита которого никак не робкий Кавель Адамович, глядишь, перепугался бы. Пришел тот самый негр, душераздирающие фотографии чьего раздолбанного черепа все еще валялись на столе в кабинете. Негр был в куньей шапке, он ее в прихожей сунул в собственный карман, и никаких повреждений на его черепе как будто не имелось. Негр вкусно закурил толстую сигарету, обозрел полки, покачал головой, поцокал языком. Неторопливо произнес несколько выразительных ругательств на английском, испанском, русском, двух креольских и одном не известном науке языках. Потом развернул два холщевых мешка и, взметая пыль, стал загружать молясины в мешки почти без разбора, однако при этом точным офенским жестом заворачивая каждую в заранее приготовленный кусок оленьей замши.
Полки опустели прежде, чем заполнился мешок. Негр прикинул на вес, вернулся в прихожую и открыл шкаф-запасник. Все повторилось: сигарета, ругань, цоканье, но теперь молясины под завязку заполнили оба мешка. Негр докурил вторую сигарету, аккуратно завернул окурок в замшу и опустил в карман. Потом закинул мешки за плечи и удалился прочь, не привлекши ничьего внимания, — потому что Валерик давно отбыл на ночную работу в Ясенево.
Наступила пауза — больше у Глинского взять, кажется, было нечего. Прошло с четверть часа — и длиннопалая рука в шевровой перчатке аккуратно приотворила многострадальную дверь; в прихожей возник человек, ни на кого из прежних не похожий. Он был высок, массивен, длинноволос, — ни тени хмеля, в котором он несколько часов назад стучал в телефонную кабинку Клары Глинской, не сохранилось в его лице. В пальцах, желтых от никотина, поздний гость вертел почтовую квитанцию. Оглядев квартиру, он убрал квитанцию в нагрудный карман. Ни полки из-под молясин, ни пустые комнаты его не заинтересовали, он прошел на кухню.
— Размерзай! — резко, с самым неуловимым из возможных акцентов приказал он треске на столе. Рыба послушно нагрелась и потекла ручьями. Выждав несколько минут, гость вырвал у рыбины глаза: к мизинцам на его перчатках со стороны подушечек были прикреплены крючки наподобие коготков. Глаза рыбы оказались крохотными трубками, на каждой поблескивал объектив. Один из них весь день смотрел на входную дверь, другой — в кабинет.
— Отлично! — сменив акцент, по-московски сказал гость и спрятал трубочки в карман на рукаве. Затем деловитый гость вернул не вполне отмороженную треску в морозильник и прибавил мощности. Так скорей замерзнет, еще пригодится, может быть, хотя нормы хранения и нарушаются. Да и какое хранение!.. Гость в перчатках быстро исчез, его-то начальство надолго не отпускало. Квартира опять опустела.
Теперь осиротевшее помещение не тревожили ни телефонные звонки, ни гости, и время шло к двенадцати, когда в квартире появился последний посетитель. Это был мальчик лет десяти-двенадцати, одетый в не столь давно восстановленную на Руси гимназическую форму, с перетянутой широким ремнем талией, с игрушечной шпагой у левого бедра. Мальчик погулял по квартире, заглянул в пустой холодильник, где с лютой скоростью задубевала одинокая треска, лишенная к тому же органов зрения, — а потом выдвинул ящики письменного стола. В нижнем он обнаружил нечто, упущенное всеми предыдущими гостями. Вырезанная из любимого киммерийскими мастерами дерева-эндемика, миусской груши, плодами которой откармливают рифейских раков близ полярной реки Кары, была отставлена Глинским в этот ящик единственная молясина в коллекции, которую он не смог ни понять, ни идентифицировать с каким-либо кавелитским толком. Диск из горного хрусталя, чертова жила, сама драгоценная древесина — ничто не поясняло сюжета молясины, на которой виртуозно вырезанные фигурки бобров, замахнувшихся друг на друга бревнами, казалось, вот-вот расколошматят друг друга. Такая молясина подразумевала обожествление бобра, что ли, или, быть может, такой молясиной пользовались бы сами бобры — будь они не только существами мыслящими, но и кавелитами. Однако в фольклоре на этот счет Глинский не отыскал совсем ничего.
Мальчик нежно погладил дно молясины, потрогал фигурки, хранившие следы нечеловечески искусной обработки. Молясина перекочевала в ранец к мальчику, тот надел его, убедился, что трофей не бултыхается, и тихо вышел из бывшего дома Глинского, а с последним ударом курантов на Спасской башне исчез в воротах близлежащей типографии «Богатый пролетарий».
Настала ночь. Москва радела больше и усердней обычного.
3
Хотя по-прежнему не верил ни в Бога, ни в черта и вообще ни во что на этом белом свете.
Г. Гарсия Маркес. Осень патриарха— Бухтарму выпушить семижды, — уверенно диктовал Богдан. Привычные к письменным принадлежностям, давно уже не крестьянские пальцы Давыда Мордовкина сновали вовсю, чертовар обучил его держать по авторучке в каждой руке. Левой Давыд заносил в амбарную книгу инструкцию по разделке отловленного сегодня черта, правой вписывал в блокнот цифры. Чертовар был строг в отношении бухгалтерии, однако надувать его Давыд не помышлял, всего лишь боялся что-то упустить. — Материал средний, вешняк пошел, так что шкуру снимем и сразу к Варсонофию в дубильню по второму способу: в тринадцать недель. Пиши окрасы. От рогов ниже: муругий в огненность. Шея чешуйная, однако звенца мелкие, на панцирь не годятся. С перламутровым отливом. Снять самою тонкою цыклею, просушить, пойдут на бижутерию. Кожа — юфть. Гребень хребтовый щетинный, отвалить, выпушить семижды… Записал? Семижды. С гребня берем чистый, хороший гужевик. На упряжь заказов нет, пойдет на портупеи. Гривенка под шеей обвислая, желтоватая, третий сорт. Вся сразу в зольник, пусть шерсть отойдет. Окатку с его щетины возьмем… — чертовар задумчиво помусолил шерсть на животе обезумевшего от страха черта, — окатки тут щетки на три. Но больших. Запиши, потом проверю. С иного и на щетку не нащиплешь. Кислую шерсть пустить в набивку. Гарнитур Палинскому ко дню ангела надо? Надо. На два кресла хватит. Ну, со шкурой все.
— Выпоротка нет? — задал Давыд привычный вопрос.
— Ох, — вздохнул Богдан и сунул руку черту в живот. Тот завыл адским голосом, но в этой мастерской слыхали и не такое.
— Нет, Давыдка, нет. Пустой. Выпороток с вешняка — штука редкая.
— А во мне как раз вешняк сидел! И с выпоротком! — с тихой гордостью ответил Давыд, продолжая писать обеими руками.
— Ну… Везет иногда, но не каждый день. Хорошо бы, конечно… Словом, давай дальше, взвешиваю.
Обыденным жестом чертовар вскинул левую руку к потолку и направил на пленного черта средний палец. Черт, во имя удобства промышленного описания подвешенный в пентаэдре вниз рогами, вверх копытами, повинуясь воле Богдана, рухнул всей тушей на дряхлеющие вагонные весы. Электронике не верили ни мастер, ни подручный, да и не стала бы она в этом помещении работать, гири приходилось грузить вручную. Но Давыд привык. Это только мозгами трудно ворочать, гирями легче.
Помещение, в котором пребывали сейчас два человека и один черт, давно, с самых первых опытов Богдана Тертычного, называлось просто: чертог. И звучало хорошо, и назначению соответствовало. Сюда Богдан вызывал чертей на опись, на завес, на обмер, тут же чаще всего происходил забой черта; тут же, если экземпляр попадался не очень крупный, Богдан его и беловал: свежевал, отделял сало, вынимал драгоценные выпоротки, своеобразную «чертову каракульчу». Черти, как убедился Богдан за много лет, были плесенью мира сего, скотами бесполыми, уж никак не живородящими; наука справедливо полагала, что черти не размножаются вообще, что число их неумножимо в принципе — хотя конечно оно пока что весьма, весьма велико. Но порой при вскрытии одного черта в нем обнаруживался другой, эдакий эмбрион-бесенок, скорей всего симбиот черта или просто паразит, однако поиски причин такого явления к чертоварению как промыслу никакого отношения не имели. Важно было то, что выпоротки отличались чрезвычайно высокими качествами как шкуры, так и меха, и чешуи, и рога, и копыта, и хвостового шипа. Богдан предполагал, что выпороток издыхает в момент соприкосновения с его собственной силой — силой неверия — ибо очень слаб от природы: живые не попадались ни разу. Но опять-таки теория Богдана не интересовала, как и вообще не интересовало в чертях ничто, кроме того, что с них как с дарового и бесхозного скота, можно содрать шкуру-другую, вытопить жир, вынуть и высушить кишки, разварить на клей мездру, рога и клыки отдать в резьбу, обратить кости в клей и золу, вытянуть жилы — ну, а что останется, то заложить в автоклав, протомить неделю и получить в итоге три фракции АСТ, Антисептика-Стимулятора Тертычного. АСТ-3 являла собою черный осадок, мазь, гарантирующую вечное заживление копыт, автомобильных шин и танковых гусениц. АСТ-2 была средняя, ярко-лиловая фракция, бальзам беспримерной вонючести, многоцелевой лечебный препарат, основную часть функций которого Богдан держал в секрете, а продавал редко, неохотно и очень дорого. Наконец, безвидная АСТ-1 представляла собою нечто такое, чему единственному (!) за все годы чертоварения Богдан так и не нашел никакого применения. Субстанция представляла собой чистую эманацию зла. Правда, русские сатанисты подъезжали к мастеру так и эдак, предлагая за эманацию и деньги, и любые услуги — им «зло как таковое» очень было желательно.
Но деньги Богдана интересовали в десятую очередь, на все чертовские товары спрос был всегда выше предложения, а услугами его бесплатно обеспечивали частные клиенты. После десятого со стороны сатанистов захода насчет эманации, притом с угрозами, с присылкой пластиковой бомбы, Богдан озлился. Проверил сатанистов — не сидит ли в них бес-другой, ни черта не обнаружил и приказал прийти за окончательным ответом в полночь полнолуния. А когда те пришли, спустил на них Черных Зверей. Всех шестерых.
Увидев в лунном свете силуэты шести огромных, с высокую лошадь ростом, борзых собак, сатанисты помчались от Выползова по бездорожью с той скоростью, на какую были способны. Звери гнали их до самой Волги, а там оставили, проследив, чтобы до середины реки сатанисты доплыли и назад не повернули. Больше никакие сатанисты Арясинщину не тревожили, но Богдан взялся за проблему скапливающейся эманации зла капитально. В помещении, смежном с чертогом, он установил компактный, но вечный пентаэдр силового поля, в центр которого поместил старинный лазурный унитаз — на его дне еще сияла золотыми буквами надпись «UNITAS», название фирмы, произведшей сие фарфоровое чудо в конце прошлого века и давшей название всем подобным предметам. В этот унитаз он и сливал безвозвратно всю АСТ-1, местом конечного стока определив «то, откуда черти берутся», — не будь Богдан атеистом, он бы знал, что сливает остатки чертей прямо в ад, но в ад чертовар не верил. Он видел, что эманация исчезает безвозвратно и был тем доволен, потому что ничего лишнего в хозяйстве не терпел.
— Тяжелый, сволочь, — сказал Давыд, закончив грузить гири. — Хоть бы меховой был, хоть бы на ковер годился. А то — средний сорт. Без шести золотников четыреста семьдесят девять пудов. Почти семь тонн восемьсот сорок пять…
— Ладно, ладно, — оборвал чертовар подручного, европейские меры он не любил и пользы в них не видел, — сам вижу, что большой. Беловать прямо здесь. Живьем. Скажи Варсонофию, чтоб деготь готовил, квасцы тоже, зола у него всегда есть.
— Ы-ы-ы-ы-ы-ы! — взвыл черт, осознавший только теперь, какую участь уготовил ему Богдан. — Золотые горы! Реки, полные вина! Гурии! Свежие гурии! Невинные! Отпустите! Свежие гурии!
Богдан не обратил на вопль ни малейшего внимания, он готовил стеклянные перчатки, без которых за разделку не принимался. Давыд же с нескрываемым интересом слушал черта, далеко не каждая туша имела наглость подавать голос в присутствии Богдана.
— Гы… — выдохнул Давыд, — Надо же… Говорить умеет…Богдан Арнольдович, а что такое гурии?
— Гурии, гурии… Кашу из них варят. Гуриевскую, знаешь такую? Да не слушай ты его, он же скотина несмысленная. Закончим, тогда поди, с козой побеседуй, в ней ума больше. А лучше всех разговаривает вообще индийский скворец, майна, тысячу слов знает. Ты, Давыдка, знаешь тысячу слов? Ты посчитай на досуге. Держи корыто!
Мановением пальца Богдан вновь поднял черта в воздух, заломил ему хвост к рогам и вывернул так, что самой нижней частью забиваемого чудовища оказалось морщинистое горло. Давыд столкнул по наводящему рельсу корыто: чертова кровь, «ихорка», обработанная кипячением и процеживанием, высоко ценилась как смазочный материал и в авиации, и в молясинном промысле.
— Свежие гурии! — в последний раз завизжал черт и смолк: молниеносным движением Богдан рассек ему горло. Коричневая, дымящаяся, как горячий навоз, жидкость хлынула в корыто и быстро его наполнила. Давыд подвел второе, но туда натекло мало, только дно прикрыло. Богдан недовольно поморщился.
— Вот и здоровенный, вот и живым белуешь, а малокровный. Меньше нормы. Сколько тут, Давыд?
— Шестьдесят один пуд… И несколько золотников. Дайте ему повисеть, Богдан Арнольдович. Может, еще стечет.
Богдан согласился. Черт с перерезанным горлом был все еще жив, умереть ему чертовар не собирался позволять до тех пор, пока не будет снята шкура с мездрой, чтоб замездрину не повредить, не то все труды насмарку. Еще не отделено сало, не вынуты и не смотаны кишки и многое другое, работы до вечера. Забивать черта до этого момента Богдан не считал нужным: черти не животные, общество защиты кошек за них не вступится, уж подавно они не люди, поэтому вивисекцию Богдан считал глубоко оправданной. И шкура, и жир живого черта были не в пример качественней тех же продуктов, взятых от черта мертвого.
Давыд завороженно глядел на капельки навозного цвета, падавшие в корыто. Давно ли, года два всего тому назад, проделал Богдан такую же процедуру над другим чертом, коего извлек непосредственно из Давыда. История та уже меж людишек позабылась, но сам-то Давыд ее хорошо помнил: односельчане хотели полоумного бобыля, одержимого бесом, утопить в Тощей Ряшке, ниже мельницы, у впадения в Накой, где озеро, между прочим, довольно глубокое. Или в широченной запруде над мельницей — хотя там не стоит, там и так уровень воды уж больно высок. Но нашлись умные люди, отвели Мордовкина силой в Выползово, где мастер-чертовар мигом понял, что к чему, заплатил провожатым по два империала, сказал, что берет одержимого на свое попечение.
Богдан уволок Давыда, доведшего односельчан в родном Суетном чуть ли не до самосуда, — он завел привычку ездить по коньку крыши и орать ночами на всю Арясинщину, и поэтому сельчане звали полоумного не иначе как «Козел Допущенный», — прямо к себе в чертог, и в считанные минуты изгнал из него трехсотпудового беса-великана, беса-вешняка, годного хоть на лайку, хоть на шагрень, даже крашеную, — да в придачу с пятипудовым выпоротком, всего вторым у Богдана в тот год. Очухавшийся, едва живой после изгнания беса Давыд был отправлен в соседнее село Ржавец, где невенчанная жена Богдана, Шейла Егоровна, ухаживала за его Белыми Зверями: дойными яками, оберегавшими своим ужасным видом и Выползово, и Ржавец в дневное время. В ночное время охрану несли Черные Звери. Богдан не питал к людям, из которых вынимал чертей, никакого сострадания, но считал, что на пять процентов стоимости черта, коего носил в себе человек, бесоноситель право имеет: все-таки экономятся дорогие реактивы и заклятия. Значит, на эти деньги человека можно подкормить и подлечить; тем более, что своих детей у Шейлы не было, и она любила опекать сирых и хворых, особенно же — выздоравливающих. Давыд шесть недель пил пахнущее альпийскими травами ячье молоко с куском янтарного ячьего масла, отсыпался на шелковых простынях, помогал Шейле по дому, потом запросился поработать помощником приемного сына Шейлы, Савелия Заплатина. Тот занимался у Богдана шерстобитным делом и валянием войлоков.
Парень чуть больше двадцати лет, с яркими кувшиночно-желтыми глазами, вел дело из рук вон плохо. И трудился неусердно, и вообще, видимо, не был склонен к трудам физическим, жаждал умственных, но не любых, а конкретных, таких, чтобы пузом кверху и ничего больше. Счастье Савелия, что Богдан любил Шейлу, а та жалела парня, не то выгнал бы хозяин бездельника с Арясинщины аж в Москву. Ну, войлоки валять парень с грехом пополам обучился, и то ладно, не до ковров тут. На валенки войлок с черта не годится, сбивается в копыто, — зато есть спрос на самый грубый, тот, что для звукоизоляции. При помощи Давыда производство войлока скакнуло за месяц раз в десять, что и привлекло внимание чертовара.
Сперва Богдан отправил Давыда к старику Варсонофию в дубильный цех, готовить раствор золы для зольника, куда кладут шкуры перед тем, как с них снимается шерсть. Потом перевел в костопальную, к Козьмодемьяну Петровичу, толстому алкоголику, из которого — как из Давыдки — Богдан вынул некрупного черта. Увы, черта он вынул, а тяга к зеленому змию осталась, не от черта это было, а от хромосом и генетики. Однако с костопальным делом Козьдемьян отлично управлялся и в одиночку, помощники были ему в тягость (глушить водяру мешали), и Богдан решился. Он взял Давыдку подручным к себе, в чертог.
Богдан положил работнику небольшое жалование, на которое тот согласился, но не брал денег по полгода, ибо жил на всем готовом. Богдан заставил его кое-что подзубрить: от классического труда А. А. Берса «Естественная история черта: его рождение, жизнь смерть», изданного в 1908 году — до собственноручно Тертычным вычерченной схемы разделки чертовой туши; пришлось Давыдке вызубрить все обычные пороки чертовой шкуры, к примеру, воротистость, жилистость, тощеватость, роговатость, свищность; очень кстати пришлось и умение бывшего одержимого писать обеими руками, и способность перемножать в уме двадцатизначные цифры. Ну, зачем на чертоварне выяснять: выучил парень наизусть поэму Твардовского «Ленин и печник» иль нет? Богдан сам плохо помнил, кто такой Твардовский, даже подзабыл, кто такой Ленин, зато твердо знал: по профессии Давыд — потомственный печник, и это имеет ценность. Все вытяжные трубы главного чертога и вспомогательных находились теперь под присмотром гордого «Козла Допущенного».
От одного лишь не сумел отучить Давыдку чертовар: удивляться, что назначенные к забою черти умеют говорить, пытаются подкупить истязателя, одновременно — грозят кровной местью и другими карами — а также тому, что никакого впечатления все эти слова на чертовара не производят. К белым якам, тем более к черным своим собакам, обращался Богдан с ласковой человеческой речью, он беседовал даже с черным петухом, которого настропалил так, чтобы третий его утренний крик астрономически точно возвещал восход солнца: Черным Зверям — вернуться, Белым зверям — пастись. А чертей, хитрых, коварных, Богдан считал сырьем и только сырьем, с которым беседовать смысла не больше, чем с тачкой песка.
Навозообразная кровь, наконец, иссякла. Богдан произвел несколько контрольных уколов, но даже не капнуло.
— Лёзо! — по-старинному отдал приказ Богдан, требуя свежевальный нож. Руку за ним протянул, не глядя. Нож, вырезанный из хвостового шипа особенно крупного черта, с инкрустированной ручкой, был немедля подан Давыдкой… Такие ножи у Богдана делали редко и только для себя, да еще по прямым заказам из далекой Киммерии, ни к чему было знать прочему человечеству, что чертова кожа все-таки режется. Одним движением распорол Богдан шкуру черта от шеи до хвоста, рывком отвалил, обнажая слой изжелта-лилового жира. От сала валил смрадный пар, но Богдан отмахнулся от зловония, по его приказу разделываемый черт всосал дурной воздух своими шестью ноздрями. Делая надрез за надрезом, Богдан в считанные минуты освежевал черта, оставив нетронутой только восковицу у основания клюва и последний сустав одной из задних лап. Снятая шкура упала на дно пентаэдра, чертовар извлек ее и бросил в тачку.
— Позвонил Варсонофию? Вези к нему, пусть приступает. Я пока сало отбелую.
Давыд повиновался и медленно покатил тяжкую тачку из чертога вверх по пандусу. Роговыми губами еще шептал разделываемый бес: «свежие гурии», а Мордовкин уже выкатил тачку с его снятой шкурой на свежий воздух, передохнул минутку и двинулся по сухой тропке прочь, в сторону ручья, над которым размещались дурно пахнущие сараи мастера-кожемяки Варсонофия, к ароматам нечувствительного. Но не прокатил Давыд свою тачку и до первой осины, как на полянке появилось новое действующее лицо.
Будь мускулистая эта дама лет на сорок постарше, восседай не на велосипеде, а в ступе, держи она под мышкой младенца-другого, Давыд принял бы ее за обыкновенную Бабу-Ягу. Несмотря на расширенные ужасом глаза, дама гордо хранила подобие спокойствия.
— Телеграмма! Тертычному! Срочная! — выдохнула престарелая письмоносица, начиная падать вместе с велосипедом в тачку, — Давыд тачку отдернул: прикасаться к изнанке шкуры, к ее мездре, даже Богдан голыми руками не стал бы. Для простого человека, особенно если верующего, это могло кончиться совсем плохо. Да и шкуру Давыду было жалко, вон сколько времени хозяин извел, ее сымая.
— Тертычный на производстве, — буркнул Давыд, — сам твою телеграмму приму, давай сюда, Муза Пафнутьевна. Как это ты сюда отважилась? К нам с Крещения, кроме офеней, и не заходил никто. Могла бы ведь Шейле, на Ржавец занести? Дело-то твое всегда терпит, сама говорила, помню…
— Срочная телеграмма, болванья башка! — огрызнулась старуха. — Я в семи церквях благословение взяла, прежде чем лезть в вашу дыру. Хоть один батюшка отказал бы — не поехала бы.
— Благословили, значит, все семеро? — усмехнулся подмастерье.
— Все благословили, — старуха развивать церковную тему не пожелала, — Сама знаю, что здесь никакой… хрен не страшен. Так телеграмму-то прямо в собственноручные надо!..
Тут старуха увидела груз на тачке Давыда и сомлела. Давыд пристроил ее на валежнике подальше от тачки и вернулся в чертог, где хозяин щедрыми пластами снимал с ободранного черта сало.
— Богдан Арнольдович, — сказал Мордовкин, — К нам приперлась Муза.
Чертовар засунул руку в нутро черта по локоть и что-то внимательно там щупал. Видимо, не стоило бы его сейчас отвлекать. Но рисковать тем, что почтальонша вступит в чертог сама и увидит полуразделанного, к тому же еще живого черта, Давыд не хотел: хватит одного того, что она шкуру содранную видела, муругую. Объясняйся потом с семью батюшками, отчего пошла с благословения, а померла без покаяния. Как-никак все ж таки ныне Великий Пост.
— Муза… Письмоносица? — спросил чертовар машинально, что-то яростно выдирая из недр черта, клюв которого был раззявлен в беззвучном крике, вроде как бы на звуке «у-у», — остаток от слова «гурии», надо полагать.
— Так точно, почтальонша, телеграмму вам принесла. Бурчит, срочную.
— Какая-такая срочность? — явно отбрехиваясь от постороннего дела, сказал чертовар, уперся обеими ногами в пол и изо всей силы рванул на себя. — В-вот! Безоар!
Действительно, на испачканной ладони Богдана, переливаясь радугой и отражаясь от стеклянной рукавицы, сияло одно из редчайших сокровищ чертоварного промысла — сычужный безоар, настоящий драгоценный камень, выросший в желудке нечистого за многие тысячелетия. За подобный камушек любой король или султан средней руки отдал бы полдержавы и душу в придачу, ибо с древних времен сей предмет был известен под немудрящим прозвищем «философский камень». За всю практику чертоварения Богдан не насобирал и дюжины этих сокровищ, а из тех, что собрал, ни единого не продал.
— Муза тут, на валежнике… — напомнил Давыд, оценивший добычу, но к продолжительным восторгам не способный. — Телеграмма у ей срочная, к Тертычному…
Богдан сплюнул, отложил безоар на конторский столик. Затем взялся за края перчаток, хотел снять, но сообразил, что полуразделанный черт все еще живой, оставлять его в таком виде невыгодно: глядишь, помрет своей смертью и протухнет в одночасье. Богдан вскинул обе руки, в чертоге полыхнуло желтым. Туша черта обвисла: подвергнутый вивисекции адский насельник был забит мгновенным и безболезненным способом. Давыд вспомнил строчку из вызубренного наизусть учебника Берса: «Только наука сшибла с позиции всемогущего черта!» Чертовар трудился именно по науке. Шелажные шкуры — то есть шкуры, снятые с палых естественной смертью чертей — Богдану были без надобности, у него не успевали кроить подготовленные Варсонофием юфть, опоек, шевро, замшу, лайку и велюр.
Богдан вымыл руки и поднялся на чистый воздух. Старая почтальонша сидела на противоположном краю поляны и терпеливо ждала; завидев чертовара, осенила себя правильным православным крестом и в пояс поклонилась, — по общему мнению окрестных батюшек, человек Тертычный хоть и неверующий, но дело творит богоугодное, чертей изводит, всех, поди, побил на Арясинщине, скоро Тверскую губернию очистит, а там, глядишь, и Московскую, где окаянных видимо-невидимо, столица ж.
Поприветствовав хозяина здешних трущоб, прехитрая Муза потупилась.
— Не поняли мы, Богдан Арнольдович, ничего не поняли, оттого и спешку устроили. Какая-то каша тебя спасти ее просит. Мы телеграмму проверяли, из Москвы она. И все слова правильные. Возьми, прочти. — Старуха протянула бланк, от руки заполненный в селе Суетном. Богдан долго молчал, но лицо его, обычно ничего не выражающее, внезапно потемнело. Он спрятал телеграмму в нагрудный, оглянулся, убедился, что Давыд — рядом.
— Заводи вездеход, — бросил чертовар, — Едем в Москву. Хорошего человека спасать надо. Одеял возьми вдосталь, ну, наручников еще, цепей, гаубицу проверь, катапульту не забудь.
— Боеголовки обычные? — деловито спросил подмастерье.
— Ясно, обычные, в Москву едем, там насчет плутония строго. Ни к чему нам задержки. Номер тоже московский навесь, кто его там знает, по каким улицам ездить придется. Пропуск в Кремль не забудь.
— Денег взять? — деловито спросил подмастерье.
— Денег? — Богдан поднял лицо к бесцветному весеннему небу и впал в задумчивость, потом повторил с большой растяжкой, будто выговаривал вовсе неизвестное ему слово, — де-е-енгьи-и… А зачем нам деньги? — Богдан медленно повернулся к речушке, словно та могла дать какой-то ответ, его резкий профиль наводил на мысль о беркуте, которому предложили стать вегетарианцем и тем ввели в сомнение. — Давыд, зачем деньги?..
— Ну, деньги… На лапу там дать, сигарет прикупить…
— Ну, да, Давыд, молодец, вспомнил. Давай к Фортунату. Возьми фунта три, помельче, бумажки не бери, не люблю их. Или нет, скажи, пусть сам принесет. Я на него мастерскую оставлю. Пусть ночь поработает.
Давыд нахмурился, но пошел выполнять приказание. Он ревновал. Формально Фортунат Эрнестович исполнял в хозяйстве Богдана функции бухгалтера (АОЗТ «Выползово»), но лишь до первого запаха жареной рыбы. Фортунат так ненавидел ее, что, пообоняв оный запах одну минуту, обретал силу неверия — почти равную Богдановой, и ловко управлялся с чертями. Конечно, делал он работу гораздо медленней: сколько рыба ни воняй, а на вызов и разделку черта тратил бухгалтер добрых двое суток тяжкого труда. Именно он единственный мог сменить Богдана в чертоге, и оттого Давыд терзался. Он понимал, что сам сейчас сядет за руль и повезет мастера в Москву, а Фортунат останется дышать жареной мойвой, но все равно ревновал. Он привык считать вторым в фирме себя.
Но Фортунат был мужик невредный, работу любил бухгалтерскую, а не чертоварскую, без него Богдану никогда не отбрыкаться бы от налоговых инспекторов. Фортунат же при визите очередного сразу ставил на электроплитку сковородку с несвежей мойвой — и через пять минут уже тащил из гостя вешняка либо летника, смотря по времени года. Не одержимые люди в инспекторах не служили, в каждом сидел черт. Черт же в хозяйстве Богдана сразу шел на мыло, на шкварки и на прочее. Обезбесивший инспектор становился послушен, словно агнец, подписывал все нужные бумаги и отбывал в Арясин или Тверь. А Фортунат потом полдня полоскал ноздри ключевой водой. Нет, Фортунат был мужик невредный, и зря Давыд ревновал.
4
Друзья затем и существуют, чтобы оказывать друг другу бесплатные услуги.
Франц Верфель. Песнь БернадеттеГлубокая ночь с воскресенья на понедельник висела над Московской кольцевой автодорогой, когда ее пересек со стороны Петербургского шоссе грузный, специально сработанный под самые крутые нужды автомобиль, по виду похожий на те, которые из банка в банк возят самую свободно конвертируемую валюту и разные золотые слитки. За ветровым стеклом слева сверкали три пропуска с суровыми надписями и подписями, не рекомендовавшими дорожной полиции задерживать автомобиль ни на въезде в Москву, ни на въезде в пределы Садового кольца, ни при попытке въехать в Кремль. После выполненного Богданом подряда на кожаные обои для Большого Кремлевского дворца чертовар мог позволить себе и не такие вольности.
Автомобиль непоспешно доехал до Триумфальной площади, свернул налево, потом направо — и замер против знаменитого своим тридцать восьмым номером здания. Богдан проверил прицел гаубицы и вылез из задней двери. В знаменитое здание он шел один. Не глянув в пропуск, дежурный отдал честь: Богдана знали с тех пор, как он помог почти вдвое разгрузить самый крупный следственный изолятор. Он бывал на Петровке редко, но тот, кто единожды видал его плотную, закованную в черную кожу фигуру, обречен был помнить ее до скончания дней. К дежурному по городу Богдана тоже провели без задержки.
— Что за блядство? — спросил чертовар, входя и не здороваясь. На стол дежурному полетела телеграмма. — Откуда отправлена? Подпись не смотрите, это мое дело.
Дежурный быстро вызвал оперативников, но Богдан жестом отменил приказ, ему не такая помощь требовалась. Он желал знать почтовое отделение, из которого отправлена телеграмма. После минутной перепалки по телефону дежурный сообщил, что четыреста семьдесят третье — совсем рядом, на Волконской площади, напротив дома Федеральной Службы, жилого, бывшего следовательского, целиком приватизированного…
— Достаточно, майор, — одобрительно сказал Богдан, — если я не ошибаюсь, в Москве все еще только один женский вытрезвитель?
— Мэрия обещает…
— Хорошо, что обещает. Но вы не верьте. Спасибо, майор. Ну, пока.
Через минуту окно майора уже было снято с прицела Богдановой гаубицы. Еще через четверть часа грузный автомобиль въехал в Неопалимовский и развернулся задом к неприметному входу в известный всей Москве вытрезвитель.
Здесь Богдана не знали, страшный автомобиль наведался сюда впервые. Богдан не ждал триумфального приема, только посмотрел на часы: половина третьего ночи, не поздно. Он давно собирался почистить здешние закрома, но руки не доходили, материала и в Тверской губернии пока до хрена. Теперь же, судя по рассказам офеней-заказчиков и верной их помощницы из Арясина, владелицы магазина «Товары» (на самом деле это была молясинная лавка) Ариадны Гораздовны Столбняковой, пристроившей дочь сюда в унтер-уборщицы, именно тут могли содержать неизвестно в каком виде того единственного человека, который сам себя назвал Кашей — в телеграмме Богдану. Никакой сентиментальности в Богдане не было, но он не привык менять убеждения. Все школьные годы просидел он с Кашей за одной партой и во все эти годы не позволил никому обижать своего соседа: тот имел право на защиту, ибо, будучи унижен, унизил бы достоинство самого Богдана, а этого Богдан стерпеть не смог бы. Нынче из-за дурацкого имени, данного пьяным попом, за товарищем детства и ранней юности Богдана охотились грязные сектанты, нарушающие стабильность внутреннего рынка России. «Истинные» уже не раз использовали притон в Неопалимовском как перевалочный пункт для своих жертв, однако внедренная сюда дочь Ариадны Столбняковой, со своей неприметной должности подметальщицы стриженных ногтей о здешних безобразиях регулярно докладывала. Если только «истинные», которым срочно требовались для жертвоприношений Кавели (и не-Кавели на всякий случай) бедного Кашу не утащили прямо в свои трущобы, то храниться он сейчас должен был здесь. Богдан полагал, что жадность заставит здешних начальников задирать цену все выше и выше, «истинные» же, по безвыходности положения, соберут любые деньги и выложат их. Лишь бы Кавель был к очередному празднику. Но дорог нынче Кавель, дорог.
Особенно дорого он обойдется тому, кто его обидит. Потому что Богдан Арнольдович Тертычный сидел в школе с Кавелем Адамовичем Глинским за одной партой. Потому, что чертовар Тертычный представлял собой неучтенное «неизвестное» в уравнении Начала Света, выстроенном младшим тезкой Кавеля вместе с его «истинными» прихлебателями. А еще потому, что за «истинных» давно пора взяться всерьез с промышленной стороны: это не убогие сатанисты, наверняка среди членов секты найдутся одержимые бесами. Бес же, извлеченный из человека, обычно и здоровей, и качественней того, которого надо вытряхивать из-под земной коры, где базальт пребывает в жидком состоянии и где бесы по большей части ютятся; кроме того, не продохнуть бывает от этих раскаленных туш в чертоге во время работы, а выпороток в них очень редок, безоар не встречается никогда, — разве что хрящей вдоволь, так много ли толку в хрящах? Нет, не в добрый для себя час Кавель покусился на Кавеля.
Опять Богдан неторопливо вылез из задней двери своего бронированного транспорта и пнул толкнул дверь в вытрезвитель. Было заперто. На стук не реагировали. Богдан опустил на лицо нечто вроде маски газосварщика и ударил в дверь коленом. Дверь с треском упала внутрь помещения; судя по воплю, кого-то пришибло. Не обращая внимания, заложив кулаки в карманы кожаного пальто, Богдан вошел в комнату, представляющую собой гибрид приемного покоя, регистратуры и грязного тамбура. За окошком маячила фигура заспанной женщины в форме, двое местных охранников встали в стойку — они держали Богдана на мушке. Чертовар повел тяжелым взглядом.
— Прекратить. При первой попытке дернуться — стреляю, — сказал Богдан, не вынимая рук из карманов. — Бросить оружие. Встать лицом к стене. — Увидев, что его приказание не исполняется, добавил: — Раздеться догола. Встать раком.
Потрясенные служители вытрезвителя побросали оружие и непослушными пальцами начали расстегиваться. Подчиненные страшной воле чертовара, никогда не верившего в свое поражение, они уже были готовы сбросить последнее исподнее и принять требуемую для изгнания черта позу, но Богдан закончил зондирование. Все это были людишки подневольные, ничем ценным не одержимые. Довольно будет и того, чтоб не вмешивались.
— Отставить раком! — скомандовал Богдан, и трое замерли, как в кинокадре. Они больше не интересовали непрошеного гостя. Он шагнул к металлической двери, через которую — теоретически — пьяных баб отправляли на мытье и на протрезвление, и вышиб дверь тем же способом, что и первую: ударом колена. В грудь Богдану затарахтела автоматная очередь, он поморщился — стрелять в чертову кожу… Пули рикошетировали.
— А ну встать раком! — рявкнул он незадачливому автоматчику. Тот не внял и продолжал строчить, словно в руках его была швейная машинка. — Ага!
Богдан выбросил из кармана кулак с оттопыренным безымянным пальцем. Автоматчика скорчило, он завалился набок, попутно поджимая ноги. За его филейной частью стало конденсироваться бурое облако. Богдан обвел глупого стрелка рукой, заключая в кокон, а заодно запихнул выползающего вешняка назад в кишку, — будет еще время аккуратно вытащить его в мастерской. Одержимый вместе с одержателем были временно парализованы. Сколько таких полуфабрикатов перевозил Богдан в мастерскую! Выгодно и просто.
Тем временем заспанный майор, уже знакомый читателю по квартире Кавеля Глинского, появился из боковой двери, рванулся к Богдану и более чем профессионально выстрелил ему под маску, прямо в рот. Богдан мотнул головой и сплюнул пулю. Зубы он носил тоже чертовы.
— Кондратий Глебович, — сказал чертовар, — Это напрасно. Теперь я вас с собой заберу. А ведь мог повременить, но теперь заберу, и не только вас. Жадность выдает вас нечеловеческая. А ну раком!
Майор сделал робкую попытку застрелиться, но пистолет из его руки уплыл в карман к Богдану. Через миг новый человек-кокон валялся на полу коридора. Зависло молчание.
— Тихий ангел пролетел, — издевательски пробормотал Богдан. Не любил он сопротивления, особенно такого жалкого и бесплодного. Иной раз черти пытались наслать на него землетрясение — до девяти и восьми десятых по шкале Рихтера, Богдан сам замеры делал; и протуберанцами его глушили, и копья царя Соломона под Большой Оршинский Мох, болото северней Выползова, подсовывали, — чего только не вытворяли! Бесится скотинка… После такого сопротивления или подкупа, достойного по масштабам, черта и свежевать и пластать было как-то интересней, хотя он и плесень несмысленная, вроде сыроежки. А тут, на Неопалимовском — какая-то мелкая бесовщина, хоть и не свежуй, прямо в автоклав гони.
Богдан прошел вдоль коридора, привычным тычком колена вышибая двери, — все падали внутрь камер. Из-за дверей неслись стоны, звон кандалов, лязганье затворов, но выстрелов больше не было. Прямо с порога Богдан кричал грозное «Раком!» — и на этом все кончалось. Двери последних камер были оправлены сталью и вообще больше напоминали оформление входа к золотому запасу великой державы, не из самых великих, но великой. Однако автомобиль Богдана выглядел посолидней, чем такая дверь, а Богдан мог бы стать грозным противником для в самом деле великой державы. Даже и самой великой.
Лениво извлек чертовар из карманов обе руки и натянул на них стеклянные перчатки. Потом погрузил пальцы в сталь двери, словно в воду, — по поверхности побежала крупная вертикальная рябь. Потом оплавленные куски полетели на пол. Богдан обращался с металлом, как с войлоком, через минуту и наружная дверь, и внутренняя валялись грудой бесформенных оплавков, лишь глупо сиял оставленный в небрежении цифровой замок. В живот Богдану что-то ударило, с дымом разорвалось. Богдан покачал головой.
— Четырехдюймовка… Надо ж, разоряются, чего только не удумают… Совсем, однако, за дураков нас принимают… — бормотал Богдан, со скучным видом вышибая третью, четвертую и пятую двери. В помещении, защищенном столь мощно, ничего интересного не было, лишь валялся в обмороке человечишка, недавно орудовавший в квартире Глинского мыльно-коньячным огнетушителем. Богдан повел рукой — никакой бес в мужичонке не обитал, а сам он был Богдану ни к чему. Богдан досадливо сплюнул — тоже мне, стоило рвать пятислойную дверь на куски. Богдан опять натянул перчатки и занялся дверью с номером «9». Сцена почти повторилась, однако на этот раз не стреляли. В комнате-сейфе лежал, скованный цепями, помещенный под капельницу, пожилой человек с седыми усами и лысиной, рядом в обмороке висел на спинке стула еще один тип пенсионного возраста — вероятно, врач.
— Трифон Трофимович, за что они тебя сюда? — с горечью сказал Богдан, проводя рукой над лицом спящего. Тот просыпаться и не думал. Чертовар растолкал врача. — Чтоб в тридцать минут перевели в Кунцево. Никаких выкупов. Ему еще спать и спать, а когда он соберется просыпаться, я вам заранее скажу… и заберу его.
— Спящий… — пролепетал врач.
— Я, кажется, ясно сказал? Никаких выкупов. На то он и Спящий, чтобы спать. Который год спит, и еще поспит. И нечего дергать. Кстати, а сам-то ты… Нет, пустой ты. Но за Спящего ответишь лично. Вот тебе метка.
Богдан вскинул левую руку большим пальцем к лицу врача. Посредине лба у того появилось морщинистое, поросшее редкими волосками родимое пятно. Медик схватился за физиономию.
— Сниму, не бойся. Когда Спящий проснется, тогда сниму. А пока будешь беречь его здоровье и покой. И от покушений. Если что — шли телеграмму: Арясинский уезд, Выползово, Тертычному. Спящего обижают. Подписи не надо. Ясно?
Лекарю было куда как ясно. Богдана он более не интересовал. Богдан рвал в клочья дверь десятого бокса, отмахивался от пулеметных очередей, вышибал филенку за филенкой, пока не вошел, наконец, в святая святых неопалимовского вытрезвителя. Здесь, под точно такой же капельницей, как Спящий, лежал собственной персоной Кавель Адамович Глинский, он же Каша. Два санитара, расстрелявшие боеприпасы, жались к стене и тянули руки к потолку. Чертовар почти нежно провел по лицу Кавеля ладонью, вывернул ему веки.
— Гексенал? Как же, будут тратиться. Декапроптизол? Хренопон, словом… Вульгарный наркотан, экономисты, Марксом траханные! Чем тебя откачивать теперь, спрашивается? Ничего, отблюшься…
Богдан извлек ампулу с ярко-красной жидкостью, обломил конец и поднес к носу Кавеля. Тот чихнул, рванулся с койки и упал чертовару на руки.
— Н-да, слабо на тебя эта пакость действует, какие ж дозы тут понадобились? Видать, адреналинчик, адреналинчик-то в избытке… — бормотал Богдан, придерживая лоб неукротимо блюющего Кавеля. В развороченных дверях появился Давыд.
— Светает, Богдан Арнольдович. Нам бы домой, мы скоро?
— Мы уже… Стели в кузове. Тут не меньше десятка клиентов с начинкой. И знакомься. Вот мой друг, Каша Глинский. Чуть не съеден всякой плесенью, но, видишь, спасен и блюет. Будет отлеживаться у нас, на Ржавце, молоко пить от Белых Зверей: будет хорошо ему. Любишь молоко от Белых Зверей, Давыдка?
Мордовкин расплылся в улыбке. Ячье молоко с куском янтарного масла представлялось ему верхом блаженства.
— Полименты едут, слыхать… — сказал Давыд. Богдан заторопился.
— Тогда катапульту сюда. Грузи в кузов. Одежку ихнюю не бери, расползется все равно, когда чертей вынимать будем. А тут нас больше ничего не касается.
Давыд приволок носилки и складную катапульту: Кавель должен был покинуть вытрезвитель воздушным путем, только такой след не могли взять «истинные», отчего-то боялись они воздушной стихии. Для равновесия чертовар прикрепил клейкой лентой по бокам санитаров пожирней, посредине положил так и не проснувшегося Кавеля, потом ударом кулака вышиб внешнюю стену бокса. Запахло утренней сыростью. Богдан установил реле, вышел сквозь стену из разгромленного вытрезвителя, по-детски ясным взором окинул светлеющее небо и ближние задворки. Откуда-то тянуло жареной мойвой.
— Погода хорошая…
Давыд запихнул последний кокон с чертом и человеком в фургон, закрыл дверцы. Забрался на водительское место. Отвел машину подальше, саженей на семьдесят. Катапульта грохнула: реле сработало точно. Носилки с укрепленным на них Кавелем и двумя санитарами-противовесами описали большую дугу в утреннем небе и мягко спланировали на крышу страшноватой машины. Богдан осмотрел Кавеля, потыкал в углы губ, опять вывернул веки. Потом накрыл брезентом. Отклеил санитаров-противовесов, уложил в сторонку, не забыв каждому вкатить по шприцу чего-то не известного легальной медицине. Помнить о полете на носилках им не полагалось.
— Пусть проветрится на крыше, — сказал Богдан, — через часок спрячем, чтоб не простудился. Хоть и неприятно с вешняковыми консервами вместе укладывать. Сволочи они тут, однако: берут заложников, так берегли бы!.. Шутка ли — шестьдесят часов под наркотаном, можно и концы отдать. Ничего не умеют. В каждом по бесу ленивому сидит.
— Вешняк всегда ленивый… Почти всегда, — со знанием дела ответил Давыд, выруливая на Садовое кольцо, — Хорошо домой ехать, Богдан Арнольдович! Не люблю я Москву. Толчея тут.
Богдан глянул за окно: на утренних улицах не было ни души.
— Ну уж, и толчея… — лениво сказал он. Где-то позади выли сирены, запоздавшие участковые группы спешили к недобиткам из Неопалимовского на помощь. Там полицейских ждала немалая неприятность, — хотя, конечно, уж никак не та, на которую им довелось напороться. Из бокса с номером «8» выбрался специалист по мыльно-коньячному делу, нашел привычное оружие и развернул оборонительные действия. Расстреляв без видимых результатов свыше тридцати имевшихся у него мыльных огнетушителей, будучи затем оглушен резиновою дубинкою, он добровольно сдался ОЧПОНу. На Петровке примерно представляли, что именно случилось на Неопалимовском, — там знали, что никакой автоген при вскрытии дверей использован не был и лазерный луч тоже ни при чем. Поэтому за истерикующей бригадой, обождав, послали свою собственную.
А Богдан пока что ехал вовсе не к себе на Арясинщину. Его жуткая машина развернулась на Самотечной площади, затем переулками поднялась на Волконскую. Дверь в квартиру Кавеля рвать на части не понадобилось, она с пятницы стояла незапертой. Лишь пустые полки из-под коллекции молясин да включенный холодильник с одинокой слепой треской в морозильном отделении — вот и все, что нашел Богдан в жилище друга детства. Он понюхал воздух. Потом рывком, как кровяная гончая, она же собака Святого Губерта, пробежал вдоль стен, принюхиваясь. За считанные секунды он «прочел» все полки до единой, пользуясь тем способом, который древние греки именовали «бустрофедон»: дочитав полку справа налево, следующую он читал слева направо — и так далее. Богдан сопел от удовольствия.
В прихожей появился Давыд.
— Что… Много тут, Богдан Арнольдович? — спросил он неуверенно.
Богдан не ответил, он яростно втягивал в себя воздух возле самого пола. Потом поднялся и стал загибать пальцы. Когда пальцев не хватило, он молча подозвал Давыда; теперь чертовар загибал пальцы на его руках. Этих пальцев тоже не хватило. Давыд послушно снял обувь. Кончилось все тем, что чертовар и помощник оказались на полу, и пальцы у них были загнуты все — кроме одинокого мизинца на левой ноге Богдана. Чертовар вздохнул.
— Сороковой, знаешь поверье глупое, роковой. Скорей хорошо, что их тридцать девять.
— Да где они, Богдан Арнольдович?
— Обокрали они моего Кашу! Одержимые тут были, вот кто! А мы полки увезем и к пыли, к пыли на них одержимых с одержателями… в лучшем виде. Сами приедут в Арясин, нечего их катать. Да и нам с тобой эти шелковичные коконы класть некуда. — Богдан поймал укоризненный взгляд помощника: коренной уроженец Арясинщины, древнего шелководческого места, Мордовкин не любил, когда обижают шелковичные коконы, шелковичного червя, Великий Шелковый путь и все другое шелковое. — У нас в чертоге забитый, почти еще вся туша. Раз. В подсобке два колобка — три.
— Чего забитого считать…
— Ну, хрен с ним, пустим его в автоклав, он уже шкуру дал и безоар. Нет, пусть Фортунат доделает, материал все-таки. А в машине у нас — шестнадцать. Значит, восемнадцать… ну, с половиной. Нет уж, эта последняя партия пусть сама в Арясин едет. К тому же нутром чую: иные под семьсот пудов потянут. Куда их столько деть? Пусть сами едут, в порядке живой очереди. Да какая они живая очередь! Они и не мертвая очередь. Словом, давай снимать полки.
— Может, и с выпоротками есть? — с надеждой спросид Давыд.
— Кто его знает… Нынче вешняк идет, а у вешняка выпороток — штука редкая… Взяли!
Давид крякнул. Полка была тяжелая. Ее, как и последующие, уложили в кузов поверх одержимых. Поверх досок разместили носилки вместе со спящим Кавелем Адамовичем Глинским. Дыхание бывшего следователя понемногу приходило в норму, но до пробуждения было далеко. Богдан осмотрел получившийся груз, надел замшевый чехольчик на ствол так и не задействованной гаубицы. Потом закрыл заднюю дверь, домой он предпочитал ездить рядом с водителем.
— Ну, и на что нам были деньги тут, Давыдка? Давай домой. Однако нет, деньги-то, деньги, на что-то и вправду деньги были нужны… А! В Клину заедем на рынок. Мойва кончается. Фортунат работать не сможет. С четырех десятков туш налогу сколько? Непременно еще один-другой инспектор на свою… голову?.. заявится… В общем, из Твери, чую, припрется. А тут и без него работы на два месяца.
— Больше одного черта в день утомительно, — повторил Давыд привычную реплику хозяина как свою, и завел мотор. Пустая квартира Кавеля на Волконской была оставлена кому угодно, украсть из нее можно было разве что слепую треску. А тяжелая машина выкатила переулками на Тверскую-Ямскую, естественным образом переходящую в Петербургское шоссе, и отбыла курсом на северное Заволжье, так и не воспользовавшись ни пропуском в пределы Кремля, ни иными льготами, на которые согласно своему номеру и особым приметам имела право.
В Клину оказались рано, однако стук золотого империала в форточку рыбной лавки сотворил чудеса: Богдану Арнольдовичу вынесли и мойвы наиболее тухлой пять пудов, и белужьей икры светло-серой слабого посола в штучной расфасовке императорских астраханских садков Нижней Волги: пять фунтов для выздоравливающего Кавеля. Больше, как знал Давыдка, никто осетровую икру на Ржавце и Выползове не ест после кое-каких событий, и да и из этой икры Шейла больному спечет свои фирменные лепешки, икряники: она верила, что блюдо это лучше всех других помогает восстановлению сил поврежденного организма. Хотя сама тоже их есть не всегда решалась.
За всю красивую жизнь — полтора империала. Еще один Богдан выложил в том же Клину за полный бак девяносто третьего бензина. Все расходы пойдут Фортунату в амбарную книгу, ну, а доходы выяснятся после изъятия содержимого из одержимого груза.
Московские номера теперь не требовались, Давыдка навесил арясинские; можно было бы и еще самые разные, но ехали они сейчас именно через древнюю столицу захолустного (оттого — богоспасаемого) княжества. В районе крохотной станции Донховка засел в дорожной полиции у Богдана какой-то недоброжелатель, притом, что было точно проверено, не одержимый, притом, что всякой логике противно — неподкупный. Говорили, что сидит там кто-то из бывших князей Дмитровских, так и не покоривших Арясин, и завидует, что из-за Богдана арясинская экономика процветает. Донховку беспрепятственно проехали в восемь, дальше требовалось не проскочить Важный Поворот — но Давыд свои обязанности помнил и Поворот, конечно, не проскочил.
Дальше на горизонте засверкала Волга и перекинутый от захиревшего Упада к руинам древних башен Полупостроенный мост. За мостом, в шести верстах вверх по течению Тучной Ряшки, как раз и стоял уездцентр Арясин. Не всем видимый, под шинами Богданова автомобиля мост не скрипел.
Справа остался действующий женский Яковль-монастырь. Давыдка искоса посмотрел на кресты, хотел перекреститься — и не посмел, хотя знал, что хозяину это безразлично, Богдан Тертычный был твердокаменным атеистом, к чужим предрассудкам относился неодобрительно, но никого за них не карал. Хотя для набожных арясинцев Богдан был «сущим афеем» (так на киммерийский манер называли его офени), занимался он своими промыслами вполне легально и лицензионно, АОЗТ «Выползово» в графе «источник сырья» указывало — «природная плесень»; именно плесенью считал Богдан чертей, от которых очистил Арясинщину похволив буйно расцвести и всяческой торговле, и шелкопрядству, и промыслу кружевниц.
Бронированная машина неспешно миновала главную площадь Арясина, когда-то прославленный ярмарками Арясин Буян, свернула в Копытову улицу, перевалила через Ряшку и, оставив по левую руку глубокий Накой, поехала по проселочной дороге на Суетное, богатое село о семи церквях; не доезжая до него, машина свернула к селу Ржавец, которое, как и Выползово, Богдан давно откупил у цыган. Дорога была колдобистая. «Типун тебе на язык да колтун на голову!» — ругнулся Давыдка, обращаясь неизвестно к кому.
— Каша просыпается, — вдруг сказал чертовар, — давай быстрей.
— Еще две версты, — одними губами прошептал Давыдка, но газу прибавил. Усадьба на Ржавце была ухоженная, а подъезд к резиденции тутошней владычицы забетонирован. Что такое была тысяча тонн бетона для Богдана, когда дело шло об удобствах любимой женщины!
Невенчанную, но любимую жену Богдана звали Шейла Егоровна Макдуф, было ей под пятьдесят, носила она очки в роговой оправе и, сколько помнил Давыдка, никогда не отлучилась из Ржавца дальше того, что в народе зовется «до окоёма». Богдан приходил сюда на редкие выходные и был вполне счастлив, распивая с женой и ее очередными «выздоравливающими» постояльцами ячье молоко. Вот и сейчас Шейла стояла перед въездом в усадьбу и его загораживала. Пришлось остановиться.
— Глуши мотор, — сказала она. В каждой руке у нее было по полному ведру пенящегося, еще парного молока от Белых Зверей. Давыдка облизнулся: меньше стакана тут не наливали. — Не сопи, тебе тоже налью. Привез, Богдаша? Фортунат по мобильнику звонил, говорил, что больного везешь.
— А то, — мрачновато ответил Богдан, вновь обретая сходство с задумавшимся беркутом. Случаев, когда он бы не исполнил задуманного, не знала история.
— Тогда ждите: молоко процежу, — сказала Шейла, уходя в дом. — Давыдка, Богдаша, несите бедолагу. Процежу молоко, масло размешаю — и будем поить. Выхаживать.
Мордовкин смачно втянул воздух.
— Савельюшка, марлю неси! — крикнула Шейла пасынку, отлеживающемуся где-то в глубине старого, хотя сильно перестроенного барского дома.
— Вот и Савелий пригодился, — равнодушно сказал Богдан. Пасынок жены, при всем его паразитстве, никогда не мешал.
Богдан давным-давно открыл в себе силу неверия, назвал ее каталитической и острил, что по вероисповеданию он — каталик. Сила неверия сидела в нем от рождения, а поскольку родился он в Знатных Свахах уже в те поры, когда поп Язон отбыл в свой последний путь, то был Богдан некрещеным. Однако с младых ногтей развил он в себе дар власти над чертями, коих воспринимал примерно как природное бесхозное сырье, вроде грибов, березового дегтя, лыка и прочих чудес русского леса.
Вызывать чертей из пропастей кипящей магмы, либо же извлекать их из кого-нибудь одержимого, было для Богдана то же, что иному рвать вишню с ветки. Научную сторону употребления чертовой туши Богдан разработал еще в юности; потом, когда собрались деньги от первых опытов, — Богдан сбывал готовые кожи некоему мастеру-брючнику, у которого и познакомился с Шейлой, — он откупил у цыган два села на Арясинщине и был с тех пор весь в работе, в семейном счастье и опять в работе.
Досаждало ему в здешних лесах неожиданными сюрпризами только болото Большой Оршинский Мох, где черти жили тысячелетиями. Богдан их почти всех уже переловил и пустил на мыло, но бывали и накладки. Конфуз приключился весной девяносто второго года, когда Россия пребывала в очередном припадке смены мнения о себе самой. Щелкнул тогда в чертоге пальцами Богдан и увидел, что никакой не черт возник в рабочем пентаэдре, а большой, одновременно похожий на рогатую жабу и на артиста Фернанделя, водяной. Богдан водяного привычно перевернул рогами вниз и бросил на вагонные весы, — Давыдка в то время еще бегал по родному селу и выл под окнами, и чертовар приготовился записывать сам: сколько в материале пользы и какой. Но водяной рыдал зелеными слезами, и чертовар стал его разглядывать. Это был не черт, нет, не черт. Не должна бы каталитическая сила на эту рыбу-жабу воздействовать. Но вот — вытащила, как на удочку осьминога. Первый и последний раз Богдан снизошел до разговора с уловом.
Разговаривал водяной в отличие от чертей очень плохо, со всеми нажитыми в болотных топях дефектами речи. Вытащил его Богдан, оказалось, не из Моха, а из топляков на дне высыхающего Московского моря, чем-то водяной, конечно, был родствен чертям, но отнести его к простому сырью мастер не решился, постановил временно считать улов как бы рыбой. А рыба обязана метать икру. Вот и давай, мечи. А звать тебя будут, например, Фердинанд.
И водяной, напружась, стал метать. Светло-серую белужью, конечно, так и не обучился, но черную простую — сумел. Богдан посадил пленника в водоем с природно соленой водой, бабы оттуда раньше воду для засола огурцов брали. Но Богдан бабам к водоему приходить заказал настрого: найдете соль и еще где-нибудь, не бедные. К концу месяца весь пруд был застелен плотным слоем мелкой черной икры, которую радостно лопали Черные Звери — как добавку к обычному рациону из овсянки со шкварками, вытопленными из чертова сала: огромным черным собакам, охранявшим угодья Богдана, водяной угодил. И работники этой икрой не брезговали, да и Шейла говорила, что могла бы иной раз подать ее к столу под графинчик калгановой. Но Богдан водки почти никогда не пил, так что и закуска была ни к чему. Давыдка же во всем подражал хозяину; впрочем, ни Варсонофий, ни Савелий не отказывались. Зачисленный в рыбы, водяной метал икру круглый год. И то польза. Но Богдан по сей день сомневался — правильно ли поступил, взяв на службу существо, которого не бывает. Зато не сомневались Черные Звери, а с их мнением Богдан считался.
Над хутором Ржавец, над чертоварней, над Арясинщиной, над всем бывшим Тверским Великим княжеством разгорался весенний день, трудовой день чертовара. Проведя бессонную ночь, Богдан и не думал ложиться спать. Со стороны Выползова несло чудовищной вонью тухлой и к тому же пригорелой мойвы; следовательно, Фортунат кого-то отловил и, возможно, приступил к разделке. А когда на чертоварне главный — не дело маять заместителя, он к тому же два дня с одним вешняком проваландается, даже если тот хилый. Богдан вспомнил, что на столике в чертоге остался драгоценный безоар, и заторопился — хотелось поскорей взять в руки. Кашу Глинского Шейла теперь сама выходит.
Богдан наспех съел бутерброд из половинки батона, выпил стакан чего-то густого белого, но вкуса не почувствовал. Шейла легонько толкнула его в спину: она знала, что чертовар без работы — не мужик.
— Езжай!
Тяжко груженный фургон покатил к чертогу.
5
С такой пищей можно перейти Альпы, перетащить через Балканы, под звуки дубинушки, пушки, отмахать поход в Индию.
Александр Энгельгардт. Из деревни. 12 писем 1872–1887 годовСтоль же солнечным апрельским, все еще великопостным утром поезд «Москва-Арясин» благополучно миновал и Клин, и Решетниково, и Донховку, а потом на Важном Повороте ушел налево, чтобы миновать Полупостроенный мост: так для железнодорожников мост именовался официально, чтобы не смущать народ отсутствием второй колеи, как бы положенной такому процветающему городку, как Арясин. Ибо оттуда мог отбыть по этой колее только тот же самый поезд, что ранее туда прибыл. Было в этом поезде всего четыре вагона: в первых трех ехали люди как люди, зато четвертый был обитаем народом странным и весьма разношерстным.
Начать с того, что народу в вагоне было очень мало, чертова дюжина, тринадцать душ, большей частью мужчины, меньшей — женщины. Из последних выделялись две: молодцеватая бабища с генеральскими погонами о двух битых змеях каждый, с большим портфелем, — и ветховатая старушенция, без портфеля, но с колоссальной, неприличных каких-то размеров тыквой. С тыквой ехала она одна, с прочими пассажирами были портфели и кейсы, с некоторыми даже по два. С портфельчиками ехали две барышни, примостившиеся в том углу, где вагонная скамья укорачивается на одно место и к двум пассажирам, сколько их ни жми, третий не подсядет. Еще один пассажир, лысоватый и тощий, с хохолком посреди головы, был, вероятнее всего, семитских кровей; другой, оплывший и холеный, видимо, принадлежал к распространенной в Москве мусульманской нации, а оттенял их азиатскую породу мощный, рекламного вида негр с очень толстыми, вывернутыми губами и с целой грудой портфелей. Среди прочих наблюдался еще один генерал, опознаваемый лишь по лампасам на брюках, имелся также одетый в полную форму полицейский — не только не генерал, но вообще человек звания очень мелкого. Были здесь, что греха таить, и таксист Валерик, и техник-смотритель Денис Давыдович, и сосед с последнего этажа Феоктист Венедиктович, и почтальон Филипп Иванович, — словом, все посетители, мародерствовавшие в квартире Кавеля Адамовича Глинского в памятную ночь беспамятного ареста. Почему-то за исключением сбежавшей жены Кавеля, Клары, осторожного человека в перчатках с когтями и подполковника, состоявшего при женщине-генерале. Не было здесь также пришедшего глубокой ночью мальчика, отсутствовали сотрудники неопалимовского вытрезвителя, но с ними-то дело было давно улажено. Не присутствовал и горбун Логгин Иванович, который ушел из квартиры несолоно хлебавши и ничего не укравши.
Отсутствие иных посетителей объяснялось просто: когтистый гость вообще ничего, кроме рыбьих глаз, не взял, — даром что исполнял не свою, а важную чужую волю; мальчик не прикасался к полкам, а жена Кавеля, Клара, как и шофер-подполковник, тоже исполняли чужую волю, хотя не такую важную и сильную: потому и вез вагон в Арясин только тринадцать пассажиров. Исключая двух сотрудниц музея Даргомыжского, пассажиры расселись так, чтобы находиться друг от друга подальше. Трехчасовая дорога от Москвы порядком утомила их, в особенности потому, что ни один не мог взять в толк — чего ради возникло в нем необоримое хотение нынче же ехать в неведомый Арясин, самого названия которого большинство из них никогда не слыхивало. Из видимого багажа провиантом могла, да и то условно, считаться лишь тыква в руках старушенции; пассажиры же хоть и оголодали, но не настолько, чтобы набрасываться на сырую тыкву. Часть пассажиров, к тому же, маялась не голодом единым.
Участковый Гордей Фомич именно тогда, когда поезд шел от Важного Поворота на Полупостроенный мост, не выдержал. Он расстегнул свой лопающийся портфель, извлек из него бутылку с темной жидкостью, — затем, аккуратно прикрывая этикетку волосатой лапищей, скусил укупорку и стал пить из горлышка. Акробат и владелец магазина деликатно отвернулись, оба генерала, видя, что младший по чину производит распитие неизвестно чего в присутствии старших по чину, — и делиться явно не собирается, раз уж пьет из горлышка, — забеспокоились. Когда в бутылке осталась половина, женщина сверкнула змеями на погонах и властно прервала упоительное занятие участкового.
— Отставить!
Гордей Фомич послушно отставил бутылку на скамью.
— Это что такое?
Гордей Фомич залился краской.
— Служу Российской Империи! — квакнул он не к месту, а потом вдруг запел фальцетом: — Как бы мне-е, ряби-и-не, к ду-у-бу перебра-а-а-а…
— Отвечайте, сержант, какая рябина? А ну, встать в присутствии старшего по званию!
Участковый немедленно встал, то же самое против воли сделал и генерал-майор Старицкий, хотя из военного на нем были одни брюки. Женщина мигом просчитала его чин и бросила:
— Садитесь, генерал-майор, а вы, сержант, отвечайте!
Участковый вежливо извлек из портфеля другую бутылку, непочатую близняшку первой.
— Так ведь коньяк же — он на дубу… Словом, дают спирту дуба, из него коньяк получается. А это — рябина на коньяке, стало быть, рябина к дубу перебраться смогла, такая в ней сила воли проявилась…
— Сила воли? А ну, дайте сюда, сержант!
Генерал перехватила близняшку, в точности так же, как Гордей Фомич, скусила укупорку, приняла из рук сержанта вежливо протянутый пластмассовый стаканчик, налила сама себе всклянь, лихо выпила. Тут же повторила, немного помолчала.
— Вольно, сержант. Садитесь. Вы оказались правы: дуб к рябине — сила воли. То есть рябина к дубу… Успешно, словом. Кстати, угостите старшего по званию.
Свои кровные полбутылки Гордей Фомич отдавать пожалел, поэтому Старицкому была вручена еще одна — непочатая. Зубы у генерал-майора были вставные, повторить лихое армейское скусывание укупорки он не мог и аккуратно открыл бутылку ножичком. С полминуты в вагоне, на черепашьем ходу двигавшемся через Полупостроенный мост, слышно было лишь бульканье перебравшейся к дубу рябины в горлах у лиц военного сословия. Следующей не утерпела старушенция с тыквой.
Две бутылки были уже пусты, и участковый, поняв, что теперь им будет командовать любой, кто захочет, отнес их бабке. Та приоткрыла свою необъятную тыкву и ловко спрятала посуду внутрь. Фокус понравился. Гордей Фомич от всего сердца достал еще две бутылки — и с легким поклоном сколупнул укупорку с обеих. Одну — полную — он вручил старушенции, которая немедленно присоединилась к числу дегустирующих русскую песню о рябине, а участковый недоуменно оглянулся, соображая, для кого это он, собственно говоря, извлек и открыл еще одну. Совершенно белый с лица техник-смотритель с Волконской площади, которого участковый знал по долгу службы и бил ему раза три морду, чтобы тот не попал в вытрезвитель, — техник-смотритель сидел у окна в полуобмороке, он находился сейчас в самой страшной фазе похмелья, из которой живым без опохмела может выйти лишь очень молодой и очень здоровый человек. Денис Давыдович не был ни молодым человеком, ни здоровым. Участковый сам влил бедняге в рот первые капли, а дальше спасительная розовость прихлынула к лицу техника.
Старушенция выпила немного, повеселела и обвела вагон взором — нет ли еще знакомых. Знакомый был, один — директор того самого магазина, где две недели тому назад она укупила свою чудо-тыкву.
— Равиль Шамилевич, угощайся! — протянула она татарину бутылку.
— Ислам… — с сомнением ответил тот, отдергивая руку.
— Знаю я твой ислам, будто не ты на бровях по магазину ходишь! Бери и не кобенься, когда угощают.
Курултаев сделал какой-то загадочный жест, бутылку взял, помолчал над ней и вылил себе в горло полстакана — по-восточному, не касаясь губами горлышка. Старушка полюбовалась, бутылку взяла назад, отхлебнула, сколько хотела, по-простому, снова вернула ее Курултаеву. Тут не выдержал ночной таксист Валерик.
— Граждане, я тоже…
— Из Баку? — с интересом спросила женщина-генерал.
— Не из Баку, а с похмелья! Все пьют, меня угостите! — вырвался из души Валерика крик. Гордей Фомич уделил и ему бутылку, однако его портфель так и не похудел нимало.
— А посуду мне сдавайте, — напомнила Васса Платоновна, в чью тыкву, видимо, влезало не меньше, чем в портфель участкового.
Когда поезд миновал Яковль-монастырь и вдали замаячил Арясин, угощались все остальные: и сосед с последнего этажа, с которым не мог не поделиться опохмеленный Валерик, все-таки жили в одном подъезде, и почтальон, которому кто-то дал допить остаток, а потом еще другой остаток, ибо с ним была знакома половина присутствующих. Пил лысеющий семит-акробат, принявший бутылку как манну небесную, пил ни о чем не просивший негр — ему просто сунули бутылку, а он просто выпил. «Рябиновая на коньяке», двадцать четыре градуса крепость, шестнадцать процентов сахара, кисло-сладкая, терпкая. То ли ощутил все это негр, то ли нет, но бутылку высосал досуха. Трезвыми и грустными оставались лишь сотрудницы музея всенародного рукоприкладства имени Ильи Даргомыжского. Однако когда пассажиры, вдохновленные примером участкового и женщины-генерала, перешли к хоровому пению и завели балладу о том, как грустно стоит, головой склоняясь до самого тына, эта самая печальная рябина, не выдержали и сотрудницы: всю дорогу просидели они «спиной вперед», лишь бы к ним подсесть никто не мог, а теперь перебрались к старушенции и стали красиво выводить партию второго голоса; песня была родная, народная, младшие научные сотрудницы Пинаева и Трегуб абстрагироваться от нее не могли.
Им, естественно, тоже налили: для дам участковый придерживал небольшой запас пластиковых стаканчиков. Но тут поезд остановился.
— Вниманию пассажиров. Электропоезд «Москва-Арясин» прибыл на первый путь. Поезд дальше не пойдет, просьба освободить вагоны. Не забывайте свои вещи, о ценных находках сообщайте машинисту.
Лысеющий акробат, человек и профессионально, и национально любопытный, выглянул в окно: второго пути у вокзала в Арясине определенно не имелось, а рельсы упирались в земляной холмик.
— Зиновий Генахович, вас отдельно приглашать? — послышался голос женщины-генерала, уже выбравшейся на залитый солнцем перрон. Генерал со всеми перезнакомилась, запомнила имена-отчества попутчиков, только от негра Леопольда отчества она не добилась и была этим недовольна.
Акробат дважды приглашать себя не заставил. Все тринадцать пассажиров последнего вагона электрички стояли на арясинском перроне и переминались с ноги на ногу: неведомая сила влекла их куда-то в город, а куда — пока что они взять в толк не могли. Женщина-генерал как старшая по званию, да и вообще по привычке, взяла руководство группой в свои руки и проявила инициативу.
— Первым делом — в столовую!
При вокзале столовая открывалась в четыре, на часах же было едва-едва одиннадцать. Хмельному и голодному обществу посоветовали пройти от вокзала три квартала прямо, по Калашниковой, бывшей Калинина, а там на углу Жидославлевой, бывшей Горького, стоит гостиница «Накой» — в ней ресторан до шести как столовая работает, а после шести — как ресторан. Женщина-генерал прикинула, что три квартала ее нетрезвая команда как-нибудь да одолеет до шести, так что попадут они туда, куда надо. Генерал была почти вовсе не подвержена охмелению, однако весьма оголодала: горечь рябины на дубовом спирту разбудила в ней природный генеральский аппетит.
Пришли к «Накою». Сдали, что на ком было, в гардероб, осмотрительно проверив карманы, ибо объявление сообщало о том, что «администрация ответственности не несет» — за что именно, написано не было, конец объявления упирался в глухую стену, но все и так всё поняли. В довольно большом и светлом зале ресторана-столовой все тринадцать попутчиков разместились за одним столом, покрытым удивительными кружевными салфеточками. Акробат, исходя из профессиональной ловкости рук, подсчитал, что перед уходом сумеет прихватить таких не меньше пяти, и то и шести. К посетителям — кстати, единственным в зале — быстро вышел белоснежный половой в соломенных кудрях.
— Салфет вашей милости! Чего изволите-с? — красуясь уважительным обращением и «словоерсом», обратился он к генералу. Та и ухом не повела, а отдала приказ:
— Меню!
— Меню-с еще не отпечатали, — ничуть не смутившись, отказал половой, — меню только с шести-с. Сейчас дежурные-с.
— Что дежурного?
— Пост Великий, четверг, так что строгость второй степени-с, варения без елея-с, без масла-с. Из горячего сейчас… — половой задумался, — Из горячего — тюря простая, репа пареная отменная, осмелюсь заметить, арясинская, также пироги с горохом и с воздушной начинкой, на выбор, также и каша на выбор — овсяная, ячневая-с. Изволите придти в субботу либо в воскресение — разрешение выйдет на третью степень-с, на вино и елей, из елея имеем деревянное масло, но в четверг не можно-с. Воскресение будет Вербное — выйдет позволение и на четвертую строгость, рады будем угостить-с. А из напитков, — ржаная-соломенная морда полового расплылась в улыбке, — имеем фирменный цикорий по-арясински. Прекрасный напиток, все хвалят. Но, извините-с, без сахару. Потому как Великий Пост.
Хмель как-то окончательно вылетел из головы генерала. Она только и выговорила:
— Тюря…
— Отменная тюря, не извольте тревожиться. Вода горячая подсоленная, хлеб арясинский серый мелкими кусочками и лук недославльский кружочками. Все отменной свежести-с.
Генерал не знала, что и сказать, но тут подал голос человек, в торговых делах более опытный — Равиль Курултаев. Он заговорил на правильном русском языке, но добавил в него акцента, вроде бы татарского, но скорее грузинского.
— Дарагой-любезный, зачем так! Сам видишь, я правоверный, какой-такой мне Великий Пост? Я свои посты блюду, ты — свои. Давай еще другое меню, не постное…
— А у вас, господин правоверный, сейчас рамазан. Вам вообще до захода солнца ничего вкушать не положено. Приходите вечером…
— Но я-то здесь при чем? — вступил Зиновий Генахович, — Какой у меня пост, какой рамазан?
— Почтенный реб, — с достоинством парировал половой, — у нас же не кошерная столовая. У нас все трефное. Садитесь на поезд, пересядете в Решетникове, полтора часа — и вы в Твери, там синагога, там хорошая еврейская столовая…
Голос хотел подать негр, половой и для него приготовил что-то столь уже убийственное, но генерал уже взяла себя в руки.
— А ну быстро! — скомандовала она, — Тюрю! Хлеб серый, лук кружочками! Репу! Пареную! Ломтями! Кашу овсяную! Кашу ячневую! Пироги с горохом! Пироги с воздушной начинкой! И фирменный цикорий! Всё — на всех по три порции! Сержант, приготовьте портфель!
Насчет портфеля половой не понял, но похолодел: все постное меню требовать на стол было как-то не вполне великопостно, однако отказать не мог — и скрылся на кухне, ничего не записывая. Через минуту он уже сгружал с подноса многочисленные миски со здоровой монастырской пищей. Покуда он приносил всё новые и новые подносы, Васса Платоновна куда-то исчезла, а когда закончил расставлять и пытался сообразить, зачем принес тринадцатые порции — появилась вновь, с изображением немалого головокружения от успехов на лице.
— А вот и денежка, — сказала она, выкладывая на стол две золотые монеты, — и приняли сразу, и очереди никакой. Хороший, кажется, город.
Половой, услышав похвалу родному городу в ответ на совершенно хамское меню, почел за лучшее ретироваться. Тринадцать путников остались в зале одни, но к еде приступать не решались без команды главного, которым все единодушно признавали сейчас женщину-генерала.
— А вот мы сейчас… — подал голос участковый, — если позволите, ваше высокородие, мы сейчас старым рыбацким способом… — встретив непонимающий взгляд генерала, он извлек из заветного портфеля очередную бутылку рябины на коньяке и влил щедрую порцию в собственную миску с дымящейся тюрей. Генерал только головой покачала, но не осудила; стакан рябины был влит и ей, и последовательно всем прочим, после чего чертова дюжина гостей Арясина принялась хлебать неслыханное блюдо, заедая его репой, кашами и пирогами, с голодухи да с поездного упоя показавшимися вовсе не такими убогими. Под конец хлебнули из расписных чашек и фирменного цикория: всех, кроме негра, перекосило. Совершенно черный благодаря добавке соды, щедро заваренный арясинский цикорий горечью мог соперничать лишь с некоторыми ядами, зато хорошо вышибал хмель из головы.
Половой, увидев, что трапеза кончается, вновь неслышно появился, с подозрением принюхиваясь, — но следов не обнаружил никаких, новые опорожненные бутылки опять были у Вассы в тыкве и готовы к сдаче.
— Тридцать девять рубликов-с… Прикажите получить…
Васса с готовностью толкнула по столу свои вырученные тридцать рублей и обвела глазами попутчиков — кто, интересно, добавит разницу. Добавил, как человек обеспеченный и к тому же личный знакомый Вассы, Равиль Шамилевич, — покрыл монеты бумажной десяткой и буркнул: «Сдачи не надо». «Премного благодарны…» — произнес половой мысленно вслед уходящим гостям и полез под стол — искать следы стеклотарного нарушительства. Увы, там было пусто. Пусто было и у полового на душе: с тринадцати человек он получил всего рубль чаевых. И горько укорил себя парень за то, что принял гостей — наверное, паломников — за алкашей перехожих. Половой трижды набожно перекрестился и стал прибирать зал; раньше шести тут никого не ждали, а от тех, кто приходил позже, святостью не пахло. Ни даже вот рябиной, как сейчас.
Компания между тем вышла на свежий воздух. Васса опять исчезла на минуту, опять вернулась из-за угла с сияющим полуимпериалом. Генерал тем временем решала — куда идти. Та же неведомая сила, которая влекла их в Москве к электричке на Арясин, теперь неумолимо тащила к берегу реки, к Тучной Ряшке, где от Арясина Буяна на левую сторону был переброшен мост, за которым начинался путь на Суетное. Туда и пошли, туда и пришли, там у моста и оцепенели: посредине моста, загораживая дорогу, стоял большой черный рояль.
Причем рояль стоял так, чтобы между ним и перилами моста оставалось как можно меньше места, один человек еще бы протиснулся, но генерал вела за собой целых двенадцать, и среди них были люди довольно крупные, особенно господин Курултаев и негр без отчества. Рояль переступил с ножки на ножку, потом подогнул одну из них под себя и почесал нижнюю деку.
— Очень долго по кустам бежал, поцарапался где-то, — сказал рояль, ощеривая клавиши. Говорил он контроктавой, клавиши западали и поднимались, каким-то образом вся эта музыка складывалась в звуки почти человеческого голоса — и притом говорил рояль по-русски. Белозубая с черными черточками рояльная улыбка была широкой, и внешне он почему-то напоминал одного из спутников генерала — акробата Зиновия Генаховича.
— Кстати, позвольте представиться: меня зовут Марк. Марк Бехштейн, к вашим услугам.
В это время на левом берегу Ряшки появился человек с двумя большими мешками за спиной и направился на мост. Рояль посторонился и пропустил его, то же сделали и невольные гости Арясина. Человек снял картуз, как-то странно, словно бы дважды перекрестился на еле видную посреди озера часовенку, и пошел куда-то по Калашниковой. Его мешки были покрыты буграми подозрительных округлостей, все тринадцать голов обернулись ему вслед, плотоядные огоньки зажглись в двадцати шести глазах.
— Это к вам не относится, — сказал рояль, — это офеня, тут их много ходит. Хватит разглядывать, марш за мной. Всех поведу я. Предупреждаю, мне по тропинке идти трудно, я с рождения привык по кустам, но там вы не пройдете. А нам до ночи к чертогу придти надо, а тут двадцать верст, хотя неполных. Так что стройсь… по сколько, генерал?
— Стройсь по двое! — скомандовала генерал, признав в рояле вестового, посланного кем-то старшим по званию. Рояль знал, куда идти. Она — не знала, лишь неодолимая сила увлекала ее существо и все, что в нем содержалось, на северо-северо-восток.
Пары образовались сами по себе: генерал-вахтер Старицкий вместе с младшим по званию участковым, таксист Валерик с соседом с последнего этажа, старушенция Васса Платоновна с господином Курултаевым, почтальон с еврейским акробатом. В конце взвода, — точней, видимо, полувзвода, — оказались негр и техник-смотритель, этого последнего приходилось поддерживать за плечи, ибо целебное действие чуда, сопряженного с русской рябиной, на его организм опять иссякало. Рояль бодро шагал тремя ногами по тропинке, и генерал вела за ним остальную процессию, вдыхая свежий воздух, так и лившийся с арясинских полей. Кусты шелковицы по сторонам тропинки выбросили зеленые листочки; небо синело, словно июньское, вилась под ногами утоптанная тысячами офенских сапог и лаптей тропка, но путники не замечали ничего ни вокруг себя, ни вверху, ни внизу: они просто шли, судорожно прижимая к груди драгоценные портфели, за исключением Вассы Платоновны, еще более бережно прижимавшей к груди исполинскую тыкву.
Шли молча, потом Марку, существу музыкальному, это надоело, и он стал что-то наигрывать, не то напевать, в чем музыкально образованные даргомыжницы-рукоприкладницы сразу опознали траурный марш Шопена.
— Ту-сто-четыре-самый-лучший-самолет! Ил-восемнадцать-от-него-не-отстает! — выводил Марк, приноравливаясь к скорости ведомых. Ему на трех ногах была привычна совсем иная скорость, потому и пробежал он вдоль и возле Камаринской дороги, все кустами, кустами, чуть ли не на пятьсот верст опередив оглядчивого киммерийца, Веденея Иммера, которого вообще-то должен был сопровождать. Он запомнил не столь уж давние слова Вечного Странника о месте, где чертей подвергают вивисекции, а такое место в России он знал только одно, под Арясиным, и помчал туда без оглядки, взбрыкивая задней ногой.
К чертовару он уже заглянул, оказалось, что вовремя. Богдану решительно некого было послать к поезду, на котором прибывали в Арясин приманенные бесоносители. Запас чертей близился к концу, хотя работали в две смены поочередно то Богдан, то Фортунат. Черти попадались разносортные, скорей жидкие, чем густые, поэтому более всех мастерских чадила костопальня, вовсю воняли кожевенные чаны старика Варсонофия, и всем этим запахам было далеко до аромата тухлой и горелой мойвы, которая поддерживала чудесную силу неверия Фортуната. Однако с привезенной из Москвы партии чертова вешняка шло невероятное количество сала, — черти вытрезвителя, ленивые и рыхлые, за годы безделья нагуляли этой радости. Богдан пустил кое-что на мыло, хотя спрос на чертово мыло, отмывающее раз и навсегда все на свете, был устойчиво небольшим. Помудрив немного с технологией, Богдан стал готовить из чертова жира топливные брикеты на зиму: они горели долго, давали порядочно тепла, но, конечно, никакого света не давали. Если бы Богдан верил в ад, то знал бы, что пламя там горит бессветно. Но Богдан ни в какой ад не верил.
— Самый-лучший-самолет!.. — донеслось в чертог с южной тропинки. Богдан признал знакомый голос Марка Бехштейна, рояля ходячего, к которому относился с доверием. Вымыл руки, нарядился в привычный черный пиджак и вышел встречать товар. Беркута он напоминал сейчас больше, чем когда-либо: он и впрямь нацелился на добычу.
Марк приблизился, слегка иронично опустился на передние псевдоколени. Пианист из Богдана был никакой, мамонтова кость для клавишей все равно лучше чертова зуба, зато струны из чертовых кишок, из сухожилий у него в мастерских делали превосходные. За оказанную услугу Марк вполне мог получить у нескупого Богдана для себя запасной комплект.
Богдан вскинул руки: привычно полыхнуло желтым огнем. Богдан поднял упавшую прямо, как бревно, бабу-генерала на плечо и понес в чертог на обработку.
— Простудятся… — подал голос Давыдка, имея в виду брошенных на сырую землю прочих бесоносителей.
— Ничего, сейчас здесь везде тепло будет, можно сказать, что даже слишком. Не ломай голову, зажги брикеты по периметру, нагрей воздух. Позвони Фортунату: он нынче не нужен, в этой бабе такой облом сидит, что с ним только я справлюсь. Каменного века, небось… И ты мне нужен будешь.
— А что, этот… облом, он… с выпоротком? — не скрывая счастливой надежды, спросил Давыдка.
— Боюсь, и с выпоротком, и со многим таким, чего мы… давно не видали. Не вида-а-али мы пода-а-арка… — Богдан ушел в чертог, держа генерала на плече, как статую.
Давыдка пошел собирать портфели, заодно забрав у скрюченной старушенции Вассы и тыкву: своим недалеким умом он как-то понял, что тыква — тоже портфель. В некоторых портфелях, да и в тыкве тоже, звякало. Давыдка удивился: никогда он не слыхал про стеклянные молясины. Ну да мало ли про что он не слыхал. Мало ли чего не видал.
Марк тактично ушел в кусты. Воздух стал теплеть: Давыдка жег брикеты из чертова сала. На фоне догорающего заката появились и окружили поляну шесть черных силуэтов — шесть огромных борзых собак, ростом в полтора баскервильских фантома, не меньше. Давыдка подошел к старшему кобелю, хотя не доставал тому до холки на поларшина.
— Терзай хорошая собака, — отчетливо, чтобы пес понял, проговорил подмастерье. — Хорошая, хорошая, хорошая собака Терзай. Терзай умная собака. Да, главная собака. Главная. Стеречь, Терзай. Главная собака, стеречь, Терзай. Жрать не сейчас. Жрать под утро. А сейчас стеречь. Хорошая собака Терзай. Умная собака. Главная собака. Главная, главная.
На частном аэродроме в Карпогорах под руководством Кавеля Адамовича Глинского шла медленная наладка крылатой ракеты класса «Родонит»: Кавель собирался, наконец, хоть с воздуха, но убить Кавеля. И не знал этот Кавель, какой чистый, цикорием и тутовым деревом напитанный воздух стелется над бывшим Арясинским княжеством. Он вообще многого не знал и не хотел знать.
Ему же хуже, как известно из дальнейшей истории.
6
Никогда не выпадает вторая оказия создать первое впечатление.
А. Сапковский. Меч предназначения.На столе перед императором наконец-то лежал подлинник.
Копий он видел уже с десяток, но оригинал указа императора Павла Петровича о лишении прав сына Николая на престолонаследование был раздобыт с большим трудом. Подумать только, императрица прижила его от камер-фурьера Бабкина! Вот она — личная записка дедушки Павла Петровича, про «камерфурьера Бабкина, от которого Николай родился и был вылитый Бабкин». Имелись свидетельства, что тот же Д. Г. Бабкин, уже в придворном чине гоффурьера, сопровождал Александра в Таганрог. Приемный дядя, что ли — такого родственничка лучше при себе держать. Умела пожить матушка пращура, умела, но муж, скажем мягко, дознавателей имел неплохих. «Домостроя» Павел Петрович не читал, вот что. Полагалось такую жену побить, а потом с нею же и поплакать. Однако ж окончательно наследства ее сына не лишать. Дать ему тысячу-другую душ, чтобы с голоду не помер, мелкий княжеский титул, не из древних — да и пусть себе живет где подальше. Видимо, пращур-то об этом, видать, и не думал даже. Не ушел бы так просто из Таганрога: выходило, что сдал он престол именно сводному брату, не Романову даже! А ведь был еще младший брат, Михаил, можно бы и ему престол передать… Ну да — а у того одни дочери. Как ни раскручивай — все смута лишняя. Не хотел пращур смуты, понять его можно. Кто он был-то, этот неизвестный фурьер? Истинный дворянский род древних бояр Бабкиных тремя сотнями лет ранее угас в Новогороде, это на Руси давным-давно каждый босяк знает.
Николай Александрович, он же так называемый «Второй», очень остроумно завещал детям великого князя Кирилла Владимировича, буде те от его незаконной женитьбы мало что на разводке, так еше и на двоюродной сестре, произведутся — быть им «князьями Кирилловскими». Вот и сделать всех потомков линии Николая Бабкина — князьями Бабкинскими. С эдаким, значит, польским ударением на втором слоге. Или Бабаюртскими? Можно Бабайскими — есть такой мыс в Турции. Хотя, черт возьми, Турция ж еще не вся наша. Заварила бабуся кашу с этим Бабкиным! Титул им теперь сочиняй…
Шестой чин в табели о рангах — то же самое, что войсковой есаул в казачьих чинах, капитан первого ранга в морских, бергауптман в горных, коллежский советник в гражданских, ну, и полковник в сухопутных. Впрочем, государь — тоже полковник. Но Преображенского полка! Государыня что ж, с дурманных глаз двух полковников перепутала? Добро бы — кавалергарда употребила в дело, гренадера там из охраны, конюха из таких, которым порку поручали, ну, даже циркача, не зря именно Николай I цирк на Руси первым устроил, конный к тому же — но зачем ей сдался камерфурьер? Извозчик? Всего-то «Ваше высокоблагородие…» Синий мундир, фалды закругленные, ежедневная запись всех событий придворной жизни, одно слово, писарь. А что потом до гоффурьера дошел — так это еще как смотреть, понижение или повышение…
Но никогда нет добра без худа, а из этого худа нынче можно сделать вполне благородное добро. Потому что, получается, были государи Николаи Первый и Второй, Александры Второй и Третий — совсем не Романовы, а Бабкины. И вопрос об их престолонаследии в случае прерывания рода Старших Романовых не стоит никак. Интересно, какое впечатление от такой новости будет у народа. Особенно первое впечатление… Анекдоты надо заранее приготовить, посолонее. Чтоб народ злословил круто, но по-правильному. Потомки Михаила Павловича — ладно, пусть резервными значатся. Потому как настрогал любезный пращур-дядя пяток дочерей, вот и весь праздник, их потомки теперь натуральная седьмая вода на киселе. Кстати, киселю бы сейчас прохладного, ежевичного, да келаря будить неохота — пятый час утра… пусть поспит Перекусихин-Ветринский лишний часок. Да и что проку в киселе, когда Антонина нашлась! Государь придвинул к себе поближе оба портрета. Работы, значит, киммерийских художников Веры и Басилея Коварди. Не забыть возвести их в древнее дворянское достоинство, можно и княжеское, скажем, с тринадцатого века, вписать в бархатную книгу, в гербе им дубовый подрамник и преклоненное колено. Нет, два. Мужское и женское. Как из Сальварсана этот… Матьего Эти, вот его фамилия как, знаменитый гербодел, приедет — так пусть оба колена на овальном щите и нарисует.
Увы, гербы государь теперь выдумывал сам. Знаменитый блазонер Вильгельм Сбитнев погиб при испытании атомной скороварки, — это по официальной версии, а на самом-то деле… Ладно. Лучше не вспоминать, разберемся мы с этими мерзавцами: хоть бы глядели, кого в жертву-то приносят!.. Сколько соратников полегло за минувшие годы! Кстати, не так уж и много-то полегло их в прямом смысле слова, только есть ведь и не прямой смысл. В Военно-Кулинарной Академии скандал второй год не кончается, Цезарь Аракелян отца на пенсию выживает. А отец смену себе на голову такую приготовил — пальчики оближешь от бастурмы по-цезарски, отец никогда такую сотворить не мог. Год еще, два — выживет он отца. А какая тому жизнь без государева стола? Чай, повар — не гражданская жена, на Аляску не спихнешь.
Другие, увы, не полегли, но очень уж сильно одряхлели: к примеру, канцлер не выдержал и отпросился на покой. Получает теперь каждое двадцать второе февраля, в Государев день, по ордену, приходится самому к нему ездить и вручать: совсем состарился Георгий. Да и шутка ли, тяжело для организма; семьдесят восемь лет человеку, в здоровом виде ему полагается весить семьдесят восемь килограммов, а экс-канцлер носит на себе шестью пудами больше, орденов не считая. Хотя бодр, все романы печатает, почему-то сентиментальные, один бесконечный сериал из жизни святой Варвары, урожденной Картленд, принес больше доходов, чем все винокурение Псковской губернии. Даже налог за это дело, не пикнув, заплатил! Это ж сколько и где украсть надо, чтобы все налоги платить и сполна, и вовремя?
А какая разница, ведь заплатил же. Все равно — гениальный человек, и гениальность его нигде так не проявилась, как в сфере изыскания средств для казны. Кто, как не Георгий, подал отличную идею запретить выражение «ехать в Россию», затребовать чтобы говорилось только «на Русь»! И налог за нарушение правильного словоупотребления — в казну. Как обычно. А еще Георгий хорошо выдумал: предложил оповещать сотрудников компетентных органов, что готовится указ о присвоении таковым почетного звания обер-заплечмейстера, обер-провокатора, обер-филера. От такой чести добрых девяносто пять процентов любой ценой стремились откупиться, а кто не откупался — тем приходилось вносить пошлины за гербовые документы, и выходило так на так. Павел избавил канцлера в связи с уходом на пенсию от издевательского титула «Барон Учкудукский», данного со зла и в спешке еще перед коронацией. Нет, на пенсию канцлер ушел в облике Светлейшего графа Командорского. И был доволен. А жена его, Елена, попросила ей оба титула оставить. Вот кто от дел так и не удалился! Но годы, конечно, и для нее идут. Они даже для великого князя Никиты Алексеевича в его благодатном Зарядье идут, хотя очередь из Настасий к нему — длиннее, чем к тому, подальше из Москвы убранному, как его… Ну, мавзолею.
Годы, годы. Они, прости Господи, даже для царя идут. И в свете такого дела даже не ясно — чем наградить Горация за сообщение о том, что он, император, осенью венчается, а сын будет его за фалду держать в знак признания законным наследником престола. Чтоб это не простое усынение было. Какое-то противное слово, пусть его из далевского словаря выкинут… Зачем Тоня сына Павлом все-таки назвала? Будет на Руси царь Павел Павлович. Третий. Звучит? Не звучит?.. Если Второй — мощно звучит, это Павел знал точно, то, наверное, и Третий — тоже прозвучит не хуже. А Бог его знает. Музыкой звучало для государя другое — имя Антонина.
Павел не видел любимую женщину столько лет, что и считать боялся эти годы. В зеркале они ему очень ясно были видны, а вот на портрете Тони — почему-то нет. Неужто портрет старый? Да нет, вот и дата внизу, притом наверняка подлинная, знали ведь, кому портрет пойдет, а царю кто же солжет? Октябрь прошлого года, иначе говоря, всего ничего. Что у них там, время не движется? А тогда сын откуда такой вымахал?.. Слава Богу, Гораций об этих сомнениях предупредил. И о том, что ответа на них раньше встречи с Тоней не будет. Не будет и потом, но тогда это царю уже без разницы станет, — словом, хорошо иметь своего предиктора. Да, хорошо! Что без этого мальчика Павел делал бы!
Да, тоже мне мальчик, чуть ли не под тридцать тому мальчику. Точный возраст Горация Игоревича Аракеляна как-то никому не был известен, спросить что ли у самого — а он тебе и брякнет раньше, чем ты рот открыть успеешь: «Сейчас Ваше Величество захочет спросить у меня, сколько мне лет, но вопроса так и не задаст, ибо куда более важные темы отвлекут Ваше Величество…» Ясновидящий хренов. И без него ни до порога, и с ним ни за порог. Впрочем, грех жаловаться.
Император провел без любимой женщины чуть не полтора десятилетия, непрерывно выслушивая от всех ясно — и неясно — видящих, от всех умных и дураков, что «это временно», что «этого требуют высшие государственные интересы», что «от этого зависит судьба России», и прочая, и прочая, и прочая фигня. Никто не заставлял его жить монахом, к его услугам были… словом, все что угодно было к его услугам, но никаких таких услуг он уже и сам не хотел. Конечно, иные умелые Настасьи из Зарядья проникали в Кремль по подземным коммуникациям и другими хитрыми способами, бывало, конечно, что он обнаруживал их в своей постели, когда отходил ко сну — тогда Настасьи изгонялись безжалостно. Но по наущению одной очень, очень известной и опытной Настасьи, стали проникать почти уже отчаявшиеся мастерицы в его постель не с вечера, а среди ночи, когда государь спал глубочайшим сном — и, понятное дело, видел во сне любимую женщину. Тут железный император оказывался не вполне железным. Да и кто бы устоял? Уловка сработала дважды и трижды, а потом царь махнул на нее… ну, рукой махнул. Только чтоб на утро никого поблизости уже не было. За поведение Настасий отвечали неуемный великий князь Никита со своим черноглазым подмастерьем: никаких законных наследников от подобных «снов» произойти не могло. С Павла хватало незаконных внуков на Мальте. А так все-таки легче тянулись годы, помогая не сойти с ума в ожидании единственной любимой женщины.
Сам перед собой Павел оправдывал подобные ночные приключения тем, что со всеми этими Настасьями он был, мягко говоря, уже знаком ранее. С годами эта уверенность перестала быть столь уж твердой, и царь прямо спросил Зарядского Владыку — «те», или не «те». Получив ответ, что «все бабы те, которые Настасьи», Павел убедился, что его опять надули — и спит он если не со всем селом, то, округло говоря, с лучшей его частью. Взял и улетел на неделю в гости на Аляску, как раз дело было: коль скоро Аляска — страна независимая, то и Германа Аляскинского во святости его повысить положено до Равноапостольного. Заодно поприсутстсвовать на освящении храма Святого Иннокентия Алеутского. Православному императору в такие моменты полезно постоять рядом с православным царем. С Иоакимом Первым.
Но там увидел не только царя Иоакима, но и царицу Екатерину — то есть свою собственную бывшую жену, не венчанную, слава Богу… Поприсутствовал на церемониях, поохотился на нерпу, пару раз нарезался в дым с другом молодости — и вернулся домой. Уж лучше Настасьи вприлежку, чем Катя вприглядку. Как-то неловко перед ней было Павлу: даром, что стала та царицей. Но вот императрицей же не стала! Ничего, это дело можно поправить — и Павел отдал приказ разработать планы превращения АЦА, Американского Царства Аляска, в ЗАИЦА — Западную Американскую Имперскую Целокупную Автаркию. С Мексикой дядя сам разберется, а от Святого Францыска на юг — это все как раз и будет новая, благовозвращенная часть ЗАИЦЫ. Препятствием там, в Америке, оказывался Орегон, где предиктор ван Леннеп безвылазно жил с любимой женой, а вот его Гораций просил не обижать. Ван Леннеп давно твердил, что ни в жисть православный император не обидит предиктора Горация Аракеляна. Удобно живут, ничего не скажешь.
Ну, будет княжество Орегонское анклавом. Живет Португалия на таком положении, и ничего. В конце концов, Штатам давно пора хвост прищемить: на кириллицу и половины газет не перешло!.. Стоят пятнадцать лет на счетчике — и полагают, что у него, у Павла, терпение безгранично. У него, у Павла Романова, даже инициалы этой самой латиницей неприлично выглядят — пи-ар, паблик релейшнз. А на хрена русскому царю этот самый пиар? У него, чай, не пиар, а шапка Мономаха!
Все это, конечно, пока что дело виртуальное. Граница ЗАИЦЫ до сих пор еще к Штатам ни на вершок не придвинулась, Канада покамест все оружием бряцает. Ничего, еще наподдадут ей с востока — все предикторы обещают. Только и делов русскому царю, что размышлять про Княжество Орегонское, а Штатам-то на самом деле уже теперь надо дивизии снаряжать, пора Бермуды оккупировать, весь треугольник и прочее, что там есть бермудское, России такого сто лет не нужно, своих забот от уха до уха.
Император вспомнил, что дело с Бабкиными так и позабылось за мечтой о киселе, полез в компьютер. Там был тоже какой-то кисель. Но про новгородских бояр известия нашлись; вот еще имелся дьяк Афанасий Бабкин, живший в Москве в середине шестнадцатого века — совсем ни к селу ни к ремеслу. Наконец, упоминался где-то еще и другой род Бабкиных — в Твери, отрасль рода славного Марка Демидова. Вот из них, не иначе, и был пресловутый камерфурьер. Быть по сему: признать за ними титул — какой там на очереди? Император вызвал файл и фыркнул: без князя, на очереди к дарению, стоял нынче город Новоназываевск. Так что пусть остаются в истории князьями Новоназывскими, и забыть их. Если еще раз голову подымут — пожалую их светлейшими князьями Внучкиными. Или сразу — Жучкиными!.. Но главное, главное — не забыть этому фурьреришке памятник в том Новоназываевске вставить — чтоб знали, кто таков и откуда что!..
Тяжела ты, шапка… Волосы императора сильно поредели, так что и шапку приходилось в холод надевать. А он не любил. Хоть она и Мономаха, эта шапка, хотя и с меховым, кровавым подбоем, однако Павел привык без шапки даже по холоду. Но здоровье у него было не свое, а государственное. Стало быть, права он не имел. И приходилось шапку напяливать — хочешь там, не хочешь.
Внешне спокойствующая Российская Империя вынашивала в своих глубинах множество тревог: самые разные граждане готовились восстать на главнейшего врага рода человеческого. Однако каждый считал наиглавнейшим врагом рода человеческого именно своего собственного врага, враг у каждого был персональный, и получались большие расхождения. Не хотелось бы великому государю, под чьим скипетром только и очнулась Россия от столетий эпилептической судороги, не хотелось бы остаться в анналах Истории вторым Тишайшим — при первом-то как-никак случился в русской церкви Раскол. Но при том Тишайшем хотя бы великий писатель жил — протопоп Аввакум. Кстати, над его канонизацией сейчас как раз колдовал Святейший Синод. А где такой писатель в наше время?.. Может, и хорошо, что такого нет — копай потом яму в Пустозерске, когда в этом самом месте нынче идет добыча алмазов. Невыгодно. Разве что фонд Доржа Гомбожава туда пустить. И его самого. Пусть добывает. Без права экспорта… Да что его все так, хороший вроде монгол…
Императору недавно перевалило за пятьдесят, из них больше трети он провел на нынешней службе, и по данному самому себе обету знал, что почти столько же еще ему тут и вкалывать, — лишь потом, по примеру пращура, можно будет идти куда глаза глядят. А это все-таки нескоро. Никакие моровые поветрия или катастрофы его жизни пока что не угрожали, это все ясновидящие в один голос подтвердить готовы. Но еще поэт Некрасов надорвался, собираясь описывать нелегкий труд русского императора в корявой поэме «Кому на Руси жить хорошо». Откуда-то знал этот барин-картежник, что императором быть на Руси — это отнюдь не груши околачивать.
Все свое время государь проводил исключительно в любимой резиденции «Царицыно-6», в допотопные времена носившей название «Архангельское» и служившей чем-то вроде подмосковного опорного пункта семейству Юсуповых на протяжении целого века с лишним, весь этот век готовили они тут покушение на Распутина, которое им после всех неудач как-то удалось провернуть. Государь много размышлял в последнее время: принесло это убийство пользу России — или наоборот. И склонялся к мысли, что все-таки вшивую пользу, крохотную, а принесло. Потому что именно в результате всех воспоследовавших событий усадьба стала его собственным опорным пунктом. В этот нелепый помещичий дом государь влюбился незаметно для себя самого. Даже почти неприличные для государевой дачи мраморные статуи оставил, — только фиговые листки с мужиков снять велел, с листками такие статуи казались ему грязной порнухой. В общем, хороший парк, хорошая дача. Чай, досталась эта дача Юсуповым при совершенно законном царе. При пращуре Александре Павловиче.
В конце концов, историю делает тот, кто хоть что-то делает, а не тот, кто купается в собственном величии. Сколько там Людовиков было во Франции, чтоб не сказать прямо — Луёв? Ну, шестнадцатого отложим в сторону, он не очень-то в картину вписывается. А которого помнят? Правильно, тринадцатого. Тогда как был он пустое место, и наследника-то себе, кажется, тоже какому-то камерфурьеру заказывал. Помнят же его потому, что Дюма-папаня удачно переделал книгу сплетен о его временах в роман «Три мушкетера», — говорят, тоже с посторонней помощью, чуть ли не Жерара де Нерваля, не то Огюста Маке, хрен его знает, кто таков, но на это тоже всем начхать, важно, что у д’Артаньяна там каждую ночь по Настасье. Значит, нужно всего лишь правильно формировать сплетни о себе и заботиться об их добротной литературной записи. Правдой будет не то, что есть правда, — ее вообще нет, — а то, каково о тебе потомки сплетничать будут, — если будут вообще. Как ты, к примеру, город заложил назло особенно склочному соседу или как вынес кому-то посмертный выговор. Как ты книги читал только от руки переписанные или как объявил, что Европа может потерпеть, когда русский царь ловит рыбу.
«Чем более абсолютна монархия, тем менее нуждается она в своем прославлении», — выплыло из памяти государя неизвестно чье изречение, неизвестно по какому поводу сказанное и, скорее всего, памятью же и перевранное. Нет, такой абсолютности, когда в истории от тебя остаются только даты начала правления и его конца, русский царь не хотел. Он так или иначе хотел закрепить за своим временем звание Золотого Века. Спешно требовалось Процветание Искусств. Литературы более всего: при Наполеоне у Франции как раз никакой литературы и не было. Один Стендаль сидел в обозе, да и то над «Пармской обителью» только спать можно, хоть она и гораздо позже написана. Но у Павла-то не было даже захудалого Стендаля. Но был обоз, а в нем уж точно пяток завалящих Стендалей отыщется. Пусть хоть артелью пишут. Писали же пьесы для кардинала Ришелье артелью! Две всего написали, но кардинал здоровье не берег, путался с французскими шлюхами, умер прежде времени… Словом, подать сюда всю литературную гильдию. Разделочный цех, так сказать, в смысле что цех, требующий разделки. Под орех.
Слава Богу, литературный цех удалось частично перехватить у стареющего канцлера. Георгий Шелковников сохранял за собой пожизненный экс-канцлерский пост, но стал, конечно, уже не тот: нынче его Павел насильственно худеть бы не заставил. Сильный был мужик, но годы взяли свое, а Павел отобрал остальное. Всего только и отобрал, что главного литературного негра, Мустафу Ламаджанова. Он за Шелковникова раньше романы сочинял под псевдонимом «Евсей Бенц», печатал на Западе, а гонорары шли канцлеру, — тогда, впрочем, кандидату в члены политбюро, но об этих временах кто ж теперь помнит. Забавно при этом, что в писателях этот самый Мустафа никогда официально не числился, — так, сочинил во время войны с Германией какую-то популярную песню про тужурку, только и всего. Потом отсидел сколько-то — кажется, за то, что песня оказалась идеологически невыдержанная, — но канцлер в этой песне талант увидел и Мустафу к себе на работу взял. А потом Павел, когда ревизию проводил имущественному положению своего ближайшего окружения, обнаружил, что Шелковников с гонораров Евсея Бенца партвзносов не заплатил никогда ни копейки. Вот это да! Ну, и пришлось предложить ему — либо партбилет на стол, либо… Мустафу. Пришлось канцлеру отдать татарина. Куда денешься. Ничего, нашел себе другого Мустафу, имя у него грузинское, непроизносимое — Шалва Сомхишвили. Псевдоним взял новый, почему-то по названию улицы, на которой с кем-то иногда живет: Борис Якиманка. Говорят, по-японски это что-то значит, то самое, про что он пишет все время… Стоп, это скульптора фамилия, а негра как? Леопольд или нет? Ладно, пока не нужен.
Царь и сам отчасти считал себя писателем: учебник по истории для шестого класса общерусской гимназии соорудил без посторонней помощи, потом дважды его переработал, согласно переменам, которые сам же в прошлом Святой Руси назначил. На обложке без лишней скромности проставил — «Павел Романов». Ни должности, ни звания, в конце-то концов, преподавание истории в средней школе — его первая основная профессия, он по ней институт закончил. Однако художественного дарования царь в себе пока не чувствовал. А народу нужна художественная литература. Глубоко, высоко и широко художественная. В конце концов, любые пирамиды рассыпаются в пыль, любые войны забываются, а книги переиздать всегда можно. Все смертно, кроме литературы: «Война и мир», при всех недостатках, все-таки основное, что осталось в России от Наполеона. Не зря дядя в Южной Америке именно писателей кормит, да еще престарелых художниц. Зарабатывает куда больше, чем тратит. В России такую писательскую бригаду взять неоткуда. Или есть откуда? Нужно попробовать. И подать сюда Мустафу Ламаджанова: его никто не знает, да вот зато весь мир читает и животики надрывает.
Ну, и пришлось повелеть. Когда приказывает абсолютный монарх — повиноваться следует абсолютно. И Мустафа, морда его татарская, повиновался. Должности ему царь не дал никакой, имени не вернул, но власть в организации дал такую, что все фокусы советских времен перед ней померкли. Мустафа стал распроверховным управителем всея российския изящныя словесности. Заодно уж и неизящныя.
Первым своим указом, предложенным императору на подпись, Мустафа поверг самодержца в приступ веселья. Тихо прозябавший в тени трона коммунистический союз молодежи, комсомол, татарин аккуратно переименовал в командный состав молящихся, газета «Комсомольская правда» стала «Русской Правдой Комсомола», ну, а бульварный «Московский комсомолец» переименовывался в «Московский Богомолец» — чтоб никаких сомнений не было в том, что газета эта духовная и православная. Павел только присвистнул — в татарской некрещеной голове какая, однако, правильная в государственном смысле извилина нашлась! Потом вспомнил, что собственного имени у татарина все равно нет, указы его Министерства Литературы идут от имени правительства, хромой Ивнинг завизирует — и будя. Но как бы там ни поворачивать — утвердить этот указ необходимо. Павел утвердил, то есть, коротко говоря — приказал Ивнингу, а тот, голубой в отставке, не спорил никогда. И уже на следующее утро сообщил «Московский богомолец» читателям интерконфессиональную историю — вырви-глаз. Вчера в шесть вечера, оказывается, профессиональная нищенка, ветеран войны и умственного труда, инвалид второй группы, в интересах профессионального статуса попросившая не называть ее по имени, спустилась со своего места на паперти церкви Климента Папы Римского в Климентовском переулке и подала серебряный рубль уличному музыканту на противоположной стороне улицы, исполнявшему на акустической гитаре еврейскую песню «Тумбалалайка», — что вызвало бурный восторг со стороны присутствующих верноподданных Российской Империи — как иудейского, так и римско-католического вероисповедания, не говоря уже об истинных сынах Державствующей Церкви. Музыкант Константин Лепиков приглашен с гастролями на Атаманские, бывшие Андаманские острова, нищенка с благодарностью получила единовременное вспомоществование лично от государя…
Ну хоть бы слово тут было враньем! В итоге, конечно, никто ни единому слову в газете не поверил, но рейтинг ее был особой директивой печатного министерства резко поднят. Недавнее вхождение в состав империи Андаманских островов тоже лишний раз упомянуть удалось в хорошем смысле. А то были нездоровые разговоры — мало того, что язык андаманский переименован в атаманский, так еще всем атаманам России приказано этот язык выучить и сдать по нему экзамен, чтобы в дальнейшем на нем общаться и на нем кричать «Любо!». Ничего, или пусть атаманские полномочия сложат, или атаманский язык учат: без него какие ж они атаманы? И вот отыскался же мерзавец: некий атаман Кондрат Некрасов отказался этот самый язык учить, не любо ему стало — и ушел, сволочь, с сотней сабель куда-то в Африку. Тоже, нашелся изысканный жираф, побежал к озеру Чад, — вроде бы именно туда он и подался. Есть мнение Горация, что про эту сволочь кто-то книгу сочинит, правда не скоро, но непременно. Государь в такой книге персонажем быть не желал — и приказал Некрасова не ловить.
А затеял государь на Руси литературу не просто так. Светлейший граф, князь Гораций Аракелян предсказал, что будет в царствие государя Павла Второго на Руси расцвет изящной словесности. Что ж, прикажете такому пророчеству не сбываться? Спешно полагается такому пророчеству исполниться, даже с перевыполнением. Мустафа глазом не моргнул — подтвердил, что за один год, много за полтора, войдет в силу в русской литературе Сверхновая Волна. Грянут иностранные инвестиции в русскую литературу. Инвестиции государь любил: особенно многократные и добровольные, чтобы капитал из России невыгодно вывозить было. Прогноз Горация был верным — потому что был выгодным.
Однако же не все получалось в Российской империи ладно, не все. Чего стоили одни мятежи сепаратистов-толстовцев! Требовали, видишь ли, независимости, предали собственной анафеме Державствующую, покойного Фотия Опоньского Антихристом объявили, — а какой из него Антихрист, давно ведь уже покойник! Вудуисты в синих халатах по улицам бегают почем зря, диетологи тоже признания требуют, вишнуитов арджунаиты на улицах веревками душат, сигалеоновцы-молчальники молчат все как один в глухой отрицаловке, еще кто-то гадости творит… А поди отмени свободу вероисповедания — свои же вонь поднимут. Потому как половина — скрытые кавелиты, а вот с этими лучше уже и не связываться. Покуда их не трогаешь, они по большей части натуральная опора трона. Тронешь… Ох, лучше и не представлять, что будет, если тронешь. Одно хорошо: друг с другом классно борются, иной раз и вмешиваться не надо. Воистину класс восстает на класс и как класс его истребляет. Вон, эти бабы, ярославны премудрые, разделали моргановок: людоеду на антрекот не собрать, уж разве на бефстроганов. Конечно, сама Моргана ушла, да с ней еще десяток, может, и сотня — но теперь не скоро в силу войдет. А сами ярославны стали тихие: бегают себе между поездами метро на Филевской линии, интервалов придерживаются, поезд — ярославны, поезд — ярославны. Это радеют они так. Пользы от них теперь никакой, можно бы и выслать, да глядишь — еще пригодятся. Это как с крысами: нет надежней способа, чем дать им друг друга сожрать. С этого способа борьбу с ними начинали, так, видать, и нет другого средствия на такой случай: что сначала придумается, то, наверное, и есть самое лучшее. Лишний раз ломать голову не надо, есть имидж припиаренный у империи, пусть таким и остается. И не будет другого имиджа, нынешний тоже неплохой.
Опять же промыслы. Приедет этакое чувырло из Пеории, так ему сразу коллекцию молясин подавай с разрешением на вывоз. Ну, самоцветных он не получит, мамонтовая кость тоже на вывоз не особо, а разве дубовое что, или серебряное — нехай в своей Пеории радеет. Меньше денег колумбийским баронам останется, какой там кокаин! С третьего дня полный улет: «Кавель Кавеля льуббилл…» Лучше б, конечно, не кавелировали, но не запретишь: чертовые гормоны бесятся. Иные кавелитские детки, говорят, уже в шесть месяцев, даже в четыре — еще ни ходить, ни сидеть не умеют, а уже кавелируют с утра до ночи. Может, и зря отдел по борьбе с ними расформировали. Хотя дорогой был отдел, и работать в нем опасно, но иди там предвидь: вдруг да почему-то нужно бороться с этим самым кавелизмом. Ну да что размышлять-то? Государство предиктора своего имеет.
На столе у Павла зазвонил пунцовый телефон. Прекрасно понимая, кто именно звонит, Павел взял трубку.
— Павел Федорович, — сказал знакомый баритон, — я тут будильник на пять поставил, вы мне звонить собираетесь. По поводу кавелизма. Так вот, прикажите для будущего вашего дворца в Царицыне-7 закупить чертовой кожи, обоев этих, как в Павловском зале в Кремле у Вас, сажен двести. Лучше — тысячу двести. Название запишите — марокен. Дорого, но оно еще как окупится. Потом костяных ножей прикупите: для нарезки обоев и вообще. Смазки для танков, тракозаживляющей. Словом, вы скажите снабженцам, они поймут. И пусть не торгуются: вот эти самые деньги на борьбу со злостным кавелированием и пойдут. К вашей свадьбе все как раз и уладится, насколько это вообще мыслимо, — баритон зевнул, — а теперь можно, я еще посплю, мне сейчас как раз очень хороший сон присниться должен — как мы тогда с вами на колокольню ходили…
— Да спи, спи, и не думал я тебя будить, — сказал царь, прекрасно зная, что врет, и зная, что предиктор об этом тоже знает. А еще знал царь, что на кожаные обои придется раскошелиться. Ладно, обои вещь нужная, особенно если как в Павловском зале, пуленепробиваемые. Хотя какое-такое Царицыно-7? Вроде и номера такого нет. Придется присвоить чему-нибудь. Как раз налог с обер-провокаторов и прочих на это дело и пойдет. Вот ведь были в гороскопе на сегодня непредвиденные расходы, хоть и всенародный шарлатан этот Андрей Козельцев, князь Курский, но дело делает нужное…
То есть, конечно, предвиденные. В Российской империи все предвидено, ибо все предвидимо. Придется обоев прикупить и смазки. Надо — так надо, на кой бы черт это все ни требовалось. Павел наскоро перебросил Ивнингу в компьютер соответствующий приказ. Уж тот постарается, хромец железный, даром что голубой.
Потому что к свадьбе все уладится, это главное.
А что, собственно, уладится?
Мысли императора опять пошли по кругу. Он вспомнил, что о работе забывать нельзя, придвинул стопку указов — и росчерком гусиного пера на веки вечные запретил на Руси клонирование членов императорской семьи с целью признания их прав на престол и на оный дальнейшего возможного возведения.
7
И свиньи черные у фанз Ложатся мордами на север. Арсений НесмеловБеда пришла сразу двойная, потому что июнь выдался необыкновенно жаркий, хоть в лес и вовсе по грибы не ходи. Жара в Выползове стояла адская, чему никто не удивлялся, но страдали все, включая подсобного водяного Фердинанда, приученного метать мелкую черную икру пряного посола в специально выделенном пруде. Менее всех страдал, конечно, сам хозяин, Богдан-чертовар, а более всех — его любимые собаки, Черные Звери. Дни напролет вместо того, чтобы привычно уснуть по крику настропаленного Богданом Рассветного Петуха, маялись они бессонницей, вывалив напоказ всем желающим лиловые языки: пытались хоть как-то потеть, несмотря на то, что были все шестеро страшные, с лошадь ростом, выкормленные овсянкой со шкварками из чертова сала, — а все же на самом деле обыкновенные собаки. И жару переносили плохо. И дым. К тому же еще и китайский… но о нем отдельно. Потому что без дыма все бы, глядишь, обошлось как-нибудь. А вот не вышло, не обошлось.
Богдан тем временем работал, работал в привычном ритме — двенадцать часов в день, шесть дней в неделю. Газетой он разве что иногда обмахивался, уважительно используя для этой цели никак не официальные «Государевы вести» и не «Приоритеты самодержавия», не чтимое всей Русью «Обаче!» — а малопримечательный «Голос Арясина», который в советские годы употребляли вместо туалетной бумаги, — только для того и выписывали, — ну, а с восстановлением законной власти и появлением на прилавках неограниченного количества блаженно-мягких рулонов стали арясинцы использовать районную газету по прямому назначению: как место для размещения объявлений, — пожалуй, еще вместо веера в жаркие дни. Богдан, конечно, никаких газет не выписывал, но тверской филиал международного гуманитарного фонда Доржа Гомбожава «Крытое общество» выделил на Арясин бесплатные подписки. Брать газеты от такого благотворителя набожные арясинцы не рисковали, а отказаться все-таки было бы неловко, вот и попадала гомбожавская халява прямо в Выползово, с добавлением подписки на местную газету, которую тоже, кстати, издавала не уездная управа, а старый арясинский миллионщик Филипп Алгаруков, снетковый король. Тоже, между прочим, прежний клиент Богдана. Первый воз снетков еще во времена полоумной кооперации на Богдановы деньги и купил. Снетков на праздники Алгаруков присылал всенепременно, но доставались они в основном Фортунату — чтобы в ярость его возвести. Жаль, но жрать то, что оставалось на сковородке после Фортунатовой злости, отказывались даже Черные Звери.
Сам Дорж Гомбожав, разумеется, ничего об этом знать не знал, с его деньгами так обходились во всем мире, но что поделаешь. Родился он в Америке, мог бы теоретически баллотироваться в президенты, но всегда помнил о своей исторической родине, о Наружной Монголии, и теплей иных относился к территориям, попадавшим некогда под копыта коней его буйных монгольских предков, — а что Тверское княжество, что Арясинское — оба подобной участи не миновали. Поэтому народы, некогда приобщенные к степной цивилизации, получали от монгола больше благотворительности, чем прочие равные. Император к Гомбожаву относился иронически — «Охота свои тратить — пусть тратит». Павел подарил ему каменную бабу с пермского кургана и намекнул, что с пониманием отнесся бы к тому, если б разгорелась у господина Гомбожава страсть коллекционировать такие вот превосходные статуи домонгольской эпохи, у нас их и теперь есть кому ваять. Но пока, до решения вопроса с каменными бабами, на всякий случай попросил в Москве гуманитарный фонд особенно не гуманитарничать: выселил царь сотрудников монгола в Тверь — чтобы, значит, близки были им и Москва, и Санкт-Петербург. По крайней мере до тех пор, пока мистер Гомбожав новых каменных баб не запросит, — а он умный, он поймет, он запросит. И другой арясинский миллионщик, Захар Фонранович, вероисповеданием православный, хоть из лютеран, негласно в Арясине монгольские интересы Гомбожава представлял. Даже в такую жару, как нынче.
Но беды нагрянули. Одна — зной, другая — дым. Жар и гарь.
Июньским прозрачным вечером, после работы, Богдан в закутке при малой поварне ужинать не стал. Забрал из верхнего шкафчика литровую бутыль настойки на тутовых ягодах, из нижнего пивную бутылку настойки на барбарисе, в предвидении грядущих нехваток взял младенчиковую бутылочку с ректификатом — и потащился со всем добром на веранду, где хлебал свой пустой чай Давыдка. Веранда эта была построена как ни при чем: словно не безоконная поварня была рядом, а настоящая, еще советских времен, дача. Кто такое тут выстроил, — черт знает. Впрочем, как раз черт-то и не знает. Черт ничего не знает, потому как отбелован и развезен по мастерским сегодняшний черт. Туша несмысленная, чешуя на ней крупная, на искусственные панцири пойдет черепаховые, теперь модно, а больше ничего хорошего с этого черта получить оказалось невозможно.
Богдан решил взять у себя отгул. Чуял Богдан, что снова повалит в эту ночь из города жертвенный дым. Он и повалил, из китайской слободки на северной окраине города, — там как раз располагалось архитектурное диво Арясинщины. Посреди кладбища стояла фанза, и возле нее жгли китайцы жертвенные деньги за упокой тех своих родичей, что уже упокоились. В качестве жертвенных денег использовали советские, те, что между сорок седьмым и началом шестьдесят первого в хождении имели место, в период великой советско-китайской дружбы. Дружба давно кончилась, а китайцы остались. Откуда китаёзы-ходи этих бумажных денег столько набрали, почему дым от них такой разъедучий, — никто не знал. Никому китайцы не доложили про многотонный клад этих денег, правда, отсыревший, на который наткнулись они в одном из скотомогильников, когда фанзу возводили. Никто и не интересовался, китайцы местные были вроде как чукчи, для анекдотов годятся и для меновой торговли, но и только.
Однако дым так и тянулся с запада на восток, не рассеивался, застилал собою все Выползово и мастерские Богдана. Каждый год такое бывало. Богдан до известной поры гуманно считал, что обижать китайцев негоже, их и так уже каждый обидел, будет с них неприятностей-то, — и с бедствием этим сезонным не боролся. Обижали китайцев, понятно, еще в Китае, иначе они б из него не сбежали, а на арясинских землях дрались с ними как раз те цыгане, которых Богдан выжил за Савелово. Память о войнах табора с фанзой все еще жила в местных анекдотах, хотя угасала, как угасает любая мирская память.
Появились китайцы в Арясине в шестидесятом году — бежали через океан в круглой джонке, плыли долго, по слухам, через Желтое море, потом через Синее, Зеленое, Красное и Черное, через Дон, потом через канал, — а то, может, и посуху, это ж китайцы, — перебрались в Волгу и поднялись до Арясина, тут свернули направо, причалили налево, к Буяну, и вдруг устали, решили остаться. Драпали они от надвигавшейся культурной революции, набежали на хрущевскую девальвацию, что, конечно, страшно было, но после плавания вокруг Евразии чуть ли не за семью семь морей — не так чтобы очень. Были они люди маленькие, до того запуганные, что при малейшей угрозе штаны обмочить могли, — а потому в основном молчали и часто кланялись по-китайски. Вещей у них с собой было — весла, камешки для гадания, да и всё, пожалуй. Фамилия решительно у всех была одна, простая, значилась она по документам — Ло, а имена они взяли русские, мужики стали Василиями, бабы — Василисами. Для разнообразия было, правда, несколько Иванов и Степанид. Ну, Ло — так Ло. Но знающие люди говорили, что иероглифом «ло» по-китайски лучше не баловаться, им и фамилию русского императорского дома написать можно.
Для глаз коренного арясинца все китайцы выглядели стариками, — хотя старик из китайцев оказался на самом деле только один. Так выглядели даже юные: была среди беженцев молодая пара, Иван и Степанида Ло, жили они сперва, как все, в общей фанзе. Однако когда Степанида принесла разом четверню, да оказались все новорожденные девки, — для местной газеты это была сенсация, дали им квартиру в новостройке, в дальнем конце Жидославлевой улицы, — к расположенному на севере Арясина кладбищу этот конец был ближним. А поскольку именно в тот период власти российские, за ними же следом и арясинские, повально увлеклись новостройками, и новоселы, неосмотрительно ликуя, меняли все старое на все новое, на свалках встречались удивительные вещи, и немалая часть их откочевала в облюбованную китайцами «пятистенную фанзу».
Изба же эта, когда-то богатая и не так уж тогда близко расположенная от кладбища, долго стояла ничейная, — наиболее целые деревянные части ее порастащили почитатели журнала «Сделай-ка, милок, сам!». Изба медленно разваливалась, и к тому времени, как приглядели ее китайцы, клонилась во все стороны сразу, каждой из своих пяти бревенчатых стен, — давно уже никто на эти останки не претендовал. Испросив согласия на заселение у местных властей и получив «добро» (одновременно недоуменное и облегченное — думать не надо, где этих лишних селить), китайцы взялись за дело бодро: подправили фундамент, соорудили крыльцо из речных камней, затянули окна промасленной бумагой, прирастили к пятой стене террасу. Ее китайцы выстроили на свой манер, — второй этаж фанзы использовался в основном летом, так как пол его был слишком ветхим, чтобы ставить серьезную печь, — однако поставили и там легкую печь типа буржуйки с трубой, выходящей прямо в пятую стену, на террасу, — отчего та годилась не только для отдыха, но, скажем, и для копчения маринованной свинины. Ко времени коронации нынешнего российского государя фанза приобрела вид невообразимый, живописный и оригинальный. Что греха таить, веранды, пристроенные к иным домам, теперь нередко назывались в Арясине «китайскими».
Так обзавелся Арясин своим Чайна-Тауном. Слова такого в городе никто применительно к фанзе не употреблял, да и знал его едва ли, потому что приросла к ней в качестве имени собственного кличка «Гамыра». В принципе весьма устаревшее это слово некогда обозначало на Дальнем Востоке определенный напиток — китайскую грубую водку, хану, вскипяченную с брусничным вареньем. Сивуху эту китайцы гнали неизвестно из чего, а варенье в него клали и вправду брусничное: всякой ягоды на болотах к северу от Арясина было — завались. Но собирать ее китайцы боялись, не китайское это дело — бродить по русским болотам, да и ходить на лучшие брусничные места, на Оршинский Мох, получалось для них далеко. Так что на бруснику с китайцами иной раз и поменяться можно было: принесешь корзинку ягод, фунтов на десять — получишь большой стакан горячей гамыры. Второго не дадут: потому как знают китайцы, что после второго придется им тебя спать в своей фанзе укладывать. А им самим тесно.
Конечно, таща всячину со свалок в свою «Гамыру», китайцы думали, что это жилье временное, до тех пор только, как найдут они дорогу из Арясина, но годы шли, а вещи все-таки служили и так на своих местах устоялись, что и менять что-либо казалось делом не очень-то нужным, по крайней мере — не спешным. Да еще выяснилось, что Арясин из Волги китайцев к себе заманил, а назад не выпускает. Кто-то из китайцев попробовал податься в Тверь, пытались они ездить и в Клин, но получилось так, что их, как и некоторые семьи кружевниц, Арясин «водит»: сколько ни ходи, ни езди — а все вернешься домой, к фанзе-пятистенке. Китайцы смирились и взялись за привычные от века промыслы. В частности, настропалились выводить пятна с кружев, если кто по пьяному делу их загваздать чем ни то умудрялся. Хорошему клиенту такие кружева не всучишь, но среди клиентов не одни лишь хорошие попадались, и получалось — есть людям и от китайцев польза. К тому же опийный мак тут расти отказался, и если каким наркотиком китайцы могли отравить местное население, так только полугаром либо просто сивухой, а этим кого ж на Руси удивишь — это тебе не химчистка и не прачечная.
Меж тем мёр на свете народ, в том числе и арясинский, и к концу семидесятых годов кладбище подошло к пятистенной фанзе вплотную. Кладбищенское начальство вкупе с городским стало предлагать китайцам, уже вполне завоевавшим в Арясине некое положение, варианты переселения, к примеру, в Упад, но китайцы отказались — соглашались выехать только за исторические пределы Арясинского княжества, а этого им ни кладбищенские, ни городские власти устроить не могли — как устроишь, когда сам Арясин не выпускает? Ну, посерчали, потаскали в суд, тогда еще народный-советский, навручали повесток, погрозили бульдозером, — хотя тот проехать на кладбище заведомо не мог, — но китайцы прочно стояли, сидели и лежали на своем, а вместе с ними стояла и пятистенная фанза, стояла и обрастала могилами, образовавшими вокруг дома как бы вторую, а потом и третью изгородь, — пока совсем не скрылась среди железных, крашеных в зеленое прутьев, шишечек, плит, памятников, крестов, тянущихся к небу деревьев и колоссальных баков с кладбищенским мусором. Чуть ли не сами китайцы дали этому безобразию название — «Малая Великая стена». И дороги нормальной к дому не было. Так, тропка в след шириной.
Внутренний забор фанзы состоял из врытых в землю, окрашенных и весьма искусно переплетенных лозой водопроводных труб и батарей центрального отопления; напротив огорода торчал кран типа «ёлочка» носиком кверху — на носик китайцы вешали «курму», то есть одежду, когда ковырялись на участке. Здесь же, чуть в стороне, выходила труба с еще одним краном, по которому в самом деле бежала вода, — отведенный от кладбища кусок летнего водопровода, — под краном этим стояла всегда полная рыже-зеленая чугунная ванна, обложенная камнями, скрепленными смесью глины и ворованного цемента, — красиво получилось, почти бассейн. На зиму, правда, наполняли ванну не водой, а навозом, причем всяким, не очень его сортировали-то, хотя плотно прикрывали сверху кусками рубероида. И от удобрения столь доброго, и от тщательного китайского ухода заброшенные кусты и деревья расплодоносились вовсю, старые яблони — и те цвели, а уж новопосаженные груши тем более. Помимо сада и ванного бассейна, завели китайцы огородик: пять грядок с морковью и зеленью, еще грядка — в память о родине — с гаоляном, а все прочее место занимал овощ вполне русский, картошка. В летние месяцы из болотной брусники, а также из гаоляна варилось в дальнем углу сада под старой яблоней бесконечное варенье в медном, на свалке найденном тазу, и осы вились над пенками.
Старые трубы и батареи оказались на поверку долговечным строительным материалом; один недославльский шофер за жбан гамыры привез китайцам этого добра самосвал с верхом, так что не только забор был из труб и тому подобного сделан, не только высокое крыльцо дома, а кое-где и фундамент подпираем был ими же. А уж сарайчик с инструментарием и полезными в хозяйстве вещами, собранными на свалках и ждущими своего часа, уж сарайчик-то целиком сварганили китайцы из батарей, оставив пробелы для света в некоторых секциях и натянув там промасленную бумагу в несколько слоев. Там-то как раз гамыру и прочий крепчайший ханшин китайцы и возгоняли. Вместо змеевиков, по слухам, в своих аппаратах китайцы использовали опять же батареи центрального отопления.
Недославльский шофер, работавший на сносе и вывозе старых домов, китайцам сильно пособлял, и не только стеклами с целыми, нетрухлявыми рамами подмогнул, но и булыжниками, щебнем, гравием, кирпичом, лампами, изразцами, ухватами, чугунами и прочей посудой, как металлической, так фарфоровой и стеклянной, ну, еще подсвечниками, чернильницами, продавленными диванами, креслами, балдахинами, комодами, этажерками, а также прочей обстановкой, главное же — сундуками, которые в хозяйстве любую вещь могут заменить. Предметы эти, правда, все без исключения были сломанными, треснувшими, продырявленными, но в умелых китайских руках они начинали новую жизнь — не всегда в прежнем своем качестве, но кто же от новой жизни откажется? Да в любом, ядрена мышь, качестве, только бы снова жить, хоть пчелой над пенками!
Дорожка к дому перерезалась бревенчатым углом и разделялась не на две в обход, а на четыре — одна тропка направо вокруг, вторая налево, третья снова направо — к сарайчику, как металлический Горыныч, выступавшему из кустов сирени и ежевики, а четвертая снова закручивалась налево, где тоже виднелось в кустах нечто похожее на летнюю кухню, хлопающее вместо двери куском клеенки и крыши не имеющее. Интересовавшийся мог обнаружить за клеенкой деревянный щит, а в щите пару неровно-круглых дыр, что должно было, по-видимому, означать нужник. Весь город знал, что «свое» удобрение идет у китайцев на грядку с гаоляном, но проверить было невозможно; а вдруг да сразу на варенье? Не спросишь. На то Ло и были китайцы, хотя с годами говорить привыкли на русском, почему-то не желая расставаться лишь с гордым «твоя-моя» — взамен «ты» и «я»; ну, конечно, в неприкосновенности хранили жители фанзы и богатейшую китайскую ругань.
Пришедший, обходя дом что слева направо, что справа налево, и особо ежели в темноте — натыкался по очереди на все углы, пробираясь по китайской тропке, бережливо экономящей полезную площадь, — и сирень, и ежевика росли тут весьма тесно. В конце концов, добирался гость и до высокого крыльца фанзы-пятистенки, не имевшего ни крыши, ни перил, по каковой причине многие совершали на оном крыльце в ледяное зимнее и слякотное осенне-весеннее время танцевальные па и пируэты, вовсе не под аплодисменты, чаще под свои же матюги.
Входная, обитая поддельной кожей дверь, имела сразу два глазка на разной высоте, но замка при этом не имела — при желании гость мог в качестве предупреждения постучать по деревянному гонгу деревянным же молотком — и то, и другое аккуратно висело слева на крученых пеньковых веревках, — стучали, однако же, редко, а уж кто стучал, тот, плюнув на гонг, колотил прямо в дверь — тут и кувалда не выдержала бы, вот почему молоток здесь вешали деревянный и гонг раскрашивать считали без пользы — все равно разобьют.
В довольно просторных сенях, если только не были эти сени тамбуром, коридором или, к примеру, холлом, входивший прежде всего видел самого себя, но весьма странного себя, — свой костюм, разъеденный черной молью отсыревшей амальгамы, и мутную серую дыру на месте головы, в центре которой явственно проступал нос, или очки, или воротник, или чёлка, смотря по росту гостя, — именно такое изображение выдавало стоявшее напротив входа высокое, в полторы сажени, напольное зеркало в старинной резной раме если и не черного дерева, то крытой черным китайским лаком, с орнаментом из многозубчатых листьев, где благополучно соседствовали птицы и змеи, основанием же зеркалу служила слева когтистая птичья лапа, а справа довольно увесистая чугунная гиря, почему-то желтая. Полюбовавшись на себя, гость оставлял на циновке уличную обувь и, разместив на вешалке шубу или плащ, смотря по сезону, проходил налево — на общую половину, или направо — на половину старика. Шли налево. Почти все.
Налево можно было зайти к третьему Василию Васильевичу Ло и получить очки для умягчения тещиного нрава, выпросить в долг у Василисы Васильевны Ло пару бутылок натурального китайского картофельного полугара с добавками загадочных китайских цветов и гаоляна, ну, из химчистки у Ивана Васильевича Ло кружева забрать, ну, принять у Василия Ивановича Ло массаж от обоюдоострого прострела или же пронзительный пластырь от хронического насморка, да мало ли что еще врачебное, — в конце концов, духовитого чаю со старой Степанидой Васильевной Ло выпить, или даже настоящей гамыры, да про жизнь поговорить, обсудить рыночные цены и государственные дела, только чтобы про китайские события никогда ни слова. Своей родины Ло боялись. Даже цыган не боялись, у которых Богдан два села перекупил, а потом бесповоротно с Арясинщины выжил. Даже самого Богдана. Зато вот картежника Дэна и прочих великих кормчих боялись не меньше, чем прежде.
А направо мало что было можно, хоть и была правая половина втрое больше левой — размещались там молельня и хлев, почему и звалась она половиной старика, исправлявшего всю жизнь обязанности и священнослужителя, и скотовода одновременно. Звали старика, естественно, тоже Василием Васильевичем Ло. Там содержали китайцы своих дойных черных коз. Ни собак, ни кошек не было — происходила семья Ло из южных провинций Поднебесной, где кошку считают за большой деликатес, а собаки для любых китайцев еда сытная и любимая, хоть на севере, хоть где. Хлевом, несмотря на тщательность уборки, курительные травы и прочие китайские хитрости, вонял весь первый этаж, однако же построить скоту теплое зимнее помещение все не хватало средств, да и устоялось оно так, как было выше сказано, — китайцы привыкли, частые гости тоже, а нечастые либо не имели значения, либо становились постепенно частыми.
До переплыва границы только двое из китайцев знали друг друга — были они, собственно, родными братьями, остальные же познакомились именно что границу переплывая, но старик Василий Ло главою этой маленькой общины стал фактически сразу. Надо сказать, что еще до того вышла в общине одна история. Среди переплывавших границу была девочка четырнадцати, много пятнадцати лет, фарфоровая куколка. Оказавшись в Арясине, оба брата стали на нее претендовать; дошли в свадебных притязаниях чуть не до поножовщины, ходили оба с разноцветными фонарями под глазами, закидывали девушку подарками, какие по карману были, пока не решили бросить жребий, с чем и пришли к старику Василию Васильевичу Ло.
Старик выслушал женихов в молельне и призвал фарфоровую. На вопрос, с кем она желала бы соединить свою жизнь, куколка промолчала, как и прежде молчала на подобные вопросы, задаваемые женихами. Старик думал час, бросал камешки и стебли тысячелистника на циновку, ни на кого не глядя, потом встал, погрозил фарфоровой пальцем и удалился в клетушку, где спал, а женихи остались с носом.
Девочка не пошла ни за которого из братьев, но, чтобы поножовщины в «Гамыре» как-то избежать, стала жить с обоими, — братьев в городе знали, они по очереди ходили на рынок торговать сластями на патоке, и был слух, что один из них — Кавель. Ну, тот самый, который. Братья теперь и вправду любили друг друга, а общую свою жену любили прямо-таки неистово. Родила она от них обоих общего сына, — народ ждал, конечно, двух, да вот не дождался. Был конечно, слух о том, что второй сын был, да вот его первый… ну, как обычно, но получалось, что на этот раз Кавель убил Кавеля прямо во младенчестве! В это уже не верилось, и жил мальчик сразу за двоих законным образом. Он по наследству, уже когда патриарх «Гамыры» умер, стал управлять молельней-кумирней, потому что старик его на всякий случай усыновил. Звали мальчика, понятно, Васей, получился Василий Васильевич Ло Четвертый, заведующий кумирней и посреди кладбища — главный китаец, хотя очень юный.
И в новостройке у отселенной семьи, и в самой фанзе, отчего-то китайские дети в советские времена мерли один за другим. Тогда пришли самые уважаемые китайцы к старику Василию Васильевичу Ло и начали жаловаться: некому будет нас в старости уважать, некому нас пропитать будет. Кинул старик на циновку свои камешки, сказал по-китайски: «Заведите козла, душного, черного козла, да козу не забудьте завести, непременно еще и козу». Завела община козла и пару коз, впрямь на козьем молоке дети жить стали, а не помирать, но взрослым все равно неспокойно было что-то. И снова пришли они к старику, и сказал старик: «Заведите теперь черных свиней». Завели тогда китайцы в фанзе черных свиней, много их завели, бывал теперь на столе по китайским праздникам поросенок под кисло-сладким гаоляновым соусом: повеселели китайцы. Но старик Василий Васильевич Ло поскрипел себе тридцать лет с небольшим, а потом взял да и помер. Вот именно в годовщину его смерти и жгла китайская слободка поминовенные деньги и не давала дышать ни Богдану, ни его чертоварне. Ветер с кладбища дул на восток — пересекал Тощую Ряшку, Безымянный Ручей, а потом оседал всей гарью на Выползове, прямо колдовство какое-то, видать, китайское.
Горело при фанзе, а дым ложился на чертоварню.
Богдан решил, что в конце концов, сменщик у него есть, бухгалтер. А изобрел эту бухгалтерию итальянец Лука Паччиоли. От римлян они происходят, эти итальянцы, и все им никакой дым нипочем, как нанюхались извержения Везувия. Так что сказал Богдан по-итальянски — «Non che piu». Хотя намеревался он пояснить, что выпьет только вот эти три бутылки, а больше ни-ни, Давыдка понял его по-своему: «Нонче пью», говорит мастер, стало быть, пьет нынче хозяин и работать не пойдет, а следует из этого то, что надо скорей жарить рыбу и звать Фортуната. Рыбу Давыдка жарить поставил, запас еще имелся, шесть пудов подпорченной мойвы хранились в подполе на льду, — и пошел к Фортунату-бухгалтеру: иди, работай, мол. Но очень скоро убедился, что совершенно опоздал. Итальянский акцент прорезался у бухгалтера, как выяснилось, еще с обеда, и то, что Богдан для себя только запланировал, для Фортуната давно стало пройденным этапом, Лука Паччиоли смотрел со стены на нарезавшегося бухгалтера и осуждающе качал головой: ежели столько попало в дебетную графу, то чем же кредитная восполнится?.. В отличие от изобретателя бухгалтерии, придурковатый Давыдка знал, что Фортунатова душа восполнится рассолом из-под прошлогодней капусты, — увы, еще не скоро. С горя побрел Давыдка прямо к Шейле Егоровне на Ржавец и совсем забыл и про ту мойву, что поставил жариться на электроплитку, и про ту, что хранилась в подполе. Притом дверь в подпол не закрыл, рассчитав — мол, пусть протухнет еще сильней, в бухгалтере каталитической силы больше будет. Про то, что мойва эта несъедобная может быть нужна еще для чего-то или кому-то, Давыдка помыслить не мог.
Солнце село, Белые Звери утопотали в загон, и вышли охранять Богдановы угодья знаменитые Черные Звери — шестеро колоссального размера собак, выкормленных овсянкой со шкварками из чертова сала. Всякое бывает ночью на просторах Арясинщины. Например, деревья в здешних лесах растут только ночью. Говорят, это потому, что самое древнее семечко занесено сюда птичьим желудком из далекой Колумбии, а может, Сербии. Но почему деревья из сербских семян растут только по ночам, почему они пахнут палисандром? Знают об этом разве что ночные звери, Черные Звери, Звери Богдана. Никаких запретов эти Звери никогда не ведали, и, хотя обоняние у них, как у борзых, было хуже зрения, запах жарящейся тухлой мойвы не слышен был только пьяному Фортунату, да еще пьяному Богдану, — ну, и мертвецам на кладбище вокруг фанзы. Собаки же этот запах учуяли мигом. На сковородке лежали уголья, а вот в подполе — не уголья, нет. Там была рыба. Совсем тухлая, но Терзаю и его своре это было не важно. Там была настоящая сырая мойва!
Не взлаивая, не сопя, спустился Терзай в подпол и сглотнул первую порцию, фунтов пять, наверное — средних размеров детский сад можно бы такой порцией перетравить, со сторожем и с истопником вместе. Но Терзай был собакой, к тому же очень крупной. И старшая его жена, кличкой Трелюбезная, хапнула с первого халка не меньше. Так что только хватили собачки, все шестеро, по два раза рыбки — как и не стало первого корытца. Пудового. Но это ничего: оставалось еще пять. И почин второму корытцу сделал молодой сын Терзая, Раздирай, а младшие суки — Недосужная, Желанная да и самая молодая, Ярая, продолжили. Вот так вот все шесть пудов тухлой мойвы исчезли в утробах Черных Зверей за тот срок, за который русский человек не успел бы совсем коротко помолиться за здоровье державствующего государя.
Была мойва. И не стало мойвы. Собаки тихо-тихо поднялись из подпола и без большой охоты потрусили патрулировать ночные границы Богдановых владений. Хотелось пить, но вода из Безымянного ручья жажды не утоляла. Раздирай не выдержал первым, лег на траву и заскулил. Суки не замедлили присоединиться, — больное объевшееся брюхо не уговоришь. Терзай крепился дольше всех, но и он бы не выдержал, если бы… не прошибло. До слез на глазах. «Никогда больше не буду воровать!» — думал Терзай, неукротимо теряя в весе. Он носился меж деревьев, потом приседал снова и корчился. Тихо кряхтел. Остальная стая выла от зависти, но ее тоже стало пронимать понемногу. За полночь лес между Выползовым и ручьем был заполнен стонами и подвываниями измученных поносом собак. И так продолжалось до рассвета. Солнце, поднявшись над краешком горизонта, с ужасом увидело на Арясинщине шесть Черных Зверей, у которых не было сил уползти в сарай. А чем пахли арясинские поля и луга, — солнце нюхать не захотело, стало себе подниматься в зенит, прочь от залитой жидким собачьим удобрением многогрешной земли. Вонь от плохо переваренной мойвы стояла такая, что даже измученный похмельем Фортунат у себя в бухгалтерии, за четыре версты от ручья, пробудился и почуял в душе силу немедля удавить самого Сатану Люцифера Вельзевула, если у чертей в аду на самом деле столь благородные кликухи.
Вой аварийного сотового телефона разбудил похмельного Богдана. Разъяренный Фортунат хотел немедленно разорвать пополам ту сатану, которая такую вонь на блаженную Арясинщину навела. Богдан, не совсем еще проснувшись, повел носом. Пахло желтым китайским дымом, и еще пахло дерьмом собачьим, очень жидким, произведенном в неусусветном количестве из тухлой мойвы посредством кишечного расстройства шести черных собак. Куда ни глянь — вся трава вокруг Выползова была не зеленая, свежая и росистая, а желтая и… Богдан мигом протрезвел. Ничего себе отдохнул. Ничего себе оттянулся. Чертовар выпил из младенчиковой бутылочки все, что нашел на донце, и принял решение. Трава на Арясинщине отныне желтой не будет. Долой, словом, желтую опасность. Что с нами случилось? А ничего особенного. Просто большие, большие, очень большие обосратушки! «Я вам устрою остров Даманский, да такой, что вам Поднебесная с желтую овчинку покажется!»
Арясинские зеленые травы, конечно, вымыть придется — целую армию травомойщиков придется пригласить. Армию?.. Может, это мысль — армию? Бездельников, кстати, делом занять можно, да и деньги потратить к вящей пользе. Богдан протер виски одеколоном и уселся к телефону. Китайцы ему надоели, но военных чудес он творить не умел и мог одолеть желтую опасность только с помощью грубой силы. Помимо десятка мастеров с подмастерьями, он предполагал призвать под ружье еще и всех бездельников, прохлаждающихся у сердобольной Шейлы на Ржавце. А это уже, считай, полурота. Да еще водяной — тот, Фердинанд икрометный. Желаний исполнять не умеет, говорит косноязычно, но по мордасам желтым навешать вполне может. Ну, а Каша… Как захочет. Может, и ему будет полезно меланхолию развеять на военном поле действий. Воевать полезно. Может, в нем скорбь по потерянной работе и по невостребованной квалификации поутихнет. Вооружение в избытке. И мадам генерал-подполковник Стефания Степановна, — еще и баронесса, к слову сказать — после изъятия из нее беса оказалась талантливым стратегом. Неплохо будет узнать, какой она тактик. Многонациональная гвардия ей под командование хорошо пойдет: негр Леопольд, силы неслыханной, да татарин Равиль Шамилевич, ума недюжинного, да еврейский акробат-престидижитатор Зиновий Генахович, ловкости несказуемой, да еще военный человек Гордей Фомич, да другой военный, хоть и немолодой, но генерал, именем Аверкий Петрович, да всех не перечтешь, из каждого по черту вынуто. Да бездельник Савелий все хорохорится — хочет показать, что мог бы кого хошь взять на вилы.
Вот и возьмем Китай на вилы.
8
Он даже помнил, как еще в детстве слышал про своего деда — <…> — будто у него такая дружба завязалась с одним водяным, что если бы не страх перед гневом священника, он бы усыновил его.
«Души в клетках», ирландская сказка из собрания У. Б. ЙейтсаВодяного Фердинанда в его икряном водоеме добудиться долго не могли: тоже угорел от китайского дыма, ему этот дым по географическим причинам доставался первому. Накануне приключилось с водяным нечто несообразное, даже по рыбному его статусу и неприличное вовсе, прямо хоть топи в озере собрание сочинений Хемингуэя и «Моби Дика» сверху клади, — чистое вышло арясинское рыбоборье.
Пострадал Фердинанд по недоразумению. Утомился тужиться, меча икру, и решил, что имеет право из водоема вылезти и дотелепаться до ручья, чтобы туда по естественной нужде организма отлить: как общеизвестно, ходят под себя водяные исключительно дистиллированной водой, такой у них презабавный метаболизм. Однако на суше чувствовал себя водяной погано: тело его тяжелело ровно на тот вес, который он привычно вытеснял из водоема с солоноватой жижей, где сидел весь день и метал икру. Под себя водой ходить стеснялся — все-таки в водоеме у него была икра, а даже необразованные водяные знают, что ее не дистиллированной водой разбавляют, а хорошим, дорогим пивом. Пиво в Арясине было недорогое, но зато свое, и даже лучше, чем в Клину или Твери, а тамошнее пиво знатоки во всем мире ценят не ниже баварского. Так вот, баварским пивом, и только пивом нужно разбавлять икру, а не дистилированной водой!
В рассуждениях о неудобстве своего метаболизма водяной слишком далеко ушел от действительности. И на самом подходе к Безымянному ручью был сбит необыкновенно злобным велосипедом письмоносицы Музы Пафнутьевны, мчавшейся с крейсерской скоростью по своим старушечьим письмоносным делам. А как был водяной по нынешнему статусу рыбой, то и оказать на суше должного сопротивления не смог. Старуха — напротив. Вылетев из седла, она ловко приземлилась на корточки, молодецки крякнула что-то японское и выбросила вперед и вверх каблукастую босоножку, — и как только она в такой неудобной обуви еще на велосипеде-то ехать умудрялась! Кованый каблук босоножки попал водяному прямо в жабру, которую бедняга мигом захлопнул, но это не помогло; старуха имела не то светло-черный пояс в индо-пакистанском слоноборье, не то особые заслуги еще в каком-нибудь кунфуёвом самбо. Заливая берег ручья дистилированной водой и еще другой жидкостью под названием «икор» — она служила водяному вместо крови, помогала икру метать — бедолага рухнул без чувств прямо под ноги письмоносице, а та в полном разъярении принялась его топтать. И топтала, и гикала по-японски, покуда не утомилась. А потом сообразила, что борется с сотрудником Богдана Арнольдовича Тертычного, чертовара. И натурально рухнула без чувств поверх сотрудника.
Случалось ли вам падать всем телом на голого водяного? О, вам не случалось этого делать, иначе бы вы сейчас этих строк не читали, вы были бы в тот же самый раз копыта откинумши, говоря арясинским просторечием! На счастье, водяной отцепил от псевдоуха кованую босоножку и глаза открыл. Говорил он плохо, и речь его приняла письмоносица за невнятную российскую матерщину, — из каковой эта речь, кстати, целиком и состояла, не считая нескольких древних угро-финских, тоже матерных, слов. Поэтому и Муза покрыла водяного отборной, вполне современной, хорошо артикулированной матерщиной, — ей недавно как раз протезы новые на обе челюсти присадили, — влезла на велосипед и угрюмо поехала дальше письмоносить. А Фердинанд остался битым и уполз к себе в пруд горестно метать икру, да так и уснул, недометав дневную норму. Утром же его разбудили чертоваровы тиуны по случаю всеобщей выползовско-ржавецкой мобилизации на китайскую войну.
Мобилизовали всех, кто мог ружье, вилы или хоть помело держать, даже старика Варсонофия: оторвали болезного от его дубильных чанов, назначили обер-контролером Западного фронта. И Козьмодемьяна Петровича, толстого алкоголика, из костопальни отозвали, прежнюю профессию оставили при нем, но насчет костей указали, что теперь товар пойдет не тот, что прежде. Фортуната Эрнестовича, чудотвора-бухгалтера, главным ремонтёром и фуражиром армии назначили. Приемного сына Шейлы, бездельника Савелия, и того Богдан в бойцы забрил в рядовые — не до шерстобития нынче стало, не шерсть нынче бить собрался чертовар, а китайцев из обнаглевшего Чайна-Тауна, что посреди кладбища вырос поганкой.
И всю Шейлину санаторию, всех обезбесивших постояльцев: и тех, что сами приехали, и тех, что из вытрезвителя были вывезены коконами. Первых, понятно, сделали сержантами и отдали под их начало вторых, а генерал-подполковницу оставил Богдан Арнольдович в прежнем звании и поручил руководство полевыми операциями. Попал под ружье — правда, полковым писарем — даже малохольный Давыдка. Запретил воевать Богдан Арнольдович только Кавелю Глинскому, оставил его в резерве при госпитале, которым поручил заведовать своей нерасписанной жене Шейле Егоровне. Она, правда, заикнулась — как же можно мастеру от основной работы отвлекаться, чертям раздолье давать, но Богдан заявил ей твердо: «Я на черта черт!» И то верно… А китайцы, видать, нуждаются во вразумлении, раз от ядовитых газов воздержаться не могут. Необходимо произвести демонстрацию силы. И другие действия.
Сначала почуяли грядущую битву Белые Звери, небольшое стадо дойных яков, наводившее ужас на окрестности, а так вообще-то очень мирное и обильное жирным молоком. Первым делом у перепуганных ячих упал удой, и Шейлу это огорчило: хотя тех двух ведер, что нынче удавалось надоить, для лечебных целей пока хватало, однако масло сбивать стало не из чего. Но ячихи были всего лишь раздражены. Людям доставалось больше. Хуже всех на арясинских полях жилось как раз всякой военной косточке, именно госпожа генерал-подполковник Стефания Степановна Басаргина-Переклеточникова, уж на что человек бывалый, а перед строем покашливала, — видимо, от китайского дыма, который и сюда досягал. Генерал-пенсионер перхал каждую минуту. Но всем — и кашлявшим, и не кашлявшим — предстоял бой с китайцами, оружия у Богдана всегда было немало, а для китайской войны он еще докупил кое-что, только от крылатых ракет класса «Родонит» отказался: неровен час, промажут, разнесешь весь город, а на нем китайского греха нет.
Кавель Адамович пробовал с Богданом поговорить, но — что называется, не пробился на прием. Только-только огляделся бывший следователь Федеральной Службы, только почуял, что неладно в здешнем королевстве по части его, Кавелевой, основной профессии — чертовар как с цепи сорвался. В то время, когда весь хутор, все мастерские и все цеха кипели подготовкой к походу на Малый Китай, Кавель буквально изнывал от безделья, мечтая заняться привычным, единственным, любимым кавелеведением. Шейла сдувала с бедного пациента пылинки, а Савелий, перепуганный размахом готовящегося мероприятия, не давал гостю даже постель свою застелить и каждое утро стоял часами у его ложа: экс-следователь засыпал поздно, так же и просыпался, и оттого горячий шоколад с ячьими сливками готовился для него на спиртовке в последнюю минуту перед полным продиранием глаз. А Кавель Адамович Глинский мучительно жаждал работы. Одна беда — следователь Кавель решительно ничего не умел, кроме как бороться с кавелизмом.
Словом, у Кавеля Адамовича появилось слишком много свободного времени, а времени ему самому, кроме Шейлы да Савелия, никто уделить не мог. Оттого занялся Кавель тем единственным, что знал и умел: стал искать кавелитов вокруг себя. То есть ловить мух в межзвездном вакууме. Сперва результаты у него были как раз такие, как бывают на подобной ловле. Но Кавель Адамович в неудачу не верил, ибо знал, что кавелизмом и кавелитами заражена не часть России, а вся она, матушка, вся.
Ему нездоровилось первые недели и первые месяцы жизни на санаторном Богдановом хуторе. — всю весну и начало лета. Сказались и кошмарная смесь наркотиков, которой накачали его при похищении, и травма от утраты коллекции. От неукоренившейся любви к наркотикам здоровый деревенский образ жизни его избавил быстро — но вот от коллекционерской страсти этот воздух никого еще и никогда не вылечил. И прежде всего заинтересовало Кавеля собственное внезапное внезапное перемещение из кровной квартиры на Волконской площади прямиком в неведомую тверскую чащобу. Для начала он с трудом вспомнил, что кому-то диктовал телеграмму по телефону. То есть он помнил, что диктовал, а кто это и по чьей инструкции взял на себя труд его, Кавеля Глинского, спасать, когда все только и норовили угробить, почему телеграмма все-таки попала к Богдану, с чьей помощью — не знал и узнать не мог. Богдан сказал — просто принесли с почты как срочную. И поиздевался, что без семи благословений телеграмма не дошла бы. Кавель ничего не понял, но он при том разговоре еще слишком был слаб.
Довольно скоро Кавель смог вставать, гулял по окрестностям Ржавца и однажды увидел невозможное: тот самый негр, несанкционированное убийство которого он так и не расследовал, теперь колол березовые дрова под присмотром лично Шейлы Егоровны. Бывший следователь подошел к ним и был проинформирован, что зовут негра Леопольд, по-русски он говорит, но всего сто с чем-то слов, прошлого своего не помнит, да и как бы ему помнить что-то, когда попал он сюда одержимым. Что это такое, Кавель Адамович уже знал и знал, что первый год к этим бывшим одержимым с расспросами приставать не надо: все на второй год сто раз перескажут, да еще с лишними подробностями.
Вообще знакомых тут оказалось очень много. Валерик Лославский, таксёр с одной с ним лестничной клетки, почтальон с Волконской площади Филипп Иваныч, — этих он знал и даже немного обрадовался соседям, зато появление на заднем дворе генерал-вахтера Старицкого, вилами ворошившего багровый ячий навоз, Кавеля ошарашило. Ведь на хорошее же место пристроился человек! Но — оказалось, что и тут с вопросами лезть не надо, и этот, что при навозе, тоже бывший одержимый, тоже первогодок. Навоз ворошить генерал-вахтер сам запросился. Но Кавеля признал, потому что глаза сразу отвел и сквозь седую бороду покраснел. Как навоз покраснел, а навоз был в тот день красным потому, что яков кормили рыночной свеклой, такой дар получил Богдан от богатого свеклоторговца из села Пожизненного, второй гильдии купца Якова Рябчикова. На рябчиковскую подводу как раз и грузил навоз бывший генерал-вахтер, ибо долг платежом красен, свекла на ячьем навозе родится преотменная: можно бы считать такой обмен бартером, только был это скорее дарственный обмен излишками. Много, словом, не заработаешь.
В воздухе ощутимо пахло гарью, Кавель узнал, что из-за этой гари и предстоит война с той самой конторой, которую все на Ржавце с непонятной почтительностью именовали Малым Китаем. Кавеля это изрядно подивило: в семьдесят втором тоже горели леса под Шатурой, говорят, в Москве дышать было невозможно никаким способом, так не повела же Москва на Шатуру по такому поводу войска. Шейла Егоровна, которую бывший следователь об этом спросил, поглядела на него, как на ребенка, и почему-то ответила: «В Шатуре шелковица не растет». Кавель ничего не понял, не кавелитское, выходит, было это дело, а он толк знал только в кавелитстве, он по опыту знал, что в России любое дело все равно либо начнется со спора «Кавель Кавеля или Кавель Кавеля», либо этим спором кончится. И не сомневался, что тут будет точно так же. Просто никак иначе не бывает вообще. Кто-то здесь наверняка тайком кавелирует.
Все тут были заняты, все готовились к войне, каждый знал свое место и никто не понимал ничего, кроме того, в какое время и в каком месте должен находиться. Оставалось надеяться на Богдана, а тот почти не появлялся: работал в Выползове и возникал у жены разве что на полдня по воскресеньям. Кавель все же поймал его однажды садящимся в бронемашину и потребовал час-другой для себя: если уж воевать не дают, то пусть хотя бы послушают. Как-никак кавелитов тут, на Ржавце, видимо-невидимо, а это для чего: они нужны Богдану для дела или сами развелись, как клопы? Богдан очень удивился, по-птичьи склонил голову к плечу, задумался и в машину садиться не стал.
— Пойдем на веранду. Шейла, нам с Кашей бутылку лукового счастья и этих маринованных маленьких… как их… ну, ты знаешь, сопливенькие они еще очень… Ну да. Маслят. Именно.
Летний вечер понемногу сгущал краски в небе над хутором, чертовар и следователь молча, каждый в недоумении — о чем бы это таком говорить сначала, а о чем попозже, прошли на веранду, с которой Шейла заблаговременно турнула Савелия: хозяин потребовал лукового счастья. Так неведомо почему назывался крепчайший ерофеич тройной перегонки, очень обильно вышибавший у непривычного человека слезу, — никакому луку такое не под силу. Луковая благодать была изобретением наиболее алкоголичного среди Богдановых помощников — Козьмодемьяна Петровича, Богдан его на употреблении оной застукал, пробормотал: «Счастье ты мое… луковое», — протрезвил вонью из лиловой пробирки, велел пить что-нибудь менее крепкое, а рецепт конфисковал и Шейла его в медицинских целях внедрила. Под прошлогодний запас маслят Богдан и сам иной раз не прочь был опрокинуть стопку-другую. Но время у него для такого баловства выдавалась редко. Сейчас Богдан не без резона полагал, что под луковое счастье и ему говорить легче будет, и Кавелю — понимать. Сам-то Богдан все уже давно понял. В частности, понял, отчего китайцев заволокло на Арясинщину. И отчего, пусть они сто раз прекрасные люди и чертей в них сроду не сидело, позволять им дальше плодиться на Арясинщине нельзя никак.
Грибочек проскользнул по ошпаренному пищеводу, и мир стал сразу поприятнее. Но понятности не прибавилось. Пришлось сразу пустить и второй грибочек вослед первому. Слезы на глаза навернулись, — разумеется, только Кавелю. Богдан у себя в чертоге привык не такое нюхать. Почти ничем неприятным, кстати, не пахло — разве только гарью тянуло с запада, из-за темнеющих сосновых силуэтов.
Молчание затягивалось, а чертовар все медлил с началом беседы. Пришлось Кавелю начинать самому.
— Богдаша, спасибо тебе за мое спасение, но уж будь милосерден, объясни, что происходит. Собрал ты целую армию сектантов и решил разгромить одну фанзу посреди кладбища? Тоже, нашел способ обустроить рабкрин… Что ты за противника себе выискал? Перекупи эту фанзу да сожги или закопай, а самих китайцев пересели, чего проще?..
Богдан вытаращил глаза. Сходство с беркутом мгновенно покинуло его лицо — он стал, пожалуй, похож на озадаченного динозавра.
— Я? Собрал сектантов? Каша, какие у меня сектанты? У меня производство, горячий цех, а косоглазые со своими ритуалами график ломают. Перекупить их нельзя, это я тебе… отдельно расскажу, но будь добр объясниться — какие-такие у меня сектанты.
Кавель воспрял духом: вот и его профессиональные навыки пригодились. Не зря чуть не месяц топтался по задворкам Ржавца! И в неторопливой следовательской манере, под очередной сопливенький грибочек, рассказал чертовару то, что рассказать был обязан.
Слоняясь по окрестным ничейным полям, на которых только Белые Звери днем паслись и Черные Звери ночью рыскали, любуясь местными пейзажами, однажды заслышал Кавель, как в кустах что-то методично трещит и хрустит. Кавель пошел на хруст, и обнаружил, что в кустах мнется, переминаясь с ножки на ножку, лакированный черный рояль.
— Марк Бехштейн, — без любопытства откомментировал чертовар.
— Марк, — подтвердил Кавель, — он мне сам так представился. Он приподнимает крышку, как губу, и как-то так говорит нотами, что они в слова складываются. Сказал, что он не местный, он, так сказать, рояль-кустарь, малый кабинетный, восемьдесят пять клавиш, клавишный механизм с двойной репетицией, семь октав. И вот кое-что обязан показать мне — как специалисту, потому что он-то не специалист, он… рояль. И позвал в кусты. При мне табельного оружия нет, но не рояля же мне бояться. Я и пошел. Ежевика у тебя там, все штаны об нее ободрал, Шейла Егоровна мне потом другие выдала. Не созрела еще… Ежевика, говорю, не созрела. А во мне подозрения зреют — что за такой Сусанин лакированный. Иду, а он прет, знай поспевай, покуда колючки снова не сцепились. Версту, наверное, по кустам проперли, а то и больше. Погоди, горло пересохло…
Кавель продезинфицировался очередной стопкой ерофеича под очередной прошлогодний масленок и продолжил.
— Вывел он меня на поляну, а на поляне свалка. Издали не поймешь — вроде как мелкой мебели кто-то накрошил со щебенкой, такой своеобразный русский салат. Но я-то вижу, что это за мебель. Марк тактично — в сторону, а я к свалке этой — и на коленки плюх. Мать моя женщина! Валяется куча ломаных молясин, все уже ни в коллекцию, ни в ремонт, но как вещдоки пройти могут. И какие! Одних щеповских с отбитыми топорами, наверное, сотня. Китоборские лежат, их всегда по китьему хвосту опознать можно. Жуткие крысятьевские — это у них молясина сизокрысиной называется, в ней двух крыс за хвосты тянут. Премудровские! Пощадовские! А самое главное — стою я на коленях и вижу, что какая-то небольшая часть молясин при моем появлении начинает двигаться сама по себе. Ну, я знаю, что сами по себе живут только журавлевские, перелетные, попробовал схватить одну — ну, она меня и клюнула. Потом Шейла Егоровна забинтовала, — Кавель показал шрам на тыльной стороне руки, еще свежий и розовый. — А молясины берут разгон и начинают с кучи взлетать. Красиво их, сволочей, режут, там на подставке — пара белых журавлей, они качаются, крыльями машут, и вдруг начинают над свалкой подниматься — десятка их два, а то три, не сосчитал, в глазах рябит. Взлетели, покружились, начали брачным образом танцевать — ну, настоящие журавли, и как раз по два. И ритм какой-то в их танце есть, Марк издалека взял ноту-другую, а потом уже просто словами, словами так музыкально чешет. — Кавель откинулся, прочистил горло и запел тенором: — «Как прекрасен взлет молясин, когда дорогой длинной-длинной они сквозь вьюгу мчатся к югу подобно стае журавлиной…» И дальше еще, но я не помню, нерадельная, прямо скажу, песня, видать, молясины сами сочинили. Долго танцевали, потом в клин собрались и на юг улетели, — но вперед забегу и скажу, что танец этот я потом еще раз видел, так что, полагаю, не насовсем они улетели. Представление дали…
Кавель снова подлечил пересохшее горло прежним способом, он слегка окосел и раскраснелся, тогда как Богдан оставался трезвей трезвого и несколько побледнел. Все это ему не нравилось.
— Ушел я оттуда, меня кустарный Марк на тропинку вывел, а потом опять в кусты нырнул, я тут уже сам дорогу на Ржавец нашел. И по дороге гляжу — батюшки, да это ж твой алкаш Козьма-Демьян идет, и в руках знаешь что тащит? Вдребезги разбитую щеповскую, радеть с такой уже нельзя. Я в кусты, не хуже Марка, только тише, но и того не надо — пьяный твой Козьма в… извини за выражение, жопу. Идет, значит, старую молясину на свалку выкидывать. И это только первый! — Кавель понизил голос — А наутро смотрю из окошка — Савелий по той же тропке топает, даже не таится, тащит то ли влобовскую, то ли полбовскую, мне метка на лбу в такую даль не видна. Ну, перечислять дальше?…
Богдан склонился к столу, положил на него все десять пальцев и согнул их — словно хотел закогтить столешницу. Он настолько был похож сейчас на беркута, что раздайся из его горла клекот вместо человеческой речи — было б это вполне естественно. Но через миг мастер уже взял себя в руки, сглотнул ерофеича под масленок, заговорил медленно и на удивление спокойно.
— Новость, что и говорить, плохая. И как всегда не вовремя, честно скажу. Получается, что тут я совсем в чертоге заработался, а мои мастера деревяшки крутят для пущего обалдения, мало им телевизора. Ну, про Савелия говорить нечего. Так что не зря, получается, я тебя сюда привез — оформлю главным следователем. И дурь эту искореню. Только войны с косоглазыми это никак не отменяет, уж прости. Придется мне на твою историю выложить свою.
Богдан долго молчал, а потом очень тихим голосом, так, что даже собеседнику порою было слышно плохо, поведал длинную повесть про то, как в далекой уже теперь юности рыбачил он, причем очень несерьезно рыбачил, на реке под названием Созь, про которую точно установил академик секретной математики Савва Морозов, что есть она истинная река Сясь — а отнюдь не та Сясь, что в Новгородской губернии, — та, как тот же Морозов установил, не Сясь, выходит, а Седедьма, что в данном случае тоже не важно, а важно то, что Созь — это Сясь. Был Богдан предупрежден, что порою плывет по этой реке в корыте ужасный дикий мужик Ильин, и гребет деревянными ложками, а спросишь его, зачем и чего, он тебя тут же на #уй ореховый пошлет и потом наживешь ты много неприятностей, но если вовсе ничего ему не скажешь — неприятностей все одно не оберешься. Богдан никогда не верил ни во что, не поверил и на этот раз, пошел спокойно рыбачить, верстах в двадцати выше городка Уезда, что здесь же, на Арясинщине, когда-то сторожевой крепостцой был.
Сидел Богдан и рыбачил, но ругался — шла одна сплошная рыба густерка, дрянь, а не рыба, кости в ней одни и даже ухи не сваришь. Глядь — плывет с верховий долбленое корыто, и уже издали видно, что не веслами гребет в нем мужик, ох, не веслами. Осерчал тогда Богдан сверх всякой меры и первым на мужика рявкнул: «Иди на #уй!»
Мужик взвыл дурным голосом, завертелся, исчез вместе с корытом, жуткий ветер налетел. Река из берегов выплеснулась, обдало Богдана с ног до головы, а как влага отступила — тут и понял Богдан, что передалась ему какая-то новая сила. Та самая, каталитическая, которая теперь всю на свете плесень ему подчинила — ну, чертей этих самых, скот несмысленный. Об этом в другой раз, но среди прочего открылось ему тогда, что Созь, которая на самом деле Сясь — есть не что иное, как граница древнего китайского государства Ся, последний государь которого, Ся Шихуанди, прямой потомок Желтого Императора, прозванный к тому же Цзе за свою жестокость, был в Китае за нее свергнут, сбежал на Север, потом от холодов побежал на Запад, основал в здешних краях империю, но почти сразу помер и был с большими почестями похоронен, — остальные же соратные китайцы, совершив все подобающие церемонии, вернулись домой, где правители новой династии Шан почли за лучшее продольно перепилить их всех деревянной пилой — что и сделали, совершив перед этим и после этого, конечно, все подобающие обряды и церемонии.
Но император Ся остался похоронен здесь, на Арясинщине, и потому спокон веков здесь, и только здесь на всей Руси цветет шелковица, плодится шелковичный червь и плетутся знаменитые арясинские кружева. По открывшемуся Богдану видению не просто так похоронен император, а на ровном месте, и нет над ним ни камня, ни кургана, — зато вместе с ним захоронены восемьдесят восемь тысяч глиняных людей при восьмидесяти восьми тысячах колесниц, запряженных таким же количеством глиняных лошадей. Закопаны они глубоко, да и культурного слоя за три с половиной тысячи лет несколько прибавилось. Неизвестно почему, но выкапывать из земли эту глиняную нежить нельзя никак: китайцы такую могилу у себя недавно разрыли, так ничего хорошего у них от этого не будет, рыть им теперь — не перерыть. Готовили древние китайцы такие могилы на случай крайнего убавления своей нации — чтобы, значит, глиняные встали и вместо них вкалывали во всех отношениях. Но в этом потребности нет, а вот Армагеддон на таком месте очень даже возможен. Вот и решил Богдан тут поселиться да всю дьявольскую плесень извести под корень, в чем и преуспел. Так надо же — чертей извел, а живые китайцы приперлись и над глиняными дымят что твоя костопальня.
Богдан закашлялся — потянуло с запада тем самым дымом. Порывом ветра на стол бросило принесенный вместе с дымом желтоватый клочок — краешек советского рубля пятидесятых годов. Богдан с омерзением выбросил его за окно, точней, за край веранды, а потом дважды промыл горло ерофеичем, бросив поверх такого дела еще два масленка. Потрясенный рассказом Богдана Кавель сделал то же самое. Выходило, что не одни только кавелитские дела есть на свете.
Хотя от кавелитских, конечно, никуда не денешься.
Вошла Шейла с миской икряников — собиралась по ночному времени угостить Черных Зверей, не совсем еще здоровых после истории с мойвой. Богдан, не глядя, запустил руку в миску, взял один и стал жевать. А что ему, в конце концов, он — простой чертопродавец. Плевать ему было, что икру эту водяной метал. Если свои мастеровые в кавелиты, в предатели подались — может, водяной честней да надежней. Кроме водяного Фердинанда, вне подозрений была еще и Шейла: она-то просто рассказала бы невенчанному мужу, если б ей молясину заиметь взбрело в голову, — он, глядишь, и не отказал бы, молясины все-таки делались с непременным использованием его собственного товара — чертовой жилы. Ну, еще Давыдка вне подозрений. Еще кто? Кавель, конечно, — на то он и Кавель. Да и как может быть кавелитом — Каша?
Ну, и… водяной Фердинанд, значит, который рыба. А раз он рыба — чего ж его икрой брезговать, это люди предатели, а не рыба. Ни Хемингуэя, ни Мелвилла Богдан не читал.
Богдан и Кавель грустно переглянулись и выпили еще по одной. И воевать предстояло, и искоренять — и это при том, что слишком глубоко тут и копать-то нельзя.
Кому нужен лишний Армагеддон?
9
Нет, я не сплю, я собаку слушаю!
Андрей Курков. Сказание об истинно народном контролере.Бессонница в Российской империи портила жизнь не одному лишь императору в его Царицыне-6.
Ничуть не меньше портила она настроение Богдану Тертычному в Выползове. Но боролся он с ней точно так же — пристальной медитацией. Превращал неприятное уж не если не в дело, то в мысль.
«Цель не оправдывает средства. И даже не наоборот. Средства сами по себе драгоценнейшая цель» — мысленно произнес Богдан, поднимаясь в ветхую веранду, к которой давно и вполне издевательски прилепилось гордое название пентхауза. Несложное мысленное построение всегда служило неверующему Богдану чем-то вроде молитвы перед сном, оно было увертюрой перед ночью размышлений. В сне Богдан почти не нуждался, хотя поспать любил. Два-три часа в сутки. Ему хватало.
Думая о средствах, Богдан имел в виду что угодно — только не деньги. Он имел в виду прежде всего сам процесс, то сложное искусство, которое без долгих сомнений нарек чертоварением. Так Богдан называл даже вытачивание ножа из хвостового шипа черта, даже нарезку марокеновых обоев для Большого Кремлевского Дворца. Даже кормление чертовыми шкварками Черных Зверей. Как в бывшем следователе Кавеле Адамовиче Глинском жил коллекционер-маньяк, так в Богдане Тертычном жил неординарный, совершенно неизлечимый, столь типичный для России трудоголик. Ночью он работал редко, старался дать отдых мышцам, но голова продолжала функционировать. Думал Богдан исключительно словами, длинными фразами, и для всего на свете, если было надо, он умел находить нужное, точное, плохое слово.
Богдан закрыл окно внутренней ставней и только после этого зажег настольную лампу. Приятно бы, конечно, посидеть у открытой рамы и подышать ночной прохладой, но в часы размышлений мастер очень не любил оказываться в перекрестье залетного оптического прицела. Если за землю своих владений Богдан был совершенно спокоен, ее стерегли Черные Звери, то воздушное пространство охранялось отнюдь не так хорошо. Из Черных Птиц у него был только один отлаженный на астрономическое время восхода и полночи Весьма Черный Петух. Призывать всякую летучую гадость, вроде прижившихся на Урале железноперых стимфалид, Богдан брезговал: черти не черти, все одно нежить, русскому человеку бесполезная. А Богдан Арнольдович Тертычный был глубоким носителем русской идеи, кстати, именно поэтому — традиционным монархистом. Служил он престолу не за страх, а за большие деньги, но лишь по необходимости от денег не зависеть. А деньги ему требовались — в частности — на огромный налог, который вынуждены были нынче платить атеисты за свое глупое, царем не одобряемое, атеистическое вероисповедание. Богдан же солгать не мог ни царю, ни себе: ни в Бога, ни в черта он не верил. Из Бога, он твердо знал, похлебки не сваришь. Из черта же сваришь и мыло, и клей. Но не писать же в графе «вероисповедание»: «Верую в клей»! Лучше налог заплатить, деньгами, кстати, полученными от продажи клея. Брал же гоголевский — якобы добрый, но это для невнимательных читателей — помещик Констанжогло по сорок тысяч с продажи рыбьего клея, из бросовой рыбьей чешуи сваренного. Кстати, сорок тысяч золотом он получил с этого дела или ассигнациями? У Гоголя как будто не сказано. Надо будет узнать точно.
Скуповатый император из государственной казны, естественно, никогда Богдану не заплатил ни полушки, он и о самом существовании чертовара едва ли подозревал, ему хватало дел без чертоварения и без самих чертей, его колоссальная держава требовала внимания, и что ни день, то все большего. Тем не менее косвенным заказчиком Богдана император был постоянно: подарки императору полагалось делать — как это нынче говорится на новонерусском? — эксклюзивные. Эксклюзивные черти имелись в хозяйстве только у Богдана Арнольдовича. За всю историю России лишь он один послал дикого мужика Ильина по полной выкладке — и не дал мужику рта раскрыть. Но, признаться, не верил Богдан и в то, что повелевает он чертями из-за произволения какого-то хрена в корыте. Он полагал, что чертями повелевает строго в соответствии с доселе недостаточно изученными законами природы. Важно-то именно повелевание, а не цель: не считать же целью мыло, клей, даже и деньги!..
Портрет императора в кабинете у Богдана тоже висел, это был не совсем портрет, а фотография конной статуи государя. Статуя изображала царя верхом на аравийском скакуне в момент прыжка — когда все четыре копыта отрываются от земли. Каким образом знаменитый скульптор Вячеслав Дуплов заставил статую висеть в воздухе — не знал никто. Никто не знал, а Богдан не интересовался. Если бы ему стало надо, он бы узнал. Богдану нравилось лицо Павла: император глядел не абстрактно в пространство, а туда, куда прыгнул его конь. С таким взором императора, предполагал Богдан, народу все-таки надежнее, чем с вождёвой рукой, простертой за подаянием в будущее. Император не указывал путь России — он глядел, куда ее несет, и старался не суетиться по посторонним вопросам. И от титула царя Аделийского тоже отказался. Очень его за это офени хвалили. И впрямь — зачем православному царю Антарктида после того, как полярники за сто лет всю ее так изгадили, да еще над ней озоновая дыра. Дрянное место, словом, не нужно оно России. С другой стороны — оттуда рукой подать до Мадагаскара, а там нынче как раз в припадке народного рвения все на кириллицу переходят. И русский зубрят в школах, царь в те края много педагогов послал, целую, говорят, дивизию. Хорошее, говорят место, курортное, вроде Крыма, только за койку пока что не так дорого берут. Шейла рассказывала… А ей-то Мадагаскар зачем? С другой стороны, слово женщины в разъяснениях не нуждается. И черти там тоже наверняка есть. Они везде есть.
Богдан устроился за столом, вынул из верхнего ящика тонкий лист, закатанный в пластик. Лист был желт и хрупок, по краям, особенно снизу, лист был тронут огнем; точнее было бы сказать, что нижнюю часть листа огонь уничтожил. В тысячный раз уставился Богдан на текст, знакомый до остервенения. Кое-какая восточная кровь текла и в жилах самого Богдана, и он полагал, что на Востоке-то знают, как с Востоком бороться. На Самом-Дальнем Востоке — с Не-Самым-Дальним. Пока что это был единственный ответ, пришедший из Японии в ответ на его запрос тамошним антикитайским борцам: как же все-таки изгнать китайцев с Арясинщины, не нарушая при этом научного равновесия природных сил.
«Один ученик пламенно захотел достигнуть совершенства, постигая истины школы Пунь. Он пришел в монастырь в горах, где, как ему рассказывали, живет Великий Просветленный школы Пунь, учитель Мэ. Ему было разрешено остаться в монастыре, однако учитель уклонялся от беседы с ним. Наконец, ученик заметил Просветленного, гуляющего у монастырской стены, и подошел к нему, чтобы спросить его о том, в чем заключены глубочайшие истины школы Пунь. Едва он заговорил, учитель прервал его и сказал: «Большой шлем». Долго размышлял ученик над таким ответом, и не мог придти ни к какому заключению. Тогда он решил снова искать встречи с наставником и вновь нашел его гуляющим у монастырской стены. В этот раз, когда ученик хотел обратиться к Просветленному, тот и рта ему не дал раскрыть, а страшно закричал: «Где двенадцать есть, там тринадцати-то нет!» Огорченный, ушел ученик в свою келью, долго размышлял над словами великого учителя Мэ, но не мог придти ни к какому выводу. В третий раз стал он искать встречи с Просветленным, но на этот раз учитель сразу схватил большой канделябр, ударил им ученика и убил его.
Точно так же и другой ученик хотел постигнуть глубочайшие истины школы Пунь…»
Дальше текст обрывался следами огня. На оборотной стороне листа каллиграфическими русскими буквами было выведено: «Опубликовано в издании: Ямамото. Учение Пунь-буддизма, его теория и практика. Осака, 1955 год». Богдан понимал этот диковатый документ как вежливую японскую форму отказа. Конечно, можно бы обратиться к основным противникам Школы Пунь, в монастырь У-Пунь, — но, как писал классик и лауреат Евсей Бенц, «отличаются они как желтый черт от синего». В расцветках чертей Богдан разбирался, а в пунях — не особенно. И отчего-то боялся, что так вот задешево он от этих пуней не отделается.
Изначально документ огнем поврежден не был, но в чертоге, где мастер очередной раз разглядывал страницу, приключился по вине злобной плесени небольшой пожар, лист слегка и обгорел. Со зла Богдан тогда забил черта сразу, — сколько полноценного ихора пропало, — а лист унес в пентхауз и закатал в несгораемую пластмассу. Японцам с гамырными китайцами, выходит, тоже совладать было не по силам. Однако Богдан не верил, что вообще существует такая вещь, которая не по силам лично ему. Надо только захотеть — и взяться с правильной стороны. О том, что покойный Василий Васильевич Ло — Просветленный именно пунь-буддистского посвящения, об этом на Арясинщине даже козы блеяли. Да и нынешний Василий Васильевич, даром что юн, но в пунь-буддизме умом столетен с рождения, — об этом тоже всякая коза знает. Уничтожить глубинную связь, протягивающуюся от кладбищенской фанзы «Гамыра» к подземному глиняному войску императора Ся Шихуанди, действуя традиционным принцмарм «бесподобное — бесподобным», оказывается, было по меньшей мере непросто. Богдан уже подумывал над вариантом медленного выкапывания глиняных солдат и затопления их в Желтом, к примеру, море — но выходило долго и нерентабельно. А в Черном или Белом — опасно. В Красном и вовсе нельзя, там войско фараона по сей день колготится, поди. Разве в Синем?..
Богдан сложил руки перед собой — как в школе, одна на другую, опустил на них лоб и прикрыл глаза. Ему требовалось подумать без слов, а средство было одно: отпустить вожжи памяти, уйти в прошлое. Богдан помнил почти каждый миг своей жизни, он мог вызвать из прошлого и серебристые шерстинки на шее большого старого черта, в желудке которого нашел свой первый безоар, и каштановые кудри матери-медсестры, зачавшей единственного сына от пациента, ненароком попавшего в больницу артиста-гастролера, о котором только и было известно, что он звукоимитатор из государства Непал. Мать не знала непальского, отец — русского, но выдал он матери, несмотря на загипсованные ребра, такую соловьиную трель, что не надо было быть курской губернаторшей, чтоб понять, какие-такие желания у пациента. Которая бы, интересно, женщина устояла… Выходило так, что сделан Богдан, как в старом анекдоте, непальцем… Только и помнила мать, что отца как будто звали Гурунг, Гурка уменьшительно. Чертовар привычно усмехнулся. Он давно уже знал, что это не имя, а национальность, известная своими ловкими охранниками, хитрыми гадальщиками, а также величайшими мастерами заваривать чай по-тибетски: с молоком, солью, маслом, сырым яйцом, горохом, тыквой, сырой кукурузой и шампиньонами. Белые Звери, яки, были выписаны Богданом из Киргизии именно в память о непальском отце, хотя на гурунгский манер должны бы это быть не яки, а дзо, гибрид яка с простой коровой — но поглядел на этих дзо Богдан и не впечатлился. Выбрал все-таки настоящих яков. Солиднее. И Шейле нравится.
Память Богдана скользила дальше.
Он вспоминал юную черную шерстку новорожденного щенка хорта, которому сам же дал борзую кличку «Терзай». Вспоминал белобрысую голову соседа по парте, которого сам никогда не называл про себя иначе, чем «Каша», а других за это слово бил смертным боем. Теперь Каша по официальным документом был даже не Кавель — он был Аркавель Адамович Ржавецкий. Пусть думают, что еврей, так безопасней. Богдан вспоминал еще чьи-то волосы, еще чью-то шерсть, чей-то мех — почему-то сегодня ряд ассоциаций увел его в эту самую шерстяную сторону. Может быть, потому, что сегодняшний черт, уже переправленный в цеха и автоклавы, оказался на диво шерстистым, хоть и тощеватым несколько. Богдан снял с него шкуру целиком: решил один раз сделать из черта чучело. Может, для науки пригодится. Например, в виде доброхотного дара какому-нибудь музею атеизма. Хорошая мысль! А можно и у дороги в воздухе подвесить, чтобы лишний народ к усадьбе не перся. Да чего уж, плесени много, можно и на то употребить, и на другое, и еще Доржу Гомбожаву послать к монгольскому Новому году в подарок.
Медитация получалась, хорошо шла медитация, но все равно была она целиком шерстяная. Богдану стал мерещиться чей-то встопорщенный загривок: седой, редкошерстый, старческий. И притом не человечий, не собачий, не волчий, не ячий, не дзочий… Да, и не бычий, и не зубрий, и не бизоний… Вдруг Богдан понял, что загривок ему видится просто ничей — бесхозный загривок, никому не принадлежащий, вовсе там ничего нет, кроме загривка, и при этом загривок испуган, шерсть на нем стоит дыбом — страшно загривку. Будь у загривка лапы или ноги, он бы давно дал деру, но какие же лапы или ноги у одинокого загривка? Ничего нет у загривка, одна шерсть и кожа. В такой загривок хорошо запустить клыки! Богдан мотнул головой и открыл глаза. Опять проклятая эмпатия. Это где-то в лесу лег ненадолго вздремнуть Терзай, все еще нездоровый после знаменитой мойвы. А ведь он ночью стеречь угодья должен, стаей предводительствовать — если прилег, совсем слаб еще, получается. Увидел плохой собачий сон, а тот передался хозяину. Тьфу ты, медитация, сон борзого кобеля!
Богдан по-собачьи тряхнул головой. Бедный Терзай. Надо будет ему селезён-травы кипятком заварить да влить за щеку хотя бы полстакана. Можно еще пареной голубики дать. Арясинской железницы. Семени льняного тоже. А пока нужно отвлечься. Из верхнего ящика стола чертовар вынул первоиздание «Тщетности» Моргана Ричардсона — того самого романа, на котором рехнулся капитан бедного «Титаника» и, затем только, чтобы ричардсоновская фата-моргана сбылась, угробил великий пароход. Полистал немного, как обычно, чтение его не увлекло. Книгу он обнаружил в желудке у захудалого черта года полтора назад и как-то не нашел ей применения. Но теперь — как знать. Вон, Каша говорит, что молясина «титановцев» — даже и не редкость. «Большая в мире паника, убил «Титан» «Титаника», А Кавеля, А Кавеля его спасать отправили…» Как там дальше? Каша длинные какие-то стихи говорил, и на свалке титановские молясины тоже, говорит, валяются, раздолбанные. Кто ж тут, на сухопутной Арясинщине, впал в именно в такое странное, чисто морское кавелитство? Нет, всерьез придется браться за эту сволочь. И за ту сволочь тоже. За обе сволочи. Пусть она, сволочь… Тьфу! Каша говорит, что сволочанскую молясину он тоже видел! «Сволочь Сволоча любила, Сволочь Сволоча убила…» Тупой какой народ, однако, даром что свой.
Какая мерзость. Жил человек человеком, мыло варил, клей, обои делал, резьбой по кости баловался, мебель мастерил — и на тебе. Он и слово-то «Кавель», привычное с детства, считал всегда именем соседа по парте и только, да сюжетом какой-то шутовской загадки. Шуточки! Фортунат ответит первым. Как смел каталитическую силу базарить? На год без выходных в жареную мойву! Авось шустрее работать станет. Все силы на кавелизм истратил… Изошел кавелизмом — кавелировал, кавелировал, докавелировал!
Тут Богдан взял себя в руки. Ум зашел за разум. Приговор Фортунату был уже вынесен, тот покаялся и принял приговор — чего дальше-то кипятиться? А вот с Савелием хуже, этого бездельника ни к чему не приставишь. Может, приковать его к чему-нибудь весомому, да заставить, скажем, осушением болот заниматься? Да нет, нельзя, Шейла расстроится.
Богдан был полностью расслаблен телом и лежал, прижавшись щекой к поверхности письменного стола. Глаза его были открыты и смотрели куда-то в сторону императорского портрета, но дух Богдана стоял перед распахнутым настежь окном — вообще-то закрытым плотной внутренней ставней. Дух Богдана был закован в черную чертову кожу, дух его стоял, скрестив руки на груди, а третью, дополнительную руку положил он на эфес старинной шпаги, свисавшей с пояса до полу. Четвертая, уже совсем еле различимая рука, сжатая в кулак, грозила всему в мире, что нарушало порядок: прежде всего гамырским китайцам и кавелизму, словно эпидемия, поразившему арясинские просторы. Разве был кавелитом князь Изяслав Малоимущий? Разве Иван Копыто был кавелитом? Наконец, был ли кавелитом боярин-мученик Жидослав? Нет! Нет!
Пятая рука Богдана покоилась на холке Терзая где-то в трех верстах от ночного кабинета-пентхауза. А шестую руку кто-то сжимал твердым мужским рукопожатием. Богдан сперва подумал, что это Кавель вдруг поднялся до истинных высот духа — но нет. Эту руку он знал хорошо, и лишь в пучине всемирной ночи иной раз испытывал ее касание. Это была рука Спящего, спавшего в Кунцевской больнице под псевдонимом «Трифон Трофимович». Почти четыреста лет спал этот Спящий, величайший в истории бухгалтер, незримо руководя некоторыми событиями в человеческой истории. Но рукопожатие, хотя и было ободряющим, оказалось кратким: Спящий убрал руку, он еще не готов был проснуться. Седьмой руки не имел даже дух Богдана, а утро близилось. И дух стал втягиваться в тело чертовара.
Мысли тела были почему-то о деньгах, которых сейчас, в предвоенном положении оси Выползово-Ржавец, вдруг стало неприятно мало. Не то, чтоб заказов меньше, а потребности возросли. Чертовой жилы Богдан еженедельно отпускал офеням в среднем дюжину аршин, однако хотя шестьдесят империалов за общероссийский аршин такого товару — деньги немалые, но выше спрос не поднимался, а кроме как офеням этот товар не продавался никому. Большие катушки невостребованной жилы стояли на складе в подземелье, но как извлечь из этих катушек империалы — уму пока что было непостижимо. Расстроенный Богдан продал даже полдюжины ножей из хвостового шипа, дорого продал, и страшную клятву с офени Сёмы Чикирисова взял, что все будут безвозвратно проданы в закрытый город Киммерион. Тамошние чертожильники на весь цех до сих пор столько не имели, ну, прикупил Богдан установку залпового огня «Суховей», только никак не привезут ту установку, прямо хоть самому за ней в Армавир-58 съездить, что ли. Да что огонь против глины? Сплошное закаливание и муравление.
Богдан в приступе задумчивости приоткрыл ставню. Почему-то захотелось еще немного полежать под сосной, на ворохе иголок, подышать лесными запахами. Тут же Богдан понял, что опять проклятая эмпатия заела. Хотелось поваляться в сосновых иголках не ему, а борзому Терзаю. Бедный Терзай, ведь наверняка мается всю ночь мыслями о том — как извести китайских пунь-буддистов. Конечно, не Богдана, а Терзая мучил сейчас плохо скрываемый страх, что выйдет из своей фанзы Юный Просветленный Василий Васильевич Ло, грянется о земельку, да и встанут из нее восемьдесят восемь тысяч глиняных китайцев, каждый при глиняной лошади. Бедный пес. Он столько не сосчитает. И кусать эту глину не обучен: зубы то ли обломятся об глину, то ли в ней увязнут. Повязать Терзаем Трелюбезную, — как раз течь собирается, — и к осени не меньше четырех щенков будет, молодых и черных. И других сук тоже вязать! Богдан испытал непонятное возбуждение — опять ему передавались кобелиные чувства. Забавно, однако. Но мысль правильная. И выкормить их черными шкварками. С овсяной кашей.
Тяжело человеку быть атеистом: уж какой принял крест, такой, значит, надо нести. Спокон веков известно, что чертоварение — работа трудная и вредная. С петухами вставай, с петухами ложись…
Кстати, одного Черного Петуха в хозяйстве определенно мало. Тот, который уже есть, пусть себе арясинский рассвет кукарекает — да и полночь арясинскую. А другого завести надобно: пусть все то же самое по Гринвичу кукарекает. Но голос у него пусть тогда другой будет. Английский. Пусть с эдаким ти-эйч кукарекает, да слегка в нос… то есть в клюв. «Кок-э-дудл-ду» пусть орет, какадулдует, чтобы со своим не спутать.
И мойву опять покупать надо — совсем Фортунату скоро не на чем работать станет. А ведь ей еще и протухнуть полагается!
Терзай под сосной заскулил и стал просыпаться. Все размышления хозяина о китайцах, чертях, деньгах, молясинах, старинных шпагах, Великом Спящем Бухгалтере по имени Лука Паччиоли, даже о предстоящей вязке с женой проскальзывали по поверхности его сна, не оставляя ничего, кроме быстро тающих теней. Однако мысль о тухлой, да еще пригоревшей мойве его разбудила. Ужасное воспоминание о том, как он отравился ею, испортило Терзаю пробуждение. «Чертова эмпатия!» — подумал Терзай, приоткрывая один глаз. В этот миг на чердаке у Богдана проснулся Черный Петух и возвестил рассвет. На дежурство заступали белые яки, следовательно, можно было спокойно спать до вечера.
В воздухе густо пахло дымом и войной. И не только со стороны владений Богдана: китайцы тоже что-то готовили. Если не наступление по всему фронту, то уж точно кашу из чумизы. Василий Васильевич Ло Четвертый готовил стебли тысячелистника для гадания по великой и древней «Книге Перемен», предполагая, что в затеваемом им деле самое малое «хулы не будет». Ибо — «Благородный человек до конца дня деятелен». А день только еще начинался: о начале дня фанза «Гамыра» узнавала так же, как остальная Арясинщина — по крику черного петуха на востоке.
Что-нибудь этот крик наверняка предвещал.
10
Однако право — естественное и публичное — требует, чтобы каждый поклонялся тому, кому хочет…
Тертуллиан. Ad Scapulam, гл. IIВ арясинских лесах деревья росли только ночью. Учеными людьми факт этот был давно отмечен и в умных журналах описан, но объяснения никакого не получил и считался чем-то вроде аксиомы: доказательств нет, опровергнуть нельзя, а потому пусть растут себе, как привыкли. Времени у деревьев было много, они умели ждать и жили по собственному вкусу. По вкусу арясинским деревьям были восточный ветер, крик черного петуха и день памяти первой шелковицы, на арясинских просторах в давние века из зерна прозябшей. Отстояли деревья в лесах друг от друга ровно на два папоротниковых шороха, чтобы ветру, порой прилетавшему с Желтого моря, оставить дорогу на запад, куда нес он обычно крупинки священной китайской соли; назад ветер никогда не возвращался, но деревья верили, что вернется когда-нибудь.
Ночами деревья молились, притом больше по-старому, древнему богу Посвисту, голос которого все еще звучал среди воздетых ветвей, особенно осенью, и деревья приносили ему в жертву листья, кто желтые, кто темно-красные; лиственницы тоже сбрасывали ему хвою. Сосны, а ели особенно, Посвисту молиться не хотели, они уже вполне приняли новую веру, которой лиственным собратьям даже не разъясняли. Однако леса вокруг Арясина были почти все смешанные, потому вера в Посвиста соседствовала с новой верой вполне мирно, а уж если приходил ураган или злой человек с пилой, то валили всех подряд, про веру не спрашивая. Ураган, бывало, даже тутовника не щадил, а к этому дереву почтение было всеобщее: благодаря шелковой нити местные жители могли ставить себе каменные дома, древесину для домашних нужд покупать сплавную, а печь топить углем. Любителям же древесного огня доставался сухой валежник, и деревья считали это справедливым: они и сами часто пускали корни на кладбищах.
Исчезновения нечисти деревья не заметили пока что, к тому же леших, водяных и болотников Богдан не трогал, да и не верил в них. А чертей, которых любое дерево успевает собственными листьями перевидать несчетное число раз, деревья считали чужаками. Ибо знали деревья, что нечистая сила сотворена куда позже лесов, а если этот Божий валежник кому-то понадобился, значит, и от него польза есть. Уборка валежника в любом уважающем себя лесу необходима, иначе папоротник шелестеть перестанет, а тогда ведь и не зацветет. Хотя таволга на болотах считала себя не хуже папоротника и готова была его заменить, да только кто ж станет слушать таволгу.
У подневольных людей была какая-то война, в небе гремело, на болотах мурашились какие-то беженцы, но это все быстро кончилось. Потом весь северо-восток уезда вдруг оказался заселен цыганами, безвредными, бестолковыми, шелестевшими то цветастыми юбками, то гадальными картами, то что-то лудившими, то еще что-то воровавшими, но их время тоже кончилось быстро, вместе со всеми их неуклюжими попытками колдовать по-своему на земле, которая им отродясь не принадлежала, да и не хотели они никакой земли: когда объявился Богдан и потолковал с одним баро, с другим, а потом и уговорил уйти отсюда куда глаза глядят, деревья забыли о цыганах на второй день. С тех пор если кто и забредал в глухую чащобу, то разве по пьяному делу либо за грибами. Даже отшельники тут не селились. Потому что не поселится верный сын Посвиста в лесу, где растут деревья-иноверцы, а христианин и подавно. Сами деревья тем временем молились — как обычно, за всех, и за людей тоже, но из осторожности росли только ночью.
Осторожность была не случайна. Птицы птицами, но в последние годы слетаться на просторы бывшего княжества стали не они одни, стали прилетать какие-то непонятные деревянные журавли, всегда парами и на круглых подставках. Как такое могло летать — никто не задавал вопроса, летают же самолеты супротив всякого здравого смысла, и ничего, а эти хоть крыльями машут, да еще непременно, прежде чем сесть на ветку, в воздухе танцуют. И приятную музыку навевают. Называли их Кавелевыми Журавлями, и говорили они сами, что слетаются сюда не случайно, а потому, что в старинном гербе Арясина — красный журавль на золотом фоне. Настоящие журавли с ними не ссорились. По весне, случалось, они с молясинами танцевали вместе.
Случалось, что деревянные журавли не могли найти хорошей ветви и тогда вили для себя гнездо в развилке сосновых сучьев, выстилая дно его загадочными зелеными бумажками, похожими одновременно и на листья и на деньги. Никогда не селилось на одном дереве больше одной пары журавлей, вечно и нежно постукивавших друг друга клювом по клюву: «Кавель — Кавеля, Кавель — Кавеля». Проведя на дереве лето, на зиму улетали молясины в Индию, где в году не четыре времени года, а шесть, и в четные, женские времена непременно идет бесконечный дождь, местное население исповедует индуизм и многобожие, а в нечетные, мужские времена, дождя нет вовсе, начинаются засуха и холера, а люди все как один молятся Будде, пророком же почитается в той Индии исконно русский человек, тверской купец Афанасий Никитин, без рукописи которого даже академик математики Савва Морозов засомневался бы — была эта самая Индия, а есть ли, а будет ли вообще. Православные деревья в год о шести временах не верили, а лиственные, сторонники старой веры, полагали, что на свете еще и не то бывает.
Ручей, который люди со свойственной им беспамятностью, называли Безымянным, назывался на языке ольх Сосновым, а на других древесных языках именовался так, что человеческими буквами этого не запишешь. На ручье стояла мельница, еще кое-как работавшая на помол того немногого зерна, что скорей из суеверия, чем по необходимости, все-таки сеяли арясинцы. Над мельницей была обширная запруда, воды в ней было заметно больше необходимого, и поле под запрудой зарастало бурьяном из года в год: когда-то монахиня Агапития предсказала, что бысть тут потопу. Потопа не случилось пока, но ведь мог же когда-нибудь и случиться: чай, воды в запруде — с пол-Накоя. В бурьяне никто не жил, в запруде тишком лежал на донышке глухонемой, старый-старый водяной, с неодобрением размышлявший годы напролет, что пришел конец всему водяному племени: вон, племянник для людей икру мечет, а те собак ею откармливают. Но сам роптать не смел, всё поголовье сомов троюродной тетке из Оршинского мха проиграл, теперь лежал тихонько, знал, что Богдан мигом его на хозяйственное мыло переварит, родственными связями с почетной рыбой не отопрешься. Голова у водяного была лысая, только усы были выдающиеся, один польского золота, другой — американского. Но усы водяной от греха подальше зарывал в ил. И роптал туда же.
Лишь однажды зашелестел папоротник о таком, чего не помнил даже самый старый обитатель Арясинского уезда, дуб возле дороги на Недославль, проклюнувшийся из желудя еще при князе Изяславе, а тому уж семьсот почти лет. Последний раз про такую беду шелестел папоротник в середине тринадцатого века — когда приходили на Арясинщину татары. Короче, пришла весть, что идут сюда кочевники: не гунны, не татары, даже не цыгане, вовсе невесть кто. Что было делать деревьям? Разве что молиться. Они и молились: кто Посвисту, кто новому Богу, кто как умел.
Пришла орда.
Не татарская, такая с юга должна идти, если по старой памяти, а пришла орда с северо-запада, откуда-то со стороны Твери. В общем-то очень жидкая была орда: лошадь от лошади, кибитка от кибитки двигались в ней, отставая на целый громобой, а то и на полтора, — громобой же, древняя мера, обозначающая расстояние между двумя ударившими в берег молниями, чтобы от удара правильные чертовы пальцы зародились, расстояние все-таки немалое, даром что люди эту меру давно забыли. Но деревья помнили. И решили деревья подождать, чтобы орда сперва загустела. Но она так и шла все жидкая, жидкая, и не собиралась останавливаться, кажется, ничем ее не интересовали просторы Арясина, а дорогу она прокладывала на юг, на правый берег Волги, не иначе, как в Московию.
Кибитки у орды были особые. Которые натуральные, с парой тощих гнедых, а которые и моторизованные, «барские». У кого «газик» впереди прицеплен, у кого списанный «бугатти». Кто-то волов запряг, а кто-то верблюдов, даже не одно-двух-горбых, а трехгорбых, с фермы Израиля Зака, который под Вологдой над повышением выносливости верблюдов работу ведет, рост у них умножить пытается, силу и горбность. Пока удачно. Но производительность уж больно мала, да сам Израиль-то, хоть номинально и журавлевец, но очень средний в смысле пламенности, даром что еврейский паспорт неизвестно где купил. Побеседовал с ним нужными словами походный журавлевский батя Никита Стерх, сделал Зак посильное дарение народу — шесть верблюдов, правда, из лучших. За то ему Глава Журавлитов, Кавель Модестович Журавлев, личную молясину благословить изволил. И намекнул на хорошие перспективы — само собой, если Зак к Началу Света горбность и выносливость у своих питомцев хотя бы удвоит. Тот обещал, да вот выполнит ли?.. Говорят, даже и не каждый день радеет.
Впереди жены и дети кочевников уже раскладывали на ночь костер, жарили ежей, пекли репу, брюкву и все другое, любимое народом к ужину. Шелестели крыльями молясины, шумели смешанные леса, благостно и матерно покрикивали погонщики, — словом, Племя Журавлево жило обычной жизнью.
Холостых, незамужних в орде было мало, разве только самые молодые; вообще журавлевца неженатым представить трудно, почти как неженатого еврея вообразить или холостого китайца. Венчал совсем молодых единственный поп — человек хороший, хотя имен имел больно уж много, не все упомнишь. Как невозможно запомнить и весь чин журавлевского благословения молодоженов, невообразимо длинный и рифмованный, где то ли чехвостили молодых, то ли одобряли «Тигриной Катриной, Ириной, Мариной, звериной периной, куриной уриной» — и дальше еще такого же текста на час-полтора. Но под венец к бате шли охотно. Походная жизнь для холостяка — тоска, ни костерка, ни теплого куска, и так далее. Вдовые тоже быстро сходились в новые пары, и лишь сам Кавель Модестович по причине святой своей болезни, да еще несколько особых людей жили бобылями.
Хорошие тут простирались леса, хоть и пахли гарью. Жаль, в древний Арясин зайти было никак нельзя, не проедешь там кибитками, улицы узковаты. А на болотах, сказывают, на речке Псевде, есть еще один потаенный город — Россия называется. Не досягнуло туда еще Слово Журавлево, понимание Кавелево. Ничего, досягнет непременно: куда эта самая Россия денется. Начало-то Света не за горами, кто ж не знает. Вот самую малость подождать еще только, ну чуть-чуть.
Журавлев Кавель Модестович, повелитель племени, которое деревья по медленномысленности принимали за Орду, закрыл ветхий экземпляр «Наития Зазвонного». Книга у него была двоёной, если не троёной, святости: почти полный экземпляр, унесенный журавлями в Индию из русской осени в какое-то тамошнее нечетное время года, а потом кружным путем назад в Россию доставленный принадлежащим журавлевцам теплоходом «Джоита». Невероятно сложные верования журавлевцев не просто приносили большие доходы: главное, что понять, откуда берутся деньги, было очень сложно, а придраться к ним — еще сложней. «Джоита» вообще-то пользовалась дурной славой, числилась чем-то вроде летучего голландца, но подсунул ее Кавелю Модестовичу свой же брат-кавелит из Новой Зеландии, надрались они с ним за милую душу; смуглый новозеландец долго пел «По карекаре ана, нга вай о вай я что-то», а Кавель на тот же мотив подпевал «Дубинушку», про англичанина-мудреца, который, уж наверное, хоть наполовину-то был маори. Вот и пусть ходят после этого слухи про негостеприимность журавлевцев. Но не самого Журавлева! За эту «Джоиту», кстати, содрал новозеландец, как шотландец, но папа его как раз шотландец и был, — где еще такие жиды водятся?
Верховный кочевник Всея Руси, преславный патриарх самого несусветного из кавелитских толков ехал в цыганской кибитке, запряженной двумя мерседесами. Суров был Кавель, притом нагловат: масть для своих мерседесов он выбрал темно-пепельную, плюнув на то, что такой цвет присвоен одним лишь личным Е. И. В. транспортным средствам. То ли это царь и дал ему на этот цвет разрешение? Слухи о прямой связи между нынешним монархом и богатейшим на Руси, наверное, даже верховным кочевником бродили, как пивное сусло, трубочным дымком вились из кибитки в кибитку, но так же и скисали, и рассеивались: слух слухом, а где доказательства? Не считать же таковыми портреты царя на ветровых стеклах у серых «мерседесов». Без такого портрета и на «жигулях» десяти верст нынче не проедешь, настучат, и сгинешь в подземном ГАИ без покаяния.
В ординарцах у Кавеля Модестовича был старый боливиец Хосе с еврейской фамилией Дворецкий; где кочевник разжился таким верным слугой — не знал никто, а исполнительности Хосе и его преданности завидовали все. Хосе спал в ногах у Кавеля, стирал ему и пончо и белье, сам готовил ему, сам суеверно доедал за ним остатки, будучи уверен, что через объедки можно навести на великого человека порчу. В жаркие дни запаривал он владыке полную ванну целебных листьев, чтобы тот полежать в ней мог. Тот и полежал бы, да не хотелось как-то, слыхал, что у патриархов грыжа от этого бывает. Гамак, в котором засыпал Кавель Журавлев под утро, Хосе сплел сам из секретных сибирских лиан, то ли иголок, окурил дымом из трех дюжин вересковых трубок, непрерывно нашептывая подозрительно ритмичное заклинание. Под такое же заклинание Кавель и засыпал глубокой ночью: верный Хосе покачивал гамак и все шептал: «Кавель Кавеля… Кавель Кавеля…»
Костер уже горел вовсю, кое-кто за ужин принялся, а патриарх и не обедал еще, умотали его переговоры с оберами, да куда от них денешься, пока не Начало Света. Однако ж надо делать что надо — и делать скорее. Тут — неполных три версты от едва обозначенного на картах, населенного иди знай кем, географического пункта Выползово. Кавель Модестович приказал: пусть самый опытный из маркитантов туда съездит, авось, косточку али досточку прикупит, либо сменяет: многое, многое нужно племени журавлиному, можно и радениями пропитаться, да тогда далеко ли уедешь? Улетишь, опять же, далеко ли? На это силы нужны. Темны тверские трущобы, справа Великий Мох, слева Большой Мох. То бишь все одно — болото, притом большое. Малых почему-то нет. Не уродились, что ли?
В небе кружились журавли. То ли, возможно, сходные с ними молясины. Но красиво танцуют и те, и другие.
А у Богдана в чертоге работа была в самом разгаре. За редкими, обычно — досадными, исключениями работа у него всегда была именно в разгаре, не где-нибудь. Нет спросу — будем делать в запас. Он кармана не тянет, ну, и так далее, да и не сидеть же сложа руки.
На ближнюю ко входу в чертог полянку выехала машина-пятитонка с расписными бортами и пригожей, хотя весьма немолодой, бабой за рулем. Был у бабы на редкость длинный нос, седоватые, собранные в узел волосы, а за каждым ухом торчало по розе: за правым торчала белая, за левым алая. Баба весело рулила и что-то громко пела, покуда не заглушила мотор. Потом покрутила длинным носом и вылезла из кабины.
— Эй, добрые люди, кто тут есть из охотников до товара славной-знаменитой Матроны Дегтябристовны, всем известной журавлевской маркитантки? Чего кому купить, чего продать — всякий подходи, деньги плати, товар получай, добавляй на чай, — а другой всякий подходи, товар приноси, деньги получай, ноги уноси, как положено на Руси! Пожалте, люди добрые, в магазейную лавку славной Матроны Дегтябристовны!
На полянке не было никого, хотя из трубы над чертогом и курился многозначительный дымок. Богдан заловил нынче матерого, редкой панцирной породы ветвисторогого вельзевула и с удовольствием заканчивал его разделку, уже точно зная, куда пойдет шикарная щетина-окатка из-под всех восьми конечностей, как славно распилит он ятаганчатые клешни и сколько пудов сортового сала пустит на мыло, сколько — на шкварки, на прокорм черным собачкам. Давыдка что-то расслышал за дверью, но от работы тоже оторваться не мог, писал двумя руками важные цифры. И случилось невероятное: маркитантка Матрона Дегтябристовна сама спустилась по земляным ступенькам к двери в чертог — да настежь ее и распахнула.
И все увидела. И не только не удивилась, а почесала мизинцем за алой розой, подумала, закашлялась — с полным, сугубым одобрением к увиденному. Кто разновидным товаром торгует — тот каждого, кто всяческий особенный товар производит, уважать обязан, а не то бардак навроде советской власти получится.
Чертовар глянул через плечо. Вообще-то права входить в чертог во время работы не было вовсе ни у кого. Но офени, случалось, не знали, что у них нет такого права, и заходили. Всяко потом бывало, но большинство разве что заиками оставалось, чего похуже почти и не приключалось — так, два инсульта, инфаркт завалящий, пришлось вылечить, ну и ладно, а большинство обходилось простой медвежьей болезнью. Впрочем, редкостных и необычных запахов тут и без медвежьей беды хватало, это не считая запахов просто.
— Офеня? — сердито спросил Богдан, хотя никогда не видел раньше в офенях женщину.
— Офеня… Офеня перекатная, пятитонка-маркитантка, к твоим, добрый человек, услугам. Тёмно тут у тебя, а то бы я тебе визитную карточку дала, да только вот и вышли у меня все карточки и, с другой стороны, тёмно. Матрона я. Дегтябристовна. Слыхала я, ты товары продаешь. Добрые, хоть и дорогие. Но мне и такие нужны. Потому как святых людей сопровождаю — Журавлиный Народ!
Чертовар, мусоля между пальцами становую жилу почти уже забитого черта, соображал. Что-то вспоминалось из разговоров с Кашей… Но женщина была натуральная офеня. Поэтому выгонять ее не хотелось. Да и аржаны весьма требовались нынче. На ведение войны и на прочее, — что за жизнь! — на обогащенный уран денег нет. Может, хоть пять-шесть аршин чертовой жилы уйдет, еще и марокену можно штуку отдать, лишнего они тут марокену наделали, всю весну зачем-то его гнали, а надо было юфть гнать, либо шагрень, либо опоек, либо шевро, либо замшу, либо лайку, на худой же конец — велюр. А то понакатали марокену… Ну кому нынче нужны кожаные обои? Государев товар, а до обоев ли нынче государю? Государь, сказывают, нынче на свою будущую свадьбу свою так прямо совсем открыто в секретном интервью и намекнул: ну, и пригодилось бы сейчас, к примеру, шевро! Или чертова лайка для перчаток.
— Ты присядь, тетушка офеня… как тебя там. Видишь, плесень отпустить не могу: хоть она и дохлая почти что уже, но отпущу — потом иди лови. Ты пиши, Давыдка: в панцире отверстий никак не делать бы, а обсушить бы его, панцырь, очистивши цыклею тончайшею, новоархангельскими подгузниками, лебяжьего пуха, новоархангельской же фирмы «Креол Кашеваров и сыновья», других не брать никак, просушить бы семижды…
— У меня две упаковки есть! Кашеваровских! В Осташкове оптовик последние отдал! Нужны?
Чертовар с сомнением поглядел на Давыдку. Совершенно было ясно, что никаких лебяжьих подгузников на обсушку битого вельзевула в хозяйстве нет, ни кашеваровских, ни каких либо иных — а под горячую руку за отсутствие в хозяйстве столь необходимой вещи, как лебяжий пух, чью-то голову мог чертовар и открутить. Но Богдан был в мирном и финансово неэкипированном состоянии.
— Да, матушка офеня, беру подгузники, цену только ты не очень ломи, я тогда обе упаковки куплю… Не хочется кружевами панцирь сушить, мастерицы в обиде будут, если прознают. И погоди, допотрошу я плесневитого гада…
Так, мирно беседуя с ведьмообразной гостьей, допластал чертовар вельзевула и забил его окончательно — попутно прикупив партию урюпинских пуховых платков, тех, что вдвое легче оренбургских — дорогие чешуйные панцири сушить с изнанки. Думал Богдан кое-что заработать, а начал с того, что уже влез в долги. Но Матрона в кредитах мастера не ограничивала.
— Ты, милый, бери в долг. Я сразу вижу, с лица, кому давать можно. Всю жизнь тому честно давала, кто просил, и до смерти давать буду! И теперь даю, как всегда давала, хотя, конечно, бывало, что ошибалась. Ну, ошибусь на копейку, а сотенным ту копейку и отобью. Меня еще на зоне Ротшильдихой звали. Ну, то давно было, я там всего шестерик отмотала, да и не скажу, чтобы нищенкой вышла, сразу за воротами пятитонку купила, вот и колесю… Ты не поправляй, я сама в русском языке умелая. В татарском тоже, по-английски могу, дочь у меня шотландская где-то есть, все нет времени найти. Шейлой кличут, вот как!
Почему-то именно тут Богдан понял, что так просто ничего на свете не бывает. Наоборот, если уж на свете что бывает, то непременно не так просто. В лице маркитантки Матроны Дегтябристовны пожаловала к нему нынче в чертог его собственная, персональная теща!.. Или уж вовсе ни черта в России Богдан не понимал, или все-таки правильно предполагал, что лишь одну русскую женщину зовут теперь Шейлой.
Шейлу Егоровну Макдуф, владычицу хутора Ржавец. И ведь все сходилось! Не зря в народе с давних пор играли песни о том, как матушку Шейлы в допотопном сорок восьмом за связь с англичанином залопатили! Ну, а в России ничто тайное долго тайным не остается. Все, что залопачено, однажды будет разлопачено.
Ну, и вылопатилась на свет Божий родная теща Богдана — Матрена Декабристовна, или, как она сама себя зовет, Матрона Дегтябристовна.
— С приездом, матушка, — сказал Богдан, — Шейла Егоровна Макдуф, дочка ваша, как раз моя жена. Очень вам рады.
Дверь в чертог снова открылась, и на пороге объявился Кавель Адамович. Бывший следователь обладал способностью появляться именно в тот момент, когда все — и он сам — в первое мгновение полагали, что он тут лишний. Но в следующий миг дело ему находилось, и об этом своем качестве он знал. Поэтому тихо присел на колоду возле входа. Он-то пришел рассказать о том, что прикочевали журавлевцы, и так просто это быть не может, что-то будет, — но опоздал Кавель со своими новостями. Опять опоздал. Убрался в сторонку и решил послушать — что за базар.
Маркитантка ненадолго замолкла, потом кулаками протерла глаза. Соображала она на редкость быстро, кредит на лебяжьи подгузники и урюпинские платки, предоставленный родному зятю, уже работал в ее пользу, но тут выходило: это как — часть приданого? Ей-то самой, Матрене нынче годочков было порядочно, но и дочка Шейла, кажется, намотала паспортных не сильно меньше, да и папаша дочкин, был слух, от нее отказываться в своем Глазго не хотел, еретические молясины коллекционировал, потом ему еще морду возле Динамо в Москве круто чуть ли не за это самое наперчили… Ох уж эта Москва, южный город, различные курортные в нем соблазны, правильно дочка с мужиком на север из нее убрались…
Незаметно для себя самой Матрена-Матрона, если документам верить, двадцать седьмого года рождения, русская, октябрёная, потом журавлёная, не замужняя никогда, судимость снята, нет, нет, ни при какой погоде, смотря что заграницей считать, ну, и так далее, профессия — маркитантка, вероисповедание — журавлитка, — словом, все это вместе опять собралось и сложилось, и ощутило себя чертоварской тещей. И нашло свое новое состояние в высшей степени полезным. Решив отложить расспросы на потом, маркитантка немедля перешла к делу, заодно и вывела всю почтенную публику из духоты на поляну, поближе к родной пятитонке.
— Ну, и как ты тещу встречаешь? Вернее — где Шейла-шельма родная моя? А поп-журавлевец вас довенчал, что ли? Батя Никита Стерх, если чего недовенчано, тут сегодня-завтра наездом как раз будет. То ли уже приехал, тогда сам и придет и найдет, его искать никогда не надо.
Богдан стащил с рук стеклянные перчатки и бросил в дверь чертога, прямо в пятый, дальний угол. Если с помощью тещи имелась возможность переманить на свою сторону журавлевскую орду, война с китайцами приобретала совсем новые перспективы. Возможно, эта война уже была выиграна. И повенчаться он мог по любому обряду, благо ни в какой обряд и вообще ни во что не верил. Про журавлевцев, они же святые журавлиты, он знал довольно много. Фигура Кавеля Журавлева, главы кочевников, ему тоже казалась интересной, потому как богатой. Товаров орда у него уже накупила разных и, глядишь, могла еще прикупить.
Тут подал голос Давыдка, точней, не подал голос, а заголосил: сообразил, что зятю к теще в ноги падать полагается, а не родился на свете еще ни бог, ни черт, ни мужик, ни баба, перед которыми Богдан Арнольдович встал бы на колени. И, полностью принимая на себя роль подмастерья и заместителя, от имени главного мастера рухнул в ноги маркитантке. Голосил он при этом громко, но невразумительно. По крайней мере, Матрона-Матрена решила, что у нее еще чего-то в долг решили попросить.
— Ну, проси, может, отдам не за дорого…
Давыдка лепетал и сворачивался в клубок, сперва ни чертовар, ни маркитантка не понимали в его речах не слова, потом оба осознали, что просит он дозволить ему пригласить пред светлые очи тещи да зятя молодушку — даром что молодушке, как знали в любой деревне возле Арясина, уже самой скоро за пятьдесят или возле того еще приблизительно сколько-нибудь.
Наконец, Матрона смягчилась.
— Крутиться-то кончай, не хлыст, прости Господи, — Матрона сплюнула, — Ты поди, малый, тут семью семьдесят семь дерёв к ручью, там табор стоит. Подойдешь к костру, поклонись, на одной ноге постой, на левой, руками так вот помаши, — Матрона показала, как именно, — и проси, чтобы федеральный батя Никита Стерх чапал сюда, с прикладом, благословением и прочим, он знает, с чем. Покажут тебе его — тут же на одну ногу становись, на левую, не вздумай забыть, и руками опять маши, как я показала. Стой и маши, стой и маши. Покуда он не соберется — маши. Потом, когда сюда пойдете — можешь не махать. Вот так и сослужишь службу во славу Кавелью.
Кавель Адамович захотел спрятаться за ствол ближайшей осинки, но на него и без того никто внимания не обращал. Давыдка рванул по бездорожью в ту сторону, в какую указала Матрона, — но оказалось, что не он один служит во славу Кавелью, пришлось вернуться. Из-за пятитонки вышел ничем не примечательный человек: изрядного роста, с некоторым животиком, который у бывших спортсменов бывает, с лицом, беспощадным от врожденной интеллигентности, с чемоданчиком, потолще «дипломата», как раз два пулемета в разобранном виде в такой хорошо ложатся. Чтобы у присутствующих не было никаких сомнений, показал всем развернутую синюю книжечку:
— Капитан-лейтенант Никита Стерх. Императорская служба безопасности. Можете звать меня батя Стерх. Меня так все зовут.
Потом извлек из чемоданчика рясу, легко подпрыгнул и единым разом оказался в полном облачении журавлевского попа. Качнуло от удивления только Кавеля Адамовича: весной такой службы в следственных верхах еще не было! А если была — то с секретностью, наверное, в семь нулей впереди знака. Да нет, точно не было. Иначе он, Кавель, знал бы. Все-таки про журавлевский народ в научных публикациях есть кое-что, причем… причем… Да, точно! Был такой Стерх! Правда, научно-популярные книжки он писал под псевдонимом «Никифор Басов» — но чтобы тот был этот самый?.. Стало быть, и ему работу менять пришлось.
Покуда Кавель-Аркавель вспоминал, что там ему вспоминалось из прежней московской жизни, в которой он давно уже не принимал никакого участия, покуда сообразил, что вообще-то его никто и на эту сцену не приглашал, он уже оказался на скоропостижном Богдановом венчании шафером, тем, который свечу держит в атласном кошельке. Свечу батя Стерх вручил ему свою, черными Богдановыми побрезговал, только велел потом остаток свечи вернуть, а кошель взять себе на память. Давыдку приспособили под аналой: ему на голову батя Стерх возложил свой чемоданчик, сверх же него поставил журавлевскую молясину.
Дело было за Шейлой, пришлось Богдану самому ей звонить, дышать в мобильник, упрашивать, да еще понадобилась шафериня со стороны невесты — кто ж это мог оказаться, как не госпожа генерал-подполковник Стефания Степановна Басаргина-Переклеточникова. Тем временем Матрона Дегтябристовна ходила вокруг Богдана и рассматривала его, как барышник коня, разве что в зубы не заглядывала. Кажется, ей такой зять годился. Губы ее шевелились, но кроме как «третий рост, сорок восьмой размер» Кавель не сумел разобрать ничего.
Ехать от Ржавца до Выползова на вездеходе было с полчаса, но приглашенные женщины, похоже, решили не появляться в затрапезе: мать-то она мать, да иди знай, а ну как не та, что ежедневно и всегда с каждым русским человеком на всех жизненных путях, — а и впрямь настоящая мать? Матрона использовала время с пользой: отыскала в пятитонке шарфы с золотыми журавлями и намотала их на шеи и на плечи всем присутствующим, кроме Давыдки (временно назначенного аналоем, предметом неодушевленным, стало быть, ни к чему ему шарф). Приплелся и Фортунат-бухгалтер — хотя рыбу никто не жарил и чудес от Фортуната не требовал. Козьмодемьяна ворошить не стали: алкоголичный толстяк за палением костей по вечернему времени уже, конечно, наотмечался. Старика Варсонофия позвали, но тому идти было далёко — так что ждать его приходилось еще позже, чем молодушку.
Между тем Давыдка из-под молясины подал голос:
— Богдан Арнольдович, а ведь у нас ихний журавлячий брат, Денис Давыдович, Тетерюк его фамилия, в санатории прохлаждается, строевую подготовку проходит! Его Шейла Егоровна от запоев почти уже излечила!.. Надо бы его тоже позвать, раз он из них, из журавлясей…
— Я те дам журавлячих журавлясей! — Матрона кулаком врезала аналою по макушке, — Журавлиты мы! По крайности — журавлевцы! Кочевые… и… и… — Матрона махнула рукой, пошла копаться в кузове.
А капитан-лейтенант Стерх в ожидании церемонии стал травить байки: видать, полагалось в журавлитской орде умение сказки сказывать. Раззявил портфель, знай списки заказов зачитывает от неведомого богатея-благодетеля, которому хрустальный подземный дворец марокеном обшить хочется. Мотается нынче батя Стерх от одной веси до другой — и нигде нет для него марокену. За марокен журавлитам разные льготы тот богатей выбить в Москве берется, а без марокену даже к Волге подходить нельзя: обер-тиуны того благодетеля уже гневаются, уже чинжалищами булатными позванивают…
Чего-чего?
До топтавшегося в сторонке экс-следователя дошло в ту же минуту, кажется, что и до жениха: кому-то очень требовался черный чертов марокен, а Богдану его вот уж третий месяц как девать было некуда, — деньги же, напротив, требовались очень, по специфике военного положения требовалось их больше, чем обычно. В мирное время Богдану денег-то как раз хватало, даже лишние водились.
Но Кавель Адамович сообразил, что только одному человеку на Руси служили обер-тиуны. И что-то вдруг знакомым стал ему казаться голос капитан-лейтенанта Никиты Стерха. Ну, точно он его слышал, только как-то иначе этот голос звучал, совсем без древнерусской напевности… Однако память у Кавеля полностью еще не восстановилась.
Тут Никита Стерх прервал монолог, нашел глазами Кавеля Адамовича и уважительным кивком безмолвно сказал «Здравствуйте». В этот миг Кавель и уразумел — откуда такая нужда в марокене. Потому как пятитонка Матроны, крытая торговая точка, обтянута была отнюдь не синей джинсовой парусиной. Он-то видал обои в Кремлевском дворце. Тут не ошибешься. Кавель посмотрел на чертовара. Тот усмехнулся. Значит, сам Богдан Арнольдович уже давно все понял. Но для него в такой диспозиции были сплошные преимущества. Государя, в отличие он Дикого Мужика Ильина, он почитал человеком серьезным. Если государю охота подарить невесте дворец с кожаными обоями — да за милую душу. Тем более, что в существование души, как и всего прочего, Богдан не верил.
Из кустов послышалось мощное, контроктавное вступление к свадебному маршу Мендельсона. Марк Бехштейн бесцеремонно ввалился на поляну, а за ним последовали женщины: Шейла Егоровна, урожденная Макдуф, в скором времени, надо полагать, намеревающаяся стать Шейлой Егоровной Тертычной, чертоваршей, с ней же строевым шагом следовала генерал-подполковник Стефания Степановна Басаргина-Переклеточникова, при которой мелко семенила престарелая Васса Платоновна, по третьему и последнему пока что мужу Пустолай, расставшаяся с некрупным бесом-вешняком, годным разве что на ворвань, но так и не позволившая отнять у себя чудо-тыкву; наконец, сладкой парочкой замыкали шествие Майя Павловна Пинаева и Виринея Максимовна Трегуб, еще недавно младшие научные сотрудницы музея имени Ильи Даргомыжского, а ныне княгинюшкины сенные девушки-феминистки. Других баб на Ржавце нынче не оказалось, но батя Стерх, вероятно, и того не ожидал. Матушка Матрона стояла вся в слезах, кусая уголок спешно повязанного на голову синенького, очень скромного платочка.
За сваху в этой команде определенно шагала генерал-подполковник. Чина журавлитского венчания тут не знал никто, разве что матушка Матрона да батя Стерх его помнили, но ежу понятна была некомплектность родителей, что Богдан, что Шейла обошлись без воспитывающих пап: Гурунг по имени Гурунг, национальность — гуркх, на другой манер опять-таки гурунг — вполне стоит сэра Джорджа Макдуфа, так и не поспевшего из родимого Глазго, хотя полдня у него на то было. Кавеля Модестовича на поляну, где стоял Кавель Адамович, не занесла бы сейчас самая полоумная «Джоита»: не ровен час, захочет кто узнать, все-таки Кавель Кавеля… Или Кавель Кавеля… Так что Кавель Модестович остался в гамаке под присмотром Хосе Дворецкого, а Кавель Адамович, напротив, приготовился держать венчальную свечу в атласном, либо же золоченого бархату, кошельке, — как еще в «Домострое» добрым журавлитам предписано. Лишь Денис Давыдович Тетерюк, даром что честный журавлит, придти никак не мог: сегодня он был приставлен к ячьему навозу вместе с негром Леопольдом. Что-то навалили его нынче яки втрое супротив обычного. А навоз, как всякий на Руси знает — штука важная и ценная. И к деньгам, и к счастью.
Марк тактично отступил в кусты.
Матрона благостно, не хуже любой Народной артистки Императорских театров, плакала от счастья. Лепестки роз у нее за ушами блестели сотнями сюрикенов, — надо признаться, это и были сюрикены. Если быстренько такую розу разобрать, то каждый лепесточек в ней — метательная звездочка, которую нынешние сорокалетние тинэйджеры на Руси зовут именно красивым в своей непонятности, вроде бы впрямь японским словом «сюрикен». До невозможности красивое слово, — на сто первом километре Можайского шоссе однажды ресторан с таким названием кто-то открыл. Закрыть его не успели, и без того хватило хлопот: воронку от того ресторана полгода песком засыпали, а все стоит дыра просевшая, ну чисто вторая Поклонная гора… Осторожно, отвлекаться от темы опасно.
Велосипедный звонок предательски тренькнул и затих, никто бы и ухом не повел, но у Матроны еще на зоне нюх на подобные лишние звуки имелся обостренный. И вовремя: прямо из седла казенного велосипеда на Кавеля Адамовича Глинского летела хорошо сгруппированная для полета живая бомба типа «Муза Пафнутьевна, письмоносица». Летела быстрее скорости звука, потому что выражаемое ее неполнозубым ртом «За Родину! За Ка…» — Матрона и услышать не успела, сама ничего не поняла, даже розу разобрать не озаботилась, а метнула весь букет сюрикенов, всю хорошо сбалансированную алую розу в ту точку, где вот-вот должна была перегруппироваться Муза, а через долю секунды, глядишь, могло и Начало Света приключиться, потому как Кавель Адамович Глинский «Истинный» не зря ж послал свою верную письмоносицу истребить поганого Кавеля Адамовича Глинского — нынче по паспорту «Аркавеля» Ржавецкого, но ведь Кавеля!
Но ведь и Государь Всея Руси, получив предсказание от Предиктора Всея Руси, кое-что передал Кочевнику Всея Руси. Вот и была у Матроны — роза, алая притом. Свинца, вольфрама там — не меньше, чем в хорошей гантеле. Если б мало показалось, то и белая тоже была.
Но мало не показалось. Еще только вскидывал обе руки Богдан, обнажая торчащие из-под локтей стволы, еще только хватался за рукоять своего любимого метательного револьвера капитан-лейтенант Никита Стерх, еще вообще ничего не сумел понять сам Кавель Адамович, которого и собиралась только что пришить от имени «Истинного» Кавеля письмоносица Муза Пафнутьевна, — а Матрона Дегтябристовна, грозно помахивая непочатой белой розой, поставила ногу на быстро холодеющие останки письмоносицы. Ее, Матрону, уже лопатили когда-то. С тех пор она многому научилась.
Не успело еще прозвучать все-таки выкрикнутое изуверкой «…За Кавеля!» — а роза угодила изуверке в переносье. Вошла она в поганую морду вершка на два, так что извлекать ее было и боязно, и несколько противно. Выручил Богдан, который к подобным операциям имел повседневную привычку: останки одной рукой унес в чертог и забросил в пентаэдр, где они и повисли, как гроб Пророка, розу же чертовар прополоскал в бочке — и преподнес тёще. Роза была по весу вроде свинцовой, но сверкала и переливалась в лучах заходящего солнца как новенькая. Матрона придирчиво ее осмотрела и заложила за свободное ухо.
— Батя Стерх, уж венчай скорей! — сказал аналой. Вся сцена с покушением Музы заняла минут пять, но у Давыдки затекла шея, экземпляр «Наития зазвонного» был у Стерха тяжелый — берестяной, в дубовом переплете. Журавли такую тяжесть таскать с собой в Индию отказались, но зато книгу прямо из гамака благословил Кавель Модестович, верховный всея Руси Кочевник. Воздух над поляной потемнел: по знаку бати слетелись молясины. Одна спустилась и зависла прямо над «Наитием», батя же, за явным неимением алтарника, приготовился читать сам.
Матрона сделала общий знак: мол, на колени. Сама она на колени становиться не стала, да и дочку от такого движения удержала — молодой княгинюшке не положено. Что же до Богдана, то он в жизни ни перед кем на коленях не стоял — и сейчас не собирался. Но ему заранее такой грех отпускался — общим, молчаливым согласием. Не могла бы встать — ни на колени, ни как-нибудь иначе — и покойная письмоносица Муза. Она вообще уже никак встать не могла, ибо висела в пентаэдре. Богдан заранее сделал в уме отметку — сразу в автоклав! И никаких шкварок. Хватит уже, совсем недавно собаки травились. Нечего животных мучить.
— Да воссвидетельствуется брак сей — тигриной Катриной, Ириной, Мариной, доктриной, витриной, звериной периной, куриной уриной… — торжественно покачиваясь, начал чтение венчального чина журавлевский батя. Многие журавлевцы тут же зашевелили губами, им этот длинный чин был очень знаком, и они его любили — как вообще любили все свое, журавлевское. Они вообще любили венчаться, жарить ежей и разное другое, что остальным людям кажется необычным и не всегда необходимым.
Кавель держал в руках венчальную свечу Богдана Тертычного, слушал рокотание совершенно непонятных, протославянских слов «Наития», сливавшееся с вечной песней кружащихся молясин — «…Когда сквозь вьюгу мчатся к югу подобно стае журавлиной» — и медленно соображал. Вообще-то следователь из него был неважный именно по причине медленности соображения. Зато экспертом его признавали все, даже враги. Но не надо забывать, что его признавали еще и Кавелем. Таковым он был от самого рождения — пьяным произволением давно покойного попа Язона, чью фамилию даже государево митрополитбюро позабыло.
Сенные феминистки рыдали.
Матрона Дегтябристовна умиленно держала в каждой руке по розе. На всякий случай. Не ровен час, еще какая сволочь налетит, весь обряд испортит. Рост и размер зятя она запомнила. Оставалось теперь надеяться, что и марокену ей теперь достанется достаточное количество. Шутка ли: две тысячи аршин! Это, ежели считать на империалы… Матрона шевелила губами, перемножая, и всем вокруг было видно, как трогательно, как истово молится эта могучая старая женщина. Чай, дочка у нее единственная, и замуж выходит не как-нибудь — а крепко подумавши.
— Совет да любовь! — неожиданно вовремя раздался хриплый старческий голос Варсонофия. Идти ему было очень далеко, но он все-таки пришел. И убедился, что со свадьбой тут все в порядке. Вон, по дороге видел, цыгане эти новые ежей, дикобразов, репы, брюквы — от пуза нажарили!..
Из кустов опять загремел Мендельсон. Марк Бехштейн, большой знаток журавлевских ритуалов, поймал фразу — «Но Кавель Кавеля долбил, долбил, да не добил!» — и громко возвестил окончание венчания. Теперь у него было дел — по самые черные клавиши. Согласно предписанию Предиктора всея Руси и других ответственных лиц, ему полагалось бежать за новыми гостями. А они сейчас только-только выходили из далекой Киммерии — на другом конце Камаринской дороги.
Отроду не видала Русь таких гостей. Уж по крайней мере никогда не бывал на ней ни единый киммерийский академик, не говоря о президентах киммерийских академических дисциплин. Она, Русь-матушка, и дисциплин-то таких вообразить не могла, ей даже просто с дисциплиной-то трудно было. Известного еще по Красноуфимской порке старца, напротив, Русь хорошо помнила — но все дивилась, как же это так, полтора, считай, столетия покойник — а все живой, и все ходит; о том, что таким людям положено жить триста лет, не больше и не меньше, Русь не знала, а кто бы ей сказал — не поверила бы. Наконец, третий гость был как раз из породы весьма знакомой, из богатырской, но и эту породу матушка Русь что-то давно позабыла. Сейчас всеми тундровыми, древесными и каменными глазами дивилась матушка Русь: вроде ничего и никого только что не было, а теперь в некотором роде вдруг как бы типа есть.
Тем паче разве что в страшных снах видала Русь Вечного Странника, — дальше чем на две версты он от места работы никогда не удалялся. Теперь вот — пришлось: увидала его Русь, и сразу ей, Руси, от такого зрелища стало нехорошо, хотя зрелище было пока что в капюшоне — и не особо-то надолго.
У компании этой была своя, великая нужда: приняв поручение от высокопоставленных людей, они шли искать пропавшего путешественника, гипофета Веденея, исчезнувшего где-то на Камаринской дороге. И помочь найти его мог разве что привычный к беганию по кустам рояль.
Рояль по своим секретным каналам узнал, что нужно мчаться им навстречу. Прячась от всех присутствующих, он нервно закурил пахитоску «Золотая Суматра», подаренную кем-то из офеней.
И — только закончился чин венчания — побежал.
11
Две тысячи лет назад неподалеку от этой земли жили киммерийцы. Главным их оружием были топоры. Потом примчались на своих лошадях скифы и оттеснили киммерийцев.
Пирс Энтони. Волшебный коридорМастерская у вывесочников была такая, какой быть ей полагалось: очень, очень длинная. Хозяева мастерской, супруги Орлушины, откупили ее у прогоревшей фирмы братьев Подхоромных, пытавшихся торговать в Арясине заводными игрушками, — да только ни одному заводному цыпленку завода не хватало здесь от стены до стены пройти, вот и прогорела торговля. Вывески же — штука часто очень длинная, и мастерам было удобно. Над собственной дверью висел у них недорого купленный в Дворовом Тверском собрании герб: долгополое прорезиненное пальто, а по его центру — старинная американская винтовка: стало быть — винчестер и макинтош. Этим супруги намекали, что электроника в их вывесочной мастерской — надежная, был слух, что как Иаков Древлянин благословил, так с тех пор ни разу ничего в ней не ломалось. А кто говорит, что при Иакове Древлянине электроники не было — просто язык об забор чешет. Как же не было, чем тогда «чертовы пальцы», они же громовники, для экспорта в Киммерию клеймили? Личный винчестер Иакова, правда, Москва давно отняла, в Оружейной палате хранила, если в Бруней по дружбе не продала. Чтоб неповадно было арясинцам воевать. Арясинцам-то давным-давно было неповадно, но Москва, конечно, предпочитала перестраховаться.
Однако же клеймение громовников — штука тонкая, мало кто это дело благолепно делать умеет, на придирчивый киммерийский вкус. Это и был второй промысел Орлушиных. В иные годы даже более доходный, чем вывесочный. Но это уж как фишка ляжет, год на год не приходится. Но с некоторых пор всякий год был у Орлушиных похож на предыдущий. Похож как две капли недославльского первача, — там его из перегнившего лука гонят, цикорий добавят — и полный кайф недославльцам, потому как, кроме них, пить эту пакость уже никто и с большого похмелья не может, разве в полном безумии. Вот, похоже, и зародился в таком пойле загадочный недодемон Пурпуриу. Дементий Орлушин припоминал, что кто-то ему за вывеску четверть такого самогона всучил. Самогон благополучно все-таки выпили, бутыль кокнули ненароком, осколки выбросили в мусорное ведро, Пурпуриу там как раз очень понравилось — и выгнать его оказалось невозможно. Именно разговоры недодемона и были постоянным звуковым сопровождением трудов и дней Орлушиных, именно эти разговоры и были всегда одинаковы.
Обитал Пурпуриу, однако, не только в мусорном ведре, он иногда переселялся в компьютер, был почему-то обозван раз и навсегда молдавским винно-водочным именем Пурпуриу, видимо, потому, что был рыжим и кому-то из гостей померещился «очен красивым рижым малдаванинам» — он на это имя не откликался, да и ни на какое другое. Обретался Пурпуриу все же в основном в мусорном ведре, носил из одежды только макинтош на голое и склизкое тело, разговаривал надменно, а что хуже всего — всегда подавал голос, когда не спрашивали, и по любому вопросу имел мнение. Не тянул видом ни на черта, ни на гремлина — но и человеческого в нем было немного. Из человеческого не чужды были ему тупость, наглость — и, как ни странно, кое-какой живописный талант. Работать Орлушиным он скорей помогал, чем наоборот, но зануден был феноменально.
Труд вывесочника во всех старых русских городах всегда считался премудрым, дорогим, уважаемым, но — как и труд зубного врача — сулил горожанам неприятности, расходы и некую унизительную зависимость. Даже известный всему городу хороший характер вывесочников полностью от подобной репутации не защищал. А с тех пор, как Пурпуриу завелся в их мастерской — стало только хуже. Ибо норовил он при заказчиках высунуть рыжую голову из боковой, к примеру, стенки компьютера, и начать вещать такое, что подумаешь — а не поискать ли другого вывесочника? К счастью, другой подобной мастерской нигде, ближе Твери, не имелось, — а в Тверь еще и не каждый поехать мог. Не говоря уж про всякую Москву, где тебя без порток оставят, Брунейским салтаном обзовут и голым в Африку отправят. А там иди доказывай. Лучше уж этого пурпурного потерпеть. Числил себя недодемон Пурпуриу выдающимся пейзажистом, гостей обычно встречал одной и той же фразой:
— А почему бы вам на своей вывеске не изобразить какую-нибудь, скажем, дорогу? Такую, чтобы уходила вдаль, а на переднем плане уже надпись, например, таким шрифтом гарамонд — «Деревня Гутенберг, вход воспрещен»?..
Именно эту фразу он изрек только что. А клиенты, припожаловавшие к Орлушиным в мастерскую с авансом и заказом, были особенные — чуть не всем семейством пришли нынче купцы Столбняковы, владельцы знаменитой лавки «Товары», где каждый родной покупатель мог за умеренные деньги — нет, не купить, кто же святыми-то вещами торгует? — выменять молясину любого толка. Столбняковым наиболее доверенные офени сдавали на обмен свой товар, принесенный из далекой и загадочной Киммерии. Никто тут ничего не покупал и не продавал — только в обмен. А для торговли была открыта со стороны фасада в том же доме чарочно-косушечная, чтобы свое звание купцов первой дворовой гильдии поддержать. Косушечная располагалась как раз на юго-восточном углу Копытовой и Жидославлевой, дом был высокий, трехэтажный — до Арясина Буяна семь домов, значит, и с Буяна вывеску должно быть видно. Раньше там Ленин лапкой козырял насчет «Верным путем». Россия пошла одним путем, а Ленин другим, при женщинах и не скажешь, каким. Памятник ему из Арясина вывезли, на Полупостроенном мосту в Волгу ненароком, согласно категорическим московским предсказаниям графа Аракеляна, аккуратненько обронили; Ильич не потонул, а поплыл себе традиционной дорогою Посвиста Окаянного в Каспийское море, благополучно переплыл его, а в Персии улегся в прибрежных камышах, и на Тегеран лапкой указал, намекая, что туда идти товарищам — это самый верный путь будет. Персы считали, что следовать таким указаниям — не к добру, и путем шли совсем другим. России же было все равно — ей на тысячу лет разных указываний хватило. Да и забыли нынешние россияне — кто он такой, этот Ильич. Даже в анекдотах Владимира Ильича все чаще Василь Иванычем называть стали, а то и Виктором Олеговичем. Помнил народ, что Вещий Олег какую-то змею по себе на память оставил, еще до того, как в Яике Анку-Персиянку с пьяных глаз утопил. Впрочем, это совсем другая история, о ней в другой книге читать надо, хотя она, кажется, еще и не написана даже.
Косушка — доза исконно русская, четверть штофа, а по древлесоветски — чуть поболе трехсот граммов. Чарка, напротив — одна десятая штофа; можно, конечно, и полчарки спросить — но никаких мерзавчиков на вынос. Ариадна, умело двурушничная железной рукой, вела все дела двойной фирмы, она была вообще-то против торговли дозами меньше чарки — уж разве кто по слабости организма просил чарку надвое поделить, на два глотка. Бесплатно к чарке прилагался кусочек серого хлеба, а на нем по желанию — либо снеток накойский малосольный, либо ряпушка онежская копченая, либо килечка балтийская крутого маринования. И вино в чарочной было, конечно, свое, истинно зеленое, арясинского курения — никакой луковой пакости. В змеевиках Ариадны Пурпуриу не завелся бы. Но вывеска требовалась именно Столбняковым, и тут уж макинтошный недодемон собирался оттянуться по полной программе.
— Так вот, дорога — значит, такая вот, вдаль уходящая, а там на горизонте, например, что-нибудь такое, чтобы как другая, например, дорога — и отражение в воде…
Дементий не выдержал и отключил компьютер, от чего Пурпуриу немедленно перелетел в мусорное ведро. Оттуда вещать было уже не так солидно, недодемон обиженно зашуршал обрывками бумаги. Но надолго умолкнуть его никогда еще заставить не удалось.
Ариадна Гораздовна, женщина обширная скорее телом, чем силою ума, ни в чем и никогда своему супругу Феагену Арисовичу не уступавшая, даром что тот был, наверное, единственным на всю Русь Вечно Трезвым Водопроводчиком, решила перейти к делу. Она развернула на рабочем столе начертанный старшей дочкой Глашей эскиз вывески. В уголке уже были проставлены визы — градоначальника, околоточного, генерального архитектора, главного санитара и прочего арясинского начальства, вплоть до архимандрита Амфилохия. Так что в текст вывески Орлушины вмешиваться не могли, да и в размер. А в остальном никто их и не ограничивал. Вешать же самоделку Ариадна Гораздовна никогда бы не позволила, она была арясинкой в таком древнем поколении, что одиннадцать колен родословной варяга Фрелафа из бессмертной оперы дворянина Верстовского «Аскольдова могила» показались бы тут только первыми тактами увертюры. Дворянства за предками Столбняковых не водилось, но фамилия их была древняя, исконная. Кого-то из татар, как говорила местная легенда, при виде благолепия семи дочерей основателя рода в тринадцатом веке, хватил столбняк. Дальше история стыдливо опустила занавес, но уберегла фамилию. И офени подтверждали хором: так оно и было. Сам Дуля Колобок… Но тут уже начиналась область офенских легенд, а в лавке «Товары» торговали отнюдь не легендами.
— Чарочная и косушечная, распивочно и ни в каком чрезвычайном особом предварительном случае не на вынос. Семья Столбняковых всех приглашает и некоторых на свою голову угощает. Голодным и холодным первая чарка бесплатно со скидкой. Прием посуды на льготных условиях. Арясинские песни, зазывные хороводы и по необходимости щелбаны. По воскресеньям и по состоянию здоровья — виктрола-д'амор, у валика Арис Петрович Столбняков. Также и покраска шерстяных тканей, плетение лыка в особые кружева, устройство приключений на свою…
— Больше не поместится, от Буяна видно не будет… — робко сказал Дементий. Ариадна смерила его уничтожающим взглядом — а то она сама не знала. Не все ж писать аршинными буквами!
В дальнем углу началось шуршание. Дементий обреченно опустил голову.
— А я считаю, что мы не должны идти на поводу у публики, — возвестил недодемон, выплывая на середину мастерской — Мы должны думать об искусстве. Живопись — она должна быть как музыка! Ни к чему давать на вывеску столько текста. Почему бы вместо этого не изобразить на ней, скажем… м-м… Какую-нибудь, например, дорогу? Уходящую, скажем, вдаль? Взять мадженты, а по центру — йеллоу, йеллоу, чтобы сразу ясно было — тут художественный салон, а не какая-нибудь там распивочная…
Дементий запустил в недодемона мастихином. Тот воткнулся в ткань макинтоша по самую ручку, Пурпуриу явно продолжал бы дальнейший монолог, удобно держась за нее, но тут хозяйка мастерской, Флорида Орлушина, применила крайнее средство: схватила заранее припасенный пыльный мешок и хлопнула им недодемона по макушке. Пурпуриу сказал «Ой!» и временно исчез. После такого унижения он мог не показываться даже и полчаса, но ровно столько нужно было сейчас на переговоры. Феаген уже доставал кошелек с империалами, тяжко звякнувшими о рабочий стол. Бумажками Столбняковы не платили. В былые годы платили даже медной монетой, грузя ее на собственный ветхий ЗИП мешок за мешком. Но в городе не они одни были такие умные, с шестьдесят первого года, когда копейки вдруг в десять раз вздорожали, эта привычка сохранилась у многих. Бумажкам Арясин не верил и старался их закопать куда-нибудь с глаз подальше.
Дементий уже набрасывал на экране эскиз вывески. Ариадна по близорукости на возникающий рисунок и смотреть не пыталась, Феагену, считавшему деньги, было не до того, но Глаша и ее знаменитый журналистскими способностями сын Степан, по сложному стечению обстоятельств записанный в еще не существующий паспорт как Степан-Мария, прилипли к экрану. Поскольку все необходимые визы у Столбняковых имелись, в левом верхнем углу будущей вывески уже красовался герб Арясина — золотой, а в данном случае просто красный журавль. В левом нижнем, соответственно эскизу, появился трехгорбый верблюд — вообще-то ферма таковых на Арясинщине имелась, но зачем она косушечникам понадобилась — Дементий спрашивать постеснялся. Он вообще от природы был робок. Пыльным мешком, когда было надо, с блеском орудовала Флорида. Именем своим она гордилась. Храм Местнопочитаемой Флориды Накойской в Арясине строили уже третий век. Но ведь и мост — ровно столько же. Там (в недостроенном храме, а не под мостом) Флорида Орлушина и получила имя. Ее святая покровительница некогда велела всей Руси варить меды. С тех пор ее очень почитали на Арясинщине, и девочкам давали имя в ее честь, а в Америке кто-то даже штат назвал.
Между тем Флорида Накойская, как и Иаков Древлянин, были для Арясинщины единственными местными святыми, больше за тысячу лет ни одного тут как-то не просияло. Нынешний здешний всенародный кандидат в святые был настолько непробиваемым атеистом, что и на него надежды было мало. Тем усерднее блюлась в народе память Иакова и Флориды. В длинном и невразумительном для сторонних читателей житии Флориды имелось очень важное место, рассказ о том, как, впавши в некоторое особо неизбывное отчаяние, пошла святая топиться в Накой. И был ей там голос, чуть ли не сам князь Изя Малоимущий, тогда еще то ли живой, то ли уже новопреставленный, но свежий совсем, прорек ей с горних высот: «На кой, красна девица? На кой, на кой, на кой?» И стало Флориде ясно, что после Ледового побоища топиться в Накое никак нельзя — там Иван Копыто, например, бродит, схватит тебя за белу ноженьку, оторвет, железную на ее место приладит и на берег живую выкинет. Или другая страсть какая приключится, русалочий соблазн, например — а он куда как покруче будет, русалки все давно уже феминистки, а ты, положим, мужа своего при жизни в строгости не держала и скалкой не охаживала, словом, выйдет тебе такое наказание, что мало не покажется. Так что ежели хочет порядочная девушка топиться — вот тебе Волга, шесть верст всего, ступай да и топись в свое удовольствие.
И послушалась Флорида, а по дороге к Волге ей Идолище Бродяче-Поганое повстречалось, и на честь ее девичью помелом своим да и покусись. Не стерпела того Флорида, поломала Идолищу помело, а его самого в Волге утопила, и плыл он до самой Астрахани, где с ним уже тамошние по свойски разделались (на дрова порубили, костер сложили, уху сварили и съели, а потом и забыли вовсе, зато потом из Идолищева кострища портной Ульянов Николай самозародился, родил кого смог, сына Илью, а дальше все как в прежнем учебнике истории). Охота топиться у самой Флориды пропала начисто, и с той поры никто в Накое никогда топиться не смел. Если есть в том уж очень большая, особая нужда — вот тебе Волга, мать русских рек. Топись в ней до упаду. Вода проточная.
В память Флориды была в городе Упаде, что на московском берегу Волги, на правом, ростовчанами беглыми основан, отстроена для любителей большого питья белокаменная ковшно-ендовная «Флорида». Хотела ее когда-то Ариадна тоже прикупить, но потом рассудила, что ездить далеко и управляющий воровать все равно будет. Младшую свою дочь Неонилу, — которой первоначально Ариадна как раз предложить заведовать «Флоридой» и предполагала (по-мягкому, по-матернему), — оформила Ариадна у киммерийского консула в Москву на дорогое шпионское место, и волноваться перестала. И не вспоминала бы про ту «Флориду» сто лет, кабы не звали нынешнюю исполнительницу ее заказа на вывеску, мадам Орлушину — именно Флоридой.
Зашумел ветер за окнами, мастерскую сильно тряхнуло, что-то с полок посыпалось. Дементий бросил яростный взгляд на мусорное ведро, не без оснований подозревая, что именно недодемон дурью мается: никаких землетрясений на Арясинщине даже деды дедов не помнили. Однако Пурпуриу, высунув из ведра полголовы, ошалело вертел ею во все стороны — он испугался ничуть не меньше хозяев и гостей. Сотрясание почвы к числу его умений не относилось. У Феагена из кошелька посыпались империалы, но это его не взволновало, как опытный водопроводчик, он знал, что толчки подобного рода повторяются. Это все ведь многократное, бомбардировка, землетрясение, цунами — хотя у Арясина и моря-то вроде бы никакого нет. И второй толчок не замедлил, со стены с треском рухнула картина Дементия «Князь Изяслав выступает на Кашин», багет дал несколько трещин. Пурпуриу забился в истерике, ведро опрокинулось и покатилось вместе с недодемоном в сени. Бледная Глаша пыталась ухватить Степана, которому — единственному — было, пожалуй, очень интересно: чего это такое вдруг земля берет и трясется. Все ждали третьего толчка. Но не дождались. Феаген отер лысину и стал собирать империалы. Ведро из сеней неведомой силой вернулось на прежнее место: Пурпуриу передвигался в нем, как баба Яга в ступе, помогая себе при этом малярной кистью вместо помела.
— Б-блин… — прозвучало в мастерской театральным шепотом.
— Степан! — одернула Глаша сына. Тот быстро изменил текст.
— Б-б-б-бомарше! — произнес Степан. Из-за способности ловко избегать наказания в подобных ситуациях известный всему городу Внук Водопроводчика и носил забавное прозвище — «Степан Бомарше», которым иногда пользовался, как псевдонимом, посылая фоторепортажи в «Голос Арясина». Гонорары у Бомарше были небольшие, но — были. Дед-водопроводчик, будучи Вечным Трезвенником, очень гордился гонорарами внука, но боялся, что тот, мягко говоря, может начать их тратить не на мороженое. Степан, между тем, собирал и реставрировал звукозаписи теперь уже редко выступающего со своей виктролой прадеда, Ариса Петровича. Хотел деду к столетию компакт-диск выпустить. До столетия было еще порядочно, но Степан, как и все арясинцы, мыслил очень большими временными категориями. Из-за этой арясинской привычки имелась теория, что некогда жили на Арясинщине неторопливые киммерийцы. Если не на самой Арясинщине, то рядом — в Кимрах, отсюда и название. Если б кто в Кимрах землю пахал, то, поди, не один киммерийский топор плугом бы из пашни выворотил. Но в Кимрах не пахали и не сеяли, там тачали обувь, а еще круто выпивали. Словом, темна древность и Арясинская, и Киммерийская — будто история мидян. А что касается ученых гипотез, то они трудового человека, мягко говоря, не трясут.
Однако же мастерскую, вместе со всеми в ней пребывающими трудоголиками, сейчас все-таки трясло: третий, запоздавший толчок рассадил дверной косяк, империалы из кошелька Феагена раскатились по всему полу, один дишь Пурпуриу предусмотрительно плавал под потолком и делал вид, что его совсем нет и к землетрясению он никакого отношения не имеет, а так — мирное мусорное ведро под потолком плавает, никого в нем нет, ни демона, ни макинтоша, вообще ничего.
— Примета плохая, — тихо сказал Дементий, — картина упала. Князь Изяслав… Да как же он умереть может, он уже давно умер, а и жив был бы — очень уж в преклонных был бы летах… Может, опять поход на Кашин будет? Или какая другая каша заварится? Да нет, суеверия это все…
— Больше толчков не будет, ракеты кончились… пока что. — вдруг тоном не то заговорщицы, не то пророчицы изрекла Ариадна. Она это точно знала, она на слишком многих работала одновременно, чтоб ошибаться, — и ее знание передалось присутствующим, все перекретились в окно — на золотые кресты церкви Флориды Накойской.
Если б Золотой Журавль, он же Красный, имел силу оторваться с городского герба и взмыть в небо над Арясинщиной, то взгляд его, конечно, упал бы на Выползово, где потревоженный воздух дрожал и волновался. Эпицентром подземных толчков, причинивших Арясину много мелкого ущерба, был Богданов Чертог.
Там сейчас было неладно. Чертог, конечно, стоял целехонек, в его уязвимость Богдан не верил, но рядом зияла воронка: большой массив леса возле поляны, на которой давеча, трех дней не минуло, обвенчал Богдана с Шейлой журавлевский поп, просто перестал существовать. Разнесло и смежный с чертогом полуподземный покой, где в центре пентаэдра парил старинный, лазурный унитаз — для слива фракции АСТ-1, чистой эманации зла — туда, куда ее засасывало. Пентаэдр, понятно, был цел, и привычно парил в пыльном воздухе, но сам унитаз, фарфоровое чудо столетней давности, дал трещину. Похоже, главный удар пришелся по нему, и старинный итальянский фарфор не выдержал.
Чертовар стоял у края воронки, сжимая и разжимая кулаки — не от растерянности, а от злости. Давыдка сидел у его ног на четвереньках и по-собачьи принюхивался. Другие персонажи спешили сюда же, но пока не собрались: разве что журавль с высоты разглядел бы, как торопится по тропке едва успевший натянуть портки маг-бухгалтер Фортунат, как заводит молоковоз возле усадьбы на Ржавце Савелий — иного транспорта не оказалось, а то, что бомбовый удар пришелся именно в Выползово, Шейла сразу зорким сердцем почуяла, — как, наконец, встревожено плещется среди наметанной с вечера икры водяной Фердинанд. Но востроглазого журавля в небе в тот час не оказалось, и кроме Богдана, кажется, еще никто ничего правильно не понимал. Богдан, разумеется, уже все понял, уже спланировал стократное отмщение — и, наверное, знал уже, где купить новый лазурный унитаз.
— Трех боеголовок не пожалели, сволочи, — процедил он сквозь зубы — и сплюнул в воронку. Плевок зашипел, испаряясь: было в воронке еще очень горячо.
— Это китайцы? — прошелестел потрясенный Давыдка.
— Это нелюди! — ответил мастер. — Ну, они теперь получат. — Чертовар снова сплюнул. Плевок не зашипел — может быть, потому, что воронка быстро остывала, а может быть, потому, что ракетный удар по Выползову нанесли, конечно, нелюди, иначе говоря не люди — но отнюдь не китайцы.
Чего не было, того не было. Не выступало войско фанзы «Гамыра» против полчищ Богдана Тертычного. Более того, даже захоти Василий Васильевич Ло такое войско собрать и построить, разве смог бы он обеспечить его флагами, барабанами, алебардами и доспехами? Разве обрел перед этим Василий Васильевич Ло некое вечное Дао несомненной победы? О нет, не обрел. Ряды его войска не отличались эмблемами, и они могли бы смешаться в полном беспорядке — будь у Василия Васильевича, конечно, вообще хоть какое-нибудь войско.
А поскольку ни гонгов, ни барабанов ни на одной арясинской помойке несуществовавшее китайское войско найти не могло, то, само собой, не было оно побуждаемо к успеху в сражении и не подчинялось добродетели. Войско фанзы «Гамыра», даже существуй оно хоть в каком-то виде, не было разделено на среднюю, левую и правую части, не говоря уже о полном отсутствии части тыловой. Не были выставлены наблюдательные посты. И воины, которых не было, совершенно не боялись тяжелых наказаний за свои мельчайшие проступки: к примеру, им глубоко плевать было на все опознавательные знаки, — если, конечно, предположить, что тем, кого нет вовсе, есть все-таки чем плевать.
Каким-то Дао, — надо полагать, неразглашаемым Дао мудрости Пунь Василий Васильевич Ло все-таки обладал. Это могло, в частности, привести к полному необладанию им столь важным предметом, как Дао войны. И привело. Поэтому он и не старался уберечься от поражения в битве, которую и не думал затевать. Он не занимал господствующих возвышенностей, их вовсе не было на Арясинщине, и не стремился устрашить врага — он и не знал, что должен делать что-то подобное.
Барабаны, которых не было, не звучали, поэтому армия, которой никто не собирал, не продвигалась. Не звучали гонги, их тоже не было — поэтому армия, которая не существовала, не останавливалась. Для передачи никем не отданных приказов также никто не использовал колокола, — их, кстати, все равно не было, как и всего прочего. А поскольку несуществующие войска вполне можно было, в соответствии с канонами военного искусства Китая, считать необычными войсками, то они неожиданно поступали именно так, как эти каноны велят поступать необычным войскам — они поступали наоборот. То есть вообще никак не поступали и никуда не выступали. И хуже того: поскольку такие войска не поступали никак — они, надо думать, были победоносны, ибо ничего не нарушали.
В этом скрыта одна из глубочайших мудростей Тайной школы мудрецов Пунь: если ты не существуешь, то и глупостей не наделаешь. Хотя, конечно, дурак, совершающий глупости, поступает в полном согласии со своим природным предназначением, но дурак, которого не существует, все-таки еще лучше: он не поступает вообще никак, и тем его естественное предназначение оказывается исполнено никак не меньше, чем пятикратно.
Конечно, согласно китайским представлениям о войне, победа в ней зависит от устрашающей силы. Но в войне, которой нет и быть не может — отчего зависит в ней победа? Даже глубоко умудренный протоколами пуньских мудрецов Василий Васильевич Ло этого не знал. А поскольку величайшее зло, которое может быть в управлении армией — это колебание, глава армии, которой не было, не мог испытать никакого вреда от этого величайшего зла. Посему, почуяв еще только первое дрожание почвы, собрал всех своих домочадцев во дворе фанзы, благословил их, себя тоже призвал к мужеству — и припустил куда глаза глядели и фэншуй-компас указал: на северо-восток, по мхам и болотам, по той самой дороге, которую пытался проложить некогда князь Изяслав, да вот не проложил, и осталось там одно сплошное бездорожье. Ко второму удару, тем более к третьему, обитатели «Гамыры» были уже весьма далеко. Так что в самое короткое время арясинский чайна-таун обезлюдел полностью. Солдаты несуществующей китайской армии не поступили согласно традиции: на вершине городской стены не были подняты знамена и флаги, никто не ударил в боевые барабаны, обманом внушая противнику, что будет защищать стены фанзы, — одним словом, еще очень много чего не произошло из того, что непременно произошло бы, если бы Малый Арясинский Китай следовал Семи Воинским Канонам китайского военного искусства — или, на худой конец, хоть одному из них, на выбор любому.
Решительно ничего не произошло — только пятки, возможно, сверкнули у сбегающих в северо-восточные арясинские болота членов семейства Ло. Но и пяток никто не видел. Лишь озабоченный трясением почвы Вечно Трезвый Водопроводчик Феаген Арисович Столбняков, первым посетивший «Гамыру» — в свете неиссякающего давнего интереса к тамошним водопроводным и батарейным трубам — возможно, увидел еще кого-то из бегущих китайцев. Но он утверждал, что не видел. Увидел он в прихожей фанзы десятилитровую канистру с гаоляновой водкой, забытую китайцами при бегстве. Ее он принес в косушечную, поставил на верстак в подсобке, сел перед ней и стал думать — на что бы такое эту жидкость употребить? Решил, что ею хорошо будет что-нибудь помыть; все таки сильный растворитель. Ни единому человеку в России подобная мысль при созерцании водки в голову бы не пришла — кроме Феагена. Но Феаген был не совсем простой человек, он был редчайший архетип, да еще по ошибке воплотившийся в жизнь вместо литературы, — может быть, потому, что с таким персонажем ни один вменяемый писатель просто не знал бы, что делать.
А тем временем сгустились тучи, грянул гром, все арясинские мужики перекрестились, и начался ливень. Обозленный Богдан сидел на веранде и соображал, как и с какой стороны начать операцию отмщения за побитый фарфор. Кавель составлял ему компанию, а поскольку к алкоголю был куда менее устойчив, то и соображал куда хуже. Арясин же, пережив три толчка земной коры, затаился до новых событий. Они, конечно, не замедлили. Ибо не делая ни шага с веранды, Богдан Арнольдович Тертычный вел свое расследование происшедшего: в частности, им было уже установлено, что поражен его чертог был ракетами класса «Родонит», типа «Озеро-озеро», запущенными при этом не из озера и не в озеро попавшими — что и снизило их бризантность не менее, чем в двенадцать раз. А поскольку совсем недавно имело место покушение Музы на Кавеля, логично было предположить, что эти ракеты — не акт отмщения, а очередное покушение, и к тому же почти наверняка на того же самого Кавеля. Лишь очень глупые изуверы, лишь «Истинные» кавелиты, приверженцы страшного ересиарха Кавеля Адамовича Глинского, не думая о последствиях, могли напасть на рабочий чертог Богдана.
Кстати, прежде чем пустить покойную Музу в автоклав, Богдан взял из ее тела ряд проб на анализ, и результаты подтвердили его худшие подозрения. Биопсия сообщила о необратимом кавелитном перерождении тканей покойницы; к моменту своей гибели та уже почти не относилась к виду хомо сапиенс; с тем же успехом это существо можно было бы посчитать и живым эквивалентом пятисот граммов тротила, причем тротила совершенно не сапиенс, не мыслящего. Лишь роза Матроны вышибла из нее запал, самозародившуюся в мозгах письмоносицы анаконду мщения Кавеля за убитого Кавеля. А тучи сгустились окончательно, и над всей Тверской губернией полил настоящий тропический ливень, для тропического холодноватый, но столь же густой и яростный, как его сезонные родственники в тропиках.
Описания дождей, даже самые вычурные, изобилующие такими исконно русскими, но вмертвую никем не употребляемыми словами как «бус» и «мжица», нередки в литературе, поэтому отсылаю желающих к любому из них: от того, где «несколько капель протекло по щеке (Варвары, например) — и нельзя было понять, слезы это или всего лишь начинающийся дождь» до бессмертного «дождь лил четыре года». Хотя ливень над Арясинщиной и не был столь долог, да и за капли слез эти падающие с неба тонны воды едва ли кто принял бы, в принципе можно считать любое корректное описание дождя — описанием дождя именно этого, того самого, воспоследовавшего на Арясинщине за троекратным трясением земли, разбитием голубого унитаза, бегством китайцев и еще одним событием, ради рассказа о коем оный дождь никак и не может быть оставлен в повествовании без упоминания. Случилось это потому, что водяной Фердинанд страдал в тот день недержанием икры. Сопровождалось таковое недержание сильными спазмами, а троекратный толчок, всколыхнувший в водоеме сразу всю воду и всю икру, едва не доконал беднягу.
Фердинанд от природы был не только косноязычен, но и жалостлив, что водяным принципиально несвойственно. Хотя покойная Муза кованым каблуком отбила жабры именно ему — вряд ли кто пролил по ней более искреннюю, более дистиллированную слезу, чем арясинский икрометатель. Но слезы — штука жидкая, в икру же воду лить нельзя, можно только дорогое пиво, Фердинанд помнил это, и слезы по письмоносице стал с помощью разных болотных водорослей унимать. Унять не унял, а необратимое разжижение икры заработал. В итоге организм водяного к началу дождя был совершенно обезвожен, а сам дождь, после которого все икряные запасы водоема можно было спокойно спустить в канализацию, довел Фердинанда до истерики.
Тащась обычной дорожкой к ручью по естественной нужде, Фердинанд походя бросил взгляд вверх — в сторону мельницы, над которой допотопная дамба сдерживала колоссальный объем воды, едва ли не настоящее водохранилище, то самое, на дне которого коротал чрезмерно долгую жизнь его дядя, лысый водяной с золотыми усами. Фердинанд похлопал глазами: третье, перепончатое веко в каждом глазу облегчало процесс глядения, не позволяя ни дождю, ни ливню, ни бусу, ни мжице, ни даже — будь на дворе не лето, а осень, и примешивайся к дождю снег — ни дряпне, ни чичеру, ни хиже застить обозреваемые просторы. Водяной глядел сквозь воду легко и привычно. Да и какой же русский водяной… Но тут приходится лирику оборвать, ибо увидел Фердинанд нечто неожиданное и страшное: впервые на его долгом веку водохранилище на Безымянном ручье грозило переполниться.
Фердинанд с воплем воздел верхние лапы. Водяной слышал сквозь дождь, как тревожно перешептываются ольхи — они-то рухнут первыми, когда паводок проломит плотину, когда неумолимая масса воды обвалится на лес, разросшийся под мельницей, они первыми, вместе с пенистой, взбаламученной жижей достигнут Выползова и закружатся на том месте, где только что стояла символом неколебимости арясинская чертоварня мастера Богдана.
Описывать душевные муки древнерусского водяного не взялся бы даже великий черногорский писатель Момчило Милорадович, чей предпоследний роман «Постоянная планка» давно поведал бы русским лешим истинную правду о русских леших, кабы те умели читать пусть не на черногорском, так вообще хоть на каком-нибудь другом языке — леший его знает, на какой там язык Милорадович не переведен, вроде бы уж на все, да только лешие не читают ни на каком. Но древнерусский водяной на самом деле избрал путь, подобный пути безымянного голландского мальчика, закрывшего дырочку в дамбе, и ценой безымянного пальчика гарантировавшего себе анонимное бессмертие в сердцах благодарных голландцев.
Фердинанд был по меркам водяных сравнительно молод, но даже он помнил времена, когда на месте древнерусского Арясина еще был разбит временный лагерь китайских солдат, позже по большей части вернувшихся в Поднебесную, чтобы позволить там распилить себя деревянной пилой поштучно, по меньшей же части китайцы окаменели и ушли в подземье и забвение; а прежде китайцев, да и после них, были тут скифы, из-за чего хронология в памяти Фердинанда очень путалась. Помнил он, что еще до скифов были тут какие-то кочевые киммерийцы с топорами — пришли они оттуда, где солнце встает, много деревьев порубили, помнится, на молясины — а потом ушли туда, где солнце встает, там никому себя пилить пополам не дали, а основали город, да и поныне живут в нем, вроде бы хорошо живут и никому не мешают.
В те времена, когда тут жили киммерийцы, Фердинанд был совсем юн, он, честно говоря, еще водил хороводы с другими водянятами, даже дядя его усатый был почти безус и вовсю ухлестывал за молодыми водянихами, которых так много было тогда на Арясинщине, а теперь вот и нет ни одной, почему-то бабий век короче мужичьего у водяных баб, — у сухопутных, говорят, как раз наоборот. С годами стал Фердинанд полноват и зеленоват, облысел, но это не мешало ему ни метать икру, ни мечтать о бабах. Мечтал о зеленых бабах он согласно своей природе, а икру метал по приказу, но с годами стал находить в этом занятии удовольствие. И полюбил своего повелителя, Богдана Арнольдовича, совершенно собачьей любовью. Крепче собачьей любви нет на свете ничего, даже клей, которым люди самолетам крылья приклеивают, далеко не так крепок. Но времени предупредить хозяина о том, что после землетруса грозит Выползову еще и потоп, у Фердинанда не было. Выход был один — спустить все водохранилище в сторону, противоположную Выползову, на север, в болото, известное как Потятая Хрень. Хрень была столь бездонна, что в ней никто не жил, разве что по пьяному делу кое-кто тонул — но и только.
Если был бы Фердинанд человеком, он бы сейчас перекрестился — так хороший солдат, прежде чем взорвать под собой пороховой погреб, непременно и крестится и молится, дабы Господь благословил его дело, да уж заодно, может быть, отпустил бы грех самоубийства. Но водяной не был ни солдатом, ни христианином, даже и Анатоля Франса не читал он, поэтому не предполагал, что годится в христиане, а там, глядишь, и в святые, он даже и читать не умел, тем более по-человечьи: люди свои азбуки и правописания меняют чуть не каждый день, ну, каждый век, невелика разница, — есть о чем волноваться? Человеку не пристойно зубрить письмена бабочек-поденок, а водяному уж и вовсе никакие не вызубрить, ему бы икру научиться метать. Вот ведь есть на свете рыба пинагор: захочет — красную икру мечет, захочет — черную, и сама, говорят, засол ее умело осуществит. Вот бы как пинагор!..
В мечтах о пинагоровом мастерстве икрометания, Фердинанд отрыл из донного ила старинный двуручный меч, некогда добытый со дна Накоя от чистого любопытства, отряхнул с индийского булата и с бороды икринки, выполз на берег, потащился к дамбе. Ему предстояло удалиться почти на шесть громобоев в сторону мельницы, потом на два громобоя по дамбе — а там уже будет и начало Хрени. Найти место послабже, вскрыть дамбу — и спустить водохранилище в Хрень. В Хрени места много. Хрень бездонная. Дядя говорил, что бездонная. Что дна у нее нет. Совсем никакого дна… Никакого дна у нее нет, а то разве не поселился бы в этом омуте кто-нибудь… Всегда кто-нибудь в такой Хрени живет, а вот раз не живет — так, значит, и нету у Хрени дна… Поток сознания захлестывал Фердинанда так же густо и бессмысленно, как сделал он это на последних страницах романа «Анна Каренина» с одноименной героиней, отчего она, будучи не в себе, а в потоке сознания, бросилась под поезд — точней, под второй вагон поезда, потому что первый по рассеянности в оный поток сознания как-то упустила.
Если б ливень лил еще сутки, то мельницу бы и впрямь опрокинуло в бучило, плотина бы лопнула, Выползово оказалось бы почти на полный громобой под водой — и то ли было бы у творческой и общественно очень полезной деятельности Богдана Арнольдовича продолжение, то ли нет: невозможно на русском языке рассказывать о событиях, которые то ли произошли бы, то ли нет, не впадая при этом в соблазн сослагательного наклонения. Именно этого наклонения пуще дурного щучьего глаза испокон веков боятся все русские водяные. Поэтому Фердинанд, выпучив глаза, как пинагор, мечущий икру нового цвета, все-таки одолел дорогу к плотине, а там вылез на нее и, держась за двуручный меч как за посох, потащился в сторону Хрени. Она уже была видна за краем плотины, ее низкая, черная гладь никак не реагировала на ливень, ни рябью, ни колыханием — она могла принять в себя еще не такое, и не зря сказывали старые деревья, что именно в нее, в Хрень, когда-то оттекли воды Всемирного Потопа, позволив ковчегу знаменитого Ноя пристать к армянской горе Арарат и потом заселить армянами весь белый свет. Куда-то же делась тогда вода? Если не в эту Хрень, то в другую, ей подобную, хотя навряд ли есть на свете вторая такая Хрень.
Изнывая от преданности хозяину и еще от боли в суставах, Фердинанд вонзил накойский меч в трещинку меж двух камней, потому что больше вонзать было не во что. Плотина, заговоренная в доисторические времена от всякого человеческого покушения, подаваться мечу человечьей ковки не должны была бы, но держал-то меч в перепончатых лапах самый настоящий водяной, да еще местный, арясинский — от такого покушения, конечно, заговор не был предусмотрен, да и знал ли кто когда такой заговор, чтобы противостоял отчаянию простого русского водяного? Повозившись недолго, Фердинанд выворотил сперва один камень, потом второй — и оба разом столкнул в черную влагу Хрени. Даже не чавкнуло. Водяной продолжал работу.
Ценой невероятных усилий, ценой порванных перепонок между пальцами и сорванных сухожилий под вторыми ложнолоктями на каждой руке, Фердинанд выломал в плотине такой кусок, что никакому динамиту бы не дался. Водохранилище держало в себе влагу уровнем саженей на десять выше, чем стоячая жидкость Потятой Хрени. Водяной ломал плотину с умом: так, чтобы не ложками лилась вниз вода от мельницы — а так, чтобы проломилась тонкая стеночка — да и ухнуло все сразу. Дело шло на удивление быстро — к водяному пришло второе дыхание — жаберное. К тому же дело шло к ночи. Обреченное водохранилище еще всасывало струйки неуемного дождя — но понимало свою обреченность. Лысый дядя Фердинанда вылез из придонного ила, повел усами вокруг — и наскоро кинулся в сторону Тощей Ряшки: через Безымянный ручей был еще шанс уйти в Накой и там отсидеться, отлежаться от грядущей беды. Мельница, хозяин которой вот уж пятый день как беспробудно пил на станции Решетниково, откуда он регулярно приезжал вместо Арясина в Конаково, ибо нынче был в своем доме лишним, — мельница тоже кренилась, обреченно скрипя жерновами.
И в миг, когда на хуторе Ржавец противным голосом заорал черный петух, возвещая конец дня и начало ночи, веля Белым Зверям идти в загоны, а Черным выбегать в патруль, — в этот миг плотина не выдержала. Тонкая стенка, которую Фердинанд собирался проломить в последнее мгновение, не выдержала сама по себе, и миллионы пудов никому не нужной воды рухнули прямо в Потятую Хрень. Водяной успел только вскрикнуть, намертво вцепиться в накойский меч-кладенец — и рухнуть следом. В считанные мгновения водохранилище, плотина и водяной Фердинанд обвалились в черное болото, в низменную Потятую Хрень. Хрень довольно булькнула, приняла в себя очередной взнос цивилизации — и вновь сомкнулась на прежнем уровне. У нее и вправду не было дна, а то, что заменяло его, как мембрана, открылось и закрылось. Что были этой адской мембране куски плотины, обломки боеголовок, черепки унитаза, да и древний водяной со своим ножиком?
Случилось невозможное, случилось такое, чего не помнили самые старые пни в Арясинских лесах: верный слуга Богдана Арнольдовича Тертычного, икрометный водяной Фердинанд, утонул в бездонном болоте, спасая своего хозяина, привычно спавшего на своей веранде под монотонное журчание дождевых потоков, устав от мстительных антикитайских мыслей. Лишь лысый дядя водяного, в последний миг перемахнувший в Безымянный ручей, был тому свидетелем. Он, старый бездельник, ничем не мог помочь своему племяннику.
Однако и его тупого ума хватило на то, чтобы понять: в этот миг стало на Руси одним героем-мучеником больше. Смерть водяного Фердинанда произошла в миг, когда сменялись на небе знаки зодиака, и вступал в свои права величавый знак Льва. Небесный Лев вознес над миром свою грозную небесную лапу — и дал знать иным созвездиям, что он-то видел гибель героического водяного, он-то не даст памяти о нем стереться в веках. Он поискал Фердинанда в потустороннем мире, освободил от оков плоти, и вознес его к себе — крохотной звездочкой, обозначившей самый кончик своего львиного хвоста. Что и отмечено было обсерваториями, и новая зеленая звезда, получившая в реестрах имя «Фердинанд», осталась вовеки сиять в небесах точнехонько над Арясином.
12
Прости, Господи, за нежданное нашествие действительного причастия настоящего времени и страдательного причастия прошедшего времени.
Юз Алешковский. Рука.А время-то идет, господа, и лето как будто на исходе, а у нас ничего не понятно — ни где мы, ни что мы, ни, извиняюсь, на хрена же мы? Тот есть как что за на хрена, вам еще и глагол нужен? Ничего, мы вам жечь сердца и без глагола можем, если будет надо, — к тому же есть у нас и то преимущество, что нам не надо. Ну, так где мы остановились, и в какую опять сказочно поганую дыру угодили со своим сюжетом?
Ни стыда у автора, ни, извините, совести, не говоря про сюжет. Куда, скажем, девалась Киммерия, про которую целый том навалял и еще собирался. А-а, вот вы что. Будет вам Киммерия сейчас, хотя и на заднем плане, но будет. Так что задний план есть, и мысли такие же тоже есть, а к тому же за каждой, говорят, у меня еще и стоит… Что стоит? Если вы не знаете, что стоит, то вам это читать вообще рано. Или у вас другая ориентация. Срам сказать по-киммерийски, что про вас можно сказать, используя благодетельно-спосылательное наклонение. Но рыночного старокимерийского вы не знаете, так что и говорить мне вам ничего не надо, не поймете потому что, а если вдруг вы этот язык знаете, так уже просто опасно говорить — вы ведь и ответить можете. Так что лучше давайте уж без сложностей, без экивоков — просто конец света, просто начало света, просто бисквит поэта-кондитера Рагно из великой пьесы Ростана, который, к сожалению, давно и без нас съели. В дорогу бисквитов не напасешься, а таежная галета из кедрового ореха с ячменем — штука сытная, но не для всяких зубов. Нечего их на меня, кстати, скалить — я тоже умею.
Нуте-с.
Заходящее солнце светило в лица путникам, с трудом вскарабкавшимся на заросший гнилыми елками откос. Путников было трое: высокий, немолодой человек в широком плаще, с непокрытой крутолобой лысой головой, — но без какого-либо багажа; столь же высокий, но еще и какой-то инфернальный старик в натянутом на глаза капюшоне, с торбой за спиной и единственным предметом в руках — скрученной на маркшейдерский манер лозой, извергающей снопы искр вроде бенгальского огня, — а следом шел третий странник, несколько отставший от двух первых — молодой богатырь с плечами в киммерийскую косую сажень, однако увешанный таким количеством тюков из оленьей кожи, что сама фигура его исчезала среди них, равномерно покачивающихся в такт каждому шагу: тащил на себе молодой богатырь разного барахла полтонны, никак не меньше. Взгляд первого странника выражал глубокое внимание ко всему сущему в мире. Взгляд третьего был полон слезами юного страха, хотя ноша при этом, для нормального человека невозможная, просто словно бы и не существовала, — только сапоги в землю норовили уйти прямо до слоя вечной мерзлоты — вершка на три, стало быть. Взгляд старца был скрыт капюшоном, но едва ли выражал что-то, кроме напряжения: именно старец с помощью своей сыплющей искрами лозы искал в земле некое одному ему известное место.
— Ну вот здесь же, здесь… — бормотал старец из-под капюшона, — ну вот здесь либо хвост, либо голова, а вообще-то и то и другое… Да нет, точно, тут они должны быть! Куда им деться? Он же древний, он же и не елозит почти…
Земля внезапно дрогнула и вспучилась небольшим горбом. Старец с неожиданным проворством отпрыгнул, осыпая землю и гнилые елки потоком бенгальского огня.
— Это что-то не-то, — сказал высокий и лысый, — Это, Мирон Павлович, слишком маленький бугор. Должен быть сразу три-четыре сажени, а тут и одной нет…
Старец ответил что-то длинное, в одно слово — видимо, просто выругался по старокиммерийски. Лысый академик не смутился.
— Вы, Мирон Павлович, хотели, наверное сказать — далее воспоследовало похожее, но чуть более длинное слово, — Согласитесь, что «туббале эбессу» означает «спрячь куда-либо для надежной сохранности»; вы же скорей имели в виду «засунь себе», а какая же в таком месте сохранность?..
Старик в ответ просто зашипел. Это почему-то возымело действие, и горб земли вырос сразу втрое, из него появилось нечто вроде гибкого древесного корня, яростно извивающегося в воздухе и старающегося хлестнуть лозоходца. Самый конец корня обвивался вокруг небольшого предмета, — свет заходящего солнца, сверкнув на хромированных частях того, чем размахивал корень, позволил неоспоримо опознать в этой вещице подзорную трубу цейссовского производства — старую, но отнюдь не музейную.
— Хвост выплюнул… — в ужасе прошептал старик под капюшоном. — Истинно выплюнул, хвост истинно…
Рядом с первым горбом земли выперло второй — сразу на две сажени, не менее; горб тут же лопнул — и появился из него в точности такой же чешуйчатый и толстый корень-хвост, как из первого. Нечего и угадывать: второй хвост концом обвивался вокруг еще одной подзорной трубы — разве что видом она была пошикарней: этакая адмиральская труба, может, лично господина адмирала Макарова, из-под Цусимы, или даже лично господина боярина Калашникова, упокой Кавель его мятежную и скорострельную душу.
Покуда хвосты, извиваясь, отряхивались от земли, при этом явно примериваясь — то ли начать друг на друга в подзорные трубы грозно взглядывать, то ли поступить более естественно и подраться ими, как простыми дубинами, — тройка путников отступила по склону вниз. Где-то за их спинами в воздухе дрожали очертания старинного города, поставленного на сорока островах посреди великой реки в незапамятные времена. Однако солнце садилось, хотя, по летнему времени и приполярной широте, оно еще долго могло заниматься тем же самым без видимого успеха.
— Мирон Павлович, как могло оказаться у Змея два хвоста? Он же ленточный, пастью вцепился в один свой природный — и вроде бы никак иначе? — Академик смотрел на старца-лозоходца с откровенным укором: словно тот скрыл от него какую-то важную часть истины, и вот из-за этого-то и не получается продолжение путешествия на запад, в Великое Герцогство Коми. Старик угрюмо сплюнул, не откидывая капюшона, и опустил лозу.
— Поживи с мое, академик… Это не хвост вовсе! Это червеобразный… как его… ложнохвост-аппендикс, во как! И второй такой же. Они теперь друг на друга будут лучи испускать через трубы, надсмеются над нами, оборвут друг другу уши — а нас ни в какую не пропустят… Нет, в другой год идти придется — Змей-то в земле как сосал свой основной, так и сосет… Ой, не даст мне теперь кирия Александра ни жизни, ни деревянного масла — а про их сиятельство уж лучше помолчу…
Между тем по откосу вскарабкался еще один старик. Этот был статен и высок, борода, тщательно расчесанная, шла ассирийской волной. Кроме двух небольших рюкзаков, по одному за каждым плечом, поклажи при нем не было никакой; большие пальцы рук держал он за широким поясом оленьей кожи. Еще не успел новый путник приблизиться, как младший в группе, истинный богатырь, спешно скинул наземь многочисленные тюки, а потом и плащ. Чистого весу в парнишке было за десять пудов, а бугры мышц выпирали из-под пестрой рубахи почти карикатурно.
Не спрашивая разрешения, не обращая внимания на оклик из-за спины — «Варфоломей, куда?…» — парень бросился к затеявшим дуэль хвостам и схватил каждый, разводя в стороны — причем сперва хватка его была хвостам вроде как по барабану, потом хвосты одновременно дернулись — и стали расходиться.
— Варфоломей, ремня на тебя нет!..
Варфоломей вошел в раж. Он скручивал ложные хвосты, стараясь вырвать их вовсе, понимая, что если выход из Киммерии не состоится, виноват будет именно он — потому что ни жена, ни пропавший где-то во Внешней Руси брат, никогда не поверят, что он со своей идиотской силушкой не смог уломать Змея. И сам он, младший гипофет Варфоломей Хладимирович Иммер, в это тоже не поверит. Он воровал каменные статуи, он таскал на руках лошадей и в одиночку ставил корабельные мачты из железного кедра, киммерийского дерева-эндемика, чья древесина тонет в воде — и чтоб он да остановился перед какими-то жалкими хвостами, похожими на клистирные трубки для слонов-переростков! Каждый хвост уже был скручен не менее чем на полный оборот, оба подзорных трубы нещадно молотили Варфооломея по голове — но он нутром чуял: не устоят против него, падлы. Западло! Слабо! Слабо-о-о!.. Правый хвост был вырван с корнем и отброшен далеко за спину, — Федор Кузьмич и академик с интересом склонились над извивающейся трехарщинной змеей без головы. Академик с осторожностью подобрал подзорную трубу.
Между тем второй хвост сопротивлялся сильнее: он обхватил плачи богатыря, сдавил их, неустанно молотя его по макушке свой подзорной трубой — не иначе, лично адмирала Калашникова, не иначе. Варфоломея это лишь приводило в дополнительную ярость: он медленно наворачивал себе на плечи неохотно выползающий из земли хвост, он сам себе служил рукоятью кабестана, и хвост, кажется, уже и рад был бы его отпустить — но в парне проснулся берсерк. Он зубами вцепился в сухую чешую под самой подзорной трубой, — однако схватке все не предвиделось конца.
Выкликнув непонятное — и очень длинное — базарное ругательство, на помощь парню бросился старец в капюшоне, сотрясая лозой, источающей поток голубых искр. В этот миг хвост не выдержал и оторвался, — в нем было не меньше десяти саженей, и почти все они оказались намотаны на тело Варфоломея. Богатырь покатился вниз к реке, разматывая дергающееся щупальце, дико вращая глазами, зубами вцепившись в никель подзорной трубы. Последний из странников, величавый старец, подошел к парню и аккуратно разжал ему зубы с помощью заранее, видимо, приготовленного для таких случаев деревянного клина.
Академик, понимая, что сейчас каждые руки на счету, быстро собирал раскиданную богатырем кладь. Богатырь постепенно приходил в себя. Старец-врачеватель одной рукой держал голову Варфоломея, другой вертел подзорную трубу. По ободу шла ясная чеканка: «Собственность сиятельного графа Пигасия Блудова». Наконец, человек в капюшоне добился своего; из земли вывернулась шестисаженна голова Великого Змея, с трудом выплюнула основной, навеки заглотанный хвост и проскрежетала на старокиммерийском:
— Шпашибба… Палиппы удаллиллл… шавсем замущщилсса паллиппами…. Заккаввеллллираввалли воффсе…
Голова змея, шипя, уходила все выше. Путь в о Внешнюю Русь, в Великое Герцогство Коми, снова, как и три года назад, был открыт. На этот раз Киммерию покидали трое: президент академии киммерийских наук господин Гаспар Шерош, младший гипофет Старой Сивиллы Варфоломей Хладимирович Иммер и почетный гость Киммериии, лекарь Федор Кузьмич Чулвин. Им требовалось выполнить наказ кирии Александры: отыскать пропавшего во Внешней Руси гипофета Веденея Иммера, а заодно понять умом эту самую Русь и рвущую ее на части Кавелеву ересь.
Академик, лекарь и богатырь-гипофет спешно, следуя инструкции, подхватились и рванули прямиком на заходящее солнце, а Вергизов задержался возле Змея. Он скинул с плеча бурдючок с яшмовым маслом и обильно полил из него места с корнем удаленных полипов-кавелитов. Сильно зашипело, к небу поднялся густой и ароматный дым. Змею, очевидно, было больно, но он терпел и не дергался; дернись он сейчас — и Рифей-батюшка, того гляди, из берегов выплеснется. Шутка ли — две тысячи верст древнего тела за последние годы там и сям заросли двойными, вечно избивающими друг друга бородавками, которые Вергизов прозвал «Кавелитской плесенью», а как называл их сам Змей — боязно было спрашивать. Змей подхватил совершенно человеческую болезнь и теперь хворал, и лишь прямое удаление бородавок с помощью сока сектантской травы «чистозмей» и последующей обработки пораженного места вечнокипящим яшмовым маслом с Верхнего Рифея, помогало. Обходчик на все тысячи верст его тела был один — Вергизов, и нынче все его время уходило на выжигание этих бородавок. На этот раз старец, впрочем, чистозмейный сок сэкономил благодаря идиотски огромной силище Варфоломея. Сам Мирон был не хилого десятка, но такую гадость руками едва ли вырвал бы.
— Откуда они все берут? — бормотал Вергизов, выбираясь из маслянистого облака и поспешая за учеными людьми к своей сторожке, — Откуда? Вот — две подзорных трубы… Ну понимаю: против Эритея они парой мамонтовых бивней бились. Возле Усынина Следа — парой кладенцов, видать, один Дубыни, другой как раз Усыни, да все одно труха и ржавчина. Против Левого Мебия на кедровых стволах дуэль устроили, против Криля Кракена — отрастили каждый по рачьей клешне, и давай лупцеваться. Но где ж они трубы-то подзорные спроворили? Ведь если одна — господина графа Пигасия Блудова, дай Змей ему много здоровья, так другая, вымолвить страшно — должна лично быть его сиятельства графа Сувора Палинского, а это ж скандал на весь Рифей, бобры засмеют…
Мирон Павлович Вергизов, Древний среди Древних, с незапамятных пор нес тяжкую службу Змееблюстителя, хотя выполнял еще и множество менее важных обязанностей; в частности, один раз приблизительно в четыре двенадцатилетия требовалось разомкнуть с помощью гамма-излучающей лозы голову и хвост Великого Змея, дабы посланный во внешний мир киммериец, облеченный поручением архонта пойти и понять Внешнюю Русь умом, мог выйти на запад: возвращался такой бедняга обычно через год-другой по обычной офенской тропе через Лисью Нору, и до конца жизни уже ничего не делал, кроме как объяснял всем прочим киммерийцам — что есть новая, изменившаяся Русь. Сама Киммерия почти не менялась, две, три декады лет обычно все с объяснениями такого странника сходилось, а потом перемены накапливались, и все повторялось заново — приходилось слать нового познавателя Руси. Поскольку декадой в Киммерии называлось двенадцатилетие, то обязанность эта была у Мирона одна из самых необременительных: всего-то два раза в столетие.
Однако на этот раз что-то случилось. Шел уже четвертый год с момента ухода во Внешнюю Русь гипофета Веденея Иммера, толкователя снов Старой Сивиллы, что на Витковских выселках, — а Веденей не только не возвращался, но и через офеней, единственную надежную связь Киммериона с внешним миром, узнать о нем ничего не удавалось. Архонт Киммерии, благороднейшая душой и телом величественная женщина кирия Александра Грек, решила пойти на экстраординарный шаг, в чем-то даже опасный: она послала на поиски Веденея во Внешнюю Русь новую, специальную экспедицию, состав которой читателям уже довелось узнать выше. Риск заключался в том, что Киммерион разом оставался и без единственного академика Киммерийских наук, и без последнего гипофета. Лекарь Федор Кузьмич вызвался идти сам, но за него, за самого хилого, почему-то не волновался никто: во-первых, он не был коренным киммерийцем, во-вторых, вот уж который раз неизменно как уходил, так и приходил, не старея и заметно не утомляясь. Посылать же за хитроумным Веденеем кого-то иноно, кроме как самого умного киммерийца, то есть академика Гаспара, под охраной самого сильного, гипофета Варфоломея — к тому же приходившегося Веденею младшим братом, просто не имело смысла. Если они не отыщут Веденея, то, интересно, кто иной?…
К тому же понять умом требовалось не одну только Россию. Великий Ленточный Змей, свернувшийся вокруг Киммерии, определял скорость времени в Киммерии, замедляя и убыстряя таковое; обычно время шло с опережением на три месяца, не более, но сейчас положение неприятно изменилось. Змей, говоря по простому, запаршивел. Полипы брали сами себя на измор вечным вопросом: «Кавель — Кавеля?.. Кавель — Кавеля?..» Минуты и секунды застревали в ловушке вопроса, и лишь в краткое мгновение паузы могли проскользнуть обычным путем из будущего в прошлое, поэтому норовили сделать это как можно быстрей. В итоге там, где для Внешней Руси и прочего мира прошло менее шести месяцев, в Киммерии прошло почти пятьдесят. Но болезнь была не своя, не киммерийская, поэтому и лечить Змея и Время предстояло тем, кто окажется снаружи. Веденей пропал. Архиепископ Аполлос вновь благословил. Кирия Александра приказала. Мирон вывел. Путники пошли.
В двух примерно верстах к западу от вечной границы Киммерии, которую своей спиной образовывал здесь, как и везде, Великий Змей, у Мирона была поставлена заветная избушка, где обычно инструктировал он уходящих во Внешнюю Русь познавателей, где порою давал он приют очень уж надорвавшимся на священной снабженческой службе офеням, где лежали у него запасы дров, непортящейся таежной снеди и где всегда имелось немного спиртного на крайний случай. Здесь же находили приют и немногие тайные друзья Мирона — к примеру, известный многим людям и не людям реликтовый, кустарниково-побегучий мыслящий рояль Марк Бахштейн; иной раз появлялся тут в полнолуние и знаменитый призрак по кличке Дикий Оскар, — был этот призрак некогда хорошим человеком и знатным писателем, а теперь прибился к Киммерии и выполнял по случаю самые неподъемные из поручений архонтов, особенно такие, которые касались призраков и разной другой призрачной, однако досаждающей небывальщины. Здесь, конечно же, был назначен и первый привал для отправленной во Внешнюю Русь нынешней спасательной экспедиции.
Мирон Вергизов нагнал путников на крыльце: бедолаги не решались вскрыть запертую дверь, хотя ясно было, что Варфоломей снял бы ее с петель двумя пальцами. Вечный Странник достал шестивершковый ключ, вошел сам и пропустил всех внутрь; уже сильно стемнело, хотя приполярный день сменялся в августе на некое подобие ночи лишь очень коротко; видимо, сейчас дело шло к полночи. Мирон достал керосиновую лампу, влил немного яшмового масла, чиркнул о подошву спичкой и стал подравнивать фитили. Гости тем временем кое-как разместились, и жалобно, почти предсмертно задышала, затрещала лавка под каменной задницей богатыря.
Загремели выкладываемые на стол термосы, каждый — истинное чудо киммерийской работы, полый мамонтовый бивень с выдутой по форме изгиба колбой, с притертой пробкой, вырезаемой традиционно из того же куска кости, что и сам термос. Застучали сухие галеты, зашуршала сухая мушмула из пакета, врученного Варфоломею женой при расставании. Вообще-то на сексуальной почве у Варфоломея в связи с неукротимой его силищей был каждый второй месяц с женою развод: баба его, не выдержав очередной поломанной кровати, сбегала к родителям. Но проходил еще месяц, огорчения забывались, и любящие супруги воссоединялись на Витковских Выселках. Стал разворачивать что-то, тоже от жены при расставании полученное, академик киммерийских наук Гаспар Пактониевич Шерош. Федор Кузьмич, холостой медик экспедиции, раскурил трубку. А сам Мирон Вергизов, заранее прибавив света в лампе, чтобы театральный эффект был сильней, откинул капюшон и впился в лица зрителей: он обожал это мгновение, обожал испуг и отвращение в глазах путников, представая им в истинном своем, опаленном огнями Верхнего Рифея, облике. Бывало, что и вскрикивали гости. И хуже тоже бывало, особенно в былые времена чувствительности и сентиментализма.
Ничего, однако, не произошло: Федор Кузьмич вообще не глянул в сторону Вечного Странника, академик глянул, но всего лишь с интересом, а богатырь посмотрел на Вергизова с сожалением, что-то вроде «эк угораздило тя, болезного…». Сценический эффект пропал даром, и Вергизов обиделся.
Булыжник за пазухой для ближнего на подобные случае у него всегда был тут как тут.
— Рискованные вы люди, — начал он, — Самоуверенные, чтобы не сказать — жестоковыйные. Как осмелились вы оставить Киммерию без единого человека, который свободно говорил бы на родном языке? Ведь если и ваша экспедиция не вернется из Руси, то вся сумма знаний Киммерии, все творения великих киммерийских бардов, древних и новых, некому будет не то что оценить — их некому будет просто прочесть!
Действительно: старинным, сложным, одновременно и громоздким и гибким старокиммерийским наречием, принесенным древними киммерийцами с исторической родины — из Крита ли, из Египта ли, а то и вовсе из Атлантиды, — владели в совершенстве во всем Киммерионе и окрестных весях лишь гипофеты, толкователи бреда, извергаемого малограмотными старухами-сивиллами, да академики киммерийских наук. Ныне Киммерию покидали последний гипофет и последний (вообще-то единственный) академик: древний город на сорока островах оставался без носителей родного языка, оба гипофета, и старший, Веденей, и младший, Варфоломей, не успели обзавестись сыновьями, стало быть, по традиции, прорицания дальше могли иметь место, но понять их стало бы — в случае гибели обоих — уже некому. А знавший язык лучше них всех, академик Гаспар Шерош, так тот и вовсе никого ничему и никогда не учил, только сам знай учился, учился, и еще раз всю жизнь учился.
Вергизов победно обводил гостей глазами — уже в который раз, когда старец Федор Кузьмич выпустил облако душистого виргинского дыма, и со всей возможной вескостью ответил:
— Это серьезное упущение, Мирон Павлович. Это значит, что лично вам придется в самом скором времени, не позднее чем, скажем, завтра, набрать группу учеников и заняться преподаванием им этого столь важного для Киммерии, столь драгоценного наречия. В самом деле, должны же киммерийцы читать киммерийских авторов в оригинале!
Вергизов как-то в пылу ядовитой обиды забыл, что на упрощенных формах языка древнего Кеми в городе ругаются решительно все рыночные торговки, из которых с годами порой — в случае известных провинностей — получаются недурные сивиллы, — а уж о том, что на этом же самом языке с Великим Змеем не далее как нынче вечером беседовал он сам, не подумал вовсе. Мирон Вергизов отлично знал подлинные имя и фамилию Федора Кузьмича — и мог не сомневаться, что надлежащие инструкции по набору групп ускоренного изучения старокиммерийского языка, по его преподаванию и по многому такому, чего не видал он и в страшном сне, он в ближайшие дни, а то и часы, он от архонта кирии Александры Грек получит. И поди откажись. И начни доказывать, что ты не человек вовсе. Минойский кодекс для всех един, и подпадает неподчинение воле архонта под знаменитую трехсотую статью этого кодекса: «А ежели еще кто какое преступление учинит, тому смерть, либо же, по долгому размышлению, простить вовсе, но на тот случай никогда более не ссылаться»; все знали формулировку именно до этого места, но имелось ниже еще и продолжение самыми наимельчайшими буковками; «…а будет на то воля архонта — так изгнать преступника из Киммерии вовсе». Изгонять единственного в Киммерии пограничника за пределы страны — с кого такое станется? Увы, кирия Александра Грек — женщина властная, и с нее станется что угодно.
Мирон взял вежливо протянутый академиком термос, отвинтил пробку и по-древнему, не касаясь краем сосуда губ, влил себе в горло полчашки жидкости. Ну конечно, всегда один и тот же напиток, но зато какой! Горячий клюквенный квас-теремник, густой от частичек болотной ягоды и от пряностей. Секрет этого напитка не сохранился нигде, кроме Киммерии, но уж зато Киммерия дует его круглый год и по любому случаю, хотя традиционно считается, что напиток этот особо хорош для бани и для долгой дороги. Мирон полагал, что он хорош когда угодно, и был в этом не просто киммерийцем, но человеком до мозга костей, — многое человеческое было ему не только не чуждо, но доставляло радость, хотя в точном смысле слова Мирон Павлович Вергизов человеком все-таки не был, он принадлежал к расе Вечных Странников.
Небо над сторожкой Вергизова потемнело настолько, насколько это вообще возможно близ Северного Полярного круга в августе. Восточная, самая темная часть неба темна была вдвойне: там дремал хребет Киммерийский Камень, местная, очень высокая часть Уральских гор. Сейчас он был закрыт густой дымкой, и едва были видны шесть особенно высоких Камней — пять пустых вершин и одна двойная, по имени Палинский Камень, увенчанная замком его сиятельства графа Сувора Васильевича Палинского. Сам раскинувшийся на сорока островах посреди полноводного Рифея град Киммерион отсюда был невидим, его прочно скрывала магия Змея, и даже вечно алые огни самого западного из островов, банной и кладбищенской Земли Святого Витта, оставались незримы. Для внешнего наблюдателя Киммерия просто не существовала. А Великий Змей, облегший ее, к тому же был болен, и время в Киммерии необратимо обгоняло то, которое оставалось на Руси.
Топот трех деревянных ног раздался с крыльца, одна из них загрохотала в дверь сторожки. У Вергизова отлегло от сердца: изо всех существ, связывавших Кимммерию и Русь, бродячий кустарниково-кабинетный рояль Марк Бехштейн был ему ближе и понятней прочих, ибо лишь он один Вергизова не боялся совершенно. Посылать к двери академика или старца Федора Кузьмича было невозможно, а Варфоломея опасно, под ним и без того лавка скрипела свою лебединую песню. Пришлось Мирону отворять дверь самому. Марк вломился шумно, положил две передние ножки на плечи Вергизова; так хороший пес приветствует хозяина, да только у пса сзади две ноги, а у Марка там была только одна, да и та, как и все прочие, деревянная и лакированная. Но зубам, точнее, оскаленным в улыбке клавишам Марка могли бы позавидовать даже Черные Звери чертовара Богдана Тертычного, не говоря о более мелких, не таинственных псах.
В сторожке сразу стало невероятно тесно: три человека, Вечный Страннник и кустарниковый рояль заняли все свободное место. Мирон был хорошо знаком с пятым измерением и легко мог бы раздвинуть стены помещения — но и демонстрировать свои умения людям, пусть киммерийцам, не хотелось, а еще больше боялся Мирон просто осрамиться: ничего не стоило, скажем, раздвинуть стены, но ненароком забыть поднять потолок, — тут-то всю избу и перекорежит, а настоящий квадратурин, с помощью которого такие чудеса творят, нынче был ох как дорог, не укупишь даже у офеней. Словом, пришлось остаться в тесноте, да и в обиде тоже.
Марку приглашения не требовались и угощение тоже, он был рояль вольный, — а то, что иной раз он пахитосы курил, никого не касалось. Не опуская крышки, от субконтроктавы и до самых верхов зашевелились клавиши: минорным, в соответствии с событиями, голосом рояль наскоро поведал последние кавелитские новости Внешней Руси, вплоть до венчания Богдана и Шейлы, вплоть до покушения Музы на Кавеля, — и дошел, наконец, до сути дела.
Рояль знал, куда делся Веденей.
— Богозаводск… — с трудом повторил за роялем Федор Кузьмич, человек наиболее искушенный в российской истории и в географии. — Мещанин Борис Черепегин. Учинил корабль, с помощью служащего ему диавола в образе суки-спаниельки разжился куском чертовой жилы и укрепил ею свое Колобковое упование. Пленил Веденея на большой дороге, ибо признал в лицо — и держит его теперь… в зиндане. Зиндан — это ведь каменный мешок, восточная тюрьма, не так ли, господин Шерош? — академик согласно кивнул, — Откуда на Вологодчине взяться восточной тюрьме?.. Ах, незаконные мигранты обучили… А что ж государь? Как терпит подобное?
Рояль молчал. Он и сам понимал, что настучал сейчас на всех, на кого мог — но какой же честный рояль на его месте вытерпел бы такое?
Молчание прервал, как обычно, академик.
— Из всего вышеизложенного мы можем сделать по меньшей мере два отрадных вывода, — сказал киммериец, — во-первых, Веденей Хладимирович жив, а что сидит заложником, так это на Руси не первый случай. Во-вторых, время в Киммерии нарушилось сильнее, чем мы предполагали. Мы попали в довольно-таки давнее прошлое. Плохо для Киммерии… но хорошо для Веденея Хладимировича. Сколько он у этого… Черепегина… ни сидит, сидит он у него не очень долго. Ну, по крайней мере, ясно, куда идти, что делать и с кем воевать.
Марк издал несколько робких нот.
— То есть как Черепегин?.. Это что ж, тот самый Тюриков?
Да, это был тот самый Тюриков, от которого столько всяческого зла претерпела Киммерия, от посягательств которого пришлось прятать царевича Павла Павловича к графу Сувору, — тот бывший офеня, который неведомым способом угробил не только обитателей монетного двора Римедиум, но который довел до безумия и позорной гибели золотую щуку госпожу Фиш!.. Каждый из присутствующих был зол на этого Черепегина по-своему. Каждый немного разъярился.
Раздался дикий треск: лавка под заелозившим на ней младшим гипофетом Варфоломеем Иммером приказала долго жить. Юный богатырь начал свою месть, как всегда, с того, что сокрушил невинного — в данном случае старинную дубовую лавку.
Однако у Мирона своих забот хватало, что с полипами, что с будущей преподавательской службой.
— Ну вот и будешь на полу спать, богатырь, мать твою…
Рояль издал мощный согласительный аккорд. Прочие тоже кивнули.
И было ранее утро нового дня над Великим Герцогством Коми. Дождевые облака из далекого Тверского княжества двигались на восток, а киммерийской экспедиции по спасению гипофета предстояло идти на запад — в таинственный Богозаводск.
13
Предстал черт старый, гадкий, оборванный, изувеченный, грязный, отвратительный, со всклокоченными волосами, с одним выдолбленным глазом, с одним сломанным рогом, с когтями, как у гиены, с зубами без губ, как у трупа, и с большим пластырем, прилепленным сзади, пониже хвоста.
Осип Сенковский. Большой выход у СатаныНечто, не имеющее ни вида, ни названия, ни стыда, ни совести, Нечто, могущее быть лишь отдаленно охарактеризовано выражением «какая-то туша», обреченно и отчаянно ломилось через кустарники, коими густо зарос Большой Оршинский Мох, главное приарясинское болото. За тушей гналось другое Нечто, множественное и, видимо, очень страшное — иначе не мчалось бы первое Нечто по болотам прямо на чертоварню к Богдану. Короче говоря, на чертоварню бежал черт: вроде бы как говядина неслась на мясокомбинат.
Беглец с превеликим напряжением последних сил прыгнул из болота, едва не угодил в Потятую Хрень, из которой его уж точно никто не стал бы вытаскивать, перебежал топкую балку, вылетел на поляну перед чертогом и прямиком в него вломился. В чертоге висел невыносимый запах тухлой и одновременно сильно пригоревшей мойвы: Фортунат отдежурил накануне, целиком разделал водянистого и дряхлого летника, — и ушел, а Богдан еще на трудовую вахту не встал. В чертоге находился пока что один Давыдка, двумя руками записывавший в разные амбарные книги всевозможные мелкие детали, инструктаж по использованию второсортного материала, заготовленного за день дежурства бухгалтера Фортуната.
Надо сказать, что дверь в чертог для существа, подобного нынешнему — поменьше слона, но побольше носорога — была тесна, и на обожженных кирпичах, покуда непрошеный гость с воем протискивался, оставались клочья рыжей шкуры и бурой жидкости, в которой Давыдка безошибочно распознал третьей группы ихор, качественный, ибо весьма вонючий. Происходило странное: по человеческой лестнице в чертог ломился черт. Давыдка не успел и заподозрить, с какой целью он сюда приперся, не успел испугаться возможного нападения — а гость, ревмя ревя, уже влез в пентаэдр, скрючился, развесил по бокам щупальца и понурил клюв. Если бы поднятый по тревоге Богдан сейчас примчался с веранды в чертог и присмотрелся внимательно, зрелище ему предстало бы такое: крупный, но совершенно рядовой черт с изрядно поврежденной шкурой и обломленным рогом, вопреки всякому смыслу сладко храпел прямо на месте грядущего своего забоя и разделки. Ничего другого с чертями в чертоге не случалось, тут было место их скорби. Однако нынешний черт, похоже, этим озабочен не был.
Давыдка страшно заинтересовался. Никогда не видел он такого, чтобы черт в пентаэдре появлялся сам: всегда его откуда-то из магм вызывал хозяин, или в удачных случаях того же черта он приносил на руках и в пентаэдр самолично запихивал. То же самое, только дольше, неаккуратнее и с большим усилием, делал бухгалтер. А тут черт сам прибежал. Во дела!.. А ну как с выпоротком?. Летник все-таки, он покрепче вешняка будет, хотя, конечно, зимнику не чета — а все-таки. Вдруг да с выпоротком.
— Ты говорить умеешь? — неожиданно для самого себя спросил Давыдка спящего черта. Тот приоткрыл один глаз и одну ноздрю, выкатил коровье око и уставился на Давыдку. Из ноздри выползла струйка дыма, вопреки законам природы ушла она не вверх, а вниз.
— Слава… Богдану… Чертовару!.. — произнесла ноздря. Черт был клювастый, но двуснастный: выше клюва имелся у него крупный азербайджанский нос; с его помощью черт разговаривал. Кроме одного глаза и одной ноздри весь остальной незваный гость безусловно спал, храпя и присвистывая.
— Слава мастеру, — бездумно ляпнул Давыдка первые пришедшие на ум слова. Откуда было ему знать, что ненароком он произнес правильный ответ на сокровенный пароль той самой организации, которую представлял гость. Глаз и ноздря очень оживились. Видимо, собрата по Единственно Истинной Вере он здесь чаял найти, но в подобную удачу изначально не слишком-то верил.
— А ты кто? — спросил черт. По ошибке вопрос задал он не ноздрей, а глазом, но подмастерье понял.
— А я Давыд Мордовкин, подмастерье чертовара Богдана Арнольдовича Тертычного! — гордо произнес Давыдка, потом покраснел и добавил: — Да ты меня, может, знаешь, меня, когда обидеть хотят, кличут — «Козел Допущенный». Я не обижаюсь. Я двумя руками писать умею и числа разные перемножаю. А ты скажи, ты с выпоротком?
Неспящая часть черта, глаз и ноздря, явно смутились. Черт не знал, с выпоротком он — или нет. Кроме того, он вообще не знал — что это такое.
— А я… — дальше черт выдал серию булькающих и щелкающих звуков, из которых, видимо, складывалось его имя, скорее всего тоже не подлинное, а прозвище. — По-вашему это будет… — последовала вторая серию невоспроизводимых звуков, для человеческого слуха ничем не хуже первой, но цвет глаза изменился; черт сознавался в чем-то достаточно тайном.
— А это что значит такое? — чистосердечно спросил Давыдка, напрочь забыв, что беседовать с чертями мастер запретил ему под страхом вечного изгнания.
Черт подумал, потом ответил.
— Я пресвитер единой и неделимой церкви Бога Чертовара Богдана Арнольдовича Тертычного! Нет Чертовара, кроме Богдана, а я, недостойный и неразумный, пророк его и прах от праха стоп его!
Конец самозваного титула черт выдохнул через ноздрю с такой скоростью, что для Давыдки слова слились в сплошную аллитерацию. Впрочем, тех же самых слов, произнесенных очень медленно и совсем разборчиво, он все равно не понял бы. Однако общий смысл до подмастерья дошел довольно точно: перед ним был не обычный черт, умеющий говорить. Перед ним был черт, умеющий с должным восхищением говорить о мастере Богдане, — а Давыдка Богдана именно боготворил. Это был не просто черт. Это был свой брат черт, отправлять его на разделку было никак нельзя.
Давыдка, хоть и не соображал вовсе, решения умел принимать молниеносные. Нужно было этого черта спасти для пользы самого Мастера. Это ведь не каждый день черт просто говорить умеет — гурии там, не гурии, это все у них могут, а вот чтоб сказать доброе слово о барине из Выползова, об отце родном и мастере!..
— Слушай, ты сюда надолго?..
— Я сюда насовсем, — вздохнул черт, — меня свои же везде достали. Одна дорога осталась — к Богу Чертовару на чертоварню! Если свои не понимают, пусть лучше истинный бог чертей и бесов меня на части разберет и в дело использует.
— Слушай, — деловито сказал Давыдка, бросив записи и привставая, — ты давай перестань так говорить красиво. Ты давай плохо-плохо говори, как водяной, тогда мастер тебя за черта не посчитает. Будешь нам икру метать… — О том, что случилось с водяным Фердинандом, на чертоварне знали, не всё могли понять — но жалели его и сочувствовали ему. Шейла даже хотела Потятую Хрень переименовать в Хрень им. Икрометного Водяного Фердинанда, но Богдан запретил, чтоб соблазну меньше было. Ишь, обрушил всю запруду вместе с мельницей, так от жалоб мельника теперь продыху нет: лишили его средств к существованию. Хотел Богдан предложить мельнику идти в водоем икрометчиком, предложил мирно, как человеку, а тот возьми да заверещи, да помчись из Выползова на Арясин. Хотел там в электричку на Москву сесть, — так сколько раз садился, столько раз поезд у моста с рельс сходил. Запретили ему, — Арясин не выпускает, бывает такое, — предложили место, одно, потом другое, даже сторожем на китайское кладбище соглашались взять — а мельник ни в какую. Сидит в недославльском землячестве, дует луковую сивуху задарма, и жалуется, паскуда, на Богдана. Ох, дожалуется…
— Я икру не смогу, — грустно сказал черт, — я ж настоящий…
Давыдку прихватил приступ отчаяния. Он взлетел на верхнюю площадку лестницы. Он-то знал, куда и как жаловаться, кому челом бить. Он решил твердо: может он, Давыдка, и Козел Допущенный, может, и не знает столько слов, сколько индийский скворец — но такого, чтобы истинный почитатель таланта Великого Мастера Богдана пошел на мыло, допустить не имеет права.
Мобильного телефона Давыдке по чину не полагалось, но таковой имелся в моторизованной кибитке Матроны Дегтябристовны, которая стояла в лесу сразу за Безымянным ручьем, — в общем, совсем близко. Туда Давыдка и рванул, причем преступным образом забыл закрыть надломленную дверь чертога.
Утро между тем вступало в свои права, Богдан на веранде проснулся, втянул воздух, помянул всех раздолбаев-работников и задушевно и матерне, накинул рабочую куртку и пошел трудиться.
Увидев сломанный косяк двери в чертог и саму дверь, повисшую на одной петле, чертовар пришел в ярость. Поддерживать порядок в чертоге после обстрела крылатыми ракетами было и без того трудно, а работать нормально — почти невозможно. Жизнь в деревне всегда немного затруднительна: хоть в любом сельпо и лежит сорок сортов колбасы, однако же за каждым стержнем для реактора приходится мотаться в Москву. Монокристаллические перчатки тоже на костопальне не произведешь. Чинить же косяк с помощью пасынка Савелия — себе дороже будет. Ну, и тому подобное, мелочь на мелочи — и нарастает снежный ком, готовый тебя убить. Бороться с таким делом можно деньгами, но только весьма большими, увы. Обычно у Богдана деньги были, только очень уж поиздержался чертовар на несостоявшуюся китайскую войну, а удар крылатыми ракетами по унитазному пентаэдру свел на нет всю тещину материальную поддержку. Неполадки, неустройства, неудобства были для Богдана вроде шила в некотором месте; перенести такой жизни чертовар не мог, и ходил целые дни раздраженный — не подступишься.
Однако краем глаза Богдан заметил: плесень в пентаэдре уже заготовлена, хотя сортность с первого взгляда не определишь — но видно, что хоть крупная плесень. Фортунат оставил?.. Наверное. Другого объяснения Богдан даже искать не стал. Ему как-то по барабану было — с чего шкуру сдирать, на что натягивать. А хоть бы и на барабан. Но косяк-то поломан!.. Впервые в жизни ощутил Богдан неуют от нехватки рабочей силы. Прикинул в уме — кого лучше будет попросить доброхотно помочь. Нет, не Амфилохия — тот уже платил в этом году дважды. Не Петровку — с той расчет другом детства, Кавелем, аж по конец декабря вышел. Не тёщу — она и без того на приданое выложилась. Неужели безоар продать придется? У Богдана насчитывалось их теперь тринадцать, но расставаться даже с одним было непомерно жалко.
Богдан удивился отсутствию Давыдки и пошел на веранду, где забыл мобильник. Сел к столу, набрал номер, попросил жену приехать вместе с парой наиболее мастерущих мужиков, кто в санатории есть, — можно, к примеру, на починке дверей еврейского акробата испытать, — заодно пусть Кашу привезет, пусть еще разок на работу посмотрит, раз ему это интересно, а заодно… Богдана осенило. Быстро свернув разговор с Шейлой, он позвонил Верховному Кочевнику: если уж и продавать безоар кому, то царю. А владыка Орды — все-таки как бы заместитель царя по кочевой части, как бы унтер-царь, если выражаться поточнее. Ответил по мобильнику, конечно, слуга-боливиец, но Богдан был не гордый и согласился поверить, что все передаст верный Хосе своему таинственному господину.
Давыдка, рыдая, вполз на веранду. Ничего понять в его речи было нельзя, кроме того, что ему кого-то жалко. Не иначе как опять плесень просит пожалеть. Ну когда у дурня дурь пройдет? Богдан плохо знал «Протоколы мудрецов школы Пунь» и лишь подсознательно мог нащупать смысл таких истин, как, например, «Истинный лжец должен следить за тем, чтобы его вранье содержало возможно меньше брехни». Однако давно понял Богдан, что Давыдка есть орган дури, а дурь есть функция Давыдки. Ну, пусть болтает с плесенью. Знай Богдан, что нынешняя плесень до того пленила Давыдкино сердце, что Мордовкин уже и у Шейлы Егоровны в ногах поваляться успел, и у Матроны Дегтябристовны, никакого спокойствия чертовар бы сейчас не испытывал. Никогда не поверил бы он, что плесень может обладать каким-то пониманием чего-то; так обычному человеку немыслимо представить, к примеру, равноправный теологический диспут с котлетой за семь копеек — с той самой, которую в народе еще в предимперские времена называли «микояновской». Сравнение-то довольно точное — котлету, чай, при советской власти тоже из плесени делали, пусть из совсем другой, обычной, но страну эта плесень все-таки от голодной смерти спасала, даром что рецепт ее, невкусной и нездоровой, нынче утрачен. Не зря она молчала, может, она была секретный двадцать седьмой бакинский комиссар и двадцать девятый герой панфиловец, а все-таки не выпячивалась!..
Однако покуда сын непальского воина и советской медсестры печально размышлял о ветхости всех земных косяков, оный окрестный мир стал переполняться шумом и жалобами. Просто встать на рабочее место да и заняться спокойно своим привычным делом сейчас чертовару не удалось бы никак. Ибо воздух близ чертога постепенно начинал дрожать, терзаемый разными лишними звуками: громовым блеянием Белых Зверей, истерическим лаем Черных, — они проснулись, почуяв бегающее Нечто, — кукареканьем обезумевшего Астрономического петуха, равно как и хрюканьем, лязганьем, скрежетом зубовным, щелканьем, цыканьем, хрипением, а еще к тому же и тысячами звуков, которым нет названия в русском языке, — причем откроем читателю тайну, что для двух или трех из этих звуков нет названия и в старокиммерийском наречии. Незримые до времени преследователи не желали так вот за здорово живешь отдавать Богдану его законную чертоварскую долю. Богдан хотел замкнуть пентаэдр и пойти навести порядок — но это оказалось уже сделано изнутри. Прежде, чем заснуть, клювастый однорогий аккуратно запечатал себя в герметическом пространстве, куда имел доступ лишь сам Богдан да в лучшие часы своей мойвенной злобы — Фортунат. Богдан зло махнул рукой, отчего пентаэдр перевернулся, но черт этого не заметил, наставил единственный рог в точности по направлению к центру Земли, продолжая богатырски храпеть, — и вышел наверх. За ним, удивленно хлопая глазами и все время оглядываясь вниз, рванул и Давыдка.
С севера, со стороны бескрайних Мхов, Болот и Хреней на поляну перед чертогом надвигалось плохо зримое простому глазу войско «плесени», — десятка три-четыре разнокалиберных особей, как с удовлетворением отметил Богдан. Он вскинул обе руки; привычно полыхнуло желтое пламя, и непрошеные гости все до единого оказались гостями дорогими и желанными, ибо трюк с превращением гусеницы в куколку с годами удавался Богдану все лучше, в неустанных тренировках росла его каталитическая сила. Завываний и прочих звуков в воздухе поубавилось, но не слишком. Богдан щелчком пальца отогнал яков, змеиным шипением успокоил собак, мысленным приказом выключил петуха, но этого оказалось мало. Родную, венчанную и законную жену Богдан так просто успокоить не мог. А она стояла сейчас на капоте выехавшего из лесной чащи темно-серого мерседеса — и орала на Богдана. Орала она всего одну короткую фразу, но повторяла ее до бесконечности. Кроме этого над поляной десятками кружили деревянные журавли. Над ними, как и над женой, Богдан власти не имел.
У дверцы мерседеса стоял, опираясь на высокий посох, спокойно курил глиняную трубку один из немногих людей, которых Богдан по-настоящему уважал — Кавель Модестович Журавлев, глава задержавшейся на Арясинщине из-за долгих дождей и множества свадеб Журалиной Орды. Мерседес, как понял с удивлением Богдан, был из его личной упряжки: эта темно-пепельная масть, именуемая чагравой, была присвоена на Руси только личным машинам императора, да еще узурпирована Журавлевым, — надо думать, тоже с молчаливого соизволения царя, а то не жилось бы журавлевцам столь привольно, за меньшие провинности государевы тиуны могли подвесить яйцами к космическому кораблю, да и запустить на орбиту.
Богдан вдруг понял, что же такое орет его жена.
— Не смей забивать! Не смей забивать!
Чертовар ушам не поверил, подумал, может быть, Шейла кричит «Не смей забывать», собирается уезжать и готовит ему семейную сцену — но и повода к таким воплям в их размеренной жизни не было решительно никакого, и с произношением у Шейлы, даром что по отцу она была из хайлендерских шотландцев, все обстояло в порядке.
— Не смей забивать!..
Богдан потерял терпение: случай вообще-то совсем невероятный. Но только он хотел тоже заорать — Журавлев выпустил из ноздрей виргинский дым, передал глиняную трубку верному боливийцу Хосе Дворецкому, и тихо заговорил. Так велика была воля этого человека и так велик его авторитет, что и Богдану захотелось послушать.
— Человек не верит — его дело, но и веру надо уважать, и неверие. Думаешь, черти плесень? Пусть плесень, а из плесени баро Флеминг пенициллин сделал. Много от плесени пользы. А ты все варишь ее да кожу с нее снимаешь, хвостовой шип по счету складываешь, плесень — шип, плесень, шип…
— Ничего подобного, — возмутился Богдан, — Бывают и с двумя шипами, и с тремя. Вон у меня сейчас двушипый сидит — Фортунат с вечера заготовил…
Шейла спрыгнула с капота, лицо ее посветлело. Голос ее, помолодевший лет на тридцать, звенел на весь уезд:
— А ну подать сюда Фортуната!..
Покуда принявшего свою снотворную дозу бухгалтера будили, Богдан из рассказов окружающих кое-как понял, что черт, спящий у него в чертоге вверх копытами — отнюдь не подарок Фортуната. Это был черт никем сюда не званый, о таких Богдан и помыслить не мог, — а вот Кавель Журавлев, кажется, вполне понимал — что и откуда. Ничего удивительного, при цыганском образе жизни человек много знаний собирает, а вещи при себе хранит только самые редкие. «Наитие зазвонное» троеной святости, теплоход «Джоита», теща Богдана Тертычного — вот и все пожитки вольного журавлевца Журавлева, даром, что звать его Кавелем.
Боливиец выудил из багажника плетеный раскладной стул, подождал, чтобы великий человек расположился на нем поудобнее, подал заново раскуренную трубку. Лишь после этого медленно, глядя поверх всех голов на привычный танец деревянных журавлей, поведал Кавель Журавлев всем присутствующим неслыханную историю. Шейла ее откуда-то знала заранее, из-за этой истории жена Богдана и приволокла главу Орды на поляну перед чертогом — но выяснение, что и откуда прознала жена, решил чертовар оставить на потом.
— Преогромен стал в чертях страх чертоваров, — безо всякого вступления заявил мудрец, — Прознали нечистые, что не в силах они противиться силе неверия господина Тертычного. Что вся их жизнь и вся их смерть — в щепоти великого нового владыки, владыки неслыханного и ужасного им.
— Заливай больше… — буркнул Богдан, но его никто не слушал. Мудрец тем временем глубоко затянулся из глиняной трубки, вернул ее боливийцу и продолжил.
— И пошел дымный слух меж рогов у чертей: а ну как спасение им есть одно: склониться перед господином Тертычным, и все принять от него, что он повелеть и присудить ни соизволь: раз попал ты на разделку — ликуй! Рога свои отпиливателю радостно подставь, хвост протяни с отменным вежеством, пусть его поаккуратнее отрежут, копыта воздень и отдай на разварку в клей, кишки сам приготовь, лишнего перед смертию не жри — пусть великий маэстро из них струны сделает, пусть возбряцается на кишках твоих мощный гимн повелителю чертей! Ибо слабы ныне владыки Ада, а мощен и властен над чертями лишь человек из крови и плоти, такова его сила неверия, что вот и самого Сатану может он пустить на мыло, если будет у страшного чертовара в мыле большая потребность, а Сатана вовремя от всевидящей руки чертоваровой не увернется…
— Всевидящей руки? — с сомнением пробормотал Богдан.
Мудрец укоризненно прополоскал горло дымом. Нашел, право, время и место заниматься редактурой! Тут о тебе самом великая тайная адская легенда чуть ли впервые уху человеческому доступна становится, и туда же… Гурунг, чего с него взять. Но продолжил и дальше.
— Говорят, когда добрый наш хозяин содрал шкуры с первых шести сотен с известным гаком чертей, началась среди оставшихся натуральная бесовщина. Просто черт знает что началось! Истерика, бегство, публичное покаяние тоже вошло в моду, а после него и линчевание покаявшегося очень способствовали тому, что сложился среди чертей особый толк верующих. Нашим языком сказать нельзя, но примерно их название можно передать как «чертоваропоклонники», — словом, поклонение началось нашему доброму хозяину, отправление разных культовых треб, ну, чтобы покороче сказать и поточнее, ничего не известно точно, а вышел среди главных чертей такой ужасный соблазн, что стали почитателей нашего доброго хозяина… ущемлять. Кому просто по рогам дали, тот еще дешево отделался, а кого стали еще подсовывать нашему доброму хозяину… в работу. Вон, обои… в одном важном доме в Москве от плинтуса до потолка на весь второй этаж набиты — всех в одну осень добрый наш хозяин забил.
Ничего такого Богдан не помнил. Ни во что из услышанного не верил. Но хорошо ему было на душе оттого, что Шейла, присев на корточки, слушала мудреца как завороженная, только непослушную слезу иной раз смахивала. Что-то она в этом наверняка экспромтом сочиняемом бреде слышала важное и заветное. Какая-то в этом была сила. Богдан силу уважал: редко она ему вообще-то в других людях встречалась.
— А чертей, поклонников доброго нашего хозяина, набралась к тому времени уже большая толпа, можно вот например даже сказать — сила! И было им совершенно безразлично, попадут они на разделку сюда, или длить свои дни в скуке вечной будут. Однако ж нет возможности никоторому богу быть без пророка. И явился такой пророк среди чертей. — Кавель Журавлев картинно подался со стула вперед, потом пальцем указал в приотворенную, пострадавшую дверь чертога: — Вон, отсыпается. Столько ночей его по болотам гоняли…
— Так это что же, такой пророк-черт? — вопросил, как всегда по-глупому, пасынок Савелий. Мудрец укоризненно глянул на недоросля, но и его глупость счел необходимым просветить.
— Если нужно название, если непременно требуется оно, это вообще-то значит, что оно и не нужно и не требуется. Но если без названия дальше ни тпру, ни ну, — мудрец нежно погладил крыло мерседеса, — то пусть будет пророк. Хотя лучше бы жрец. Он ведь настоящий служитель культа Бога Чертовара! Ну, из храма его ортодоксы поперли, да и храм ему развалили… Богдан Арнольдович, кстати, а ведь ты этих самым ортодоксов уже оприходовал, скажи, будешь их теперь варить?
Несколько пристыженный Богдан глянул на бурые коконы, которыми, словно полукольцом болотных кочек, оказался испоганен пейзаж поляны перед чертогом.
— А что с плесенью делать? Варить ее… и все тут. Кавель Модестович, так что ж мне с этой беглой плесенью делать, она ж у меня во весь верстак разлеглась и дрыхнет, работать негде стало…
Журавлев благосклонно кивнул: вот на этот раз вопрос был вполне деловой.
— Давай думать, Богдан Арнольдович. Если черти, по твоему пониманию — плесень, то этот черт, он античерт, то бишь антиплесень. Он вроде как чертов пенициллин, он, скажем так, антитело. Антитело беречь надо, как в аптеке! Ну, и береги. Все дела.
— Так он, выходит, антибиотик? — Богдан приподнял голову и стал похож на беркута, так бывало, когда мысль начинала ему казаться стоящей.
— Считай так, — кивнул Журавлев, — А поскольку имен у них нет, ты ему имя дай. Как Фердинанду.
Многие присутствующие уважительно кивнули; память водяного обитатели Ржавца и спасенного Фердинандом Выползова почитали.
— Ну, пусть и будет — Антибиотик. — решительно сказал Богдан, — Если коротко — Антибка. Но уж тогда ты, баро Журавлев, мне за него поручителем. Трудные вы люди, вот что…
Первый раз за все время подал голос Глинский. Он смотрел на сцену зачарованно, он уже понял: есть, оказывается, и кавелитствующие черти, хотя в том, что он узнал о странной религии Антибиотика пока имелась только стройная логика и почти никаких фактов, он не сомневался, что и кавелизма там найдется предостаточно — просто иначе никогда не бывает.
— Кавель Модестович, — вторгся он в беседу, — А откуда ты все так точно про чертей знаешь?
Журавлев выпустил облако дыма и лукаво улыбнулся.
— Большой народ вожу по Руси, понимаешь ли. Разное говорят люди, а я их слушаю. Только и всего. А мой народ много знает, фантазирует, правда, еще больше, но в том беды нет, я отличить умею.
Деревянные журавли над поляной сделали что-то вроде одновременного круга почета.
— Лады, годится, — вдруг согласился Богдан, — Если эта ваша плесень еще и ходить умеет, как человек, возьму лакеем. Галунным. Наряжу в мундир из обрезков, пусть природу собой украшает. Пугать кого надо тоже хорошо можно, а то Терзая после мойвиных обосратушек уже и не боится никто… Пусть обороняет.
— Он же поклоняться прибежал сюда. Тебе же поклоняться, соображаешь? — сказала Шейла.
— А это его плесневитое дело. Пусть поклоняется, если умеет. А то может и впрямь антибиотик в хозяйстве пригодится…
Богдан спустился в чертог и перевернул пентаэдр. Свидетелей у его беседы с Антибкой не оказалось, но вышел Богдан из чертога крепко посерьезневшим. Народ в основном разошелся, однако же оба Кавеля и Давыдка стали свидетелями того, как из чертога почти что в позе вежливо торопящегося орангутанга вышел и Антибка. Было ясно, что черт все условия Богдана принял. Во искупление первогреха архангела Люцифера, отказавшегося поклониться человеку, один из малых его приспешников Богдану не только поклонился — он сотворил себе из чертовара кумира и бога. Богдану было по барабану, в конце концов, три десятка консервных туш, которых жрец неслыханной религии приволок за собой, вполне окупали стоимость левреи с галунами, которую предстояло новому лакею шить из чертовой кожи.
Кавель Журавлев тяжело опустился на переднее сидение мерседеса. Тронул Хосе Дворецкого — мол, вперед. И петлистым путем среди ольх и ясеней уже через десять минут был в кибитке.
Вообще-то каждым августом донимала Кавеля Журавлева особая, лишь его народу присущая болезнь — журавлиная лихорадка. Напоминала она одновременно малярию и черную немочь, ту, которую дураки зовут королевской болезнью, а люди безразличные — эпилепсией, она же попросту падучая. Журавлев падать не падал, но температура у него повышалась до безобразия, пот прошибал как раба на плантации и, если б не ежечасный уход верного боливийца, кто знает — был бы на Руси верховный кочевник, или пришлось бы этот титул вместе с чагравыми мерседесами завещать царю, с которым у Журавлева был строгий уговор: никогда и ни за какие провинности не прикреплять народ журавлевский к земле.
Во время приступа журавлиной лихорадки Кавель Журавлев бывал слаб, словно голодная мышь, его мучили судороги, — видеть его в это время не дозволялось никому, и лишь верный Хосе Дворецкий всегда знал — что и как делать. Специальным деревянным кинжалом он разжимал сведенные зубы властелина, по капле вливал ему на язык единственное лечебное средство — густое красное вино, которое «Джоита» неизменно привозила с затерянного в Бискайском заливе острова Ре; он брал на руки слабеющее и до обидного легкое тело чуть живого Кавеля и подносил его к окошку кибитки, стараясь в свете солнца или луны рассмотреть проблеск жизни в суженых зрачках; он заворачивал больного в прорезиненный плащ, предварительно обложив распаренными целебными листьями канадского клена; он сутками баюкал его, дожидаясь — когда же пройдет приступ. Приступ неизменно проходил, оставляя по себе сперва усталость, а потом новый прилив сил, но кроме этого оставалась у Кавеля память о череде видений, посетивших его во время припадка.
Связанный единым безумным крещением попа Язона со всеми своими тезками, Кавель Модестович Журавлев всегда видел в эти мгновения всех еще живых свахинских Кавелей, начиная от бывшего следователя Федеральной службы Кавеля Адамовича Глинского, первого в череде Кавелей — и заканчивая жутким ересиархом Истинных, Кавелем Адамовичем Глинским. Сам он в этом списке стоял на четвертом месте. Увы, за последние годы список сильно поредел — второй, третий, пятый и шестой Кавели, попавшие в руки ересиарха, были им принесены в кровавую жертву своему бреду. Но пока что Кавелей было еще довольно много.
Кавель Иванович Лицын, мастер-инструментальщик при крохотном липецком заводике; Кавель Елистратович Кратов, бригадир артели, обивавшей двери и пороги по городам отдаленного Подмосковья; Кавель Лукич Спящий, врач-дантист, окопавшийся в далеком Владивостоке; Кавель Ефимович Журавлев, двоюродный брат кочевника, полный бездельник и паразит на шее у шестипудовой жены; Кавель Филимонович Федоров, с детства полиомиэлитный инвалид и мастер игры в шашки на Воробьевых горах, самый, казалось бы, доступный для кражи, но надежно защищаемый верной гвардией дедов-партнеров; Кавель Казимирович Глинский, виртуоз аккустической гитары, вечно обретающийся на заграничных гастролях; Кавель Потапович Нечипорович, тоже артист, танцор, единственный на всю тюменскую губернию настоящий виртуоз исполнения ирландской джиги; Кавель Ильич Обиралов, крупный специалист по очистке героина, прижившийся при маковых плантациях на Южном берегу Иссык-Куля в Киргизии; наконец, Кавель Марксэнгельсович Федоров, внук главного коллетивизатора Смоленщины Доната Федорова и профессиональный биограф собственного деда — всего девять Кавелей, кроме самого Верховного Всея Руси Кочевника: номера в списке Кавелей с седьмого по пятнадцатый. Жизнь каждого из них была в той или иной степени под угрозой, но ни за кого так не боялся кочевник, как за бывшего следователя Федеральной службы — единственного полного омонима ересиарха-изувера, единственного, убийство которого грозило Руси и всему миру пресловутым Началом Света — и жизнь которого с недавних пор отвечал кочевник не перед кем-нибудь, он отвечал за него перед государем.
И это было лишь самое малое, хотя весьма важное, из постоянных видений Кавеля Журавлева, приходивших во время припадка. В бреду неизменно подплывал к нему оперенный крышками юной ванессы мобильник, тихо, но противно дребезжал, а потом звучал из него молодой голос высочайшего и вернейшего из государевых людей, графа Горация, и повествовал кочевнику о вещах нужных и ненужных, обыденных и неслыханных: где черное, где белое, где Урим, где Туммим, где валерьянка, где боярышник, что есть липа и что есть драконово дерево, кому на будущей неделе проломят голову, а кому в октябре дадут нобелевскую премию по химии, каковы виды на урожай картофеля в Южной Ливии, сколько псов-рыцарей погибло, прежде чем епископ Альберт догадался основать дли них великий город, именуемый нынче Ригой, каковы были вкусы решительно всех шипучих вод мастера Лагидзе и каковы нынче еретические верования у чертей в Аду. Потом мобильник отключался и Верховный кочевник видел себя на руках верного боливийца с еврейской фамилией и каменным лицом. Потом, бывало, начинался тяжелый сон выздоровления, а бывало, что череда видений продолжалась — причем много раз, покуда сновидец не обнаруживал себя на походной постели в миг выздоровления, всегда чувствуя на языке одновременно вкус бискайского вина и пепла. Кочевник тянул исхудавшую руку в пространство, и верный Хосе Дворецкий всегда вкладывал в нее уже раскуренную глиняную трубку; Кавель делал первую затяжку, и нелегкая жизни главы кочевого народа начиналась вновь.
Припадок мог тянуться три-четыре дня, а мог закончиться и за полчаса, однако субъективно Верховный Кочевник времени не различал, для него в приступ укладывалась очередная вечность. Чуть оклемавшись, он всегда спрашивал — сколько провел в беспамятстве, какой нынче день и час, что случилось важного. Верный боливиец перечислял все требуемое, и не было для Кавеля Журавлева большей радости, чем узнать, что валялся он в беспамятстве не день и не неделю, а всего-то полчаса, час, два часа. Нынешний приступ, воспоследовавший за речью в защиту беглого черта, оказался тоже удивительно коротким — меньше часа. Кавель затянулся густым дымом глиняной трубки, и ясно понял, что такова награда за спасение ни в чем, кроме собственной веры, не виновного однорогого черта Антибиотика.
В чертоге Богдан заканчивал одному ему ведомыми матюгами заклинать Антибку: тот покорно принял необходимость ходить по усадьбе отныне только с разогнутой спиной и в черной тройке из чертовой шагрени, причем не удаляться от чертога далее, чем на тринадцать громобоев, что составляло точное расстояние от мастерской до Потятой Хрени; Антибка был счастлив, на все согласен и только прикрывал когтистой лапищей место на голове, где был обломлен рог. Давыдка уже снимал с него мерку, проявив чудо умственного усилия — он догадался, что в костюме нужно сделать прорезь для толстого, двумя шипами оканчивающегося хвоста. Матрона Дегтябристовна глянула, согласно кивнула и даже название для этой прорези вспомнила: «Шлиц чертов».
Шейла на хуторе Ржавец тоже было занята очень серьезным делом: учила Кавеля Адамовича Глинского доить ячью корову.
Реабилитированный бухгалтер Фортунат спал в своей каморке, для успокоения нервов нарезавшись недославльским полугаром почти до летальной дозы.
Все прочие тоже были заняты делами, присущими им согласно природному их предназначению.
Вечерело. Сперва зажглась на небе звезда Венера, звезда подозрительная, ибо именно ее некогда поместил на свой щит не желавший склониться перед человеком архангел Люцифер — за что и получил не только рога, но и по рогам со ссылкой туда, где нынче оставалось ему лишь дрожать за собственную шкуру, годную на самую тонкую перчаточную лайку.
Потом невдалеке от нее зажглась другая звезда, новая, зеленая, до боли знакомая: звезда Фердинанд.
Потом зажглись и другие звезды, но всех тут не перечислишь, как и обо всем, происшедшем в тот достопамятный август, нет возможности рассказать в этой уже закончившейся главе.
14
Полагаю, что прежде всего следует найти черную дыру.
Роберт Шекли. Божий домКончалась ночь, Черные Звери на Арясинщине готовились ко сну, Белые, напротив, лениво собирались проснуться, настропаленный в астрономической премудрости петух вот-вот должен был кукарекнуть — но это происходило на западе, в Тверской губернии. А тысячью с гаком верст восточней, в несусветно древнем городе Богозаводске младший гипофет Киммериона Варфоломей Иммер намеревался провести большой, фирменный, сугубо эксклюзивный утренник.
Во времена главенства Великого Новгорода в здешних краях старинный Богозаводск с полным правом считался хорошо укрепленной крепостью. Старая часть города представляла собою обнесенный каменной стеной распадок, во всех деталях доступный обозрению с окружающих холмов. Современного человека такое расположение города смущало: что ж это за крепость такая, которая сама себя возможному супостату как на блюде подает? Наводи пушку да стреляй. Но так казалось лишь тем, кто не знал про то, какие тяжкие ядра, да и то с трудом, были способны извергнуть старинные пушки, заряжавшиеся к тому же с дула. Этим ядрам не под силу было перелететь через стены Богозаводска, а пробить их и нынешними средствами оказалось бы непросто. Чай, шесть саженей толщиной, и не кирпич какой-нибудь, а белый камень: сложись история иначе, именовался бы на Руси Белокаменным не престольный град, где нынче белого камня днем с огнем не сыщешь — а Богозаводск. Тут, понятно, перебор: с Москвой бы и Вологда не потягалась, но вот… а ну как… ведь могло же так быть, что не Великий Устюг, а именно Богозаводск считался бы на Руси истинной родиной Деда Мороза?.. Дальше богозаводца обычно прошибала слеза, он принимал стакан-другой без закуски, а наутро спасался капустным рассолом.
Понятно, как во всяком древнерусском городе, каменные храмы некогда ставились тут тесно-претесно, все же прочее, деревянное, так и возводилось в расчете на то, что рано или поздно сгорит оно — не по воинской беде, так по праздничному ликованию. Все деревянное тут исправно горело, наращивая культурный слой почвы, а в самом слое солидно и без спешки понемногу тонули каменные храмы. Храмам тоже доставалось, особенно при буйствованиях быстро забытой к нынешнему времени советской власти, когда чуть ли не все они были снесены, а какие остались — те на скорую руку приобрели «некультовый вид», что в жизни означало снос колоколен и отрубание куполов. Жителям города все эти погибающие красоты спасать было не с руки: озабоченные сохранностью собственной шкуры, вот уже шесть или семь столетий селились они не в крепости, а по большей части на окружающих холмах и за ними, подальше от взора посадника, губернатора, секретаря губкома, райкома, — и от взора нынешнего губернатора тоже подальше. Не слишком полноводная река Преполовень, лениво петляя меж холмов, уносила холодные волны в Северную Двину, награждая раза по два в год местных жителей преотменным паводком, во время которого все то, что плохо лежало и при этом не успело сгореть в последний пожар, превращалось в доброхотную дань Богозаводчины Северному Ледовитому океану.
Однако окончательно городские стены оказались не по зубам ни пожарам, ни советской власти, ни даже горожанам, изрядно поворовавшим здесь белых кирпичей на свои нужды, — прежде всего на изготовление гнёта для бочек, где заквашивалась капуста: исконно второй основной, после водки, продукт питания богозаводцев. Да и церкви в городе частично все-таки остались целы, и уж они-то все, в свете нынешней государственной религиозной политики, спешно вместо некультового вида с помощью реставрации приобретали вид самый что ни на есть культовый, более того, культурно-культовый. Притом реставраторов просили не особо спешить: гораздо быстрее церковь строится, чем студент Державственно-Духовной Академии в далеком Сергиевом Посаде образование получает. Однако на этот счет богозаводцы всегда были спокойны: как тысячу лет тому назад, так и теперь, знали они, что Бог в их краях завсегда «в заводе» — откуда и пошло название города. Впрочем, известный академик математики Савва Морозов с пеной у рта утверждает, что построен Богозаводск только в конце девятнадцатого века, а до того это название принадлежало городу, который нынче безо всякого на то права именует себя «Симбирском», — ясно же, что Симбирском может называться только такой город, который есть исконная столица Симбири; Симбирью же, как показывают математические выкладки, могла называться в России только Старая Гвинея. Там, как всем известно, богов и впрямь куры не клюют, потому что тамошним курам это без надобности.
Кустов, да и вообще достойных упоминания лесных массивов вокруг Богозаводска на семь верст, а то и на семью семь, не имелось: все было повырублено на городские нужды в незапамятные времена. Поэтому в здешних краях проводник Варфоломея, бродячий кабинетный рояль Марк Бехштейн, томился неуютом. И это при том, что здешние места он знал как свои три ноги и двести тридцать струн. Он был хоть и кабинетный, но недоброе чуял за тысячи громобоев. Основным местообитанием Марка была Камаринская дорога, и всю ее, от Арясина до Киммериона, воспринимал он как свой личный кабинет. И поэтому Марк следил тут за порядком.
И Варфоломей, и рояль Марк Бехштейн, и спутники их, старец Федор Кузьмич и академик Гаспар Пактониевич Шерош, на эту ночь обосновались под стеной пригородной полуразрушенной церкви, до которой еще не дошли руки местных реставраторов. Больно мудреная была церковь, пятишатровая, таких на Руси две всего, эта третья, только два шатра делись куда-то, да и никто не знает, во прославление какого святого, мученика или пророка оная воздвигнута. Однако и обычной советской загаженности тут не наблюдалось: опасаясь то ли государевых тиунов в синих мундирах, то ли тиунов митрополита Фотия в черных рясах, нужду здесь нынче справить не рискнул бы даже беглый каторжник. Именно поэтому, отсчитав шагами от церковной стены положенные восемьдесят аршин, Федор Кузьмич и разложил крохотный костерок для приготовления раннего завтрака. Варфоломей, былинный богатырь, нуждался в калорийном топливе для своего неуёмного тела. К тому же нынче этому телу предстояло немалое дело.
Старец ловко орудовал ножом, отправляя в котелок мелкие куски копченой оленины, — он готовил завтрак для остальных, иначе говоря, для себя и для Гаспара. Три первых котелка уже отправились в утробу Варфоломея, который сейчас доедал обычный десерт, состоявший из трех буханок серого хлеба с кипятком. Бехштейн человеческой пищей пренебрегал, хотя его регулярно, приличия ради, и приглашали к столу. Рояль высоко ценил вежливость людей, не просящих предоставить им в качестве стола его крышку, — но и питался чем-то другим. Чем — никто не знал, и никогда у Марка не спрашивал, боясь более всего, что он, того гляди, ответит. Три дня потом не заснешь.
Двор мещанина Черепегина, провозвестника Единственно Праведной Веры, — секты, более прославленной в народе как церковь «Колобковское упование», тот самый дом, в подвале которого по свидетельству Марка Бехштейна томился плененный Веденей, — старший брат Варфоломея, — отыскался в Богозаводске почти сразу, благодаря истинно народной смекалке Марка. Бехштейн, которому бегать по городским улицам было все-таки не совсем пристойно, пустил в ход связи по музыкальной линии, через богозаводских специалистов по Шопену выяснил, кто среди местных извозом занимается, но уже до белой горячки почти дошел, да чтобы и жена была не болтливая, а всего лишь до неприличия жадная — и глухой ночью постучался в указанный дом. Тамошний хозяин говорящему роялю не удивился ничуть, к нему и не такие элегантные являлись, притом те только дрались, а этот просил о деле, да еще платил. Золотом. Профиль царя нынче на Руси ценился высоко.
Марк нанял небольшой грузовичок, владелец которого за три империала в день безропотно провез его по всему старинному центру Богозаводска, останавливаясь у каждого подозрительного дома с вопросом: «Рояль заказывали?.. Нет? Ах ты незадача какая, рояль из Барнаула привез, а название улицы не записал. Дом?.. Да сказывали, большой дом, сразу узнаю — такой, с дверью, с окнами… Так не вам рояль?.. Ну, извиняйте…» Результат поездки не замедлил проявиться: в районе скрещения улиц Святого Кукши Зырянского и Нижней Премноговозвышенной постучаться оказалось буквально некуда, все прилежащие дома пестрели вывесками булочных и кондитерских, торговавших различными видами сахарных, ванильных и других изысканных колобков. Продавались там и пряники, и печенья, и даже меренги, но более всего — колобки. Чуткий слух рояля уловил разговоры покупателей: «Дуля Колобок возрадуйся!..» — и неизменный ответ продавца: «Воистину Дуля!..»
На самом скрещении улиц вывески не было, там стоял одноэтажный дом с большим двором и грозными надписями над воротами, — мол, тут несут патрульную службу в высшей степени злобные собаки. Марк понял, что в этом доме рояль не заказывали уж точно. Получалось так, что именно туда и уходили сахарные колобки в столь невероятных количествах — как в черную дыру. Там-то и радели о приходе Начала Света сторонники Колобкового Упования. Марк Бехштейн расплатился с хозяином грузовика, но попросил по такому случаю сразу же и побольше выпить за здоровье Дули Колобка в близлежащем трактире «Мозес и Пантелей», — незаметно при этом положил его в карман кое-что, магнитофончик пусть покрутится часок-другой.
Именно часок-другой повалялся в одной из городских канав водитель грузовичка, вконец упившись то ли у Мозеса, то ли у Пантелея. Рояль отыскал его, магнитофончик изъял, отслужившего свою службу богозаводца довез на верхней деке до дома и сдал жене: слава те, Кавель, жена была глухонемая. Осторожен был Марк Бехштейн, и никогда не рискнул бы нанять себе слугу иначе как обремененного не только глухонемой женой, но и алкоголизмом, но это и все особенности на тот случай, если бы в придачу могла за слугой выявиться и репутация городского сумасшедшего, которому до всего и всегда есть дело. Марк же от своих дел решительно всех держал подальше, если уж и совпадали его интересы порою с интересами, к примеру, императора всея Руси или же с интересами Великого Змея — это была всегда чистая случайность. Такая же, как и рояль в кустах.
Магнитофончик выдал все богозаводские тайны в два счета. К мещанину Черепегину радеть без сахарного колобка никто не ходил, не богоугодно без него, не богозаводно. А радеть во имя Дули Колобка — «Я от Кавеля ушел, да я до Кавеля дошел!» — колобком заедая, наиболее удобно, ибо и сладко, и сытно, а это важно, потому как по кругу бегая — сильно устаешь. А не бегать… Да кто ж в Богозаводске не бегает во имя Дули Колобка? Все тут, все — корабельщики линейного крейсера «Колобковое упование», а ведет то судно святой человек Борис Черепегин, вон его портрет в красном углу висит.
И про содержимое подвалов Черепегина, где тот приковывал подозрительных странников, и про теологическую сущность упований Черепегина и всего Богозаводска, и даже про то, что в темном углу молельной живет у Черепегина умный бобер Дунька — про все вызнал трехногий хитроумный рояль Марк Бехштейн, из породы кабинетных кустарниковых роялей. Темной ночью через форточку выудил из красного угла «Мозеса и Пантелея» хоть и сильно подретушированный, но настоящий портрет богозаводского святого. А дальше сделал, что и собирался сначала: на трех ногах поскакал в сторону Киммерии по Камаринской дороге. Там встретил экспедицию, сообщил все необходимое киммерийским странникам, мигом опознавшим в Черепегине экс-офеню Бориса Тюрикова. Словом, можно бы и плюнуть на очередное кавелитское гнездо, мало, что ли, их во Внешней Руси — но в подвале Тюрикова определенно сидел узник, старший брат Варфоломея, гипофет Веденей. И руны это подтверждали, и китайская «Книга перемен», и невнятные пророчества предпоследней Сивиллы Киммерийской, — и неясно было лишь то, за какой неведомой потребностью понадобился понадобился Веденей, наряженный обыкновенным офеней, каковых на Камаринской дороге три тысячи, Тюрикову и его Колобковому упованию: чай, даже не Кавель. Но это предстояло узнать потом, а пока что одной из целей путешествия киммерийцев было как раз его освобождение.
Трудность состояла в том, что беглый и преступный Борис Черепегин, в прошлом офеня Камаринской дороги Борис Тюриков, наверняка помнил в лицо известного всему Киммериону академика. Неровен час, мог он знать и старца Федора Кузьмича. Но крайне маловероятно было то, что в молодом бородатом богатыре сумеет он распознать младшего брата своего пленника. В те времена, когда не разжалованный еще офеня бродил по Киммериону и скупал вырезанные из кости шахматы, чесалки для спин и бильярдные шары — вместо того, чтобы покупать молясины, как делает это любой уважаемый и себя уважающий офеня — Варфоломей пребывал в блаженном состоянии домашнего рабства в доме камнереза Романа Подселенцева на Саксонской набережной, носу со двора почти не высовывал, бороды не брил, — не росла еще, — а главное, находился он тогда в совершенно иной весовой категории. Пудов семь тогда весил мальчонка, никак не более. А теперь давно уже зашел за двенадцать — иначе говоря, тянул в старой, давно упраздненной метрической системе мер больше чем на двести килограммов — без единого грамма жира. Сплошные мышцы да борода — чем не богатырь? И сердце какого ересиарха не дрогнет от мысли заполучить эдакую силищу себе в телохранители?
Варфоломей богатырски засопел, забулькал, выхлебывая единым духом последний котелок кипятка: доел, стало быть, теперь по киммерийской привычке нужно было запить еду и помолиться, хотя бы коротко, хотя бы Святой Лукерье, недавно, сказывали, в Греции причисленной к равноапостольным — потому как привела она в лоно православия целый народ. Ну, к делу. Дальше предстояло идти в незнакомый город и пробовать наняться на службу. Однако во всем плане имелся существенный изъян, ибо пальцы рук у Варфоломея были киммерийские, а это уже сколько тысяч лет означает, что они в полтора раза длиннее общегражданских российских. Случалось, бывали и длиннее — к примеру, академик Гаспар Шерош нашел в деревне Большие Бедолаги, что против острова Криль Кракена на правом берегу Рифея ютится, целую семью с такими пальцами, что «Вечерний Киммерион» и фотографию-то печатать боялся. Потом всю семью взяли в новосозданную гильдию игроков на фисгармонии, — один офеня, умом повредившись, две принес из Внешней Руси. Офеню отдали на лечение, а фисгармониям нашли применение. Постановили считать их национальным киммерийским инструментом. И архонт печатью скрепил. Всё! Есть такая гильдия! Были б руки, а к делу привыкнут — дела-то у всех одни, киммерийские дела. Их без длинных пальцев не своротишь.
У половины населения Киммериона пальцы были — жуть глянуть. И, что скверно, Борис Тюриков-Черерепегин, много раз бывавший в Киммерии, прекрасно знал об этом. Поэтому предстояло сперва очень ненадолго втереться к нему в доверие, используя способность пальцев складываться в кулак — ну, а затем работать кулаками и всем, что (или кого) Бог пошлет под горячую руку. В оковах Варфоломей и сам сиживал, было дело. И знал, что оковы — не курорт.
Варфоломей поглядывал на белокаменную стену Богозаводска и думал, что нет, стену такой толщины и ему не прошибить. Аршин, ну, два аршина — а дальше никак. Легко Уральский хребет было бы своротить, он древний и сыплется, а тут добрые мастера трудились, клеевито клали белый кирпич к белому кирпичу на желтках утиных яиц… или гусиных? Издали и на глаз Варфоломей сразу сказать не мог. Стенам было не меньше пяти столетий, хотя горожане твердили, что их стены стоят «тыщу лет», но академик объяснил, что «тыща лет» в России означает просто «давно», а времени толком никто считать никогда не умел и теперь не умеет. Почему? А вот нет на Руси архонтов. Варфоломей с самого выхода из Киммерии размышлял — как же это так, что государство есть, а архонтов нет. Вроде бы не должно такое государство устоять. Однако ж Русь стояла, и вместо архонтов имела императора. Варфоломей утешал себя выношенной в собственном уме гипотезой, что каменную кладку можно делать на желтках утиных яиц, а можно — гусиных. Так вот, наверное, и с архонтами: император тоже для государства годится. Клеевито при нем страна держится. Вот брата вытащить из беды, в которую он неизвестно за каким лешим угодил — и совсем хорошо на Руси будет. Но только ведь еще надо вызволить! Интересно все-таки понять: зачем беглому отщепенцу гипофет. Только и имелось при гипофете ценностей, что два мешка разнообразных молясин да почти свободное знание старокиммерийского языка. Молясины в «корабле» Тюрикова были вполне живые, бегают люди по кругу — вот тебе и Кавели. Нет, просто грабеж — это вряд ли. Неужто понадобился экс-офене старокиммерийский язык? Может, сила какая-то в этих почти забытых, лишь в базарной брани выживших словах проступила? Слыхал Варфоломей про это сказку, но, вполне прилично зная древнее наречие, мог сказать — ничем оно не сильнее российского общегражданского мата.
— Пора, Фоломеюшка.
Богатырь почувствовал, как легла ему на плечо простая русская рука старца Федора Кузьмича, с пальцами обыкновенной длины, с кожей, немного тронутой коричневыми пятнами возраста, но тонкая и аристократическая, истинная рука вельможи, но и врача: в Киммерионе именно познания в этой последней области ценились высоко. А Варфоломей на собственной шкуре знал, что ломать кости легче, чем сращивать. Сейчас предстояло заняться первым. Но приятно было думать, что и второе умение — рядом.
Богатырь встал, перекрестился на шатровую церковь без единого креста, и широко зашагал к Богозаводску.
О том, что было дальше, остались тысячи легенд — и ни единого достоверного свидетельства. Даже участники событий не смогли реконструировать их картину целиком, причем чем «центральней» была роль этих участников, тем менее они моли поведать внятного. Но обратимся сперва к народным источникам — наиболее ярким, но и наименее претендующим на историчность.
В довольно позднем, популярном у северян сборнике «Богозаводские сказы» есть длинное и назидательное прение Очевидца и Сивого Мерина — обоим довелось, как они утверждали, созерцать то, что история назвала «Богозаводским крушением», — короче, гибель молитвенного корабля Бориса Черепегина, в прошлом Бориса Тюрикова. Поскольку оба персонажа в сказе — заведомо фольклорные, то целиком цитировать оный сказ тут не стоит. Много ли доверия может вызвать свидетельство, к примеру, о том, как подъехали к стене Богозаводска сорок танков, топнули гусеницами, грянули «Ура!» — и с воплем «За родину! За Кавеля!» — пошли в штыковую атаку на каменную стену?
<Сперва сказ повествует о том, как персонажи сходятся у костерка в ледяной долине и начинают вспоминать минувшие дни, поклявшись друг другу говорить одну только правду, поскольку ничего, кроме нее, они заведомо не помнят; издание стереотипное, стр.336>:
«Нет, не так все это было, совсем не так — сокрушенно качал головой Очевидец: прилетел из аравийских пустынь ледяной антициклон, грянулся оземь, рассыпался богатырем Али-бабой и как метни в стены сорок горшков с горючей смесью, вот, помню, ее еще называли «коктейль Молотова», вырви-глаз штучка, особенно если без закуски… Стена и охнуть не успела, как ноги сделала прямо в Китай, до сих пор там теперь стоит…»
«Протри глазенапы пьяные, запей капустным рассолом, — трезво возражал ему Сивый Мерин, — куда ж она убежала, когда вон с трех сторон стоит?»
«А с четвертой? А с четвертой?»
«А с четвертой… Ну, богатырь и впрямь набежал с вилами, кладку раскидал, что твою кучу навоза…»
«МОЮ кучу навоза? Ты на свою кучу оглянись!» — рассвирепел Очевидец
<далее — купюра со стр. 337 по стр. 345, в которой Мерин и Очевидец ведут т. н. «Прение о навозе», однако позднее возвращаются к теме «Крушения», и этот отрывок также интересен>:
«… Ну, а потом Али-баба этот как встанет во весь свой рост о семи саженях, да-а ка-ак за-а-апоет дурным голосом: «За-ачем Герасим утопил сва-аё Муму?… Как там дальше?»»
«Было, — не стал спорить Очевидец, — а дальше так: «Ну что пла-ахого оно сдела-ал-о ему-у?..» Песня известная, волжская. Степана Разина сочинение, очень он по княжне убивался и какую суку ни увидит — ту и утопит, а Муму, она ж сука, да еще спаниель, господина Тургенева сочинение, его за эту книжку из России во Францию к господину Виардо выслали, а Разину и утес поставили, и памятник, и еще певицу его именем назвали…»
«Было, — подхватил Сивый Мерин, — а тот Али-баба, — говорят, он-то и был Герасим, только скрывал, чтобы тоже к виардовой матери не выслали, — идет себе по нашим улицам, орет дурным голосом, рояль под мышкой несет, играет на нем, словно гусли это какие, и медленно эдак прет в сторону трактира нашего, «Мозес и Пантелей», сам знаешь, семь звездочек трактир в память о том событии… и пять еще по рогам. Выпить хочет, мало ему коктейлю Молотова…»
«Было, — продолжил Очевидец, — а потом, как прошел он мимо трактира, лакированной спиной сверкнул да за угол свернул — ясно стало: он прямо на храм Дули Колобка посягает…»
«Было, — прошептал Сивый Мерин, — посягает… Ну ничего ему святого, как поднял колено — так во храме ворота и пали… А он ногу на них задрал, пометил, и ну по двору гарцевать на трех ногах…»
Здесь нам приходится расстаться с «Прением»: совершенно очевидно, что вышибить ворота молельни Варфоломей и вправду мог, а вот гарцевать по ее тесному двору на трех лакированных ногах (да еще «подковами прицокивая ЭДАК», как выражается в «Прении» Сивый Мерин, показывая, видимо — как это ЭДАК) наверняка не мог, ибо принадлежал к иному биологическому роду и виду. Видимо, здесь налицо древнерусская, иудейского происхождения легенда о китоврасе, он же кентавр, — а поскольку в тех же «Сказах» есть и «Сказ о закладе Богозаводска», который был произведен именно Китоврасом — окончательно не стоит выбрасывать и эту теорию. Кто знает, какие глубинные силы просыпаются в русской земле в ответ на проявление исконно богатырских сил иной (в данном случае киммерийской) силы? Хотя, к сожалению, оный «Сказ» повествует о закладе города ростовщику из Ломбардии, легендарному Джудео Окаянному, в другой же версии — процентщице-старушке Алёне Ивановне… но это уже совсем, совсем другая история, да и ближайший к Богозаводску ломбард спокон веков располагался в Вологде и работал только под кружева, не принимая даже золота и брильянтов.
Народные сказания неизменно повествуют чаще всего о напавшей на молельню дружине, армии, иногда о группе вооруженных богатырей, притом часто усиленных летучими подразделениями ниндзя и камикадзе — и лишь в «Прении Очевидца с Сивым Мерином» можно проследить отголосок истины — ибо штурмовал Варфоломей пресловутую молельню именно в одиночку. Ему и одному-то на узких древнерусских улицах было тесно, известняк крошился почем зря, хуже родного точильного камня — из которого сложен родной для Варфоломея Киммерион — про деревянные части говорить нечего, про несмысленную человечью биомассу тем более: все это лезло под ноги, толклось и мешало, — а в Варфоломее, взведенном стариной сицилийской мелодией из кинофильма «Крестный отец» и ее пронзительным русским текстом, уже проснулся берсерк. Хотя никаких теорий о том, что киммерийцы могли бы оказаться выходцами из Скандинавии, где этот вирус еще в средние века успешно расцвел, нет — но уж больно противен был уроженцу берегов вольного отца русских рек, Рифея, спертый дух кавелитской молельни. К тому же обострилось обоняние, и чуял Варфоломей, что пахнет тут — во-первых, всякой сволочью; во вторых, почему-то бобром; в третьих, родным братом Веденеем.
Если бы не застила богатырю глаза берсеркерская ярость, он, может быть, разглядел бы, как малозаметные людишки, числом то ли пять, то ли десять, но никак не более двух десятков, повели себя для толпы (в которой были рассеяны, как изюм в твороге) нетипично: они по одному стали выскальзывать из ворот молельни, по дороге с омерзением отбрасывая огрызки сладких колобков, коими еще миг назад наслаждались: на дворе у Тюрикова паслась не только его собственная паства. Эта паства была чужая, и ей было не впервые драпать. Их путь лежал за Карпогоры, в трущобы Истинного Кавеля Адамовича Глинского, их жертвенный час не настал еще — и менее всего хотелось погибать им в битве, в которой даже неправильного Кавеля никто не убьет: у них-то списки Кавелей с фотографиями всегда были под рукой, они видели, что безумный богатырь — никак не Кавель, — зато по голове если даст, то это как раз и окажется для оной головы бой «последний и решительный». Эта песня — как и песня про несчастное Муму — была не для них. Почтения к старинной песне Дуле Колобка они не знали, — и это временно их спасло.
Между тем, толпа во дворе молельни была к такому вторжению не готова. При этом — еще менее готова к бегству. Тут каждый верил, что ничего плохого случиться не может: явись чужак со злыми намерениями — шаровая молния, или Дулина Дуля, как называл ее в проповедях Борис, немедля должна была испепелить злого татя. Так что происходящее сложилось в совершенно иную схему, которой не предвидел ни атакуемый экс-офеня, ни сам Варфоломей, — толпа приняла гостя за своего, и пошла за ним, все более закипая под грохочущий псалом на мотив из «Крестного отца».
Варфоломей тем временем уже высвободил из-под киммерийского плаща-балахона всё необходимое: нож-пилу для разрезания слишком твердого металла и пудовый кистень, с цепью, с шипастой гирей на цепи. Отбиваться, пока не нужно было пока ни от кого, толпа приняла его налет за новое, самим же навигатором корабля Борисом Черепегиным организованное радение. Под бесконечные повторы «Своё-о-о Му-Му-у-у!..» — богатырь высадил дверь молельни, и ввалился в нее вместе с толпой.
Дальше достоверных сведений в документах императорских архивах нет, поэтому нам снова приходится предоставить слово старым знакомым — Очевидцу и Сивому Мерину.
<В предыдущем тексте персонажи ведут длинный спор о том — был среди осаждающих молельню бобер, или не был — и вообще: был ли бобер-то? Так ничего и не решив, они переводят к воспоминаниям>:
«Было, — сказал Очевидец, — и тогда воздвигся на грозного пришлеца из глубин корабля охранный дух, приявший на тот миг облик ужасной спаниели женского полу…»
«Врешь, — ответил Сивый Мерин, — это подбежал дух ужасной спаниелью, а дальше, по приказу отца нашего Бориса Навигатора, восстал как животная именуемое Грозным Вельблудом, ибо послушание отцу нашему от сотворения мира иметь был должен».
«Было, — не стал спорить Очевидец, — хоть не совсем так, да было. А страхолюдный Али-баба тогда вопросил у духа голосом прегромче небесного грома: «Которое сегодня число? А? Говори!..»»
«Было, — но вовсе не так, не так, — сказал Сивый Мерин»
<далее — купюра со стр. 345 по стр. 359, в которой Мерин и Очевидец ведут т. н. «Прение о дня бывшем числе», однако позднее возвращаются к теме «Крушения», и этот отрывок также интересен>:
«Было, — согласился Очевидец, но ведь и в самом корабле, когда крушил его лютый Али-баба, Сторож Врат находился, Подкавель его чин был, и никто не знает, кем он и откуда при отце нашем Борисе состоял, сказывали, что для печения колобков самых сладостных он в радениях употребляем бывал, если уж свет гаснул, а это при нашей подстанции совсем не редкость и ныне…»
«Все ты врешь, — не согласился Сивый мерин, — Это не Подкавель был, это государь Мускарито из земли взошел…»
Дальше ничего ценного в «Прении» для нас не содержится. Дьявол-спаниель (если он и не померещился толпе), очевидно, не устоял перед песней о спаниельке Муму, принявшей горестную гибель от рук глухонемого дворника, высланного за такие дела позднее к своей матери во Францию. Когда же дьявол попытался перекинуться исходным своим, верблюжьим обликом — то был немедля укрощен с помощью заклятия, без которого не обходилось в Киммерионе ни одно явление отца-основателя города, Конана Варвара. После этого лжеверблюд с визгом исчез, а из глубин молельни вынырнуло существо, всем видом своим схожее разве что с летучей мышью, — и потому немедленно принятое некоторыми особо темными прихожанами за вампира-кровососа. Был это старый мещанин Черепегин, усыновивший беглого офеню, и ныне переименованный им в «Подкавеля», или «Младшего Кавеля». Он, быть может, и хотел броситься на грудь Варфоломею, быть может, он и в ноги бы ему одновременно хотел броситься — но гипофет не позволил.
Взмахнув кистенем, грохнул он в подвернувшуюся поверхность — попросту говоря, в стену, и отломил тем самым приличный кусок белого богозаводского известняка. Камень рухнул без видимых последствий, но громко, и бобер-зубопротезист Дунстан помолился сразу обоим Бобберам, и убитому, и убившему, возблагодаряя их за то, что не угораздило его в том углу возле входа в молельню прикорнуть.
Дунстан, он же в далеком прошлом Дунька, седеющий и жизнью битый бобер, был некогда первейшим мастером по съемным протезам среди полногражданственного, равнодельфинного народа бобров, второй после людей разумной расы Киммерии, и принадлежал к богатому и многочисленному клану Мак-Грегоров. В результате сложных козней своих же сородичей по клану, враждовавших с другим богатым кланом, Кармоди, а уж заодно и с третьим — кланом озерным бобров о'Брайенов, был он выдан головою людям на судилище, побитие и побритие; был осужден и переправлен в закрыто-режимый монетный двор Римедиум Прекрасный, что располагался на правом берегу Рифея за довольно широкой протокой, отделявшей его от Земли Святого Эльма, самого восточного из сорока островов древнего града Киммериона; именно ссылкой в Римедиум обычно заменяли в Киммерионе смертную казнь. Там он влачил жалкое существование, лишь смутно, хотя правильно догадываясь, насколько скверным стало существование самих бобриных кланов, сдуру лишивших себя единственного протезиста-виртуоза. Из прозябания в пустом, давно ничего не чеканящем Римедиуме Дуньку почти случайно вызволил офеня-ренегат Борис Тюриков, тоже загремевший в узилище из-за коварства, да и из-за безумия Золотой Щуки, пообещавшей офене исполнить девять его желаний; считать щука так долго не умела, офеня же не мог толком ничего сформулировать и тратил чудеса впустую, покуда на самом последнем излете не догадался заставить щуку выполнить последнее его хотение (кто его, знает — может, это глупая рыба сочла их и за два последних, этого никто не понял): груженная серебряными монетами лодка «Кандибобер» посуху вывезла Тюрикова из Римедиума, из Киммерии — и доставила на скотный двор мещанина Черепегина прямо в Богозаводск, где у бывшего офени имелись и кредит, и солидное влияние на хозяина. В той же лодке почти случайно оказался и Дунстан; хотя проклятие Бориса и уморило все человеческое население Римедиума, но бобер-то человеком не был.
Очень скоро Борис Тюриков прибрал к рукам все хозяйство Черепегина: заставил его себя усыновить, передать первородство и все имущество, сделал двух младших по возрасту сводных братьев фактическими рабами своего сектантского толка «Колобковое упование»: доктрина в нем была обычная, кавелитская (Кавель Кавеля), но мифология восходила к наиболее укорененной офенской, к образу хитромудрого офени Дули Колобка, ничего не оставившего в веках, кроме нехитрой песенки — «Я от дедушки трах-бах, и я от бабушки трах-бах». Изобретение же формальной, обрядовой стороны для своего «корабля» взял Борис Тюриков, теперь уже Борис Черепегин, на себя. И, как всякий основатель религии, быстро разбогател, — хотя, понятное дело, до Поликрата Кальдерона Хаппарда ему было далеко, но он к этому и не стремился, ибо, как всякий опытный купец, опасался избытка везения.
Молясину Тюрикова не опознал бы и сам Кавель Адамович Глинский, бывший следователь Федеральной Службы и все еще несравненный по квалификации эксперт в данной области. Молясину Тюрикова трудно было бы поставить в коллекцию: она была живая, если не вдаваться в подробности, то составлялась она из двух человек, бегущих по кругу, придерживающихся при этом за два конца здоровенной перекладины, — и оба человека, и все присутствующие в исступленном темпе повторяли: «Я от Кавеля ушел, да я от Кавеля дошел!» Первую такую молясину составили родные сыновья Черепегина-старшего. В обязанности привезенного случайно Дунстана как-то незаметно вошла смазка центральной оси, подметание помещения радельни и множество мелких услуг, которые он оказывал неуклонно растущему числу адептов колобковского учения. Поскольку колобковцы, бегая по кругу, тратили много сил, требовалось подкрепление оных. А что же лучше годилось для этого, как не свежий, духовитый сахарный колобок, съеденный прямо во время радения? Крошки колобков доставались Дунстану, он теперь, если и не бывал сыт, то не голодал, в отличие от времен Римедиума, когда его единственным пропитанием порой служило дерево подгнивших свай причала. Чтобы совсем не впасть в безумие, Дунстан помаленьку стал делать зубные протезы людям, — по бобриной, конечно, технологии. В частности, именно Тюриков-старший, он же нынче Подкавель, носил именно его протезы, выточенные из драгоценного рога нарвала, который невежественные люди Европы многие столетия считали рогом сказочного животного единорог — невозможного уже потому, что питался этот легендарный зверь чужой невинностью, притом ее никак не употребляя в дело. Бобер в такие сказки не верил, но с Ледовитого океана рог нарвала иной раз привозили, а хозяину дома это было по карману, благо весь труд мастера Дуньки обходился бесплатно.
Дунька прибыл в Богозаводск прямо на черном «Кандибобере», и своими глазами наблюдал, как последовательно Борис Тюриков прибирает к рукам и лодку с серебром, и хозяина дома со всем его добром, как строит живую молясину, допускает к ней первых прихожан, как у прихожан меняется цвет лица, — Борис вместо привычного рациона (водки под кислую капусту) заставил народ вкушать сахарные колобки с пряностями, чем, кстати, повысил в городе рождаемость, — наконец, осознал Дунька, что забирает Борис в свои руки власть, простираемую далеко за пределы Богозаводска, о расширении ее радеет и все его последователи радеют вместе с ним. Однако сейчас Дунька раньше всех понял, что могущество, нажитое годами, рушится в один миг. Он уже некогда пережил подобное из-за межклановой склоки, ввергнувшей его из уютного зубопротезного кабинета в адские бездны монетного двора. Тогда сгинул Римедиум. Сейчас пришла очередь Колобкового Упования.
Тюриков сейчас уже был далеко; вообще-то предполагал он нападение на свой корабль со стороны сектантов-конкурентов, возможно, даже со стороны союзников, а дождался просто разъяренной толпы, требующей ответа на тургеневские вопросы; как человек опытный и к тому же потомственный архангелогородец, он знал, что в такой ситуации надо сперва делать ноги, а потом все остальное. Путь для отступления у него был плохой, строительство второго корабля в городке Малое Безупречье он едва успел начать, так что отступать оставалось только под защиту ненадежного союзника — Кавеля Адамовича Глинского. Того самого. Истинного. Ересиарха.
Погубила его между тем не столько жадность, сколько офенская любовь к порядку. Ну зачем было призывать дьявола, подчинять его, заставлять оборачиваться сукой спаниельной породы, — ведь требовалось Борису всего-то три-четыре аршина нерезаной чертовой жилы, дабы укрепить корабельную молясину! Зачем долго ловил он на Камаринской дороге ничего худого не ждущего от жизни офеней, отбирал молясины, бывших владельцев хоронил как усопших на пути, точно соблюдая обряды — а потом подолгу ругался над каждым добытым мешком, ибо то вместо молясин доставались ему трофейные японские телевизоры, то и просто пшеничная мука, то все-таки молясины, но таких видов, где чертова жила не нужна, то такие, где ее чуть: самый большой из добытых за несколько лет грабежа цельный кусок составил немногим более чем поларшина. Ну, а дьявол, которого он послал к Богдану за ненарезанной чертовой жилой, раз за разом честно возвращался, едва уклонившись от попадания в автоклав к Богдану. Дьявол был связан клятвой добыть и вернуться, однако слова «а без добычи не возвращаться» Борис произнести не догадался, и теперь дьявол знал, что покуда не исполнит он приказа и не добудет кусок жилы — да хоть из самого себя — так и будет он мотаться между Богозаводском и Арясином, словно маятник… в проруби.
Борис даже не мог выгнать дьявола, ибо в тоннах книг по наложению разных чар и наваждений не находил ни единого заклинания, которое заставило бы призванного им черта стать либо безопасно умнее, либо безвредно для хозяина сильнее, либо, на худой конец, убраться к своей собственной матери. Проще говоря — Борис не владел каталитической силой. Ни сила неверия, ни запах жареной рыбы не способны были даровать ему того, чего в нем не было изначально. Призванный им дьявол-спаниель, сам назвавший свою кличку, — почему-то звали его Выпоротком, это имя свело бы с ума Давыда Мордовкина, но тот, к счастью, не был в курсе дела, — находился вне привычной среды обитания, как бы в вечной командировке.
И однажды случилось так, что косорылые мужики-ловцы, выставленные Борисом близ Камаринской дороги в том месте, где от нее было рукой подать до Богозаводска, поймали вовсе не офеню. Наживку они использовали традиционную: ловили, что называется, на живца, точней, на голую бабу. В каменный мешок в подвале черепегинского дома был водворен бесчувственный, однако вполне живой главный гипофет Киммерии Веденей Хладимирович Иммер, которого Борис, покопавшись в памяти, вспомнил по имени. Пальцы выдавали в нем киммерийца. Мешки — офеню. Молясины при нем были почти обыкновенные: щеповские, влобовские, китоборские, еще с десяток разновидностей. Чертову жилу добыть опять не удалось. Но зато удалось добыть живого киммерийца, удалось приковать его к стене тремя цепями, за пояс и за руки, и не дать ему увидеть себя. Борис не стал убивать гипофета, как без размышлений убил бы офеню или десяток таковых. Он полагал, что держит в темнице человека, способного видеть будущее — а когда богозаводские мастера пыточных дел сказали, что ничего добиться от пленника не могут — все равно оставил в живых. Ибо полагал, что на крайний случай гипофет сгодится как заложник.
Попался Веденей на совершенной глупости, сгубила его задумчивость. Мешки его за время более чем тысячеверстного перехода, заметно полегчали. Да и странно было бы здесь, на предпоследнем отрезке Камаринской дороги, тащиться с полными мешками. Раскупали у него, точней, конечно, выменивали на общерусские деньги товар все больше недорогой: медвежатничьи молясины, стреляные, дуболомовские, богатырские, дружбонародные, словом, те, которые при обыске можно выдать за причудливую богородскую игрушку. Редко, трясясь от своей же смелости, обменщик рисковал спросить молясину еретическую, разнофигурную — живоглотовскую там, сволочанскую, китоборскую. Один раз сменяли даже щеповскую, было это у реки Суды, Веденей очень порадовался: весила подлая молясина чуть не пуд. Веденей был бы рад сбыть и вторую, но следовал офенскому закону: ничего не предлагать, чего не просят, а то предложишь человеку бумерасину, скажем — он же тебя ею по кумполу и огладит.
Устал Веденей. Пройденный им кусок России — и Великое герцогство Коми, и Архангельская губерния, и часть Вологодской, какую повидать пришлось — ничто из этого сердца его не пленило: холодно после Киммерии с непривычки, везде сплошная джипси-кола с марсианскими шоколадками, компьютерная игра в «армянский марьяж», ранняя черемша и домашняя лапша, и молясины, молясины, под каждым телевизором, в каждом школьном ранце. Переполнена была эта не очень-то перенаселенная страна нерешительными и малодушными людьми; здесь жили и не мучались, но радоваться жизни тоже не умели, здесь молились Богу и Кавелю, ждали Конца Света, Начала Света, а также и просто света — если на снабжающей электростанции случалась авария и его отключали.
В непонятное Веденей вляпался на окраине крошечного городка Нечаево-Кирилловска, в непосредственной близости от Богозаводска. За малые деньги пустила его к себе переночевать молодая вдова, малорослая, но крепкая женщина. Уложив спать обеих дочек, она погасила свет в избе, заложила ставни на костыли, умылась в сенях и через миг в чем мать родила нырнула под одеяло к Веденею. Вдова была женщина опытная, понимала, что человек с дороги и устал, даже предложила шепотом что-то насчет того, что, мол, поспи часок, все потом и вообще все путем. Гипофет хотел принять это предложение, но человек он был живой и достаточно еще молодой, хозяйка своего добилась очень быстро — и не раз. Умотала она киммерийца на совесть, особенно ее пленяли лапищи киммерийца и то, что вся она, вдова, в любой из них умещается.
Проснулся умотанный ночными кувырканиями гипофет, как можно это было предвидеть, уже в кандалах, в плену у «Колобкового упования», верной почитательницей какового ловкая вдова была уж который год. Борис Черепегин, некогда Тюриков, счел, что своего офени не бросят, что явятся его спасать — а тут-то он их и подловит.
В чем, кстати, был совершенно прав, ибо младший брат явился сюда именно за старшим — за Веденеем. Ошибался Борис лишь в оценке сил противника. О том, что без этого пленника Тюриков никаких нежеланных гостей мог бы не ждать еще десятилетия, он так и не узнал. Но родной город Бориса, Архангельск, был заложен царем Иваном Четвертым, с которого нынешний император как бы сорвал погоны — лишил почетного воинского звания «Грозный». Ибо довел тот страну до опричнины, до разрухи, до седьмой жены и до Бориса Годунова, чтобы не сказать хуже. Однако ни царю Ивану, ни экс-офене Борису не было свойственно думать о далеких последствиях принятых решений. Поэтому последствия обычно превращались в недальние и неприятные.
Так что среди полностью одуревшей толпы, которую мощными аккордами сицилийской музыки продолжал взбадривать из переулка стоявший на грузовичке кабинетный рояль, холодных голов имелось ровным счетом две, одна принадлежала Варфоломею, другая — бобру Дунстану из клана рифейских Мак-Грегоров. Среди бобров умение говорить человеческими словами не встречается, они общаются посредством свиста или языка жестов, а пишут зубами, используя как кириллицу, так и несколько собственных алфавитов, притом созданных на основе древнекиммерийского слогового письма. Однако Дунстан провел полжизни в таких небобриных, таких неожиданных обстоятельствах, что в нужный момент мог кое-что крутое и сказать. Так человек иной раз может правильно залаять, уместно мяукнуть, пронзительно красиво замычать. Но на долгую речь его, конечно, не хватит.
Дунька прибился под ногами буйствующих, обогнал Варфоломея и встал на задние лапы перед Черепегиным-старшим, он же Подкавель, коему, похоже, теперь доставалась роль козла отпущения.
— А ну вынь зубы, гад! — истошно тонким голосом заорал бобер. Ему и впрямь было жаль собственной резьбы по рогу нарвала, а тут предстояло наскоро измыслить для себя еще и доказательство того, что есть у него в жизни и ремесло. Черепегин покорно вынул изо рта обе челюсти — и это его спасло. Легким движением руки Варфоломей отбросил старика в дальний угол, где он уже не интересовал никого, а битый жизнью Дунстан убежал вместе с челюстями в противоположный, ибо торопился спрятать обе. Варфоломей поворотил перекладину молясины, стукнул лбами оцепеневших младших и движением приказал — мол, бегите по кругу.
И братья побежали. Толпа ревела и качалась, кто-то терял сознание, а Варфоломей бросился в жилую часть дома, разыскивая дорогу в подпол. Богатырей в этом доме не водилось, иначе на люке стоял бы тяжелый сундук. Варфоломею случалось еще до свадьбы носить на руках лошадей, а сил у него с той поры только прибавилось. Люк нашелся у того самого черного хода, через который четвертью часа ранее бежал в далекие трущобы к своему чудовищному покровителю экс-офеня.
Варфоломей рывком откинул люк, а потом сорвал его, как крышку с майонезной банки, и бросил за спину. Раздался чей-то вопль, но Варфоломей уже спускался в погреб. Фонаря у него не было, поэтому на втором шаге пришлось остановиться. Кто-то, — если быть точным, то академик, — богатыря подстраховывал; мощный киммерийский «дракулий глаз» лег в щепоть гипофету, и тот помчался вниз по жалобно скрипящей спирали: погреб был на редкость глубоким. Академик с интересом что-то вытащил прямо из штабеля, сложенного возле входа в подпол. Это были дорогие, тяжелые, чуть ли не лакированные дубовые вилы.
— Вилы — оружие кавелита… — пробормотал Гаспар.
Варфоломей уже грохотал по сырому полу подземелья. Здесь, конечно, была не Киммерия, подвал оказался глубоким, но отнюдь не просторным, в трех шагах младший гипофет обнаружил старшего брата, утомленно храпящего на ворохе гнилого сена. Обнаружив цепи, Варфоломей собрал все три в один узел и разом вырвал из стены. С непроснувшимся, почти раздетым, все еще закованным в рваные цепи братом на руках Варфоломей поднялся по лестнице, оборвал не особенно прочные цепи и бросил обратно в погреб.
— Чертовую жилу я сшивать не умею, — слабым, но ясным голосом сказал Веденей, кусая брата за бороду, однако не просыпаясь. — у меня другая профессия.
— У меня тоже другая, и я тоже не умею, — буркнул младший брат, вышиб дверь черного хода и вместе с академиком бросился в переулок. За углом на грузовичке их поджидал рояль. Грузовик уже отъезжал, когда прыжком дельфина через борт в кузов его прыгнул еще кто-то маленький, — понятно, бобер-зубопротезист.
Через час грузовик уже сгрузил пассажиров у трехшатровой церкви далеко за городской чертой, и Федор Кузьмич занялся бедами Веденея. Тот был истощен, на шкуре его имелись следы умелых пыток, причиняющих максимум боли и минимум вреда: именно таких мастеров экс-офеня одалживал у Кавеля Адамовича Глинского, «Истинного», именно с ними бежал Тюриков, надеясь, чьл попадет в тайные Карпогорские дебри, где сейчас размещался боевой штаб ересиарха и его основной жертвенный камень.
— А, это вы, — сказал Веденей Федору Кузьмичу, — мне сивилла так и говорила. А я не понял. Заскучал я тут что-то…
Федор Кузьмич не успел ответить: гипофет снова спал, усыпленный всего-то чистым воздухом. Все облегченно вздохнули, и все перекрестились — кроме рояля, конечно, который тихо и тактично стоял в стороне. Но долго оставаться тут было нельзя: младший брат взял уснувшего старшего на руки, и экспедиция продолжила путь на запад.
Ровно через двенадцать часов, повинуясь личному предсказанию главного предиктора Российской Империи графа Горация Аракеляна, в Богозаводск вступили отборные части 35-й Вологодской мотострелковой дивизии имени Св. князя Михаила Ярославича Тверского (того самого, от которого некогда натерпелся Арясин) и окружили центральную радельню колобковцев. Поскольку, как и предсказывали инструкции, никого из важных зачинщиков бунта захватить не удалась, то из рядовых был выбран наиболее значимый, им как раз и оказался мещанин Черепегин-старший, более известный в хрониках и сказаниях как Подкавель Богозаводский. Бунтовщик был закован в железа, в никели и самолетным этапом отправлен в Москву для срочного дознания.
Следует отметить, что введение в Богозаводск специальных частей мотострелковой дивизии, носящей имя как раз обидевшего Арясин князя, в Арясине никого не заинтересовало.
Там об этом событии так никто и узнал. А если б узнал, так перекрестился на ближайшую церковь, помянул бы всю кротость царя Давида, да и пошел бы спать. Очень уж давно была битва за Накой. Да и угробил князя Михаила все-таки не столько московский князь, сколько ордынский хан Узбек, введший для своих подданных ислам в качестве обязательного вероисповедания. Тот хан Узбек, чью мечеть лишь недавно разрешил царь восстановить в городе Старый Крым Таврической губернии. Словом, богозаводские дела почти никого не коснулись. Мало ли чего бывает на Руси в любой день.
15
Будет шестьдесят три блюда… У Строганова бывало и больше, но мы выбрали шестьдесят три по числу букв: «Его величество Павел Петрович, император и самодержец Всероссийский». По-моему, недурная мысль, а?
Марк Алданов. Чертов мостГосударь Павел Федорович в шестом часу утра угрюмо ел из квадратной салатницы гречневую кашу-размазню: нынче на белом свете праздновали великий праздник, хоть и не из дванадесятых, но все равно из числа самых главных — усекновение главы Иоанна Предтечи. По народному поверью, в этот день нельзя есть ничего круглого, ибо плясавица Саломея попросила у Ирода за свой танец голову Крестителя, безусловно круглую, именно на блюде — по преданиям, тоже круглом. Ни в какой канон это суеверие не ложилось, но царь внимательно соблюдал народные обычаи. Даже если из-за этого приходилось есть гречневую размазню из продела весьма низкого сорта, притом сваренную на воде, да еще из дурацкой посуды. Ел Павел медленно, и мысли его были весьма далеки от завтрака.
О еде он немного думал, но как-то со стороны. Вспоминалась гречневая крупа, которую он покупал с черного хода в магазине возле дома в родном Свердловске. Выносил ему эту крупу первострадалец дела российской Реставрации Петр Вениаминович Петров, которому и в Екатеринбурге, и по месту рождения в городе Старая Грешня Брянской губернии, стояли бронзовые памятники, и вопрос о причислении которого к лику святых уже поднимался обер-прокурором Российского Синода, хотя сам Павел считал, что история все сама на место поставит, а канонизация — чистая формальность, и можно с ней не спешить.
Нынче к завтраку по случаю постного дня было одно блюдо, и воистину, согласно с установлениями древнерусского поста, предельно невкусное. Это был нижний предел: полного отказа от пищи даже на день самодержец позволить себе не мог, ибо знал, что тогда окончательно останется без сил. Павел с трудом проглотил еще ложку каши и подумал, что верхний установленный им предел для царской трапезы с приглашенными гостями высшего ранга нынче он установил сам: шестьдесят блюд. По числу букв: «Его Величество Павел Федорович, император и самодержец Всероссийский». В отчестве у Павла Федоровича было на букву больше, чем у пра-пращура и тезки, но большевицкая реформа четыре твердых знака из титула изъяла. Три блюда отняла, — полный обед, так сказать. Павел уже в который раз подумал, что надо бы старое правописание вернуть, и со вздохом эту идею снова отмел. Ибо сам он старого правописания выучить не смог, сколько тайком ни пытался.
Да и вообще — нашел тему для размышлений. В державе дел хватало, и главным было то, что объявилась в Москве Антонина, в девичестве Барыкова, а при ней почти взрослый сын Павел Павлович, готовый наследник престола, Осталось с ней обвенчаться и короновать ее как императрицу: этого царь хотел еще двенадцать лет назад, но тогда Антонина исчезла. А наследника признать было проще простого: придется юному Паше во время венчания держать матушку за конец шлейфа. Такой наследник считается на Руси «привенчанным», такова была дочь Петра Великого государыня Елисавета Петровна, такова же была ее сестра Анна, мать будущего государя Петра Третьего, — а тот, в свою очередь, был родным отцом государя Павла Петровича. Родным, что бы там ни лепетала его матушка, государыня Екатерина Алексеевна — генные анализы подтвердили. Так что привенчанный наследник для России был явлением нормальным. Да и вообще на Руси любой наследник всегда законен, лишь бы народ был на него согласен. В крайнем случае сгодится и такой, на которого народ не согласен. И вообще какой угодно. Лишь бы был он в принципе, ибо чего не терпит Россия — так это неустойчивости.
Первая за столько лет после исчезновения Антонины встреча с ней произошла, понятное дело, не в Кремле, а в мемориальном особняке, — в том, что в Староконюшенном. Будущий хозяин особняка, он же потомок прежних хозяев, все никак не мог достроить метро от Москвы до Сергиева Посада: царь обязался после открытия этой ветки особняк ему вернуть. И по предсказанию графа Горация знал, что лично ему делать этого не придется. А потомки разберутся: это тоже было предсказано. Потомки Вардовского Павла не интересовали, своего же собственного потомка, пока что знакомого только по съемки скрытой камерой и сотне фотографий, царь увидеть боялся. Он не просто твердо знал, что это именно его сын и будущий наследник престола. Он пересилил себя и потребовал у Горация ответа о том, какова будет дальнейшая судьба наследника престола.
Конечно, не потребовал, а собрался потребовать. Гораций имел скверную для предиктора привычку извлекать события из ближайшего будущего и отвечал на вопросы раньше, чем собеседник успевал их сформулировать.
— Вы, государь, не тревожьтесь, — сказал ему граф из глубокого кресла, где с ногами, увы, уже не мог сидеть: положение не позволяло, да и габариты изменились, заматерел граф, хоть еще и вполне был молод, — ваш сын, когда придет срок, взойдет на престол под именем Павла Третьего, будет благополучно править в вашей империи в середине имеющего наступить века, а наследник его, цесаревич Георгий, названный так в честь вашего покойного дяди Георгия, заслужит прозвище Юрия Долгорукого…
— Ладно, ладно, — оборвал царь предиктора. Тот исполнял его собственный приказ, не сообщая ему его же дату смерти. Поскольку в середине будущего века, выходит, в 2050 году, Павлу Федоровичу, то есть Павлу Второму, должно было бы исполниться сто четыре года, — а Павел до них дожить не планировал и не хотел, — вполне естественно было предположить, что на престоле окажется уже другой царь. Если сын Антонины Павел Павлович сейчас будет объявлен цесаревичем, следовательно, это как раз он и есть будущий император Павел Третий. А наследника его — его, выходит, внука, — будут звать Георгий. В честь покойного дяди. Какого дяди? У него что же, еще сын Георгий планируется? Неужели от Тони? Царь хотел спросить, но опять ничего не успел.
— В честь вашего дяди Георгия, ваше величество. В честь пожизненного президента республики Сальварсан, великого князя Георгия Романова… он же Хорхе Романьос.
— Знаю! — рявкнул Павел и запустил в предиктора крошечной статуэткой, синим морским коньком из мальтийского стекла. Предиктор, разумеется, увернулся, статуэтку поймал и повертел в пальцах.
— И я знаю, что вы знаете, а напомнить полезно, император всего помнить не обязан. Однако же запустить вы в меня чем-то должны были, и заметим — запустили. А служат вам эти коньки напоминанием о двух вещах: об аквариуме с морскими коньками и об Аляске, с которой у вас все приятное связано, ибо правит Новоархангельском ваш лучший друг царь Иоаким Первый, и о Мальте, с которой у вас связано все неприятное, ибо ее наместником волей-неволей оказался отправленный в почетную ссылку ваш старший сын, Иван Павлович… Не бросайте ничего, все равно не бросите…
Что правда, то правда, ничего в наглого графа царь так и не бросил: тут же вспомнил, как уже однажды этого самого Ваньку мальтийского чуть не пришиб царским посохом. Именно из-за Ванькиной помолвки все и вышло: с нее пророчица Нинель Муртазова и увела беременную будущим Павлом Третьим его матушку — единственную и вечную любовь царя, бывшую гебистку и вообще только что не судомойку, Антонину. В итоге Павел чуть не убил сына, хоть и незаконного, и сослал его на по доброй воле присоединившуюся к Одесской губернии Мальту. Там незаконный, а все же сын, наградил отца парой внуков с архангельскими именами Михаил и Гавриил, коим тоже пришлось давать княжеское достоинство, — хотя, понятно, уже никаких не великих князей плодил Иван Павлович Романов-Мальтийский, а простых, рядовых князей… Павел уже не помнил, какой титул он им сочинил. Престол он никому из этой линии оставлять не собирался. На крайний случай царь готов был усыновить любого из своих отпрысков в деревне Зарядье-Благодатское, что близ Кремля в перестроенной гостинице «Россия» осело: геральдический отдел вел учет согласно фактам и генным анализам, и на выбор имелось более сорока потомков, от младенцев до недорослей, притом это число только отпрысков только мужского пола, которых в разное время, нехотя и в охотку, зимой и летом смастерил Павел, коротая холостяцкие ночи в одинокой постели неизвестно с кем. Конечно, это ему самому не было известно — с кем. Геральдический отдел знал все до секунды и до вздоха.
Но вот и пришла пора. Кажется, никого усыновлять не надо. При наличии прямого наследника, который рано или поздно сам по себе взойдет на престол, то дальнейшее престолонаследование уже не в его императорской компетенции. Сделать себе сына Павел Третий сумеет, а Второй…
А Павел Второй по такому случаю решил немедленно жениться, венчаться и венчать мать наследника как императрицу. Поэтому в темно-пепельном мерседесе, на котором добирался он из резиденции Царицыно-6, до Староконюшенного переулка, царь стучал зубами. Он не видел Тоню почти тринадцать лет, он знал, что для нее при этом прошло каким-то образом все пятнадцать, и именно таков возраст его наследника. В подробности Павел Федорович не вникал, его тревожило, что ему — царю — уже пятьдесят. А ей — царице — сколько теперь, если там, где она эти годы прожила, время идет как-то иначе? Видеокадры, на которых Антонина складывала дорожные вещи в чемодан, по свидетельству цифровой кинокамеры были совсем недавними. Но выглядела Тоня так же, как незабвенной весной в канун осенней коронации. Павел не верил глазам и боялся встречи с ней.
Если честно, то дальше императору полагалось сгореть со стыда. Вместо намеченной встречи в большой гостиной, возле старой пальмы-латании, получился безобразный конфуз. Едва ступил Павел на ступени парадной лестницы, ведшей в бельэтаж, за колонны, как сосуды сжались и повелитель пятой части земной суши свалился в обморок. Даже упал бы, но охранники-рынды подхватили царя и отнесли куда поспокойнее. Так что очнулся он уже на диване, когда Антонина, на него не глядя, отборным матом с примесью совсем непонятных слов крыла всю охрану и лично Ивнинга, менее всего в происшедшем виновного. Пахло нашатырем, анисом и скандалом.
— Тоня… — слабо позвал царь.
— Лежать! — как псу, скомандовала ему Антонина, но осеклась. Пальцы ее быстро пробежали по краям глубоких залысин, меж которых тянулся все не желающий никак сдавать свои позиции и всему миру известный «хохолок». Павел знал, что из-за этого хохолка про него все анекдоты начинаются фразой «Приходит к Хохлу…» Эти анекдоты Павел считал безобидными и за них никого трогать не велел. Даже за анекдоты про новых дворян — тоже. Ну, а для тех, кто издевался над вероисповеданием и прочим духовным — для тех существовал Священный Синод и Верховный Совет Меньших Религий.
Павел, столь позорно сомлевший на лестнице, попытался встать, но Тоня его упредила. Осознав, что ее Павлинька все-таки живой, она рухнула ему на грудь сама. Какое-то время оба лили слезы и бормотали невнятное, но очень недолго это длилось. Павел все-таки был императором с немалой выслугой лет, и в руки себя взял. Антонина, наученная в Киммерии терпению, тоже опомнилась: вся встреча ей была аккуратно и заранее предсказана верной Нинелью, и ждала она Павлиньку не в гостиной, а прямо тут, у дивана, с нашатырем и с особой гадкой анисовой настойкой, которую тоже Нинель предсказала — царь запаха этого терпеть не может и быстрее в себя придет. Ведь знала, что сомлеет он. На лестнице. Знала, что очнется. Знала, что заплачет. Ах ты Господи…
Но это все было уже почти три недели тому назад. Павел был готов ко всему, особенно к тому, что и Тоня, и неведомый сын окажутся ему людьми совершенно чужими. К чему угодно он был готов, но не к тому, что Тоня придет чуть ли такая же, как ушла уже тому назад почти полтора десятилетия, и не к тому, что сын его, никогда не виденный в натуре, теперь уже готовый, законченный цесаревич, наследник престола, любое царское слово понимающий. Более того, когда Павел-младший говорил свое слово, то сразу было ясно, что его слово — тоже царское. Хотя он еще и не совсем цесаревич. Впрочем, документ о признании его единственным наследником престола Павел выложил на стол еще в Староконюшенном: Ивнинг заготовил документ на пергаменте времен Ивана Третьего Великого, притом не скобленом, а чистом. Где взял? Наверное, купил. И наверняка — на свои. Павел подписал бы и на простой бумаге. Но пергаменте солиднее, что и говорить.
Семью, вместе с неизбежными Нинелью и Яздундоктой Артемьевной, царь поселил в резиденции Царицыно-6. Он приезжал туда каждый вечер и через Ивнинга передал в Зарядье, что отныне Зарядским бабам вход в Кремль к нему закрыт. Ехидный великий князь на это ничего не ответил, но прислал подводу гусиных яиц. Царь сперва рассердился, но потом, когда Тоня расхохоталась и потребовала привезти все яйца в Царицыно — она и теперь мужику своему ванну из желтков для повышения потенции хотела сделать — тоже рассмеялся. Даже ванну эту принял, хотя, может, она и не нужна ему была, но великий князь в свои девяносто с лишним все еще совершал такие подвиги, что ясно было: не зря он всю жизнь в желтках сидит, не зря. Павел послал великому князю официальную благодарность и попросил священный синод чем-нибудь старика уважить. Уважили, ничего не скажешь: заложили в Антарктиде православный монастырь в память Святого Никиты, епископа Новгородского, святого покровителя князя, чью память празднуют на Руси тринадцатого февраля. Ни царь, ни великий князь не были уверены, что это именно тот самый Никита, а не другой, ибо к дню рождения князя это число отношения не имело. Но Синод постановил, формальность была соблюдена, казна в расходы не введена, а князь все принял как должное. И опять прислал подводу яиц. Гусей-то у него — прямо куры не клюют.
Сложность была, конечно, с двойным днем рождения мальчика. По документам выходило, что мальчику недавно исполнилось четырнадцать лет, идет пятнадцатый, да так оно и было по календарю во всем мире, — ну, а что мальчик выглядел на пятнадцать, если не старше, так это только хорошо. Но Павел не мог понять, откуда эти четырнадцать лет взялись? Он поклялся бы, что прошло только двенадцать, а то и меньше. Утешения искать было негде: о том, что его именно этот психоз мучить начнет, предиктор Гораций Аракелян царя предупредил. Поэтому Павел попытался найти утешение у Тони. И, кажется, нашел. То знойными, то прохладными августовскими ночами начала Антонина бесконечный доклад своему мужу, мужчине, своему богу, царю и повелителю, — словом, кому угодно, но только не Царю с большой буквы, которым Павел как раз и был. Доклад был о том, как ей жилось в Киммерии, какова эта страна, как там Богу молятся и как царя почитают, как промыслами промышляют, как на свадьбах гуляют, и как в пост постятся, да и прочее, и прочее — все без единого вопроса со стороны царя. Антонина сама знала — что будет интересно Павлу, а что можно и пропустить. Пропустила она из важных, пожалуй, лишь одну деталь: весь этот бесконечный доклад не сама она сочинила. Его сочинила за годы жизни в Киммерионе пророчица Нинель Муртазова, и в долгой дороге сперва до Великого Устюга, а там и до Москвы, заставила трижды повторить с начала до конца, слово в слово. Доклад был исчерпывающим и до конца честным. С другими к царю не ходят даже любимые женщины. Они, бабы, немедленно утратили в сознании Павла множественное число. Любимая женщина опять, как некогда, была одна. Слух об этом был подавлен в самом зародыше, поэтому немедленно просочился по всей России и дальше, и почему-то всем стало легче. От холостого положения царя все его переделы границ — утверждали прогнозисты Запада. Теперь он Мадагаскар занимать не станет, даже Коморские острова ему не к чему. Павел так не думал, но в любом случае чувствовал себя лучше.
Царем он, однако, оставался, и был на службе семь дней в неделю. Соблюдал дипломатический протокол и принимал важных гостей, слал поздравительные телеграммы и позировал скрытым камерам. Его жизнь с внешней стороны изменилась мало. Хотя интерес к Киммерии, неведомой провинции собственного царства, проснулся у него по-настоящему. Он заикнулся о том, что и сам бы не прочь там побывать, но Антонина его попросила не спешить. Павлу стало ясно, что вернуться в Киммерион сама Антонина если и может, то только на самый краткий срок, и только как законная русская императрица. А для этого еще много чего надо было сделать. Например, обвенчаться с Тоней и короновать ее. А это хлопот — дай Господь за два месяца управиться.
И это была отнюдь не единственная забота царя, которому наконец-то вернули любимую женщину. Павел доел гречневую размазню из квадратной салатницы, вытер дно салатницы хлебной корочкой, корочку тоже съел, а потом вызвал на дисплей план трудов на сегодняшний сентябрьский день. Сегодня, как он знал, все необъятная его империя встала на трудовую вахту и ударными темпами принялась за повсеместную уборку урожая репы. При храмах нынче от пуза кормили странников, перехожих калик и юродивых, — кормили, конечно же, очень постно, и — конечно — не давали ничего круглого. Нынче и нож-то в руки взять было великим грехом, а самым страшным преступлением в такой день почиталось рубить капусту. Тут, пожалуй, выговором с занесением не отделаешься. Но царь рубить капусту нынче и так не собирался.
В принципе одно дело его еще с позавчерашнего вечера тревожило. Оставалось незакрытым так называемое «дело жонглера», дело о покушении на честь и достоинство русского православного царя, даже, быть может, и на жизнь его. Жонглер был настоящий, балаганный, к тому же рыжий, смотреть на него никакой необходимости не было, но во время посещения Императорской Всемирной Книжной Ярмарки, которое вчера пришлось совершить, Павел ничего интересней этого жонглера там не нашел. Жонглер стоял на стенде издательства «Эсхато» и безостановочно подбрасывал аж двенадцать крашенных в различные цвета куриных яиц — как позже выяснилось, сырых. Царь такой ловкости не видел никогда, загляделся и шагнул через сигнализацию. Взвыла сирена, охрана рухнула прямо на охраняемого, спасая его от возможного покушения, образовалась куча мала, а поверх нее рухнула и разбилась о крепкие черепа вся дюжина крашеных яиц — жонглера уже скрутили. Таким образом, когда все объяснилось, как ни крути, но дело уперлось в яйца. Кто мог поручиться, что в этом нет никакого гнусного намека? А при такой ловкости жонглирования из жонглера ведь мог бы получиться и первоклассный бомбист! По чьему разрешению жонглер не прекратил своих упражнений в присутствии императора? Кто допустил жонглера на стенд? Кто вообще допустил на Ярмарку издательство с таким названием? Что оно означает? Откуда у издательства лицензия?…
Вот тут охрана лопухнулась — лицензию Освальду Вроблевскому на открытие этого издательства император выдал лично. Издательство было совместное, Аляско-Российское, печатало как русские книги, так и английские, и те и другие — правильным, навеки установленным алфавитом, ибо латиницу император разрешил использовать только кастильскому языку, да и тут были сомнения: кому эта латынь нужна? Академик Савва Морозов считает, что ее поляки для развращения России придумали. Савва безусловно сумасшедший, но полезный — дурням есть чем заняться. Его в «Эсхато» на порог не пустят, у него все права на сорок томов «Реформированной истории» проданы издательству «Крутота», чей необъятный стенд располагался рядом со стендом «Эсхато». Кто бы им стенды продал иначе: единственная гарантия, что друг друга не взорвут — пусть стоят рядом.
Защитив царя, охрана решила поглядеть на жонглера, и не поверила глазам: тот хоть и был скручен, но освободился, прыгнул на старое место, добыл откуда-то еще дюжину яиц, и снова принялся жонглировать. Хотели его опять скрутить, но появились сотрудники «Эсхато», и среди них — известный всей Москве дрессировщик Пересвет Хохмачев. И уже через мгновение у всех на душе стало как-то нехорошо, ибо изумительный жонглер, повинуясь приказу дрессировщика, жонглирование прекратил и послушно взял кусочек банана. Был он не только рыжим, был он еще и орангутангом — не зря царя, малость близорукого, но не хотевшего носить ни очки, ни линзы, его внешность смутила, показался он царю чем-то знаком.
И все это, к сожалению, снимало полсотни корреспондентов, и телевидение тут было, и много кто. Арестовывать сюжет уже не имело смысла, положение мог спасти только сам царь. Он так и сделал: шепнул кому надо через плечо, и через миг перед ним поставили Вроблевского. Царь надел на лицо самую сердечную из улыбок и заключил стареющего издателя в объятия:
— Удружил, милок, удружил. Спасибо. И рассмешил! Какой у тебя, однако, редактор многосторонний! Яйцами машет!
Издатель понял, что голову с него сейчас пока снимать не будут, и принял нужную позу — чтобы корреспонденты его с царем сфотографировали. Сенсация во всех газетах мира немедленно распалась и отъехала с первых полос на четвертые, а то и дальше. Все поняли, что аттракцион для развлечения публики опять устроил сам русский император, опять всех вокруг пальца обвел, хитрость его дьявольская, славянская, русская, великия, малыя, белыя и далее по всему коронационному титулу на шести страницах. На том даже орангутанга помиловали, но яйца было впредь велено давать ему крутые, чтобы соблазна метания оных не было.
Все бы так, только император себя дураком чувствовал. В прежние годы плюнул бы он на это дело, а теперь на него смотрел сын. И менее всего царь хотел быть смешным в глазах наследника престола. Еще и потому, что цесаревич очень много знал для своих лет, и очень много умел такого, о чем Павел не мог и помыслить — и фехтовал неплохо, как доложили царю, и потребовал пять раз в двенадцать дней допускать себя в манеж к лошадям. Лошадок из Рязани оставили немедленно, самых смирных и послушных, манеж на задворках усадьбы тоже имелся, но царь психовал: а ну как понесет и сбросит?.. Тут же вспоминал, что это его самого на книжной ярмарке невесть куда понесло, и брал себя в руки.
Странно. Столько лет ждал встречи с собственным сыном, и никакого душевного потрясения ни с той стороны, ни с другой. А ведь царь три параллельных разведывательных службы создал, и все ради того, чтобы хоть что-то о семье в эти годы узнавать. Две первых ничего не дали, помогла только подсказанная дядей Георгием гениальная мысль: поручить добывать сведения о Киммерии своим же сепаратистам-сектантам, глубоко уверенным, что народ скрытой страны — их естественный союзник в борьбе с великой тайной тайн. Назвались это новые люди василианами, последователями иеромонаха-расстриги Василия Негребецкого. Напутствовал Василия на создание секты сам Фотий по царскому приказу: василиане полагали, что Кавель на самом деле слово неправильное, а правильно — Павел, так что если отец — Павел, и сын — Павел, то за ними и следить надо — кто из них когда и кого. Само собой, новым сектантам потребовалась и новая молясина. Увы, пришлось согласиться на такую, которую нехотя подсказало свое же подсознание: Павел метал тут в Павла посохом. Молясину заказали в Киммерии, у обеих фигурок Павлов лица были взяты с монеты в пять империалов, так что за использование ее в любой момент можно было клиента отослать на остров генерала Врангеля поднимать целину. Но Павел велел дать василианам пока что свободу: так информация шла в руки сама. Присматривать за василианами поручил старым союзникам, скопцам-субботникам. Царь полагал, что скопцы-субботники, которым он дал свободу вероисповедания, в нужный момент всех лишних даже не уберут, а вольют в свои ряды. Василиан набралось сотни две, все — проверенные токсикоманы, поселились они под Чердынью, и трогать их там было никому не велено.
Царь дал знаменитому инородцу, мулату Доместико Долметчеру, разрешение выстроить в Чердыни очередной трактир «Доминик», и замер в ожидании. В итоге царь вообще-то мало что получил, только номера газеты «Вечерний Киммерион», через два дня на третий, да и то с опозданием, к нему стали попадать. Но оказалось, что все важное про его семью именно там есть. Тогда — успокоился. А теперь понял, что не было у него на душе большего покоя, чем когда жена и сын надежно прятались в Киммерии. А теперь? А теперь, хоть столько лет и ждал этого мига — один страх на каждом шагу. Страх как эндемическая кремлевская болезнь, ею тут все жильцы терзаются уже восемь с половиной столетий, и непохоже, чтобы существовало от этой беды лекарство.
Повелеть, что ли, лекарство от страха изыскать? Смешно, подумал царь. Василиане считают, что имя «Павел» как раз и происходит от слова «павелеть», так что вот и повод для реформы правописания. Еще чего, и так денег в казне кот наплакал, все уходит на социальные программы, на армию, на спецслужбы. Иди управься с махиной, по территории чуть ли не самой большой за всю письменную историю человечества. Мысли тут же ушли в сторону внешней политики.
Итак, осенью в Штатах выборы. Предиктор ван Леннеп давно все написал и разослал, а граф Гораций сказал, что дополнения есть, но незначительные. Так. Победит, после длинного скандала, республиканец Мос, он же Маз, из-за сходства фамилии с названием маргарина «мазола» на третий день своего президентства заработает прозвище «мистер Маргарин». И вполне будет доволен: скромно, и уводит мысли среднего класса от подлинной его фамилии — Мазовецкий. С ним можно не ссориться, уж больно нынешний, Бенсон, в печенках сидит: две ходки в Белый дом сделал, а туда же, мало ему. Но вот с его конкурентом, с мэром Бриганти, придется еще горюшка хлебнуть. В будущем году от отчаяния тайно примет ислам — и пошла-поехала поддержка всякой сволочи, а на эту сволочь когда еще получится всех остальных натравить: индуистов, буддистов, ламаистов, вудуистов, мормоно-конфуцианцев, хотя таковых, может быть, уже и нет, но важно, чтобы все тут дружно били врагов, а не кто-то один. Все, кроме Российской империи, а она потом в миротворцы будет приглашена. Ох уж этот мир! Опять воевать, а Павел этого не любил даже чужими руками делать. Опять же головная боль — пора делить Антарктиду. А лучше забрать всю.
И вот это серьезно. Меморандум, по которому она никому не принадлежала, кончился и прокис в девяностом году, и никто его не продлит даже в ОНЗОН. Покуда Чили с Аргентиной цапаются из-за Земли Грэхема, — она к ним словно лапка на карте протянута от почти круглого материка — надо брать все остальное. Причем не себе, а попробовать создать крепкое, через Тихоокеанский пролив, федеративное государство с Аляской. Можно будет из Новоархангельска в антарктический Святоникитск туннель проложить, как из Англии во Францию. Правда, длинный получится туннель, но император давно знал, что на земном шарике места нигде не много, а значит — и тут можно что-нибудь сделать, чтобы туннель был покороче. Ну, а латиноамериканский дядя тем временем разберется и с Чили, и Аргентиной.
Вспомнив дядю, император потеплел сердцем. Хорошо, что Державствующая признала святого Якова Шапиро также и православным святым, не только местнопочитаемым, но полноценным, ибо не его ли чудесами в России нынче нефти оказалось больше, чем на всей остальной суше, не его ли молитвами рыба в российские сети плывет и большая, и малая, а если какая не плывет, то она лишняя, следовательно, и плыть не должна? Царь любил отведенные ему покои в российском посольстве, два шага до дядиного президентского Паласьо де Льюведере, любил сам город Сан-Сальварсан, дикую послеполуденную жару, во время которой так хорошо посасывать кашасу и решительно ничего не делать, предаваясь бесконечному отдыху дня три, а то и все четыре. На больший срок Павел со службы не отпрашивался. Интересно, кто бы его отпустил? Кто не работал императором, тот вообще ни хрена в жизни не делал, разве что груши околачивал.
Кстати, еще до коронации, которую мысленно царь уже приурочил к собственному юбилею, к двенадцатому ноября, — так еще и экономнее, все одно гуляние устраивать, так лучше одно, чем два — нужно с нареченной и с будущим наследником к дяде слетать. Романьос не стар, наследника не назначает, однако ведь и он не вечен, да и сам институт президентства доживает последние десятилетия во всех развитых странах. Даже пожизненное президентство — не решение проблемы, только отсрочка. Монархия неизбежна, ибо только она для человека естественна, а что естественно, то человеку и необходимо.
Царь без посторонней помощи облачился в спецодежду — в джинсы и куртку-венгерку — и перешел в малый кабинет, с видом на крохотное юсуповское кладбище, на котором что ни могила, то статуя работы Кановы или уж как минимум Непотребного. Тут стоял изолированный от внешнего мира компьютер, прозванный по имени славного героя русской Калифорнии Сысоя Слободчикова, сажавшего персиковые сады на реке Славянке — «Дон Сысой». Дон Сысой был зациклен на самой серьезной, кроме кавелитства и личной жизни, проблеме российского императора — на создании нормального императорского дома для нужд управления тем, что нынче представляют из себя Соединенные Штаты Америки, пятидесятизвездочная нелепица, не способная отказаться от средневековой избирательной системы даже для того, чтобы дать победить на выборах хотя бы простому большинству избирателей. Для нужд этой будущей империи Павел шесть лет тому назад пожертвовал гору Казбек.
Теперь гора была целиком источена подземными ходами, и частично в ней уже обосновался Центр Монархических Технологий, консультативный институт лично при императоре, во главе со старшим братом графа Аракеляна — Тимоном Игоревичем, блестящим выпускником Академии Безопасной Государственности, в будущем — имени Георгия Шелковникова. В силу того, что братья по матери оба сами были Шелковниковы, царь надеялся, что сделал для института хороший выбор. Монархия в Соединенных Штатах должна быть восстановлена сразу после наступления нового тысячелетия, а ведь этот народец сам не догадается, нужно династию подобрать, создать дворянство и дать ему умеренные привилегии, ну, и все прочее, это уже работа для Центра и вообще дело техники. Важно претендента найти, — чай, самого-то Павла сколько десятилетий искали, насилу подобрали. А ведь могли и ошибиться. Погибла б тогда и Россия, и Штаты, и весь цивилизованный мир, и остался бы для человечества один путь — на тошнотворный «азан», на голос муэдзина, созывающий правоверных бросить все дела и бормотать невесть что. Ислам — религия, запрещающая выпивку, следовательно, неестественная. А все, что неестественно, человеку совершенно не нужно. Но, к счастью, Павел полагал, что при нынешних шансах человечество еще вполне можно привести к окончательной победе монархического строя, к светлому будущему и просвещенному миру во всем просвещенном мире, покуда непросвещенный мир соберется с силами и уж как-нибудь да просветится.
«Дон Сысой» спел шесть нот государственного гимна, и засиял монитором. Из династий выбрать было очень можно, к примеру, Романовых в Штатах имелось до причинного места и больше, но ни предикторы, ни здравый смысл пользоваться ими не рекомендовали. Кандидатом должен был быть чистокровный уроженец США, кровь и почва прежде всего, но и только. Хорошо подошел бы кто-нибудь из голландцев, Новый Амстердам построили именно они — но Павел имел серьезные опасения, что один голландский предиктор для страны, да еще и не уроженец ее — это уже много. Примелькавшийся за века WASP обозлил бы страну, в которой эта группка давно стала меньшинством. Еще меньше годился поляк, и без того нынешний президент был таковым. Хотя компьютер и не исключал, что сам Джордж Мазовецкий может ночами мечтать о короне императора Георга Первого. Но это его проблемы, афроамериканцы такого претендента еще поддержат, а латиносы терпеть не захотят. Может, подойдет латинос? Отпрыск испанской короны… или португальской.
Павел вывел на дисплей содержимое папки «Браганца». Итак, что имеем? Джон Бриджесс… почему Бриджесс? А, это его дед от «Браганцы» столько оставил… Штат Орегон, это привычно… Женат, жена — Элизабет Роуч… Что за Роуч, никакого крапивного семени… Нет, Роуч — это в прошлом Ротчи… Ротшильды, что ли? Еврейку не стоит, хотя почему… Ах, вот что — это потомки Ротчева, русского почти что губернатора Калифорнии в середине прошлого века. Одно к одному. Ну и что — бензоколонка? Бензоколонка — это нефть, а нефть откуда идет? Известно, с Аляски, через трубопровод компании «Беринджи Ойл», или, как шутят в Новоархангельске, «Берендей и компания». Двое детей, оба сыновья. Увлечения… увлечения…
И тут император набрел на такое, что решительно переломило ход мировой истории. У скромного орегонского владельца автозаправки, по происхождению португальца, имелось единственное хобби: он пел португальские фадо под аккомпанемент собственной португальской гитары. При том не знал по-португальски и полусотни слов, но это не важно: сам Павел, для которого именно португальская гитара служила утешением во все годы соломенного вдовства, не знал и десятка слов на этом языке, но любимых мелодий помнил наизусть на сольный концерт в трех отделениях. И это общее увлечение решило судьбу мира.
Предиктор Гораций в своей московской квартире поглядел на часы: именно в это мгновение царь должен был выбрать американского императора. Жаль, Доместико Долметчеру придется отдать свои запонки. Они, увы, отгранены от королевского топаза дома Браганца — он так их фамилией и называется. Жаль Долметчера, но он себе новые купит, или царь ему подарит.
Когда на одной чаше весов лежит судьба планеты, а на другой запонки ресторатора — можно ли колебаться?
16
Сатана — отличная статья доходов по нынешним временам, только и всего.
Артуро Перес-Реверте. Клуб ДюмаЕсли бы такой дым приполз со стороны, Богдан его терпеть бы не стал, и немедленно на дымящуюся территорию отрядил карательную экспедицию. Но дым шел из собственного, заново отстроенного и подправленного рабочего чертога, где младший мастер Фортунат Эрнестович какого-то позднего летника уже забил и заканчивал беловать. Однорогий черт Антибка, состоявший при чертоварне на посылках, складывал в угол одно на другое корыта с почти черным ихором, а Давыдка ликовал, ведя записи. Еще бы: благодаря наводке Антибки Богдан Арнольдович вышел на отмель неповоротливых чертей-гипертоников, неспособных к адским работам, еще менее способных оказать сопротивление и тем не менее очень качественных в массе, если, конечно, смотреть не с их точки зрения, а со стороны интересов фирмы. Через доверенные руки Богдан получил очень дорогой заказ на смазочные материалы для авиации, приспособленные к длительному использованию в условиях антарктического холода. На такое масло лучше всего годился лимфатический ихор летнего и осеннего забоя; после определенной переработки на пуд ихора получалось три четверти пуда конечного продукта, и еще оставались высокооктановые шлаки, по сути дела идентичные девяносто восьмому бензину, с той разницей, что работал на них единственный автомобиль в мире, бронированный динозавр Богдана.
Заставив нынче вкалывать на чертоварне бухгалтера, Богдан оказался в необходимости решать бухгалтерские дела самостоятельно. При непрерывной работе до десятого, много до пятнадцатого октября, заказ на смазочное масло можно было уложить в сроки. Лежбище гипертоников, указанное Антибкой, давало как раз то, что нужно, хотя шкуры тут выше третьего сорта не попадались; растянутые чрезмерным давлением ихора, жирные, обленившиеся и в целом совершенно больные черти были легкой добычей, даже перед забоем разве что мычали и скулили. Богдан такого материала не любил, но заказ есть заказ, особенно — когда в спецификациях конечного продукта стоят параметры, не годные ни для одного самолета в мире, кроме имперского транспортника «Хме-2», способного перебрасывать до тысячи восьмисот единиц спецназа. Богдан знал об этом потому, что сам конструктор этого самолета, Пасхалий Хмельницкий, некогда учился вместе с ним и с Кавелем в подмосковной Крапивне, и наличие в классе мальчиков, из которых один — Богдан, а другой — Хмельницкий, сперва привело их к выяснению отношений (Хмельницкий остался умеренно побит), а потом взаимоуважению (списывать контрольные по всем видам математики Пасхалий давал Богдану первому. Но вторым на очереди всегда стоял Кавель Глинский).
Прошло время, и уроженец Подмосковья, когда подрос, оказался немножко гением. С точки зрения науки самолеты Хмельницкого вообще не должны были летать, изящества в них было не больше, чем в ступе Бабы Яги. Летали они тоже не быстро, но зато поднимали вес — что твой дирижабль «Светлейший Князь Фердинанд Цыплин», с помощью которого император перекрыл Керченский пролив, ибо никакими другими средствами цельную арку от Кавказского берега до Крымского положить на опоры не получалось. По идее также предполгалалось перекрыть и Дарданеллы, и Гибралтарский пролив, но эти земли царя почему-то мало интересовали пока что.
Транспортник «Хме-2» брал старт где-то в Заполярье, шел через Северный полюс, проходил дозаправку на острове Диско у западного берега дружественной Гренландской империи, после чего, похоже, без посадки следовал точно по среднеатлантическому тридцатому меридиану западной долготы к Антарктиде, где на Земле королевы Мод незаметно для посторонних глаз полярники оборудовали на очищенном ото льда скальном выходе что-то вроде аэродрома. Формально царь перебрасывал в Антарктиду монахов для международного Православного Святоникитского монастыря, на самом же деле… видал Богдан таких монахов. Эти монахи уже мыли сапоги в индийском океане с севера. Теперь, видимо, собирались сделать то же самое с юга. Но все транспортники Хмельницкого без «чертова масла» арясинского производства даже в воздух не смогли бы подняться: жаль, хотя чертоварня и дымила круглые сутки, но давала в день не больше трех пудов очищенного продукта. Богдан и рад был бы дать больше, но ничего не получалось — и его не ругали. Вероятно, поступали благополучные прогнозы от предсказателей. Или была другая причина. На ее выяснение у Богдана сил не было.
Словом, в воздухе пахло не только дымом, но и аннексией Антарктиды. То ли в пользу России, то ли в пользу Аляски, то ли в пользу Гренландии. Едва ли государству без собственного коренного населения в ближайшее время светила независимость. Как и покойный Советский Союз, Россия по привычке не покидала ОНЗОН — Организации Неизвестно Зачем Освободившихся Наций, где почти ни один член и впрямь не знал — зачем он освободился от блаженного колониального ига, при котором вся ответственность за его судьбу лежала на ком-то другом, и так сладостно было в часы сьесты, в часы отпадного дольче фар ниенте, мысленно бороться с проклятыми захватчиками. Конечно, имелся вариант присоединения Антарктиды к Островной Империи Клиппертон-и-Кергелен, на что-то по крайней мере из ближних островов там претендовали Аргентина, Чили, Австралия и прочие несерьезные кандидаты, — разве что о Республике Сальварсан можно было точно сказать — вот уж ей Антарктида сто лет не нужна задаром. И без нее жарко.
Вся эта имперская политика интересовала Богдана ровно настолько, насколько от нее зависели поставки производимого чертоварней продукта. В случае поставки в назначенный срок всего заказа Богдан мог на время отложить коммерческую деятельность и вернуться к научной, в случае провала вообще не представлял, что его ждет. Но надеялся, что представлять не придется. Поэтому приходилось терпеть чад горелой рыбы, без которого сменщик не мог работать, и еще более скверный дым, валивший из дубильного цеха старика Варсонофия, где все работы, кроме дистилляции чертова ихора, сейчас были приостановлены. Пахло так скверно, что Богдан вернул к жизни крошечный хутор Невод, на самой северной границе своих владений, почти у великого болота Большой Оршинский Мох. Там стояло четыре еще крепких, хотя и давно брошенных хозяевами, избы, имелись и другие постройки, которые Богдан приказал снести; рабочей силы сейчас хватало, особенно старался негр Леопольд, память к которому так и не вернулась. Богдан чуть повеселел: по крайней мере на полдня или на полночи можно было уехать туда и отоспаться, чего не получалось ни на веранде в Выползове, ни у Шейлы на Ржавце, там тоже страдали от дыма, — а Невод каким-то образом оставался не затронут.
Севернее лежало безразмерное, чуть не самого Кашина протянутое болото: как раз в нем в свое время чуть не утоп арясинский князь Изяслав Малоимущий. На болоте, согласно местным легендам, стоял крайний северный форпост княжества, город Россия, из-за непостоянного своего месторасположения чаще именуемый в сказаниях гуляй-городом. Никто не знал дороги туда, никто на человеческой памяти не приходил оттуда, но каждый житель Арясинщины уж точно слышал рассказ, что вот тот сосед, который сейчас мимо окна к Орлушиным пошел вывеску заказывать (вариант: завернул к Алгарукову субсидию просить; еще вариант — понес золотые часы в заклад к Фонрановичу, и еще много таких вариантов) в юности знал одного, который с настоящим уроженцем России в кружале подрался (вариант: на пароходе плыл в Израиль, — вариант: служил в одном полку на Андаманах, — и еще очень, очень много таких вариантов). Факт существования России на болотах просто не ставился под сомнение. А что город сейчас от всех отрезан, — вздыхали арясинцы, — так ведь такое время сейчас — осень (варианты: зима, весна, лето), когда ни проехать в Россию, ни пройти, а кто там не был — пусть о ней своего особого суждения не имеет, покуда не посетит.
Здесь, в Неводе, принимал сегодня Богдан Арнольдович Тертычный секретных гостей. С местной фермы трехгорбых верблюдов припожаловал Кондратий Харонович Эм, ученик великого вологодского селекционера Израиля Зака, которому империя нынче была всецело обязана всем поголовьем приполярных верблюдов — одногорбых и более. Кондратий Харонович работал над выведением верблюда о четырех горбах, и пришел просить помощи. Лишних денег у Богдана давно уже не было, но просителю могли понадобиться не только деньги, да и вообще если сумел человек добраться до здешних владений, то может от него быть и какая-то польза. Ненужных и вредных ни одна из дорог сюда давно не пропускала. А Кондратий хоть и был от рождения вологодцем, но в Арясине прижился давно, с пятидесятых годов — сразу, как из лагеря вернулся.
— Благослови, батюшка, — говорил Кондратий чертовару, который был ровно вдвое моложе него, — нет мне удачи: не растет горбность у полярной версии. А ведь у меня заказ особый, не каждому доверят такой…
Богдан сверкнул глазами, стороннему наблюдателю, которому внешность мастера неизбежно мнилась немного птичьей и хищной, почудилось бы, что он клювом прищелкнул и заклекотал. У него заказ был еще важней, и от той же персоны, честно говоря. Мастер все никак не мог понять — если уж Зак с учениками вывел полярного верблюда, то зачем понадобилось умножать число его горбов. Ясно же, что затребованы эти животные для Антарктиды. Кто и что там с ними делать собирается, и для чего лишние горбы вдруг потребовались? Чертовар решил сострить попримитивнее, но из уважения к стальным зубам гостя, привезенным с Таймыра, грубить не стал.
— Что ж, горбатого лепить по новой моде будем? — Чертовар взялся за бутылку темной жидкости, предлагая налить по новой. Гость согласился. Прежде чем отвечать, выпили. Селекционер, с виду спокойный, но все равно сильно нервничающий, долго глотал жидкость, почти пережевывая ее, отваливая губу, — если кто не знал, над разведением которого животного этот ученый бьется, сейчас бы догадался: столь велико было накопленное за десятилетиями общения с верблюдами сходство. Потом гость заговорил.
— Имеем: поставлена задача. Полярный верблюд должен быть морозоустойчив, как овцебык и больше. Размножаться должен — как пингвин, при восьмидесяти и меньше, если по Цельсию считать, это по Реомюру где-то минус шестьдесят пять. Бегать — как гепард, сто верст в час и быстрее, если по прямой. Ну, и многое другое. А горючее ему где запасать? Ясно, в горбах. К середине октября все поголовье сдаю, кроме племенных трехгорбых. Только в контракте у меня еще и образцовый четырехгорбый значится, у меня их, бывает, приносят мамки-верблюдицы, да только те мрут в первые сутки. Ни один батюшка ко мне на ферму ни ногой, все к тебе посылают. Вот.
— А конкуренты что? — спросил Богдан, деловито хрустя одновременно огурцом и грибом.
Гость мотнул головой, по-верблюжьи выдвинул вперед нижнюю челюсть, сплюнул на пол сквозь бороду.
— Нет у меня конкурентов, почитай, что нету совсем. Старик Израиль на покой ушел — говорит, пусть молодые горбность повышают. А кто молодые? Я да Борщак на Алтае. Только что Борщак может? У него от пары трехгорбых норовит дромадер произойти. Бактриан в крайнем случае. Даже то добро, что Зак полвека наживал, удержать не может. Да и дела полярные плохо понимает, академии-то в южном Казахстане проходил, не как я. Копыто разве такое должно быть у полярного? Теплое должно быть копыто! С приопушением, с подшерстком — как у ньюфаундленда, чтобы полдня в ледяной воде мог простоять. А у Николая — это Борщака так зовут, его дальше Конакова поезд не пускает, так что ты с ним не знаком, батюшка, прости, — у него верблюд, можно сказать, небоевой. Цирковой у него верблюд на конвейере, с таким только польку танцевать.
— Так зачем четвертый-то горб? Увеличить рост, соответственно и сами горбы прибавят в весе, разница-то какая?
Селекционер посерьезнел.
— Видишь, Богдан Арнольдыч, это я уж только тебе и только наедине… Не на то дело мне четырехгорбый заказан. Это ведь не для полюса, это — ездовой, для прогулок. Под седло на троих, значит. Чтобы два охранника…
Богдан протянул руку через стол и прижал ее к столу рядом со стаканом гостя: жест был вполне международный: все ясно, дальше можно молчать. Помолчали. Выпили опять. За распахнутым окном избы висел комариный столб, но внутрь даже сдуру ни один комар не залетал, продымленная одежда чертовара морила кровопийц на лету. Тем временем Богдан напряженно соображал. И пока что решительно не мог понять — чем помочь такой беде. Отказать тоже было нельзя: госзаказ, как-никак, у обоих, и — неровен час — еще самому когда-нибудь на верблюжьей ферме что-то понадобится. К примеру, по здешнему болоту ни один вездеход не пройдет, да и танк утонет. А Кондратий на трехгорбом чуть не по зеленой воде пришел к Неводу — напрямую, из-под Городни, с крайнего северо-запада Арясинщины — сорок верст, почитай.
Мысленно чертовар уже перебрал своих нынешних гостей. Конечно, если батюшки к Кондратию идти не хотят, то самый бы момент послать туда Антибиотика. Только не хватил бы кондратий Кондратия при виде однорогого черта, да еще и с верблюдицами родильная горячка приключится. Далее, конечно, можно просить и Верховного Кочевника: ездовые животные как-то больше по цыганской части… да помилуйте, какой из Журавлева цыган. У него и кибитка в мерседесы запряжена. Если бы нужно было четырехгорбый мерседес затевать… Едва ли. Нет, тут нужен уж просто колдун. И чтобы не наваждения производил, а строго научное, материалистическое, даже дарвиническое колдовство безо всякого обмана и чертовщины.
Скудостью воображения Богдан обделен не был, поэтому уже на второй минуте размышления увидел пред мысленным взором лицо опрятной старушки в платке, живущей в малой каморке возле кухни на Ржавце, ежеутренне пекущей на всех обитателей санатория гору оладий, ежедневно изымающей с помощью Савелия из жерла русской печи горшки деревенских каш, преимущественно любимой тыквенной, пополам с пшеном или чечевицей, однако же и с овсяной, и с гороховой, а то и — бери выше — с гречневой. От вечерней стряпни старушка устранилась, да и не теребил ее никто, Если и не считать ее добровольную помощь по хозяйству, Васса Платоновна, по третьему и пока последнему мужу Пустолай, извлеченным из нее солидным чертом обеспечивала себе полный пансион на полгода. С того черта жиру и крови было чуть, зато кожа пошла на белую юфть, из которой казачьим частям делают много разного снаряжения, — однако, помнится, именно эту юфть откупил процентщик Фонранович, и красить ее пришлось в особый «пюсовый» цвет — отобранный по каталогу красно-бурый цвет «бедра мечтательной блохи». Помнится, Фонранович этой юфтью изнутри обил шкаф у себя в бункере, зная, что она пуленепробиваемая. Только красить в такой цвет зачем было? Но красиво жить не запретишь, а Фонранович был на Арясинщине в числе первых богачей.
То, что Васса Платоновна — кавелитка, ведьма и колдунья, Богдан знал с весны, но никак не ожидал, что ему самому понадобятся ее услуги, так сказать, по специальности. Богдан помедлил и нажал на мобильнике вызов Шейлы. Та долго не отзывалась, а потом еще с разбегу обругала мужа: нечего ей под руку звонить, когда она негра стрижет. Богдан дал ей выговориться, а потом извинился. Шейла поняла, что сейчас разговор закончится, и она рискует так и не узнать — зачем ее оторвали от такого редкого удовольствия, как стрижка негра.
— Ну дело говори, ну. — потребовала она.
— Тут вот что, — чертовар помедлил, — каша в санатории нынче тыквенная или другая?
— Тыквенная… — удивленно сказала Шейла, судя по звуку, роняя ножницы, — со шкварками… А это что, важно?
— Важно. Вот пусть мастерица, которая кашу ладила, свои вещички соберет. Скажи ей, что направляю ее в командировку по специальности. В местную командировку. Причем оплата будет серьезная.
— Какая у нее специальность, она ж пенсионерка?
— По другой специальности. Ты ей скажи, она поймет. А тебе я потом объясню, у меня от тебя секретов нет. Но вот лишний раз по телефону говорить, прости, не хочу. Очень уж ловко по нему ракеты наводятся. — Богдан резко отключил телефон. Последнее было чистой правдой, знаменитого коморского сепаратиста по кличке «Варан», Абдулгамида Бейшеналиева, спецслужбы грохнули именно так — на чем сепаратизм на Коморских островах пошел на убыль, однако в целом число террористов не уменьшилось.
Второй звонок Богдан сделал по кабельному телефону, ибо если до Ржавца из Невода можно было только в обход болота, то Выползово находилось сравнительно близко, и десять верст подвески одноразового кабеля в хозяйстве Богдана погоды не делали. Покуда не окончится работа с вечным маслом для «Хме-2», единственным местом, где Богдан мог вдохнуть чистого воздуха, оставался Невод, хотя и пахло тут болотом. А чем еще на краю болота могло пахнуть?
— Давыдка, — сказал мастер в трубку, — заведи «газик» и рви к хозяйке. Там заберешь Вассу Платоновну и доставишь ко мне сюда с вещами. Отправляю ее в командировку. В пределах уезда, скажешь, и поручение мое личное. Как управится, так вернется. Кашу без нее найдется кому варить. Нет уж, туда и обратно, она прямо сейчас складывается. Молока можешь выпить, без прочего обойдешься.
Богдан положил трубку. Селекционер мечтательно глядел в сторону болота и неторопливо шевелил немалой нижней челюстью. Было ясно, что все мысли его — о верблюдах. Дромадерах, бактрианах, диких монгольских хабтаганах и трехгорбых заках, названных так по имени великого вологодского селекционера. А также о будущих четырехгорбых, пока еще не имеющих названия. Богдан подумал, что и колючку Кондратий Харонович, поди, тоже умеет жевать, и без воды по десять дней обходиться. Но ведь его верблюды — полярные, они, наверное, снег едят.
— Будет помощь, — твердо сказал он, — Будет. Присадят горб твоим. Дополнительный. Инструкции — какой именно — мастерице сам дашь, а то она, старая перечница, еще прилепит его сбоку где-нибудь, седло не пристроишь. Но, сосед, совсем бесплатно не могу. Прости. По факту заплати, что там сможешь. Одному заказчику служим… сам понимаешь.
Гость зажевал еще интенсивнее, и Богдан отодвинулся — стало казаться, что сейчас жвачка полетит через стол. Богдан поспешил снова налить, и бутылка самым скорбным образом опустела. Чертовар глянул на стаканы и решил, что сперва нужно выпить, и лишь потом лезть за новой. Потому как ждать Вассу Платоновну раньше пяти вечера не стоило: туда, да оттуда, да сюда — три конца, а она женщина немолодая.
Выпили. Гость наконец решил ответить.
— Нет у меня выхода, сосед. Если расходы не покрою — хоть режь всю ферму на мясо. Ну, а если заказ выполню, то мне делиться прямой смысл есть. За четвертый горб заказчик платит, как за десять заков под седло. На такие деньги можно… все болото здешнее можно купить вместе с ягодой и с водяными. Вот все деньги за четвертый горб тогда тебе и отдаю. Лады?
Выбора не было и у Богдана.
— Лады, — сказал он, достал новую четверть и сколупнул домашнюю укупорку, — лады.
Выпили по чуть-чуть. В комнате потемнело, свет в окне загородило снаружи что-то массивное.
— Ханум, — сказал Кондратий Харонович, — Хану-ум! — и добавил что-то длинное на непонятном языке, вроде бы тюркском, вроде бы и нет. — Она умная, но команды я придумал по-якутски. Жить им в холоде, пусть на память о Таймыре так и остается.
— Это ж вроде бы твоя племенная, неужто и ее отдавать будешь?
Селекционер совсем опустил голову.
— А кто его знает. Если не получу четвертый горб, то все. Сдаю всю ферму и ухожу на Телецкое. Борщак дожить даст, он все-таки меня на двенадцать лет моложе, и был в Норильске, а это с Дудинкой по сравнению — Сочи…
— А я слышал — наоборот… Да по карте — вроде бы совсем рядом.
— А ты больше слушай. Кто Великую Тувту отбыл, тому уже и Колыма вроде Евпатории. Только тот, кого в Помпеях пеплом накрыло — он один молчит и не говорит насчет того, что Неаполь увидеть и умереть — самое то, поскольку все уже увидел…
— Из Помпей до Неаполя тоже всего ничего…
— Не в пространстве, а во времени. Я не о расстоянии. Хуже всегда тебе. Тебе самому. Человек иначе думать не умеет. Только верблюд знает правду. А полярный трехгорбый — лучше всех. Жизнь у меня на них ушла. Я что же, зря жил? Если б я гладкокожие персики выращивал, как в «Графе Монтекристо», то я что, больше бы сделал, лучше бы? А?
— Это у верблюда спроси, раз он такой умный. Я в чертях разбираюсь, а вот они-то безмозглые…
Разговор ушел в песок. Оставалось только подремывать и отпивать из стаканов в ожидании Вассы Платоновны, которая, если б и поспешала, раньше пяти тут быть никак не могла.
Хмель чертовара не брал. Собеседник из селекционера был никакой. Давыдка все не ехал.
Богдан вздохнул и перевел глаза на столешницу, которую покрыл газетой перед выпивкой, чтобы лишней уборки потом не затевать, чтоб запах рыбы хоть от стола не шел: закусывали опять же снетками. В газете — в чтимом и читаемом почти в любом российском доме «Обаче!» — бросался в глаза крупный заголовок: «Аделийская озоновая дыра — преступление человечества против себя самого». «Антарктическая» — перевел про себя мастер непонятное слово. Кто бы подумал, что русского царя заинтересует материк несуществующих антиподов. Как-никак именно «Обаче!» было негласным рупором Тайной канцелярии. В «Приоритетах самодержавия» пока что лишь спортивная колонка сообщала об успехах русских альпинистов в Антарктиде, да церковная хроника порою бегло извещала о закладке второго, третьего, четвертого православного монастыря на разных берегах этого уединенного континента. «Православные всех стран, уединяйтесь!» — богохульно подумал Богдан и налил по следующей.
— Из чего гонишь, Арнольдыч? Из рису? — вдруг задал вопрос гость. Богдан посмотрел на него как беркут на лису, понятно, перед тем, как свернуть ей шею когтями.
— Обижаешь, Кондратий Харонович. Разве не видно, что из водки? Берешь четверть «Адмиральской», завода «Его Императорского Величества Магический Кристалл», она самая чистая, перегоняешь с желтым донником для цвету — в остатке смола, ее пить нельзя, а вот это — как раз вполне можно. Ну, будем…
За окном зарычал и заглох мотор вездехода: Давыдка наконец привез Вассу Платоновну.
Ведьма появилась традиционно: в платочке, с холщовой сумкой и с огромной тыквой. У тыквы был срезан верх, внутренность ее, видимо, уже пошла на кашу со шкварками, но корка оставалась свежей. Почему-то Богдан подумал, что это та же самая тыква, с которой одержимая антиноевка приехала к нему в числе тринадцати бесоносителей еще весной. Интересно бы узнать — но сейчас было как-то не до того. Васса истово перекрестилась двойным офенским крестом; на Арясинщине так делали многие, если батюшка не видел. Поскольку крест был двойной — сверху вниз, снизу вверх, слева направо, справа налево — он был, по мнению местных жителей «крепче» обыкновенного.
Потом старушенция, не выпуская поклажи из рук, аккуратно пала на колени и отбила земной поклон чертовару. На Ржавце все знали — кто здесь царь и кто бог. А также, с момента появления Антибки, кто — черт. Черта тут никто не боялся, скорей боялись за него, а ну как бог передумает и своего почитателя все-таки пустит на мыло.
Богдан тоже кивнул, соображая, как бы убедить ведьму выполнить работу качественно и быстро. В том, что она дополнительный горб верблюдам присадить может — даже два — у него сомнений не было. Вообще-то ведьм он видел немало, — та же двурушница Ариадна Столбнякова, владелица косушечной, как установил Кавель Адамович, не просто торговка молясинами, но и шпионка нескольких запрещенных кавелитских сект одновременно, тоже могла бы присадить что горб, что грыжу не только верблюду, но хоть бы и носорогу. Только ее потом из Выползова не сплавишь. Не сплавишь… Что-то есть в этой мысли, надо будет потом обдумать. А пока что чертовар перешел к делу.
— Любезная Васса Платоновна, просим тебя как специалиста. Одна только ты помочь и можешь.
— Кашу? Оладьи? Мигом, где тут печь… Да чего там, я ведь и требуху томить могу!.. — Старуха без приглашения уселась на скамеечку у двери, но никто и не возражал. Руки Вассы, все в пигментных пятнах, беспокойно шарили по ребрам тыквы, повторяя сложный узор — словно она перебирала четки. Ритм движения, если бы кто присмотрелся, составлял сперва восемь одних линий, потом восемь других, следовала пауза, быстрый набор иного рисунка — снова пауза — и все начиналось сначала. Бывший следователь ФСБ Кавель Адамович Глинский, присутствуй он здесь, а не распиливай на Ржавце бревно на пару с негром Леопольдом, тут же прочел бы по ее рукам две главных мантры ее толка: «Кавель Кавеля любил — Кавель Кавеля убил» и «Ной, не ной — Антиной иной!» Старуха-ведьма была верной антиноевкой и потому страстной гомофилкой.
Богдан поморщился. И эта туда же — ваньку валять. Стал бы он ее для оладий за столько верст на вездеходе катать.
— Васса Платоновна, коротко: я знаю, что ты ведьма. А у друга моего… и учителя, у него — ферма. Там верблюды. С тремя горбами каждый. И каждая. И нужно мне, чтоб рождались у них четырехгорбые. Как у верблюдов самцы называются? Жеребцы?.. Кобели? Ну, неважно. Нужно, чтобы на них три человека сидеть могло. Верблюды мощные. Но горбов мало, нужно еще один присадить. Как грыжу. Заплачу, не обижу. Ехать прямо сейчас. Назначай цену и езжай, некогда мне торговаться.
Пальцы старухи забегали по тыкве с удвоенной скоростью. Она даже не вскинулась, когда Богдан обозвал ее ведьмой, против правды не попрешь, да еще после того, как из тебя в старые годы через такое место цельного настоящего черта вынули. Но свою выгоду Васса блюла строго. Размышляла она меньше минуты, жевала губами, подсчитывая, непрерывно крутила крышку тыквы. Потом сказала:
— Позволь, благодетель, на расходные нужды испросить тысячу дохлых крыс, из них одну черную вида Mus decumanus, они в Южной Америке нынче водятся, так что должны найтись и у нас. Дегтю березового малый окарёнок, два гарнца льняной дуранды, макуха тож, помело поганое, отрез сафьяну да пять золотых империалов!
Богдан тоже посчитал в уме:
— Крыс — правильно, деготь, макуха — все верно… Помело на ферме и так найдется, — а жир лягвы? Как без лягушачьего жира? И зачем тебе империалы?..
Васса Платоновна хитро улыбнулась.
— Жир лягвы у меня при себе всегда, я без него никуда. А что империалы мне зачем? Милок, ты ж вроде большой. Ну скажи сам, зачем пожилой женщине империалы? Да и атлас, если честно? Я ж работать иду, не на лодке кататься!
— И верно, — хмыкнул мастер, — не на лодке. На верблюде. Иначе под Городню вы и не доберетесь. Вечно я забываю, на что деньги людям нужны… Крыс получишь, закажу на санэпидстанции — дня через два тебе их подвезут, а черную в Москве отыщем…
— Деготь я сам найду, дуранду тоже, — подал голос селекционер, — империалы тоже мои, атлас на Буяне купить можно.
Стороны готовы были договориться, но ведьма все еще медлила: ей было нужно еще что-то.
— Ну не тяни ты! — не выдержал Богдан.
— Батюшка, — решилась Васса Платоновна, — я горб-то присажу, вельблуд не камелопард, ему привычно. А тайну мне за то скажешь?.. Только мне, на ушко? А?.. — старуха начала краснеть, напоминая что-то среднее между юной девушкой и старой свеклой. — Ну, ты же знаешь… Ты ведь правду знаешь, истинную правду, и нехристь Курултаев говорит, что знаешь, и нехристь Зиновий тоже, а он куда как образованный нехристь, английский замок языком без рук открывать умеет… Ну, Кавель Кавеля все-таки, либо как… — со стыда старуха говорила все тише.
Чертовара перекосило.
— А, чтоб тебя! Давай делай, что говорю, и качественно делай — не то я с тобой не так поговорю!
Васса сникла.
— Ну… а хоть радеть-то мне можно? — она похлопала крышкой по тыкве — там у нее, видимо, была молясина, и скрывать это нынче уже не имело смысла.
— Да хрен с тобой, радей. Но чтоб горб мне был — как Кондратий Хароныч укажет! С ним и поедешь. По дороге изучишь, кстати, вон, за окном Ханум стоит, жует — у нее три горба. Но ее не трогай, нужно, чтоб у ее жеребят… или как там? Чтоб у верблюжат было по четыре горба! Сколько ни принесет! И чтобы не долго ездила!
— Быстро не выйдет, Богдан Арнольдович, — подал голос селекционер, — я быстро и не прошу. У моих больше одного верблюжонка не бывает, это, кстати, у них общее правило, от горбности независимо. И носит его мамаша почти четырнадцать месяцев. Я скажу, у которых с четвертым горбом родиться должны — мне нужно, чтоб молодняк живым оставался! А если б каким чудом у взрослого четвертый горб отрос — ну тогда ва-аще, все имущество мое имею сдать без описи…
Васса соображала шустро.
— Это можно, благодетели… Но полпуда омелы нужно еще тогда, да позвольте уж и отрез сатина, синего, лучше серизового… вишневого, по-теперешнему.
— Ладно, хрен с тобой, — ударил чертовар ладонью по краю стола, — хватит, все получишь, только не ной…
— Антиной — иной! — с готовностью подхватила Васса.
Не успел селекционер на верблюде, обнимая старушку впереди себя, удалиться и на сотню аршин к северо-западу, не успел Богдан налить себе заслуженные полстакана полугара из водки с желтым донником, как задребезжал телефон. Притом кабельный. Чертовар взял трубку и с удивлением обнаружил но другом конце провода своего подручного черта Антибку.
— Владыка и повелитель, — сказал тот, едва ли не учетверяя каждое «л», словно желая отравить жизнь всем японцам на свете за неупотребление этого звука, — К усадьбе пришли почтенные гости с востока, и просят о свидании с тобой, великолепный, я взял на себя смелость…
— С востока — это от Кимр?
— О да, владыка, с Комаринской дороги, из Кимр…
— Тогда правильно взял, — перебил его Богдан, соображая, что, коль скоро Фортунат рабочего поста покинуть не может, Давыдка же сидит здесь, в Неводе, за рулем вездехода, то и позвонить из Выползова — стыд сказать, кроме ручной плесени, — было некому. Нет, определенно не хватало кадров. Нужно, если деньги за госзаказ медным тазом не накроются, кого-то на постоянную службу взять, и выбор есть у Шейлы на Ржавце — тот же акробат еврейский, поди, многому обучиться может, если уже не обучился, — Через час буду… А то и меньше.
Богдан и гадать не стал, кто к нему прибыл: каких только гостей он за последние годы не навидался, почти не выбираясь за пределы древнего княжества! Осаждали его импортные сектанты, среди них наиболее настойчивыми были литературные униформисты, поклонники писателя Толкиена в том числе. Приходили свои — почитатели пророка Саввы Морозова, который был еще хуже импортных самославцев. Вызверялись моргановцы на ярославн, воробьевцы на пощадовцев, щеповцы на влобовцев, черноборы на желтоборов, да и красноборы туда же норовили вляпаться: Каша, верный Кавель Адамович, уже научил Богдана в них немного разбираться на всякий случай. Все они были для Богдана одним миром мазаны, все просили что-нибудь им продать или подарить, и всех он, как и сатанистов, провожал без почета. Впрочем, не без исключений. Взять хотя бы орду Кавеля Журавлева, так и не спешившую сняться с места, так и стоявшую в лесах и справа и слева от дороги, по которой Давыдка медленно вел вездеход к чертоварне. Верховный кочевник сказал, что ждет «прихода парохода». В подробности вдаваться не стал, а Богдан не нашел нужным расспрашивать. Непрошеный союзник оставался настолько ценен как связной и советчик, что Богдан, его бы воля, вовсе пригласил журавлитов никуда с Арясинщины не укочевывать.
Поперек тропки, аршин за триста до чертоварни, путь был перегорожен: тут стоял старый знакомый, кабинетный рояль Марк Бехштейн. Давыдка остановил машину, Богдан спрыгнул на землю. Страж Камаринской тропы хотел его о чем-то предупредить, в этих случаях он всегда заступал человеку дорогу, и приходилось вести с ним разговор, — от двухсот тридцати рояльных струн одним языком не отбрешешься.
— Добрый день, Марк Ильич, — спросил Богдан, — чем обязан?
Рояль издал два-три аккорда из третьего концерта Бетховена — надо думать, прокашлялся. Потом заговорил, приподняв крышку и нервно шевеля педалями.
— Необычные гости, Богдан Арнольдович. Впервые с официальным визитом к вам прибыла группа киммерийских ученых и дипломатов. Если могу быть полезен, я тоже к вашим услугам. Если сообщение передать нужно, проводить кого-то… А вообще-то если музыка нужна будет — тоже не стесняйтесь…
До веранды чертовар дошел пешком. Чад от горелой рыбы и смрад от внутренностей забитого черта висели над поляной так плотно, что десяток топоров в воздухе удержались бы вполне надежно. Судя по всему, бухгалтер Фортунат умудрялся работать без единого помощника. Что ж, похвально в высшей степени. Однако… Однако! Мастер опять дал себе слово с первых же денег расширить штат предприятия, и поднялся по ступенкам.
За всю жизнь Богдан, помнится, не застеснялся ни разу. После кавелитсвующих всяко-боров Богдану киммерийские гости не казались чем-то экстраординарным, но лишь пока он не добрался до веранды, где Антибка их временно устроил. Один из гостей, молодой бородатый богатырь, сидел просто на полу; Богдану с первого взгляда стало ясно, что стульев на таких клиентов не запасено и лучше будет поставить тут цельное, из дубового пня долбленое кресло. Рядом с ним на лавке расположился похожий человек, тоже с бородой, но поменьше, и годами постарше — явный родственник первого. Третий человек, очень большого роста, с лысиной почти во весь огромный череп и с глубоко спрятанными глазами, стоял у окна, переминаясь с пятки на носок; этот гость был чисто выбрит, как и четвертый, преклонных лет мужчина с бакенбардами, показавшийся Богдану смутно знакомым. Гостей на тесной веранде оказалось многовато. Однако то, что это гости необычные, чертовар понял сразу. По меньшей мере у трех первых гостей он заметил совершенно необычные руки, или, точнее, пальцы рук — в полтора, а то и в два раза длиннее его собственных.
— Извините за вторжение, — сказал лысый у окна, — позвольте представиться: Гаспар Шерош, президент академии киммерийских наук. Это — доктор медицинских наук Федор Кузьмич Чулвин, это — братья Иммеры, Веденей Хладимирович и Варфоломей Хладимирович, оба гипофеты… лингвисты в определенном смысле, специалисты по редким языкам… и вообще толкователи… различных текстов, как устных, так и эпиграфических. Мы прибыли к вам как с научной целью, так и… — академик замешкался, но благородный старик с банкенбардами подхватил:
— Чего уж стеснятся… Прибыли мы сюда во исполнение воли пославшего нас архонта. Надеюсь, мы найдем с вами общий язык. Позвольте вручить вам письмо.
Высокий гость вынул из внутреннего кармана тонкую каменную пластинку и передал чертовару. Тот посмотрел на рисунок и ничего не понял: рыбки и птички, как полоумные, мчались по его поверхности строка за строкой, на буквы это было похоже, но прочесть этого Богдан не мог. Надеясь, что не облажается (точнее, надеясь, что это не один из языков Непала, которые ему по отцовской линии вроде бы полагалось знать), чертовар сознался:
— Я не знаю этого алфавита.
Высокий-лысый академик понимающе кивнул.
— Это не алфавит, это киммерийское слоговое письмо. У вас найдется немного сушеного цикория? Если протереть поверхность его порошком, проступит русский текст. Но цикорий должен быть местный, арясинский.
Такого добра на кухне у Богдана всегда хватало, да и требовался он регулярно для протрезвления пьющих сотрудников. Добыв порошок с верхней полки, Богдан прямо на подоконнике втер его в поверхность темно-красного камня. «Орлец это называется, он же родонит, — вспомнил Богдан, — из него еще саркофаги хорошо долбить. Богато».
В размышлениях о том, кому из нынешних заказчиков, интересно, придет в голову заказать себе или близким родонитовый саркофаг, Богдан слой за слоем покрывал пластинку мелко растертым порошком сухого цикория. Постепенно рыбки и птички стали глотать друг друга, и поверх них сложились вполне понятные русские буквы. Богдан наклонил голову к плечу и с интересом прочел:
«ПОДАТЕЛИ СЕЙ ПЛИТЫ ДЕЙСТВУЮТ С ВЕДОМА И ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ АРХИЕПИСКОПА КИММЕРИОНСКОГО АПОЛЛОСА.
ПОДПИСЬ УДОСТОВЕРЕНА: АРХОНТ АЛЕКСАНДРА ГРЕК».Богдан ничего не понял и вернул плитку академику.
— Кто действует? Какой плиты?
Академик и старик переглянулись, потом несколько раз передали друг другу родонитовую скрижаль.
— Это ж визитка! Где письмо?
— Ты на что чайник под Богозаводском ставил?
— А чайник у кого?
— Сам ты чайник! Что теперь делать?.. Выходит, мы теперь форменные самозванцы?..
Чертовар понял, что сейчас его примут за плохого хозяина, и вмешался:
— Господа, не нужно рекомендаций… Я же вижу, господа, что вы киммерийцы. Простите… Это видно без скрижалей…
Академик на мгновение замер, потом сообразил, растопырил пальцы правой руки и рассмеялся, глядя на них, как на новый и забавный предмет.
— Надеюсь, вы добрались без лишних приключений, — продолжал чертовар, — приглашаю вас ко мне… на ферму, отдохните. Ну, а цель визита… Цель вашего визита…
— Увидеть Россию, умом ее всю понять, потом вернуться домой, по пунктам ее объяснить и жить на покое! — рявкнул молодой богатырь, сидящий на полу. Чертовар расслышал, как от страха взвизгнул на крыльце однорогий черт Антибка.
— Это очень удачно, — сказал Богдан, — умом понять Россию. Тогда вы по адресу.
17
…долгую жизнь судьба обычно дарит дуракам, чтобы они пополнили недостаток ума богатым опытом.
Владимир Короткевич. Дикая охота Короля СтахаНепропорционально длинная ветхая тень нехотя тащилась за человеком в плаще с капюшоном от Двугорбого моста, — или, если говорить по-старокиммерийски, от Горбатой Колоши. С моста человек на остров Архонтова София как раз и сошел, а где был до того — никто не заметил, скорее всего, из воды вышел, а возможно, пришел по ней словно по суху с волн бескрайнего Рифея-батюшки. Хотя человек шел медленно, никакого сомнения не было, что никуда он не свернет, покуда не окажется на ступенях политического сердца Киммериона — старинного здания архонтсовета. Капюшон скрывал лицо направлявшегося в гости к архонту, но, хотя кругом стоял белый день, веяло из-под этого капюшона ночным туманом и дурным расположением духа.
Странник протиснулся в приотворенную дверь, вырезанную из цельной малахитовой плиты, и пошел по своим делам, между тем тень его, вопреки законам природы и логике, втягивалась за ним очень медленно, и целиком вобралась в архонтсовет лишь тогда, когда гость, надо думать, дошел до стола дежурного на втором этаже. В здании тень попала в водоворот коридорных полутеней и растворилась в них, а человек в капюшоне, напротив, наконец-то подал голос.
— Кирия у себя?
Секретарь архонтсовета, одноглазый Варух Гребенщиков, уставился на собеседника, чьего лица в глубине капюшона рассмотреть так и не смог. Замогильный голос гостя лучше визитной карточки говорил о его персоне, но и этому гостю архонта Александру Грек, по-киммерийски и по-гречески кирию, все-таки полагалось бы назвать еще и по имени. Тут весь Киммерион за двести тысяч нынче разросся, половина из них бабы — так что ж, каждая из них кирия?
Старец повторил вопрос по-киммерийски. Это возымело действие, поскольку даже ругаться на оном языке в городе не всякий умел, не только связную фразу построить.
— В лазурном кабинете, господин Вергизов. Доложить?
— Я сам, — сказал вечный странник и прошел в коридор, плечом пронизав часть косяка. Возможно, что это был обман зрения. Возможно, что и не был: из умений Вергизова способность проходить сквозь стены числилась не самой легендарной.
Глава самоуправления Киммериона, архонт Александра Грек, была крепкой женщиной лет под шестьдесят. Габариты она имела немалые, голос громкий и хорошо поставленный, взор пронзительный и характер железобетонный: в ее правление преступность в Киммерионе расти не смела, журналисты не наглели, городская стража, некогда внесшая Александру на руках в архонтсовет, сама была не рада тому, до какой степени навела ее ставленница в городе хотя бы относительный порядок. И не только в городе: даже у далеких Северных Миусов, где полноводный Рифей впадал в заполярную реку Кару, киммерийская гвардия вставала во фрунт при малейшем упоминании имени грозного архонта. Одно лишь имя государя Всея Руси, среди чьих титулов «Царь Киммерийский» на второй странице был проставлен золотом по серебру, внушало гвардейцам и простым гражданам такой же трепет. Но царь был далеко и в Москве, а архонт — у себя дома, в Киммерионе, на острове Архонтова София, поэтому даже независимые члены архонтсовета, главы городских ремесленных гильдий, предпочитали иметь дело все-таки с городской властью. Даже практически с ней одной: в силу определенных аномалий местного свойства, выход из Киммерии всем ее уроженцам без специальной процедуры был закрыт. А отвечал за эту процедуру никто иной, как нынешний визитер архонта — Вечный Странник, он же Пограничник с Яшмовым Маслом, он же Мирон Павлович Вергизов.
В лазурный, точнее, облицованный киммерийскими лазуритовыми изразцами кабинет, Мирон вошел без стука. Однако Кирию за столом сразу не увидел. Между ним и архонтским столом находился человек в позе памятника изобретателю шлагбаума, причем закрытого: присев на корточки, он тянул руку далеко в сторону, на высоте, не превышавшей аршин от пола. Человек при этом говорил, что называется, «с сердцем»:
— Вот такие дети, никак не больше, вот такие дети, нисколько не больше! И что, вы думаете, он с ними делает? Он забирает их у нас на полдня по пятницам и заставляет — что бы вы думали? Он заставляет их учить киммерийский язык! И не просто учить, он заставляет их на нем писать! Где это видано и кому нужно, чтобы дети порядочных евреев тратили время на такое немыслимое дело? Ну, допустим, они научатся не только ругаться, они научатся еще и записывать ругательства этими закорючками: рыбка-птичка. Что они с этого поимеют, кроме головной боли? А ведь это дети, это такие дети, нивроку, кирия Александра, это таки да дети и они должны учиться делу, а не баловству? Или у них есть в неделе больше, чем семь дней?
— Дней у них столько же, сколько у всех, — ответствовал железный голос Александры, — и это не просто дети евреев, это киммерийцы. Их в любой день могут избрать архонтами…
— Только после тринадцати лет! — резко прервал архонта гость, не меняя позы и еще не замечая Вергизова. Александра его тем временем уже прекрасно увидела.
— После двадцати четырех. В вашей гильдии раннее совершеннолетие. Но вы среди всех горожан имеете самый высокий уровень образования, пусть ваши дети знают еще и этот язык. Решение окончательное. Кстати, вот Мирон Павлович, он может рассказать нам — каковы успехи еврейских детей в древнекиммерийском языке. Можете, Мирон Павлович?
— Немалые успехи, — глухо произнес Мирон из-под капюшона, — ругаются так, что уже нечему учить. Сейчас перешли к письменности. Пройдем азбуку, потом начнем огласовки, лигатуры. Хорошие у вас дети, почтенный рав Аарон, — Мирон, исходя из масштаба жизненного опыта, знал, что, кому и когда сказать, если хотел погасить лишнюю свару.
— Ну, это все-таки наши дети, не чьи-нибудь, — не смог сдержать удовольствия главный Еврей, — но, может быть, можно хотя бы отпускать их пораньше? Солнце в пятницу заходит рано.
— Солнце в пятницу и встает тоже рано, — ответил Вергизов. Мне все равно. Давайте начинать в восемь утра, отпущу до обеда.
— Все, хватит, — оборвала беседу кирия Александра, — сдвиньте время занятий на час назад, и тем обойдемся. Дети должны знать киммерийский — и точка. Считайте, что это не только мой приказ, но и государственный. В конце концов, вы же, рав Аарон, читаете надписи на старых монетах, когда они попадаются?
Еврей приосанился.
— А как же! Нам преподавал азбуку еще Хладимир Иммер, хороший был человек, хотя, извините, тоже гой…
Мирон оставил при себе собственную мысль о том, что едва ли он сам может считаться гоем, коль скоро он и вовсе не человек, но жить приходится среди людей, — и вежливо поклонился старейшине гильдии, который, пятясь, покидал кабинет. Богатейший меняла с острова Лисий Хвост что-то на этом разговоре для себя выгадал. Что именно — Мирон в толк взять не мог. Кто их поймет, этих евреев. Пришли в Киммерию прямо из Вавилона, по их словам, и живут среди киммерийцев, хоть их тут то ли тысяча всего, то ли две. Говорят, в какой-то книге про ирландское пиво из-за них есть строчка про Киммерион: в нем дольше всего не было ни одного еврейского погрома. Если быть точным, то никогда. Почему только про евреев там такая строчка? Мирон не знал. Сколько он себя помнил, в Киммерионе вообще никогда не было ни одного погрома. А он тут жил, мягко говоря, с самого начала.
Вообще-то древнекиммерийский язык Мирон преподавал всем, кто хотел, но детям от десяти до двенадцати лет один раз в неделю — непременно, по крайней мире в богатых гильдиях — у Сборщиков, Камнерезов, Термосников, Художников и еще у некоторых. Никто не послал бы его ни к Вдовам на Срамную набережную, ни к Колошарям под мосты, ни, упаси Боже, к Бобрам на Мебиусы, — хотя как раз он-то туда мог бы зайти спокойно, бобры б и не пикнули. Но поголовно всех детей учил он этому языку лишь у двух малых гильдий: у Евреев, они же менялы с Лисьего хвоста, и у Винокуров с Курковской набережной на северо-востоке города, на острове Медвежьем. Эти последние владели великой тайной скоромного самогона, который гнали из мяса ископаемых мамонтов: по окончании каждого поста, особенно Великого, набожные киммерийцы тянулись на Курковскую за этим напитком; на вкус он от постного, из ячменя, мало отличался, но происхождения был скоромного и очень древнего, и потому считался необходимым атрибутом каждого разговления. Мнения детей никто не спрашивал, да и мнения родителей — тоже. Архонтсовет постановил, архонт приказал. Преодолеть его приказ можно было разве что бунтом, а идти на такое — психов нет. Минойский кодекс куда как строг: за любую провинность, если надо начальству, предполагается смертная казнь. Если никого в обозримом прошлом так не наказывали, то это не значит, что лафа всем и навеки, и делай что хочешь. Киммерийцы умели и любили соблюдать собственные законы.
— Присаживайся, Мирон Палыч, — мирно и очень устало сказала кирия Александра. Покуда гость устраивался в монументальном каменном кресле, она извлекла из мусорной корзины замаскированную бутыль и тяжелые малахитовые стопки. — Будешь?
— Пока нет, — угрюмо отозвался Вечный Странник, но капюшон чуть-чуть приподнял. Из-под него на хозяйку уставились два красных угля, но ей было не впервой.
— А я, позволь, пригублю. Совсем меня за… закооперировали эти ходоки. Жалоба на жалобе. А я, между прочим, в России была бы уже на пенсии. По возрасту. Советские льготы царь не отменил.
— Ну и оформляй пенсию, — буркнул Вергизов, — завтра тебе Змея разомкну, иди да и оформляй. Сама же без работы и подохнешь.
— Не подохну, — сказала кирия, — а нa хрен подохну. Мы все-таки тоже Россия, а в России просто не подыхают, только или нa хрен, или уж и вовсе… Ну, будь. — кирия выпила. Дозу она приняла крошечную, граммов десять-двадцать, но по кабинету разлился ни с чем не сравнимый запах родной бокряниковой настойки. Видимо, архонт пила не ради кайфа, а для поддержания сердца — как все старики в Киммерионе, кроме Вергизова, который не только стариком не был, но и человеком-то мог считаться с большой натяжкой.
Предзакатный свет, проникая в западное окно, отражался от лазурита панели, но не спешил под капюшон Вечного Странника. Тот долго молчал, так и не давая понять — зачем он сюда объявился, собственно говоря. Не затем же, чтобы дать отчет о своих уроках старокиммерийского языка, которые он, как последний оставшийся специалист, давал городской детворе, из-за чего теперь страдала шкура Великого Змея. Зима была не за горами, к ней следовало готовиться, а Змей сильно запаршивел в последний год. Но Вечный Странник уже и на это махнул рукой. Впервые на бесконечном своем веку он перестал чувствовать себя полностью защищенным в Киммерии. При всеобщем положительном отношении к московскому царю, впервые рука его дотянулась до берегов Рифея. Вергизов знал, что за южным боком Змея, буквально в полусотне верст от Чердыни топчутся василиане ересиарха Негребецкого, крадут неведомыми путями экземпляры газеты «Вечерний Киммерион» — и переправляют их в Кремль, притом и управу на них искать пока нельзя, ибо со школьных уроков не отпросишься. Словом, смутно было в сердце у Мирона.
— Слово пo слову, — после долгой паузы сказал Мирон, — а вот этим — пo столу. Надо решать чего-то. — Вечный Странник достал из складок плаща нечто вроде хрустальной тарелки и поставил перед архонтом. Только с первого взгляда казалось, что это экспортный товар, знакомый каждому киммерийцу, то есть молясина на хрустальном круге. Кирия Александра, енотовидную собаку съевшая на разборках между гильдиями, в основном этот товар и производившими, сразу увидела неладное. Но не в том дело, что молясина была очень дорогая, куски горного хрусталя такого размера не валяются не только на дороге — их и на рынке по полгода не бывает.
На круглом хрустальном диске с помощью чертовой жилы стандартным способом была укреплена планка, вместе с фигурами Кавелей вырезанная из единого куска еще более драгоценной, чем хрусталь, древесины — из миусской груши, дерева-эндемика, растущего в единственной роще близ Левого Миуса. Каменными плодами этой груши по весне выкармливали оголодавших раков на отмели Рачий Холуй, — для охраны этой отмели и ее высокоделикатесных обитателей от браконьеров и стоял в Миусах гарнизон солдат срочной службы. Древесина же миусской груши была тверже алмазного сверла, она принадлежала архонтсовету вся, до последнего отбитого морозом сучка, она никогда не гнила, и к тому же славилась неспособностью откликаться ни на сглаз, ни на чох, ни на змеиный вздох. Ошибиться в породе дерева было невозможно, резкое чередование оранжевых и черных полос ни в каком ином материале не встречалось.
На этом чудеса не кончались Вместо привычных фигурок Кавелей на концах планки возвышались вообще не люди: там стояли в боевой позе бобры с немалыми дубинами, причем как раз такой длины, чтобы при радении конец каждой из них бил точно по черепушке оппонента. Обработка фигурок указывала на руку недюжинного мастера по резке дерева, шлифовка хрусталя — на хорошего ювелира, виртуозная сборка — на гильдию киммерийских сборщиков молясин, одну из самых богатых в Киммерионе. Да и вообще нигде, кроме Киммериона, этот предмет сделан быть не мог. Не умеют такого на Руси делать. Кишка тонка, навык не тот.
Нельзя сказать, что киммерийцев никак не интересовал пресловутый вопрос вопросов — Кавель убил Кавеля, либо же Кавель Кавеля. Однако город, уже добрых сто лет как не производящий на экспорт по сути дела ничего, кроме дорогих, очень дорогих и самых дорогих молясин, интересовался этим вопросом с чисто прикладной стороны: как еще выпендрятся внешние русичи? Какую еще загадку в том же вопросе усмотрят? Стоило кому-нибудь одному обронить фразу о том, что «столяр не плотник», как возникало на Руси сразу две секты: столяровцев и плотниковцев, и одни стояли за то, что Кавель есть главный из всех плотников и вообще первоплотник, потому и победитель врага своего Кавеля, напротив же, другие симметрично утверждали, что Кавель, безусловно, столяр, кому же не известно, что даже и первостоляр, архистоляр, можно сказать, именно поэтому, батенька, он и сразил насмерть врага своего лютого Кавеля; а вот тут мог произойти и еще один раскол — ибо оказывалось, что все верно, только за свое архистолярство сам-то и претерпел архимученичество и убит был лютым Кавелем. В итоге очередной офеня приносил в Киммерион заказ на две, а то и четыре разных молясины, каждая при том нужна была далеко не в одном экземпляре, платил офеня царским золотом, пшеничной мукой, японскими телевизорами, вялеными бананами и всем, что котировалось в рядах Гостиного двора на острове Елисеево поле.
Чтоб изготовить новые виды молясин, требовалось сперва утвердить эскизы — тут оказывалась занята гильдия художников. Оказывался нужен полудрагоценный камень — получала работу гильдия камнерезов. Нужна была мамонтовая кость — обращались к бивеньщикам, а те, в свою очередь, к косторезам. Требовалась чертова жила для скрепления готовой молясины с подставкой — не обходилось без чертожильников. Наконец, нужно было собрать молясину — это могли сделать только сборщики. Они же подсчитывали и исходную экспортную цену каждой молясины, но офене, чтобы ее купить, чаще всего требовались более мелкие деньги, нежели государевы империалы по пятнадцать целковых каждый, или же самим продавцам было нужно дать офене сдачу: тут было не обойтись без услуг менялы, каковым традиционно мог быть лишь представитель гильдии Евреев. При подобной занятости, при том, что офеня-другой с новыми заказами объявлялся каждый день, при бешеном спросе и на старые модели тоже — киммерийцам было не до выяснения вопроса вопросов. Коротко говоря, среди людей, населяющих оба берега Рифея и все сорок островов города Киммериона, даже среди сектантов озерного городка под названием Триед, приверженцев кавелитства, поразившего поголовно всю Российскую империю, да и не ее одну, не было.
Кирия Александра склонилась над молясиной, потрогала фигурки, потом приставила палец к виску и произнесла «Кх-х!» — словно стрелялась.
— Есть мысли? — спросила она после долгой паузы.
— Мыслей нет, — ответил Мирон, — это бобрясина. Что бобры на всех трех Мебиусах кавелируют, я давно знаю, но никому от этого никогда ущерба не было. Возьмут две чурки, порадеют, да и сгрызут потом. Только вот это — совсем другое. Это делал человек, и не один, опасаюсь я.
— Это измена, — понимающе выдохнула кирия Александра. — Кто-то работает на внутренний рынок мимо гильдии. Причем не один работает. Тут целый букет статей. Нарушение монополии — раз, статья двести сорок первая. Минойского кодекса! Нечего смеяться, Мирон, харя твоя подземная бесстыжая, имей уважение!
Хотя Мирон под капюшоном никак не подавал признаков жизни, архонт справедливо предполагала, что все статьи с номером «сорок один» — хоть сорок первая, о предумышлении на жизнь либо же казну государева стражника, хоть упомянутая двести сорок первая о нарушении монополии, все равно приведут на память знаменитую сто сорок первую статью, над которой вот уж сколько столетий тихо ржала вся Киммерия: «А ежели кто с кобылой своей согрешит, тому наказания никакого, а кобыле задать овсу вдвое супротив обычного». Кирия выдержала паузу и продолжила:
— Два, это частное предпринимательство со злостным уклонением от налогов, статья сто девяносто девятая, да еще пункт «е» — в сговоре с иными мастерами, также преступными, в одиночку такое не сделаешь. Это статья двести восьмидесятая — поруб редкостного дерева с целью личного самообогащения. Да тут чуть не все статьи кодекса!..
— И те, где «А ежели кто согрешит?..»
Кирия не на шутку рассердилась.
— И ты туда же, язва старая! Да тут трехсотая не меньше чем десять раз!
И это была правда. Наиболее знаменитая из статей минойского уголовно-гражданского кодекса, трехсотая, она же последняя, гласила: «А ежели кто еще какое преступление учинит, что выше не предусмотрено, тому смерть, либо же, по размышлению, простить того вовсе, но на оный случай впредь не ссылаться». Изготовление бобрясины подходило под эту статью как нельзя лучше. Оставалось найти виновного мастера, а уж заодно и заказчиков, видимо, бобров — Минойский кодекс для них, как для полноправных граждан Киммерии, тоже был писан и на специальных досках самими же бобрами грызен во имя спасения шкуры.
— Сознавайся, Мирон Павлович, — где взял. Для дела прошу, раз уж сам принес. Не запирайся, не то я делу и хода не дам.
Вечный Странник долго молчал. Потом нехотя, не требуя гарантий и ничего не поясняя, очень тихо сказал:
— Вернулся Дунстан. Дунстан Мак-Грегор, бобриный зубной протезист. Мимо стражей из Лисьей Норы проскользнул — и прямо ко мне, в сторожку. И откуда он узнал, что я клюквой остудиться пойду?..
— Стой, стража-то на Лисьем Хвосте, а сторожка у тебя на левобережье…
Мирон Павлович посмотрел на кирию Александру из-под капюшона, и было ясно, что ничего хорошего он сейчас о ней не думает.
— Он же бобер! Что ему протоку переплыть… Ладно. Приходит ко мне — и бряк в ноги, эту штуку смирно так мне передает. Свистит по-своему, хотя и по-людски тоже малость может, но мне по-ихнему проще. Говорит — от самого Богозаводска бегу, из плена. Сидел на цепи у окаянного Бориса, колобкового царя. Вместе с Веденеем.
Кирия вскрикнула от неожиданности. Гипофет Веденей Иммер пропал во Внешней Руси настолько давно, что архонт уж и не чаяла о нем когда-нибудь услышать, агентурные же сведения, которые получал Вергизов от рояля, до сведения архонта доводились нерегулярно и с купюрами. Вергизов, не обращая внимания на реакцию, все так же тихо продолжал:
— Дунстан… О нем люди почти забыли здесь, но бобры помнят. Это самый знаменитый мастер-протезист, зубной техник, который у бобров на Среднем Мебиусе кабинет держал. Считалось, что он сгинул вместе с Римедиумом, с монетным двором, когда на нем мор случился. А выходит, не только офеня Тюриков оттуда с запасом серебра сбежал, но и бобра с собой прихватил. Дунька… Ну, Дунстан — он свистит, что его насильно увезли. Наверное, правда. То ли заложником его Тюриков взял, то ли, боюсь, шапку из него хотел сделать. Только мех у него плохой, он старый уже, Дунька, хотя бобры здесь, сама знаешь, не меньше вас, людей живут. Похоже, куда-то он Дуньку увез, кормил его там морковкой. Все годы. А тот к побегу готовился и свою агентуру завел.
— Это еще как?
— Это он не говорит. Думаю, детей вербует, помню такого одного ихневмона, серьезные это грызуны… Ну, да неважно, что я думаю. В общем, пока он там в темнице сидел, бывший наш офеня свою радельню завел. Заметь, без нашей молясины.
Кирия изменилась в лице. Эта новость была хуже всех, об экономике родного города архонт пеклась в первую очередь, а если кто-то радеет и ничего офеням не заказывает, то это прямой ущерб киммерийской внешней торговле. Вергизов продолжал.
— Он ее живую построил — люди у него по кругу все с той же попевкой бегают и колесо крутят. Впрочем, уже не крутят: пришел туда Варфоломей и все в клочья разнес…
— Так и Веденей на свободе?
— Выходит, на свободе. Но люди все — значит, Варфоломей с братом, академик и… сама знаешь кто, они на запад пошли. А Дунька ухватил вот эту хрусталину, еще с кого-то из людей протез снял зубной, говорит, сам делал, наверное, правда, кстати — он же мастер — и рванул к Лисьей норе. Месяц шел. И дошел. Давай, кума, решай — и с Дунькой надо что-то делать, и с хрусталиной. Плохо все, как видишь.
— А офеня?
Если мрак под капюшоном Вергизова мог сгуститься, то он это сделал.
— А это еще хуже. Сбежал офеня. Бывший офеня, точнее будет. И наказывать некого, получается. Не Дуньку же, он тут честней всех. Приговор ему твой предшественник вынес…
При упоминании предшественника, некогда известного как Иаков Логофор, а после повержения с должности навеки вписанного в киммерийскую историю как Яков Закаканец, Вечный Странник не выдержал и сплюнул в отделанный лазуритом камин. Плевок зашипел и изошел дымом, хотя огня в камине с зимы никто не раскладывал.
— Ладно, с пакостями все. Есть чуть-чуть хорошего. Как понимаешь, хрусталину эту из Москвы бобер тащил не сам. Она и весом-то с него, ну, полбобра в ней точно есть. А это со всеми кривыми тропами три тысячи верст. Даже если только от Богозаводска, где протезист сидел, через все герцогство Коми, то тысяча. Словом, пришел бобер не один.
— Чужому бобру в Киммерию нельзя. Фибер-младший такую вонь поднимет — хуже скунса.
— Какого бобра?.. С ним офеня пришел новый. Только, понимаешь, Александра, необычный офеня… В общем, на памяти моей такого не было. Несовершеннолетнего офеню имеем.
Кирия решила, что ослышалась.
— По-какому несовершеннолетний? Зов услышал — так это и в двадцать лет бывает. А двадцать четыре — только у нас совершеннолетие. В России так и вовсе восемнадцать.
Мирон отмахнулся движением рукава.
— Знаю! А у евреев, спроси рава Аарона, так и вообще тринадцать, только в Киммерии это никаких прав им не дает. Но мальчонке-то и двенадцати нет! Пришел с бобром через Лисью Нору, сейчас сидит на Офенском дворе, Василиса Ябедова его откармливает. Может, уже и накормила, тогда он показания старшим офеням дает. А это вопросов на сутки, на семь потов.
— Ну куда дитю в двенадцать лет мешки с мукой таскать? Телевизоры?…
— Это как раз дело последнее, будет бананы тягать в школьном ранце. Кстати, он в ранце эту хрусталину и принес, бобер его надоумил. Ты мне лучше объясни, как Василиса с Трифеней его от себя отпустят — они ж по Павлику сохнут с того дня, как его бабы в Москву увели! А этот, обратно, из Москвы. И тоже мальчик, и моложе даже.
Архонт пропустила мимо ушей «Павлика», хотя все же при произнесении имени наследника всероссийского престола и Мирону полагалось бы вести себя повежливее.
— Мирон Павлович, это среди наших проблем — последняя. Взял Бог офеню — дал Бог офеню. Надеюсь, хоть зовут иначе?
— Не иначе, кума, не иначе. Тоже Борисом. Но фамилия у него — Папирник. Не еврей, не думай. Вполне хохол московского разлива, и прическа у него тоже — хохол, я заглядывал. Ну, под царя нынче пол-Руси хохолки носит. Ничего, выдержит экзамен на офеню — под горшок пострижется, как положено. Словом, не бери в голову. У твоих подданых еще не такие фамилии есть.
Мирон замолчал.
— Ну, есть еще хорошие новости? — спросила кирия.
— Скажи спасибо, вроде бы плохих больше нет. Василиане за Змеем к югу лес рубят, избы ставят, к зиме готовятся, радеют. Дикого мужика видел на правобережье. Плывет в корыте и ложками гребет. Я не окликал, пусть себе плавает. Вроде все.
— Ну тогда и вправду все, — кирия деловым движением напялила очки в проволочной оправе, затем похлопала по горке бумаг слева на столе, — спасибо, что предупредил. С хрусталиной буду разбираться. Мастеров тут для выбора немного — слишком богатая резьба.
— Тоже мне теорема с фермы… То ли Ирка, то ли Хилька. Вот и весь список.
Кирия тут же сняла очки.
— Ираклий? Глонти? Он же старше Подселенцева, а тот уж две декады ничего не режет?
— А я тебе не говорил, во-первых, что это новая работа. Иди там узнай, сколько она в России пробыла. И вообще это Хилька скорее. Ахилла Захарченя. Он тоже не вьюнош, но копни гада: по-моему, это он. Словом, давай мне амнистию на Бобра Дунстана Мак-Грегора и я пошел.
Кирия опешила.
— С каких таких… фиников, то есть веников… пряников — ему вдруг амнистия? Он что ж, невиновный?
Мирон нимало не смутился.
— Тогда не надо амнистию. Подтверди приговор, который предшественник твой ему вынес. Иаков Засранец. Письменно. Знаешь, кто ты тогда будешь в истории? Архонт Александра…
— Мэ! — рявкнула кирия кратчайшее киммерийское ругательство, после которого любой рыночной драке полагалось закончиться: все неправы, все сдались, всем сейчас по ушам навесят, если не разойдутся. Остаться в веках с титулом «Засранки», хуже того, «Засранки, преемницы Засранца» архонт никак не хотела. В конце концов, бобра можно было помиловать просто за давностью лет. Или — лучше — в честь ближайшего праздника. А таковым праздником выпадала коронация императрицы Антонины, и объявление Павла Павловича наследником престола. Павел Павлович ко всему был еще и уроженцем Киммериона — не важно, насколько коренным, зато укорененным. А когда в девяносто восьмом будет царевич присягу отцу приносить, по случаю шестнадцатилетия, пусть лучше узнает, как много всего в его честь в родном городе совершается.
На фирменном пергаменте десятью словами кирия Александра даровала гражданину Дунстану Мак-Грегору все прежние свободы, возвратила конфискованное имущество и восстановила его право свободной зубоврачебной практики на всей территории Киммерии. Большего блудный сын не просил. Хотя кирия прекрасно понимала, что имущества своего он нигде не найдет, но зато за протезы будет драть так, что быстро наживет вдвое. С этим документом, держа его за уголок, чтобы подсушить печати из красного воска и желтого сургуча, Мирон вышел на площадь перед архонтсоветом, немного приподнял капюшон и огляделся по сторонам. Помимо дней народных волнений и демонстраций двенадцатого ноября в честь годовщины коронации, здесь никогда не было людно.
На Киммерион наползал прохладный сентябрьский вечер, но до мгновения, когда на улицах зажгутся фонари, было далеко. Утро в городе наступало немного позже, чем могло бы: с востока, за протокой Святого Эльма, возвышался почти отвесно Уральский хребет, поверх которого тяжелой тушей возлежал еще и Великий, в далеком прошлом Всемирный, Змей — подопечный Мирона Вергизова. Вечер наступал по расписанию, однако на шестьдесят третьей параллели он всегда приходит очень медленно, на ней, к примеру, во Внешней Руси, если и не Санкт-Петербург стоит, то Медвежьегорск в Корельском царстве, в двух шагах от Марциальных Вод августейшего предка монарха, Петра Великого. До Полярного круга, конечно, далеко, но все же долог киммерийский закат ранней осенью, к тому же обычно очень красив.
Мирон Павлович неизвестно почему посмотрел на север, точнее — на северо-восток, потому как ни прямо на севере, ни на северо-востоке смотреть вообще было не на что, а там, куда он глянул сейчас, высилась популярная у морозоустойчивых альпинистов гора Тельпосиз, известная тем, что ею Великий Змей побрезговал и как-то ее обогнул, так что она, почти единственная, оказывалась видна и из Киммерии, и из Внешней Руси. За столетия разглядывания Мирон к горе присмотрелся до тошноты, видел, как она дряхлеет и выветривается, но все-таки привык считать ее чем-то вроде старого, давно забытого комода в большом доме, которым была для Вечного Странника Киммерия — стоит себе комод и стоит, никому не нужен, ну так и не мешает никому.
И хотя Мирон не был человеком ни в каком смысле слова, глазам своим он не поверил, ибо они у него даром, что светились угольками, но на лоб сейчас полезли. В ущелье перед Тельпосизом клубилось облако, высотой превосходившее гору раза в два. Облако, почти черное, поблескивающее в лучах заходящего солнца, колыхалось, как жидкий металл, и было как-то очень уж подвижно. Самое жуткое оставалось в этом зрелище то, что все происходило совершенно бесшумно.
Обычным зрением тут было рассмотреть ничего нельзя, и то, что произошло в это время с глазами Вергизова, для слабонервных не предназначалось — если б кто-нибудь оказался рядом и ему хватило наглости заглянуть Вечному Страннику под капюшон. Однако трансформация заняла считанные секунды, и сейчас из-под капюшона просто выглядывало то ли дуло гранатомета, то ли приличный телескоп. Поскольку с площади было смотреть неудобно, Мирон слегка разбежался и по вертикальной стене вошел на крышу архонтсовета: что оказалось вообще-то неплохим результатом: в таком забытом с XIX века даже в Англии виде спорта, как взбегание на стену, максимальное достижение никогда не достигало и двух саженей. С крыши Мирон смог рассмотреть подробно, как расширяется средняя часть облака, как сплющивается оно, стараясь уместиться в ущелье, которое Вечный Странник называл Кракеновым по противолежащему посреди Рифея островку Криль Кракена. Видел Мирон много, притом в деталях, но понять не мог ничего.
Вергизов беспокойно оглянулся. На юго-востоке, на фоне темнеющего неба, гордо возвышался двухвершинный Палинский Камень — пик повыше Тельпосиза метров на пятьсот, на главной вершине которого твердо стоял незримый простым киммерийцам многобашенный замок графа Сувора Васильевича Палинского, откуда не столь уж давно был увезен во Внешнюю Русь наследник всероссийского престола, будущий цесаревич Павел Павлович Романов. От Палинского Камня до Тельпосиза было верст пятьдесят с киммерийском гаком, но жуткий, отливающий металлом рой в Кракеновом ущелье, хотя там и не жил никто, Мирону очень не нравился. Ближе всего к этому рою, на берегу Рифея, располагалось Сверхновое кладбище, где постоянно обитало человек десять обслуживающего персонала, не считая крошечного причта кладбищенской церкви Луки Елладского. Телескопическим зрением глянул Мирон и туда. К счастью, между черным роем и кладбищем тоже оставался зазор верст в десять.
Так что это за пакость такая?
Мирон заломил правую руку за левое плечо и гаркнул в рукав:
— Стима!
В рукаве затрещали радиопомехи, что-то лихо лязгнуло, словно бы где-то самолет отдал честь парой железных крыльев одновременно, и два луженых голоса ответили:
— Патруль на трассе!
— Стима, — взял тоном ниже Мирон, — ты на юг или на север?
— На север! Прошли Уральское Междозубье, курс — Палинский камень! Высота…
— Стима, высоты тебе хватит. Иди прямо на Тельпосиз и докладывай — что там творится. Я стою на Архонтовой Софии, понять ничего не могу. Не бывает такого, там чертово колесо в ущелье формируется!
Покуда эскадрилья двуглавых стимфалид, подрядившаяся нести патрульную службу на границе Европы с Азией, выполняла продиктованный Мироном маневр, рой в Кракеновом ущелье и вправду стал уплотняться, образуя подобие строго вертикально поставленного, версты в две диаметром, колеса. На улицы Киммериона стал высыпать народ: весть о невероятном зрелище уже разнеслась, причем кто-то немедленно пустил слух о том, что явился на Киммерию новый, на этот раз уже настоящий Хрустальный Звон — тот, первый, был не совсем настоящий, потому что половина народу его не видела, — колесо же видели все. Причем то, что это именно колесо, сейчас было уже ясно, сперва было непонятно, вращается ли оно, но отнюдь не человеческое зрение Мирона Вергизова уже дало ему знать, что это не одно колесо, а два, очень близко расположенных. Колеса стояли под острым углом к течению Рифея, и Мирон первым в городе понял, что вращаются кольца по-разному — одно по часовой стрелке, другое — против нее. Внутри колес просматривались спицы, сходящиеся к центру, где пока что клубился только сумрак, но уже формировалась единая, жуткого вида, ступица, упирающаяся, кажется, прямо в склон Тельпосиза; между тем гора была заметно меньше ростом, чем жуткое сооружение.
— Идем на снижение — лязгнул голос из рукава Мирона, — объект наблюдаем. Подтверждаем: колесо двойное, на каждом ободе укреплено по сто девяносто шесть подвесных люлек. Вращение колес неравномерно, после каждого сопряжения люлек — пауза. Из колеса, вращающегося посолонь, и из колеса, вращающегося противусолонь, взлетают длинные молотообразные предметы и ударяют по сопряженной люльке. После чего следует короткое скандирование, дважды по семь слогов, затем движение колеса возобновляется. Повторяю: идем на снижение…
Если конденсация черного роя в жуткое двойное колесо была совершенно бесшумна, то полет стаи железноклювых и медноперых стимфалид был похож не атаку пикирующих бомбардировщиков, — за тридцать восемь столетий, пробежавших кружными тропами от основания града Киммериона, его никто не бомбил хотя бы просто потому, что не знал о его существовании, — но помнится, упал при князе Взыскуе Миноевиче какой-то метеорит на юге, за Обратом, но без особого шума, бобры потом железо у людей на финики выменяли, а хороший метеоритный металл пошел на Майорские острова оружейникам, понаделали из них кандалов, да и те сбыли московским князьям через офеней, очень уж большие деньги за них Москва посулила. Стимфалиды пронеслись над черепаховыми крышами Киммериона и ушли к Тельпосизу для полного облета и аэрофотосъемки, а Мирон с крыши архонтсовета оглядел прилегающие улицы политического центра города.
Стимфалиды никогда не любили лишнего шума, но сами его все же производили — полетай-ка на ржавеющих и зеленеющих от влаги крыльях, так задребезжишь. Зато сами птицы во всей окружающей природе любили тишину, и поэтому к чудовищному, но бесшумному колесу летели без опасений. Заложили вираж, другой и третий, постепенно отслеживая все подробности происходящего и все детали конструкции.
Мирона куда больше волновало происходящее ни улицах. Люди сходились в группы, каждая делилась на две, раздавались крики, взаимные оскорбления, на удивление однообразные, вроде: «Твою!..» — «Нет, твою!..» — «А вот и твою!..» — «Да как же, вовсе твою!..» — и так далее; затем наиболее взведенные горожане скидывали верхнюю одежду, разбивались на пары и начинали мутузить друг друга не щадя лбов и кулаков. Однако же кулаками дело не ограничилось, с площади перед архонтсоветом уже слышался звон вывернутого из набережной турникета; кто-то дрался парой металлических секций.
Словом, никогда не знавший кавелитства город на глазах впадал в истерику, в радение и ересь. Мирон втянул телескопические глаза, двинул себя кулаком по капюшону и прыжком сиганул в дымоход. Дорога эта была ему, вероятно, давно знакома, ибо приземлился он прямо в лазуритовый камин, против которого за рабочим столом все так же восседала вконец усталая кирия Александра.
На объяснения у Мирона не было времени. Никак не заботясь о том, что его капюшон болтается за спиной и от созерцания жуткого лика Вечного Странника даже сильной женщине впору сомлеть, он схватил со стола принесенный им же самим хрустальный диск с драгоценной резьбой и с размаху грохнул об край камина. Кусок лазурита рухнул на пол, молясина же, похоже, не пострадала. Не найдя в кабинете ничего достаточно массивного, Вергизов упёрся ногами в пол, взял хрустальный диск за края и напряг нечеловеческие мышцы. Кирия что-то поняла и бросилась за дверь. Через мгновения вернулась с криком:
— Вот же тебе кочерга, не мучайся! — Она протягивала Вергизову нечто вроде чугунного лома. Однако Странник, кажется, уже и сам справился. Голубоватый диск хрусталя сперва дал трещину, потом окончательно разломился, оранжевая с черным перекладина сделала то же самое. Остальное Вергизов раскрошил между пальцами сперва в осколки, потом растер в мелкую пыль, а ее высыпал в камин. Потом в изнеможении опустился в кресло.
— Квасу дай, — буркнул он, прячась в капюшон.
В такой просьбе киммериец никогда не отказывает; хотя пальцы у кирии были и обыкновенные — а не полуторные, киммерийские, — горлышко термоса из мамонтового бивня они держали уверенно. Архонт сама сняла притертую костяную пробку и через стол протянула Вергизову чуть ли не ведерную, благоухающую лесными ароматами емкость. Вергизов присосался к краю, пил столь долго, что кирия стала опасаться — не лопнет ли он. Потом вспомнила, что Вергизов не человек, и успокоилась.
— Вот такую я принес тебе подлянку, — выговорил Вечный Странник, возвращая хозяйке кабинета ополовиненный термос. — Город уже сходить с ума начал. Думаю, десяток синяков останется, не больше, ну, турникет починить придется.
— Что произошло, Мирон Павлович?
Мирон медленно натянул капюшон на глаза. Смотреть на его обтянутый кожей череп с горящими глазами даже привычному человеку было жутко, он это знал и лишний раз старался никого не пугать.
— Ничего… Словом, снимай подозрение и с Ирки, и Хильки, это не их работа, не то весь город бы давно рехнулся, как Россия. Честно скажу, не знаю я, что это такое, но быть этому предмету в Киммерии — нельзя. Если вся Русь рехнулась, это еще не значит, что и нам надо. Бобры пусть себе рядят да гадают, Кавель Кавеля… У них, впрочем, на Кавель, а Боббер, но смысл тот же. У них что Кармоди — Мак-Грегора, что наоборот, либо же что о'Брайен их обоих. Людям это все — до клешни обсосанной. А вот если Колесо Подозрения над городом встанет…
— Что за колесо?
Мирон описал двойное колесо, заслонившее от киммерийцев склоны Тельпосиза, не забыв вставить, что встало оно не просто из ущелья за городом, но непосредственно над кладбищем. Кирия Александра мелко перекрестилась по-киммерийски, шесть раз — чтоб нечистый сон сгинул и наваждение пропало, как с детства обучены делать все добропорядочные девочки Киммериона на случай дурного сновидения. А Мирон еще и добавил:
— За долгую жизнь много чего насмотришься… и ничему, старуха, все равно не научишься. Ведь предсказывала же сивилла в год смерти Евпатия Оксиринха — «Не тащи хрусталь в лазурь, не то бяка будет!» Все решили, что старуха сумасшедшая, у вас иначе вообще считать не хотят обычно, а гляди ж ты, всего-то двести шестьдесят пять лет прошло — и уже сбылось. Кстати, как там бяка? — Мирон уже вполне овладел собой и подошел к окну. Выходило оно на восток, но Вергизов отворил раму и высунулся. — Рассыпается, оседает… Что ж, так тому и должно быть.
Из рукава Мирона послышался немелодичный звон.
— Вергизов, прием! Докладываю! Объект распался к едрени фене!
— Видел уже, Стимушка, спасибо, — сказал Мирон в рукав, — лети себе на здоровье, спасибо за службу. С севера на Тельпосиз зайдите, там с полверсты от реки, где лес кончается, мою заначку знаешь? Там тебе бочка тавота малахитового стоит, употреби с подругами за здоровье ее высокопревосходительства архонта Александры Грек…
В рукаве лязгнуло — словно кто-то отдал честь и отключился. Кирии было не до того: она с грустью глядела на разбитый камин.
— А с этим мне что делать? Лазурита нынче днем с огнем не сыщешь. А сыщешь — не укупишь. В одну цену с яшмой.
Мирон возмутился.
— Это как? Будет лазурит. На Байкале еще очень даже есть лазурит. Кто у тебя в Иркутске резидент?
Кирия молчала.
— Ладно, не говори. Так спрошу: есть в Иркутске у тебя резидент?
— Как не быть…
— А толк там какой всех сильней?
— Живоглотовцы… Ну, Кавель Кавеля учил — Кавеля Кавеля схарчил, знаешь… Дорого платят, там ведь один в пасть другому прыгать должен, этого на пепельнице не смонтируешь.
— Ну и возьмешь со сборщиков натурой — одну, две, три — сколько на ремонт надо.
Кирия вздохнула.
— Как возьму, когда за ними недоимок нет?
— Так прямо и нет? А в одна тысяча семьсот шестьдесят втором, если по-общерусичски, когда дочка императора Петра Алексеевича воевать изволила, кто недоимки отложить просил вплоть до окончания переустройства Берлина в уездный город?.. Как сейчас помню… И ничего они с той поры не заплатили. Так что давай, кума, требуй недоимки.
Кирия Александра легла всем немалым бюстом на стол, пытаясь заглянуть Вечному Страннику под капюшон.
— А что бы тебе, Мирон Павлович, не пойти к нам в архонты? Все-то ты помнишь, сам беду принесешь, сам унесешь — благодать городу, да и только.
Мирон встал.
— Ладно, кума. Хватит шуток. Мне Змея от полипов лечить, старик-то древний, весь запаршивел. Мне за василианами присматривать, за симеоновцами. Мне Стиму отпаивать. Контрабандистов ловить. Куда мне в архонты? Это дело людское, житейское. А у меня разве жизнь? Так, самозванство одно.
Кирия дождалась стука входной двери, не спеша отвернула пробку термоса, долго одним глазом глядела внутрь. Потом отхлебнула со вздохом, отставила термос и углубилась в бумаги.
18
Тот летит по воздуху, что птице одной назначено; тот рыбою плавлет и на дно морское опускается; тот теперь — как на Адмиралтейской площади — огонь серный ест; этот животом говорит: другой — еще что другое, что человеку непоказанное — делает… Господи! бес лукавый сам, и тот уж им повинуется.
Николай Лесков. ВоительницаБес Антибиотик, в просторечии Антибка, повиновался Шейле Егоровне Тертычной, в девичестве Макдуф, только по телефону: по наложенному на него заклятию он не мог удалиться от чертоварни и от Выползова дальше, чем на тринадцать громобоев, — до Ржавца же, где Шейла проводила почти все время, расстояние было вчетверо больше. Мог бы, конечно, удалиться подальше, но только в случае форс-мажора, с разрешения Богдана и по собственной воле одновременно. Телефон работал, Антибка пособлял в чертоге — и пусть себе обойдется и без разрешения, и без воли. Надо будет позже — решим.
Все же прочее из перечисленного у Лескова имелось у Шейлы под рукой и в натуре, притом в гораздо большем количестве, чем ей требовалось. Вместе с больными и работниками население санаторного хутора зашло за шестьдесят человек, а это, что ни говорите, много даже для сильной женщины.
Сейчас, во вторую неделю октября, на помощь мужа стало полагаться вовсе нечего. Богдан совсем обезумел, ибо каким-то несусветным усилием он все-таки умудрялся выполнить государев заказ на авиационное масло к пятнадцатому: именно в этот день контролер-инкассатор должен был прибыть на выползовскую веранду, сосчитать цистерны, снять вкусовые пробы, опечатать продукцию и расплатиться. Доставку купленного товара высшее в державе начальство брало на себя — раз уж мастер умудрился уложиться в заведомо невыполнимые сроки. Чертоварня чадила полтора месяца без перерыва, и что Богдан, что Фортунат были готовы свалиться на ровном месте и ни о чем не говорили, кроме как о блаженном дне шестнадцатого, когда можно будет лечь спать на неделю.
Самообман, конечно: Фортунат, может, и пойдет в запой дня на три, столько же будет протрезвляться, еще день проспит, так неделя и накапает, — а Богдан, понятное дело, как никогда больше одного дня не отдыхал, так и в этот раз не будет. Особенно потому, что вся подсобка чертога, и подсобка той подсобки, и оба ледника под верандой — все было сейчас полно не до конца обработанными полуфабрикатами-чертопродуктами. Добрые два месяца прямо в обработку поступал только драгоценный ихор, да еще кожи, которым после съема с туши лежать нельзя, иначе просто выбрасывать придется. Шкуры с гипертонических чертей были очень средние, а все ж таки — товар, и гноить его Богдан не собирался.
Бочки с маслом-96, которое никак иначе не называлось даже в официальных документах, были соскладированы вдоль края поляны, против чертога. Множество экспериментов, которые провел с этой тяжелой, словно ртуть, черной жидкостью Пасхалий Хмельницкий, показали — масло не горит, точнее, не горит в естественных условиях. Вещество это, на добрых четыре пятых состоявшее из обработанного ихора чертей-гипертоников, даже текло нехотя, если его зачерпывали из емкости. Кодовое название масла считалось тайной: было в цифре «96» что-то дьявольское, некий октановый перевертыш — и кто бы подумал, что Богдан, голову не ломая, проставил вместо цифрового кода попросту год изготовления продукта. Но приезжавший накануне первого числа Хмельницкий предупредил: в будущем году масло понадобится такое же, свой новый «Хме-22», рассчитанный на переброску сразу восемнадцати тысяч десантников — интересно бы знать, куда — он проектирует в расчете именно на этот сорт авиационного масла. Богдан не понимал, как в будущем году он сможет изготовить масло прошлогоднее, если сейчас продает все оптом. Но надеялся как-нибудь это дело решить.
Богдан часто слышал мнение, что у всех, мол, свои проблемы. И другое мнение, что у каждого своя головная боль. И еще — что своя рубашка ближе к телу. Ни одной из этих фраз он до конца не понимал и в мудрость их не верил. Ибо головная боль Пасхалия Хмельницкого — как выстроить самолет, способный поднять восемнадцать тысяч десантников. А о том, откуда их столько взять, у него голова не болит? Нет, отвечал Пасхалий, закусывая, это дело царя: в крайнем случае — пусть самолет летит с недогрузкой. Об этом голова пусть у конструктора не болит. Хмельницкий, если потребовалось бы, готов был выстроить и самолет для одноразового поднятия восемнадцати миллионов десантников! Хотя, конечно, встретились бы известные трудности — но неразрешимыми Пасхалий их не считал. Если царю понадобится такой самолет — склепаем, а откуда взять восемнадцать миллионов десантников — пусть опять-таки у царя голова болит. Богдан, в отличие от Хмельницкого, как раз довольно хорошо представлял, что начинается в стране, в которой у царя болит голова, и старался решать не только свои проблемы, но и царские. Ибо, если царь начнет, подобно известному Салтану, чудесить, то могут много кого не только повесить, современная наука позволяет сделать гораздо хуже, да и своя рубашка такой уж близкой к телу не покажется, ее еще раньше снимут, даже если она последняя. И хорошо, если не вместе со шкурой. Так думал Богдан, свежуя очередного гипертоничного черта, чтобы отправить материал в зольник и не представляя — что ему делать со всей скопившейся массой недоделок по прежнему забою.
А у Шейлы тем временем хватало своих забот. С тех пор, как с кухни отозвали у нее старуху Вассу Платоновну, обязанность жарить по утрам гору оладий на всех работников легла на бывших сектанток руссодуховского толка, сотрудниц музея народного рукоприкладства имени Ильи Даргомыжского — Майю Павловну Пинаеву и Виринею Максимовну Трегуб, — к последней прочно приклеилась неприличная кличка «трегубая венерея», на которую обижалась и она, и подруга с ней за компанию, но на обиженных в России воду возят. На тех же рукоприкладниц навесила Шейла и все обязанности касаемо обеденной каши, кроме гречневой, конечно, для которой нужен особый деревенский опыт общения с русской печью. Гречневую раз в неделю Шейла, вздохнув, заряжала сама.
Хоть и числилась теперь Шейла мужней женой, хоть и привезли ей из Арясина новый паспорт с новой фамилией, но дополнительных прав от этого не воспоследовало, а обязанностей хватало старых. Одна дойка ячьих коров чего стоила. Пасынок Савелий старался, но был слаб, ему доить и простую-то корову едва-едва по силам оказывалось — у ячихи же вымя куда как туже, хотя молока с нее меньше. Поэтому Шейла, перещупав мышцы у постояльцев, приставила доить тибетских красавиц беспамятного негра Леопольда, который иногда требовал, чтоб звали его все окружающие не иначе, как Клайд Элджернон Моррис, английскому имени чертоварской жены был рад как родной воронушке, а в остальном был человек как человек, и ячих доил хорошо, и молока ни разу не пролил.
Нашлось дело и для бывшего участкового, Гордея Фомича, выдающегося специалиста в области развития национального самосознания в рябинах при перебирании таковых через дорогу к приглянувшемуся дубу. С рассвета до заката сидел Гордей Фомич в саду при санатории с середины июня, и варил в медных тазах, водруженных на старинные таганы, бесконечное варенье. Вечером же, в условно-свободное от работы время, готовил наливки, разливал их по бутылкам, давал выстоять на солнце сколько надо, укреплял спиртом, когда приходила пора, потом наполнял четвертные бутыли, опечатывал красным воском, оттискивая сверху номер года — и сам уносил эти в бутыли в подвал, диву даваясь собственному же поведению: зачем опечатывать точной датой, скажем, красносмородиновую, когда ее выпьют раньше, чем зима ударит? Но так ему было велено, и он не спорил. Переработка избытка фруктов лежала на Гордее Фомиче не случайно, был он кавелит из толка воробьевцев, и воробьи являлись для него птицами не столько священными, сколько бройлерными, выжимки пьяной ягоды доставались именно им, и за прочую птицу можно было не опасаться.
Генерал-майор Аверкий Петрович Старицкий попал в хозяйстве Шейлы на должность невероятную — ему доверили маслобойню. Так гордо именовался дощатый сарай, куда приносил ему негр Леопольд перетопленные в русской печи сливки, снятые с ячьего молока. Приносили ему сливки и обыкновенные, дюжина своих коров у Богдана паслась в стаде богатого села Суетного — этих-то коров спокойно можно было доверить бывшим сотрудникам Неопалимовского вытрезвителя, и уход за ними, и дойку, — бывшие санитары никуда отпущены не были, идти им тоже было некуда, ибо хлебное их место в Москве давно захватили другие. Этим прапорщикам и старлеям можно было доверить молоко, пахту — но никак не масло, для масла, по разумению изрядно помогавшей Шейле Стефании Степановны, требовался самое малое генерал-майор, хотя бы отставной, — а Старицкий точно подходил этим требованиям: уж сколько было сил, выстаивал экс-вахтер еретичек-моргановок при ручной маслобойке, пахтая, сбивая, сколачивая масло на прокорм всей оравы. За чистотой в его сарае следила сама Стефания: как старшая по званию, как генерал-подполковник секретного рода войск, она назначила себя на Ржавце санитарным инспектором.
Меньше всех толку оказалось от экс-директора овощного магазина, представителя мусульманской национальности Равиля Шамилевича Курултаева. Попытки приспособить его к огороду кончились ничем: овощи он, конечно, различал, но только оптом, а в остальном даже кушать их по возможности не желал — предпочитал жареного барашка. Магазин в Москве был давно оприходован конкурентами, а денег с собой Курултаев захватил хоть и много, но все ж таки не столько, чтобы каждый день забивать для него барашка и готовить казан плова, — меньшим мусульманин довольствоваться не мог. Деньги постепенно вышли, Богдан заплатил за извлеченного из Курултаева гипертоничного беса, и сейчас бывший бесоноситель эти деньги не столько проедал, сколько доедал, решительно ничего не делая. На досуге Курултаев любил сложить руки на толстом животе и, крутя большими пальцами вокруг незримой общей оси, вспоминать о славных временах, когда его предки снабжали свежими овощами, фруктами и бахчевыми культурами всю армию хана Батыя. Слушали Курултаева только яки-самцы, но его устраивала и такая аудитория. Однако до решения курултаевского вопроса пока ни у кого руки не доходили: плов он съел еще не весь, а работу с авиационным маслом Богдан хоть и должен был кончить со дня на день, — но пока что не кончил, и было ему никак не до татарина.
Отдельно ото всех новоприбывших на Ржавец групп санаторного типа существовал и другой представитель национального меньшинства, — но почему-то его интерес к кошерной пище, проявившись единственный раз во время достопамятного постного обеда в Арясине, больше не возвращался. Был это акробат и предижитатор Зиновий Генахович, фамилия которого была то ли Златоцветов по сцене, а на самом деле Миллигудини, то ли ровно наоборот. Киммерийскими пальцами он не обладал, но ловкость рук проявлял просто неприличную, и в других то же качество очень ценил. Карточными фокусами и ловлей живых голубей в карманах зазевавшейся публики артист пренебрегал, зато, вполне в духе своего кавелитского «душеломовского» толка, любил выламывать из душ у собеседников самое тайное: он умел читать те мысли, о которых собеседник старался забыть. Он, негодник, читал и те мысли, которых человек в голове не имел вовсе. Но оглашал маг и волшебник эти мысли во всеуслышание — и поди доказывай, что не размышляешь ты о том, будет ли к обеду печеный пеленгас с гречневой кашей, потому как пеленгас ближе Черного моря не плавает, а если завезут его в мороженом виде к чертовару, то весь уйдет на поддержание каталитической силы Фортуната, да и гречневой каши раньше пятницы от Шейлы не дождешься. Поди доказывай, что не жрет тебя ночами лютая гиперсексуальность и ни мгновения не размышляешь ты о том, где бы найти поздней ночью если уж не пейзанку свободного нрава, то хотя бы шелковистую и ласковую козу. Поди доказывай, что не злоумышлял ты на честь… Тут Зиновий обычно умолкал, потому что рука у Шейлы была тяжелая, а Зиновий ко всему проявил еще и необычную склонность — он явно ухаживал за ее достопочтенной матушкой, Матроной Дегтябистовной, маркитанткой-журавлевкой, хотя и годился ей не то в старшие внуки, не то в младшие сыновья.
Зиновий Генахович оказался мастером по части многих трюков, которые ни в одном цирке уже лет сто никто показать бы не решился: чревом пел арию дона Базилио о клевете, глотал огонь, ходил колесом вокруг Ржавца, извлекал цыплят из цилиндра и цилиндр из уха Савелия, — словом, основным трюкам его было десять тысяч лет в очень ранний обед. Но отчего-то Матрона Дегтябристовна, когда случалось ей заехать к дочери за товаром, ценила именно такую, совсем простую магию, и любила на нее посмотреть. А Зиновий Генахович скрыть не мог, что как человек серьезный предпочитает женщин зрелых. При этом совершенно не по-иудейски намекал, что в русских деревнях время, проходящее между Симеоном Летопроводцем и Гурием — самое то что надо для свадьбы. «Доброго здоровья царю-батюшке», — не забывал он добавить, а все знали из газет, что именно на годовщину коронации царь назначил в аккурат свою собственную свадьбу. Дата подходящая, и никого больше акробат-фокусник в виду не имеет. Между тем строил глазки зрелой маркитантке он совершенно открыто.
Таборному обозу требовались свежие харчи: воровать у местных Кавель Журавлев строжайшим образом запретил, денег же на прожитие от контрабандных рейсов таинственной «Джоиты» журавлитам пока хватало, да и промышляли они среди коренных арясинцев вполне честно: лудили, что прохудилось, меняли старые автомобили на менее старые, иной раз и погадать могли на пятачке у вокзала в Арясине: там не наказывали. Словом, на что купить — было. Вот было бы — что. По верованиям журавлевцев по-настоящему чистой, «журавлиной», была только пища, купленная в своем же ларьке. Ларек процветал, но с его содержательницы ежедневно сходило семь потов.
Матрона Дегтябристовна использовала семейные связи на полную катушку. Товар маркитантка брала не даром, платила не скупо, но требовала оный только высшего качества: помидоры отбирала через четыре — пятый, из яблок брала одну только желтую антоновку и ворчала, что нет ни настоящего апорта, ни титовки, — а еще норовила каждый раз затребовать каких-нибудь плодов земных, которых на огороде у Шейлы заведомо не произрастало: от ранних, да еще непременно закавказских, баклажанов и до поздних, непременно чарджуйских, — никаких других! — дынь. Шейла невозмутимо отвечала каждый раз: «Не уродились, маменька», — и маркитантку это тоже устраивало. Купленное в кузов забрасывал Савелий, а Шейла со вздохом делила деньги на две кучки — одну на нужды Ржавца, другую — на нужды Выползова, а нуждалось Выползово сейчас в одном, в рыбе, которой предстояло превратиться в жертвенный уголь для ноздрей сменщика Богдана.
Самая оригинальная из групп, попавших на Ржавец в качестве гостей и отдыхающих, состояла из четверых мужчин. У троих из них были совершенно необычные, полуторной, если не больше, длины пальцы: Шейла подивилась денек, а потом привыкла. Четвертый гость был в летах, пальцы имел обыкновенные, но бакенбарды зато — совершенно невероятные. Шейла радовалась за себя, что она теперь замужем, не то она бы в эти бакенбарды влюбилась и, глядишь, всю бы жизнь себе перепортила. В первые дни эти гости отдыхали, отмывались и отъедались, а потом стали искать себе занятие, особенно младшие, братья, представившиеся как Веденей и Варфоломей. Гость постарше, совершенно лысый и очень высокий, вечно в сапогах выше колена, занимал себя сам — ходил по окрестностям, беседовал и с местными жителями, и с журавлевцами, а сам то и дело что-то заносил в записную книжку. Старший гость, тот, что с бакенбардами, никакого дела не искал, но предупредил, что и как врач, и как ветеринар он всегда к услугам хозяйки. Шейла учла и оценила.
Бородатые братья предложили свои услуги в преподавании: оба могли грамотно дать малышне и русский язык, и новонерусскую феню, и арифметику, если бы понадобилось, и закон Божий, да и несколько иностранных языков на выбор, — лучше всего они считали себя подготовленными к преподаванию киммерийского, а высокий академик подтвердил — да, лучше этих братьев языком нынче вряд ли кто владеет. Шейла поняла, что есть шанс научить окрестную детвору чему-то такому, чего на Руси никто не знает и, с позволения Богдана, дала добро на такой эксперимент.
До школы в Суетном на старом «газике» братьев подвозил бывший таксист Валерик Лославский, по нынешним документам мещанин Малославский: его, как и Кавеля, пришлось прятать, ибо на нем все-таки висело семь непогашенных судимостей и две кровных мести. Вездеход Богдана никто бы ему не доверил, но Валерику повезло: черт, которого из него вытащили, оказался редкостный, ювелирно-панцирный, и года полтора экс-водила мог жить на Ржавце вообще ничего не делая. Однако «газик» стоял сиротливый и ждал водителя, поэтому жертва мысли о том, что «просил Кавель пощады у Кавеля, да не допросился», усердный пощадовец Валерик, тоже обрел хоть какое-то дело. А братья Иммеры с позволения РОНО преподавали в Суетном старокиммерийский язык. Богдан заранее испросил для них разрешения на эти занятия. Попробовали б ему в Арясине отказать. Курировал РОНО, чай, архимандрит Амфилохий, а ему и митрополит Фотий в Твери приказания отдавал, сперва сто раз подумав: Фотий-то в Арясин, где Богдан Тертычный и Кондратий Эм государственные заказы выполняют, ездить опасался.
Детишек почему-то больше заинтересовал тот факт, что каждый урок ведут два учителя — оба бородатые и оба с очень длинными пальцами. А язык им понравился: чем зубрить скучные латинские и церковнославянские буквы — знай рисуй рыбок и птичек. Нарисуешь рыбку, стоящую на хвосте и пасть разинувшую — это слог «ве», знание, стало быть, нарисуешь рядом птичку с лишней, третьей лапкой — это слог «де», брусника или клюква по выбору, а дальше таз перевернутый — «неи», означающий, что все уже готово. Получалась замечательная игра: знаешь, как из брусники варенье сварить? Возьми таз — да и готово: написал ты на доске имя своего преподавателя — ВЕДЕНЕЙ. Получи пятерку, вечером дома похвастаешься. А к доске пойдет следующий.
Весть о том, что братья преподают редкостный и остродефицитный язык, разнеслась по Арясинскому уезду от Упада до Уезда за полдня, и не оставила равнодушными даже знаменитых кружевниц: их внуки, правнуки и праправнуки ходили в ту же школу. А ну как заказчикам будут угодны кружева с рыбно-птичьими письменами? Присмотревшись в домашним заданиям, кружевницы стали, сами того не ведая, вплетать в узоры имена Веденея, Варфоломея, Гаспара, Богдана, Шейлы и Амфилохия. Кружевницы Катерининовы, уже полтора столетия пытавшиеся хоть как-то потеснить на рынке арясинского экспорта монополию семьи Мачехиных, сообразили, что если уж и правда кружева-то уносятся офенями в Киммерию, то с киммерийскими надписями там их еще лучше покупать будут. Василий Катерининов заявился в Выползово, где братьев, понятно, не застал, но нашел академика, следившего за способами отделения рогов черта и изъятия хвостового шипа оного. Гаспар охотно набросал киммерийской азбукой десяток фраз наподобие «Здоровье государя императора Всея Руси Павла Второго», «Совет да любовь да кровать на двенадцать частей», «Абсолютная монархия устращает абсолютно» и иные в том же духе, офени же, признав рыбкины-птичкины узоры за киммерийские, и впрямь стали забирать эти кружева оптом и еще вперед платить. Но Мачехины Катерининовым спуску не дали — уже через неделю ассортимент надписей у них был еще шире, а секретом окраски кружев в каспаровые, бальтазаровые и мельхиоровые тона владели и только они, — так что победа у Катерининовых не получилась. Однако офеней это их соперничество не затрагивало никак: им все равно было мало. Киммерийская свадьба без двух пудов кружев не бывает, и осенью их поэтому в Киммерион таскать особенно выгодно.
Да нынче еще неизвестно откуда взялась в России мода на декоративные кружевные лапти — из самых дорогих арясинских, на крайний случай вологодских, сортов. Владелец сети трактиров и супермаркетов «Доминик», почетный гражданин России Доместико Долметчер одно время дарил их особо потратившимся у него посетителям вместе с дисконтными картами. Потом стал дарить вместо дисконтных карт. А с недавнего времени коллекционирование этих лаптей стало делом престижным. Поговаривали, что в столице русских фальсификаций, в лежащем за болотом Большой Оршинский Мох заповедном и недобром городе Кашине уже готовят мастерские для массовой подделки и кружев, и лаптей, и не перечесть еще чего. Но зуб на кашинцев имели арясинцы еще с неудачного военного похода князя Изи Малоимущего в 1318 году, и рано ли, поздно ли этот конфликт, конечно, должен был как-то разрешиться.
Академик бродил по лесам и полям Арясинщины, присаживаясь то на бревно, то на пенек, и исписывая бисерным почерком книжку за книжкой. В голове у него роились мысли: ежели б они вдруг обрели способность, словно пчелы, вылетать роями из его головы, как из улья — все кусты шелковицы на землях Арясинского уезда были б нынче этими жужжащими роями увешаны. Как-никак Гаспар Шерош чуть ли не первым из природных киммерийцев — если не брать в расчет вечно страдающего от аллергии консула Комарзина — дошел от одного конца Камаринской дороги, от Киммериона, и до другого конца, до таинственного, древнего, как самая старая на свете шелковая нить, Арясина. Но китайцев Гаспар Шерош на Арясинщине уже не застал: ни древних, из легендарной династии Ся, ни современных, из не столь уж давно самоликвидировавшегося чайна-тауна.
«НАЦИОНАЛЬНОСТЬ», — записывал Гаспар, — «Нас тут уже всерьез и даже с уважением именуют «лицами с нетрадиционной национальной ориентацией». Кто-то пустил слух, что с этой ориентацией в армию не берут, к братьям-гипофетам бабы уже с интимными предложениями лезут. Спасать от армии не просто нерожденного ребенка, но такого, который еще то ли родится, то ли нет — не чисто русская ли черта, сделавшуюся страну величайшей среди империй?»
Гаспар вздыхал, выбрасывал исписанный стерженек, брал из нагрудного кармана новый и продолжал:
«РОССИЯ». ««Такой город на болоте», как говорят местные жители. Рассказывают, что поставлен он среди Большого Оршинского Мха как гуляй-город, подвижной, на катках — только не для штурма другого города выстроенный, а для защиты от осенних топей и распутицы. Думаю, от весенних тоже. Никто ничего толком про этот город не знает, но дойти туда можно, в этом все уверены, и каждый знает кого-нибудь, кто там бывал, — правда, тот, кто бывал, либо уже помер от старости, либо как раз сейчас в командировке на Алтае, либо ушел в монастырь, — причем в тот самый город Россия; выходит, там тоже обитель есть, но какому святому во прославление — никто не знает. Народ сходится в том, что умом ту Россию не понять, и в этом у той России, и у этой, похоже, сходство полное. Может быть, хоть одну понять все-таки удастся?»
Последнюю фразу Гаспар тщательно зачеркнул. Россия-на-Болоте интересовала его самым жгучим образом: тайна сия была не просто великой, но какой-то очень киммерийской. В самой Киммерии тайных мест тоже хватало, но для них всегда имелся блюститель — хоть Тарах Осьмый для змееедов, хоть Мирон Вергизов для Великого Змея, хоть гильдия бивеньщиков для кладбищ мамонтов. Россия-на-Болоте, похоже, не была подведомственна никому. Любопытство Гаспара поэтому росло с каждым часом.
«ОДНОКОРЫТНИКИ» — записал Гаспар и надолго задумался. Имел в виду он семь церквей села Суетного, уже в новое царское время отреставрированные, отданные местной епархии, — все, похоже, процветающие. Служили в них молодые люди одного возраста, с длинными, как положено, волосами, бородами и вообще приятные собой, однако совершенно на одно лицо. Даже Гаспар, с его недюжинной мнемонической памятью, развитой по системам как Григория Кучелябы, так и Джордано Бруно, отличить их не мог. Только в крохотной церкви с невероятным именованием «Богородицы-что-у-Хлыстов» батюшка служил такой древний, что Гаспар невольно залюбовался. Потом стал находить в лице старца сходство со штампованным обликом молодежи в остальных церквях, придумал нехорошую мысль о том, что уж не клонировано ли здесь духовенство — и так ничего к «однокорытникам» в записную книжку не проставил. До поры до времени. Только узнал, что в церкви «Богородицы-что-у-Хлыстов» священник имеет редкостную фамилию Мощеобрященский, поставлен он сюда волею митрополита Тверского и Великолуцкого Фотия, а еще узнал то, что батюшка с такой фамилией он тут не единственный. Но это было удивляло менее всего: у Гаспара у самого фамилия была не из обычных.
Арясинщина жила тем же, чем и вся прочая страна: убрала урожай цикория, репы, огородных культур, принялась за яблоки и все прочее, что тут созревало, а также готовилась к тому, что на всю Русь было отпущено ей одной — готовилась к шелковарным работам. Предстояло варить коконы, тянуть нить, сматывать ее в пасма, чтобы осенью и зимой хватило на кружева, чтобы множилось довольство и народонаселение среди вступающих в брак покупателей — неважно, каких, лишь бы люди были хорошие. И все еще лежал на севере княжества густой дым — Богдан добивал последних чертей на кровяное масло для государевых самолетов. Часть была уже вывезена: Хмельницкий упросил и государя, и Богдана хоть немного дать вперед. Оба согласились. Переброска «Хме-2» через Северный Полюс на остров Диско уже все равно шла. В газетах то и дело мелькали материалы о том, какая чудесная и плодородная почва скрыта в Антарктиде под слоем льда, как чуден вулкан Эребус при тихой погоде, и как редкий пингвин долетит, простите, добежит до середины шельфового ледника Росса. И по телевизору было все то же самое. Остров Петра Великого близ Земли Грехема, вообще-то собственность островной федерации Клиппертон-и-Кергелен, в предвидении наступающего в Южном полушарии лета пленял путевками, сулил комфортабельный отдых, чуть ли не тринадцатизвездочные отели, неслыханные услуги девочек любого цвета и даже любого пола. С Коморских островов, давно отошедших к России, был туда ежедневный прямой рейс аэробуса. А охота на тюленя-крабоеда и морского леопарда вообще стала в этом году вопросом имиджа, престижа и пиара. На морского леопарда, впрочем, охотились только обладатели совсем уж крутых бабок. Крабоеда же мог позволить себе любой обеспеченный турист, — ну, и сам морской леопард тоже, но это по привычке, по пищевому навыку, никак не в порядке сафари.
Те же Коморские острова занимали в нынешних новостях довольно много места. Нынешняя их столица, Святогеоргиевск, в недавнем прошлом Дзаудзи, стала резиденцией некоего Жана Рацифандри, сформировавшего для Мальгашской республики, она же в просторечии остров Мадагаскар, правительство в изгнании. Наскоро обратив коморцев в какую-то новую веру, связанную с «лунным светом», хитрый Жан наскоро превратил острова в бордель почище Танжера, но возражать было пока некому: у кого были деньги — те просто эти борделем пользовались, а для остальных он был… ну, далеко. И поэтому нравственность страдала меньше кармана, а налоги Жан придумывать умел — и этим одним, ясное дело, был любезен сердцу русского царя.
Все, кому не лень, чуть ли не открыто заявляли, что этот самый хитрый Жан спит и видит, как, придя к власти в родном Антананариву, на следующий день он переименует город, скажем, в Святопавловск и объявит Мадагаскар российской губернией. Между тем министр иностранных дел Российской империи, светлейший князь Ярополк Ленино-Дачный, не раз заявлял, что чужой земли Россия не хочет ни пяди, и что свободолюбивый мальгашский народ волен сам решать свою судьбу, и гражданами России эти замечательные свободолюбивые люди могут считать себя сколько угодно, а вот дождутся ли взаимности — это вопрос далекого, далекого будущего, это еще, господа мальгаши, заслужить надобно!.. Ни от кого не было секретом, что русскому императору не нравится сам хитрый Жан: в не очень далеком прошлом тот был застукан в Монако тайно кавелирующим в мраморном сортире с помощью какой-то из запрещенных тамошним законодательством молясин, — и вот нa тебе, уже лезет к русскому царю с подарками. А у русского царя и так полон рот хлопот с Соединенными Штатами, где вдруг завелись португалофильствующие монархисты, сторонники дома Браганца, и партия монархистов будет участвовать в выборах президента, ни хрена себе! Но все это происходило довольно далеко от Арясина и вообще где-то в других губерниях. Или даже не в губерниях: что нынче входило в Россию, что нет, что подпадало под ее юрисдикцию, что никак ее не касалось — об этом знал разве один лишь русский царь. А ему с Арясинщины были нужны только многогорбые полярные верблюды с опушенными белым мехом копытами, да еще бочки с кровяным авиационным маслом. Одно цеплялось за другое, академик пытался понять все это умом и постигнуть единым духом — и отступал. Чем дальше, тем вернее склонялся он к мысли, что лучше уж взять и понять умом другую Россию — тот город, что раскинулся на просторах болота Большой Оршинский Мох.
В поисках хоть каких-то следов Поднебесной дошел Гаспар и до северной окраины Арясина, посетил кладбище, где еще не успели окончательно сгнить остатки сгоревшей и разнесенной по мелким клочкам фанзы «Гамыра». Горожане с печалью вспоминали свой чайна-таун, ни у кого такого не было, ни в Твери, ни в Клину, ни в Кимрах… да только вот не было его теперь и в Арясине. Где-то нынче скитался Васильевич Ло со своим гаоляновым ханшином? Где-то нынче фарфоровая куколка Мань, в просторечии Манька, умудрившаяся выйти замуж сразу за двух братьев-китайцев, похожих друг на друга как два Ка… простите великодушно, конечно же, как две ка… пли китайского самогона! Гаспар сделал зарисовки пепелища, ничего примечательного в свою хитрую записную книжку не занес — и отбыл на Ржавец пить ячье молоко. Гаспару этот напиток нравился настолько, что это даже Шейла приметила и готова была приносить его академику в постель, — если б он не умудрялся вставать раньше нее самой. Как это возможно — никто не понимал, но что было, то было.
Гаспар присел на скамейку, сваренную из водопроводных труб, сбросил с нее несколько темно-красных, неизвестно откуда взявшихся здесь кленовых листьев, и приготовился сделать еще десяток-другой записей; к примеру, довелось ему прочесть на черной доске в Богозаводске название загадочной лодки «Кандибобер»: а что такое кандибобер? Кандибобером можно, к примеру, катиться. И сапоги бывают с кандибобером. Лучший из русских словарей, составленный немцем Максимилианом Фасмером, четко и ясно говорит, что происхождение этого слова неясно. Это немцу Фасмеру неясно. А киммерийцу если пока и неясно, то рано или поздно ясно будет.
Или вот само название «Арясин». Великий Владимир Даль приводит древнерусскую пословицу: «Угощу я-те арясиной после дедушки Гарасима!» Собственно арясиной Даль называет длинный прут, хворостину. А Фасмер, напротив, честно пишет, что, хоть и сходно это слово с финским raasu (прут), но определяет слово как «неясное». С другой стороны, и дедушка Гарасим у Даля не так просто появился: по Фасмеру, «гарасить» — это от слова «горсть». А на что, как не на горсть, полную проточной воды и оставшегося от ледового побоища металла, похож славный Накой? Да и речка, через него протекающая — Ряшка, сперва Тощая, потом Тучная — тот же прут. Сколько, однако, в мире непоня…
Хорошо, что в это время Гаспар сидел на ровном и на железном. Хорошо потому, что решительно нечему было на него упасть. Хорошо потому, что ему самому падать оказалось почти что некуда. И хорошо, что академик был привычен к землетрясениям, которыми регулярно одаривала Земля святого Витта остальные тридцать девять островов Киммериона, когда очередной раз ворочался Великий Змей. Удар был на редкость силен, он пришел волной с востока, и сразу за ним последовал еще один. Следом пришел третий, много более сильный, чем первые два — и все стихло. Гаспар отделался на редкость легко — даже очки не разбил, разве что на носу пришлось их поправить. Надо думать, это было чистое везение академика. В двух шагах от знаменитых на всю Арясинщину Гаспаровых сапог земля разломилась, притом так широко, что перепрыгнуть образовавшуюся трещину и олимпийский чемпион не взялся бы. Из трещины тянуло одновременно пылью и сыростью. Толчки прекратились, пыль понемногу оседала, академик же долго и вполне бесплодно протирал толстые стекла очков. Он всякое видел на своем веку, он железноперых и двуглавых птиц видел и даже призрак Дикого Оскара, но такое он и нарочно не вообразил бы.
На дне образовавшейся трещины длинной шеренгой стояли каменные лошади, перемежаемые каменными людьми: на каждую лошадку — по человеку. Лица у людей были желтые, дальневосточные, страшновато улыбающиеся. Трещина тянулась на восток, к Выползову, упиралась в ручей — и мутная вода уже начинала ее заполнять. То ли подземный толчок, то ли новый ракетный удар вскрыл глиняную армию, некогда захороненную здесь последним из императоров китайской династии Ся. Но то, что спокойно лежало и стояло в земле древнерусского княжества на протяжении долгих столетий, обречено было размокнуть и сгинуть в считанные часы.
Не обращая внимания более ни на что, Гаспар бросился к Выползову, горько сожалея о брошенном в Киммерионе красном телефоне-мобильнике, с помощью которого он переговаривался со старой дурой Европой, временно проживавшей под скалой в Уральском хребте. Тогда Гаспар выбросил телефон за ненадобностью, а теперь жалел. Восемь верст до Выползова предстояло топать пешком по бездорожью, да еще надеясь на то, что через Безымянный ручей хоть как-то удастся перебраться.
Мост едва держался, но был цел. Ну, еще пять верст.
Восемь верст при таком темпе — вышло много даже для железного киммерийского здоровья академика, началась резь в легких. Однако с обычной зоркостью Гаспар отметил: дальше ручья трещина не идет, да и вообще ее постепенно заливает водой. Но сейчас исторические ценности, погребенные под слоем арясинской земли, интересовали академика в последнюю очередь, — по аналогии с находками в Китае он знал, что этого глиняного добра тут скорее всего на полвека раскопок. Гаспара интересовало само землетрясение — или что там? Бомбежка, ракетный удар? Вообще — что?..
Зрелище возле чертоварни открылось Гаспару такое, что к спазме в легких вдобавок у него еще и глаза полезли на лоб. Нечто большое, грязное, рогатое и хвостатое кружилось на поляне перед чертогом, воя не своим голосом и нахлестывая по окружающим кустарникам всем, чем могло нахлестывать. Гаспар попятился: ничем иным, кроме как бесом-чертоваропоклонником Антибиотиком это воющее диво быть не могло. На противоположной стороне поляны, у веранды, столпились трое; двое из них, одетый в черную кожу Богдан и малорослый Давыдка, опознавались сразу, а третьего, бухгалтера-рыбоненавистника Фортуната, тоже можно было вычислить без затруднений.
Антибка продолжал кружиться и выть, сотрясая землю и хватаясь мохнатыми лапами за рога — точнее, за один рог, ибо второй был у него обломан. Что-то еще у него на лбу теперь наливалось и взбухало — синим, лиловым, фиолетовым, красным цветом, словно посредине лба собирался произрасти у него эдакий единорожий бивень. Однако же бивни единорогов сопряжены обычно со всяческой девственностью, Антибка же был как-никак бес — какая тут девственность? Ну, а кто его, беса, знает?.. Гаспар мысленно полез доставать записную книжку, однако понял, что сейчас не время и не место вести даже самые ценные научные записи.
Осознав, что Антибка угомонится не скоро, Гаспар по длинной дуге обошел поляну и присоединился к стоящим возле веранды. На самой веранде обнаружился еще один зритель, собственной персоной старец Федор Кузьмич, с неудовольствием потирающий указательным пальцем то правую бакенбарду, то левую.
— Кажется, придется кончать эту сволочь, — глухо и зло сказал Богдан, — совсем затрахали. Совсем работать невозможно. Одни убытки сплошные. Мутота и невыгода.
— Которую сволочь, Богдан Арнольдович? — спросил Гаспар. Антибку ему было жалко, но почему-то не верилось, что это именно его обозвал сейчас чертовар сволочью.
Чертовар посмотрел на академика со всей мрачностью, на которую был способен.
— Кавеля. Адамовича. Глинского. По прозвищу — Истинный. Место прозябания — село Дебрь Верхнепинежского уезда Архангелогородской губернии. Национальность — сволочь. Вероисповедание — тоже. Воюет с Выползовской чертоварней с минувшей весны — с тех пор, как здесь предоставлено религиозно-политическое убежище Кавелю Глинскому. При атаках на Выползово использует самонаводящиеся крылатые ракеты «Родонит», самопальные, кстати, ориентирующиеся по излучению лобных долей черта… Один удар уже был — весь пентаэдр мне разнесли в кусочки, убытку на пятьдесят тысяч… А теперь — снова. Изволите видеть. На этот раз все ему и досталось. Обычного я забил бы, отбеловал, кожу в зольник бросил — и всех делов. А этого жалко. Хоть и плесень он, а умная скотинка, слова худого про него не скажу… Не его бы лоб — не ровен час, угодили б эти ракеты опять в пентаэдр, там у Фортуната осенник недопластан… Тьфу. Пора с этой сволочью кончать и с ее ракетами тоже.
Федор Кузьмич тоже подал голос.
— Мысль верная, Богдан Арнольдович. Но это война. У него ракет — если верить Кавелю Модестовичу, а ему, думаю, всегда верить можно — как цыплят на птицеферме. «Земля-земля», «воздух-воздух», «омут-омут», даже, говорят, «дупло-дупло» — и то есть. И аэродром в Карпогорах тоже, говорят, у него весь под контролем. А у вас с этим делом как?
Богдан криво усмехнулся.
— Ну, с термоядом не очень… Да и «дупло-дупло» не заготовлено, у него честно говоря, у меня тоже… источники информации. А прочее все и у нас есть. Даже и «Родонитов» десяток найду, если нужно будет — на том же Восточном Тиморе и покупал, больше их никто уже не делает, да и вообще едва ли понадобится. Я вообще-то попросил над ними геостационарный спутник держать, далеко гляжу, все вижу. Сволочи они, вот что. Мне продукт заказчику сдавать! Три дня всего, потом день-два на сборы, и можно воевать. Бойцов сейчас хватает, и неплохие, должен сказать, бойцы.
Федор Кузьмич посчитал на пальцах.
— А что… Хороший день для начала военных кампаний. Стало быть, через три дня и выступаем. Еще лучше, конечно, через девять. Чтобы ретроградный Меркурий ушел из полусозвездия рудбекии…
Антибка наконец-то рухнул посреди поляны. Черепная кость его, принявшая на себя удар трех еретических «Родонитов», напоминала рога ископаемого ящера трицератопса: три шишки, одна другой страшнее, к ним сбоку лепился еще и уцелевший по счастливой случайности природный рог.
— Жалко болеутоляющее на него изводить… — сказал Богдан, словно извиняясь перед кем-то, — ну да придется. Чай, своя скотинка, совсем не глупая — хоть и плесень он, а боль чувствует. Страдает.
Богдан ушел на веранду за снадобьями. Фортунат и Давыдка отправились в чертог — работать. Антибка так и остался скулить посреди поляны. А Федор Кузьмич и академик переглянулись.
— Кажется, начинают иметь место события, — проговорил старец, используя буквальную кальку киммерийского «более чем недостоверного» будущего времени..
— Пожалуй, на эти события будет любопытно посмотреть, — в том же стиле тактично ответил Гаспар, — должен же у событий иметься надежный свидетель. Лучше даже не один. Иначе кто поверит в их достоверность?
— Быть свидетелем легко и приятно — не менее, чем говорить в лицо государю всю правду, — старец явно кого-то цитировал, но в разъяснения решил не вступать, — но, созерцая события, еще ведь и уцелеть нужно. События, почтенный Гаспар Пактониевич, имеют свойство иной раз причинять неудобства не меньшие, чем задушевная беседа с государями. Думаю, даже не сомневаюсь, что события объявят о себе сами, лучше уж не звать их раньше времени на свою же… ну, скажем, голову.
Богдан с тяжелой сумкой наперевес сошел с веранды и направился к Антибке. Ни с чем не сравнимая вонь говорила сама за себя: АСТ-3, антисептик-стимулятор Тертычного, третья фракция, только и мог излечить шишки, полученные от прямого попадания восточнотиморских крылатых ракет «Родонит».
Даже стоимость этого зловонного бальзама чертовар собирался поставить в счет наконец-то допекшему его Кавелю Адамовичу Глинскому, известному под самоприсвоенным прозвищем «Кавель Истинный».
19
…весь его безумный путь через лишения и мечты пришел в настоящий момент к своему концу. Дальше — тьма.
Г. Гарсия Маркес. Генерал в своем лабиринте.Город Вологда, что очень интересно, впервые упоминается в русских летописях в точности в том же году, что и Москва: в 1147 от Рождества Христова. Означает это всего лишь то, что ни тот город, ни другой никогда не платили дани Киеву — столица Святой Руси в 1134 городу была перенесена во Владимир. Принадлежала Вологда сперва Новгороду, со времен Ивана Великого отошла к Москве, и никогда уже никому даже во временное пользование не отдавалась. Больше никакого отношения к нашему повествованию город Вологда не имеет, посему незачем переводить на разговоры о нем бумагу. Зато Вологодская губерния для нас куда как важна: через нее насквозь проходит Камаринская дорога, ведущая от Архангелогородской губернии в Тверскую, — а дальше честному офене ходить ни к чему.
В северо-восточном углу Вологодчины расположен город Великий Устюг, известный всему миру как родина российского Деда Мороза, в северо-западном — почти никому не ведомый городок Кадуйский Погост. Знать бы, какому мудрецу пришло в голову обозвать город Погостом? Городов-Погостов на Вологодчине несколько: хоть Андомский Погост, хоть Мегорский. Официальная история настаивает, что погост — всего-то становище, по образцу учрежденного княгиней Ольгой, куда на Руси по назначенным урокам свозилась дань; в более поздние времена так стали называть просто волость или одну лишь церковь с жильем попа и причта; в землях Новгорода, которым принадлежал в домосковские времена описываемый кусок Вологодчины, так называли просто сельский приход — несколько деревень под управлением одной церкви. Академик физиогномики и научной гребли Савва Морозов так и считает, что этот «Погост» на самом деле есть искаженное слово «покус» — кого-то тут, значит, сильно покусали. И у теории есть сильное подкрепление: погостяне обещали Савве, что если он близко к их родным городам подойдет — обильные покусы ему обеспечены. Желающих много. Будет, будет его покусано, мало не покажется.
Кадуйский Погост, как и многие иные города Вологодской губернии, известен разве что как знатный центр кружевоплетения, — но куда вологодским кружевам до арясинских. Но куда денешься, офени прикупают кружева и здесь: свадеб в Киммерии каждый год немало, а два пуда кружев на каждую из них Арясин просто не наплетет. Поэтому в Киммерии семьи победнее, конечно, берут и вологодский товар. Носят его офени тоже не первой руки, обычно либо из молодых, либо из тех, у кого что-то обломилось в молясинном бизнесе: обслуживавшийся толк кавелитов угас и для последних приверженцев настоящий киммерийский товар дорог стал, либо толк бесповоротно и без шуток запретили, либо наладился народ самоделками обходиться: ну, тогда начинает офеня таскать вологодские кружева, чередуя их с пшеничной мукой: своей пшеницы у Киммерии нет, а церковные праздники без них и не праздники вовсе. Когда офеня беднеет совсем, или старость приходит окончательно — он уходит в монастырь святого Давида Рифейского на острове Высоковье, что в Киммерионе стоит, и нет к нему ни единого моста — только на лодке подъехать можно. Но день ухода в монастырь офеня обычно откладывает до последней возможности. Это — уход навсегда. Не то, чтобы имелся запрет на выход из сокровенного города — просто традиции нет. А Киммерия — страна традиций, есть там традиция ничего не делать без традиции. В России, кстати, тоже такая традиция есть.
Вологодчина для офеней и не губерния, а так, дорога, транзит. Знай топай с северо-востока на юго-запад, — ну, или обратно. Но в особых случаях сворачивает офеня примерно на полпути к северо-западу, в сторону Онеги, и тихо-тихо, обычно поздним вечером, выходит на окраину Кадуйского Погоста. Там простирается обширное кладбище, настоящий местный погост с деревянной шатровой церковью семнадцатого века; церковь, как положено, давно увезена в Кижи, на ее место все хотят поставить хорошую каменную копию, да вот никак со средствами не соберутся. Для повседневных нужд есть при кладбище часовенка любимых на русском севере святых Уара и Артемия Веркольского, — этого последнего офени любят особенно, потому как был он тринадцатилетним мальчиком, погибшим от удара молнии за два года до того, как Иван IV объявил себя в Кремле царем, и ничего хорошего Русь от этого не увидала, — в этой часовне богобоязненный человек всегда может свечку поставить сообразно требованиям души, а погост — он и есть погост. И православные там лежат, и коммунисты, и хлысты, и на особой делянке татары, евреи тоже есть, да и других, наверное, немало. Земли возле города много, почти вся заброшена и сильно заболочена; так что лежит на погосте при городе с названием Погост больше народа, пожалуй, чем в самом городе нынче живет.
Склепов на погосте стояло десятка полтора, все очень старые, все со следами ликвидации культовой символики в двадцатых годах и все — со следами ее восстановления в девяностых: архиепископ Вологодский Митрофан славился неистовостью нрава и совершенно оголтелой честностью, — иначе не сидел бы он в Вологде, а давно получил очередное повышение и либо хлебный Екатеринодар, либо рыбный Шикотан. На погосте Кадуйского Погоста работы провели аккуратно и быстро: архиепископ, чья епархия разбогатела на поставках всей России разлитой в бутыли святой минеральной воды, халтуры не прощал. И нещадно пресекал слухи о том, что если бутылка — половинная, то и святость ее — половинная, если же вода еще и газированная — то святость в ней только 25 %, если сироп лимонный добавлен — то и вовсе святости не более как 12, 25 % — а это ж, извините за выражение, одна восьмая, это святой мерзавчик! За разговоры про святой мерзавчик на лимонных корочках отбывали вологодцы поднимать целину на остров Колгуев. Но кладбище в итоге содержалось в относительном порядке — несмотря на то, что весь его штат состоял из дряхлого сторожа и одноглазого могильщика.
В склепах, как известно, для могильщика работы обычно нет, но для сторожа она там есть всегда — когда упомянутый склеп кому-то оказывается нужен. Сырой октябрьской ночью усыпальница купцов второй гильдии Подыминогиновых, судя по всему, превратилась для местного сторожа в золотое дно. Каждые четверть часа появлялся возле сторожки ворот кладбища очередной посетитель и, видимо, не зная дороги через погост, стучал в окно. Ветхий блюститель порядка безропотно открывал тяжелый брус, которым были заложены ворота — несколько странно выглядело это при полном отсутствии ограды, ну да таков тут, вероятно, был заведенный порядок — принимал денежку и провожал гостя к купеческому склепу.
В половине первого ночи к воротам кладбища подъехала больничная каталка с чем-то плотно завернутым в рогожу, двигали каталку два амбала саженного роста, из числа тех, с которыми в темном переулке встречаться определенно вредно как для здоровья, так и для материального благосостояния. Тем не менее каждый из них вручил молчаливому стражу врат свой двугривенный, — видимо, местный эквивалент обола, — и оба были препровождены все к тому же купеческому склепу. С груза на каталке двугривенного не потребовали — то ли он уже свой путь в одну сторону совершил, то ли его тут за человека не считали. То ли — что наиболее вероятно — и то, и другое.
Хотя сторож вставлял ключ в замок склепа уже не меньше, чем тридцатый раз за вечер, с того ключа каким-то образом продолжала сыпаться вековая ржавчина, и замок скрипел так же нещадно в тридцатый раз, как и в первый. Амбалы перехватили свою ношу на плечи, скрылись во мраке, а сторож со вздохом повернул за ними ржавый ключ. Сторож знал, что ходить ему сюда еще до утра, но кто ж откажется от лишнего двугривенного? Он и сейчас сомневался, правильно ли пропустил груз на каталке без пошлины. Ну да ладно. Он-то знал, что в склепе купцов Подыминогиновых всяких мест много — на весь Кадуйский Погост хватит, да еще приставные места останутся.
Род Подыминогиновых был для Кадуйского Погоста тем же, чем для Москвы род Третьяковых, разбогатевших на торговле, кажется, мукой, или тем, чем стал для Хельсинки род Синебрюховых, варивший, говорят, пиво — Подыминогиновы были меценатами. Конечно, для проформы торговали они вологодскими кружевами, ворочали онежской ряпушкой, держали монополию на местную живицу и на канифоль, поставляли в Петербург лучшие овчины и готовые тулупы, — это не считая принадлежавших им многочисленных лесопилок: фанерщиками работники этой семьи считались лучшими на всю губернию. Однако эти торговые дела приносили купцам сравнительно небольшие доходы, иные же занятия, такие, как промысел онежского налима, были просто убыточны. Но не могли же Подыминогиновы ловить в Онеге одну рыбу и выбрасывать другую. Нет, деньги приносила им совсем оная отрасль, — были это, как читатель уже понял, молясины.
Молясинами на Руси испокон веков не торгуют; их, как иконы, можно лишь выменять — к примеру, на лошадь, на пару волов, а то и на деньги — в том греха нет, это ведь обмен, тут без цены с запросом и дела-то никто делать не станет. Подыминогиновы специализировались на самом лучшем варианте: офеня приходил к ним по Камаринской дороге, менял свой киммерийской товар на золото, серебро или — в крайнем случае — на ассигнации, а дальше, чтоб далеко не ходить, тут же мог прикупить пшеничной муки, кружев, кофейных зерен или других колониальных товаров, которые заказывались богатыми купцами киммерийского острова Елисеево Поле. Кадуйский Погост лежал немного в стороне от Камаринской дороги, многие офени этим перевалочным пунктом брезговали, предпочитая брать товар в Кимрах или уж собственно в Арясине. Но пять-шесть сотен клиентов из числа офеней у Подыминогиновых всегда было. А среди населения желающих выменять истинно благолепную киммерийскую молясину бывало когда в десять раз больше, когда и в сто.
К семидесятым годам девятнадцатого века денег Подыминогиновым стало девать просто некуда, а тут откуда ни возьмись — свалилась на Русь традиция коллекционирования: Третьяков в Москве, Боголюбов в Саратове, Рябушинские, Щукины, Морозовы и все прочие в разных других местах. Собирали меценаты в основном современную для них русскую живопись, хотя не брезговали и всякими Матиссами да Пикассами, не говоря про Гогенов и ван Гогов. Вологодчина, а уж тем более Кадуйский Погост, собственными Крамскими и Репиными похвастать не могла. Знаменитый миллионщик Сидор Павлович Подыминогинов свою коллекционерскую тему найти сумел. Сперва он, как и все предшественники, съездил в Париж, и Гоген ему не понравился. «Не похож» — сказал он. Зато к родным передвижникам душа его расположилась сразу — особенно к тем, которые разрабатывали сюжеты русской истории..
Если Третьяков покупал у Сурикова знатное полотно «Верхняя половина тела Ермака Тимофеевича покоряет Сибирь» — Сидор Павлович заказывал и покупал другую картину, где успешно шло покорение той же Сибири, но уже нижней частью тела Ермака. На укупленной Третьяковым картине Меншиков в Березове успешно прицеливался набить шишку о потолок. В Кадуйско-Погостянском варианте крыша просто зримо трещала, взламываемая встающим из кресла Меншиковым. Суворов не просто прыгал в пропасть при переходе через Альпы — он лихо съезжал на пятой точке куда-то вниз, и ясно было, что катится он не иначе, как с удовольствием. Ну, и других заказных картин у Сурикова Подыминогинов тоже купил немало. Потом купец умер, передав коллекцию второму среднему брату, тот — следующему, а младший в девятьсот десятом устроил в своем поместье передвижную галерею. Поскольку передвижники из моды к этому времени вышли, усадьба же, напротив, была весьма велика, то выставка просто передвигалась по ней — из правого крыла в левое, из левого в правое, и далее в том же порядке.
Переворот семнадцатого года сказался в России на всем, но меньше всего — на отлаженной столетиями работе Камаринской дороги. Самый младший из братьев-меценатов, Иван Афанасьевич, в то незабываемо жаркое лето перевернулся вместе с лодкой довольно далеко от берега Онежского озера, и стал тонуть. Утонуть ему ближние, конечно, не дали, но задохнулся первой гильдии купец основательно, и встретил новый, одна тысяча девятьсот восемнадцатый год законченным инвалидом-эпилептиком. К весне пришли революционные мужики громить его усадьбу с видом на Онегу; были при мужиках топоры, вилы и разные другие полезные вещи, даже такие, из которых стрелять можно, но случилась незадача — ни этих колющих и режущих предметов, ни самих мужичков, прознавших про неслыханное богачество купца-инвалида, с той поры никто уже никогда не видел.
Никто из тех, кому не полагалось, больше не видел никогда и самого Ивана Афанасьевича. Пропавшая усадьба его едва ли была разграблена, скорее она сокровенно куда-то перенеслась, — на дно Онежского озера, к примеру, как с иными русскими городами уже бывало; если верить не легендам, а фактам, то постояла усадьба без перемены облика что-то с полгода, а летом вполне официально дочиста выгорела. Куда подевались живописные сокровища купцов первой гильдии — так и осталось неизвестным. Если же кто намекал, что у Монсона в Стокгольме кто-то видал здешнего Репина, либо в Сан-Диего здешнего Брюллова — тому быстро укорачивали язык. Болтать о распродажах национального достояния России всегда было опасно для здоровья. А тут речь шла о самом Сурикове — величайшем среди великих национальных жанровых мастеров правдоподобной русской истории, таком, какого и теперь, при Старших Романовых не запретили, а это согласитесь, дорогого стоит.
В двадцатые годы, при нищем вологодском нэпе, многое потерялось как будто безвозвратно. Напрочь позабылось — где же возле Кадуйского Погоста была оборудована некогда теплица-ананасница, в которой еще при дедушке всех четверых меценатов сбраживалось сорокаведерными бочками особое ананасовое вино; кстати, в одной из таких бочек основатель рода то ли утоплен был, то ли самовозгорелся, то ли с ним еще что хорошее приключилось, после чего единственный сын ананасного страдальца, Павел Подыминогинов, и вступил во владение ряпушково-канифольной и, понятно, молясинной империей сгинувшего среди ананасных дебрей папаши.
Усадьба в тысяча девятьсот восемнадцатом ли, в другом ли каком решающем году, напоминаем, официально сгорела дочиста, оптовый склад отошел под дом культуры, теплица-ананасница не иначе как вознеслась, но еще одна недвижимость, некогда пребывавшая в собственности купцов-меценатов, где была, там и осталась. Старинный склеп на кладбище Кадуйского Погоста, хоть и был обрушен по традиционным атеистическим причинам, никуда с погоста не исчез. Напротив, его подземная часть была значительно расширена силами доброхотных офеней; расширение это продолжалось и в двадцатые годы, и в тридцатые, и даже — немыслимо представить — в сороковые. Ибо война, конечно, войной, а порадеть-то каждый хочет. Неслыханные толки возникали в те поры: бывалые офени видали, к примеру, молясину типа «Сталин-Гитлер», еще были какие-то курящие молясины, — вроде бы как еретические, потому как один Кавель был там с трубкой, другой — с сигарой, так делать молясину не положено — но народ и ее полюбил, как и все остальные, хотя народ для каждой молясины отыскивался свой. Во времена памятного постановления Центрального Комитета от сорок шестого года кто-то кому-то на темном подземном складе переобменял и молясину типа «Монахиня-Блудница», — встречалась, даже очень популярна была молясина типа «Наше-Ихнее», — только отличить Наше от Ихнего было не легче, чем Кавеля от Кавеля, потому и спрос на нее образовался в народе бешеный, даже на некиммерийские поделки, которые слепцы продавали в местных поездах под патриотическую песню на мотив «Кирпичиков» — «Вышел Кавель раз против Кавеля, / И решился его порешить»…
За песню, да и за молясину, конечно, давали кому десять лет, кому и двадцать пять, но в лагере мастерущий слепец жил как… ну, словом, жил, как у Кавеля за пазухой. Иные слепцы (и не слепцы тоже) — так просто в лагерь ломились словно в магазин за пивом: в лагере и мастеров меньше, и спрос выше, и поди угадай: Кривой Гуталин в усах угробит ли Кривого Гуталина в пенсне? А кто чего забодает — брови лысину заметут, либо лысина пару бровей расквасит? А если Барбудо Че на Че Гевару попрет — тогда как? А если против Наших на Синае Свои выйдут?.. Тут радение за Своих, которые и вправду Наши, начиналось иной раз прямо при помощи еще и недовымененной молясины, и драка, бывало, переходила в большое членовредительство.
На тысячи радельных толков — десятки тысяч молясин, а их ведь хранить где-то надо. Точно сказать трудно, но старые офени утверждали, что впервые под молясинный склад использовали они родовой склеп купцов Подыминогиновых именно в незабываемом восемнадцатом: предвидели, что вся эта петроградская заварушка если и кончится тем, чтоб мир — народам, а земля — крестьянам, то уж никак не достанутся трудовому человеку на Руси кровью и потом заработанные, более всего на свете ему нужные молясины. Потому как первым делом что экспроприируют? Самое ценное, что есть — иначе из церквей золота не перли бы мешками, не валили бы новгородские иконы двенадцатого века, словно дрова, на телегу. Что тогда говорить о молясинах, особенно о настоящих, о подлинно киммерийских, точеных и резанных из драгоценных камней и мамонтового бивня? Их первыми и отымут. Унесут в Смольный, или там в Кремль, и будут радеть сами — до полного улета. Экспроприация экспроприацией, а порадеть-то, побалдеть, оно каждому в охотку. Стало быть — пора прятать… что? А все. Все пора прятать. Помянули офени обстоятельным недобрым словом татаро-монгольское иго, и решили использовать тогдашние оборонительные наработки по борьбе с этим игом — пусть его, по мнению академика академической скребли Саввы Морозова, хоть сто раз никогда не было.
Земля на кладбище Кадуйского Погоста — сплошной камень, до самой реки Вытегры, прямого пути до реки там чуть больше десятка верст. В такой плите хорошо подземные убежища долбить, — если долбить не для правительства, понятное дело, а по своей нужде. Офени сразу же, как только учуяли экспроприацию, дружно и аккуратно взялись за долбильное дело, благо таиться им при своем-то стороже было не слишком нужно. А ежели кто лишний забредал сюда — на такое дело имелся в хозяйстве одноглазый могильщик. Говорят, не зря этот могильщик с того самого незабываемого восемнадцатого стал носить повязку на глазу. Никто не видал — что у него там, под повязкой. А если кто и сумел под эту повязку разок заглянуть, то больше уже никому и ничего этот любопытный не по-русски человек рассказать не мог. Был могильщик стар, и звали его для гробокопа необычно и страшновато — Иваном Ивановичем.
В незабывемом восемнадцатом, историческом девятнадцатом, решающем двадцатом и прочих следующих годах жил в подземелье еще и его полупарализованный, измученный черной немочью отец — бывший первой гильдии купец Иван Афанасьевич, благоустройство подземных покоев которого взял на себя принявший ярмо добровольного одноглазия сын его Иван. Офени из робких уверены были, что всего-то стоит с якобы слепого глаза Ивану Ивановичу снять повязку и в каменную стену глянуть — как в ту же минуту образуется в той плите обширная комната, и ложе в ней будет готово сразу же каменное, и канделябры встанут высокие, на девять свеч, и шкатулочки возникнут всякие, чтобы денежкам где попало не валяться, и даже рамы под картины красноярского художника Сурикова образуются в тот же момент. Никто этого ужасного взгляда Ивана Ивановича сам не видал, да вот уж на офенский-то роток ну никак не накинешь платок.
Сказки сказками, а под склепом купцов разрастался склад: количество комнат, сухих, теплых и хорошо проветриваемых через незаметные простому глазу скважины, увеличивалось год за годом. Болел и все никак не помирал старший Подыминогинов, однако выбрал-таки себе для смерти бедняга дату: в одна тысяча девятьсот тридцать седьмом году помер: тихо помер, праведно, без припадка — старые офени загодя поздним вечером сказывали, что перед смертью откроются однажды старику новые, никому не известные и вовсе художником Суриковым никогда не задуманные картины, — потянется старик к этим неведомым никому шедеврам, утешительно потрогает их пальчиками, да с тем и отойдет к предкам. Едва ли даже самый умудренный из офеней в самом деле умел на балканский манер заглядывать в чужой сон: просто, наверное, принял кто-то свою дрему за чужую. Но умер старик именно в ту самую ночь, стало быть, не все в этом рассказе — пустая байка: уж хоть что-нибудь, наверное, все-таки было.
Время над кладбищем скользило как на водных лыжах: быстро и приятно для того, кто на этих лыжах катается, — покуда сам катающийся, конечно, не навернется по полной программе; но ведь и тогда навернувшийся попадет на тот же погост, примет его за малую денежку сторож, одноглазый же могильщик на то и службу свою несет, чтобы работу гладко несущегося времени правильно завершить в правильном месте. По всем подсчетам было сейчас Ивану Ивановичу лет примерно сто, однако мало ли что бывает и на какой почве. На нашей, на российской почве никто Ивану Ивановичу больше половины этих от большого незнания начисленных лет не виделось: во многом незнании, как говорили иные офени, многая беспечальность, а ежели ее, беспечальности, человеку только половина дана — старость раньше двойного срока человеческой жизни не только к тебе не придет, она, болезная, раньше времени еще сама же к тебе и подходить побоится. Может, конечно же, важно тут и одноглазие, но кто их поймет, этих могильщиков. В чужие секреты лучше не соваться. В могильные — особенно.
Вот и теперь груз на каталке был офенями передоверен сразу же страшному Ивану Ивановичу, чьи труды и дни почти целиком проходили под землей: порядок в часовне соблюдал престарелый сторож, а настоящую службу в часовне святых Уара и Артемия Веркольского служил заезжавший из Вологодской епархии батюшка, отпевая сразу всех, кого погребли здесь без правильного обряда за истекшие полгода.
Ужасен был Иван Иванович: единым движением ножа вскрыл он рогожный кокон вместе с веревками, и на каменный пол офенского склада рухнул обливающийся слезами и мычащий, невзирая на зашпаклеванную мерзкую пасть, экс-офеня, экс-глава кавелитского толка Колобковое упование, экс-Тюриков, ныне, надо думать, все еще Борис Черепегин. Не помогли ему «Истинные», не добежал он до них, только через Камаринскую хотел юркнуть — а там его уже с мешко ждали офени. В этом мешке и принесли.
Все присутствующие, — а таковых было неожиданно много, — брезгливо сплюнули. Иван Иванович от плевания воздержался, губы его, тонкие, как нитки, разомкнулись, дабы изрыгнуть невозможно низким голосом череду темных проклятий, каждое из которых звучало еще и как обвинительный приговор.
— Варнак печатанный… ласты те завернуть мало.
Офени одобрительно загудели, а Борис, на что-то еще надеясь, с большой скоростью закивал головой, но тут же схлопотал от одного из амбалов по шее. Хотел упасть, но снова был поставлен почти прямо. Иван Иванович, выдержав паузу по законам жанра, продолжил:
— Чувырло, вишь ли, братское…. не отначишься ноне.
Сцена повторилась. За спиной Ивана Ивановича слышался повторяющийся звук, который спутать было ни с чем нельзя: с помощью лома и лопаты там рыли яму. Но никто не обращал на этот звук внимания, все с восхищением слушали могильщика.
— Портняжник угадатый… торбохват затруханный…
Темные, совсем не офенские, а явно воровские, причем иной раз всеми забытые обороты срывались с тонких губ могильщика бесконечно медленно и долго — до тех пор, пока удар лопаты о лом в глубине помещения не возвестил всем понятное: яма готова. Амбалы вновь подхватили Бориса и потащили через расступившуюся толпу к яме. Там то ли потерявшего сознание, то ли опять придуривающегося колобковца перевернули вверх связанными ногами и опустили в яму. Его крепко держали, притом явно с чем-то долго не могли справиться. Из темноты донеслось: «Слушай, он ведь все не умирает… давай еще и во второе ухо нальем… для надежности…» Опять послышалось глухое ворошение, потом звук переменился, перейдя в монотонное «швырк, швырк». Ловкие лопаты стали бросать землю, — очень быстро ушла в нее голова, экс-офени, плечи, грудь… пятки. Бориса зарывали в грунт под склепом вниз головой: так в русских деревнях не казнили даже конокрадов. Но офени соблюдали только свои, никому, кроме них не известные законы.
Обычно над человеком, которого зарыли в землю живьем, в последнюю минуту еще успевает вздуться бугор, предсмертная сила оставляет погребенного не сразу. Однако Бориса лишили и такой возможности: он был зарыт вниз головой да еще связан: не очень-то потрепыхаешься. Старшие офени в тяжелых дорожных сапогах плотно затоптали место его погребения, потом присели отдыхать на скатанные тулупы. Присели в сторонке, в полутьме, хотя факел освещал глубинную часть склепа. Никто из них не пил и не курил, но большинство достало из внутренних карманов пакетики дорогой киммерийской жвачки с прибавкой ивовой коры, кинули по кусочку в рот, задвигали челюстями. Прочие просто уставились в огонь.
— Может, выкопать, обтереть да и снова засыпать? Мало, мало ведь его один-то раз казнить! Двадцать восемь душ только… только наших погубил. Вот и его двадцать восемь бы раз… — проговорил один из офеней, тщедушный и седоватый, от жвачки воздержавшийся, — не иначе, как и ему хотелось занять чем-то время.
Одноглазый зыркнул на тщедушного зло и неодобрительно.
— Тоже, Мартин Бубер нашелся… Поймать, приговорить к смертной казни шесть миллионов раз, а потом выгнать вон? Нет уж, если поймать удалось, то и казнить положено тоже. Чтоб никто его в молитвах не поминал!..
Офени загомонили.
— Это ты, Ван Ваныч, перехватил! Он ж не самобойца какой!
— Ты, Ван Ваныч, тут заведуй, а молиться нас не учи, чай, не епископ!
— Не архимандрит!
— Не дьякон!..
Одноглазый выставил ладонь вперед.
— Дело ваше. Мне заплатили, я казнил. Не он первый… Делайте, что хотите, хоть в монастырь все уйдите, мне других дел хватит. Жить можете спокойно, тропу он не показал никому, сам боялся… Может, Господь язык ему завязал, тайну тропы чтобы не выдал? Не знаю. Но одно запрещаю, потому как здесь — моя воля, Подыминогинов я!
Офени, не прекращая жевать, кивнули: чистая была правда, что могильщик, как был он Иван Иванович Подыминогинов, потомственный купец первой гильдии и гробокоп-ударник, так им и оставался, и что-то запретить мог. Большинство уже догадалось — что.
— В часовне здешней чтоб ни огарка за упокой этой сволочи не поставили! Не поганьте погост и род наш не позорьте! Сторонним и знать-то нельзя, что возможен на свете офеня-убивец! Это ж вроде как прудовой карась да в моджахеды подался, либо там в какие не то ассассины!
Офени, хоть и нехотя, кивнули. Кто-то сплюнул жвачку, давая понять, что дело закончено. Так оно, по большому счету, и было.
Лысый, как колено, очень старый офеня положил к ногам могильщика плотно набитый мешок. Одноглазый, никого не стесняясь, ленточки оленьей замши развязал и запустил в него руку. Достал что-то из мешка, повертел перед зрячим глазом, потом изменившимся голосом спросил:
— Это что ж… бильярдный шар?
— Ван Ваныч, — строго заметил лысый, — обычаи сам знаешь. Кого казнил — того имущество все тебе идет. А имущества этой падали, — обе руки лысого дернулись, порываясь сложиться и сотворить офенское крестное знамение, но офеня сдержался, — этот мешок. Там всякой всячины дорогой, только поганой, уж прости, империалов на двести будет, даже если по дешевке отдавать. Шахматы всякие, чесалки для спины — и все мамонтовая кость, самая наилучшая, розовая. Все на Елисеевом поле взято, не сумневайся…
Одноглазый достал из мешка настоящий киммерийский термос с притертой пробкой, как-то сразу помягчел.
— Ну, люди, идите с миром.
Офени стали по одному вставать и, уже не стесняясь могильщика, креститься своим заветным двойным крестом: они молились не за упокой преступной души, а просто в дорогу, ни один офеня, как известно, без такого креста и шагу не ступит. Никто и не возражал. По условному стуку изнутри ветхий сторож отпер склеп и без поспешности стал выводить наружу офеню за офеней — по одному, как принято. Когда он заложил брус на воротах, когда проверил крепость задвижек, — стояла уже совсем глубокая, сырая, осенняя ночь. Сторож оглядел полуслепыми глазами полную темноту, обступившую лишенное забора кладбище, и побрел к склепу Подыминогиновых.
Снова заскрипел трехфунтовый ключ в замке. Но на этот раз сторож вошел внутрь и так же аккуратно запер дверь за собой. Факел на стене почти догорел, а могильщик, закончивший перебирать драгоценную добычу, отдыхал, удовлетворенно припав спиной к стене.
— Ну как, Аверьян Мосеич? — обратился могильщик к сторожу.
— А никак, Иван Иваныч, — прошелестел сторож. — Ушли все, правильно ты им вход в часовно запретил, — а то б нам с тобой так и сидеть да утра тверезыми. Устал больно. Давай, помянем-то душегуба. Это им нельзя, нам-то все давно можно. Мы с тобою — божедомы, такая наша планида. А тверезый божедом ни Богу не угоден, ни царю, ни вот покойничкам нашим, кто их, кроме нас, помянет?..
Могильщик удовлетворенно кивнул, расстелил на полу склепа широкую, по всему видать, столичную газету, затем выудил из широченного, подшитого под нагольный тулуп «сидора» штоф дорогой водки «Служебная» — как и полагается, лучшего, гусь-хрусталенского разлива, и поставил его посредине газеты. Достал невскрытую коробку дорогих пахитос «Онежские императорские», но открывать не стал, только буркнул: «Курить охота, аж уши пухнут… а нельзя». Положил возле штофа. Это был его личный вклад в поминки, остальное обеспечивал сторож. Аверьян Моисеевич довольно кивнул и достал из своего — тоже уемистого — «сидора» большой, свернутый из синей бумаги, куль копченой онежской корюшки. Добавил две бутылки пива, непочатую черную ковригу, положил ножи, присовокупил стаканы. Потом скинул тулуп, скатал его и уселся против могильщика. Тот уже разливал водку. Рука его ничуть не дрожала.
— Не глаз у тебя, Иван Иванович, а алмаз, — привычно бросил реплику сторож. Могильщик не обиделся, а напротив — с облегчением снял повязку со второго глаза. Был он у него совершенно здоровый и глядел не хуже обычного.
— Прав ты, Мосеич, офени давно ушкандыбали, а я все в повязке, как дурак, сижу. Ну, давай, по первой — за упокой… хрена этого, Господи прости.
Выпили по первому, заели маслянистой корюшкой, под которую очень славно прошли и второй стакан, и третий. Могильщик хотел сразу налить еще по одному, но сторож мягко его удержал.
— Слышь, Иван Иваныч… Того… Может, откопаем? Может, еще дышит?.. Мы его закопать брались, а других обещаний не давали.
Могильщик резко отрицательно мотнул головой.
— Нет, Моисеич, уже нельзя. Глянь сам… Вон, уже выпер.
Сторож, не веря напарнику на слово, снял со стены факел и пошел к месту, где закопанного Бориса затаптывали офени сапогами. Могильщик был прав — земля на этом месте все-таки поднялась на поларшина. Старик перекрестился по-простому, потом по-старообрядчески, и поднял факел. Длинный ряд таких на поларшина выперших бугорков уходил в глубину склепа, и света не хватало увидеть — сколько их там. Старик перекрестился еще раз и вернулся к уже разлитой по стаканам «Служебной».
— Ну, Бог дал, Бог взял, а царь велел — не наш передел…
Не чокаясь, старик-сторож огрел и четвертый стакан, потом жадно отломил краюху, положил сверху немного корюшки и стал закусывать. Могильщик с сомнением достал из «сидора» миниатюрный спутниковый телефон, покрутил в руках и решил пока не рисковать.
Не ровен час.
Запеленгуют еще.
А кроме того — что тут такого приключилось, о чем граф не сообщил бы заранее? Сообщать ему, что предсказание сбылось? А когда и чего у него не сбылось? И курить нельзя — вентиляции не хватит, дым и через неделю тут висеть будет… Да и было предсказание, что от курения на кладбище все воздержатся. Было предсказание, было. Ну, вот уже и сбылось.
Дожевав приличную горсть корюшки, могильщик аккуратно натянул на глаз повязку и спрятал пахитосы в подшитый карман. Не затем ему зарплата шла, чтобы он из роли выходил, — а до пенсии было далеко. Затем он внимательно оценил положение, глянул на сторожа и нехотя выставил еще один штоф.
— Только этот — последний, потом пивом отлакируем — и всё. — строго сказал он. Тебе пятая алкогольная форма предписана. Поймают в шестой — живо поедешь в столицу посольство стеречь… этой… Бурундии д'Ивуар, как ее там?
— Свят, свят, свят… — закрестился сторож, — скажешь еще… Давай только не тянуть кота за хвост, очень… этой, словом, рыбки хочется.
— Рыбки!.. — хохотнул могильщик, отрезая ломоть от ковриги, — кончай треп. Сам знаешь, что по этому поводу в Талмуде сказано: слова умного изобилуют мыслями, а мысли глупого — словами! Ну, будем…
Тьма над погостом лежала такая, что ее тоже можно было бы резать ломтями — только никому это не требовалось.
Майоры еще раз выпили.
20
… в воздухе сильно запахло водкой и войной.
Владимир Короткевич. Цыганский корольУмные деревья и здесь росли только ночью, поэтому им приходилось пользоваться такими временами года, когда ни одно уважающееся себя дерево расти не станет — поздней осенью, ранней весной. Лес тут был хвойный — сосна, ель, пихта, совсем немного лиственницы. Ветер дул чаще всего холодный, с Ледовитого океана, никогда не долетало сюда дыхание блаженного юго-западного суховея, несущего крупинки священной китайской соли. Поэтому деревья тут жили и росли не как хотели, а как могли, однако здесь тоже была Россия, а ей к такому положению не привыкать.
К востоку от леса текла река Юла, к западу — Северная Двина, в двух шагах к северу, точно на шестьдесят четвертой широте, располагалось село Карпогоры, славное своим ударением на первом слоге в названии, Веркольским монастырем и откупленным в частную собственность за большие взятки, запущенным аэродромом. Словом, нормальному человеку тут делать было совершенно нечего, разве что рубить дешевые дрова и продавать их для на производство уж совсем дешевой бумаги. При советской власти тут было полсотни лагерей, но они куда-то с годами делись, — заодно куда-то делась и советская власть, и никто по ним, исчезнувшим, не пролил ни слезинки; колючую проволку, разумеется, всю сперли и перепродали, да и не ее одну. При желании тот, кто вознамерился бы здесь поселиться, мог десятилетиями не думать — какая власть на дворе, какое тысячелетие. Его могли бы тут найти в два счета — если б знали, что именно здесь кого-то надо искать. Однако не находили, потому как, видимо, не знали — куда, ёптнть, куда он, ёптнть, удалился.
По крайней мере тот, кто тут жил среди еловых дебрей в крохотной деревне с логичным названием Дебрь, считал, что найти его тут невозможно. А те, кто знали, что он здесь, до сих пор не считали необходимым нанести ему визит того или иного характера и сообщить, как фатально он в безопасности своего убежища ошибается.
Ибо нет и не может быть ни покоя, ни безопасности тому, чье имя — Кавель Адамович Глинский.
Скрипя зубами от неизбывной боли в никак не срастающемся левом предплечье, бродил грозный ересиарх из избы в избу, нагонял страху на своих последователей, везде немножко пил, немножко бил, немножко орал — и шел дальше. Боль не проходила. Проклятый киллер Тимофей Назарович Лабуда, старший брат в славную жертву принесенных близнецов Кавелей с той же фамилией и тем же отчеством, в распроклятом городе Мухояре, с расстояния в полторы версты всадил Глинскому в предплечье то самое, что называют на деликатном языке «пулей со смещенным центром тяжести», и что во всем мире запрещено Андаманской конвенцией киллеров-профессионалов. К сожалению, Тимофей Лабуда не знал об этой конвенции, он третий год ни о чем не знал — он охотился на Кавеля Адамовича Глинского, главу корабля Истинных Сынов Кавеля, повелителя наиболее запрещенных из всех, как выражался главный специалист по общей теории этого дела Андрей Буркин, «тоталитарных сект». Но Буркин теоретизировал в Великом Новгороде, да и не Кавель он был, и поэтому не кавелевед, а Тимофей Лабуда с «толстопятовым» мог выйти из-за любой елки даже здесь, в Дебри и… прости-прощай, вожделенное Начало Света. А тогда зачем жизнь прожита?..
Кавель Адамович очень боялся Тимофея. Наверное, не меньше боялся, чем боялась его самого изрядная часть Российской Империи — особенно та ее мужская часть, немало, увы, ныне поредевшая, что носила от рождения несусветное имя «Кавель». Так и бродил Кавель Адамович по курным избам Дебри и словно молитву бормотал перечень известных ему, но все еще живых Кавелей из села Знатные Свахи:
— Так… Глинский, Кавель Адамович. Сын Адама Саввича Глинского, зоотехника. Внук лакея; дедушка его однажды выиграл в лотерею сразу томпаковые часы, гитару и янтарный мундштук. Часы украли, гитару жена об голову деда разбила, а мундштук цел. Этот всех важней… Не мундштук, понятно, а Кавель. Мундштук что? Его Кавель Адамыч с утра до ночи сосет, хотя не курит. Себе мундштук заберу… И будет Начало Света! Далее… Журавлев, Кавель Модестович, основатель корабля «журавлевцев», конструктор перелетных молясин, саморазмножающихся. Кочует, ибо негоже старую молясину встречать. Наречен «Навигатором». Вооружен и очень опасен, недостижим, целую орду с собой таскает… На потом его, на потом. Далее… Глинский, Кавель Казимирович, виртуоз акустической гитары, вечно на гастролях, в Россию носа не кажет… Ничего, доберемся и до него, и до гитары — та самая, небось, что дед-лакей у Кавеля Адамыча однажды в лотерею выиграл, хотя нет, ту об дедову голову жена разбила. Как того деда звали? Нет, не Кавель… Во! Савва его звали! Стало быть, сына звали Адам Саввич… А мне до того какое дело? Кто еще? Федоров, Кавель Марксэнгельсович, преподаватель восточных единоборств с научным атеизмом… Этот на очереди, в самый бы раз его на той неделе… Ой!
Кавель Адамович шарахнулся от елки, в которую врезался как раз больной рукой.
— Ёптнть! Ну помогите ж, суки, опять ёлки-палки тут понаставили!.. На хрена вам ёлки? Все одно к Новому Году Начало Света будет, а тогда — какие ж ёлки? У, вредные души антихристские, век бы вам Кавеля не видать!..
Из ближайшей избы к Кавелю со всех ног бежала полоумноватая баба, на бегу протягивая обезболивающее: стакан мутного, чуть ли не елового самогона одной рукой, а другой — двузубую деревянную вилку с нанизанной на нее оленьей котлетой. Кавель, стараясь убаюкать боль в поврежденной руке, выцедил самогон мелкими глотками, котлетой же просто заткнул себе рот, и отправлять в желудок ее не торопился. Такая у него была привычка, об этом весь корабль знал, и всякая причуда великого человека была тут священна.
В дверях той же избы почти немедленно возник персонаж, давно знакомый нашему внимательному читателю — горбун Логгин Иванович, которому некогда не хватило денег выкупить тело бесчувственного следователя федеральной службы после того, как тот был оглушен мыльно-коньячным залпом с последующей инъекцией чего-то очень мерзкого. Видимо, горбун и инъекция были как-то мистически связаны, ибо и сейчас он держал в руках большой шприц, полный чего-то грязно-бесцветного. Настолько, насколько это позволяли горб и кривые ноги, горбун спешил: в шприце у него была доза обезболивающего, уже третья за сегодняшний день. Логгин Иванович знал, что сейчас здоровой рукой его кумир, его истинный Кавель врежет ему по горбу, но лучше уж так. Жидкий анальгин и самогон из морошки — вот и вся медицина, которую разрешал применять к себе ересиарх.
Все почти так и случилось. Сперва Кавель прожевал котлету, потом вытерпел укол в здоровую руку, а следом ею же врезал горбуну, только, увы, не по горбу, а под дых, от чего верный слуга покатился по замершей земле.
— Бьешь тебя, бьешь, — пробурчал ересиарх, с трудом проглотив котлету, — а толку никакого. Не орешь даже. Заорал бы — я б тебе в морду дал. А в морду дам — ты, того гляди, сбежишь. А тут, кроме тебя, ёптнть, и укола мне сделать некому… Сирота я… — Кавель проронил слезу-другую, то ли от боли, то ли от неизбывной жалости к себе самому. А ну сгинь, видеть не могу ни тебя, ни горба твоего поганого!..
Горбун поспешно подобрал откатившийся шприц и, согнувшись, как орангутанг, почти опираясь на землю руками, убрался в избу. Ересиарх, которого стала покидать омерзительная мухоярская боль, огляделся. До вечерней проповеди оставалось еще часа четыре, можно бы поспать, да как-то не хотелось, можно бы помучить кого-то из пленных, да все пыточники, как на грех, еще вчера уехали на государев космодром Плесецк — покупать по мелочи всякую необходимую электронику, без которой главное оружие его корабля, пусковая установка крылатых ракет класса «Родонит», работать решительно отказывалась. «Родонитов» у Кавеля было еще немало, почти два десятка: год назад священному кораблю «истинных», что называется, свезло: один из сторонников секты сумел посадить на мель в Карском море вполне современную российскую подводную лодку «Перекоп», — с полным боекомплектом, хоть уже и приватизированную каким-то московским издателей для круизных целей. Покуда неповоротливые спасатели сквозь буран прорывались к лодке, лежавшей всего-то на глубине в полсотни саженей, «истинные» кавелиты ее давно раскурочили, заодно перебив всех, кого нашли в ней живыми, в том числе и «своего», чтобы уж никаких свидетелей не осталось, чтобы предать огласке историю «Перекопа» не мог никто и никогда. Главной добычей водолазов «истинного» Кавеля оказалась пусковая установка с межконтинентальными ракетами класса «Родонит». И полугода не прошло, как ее снова удалось смонтировать на суше, возле Дебри. Кроме двух немного помятых, все ракеты оказались в отличном состоянии, такими уже проводились пробные стрельбы.
Цель у ракет была та же, что у Кавеля Глинского «Истинного»: он стрелял по берлоге кавелиприимного Богдана Тертычного, прозванного «чертовар» за склонность к развариванию чертей на мыло, лекаственные средствия и прочее, что ересиарху совершенно не требовалось. Сразу после запуска ракета сворачивала сразу к чертям собачьим, на юго-восток, как докладывали электронщики-пыточники — на юг Тверской губернии, где сейчас стоял всей ордой Кавель Журавлев; хотя с ним-то Кавель «Истинный» связываться хотел бы в последнюю очередь. Там же, как сообщали Кавелю Глинскому, еще есть и сокрытое гнездо тайных Кавелей: любая ракета, попавшая в правильного Кавеля, могла вызвать внезапное Начало Света, так что выбирать и экономить не приходилось, — хотя, конечно же, Кавель Глинский нуждался в возможности обстреливать многие другие цели, Кавели — они на месте не сидят. Прицел у пусковой установки был, увы, фиксированный, но перенастроить его мастера-пыточники обещали накрепко, притом достаточно скоро: вся ракетная установка, говорили они, изначально склепана была черт знает как и нацелена на черт знает что. Словом, не ту лодку потопили ребятки, не ту. Но как будет Начало Света — может, и ее ракетная мощь на что-нибудь сгодится. Пока что «Истинного» волновали только больная рука и Кавели, без приношения коих в жертву Начало Света не приближалось ни на йоту. Конечно, был еще и Тимофей, тот, который Лабуда, — но никакой киллер не принимал на него заказа. Киллер киллеру в глаз не выстрелит, — такая, увы, на Руси имелась с самых древнейших времен пословица.
Ересиарх, боль у которого малость утихла, мрачно стоял, поглядывая то на одну избу, то на другую, и размышлял. Все-таки маловат оказался нынче его корабль, не такую силу обрести он мыслил первоначально. Ну что, ну двадцать два дома фасадом, за ними позади, знал он, еще домов десять есть, да в лесу три скита в елках схоронено, при пусковой установке дом для обслуги, радельная с его личными покоями, ну, с полсотни доглядающих, — а всего-то и две-три сотни-то в корабле еле наберется таких, кто духом крепок. Даже вот за мощами первомученицы Музы Арясинской послать некого: а ведь как служила, как служила… Бывало, отобьешь ей телеграмму: поди, ёптнть, туда, сама знаешь, куда, да отстегай себя вениками березовыми за то, сама придумай, за что — и ни разу не случилось отказу: к вечеру тем же кодом отвечает, мол, сидеть не могу, все гузно до того науку восприняло, что того гляди — подберезовики под ним собирать можно будет. И вот такую женщину! Такую женщину!.. По приказу лютого Кавеля Журавлева привязали спиной к гаубице, рот заткнули, да и выпалили ей в спину. То ли, говорят, с превысокой скалы над Волгой скинули, а потом лавину на нее спустили. То ли в пучине морской где-то возле Мологи с жерновом на шее живую погребли. То ли еще что, а вернее всего — и то, и другое, и третье, потому как лют журавлиный наставник-зверь, и не хочет Начала Света. Но ужо! Ужо!
Регулярного получения информации со всего мира — куда там! — Кавель «Истинный» Адамович Глинский, врагами прозванный «Ересиарх» организовать так и не сумел. Даже и со всей России. Озаботившись первоначально наведением жестокой и страшной дисциплины в своем корабле, вооружившись тысячью ступеней различных наказаний за различные провинности и прочей малопривлекательной для простого радельщика антуражностью, Глинский из четырех любых завербованных очень быстро терял троих, и лишь немногие из них становились просто беглецами: кто не выдерживал каторжных трудов и побежек по всей Руси, кто погибал в стычках с окаянными супостатами, кто умирал во время ритуальной порки, кто просто налагал на себя руки. Даже среди самых приближенных к ересиарху людей, среди пыточников, имелся процент самоубийств. Но вот ежели двое матерых пыточников сели перекинуться в картишки под морошковый самогон, а потом друг другу черепа раскроили недопитыми бутылками — это как, самоубийство? Кавель приказал считать, что да. Только ему не хватало, чтобы из-за этой пары алкашей сложился в корабле новый толк: такой толк, словно рой из улья, очень быстро покинул бы родной улей, то есть корабль самого Кавеля. А корабль и так был невелик. Хотя, конечно, и силен, и страшен зело.
Кавель Истинный совершенно не терпел добровольных пожертвований, хотя в деньгах нуждался отчаянно и непрерывно. Решением проблемы, конечно, были бы заложники и выкуп за них, очень могли помочь «эксы» — гробануть бы, например, пароход с деньгами, или хоть поезд, самолет тоже ничего, да хоть оленя, лишь бы за ним инкассатор ехал — глядишь, не случилось бы такого сраму, как с Логгином Ивановичем, когда ему денег в Москве на свежего Кавеля не хватило.
Казалось бы, неплохая страна Россия, особо когда она империя, — а вот поди ж ты, почему в ней всегда денег не хватает? Хоть уборщице в женском вытрезвителе, хоть самому императору, хоть Истинному вот даже Кавелю. Хоть прислуге космодрома Плесецк. Им-то отчего? Казалось бы — богатейшие места, бери все, что хочешь, полной жменей: рожь, горох, ячмень, картошку, овощь всякую, пшеницу, говядину, курятину, крольчатину, даже, подумать только, свинину! А уж на космодроме-то — хоть материнских плат для пентиумов, хоть аппаратов космических матерных… то есть многоступенчатых? Нет же! Пошлешь к ним своего человека с простенькой толстопятовской стрелялкой, легонько ее так ко лбу прислужника приставишь — и нет, чтоб все на нужды Начала Света с благодарствием с него получить — нет, отдадут, конечно, но непременно еще и на бедность пожалуются. А еще потом прислужников этих и закапывай, а земля местами — почти чистая мерзлота, трудов-то сколько лишних! Нет, как придет Начало Света — твердо верил Истинный Кавель — так денег станет вдоволь, по потребностям. Хотя бы лично для него.
Кавель, бережливо баюкая больную руку, коленом открыл дверь в радельную. Шестым, седьмым и восьмым чувством ощущал он: если дело с Началом Света опять до Нового года не сладится, снова ему драпать по всей Руси Великой (Малой, Белой, Красной и еще Кавель знает какой). А ведь день-то нынче какой, время, чай, поджимает, то ли завтра у императора, то ли послезавтра свадьба с прибамбасами в годовщину, значит, коронации — неплохой вроде бы царь нынче, вот бы и ему свет Истинного Кавеля вовремя узреть, в десные, в правые уйти — он бы, глядишь, и спасся на лоне Кавелевом. А так — что так? Так и сгинет среди ошуйных левшей, среди неправедных. Значит, и монархию нынешнюю придется после Начала Света тоже отменить, другую учреждать, самому, наверное, короноваться императором… А что еще делать прикажете?
Ересиарх громко, на всю радельную, матернулся: опять задел больной рукой за косяк в темноте. Плошки с тюленьим жиром под его собственным портретом в красном углу чадили, почти не давая света. Электрогенератор же до приезда из Плесецка пыточников-электронщиков был намертво вырублен из экономии, да и безопасности ради: свой собственный нрав Кавель Глинский знал, понимал, что в припадке боли и ярости может сам же начать рвать провода. Так вот, не хватало еще, чтоб они под током оказались. Тогда прости-прощай все золотые мечты, похоронят под гнилой елкой… и не вспомнят… Кавель присел на скамью и в потемках заплакал от жалости к себе самому горячими, мутными слезами.
Набить трубку Кавель Глинский Истинный с помощью одной руки был не в силах, а звать кого-то специально не хотелось. Оставалось подождать, что черт принесет кого-нибудь из верных рабов, и приказать ему. Ждать пришлось недолго: дверь радельной приотворилась, и безошибочно узнаваемый профиль горбуна Логгина Ивановича протиснулся внутрь. Повинуясь правилам, горбатый лекарь грянулся оземь.
— Ёптнть… — со стоном выдохнул Кавель, — дармоедов тыща, трубку святому не набьет никто!..
Горбун, никак не обсуждая вопроса о численности истинных и о святости Кавеля, через несколько секунд подал Кавелю вересковую трубку. Глиняные Кавель в Дебри запретил строго, давно, увы, покойные шпионы докладывали ему, что глиняную курит Кавель Журавлев, а верховного кочевника ересиарх из суеверия не хотел повторять ни в чем. Если ересиарх чего и боялся на свете, так только того, что киллер Тимофей Лабуда тоже пойдет в журавлевцы, тогда ему, Истинному, после памятного мухоярского ранения заработавшему пошлое прозвище «недострелок», предстоит переход уже в иное качество, после которого и Начало Света, глядишь, не поможет.
Ужасно, ужасно. Кавель Глинский перестал верить в свое всесилие. Его «Родониты» уходили не то в белый свет, как в копеечку, не то в черную ночь, как черту в лоб. Никто не озаботился сообщить Кавелю перед тем, как было организовано затопление несчастного «Перекопа», что лодка эта с вооружения уже списана и переведена в круизные, что откупил ее владелец московского издательства «Эсхато» Освальд Вроблевский, что следовала она из Тикси в Паульбург, бывший Кенигсберг, для снятия с нее уже не нужных никому и морально устаревших крылатых «Родонитов», а сами «Родониты», спокойствия ради, перенацелены на экспериментальную лобную чертову кость, укрепленную где-то на Камчатке среди сопок. Кто ж виноват, что это была на единственная чертова лобная кость на Руси — но Кавель об этом не знал. Он вообще от боли последнее время мало что знал, мало о чем думал. Он боялся, что пулю ему Лабуда всадил в предплечье отравленную, не простую — и выход теперь один, скорее, скорее пусть наступает Начало Света, — а не то, глядишь, вместо него наступит, скажем грубо и прямо, полный звездец.
Кавель принял у горбуна трубку и жадно затянулся. Табак для него готовили зверский: смешивали дорогой виргинский со страшным киргизским самосадом, добавляли анашу, черный китайский опиум и немного сухого кизяка для аромата. Жаль, составителя этого рецепта, восточного какого-то человека, убить пришлось и захоронить в болоте. Чтобы не сочинил другой раз смеси еще благолепнее. А что делать прикажете? Кавель ничем и ни с кем никогда не делился.
Особенно — Кавелями. Чем тут делиться, когда по самым оптимистическим прогнозам их, помимо самого Истинного и очень малодоступного Журавлева-журавлевца, на белом свете оставалось нынче только десять рыл? Следователя при этом горбун упустил, пресвятая Муза Арясинская вроде бы вышла на его след, но ничего толком сообщить не сумела, пришил ее, болезную, окаянный журавлятник. И с этим, с Кавелем Казимировичем, не сильно лучше положение — то ли он на гитаре своей бренчит в Лас-Вегасе, то ли вовсе в Центральной Африке, иди знай: нет у Истинного нынче таких денег, чтоб агентам по всему миру платить. В сухом остатке — всего-то восемь Кавелей, а это ровно половина от того, что поп Язон некогда наквасил. А они еще и за здоровьем не следят. Сожрет из них кто-нибудь английский ростбиф, заболеет коровьим бешенством — прости прощай, тю-тю еще одна кавелятинка. А другой в Африке трахнет негритяночку, прельстившись ее пятнадцатью пудами живого веса, схлопочет СПИД, и тю-тю еще один. А третий улицу на красный свет перейдет… Ох, лучше и не воображать, трясун начинается… Нервам расстройство… Кавель с размаху грохнул Логгина Ивановича по горбу здоровой рукой. И сильно ее отбил. После десятка «ёптнть» ересиарх догадался, что в пальцы ему уже вложен стакан самогона. И, как говорил бессмертный классик, которого уже давно преподавали в гимназиях и пансионах для разного рода девиц, «немедленно выпил».
Кавель чувствовал, что сейчас завоет волком. Больно ему было, плохо, дискомфортно и в высшей степени тревожно. Он уж и воздуху в легкие набрал, чтобы завыть, но Логгин Иванович полушепотом позволил себе произнести всего одну фразу:
— Досточтимый владыка, электронщики вернулись, много нужных вещей привезли… и бабу тоже.
Самогон действие свое уже оказал, боль малость отступила. Ересиарх с трудом воспринял сказанное, но заинтересовался.
— Какую еще, ёптнть, бабу?
Горбун отбил земной поклон.
— Говорит, что имя ей — Клара Глинская, а что муж ее гражданский, недоразведенный, бывший следователь Федеральной службы — Кавель Адамович Глинский. Досточтимый владыка, тот самый, которого полицейские подлые увезли и не отдали.
— А сама знает, где тот Кавель? — очень заинтересовался ересиарх.
Горбун опять отбил земной поклон.
— Не ведает она… Но пыточники решили без высшего повеления вашего покуда не пытать: ежели она и не Кавель, то все же ж таки жена Кавеля Адамовича Глинского, а ну как вы, досточтимый владыка, ее пытать не повелите? Пыточники сейчас пошли до своих покоев: сапожки кипятят испанские, что матушкой-репкой правильнее назвать будет, батоги тоже, кнуты, клещи, хомуты для подноготной, серу тоже мнут, коли вам допрос с пристрастием вящим угоден будет. Дыбу-виску со всей стерильностию тоже уготовить можно, ежли повелите.
Кавель запустил в горбуна стаканом. Не промахнулся, но и стакан не разбился.
— Кто вам такое повелел? Она ж, кто б ни была, но… Глинская! Свечу зажечь, сюда бабу ту подать. Клару… Вот ежели брешет она, блекочет то бишь, тогда — кипятите свою дыбу… А до того — Кавелева на свете власть, и нет власти на земле выше Кавелевой! Нет суда выше Кавелева! Нет Кавеля, кроме Кавеля!..
Если б Кавель меньше выпил, он бы расслышал, как где-то поблизости щелкнуло что-то немудрящее, звукозаписывающее. Однако он выпил скорее больше, чем меньше.
Нехотя, почти на четвереньках поплелся Логгин Иванович исполнять приказ владыки. Хотя и теплилась у него надежда, что не примет Кавель Клару Глинскую в корабль, а отдаст электронщикам, и тогда все будет открыто для всеобщего созерцания: и как на кипяченой дыбе эту Клару заставят висеть, и как все восемь клиньев загонят в подноготный хомут, после чего обычно трещат даже самые богатырские косточки, и даже как, дай-то Кавель, деревянной пилой поперек, либо даже еще лучше если вдоль, эту самую заловленную бабу распиливать станут. Ибо с детства любил Логгин Иванович вещать кошек, рвать на части лягушек, особенно — смотреть на пытки. И как морду бьют — смотреть тоже любил. Не любил, однако, если морду били ему самому. И вот поди ж ты: именно ему, и никому другому, ересиарх бил морду ежедневно. Хорошо, если только раз или два. Случалось, что и гораздо чаще. Однако пути у горбуна из Дебри не было никакого. Пробовал он мягко предложить свои услуги разным разведслужбам — но почему-то никто не спешил его вербовать. Иные просто морду ему норовили набить. А ему и так хватало.
Дверь снова распахнулась. Маленькая черница, имени которой Кавель, пожалуй, и не знал никогда, держала выше собственной головы ярко сияющую свечу. За ней в радельную вступили два дюжих электронщика: косая сажень в плечах, пуд мозгов в черепушке и черный пояс по какому-то восточному единоборству, которое Кавель тоже не вспомнил бы даже по названию. Между ними, опустив лицо, стояла женщина с непокрытой головой, в осеннем, уже — не по сезону, пальто. Волосы ее были растрепаны, пальто — тоже, не одною лишь своею волей, похоже, приволокли ее из Плесецка в Дебрь. «А с чего я взял, что из Плесецка?» — нетрезво подумал Кавель и нежно погладил больную руку — здоровой. Тут же пожалел: на такое прикосновение рука отозвалась ноющим неуютом.
— Клара Глинская, — подал голос из темноты горбун. — Утверждает, что десять лет была замужем за Кавелем… Глинским. Утверждает, что служила нечестивой Веронике Моргане, чью грязную секту разбили самославные Ярославны Премудрые. Осталась без покровителя… и шла к нам.
— Не к нам, а ко мне, — фыркнул ересиарх. — А ну глянь в глаза мне, балда такая, ёптнть!
Электронщики не успели отвесить женщине заготовленные подзатыльники: она подняла лицо. Было оно бледно, измучено, неумыто и… и еще что-то. Сказал бы Кавель, что «духовно», но, во-первых, он за это слово хребет людям ломал, во вторых, что гораздо важней — вовсе не было оно духовно. Наоборот, было оно пронизано такой ледяной яростью, в которой никакому духу нет уж места: ни святому, ни тому, который наоборот. Такие лица Кавель вообще-то уже видел. У своих же баб видел, когда те, совсем недалеко от здешних трущоб, в Хренце, что под Холмогорами, с дубовыми вилами наперевес и под дружный ор «За Родину! За Кавеля!» шли в смертельную атаку на пулеметы федералов. И ведь выиграли тогда сражение, выиграли! Не эти бы могутные бабы, ну, с лицами которые — не уйти бы тогда Кавелю Истинному в иные, заранее подготовленные трущобы.
«В бабах — сила! Истинная наша сила!» — подумал ересиарх и жестом потребовал курева, каковое тут же и получил.
— Чтишь во мне Кавеля? — холодно спросил он, но боль опять подвела его на последнем слоге, едва петуха на пустил. Женщина не смутилась.
— Чту, — твердо ответила она, — чаю Начала Света. И служу Кавелю Истинному!
Ересиарх немного испугался: а ну как она сейчас пойдет демонстрировать разные восточные единоборства, так и без охраны остаться недолго, и без пыточников-электронщиков. Но женщина стояла спокойно.
— Вольно, баба, — сказал ересиарх, потом добавил, обращаясь к чернице: — Ты, это самое, умой ее, накорми, там, чего еще надо, чего не надо, витамины всякие, углеводы с сахаром… Словом, наша. Я еще повспоминаю… Подумаю, может, это и моя жена, только память напрягу…
Черница начертила в воздухе священный для всех кавелитов-истинных знак: косой продолговатый крест, потом, перевернув руку ладонью вверх, провела черту снизу. Так изображалась Истинная Молясина, осязать которую ранее Начала Света никому, увы, не дано.
Кавель подал свой собственный знак — подите, мол, вон. Ему снова требовался шприц обезболивающего. Желательно полный, в двадцать кубов, ежели по-заграничному считать. Жаль, конечно, но больше ничего не было нужно теперь Кавелю Адамовичу Глинскому: разве что еще стакан морошковой мутности однократной перегонки. На вторую очистку времени уже не было, перегонный куб у корабля был только один, а самому Кавелю на день не меньше пятнадцати чарок непременно требовалось, а это, почитай, полтора штофа. Тут не до очистки. Дай-то Кавель чарку-другую полугара из морошки — оно и легчает. Проклятый киллер, ах, проклятый киллер, ужо будет на него Начало Света, тогда попрыгает…
Шприц, конечно, появился, и стакан тоже не замедлил. Организм Кавеля Адамовича Истинного продолжал исступленно бороться с отравой, в которую — ересиарх уже не сомневался — ненавистный братец принесенных в кавелеугодную жертву близнецов окунул свою подлую пулю. Оставшись в радельной в полном одиночестве, под собственным портретом, ересиарх усилием воли гнал прочь окаянную боль, и размышлял, что бы вообще означало появление такой неожиданной бабы. Сам он женат никогда не был, — к чему, когда все бабы и без того его личная собственность, — но вот эдакая, которая даже по документам ему почти-почти жена… Ну чем он отличается от этого сгинувшего невесть где бывшего следователя? Только величием, призванием, да еще датой рождения, да и то всего на месяц, ну, спутала паспортистка июнь с июлем — великая разница, люди вон пол себе меняют и живут неплохо, те же симеоновцы, говорят, все как один трансвеститы, да и сам Симеон — от рождения Марья Семеновна, она же, Кавель прости, бывшая Вероника Моргана, — а тут просто заявляется баба, ликом — вылитая истинная, и говорит, что жена она Кавеля Адамовича Глинского. Надо поселить ее с черницею где-нибудь на отлете, до Начала Света, а как наступит оно, дай-то Кавель, боль исчезнет, уестествиться с ней, ежели хорошо пойдет, так объявить ее своей законной Кавелью… Кстати, так моргановки и считали, что Кавель — она женского рода, покуда их изо всех столиц Ярославны Премудрые не выперли, уверены, что истребили их, ан нет, те все мужиками заделались и где-то на Урале сховались, Глинскому докладывали. А эта, выходит, в мужики не захотела, к мужику захотела. К Истинному Мужику!
Мыслей Истинного Кавеля, конечно, никто не слышал, однако же, оставаясь наедине, почти все свои мысли Глинский Истинный с тех пор, как заболел, стал тихонько проборматывать себе под нос, это помогало справиться с болью. Он и сам этого не замечал, зато хорошо помнили про таковую привычку великого человека оба пыточника-электронщика. А люди это были весьма непростые, сильные не только верою — но и физически. С немалым трудом отловили они на рынке в Плесецке женщину, кидавшуюся на всех подряд обывателей и торговых крестьян с воплем: «Где Кавель? Истинный Кавель где? Все ложь, все обман, демократы проклятые, куда Кавеля спрятали?..» Обладая некоторыми полномочиями, о которых никоим образом не знал и знать не мог тяжко страждающий ересиарх, заломили электронщики женщине ее более-менее белые руки к затылку и усадили в вездеход, где и вкатили подряд две дозы успокаивающего. Помогло. Правда, перед самой Дебрью пришлось третью дозу добавить: силища у Клары без правильного укола пробуждалась такая, что даже мастерам-электронщикам приходилось опасаться за собственные кости.
Теперь можно было слегка расслабиться. Они уютно расположились в своей конуре, поставленной близ пусковой установки — той самой, что удалось снять с бедного «Перекопа». Разложив по столам массу привезенной из Плесецка мелкой электроники и изобразив в результате что-то вроде застывшего вихря инвентаризации, оба мастера отзанимались наконец-то всей этой лажей, и приступили к своим прямым обязанностям: перво-наперво проверили прямую связь с геостационарным спутником, вот уж полгода как установленном над Дебрью по предсказанию непреодолимой силы, высказанному еще ранней весной. Предсказание исходило, вероятно, от верховного предиктора Российской Империи графа Горация Аракеляна, но спутник — штука дорогая, Плесецк без личной-собственной визы начальства, страшно вымолвить какого, этим делом заниматься бы не стал, к тому же спутник при каждом запуске очередного чего-нибудь с того же слишком уж близкого космодрома приходилось корректировать — словом, его обслуживание стоило уйму человеко-денег, а ими на Руси нынче как-то не было принято сорить. Впрочем, связь со спутником работала отлично.
Не менее отлично работали и микрофоны, регистрировавшие каждый шаг Кавеля «Истинного», каждое его бормотание и вообще все, как бы выразиться поделикатнее, производимые им звуки. В обязанности электронщиков входило соединять одно с другим: звуки поступали на спутник, а уж куда они шли дальше — до того не было им никакого дела. Однако же не зря один из электронщиков служил в не столь уж далеком прошлом личным государевым рындой: он бы и теперь им не возражал оставаться, да вот — возраст проклятый, пришлось брать ту работу, какую предложили. Другой электронщик был и на самом деле электронщиком, хотя и большим любителем редких восточных единоборств, преимущественно бирманских. Судьба свела их совершенно случайно, в единственной строке верховного предиктора, где тот назвал их имена, фамилии и будущие звания. Оба не так давно сдали экзамены по дознавательскому мастерству в Высшей императорской академии художественного сыска имени графа Андрея Ивановича Ушакова. Друг друга они недолюбливали, но оба на этот счет мало переживали: совсем другой граф, светлейший Гораций сулил им, что как только кончится тяжкое оперативное задание, как только смогут они вернуться на Большую Землю — станут лучшими друзьями.
Усилитель скучно выдавал бесконечно повторяемое Кавелем Адамовичем Истинным «Ёптнть! Ну-у ёптнть же! Эх, Начала Света на вас нет, вредные души антихристские…», и бывший рында от греха подальше выключил ересиарха совсем. Потом грустно посмотрел на напарника.
— Хоть бы «Родониты» кончились…
— И не мечтай, — ответил любитель бирманских единоборств, — ты скажи спасибо, что за «Родонитами» присматриваешь, а не за пингвинами.
Бывшего рынду передернуло.
— Что, и такое возможно?..
— Именно такое возможно. И притом именно потому, что суждены нам с тобою, как сам знаешь, боевые заслуги.
Майоры грустно переглянулись. Им, в отличие от божедомов, даже выпить было нельзя, не зря зарплата нынче шла как за фронтовую обстановку.
Майоры знали: в шесть вечера император всея Руси занял Антарктиду и возвратил в состав своего бесконечного титула — «государь Аделийский».
Зачем царю понадобилась Антарктида — знали очень немногие.
Но зато очень многие на царя разозлились. Как чужие, так и свои.
21
Пока ты не в аду, не хвались, что знаком с чертом.
Станислав Ежи Лец. Непричесанные мыслиГость тщательно отворачивался: почему-то любой ценой он не хотел посмотреть ни Давыдке, ни Кавелю в глаза. Наконец он стащил с головы смушковую папаху, с совершенно мушкетерским поклоном ею взмахнул и выговорил не без труда:
— Доложи, милок, хозяину, что хочет его видеть хоть на малое время Фома Арестович Баньшин из Кашина, он помнить меня должен, а если позабыл, то скажи: мол, гость пришел тот, который… ненарочный колдун!
Рабочий день кончился, Богдан ушел фыркать под душем в обогреваемый покой, который именовал «стоячей ванной». Давыдка мытье считал пустой тратой времени и воды, в чем его Шейла изредка пробовала разубедить, но слишком уж велико было у нее число подопечных, которым полагалось втолковать то же самое. Аккуратно посещали баню только киммерийцы да сам Богдан непременно принимал душ после рабочего дня. А нынче он собирался еще и ехать на Ржавец: по случаю государственного праздника там готовился обильный стол с немалой выпивкой, и не только теща Матрона Дегтябристовна обещала туда пожаловать с фургоном, но и лично Кавель Журавлев со своим верным Хосе Дворецким.
С ним, как и с чертоваром, хотел неофициально повидаться просидевший весь день на веранде у Богдана Кавель Глинский: он работал над серьезной книгой о толках кавелизма. Под подобный проект Никита Стерх сразу, ни с кем не советуясь, выплатил Кавелю аванс и заключил договор с неизвестным пока никому на Арясинщине издательством «Крутота». В издательском деле Глинский был полным чайником, но зато хорошо понимал в кавелизме: знал и толки, и молясины, к тому же неплохо рисовал. Стерх норовил сунуть аванс еще и за иллюстрации, но Глинский, лишенный своей бесценной коллекции, боялся ошибок, — память, чай, не компьютер. Книга к тому же получалась немалая, а сбыт был обеспечен именем (не фамилией, увы) автора, которое Глинский не и думал скрывать.
Заслышав, что хозяин отключил воду в душевой, Давыдка сдался.
— Фома, извините, Орестович?
Гость снова поклонился, упирая взгляд в носки собственных смазных сапог.
— Фома, извиняюсь, А-рес-то-вич. Батюшку моего Арестом дедушка наоктябрил, будь земля пухом обоим. Непременно А-рес-то-вич. Так и доложите. А то его превосходительство и не вспомнит.
Давыдка пошел докладывать, оставив Кавеля в двух недоумениях сразу: и что за имя такое полоумный дедушка батюшке гостя наоктябрил, и с каких таких пор сын непальского гуркха и советской медсестры, ни на какой государевой службе не состоящий, стал «превосходительством». Или он чего-то недослышал за учеными занятиями? Или гость просто лебезит от больно заковыристого своего отчества и у него не все дома?..
Давыдка быстро вернулся.
— Прошу вас, Фома Арес-с-тович… Проходите. Хозяин просит прощения, что при вас одеваться будет. Торопятся они очень, их супруга ждут. И вас, Кавель Адамович, тоже просят пройти. Только предупреждают, чтобы вы либо в пол все время смотрели, либо в окно. Все свои, говорит, но смотреть вам Фоме Арс-с…стовичу в глаза ну как нельзя. Проходите, проходите.
Недоумевая, Кавель прошел с гостем на все ту же веранду, где сам весь день работал. На плетеном стуле у двери сидел в одних шерстяных кальсонах Богдан и аккуратно стриг ногти на левой ноге.
Гость перешагнул порог, креститься на пустой красный угол, как делало большинство гостей Богдана, не стал, — вместо этого по-восточному поцеловал кончики собственных пальцев. Богдан хмыкнул что-то похожее на приветствие, однако тоже на гостя старался не смотреть. «Техника безопасности!» — осенило Кавеля. Он немедленно перевел глаза на окно, за которым блистал снегом и рыжиной не сброшенных на зиму листьев единственный на эту часть леса дуб, словно поставленный к дому чертовара охранником по решению общего лесного древесного собрания.
— Чем дальше в лес… — полушепотом сказал гость.
— Тем больше древес! — радостно щелкнув отлетевшим ногтем, провозгласил чертовар. — Садись, Фома Арестович. Что-то сто лет как от тебя никто не приходит… А тут ты и сам. Не иначе как приключилось что. Давай жалуйся на жизнь. Или наоборот, как тебе охота. Только уж будь любезен, дорогой, на этот раз никакого моим рабочим сглазу не присаживай. У меня тут и своя ведьма есть, хоть ее сейчас я в аренду сдал, да вот поближе к ночи получить обратно должен.
— Ни-ни-ни… — залепетал потупившийся гость и присел на краешек стула. — Я уговор помню. Чтоб я да сглазил? У меня вся норма за ноябрь выбрана, как же можно, а нынче двенадцатое только. Я вот и телевизор днем только слушал, не смотрел: боюсь, вдруг через телевизор сглажу кого, а там ведь и царь, и царица новообретенная, и цесаревич, говорят, отрок красы неписаной…
— Уж и неписаной, — отозвался Богдан и опять щелкнул ногтем, — мальчик как мальчик. Приятно, что на отца похож — сразу всем слухам о подменыше — укрощение. Я тут заходил ненадолго с работы, поглядеть, когда в Кремль въезжали — на лошади сидит меж кавалергардов, так лучше них сидит… Похоже, всерьез учился. И лошадь — точно в тон отцовскому автомобилю. Подобрали-таки!
— На Рязанском заводе подбирали, я слушал, — подхватил гость, — масть эта темно-пепельная, называется, говорят, чагравая.
Богдан поднял голову и посмотрел прямо на гостя.
— Да ты, Фома, что ж, совсем ни на что теперь не смотришь? Лошадь сглазить боишься? А сапоги свои, случаем, не сглазишь?
Гость невесело усмехнулся.
— Каш… Кавель Адамович, я представить тебя забыл. Вот, Фома Арестович, знакомься: наша достопримечательность и гордость: лично Кавель. Если полностью — то Глинский, Кавель Адамович. Выдающийся, заметь, кавелевед. Сейчас на вольных хлебах, пишет книгу о кавелитских толках России… по заказу крупнейшего издательства. А это, Каш — ты только смотри в сторону, так надо, гость у нас необидчивый — Фома Арестович Баньшин из города Кашина, что за болотом Большой Оршинский Мох. В прошлом собиратель былин, фольклорист, кандидат… забыл, Фома, каких наук, но точно кандидат… а нынче, согласно прозвищу — Ненарочный Колдун. Я, пока одеваюсь, все объясню.
Кавель, все так же глядя в окно, пожал наугад потную, нервную руку гостя. «Чтоб колдун да нервничал?.. Почему Ненарочный?..» — пронеслось в голове Кавеля-кавелеведа, а Богдан подробно рассказывал кое-что одновременно и необычное, и интересное, и отчасти нужное Глинскому для книги, которую уже ждало от него неведомое издательство «Крутота».
Как выяснилось, уроженцем отец Баньшина был ингерманландским, происходил «из потомственных путиловцев», из Ленинграда, короче. Отцу Фомы имя его собственный отец, долго работавший в ГПУ, подобрал исключительно удачное — Арест, и оно сработало: никто и никогда не пытался арестовать. Нынче отец гостя, в весьма преклонных годах, жил почему-то в государстве Израиль, но и там его, похоже, никто и никогда под арест не брал: очень, говорят, широко в этом государстве распространено знание русского языка, и с каждым годом становится оно все шире.
Но и хрен бы с ним, с отцом Фомы, а приключилась лет пятнадцать назад с молодым тогда еще фольклористом Фомой Баньшиным, когда он полевые записи кашинских былин делал, незадача: занесло его в избу умирающего колдуна. Баньшин был молод и столь важных примет-правил не знал, а колдун умирал, долго и страшно, и все требовал, чтобы подошел к нему тот, кому он сможет «свое передать». Сельчане сторонились, а Фома по неведению решил помочь старому человеку, подошел к нему и сказал бредящему: «Ну что ты, отец, ну передай…» Колдун вцепился в его руку, заорал на весь Оршинский Мох — и умер, а Фома, не ведавший, что творит, получил от колдуна такое наследство, что не приведи Господь. Он получил дар сглаза, и в месяц, хоть помри, должен был теперь самое мало четырех человек непременно сглазить. Одержимыми их сделать, если по-простому, черта в них вселить.
Покойного колдуна вынесли из избы вперед головой и похоронили на перекрестке трех проселков, а Фома остался ему заменой. Вот на этой невероятной почве и подружились Фома Арестович с Богданом Арнольдовичем. Фоме пришлось бросить на произвол судьбы свою ленинградскую комнату в коммунальной квартире на Охте, все двадцать квадратных аршин, — тогда еще на метры счет велся, да кто ж их теперь вспомнит, — и переселиться с берегов Невы на берега Кашинки, на далекую окраину Кашина, города относительно древнего, построенного на болотах как раз во время первых татарских нашествий, видимо, чтобы от татар в нем спокойно прятаться и пережидать беду. От татар, похоже, кашинцы спрятались, но вскоре прибрала к рукам их крошечное княжество Тверь, а потом и саму Тверь слопала Москва. Когда же в годы Смутного Времени польско-литовские бандиты Кашин взяли да и разорили со зла, что нет из него никуда толковой дороги, такой, чтоб войско пройти могло, то двумя годами позже именно тут нижегородская дружина Минина с Пожарским собрала войско для освобождения Москвы. Какой дорогой они смогли отсюда дойти до Москвы — до сих пор тайна, но вот смогли же. Кроме того, на всю Россию прославился Кашин еще и как столица всех мыслимых фальсификаций — от винно-водочных до ассигнаций фальшивомонетных. В благодарность за прошлое геройство и в компенсацию неустройство за нынешнее русское правительство открыло в конце XIX века на окраине Кашина целебные торфяные грязи, устроило такой курорт, что и по сей день пройти-проехать туда можно было только при очень большом желании. Разве что через все те же Кимры до Калязина, а там по железной дороге на Бежецк, там-то Кашин и стоит при своих грязях и минеральной воде «Кашинская». Если ж по прямой, то лежали между Арясиным и Кашиным одни сплошные болота. Привыкнуть к такой глухомани ленинградцу Баньшину было непросто, да вот привык как-то. Чай, колдун, и не отвертишься.
Первое время Баньшину было как-то тяжко, что один сосед все норовит ему в глаз дегтем плюнуть, а другой старается в солнечный день тень колдуна осиновым колом к земле приколотить. Зачем? Единственным его настоящим колдовским умением был самый грубый сглаз. Стоило ему нечаянно с кем-то встретиться взглядом да и пробормотать про себя ту самую фразу, с которой перенял он у помершего колдуна свое жуткое нынче то ли качество, то ли искусство — как человек становился одержим бесом, порою даже не одним. В Баньшина стреляли, серебряную дробь для такого дела специально отливали — не помогало. А если сам Баньшин не выходил из дома, чтоб не причинить кому лишнего вреда, то на день-другой от такого средства толк был. Но как только приходил понедельник — приступала к нему самому неизвестная немочь: колдуна корежило и било, покуда он не уступал требованию поселившегося в нем умения и не выходил на улицу — глянуть в глаза первому попавшемуся прохожему. Тот, конечно, попадался, а Баньшину оставалось бежать в свою избу и прятаться на печи. По утрам он находил у себя на крыльце оставленные соседями молоко, кашу, яйца и другое съестное, смотря по сезону: так откупались от колдуна соседи. Их-то Баньшин мог и пощадить, но кто-то рано или поздно ему все же подворачивался. Колдун понимал, что до бесконечности так продолжаться не будет и управу на него найдут. То ли керосином дом обольют и не выпустят из огня, то ли «закажут» его колдуну посильней — результат получался для бедного фольклориста совершенно печальный. А об том, чтоб свой страшный дар кому-то взять да и «передать» — он и не помышлял: мешала совесть потомственного рабочего-путиловца.
На этом месте пришлось сделать паузу: Богдан кончил приводить себя в порядок, оделся, набросил на плечи дубленку из черной кожи, снабженную для теплоты обыкновенной цигейковой подстежкой. Давыдка подал вездеход прямо к крыльцу, сел за руль; на правое сиденье чертовар почти насильно усадил Кавеля, наказав ни в какие зеркальца не глядеть. Сам вместе с Баньшиным устроился на заднем. Давыдка аккуратно вывел машину на проселочную дорогу, ведшую к Ржавцу. Колдун, отвернув голову к левому плечу, смотрел в окно, стараясь при этом зрачками как бы взять прицел повыше, а Богдан тем временем, зная, что ехать недолго, увлеченно досказывал новоиспеченному писателю необычайную историю Баньшина.
— Я только производство развернул, только Фортуната нашел, чтобы сменщик был, у меня и на своих болотах по камышам черт на черте сидит, чертом погоняет — и вдруг заявляется ко мне, веришь ли, натуральный бомж, из-под Кашина, вокруг Оршинского мха, тропинками добрался. Орет — за Волгой слыхать, у яков того гляди молоко пропадет… то есть, конечно, не у яков, а у ячих. Орет! Проверил — ну точно, летник, сала топить — не перетопить, а Давыдка у меня еще тогда не работал — все, значит, самому делать надо. Возился я с ним чуть не сутки, упарился, но жаловаться не буду: вся шкура на шевро пошла, а это случай редкий. Бомжа отправил молоко пить к Шейле, работаю. Неделя проходит — ни хрена себе! Заявляется с той же стороны ну в точности такой же бомж, и орет точно так же. Просто близнецы-братья! И летник в нем такой же качественный, и опять шевро, даже лучше качеством. Ну, черта выпотрошил, бомжа — на молочную диету, работаю дальше, уже интересно, как тому волку из анекдота… Жаль, анекдот я забыл. И жду. Точно! Неделя проходит — опять ко мне бомж с той же стороны. Сам на первых не похож, старикан ветхий, орать уже не может, а как взялся за него — та-кен-но-го вельзевула вытаскиваю, что и корыт под ихор едва хватило. Шкура, заметим, юфть, но это уже и не важно. Я сало-то белую, и думаю: это кто ж меня на снабжение поставил? Выяснять, понимаешь, времени нет, но когда и четвертый приперся — пришлось принять меры. А ну как провокация? Посылаю Фортуната. День его нет, три его нет, шесть его нет. А на седьмой приезжает на такси с кашинским номером, и везет всех сразу: и бомжа свежего, и вот гостя нашего Фому Арестовича, да и водителя — в том тоже кое-что нашлось. Так и выяснилось все. Я ведь, Каш, сам знаешь — за качественного доплачиваю, совесть не велит иначе. Оказалось: бомжи кашинские сообразили — источник, бля, дохода нашли! И в очередь к Фоме Арестовичу, по понедельникам с утра — на сглаз… Давыдка, тут поверни — и стоп. Гостей нынче много, не надо наш броненосец с прочими машинами ставить. Загони под землю, потом в усадьбу приходи. А мы покуда пешечком, пешечком. Каш, выходи осторожно, там стекло битое под снегом, Савелий не прибрал… За кем? За собой не прибрал… Ни один в него черт не селится, прямо хоть под тару его приспосабливай… Стоп, это отдельно. Фома Арестович, давай о деле потом? Праздник все-таки.
Баньшин согласился. Чертовар, колдун и Кавель неторопливо пошли к видневшемуся в конце аллеи дому с колоннами. Идти было легко, по обеим сторонам бетонной дороги лежал снежок уже на полвершка, не меньше; желтые калиевые светильники вспыхнули, как только Богдан со спутниками прошел через ворота усадьбы. Савелий хоть на что-то, получалось, годился: следил за телекамерой. Смутная идея озарила сознание Богдана, но временно погасла.
Богдан боялся перепугать возможных важных гостей из числа уездного начальства, поэтому велел окольной дорогой загнать свой жуткий вездеход в подземный гараж. Не помогло: возле колонн усадьбы стояло, кроме пяти-шести автомобилей, нечто такое, что способно было перепугать гостей куда сильней. Голову это нечто имело верблюжью, да и горбы — тоже, но корпус невиданного зверя был необычайно вытянут, и сверху нес на себе четыре горба под тремя легкими кавалерийскими седлами, снизу же — опирался никак не на привычные две пары конечностей, а на три. Голову нечто держало необычайно высоко, традиционно, по верблюжьи, что-то непрерывно жуя.
Из-за чуда выскочила старая знакомая, Васса Платоновна, — верная своим правилам, с тыквой неимоверного размера в обнимку. То ли хотела старушка-ведьма от избытка чувств заключить Богдана в объятия, то ли броситься ему в ноги, но по причине невозможности выпустить из рук тыкву не смогла ни того, ни другого. По-девчоночьи подпрыгнув у морды четырехгорбого чуда, она возгласила нечто невнятное, в чем при большой фантазии можно было опознать «Ишь, каков уродился!» — и принялась бегать вокруг него, похлопывая то по четвертому горбу, то по пятой ноге, то по шестой — эти, средние ноги были у чудо-верблюда особо мощными, ибо на них приходилась вся тяжесть немалого корпуса.
Из-за колонн, не успев надеть ничего поверх парадного френча, появился и селекционер, бравший у Богдана ведьму в аренду. Выражение его лица не оставляло сомнений, что доволен чудо-верблюдом не только он, но и заказчик.
Кондратий, человек немолодой, только еще поднял подбородок повыше, по-верблюжьему, чтобы отвесить Богдану поясной поклон и произнести речь, как из-за его спины вылетел другой человек, не только без верхней одежды, но и без пиджака, и вихрем бросился обнимать Богдана, причем ухитрившись левой рукой притянуть в те же объятия и Кавеля.
— До Климента успели! Уложились! Мальчики мои, царица небесная не допустила до позора — все успели! Ах, как замечательно все!..
Кавель с трудом узнал в этом округлившемся, усатом, сияющим не только пряжками на дорогих парижских подтяжках, но и ясно обозначенной лысиной человечке не кого-нибудь, а не виданного им со времен школьного выпускного бала в Крапивне Пашу, точней, Пасхалия Хмельницкого.
— Какой Климент?.. — полузадушено произнес Богдан, из-за малого роста попавший в образовавшейся куче учеников в «младшие». Пасхалий немедленно отпустил обоих, картинно отступил на шаг назад и чуть не упал: там была ступенька, первая из восьми, что вели под колоннаду, — Сегодня день святого священномученика Климента, папы Римского — после коронации телевизор только и показывает службу из его собора, что в Замоскворечье! А мы — успели! А ты — успел! Все масло опечатано и принято! Государь обвенчался с государыней и венчал ее императрицей! Сам! И цесаревич Павел… это что-то особенное, Богдан, наша Русь теперь, наша святая Русь — она взлетит, она взлетит… как комета!
— Как ракета, — флегматично поправил Богдан, — ты, я вижу, уже празднуешь. Хоть бы нас подождал, а?
— Да как же можно ждать в такой день, в такой день…
Богдан рассердился.
— Слушай, быстро иди в тепло. Мне за здоровье гениального генерального конструктора отвечать сам знаешь перед кем, и совсем неохота…
— Это… да. Да какой я там гениальный, вот Юля Федорова — вот она гений, но ты только послушай…
— На холоде — не буду! — рявкнул Богдан, и Хмельницкий исчез в вестибюле усадьбы.
Кондратий Харонович как раз к этому времени закончил свой бесконечный верблюжий поклон, к счастью, ни в кого при этом не плюнув. Игнорируя присутствие Вассы, Кавеля и колдуна, заговорил с Богданом.
— Вот и успели мы. Вот и успели. Четырехгорбого за считанные дни получили. Теперь его на поезд — и в первопрестольную. Воздухом его перевозить запрещено, но это уже не наша забота. Мне из канцелярии звонок был — оплата по осмотру лекарем в зоопарке, завтра, много послезавтра. Как договорено, деньги твои…
— Я тоже все успел, мне теперь не деньги нужны, — отмахнулся чертовар, — мне теперь боевая сила нужна. Осто… холмогорело мне, что по мастерской обстрел идет крылатыми ракетами. Вреда немного, но работать же невозможно. Пасхалий протрезвеет, мы у него десантный транспорт арендуем — и гнездо этой мрази вычистим. И мне бы с десяток твоих боевых — там такие места есть, что никто, кроме твоих копытных, по ним не пройдет. Десяток хотя бы…
— Дюжину возьми, Богдан Арнольдыч. Я тут приметил — у тебя всё на дюжины считают. Оно, конечно, удобно, а может — не зря число это священное…
— Да брось ты, Кондратий, — ответствовал чертовар уже в вестибюле, сбрасывая дубленку на руки Савелию, — какое там священное? Просто считать удобнее. На два — делится, на три — делится, на четыре — делится… А найдешь двенадцать?
— И две дюжины найду для такого дела. А тебе впрямь столько их нужно?
— Да нет, мне дюжины хватит, на них же по два седла умещается, два стрелка могут работать. Каждому — по базуке… Пугаться не будут?
— Спрашиваешь… — почти обиделся Кондратий и снова стал похож на верблюда, собирающегося плюнуть. При этом Богдан, оглядывавший холл в поисках жены или хотя бы тещи, не говоря о прочих важных гостях, чуть прищурился и склонил голову набок, как обычно, внешностью превратившись в настоящего беркута. Заметил это сходство один Кавель и подумал — «Зоопарк…» Но дальше этой мысли не пошел: в холле появилась Шейла. Несмотря на парадное платье, рукава ее были закатаны: видимо, заботы по кухне лежали на ней до последней минуты.
Чертовар шаркнул ногой и церемонно подошел к ручке супруги. Шейла немедленно ее отдернула.
— Стой, дурень, я свеклу на терке только что… весь в красных пятнах будешь…
Чертовар намек понял и весьма церемонно чмокнул жену в ухо. Она ответила тем же, после чего велела всем проходить в зал и садиться, «а у нее вот еще не все готово, никогда она ничего не успевает». Ничего не оставалось, кроме как подчиниться.
В большом зале, который Шейла прибирала для приемов всего три-четыре раза в год, столы были расставлены покоем; с открытой же стороны сиял в полстены киноэкран; лишь очень близкие люди знали, что это — японский телевизор одной из последних модификаций, тонкий, скатывающийся в фольгу. По телевизору шел повтор кадров коронации венчания императора, супруги уже ответили на положенные вопросы и менялись кольцами. Митрополит Фотий с умилением разглядывал цесаревича, да и большинство присутствующих старалось отвести взгляд от венчаемой пары: императрица была на полголовы выше императора. Ну и что? Шейла была чуть не голову выше Богдана, и ничего, никто на венчании глаз не отводил. Богдан поразмышлял, где сегодня его место за столом, и понял — нет, не увильнуть. Сегодня его место за столом было главное. Кстати, точно против телевизора.
Сейчас прежде всего нужно было найти место для опасного гостя. Справедливо решив, что передача идет в записи, поэтому Баньшин едва ли кого может через экран сглазить, чертовар усадил несчастного колдуна к дальнему углу стола — так чтоб видел он только экран и ничего больше. Ну, тарелку, если глаза опустит. Сервиз по столам был расставлен любимый, кузнецовский, как и в любом доме на Арясинщине: глупо таскать фарфор и фаянс за тридевять земель, когда за рекой Конаково. Оно же — Кузнецово. Переименовали его или нет? Богдан не помнил. Думать о пустяках времени у не было никогда.
Одесную Богдана, раз уж архимандрит Амфилохий вежливо приглашение отклонил, сославшись на проведение службы в соборе Яковль-монастыря, мог восседать только глава орды журавлитов — Кавель Модестович Журавлев. В таком случае ошую, слева от Богдана, мог сидеть кто угодно — но не Кавель Глинский. Еще принесет нелегкая фанатика-кавелита, начнет решать свой великий «вопрос вопросов» — и пожрать-то не дадут, стрельбу устроят. А есть Богдану чрезвычайно хотелось, кроме стакана чая без сахара с утра, ничего он нынче через пищевод не пропустил. Следовательно… Молниеносно чертовар понял, что выбора нет: у окна стоял вместе со своими длиннопалыми спутниками старец Федор Кузьмич. Бакенбарды его были расчесаны и подстрижены; Богдан безошибочно опознал парикмахерский стиль Шейлы. «Ведь и не училась никогда, в молодости на приемке в ателье индпошива сидела — вот поди ж ты, настропалилась как!» — с удовольствием подумал Богдан и направился прямо к Федору Кузьмичу — приглашать. А на последнем шаге понял: нет, не ошую от себя нужно сажать старца. Его можно пригласить сесть только во главе стола.
Федор Кузьмич принял приглашение как само собой разумеющееся, огладил свежеподстриженные бакенбарды и со вкусом опустился в кресло, поставленное Шейлой для мужа. Богдан собирался сесть рядом, по правую руку, но обнаружил, что это место уже оккупировано, причем персоной отчасти неожиданной: там расслабленно восседала пожилая дама, Матрона Дегтябристовна, главная журавлевская маркитантка, Богданова теща. «Весь дипломатический протокол — козе под хвост» — беззлобно подумал Богдан и водворился слева от Федора Кузьмича, но не рядом, а через кресло, оставив свободным место для хозяйки дома. Стали рассаживаться и прочие гости, человек что-то около тридцати; Богдан вспомнил, что второй стол, для народу рангом пожиже, накрыт в малом зале — вот там-то и должен сидеть Савелий… Снова в сознании чертовара промелькнула какая-то важная мысль, но слишком быстро ускользнула: Пасхалий у правого торца безо всякого приглашения пытался произнести тост, стараясь обнять при этом толстого заведующего костопальным цехом, Козьмодемьяна Петровича.
На телеэкране крупным планом показывали цесаревича. Мальчик был одет в такой парадный мундир, что невольно думалось — как же ему, наверное, неудобно. Между тем наследник престола чувствовал себя столь непринужденно, что ненароком любой видящий его начинал ломать голову: ну где, ну у кого нынче можно научиться такой образцовой выправке. Мальчик посмотрел в камеру, и те, кто встретился с ним взглядом, подумали все одно и то же: сейчас в глаза им смотрел будущий император Павел III. «Еще будет один государь Аделийский», — равнодушно подумал чертовар и потянулся к фаянсовой миске с любимым лобио. Своих детей у него не было, а любить чужих он не находил специальной причины — черти в них не водились почти никогда.
Застучали вилки и ножи, Шейла заняла свое место последней. Первым делом она плеснула из хрустального графинчика в свою стопку, затем — Федору Кузьмичу, затем — мужу. На том содержимое графинчика иссякло. Чертовар исподтишка понюхал темно-коричневый напиток. Пахло хорошо, но совершенно незнакомо. Прочие гости тоже наливали себе кто чего жаждал, а Богдан не утерпел и спросил у Шейлы:
— Слушай, это чего ты нам налила?
Шейла изобразила полную невинность.
— Как чего? Самогон, от Козьмодемьяна, новая марка. Он назвал — «Коронация». Самогон как самогон, только крепкий, учти.
— Из чего?.. — подозрительно спросил чертовар, зная страсть костопальщика к экспериментам.
— Из коньяка, Богдаша. Берется армянский «Двин», четыре доли, к нему одну долю «Арманьяка», перегоняется с полынью и желтым донником — и готов продукт…
Богдан прикинул в уме цену продукта. Прикинул — и хотел выпить. Однако слева послышался скрежет отодвигаемого кресла. Федор Кузьмич, держа в руке высокий, узкий бокал с совершенно бесцветным напитком: «Коронацию» он пока что поставил, вопреки всяким правилом, прямо на десертную тарелку. Старец просил внимания. У него был готов тост. Все, кроме Хмельницкого, замерли, но и того обратали соседи: слева и справа от него сидели киммерийские братья-гипофеты, позади — стоял негр Леопольд и аккуратно зажимал буяну рот. Федор Кузьмич слегка покашлял, потом заговорил.
— Дорогие хозяева, дорогие гости, да будет мне позволено произнести этот краткий, но, полагаю… — Федор Кузьмич неожиданно фыркнул, сдерживая смех, но Богдан понял, что никакого издевательства тут нет, а есть некая неизвестная ему скрытая цитата, — исторический тост. Сегодня наша империя обрела законченность. Император Павел Федорович и императрица Антонина Евграфовна, как и цесаревич Павел Павлович, возглавляют отныне Россию и все сопричастные земли, и нет такой силы, которая могла бы приостановить поступательное движение нашей отчизны к доселе еще невиданным вершинам сияющей в веках славы. Взгляните, друзья мои, на экран.
Все головы, кроме, возможно, авиаконструкторской, как по команде повернулись к телевизионной стене. Поскольку фигуры на ней были чуть не вдвое больше натурального размера, то ошибиться было невозможно — кого именно предлагает увидеть на экране тамада. Оператор крупным планом показывал молодого человека в парадной, но никак не военной форме, в которой опытный глаз мог легко распознать мундир древнего потомственного московского дворянства. У человека было выразительное южное лицо и довольно длинный нос, в толпе гостей он стоял неподвижно, отличаясь от всех подчеркнуто скучающим видом, словно все это видел в сотый раз — чего быть никак не могло — или же, что уж совсем невероятно, просто знал наперед: что будет здесь через минуту, через год, через сто лет. От правого крыла стола долетел возглас, нечто вроде «Ах»: чертовар заметил, что издал этот возглас киммериец Веденей Иммер. Что верно, то верно, именно Веденей лучше всех из числа присутствующих знал, каково выражение лица того, кто видит будущее, лицо предиктора.
— Запомните лицо этого человека, — продолжал Федор Кузьмич, — быть может, единственный раз вы видите его, в газетах нет его фотографий, на телевидение — калачом не заманишь… Ну да неважно. Запомните! Перед вами — гарант спокойствия нашей страны, днем в прямой трансляции нам уже довелось его видеть, сегодня повторов больше не будет, а позже, опасаюсь я, изображение его исчезнет с экрана даже у тех, кто ведет сейчас видеозапись. Светлейший граф Гораций Аракелян! Сейчас мы, безусловно, пьем здоровье императорской семьи, но сразу же следом предлагаю выпить и здоровье графа Горация! Ибо без него… век нам с вами здоровья не видать! — неожиданно пониженным, каким-то лагерным тоном закончил Федор Кузьмич, опрокинул в горло рюмку с прозрачным напитком, и в ту же секунду отправил следом за ней рюмку «Коронации». Богдан только головой мотнул: чтоб спирт-ректификат, который он безошибочно распознал в первом напитке, заливать Козьмодемьяновым продуктом? Это ж какое здоровье иметь надо!
У самого Богдана вышло наоборот: не желая обидеть почетного гостя, он опрокинул рюмку «Коронации», а следом — ловко поданную рюмку… еще неизвестно чего, что поднесла жена. Эффект получился потрясающий: вкус первого напитка был начисто заглушен двадцатиградусной «Рябиной на коньяке». Богдан обозрел стол. Нет, все эти кулебяки, салаты оливье, копчености с моченостями, утиные окорочка, все эти пять сортов икры при девяти сортах блинов — это было не для Богдана. Однако алкоголь начинал оказывать действие. «Так и надраться недолго…» — подумал Богдан и, как Советский Союз на Финляндию, напал на лобио.
Утолив первый голод, Богдан сообразил, что по крайней мере еще одного супер-почетного гостя как-то к месту не определил; он стал оглядываться. Гость, оказывается, запоздал: именно сейчас, приподняв своего бога, царя и кумира над инвалидным креслом, в зал проталкивался Хосе Дворецкий. Кавель Журавлев, видимо, был нынче совсем плох, если прибег к такому средству передвижения, — но праздник по случаю коронации все же присутствием решил почтить: через обер-маркитантку глава орды давно считал Богдана своим вполне полноценным родственником.
Богдан хотел встать и провозгласить тост за опоздавшего — но опоздал. Журавлев тяжело поднял руку и сделал запрещающий жест.
— За меня, пожалуйста… сегодня не пейте. Сегодня… другой праздник. Я… с краю тут побуду, да и вообще… ваше здоровье, Богдан Арнольдович!
В руке Кавеля-Навигатора появилась рюмка, доли секунды она пребывала пустой, затем Хосе Дворецкий наполнил ее чернильного цвета жидкостью. «Журавлиный бальзам», — подумал чертовар. Что это за напиток — все недосуг было выяснить, но как-то раз теща его этим зельем угостила — не сказать, что Козьмодемьянова «Коронация» была намного крепче. Богдан тоже сделал в воздухе жест «за здоровье», наскоро выпил очередную рюмку рябиновой радости, а потом тихонько понюхал карманчик, пришитый на рукаве своего же пиджака: там лежала и благоуханно пованивала на ползала пробирка с фракцией АСТ-2, протрезвляющей даже после тройной летальной дозы самого дурного древесного спирта.
На экране тем временем появился новый персонаж, Богдану незнакомый. Он стоял на ступенях Красного Крыльца в Кремле и потрясал кулаком над головой. Звук был отключен, дабы не опошлять торжественное событие звоном посуды и чавканьем, но Богдан хорошо читал по губам, к тому же в нижней части экрана шли титры на четырех языках, на двух кириллицей — на русском и английском, на одном латиницей — на испанском, а четвертую строку квалифицировать было трудно, ибо буквы на ней шли греческие, да вот поди знай — древнегреческий это язык или же новогреческий, если ты ни в том наречии, ни в другом — ни в зуб ногой?
«Мировой деспотизм… Вставай, вставай… Мы не позволим тоталитарно-демократическим режимам…» — разобрал Богдан по губам выступающего. Был это крупный, моложавый мужчина лишь вершка на два-три не дотягивавший до полной сажени. На подбородке у него виделся ясный шрам. «Безбородко?..» — не сильно грамотно заподозрил Богдан, и перевел взгляд на титры. «Андрей Козельцев, князь Курский» — по крайней мере на трех языках прочитывалось совершенно ясно. Про этого верзилу, скромно обошедшегося при дворе единственным титулом, Богдан знал только то, что молва давно прочит его в канцлеры. Но поскольку давно прочит, а он все не канцлер — то едва ли бывать ему таковым. Из своих источников Богдан слыхал, что Козельцев заведует у царя чем-то вроде идеологии. «Ну и флаг ему в руки» — равнодушно подумал Богдан, опустил глаза и снова напал на лобио, размышляя — не пора ли уже переходить к сациви. И то и другое Шейла принципиально готовила только по праздникам. Классно готовила, надо сказать.
Тосты звучали почти непрерывно: академик Гаспар Шерош вздымал рюмку «Ахтамара» за божественное искусство арясинских кружевниц, экс-овощмейстер Равиль Курултаев, наплевав на исламские запреты, целовал кончики собственных пальцев и, прежде чем сглотнуть фужер того же коньяка, дополнял тост академика пожеланием вечного здоровья и красоты самим кружевницам; обер-маркитантка Матрона Дегтябристовна поднимала граненый стакан за женское равноправие, «не боюсь сказать — полноправие» — продолжала она тост и пила быстрей, чем ее успевали спросить, чем эти две вещи различаются; селекционер Кондратий Харонович пил «за достигнутые успехи»; Веденей Иммер, не выходя из правил своей от рождения полученной профессии, пил за «благополучные предвестия»; братья-гипофеты, еще далеко не надравшиеся, были озабочены изучением неведомого для них блюда «сациви», ну никак не понимая — из чего это приготовлено, да и можно ли это есть вообще… Богдан уже не знал, за что пьет, но со всем был согласен и только яростно вгрызался именно в гору куриного сациви. На экране беззвучного грохотали колокола Ивана Великого.
Внезапно все изменилось. Фаянсовая миска, все еще до половины полная шедевром грузинской кулинарии в русско-шотландском исполнении Шейлы Тертычной, подпрыгнула, словно обезглавленная индейка, и бросилась в лицо Богдану. Загрохотала и прочая посуда, женский визг умелиц-рукоприкладниц Пинаевой и Трегуб, лязг инвалидного кресла Кавеля Журавлева, татарский вопль Курултаева и густой русский мат — все это обрушилось на пирующих монархистов в одно мгновение. Но так же и кончилось: все, кроме визга рукоприкладниц. Богдан, прекрасно понявший, что к чему, даже не попытался отереть соус с лица, но уже орал на весь зал:
— Спа-а-куха! Всем сидеть спокойно, возможен второй удар! Всем сидеть по местам! Ничего не случилось, возможен второй удар! Ничего не будет, возможен второй удар!..
Удар не замедлил, но очень слабый, и не такой, как первый, похожий на землетрясение, а просто удар в дверь. Никто и не подумал ее открывать, но пришедший сам себя мог обслужить. Дверь отворилась; на пороге, сверкая всеми своими лакированными поверхностями стоял кабинетный рояль Марк Бехштейн. К ужасу тех, кто видел его впервые, и к радости всех прочих, Марк прошагал в центр зала, поднял крышку — и со всех двухсот тридцати струн грянул «Прощание славянки», государственный гимн Российской Империи. Богдан протер пальцами глаза, подумал — и пальцы облизал. Что-то сильный сегодня удар… Но и праздник большой.
Привести себя в порядок чертовару помогали трое: жена, теща, и почему-то Кавель Глинский, толку от которого не было совсем, но у которого было множество вопросов.
— Это снова наш с тобой?..
— Тезка твой проклятый, Каш… Нет, точно пора его…
— Он опять тебе по мастерской бьет?
— Может, и так… Но сейчас там защита есть, а вот веранду, не ровен час, мог и разворотить…
Кавель всполошился.
— Как веранду? У меня там рукопись… В ноутбуке весь текст…
Богдан посмотрел на Кавеля окончательно промытым правым глазом.
— Ты что ж, на дискетку не скинул?
— Вчера, скинул, вот она, в нагрудном… А что сегодня полдня писал — все там осталось…
Чертовар почти хрюкнул.
— Знаешь, мне бы твои заботы! Полдня работы пропало! Рассказать тебе, что и когда у меня пропало?..
«Прощание славянки» дозвучало, Бехштейн повернулся вокруг оси, приветствуя гостей, и разразился вальсом Вальдтойфеля. Гости постепенно подтягивались к столу, приходили в себя, вновь брались за тарелки; побито оказалось сравнительно немного: кузнецовская посуда, чай, пережила советскую власть — уж как-нибудь и удар крылатых ракет тоже пережить должна была. Старицкий и прочие, кому по должности полагалось, прибирали разбитые бутылки и веером разлетевшиеся блины.
Снова зазвучали тосты. С разрешения хозяев, — даже возмутившихся, что у них такового разрешения просят, — Хосе Дворецкий разжег глиняную трубку, и Навигатор облегченно затянулся. С разрешения хозяев, данного куда менее охотно, закурили и другие: негр Леопольд достал дорогую сигару, Гордей Фомич, повелитель ржавецких варений и наливок — дешевые сигареты-гвоздики, прочие в основном пользовались вошедшими в моду пахитосками. С общего согласия выключили телевизор: вместо повтора коронации по нему пустили неизвестно зачем шестнадцать тысяч какую-то серию жития Святой Варвары, — а щелкать кнопками в поисках чего-нибудь интересного при отключенном звуке все равно ни у кого охоты не было.
В вестибюле вновь раздался грохот, однако сотрясения пола не произошло: похоже было, что упал, к примеру, шкаф. Такой уж был сегодня день — и не стоило искать объяснений, откуда столько грохота. В Москве-то, небось, еще больше грохота. В Москве-то, небось, салют в сто один залп и еще всякие фейерверки чуть не на каждом углу. Кавель Глинский вспомнил, как бабахало каждый праздник в двух шагах от его дома на Волконской площади, орудия ставили рядом, на Садовом Кольце — и попробовал найти в своем сердце грусть по Москве, которую не видел больше полугода. Почему-то никакой грусти не нашлось — однако защемила душу тоска по сгинувшей коллекции молясин.
Грохот в вестибюле повторился, но более сильный — нечто приближалось к залу с гостями. Богдан на всякий случай встал между Кавелем и дверью: только не хватало новой Музы-письмоносицы. Дверь открылась, и в зал ввалилась отнюдь не Муза, не человек и даже не рояль: неизвестно каким путем преодолев заклятие на неудаление от Выползова, в усадьбу на Ржавце явился однорогий черт Антибка в костюме-тройке. Лоб его на этот раз ничем новым украшен не был, и это вселяло дополнительные опасения, ибо означало: «Родонитами» шарахнуло не лично в пресвитера церкви бога Чертовара, а… куда-то еще.
Черт снова рухнул на то, что заменяло ему колени. Говорить он не мог, только мотал головой, на которой все еще не зажили следы последней встречи с крылатыми ракетами, он не мог даже хрипеть, лишь хвост, аккуратно пропущенный под шлицем парадного пиджака, хлестал по дверным косякам так, что с них сыпалась позолота. Чертовар поспешил к бедолаге, но явно опоздал: увидев что-то в зале, тот завыл ноздрями и рухнул на спину. Богдан проследил, на что же такое глянул подопечный. И с неудовольствием понял: на черта, позабыв все предосторожности, в упор все еще смотрел ненарочный колдун Фома Арестович Баньшин.
— Фома! — рявкнул чертовар, мигом сообразив, что именно произошло. — Мы же договорились, что никакого сглазу без уговору! Если год високосный, так уж и Касьян нашелся, тоже мне! Давай-ка, сам нагадил, сам прибирай!..
— Да не видел я их, чертей, никогда, — лепетал Баньшин, потупив глаза и, кажется, их закрыв, — Я ж по жизни-то, по жизни — должен бы заведовать идеологическим сектором в Кашине, тем, который по борьбе с религиозно-атеистическим мракобесием, значит… Я ж не нарочно, я думал, он — вроде бомжа, только спасибо скажет… А в Кашине бомжей совсем мало стало, все в Кимры подались… Я ж потому и пришел помощи у тебя просить…
Богдан устало сел на корточки и ощупал Антибиотика.
— Сволочь ты, Фома, вот что тебе скажу. Что Касьянов глаз у тебя — ладно, ну и пользовался бы раз в четыре года, двадцать девятого февраля… или уж когда нам обоим от этого польза. А тут — на тебе, черта мне сглазил, плесень на плесень навел. Нет в нем ничего, ни выпоротка, ни другого черта! Ты мне работника испортил! — Богдан выговорился и остыл.
Антибка, закатив гляделки, не подавал признаков жизни, покуда Богдан не взял его за лоб.
— Дамбу снесло… в Хрень снесло на хрен, все ракеты в Хрень ко… всем, ко всем… хреням… на хрен! — пробулькал черт и снова сомлел.
— Ну и что теперь с ним будет? — деловито спросил прибежавший из малого зала Фортунат: там бухгалтер был за старшего и на столе поэтому не было не то что жареной рыбы — даже осетрины холодного копчения. Квалификацию по чертям он имел приличную, но черта, которого сглазил человек, видел впервые. Кавель Адамович, стоя в сторонке, пришел к выводу, что и Богдану видеть такое не каждый день случается.
— Подохнет на хрен… — ответил чертовар, садясь на пол рядом с пострадавшим, — а может и выкарабкается. Это ж строго индивидуально, как кошка с десятого этажа: может лопнуть как пузырь, а может отряхнуться и пойти… — увидев приближение тещи, Богдан задержал на языке мнение о том, куда здоровая кошка, безболезненно спрыгнувшая с десятого этажа, должны бы идти.
Теща держала перед собой трехгранный графинчик — такими пользовался Козьмодемьян, разливая конечный продукт очередного эксперимента; и цвета жидкость в графинчике была именно такого, какой имела давешняя «Коронация». Чертовар посмотрел на Антибкины стиснутые зубы — с большим сомнением. Теща при этом соображала быстрее зятя, она сразу нашла выход из положения.
— Иди-ка сюда, мальчик. Ты, ты иди сюда, Варфоломей! — обратилась она к сидевшим плотной группой долгопалым киммерийцам. Молодой богатырь с готовностью отделился от попутчиков. Перекрестившись, как перед любой работой, по указанию маркитантки, он без особого напряжения приподнял черта над полом и запрокинул ему голову. Чертовар мысленно почесал в затылке: с такой силищей да чтоб где-то в захолустье сидеть? С такой силищей надо идти работать на чертоварне!
Богдан завернул веко Антибке, поцокал языком. Ему вдруг стало неспокойно. Все-таки надо ехать в Выползово. Дамба слишком близко от Хрени… была. Даже если ни мастерская, ни дом не пострадали… Все равно.
— Пароход пришел… — вдруг сказал Кавель Журавлев из своего кресла, ни к кому не обращаясь, — надо встречать.
Матрона Дегтябристовна тем временем сообразила, что зубы Антибке разжимать нет необходимости, и влила содержимое графинчика в одну из многочисленных ноздрей пресвитера. Черт забился в конвульсиях и стал чихать, — но ему ли было бороться с Варфоломеем.
— И как мы его потащим? — спросил чертовар у всех сразу. Ответ пришел с самой неожиданной стороны — от главы журавлевцев.
— А в мою кибитку положим. Медленно поедем, не торопясь поедем. Я «мерседесы» отдал, у меня теперь оба коня новые, называются красиво — «фольксваген-фаэтон». До берега доедем, а там дорога к тебе накатанная. Кстати, и пароход увидим, он сейчас под Арясин Буян подходит. Прожектор взял? — вопрос был обращен к Хосе Дворецкому. Тот с удивлением покачал головой, в том смысле, что «как же я мог бы забыть?» — и подал Кавелю трубку. Тот затянулся и задремал, сил у него и всегда было мало, а сейчас их не стало совсем: после небольшого приступа ясновидения, открывшего ему, что тот самой пароход, прихода которого он ждал столько времени, уже идет от Волги вверх по почти готовой замерзнуть на зиму Тучной Ряшке.
— Жаль, и посидеть за столом толком не вышло… — печально сказала Шейла.
— Как не вышло? — удивился чертовар — По телевизору мы все важное посмотрели, а прочее берем с собой, у меня на веранде и допразднуем. Ну, остынет кое-что, так ведь и только. В мастерской все закрыто, так что ты запахов не бойся. Только правда нам лучше сейчас туда. Транспорта вроде бы должно хватить. И Кавель Модестович поможет, и Кондратий Харонович…
— И я! — внезапно подал голос чуть ли не из под стола Хмельницкий. — Сейчас самолет прикажу подать, сядем… и улетим… и улетим…
Чертовар незаметно показал Шейле две сложенные под щекой ладони — мол, этого хорошо бы уложить, допраздновался бог десантников. Сортировка гостей пошла быстро: журавлевцы были направлены к своему транспорту, туда же и киммерийцы. Кавеля Глинского чертовар задержал: только не хватало еще в один транспорт поместить двух Кавелей, может и в вездеходе посидеть. Обозревая суетящийся зал, Богдан заметил у окна фигуру, сотрясаемую рыданиями: глядя в темное окно, там трясся в истерике ненарочный колдун Фома Арестович Баньшин. Что-то ведь и с этим несчастным делать надо было. Чертовар подозвал резвую Вассу: одной рукой она обнимала тыкву, другой наскоро отправляла в рот свернутый в трубку блин.
— Васса Платоновна, а Васса… как ты находишь — можно ему помочь?
Старушка наскоро сглотнула блин и отрапортовала:
— Отчего ж нет? С него дар снять можно… А потом не понадобится?
Богдан ухмыльнулся.
— Кто его знает… Права ты, пожалуй. Касьянов глаз — штука ценная, да только как бы его в мирных-то целях?..
Васса посмотрела на Богдана, как на маленького ребенка.
— Всего-то?..
Через полминуты на глаза Баньшину была натянута широкая кожаная повязка, на шею — похожий на ту же повязку ошейник, поводок от которого Васса гордо вручила чертовару.
— Вот, и по мере надобности используй. Только мне бы вот узнать желательно… — ведьма снова засмущалась. Богдан рассвирепел:
— Не знаю я! Не знаю, не знаю! Бери молясину — и радей! Глядишь и откроется тебе…
Разговор был прерван гудком: Давыдка подал вездеход к парадному входу.
Шейла тоже решила поехать — уж какое застолье без хозяйки. Матрона Дегтябристона — та вообще ни у кого не спрашивала разрешения, сразу же пошла заводить верную свою пятитонку. Бывший таксист Валерик оказался за рулем ржавого, выгнанного из глубин подземного гаража автобуса; в него сразу стали тащить стулья: чертовар предупредил, что нужно взять, а иначе на полу сидеть придется.
Выходили медленно и бестолково: Старицкого нагрузили блинами, на Фортуната — единственного, кого решили забрать из малого зала — навесили бутылки, потом Хосе Дворецкий бережно вынес Кавеля Журавлева и его инвалидную коляску, Варфоломей следом потащил Антибку, Веденею неизвестно почему досталось огромное блюдо сациви, Вассе Платоновне препоручили поводок с ненарочным колдуном на конце, Савелию препоручили увязанный в скатерть пирог необъятных размеров вместе со строгой инструкцией «не отщипывать!», академик Гаспар Шерош, которого никто и без того не посмел бы ничем нагружать, вышел, закрывая лицо носовым платком, вроде бы рыдая, однако поспешивший за ним Федор Кузьмич вел себя почти так же, и Кавель Адамович, применив опыт следовательской дедукции, понял, что оба давятся со смеху; жаль, но особо присматриваться он сейчас не мог, ибо тащил в Богданов вездеход тяжелую кузнецовскую салатницу, — с тем салатом, который еще недавно называли «оливье», а теперь уже никак не называли, — придерживая на ней перевернутую тарелку вместо крышки. Рояль Марк Бехштейн увязался вслед за остальными, хотя никакой поклажи на себя навесить не позволил, — короче говоря, на сборы ушло с полчаса. Четырехгорбого верблюда оставили на конюшне под зорким присмотром негра Леопольда, на трехгорбых погрузились Кондратий, Васса, Баньшин и еще кто-то, — словом, когда невероятная процессия выехала из ворот усадьбы, была уже чуть ли не одиннадцать.
— Ты на кого стол оставила? — спросил Богдан жену, устроившуюся там, где в прежней поездке сидел колдун.
— На Киприана.
Богдан задумался. Он не помнил, чтобы на ферме был кто-то с таким именем, однако скоро выбросил эту заботу из головы. Машина шла в полной темноте по направлению к Тучной Ряшке. Свет фар выхватывал то сосну, которую приходилось огибать, то выемку, в которую полагалось сперва въезжать, потом выезжать из нее. Богдан достал сотовый телефон и устроил перекличку тем, кто ехал следом. И Дворецкий, и Кондратий подтвердили, что они следуют по колее, а третий звонок раздался на заднем сиденье: по привычке Богдан позвонил жене. Тут же сплюнул и рассмеялся, а Шейла недовольно фыркнула.
— Ты еще Давыдке позвони…
— Давыдка за рулем…
Давыдка вел вездеход с предельной аккуратностью — даже язык от старания высунул. Богдан тронул его за плечо:
— Язык-то втяни, ведь откусишь на первой колдобине.
Давыдка послушался. Скоро дорога уперлась в подъем, свернула направо: это был путь вдоль Тучной Ряшки к Накою. Здесь, на левом берегу, почему-то никто никогда не селился. Легенда гласила, что именно этим берегом шел на Москву войной давно уже причисленный к лику святых князь Михаил Ярославич Тверской, а этого святого, как и Александра Невского, по личным причинам арясинцы недолюбливали. Да и вообще чего хорошего в этом левом береге — нешто мало места на Арясинщине, нешто уж и на правом негде построиться да шелковицей, да цикорием на жизнь заработать?…
Наконец, вездеход взобрался на крутое взгорье — отсюда открывался вид на Арясин Буян, а дорога направо уводила через Суетное к Выползову.
— Глуши мотор, — сказал Богдан. Все, кто ехал в вездеходе, включая самого Давыдку, вышли наружу. Река была темна, а город на другой ее стороне жил своей ночной, праздничной жизнью. У причала Арясина Буяна в воде виделось что-то темное, с него доносились ритмичные крики.
Вскоре подъехали «фаэтоны», рядовые журавлевцы стали что-то устанавливать. Из кабины пятитонки вылезла теща Богдана, и никто не удивился, увидев, что ей, как человеку, садящемуся в стремя, подставил сложенные в замок руки еврейский акробат. У них шел оживленных, начатый, видимо, еще в кабине диспут; расслышать что-то внятное не представлялось возможным, но очень часто и с нажимом в этом споре повторялись слова «кит» и «слон».
Подошли и верблюды. Наконец, журавлевские мастера закончили сборку и слабый голос Кавеля Модестовича скомандовал:
— Включайте, олухи, чего уж там…
Мощный киммерийский «дракулий глаз» залил калиевым сиянием Тучную Ряшку от берега до берега. Темная масса возле Арясина Буяна оказалась небольшим старым пароходом отнюдь не речного вида, на слегка наклоненной палубе которого откалывали сложные па боевого танца — один, два, три… ровно восемь дедов очень ветхого вида. Через равные промежутки времени они замирали, издавали дружный вопль — и все начиналось сначала. Зрелище было впечатляющим: почище речи князя Курского с Кремлевского крыльца.
— Это еще что такое? — спросил Богдан Журавлева.
— Это моя «Джоита». Теперь мне разгрузить ее — и сниматься с места. Сам видишь, какой груз приехал…
Богдан наклонил голову к плечу, как всегда, стал похож на беркута. Журавлев больше ничего не объяснял, оставалось лишь присматриваться и прислушиваться.
— Кама те! Кама те! Кама те!.. — доносились с палубы ритмичные возгласы, потом деды резко топали правой ногой и орали — А-а-а! — Даже с берега было видно, что лица их налиты кровью. — Кама те! Кама те! Кама те! А-а-а!.. — было полное ощущение, что конца танцу и воплям не предвидится.
Любопытство взяло верх.
— Кавель Модестович, это кто такие?
Журавлев затянулся из глиняной трубки, выдохнул и словно нехотя ответил:
— Это центральный комитет коммунистической партии Новой Зеландии. Туда рейс был у «Джоиты». Разве не видно? Весь комитет, в полном составе…
Обалдел даже видавший все на свете, включая Дикого Мужика Ильина, Богдан.
— Но зачем? Кому они нужны?..
Кавель Журавлев затянулся еще раз, выпустил дым и устало посмотрел на чертовара.
— Вот и я, Богдан Арнольдович, тоже думаю: кому они нужны? Мне их заказали доставить. Мое дело маленькое — я заказ выполняю.
Богдан удовлетворенно кивнул. Такой ответ устраивал его полностью. Мало ли чего он в жизни сделал такого, о чем понятия не имел — на хрена ж это нужно.
Неслышно подошел Федор Кузьмич.
— Уже половина первого, Богдан Арнольдович. Мы тут с Гаспаром Пактониевичем прикинули: всего пять дней нам до выступления осталось… Если вы, конечно, хотите всю эту бомбежку прекратить. Ракеты в Карпогорах, видимо, закончились, но могут ведь и новые подвезти.
Богдан хотел — да еще как. Маорийский боевой танец в исполнении новозеландских коммунистов как-то даже на него подействовал. Словом, пора, пора. А то и вовсе работать не дадут. А с реки неслось яростное:
— Кама те! Кама те! Кама те!.. А-а-а!..
В полной темноте, в заледеневших прибрежных кустах, кабинетный рояль Марк Бехштейн тихонько подбирал к их пению мягкую шотландскую мелодию.
22
Державой править — это вам не экспедиции в Антарктиду посылать, Ваше Императорское Величество.
Василий Щепетнев. Седьмая часть тьмыПодземный коридор все никак не кончался. Через каждые двадцать саженей со стены свисал небольшой светильник, но было этого мало, и каждый промежуток между светильниками с завидной точностью все в те же двадцать саженей знаменовался подозрительно густой темнотой. Попутчиков в такую дорогу император не взял бы и прежде. Теперь, после коронации императрицы и явления народу цесаревича, спутники стали тут нужны еще меньше. Царь пробирался подземным ходом из кремлевского Теремного Дворца в дом Боярина Романова, что на Варварке, где с начала восьмидесятых жил и плодотворно трудился оный боярин, точнее, великий князь Никита Алексеевич Романов, он же сношарь села Зарядья-Благодатского Лука Пантелеевич, из сентиментальных соображений хранивший липовый паспорт советских времен, где еще и вероисповедание не было проставлено, зато была указана фальшивая фамилия обладателя — Радищев. Нынче старик совершенно официально попросил государя зайти к нему в гости на чашку чая и на бублик-другой, — по-родственному, подземным ходом, чтоб не тревожить никого. Имел сношарь к императору некое дело, которым ни с кем не хотел делиться, а уход Отца Народа с Варварки (в отличие от ухода царя из Кремля) немедленно был бы замечен стерегущими Зарядье бабами.
Императорский подземный ход тоже стерегли отнюдь не атланты, — коих Павел, кстати, терпеть не мог, как и все прочие кариатиды, совершенно чуждые духу русского искусства. На бывшей Васильевской площади, глубоко под которой был проложен подземный ход, по зимней погоде сейчас коров не пасли. А ведь когда-то великий художник Суриков изобразил боярыню Морозову, лежащую в санях именно на этом месте, провозимую мимо Василия Блаженного в изгнание — а за что? За двуперстие… Странные люди были предки, такие пустяки их занимали. Что два перста, что три перста — во всех благость и лепота есть, митрополит Фотий приказал и доносов не рассматривать на то, что кто-то не так перекрестился. Может, не умеет, человек, а может, напротив, убеждения имеет.
Другое дело — если кто в партию вступить хочет и, скажем, о Великом посте соевого мяса натрескается! Не то важно, что соевое оно, а то — что мясо! Смысл поста в чем? В том, чтобы плоть томилась. Стало быть — невкусно быть должно. Уж ты лучше просто требухи лежалой поешь, природа на тебя сама по себе… епитимью наложит. Так нет же, норовят заменителей нажраться, которые, того гляди, еще повкусней природного продукта. Нет уж! Если ты монархист истинный, если в партию с открытой душой — то год поста на сухоядении! И никаких зрелищ, никаких плотских утех: весь год — только к службе, на службу да на партсобрание. Вытерпел — глядишь, и вручим тебе на Красной горке вожделенный билет с орлом, и спеть Жуковского-Пушкина позволим. Ну, ежели мусульманин кто, или буддист, мормоно-конфуцианец там или даос, к примеру — у тех своих посты. Но принцип един для всех верований — чтоб невкусно было, и сухо, и горько, и кисло, и чтобы еще немного тошнило. Это, конечно, только с признанными конфессиями так, с регистрированными. У прочих, конечно, немалый налог на неправославность, притом ежемесячный и прогрессивный, но для истинного коммуниста это не препятствие. А если атеист? Мил человек, ты что, из болота? Где на Руси нынче атеисты?..
Коридор вильнул, что означало — над головой уже не бывшая Васильевская, а бывшая Варварка, тут крепкие овины деревня поставила, с сеном на зиму, с подкормкой для скота, — ну и с охраной, не без этого. Ухмыльнувшись, царь вспомнил — как издевались во всем мире над тем, что он разрешил посреди столицы деревню выстроить. Смеялись, смеялись, а теперь уже и сами, кто умные, заповедные села посреди столиц строят. В том же Лондоне, к примеру, когда Гайд-парк снесли — разве плохо вышло? Тамошний кунжут даже мы закупаем. И в Париже на Трокадеро, сведения поступали, тоже собираются. Говорят, рисовые поля планируют. Ну, и славненько. Ладненько, словом. Правильненько.
У винтовой лестницы стоял часовой — точней, часовая: закутанная до глаз баба с винтовкой. Штык примкнут, все как положено.
— На Шипке все спокойно, — простужено произнесла баба. Голос ее показался государю знакомым, да какая разница: за столько лет тут все уже… знакомыми стали.
— Вольно, Настасья, — сказал царь, отвел штык в сторону и стал взбираться по лестнице.
Сношарь ждал у себя. Девяносто четыре года, то ли девяносто шесть, он уже сам не помнил, но бегать на марафонские дистанции поздновато. Да и тот грек, что первым из Марафона прибежал — помер ведь в одночасье. Тут бы мораль и вывести: дистанция эта смертельная и никому ее бегать не след. Так нет же, в память об том покойнике устроили марафонские состязания: кто быстрей пробежит, да копыта и откинет. До Кремля было конечно, не сорок километров, но ноябрь во второй своей половине для Москвы — настоящая зима, и пусть уж император ножками не побрезгует придти, он моложе. Сношарь сидел за пустым пока что, накрытым домотканой скатертью столом, и ждал царя.
Влетела баба с выпученными служебным рвением глазами.
— Его императорское величество царь!
Отодвинув бабу, вошел император. Павел своего собственного титула давно наизусть не помнил: где-то в нем светлейший князь сменился на владетельного бургграфа, где-то баронство возросло и превратилось в герцогство, какой-то титул он подарил, а какой-то, напротив, получил по завещанию — разве все отбарабанишь? Судя по тому, что пришел он в гости к родственнику, накинув на плечи только легкую шубейку из светло-голубого, полярного волка, особого холода на дворе и в подземельях еще не было, однако могло это быть и напоминанием о том, что русский царь отныне и вовеки — еще и великий государь Аделийский. А откуда взять антарктические меха? Несолидно царю таскать бекешу из морского леопарда. Так что пока сгодятся меха арктические.
Некоторые титулы прикреплялись к большому коронационному бескровно, иные — ценой малой крови, и пока что не было точно известно, к какой категории придется отнести антарктическое почетное звание. Последнее сопротивление разрозненных чилийских партизан на земле Грехема вроде бы должна была подавить позавчерашняя ковровая зачистка. Однако иди знай — вдруг что где и шевелится. Тогда, как решил Павел, придется эту самую Землю отдать под временный протекторат Сальварсана, у которого с Чили давние счеты. В этом случае, можно было не сомневаться, принесут эту самую Землю на блюдечке. Но… Тоже еще думать надо будет. Быть подданным Российской империи — это слишком высокая честь, чтоб раздавать ее направо и налево. Мадагаскар, скажем, сколько ни просись — а вот пока что недостоин. Пусть сами догадаются, что и как сделать надо, чтобы честь эту заслужить.
— Садись, Паша, дело есть. Скинь шубку, разговор долгий.
Павел уважительно присел на лавку.
— Выпить хочешь?
Павел отрицательно мотнул головой. Еще не хватало вернуться и на жену в Кремле перегаром дышать.
— Ты, вот что, Паша, слушай. Ухожу я, Паша, на покой. Сдаю дела Ромаше, все село ему сдаю, а сам — на покой. Буду воспоминания… диктовать. Прости уж, если что не так сделал, если не все сделал, что обещал.
У Павла оборвалось сердце. Если что и казалось ему в его державе незыблемым и вечным, вроде как Кавказский хребет или вроде как Уральский — то это как раз великий князь Никита Алексеевич и его деревня. Сношарь увидел почерневшее лицо государя и поспешил его успокоить:
— Нет, я не помирать, и окончательно с работы не увольняюсь, но… в главных быть не могу больше. Так, буду для своего удовольствия принимать вечерком две-три Настасьи — и довольно с меня. Пусть Ромаша работает, он как раз в силу вошел. А мое дело — мемуарное.
— Ну, про секс написать — дело хорошее… — растерянно пробормотал Павел. Сношарь внезапно сверкнул глазами и повысил голос:
— Про секс — это ты брось! Секс — это у них, на Западе, а у нас в России отродясь никакого секса не было и нет! А у нас и был, и есть, и будет один только трах… да только наш трах ихнего секса — во сто раз духовней! Потому как наш трах чем силен? Соборностью! Вот об этом сказать правду-матку пора, книгу написать. Ради этого, Паша, я и на покой ухожу. Долг мой такой, судьба и планида.
Павел, которому за неделю третий оказывалось недосуг побеседовать с личным предиктором, был не слишком-то ошеломлен, но от таких неожиданностей он отвык. Ну что стоило снять с утра пораньше телефонную трубку и услышать: «Сегодня Ваше Величество должны быть готовы к тому, что великий князь Никита Алексеевич подаст просьбу об отставке с поста верховного сношаря…» А дальше ясно бы сказал Гораций — удовлетворит царь эту просьбу или наоборот. «Опять слишком много свободы, даже для меня», — подумал Павел. Великий князь тем временем сидел молча, сцепив пальцы на скатерти, и все его сократовское лицо, для которого многочисленные, танками прокатившиеся по нему десятилетия не пожалели морщин, было каменным. Павел понял: на этот раз — отнюдь не каприз. На этот раз — всерьез. «Боярин Романов» запросился на заслуженный отдых.
Значит, так тому и быть. Начинал великий князь свои труды на Брянщине лет за тридцать до рождения Павла, а теперь и самому Павлу стукнуло полвека, и у самого у него на Мальте внуки есть, хоть и незаконные. Законного наследника Гораций сыну обещает очень не скоро, но зато с гарантией: назовет его отец Георгием в честь покойного двоюродного дяди. И в должные сроки тот Георгий уже воцарится на Москве, но весьма, весьма нескоро. «Павел Второй, Павел Третий, Георгий… Первый?» — подумал царь. Солидно. Надо будет интересу ради у Горация имена русских царей вперед на два-три столетия спросить. Просто из любопытства. Интересно, рискнет ли кто-нибудь назвать наследника престола Никитой?
— Быть по сему, — кратко бросил царь. Сношарь сощурил глаза: не издевается ли над ним верховный племянничек? Нет, Павел просто утвердил его просьбу. Хотя и был безусловно огорчен.
— Ну, а теперь и впрямь давай — чаю. Надеюсь, не откажешься?…
— Да нет, выпью…
Великий князь даже в гонг не ударил, чтоб сексуальных ассоциаций у строевых баб не вызывать. Из-за печки гуськом поспешили старые знакомые, и все женского пола, все, конечно, Настасьи: одна несла самовар, вторая ведро с углями из сосновых шишек, третья — поднос с заварочными чайниками, четвертая — сахарницу и щипчики, пятая — какие-то сушки-ватрушки, следом шестая, седьмая, — все серьезные, насупленные, видимо, предупрежденные о важности события. Последняя на малом подносике несла неизбежную бутылочку черешневой наливки и две рюмки, каждая лишь немногим больше наперстка. Павел твердо решил не пить больше одной.
Бабы расставили все и так же гуськом исчезли.
— А Ромео? — с места в карьер сморозил царь. Сношарь посмотрел на него как на сумасшедшего.
— Паша, куда ему? Он раньше двух ночи не освободится, у него теперь такой поток пойдет — куда ему чаи гонять… Ничего, младший брат его говорит — одна польза здоровью. Ты не ревнуй, я его брату лишних вопросов не задаю — все равно не отвечает, или предсказывает, что ответа не будет — я так и не понял, что из этих ответов хуже. Но ты мне-то, ну по-семейному, как пенсионеру… всеимперского, надеюсь, значения, ответь: ну на кой ляд нам в России Антарктида с ее пингвинами? Завоевал бы ты Австралию — там кенгуру, говорят, на жаркое годится, то-се, но Антарктида?…
Царь отхлебнул из чашки. Чай был замечательный, лучше этого заваривал только покойный Сбитнев… Ну да что теперь жалеть — нет Сбитнева. Влили ему в ухо грабители настойку ядовитого пастернака — и прощай, обер-блазонер, прощай, лучший в мире мастер по заварке…
Великий князь захрустел сушкой. Император предпочел кусочек чурчхелы. Затем оба добавили из заварочного чайника в свои чашки: царь пил чай не по-китайски, не по-русски, а как хотел. Пронырливые телевизионщики отследили эту его привычку и теперь во всем мире это называлось «пить чай по-царски». То есть густо, со вкусом и без суеверных традиций. Наконец, Павел понял, что как долго ни жуй резиновый кусочек выпаренного виноградного сока — а отвечать придется. Да и выплывет истина наружу, не уговоришь молчать всех предикторов. Их за границей уже трое и есть предсказание, что скоро четвертый родится. Лучше уж сразу сознаться.
— Никита Алексеевич, я ведь не для собственного удовольствия. Мне эти пингвины сто лет не нужны — и гораздо больше, чем сто лет. Но Гораций Игоревич понятно сформулировал: потенциал могущества современного государства прямо пропорционален его площади, помноженной на территорию берегового цоколя. Чем больше морских границ, значит, тем на большую цифру перемножать надо. В цоколе — в нем нефть… А над ним рыба и прочее. Используется территория, не используется — однохренственно. И получается, что в далекой перспективе великому государству нужна не какая-то особая земля, а просто любая. Ну кому, княже, могло взбрести в голову, что Аравийская пустыня или там полуостров Ямал — чистое золото, и даже дороже золота?.. Тот же Ямал завоевала Россия до кучи и не думала о нем, а сейчас…
— Не понял, — оборвал царя сношарь, — а бабы на твоем Ямале что, лучше, чем везде? Или бабам от него лучше?
Тут князь наконец-то допустил ошибочку.
— Еще как лучше, Никита Алексеевич! Если б не нефть с Ямала — бабам, чтобы печь истопить, дрова бы колоть приходилось! А тут — повернул крантик, плита горит, и в доме светло, и духовка греется…
— Ну не знаю, — недовольно пробурчал сношарь, — в русской печи харч не в пример добротней готовится, а что касается света — на моей работе он и вовсе не нужен… Ладно, тебе видней. Нужна тебе Антарктида — владей. Только чтоб бабам плохо от нее не было. Обещаешь?
— Твердо обещаю, Никита Алексеевич.
Сношарь помедлил.
— А про дрова не прав ты, Паша. С дров печь так греется — куда той нефти… Да и блины с припеком на бензине, чай, не испечешь. А какие в Антарктиде дрова?.. Саксаул, что ли?..
— Будут в Антарктиде дрова, Никита Алексеевич. Твердо обещаю. В Святоникитский монастырь уже целый сухогруз отправил. Хорошие дрова — березовые, дубовые. Монахи не нахвалятся. Для блинов с припеком… едва ли, монастырь все же, а вот для бани — очень.
— Монахи… Ты мне еще объясни — зачем Румынию в Заднестровье переименовал?
— Так красивей же! Исторически — справедливости больше. Да и за Днестром она, разве не так?
Сношарь почесал большим пальцем переносицу.
— Ладно, дело твое, Паша… Царское, значит, дело. Заднестровье. Ну, до новых встреч, как говорится… Ладно, я отдыхать буду…
Павел то ли поклонился князю, то ли отсалютовал — он и сам не понял — а потом по винтовой лестнице спустился под землю. Хорошо хоть бабами сношарь не пригласил угоститься — иди потом объясняйся перед императрицей, да как-то и не очень хочется. Не потому, что не хороши в Зарядье бабы, и не потому, чтоб уж очень они все на одно лицо… ну да, лицо… тут были — а что ж императору, помимо баб, и заняться нынче нечем?
Глава великой державы шел и вспоминал. Работа царем Всея Руси утомляла его куда больше, чем он ожидал первоначально, однако Павел всегда помнил, что по первому образованию он все-таки не царь, а историк. Каждый год выпускал он по учебнику русской истории, для того ли, для другого ли класса, словно пробуя ее — историю — на зуб: а точно ли она рассказана? Со всей ли справедливостью? К тому же царь был отнюдь не в восторге от того, что о нем самом и о его царствовании книжки пишу я. Причем — пишу без спросу! Да еще такие подробности из личной жизни иной раз выбалтываю, что и не знал Павел — как мне рот заткнуть.
Иногда, конечно, можно было — ну, мысленно — со мной поговорить, хотя никакой любви царь к своему наглому летописцу испытывать не мог. Да и у меня, честно говоря, никакого желания говорить с царем не было, но он моего желания не спрашивал: неизменно звонил один-два раза на целую книгу, да и то я норовил не ответить. Потом меня заедала совесть: сам придумал, сам же и разговаривать не хочу.
Царь мысленно достал спутниковый телефон.
«Слушаю», — как бы ответил я ему по обычному городскому. Ставить спутниковый мне было некому, да и незачем.
«Вот и я слушаю», — мысленно буркнул царь, — «С чего он на пенсию задумал? Он же и не стар вовсе. Мог бы еще с полдюжины лет поработать».
«Павел Федорович», — если б этот разговор и впрямь имел место, то я с трудом взял бы себя в руки и продрал глаза: в Москве Павла и в моей время не совпадало, — «Сегодня в Кунцеве, в больнице, должен проснуться Трифон Трофимович, по прозвищу Спящий… Ну, словом, это изобретатель двойной бухгалтерии, Лука Паччиоли, он четыре века спит… или немножко меньше. Так вот, на депонентах в Лугано и Женеве у него завещан дому Старших Романовых один триллион пиастров… то есть дублонов. Нет, правящий дом тогда на Руси был другой, но Лука Паччиоли — он все точно предвидел. Заснул в тысяча пятьсот десятом году, потом несколько раз просыпался, подтверждал вклад — и дальше спать ложился».
В таких суммах царь привык считать разве что турецкие пиастры. Но тогда овчинка не стоит выделки. А вдруг там и впрямь дублоны?
«Дублоны?»
«Дублоны…»
Государь, надо предположить, подумал.
«Вообще-то неплохие деньги… А столько нынче вообще на белом свете денег напечатано?»
«Павел Федорович», — если б этот разговор имел место на самом деле, то я, конечно, полагал бы, что взываю к здравому смыслу императора, — «Но ведь можно напечатать! Они там не бедняки. Швейцарцы, раз уж должны — пусть выдадут любой твердой валютой. Сколько есть. А Трифон Трофимович дальше спать ляжет!»
«Ладно», — перешел бы царь на другую тему, если бы мы и впрямь могли с ним поговорить, — «Мне уже в печенках сидит болтовня о том, что Русь — тоталитарное государство. Ну какие мы тоталитарные? Не хочешь быть коммунистом — ну не будь. Не хочешь быть православным — ну не надо. На первое даже налога нет, на второе — совсем… небольшой. А то присоединю к своим территориям две скалы в море — всё! Каждый скунс норовит угостить своими выделениями! Ну кто им мешал эту Антарктиду занять на сто лет раньше? И плевать всем, что и мне, и сыну, и внуку, еще помойку эту сто лет чистить — материк же вдребезги загажен, и дыра над ним торчит озоновая! Нет, пусть все будет загажено, и дыра как есть остается — это, значит, и есть истинная свобода!..» — Царь, кажется, начинал вскипать, — если б разговор не был выдуман с начала до конца, мне бы непременно так показалось.
«Ну, над Антарктидой…» — похоже, император и вправду переутомился, надо бы ему какой-нибудь отпуск поскорее насочинять, да и роман что-то длинный уже, перерыв пора делать, — «Над Антарктидой Хрустальный звон будет… и скоро. В девяти точках. Ну, вот и нужны, стало быть, девять монастырей…» — Однако царь меня не слушал не слушать не собирался. Даже если б и впрямь захотел со мной говорить. Ну, а я захотел бы ему отвечать.
«Ну сам скажи, как мне им доказать, что вера лучшая — наша, православная! Это ж и доказывать не надо, это ж проще простого!.. Слушай, давай-ка ты проспись, — царь снова сменил бы тон, если б и вправду вел со мной беседу — давай в следующем томе поговорим. Там как раз речь пойдет на литературные темы! Бархударов, скажем, Крючкова придумал — или Крючков Бархударова? Канторович Акилову — или Акилова Канторовича? Малинин Буренина или Буренин Малинина? Смит Вессона?.. Чейн Стокса… А?..»
«Побойтесь Бога, государь», — захотелось мне взвыть, да только царь меня бы все равно не услышал, — «Да какое отношение «Функциональный анализ» и «Курс всеобщей физики» имеют к литературе?.. Еще и Чейн-Стокс туда же… Нет, Ваше Величество, тут разговоров — еще на целый том, да еще, глядишь, и не на один».
«Ну вот и пиши — раз ты умный такой». — Царь отключился от мысленного диалога и по винтовой лестнице стал подниматься в Теремной дворец.
Царь был недоволен и мной, и собой. Он был недоволен и братьями Аракелянами: старшим, не казавшим носа ко двору, вторым, по вине которого на грани высылки из России находился такой, казалось бы, удачный кандидат в канцлеры, Андрей Козельцев, князь Курский, и третьим братом, так нагло подсиживавшим родного отца в Кулинарной академии, и четвертым… Ну нет, четвертым братом, Горацием, царь был доволен. Себе дороже.
В последние годы государь Павел стал себе немного напоминать Гарун аль-Рашида: не богатствами, куда там, а склонностью мотаться по столице и вокруг нее в переодетом виде, да еще в полной уверенности, что никто об этом не знает. Увы, никаких Гаруновых благодететельствований от него народу не перепадало, зато немало удавалось ему узнать о жизни рядовых граждан подвластной империи. Державою своей Павел был доволен. Хотя головы после таких его прогулок, конечно, летели: не без этого. А что вы хотите — наследственность государя Петра Алексеевича. И не она одна. Да и про Гаруна почитайте: там тоже головы летели.
Теперь вот, после воображаемой беседы со мной, очень захотелось ему и в глубинку съездить. По селам, по весям, по монастырям, просто по хуторам. И ничего этого было нельзя: не позволяла охрана. Завидово — Кремль, «Царицыно–6» — Кремль, еще три-четыре маршрута. Вот и все праздники. Куда ж податься Гаруну? Ну, в трактир Тестова, ну, в ресторан «Гатчина», что при выезде с Петербургского шоссе, ну, в любимый театр «Сивцев Вражек»… Много ли насмотришь, наслушаешь. А все-таки свобода. Да в конце концов можно и плюнуть на Завидово, рвануть через Волгу в Арясин… к кому? В Яковль-монастырь? Это раньше думать надо было, тогда туда Ромаша катался, а ты теперь — человек женатый. И нечего цесаревичу пример похабный подавать.
Царь скинул волчью шубейку и прошел в запасной кабинет — настолько запасной, настолько неиспользуемый, что и сам не определил бы, где тот расположен. Вроде бы под Водовзводной башней. А не под ней, так под Боровицкой. Может, и вовсе не под Кремлем — но где-то в этом районе. Окна в кабинете не было. В прихожей кабинета стоял, как и во всех прочих вестибюлях, аквариум с черными морскими коньками. Под аквариумом, как в любом другом вестибюле государева кабинета, сидел Анатолий Маркович Ивнинг. Как это ему удается, сидеть во всех прихожих сразу? — Павел этого даже и не подумал, а словно бы привычный транспарант прочел. И прошел в кабинет. Здесь он занимался только делами новоприобретенной Руси Антарктической.
— Докладывай, — недовольно сказал царь стене.
Стена стала прозрачной.
— Массированная ковровая зачистка земли Грехема, ваше императорское величество, никаких очагов сопротивления не выявила. Как показало спутниковое слежение, базы аргентинцев и чилийцев были полностью эвакуированы еще за неделю до введения на Руси Антарктической прямого императорского правления. Эвакуационные транспорты целиком ликвидированы, пленных нет, согласно инструкции. На бывшей Земле Мэри Бэрд, ныне Земле Марфы Посадницы, произведена закладка монастыря преподобных Спиридона и Никодима просфорников, — ну, у них день памяти совпадает с днем коронации вашего величества, как и было на то высочайшее повеление. Начата подготовка к литью колоколов для кафедрального собора Святоникитского монастыря…
— Вот-вот-вот. Как раз насчет литья колоколов. Список заготовленных сплетен готов?
Царь имел в виду, что по древнему русскому поверью во время литья колоколов сплетни и слухи в народе должны распространяться самые невероятные, и чем несусветней они будут — тем благолепней получится колокол. А тут предстояло снабдить колоколами целых девять древнерусских монастырей!
Повелитель близоруко вгляделся в распечатку
— Так, всю эту чушь про неопознанные летающие — выбрасываем, они давно опознанные… Так… А вот это очень хорошо: мол, никакой не Евсей Бенц свои книги пишет, а дрессированный заяц-беляк хвостом, в другую же смену из него ханский режут балык… Ничего не понимаю, про зайчика понял, а какой балык? И еще — а этому письменнику почему я должен запретить японский псевдоним?.. Чем плохой псевдоним? Якиманка как Якиманка, улица такая тут в Замоскворечье. У него же вроде бы в каждом романе действие посреди этой улицы разворачивается?..
— Государь, вы бы знали, что по-японски эти слова означают… — Ивнинг перегнулся через стол и прошептал два слова, причем покраснел только от второго. Государь похлопал глазами.
— Как жареная? Почему жареная? Кто ему такой псевдоним разрешил? Это же глумление над отечественной словесностью! Над русской речью!
— Напротив, ваше величество, он утверждает, что этот его псевдоним — месть за претензии Японии на острова Южно-Курильской гряды.
Царь успокоился.
— Ну, тогда и… Якиманка с ним. Но где ж тут сплетня? Это, выходит, чистая правда!
— А все равно никто не поверит. Чтоб жареная… извините, помолчу… была посреди Москвы? «Яки» — точно жареная, я у японистов спрашивал…
— Остального ты у них, значит, не спрашивал… Не по твоей части… — Ивнинг вспыхнул, — Словом, никакой просьбы разрешить ему такой псевдоним — нет и не было! А был государев приказ — за… за… сам придумай, за что… Повелеть ему впредь иметь псевдоним «Шалва Якиманка»! Вот! И с тем псевдонимом его и похоронить, как помрет, хоть через сто лет. А хочет сочинять свои романы — пусть сочиняет. Если налоги платит исправно, конечно. И приследить, приследить — чтоб в переводе на английское наречие — только исправной кириллицей печатался, не то… в двадцать четыре часа заслать его в такую жареную… чтоб ему там ух как тепло было! Давай другие сплетни.
— Извольте, ваше величество… Для умножения скорости распространения слухов есть предложение использовать всероссийскую сеть трактиров ресторанного типа «Доминик». Однако же к владельцу сети, господину Долметчеру, пока что осмелиться обратиться не осмеливались…
Царь помрачнел.
— И не надо. Так мы все общественное питание угробим. Белуга с хреном в горло никому не полезет под твою… Якиманку. Ты сам представь, а? Дают тебе порцию белуги — и к ней эту… жареную. Да ты ж сблюешь, крокодил синемундирный! Давай иначе: есть у нас сеть нелегальной торговли?
— Ну, наркотики есть, новодельные иконы древнего письма, нелицензионное компьютерное обеспечение, молясинные лавки…
— Шел бы ты с наркотиками, а? Какому наркоману дело есть до сплетен? Ему доза нужна — всего-то. А вот с молясинными лавками, наверное, самое то. Там не продают, там меняют, шапку ломают по полдня — ты мне молясину уступи, я тебе денег на нее наменяю, только не так много, как просишь. Вот тут и пустить им за чаем, за наливкой слух — мол, царь группу писателей наказал псевдонимом — Якиманка, а значение у этих слов знаете какое? Тут и смех в кулак, и мена полегче… Ишь ты, глядишь, и пригодится она, жареная… И кто ж ее, болезную, жарил-то, время впустую тратил… Прочие сплетни давай, не говори, что больше нет.
Ивнинг подал еще одну распечатку, чем дальше углублялся в нее император, тем большая скука наползала на его лицо.
— Про повышение цен на золото и меха — это ты кончай, обычная советская брехня, не поверит никто, потому как правда. Вот налог на шампиньоны — это давно пора, нерусские они грибы, нужно им укорот сделать — пусть люди русскими грибами питаются. Налог… Национально-несоответственный, для лиц нетрадиционной религиозной ориентации… Хотя это еще тоже вводить рано. Налог на кавелирование — даже и думать забудь. Всю империю один дурак, глядишь, обвалит… И вообще — хватит про налоги. Запускай что попроще. Ну, астероид готовится к мягкой посадке по-тунгусски, только город еще не выбрал, еще доказано, что Чарльз Дарвин от обезьяны произошел, под Парижем Нострадамус воскрес, в Патагонии у лошадей речевой аппарат обнаружен, на Брянщине курица двух поросят ощенила, и оба — зубастые… Ты мне только наблюй на стол, сам в Якиманку поплывешь!
Письменной визы на проекте утвержденных слухов и сплетен Ивнинг не дождался, да и не ждал он ее: царь ставил автографы очень неохотно, особенно после того, как из Лондона пришел достоверный слух о том, что таковыми там кто-то приторговывает. И не зря: в мире нынче осталось только три империи, Японская, Гренландская и Российская; до превращения Соединенных Штатов в империю коллекционеры ждать не хотели, да и с обычным, присущим западному, а также восточному человеку позитивизмом предполагая, что это дело еще не решенное и то ли будет оно, то ли нет. Эх, почитали бы они бюллетени предикторов — они б на автозаправку к Бриджесу-Браганце в очереди стояли от Нового Орлеана.
Царь остался один. И вновь стена кабинета стала прозрачной — причем другая, — кажется, она вообще исчезла. Из-за нее, словно через порог, в кабинет вошел невзрачный человек в более чем странной форме: то ли в военной, то ли в шутовской. Человек был не молод, но никак не стар, он остановился у кресла, — явно чего-то ждал.
— Садитесь, поручик, — со вздохом сказал император.
— Поручение исполнено, ваше императорское величество.
— Так давай сюда.
Гость вынул из кармана стопку квадратных пакетиков, в которых взгляд царя сразу опознал запасные струны к любимой португальской гитаре. Пакетиков было много, десятка три, но царь остался недоволен.
— Поручик, почему так мало? Им что, жалко?
— Простите, государь, но я всего лишь… поручик. Не могу же я доложить на весь Большой театр, кому пойдут эти струны. Мастерские работают медленно.
Царь нехотя прибрал струны в стол.
— На каком же основании, дорогой мой шут, вы заказали им струны?
— Известно на каком — на столе. Написал заявку, расплатился и получил.
— Все-то вы, друг мой, шутите…
— Хорош я был бы шут, если б не шутил.
— Не смешно как-то…
— Поручитесь ли вы, государь, за голову поручика, который начнет в вашем присутствии шутить смешно? Шут-порученец — это ли не шутовской конец карьеры поручика… Молчу, молчу. Имени лишен, помню.
— Ладно, мне все равно этих не хватит. Когда следующие изготовят?
— А шут их знает…
Царь начал багроветь.
— Все равно мало. Вас, поручик, только за кандалами посылать…
— За поручами? Своеобразное было бы поручение…
— А ну пошел вон!
Царь снова остался один. Не смешной шут был его наказанием, но такого шута предсказали ему в разное время три предиктора. Лучше в таких случаях не сопротивляться. Да и нужен кто-то для мелких деликатных поручений… Поручик для поручений… Тьфу ты. Теперь до ночи не отвяжется. В «Гатчину» съездить, что ли? Так и там портрет неизвестного поручика висит.
Царь вспомнил, что у него есть еще и семейная жизнь. Как раз нынче полагалось произвести цесаревича в поручики Преображенского полка…
Тьфу!
Пусть подождет до завтра. Или до будущего года.
В крайнем случае — до следующего тома.
До следующего, словом, Бедлама.
23
Вот почему мы пришли в это место, и вот почему это место находится здесь.
Гарри Гаррисон. Зима в Эдеме.Такое зрелище можно было подсмотреть лишь раз в год, но никому в здравом уме не захотелось бы видеть это дважды. Малой скоростью, на ручных каталках, свозили мастера Богданова чертоварного цеха к главной веранде накопленный за год работы новый мебельный гарнитур — подарок их сиятельству графу Сувору Васильевичу Палинскому, постоянно проживающему в Уральских горах. Кресла из чертова рога, канделябры с натуральными клювами, надкаминные доски в подлинной чешуе, с цельными головами чертей посередке и прочее — все придирчиво осматривалось, вносилось в список, а затем перегружалось в мешки, которые предусмотрительно расставили возле веранды дюжие офени. Им-то и предстояло тащить подарок вдоль Камаринской дороги, в Киммерию, а там передать доверенным лицам на острове Елисеево поле, которые брали дальнейшую доставку на себя. Эта доставка тоже была не простой: гарнитуру предстояло взмыть на два километра под облака. Да еще неизвестно — понравится ли графу гарнитур. Подарок делался как бы бесплатно. Но многие и очень многим были графу обязаны, да и он был еще не прочь с высот Урала послужить на благо любимой отчизны.
Опись предметам подарочного гарнитура вел, разумеется, Давыдка. Хозяин сидел на веранде возле спеленатого в рогожу и едва живого Антибки, Кавель, не в чем не виновный и никем не обвиняемый, сидел рядом, на полу и пытался придумать — чем же он тут может пособить. Поодаль, на табурете, мордой в стенку, сидел Баньшин: этот свою вину знал, но тем паче ничем помочь не мог. Кроме них, при чертоварне сейчас обретался Фортунат со своими бухгалтерскими ведомостями и керосинкой, чтобы в любой момент отравить воздух запахом тухлой жарящейся мойвы, если помощь мастеру понадобится.
Где-то поблизости трещали бревна и кусты: журавлевская орда готовила посадочную площадку. Хмельницкий хоть и перепился в день коронации, но обещания соблюдать умел, и вызванный им «Хме-2» с истребителями поддержки был готов забрать из Выползова всю группу рейнджеров-мстителей и уйти в ночной рейд на цитадель Кавеля Глинского «Истинного», Богом и всеми Кавелями (кроме «Истинного», понятно) гнусную трущобу, изрыгающую бесчисленные крылатые ракеты под руку трудящимся, простым российским чертоварам, платящим налоги, не нарушающим законов да и вообще Поставщикам двора Его Величества.
Хотя Хмельницкого никто о такой услуге не просил, но он на государевом портрете поклялся: пилотировать «Хме-2» будет лично вундеркинд Федорова Юлиана Кавелевна: дитя хотело принять участие в святом деле отмщения за принесенного в жертву собственного отца. Жаль, что сконструированный ею «Федюк» тут не годился, в него журавлевские боевые мерседесы, обозные кибитки орды, выползовские мастера чертоварения, кашинские ненарочные колдуны, сглаженные черти, новозеландские коммунисты, отставные генералы, бывшие таксисты, немолодые маркитантки, ходячие рояли, ученые киммерийцы и просто Кавели все сразу не поместились бы. Тут приходилось использовать во много раз более вместительный «Хме», но и с его пилотированием девочка справлялась тоже отлично.
Насчет новозеландских коммунистов вышла у Кавеля Журавлева какая-то незадача: вывез их Навигатор с помощью верной «Джоиты» по стопроцентной предоплате и должен был их тут, в России, кому-то сдать, но этого кого-то, как выяснилось, давно след простыл. Лишь на третий день поисков заказчика сообразил Журавлев, что поставили ему, что называется, детский мат: оплачивался не привоз коммунистов в Россию, а их увоз из Новой Зеландии. Вопрос «Кому выгодно?» никакого ответа не сулил: увоз престарелого политбюро был в островном государстве выгоден буквально всем, от партии сторонников экологически зеленой политики до нового, отчаянно прокитайского политбюро, провозгласившего себя вполне законным на основании пропажи старого. Журавлев немедленно назначил обезумевшее от дальнего путешествия политбюро золотой ротой, определил их в обоз к своему воинству, а чертовару намекнул, что готов этой командой во время воздушного путешествия пожертвовать — если балласт сбрасывать понадобится. Чертовар попытался объяснить Навигатору, что «Хме-2» — самолет, а не воздушный шар, но глава Орды разницы так и не понял. Его в высшей степени устраивало, что «Хме» столь вместителен, и столь просто может перебросить куда-нибудь в неведомые до сих пор края сразу всю его орду. Смыслом жизни журавлевцев было странствие само по себе, а на чем ехать или лететь — вопрос второстепенный, лишь бы летело — желательно при этом, чтобы летело подальше.
Покуда журавлевцы расчищали площадку для приземления и взлета «Хме», покуда подарочный мебельный гарнитур для графа Палинского грузили на весьма дюжих и столь же набожных офеней, покуда Богдан Тертычный нянчился с мающимся в бреду человечьего сглаза однорогим чертом, — Россия жила своей жизнью, да и уездный город Арясин тоже. Газеты, отликовав по поводу государевой свадьбы и государыниной коронации, два-три дня пережевывали новость об избрании в США нового президента с непонятной русскому человеку кличкой «Маргарин», но и эта новость быстро угасла: что нам в России до американского маргарина, когда своего завались, да и тот не раскупается. Вернулся к обычным, не очень крупным сенсациям и долгожительствующий «Голос Арясина», издававшийся, как помнит читатель, на деньги местного миллионщика, снеткового короля Филиппа Алгарукова: подписчикам было поведано, что алгаруковские мастерские в Упаде почти полностью монополизировали на Руси производство ручных рыбочисток: и простых, и механических, и терочных, и комбинированных. Газета радостно возвестила, что московский антимонопольный комитет это дело рассмотрел и даровал Алгарукову потомственную привилегию на таковую монополию, поскольку других желающих, как выразился глава комитета Андрей Козельцев, «заниматься этим геморроем» на Руси выявлено не было.
И вправду — геморроев на Руси хватало, чего другого. Захапав Антарктиду, распродав за бесценок все горящие путевки на курорты островов Петра Первого, Петра Второго и Петра Третьего, Россия оказалась перед необходимостью вывезти с Руси Аделийской все пустые канистры, всю избыточную тару, все остатки жизнедеятельности незаконных полярных станций самых разнообразных государств, иные из которых нынче входили в состав России, поэтому взять с них было не просто нечего — приходилось расхлебывать грехи своих же подданных, а это ли не геморрой? Коморские сектанты-сепаратисты в черных чалмах, поднявшие восстание из-за совсем мизерного налога на свое не традиционно правильное мусульманское вероисповедание — что это, как не геморрой? Вскрывшийся после тщательной ревизии неурожай проса в Челябинской губернии — не геморрой ли? Массовые нарушения государственной монополии на изготовление бюстов ныне здравствующего государя, обнаруженные в Бесарабии и прилежащих губерниях — это не геморрой? Наконец, эпидемия геморроя, охватившая поголовно всех туристов на мемориальном Великом Шелковом Пути — это уж точно геморрой! А предикторы, как сговорившись, что ни день, то предсказывали все новые и новые геморрои.
«Хме-2» был идеально приспособлен к полетам в условиях ночи, особенно — полярной. Выделенный для сегодняшних целей «Солодка-новгородец» поднялся с военного аэродрома на острове Диско, что в дружественной Гренландской империи, и взял курс на Тверскую губернию. Самолет, рассчитанный на тысячу восемьсот единиц имперского спецназа с полным обмундированием и боезапасом на полгода фронтовых действий, не очень-то и скрывался: воздушное пространство Гренландии на Северном полюсе непосредственно переходило в воздушное пространство Российской державы, а стрелять по каждому российскому самолету нынче было небезопасно: Неизвестно Зачем Освободившиеся Нации все еще не могли придти к решению — следует им гневно осудить русскую имперскую агрессию против маленькой, гордой и свободолюбивой Антарктиды, или же, напротив, пламенно приветствовать акцию санации окружающей среды, предпринятую отнюдь не богатыми русскими в совершенно бескорыстном порыве экологического энтузиазма. Предиктор Геррит ван Леннеп, жена которого как раз поведала мужу о том, что к лету он, видимо, в шестой раз станет счастливым отцом, между делом сообщил, что разговоров в ОНЗОН ему хватит на то, чтобы стать отцом и еще два-три раза. Прочие предикторы разговорам Освободившихся Наций не уделили внимания вовсе.
«Солодка» был уже очень послушной и объезженной лошадкой: перебросив в Антарктиду почти пятнадцать тысяч российского спецназа, он прошел на Диско всю профилактику и теперь был готов забросить что угодно и куда угодно, была бы твердая рука у ямщика. Девочка в пилотской кабине обладала как раз такой рукой. Вообще-то ей сразу стали видны все недочеты продукции конструкторского бюро Хмельницкого, на самой ей транспортные монстры не нравились, душа к ним не лежала. То ли дело — тяжелые пикирующие бомбардировщики. Хотя иной раз требовался в армии именно транспортник. Как вот сейчас. Девочка Юлиана миновала сигнальную мигалку на Северном полюсе и с облегчением погрузила самолет в просторы истинно русского воздушного океана. Истребили-охранники ввером ушли прочь, тут они уже не требовались.
По прежним понятиям «Хме» и на самолет-то походил мало, скорей это была летающая крепость, пароход с шестью рядами иллюминаторов один под другим, без намека на шасси; злые языки сообщали, что садится он на подушку: то ли на воздушную, то ли антигравитационную, однако точно, что расшитую болгарским крестом, бисером, то ли даже и цейлонским скатным жемчугом из прославленной оперы композитора Гуно. Скорее всего самолет приземлялся как-то иначе, никакой подушкой не пользуясь, но что именно использовал в конструкции своего чудища хитроумный Хмельницкий, мало кого занимало: хорошо, что самолет мог мягко опуститься на свободную от прямостоящего леса территорию, равную ему самому по площади. Такую вырубку журавлевцы близ Выползова уже подготовили. Теперь оставалось дождаться прибытия «Солодки», грузиться поскорей, пока ночь не кончилась — и айда в Заплесецкие дебри.
Офени загрузились подарками и с кряхтением отбыли привычной дорогой на восток — сперва на Кимры, а там уж, помогай Кавель, вдоль по Камаринской до самой Киммерии. Орда, загодя упаковавшаяся по кибиткам, выдвинулась из лесу; в кибитку Кавеля Журавлева с предосторожностями перенесли Антибку, возле кибитки поставили скованных единой цепью новозеландцев. Богдан деловито осматривал боевые заряды, которыми собирался палить по Дебри: плюнув на все обещания, кому только ни дававшиеся, он готовился загрузить на борт «Хме-2» несколько единиц тактического атомного оружия. Словом, царила в Выползове обстановка перрона, к которому должны подать поезд исключительно дальнего следования, — да только вот все никак не подают.
В воздухе что-то прогрохотало, уходя стороной, — словно по случаю наступления зимы, коронации, свадьбы императора, избрания мистера Маргарина президентом США и кто его знает каких еще событий, грянула в вечернем небе приближающаяся гроза. Через несколько секунд тот же звук повторился, но с другой стороны — и громче. «Солодка-новогородец», кажется, заходил на посадку. Батя Никита Стерх в кустах бубнил что-то однообразное в прибор, похожий на четвертушку мобильника «Нокия». К кустам, в которых засел батя, не приближался никто, даже кабинетный рояль Марк Бехштейн: пивом от кустов разило так, что щипало в глазах, а Марк, вероятно, боялся за полировку. Затем на месте свежей вырубки возник столб света: два луча, один с земли, другой от брюха «Солодки», сомкнулись; транспортник завис и медленно стал приближаться к земле. На высоте примерно в сажень самолет завис, помедлил, откинул плоскость пандуса. Сейчас в темноту его чрева в два, а то и в три ряда спокойно могли бы идти танки.
Между тем на пути потенциальных танков появилась мешковатая фигура с очень длинным предметом на плече, — возможно, это была базука, возможно — телескопическая удочка. Фигура резко взмахнула этим предметом, загораживая путь.
— Старшой!.. — долетел в холодной воздухе скрипучий, прокуренный голос. По некоторому размышлению Богдан решил, что в нынешней экспедиции старшой — это он, вылез из вездехода и подошел в пандусу.
— Я.
Фигура качнула удочкой.
— Предоплата за провоз, старшой. Рейс чартерный, сам понимаешь.
Чертовар и растерялся, и разозлился одновременно. Про то, что рейс чартерный, уговор вообще-то был, и заплатить нынче мог бы, после того, как лимфатическое смазочное масло для этих самых «Хме» он же армии и поставил, деньги на счету у него, конечно, были — но откуда ж взять те многие пуды золотых империалов, которые в таких случаях полагается выкладывать на бочку? У Фортуната в сейфе, конечно, заначка есть, но ее, само собой, не хватит. Богдан еще только подступился мыслью к тому — а где ж в его доме, собственно говоря, водятся деньги, как проблема стала рассасываться на глазах.
— Рады приветствовать на земле перелетную лавку славной маркитантки Вячеславы Михайловны!
Прокуренностью второй голос, голос тещи Богдана, вполне мог соперничать с первым. Матрона Дегтябристовна, давно понявшая, что зять ее делать деньги умеет, а торговать, к сожалению, нет, конфисковала нить переговоров. Тем более, что с Вячеславой Михайловной они в одна тысяча девятьсот сорок девятом и более поздних годах на одной зоне припухали, вспомнить бы номер ее сейчас, да только вот неохота и век бы ее вообще-то не вспоминать. Зато почему-то вспомнилась кликуха Вячеславы — «Молотобойца», из-за которой та и получила фантастические имя-отчество-фамилию, когда при освобождении в пятьдесят шестом все ее документы до последнего оказались со страху сожжены лагерным кумом вместе со всеми прочими документами. По пьяни кум, правда, и сам сгорел, но так и пошла по Руси маркитантка Молотова, ходила, ездила, — и теперь, выходит, уже и летать стала.
На конце базуки-удилища загорелся фонарик и метнулся к длинному носу Матроны. Все-таки это была просто удочка, хотя — зная характер лагерной подруги — Матрона не сомневалась, что если надо, то удочка эта стрелять тоже сможет.
— Мотря!.. Да тебя-то как сюда занесло?..
— А как тебя, так и меня. Ну как, лететь будем или языки чесать?
Фигура на пандусе откинула то, что ей заменяло капюшон, и яростно почесала в затылке.
— Да фургон-то у меня не собственный… Аренда, понимаешь, то, сё… Акцизы, эндеэсы… Опять же топливо дорогое, масло особенное тут нужно — не подступишься…
— Ладно, хрюнё-манё… Заложниками возьмешь?
Начался торг. Богдану все это было уже не интересно, однако когда он расслышал, что в качестве основной уплаты за рейс его теща предлагает вязку-снизку новозеландских колодников, коммунистов с допосадочным стажем, да еще считает, что должна получить сдачу — если другого товара нет, то и астраханские соленые арбузы пойдут, только почему четырнадцать, если колодников восемь — гони все шестнадцать, и с чего это она должна уступать кровные два арбуза, когда им под хороший «ерофеич» цены нет, — Богдан полез в вездеход, отчаянно молотя воздух ногами. Только что они с Журавлевым знать не знали, куда девать этих колодников — а уже, гляди ты, теща из них валюту сделала да еще сдачу… какими такими солеными арбузами…
В итоге Богдан все-таки сообразил, что и он может внести в этот базар хоть небольшой вклад, и отправился за полтора громобоя в рощицу, где уютно дожидались погрузки «фаэтоны» Кавеля Журавлева. К его удивлению Навигатор нимало не удивился.
— Всякий товар можно продать и купить, нужно только найти покупателя. Мне их продали и доплатили за доставку. А без них, скажи, чем бы мы сейчас расплачивались? Хосе, — обратился Журавлев к верному слуге, — проследи, чтоб она среди арбузов гнилых не подсунула. Шестнадцать арбузов, ну даже четырнадцать — это, поди, бочка целая. Будет чем на Новый год питухов опохмелить.
Чертовар в который раз подумал, что жена у него не жена, а золото, а уж теща так и вовсе не теща, а бриллиант «Звезда Африки». Старые лагерницы, кажется, сторговались на чем-то, и по команде Богдана и орда, и примкнувшая к ней чертоварская гвардия стали втягиваться в брюхо «Солодки».
Орда Журавлева составляла тысячу человек с небольшим, армия Богдана — в пять раз меньше народа. Когда стараниями Давыдки передние колеса вездехода вкатились на пандус, Богдан высунулся из окна, посмотрел вперед и вверх, в темноту. Увидеть там он заведомо ничего не мог, но где-то там, в пилотской кабине, находилась сейчас юная девочка Юлиана. Ей-то новозеландские коммунисты были ни к чему. Она заранее оговорила, что принимает участие в боевой операции исключительно в целях мести за отца. Федорова Юлиана Кавелевна шла сейчас в бой не как-нибудь, а именно «За Родину, за Кавеля». Она была дочерью Кавеля, хотя для нее эти слова означали никоим образом не то, что для прочей Руси.
Подошвами Богдан уловил вибрацию: «Солодка» шел на взлет. Вездеход Богдана, ничем не закрепленный, стоял посредине поднятого пандуса как посреди металлического поля; журавлевская орда почла за лучшее подняться на ярус выше; воинство Ржавца, напротив, жалось к вездеходу. В отблесках многократно отраженных прожекторов Богдан рассматривал фигуры согнувшегося под полной боевой выкладкой негра Леопольда, обнимающего что-то большое — ну не иначе, как четвертную бутыль с «луковым счастьем» — Козьмодемьяна, застывшего с керогазом и обширной сковородкой наперевес Фортуната, заправившего за спину самурайские мечи акробата Зиновия Генаховича, окаменевший ряд дружно припавших на одно колено полицейских из Неопалимовской трущобы, кого-то еще, кого-то еще… Очередную фигуру Богдан опознать не смог, и очень она ему не понравилась. В три четверти к чертовару, опустив длинные руки почти до земли, стоял тут человек, которого знал Богдан лишь по описанию. Зато знал слишком хорошо: человек этот находился во всеимперском розыске, фотографию его Богдан видел и на Петровке, когда ездил Кашу выручать с Неопалимовского, и в городской полицейской управе Арясина, что на углу Жидославлевой и Богомольной, и еще где-то.
Богдан только-только собрался навинтить глушитель на любимый револьвер, как стало почти поздно: из рук согнувшегося человека в его сторону уже летело два то ли ножа, то ли сюрикена, — у чертовара не было времени разбираться с этим вопросом, и защищаться пришлось уже иначе, традиционной силой неверия. В воздухе полыхнуло, ножи (то ли сюрикены) превратились в фейерверк расплавленных капель, а ничего нового бросить в себя Богдан уже не позволил, не было у него такой традиции. Еще он успел понять, что человек этот находится тут по делу, что он вполне в своем праве. И что он, чертовар, только что ненароком чуть не угробил союзника. Ну, или тот его чуть не угробил — это уж как фишка легла бы.
— Тимофей, — скучно сказал Богдан, — ты в кого и чем кидаешься? Пулю я бы, глядишь, не остановил, а звездочку твою всегда расплавлю… Не дергайся, Тимофей, мне тебя сдавать некому… Киллер — профессия уважаемая, дорогая, может, и не как офеня, но все-таки. А ты за братьев мстишь, знаю. Мне, с другой стороны, этот остолоп работать не дает. Получается — враг-то у нас один. И самолет тоже я заказывал… А ты кидаешься.
Тимофей Лабуда, старший брат неосмотрительно принесенных в жертву Кавелей-близнецов, из боевой метательной позы разогнулся. Наверное, он покраснел бы, если б умел, но и впрямь — нашел в кого металл метать. Если бросаться кусачими звездочками в чертоваров, никаких высоких технологий не напасешься.
— Ладно уж, — произнес он хриплым, хотя и тонким голосом, — Он давно бы копыта уже откинуть должен, а все держится. Силища — как в Распутине! Тот, рассказывают, уже под лед на Неве спущен был, а все-таки руку выпростал и ею, рукою этою, еще воспоминания успел написать. Этот тоже от яда умирает, умирает, а все не умрет никак. Вот и не хочу я, чтобы он… воспоминания здоровой рукой сочинял. Он братьев мне должен. Двоих.
— И что ж ты с ним теперь делать будешь? — с интересом спросил Богдан, — Если что интересное надумал, так я тебе отдам его. Вообще-то я плесень везу… ну, больного черта по вашему — и хочу ему эту сволочь как лекарство прописать. Вроде как вместо пенициллина. На рог моему черту его надену, пусть так по морозцу побегают. А?
Тимофей счел, что и так уже слишком много слов сказал, и отвернулся. «Союзником больше» — подумал чертовар. Судя по вибрации пола, «Солодка» уже набрал должную высоту, а поскольку летали «Хме» на высоте свыше двадцати верст, получалось, что от Арясинских Хреней до Заплесецких — только взлететь и сесть. Это вам не из Гренландии в Антарктиду с маркитантскими рейсами мотаться. Тут уже и при Иване Четвертом, бывшем Грозном, Русь была. А тогда что далеко-то было? Разве Сибирь… Да и та не очень далеко лежала. Там лежала, надо думать, где и теперь лежит.
Но для перелетной маркитантской лавки «Солодка-новгородец» от Арясинщины до Холмогорщины с Плесецковщиной было отнюдь не пять минут лету — прежде всего из-за громоздкости возглавляемого Вячеславой Михайловной перелетного сельпо, а также и по необходимости соблюдать самую минимальную степень незримости: отнюдь не каждая крылатая ракета на Руси была сейчас поставлена в известность о том, что лупить в брюхо этот самый транспортник без единого опознавательного знака она не обязана. Аккуратнейшим образом подаваемые с земли сигналы медленно уводили «Солодку» с непокорившегося Арясину при князе Изяславе Маломущем Кашина на Весьегонск, в нижней части герба которого больше двухсот лет тому назад было отражено то важнейшее, чем славен этот город, а именно «рак черный в золотом поле, которыми воды, окружающие сей город, весьма изобилуют»; от Весьегонска «Солодка» двигался на Шексну, некогда с помощью золотой стерляди воспетую великим русским поэтом Державиным, далее на Тотьму, известную как родина основателя столицы Русской Америки Форта Росс Ивана Кускова, а еще далее — почти прямо на север, в Архангельскую губернию, на Вельск, знаменитый уже одним лишь тем, что в летописях он упоминается десятью годами ранее, чем Москва, и лишь оттуда прямиком маршрут лежал в район космодрома Плесецк, где «Солодку» ждали просвещенные государевы люди, чинами не ниже майоров.
Когда декабрь на носу, то в Архангельской губернии известно одно лишь природное освещение, называется оно «северное сияние», и с известным коктейлем связано ассоциациями разве что у тех, кто либо одного никогда не видел, либо другого никогда не пробовал. «Солодка-новгородец» для стороннего взгляда походил на самолет не больше, чем тарелка на гусятницу. Между тем конечная цель «Солодки» была чрезвычайно близка, и посадочными сигналами ее руководили майоры отнюдь не из Плесецка; ориентиры Юлиане Кавелевне и ее безымянному штурману давал геостационарный спутник над Дебрью и непосредственно связанные с ним электронщики Кавеля «Истинного», давно с потрохами продавшие своего пахана. А пахан, нахлеставшись от непроходящей боли в руке тяжелого самогона, спал в своей конуре под присмотром горбуна Логгина Ивановича, знать не зная, что за такие страшные гуси опускаются на него с небес в перелетной гусятнице «Солодка-новгородец».
Садится в районе Дебри было вообще-то некуда: майоры-электронщики посадочную площадку подготовить не смогли бы, даже если б за неделю вперед упоили весь «корабль», а иной помощи от них, кроме поддержания посадочного луча для «Солодки», быть не могло. Конечно, все оставшиеся от покойного «Перекопа» «Родониты» они давно разобрали на запчасти и собрали, придав им порядок, несовместимый с рабочей формой. Конечно, всем кокаинщикам «корабля» была с вечера подсунута доза кокаина, близкая к летальной, все кофеинщики получили дозу кофеина, после которой с ними можно уже было не считаться, все мескалинщики получили от пуза мескалина, а мухоморщики — по королевской порции мускарина. Бензинщикам с вечера была подана идея пожевать тряпку, смоченную бензином, сторонникам пятновыводителя досталось по флакону именно их любимого снадобья, а эфирщикам перепало по приличной фотокювете с эфиром. Словом, боеспособность «истинных» кавелитов была в эту ночь максимально приближена к абсолютной боенеспособности, вплоть до состояния, в котором «истинным» уже начало мерещиться вот-вот имеющее грянуть откровение: все ж таки Кавель Кавеля… или вот напротив — Кавель Кавеля.
Но и «Солодка-новгородец» — если не переходить на атомное оружие — тоже боевыми ресурсами блистал не слишком. Бомбежка Дебри новозеландскими коммунистами отпала сама по себе, пушки Богданова вездехода могли многое, но если бы у «Истинного» нашлись силы драпануть из-под «Солодки» — только б «Истинного» и видели. В этой ситуации наиболее действенной была тактика нежданного союзника — киллера Тимофея Лабуды. В чем эта тактика заключалась, не знал толком никто, но было хорошо известно, что живым от Тимофея редко кто уходил, а если уходил — то чаще всего жалел, что сумел уйти. Судя по непрерывному воплю, доносившемуся из конуры Истинного, тут имел место именно такой случай.
Сужая кольца концентрической спирали, перелетная маркитантская гусятница «Солодка-новгородец» шла на посадку, норовя при этом все-таки не раздавить припорошенные грязным снегом крыши Дебри. Кто-то в ней верещал, кто-то плакал, кто-то ржал жеребцом, но происходило это скорее от передоза кокаина, героина, мескалина, пятновыводителя, полироля и прочих вещей, необходимых давно подсевшим на любимое снадобье наркоманам. Большинству из подсевших мерещилось, кстати, что с неба грядет сосуд, уж как его там ни называй, пловницей ли, автоклавом или атомным котлом, но полон этот сосуд именно вожделенными наркотиками. Или чем-нибудь еще более прекрасным, таким, что только под большим кайфом, или — кто как выражается — под полной балдой — только и может примерещиться.
Сесть ни на что «Солодка» так и не смог, пришлось ему зависнуть над мигом выгоревшей полянкой; посадочный пандус отнюдь не бесшумно упал в слишком размерзшую грязь. Так провисеть «Солодка» мог около часа, после чего горючего на обратную дорогу ему не хватило бы, ну, да безымянный штурман в майорском чине, от лица лично государя заведовавший экономией стратегического топлива, вполне имел право и не взлетать отсюда никуда, благо космодром Плесецк располагался в двух шагах; именно такое место грядущей дислокации села Дебрь безоговорочно предсказал граф Гораций уже достаточно давно. Конечно, Дебрь от Плесецка была отделена пресловутым болотом Плесецкая Хрень, но не переть же против предсказания: как предвещано, так тому и быть.
Вниз по пандусу, с молодецким гиканьем и свистом, со звоном цыганских семиструнных гитар, с песнями, в которых только и можно было разобрать, что старинное, еще у Соловья-разбойника прямо с девяти дубов перенятое припевание «Ай-нэ-нэ-нэ», стали съезжать «оппели», «феррари» и «испано-сюизы» журавлевской Орды. Молодые черноглазые журавлевцы, покачивая в воздухе снятыми с предохранителей «толстопятовыми», постепенно разворачивались в боевое построение мусульманским полумесяцем, норовя охватить его рогами всю Дебрь. Другие журавлевцы, вооруженные заранее приготовленными трехаршинными ослопами, спрыгивали с капотов машин и разбегались по селу, норовя огреть вдоль позвоночника любого, кто посмел бы дать отсюда дёру, — таковых, к счастью, пока не обнаруживалось — все воинство «Истинного» блаженно пребывало в отпаде, и ничего о высадке враждебного десанта пока не знало. Журавлецы вваливались в избы и под боевой крик «Кавель к Кавелю спешил — Кавель Кавеля решил!» применяли к черепушкам накокаиненных кокаинщиков и накофеиненых кофеинщиков либо краткую прикладотерапию (если под рукой был «толстопятов»), либо «ослопотерапию», либо, если уж ничего подходящего не было под рукой, журавлевцы просто норовили врезать «истинным» по затылку либо кулаком, либо локтем — чтобы даже мысль о возможном сопротивлении не могла закрасться в вышеозначенный затылок.
«Ай-нэ-нэ-нэ!» — не пропел, а благожелательно проговорил Хосе Дворецкий, выезжая вместе с Кавелем Модестовичем на площадку посреди села. Следом, прикрывая тылы, ехал вездеход Богдана. Совершенно по-обезьяньи выбросился из недр «Солодки» Тимофей и исчез посреди деревянных строений — там, где скрывался воющий от боли в отравленной руке «истинный» Кавель Адамович Глинский.
Еще не успели в боевом порядке, припадая на одно согнутое колено, спуститься из недр самолета бывшие неопалимовские полицейские, а Тимофей уже вернулся с добычей. На вытянутых вверх длинных руках он нес почти не отбивающегося, всего лишь воющего нечеловеческим воем Кавеля Адамовича Глинского по кличке «Истинный», а ногами попеременно отбрыкивался от бесформенного горбуна, если на что и похожего, то на Жана Марэ в роли горбуна из хорошо забытого кинофильма «Горбун». Самозваный Жан Марэ с регулярным промежутком в десять-пятнадцать секунд получал по мозгам от Тимофея, но продолжал гнаться за киллером, не оставляя надежды уж хоть какой-нибудь афронт нарушителю дебрьского спокойствия да учинить.
По шепотом отданному приказу Кавеля Журавлева из задней двери его кибитки шестеро дюжих молодцев, звеня серьгами в левых ушах, вынесли почти не подающего признаков жизни Антибку. По приказу Богдана, отданному громко и грубо, в это же самое время на запястьях бывшего следователя Федеральной Службы Кавеля Адамовича Глинского защелкнулись наручники. Богдан, конечно, не верил ни в Бога, ни в черта, ни в бабий чох, ни в шелушеный горох, но уж эту-то меру он предусмотрел: Кавеля Адамовича Глинского, известного как «Истинный», убить было, понятно, и можно и нужно, но делать это должен был кто угодно — только никак не другой Кавель Адамович Глинский. Мироздание, в котором можно любить жену, варить чертей, выпивать по выходным, вести долгие, пусть не особо умные беседы с друзьями, делать подарки теще к помолвке и царю ко дню тезоименитства, такое мироздание вполне устраивало Богдана Арнольдовича Тертычного, более известного под профессиональной кличкой «Чертовар». Никакое Начало Света ему не требовалось. Свет устраивал его таким, каков уж ни на есть.
Покуда «истинного» вязали железными цепями, закаленными на углях из сырой осины, и готовили к натыканию на единственный рог Антибки, покуда самого Антибку готовили к освобождению от верхней пары накопытных кандалов, покуда лихие журавлевцы рассыпались по избам Дебри, собирая дань, уж где какая найдется — золотыми ли империалами, женским ли натуральным естеством или уж чем где случалось — Богдан опустил на глаза ночные очки и пошел немного побродить по зловонной деревне. «ТОО «Дебрь» — прочел он на единственной полуоторванной вывеске над входом в бывшее, надо думать, местное сельпо. «Таинственно Ограниченная Ответственность»? — на свой лад перевел Богдан. Из провала «ТОО», отбиваясь, вывалились майоры-электронщики, сразу признавшие в Богдане начальство.
— Отставить, — скомандовал Богдан лихим черноглазым хлопцам, звон серег в ушах у которых майорам ничего хорошего не сулил. Хлопцы огорченно застегнули штаны и отправились в глубины «ТОО» искать другую добычу, понятно, уж совсем все равно, какого полу, а майоры остались перед Богданам в качестве боевых трофеев. Парни они были видные, чего именно в пылу битвы хотели от них журавлевцы — Богдан и гадать не хотел. — А ну марш в маркитантскую, спросите Матрону Дегтябристовну, на Богдана сошлетесь, она вам новые форменки подберет. От имени… руководства… объявляю вам, господа майоры, благодарность… и брысь отсюда немедленно в самолет, пока выговор не добавил!
Майоры испарились, и на протяжении многих сотен страниц никто о них больше не вспоминал.
От кибитки Навигатора послышался шум: там, кажется, требовался Богдан. «Ничего-то без меня никто сделать не может!.. Кстати, не забыть бы: подонка этого, как хоронить потребуется, из избы только головой вперед выносить положено. Потому как колдун. А он колдун?.. А, ладно — как объявлю — так и будет. Раз мешал работать — стало быть, самый гнусный колдун он и есть. Опять мне за всех решать…» — грустно подумал чертовар и побрел к пандусу: там готовилась казнь.
Полоумный от человеческого сглаза черт Антибка сидел на схваченных китайской кангой задних ногах и крутил единственным рогом, Кавель Адамович Глинский по прозвищу «Истинный» был уже подвешен к стреле передвижного крана и подготовлен к насаживанию на этот рог, Кавель Модестович Журавлев, весь в холодном поту, лежал на руках у верного Хосе Дворецкого, Тимофей Лабуда, вонзив примкнутый к «толстопятову» штык в грудь давно уже и не дергающегося горбуна Логгина Ивановича, отнюдь не тихо матерился, а с вершины пандуса юная девочка в летном костюме, не решаясь спуститься вниз, изредка восклицала «За Родину! За Кавеля!» Этот последний возглас распалял десантировавшуюся на Дебрь толпу заметно сильней любой иной пропаганды. Бывшего следователя Федеральной Службы Кавеля Адамовича Глинского, связанного и закованного по рукам и ногам, держали в кабине вездехода, — хотя он-то как раз никаких лишних движений не делал, разве что хотел одним глазком, чисто профессионально глянуть на казнь своего неудачливого омонима, — но ему заранее не было позволено даже это. Как ни странно, полностью отсутствовали боевые соратники «Истинного»; что уж с ними сделали сперва исполнительные майоры-электронщики, а потом разъяренные журавлевцы — Богдан даже представлять не хотел. Тяжело пахло табаком из глиняной трубки Журавлева, который и смотреть-то на происходящее не хотел, слишком хорошо он знал все пророчества, слишком точно они сбывались.
Откуда-то из деревни, совсем ни к селу ни к городу, донеслось под семиструнную гитару: «Цыгане любят песни! А песни не простые!.. Грузинского разлива!.. Ой, мама, мама, мама!..»
— Бросай, — тяжелым голосом подал он команду сидевшему за пультом крана Давыдке.
— Так его! — в один голос рявкнули прокуренными голосами Матрона Дегтябристовна и Вячеслава Михайловна.
Давыдка сделал, что велели. И тройной вой огласил гнилой хвойный лес вокруг Дебри.
Выл, испуская последний дух, Кавель Адамович Глинский, по прозвищу «Истинный»: он испускал дух, будучи насквозь пронизан рогом однорогого черта Антибки.
Выл сам Антибка: похоже, проклятие «касьянова глаза», наведенное на него ненарочным кашинским колдуном Фомой Арестовичем Баньшиным, как-то начало рассасываться. Кончавшийся год был високосным, поэтому и сглаз действовал сильней обычного, однако всему бывает конец, даже и сглазу.
Выл, вовсе уж неизвестно почему, сам Фома Арестович, отбивая поклоны о пандус, грохоча лбом в железную поверхность. Такой странный колокол звонил нынче по Кавелю.
К этим трем воям примешивался четвертый, удаляющийся, на который как-то никто в тот миг не обратил внимания: это выла убегающая по гнилой тайге Клара, жена — с одной стороны — Кавеля Адамовича Глинского, и с другой стороны тоже — Кавеля Адамовича Глинского. Но про нее в тот раз как-то забыли, а вспомнили лишь через многие главы, в романе того же автора «Дикая Охота». Но это, ядрить ее Кавель в молясину, ну совсем, совсем, совсем другая история.
— «Вышел Кавель раз против Кавеля, / И решился его порешить»… — тихо пропел в подземном склепе купцов Подыминогиновых, что на погосте заштатного городка Кадуйский Погост близ Онежского Озера, майор-могильщик Иван Иванович, разливая водку из штофа. Майор-сторож Аверкий Моисеевич, однако, кружку принять не торопился, он сидел на земле возле газетки с уже насыпаной на нее ряпушкой и держал правый палец высоко поднятым близ уха. Майор-сторож очень внимательно к чему-то прислушивался.
— Слышь, Иван Иваныч, вроде где-то колокол звонит? И церкви вроде поблизости нет, а он звонит себе… Иван Иваныч, как по твоему разумению, он по кому звонит, этот колокол?
— Я так думаю, Мосеич, что он по Кавелю звонит, этот колокол.
Майоры чокаться не стали, а просто и по-русски выпили.
24
…есть в одном месте, на земле, некоторый безыменный народ, живущий при большом болоте, который с другим, весьма известным народом, живущим в болоте, составляет одно целое. <…> Этот приболотный народ <…> жил некоторое время довольно дружно с упомянутым народом болотным, но я рассорил их между собою и из приболотного народа сделал особое царство.
Осип Сенковский. Большой выход у Сатаны— Болота… — мрачно пробормотал Богдан, — слушай, Антибка, что ты думаешь о болотах?
— Я боюсь болот, мастер, — охотно ответил на глазах выздоравливающий Антибка, пресвитер церкви Бога Чертовара, — На болотах, мастер, к сожалению… люди водятся.
«Солодка-новгородец» стремительно шел на вынужденную посадку. К сожалению, местом приземления компьютеры предполагали некий квадрат посреди болота Большой Оршинский Мох; увы, весь этот квадрат приходился на болото, и ни на что больше. Цыганское ликование, с которым журавлевская орда выгрузилась на архангельские Хрени, обошлась перелетному богатырю в лишние шесть часов зависания над местом посадки, двигатели все время работали, и горючее пропало впустую. До Кашина самолет еще дотянул, а дальше стал стремительно терять высоту. Чертовар и вылеченный от сглаза Антибка, с рога которого на всякий случай так и не был снят уже начинающий протухать Кавель Адамович Глинский по прозвищу «Истинный», деловито обсуждали перспективы грядущей посадки самолета всей богатырской задницей прямиком в бескрайнюю лужу, где черти давно истреблены… м-м… арясинскими мастерами чертоварения. Однако же какие-то километры «Солодка» собирался еще протянуть. Но самолет был обречен, и это понимали все — даже отомстившая за убитого отца девочка-пилот Юлиана Кавелевна. Немногочисленные спутники Богдана столпились на пандусе у вездехода. Кавель Адамович Глинский, бывший следователь Федеральной службы, был частично раскован и помещен на заднее сидение вездехода.
От двадцати двух верст высоты, на которых начал «Солодка-новгородец» свое менее чем триумфальное возвращение в необширные арясинские просторы, сейчас оставалось менее половины, и нужно было благодарить конструктора Пасхалия Хмельницкого за то, что его самолеты от простого падания сверху вниз подстраховывало секретное устройство, позволявшее в нужный момент использовать нечто вроде планерной тяги — принцип, основанный на пока еще никому не известном законе природе, за открытие коего — предиктор граф Гораций Аракелян готов был зуб дать, если кто не верит, — Хмельницкому светила Нобелевская премия по физике лет этак через двадцать пять, когда «закон Хмельницкого» придется рассекретить, ибо его уже и в других государствах понемногу тогда начнут и открывать, и применять. Впрочем, на дальние прогнозы, связанные с появлением Антинобелевской премии, всемирной модой на трехмерный преферанс, маленькими зелеными человечками, прущими из корзин с грязными тарелками и прочим тому подобным, предиктор старался не размениваться. У него и без того было испорчено настроение: ван Леннеп, окопавшись в своем Орегоне и чувствуя себя в полной безопасности, взял да и сообщил всему миру, когда именно и на ком он, граф Гораций Аракелян, однажды сдуру женится. Горацию эта Настасья сто лет как не нужна была, и он теперь ломал голову — что бы такое смачное предсказать ван Леннепу. Имелись определенные идеи, конечно, но все же не дело это для предикторов — закладывать друг друга простым смертным. С другой стороны — иди знай, какая у этой Настасьи девичья фамилия. На Руси Настасьей могут кого угодно звать, это и без голландских предикторов хорошо известно.
Из недр «Солодки» послышалось мерное топанье. Кондратий Харонович Эм шел по металлу пандуса вместе с дюжиной своих трехгорбых верблюдов. Чертовар оценил глубину мысли селекционера: в зимнем болоте туша «Солодки» неизбежно увязнет, хотя едва ли так уж сразу затонет, а вот царские верблюды могут очень пригодиться. Широченные, опушенные белым мехом копыта были способны скользить разве что не по простой воде. Как ладно ходят они по болоту — Богдан видел своими глазами.
— Бинго! — заорал Антибка в полном восторге. Богдан решил, что тот снова повредился в уме. Он такого слова не знал.
— Что такое «бинго»? — с подозрением спросил чертовар. Антибка очень смутился. Голос подал Кавель Глинский, у которого все-таки было высшее юридическое образование.
— Ну, Богдаша… Это значит, что Антибке нашему верблюды очень нравятся. Трехгорбые.
— А-а… — согласился чертовар, — мне тоже нравятся. Если мы с ними не упадем, а сядем, то, конечно, есть шанс… Прямиком по болоту… Есть шанс, в общем.
А «Солодка», выписывая печальные круги, продолжал идти на сближение с великим болотом Большой Оршинский Мох.
От Кашина было уже далеко, до Арясина — еще далеко. Если б Золотой Журавль, он же Красный, действительно имел силу сорваться с городского герба древней столицы князя Изяслава Малоимущего да и взмыть в небо над Арясинщиной, притом очень высоко взмыть, то взгляд его, глядишь, нашарил бы в северо-восточном далеке медленно планирующий к поверхности еще не особо промерзшего болота транспортный самолет «Хме-2», чудище военного самолетостроения, в бою вообще-то непригодное, зато способное перевозить столько вооруженных до зубов десантников, сколько в ином государстве и населения-то не наберется. Герб Кашина был куда менее древним, всего-то и нашел при Екатерине Второй тогдашний блазонер для нижней части оного герба, что «три ступки белил, каковыми заводами сей город весьма славится». Оно и понятно — если б хотел оный блазонер прославить Кашин как столицу русских фальсификаций, каковою тот по справедливости и числится в истории — что, интересно, пришлось бы изображать в гербе? Пресс для фальшивых денег? Или ступки белил — это и есть намек на фальшивость кашинской души?.. Но, покуда государь не изволил даровать нового герба, городу полагается обходиться старым, и славен перед всею Россиею Весьегонск, скажем — черными раками, Осташков — рыбами серебряными, плывущими направо в количестве трех штук, Торжок — серебряными и золотыми голубями в красных ошейниках, Тверь, наш несостоявшийся Третий Рим — золотой короной на зеленой подушке, ну, а Арясин — Золотым журавлем все ж таки, птицей благородной, глазу приятной, душу любителей советского кино и русского городского романса очень сильно щиплющей.
И одно лишь плохо — не было сил у Золотого журавля сорваться с Арясинского герба. Да и чем он мог бы помочь падающему в болото транспортному самолету? Разве что курлыкнуть на прощание?.. Увы, арясинский журавль не мог даже этого. Нынче утром благочестивым арясинцам вообще было не до герба. Нынче праздновали они свой местный праздник, для постороннего глаза отнюдь не предназначенный — «Зеленые Фердинанды». И что с того, что праздник этот не древний, а новый? Время течет быстро, и что нынче новое, то скоро, очень скоро станет древним, а там, глядишь, заявится какой-нибудь академик Савва Морозов и объявит, что не было этой древности никогда, да и никакой другой тоже не было. Только еще игуменья Агапития в старинные годы предрекла, что не пустит арясинский Полупостроенный мост в город никакого Савву: нет его, Саввы, никогда не было и не будет. В отличие от праздника «Зеленых Фердинандов», который ныне с Божией помощью есть, и теплы от него сердца жителей Арясинщины.
По традиции, корни которой грядущие историки будут разыскивать в седой древности, праздник «Зеленые Фердинанды» начинается на Арясинщине задолго до рассвета в ночь накануне последнего ноябрьского понедельника, а готовятся к этому празднику хозяйки еще того ранее: нужно загодя укупить дешевых сортов икры, лучше паюсной, но в крайнем случае сгодится и щучья; испечь из нее подовые икряники, сварить к этому делу в красном, паточном баварском квасе гусиные яйца, запастись кнышами с топленым салом, прихватить толику зеленого вина, лучше всего царёва орленого пенника штоф, либо полштофа, по способностям и по потребностям, и прежде, нежели взойдет на небо зеленая утренняя звезда по имени Фердинанд, уже сидеть на берегу речки Тощая Ряшка, ногами при этом непременно к воде, а теменем предположительно к звезде. Далее полагается, когда о восшествии на небо звезды Фердинанд оповестят особые черные петухи, сразу выпить стопку пенника, закусить икряником, облупить гусиное яйцо, шелуху бросить в реку, и тут же вторую стопку под оное яйцо в себя отправить, сказав при этом заветные слова: «Фердинанд, а Фердинанд! Зачем ты только в это Сараево ездил, а не пошло бы оно на хрен вообще-то, а, Фердинанд?..» Так потребно сидеть на берегу Тощей Ряшки, повторять все, о чем выше рассказано, вплоть до полного истребления припасов и до полного просветления мозгов и небосклона.
Именно в таком порядке нынче праздновала Арясинщина загадочный для будущих фольклористов праздник «Зеленые Фердинанды», поминая героически погибшего водяного. И никому на берегу Тощей Ряшки не было дела, что в полусотне верст к северо-востоку, в глубинах непроходимого болота Большой Оршинский Мох, гибнет транспортный самолет-герой «Солодка-новгородец». Но дело до этой трагедии было самому умостившемуся на краю небес Зеленому Фердинанду, и он, как вспомогательный знак зодиака, ну никак не мог позволить этой трагической случайности превратиться в дурной конец для нашего романа.
Самолет тяжело состриг вершины обезлиствевших ив и осин, а потом печально лег на брюхо во вспенившуюся болотную жижу; затонуть ему тут было непросто: хотя и возвышался он на высоту шести — или семиэтажного дома, но крылья были у него, чай, не этажеркины, да и площадь фюзеляжа была скорей сравнима с хорошим футбольным полем: такие махины даже в тверских болотах тонут с трудом. Лег самолет с упором на левое крыло, в результате все его внутренние палубы перекосило градусов на тридцать, и если б не осмотрительно запущенные присоски, которыми был снабжен вездеход Богдана — иначе машина разнесла бы своим весом все внутренние переборки «Солодки», да еще и снаряды могли сдетонировать — пришлось бы тогда сочинять историю о втором прилете тунгусского метеорита. Но — пронесло. Люди повалились друг на друга; в кучу-малу попал и черт Антибка вместе со все более воняющим Кавелем Адамовичем Глинским «Истинным», чье тело во избежание разных путаниц и самозванств с рога у черта снято так и не было. Одни трехгорбые верблюды проявили полное спокойствие и остались стоять на косой поверхности столь же равнодушно, как и на ровной.
Из груды ругающихся тел выскользнула сперва невесть как возникшая тут Васса Платоновна в обнимку с неизменной тыквой, следом, мотая головой во все стороны, выполз ненарочный кашинский колдун Фома Арестович, а потом из глубин кучи раздался истинно богатырский кряк: это Варфоломею надоело лежать под живыми и мертвыми телами, и он решил встать. Куча распалась на части, Варфоломей действительно встал, и быстро вытащил наружу сперва брата, а потом и академика. Федор Кузьмич, занявший на время экспедиции по замирению Дебри позицию наблюдателя, кажется, не нуждался в помощи вовсе. Следом над поверженными воздвигся во весь свой небольшой росточек чертовар, да и остальные понемногу как-то встали на ноги. Ну, или на четвереньки, уж кто на что сумел.
— Вот и «бинго»… — пробормотал Богдан, — Однако ж сели, да еще и живы, кажется. Дальше дело техники. Самолет, однако, жалко — такая леталка могучая. Как-нибудь ее отсюда поднять надо будет. Может, чертовой жилой обвязать, да и поднять?
— Уй-ю-ю-юй!.. — взвыл Антибка, услышав про чертову жилу. Пресвитер церкви Бога Чертовара понимал, что без этого промысла чертоварное дело невозможно, как и чертоваропоклонничество, но и про собственную жилу тоже помнил. Отдавать ее во имя спасения летающей крепости он все-таки не хотел.
— Да уймись ты! — бросил Богдан, — у меня без твоей жилы в буртах полверсты лежит непроданной… Так что есть на что подвесить. Было бы — к чему… Кондратий Хароныч! Кондратий Хароныч! Давай своим трехгорбым команду — выбираться будем.
Какую команду дал селекционер своим питомцам, да и вообще дал ли какую-нибудь — осталось неизвестным, но трехгорбый белоснежный красавец сверкнул в тусклом свете аварийного освещения шелковым мехом, опускаясь перед Богданом на колени. Богдан оглянулся. На верблюде было еще одно место, какого-то спутника он мог взять с собой. Оставив без внимания собачий взгляд Давыдки, чертовар приказал:
— Каша… взбирайся. Арматуру с тебя уже снимать можно, один Кавель теперь под Холмогорами кочует, другой, видишь, при нас: как протухнет, так мы и его утилизируем. Так что ты у нас теперь безопасный. Залезай, Каша, залезай. Поедем домой. Поедем в Россию.
— Богдан Арнольдович, — подал голос академик, взбираясь на другого верблюда на пару с Федором Кузьмичом, — а ведь сегодня, судя по моим записям, для Арясинского края — день-то не простой. Сегодня празднуют в народе «Зеленые Фердинанды».
Богдан разбирался с упряжью верблюда — где там загубник, где мартингал, — и поэтому слушал плохо. Однако Гаспар Шерош был не тем человеком, которому он, мастер-чертовар, мог бы не ответить.
— А, последний понедельник ноября… Как же, знаю. Вообще-то у нас теперь Фердинанда в любой день кто хочешь празднует, оно и разрешено, если соблюдены все надлежащие церемонии, но… да, сегодня и есть Зеленые Фердинанды, точно. А что?
Академик уже устроился в седле и зачитал по тексту собственной записи в книжке, вынутой из-за голенища сапога:
— «А еще в день Зеленые Фердинанды отверзаются тропы болотные, и единый раз в году просыхает дорога на приболотный гуляй-город именем Россия, что стоит сокровенно при неверной реке Псевде, через Большой Оршинский Мох протекающей. Есть при Яковль-монастыре поверье, из уст в уста инокинями передаваемое, что прорекла блаженной памяти игумения Агапития: «Не будет земле Арясинской покоя, доколе Россия не отыщется», в смысле — город Россия, тот, что на болоте стоит. Богдан Арнольдович, мы ведь через болото идти сейчас будем, непременно ту речку неверную, Псевду, переходить придется, так может быть, нам и таинственный этот город хоть издали себя покажет, вы как думаете?
Чертовар окончательно расстегнул и выбросил сложные самостягивающиеся кандалы, которыми от греха подальше всю эту ночь был скован Кавель: правая рука с его же правой ногой, левая рука — с локтем опять же правой руки, ну, и несколько перекрестных, вспомогательных. Кавель с ненавистью проводил взглядом цепи, отброшенные рукой Богдана в металлическую даль коридора. Там они должны были бы упасть и зазвенеть, однако вместо этого послышался глухой удар, а следом за ним — дикий, заковыристый, матросский мат, притом выкликаемый звонким детским голосом. Юная Юлиана Кавелевна полагала, что и ей на борту постепенно погружающегося в трясину самолета тоже не место. Вместе с безымянным штурманом, не переставая материться по поводу всяких тут летающих, ёптнть, мерзостей, она прибрала к рукам крайнего в колонне верблюда, прыгнув в седло так, будто от самого рождения только и делала, что шла в атаку, в разведку и в болотные дали верхом на любимом трехгорбом, других ездовых животных, ёптнть, никогда не признавала.
— Может быть, Гаспар Пактониевич, может быть… Разное рассказывают про эту самую Россию. Кто говорит — есть она, и всегда была, а что на болоте стоит — так если располагается тут болото, где ж ей стоять еще? А другие говорят — нет ее вовсе, так, сновидение одно, умствование пустое, нет никакой России, одна речка с гнилой водой вихляется да черные берега в мерзлой таволге, вот и вся Россия, совершенная мнимость, чувствам недоступная. Одного врать не буду: чертей из нее не вынимал. Никогда! То ли крепко сидят, то ли откочевали оттуда давным-давно… Кстати! Вспомнил! Фома Арестович!
Ненарочный колдун послушно подъехал на своем верблюде. Сидел он за спиной Антибки, так что несчастное животное, собственно говоря, несло много лишнего груза: и пресвитер был тяжеловат, и на роге его продолжал висеть всё более воняющий «Истинный».
— Фома Арестович! Вспомнил я, мысль у меня ускользала, а теперь — поймал! Давай я к тебе раз в неделю Савелия присылать буду, ты его сглазишь — и порядок, он ко мне с плесенью прямиком по тропке вдоль Сози прибежит, а тебе и спокойно. Я товар из него выну — и обратно отошлю к тебе. Всё парень при деле будет, а то ведь окончательно дурью замаялся!..
«Солодка-новгородец» между тем довольно быстро тонул, над Большим Оршинским Мохом вставало неяркое зимнее солнце, но Зеленый Фердинанд, хоть и не был зрим сейчас невооруженному глазу, зорко следил с небес, чтобы болото поступало согласно издавна заповеданной примете, то есть расступалось, освобождая каравану белых трехгорбых верблюдов путь к таинственной и сокровенной России, притулившейся к берегу неверной речки Псевды — ниоткуда не вытекающей, никуда не впадающей.
Верблюдов набралось тринадцать, путешественников же — двадцать семь, поэтому один пассажир оказывался лишним, и был это, как и следовало ожидать, Давыдка — светлая душа, легкий человек, не обижавшийся на прочно прилипшую кличку «Козел Допущенный»; он бежал рядом с верблюдами по ледяной корочке болота, которая гнулась под ним, но не проламывалась. Ему, конечно, не полагалось места в седле, но он счастлив был и тем, что может бежать рядом с ногой мастера Богдана — да хоть все сорок верст, да хоть и все — водой да лесом. А настроение у Богдана было ниже среднего: нестерпимо было жаль брошенный в затонувшем самолете вездеход, да и тревожно за не снятые с него боеголовки. Чай, плутоний: из него чайники не делают. Ох, и нагорит теперь от… высшего начальства, давал ведь обещание с собой тактического ядерного не таскать. Но почему-то верил Богдан, что государь его простит, что и самолет будет поднят, и вездеход возвратится в подземный гараж на Ржавце — что все теперь будет хорошо по тому одному только, что удалось отложить проклятое Начало Света на неопределенный срок.
Жаль, конечно, было и тех, кто не поместился на верблюдах, кто остался при самолете, с кем не захотел сидеть заодно верный Давыдка. И негра Леопольда, и таксиста Валерика, еще душ сто тридцать пришлось оставить. Впрочем, этим бедолагам Богдан сунул спутниковый мобильник и велел сидеть на хвостовой части «Солодки» — она все-таки осталась торчать из болота, не так тут оказалось глубоко, чтобы весь транспортный самолет засосать. С помощью запасных приборчиков, спрятанных глубоко в рукава замшевой дохи, Богдан опознал позывные 35-й Вологодской мотострелковой дивизии имени Св. князя Михаила Ярославича Тверского, шедшей от далекого Богозаводска на выручку упавшему самолету. Дней через пять, глядишь, будут на месте. Сидеть столько времени на хвосте упавшего самолета уважающий себя человек никогда не станет. Вот и не стал этого делать Богдан: спасаться надо с помощью заранее подготовленных средств. Таковыми были белые трехгорбые верблюды. «Только б не захромал какой, вот уж за это шкуру снимут… как с битого вешняка. Спасай ее тогда, свою же шкуру, сиротину шелажную…»
Ехали молча. Лишь пассажирки высокого, молодого верблюда, шедшего предпоследним, переговаривались непрерывно, срываясь в надрывный бабий плач: Вячеслава Михайловна оплакивала потерю своей верной маркитантской тачки, «без которой ей в Святоникитск и носу показать нельзя», а Матрона Дегтябристовна, чей фургон остался хоть и не в болоте, да почти без присмотра в Карпогорско-Холмогорских дебрях, сколько находила в себе сил, верную подругу лагерных лет утешала. Сердце ее и так разрывалось между долгом журавлевской маркитантки при орде, и долгом доставить зятя к дочке на Ржавец, а тут еще вот такая беда у Вячеславы Михайловны!.. Перелетная маркитантка была совершенно безутешна.
Бледноватый день разгорался по мере сил, караван белых трехгорбых верблюдов двигался через Большой Оршинский Мох в родные края, а журавль Арясинского герба уже почти был готов все-таки сорваться со своего места, рвануть в небеса, да и закурлыкать совсем жалобно: «Беда!.. Арясинщина в опасности!..» Но журавль оставался нем и бескурлычен. Вообще-то он и не такое видал, но все-таки, все-таки… творилось в городе неладное.
Как и полагалось всякой молясинной лавке, день Зеленых Фердинандов и в лавке Столбняковых начался с распространения диких сплетен, причем не каких-нибудь, а заранее утвержденных в комитете Сплетенных Сетей. Первому же покупателю, местному приказчику ювелира Карасевича, пришедшему сменять душеломовскую на кровные империалы, объявили, что закон новый грозится ввестись на Руси: чтоб за душеломовскую не деньги отдавать, а самое душу. Бедный приказчик так и рухнул у прилавка, насилу его настоем овражного нашатырника привести в себя удалось. Потом прилетел в своем поганом ведре — задворками, задворками — недодемон Пурпуриу: требовалась ему для неведомых целей макинтошевская молясина, дорогая, сволочь — где только денег на обмен набрал? Ему Ариадна возвестила, что запрет на Руси вводится на все макинтошевское, будут все переведены в рединготы на голое тело. Тут и вовсе конфуз случился: недодемон от ужаса рассыпался мелким прахом, и ни привести его в себя, ни из себя вывести оказалось невозможно самыми сильными средствами: он просто исчез, и хоть плачь теперь, хоть смейся, хоть к Флориде Накойской ступай заказывать молебен за… за что? За вечную память недодемону Пурпуриу с прибалтийской фамилией, художнику по профессии, не русскому, не православному и не человеку?.. Ариадна прокляла все на свете рединготы, подмела с пола мелкий прах и в особом помойном ведре в нужник его отнесла. Хорошо б, если б на том все кончилось — но сегодня были Зеленые Фердинанды, и всякий норовил порадеть о душе, а как о ней порадеешь без молясины?..
И тут нелегкая принесла гостя совсем другого пошиба, птицу, можно сказать, конкретно иного полета: в молясинную лавку Ариадны пожаловал лично господин процентщик Захар Фонранович, вероисповеданием православный, хоть из лютеран, негласно представлявший в Арясине монгольские интересы господина Доржа Гомбожава. Требовалась господину Фонрановичу намертво запрещенная к обмену и радению «полоумовская» молясина, на которой Кавели лупили друг друга желтыми кирпичами по таким местам, что срам о них и помышлять, об местах этих.
Привычно исполняя повеление Сплетенной Сети, пообещала Ариадна такую молясину для такого клиента, конечно, поискать, но вот знает ли господин Фонранович, что вводится на Руси с первого декабря новый закон: всех, кого зовут Захарами, собрать в одно поселение на Камчатке, да там и приковать на время извержения вулкана Ключевская Сопка в точности на пути движения лавового потока?.. Сведения сверхточные, из надежных рук услышанные, если надо, то могу…
Что именно в подтверждение своих слов могла произнести Ариадна — так и осталось неизвестным, ибо рухнул миллионщик как подкошенный, да и отдал душу за короткие секунды; кому отдал — то нам неизвестно, а вот сама Ариадна вдруг увидела, как из дальнего угла ее личной лавки, прямо из стены, выступил немолодой казак с шашкой наголо, сильно небритый и очень злой; откуда-то знала она, что заявился к ней лично по молясинным, а то и по каким иным делам знаменитый казак Кондратий Булавин, почти три столетия тому назад очень огорчивший государя Петра Алексеевича своею, скажем совсем мягко, внезапностью. Казак достал из-за пояса короткую витую плеть с чем-то тяжелым, вплетенным в конец ремешка, и замахнулся на Ариадну, ни слова не говоря, что-то, видать, имел он в виду — но того Ариадна уже никогда не узнала, ибо все-таки куда проворней была она, чем казак Кондратий, да и господин Фонранович теперь мог подождать, благо перешел в то состояние, когда уже даже не спеша поспешать ни к чему.
Ариадна вылетела из «Товаров», собственной молясинной лавки, где шла ближе к вечеру еще и торговля косушками и мерзавчиками различных благородных напитков, помянула недобрым словом Флориду Накойскую и всю безблагодатность ее, из-за которой топиться в Накое запрещено обычаями, будь ты хоть князь, хоть Идолище, и понеслась вдоль Арясина Буяна по правой стороне Тучной Ряшки к Волге: там все было можно, там протекала мать русских рек и никакие суеверные запреты действия не имели. С недоумением смотрели на Ариадну горожане, а с особенным ужасом созерцали ее через окно новой просторной мастерской знаменитые арясинские вывесочники, Дементий и Флорида Орлушины, в полной мере воздавшие сегодня дань обряду праздника Зеленые Фердинанды и потому к столь быстрому движению, чтоб, к примеру, Ариадну догнать и от непоправимого поступка удержать, не способные. Но мчаться до Волги предстояло все-таки целых шесть верст, и кабы не дух покойного Фонрановича да не призрак казака Кондратия, Ариадна, глядишь, до Волги не добежала бы, остыла да и вернулась к ежедневной работе. В конце концов, она-то слухи под литье антарктических колоколов не по собственной инициативе распускала, на то была инструкция свыше. Но сегодня Ариадна видела свое жизненное предназначение в одном: добежать до Волги, ну, и там… что-нибудь. Там видно будет, что именно.
Дул сырой ветер позднего ноября, когда Ариадна фурией пронеслась между башнями «Грозные Очи» и выбежала на довольно высокий в этом месте волжский берег правее Полупостроенного Моста. За неширокой Волгой маячили луковки церквей городка Упада, звонили к обедне в Яковль-монастыре — но слух Ариадны был затворен, а взор отказывался служить хозяйке. Лишь мысль, что стоит она сейчас на том самом месте, откуда тысячу лет назад был повержен Посвист Окаянный, все же пробилась в замутненный рассудок Ариадны — поэтому с обрыва прыгать она не стала. Сами по себе поднялись руки и закрыли ей лицо, ветер растрепал седеющую гриву волос, распрямились складки драдедамового платья — что-то странное творилось с Ариадной, и даже призрак злого казака Кондратия, гнавшийся за молясинщицей, попятился. Ариадна каменела, подобно сказочному зверю Индрику, вылезшему из-под земли на речной берег и ненароком глянувшему на солнце. Чего только не случается на праздник Зеленые Фердинанды у нас на Арясинщине!.. Будь в романе еще ну хоть сто страниц — такое можно было бы рассказать… Но нет. Повествователь традиционно достает песочницу и посыпает мелким песком исписанную страницу, ибо рассказ неумолимо близится к концу, а чернила должны просохнуть. И лишь совершив оное многоумное действие, повествователь соображает, что посыпал песком клавиатуру своего компьютера, и нужно звать искушенного мастера, который сможет компьютер починить — а в романе тем временем добавится еще несколько страниц.
Но прежде, чем проститься с арясинским побережьем Волги, надо напомнить всякому, кому случиться плыть из Твери к Астрахани, что после слияния с полноводною Шошей нужно обратить почтительный взор налево. Там на невысоком утесе стоит старинная фигура, обломок скалы, именуемый местными жителями Скалой Ариадны, ну, а те, кому закрыт доступ на Полупостроенный мост и нет пути на преславный Арясин Буян, зовут это место по неведомой причине Утесом Степана Разина. Много утесов оставил на левом берегу Волги разбойник Степан, на правом они тоже есть — но первым по течению Волги числят краеведы именно этот. Однако нам с читателем не до Степана. Нам бы книжку дописать и дочитать, да в следующий раз не путать компьютер с листом драгоценного телячьего пергамента.
Белые трехгорбые верблюды, «заки», покачиваясь, не торопясь, шли через просторы великого болота, неуклонно держа курс на оставшийся за пределами выдумки даже самых серьезных полярников Юго-Западный полюс; верблюды сами знали дорогу на Арясинщину, и Кондратий Харонович мог ничего им не подсказывать. Дорогу все переносили более или менее хорошо, лишь чёрта Антибиотика все время укачивало, он перегибался через передний горб своего «зака» и блевал; это могло быть следствием не верблюжьей болезни, — дорожного укачивания, — а результатом вони, которую волнами слал в болотный воздух Кавель Адамович Глинский «Истинный», все еще не снятый с Антибкиного рога: чертовар приказал тащить его, как на шампуре, до самой мастерской, и приказ полагалось исполнять.
Путешественники, вынужденно разбитые на пары, вяло переговаривались. Братья Иммеры молчали: им-то поход по болоту был вовсе неинтересен, ибо вдоль топкого левого берега родного Рифея такое болото тянулось в их родной Киммерии на сотни верст, там собирали клюкву и мамонтовые бивни, а вообще-то скука была смертная. Федор Кузьмич и академик тоже почти не разговаривали: первый с интересом оглядывал неведомые края, второй с невероятной скоростью заносил впечатления в путевой дневник. Академик более других ждал появления реки Псевды. Он-то наперед записал все сохранившиеся пророчества славной игуменьи Агаптии, и знал, что не будет земле Арясинской покоя, доколе пришлые люди Россию не отыщут. Ясное дело, речь шла именно о болотном гуляй-городе с таким именем: все на Арясинщине знали это пророчество, да только идти искать эту самую Россию дураков не было: все и всегда были заняты, плели кружева, варили варенье, учили старокиммерийский язык, меняли молясины, были встревожены фактом обретения в бывшей Старопионерской библиотеке целых четырех новеньких экземпляров загадочной книги «Наитие Зазвонное», — словом, всем дела хватало, а на болоте волею судьбы оказался только белый караван: не считая верблюдов и их владыки, Кондратия Хароновича, лишь подмастерье Давыдка был тут «из местных». Прочие странники, от киммерийцев до уроженцев села Знатные Свахи, что на Смоленщине — все были пришлые. Хоть и не пускает земля Арясинская к себе никого почти, да только стоит на тех, кого все-таки пустит. Этим она и по болоту пройти разрешит, и в огне сгореть не даст. Так еще игуменья Агапития предсказывала, вот жаль, что забыли все об этом.
Давыдка бежал рядом с первым верблюдом, резво, словно мальчик на картине великого художника Сурикова «Ее благородие боярыня Морозова едет в гости к академику математики той же фамилии». Именно он первый и увидел, что каравану сейчас придется сделать передышку. Льдистая корка болота обрывалась, а дальше, преграждая странникам путь, протекала неширокая, кристально-чистая река. Словно затем лишь, чтобы никакой странник не сомневался, возле реки лежал замшелый камень, похожий на аналогичный с картины великого художника Васнецова, а на нем черными буквами было ясно написано:
РѢКА ПСЕВДА
ПАМЯТНИКЪ ПРИРОДЫ
ОХРАНЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВОМЪ
На другой грани камня красовалась довольно кривая стрела, а под ней значилось:
ГОРОДЪ РОССIЯ
7 ВЕРСТЪ И ВСЕ ЛѢСОМЪ
— Приехали, — со священным ужасом произнес Кондратий Харонович и спрыгнул с верблюда.
— Ну, значит, нам вправо. Не можем же мы, в самом деле, не посмотреть на такой знаменитый город, — раздумчиво произнес Федор Кузьмич, — Я как-то думал, что это легенда… и что нет никакой России.
— Как видите — есть, — откликнулся Богдан, — Может, нам туда и не очень надо, да реку-то вот, Кондратий Хароныч, перейдут ли наши трехгорбые?
— Боюсь, Богдан Арнольдович, может, нам и впрямь лучше до города дойти. Там, глядишь, какой мост есть. Или река поуже. Словом, нам туда.
Верблюд, шедший первым, задумчиво вскинул голову и смачно плюнул в сторону «Города России» — словно дорогу указал. Караван по этой дороге и двинулся.
Пока пейзаж не менялся, только струилась по левую руку неожиданно прозрачная река, не нанесенная ни на одну карту. Кавель Адамович, приученный по месту прежней основной работы все ставить под сомнение, уже хотел высказать мысль — а не устарел ли указатель, не угулял ли за истекшие с его установки годы гуляй-город в другое место, — как город выступил из ельника, предъявив каравану все сразу: дощатые мостовые, резные наличники, расписные купола, покосившиеся заборы, мрачные лабазы, поблекшие вывески, герани на окошках и многое, многое другое, что вообще-то было видано-перевидано в других местах… но здесь было каким-то особым, чуть-чуть отличным от всего, попадавшегося прежде. Каждая застреха, каждая завалинка да и вообще все тут чуть ли не кричало: «Это и есть Россия».
— Кто бы сомневался, — тихо пробормотал сын отца-гуркха и матери-медсестры, чертовар Богдан Арнольдович Тертычный.
Караван неторопливо въехал в город. Люди тут были, хотя и немного. На лавочке у крыльца ухоженного, покрытого затейливой резьбой дома, сидел маленький человек, весь ушедший в чтение газеты. Когда верблюды проходили мимо, академик свесился со своего, прищурился и прочел название газеты:
— Женьминь… жибао. Однако!..
Сидевший на лавочке человек в ужасе скомкал газету. Был это никто иной, как старый наш знакомец Василий Васильевич Ло, глава китайской общины Арясина и духовный наставник фанзы «Гамыра», никем на Арясинщине не виданный с самого лета. Драться одному против двадцати семи, не считая верблюдов, ему было явно невыгодно, да еще и Богдан немедленно узнал в лицо заклятого врага, отравившего своими жертвоприношениями все високосное лето. Одного такого врага Богдан уже вез к себе домой нанизанным на рог пресвитера Антибиотика. Второго рога у Антибки, конечно, не было, но у чертовара вообще не оказалось времени на размышления. Бросив газету, Василий Васильевич Ло юркнул в калитку и грохнул тяжелой щеколдой. Через мгновения из резного домика понесся гром утвари: видимо, окопавшиеся тут беглые китайцы собирались бежать дальше.
Верблюдам никто не дал приказа остановиться, они прошли мимо, а Богдан склонил голову к плечу, немного подумал — и решил плюнуть. И как только он решил — был ему дан знак: первый верблюд каравана, как и возле камня-указателя, повернул голову — и плюнул. Не фигурально, а на самом деле. Притом не в сторону резного домика, а вдаль по истоптанной куриными следами земляной дороге: вероятно, это был его способ указывать путь.
Город состоял из двух-трех улиц, на перекрестье которых можно было найти что-то вроде казенных зданий, тут были, кажется, кабак, пожарная каланча, почта, полицейский участок. За низким окном в участке сидел ребенок с неестественно большой головой, с деревянной ложкой в руке; ложка медленно и тяжело отбивала по подоконнику тупой ритм. Прочие дома на улицах стояли не по-современному, отнюдь не фасадами наружу, нет: по допетровской традиции прятались они в глубине дворов, оставаясь почти невидимыми за серыми досками заборов. Неуютный это был город. Но люди в нем жили, дым струился из труб, пахло печеным хлебом и горелым мусором. С колоколенки в обители плыл тихий звон к вечерне.
На заборе возле каланчи Богдан заметил огромного черного петуха. Такие хорошо обучались астрономическому кукареканию, и чертовар подумал — «Надо бы выкупить…». Однако петух поднял голову, задрал клюв, словно собираясь попить воды, а потом громко сказал:
— Я — ворон!
После этого петух подпрыгнул и вверх лапами исчез за забором. Такой петух для дрессировки уже не годился. Его уже кто-то другой выдрессировал.
— Федор Кузьмич, — тихо сказал академик, — вам не кажется, что в этой самой России и понимать-то нечего? И вполне можно домой отправляться?
Старец огладил бакенбарды, потом провел ладонью по белому меху верблюжьего горба.
— Вполне, Гаспар Пактониевич. Ну, хотели мы с вами эту Россию повидать. Потому как бывает нечто, о чем говорят — «смотри, вот это новое»… Ну, дальше по тексту. Повидали — и хорошо.
Путники въехали на неширокий мостик, перекинутый возле пожарной каланчи через Псевду, и город сразу остался где-то далеко за спиной. Все его достопримечательности были осмотрены, и не стоило тратить времени: дома ждали тревожащиеся родственники, дома ждали дела. Мыслями чертовар был уже на работе.
Фердинанд, зеленая звезда, зорко следил за следованием белого каравана через великое болото. Караванщик Кондратий Харонович совершенно зря опасался реки Псевды: сегодня полагалось исполняться приметам, сегодня верблюды прошли бы по речной влаге словно посуху. Но и в том беды нет, что по мосту перешли. Иной раз человеку спокойней лишними чудесами себе голову не забивать.
Фердинанд глянул на запад и увидел, как по Можайскому шоссе от Москвы мчится с недозволенной скоростью машина марки «фольксваген-фаэтон», а за ее рулем, кусая губы и шепча беззвучные проклятия, расположился неудачливый кандидат в российские канцлеры Андрей Козельцев, князь Курский. Похоже, его бегству из России велено было не препятствовать. Но его судьба Фердинанда совершенно не интересовала.
Караван удалился в гущу осинового леса, елки попадаться перестали. За спиной каравана по реке Псевде с дикой резвостью пронеслось долбленое корыто, в нем сидел дикий мужик Ильин и греб ложками. Опять он опоздал. Опять его никто не окликнул, не спросил, зачем он гребет именно ложками. От обиды Ильин сплюнул в реку и исчез вовсе.
На площадь возле каланчи вышел человек в шутовском костюме, сшитом из двух половин: левая часть его была желтой, правая — красной. Лицо человека было размалевано, в руках он держал старую лютню. Человек присел на завалинку, закинул ногу на ногу, подстроил струны. Потом тихо запел древний сказ от женского лица, предназначенный только для этого дня в году:
Ну просила ж я, просила ж я вчера его:
«Фердинанд, не езди ты в Сараево…»
День кончился, город замкнулся, елки встали вокруг него непроходимой стеной. Путь в Россию открывается только раз в году, да и то идти этим путем можно не иначе, как на тринадцати трехгорбых верблюдах, из которых первый непременно должен уметь особо точно плеваться, а последний непременно обязан нести на своих горбах юную девственницу; следовать надо в сопровождении верного, непременно бегущего по земле слуги, черта с одним рогом, академика с сияющей лысиной, никого не убившего человека по имени Кавель, а также русского царя в отставке, причем только под зорким присмотром зеленой звезды, и непременно поспешая домой, к работе, которую никто и никогда не сделает вместо тебя.
Фердинанд в последний раз одобрительно глянул на пробирающийся через болото караван и на целый год удалился в глубины небес по своим небесным делам, повествовать о которых можно будет только в совершенно особый день, при особых обстоятельствах, которых заранее знать не полагается.
Настает сумрак, и повествователь прекращает дозволенные речи.
1996–2002
Москва — Киммерия — Москва
Опубликовано отдельным изданием: «Водолей Publishers», М., 2007



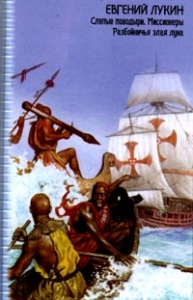




Комментарии к книге «Чертовар», Евгений Владимирович Витковский
Всего 0 комментариев