Дмитрий Дашко Гвардеец
Светлой памяти моего отца, кадрового офицера Российской армии посвящается!
Царствие Небесное тебе, папа!
Автор выражает свою благодарность всем посетителям журнала «Самиздат» Максима Мошкова, тем, кто принял самое горячее обсуждение на форуме «В вихре времен» и на «Военно-Историческом форуме» .
И особенно замечательному писателю Алексею Волкову, все знающему Василию Анисимову, многомудрому и отзывчивому Константину Козюренку!
Глава 1
Денек сегодня выдался погожим — солнышко, на небе ни облачка. Эх, сейчас бы искупаться в реке, а потом валяться на пляже, поджариваясь как курица в гриле. И ме-е-едлено-ме-е-едлено переворачиваться…
Дзи-и-инь…
Я снял трубку телефона и произнес заученную фразу:
— Отдел продаж, слушаю…
— Гусаров, ты?
— Я, Сан Саныч, — низкий баритон шефа я бы узнал из тысячи.
Правда, в обычно вежливых интонациях проскальзывало плохо завуалированное недовольство. Что-то мне это уже не нравится. И тучи откуда-то на горизонте нарисовались, закрыв сплошной завесой солнце. Ой, не к добру.
— Поднимись ко мне.
В его устах это звучало как классическое «Сидоров, с вещами на выход».
Я отклеился от стула, машинально поправил взъерошенные волосы (дурацкая привычка запускать пятерню в прическу) и пошел к дверям, ощущая на спине сочувственный взгляд Мишки Каплина, сослуживца с которым делю уже второй год помещение размером два на четыре метра, носящее гордое название «Отдел продаж».
Секретарша Ирочка набирала что-то на компьютере с такой скоростью, что любой пулемет бы от зависти перегрелся.
— Как шеф? — спросил я, склоняясь над ней.
— Как с цепи сорвался, — сообщила, не отрываясь от монитора, Ирочка. — Рвет и мечет. Сперва рвал Симонова из планового, теперь тебя будет.
— Спасибо, Ира. Умеешь поднять настроение.
— Всегда пожалуйста, — равнодушно ответила девушка.
Раньше она была не такой. Зря я ее, как говаривал Мишка — «поматросил и бросил». Хотя, с другой стороны, еще разобраться надо, кто с кем и чем занимался. И неуверен как-то, что это я с ней порвал, а не она умело подвела отношения к такому дурацкому финишу.
— Сан Саныч, вызывали?
— Вызывал, Гусаров. Проходи, садись.
Александр Александрович Воскобойников, директор и вообще, по словам уборщицы Нюши — «видный мужчина», восседал за письменным столом с видом стервятника, выбирающего, чем бы поживиться.
Я сел в кожаное кресло напротив, изобразив полную заинтересованность и готовность сорваться с места по первой же команде.
— Что это такое, знаешь? — шеф потряс перед моим носом коричневой папочкой, сквозь которую просвечивали листы бумаги.
— Знаю, Сан Саныч, — кивнул я. — Проекты договоров. Я сам составил их на прошлой неделе и принес вам на рассмотрение. К ним и записка сопроводительная прилагалась. Гарантированная прибыль от сделки — тридцать, а то и сорок процентов. Я все просчитал.
— Нет, Гусаров. Не все ты просчитал, — устало вздохнул шеф. — Ты занимался арифметикой, а тут алгебра нужна, дифференциальные уравнения, синус с косинусом и параллельные прямые, пересекающиеся в несобственной точке.
— Сан Саныч, мне бы по-русски…
— По-русски, — шеф хрустнул пальцами. — По-русски покрыть бы тебя матами в три слоя надо, но тебя ж не проймет, ты ведь у нас не слюнтяй-интеллигент, спортом занимаешься, — он окинул мою тренированную фигуру взглядом, не предвещающим ничего хорошего, и неожиданно спросил: — У тебя какой рост?
— Метр девяносто, — опешив, произнес я.
— Вот видишь. Метр девяносто, вымахал оглоблей, а ума как у дитя малого. Ты пословицу такую слышал: «не лезь поперед батьки в пекло»?
Я кивнул.
— Ну так не лезь не в свое дело, Гусаров. Это я тебе как начальник говорю, а как человек добавлю, что бабки в нашей конторе платят за то, чтобы вы, сотрудники, делали только то, что сказано. Инициатива у нас наказуема, причем не исполнением, а штрафами. Ты ведь целую ораву в лучшем ресторане кормил, поил, уговаривал. Так?
— Было дело.
— Все за свои денежки, разумеется.
— Конечно, Сан Саныч.
— Думал: заключу договорчики, комиссионные заимею.
— Как же без этого…
— А так. Не нужны нам эти договора, пускай даже с сорокапроцентной прибылью. Не будет никаких комиссионных. Я ведь предупреждал. Ты чем, кроме партизанщины занимался?
— Э… с «Инвест-сервисом» работал.
— Вот и работай с ними дальше. Закончишь, приходи, скажу, что еще делать надо. Премии лишать тебя, Гусаров, на первый раз не буду. Ты и так себя наказал счетами из ресторанов. Можешь идти.
Я развернулся и грустно поплелся к выходу, однако голос шефа развернул меня на сто восемьдесят градусов.
— Подожди, Гусаров. Это от меня, в качестве компенсации, — Сан Саныч протянул белый конвертик. — Хороший ты парень.
— Спасибо, — я взял конверт и вышел из кабинета.
М-да, не ожидал от шефа такой чуткости. Не удержался, вскрыл конвертик на выходе, с умилением посмотрел на зеленые бумажки. Триста американских рублей. Вовремя, стоит заменить. От зарплаты остались рожки да ножки, еле-еле на хлеб и бензин хватает.
Ирочка выглядела какой-то недовольной, на лице и там и сям образовались хмурые складочки и морщинки, превращая ее в молодую старушку.
— Что-то ты подозрительно легко отделался, Гоша. Быстро тебя шеф выгнал, да и крика не слышно было, — «доброжелательно» сказала она.
Я понял, как можно прищучить Ирочку и не стал терять времени впустую:
— А зачем нам с Сан Санычем кричать? Наши дела тихо делаются. Хочет меня заместителем по кадрам поставить, просил, чтобы я ему секретаршу новую подыскал. Недоволен он тобой, Ира. Распустил, говорит.
И, оставив озадаченную Ирину открывать и закрывать рот, спустился к себе.
Мишка Каплин успел к моему приходу нагреть чайник.
— Чай, кофе, потанцуем?
— Потанцуем, — грустно сказал я. — Комаринского или гопака. Тебе что больше нравится?
— Хава нагила. Чего случилось-то, Игорь? — с сочувствием спросил Мишка.
Мне всегда нравился этот длинный нескладный мужик, с умными понимающими серыми глазами, высоким лбом мудреца и крючковатым носом. Его семья в полном составе укатила в Израиль в начале девяностых, когда казалось, что бывшему Союзу пришел окончательный и безоговорочный трындец. Но Мишка остался. Из упрямства или чего-то другого — не знаю, он не любит разговаривать на эту тему. И только за это я готов его уважать всю жизнь — хотя родственнички каждый месяц заваливают Каплина письмами, в который рассказывают о том, как хорошо устроились на земле обетованной, и что не мешало бы ему воссоединиться с близкими.
— Шеф политику партии обрисовал. Пояснил, что с нашим рылом в калашном ряду делать нечего.
— И правильно сделал, — помешивая ложкой кофе в чашке, сообщил Мишка.
— Почему?
— Да потому, — с видом Нострадамуса изрек Каплин. — Ты что о нашей фирме думаешь?
— Фирма как фирма.
- «Рога и копыта», вот что такое наша фирма, — торжественно объявил Мишка. — Я подольше тебя здесь работаю и постепенно понял, что мы вроде прикрытия служим. Кто-то с нашей помощью деньги отмывает, а может и от налогов уходит. Есть способы… Думаешь, Сан Саныч тут главный? Нет, есть кто-то повыше его, и, я догадываюсь кто именно. Сказать?
— Не надо, Миша, — попросил я. — Меньше знаешь — крепче спишь. Я тоже о чем-то вроде этого подозревал. Сделка, которую шеф зарубил, была пробным шаром. Судя по реакции Сан Саныча, ты прав на все сто. Сваливать надо отсюда, пока не поздно.
— Верно, — кивнул Мишка. — Вопрос — куда.
— А вот над этим агхиважнейшим вопгосом я и буду думать, — копирую картавость и интонации Владимира Ильича, толкающего знаменитую речь на броневичке, ответил я.
Мысли, заразы, в голову не лезли. Вернее лезли, но не те, что надо. Я вернулся к компьютеру, пощелкал мышкой монстриков из игрушки, ставшей в офисе надежным средством убивания времени, когда шеф занят, а тебе глубоко фиолетово, и принялся настраиваться на нужный лад.
Для начала подумаем о чем-нибудь грустном. Первая любовь… да ну ее тудыть-растудыть в качели. Выставил себя дураком по полной программе, аж в краску бросило.
Вспомнил, как остался после службы в армии безработным и невольно содрогнулся. Нет, надо что-то делать. И сразу мозг в нужном направлении заработал.
На столе, за которым обычно пили кофе, лежала кипа газет с бесплатными объявлениями в цветных рамочках. Посмотрим ситуацию на рынке труда. Итак, несмотря на мировой кризис и прочие гадости, городу требуются слесари-монтажники, каменщики и разнорабочие. Это не для меня. Трудиться в разного рода «шараш-монтажах» за копейки… Лучше удавиться на собственном галстуке или съесть его сразу по примеру президента одной малэнкой, но очэн гордой страны.
Как насчет офисного планктона? ООО «Так-растак» ищет инженера-сметчика. Ну да, если я пойду на эту должность и начну составлять сметы, они лет двадцать потом будут долги кредиторам раздавать. Пожалеем и не обременим звонком.
«Таможня ищет…». За державу, конечно, обидно, но я прекрасно помню, чем закончил Верещагин. Ретивых служак городские «басмачи» подорвут, если не на буксире, так за рулем авто точно. И себя жалко, и «Приору» мою тоже. Только-только кредит отдал.
Не подобрав ничего путного, решил обзвонить друзей. С кого бы начать? Пожалуй, что с Лёшки. С его связями найти подходящую непыльную работенку — раз плюнуть.
Мы знакомы еще с садика, как говорится — сидели на одном горшке. После школы пути разошлись: я стал студентом иняза, а он ударился в коммерцию, да так удачно, что обзавелся и трехэтажным коттеджем, и «бомбой» последней модели, не считая кругленького счета в банке и, самое главное, кучи полезных знакомств. Когда-то Лёха звал к себе в фирму, но я знал, что пойти к нему работать — все равно что потерять друга — и отказался.
Встречались мы регулярно. Оба подсели на фехтование и коротали вечера в спортивном клубе с изъезженным названием «Три мушкетера». Разумеется, у Лёшки сразу поперла масть. Он стал мастером спорта, а я все еще ходил в кэмээсах. Не было поединка, в котором друг бы не сделал из меня такую полезную в хозяйстве вещь, как дуршлаг.
Не знаю, чем нас привлек этот вид спорта. Возможно, в детстве начитались Дюма и насмотрелись по телевизору на Боярского в роскошных мушкетерских одеждах, крутившего лихой ус одной рукой, а второй протыкавшего шпагой очередного гвардейца кардинала.
Лёхин телефон ответил не сразу. Сначала пришлось прослушать приторную как патока мелодию вместо гудков, только потом услышал голос приятеля:
— Привет, Игорь. Как дела?
— Как сажа бела, — отшутился я.
— Случилось что? — встревожился Лёха.
— Пока нет, но непременно случится. Только, Леша, разговор не телефонный. Свидеться бы надо.
— Ты на работе?
— А где же еще!
— Тогда, как освободишься, подъезжай ко мне.
— Домой?
— В офис. Я все равно буду часов до девяти вечера здесь. На машине?
— Сегодня без колес. На гарантийку поставил, завтра забираю.
— Хочешь, пришлю за тобой шофера? — совершенно искренне предложил Лёха.
Я фыркнул:
— Смеешься, что ли? У меня шефа Кондратий хватит, как только он увидит, что у его подчиненных транспорт с личным шофером. Я лучше тачку вызову.
— Как знаешь. Я тебя жду.
— До скорого, — я отключил мобильник, крутанулся в кресле и окинул тоскливым взором комнатушку.
А ведь тяжело будет уходить отсюда. Привык за два года, прикипел. И Мишку жалко до дури. Он мужик умный, но не пробивной. Таким в жизни трудно. Ладно, если устроюсь нормально, перетащу его к себе.
До конца рабочего дня оставалось меньше двух часов. Я провел это время с пользой: ползая в Интернете, и не подозревая, что скоро жизнь моя круто переменится, да еще самым невероятным образом.
Глава 2
Смотрел я когда-то в детстве смешное итальянское кино про бедолагу Фантоцци с Паоло Виладжио в главной роли. Помню первые кадры: заканчивается рабочий день в многоэтажной офисной башне, толпа народа несется по ступенькам, опрокидывая зазевавшихся, из окон выбрасывают веревки, канаты, по ним спускаются разгоряченные сотрудники, спешащие по домам, а кое-кто из нетерпеливых прыгает на батут, стоящий на земле.
Я же вышагивал к выходу с грацией прирожденного монарха. Пять минут погоды не сделают.
Заказанное по телефону такси — желтая замызганная «Волга» с шашечками — стояло у тротуара как раз на том месте, где обычно парковалась моя «Лада». Но сегодня я безлошадный, даже непривычно. Ничего не попишешь, личный автомобиль круто меняет характер человека. Без четырех колес все равно, что без рук. Давно ли я обзавелся «Приорой» — пожалуй, и года нет, но еще немного и стану как Лёха. В прежние времена он не был таким большим и важным. От отца в наследство ему досталась старенькая «восьмерка». Бывало жена отправляет Лёху за хлебом в магазин, который находится в сотне метров от подъезда направо. Леха спускается, топает сто метров влево, берет машину со стоянки, доезжает до магазина, покупает хлеб, возвращает «восьмерку» на прежнее место и поднимается домой.
Шофер деловито вытирал лобовое стекло тряпочкой.
— Простите, вы по заказу? — на всякий случай уточнил я, перед тем, как открыть дверцу.
— Да, — подтвердил таксист, — А вы, значит, мой клиент?
Пришла моя очередь кивать.
— Садитесь, я скоро, — предупредил водила. — Вот погода, гадская!
Он закончил стирать размытые потеки на стекле и хлопнул за собой дверью.
— Двигаем, — сказал я, размещаясь справа от водителя.
За что люблю «Волгу» так это за габариты подходящие для крупных мужиков вроде меня. И внешность у газовского изделия, может, для кого неказистая, а, на мой взгляд, — чистой воды ретро-классика. Жаль будет, если совсем с производства снимут, тогда в прошлое уйдет целая эпоха, и не самая плохая, между прочим.
Таксист завел двигатель.
У него было лицо типичного уроженца гор. Невысокий, скуластый, нос с горбинкой, густые курчавые волосы и глаза острые, как кинжалы. Когда на Кавказе войнушка в полную силу разгорелась, много таких к нам, в среднюю полосу, переехало. Устали люди от постоянного напряжения, пальбы за окнами и бэтээров на улицах. Простой вопрос наклевывается: стоило ли из-за этого большую страну разваливать, чтобы она кровью в уголках умылась?
— Куда отвезти? — спросил таксист, трогаясь с места.
Улица здесь односторонняя, при любом варианте придется ехать полкилометра до светофора, а уж от него потом по сторонам, как по розе ветров разъезжаться.
Я назвал адрес Лёшкиного офиса.
— Это на другом конце города будет. Далеко. Заплатите как через район, — предупредил «горец».
— Не обижу, — уверил я. — Зря к Советскому проспекту поворачиваете, в пробках до утра простоим.
— А мы дворами проедем. Не беспокойтесь, я город как свои пять пальцев знаю.
— Давно вы у нас?
— Года три, наверное. Сначала на стройке калымил, потом спину сорвал и в таксопарк ушел, баранку крутить. Полегче стало: и работа нормальная, и клиент, бывает, щедрый попадается. Не всегда, конечно, — на лице таксиста мелькнула грустная улыбка. — Я ведь на себя и не трачу почти, так, по мелочи… Планы у меня на будущее. Как деньжат накоплю, куплю квартиру и семью перевезу.
— А что, большая семья?
— У нас маленьких-то и не бывает, — усмехнулся шофер. — Не принято. Это вы, русские, одного родите и думаете, что подвиг совершили. Глупые, счастья своего не понимаете.
— А что, разве в детях счастье?
— А как иначе? — вопросом на вопрос ответил таксист. — Когда по тебе мал-мала меньше ползают, тогда только и понимаешь, что рай и на земле быть может.
— Понятно. У меня все еще впереди, холостой я, — хмыкнул я, бросив мимолетный взгляд в боковое окно.
Вдоль дороги по тротуару женщина катила красную коляску, навстречу им высокий мужчина вез на шее довольного малыша. Как нарочно!
— Музыка не помешает? — спросил водитель, крутя ручку допотопного радиоприемника.
— Нет, — признался я. — Только, пожалуйста, не слишком заунывную.
— Я и сам такую не люблю. Засну еще за рулем ненароком. Но и молодежную современную тынц-тынц тоже не очень. Ее слушать разве что под большим кайфом можно. Знаю таких: таблеток наглотаются, колонки на всю мощность и по газам до первого поста ГАИ или до того, кому не повезет на пути оказаться.
Разговор, завязавшийся сам собой, продолжился и перекинулся на текущую ситуацию.
— Вот скажите, вы же умный человек, — горячась, спрашивал таксист, — почему у нас в стране по ящику говорили, дескать, бензин в цене вырос, потому что нефть дорожала, евро скакал, а бакс падал? Сейчас все с точностью наоборот, а бензин дешевле не становится. Скинули рупь и все…
— Хороший вопрос, — хмыкнул я. — Самому интересно. Знаю только одно, если кому-то надо цену поднять, повод всегда найдется: луна не в той фазе находится или у тещи настроение плохое. А так экономика — дело темное. Взять, к примеру, последние события — двадцать миллионов американских негров набрали кредитов и не могут отдать, вроде бы какое нам дело до ихних бомжей, а гляди-ка, весь мир трясет как припадочного.
— А как думаете, что надо сделать, чтобы кризис поскорее закончился? — с надеждой спросил водитель.
Мы с Мишкой Каплиным не раз и не два терли между собой эту тему, так что вопрос меня врасплох не застал:
— Поддерживать не банки, а реальных производителей. Все деньги, что вложат в банковскую сферу, либо заморозят на счетах, либо выведут за границу. До наших фабрик и заводов в итоге ничего не дойдет. Какие отрасли в настоящее время испытывают спад? Строительство, металлургия, автомобилестроение. Почему бы вместо того, чтобы опять надувать мыльный пузырь, не заняться системой госзаказов? Стране хорошие дороги нужны?
— А то, — усмехнулся таксист.
— Тогда зачем поить и кормить спекулянтов со всяких бирж? Делаем госзаказ миллиардов так на пятьдесят «зелени», включаем в него мосты, дороги и прочее. Еще на такую же сумму строим дома для бюджетников, вкладываем столько же в оборонку. Тогда начинает работать стройка, у нее возникают заказы — включается металлургия, машиностроители. Глядишь, и остальные отрасли подтянутся.
— Складно получается. Но ведь сами знаете — у нас вор на воре сидит и вором погоняет. С рубля половина на откаты уйдет.
— Это верно, — согласился я. — Сволочей возле кормушки у нас предостаточно. Сколько ни сажай, только прибавляется. А все почему? Потому что знают они — если адвокатам не удастся отмазать их от суда и следствия, то в лучшем случае припаяют им приговор года на два-три условно, а уж если посадят, так выпустят в скором времени за примерное поведение, еще и камеру дадут со всеми удобствами — телевизором, холодильником, микроволновой плитой и баром. Безнаказанность — она только развращает. Пора, пожалуй, у нас снова смертную казнь вводить. Поймали тебя с ладошками, на которых спецкраской отпечаталось слово «взятка», скрутили ручки и ножки и, помолясь, на расстрел утречком.
— Так ведь это… — запнулся шофер, — не боитесь, что снова тридцать седьмой год настанет?
— А чего я должен бояться? Нас этим тридцать седьмым годом как жупелом пугают, а собственно, что тогда было: одну обойму госчиновников пересажали и перестреляли, а другую на их место посадили. Только те товарищи, чьи задницы устроились в нагретых креслах, перед глазами имели наглядный пример — чего можно и чего, ну никак не стоит делать, ни при каких обстоятельствах. Не удивлюсь, если именно по этой причине мы победу в Великой Отечественной зубами у немцев вырвали.
— А простые люди? Они, что — не пострадали?
— Почему не пострадали?! Еще как пострадали. Только все это происходило и задолго до тридцать седьмого года, да и после него тоже. Однако у нас почему-то размахивают именно этим злосчастным годом, хотя проведи такого рода зачистку нашего госаппарата сегодня — вся страна бы в едином порыве рукоплескала.
— Пожалуй, что верно, — таксист надавил на тормоз. — С вас сто двадцать рублей.
Машина плавно остановилась. Надо же, не заметил, как приехали.
Офис Лёха снимал знатный, в здании еще сталинской постройки. Эх, умели же тогда на совесть строить — с колоннами, арками, лепниной. На века делали, чтобы потомки с гордостью взирали, дедами, отцами гордились. Посмотришь на эдакую красоту и монументальность: душа радуется, на возвышенное тянет. Не то, что хрущобы и современная панельно-кирпичная серость, заполонившая городские улицы, после смерти друга всех детей и физкультурников.
Если архитектура отражает дух эпохи, какое впечатление останется от наших, сляпанных из сэндвич-панелей торговых центров, ржавеющих палаток и унылых квадратиков жилых кварталов? Не будет ли стыдно за нас нашим детям?
Я расплатился с шофером, поднялся по ступенькам крыльца, толкнул покрытую светло-коричневым лаком массивную деревянную дверь, похожую на те, что ставили на старых станциях питерского метрополитена, сделал шаг и…
Темнота, страшная боль, непонятное состояние, будто гигантский пылесос засасывает меня в прожорливое чрево. Замигали огни как на взлетно-посадочной полосе. Много огней, таких ярких, что глаза не выдерживали света. Я пытался зажмуриться, но ничего не получалось. Обжигающий свет огней словно проник в черепную коробку, взрывая изнутри. Постепенно их размеры увеличились, они превратились в сплошной шар, похожий на лаву, извергающуюся из разбуженного вулкана.
— Ты в порядке? Что с тобой?
Кто-то громко и испуганно говорил, но это точно не я. Так. Попытаемся разобраться, что приключилось. Солнечный удар? Голову напекло или недоброжелатель в подъезде попался? Ничто так не прочищает мозги как бейсбольная бита. Не помню, где и когда прочитанная дурацкая шутка.
Я обнаружил, что лежу лицом книзу, на сырой земле, уткнувшись в прелые листья Не понял… Что за бардак, почему в солидном здании валяется сгнивший мусор? Это я не про себя, про листья.
Гнать уборщиков, как их там нынче — менеджеров клининг-сервиса метлой поганой. А, может, я на улице?
В пользу последнего говорит пение птичек над головой и покрытый короедами ствол дерева, не скажу какого — у меня по биологии четверки разве что по праздникам были. Дуб от березы отличу, ель от сосны тоже, а с остальной флорой путаюсь, причем сильно. Так, на чем остановился? Ага, на дереве, которое нахально торчит перед носом. Как говорил мой незабвенный преподаватель высшей математики, когда ему было лень «брать» интегралы, ибо этот «увлекательный» процесс мог занять полпары: «В результате элементарных преобразований, получаем…» После этих слов он смело писал на доске ответ.
Итак, в результате элементарных преобразований, получается, что я врезался в дерево. Железная логика. Только откуда оно взялось?
— Дитрих, как ты? — зазудел голос над ухом.
Я что, не один здесь болезный, еще и Дитрих какой-то имеется? Выходит, кроме меня тут еще и иностранцы появились. Странно, Леха вроде дел с забугорьем не вел. Хватит задавать вопросы, пора получать ответы.
Сразу подняться на ноги не удалось, путь к человеку прямоходящему лежал через стандартные детские четвереньки. Кто-то подхватил за плечи, помог распрямиться.
Я увидел взволнованное лицо молодого парнишки, совсем еще сопляка. Он смотрел на меня если не с ужасом, так с испугом точно.
— Дитрих, я думал, ты умер.
— Насчет Дитриха не знаю, а я вроде живой, — сказал я и едва не умер на самом деле.
Мало того, что мы стояли в лесу, так на нас двоих были клоунские прикиды: толстая непонятная хламида коричневого цвета с манжетами навыпуск, кожаные штаны вроде рокерских, заправленные в один из предметов женского гардероба — высоченные сапоги-ботфорты со шпорами. Голову паренька украшала шляпа с перьями. Другая, очевидно, принадлежала мне. Она валялась неподалеку в ворохе листьев.
Если бы Лёха меня увидел — даже не знаю, за кого бы принял. За педика или пациента славного заведения имени Кащенко.
Неподалеку стояла оседланная лошадь. Флегматично щипала травку, не обращая на нас ни малейшего внимания. Ну, хоть она, кажется, нормальная.
Ничего не понимаю. Предположим, я сплю, однако разве бывают сны такими детальными. Есть еще вариант — действительно, крыша поехала.
Мне довелось жить неподалеку от психоневрологического интерната, в котором мама работала бухгалтером. Психи преспокойно бродили, где заблагорассудится, бывали и у нас дома. Я тогда много чего насмотрелся. Один, по фамилии Камагин, изображал машину, держался руками за воображаемый руль, переключал передачи, крутил настройку «радиоприемника». Другой, какой-то казах с труднопроизносимой фамилией, перетаскивал тонны металлолома с места на место, мог за один присест выдуть литра три сладчайшего до слипания э… известной части организма чая.
Да нет, для сумасшедшего, мои мысли чересчур рациональные. Хотя, сбрасывать версию со счетов не буду. Попробую разобраться с помощью настойчивого молодого человека.
— Слушайте, юноша, скажите, кто вы, и что мы тут собственно делаем?
— Дитрих, не узнаешь меня?
Клянусь зарплатой за месяц, парень едва не заплакал. Какие мы чувствительные!
— Во-первых, я не Дитрих, во-вторых, мы с вами впервые видимся, молодой человек.
— Что я скажу тете Эльзе! — юноша всплеснул руками. — Неужели ты не помнишь меня, твоего кузена Карла.
Насколько помню, кузен — это двоюродный брат, и что знаю наверняка, никаких Карлов в нашем роду не водилось. Сергеи, Владимиры, Анатолии имеются, спорить не стану. Хотя, смутно припоминаю, как в детстве бабушка рассказывала семейное предание, больше похожее на сказку: мол, давние предки по ее линии когда-то переехали из Германии, постепенно обрусели, потеряли связь с бывшей родиной. Если это — правда, выходит в обе мировых войны одни мои родственники воевали с другими.
Нет, слишком невероятно. Произошло недоразумение, сейчас разберемся:
— Какого еще Карла?
— Барона… — начал он, но я ехидно прервал:
— Мюнхаузена, да?
— Да нет же, барона Карла фон Брауна, вашего кузена.
— Извини, парень, хочется считать себя бароном — считай на здоровье, только санитарам не рассказывай. Не знаком я ни с какими фон-баронами и знать их не хочу.
Парня так огорошило, что он резко перешел на «вы»:
— Как же так, Дитрих?! Почему вы говорите такие страшные слова и открещиваетесь от титула, принадлежащего вам по праву? Вы же сами барон! Барон Дитрих фон Гофен.
Вот, что я называю словом «приехали».
Глава 3
Я сказал «приехали»! Ха. Еще хуже: только что до меня дошло — мы с Карлом общаемся на чистом немецком языке. И в том, что сразу не обратил внимания, нет ничего странного, для меня немецкий — как родной: я в инъязе специализировался на «дойче», а потом в армии, будучи военным переводчиком, успел хорошо напрактиковаться, когда переводил генералам статьи из зарубежных журналов и сопровождал натовских чиновников, совершавших вояж по рассекреченным во времена Горбачева и Ельцина военным объектам. Дела тогда такие творились, скажу вам — мама не горюй, сдали наши все военные секреты, какие только можно.
Потом дошло и другое: речь Карла вроде и понятна, но с другой стороны, полна непривычных оборотов, пахло от которых нафталином и прабабушкиным сундуком. О смысле многих высказываний можно разве что догадаться. И фразы он строил своеобразно, в высоком «штиле», с пиететом.
— Ладно, уговорил, я барон Дитрих как его там. Только объясни, что со мной происходит, и где мы собственно находимся?
— Проще ответить на второй вопрос, чем на первый. Думаю, мы неподалеку от Санкт-Петербурга, столицы варварской Московии.
— России, — машинально поправил я.
Как-никак за плечами нехилая практика общения на форумах с разного рода «оранжевыми». Риторика как раз в их духе. Не удивлюсь, если Карл еще и что-нибудь про «кацапов» завернет. Впрочем, у меня со времен форумных баталий давно иммунитет к таким вещам образовался.
Но Карл оказался из другого текста.
— России, — легко согласился он. — Если офицер, которого мы повстречали в трактире, не обманул, до Петербурга часа два езды. Но не в нашем случае. У нас осталась одна лошадь на двоих, — пояснил юноша.
— Почему?
— Из-за твоей ослиной упрямости, дорогой кузен. Мы с твоей матушкой уговаривали в один голос не брать из конюшни Адлера, заменить его на любую другую лошадь. Но ты был непреклонен. В результате, когда до окончания путешествия осталось совсем немного, Адлер испугался выстрела и сбросил тебя из седла. Ты упал и ударился головой. Знаешь, мне показалось, что ты умер.
— С чего ты решил?
— Ты перестал дышать, я страшно испугался, но потом твое тело будто молнией поразило, оно забилось в конвульсиях. Ты очнулся, но я почему-то не узнаю тебя, Дитрих. Ты очень странный. Я боюсь за твое душевное равновесие.
— Странный… Может и так. Падение с лошади бесследно не проходит. Не переживай, до свадьбы заживет.
— Но ты ничего не помнишь…
— Я же сказал: это пройдет, — с нажимом сказал я.
Вот приставучий!
— Точно? — с надеждой спросил юноша.
— Даже в голову не бери, — заверил я.
— Если так считаешь, пришла пора узнать, кто стрелял и испугал Адлера.
— Охотники, наверное, — предположил я.
— Русская императрица запретила бить дичь на расстоянии тридцать верст вокруг Петербурга. С браконьерами поступают строго. Значит, это не охотники. Если отряхнешь грязь и поспешишь, успеем разобраться, в чем дело. Вдруг кому-то нужна помощь?
О времена, о нравы. Я успел привыкнуть, что при звуках выстрелов люди прячутся по щелям как тараканы. Более того, если вас зажмут в подворотне, ни в коем случае не кричите: «Грабят!», а то помощи ни в жизнь не дождетесь. Гарантированный способ получить подмогу — завопить что было мочи: «Пожар!». А этот сопливый юнец готов прямо сейчас ринуться неизвестно куда, сломя голову.
Не дожидаясь, Карл рванул, придерживая рукой чуть ли не волочащуюся по траве шпагу. Один раз зацепился за колючки и выбрался с большим трудом, не скупясь на ругательства. Немецкий язык в этом плане не столь колоритен, как русский, но соленых словец в нем предостаточно, самое приличное, что произнес нежданно-негаданно свалившийся на голову родственничек — «шайзе». Когда опомнился, кузен был далеко впереди. Его спина скрылась в густых зарослях.
«Наломает дров, барон недоделанный, а расхлебывать мне придется», — решил я, бросаясь вдогонку.
Голова кружилась то ли от пьянящего и чистого воздуха, то ли потому, что не так давно, по словам Карла, кое-кому пришлось крепко приложиться о землю. Вооружен я ничуть не лучше Карла — такая же шпага болталась на боку и мешала бежать, норовя оказаться между ногами. Да и дурацкие ботфорты норовили зацепиться за корни деревьев. В жизни не носил столь неудобной обуви, вдобавок сапоги не различались на правую и левую ногу, даже дешевые китайские кроссовки, замаскированные под фирму, в сто раз лучше. Путь едва не закончился падением в непонятно кем вырытую яму. Чтоб тебя! Хорошо успел притормозить перед самым краем.
Уф, вдох-выдох и снова в погоню.
Карла я все же догнал, схватил за плечо и заставил остановиться.
— Не спеши, сначала оценим обстановку. Попасть в переделку никогда не поздно, главное — выбраться без потерь.
«Братец» кивнул.
Жидкая рощица упиралась в узкую ленточку дороги. За редкими стволами деревьев виднелись трое мужчин, словно шагнувших с экрана историко-приключенческого фильма вроде «Анжелики» или «Гардемарины, вперед!». Треуголки, кафтаны серо-мышиного цвета с выглядывающим иссиня-черным камзолом, плащи без рукавов, узкие брюки, переходящие в полосатые гетры, башмаки с пряжками. На головах парики с белыми завиточками-буклями (на ум сразу пришел известный по книгам и фильмам ответ Суворова императору Павлу I), заканчивающиеся тонкой напудренной косой. Насколько помню, так одевались где-то в восемнадцатом веке. Мама родная, куда же меня занесло!
Я не впал в ступор и не перестал соображать. Психология человека такова, что рефлексирует он только в минуты безделья. Если есть чем заняться, мозг отвлекается на более насущные проблемы. Армейские отцы-командиры давно взяли эту методу на вооружение и, кажущиеся дуростью приказы: «тащить круглое и катать квадратное» — имеют практическую основу. Я сконцентрировался на происходящем, отложив размышления на потом.
Троица, за которой мы наблюдали, потрошила одежду и котомки четвертого — человека в зеленом, явно военном мундире. Жертва лежала, не проявляя признаков жизни. На ум пришли два варианта: убит или оглушен. На шее виднелась металлическая бляха, если не ошибаюсь, отличительный знак офицерского чина.
Неподалеку находилась мертвая лошадь, шея ее была вывернута под неестественным углом. Скорее всего, выстрел, испугавший моего коня, предназначался ей.
На обычных разбойников с большой дороги эти трое не походили. Во всяком случае, тот, что в треуголке с высоким красным плюмажем, точно. Он вывернул кошелек жертвы и не обратил внимания на высыпавшиеся монеты. Его подельники бросали жадные взгляды на деньги, но присвоить не решались. Я сразу сообразил, кто тут главный.
Он что-то приказал, один из помощников вытащил из сапога нож, занес высоко над собой и приготовился вонзить в беззащитное тело офицера.
«Добивают», — понял я.
Карл не выдержал первым. Он выскочил из кустов и с криком бросился на людей в сером:
— Остановитесь! Именем закона объявляю вас арестованными. Потрудитесь сложить оружие.
«Кретин!» — простонал я.
Ему удалось добиться только того, что негодяи резко изменили намерения. Они оставили раненого в покое и с оружием наголо пошли на кузена.
Карл беспомощно обернулся, я догадался, кого он рассчитывал увидеть, прикрывающим спину, но что-то удерживало меня на месте.
Противный липкий страх влез в душу, нашептывая подлые низенькие мыслишки. Кто он такой, чтобы рисковать из-за него жизнью? Мы знакомы всего пять минут. Если юнцу захотелось продырявить себе шкуру, пускай поступает, как хочет — это его личное дело, не касающееся меня никоим образом.
Я отвернулся, прижался спиной к дереву, пытаясь вдавиться в ствол как можно сильнее, закрыл глаза, мысленно сосчитал до десяти.
Зазвенели скрестившиеся шпаги, послышалась грубая брань, призывной голос Карла. Ну и что, мне нет до него дела. Пусть выкручивается.
Моего присутствия до сих пор не обнаружили. Замечательно. Могу развернуться и убежать. Никто не узнает. Пожалуй, недавно я так бы и поступил, но не сейчас. Что-то во мне проснулось. Честь, благородство… Я не знаю. Сложно описать словами. Некогда казавшийся сложным и многогранным мир вдруг стал таким простым и приобрел только два измерения: черное и белое.
Если сбегу — будет подло. Более того, жить, как раньше, уже не получится.
Если вмешаюсь, то… Да, могу погибнуть, стать калекой, но если есть крохотный, с инфузорию-туфельку, шанс победить, я им воспользуюсь.
Схватка переместилась в мою сторону. Я хорошо видел сосредоточенные лица фехтовальщиков. Сталь ударялась о сталь, чувствовалось, что Карл устал и не может в полную силу отбивать натиск сразу трех противников.
Была не была! Я вывернул из земли бурый, покрытый грязью голыш, весом не меньше килограмма, прицелился и со всего размаха запустил в голову ближнего негодяя. Камень угодил в висок. Послушался хруст проломленного черепа.
Человек в сером пошатнулся и упал, из раны потекла густая кровь.
Три пары глаз уставились на меня. Карл смотрел с надеждой и верой, его противники с замешательством.
— Что за…! Откуда ты взялся? — воскликнул главарь.
— От верблюда, — сказал я, доставая шпагу. — Должен заметить, господа, что трое на одного — нехорошо. Пришлось уровнять шансы.
— Ты знаешь русский? — изумился кузен, промокая большим как скатерть платком лоб. — А мне ничего не говорил… — добавил он с досадой.
— Потом расскажу, — отмахнулся я. — Господа, повторяю предложение кузена. Сложите оружие, и мы сохраним вам жизнь.
— Я не привык отступать, — усмехнулся главарь. — Лёшка, возьми того, что моложе, а я укорочу язык этому наглецу.
— Господа, шпага острая, могу и порезать, — заметил я.
— Это я сейчас и проверю, — с кривой усмешкой на губах произнес главарь и сделал резкий выпад.
Он действовал молниеносно. Будь у меня меньше опыта, острие проткнуло бы грудь в области с сердца, но я успел парировать удар. Лезвие ушло в сторону. Не ожидавший такой прыти главарь, едва не нарвался на ответный укол, но в последний момент ему удалось уклониться. Шпага лишь царапнула рукав камзола. В месте пореза выступила кровь.
— Я предупреждал, — отсалютовав по всем правилам фехтовального искусства, сказал я.
На турнирах мне встречались разные противники, хотя между спортивным поединком и настоящей схваткой — существенная разница. В первом случае зарабатываешь очки, во втором — жизнь.
— Всего лишь царапина, — прорычал соперник.
Он быстро вышел из себя, горячность — плохое качество для фехтовальщика.
Кроме того, он значительно уступал в росте. Помните, как в фильмах про мушкетеров, они всегда стремились занять господствующее положение — вскакивали на столы, стулья, ступеньки лестницы. Высокий рост дает значительное преимущество. Но и от мастерства многое зависит.
Однако в любой схватке немалую роль играет его величество случай. Тренер не раз рассказывал поучительные истории, как опытнейшие фехтовальщики прошлых веков проигрывали зеленым новичкам, которым просто повезло. Профессионализм профессионализмом, но расслабляться в поединке пускай со слабым противником не надо. А главаря нельзя назвать слабаком. Шпагой он владел неплохо.
Укол, еще один. На меня сыпался настоящий ураган выпадов и ударов. Враг менял тактику, переходя из глухой защиты в резкое нападение. Казалось, он не знает усталости. Если бы не мой рост, я бы давно получил несколько дырок и обессилел. Манера фехтования главаря отличалась от того, чему меня учили, так же как каратистские като от реального боя.
Противно ощущать себя дилетантом, но надо смотреть правде в глаза. Я все еще жив только благодаря везению, но долго длиться оно не может. Выиграть могу лишь в том случае, если воспользуюсь немногими преимуществами, а их действительно немного, если быть точнее — всего два: противник склонен к импульсивным необдуманным поступкам, и он намного ниже. Если его как следует раззадорить, а потом нанести удар, который трудно отбить, победа будет за мной.
Сказать, конечно, легко, но вот сделать… Кажется, знаю. Я рубанул по макушке главаря, он пригнулся, но шпага зацепила роскошный плюмаж, только перья по сторонам полетели. Шляпа от удара свалилась в лужу. Я поддел треуголку ногой и послал вперед как футбольный мяч. Бинго! Сам Марадона гордился б таким попаданием. Мокрый, грязный головной убор угодил в лицо.
— А, чтоб тебя!
На физиономии противника были видны только разъяренные глаза. Остальное покрылось густым слоем грязи. Он походил на женщину в косметической маске — зрелище не для слабонервных.
Я разразился коротким издевательским смешком.
Взбешенный главарь бросился на меня, забыв обо всем, в том числе об осторожности. Я проткнул его словно вертелом, до самой рукоятки. Неприятный хруст разрываемой плоти, кровь, много крови… Шпага прошла сквозь ребра как по маслу. Странно, даже не ожидал. Он захрипел и осел на подкосившиеся колени. Я выдернул лезвие и толкнул его ногой. В тот момент это не казалось мне кощунством. Он поступил бы точно также.
С громким чавканьем тело опустилось в лужу, поднимая ворох брызг. Все происходило как в замедленной киносъемке. Главарь лежал на спине и смотрел в небо остекленевшими глазами.
Я не знал насколько неприятно убивать человека, особенно впервые. Меня едва не стошнило.
— Превосходно, Дитрих, — ободряюще воскликнул Карл. Он с легкостью теснил своего противника. — Эти русские никогда не умели биться на шпагах по-настоящему. Ты преподал ему хороший урок.
— Я убил его, — мрачно произнес я.
— Он заслужил.
Я не стал спорить.
— Сдавайтесь, сударь, — довольно произнес кузен, выбив шпагу из рук соперника. — Обещаю пощадить вас и не убивать.
Оружие с жалобным звяканьем упало. Кончик шпаги Карла уперся в горло проигравшего.
Похоже, у нас появится пленный. Ума не приложу, что с ним делать. Думаю, на нашем месте он бы вряд ли был столь милосерден.
Глаза проигравшего сверкнули отчаянием, быстро сменившимся злостью.
— Пошел ты… — произнес он и, подавшись вперед, проткнул горло шпагой.
В кузена ударила струя крови. Он едва не вскрикнул от неожиданности.
— Хорошо день начинается, — вздохнул я, вкладывая оружие в ножны.
— Ты забыл протереть лезвие, — возмущенно сказал Карл. — Оно заржавеет.
— Плевать, не до этого. Проверим, жив ли тот, кого они обыскивали.
Я опустился на колени рядом с человеком в зеленом мундире. Под париком, обнаружились растрепанные светлые волосы. На макушке бугрилась большая свежая шишка. Выходит, мой товарищ по несчастью.
Я приложил ухо к груди. Сердце билось неторопливо и размеренно. Беглый осмотр показал, что его просто оглушили. Других ран, кроме набитой шишки, не нашлось.
Нашатыря нет, можно похлопать по щекам или поднять ноги. Вроде так поступают с женщинами, находящимися в обмороке. Но этот очнулся самостоятельно.
Он схватил меня за грудки, с воистину медвежьей силой подтянул и сердито прорычал:
— Ти собрался меня грабить, да?
Он говорил на ломанном русском. Выходит, иностранец… вроде меня нынешнего.
— И в мыслях не было. Я просто хотел вам помочь.
Мой голос убедил его, что я говорю правду, и он отпустил.
— А кде некотяи, что стрелял в моего коня?
— Не стоит волноваться. Дела их неважные.
— Виходит, ви спасли мне жизнь. Я отшень вам плагодарен.
— Что вы. Я выполнял свой долг порядочного человека.
Слова сами слетели с кончика языка. Странно, обычно я выражаюсь в иной манере. Неужели, заразился от Карла.
— О, ви не просто порядочный человек, вы — человек чести. Назовите свое имя отважный герой.
— Игорь… — я прикусил язык, — то есть Дитрих. Дитрих фон… Гофен, — уф, кажется, не ошибся.
— Спасибо, отважный рыцарь. Даю слово творянина и офицера: я отплачу вам той же монетой…
Бабах! Оглушительно громыхнуло из кустов, моментально окутавшихся облаком дыма. Послышался тонкий противный свист и шлепок. Тело офицера выгнулось. Я увидел страшно удивленные глаза.
— О, майн гот, не хочу умирать! — он дернулся и повис у меня на руке.
Мне не впервой видеть смерть. Я перестал бояться покойников с того момента, как закрыл глаза умершему на глазах отцу, стянул его рот платком, накрыл простыней и стал обзванивать родственников. Просто каждый, кто прикоснулся к этому таинству, уже никогда не станет прежним. Меняется действительность и твое отношение. Начинаешь ценить каждый вздох, взгляд, каждую крупицу общения с близкими. Проблемы, ранее казавшиеся глобальными, уходят на второй план. Суета сует. Вот она — истина в последней инстанции.
Офицер, бывший недавно живым, чувствующим человеком, вцепился в меня, будто я последняя ниточка, связывавшая его с этим миром. Ниточка оборвалась. Душа улетело туда, откуда нет возврата, где, как хочется верить, намного лучше, чем здесь.
Я видел его впервые, успел перекинуться несколькими фразами и все, но почему по щекам потекли слезы? И наряду с возникшей горестью внутри разгоралось пламя, оно требовало выхода. Где та сволочь, что предательски выпалила из кустов?
Я оказался на ногах и бросился туда, где еще не успел развеяться дым, услышал за спиной конское ржание, громкие возгласы.
— Куда прешь, убивец?
Я обернулся и последнее, что успел увидеть — летевший в лицо деревянный приклад мушкета.
Глава 4
— Куда их, ваш высокородь? В полицию?
— Нет. Дело сурьезное. Пожалуй, вези в Петропавловскую крепость, сдашь чиновнику Тайной канцелярии, а если не найдешь, то коменданту. Скажи, что застали на месте убийства ажно с четырьмя трупами. Хоть и иноземцы, но кто ж их аспидов знает. Пущай в Тайной канцелярии разбираются.
— А с телами как? Вы их опознали, ваш высокородь?
— Трое в сером — капрал Преображенского полка Звонарский с лакеями. Запомнил?
— Так точно, господин капитан.
— Мертвый измайловец — поручик Месснер из вестфальцев. Поговаривают, конфидент самого Миниха[1].
— Эвона как. Это его мы, выходит встречали?
— Его.
— Не уберегли, значит, голубя. Опасливо мне, ваш высокородь.
— Чего ты спужался, Борецкий?
— А ну как и меня заодно с энтими двумя немчиками в колодничий каземат оформят? Попасть туда легко, а вот выйти трудно.
— Не боись, Борецкий. Ты государственный человек, лейб-гвардии[2] сержант. Худа не сделал. Подполковник за тебя всегда слово молвит. Выручим, ежели что. А чтобы не сбегли, возьми с собой четырех солдат. Штыки примкните и глаз не спускайте. Утекут, шкуру с тебя спущу почище Ушакова Андрея Ивановича[3], — имя и отчество офицер произнес с придыханием, чуть ли не озираясь по сторонам.
— Знамо дело, ваш высокородь, спустите.
— То-то! — удовлетворенно подкрутил лихой ус офицер. — Скажешь, я завтра прибуду с подробным рапортом. Ступай, Борецкий.
Сержант Борецкий — немолодой коренастый мужчина с багровым лицом пьяницы, вместе с двумя солдатами устроился на крестьянской телеге. Нас с Карлом связали и положили на вторую телегу, приставив двух конвоиров. Мертвецов, укрытых рогожей, загрузили на третью. Возницы, доставленные из ближайшей деревни вместе с реквизированными подводами, выглядели забитыми и не роптали. Они мяли в руках шапки и постоянно крестились, выслушивая приказания офицера.
Взявший меня и Карла под арест гвардейский капитан не стал слушать объяснений. И дело отнюдь не в пресловутом языковом барьере. Немецким он как раз владел сносно, и ничего удивительного в том нет. В те времена этот язык играл примерно такую же роль, что французский в девятнадцатом веке. Мы для капитана были убийцами, застигнутыми на месте преступления. Разбираться он считал ниже своего достоинства. Дело пахло керосином.
Виски ломило, на лбу вздувалась шишка, в глазах двоилось, нос опух. На счастье, я успел в последний момент отпрянуть, приклад прошел по касательной, только благодаря случаю «рубильник» остался цел. Но приложили меня крепко. Провалялся без памяти час, а то и больше.
С Карлом обращались гуманней. Ему вообще почему-то везло гораздо сильнее.
— Вот немчура проклятая. Лезет сюда, словно им медом намазано, — сплюнул конвоир. — Хорошо хоть эти по всему бедовать будут.
— Не говори, Матвеич. Видать им у себя совсем несладко стало, вот и бегут к нам, будто тараканы какие. Жадные: что рупь, что копейку — под себя норовят утащить. А нашему Ваньке деревенскому достается: корми-пои оглоедов, до юшки из носу надрывайся, а они на шею сядут и тебе же батогов всыплют за добро твое. Сволочи!
— Немцы, я тебе скажу, разные бывают. Требовательные, вечно недовольные, по сторонам рыскающие, но к аккуратству приучены и остальных приохотить хотят. Этого от них не убавишь. Слово свое завсегда в ответе держат. Ежели скажут что, сделают. А то что злые как собаки, так иной русский трех немчур стоит. Был у нас поручиком Иванов — ты его не застал, молод еще, — из дворян тверских, по фамилии русак-русаком, а сколько солдатского брату через его пострадало. Вор настоящий был. Полуроту голодом заморил. Вечно у него на солдатский котел денег нету, на мундирное платье — шиш да кукиш. Оголодали, истрепались. Из остатних рот над нами поперву смеялись, а потом жалеть зачали. И жаловаться некому — начальству до тебя никакой охоты вникать нету. Мы волком выли. А уж как нас не любил! За любую мелочь бил боем, особливо как выпьет. Чуть что — сразу в зубы. Рожа, говорит, твоя не нравится. Как его от нас перевели в другую часть, так мы всем ротным миром свечки в церкву поставили. Не знаю, кто сейчас от энтого Ироду муку принимает.
Нам поневоле пришлось стать слушателем их беседы. Карл по большей части молчал, изредка тяжело вздыхая. Не таким, очевидно, он представлял себе въезд в Петербург.
— Что с нами будет? — шепнул я.
Конвоировавший солдат покосился, но ничего не сказал. Видимо, указаний препятствовать разговорам, не давали.
— Скорее всего, отвезут в русскую Бастилию. Я слышал, в Петербурге на острове стоит крепость, в казематах ее содержатся узники. Люди гниют заживо от великой сырости и ссылку в вечно холодную Сибирь принимают за избавление.
— Петропавловская крепость, что ли? — догадался я.
— Наверное, — пожал плечами Карл.
Я бывал в ней всего раз: после демобилизации — поезд уходил поздно, у меня была уйма времени, которое посвятил прогулкам по одному из самых красивых городов мира, посетил Артиллерийский музей и Петропавловскую крепость, они располагаются напротив. Помню бастионы, смотровые площадки, спуск к пляжу — зимой, говорят, там любят плавать «моржи», памятник Петру I, пушку, стреляющую в двенадцать часов дня. Экскурсоводы показывали казематы, открывали дверцы камеры, впускали внутрь, предоставляя возможность ощутить себя в шкуре арестанта, рассказывали о знаменитых узниках — царском сыне Алексее, княжне Тараканове, декабристах. Впечатление давящего пространства больших — шагов по десять в диагонали — камер запомнилось надолго.
Крепость располагается на Заячьем острове, размером метров семьсот в длину и без малого полкилометра в ширину. Экскурсовод, полная женщина в клетчатой юбке насмешила, сообщив, что шведы называли остров Веселым. Кстати, им представилась возможность оценить иронию судьбы по достоинству, ибо одними из первых строителей стали захваченные в плен солдаты Карла XII. Их кости легли в фундамент будущей Северной Пальмиры наряду с костями простых русских и украинских мужиков.
Туда нас и везли.
Мне стало интересно, и я присел, чтобы лучше видеть.
Петропавловка, в которую нас доставили, не очень походила на ту, из экскурсии. Ее не успели достроить, работа кипела одновременно в нескольких направлениях, многих, ставших привычными, сооружений не было даже в проекте.
Я увидел Кронверк — земляные валы в виде короны, защищавшие крепость от нападения с суши, позднее их снесли, построив на этом месте здание, в котором хранятся реликвии русской армии.
Мы въехали в открытые ворота с двуглавым орлом. Телеги прогромыхали по мосту через выкопанный ров и остановились возле одноэтажного серого особняка. Должно быть, нас заметили в окно и из подъезда с нависающим козырьком вышли двое — первый, самый представительный — в штатском темно-синем камзоле с воротником-жабо, смуглый, суетливый в движениях. Второй — военный: статный, высокий, с холеным скучным лицом. Гадать нечего: гражданский — чиновник Тайной канцелярии, с ним — дежурный офицер. Мелкие злые глазки штатского впились в меня, сверля будто дрелью. Я понял, ничего хорошего нам не светит.
Сержант Борецкий подошел и стал докладывать, от волнения сбиваясь и глотая звуки.
— Престань мямлить, размазня, — оборвал штатский.
— Дык я это… — еще сильнее испугался Борецкий.
Офицер скривился. Он со скучающим видом теребил рукоятку шпаги и едва не зевал. Похоже, ему давно все набрыдло.
— Где твой командир? — рассержено спросил чиновник.
— Обещался завтра прибыть. С самранешнего утра туточки будет, не сумневайтесь. Седни ему надо с докладом у начальства быть. Так горевал, что самлично придти не могет.
Борецкий как мог отмазывал капитана.
— Кто эти двое?
— Немцы какие-то. Мы случайно увидели, как они на тракте покрошили капрала Преображенского полка Звонарского и двух лакеев его.
— А что ж не вмешались?
— Дык не успели мы. Поначалу думали: господа баловством занимаются, шпажному бою репетируются. Ан вон оно как — до смертоубивства дело дошло.
— Понятно, вот она дурь русская во всей красе, — зло бросил чиновник. — Видеть видели, помешать не сумели. А скорее — лениво было. Бумаги при них имелись?
— А как же. Я все привез — тут и пашпорта, и письма рекомендательные. Все в целости, ничего не утеряно.
— Дай, взгляну, — чиновник протянул руку за документами.
— Что здесь? — небрежно указал пальчиком офицер на третью телегу.
— Мертвецы, — потупился сержант.
— Пройдемте, посмотрим.
Офицер отбросил рогожу и склонился над трупами.
— Действительно, Звонарский. Сколько нами вместе было выпито, сколько раз он меня из неприятностей выручал. Помнится, он отпуск двугодичный брал учебы ради. Говорил же ему, что от учения только одно худо будет. Не послушал.
Он выпрямился и произнес, чеканя каждое слово:
— Я за Звонарского этих немцев под землю урою, если Андрей Иванович милость свою к ним проявит.
— Не проявит, — сурово заверил чиновник.
Трупы унесли. Солдаты таскали их за руки и ноги, стараясь не глядеть на лица. Тела исчезали в соседнем строении, будто в чреве кашалота.
Чиновник послал Борецкого давать письменные показания и распорядился известить родственников покойных. Выяснилось, что у Звонарского в Петербурге проживал родной дядя. Дежурный офицер отправил гонца в штаб Измайловского полка с новостью о смерти Месснера.
— В Преображенский полк сообщу лично. Товарищи Звонарского, к коим принадлежу и я, будут расстроены гибелью сослуживца, — сказал он.
Конвоиры сменились служивыми, несшими караул при Тайной канцелярии. Я почувствовал легкий тычок штыком в спину.
— Пошевеливайся.
— Полегче, — вырвалось у меня.
Один из конвоировавших усачей, услышав знакомую речь, хмыкнул.
— Ишь, нежный какой. Топай, знай, пока ребро не зацепил.
Чиновник зашел в небольшую комнатушку и вернулся со связкой ключей в руках.
— Допрашивать сегодня не будем. Определим голубчиков в камеру, пущай до завтра помучаются.
— Господа, прошу признаться, кто из вас стал убийцей Звонарского? Надеюсь, вы не станете запираться, — обратился к нам дежурный офицер.
Я выступил вперед.
— Нет, запираться не станем. Это сделал я. Ваш товарищ ранил другого офицера. Мы застали Звонарского за далеко не благородным занятием — вместе со своими людьми он организовал засаду на тракте. Мой кузен предложил ему сложить оружие, однако Звонарский предпочел напасть на него, при этом его не смутило, что кузен в тот момент был один. Я присоединился позже. Наш поединок был честным — мы сражались один на один.
— Вы лжете, — яростно воскликнул офицер.
— Это — чистая правда, — подтвердил Карл. — Звонарский не достоин звания дворянина. Его шее повезло избежать веревки.
— Петр Васильевич, вы с них за Звонарского спросите по строгости, — офицер, не стесняясь нас, сунул чиновнику деньги.
— Не беспокойтесь, Аркадий Анисимович, в лучшем виде оформим, — чиновник принял взятку как должное. — Исключительно ради вас и торжества Фемиды. А этого верзилу, — он глянул на меня, — определим в холодную. Пущай посидит до завтра. Утречком я обо всем донесу Андрею Ивановичу. Уж он-то допросит их со всем пристрастием. А то и я расстараюсь. Пожалуй, оно так вернее будет. Сам примусь.
— Спасибо, Петр Васильевич, всецело на вас надеюсь. Я утром сменяюсь, отосплюсь и жду вас к вечеру у себя, выпьем чего-нибудь для согреву, посидим в приятном обществе.
— Всенепременно заскочу, Аркадий Анисимович. Водочка у вас знатная, стол богатый и среди дам знакомства возвышенные и приятственные, — мечтательно закатил глаза чиновник. — Ступайте, отдохните. Вид у вас больно усталый.
— Служба, — развел руками офицер.
— Тем более, поберегите себя. Прикажу вам чаю сделать. При нашей сырости только в нем и спасение для организму. А я покуда арестантов в книгу впишу. И не переживайте. Займутся ими. Будет в лучшем виде.
Меня завели в караулку и посадили на грубо сколоченную скамейку. Я почувствовал запах табака и пота, исходивший от солдата с бледным, землистым лицом, занявшего место с правого боку. С другой стороны пристроился худощавый и длинный парень, не знавший то ли направить на меня ружье, то ли поставить его в угол. Он явно был новичком, терявшимся в отсутствии начальства.
В караулку вошел, вернее, вкатился, похожий на колобка человечек. В руках у него похоже та же связка ключей, что у чиновника.
— Господин подпрапорщик, — солдаты вытянулись во фрунт.
— Вольно. Куда ентого определили? — спросил человечек.
— Господин Фалалеев велели в холодную сунуть до утра.
— За что его?
— Убивец, четырех человек шпагой порешил, — коротко ответил новобранец.
— Вот мерзавец. Кого порезал-то?
— Капрала пребраженского, слуг евойных, да поручика полку Измайловского.
— М-да, не повезло ему, что седни капитан-поручик Огольцов дежурит. Он ведь до перевода в Семеновский полк в Преображенском служил. Поди, знал капрала убитого.
— Так точно, знали. Когда заговорили об убитом, враз в лице переменились.
— А убийца никак из немцев, — осмотрев меня, пришел к заключению подпрапорщик.
— Так точно-с, барон курляндский Дитрих фон Гофен, — подал голос бледный.
Смотри-ка, успел войти в курс дела.
— Барон, — скривился подпрапорщик.
Похоже, мой титул здесь не котировался.
— Раздевайся, душегуб, — сердито приказал человечек.
— До трусов что-ли, — усмехнулся я, вспомнив визиты в поликлинику из той, прошлой жизни.
Вместо ответа с меня сорвали верхнюю одежду, оставив лишь в нательной рубахе и исподних штанах, стянули сапоги. Каменный пол был сырым и холодным. Пока служивые ретиво срезали пуговицы и выворачивали карманы, я стоял и поеживался. Происходящее вновь казалось каким-то абсурдом.
Что же такое происходит? То, что я каким-то образом угодил в прошлое — факт не вызывающий сомнений, но почему это произошло, причем именно со мной? Чем я лучше или хуже других? И как можно вырваться обратно, в родной двадцать первый век?
Закончив надругательство над вещами, служивые вытолкнули меня в коридор. Я увидел растерянного Карла, которого ждала та же участь, ободряюще подмигнул и двинулся, понукаемый нетерпеливыми конвоирами. Мы прошли по лестнице, спустились в полуподвал. От едкого дыма резало глаза, холод сковал конечности, заставляя зубы отбивать чечетку. Я ступал босыми пятками, чувствуя, как ледяные иголки начинают колоть их все выше и выше.
Мы добрались до крайней камеры.
— Стой, — приказал человечек.
Он поковырялся ключом в замке, пока один из караульных светил факелом. Дверь со скрипом отворилось. Я удивился, что она такая маленькая, мне бы пришлось согнуться пополам, чтобы пройти.
— Добро пожаловать, господин хороший, — со смешком произнес подпрапорщик.
— Я так понимаю, что встреча с адвокатом мне не светит.
— Иди уж, не заговаривай зубы, — мощным толчком меня запихнули в камеру.
Из проема полетели мои вещи, причем сапоги угодили прямо в лоб. Я стал поспешно одеваться, чтобы не потерять остатки тепла. Не хватало еще заболеть. Вряд ли здешняя медицина практикует что-то иное, кроме пускания крови.
Дверь захлопнулась. Я остался один в абсолютной кромешной темноте. Попробовал распрямиться, но понял, что потолок находится слишком низко, на ощупь нашел что-то вроде лежака и попытался лечь во весь рост. Увы, в длину комната была ничуть не больше. Ноги уперлись в стену. Пришлось свернуться калачиком.
Сырой лежак не добавлял комфорта. Одежда мигом промокла, стала противной и липкой. Я сжался в комок и стал греться внутренним теплом. Да, попал ты, Гусаров, как кур в ощуп. Выбор изумительный. Если к утру не окочуришься, сдохнешь от пыток. В справедливый и гуманный суд я перестал верить еще в детстве.
Внезапно дверь отворилась. Я приподнялся на лежаке и увидел, что в камеру вошел посетитель, в руках у него была свечка с дрожащим пламенем на конце.
— Игорь Николаевич Гусаров? — осведомился он.
— Да, — машинально кивнул я и тут же замер, пораженный догадкой. Здесь я был бароном фон Гофеном.
— Откуда вы знаете мое настоящее имя?
Глава 5
— Очень просто, я — тот, кто устроил ваш перенос в это время, — нерадостно усмехнулся он.
— Мне вас сразу придушить или помучить? — зло спросил я.
— Игорь Николаевич, право слово, что за разговоры между интеллигентными людьми? Я, конечно, понимаю, что хорошего в нынешнем положении мало, но тут не столько моя вина, сколько стечение обстоятельств. Позвольте, я лучше с вами на лежанку присяду. Другой мебели здесь все равно нет. Нам предстоит серьезный разговор, а ноги у меня не железные.
Улыбка с его губ исчезла. Подул сквозняк. Пламя свечи вспыхнуло ярче. Я успел разглядеть виновника своих бед — вроде не старого, лет сорок, но уже седого; с бородкой, прозванной шкиперской — в шестидесятых годах двадцатого века такие любили носить и физики, и лирики. Невысокий и очень худой, будь на пять килограммов меньше — вообще б не отбрасывал тени. Немного впалые глаза лучились бездонной добротой. Прямо живое воплощение святого сподвижника. И очень приятный, источающий обаяние голос. Ему бы на радио работать, новости о финансовом кризисе рассказывать, чтобы люди сразу в банки рубли на доллары менять не бегали.
— Присаживайтесь, — предложил я, освобождая место. — Рассказывайте, каким образом довели меня до цугундера.
— Что касается тюрьмы, то вы уж сами постарались, без моей помощи, — он поежился. — Холодно у вас.
— Ну, так, не у тещи на блинах.
— Да, — седой приподнялся и едва не стукнулся макушкой об потолок, — забыл представиться. Приношу извинения за невежливость. Я — Ка эР, — по первым буквам сокращение от «корректор реальности». Для простоты можете звать меня Кириллом Романовичем.
— Не могу сказать, что мне очень приятно.
— Игорь Николаевич, не дуйтесь, как мышь на веник. Фортуна в моем лице подарила вам невероятный шанс. В ваших руках ни много, ни мало — судьба страны. Вы патриот?
— Скажем так: есть слова, которыми бросаться не принято. «Патриот» относится к их числу. Родину не выбирают, Родину любят. Я люблю Россию, не уверен, что взаимно.
— Рад, что не ошибся в вас, Игорь Николаевич. Дело в том, что для выполнения миссии нужен человек вроде вас — тот, кто способен на многое, зная, что в итоге он не получит награды. Это редкое качество. Не стану мучить статистикой, а она у меня имеется, причем весьма подробная, но скажу, что именно русские в большинстве своем смогли выработать такое почти фатальное самопожертвование. Наверное, поэтому история безжалостно прошлась по России паровым катком. Практически все социальные модели отрабатывались на вашей стране, чтобы воплотиться потом с учетом допущенных ошибок в других государствах и не только… — он многозначительно замолчал.
Я сжал кулаки до боли в руках:
— Хотите сказать, что моя страна была чем-то вроде лабораторной крысы?
— Скорее полигоном для новых идей.
— Ценой в десятки миллионов загубленных жизней? — с ненавистью ощерился я.
Мне почему-то сразу стало ясно — мой визави не лжет. Такие, как он, обкатали десятки кровавых сценариев на территории моей страны, прошедшей столько тяжелейших испытаний. Первая мировая, свержение монархии, Октябрьская революция, гражданская война, коллективизация, индустриализация, Вторая мировая… Это первое, что пришло в голову, а сколько всего было, сколько за этим стоит сломанных судеб!
— Да, — потупился он. — Прогресс дорого обходится человечеству. Теперь пришла пора исправить несправедливость. Мы откорректируем реальность с вашей помощью.
— Кто вы? — сжав зубы, спросил я. — Ангел, демон, инопланетянин или…
— Всего лишь выходец из параллельного мира. Очень похожего на ваш, в чем-то лучше, в чем-то хуже. Мы строили его с оглядкой, используя ваш опыт. Благодаря этому сумели избежать двух мировых кровопролитных войн, без проблем вошли в стадию регулируемого капитализма, к которому вы постепенно придете после глобального мирового кризиса. И главное — мы смогли по достоинству оценить прогрессивность монархии. Она стала настоящим моего мира и будущим вашего.
— Позвольте, я знаю, что большинство европейских стран формально являются монархиями, но на самом деле короли в них царствуют, но не правят. Это скорее дань традиции.
— Безусловно, вы воспринимаете монархию в качестве некоего декоративного украшения. Но оценить ее истинное назначение сможете, только в самые трудные дни, когда понадобится решение человека, облаченного полнотой власти и обладающего моральным авторитетом; радеющего за свою страну, а не за то, чтобы успеть за несколько выборных лет набить карманы и сбежать в тихий уголок.
— Если речь идет о России, надо было отправить кого-то в 1917 год, не дать свергнуть власть Николая Второго.
— Мы получили возможность путешествовать по времени вашего мира, но далеко не везде имеем возможность вмешаться в ход истории. Мы умеем менять настоящее, но не умеем менять прошлое. У мироздания свои, не всегда понятные законы.
— Но ведь вы тут, со мной…
— Нам удалось вычислить несколько ключевых точек, куда пусть с трудом, но можно получить доступ. В частности — август 1735 года. Но, к сожалению, только люди вашего мира могут изменить прошлое. Мы пытались проделать это своими силами, но везде потерпели фиаско. Мы — чужие. Ваше прошлое отторгает нас.
Я задумался.
— Если я правильно понял, меня с вашей помощью забросило в 1735-й год. Но почему вы не попробовали поговорить с кем-то из этой эпохи? Сдается мне, пользы от «аборигена» было в сто крат больше.
— Увы, если бы я стал рассказывать о параллельных мирах кому-то из этого времени, пускай даже весьма образованному и пытливому человеку, вряд ли бы меня смогли правильно воспринять. Все могло кончиться костром, как при инквизиции. Другое дело — вы, — продукт техногенной эпохи. Ваш разум способен принять многое, даже такое, что может показаться абсурдом.
— Я здесь, в 1735-м году и это перестало казаться мне абсурдом, — заметил я. — Скорее страшным сном. Ущипните меня, и я проснусь.
— Это не сон и не абсурд. Более того, речь не идет о физическом переносе. Наши технологии не способны проделывать такое с людьми вашего мира, вы слишком прикипели к своему времени. Произошел ментальный переброс вашей души. Вы очутились в теле курляндского дворянина Дитриха фон Гофена. Он, кстати, действительно ваш отдаленный предок. Более того — вы похожи как два близнеца. Природа иной раз творит чудеса спустя сотни лет. Это очень облегчило перенос. Да и вам проще вживаться в новом теле.
«Действительно, поскреби русского, и в нем не только татары найдутся», — подумал я.
— Бедняге Дитриху не повезло. Он погиб, разбился, упав с лошади. Нелепая смерть. При этом смею заметить, у него был огромный потенциал самореализации, но не судьба, — Кирилл Романович вздохнул. — У вас тоже потенциал зашкаливает все возможные пределы. По этой причине вас и выбрали.
— Шутите, — обиделся я. — Какой потенциал? Кем я был — заштатным клерком, каких миллионы.
— Чтобы раскрыть потенциал полностью, надо оказаться в подходящих условиях и не пойти по легкому пути. Лучше всего — столкнуться с проблемой, кажущейся непреодолимой. Вы в большинстве случаев плыли по течению, не брали ситуацию в свои руки. Вспомните, почему выбрали институт иностранных языков?
— Родители посоветовали, — удивленно ответил я. — Ректор был хорошим знакомым папы, помог пройти по конкурсу.
— Правильно. А кем мечтали стать в детстве? Ведь не переводчиком, точно…
— Кинорежиссером, — потупился я.
— Вот именно. Вы не пошли во ВГИК, где у вашего отца не было связей, выбрали легкий и беспроигрышный вариант. Точно так же не пошли служить в десант, хоть у вас были все данные, предпочли синекуру при штабе дивизии. После армии устроились в коммерческую фирму, в которой душилась всякая инициатива, а, когда появились проблемы — не стали сами их решать, сразу кинулись названивать другу. Я прав?
— В общем, да, — озадачено протянул я.
— Видите, вы просто не позволили проявиться внутреннему потенциалу. Может, из вас бы получился оскароносный режиссер или генерал ВДВ. Я не знаю… Но теперь вы будете отвечать за себя сами. И это будет непросто.
— Вижу, — кивнул я. — Первый день и сразу за решетку.
— Недоработка с моей стороны, — поморщился Кирилл Романович. — Не ожидал, что наряду с новым телом вы воспримете повадки прежнего хозяина. Но я в вас верю. Сумеете выкрутиться.
— Говорить легко, — нахмурился я. — Во-первых, я практически ничего не знаю об этой эпохе, во-вторых, меня несправедливо обвинили в убийстве, в-третьих, у меня сразу появились враги — дежурный офицер, его фамилия, кажется, Огольцов, и чиновник тайной канцелярии Фалалеев, от которого зависит мое пребывание в этих стенах. Не слишком ли много навалилось?
— Надеюсь, вы не расплачетесь? — отстранился Кирилл Романович.
— Нет, но морду от расстройства чувств набить могу.
— Таким вы мне нравитесь больше, — удовлетворенно отметил собеседник.
— Ладно, я понял, каким образом меня сюда занесло, вопрос в том — что я должен сделать, чтобы исправить историю? При условии, что меня не вынесут отсюда ногами вперед…
— На вашу долю выпадет предотвратить дворцовый переворот, призванный сместить с трона законного императора Иоанна Антоновича и возвести дочь Петра Первого — Елизавету. Более того, вы постараетесь примирить три главных политических фигуры России при императрице Анне Иоанновне — фельдмаршала Миниха, будущего регента при младенце-императоре Бирона и вице-канцлера Остермана[4].
Я поморщился.
— Вас что-то смущает? — догадался Кирилл Романович.
— Естественно. Вы перечислили одних иностранцев. Что, выходит русский Ванька такой дурак, что без немцев и шагу не сделает?
— Помилуйте, с чего вы это решили? — очень удивился мой визави. — В России много выдающихся умов, но давайте исходить из имеющейся ситуации. Надо работать с тем, что есть. Государственных деятелей калибра Остермана и военачальников уровня Миниха в стране пока нет. Пока! — громко воскликнул Кирилл Романович, предвосхищая мое возражение. — Достойную смену предстоит еще подготовить. В какой-то степени это и будет задачей правительства Иоанна Антоновича. И пусть не смущают вас немецкие фамилии возле его трона. Не было, нет и не будет никакой немецкой партии. Предвижу ваше удивление — вам много рассказывали о засилье немцев, о проклятой бироновщине. Так вот, Игорь Николаевич — вранье это все; байки, тех, кому было надо обелить то, что скоро произойдет в нашей с вами стране. Да-да, я тоже считаю Россию своей страной, хоть и родился в другом, весьма удаленном отсюда месте. Правление Анны Иоанновны одно из самых оболганных в истории России. Немцы правили Россией! Дайте в морду тому, кто посмеет так сказать. Именно сейчас иностранцы лишаются своего привилегированного статуса, жалованье офицеров сравнивается, более того — иноземец, получающий чин выше капитанского, вынужден получить одобрение лично у императрицы, а она не из тех женщин, которых можно легко обмануть.
— Это все касается армии, — со скепсисом произнес я. — А что насчет обычной, гражданской жизни? Там наверняка без немца и шагу ступить невозможно.
— Я мог бы вас ознакомить с одним интересным списком высших штатских чиновников при Анне Иоанновне. На двести пятнадцать человек аж двадцать восемь немцев. Причем, под ними понимаются выходцы из абсолютно разных областей раздробленной Германии, не имеющих между собой общих интересов.
— Получаются, мне всю жизнь вешали лапшу на уши?
— Можно подумать вас это удивляет!
— Да нет, я успел привыкнуть к тому, вещи встают с ног на голову и наоборот. Сперва красные были хорошими, потом белые. Капитализм клеймили, затем во всех углах славили, теперь опять с песком мешают. Нет, прошлое у нас действительно непредсказуемое. Верно Задорнов подметил. Давайте вернемся к Миниху, Остерману и Бирону. Что, действительно «эффективные менеджеры»?
— Не надо ерничать Игорь Николаевич. Не сравнивайте с людишками из вашей эпохи. Те, кого я назвал, кроме Бирона, — «птенцы гнезда Петрова». Это о многом говорит. Думаете, Петр Первый зря приблизил их к себе? Они славно поработали на благо страны, и способны сделать еще больше, если вам удастся прекратить свару между ними.
— Каким образом?
— Вопрос сложный, вам предстоит самому найти на него ответ. Игорь Николаевич, если это удастся — Россия получит по-настоящему просвещенного и одаренного монарха, верных союзников — армию и флот, и искусную дипломатию. Вы опять чем-то недовольны, Игорь Николаевич?
— Да я по поводу переворота, который мне предстоит предотвратить…
— И что вас смущает?
— Помилуйте, чем вам Елизавета не угодила? Вроде не самая худшая императрица в истории России…
— Не спорю, в ее правление многое делалось во благо страны, но зачастую не благодаря, а вопреки. Она была слишком занята интригами, балами, тайным браком и прочее. Вокруг нее собралось талантливое окружение. Короля играет свита. Поверьте, вокруг Иоанна соберется еще большее количество выдающихся людей. Кроме того, бедняга не достоин той участи, что для него уготовят в вашем мире. Годовалого, ни в чем не повинного младенца, свергнут с престола, когда немного подрастет — заберут от матери, кинут в тюрьму, где будут содержать в одиночной камере, а спустя двадцать три года убьют во время попытки освобождения, предпринятой поручиком Мировичем.
Я содрогнулся, представив картину заключения в тюрьме несчастного ребенка.
— Сколько у меня времени?
— Немного. Переворот состоится в ноябре 1741-го года.
— Шесть лет, всего шесть лет, — задумчиво произнес я.
— Да, и за эти шесть лет вам предстоит проделать путь из низов в верхи. Карьеру здесь делают двумя способами — либо в качестве фаворита, то есть через постель, либо на поле боя. Первый путь проще, второй — намного сложней. Какой выбираете?
— Ненавижу альфонсов.
— Значит, армия, — резюмировал Кирилл Романович.
— Да.
— Тогда учтите, легко не будет. Никто не даст гарантий, что вы не погибнете на поле боя, не умрете от болезни или ран. Я не смогу вам помочь.
— Позабочусь о себе сам. Кирилл Романович, ответьте на один вопрос — что со мной произошло там, откуда я родом?
— Вы точно хотите услышать правду?
— Да!
— Мы успели перенести вас до того, как вы погибли.
Глава 6
— Как погиб?! — едва не закричал я.
Кирилл Романович потупился.
— Офис вашего друга находится на втором этаже, не так ли…
— Да, на первом обменник какого-то банка.
— Совершенно верно. Вы приехали в тот момент, когда на банк налетели грабители. С самого начала ограбление пошло не так. Вам, также как и несчастному Дитриху, не повезло. У грабителей не выдержали нервы. Они открыли стрельбу. Вас застрелили почти в упор.
— Рискну предположить, это была еще одна причина, по которой выбор пал на меня.
— Не стану отрицать, — опустил глаза Кирилл Романович. — В противном случае, ничего бы не вышло. У времени свои законы. Я говорил об этом. Так что, не держите на нас обиды, мы подарили вам вторую жизнь.
— Однако я здесь чужак, который ничего не знает. Карла удалось провести, но если мною займется кто-то умнее и старше, меня быстро расколют. Я могу попасть впросак практически на каждом шагу, не зная обычаев, законов, да что там говорить… — я обреченно взмахнул рукой. — Чужой в чужой стране!
— Согласен, но это опять же не наша вина. Мы планировали подготовить вас после переноса, но вы спутали все планы, ринувшись на спасение поручика Месснера. Тем самым вы уже вмешались в ход истории, убив Звонарского. Он принимал активное участие в перевороте. Впрочем, свято место пусто не бывает. Лесток[5] найдет замену.
Фамилия последнего показалась знакомой, но я решил все же уточнить:
— Кто такой Лесток?
— О, очень колоритная фигура из окружения Елизаветы Петровны. Думаю, он один из ваших главных потенциальных противников. Кстати, капитан-поручик Огольцов тоже входит в их число. Вдобавок, у него появились и личные счеты. Он дружил со Звонарским.
— Что я могу от него ожидать? Если выйду отсюда, конечно…
Кирилл Романович задумался.
— Все что угодно. Дуэли здесь еще не получили такого распространения, как в Европе. Дворяне сводят счеты другим способом. Самый распространенный — подкараулить, навалиться большим числом и избить до полусмерти. Те, что побогаче — нанимают убийц. Есть такие, что не брезгуют клеветой и наветами, но это на крайний случай. В Тайной канцелярии умеют отличать ложь от правды. Поверьте, тому, кто заявит, придется не сладко. Но, — многозначительно произнес он, — расслабляться в любом случае не стоит.
— Вы можете вытащить меня из тюрьмы? — с надеждой спросил я.
— Увы, — вздохнул гость. — Рад бы, но это не в моей власти. Более того, скоро нам придется проститься, ибо я не могу долго находиться в этом хронопотоке. Мое состояние слишком нестабильное.
— Но что мне может помочь?
— Попробуйте сыграть на том, свидетелем и непосредственным участием чего вы стали, — посоветовал Кирилл Романович.
— Имеете в виду нападение на Месснера?
— Да. Поручик был доверенным лицом Миниха. Он состоял в так называемом «безвестном карауле», занимавшемся слежкой за Елизаветой Петровной. Месснеру удалось узнать важную информацию, он собрался доставить ее патрону, но люди Лестока устроили засаду. Остальное произошло на ваших глазах.
— Каким образом это можно использовать? — заинтересовался я.
— Не знаю, — вздохнул гость. — Но это все, чем могу помочь. Придумайте, что-то, Игорь Николаевич. Вы — умный человек, — он помялся и, наконец, выдавил:
— Очень жаль: мое время истекло. Я больше не могу здесь находиться. Хорошо было с вами, но, увы…
— Мы увидимся? — спросил я.
— Все может быть, Игорь Николаевич. Желаю успеха! Прощайте!
— До свидания, Кирилл Романович, — поправил я.
Он внимательно всмотрелся в меня и неожиданно крепко стиснул мою руку.
— Вы правы, до свидания.
Гость потушил на свечку, и как только наступила темнота, стало ясно — в камере его больше нет. Исчез — испарился и все.
Кстати, забыл спросить, а елизаветинский переворот — не их ли рук дело? Ну да уже поздно, Кирилл Романович умчался в другое измерение, оставив меня одного. Я кое-как устроился и заснул. Сон был зыбким, грезилась разная ерунда: школьные годы; коммуналка, в которой мы раньше жили; женщина, очень добрая, излучающая добро и уют, она произносила ласковые успокаивающие слова, а сердце мое переполнялось нежностью.
«Мама», — всплыла подсказка в памяти.
Но она не была моей матерью. Я впервые видел эту женщину, однако, откуда во мне столько чувств? Может… она — мама Дитриха. Кирилл Романович говорил, что душа погибшего немца отставила отпечаток в теле. Тогда чем все закончится? Не начнется ли шизофрения? Каким образом, я смогу отличить свои мысли от тех, что могут принадлежать Дитриху? Нет, хватит. Так и на самом деле чокнуться можно.
С такими мыслями я проснулся, трясясь от холода. Да и есть хотелось со страшной силой, во рту давно уже ни крошки не было. Но никто не спешил включать обогреватель и не нес чашечку утреннего кофе. До меня никому не было дела.
Чтобы размять занемевшие мышцы стал приседать, стараясь не стукнуться об потолок. Покачал пресс, отжался. Кровь забурлила. Жить стало лучше, жить стало веселей. Если б еще голодный желудок не бурчал.
Интересно, где Карл, чем сейчас занимается? Сидит в одиночке или в общей камере, «наслаждаясь» сомнительным обществом.
В коридоре загромыхало. Это ко мне? Я приподнялся и присел на лежанке, дверь отворилась.
— Выходи на допрос.
Суровый голос хорошо вязался с широкоплечей, будто вырубленной из камня фигурой тюремщика.
Понятно, завтрак откладывается. Произнесенная в уме шутка — глупая, но необходимая: я старался приободрить себя, чтобы охватившее уныние не было слишком заметно. Чего-то хорошего от допроса в Тайной канцелярии ждать не стоит. Это заведение спустя без малого триста лет оставило дурную память. Репутация как у НКВД, КГБ, Моссада и ЦРУ вместе взятых. Хотя… может, у страха глаза велики. Авось, что-то удастся придумать.
Собственно, в чем моя вина? Да, убил Звонарского и его лакея, но они явно занимались неблаговидными делишками. По сути это была вынужденная самооборона, защищался, как мог. К тому же, я вроде как считаюсь иностранным подданным. Вдруг допрашивать меня можно лишь в присутствии посла? Хотя этот вариант кажется слишком сомнительным. Тайная канцелярия[6] вряд ли заморачивалась такими пустяками.
Ой, кстати, а чье у меня подданство? Кирилл Романович сказал, что Дитрих был курляндцем. Из обрывочных знаний по курсу школьной истории помню, что Курляндией называлась часть нынешней Латвии со столицей в Митаве, номинально принадлежавшая Польше. Что самое интересное — хоть и плачутся нынешние прибалты о временах Советского Союза, но настоящую оккупацию они заимели как раз в те годы. Практически вся верхушка — немецкая, свою линию — жесткую, да что там говорить — жестокую — немцы гнуть умели. Латышам жилось тяжко.
Навстречу двое солдат за руки протащили стонущего человека с голой спиной, покрытой ужасными язвами. Явственно послышался запах горелого мяса. Я отвернулся, не в силах глядеть на отвратительное зрелище. Сразу бросило в жар. Пытка здесь явление обыденное, применяется и к правым, и к виноватым. Где гарантия, что не наговорю лишнего, за что можно распроститься жизнью? Я, конечно, парень крепкий, но у всех есть предел. Опытный палач развяжет язык даже немому.
В животе разом потяжелело.
Меня ввели в небольшую комнату, поставили лицом к окну. Свет сразу ударил в глаза. После темноты одиночки солнечные лучи палили, будто лазерные пушки. Конвойный солдаты замерли как истуканы, прижав мушкеты к ногам.
Я увидел за столом Фалалеева вместе с худощавым мужчиной, который обмакнул гусиное перо в чернильницу и приготовился писать в толстой книге, похожей на амбарную. Понятно, первый — следователь, второй — писец. Сбоку загремел инструментом палач — дородный, в кожаном фартуке; другой — в ярко-красной поддевке, с прической горшком, ему ассистировал.
— Ступайте, — приказал Фалалеев солдатам.
Те развернулись и покинули помещение. Почему-то без них стало еще страшнее.
— Приступим к роспросу, — сказал Фалалеев. — Помни, что ложное слово твое будет противу тебя же обращено. Клянись, что не прозвучит здесь от тебя ни единой кривды.
— Клянусь.
— Знай, что целью нашей является возбудить в преступнике раскаяние и истинное признание, за что ждать тебя награда может милостию императрицы нашей Анны Иоанновны.
Ага, щаз, ищите дурака в другом месте. Надо быть полным идиотом, чтобы взвалить всю вину на себя на первом же допросе. Нет, я еще побрыкаюсь.
Фалалеев продолжил:
— Ежели будешь строптивым и непокорным — учти: за утаение малейшей вины — жестокое и примерное наказание, как за величайшее злодеяние. Укрывательство с твоей стороны будет тщетным, ибо правда нам всея известна, — он потряс листами бумаги.
Я понял, что это отчеты Борецкого и его начальника. Буду рассчитывать, что ничего лишнего они не написали.
— Признаешься ты?
— Мне не в чем сознаваться. Моя совесть чиста, — спокойно произнес я.
Фалалеев скрестил руки на груди и задумался. У меня сложилось впечатление, что к допросу он не готовился, да и рассеянный взгляд наводил на мысль о том, что чиновник не так давно успел приложиться к бутылке.
— Что писать? — подал голос писец, которому надоело ждать, когда «шеф» очнется.
— Пиши, что увещевание не понял, — вяло откликнулся чиновник.
Писец бегло застрочил.
— Говори, кто таков, каких чинов, откуда будешь и веры какой? — опомнился Фалалеев.
Понятно, началась рутина. В принципе, ничего страшного на данном этапе нет, главное, не сболтнуть лишнего.
— Барон курляндский, Дитер фон Гофен, вера моя… — я стал вспоминать, кем могли быть прибалтийские немцы. Понятно, что христиане, но какие именно? Так, католики отпадают, православные тем более… Рискну.
— …лютеранская, — добавил я, надеясь, что заминка с ответом получилась незначительной.
Чиновник удовлетворенно кивнул, писец старательно заскрипел пером.
— Каково состояние твое?
Вряд ли меня спрашивают о самочувствии. Видимо, интересуются материальным положением. Так, что там Карл говорил:
— Имение моей матушки неподалеку от Митавы.
Если спросят, сколько душ — завалюсь. Я ведь понятия не имею, сколько фон Гофены народа под ярмом держат. Хотя Фалалеев тем более не в курсе.
— Возраст твой?
Хм, будем надеяться, что мы с Дитрихом погодки.
— Двадцать пять лет.
— Скажи нам, Дитер фон Гофен, что привело тебя в державу Российскую?
Вариант с иномирянами, разумеется, отпадает.
— Желание послужить России и матушке императрице, Анне Иоанновне, — завернул я, памятую слова Карла.
Фалалеев поморщился. Как следователи, он без сомнения был циничен и смотрел на показания подозреваемых с большим скепсисом.
— А кто выступил твоим другом и сопровожатым?
— Мой кузен Карл фон Браун, родом из Курляндии.
Правда, только правда и ничего, кроме правды. Первый раунд я продержался. Было бы глупым засыпаться на начальной стадии.
— Проверим, не говоришь ли ты неправду и не был ли в руках заплечных дел мастера, — задумчиво произнес Фалалеев. — Сымай рубаху.
Я разделся до пояса. Палач смочил руку и провел по голой спине.
— В палаческих руках не был. Нет ничего, — констатировал он.
— Не единого рубца? — расстроено спросил Фалалеев.
— Вообще следов кнута нет. Спина чистая.
Я обрадовался, что Дитрих был законопослушным гражданином, иначе неизвестно как бы повернулся допрос.
— Государево дело за ним такое, — чиновник продиктовал список обвинений, затем вернулся ко мне:
— Скажи, зачем учинил злодейство на дороге, убив капрала Преображенского полка Звонарского, лакеев его Жукова и Зорина, а иже с ними поручика полка Измайловского Месснера?
— Признаю себя виновным в смерти Звонарского и одного из лакеев, не знаю фамилии. Хочу заметить, что я вынужден был взять на душу грех, ибо застал этих людей за разбоем, учиненным над поручиком. В смерти Месснера моей вины нет. Его предательски застрелил кто-то, оставшийся неизвестным.
— Как смеешь ты, душегубец, клеветать на мужей достойных? — взвился Фалалеев.
— В моих словах неправды нет. Я говорю только то, что видел собственными глазами. Спросите Карла фон Брауна. Он подтвердит.
— У тебя еще будет возможность стать с ним с очей на очи, — заявил чиновник, намекая на очную ставку.
— Прекрасно. Тогда обратите внимание на рану поручика — его застрелили со стороны спины, в то время, как я держал его на руках. Более того, при мне и оружия-то огнестрельного не было. Уверен, в показаниях свидетелей это отражено.
Фалалеев сверился с записями и наморщил нос. Судя по его недовольной роже, я был прав, с этим не поспоришь. Но деньги Огольцова отрабатывать надо.
— Запиши в протокол, что подозреваемый во всем запирался как замерзлый злодей. Приступаем к розыску.
Палач лязгнул огромными клещами. До меня дошло, что под «розыском» понимается не что иное, как пытка. Сердце бешено заколотилось, по хребту прокатились капли холодного пота. Вот он — момент истины.
Писец удивлено посмотрел на чиновника и растерянно пробормотал:
— К розыску, Петр Васильевич? Так на то ведь дозволение Андрея Ивановича быть должно… Как без него-то…
— С Андреем Ивановичем я завсегда договорюсь, — спокойно произнес чиновник. — Давай-ка, Архип, на дыбу подвесь энтого. Пущай на себя пеняет. Виска, она правду покажет.
Надеюсь, услышав эти слова, я не побледнел как мел.
Меня подтолкнули к дыбе, завернули руки за спину. Палач накинул на них петлю, другой конец перекинул через крюк в потолке и резко потянул. Ноги оторвались от земли. В плечах что-то хрустнуло, от напряжения глаза едва не полезли из орбит, я ощутил страшную боль в выворачивающихся суставах и дико заорал. Так плохо мне еще никогда не было.
Глава 7
Я вопил как оглашенный, хрипло хватал ртом воздух. Сил хватало только на то, чтобы не выдать себя с потрохами, не взять чужую вину, не навести поклеп. Ребра трещали, руки не ощущались, мышцы не справлялись с нагрузкой, тело пронизывала острая боль.
Ой, мама, не могу… не могу больше. Как больно! Скорей бы все закончилось… Гады, сволочи! Чтоб вас! И почему я?! Почему со мной?! Что же я такого сделал?! За что наказание?!
— А-а-а-а! — сердце едва не выпрыгнуло из груди.
— Не говорил ли ты слов хулительных, сим заставив Звонарского руку на тебя поднять? — вопрошал раскрасневшийся Фалалеев. — Не поносил ли высокую монаршую особу? Неспроста же Звонарский противу тебя шпагу обнажил.
— Ничего такого я не говорил.
— Врешь, мерзавец.
— Отпустите. Нет на мне вины. Я лишь защищал свою жизнь… Больно мне… Что же вы делаете?!
Фалалееву очень хотелось превратить дело из уголовного в политическое. И что тогда? Смерть, вырывание ноздрей, каторга, Сибирь? Может, взвалить на себя все, признаться даже в том, что не делал, лишь бы избавиться от муки. Нет, я должен бороться, чего бы это ни стоило. Старайтесь, старайтесь, скоты. Издевайтесь. Отольются кошке мышкины слезки. Ой…больно, больно как! Меня же инвалидом сделают. Козлы!
Я отчаянно матерился, но ругательства лишь распаляли мучителей, наслышавшихся в этих стенах такого, что мне и не снилось. Вряд ли их удивили мои трехэтажные конструкции.
— Винись, а то огнем жечь буду! — рыкнул Фалалеев.
Я замычал как корова. На что-то другое при всем желании уже не способен. Вымотали, скотобазы!
— Что, что он сказал? — подпрыгнул чиновник.
— Запирается, — смущенно произнес палач. — Ну да ничего, Петр Васильевич, я ему сейчас встряску устрою. Запоет аки соловей в роще.
— Устрой, Архип, устрой, голубчик, — с очень нехорошими интонациями сказал Фалалеев. — И веничком горящим по спине проведи.
Пришел черед удивляться палачу:
— Так тож в третий раз положено.
— Делай, Архип, что сказано. Давай-ка встряхни субчика, — разозлился чиновник.
Я заскрипел зубами. О том, что такое «встряска» мне доводилось читать: веревку, висящего на дыбе, слегка отпускают, потом резко натягивают, что может привести к переломам в локтях. Все, амба… Ноги вновь коснулись пола. Сейчас, сейчас… Я зажмурился, в тайне надеясь, что умру от разрыва сердца, и пытка закончится.
— В чем дело, Петр Васильевич? — от голоса вошедшего веяло энергией, добродушием и… огромной силой.
Я открыл глаза и увидел сжавшегося в комочек Фалалеева. Над ним нависал сухощавый мужчина высокого роста, со слегка вытянутым лицом, увенчанным высоким умным лбом; гладко выбритый; с почти незаметной ямочкой на подбородке, (второй едва намечался); нос длинноватый, исчерченный на переносице поперечной складкой, со своеобразным, будто живущим собственной жизнью, кончиком. Под карими насмешливыми глазами круги, как у уставшего, хронически не высыпающегося человека.
— Что за безобразие творите, господин Фалалеев? — вновь с почти искренней шутливостью спросил вошедший, но чиновник лишь нервно сглотнул и не сразу нашелся, что ответить.
— Мы, то есть я…
— Позвольте взглянуть в допросный лист, — вошедший протянул руку. — Уж не по первым ли двум пунктам расспрашиваете?
Голос стал строже.
— Только подбираемся, Андрей Иванович. Злодей упирается, так мы его того… на дыбу, — опомнился Фалалеев.
Андрей Иванович… Понятно, к нам пожаловал собственной персоной начальник Тайной канцелярии генерал Ушаков. Фигура интересная, сумевшая усидеть в своем кресле, несмотря на все дворцовые перевороты. Это, знаете, о многом говорит. Непрост был Андрей Иванович, не прост…
— А меня спросить — что, забыли? — недобро прищурился Ушаков.
— Андрей Иванович, беспокоить не хотели. Вы ж двое суток здесь дневали и ночевали, только уехали к себе домой вчера по вечеру, зачем вас тревожить? Душегубец это, убил вместе с подручным сразу четырех, из них двое шляхетского роду.
— За что же ты, ирод, людей жизни порешил? — заинтересовался генерал.
— Да за то, что они сами хотели меня на тот свет спровадить, — морщась от дичайшей боли, с трудом шевеля губами, произнес я.
Генерал полистал протокол допроса, нервно покусывая губы, вернул документы Фалалееву и коротко бросил:
— Не похоже, что брешет. Разве немец на такое пойдет? Тут нашим, российским духом пахнет.
— Вот мы и выясняем правду, — залебезил чиновник.
— Позаботьтесь повальный обыск у Звонарского на дому устроить.
— Всенепременно, Андрей Иванович, — кисло ответил Фалалеев.
— А немца снимите с дыбы, вправьте кости, покуда не поломали, — распорядился Ушаков. — Лекаря позовите, чтобы в порядок его привел. Токмо сами не вздумайте. Не столько лечите, сколько калечите. Слышь, Архип?
Палач закивал как китайский болванчик.
Ушаков продолжил:
— Обязательно хорошего медикуса кликните — Генриха Карловича. Я недалече его видел.
— Андрей Иванович! — взмолился чиновник.
— Что — «Андрей Иванович»?! — разозлился генерал. — Много на себя взяли, Петр Васильевич. Самоуправство это. Рази не так? А самоуправства я не потерплю. Бардак развели! Распустил я вас, окаянных, распустил. Раз ушел Ушаков домой, значит твори, что вздумается. Ан нет, выкусите, — он сложил кукиш и сунул под нос Фалалееву. — Не на таковского напали, милостливый сударь. А ведь не думаете, что стоит мне только захотеть, и вы местами поменяетесь: тебя на дыбу подвешут, а его в канцеляристы определят. Так, Фалалеев?
— Что вы такое говорите, Андрей Иванович, — сокрушенно забормотал чиновник. — Я ведь всего себя на службу положил. Не корысти ради…
— Не знаю, Фалалеев, не знаю, — покачал головой Ушаков. — А вот ежели узнаю, то…
Он не договорил, круто развернулся и вышел из застенка.
Палач больше не трогал, руки мои повисли безвольными плетьми. Я стоял и покачивался, достаточно дуновения сквозняка, чтобы свалить меня на каменный пол.
Фалалеев снял белый парик, промокнул большим шелковым платком вспотевший лоб и, переведя дух, произнес:
— Что-то сегодня генерал наш не с той ноги встал. То ли дочурка его незабвенная — свет Катерина, коленце какое выкинула, то ли ее величество императрица недовольство проявили.
— Не выспался он, — пояснил писец. — Днюет и ночует на работе, все неймется ему, а возраст уже не тот. Сдает генерал наш, вот и злится. Так я пойду за дохтуром?
— А как же. Только обязательно Генриха Карловича сыщи, хучь из-под земли достань, а то Андрей Иванович голову мне оторвет.
Чиновник сплюнул и устремил в меня злобный взор:
— Повезло тебе сегодня, немчура поганая, ну да я все равно с тобой разберусь.
Я отвернулся, радуясь, окончанию допроса. Если бы еще не онемевшие руки…
Писец сбегал куда-то и вернулся в компании суховатого старикана — и по виду и по манерам — доктора, причем явно иноземных кровей, который, осмотрев меня, пробормотал несколько малопонятных фраз на латыни.
— Положите его на лавку левым боком, — приказал лекарь.
Палачи поспешили выполнить распоряжение, распластав меня на широкой лавке. Доктор заботливо сунул под голову небольшой деревянный сундучок. Лежать было неприятно, но все же гораздо лучше, чем стоять.
— Пусть побудет пока в таком положении.
Я почувствовал, как под действием силы тяжести, мышцы начинают расслабляться. Спустя несколько минут лекарь взял руку за предплечье, согнул в локте и оттянул книзу.
— Как вы? — спросил он.
— Ничего хорошего, — признался я, настороженно наблюдая за его манипуляциями.
— Не переживайте, молодой человек, ничего страшного не случилось: кости целы — это главное. А вывихи, о них вообще смешно говорить. Плевое дело, — заверил старичок. — Поверьте, у меня богатый опыт.
Я напрягся, чувствуя, что мне заговаривают зубы. Доктор покосился на меня и неодобрительно поцокал языком. Внезапно он вскинул голову кверху и воскликнул:
— Что это?
Я невольно отвлекся, посмотрев на потолок. Лекарь воспользовался этим, легким движением повернул согнутую руку сначала кнаружи, а затем внутрь, вставив плечевой сустав на место. Последовал щелчок.
— Мать вашу! — Я едва не умер от боли и шока.
Тело выгнулось дугой. Сейчас же на него навалились палачи, удерживая весом. Я бился на лавке, стукаясь головой об сундучок, и успокоился, только тогда, когда болезненные ощущения прошли.
— Потерпите, милостливый государь. Полдела сделано, — старичок подошел к жаровне и немного понаблюдал за пляшущими языками пламени. — Отдохните чуток, а потом продолжим.
Я полежал на спине с отрешенным видом, настраиваясь на неизбежное. Вроде понятно, что Генрих Карлович добро делает, но страшно до жути.
Таким же образом лекарь вправил и другую руку. Щелчок, электрический импульс в плече, приведший сердце в состояние ступора, и блаженный покой.
Я мысленно крестился, боль отступила. Попробовал пошевелить пальцами и понял, что руки ни капельки не слушаются.
— Недельки три-четыре покоя, и с вами будет все в порядке, — сказал довольный лекарь. — Организм молодой, сдюжит.
Интересно, дадут ли мне эти недели покоя или вновь потащат на допрос, как только Фалалеев порешает все вопросы с начальником?
Пока предавался размышлениям, пришли конвоиры.
— Куда его девать? В старую камеру-одиночку али как?
— Бросьте к его дружку, фон Брауну. Пущай вместе сидят.
— А смотрение ему какое?
Очевидно, речь шла о режиме содержания.
— На первое время обыкновенное пущай будет, — бросил чиновник. — Но если правила нарушит, сразу на цепь сажайте.
В сказанном было столько ненависти, что ее бы хватило на целый город.
Меня снова провели по подвалу, подвели к камере, из проема выглянуло сонное лицо солдата, пропахшего селедкой и чем-то похожим на краску.
— Петров, принимай нового «хозяина», — весело сообщил конвойный.
Как я узнал позже, солдаты, прикрепленные к каждой из камер, «хозяином» называли заключенного, который в ней содержался.
— Тоже немец? — вздохнул Петров.
— Ага, барон курляндский фон Гофен, — подтвердил конвойный.
— Опять по-человечески не поговорить, — сокрушенно произнес Петров. — Немчик, что у меня сидит только «вас» да «нихт ферштейн» лопочет.
— Нет, этот вроде как русский разумеет.
— Да ну, — обрадовался Петров. — Давай-ка его скорее сюда. Он ведь после дыбы, пусть отлежится. А Карлу моего на розыск поведете?
— Пока не велено. Ушаков нынче злющий, дрозда канцеляристам дает. Фалалееву снова на орехи досталось. Не до розысков пока.
— А насчет жалованья, что слышно?
— Задерживают пока. И денег, чтобы кормить арестованных не дают. Двух копеек жалеют.
— Выходит, мне их за свои кровные харчевать? — расстроился Петров.
— А вдруг повезет? Может они богатенькие, — предположил конвойный.
— Вряд ли, — сокрушался Петров. — Тот пацан, Карла, гол как сокол. Ежели были у него деньги, так при обыске все скрали. А вы проходите, барон, не стесняйтесь. Кто знает, сколько здесь проведете, — обратился он ко мне.
Меня ввели в камеру пропахшую дымом, нечистотами и смрадом.
— Располагайтесь, — пригласил Петров. — Как говорится, чем богаты…
Небольшое окно, скорее похожее на бойницу, было закрыто решеткой и деревянным щитом. Тускло горела свечка. На затопленной печке стояли закопченные чугунки. В одном из них вкусно пахнущее варево помешивал большой деревянной ложкой второй солдат.
В углу на собранной в кучу соломе лежал Карл. Увидев меня, он вскочил и бросился с объятьями:
— Дитрих, брат, что с тобой сделали эти мерзавцы? Тебя пытали?
— Извини, Карл. Я страшно устал. Давай после поговорим.
С этими словами я свалился на солому и заснул.
Глава 8
Дни потянулись бесконечной вереницей — одинаковые, как две капли воды. На допросы водить перестали, я не знал радоваться этому или огорчаться. Торчать в застенках десятки лет подобно графу Монте-Кристо не улыбалось. Впрочем, узников в Петропавловской крепости долго не держали, казематы служили чем-то вроде следственного изолятора. После вынесения приговоров, заключенные покидали стены Петропавловки, и, хорошо, если отправлялись в ссылку. Тайная канцелярия штамповала один смертный приговор за другим. Хватало таких заключенных, что не доживали до завершения следствия — они не выдерживали пыток и умирали, к тому же, если узник не имел денег на посещение врача, то вполне мог загнуться от заражения крови, ибо основными медикаментами были водка, шкура свежеубитой овцы (ее клали на спину после пытки кнутом или огнем), и капустные листы, служившие для вытягивания гноя.
Нас с Карлом по-прежнему держали в одной камере, под охраной трех солдат. Все они были рядового чина, но поскольку самым старшим по возрасту и опыту являлся Петров, его признавали за главного. Остальные попали на службу недавно: полгода назад новгородских парней оторвали от крестьянской сохи и забрили в рекруты. Караульные старались меняться так, чтобы двое постоянно находились при нас, третий уходил в дом, где жил на постое, или отправлялся на рынок за продуктами.
В какой-то степени нам повезло. Солдаты не только охраняли, они еще и готовили еду на печке, стоявшей в камере, играли с нами в карты, травили байки, вели себя весьма дружелюбно. Карл от безделия стал учить русский язык и весьма в том преуспел. К концу второй недели он вполне сносно общался, разве что не мог избавиться от сильного акцента, и порой путал слова. Такие успехи в лингвистике объяснялись хорошей подготовкой, многие (не только благородного сословия) владели тремя-четырьмя языками. Можно сказать, это было нормой. Солдаты, слушая, как он коверкает слова, валялись от хохота, но Карл ежедневно практиковался и улучшал речь не по дням, а по часам. Случались дни, когда мы вдвоем вели на русском продолжительные беседы.
Общаться с другими узникам запрещалось, однако, поскольку Фалалеев назначил обыкновенный режим ожидания, разрешались визиты родственников, передачи с воли продуктами или деньгами. Более того, состоятельные заключенные позволяли себе заказывать обеды в расположенной неподалеку австерии[7].
Увы, последние наши деньги пропали сразу же после ареста, бесполезно даже заикаться о том, чтобы их вернули. Карл, впрочем, сильно не огорчался. С его слов следовало, что мы порядком издержались во время долгой дороги к Санкт-Петербургу, так что в кошельках находилось несколько жалких медяков.
Главной проблемой стала кормежка. На содержание арестованных казна отпускала две, в лучшем случае, три копейки в сутки. На эти деньги надо было покупать продукты, дрова, свечи, а цены в Питере, где почти все привозное, не отличались умеренностью. На одну копейку на рынке можно купить фунт плохонького мяса, попросту говоря костей. К тому же, выплата средств производилась с изрядной задержкой, так что скоро замаячила перспектива голода.
— Вот что, хозяева, — сказал однажды Петров, — если хотите жрать, придется кому-то из вас отправиться за город христарадничать.
— Что значит за город? — не понял я.
Смысл последней фразы понятен без разъяснений.
— Из крепости выйти, — спокойно пояснил солдат. — Под конвоем, конечно. Будете милостыню просить, иначе скоро у вас кишка на кишке плясать будет. Мы кормить постоянно не могем. Никаких порционов не хватит на эдакую ораву.
Меня передернуло. Понятно, что голод не тетка, но собирать милостыню… Я и раньше не мог представить себе, что смог бы опуститься до такого. Слишком унизительно, даже для меня, циничного и наглого уроженца двадцать первого века. И та часть, что, возможно, принадлежала настоящему Дитриху, сразу запротестовала.
— Я лучше умру, — вырвалось у меня.
— В том то и дело, что умрете, ежели кушать как положено перестанете, — покосился Петров. — После пыток нутро мясца просит, чтобы все хорошо срасталось, а у вас даже круп и тех не осталось.
— Все равно, — сказал я, не вставая с сена.
Дела вроде шли на поправку. Хотя скованность движений не исчезла, простейшие манипуляции я уже мог проделывать без помощи Карла. Стоит отметить, что юноша очень помог мне в это время. Такой самоотверженной отдачи, доброты и самопожертвования от в сущности парнишки я не ожидал. Вот только отблагодарить нечем.
Карл тоже отказался от похода за милостыней.
— Воля ваша, — вздохнул Петров.
На следующий день в мисках плескалась прозрачная жижа, больше походившая на кипяченую воду, нежели на суп. Я зачерпнул ложку, попробовал и скривился. Действительно, кипяток, разве что на дне лежало несколько разварившихся крупинок, да на поверхности плавали непонятные травинки.
— Это есть невозможно, — Карл тоже отодвинул свою плошку в сторону. — Я обычно не привередлив, но это не еда.
— Другой нет, — Петров скорчил грустную мину.
Сам он жевал сухарь, однако не спешил с нами делиться.
— Может, у нас в Петербурге имеются какие-нибудь родственники или знакомые? — с надеждой спросил я.
— С ними тоже плохо, как и с деньгами, — грустно ответил Карл.
Еще через день в супе уже не было ни крупы, ни травы. Да и дров осталось совсем немного, а без них в сырой холодной камере просто не выжить.
«Что за скотство, — думалось мне, — мало того, что в тюрьму посадили, так еще и содержанием не заботятся. Крутись, как хочешь».
Дрова закончились к середине третьей недели. Солдаты грелись, не снимая епанчей, так называли плащи без рукавов, выдававшиеся в холодное время, у нас с Карлом осталась только отсыревшая солома. Отношение караульных резко поменялось. От былого добросердечия не осталось и следа. Выяснилось, что мы находимся полностью в их власти. Караульный имел полное право избить заключенного, связать или посадить на цепь. Лишь бы был повод, впрочем, если его не имелось, всегда можно к чему-то придраться. Особенно они не зверствовали, но даже их бездействие усугубляло наше положение.
Карл рискнул сыграть с ними в карты на деньги и… проигрался. Теперь мы еще и были должны.
Я сильно простудился и заболел. Поднялась температура, тело горело, будто на сковородке. Карл как умел ухаживал за мной, но его усилия в итоге шли насмарку. Он просил, чтобы вызвали лекаря из Медицинской канцелярии, но дежурный офицер, регулярно навещавший арестантские камеры, сказал, что без денег меня не осмотрят. Его сменщик подтвердил то же самое. Огольцов, чья очередь пришла в один из дней, когда мне совсем стало худо, лишь довольно рассмеялся.
— Пускай подыхает, как собака, — осклабился он. — В противном случае, я сам бы его убил.
Я почти впал в бредовое состояние, и тогда кузен не выдержал. Он согласился пойти за милостыней.
Не знаю, сколько его не было в камере. Я находился в это время в отключке. Как выяснилось, «выход за город» окончился фиаско. Горожане не желали давать милостыню немцу, попавшему в затруднительное положение. Иноземцы и те презрительно фыркали и отворачивались.
Карл принес два вареных яйца и луковицу. Он по-братски разделил со мной скромную трапезу, но еды не хватило даже на то, чтобы приглушить обострившееся чувство голода.
Немного погодя, свалился и Карл. Мы лежали на сырой соломе, мечась в бреду, накрытые из жалости кожаной дерюгой. Организмы сгорали как свечки.
Но ситуация изменилась, когда я уже решил, что окончательно протяну ноги. Казалось, судьба наша окончательно решена. Однако в один погожий денек у нас появился покровитель, вернее, покровительница.
Кому-то это покажется странным, но женщины допускались в казематы практически свободно. Кое-кто даже подкупал охранников и проносил арестантам запрещенные вещи — в частности, чернила и письменные принадлежности. Однажды к нам по ошибке заглянула молодая монашка. Ее брата арестовали и поместили в крепость, женщина хотела навестить его с передачей, но случайно перепутала камеры. Увидев, что мы в тяжелом состоянии, монашка пришла к вечеру с едой и лекарствами. Петров не стал препятствовать.
Не знаю, чем она отпаивала, но мы почувствовали себя гораздо лучше. Руки стали послушны, я поднялся на ноги. Карл тоже быстро поправился. Мы были безмерно благодарны женщине. Звали ее Еленой. Черные одеяние скрывали фигуру и лицо, но чувствовалось, что монахиня не многим старше Карла. И за ним она ухаживала по-особенному, явно выделяя.
— Он похож на моего младшего брата, — сказала как-то раз Елена.
— На того, что сидит? — с сочувствием уточнил я, зная, что арестованный родственник монашки скоро пойдет на вторую пытку.
— Нет, другого. Тот, что арестован — старшенький наш, а молодшего Васей зовут, по фамилии Нестеров. Купеческие люди, мы. Его забрали в войска, и никто не знает, что с ним случилось, — вздохнула Елена. — Как бы плохого чего не произошло. Боязно мне.
Выяснилось, что армейское начальство не утруждалось отправкой похоронок родственникам рядовых чинов, разве что, если погибшие не происходили из знатных семей. Жена-солдатка могла годами не знать, что муж давно уже похоронен в сырой земле.
«Непорядок, — подумал я. — Если каким-то чудом, смогу вырваться из застенка и сделать карьеру в армии, вот, с чего стоит начать преобразования. Не должны люди томиться в неведении. Внимание к ним — основа любого успеха».
Прошло уже больше месяца с нашего ареста. Наступила осень. Зажелтели листья, пошли непрекращающиеся дожди. Влаги и сырости стало еще больше. О переменах в природе мы узнавали из редких прогулок по территории крепости, в основном, когда нас водили к отхожему месту. Другим развлечением было посещение церкви, находившейся на территории Петропавловской крепости. Хотя Карл и не являлся православным, ему очень нравилось там бывать. Выходил он одухотворенным и очень задумчивым.
По-прежнему мы просто сидели в камере, изнывали от скуки, радуясь как празднику приходам Елены или Леночки, как любовно стал называть ее Карл. Похоже, он действительно влюбился в благодетельницу. Он стала его отдушиной среди мерзких дней и ночей в опостылевшей хуже горькой редьки тюрьмы.
Допросов все еще не было. Я видел мельком Фалалеева, когда Петров конвоировал нас с Карлом к храму. Чиновник уставился на меня, сразу узнал, но почему-то припустил в другую сторону, будто я прокаженный.
Жизнь имеет обыкновение меняться, причем непонятно к лучшему или наоборот. Как-то раз меня все же вызвали из камеры. Сердце сразу екнуло. Прошлый допрос не раз снился в кошмарах. Я вскакивал в холодном поту, крестился и с трудом усыпал снова. Повторные пытки могли оказаться мне не по силам.
Но солдаты не повели меня к застенкам. Мы прошли по длинному коридорчику, вдоль которого находились восемь невзрачных конторок. За каждым кипела работа, шли допросы, писались бумаги. Как я узнал немногим спустя: в штате Тайной канцелярии, вместе с московским отделением, состояло всего двадцать с небольшим человек, включая писарей, протоколистов и катов. Тем не менее, казалось, что щупальца этого спрута раскинулись по всей России.
Меня ввели в просторный кабинет. За огромным письменным столом, уставленным предметами непонятного предназначения, восседал Ушаков. За спиной его горел камин, весело потрескивая дровами.
Он отпустил солдат и, не страшась возможного нападения с моей стороны, предложил присесть на лавку. Впрочем, Федор Иванович действительно ничего не боялся, поскольку мог в одиночку скрутить практически любого заключенного. За неимоверную физическую силу его не раз называли Ильей Муромцем. Если бы он захотел, то сломал мой хребет поперек колена.
— Небось, соскучились по нам, барон, — с улыбкой сказал Ушаков.
— Не очень, господин генерал, — искренне ответил я.
— Верю, верю, — закивал великий инквизитор. — И перестаньте обращаться ко мне как к генералу. Можете звать меня по-простому, Андреем, по батюшке Ивановичем
— Понял, Андрей Иванович.
— Вот и чудесно. Гадаете верно, с чего бы это роспросы ваши прекратились…
— Есть такое дело, Андрей Иванович.
— А ведь мы зря время не теряли. Покуда вы в камере прохлаждались, людишки мои совсем с ног сбились.
Хотел бы я, чтобы он сам бы так в камере «прохлаждался». Но губы мои лишь изобразили нечто вроде понимающей улыбки.
— И представьте себе — нашли массу любопытных вещей, — продолжил Ушаков. — По всему выходит, что, убив Звонарского, вы оказали императорскому дому значительную услугу. Туда ему, сукину сыну, и дорога.
— Что это может означать для меня и моего кузена, — спросил я, подавшись вперед.
— А вот тут дело сложное. Убивство ведь было, значит, должны вы какое-никакое, а всеж наказание понесть. Я буду думать над решением по вашей судьбе, а оно зависит от того, что вы решите для себя.
— Простите, Андрей Иванович, мне пока ничего не понятно. Что я могу решить в этой ситуации?
— Я сделаю вам предложение, от которого вы вольны отказаться.
— Что за предложение, Андрей Иванович? — пристально поглядел я на генерала.
— Нам нужны надежные, — он надавил на это слово, — люди. Много скверны и лиходейства творится в отчизне, наша цель выкорчевать все, чтобы даже семени не осталось.
— Хотите, чтобы я сотрудничал с Тайной канцелярией?
— Нештатно, нештатно, дорогой барон. Вы ведь наверняка стремились в Россию, чтобы сделать карьеру. Считайте, вам повезло. Я помогу вам, Дитрих: сделаю так, чтобы вас зачислили в списки, скажем, лейб-гвардии ее императорского величества Измайловского полка. Вы курляндец, вас примут с распростертыми объятиями. К тому же вы спасали поручика Месснера, а он был измайловцем, значит, любовь товарищей вам обеспечена. Более того, в моих силах добиться для вас офицерского патента и прохождения баллотировки. Организовать нужную вакансию в полку — весьма просто, — Ушаков произнес это так, что сразу стало понятно — чтобы внедрить меня в Измайловский полк[8], он не остановится даже перед убийством.
— И что я должен буду делать, служа в этом полку?
— Самой главной обязанностью будет пресечение смуты. Услышать, как кто шепчет крамольные речи, плетет заговоры супротив матушки Анны Иоанновны или приближенных ее. Более того: если кто-то покажется вам колеблющимся, подтолкните его к принятию решения, чтобы мы смогли взять голубчика, покуда тот не натворил немалых бед.
Понятно, из меня готовят информатора и… провокатора. «Достойное» начало карьеры, Игорь Николаевич. Зато сколько препон сразу будет преодолено: выйду из тюрьмы, заручусь покровительством на очень высоком уровне, стану офицером, перепрыгнув большую планку, смогу предотвратить грядущий заговор. Как все изумительно складывается, какой подарок, прямо таки рождественский!
— Нет, Андрей Иванович, — твердо объявил я. — Прошу извинить покорно, но вашего предложения принять не могу.
Глава 9
Наступила долгая тревожная пауза. Ушаков задумчиво смотрел на меня, сжимая и разжимая пальцы рук. На лице его отражалась широкая гамма чувств — от раздражения до недоумения.
Я сидел ни жив ни мертв. Если всесильный глава Тайной канцелярии обрушит весь гнев на несчастного фон Гофена, от меня и мокрого места не останется.
Ушаков откинулся на спинку высокого кресла и безапелляционно заявил:
— Подумайте, барон, хорошенько подумайте. Второго раза не будет. Я предложениями не разбрасываюсь. Многие приняли бы, не раздумывая.
— Очень хорошо вас понимаю, однако решения не изменю, — заикаясь, произнес я, холодея от проявленной безрассудности.
Мысли о том, что могу поломать жизнь Карла, пришли в голову значительно позже.
— А не боитесь, барон, что после отказа, я велю, скажем, закопать вас живьем? — сухо осведомился генерал.
— Очень боюсь.
— Тогда в чем дело? — генерал нахмурился. — Почитаете нашу службу бесчестием?
— Помилуйте, Андрей Иванович. Разве может служение родине быть бесчестным. Но ведь не всегда известно, когда ты служишь стране, а когда выступаешь марионеткой в чужих руках.
— И за меньшие слова люди языков лишались. С огнем играете, фон Гофен, — покачал головой Ушаков. — Боюсь, мой долг возбудить супротив вас новое расследование.
— Что это вам даст, Андрей Иванович? Ну, повеселятся ваши каты: ребра переломают, мясо кнутами вырвут, иголки под ногти позагоняют. И что? Каков будет результат? Сломать меня не проблема, и не такие у вас после пыток ноги целовали. Натешите самолюбие, а какая от того польза стране выйдет?
— Одним болтливым наглецом станет меньше, — просто констатировал Ушаков.
— И все? Стоит ради этого запускать государственную машину? Неужто нет дел поважнее? Все воры пойманы, предатели по дубам развешены, а иностранные шпионы в казематы посажены… Все, Андрей Иванович?
— Это упрек? Да я тебя… — Ушаков побелел от злости, — в порошок сотру мерзавца этакого.
— Стойте, не ломайте дров, господин генерал. Простите мою вольность. Я никоим образом не хотел задеть ваши чувства.
Ушаков быстро взял себя в руки и заговорил спокойным тоном:
— Тогда как прикажете понимать?
— Вопрос в том, кто вам нужен, Андрей Иванович. Если ищете доносчика, презираемого всеми, в том числе и товарищами, то я не являюсь подходящей кандидатурой. Бегать в Тайную канцелярию с криками «Слово и дело» из-за того, что кто-то по глупости ляпнет что-то не вполне подобающее в адрес императрицы или членов ее кабинета — не для меня. Уверен, вы завалены такими делами и сыты по горло.
Ушаков улыбнулся. Я все же задел струнку в его душе. Действительно, львиная доля расследований в и без того небольшой по штату Тайной канцелярии приходилась на откровенную ерунду. Порой случались по-настоящему анекдотические случаи, но чиновникам приходилось тратить время, деньги и прочие важные ресурсы на полноценное следствие с привлечением свидетелей, тремя пытками и прочими стандартными процедурами. За рутиной от внимания инквизиторов ускользали действительно важные вещи — реальные, не надуманные заговоры, интриги иностранных дипломатов, разыгрывавших свои партии при дворе, да что говорить — государственные перевороты, делавшиеся силами нескольких сотен гвардейцев.
— Я недавно прибыл в Россию, — продолжил я, — но уже успел оценить «гостеприимство» вашего учреждения.
Генерал усмехнулся.
— Чем богаты… — сказал он. — Похоже, до меня начинает кое-что доходить. Быть доносчиком вы не желаете, но от сотрудничества, кажется, не отказываетесь. Набиваете себе цену, барон?
— Можно сказать и так, Андрей Иванович. То, что вы предлагаете — не мой уровень.
— Неужто на место мое замахиваетесь? — с иронией спросил Ушаков.
— Не по Сеньке шапка. Надеюсь, я правильно применяю эту русскую поговорку?
— Скажем так, ошибок за вами я пока не замечаю, — кивнул генерал.
— Тогда я объясню свою позицию.
— Окажите милость, — опять заулыбался Ушаков.
А мужик-то с юмором, подкалывает в нужный момент. И чувствуется, что заинтересовался. Постараюсь, чтобы рыбка с крючка не спрыгнула.
— Не сомневайтесь, я знаю себе цену, но не собираюсь требовать денег, чинов и привилегий. Нет-нет, — я поспешил предупредить ехидное замечание Ушакова, — меня с полным основанием можно назвать честолюбивым карьеристом, но всякая милость с вашей стороны быстро обратит внимание тех, кому лучше бы держаться в неведении. Я буду пробиваться сам. Если действительно увижу угрозу стране и престолу, приду к вам и расскажу все, что знаю. Но роль мелкого шпика не для меня. Уж извините. Это все равно, что палить из пушки по воробьям.
— Вы ведь из немцев, фон Гофен. Почему я могу вам доверять?
— Очень просто: я решил связать судьбу с Россией, поэтому буду служить ей до последнего вздоха. Простите за пафос, но это так.
Задумчивость во взоре генерала снова сменилась живым интересом.
— Что-то в вас есть, фон Гофен, правда, пока не понимаю что именно, — проницательно заметил он.
— Что вы, — удивлено сказал я. — Человек я самый рядовой.
— А вот тут я с вами не соглашусь. Странный вы, барон, зело странный, но странность эта искусно маскирована. Не могу вас раскусить вот так с пылу с жару. Ну да ничего. Человек вы вроде невредный, и какая-то польза от вас непременно должна быть. Я подумаю над вашими словами.
Взгляд Ушакова пронизывал, будто рентген, казалось, генерал читает мои мысли. Человек, занимавший такой высокий пост, просто обязан иметь хорошую интуицию, иначе не выжить, но у Андрея Ивановича она была не просто хорошей — я бы назвал ее потрясающей. Не знаю, что он чувствовал, но мне было весьма не по себе.
— Вижу, беседа наша подошла к концу. Не стану неволить вас, барон. Я бы конечно мог заставить вас следовать только моим директивам, но боюсь потерять на этом больше чем приобресть.
— Спасибо за разговор, Андрей Иванович. Перед тем, как меня уведут, скажите: что будет со мной и моим кузеном? — я не мог не задать этот главный вопрос.
— Скоро узнаете, — многозначительно произнес Ушаков, прежде чем вызвать караул.
Я вернулся в камеру. Не находивший себе места Карл, успокоился, увидев, что со мной все в порядке. День прошел как обычно, а вот на утро нас ожидал сюрприз.
Еще до первых петухов дверь камеры распахнулась. На пороге стоял сержант измайловец. Благодаря караульным я научился довольно сносно различать мундиры полков, так что определялся теперь практически с лету — особенно с гвардейцами. Правда, отличий между унтер-офицерами в одежде не имелось, что сержант, что капрал одного полка одевались одинаково. Но этот представился, видимо, гордясь должностью.
— Господа фон Гофен и фон Браун, прошу привести ваши костюмы в порядок и следовать за мной, — тоном, не терпящим возражений, объявил он.
— Что это значит? — спросил я, теряясь в догадках.
— Вы свободны. Всякая вина с вас снята. Пройдемте в канцелярию, дабы уладить формальности и подписать бумаги о неразглашении тайны.
Не веря в происходящее, мы с Карлом пулей вылетели из камеры, ожидая вдогонку криков или выстрелов в спину, но все обошлось. Подписав все, что требовалось и, заверив, что будем строго блюсти все тайны, поспешили покинуть Тайную канцелярию, пока никто не передумал.
За воротами крепости стояла закрытая карета.
— Садитесь, — приказал сержант.
— Но ведь мы свободны и вольны поступать как заблагорассудится, — удивился я.
— Садитесь, — настойчиво повторил сержант. — Это в ваших же интересах.
Мы с Карлом переглянулись и, не сговариваясь, полезли в карету. Терять все равно было нечего: без рекомендательных писем, которые в канцелярии испарились вместе с деньгами и некоторыми предметами гардероба, перспективы вырисовывались безрадостные. Хорошо хоть шпаги сохранились. Судьба наших коней тоже оказалась скрытой в тумане. Похоже, кому-то из окрестных крестьян повезло заполучить в хозяйство парочку отличных лошадей.
Сначала нас отвезли в баню, я не мылся больше месяца и с восторгом принялся парить себя веником. Карл впервые столкнулся со странной процедурой русского мытья и долго не мог оценить ее по достоинству. Он очень удивлялся тому, что я балдею от этого «варварства». А когда истопник окатил его ушатом ледяной воды, кузен едва проделал в незадачливом мужике лишнюю дырку.
Из парилки мы вышли красными как вареные раки, без сил свалились на деревянные лавки и поняли, что умираем от жажды. Проблема решилась мигом. Нам преподнесли по здоровенному ковшу кваса, и тогда я понял, что попал на небеса.
Сержант положил на лавку две нательных рубахи и две пары портов. Если Карлу белье пришлось впору, то на мне все угрожающе трещало и местами рвалось. Я уже обратил внимание, что по здешним меркам был все равно, что великаном, возвышаясь над всеми почти на голову.
— Ваша одежда пришла в негодность, — сообщил сержант.
— Тоже мне новости, — хмыкнул я.
Длительное пребывание в сырых и холодных застенках вряд ли бы смог выдержать даже спецкомплект химзащиты из двадцать первого века, что говорить про наши штаны и камзолы.
— Я купил кое-что из готового платья, — не обращая внимания на иронию в моих словах, произнес измайловец.
— Спасибо, конечно, но у нас нет денег. Не представляю, как буду с вами рассчитываться, — вздохнул я.
— Ничего страшного. Мне выдана денежная сумма для этих целей, — со стоическим спокойствием пояснил сержант.
— Кем выдана? — заинтересовался я, но измайловец почему-то не стал отвечать.
Обсохнув и переодевшись, вышли на улицу. Солнце стояло высоко, обогревая не по-осеннему теплыми лучами.
Мы поехали в сторону Васильевского острова. Я с любопытством посматривал по сторонам, понимая, что этот город очень отличается от привычного Петербурга, начиная с того, что один из самых прекрасных уголков любимого города был пока на две трети занят лесом, а добрая половина встреченных домов стояла пустынными, без окон и дверей, подвергаясь неминуемому разрушению.
Карета подъехала к красивому двухэтажному каменному особняку, окруженному густым ельником. Стены покрывала штукатурка, крыши уставлены печными трубами из красного кирпича. Мы спрыгнули на деревянную мостовую и сразу оказались объектом внимания вооруженных гвардейцев, охранявших дом. Судя по тому, что их было человек десять, не менее, я понял, что нас привезли к какому-то знатному вельможе.
Мы вошли через высокие, покрытые темным лаком двери, по верхнему уровню которых с обеих сторон расположились круглые оконца, и оказались в вестибюле с полом, напоминающим шахматную доску. Сводчатые потолки сияли белизной побелки и были украшены лепниной с непонятным узором. Ряды ступенек, выстроившихся полукругом, вели к арке. За ней начиналась широкая лестница с железными перилами.
Возле арки стоял дворецкий в зеленом камзоле и жилете из золотой парчи, обутый в мягкие туфли. Он скорчил любезную мину и сообщил, что хозяин особняка приглашает навестить его и составить «кумпанию» в кабинете.
— А как зовут твоего господина? — придержав слугу за рукав нарядного камзола, расшитого золотыми нитями, спросил я.
Дворецкий смерил меня удивленным взглядом:
— Разве вам не сказали?
— К сожалению, нет.
— Мой хозяин — господин лейб-гвардии подполковник Измайловского полка и генерал-адъютант ея императорского величества Густав фон Бирон[9], — с гордостью сообщил дворецкий.
Глава 10
Пришло время ненадолго оторваться от повествования и рассказать о человеке, с которым нас свела судьба.
При Анне Иоанновне служили сразу три Бирона — три родных брата. Если кто-то представляет их саранчой, слетевшейся на жирные российские угодья, то делает большую ошибку. Самый старший — Карл, возраст его перевалил за пятый десяток, был армейским генералом, хорошо зарекомендовавшим себя во многих походах. Ему не раз поручали ответственные задания по снабжению русских войск, и горе было тем казнокрадам и недоимщикам, что попадались на его пути.
Средний — сорокапятилетний Эрнест-Иоганн[10] являлся фаворитом императрицы. Благодаря его «стараниям», в истории появился термин «бироновщина». Он — самый знаменитый из всей троицы.
Густаву — младшему из Биронов, исполнилось тридцать пять лет, будучи к моменту нашей встречи видным мужчиной в самом соку, он успел послужить в польской армии, заслужив чин капитана панцирных войск. Бардак, творившийся в Речи Посполитой, порядком ему надоел, ибо жалованье изрядно задерживалось, а поляки-шляхтичи больше воевали друг с другом, рубясь на Сеймах по каждому пустяку, нежели вступали в схватку с врагом внешним. Какое тут продвижение по служебной лестнице, гляди, чтобы не оказаться замешанным в заварушку с неизвестным концом. А Густав не любил политику. Будучи по природе человеком прямым и открытым, искал ратных подвигов и славы и всегда находился в стороне от бурлящей интригами придворной жизни. Когда Эрнест-Иоганн вошел в фавор у Анны Иоанновны, он сразу же разослал приглашения братьям. Густав с радостью откликнулся и как нельзя вовремя.
Летом 1730 года императрица решила умножить русскую гвардию еще одной пехотной частью — лейб-гвардии Измайловским полком, названным в честь подмосковного имения Романовых — села Измайлово. Есть версия, что он создавался в качестве противовеса полкам старой, еще петровской гвардии (Семеновского и Преображенского), в искренней верности которых Анна Иоанновна могла сомневаться. Как бы то ни было — основу нового подразделения составили рядовые украинской ланд-милиции — в большинстве бедные дворяне, владевшие одним-двумя крепостными. Они получали жалование, уступавшее армейскому, зато наделялись землей. Майор Хрущев, которому поручили подбирать будущих гвардейцев, искал людей рослых, что в те времена являлось довольно серьезной проблемой, ибо средний рост мужчин в России не превышал 160 сантиметров. Для сравнения, прусские пехотинцы были как на подбор в среднем метр восемьдесят.
Унтер-офицеров и капралов взяли из армейских частей московского гарнизона. Высший офицерский корпус состоял большей частью из иностранцев — лифляндцев, эстляндцев и курляндцев. Встречались и русские (к примеру, одним из трех майоров был Иван Шипов, служивший полковым квартирмейстером). Густав стал майором Измайловского полка и получил в управление третий батальон. Полковником назначили графа Карла Левенвольде, однако в 1735 году он умер. Спустя несколько месяцев императрица Анна Иоанновна приняла решение стать полковником и шефом измайловцев.
Густав получил очередное повышение — чин подполковника. Ему фактически не раз приходилось брать командование измайловцами на себя. Он пользовался любовью и авторитетом у сослуживцев, считавших его честным, порядочным и верным товарищем. Жил в счастливом браке с красавицей Александрой[11], дочерью знаменитого временщика — Меншикова. Ему принадлежал дом, справедливо считавшийся одним из самых красивых в Петербурге.
Как видим — двое из трех Биронов полностью посвятили себя армии — одному из двух настоящих союзников России, и не раз отличились на поле битвы.
Но пока что ничего из этого я не знал и ломал голову, гадая, кому мы понадобились, и какое отношение Густав Бирон имеет к легендарному Бирону, вошедшему во все учебники истории.
Мы поднялись на второй этаж.
— К вам посетители, — постучавшись в высокую двустворчатую дверь, сообщил слуга.
— Прекрасно, пускай входят, — раздался веселый голос за стеной.
— Пожалуйте, — дворецкий распахнул двери.
Огромный рыжий мужчина в сибаритской позе полулежал возле кафельной печи, на кушетке, закутавшись в роскошный шелковый халат, и курил трубку. Он вальяжно привстал, подошел к нам и неожиданно стиснул в объятиях сначала меня, а потом Карла. Я невольно заскрежетал зубами: вывихнутые во время пытки плечи все еще побаливали, а объятия Густава были поистине медвежьими. Благодаря ежедневным тренировкам руки постепенно разрабатывались, но идеальным их состояние я б не назвал.
Мы представились Бирону.
— Господа, рад встретить вас в здравии, — Густав явно знал о нашем заключении в Петропавловской крепости, но пока избегал говорить на эту тему. — Так редко доводится видеть новые лица соотечественников. Вы ведь из нашей, разоренной войною Курляндии?
— Да, — подтвердил Карл. — У нас скромные владения под Митавой.
— Прекрасно, наш род издавна владеет мызой Каленцеем. Бывали? Премилое местечко, память детства. Я там родился. Ох, как же так! Извините покорно: совсем забыл о гостеприимстве. Присаживайтесь, — Густав Бирон показал рукой на роскошные диваны. — Рассказывайте, как там на родине… Я прикажу подать сюда обед. Надеюсь, не откажете в чести откушать со мной?
Мы поспешно закивали, потому что не ели с самого утра. Кроме того, после «тюремных разносолов» хотелось попробовать нормальной домашней пищи.
За окнами барабанил дождь, ветер нагибал верхушки высоченных сосен и гонял опавшую листву. В натопленной комнате было тепло и уютно. Приятная слабость и дремота постепенно обволакивала меня подобно рассветному туману. Веки налились свинцовой тяжестью. Я осоловело подремывал, даже не пытаясь вслушаться в разговор Бирона и Карла. Надеюсь, хозяин был не в обиде.
— Как Руэнталь, Митава? Сто лет там не был, — продолжал расспрашивать Густав.
Поскольку от меня толку мало — я ведь ничего не мог рассказать о прошлой жизни фон Гофена, отдуваться приходилось Карлу. Но он легко справлялся с этой обязанностью. Выяснилось, что у Карла и Бирона масса общих знакомых. Не удивлюсь, если выяснится, что мы, вдобавок, доводимся друг другу родственниками.
— А, вот и обед, — захлопал в ладоши Густав, завидев слуг кативших на тележках огромные подносы с едой. — Не взыщите, сегодня будет простенько, по-походному. Предаваться эпикурейству некогда. Служба… — он тяжко вздохнул.
Не знаю насчет Карла, а мне обед у Бирона показался лукулловым пиром. Думаю, юноша тоже не разачаровался.
— Что у нас на первое? — хозяин приподнял крышку кастрюльки, опустил половник и мечтательно закатил глаза:
— Гамбургский суп из угря. Мой повар готовит его потрясающе. К тому же я в восторге от русского обычая начинать обед с пирожков.
К этому моменту мы с Карлом буквально истекали слюной, уж больно одуряющее пахла еда.
Суп сменился рыбой с овощами, политой пряным соусом-смесью из гвоздики, перца и мускатного ореха.
— Вам приходилось угощаться земляными яблоками? Я пристрастился к ним, будучи в Германии. Признаюсь, прусский император Фридрих Вильгельм был прав, когда велел рубить носы и уши тем, кто откажется их сажать. Вкус невообразимый. Жаль, здешние крестьяне придерживаются суеверия, что кушать их, все равно, что души человеческие. Приходится выписывать из-за границы.
Я попробовал и понял, что Густав Бирон говорит о картофеле. Эх, картошка! Как я по тебе соскучился! Хорошо, что меня занесло в те времена, когда этот овощ уже начинал постепенно распространяться. Знаю, что выращивание картофеля в России шло со страшным скрипом, крестьяне почему-то безумно дорожили набившей оскомину репой до такой степени, что не хотели менять ее на что-то другое.
На десерт подали пирожное, фрукты и кофе. Я так объелся, что с трудом дышал. Пожалуй, вредно набрасываться на еду с таким жаром, особенно после тюремной отсидки, можно заполучить заворот кишок.
Бирон предложил завершить обед штофом водочки и курением трубки, но мы оба отрицательно замотали головами. Я в привычной жизни не курил и старался пить как можно реже. Карл вроде был со мной солидарен.
Не огорчившись, Бирон, хлопнул в ладоши, вызвав слуг. Те появились так быстро, будто стояли за дверью.
— Уберите, — коротко приказал он.
Пока слуги суетились, Бирон неторопливо раскурил трубку и приступил к главному:
— Господа, вы люди умные и понимаете, что ваш визит вызван неслучайными причинами, — он выпустил колечко дыма.
— Догадываемся, — за всех ответил я.
— Я недавно вернулся из зарубежной поездки. Матушка Анна Иоанновна разрешила отправиться волонтером в Цесарскую армию. Собралось достойное общество, кроме меня вызвались капитан-поручики Трубецкой и Мейендорф, поручики Левенвольде и Барятинский. Да много, кто еще был. Провел четыре месяца в окружении блистательного принца Евгения Савойского и узрел немало для себя полезного в организации австрийских войск. Но по возвращению в Петербург, узнал, что один из поручиков моих — доблестный Месснер чудовищно убит, и в убийстве том оказались замешаны вы и капрал Звонарский.
— Мы не убивали поручика, — горячо воскликнул Карл.
— Я знаю, — устало протянул Густав Бирон. — Брат мой, обер-камергер, по моей просьбе попросил Андрея Ивановича Ушакова раскрыть сие дело со всей старательностью. Стоит отметить, что расследование действительно было произведено, как подобает. Мы узнали, что за убийством сиим стоит не кто иной, как Иван Иванович Лесток, лейб-хирург при цесаревне Елизавете Петровне. Похоже, вместе с послом французским он ведет опасную игру. Вы же случайно вмешались в нее и нанесли Лестоку значимый урон.
— Кто же стрелял в Месснера? — спросил я.
— У Лестока есть приближенное лицо, жестокий и кровожадный убийца. Никто не знает, как его зовут и кто он. Известно только его прозвище Балагур, но кого скрывает сия маска — досель является тайной. Мы полагаем, что Месснера застрелил он.
— Неужели Тайная канцелярия не сумела напасть на его след?
— Увы, Лесток при кажущейся ветрености и беспечности зело осторожен, а Тайная канцелярия опасается допросить его со всем пристрастием. Ибо он весьма приближен к особе цесаревны, а та слишком популярна в полках старой гвардии. Брат серьезно опасается широких волнений.
«И правильно делает», — подумал я.
— Андрей Иванович сообщил, что вы проявили благородство, вступив в схватку со злодеем Звонарским, и не ваша вина, что поручик погиб. Вы сделали все, что могли. Ваша отвага не могла пройти мимо меня. Я знаю, что такое полковое товарищество и хочу отблагодарить вас за ваши деяния. Кроме того, мы земляки и наш долг помогать друг другу. Вы ведь прибыли в Россию с чаяньем поступить на военную службу?
— Изначально у нас были такие намерения, — сказал Карл. — Правда, последние обстоятельства несколько поубавили наш пыл.
— О, если вы говорите о днях, проведенных в Петропавловской крепости, я постараюсь загладить чужие ошибки. У меня в полку появились две вакансии, обе на рядовые чины, но молодцы вроде вас без всяких опасений быстро выбьются в офицеры. Тому будет моя порука.
— Вы предлагаете нам службу в гвардии? — уточнил я.
— Да, в лейб-гвардии Измайловском полку. Вы, фон Гофен благодаря богатырской стати можете стать гренадером[12]. В каждой роте служит по шестнадцать гренадер. В особое время их сводят в специальную роту. Вы, фон Браун, не столь высоки и могли бы…
— Я бы тоже хотел стать гренадером и служить вместе с кузеном, — вмешался Карл.
Бирон посмотрел на него сверху вниз.
— Быть по сему, — благосклонно сказал он. — Я подготовлю приказ о вашем зачислении. Дней через десять приходите в полковую канцелярию, все будет готово.
— Благодарим за честь, — мы с Карлом одновременно встали и поклонились.
В комнату без стука вошла молодая красивая женщина, с черными пронзительными глазами и такими же волосами.
— Сашенька, это мои земляки, бароны фон Гофен и фон Браун, — обняв жену за талию, игривым голосом произнес Бирон. — А это моя жена, княгиня Александра Александровна.
— Очень приятно, господа, — вежливо произнесла женщина.
После того, как ее отец — сиятельный князь Меншиков — впал в немилость и оказался в опале вместе со всей семьей, она провела четыре тяжелых года в ссылке в Березове, где наряду с простыми крестьянками «чинила платье и мыла белье». В 1731 году, взошедшая на престол Анна Иоанновна, вернула Меншиковых из ссылки — выжили только Сашенька, унаследовавшая красоту старшей сестры Марии — невесты Петра Второго, и ее брат, тоже Александр. Ссылка изменила их характеры. Некогда взбалмошные и тщеславные баловни судьбы превратились в саму простоту и скромность. Александра вышла замуж за Густава Бирона и жила в пышности и богатстве, однако в сундуке ее до сих пор хранилась крестьянская одежда, привезенная из Березова.
Несмотря на вежливое и скромное обращение женщины, мы быстро поняли, что пребывание наше в этом гостеприимном доме затягивается, и поспешили раскланяться.
Выйдя из ворот, я резко остановился. Шедший позади Карл не успел среагировать и врезался мне в спину.
— Ты чего? — удивился кузен.
— Ничего, — сказал я. — Когда подполковник сказал прийти в канцелярию?
— Через десять дней, — спокойно пояснил Карл.
— Вот именно, что через десять, — с нажимом произнес я. — Надо каким-то образом перекантоваться десять дней, и как это сделать, если в карманах свищет ветер, и мы не знаем здесь ни одной души?
Глава 11
— Пере… что? — не понял Карл.
— Перекантоваться. Ладно, забудь, — махнул рукой я. — Так, выраженьице липкое. Я вот к чему — вопросы надо порешать: где жить и что есть. Было бы лето, с ночевкой особых проблем бы не возникло. Тут половина домов пустые стоят — залезай и живи, только на глаза не попадайся. Но сейчас поздняя осень, даже днем холодно, а ночью вообще зуб на зуб не попадает, плюс дождь как из решета с утра и до вечера, значит, нужно искать какую-нибудь съемную квартиру или постоялый двор, где тепло и сухо.
— Петербург дорогой город, — сообщил кузен.
— Вот именно. За любую ерунду штаны последние снимут. При наших нынешних финансах, вернее совсем без них — ничего хорошего нам не светит. Деньги нужны.
Действительно нужны. Без них, что в осьмнадцатом веке, что в двадцать первом — труба. И как достать сумму, которой хватит на ближайшие день-два, ума не приложу. Заработать? Каким образом? Все что я умею, здесь вряд ли пригодится. Даже грамотность моя относительная, ибо письменность, что русская, что немецкая отличается от той, что меня учили. Я понятия не имею где и когда надо ставить всякие «яти» и не уверен, что «жи-ши» пишутся сейчас через «и». И тем более местным не надо ставить программку на компьютер, настраивать принтер или менять картридж в ксероксе. Никому, выходит, мои умения не нужны.
И по хозяйству помочь не сумею. Городской быт мало, чем отличается от деревенского: парового отопления нет, удобства во дворе, ванну не принять, еда в печах готовится, а их топить надо углем или дровами.
А я дрова-то рубил раза два в жизни, на даче. Обычно давал соседу бывшему колхознику пять сотен, так он мне два кубометра березы за день колол и в поленицу укладывал.
Отправиться в порт, поработать грузчиком? Во-первых, дворянину зазорно, во-вторых, денег больших вряд ли заработаешь, а спину с непривычки сорвать можно. Да и руки у меня после дыбы не прошли, не стоит перенапрягать.
— Может, продадим что-нибудь? — предложил Карл.
— Ну да, чтобы продать что-нибудь ненужное, сначала надо купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет.
Кузен, не читавший Успенского, не оценил шутку юмора.
Впрочем, рациональное зерно в его предложении есть. Мне приходилось оказываться в стесненных обстоятельствах, и тогда на выручку приходили ломбарды. Не знаю, как с ними обстоит дело в России восемнадцатого века. Наверняка должны существовать, если не ломбарды в классическом виде, так ростовщические конторы или лавки, где можно взять деньги под проценты, оставив что-нибудь в заклад. При Бироне (фаворите) ремесло это цвело и пахло. Гонения на ростовщиков начались позже, при Екатерине Второй, когда дворяне прозакладывали чуть ли не все имения. А пока тишь да гладь.
Вообще Бирон, насколько мне помнится, жил сам и давал жить другим. Торгаши, которых мы последние двадцать лет считаем, чуть ли не двигателем прогресса, при нем процветали. Правда в моем времени, они умудрились накачать кровушкой паразита в виде Соединенных Штатов Америки, и теперь этот пузырь грозил похоронить под своими обломками половину земного шара. А ведь я даже не знаю, что сейчас в Новом Свете делается: то ли англичане вместе с чингачгуками мочат французов, которые за бисер и бусы навербовали других краснокожих, то ли практичные янки уже топят английские корабли. В чем-чем, а в отсутствии практичности, англосаксов обвинить нельзя. Если на землях будущих ковбоев и бэтманов от индейцев остались разве что резервации, то страшно-ужасные конкистадоры умудрились сохранить чуть ли не полные популяции аборигенов. Впрочем, я отвлекся.
Итак, что можно оставить под залог — вряд ли нам поверят на слово? Нет, у Карла лицо честного человека, а я скорее похож на пирата Джо Тупая Башка. Ничего ценного при нас нет. Взгляд задержался на шпаге Карла, опустился на мою. Что если…
Я задумался. Почему нет? Бриллианты и прочие украшения на наших шпагах отсутствуют: оружие боевое, а не парадное, но каких-то денег, пусть и не сумасшедших стоит, а нам бы всего десять дней простоять, да десять ночей продержаться. Хотя, кто знает, насколько это комильфо — закладывать ростовщикам подобные вещи? В голове возникла непонятно откуда взявшаяся фраза: «Дворянину пристойнее показаться на людях голым, нежели без шпаги». С другой стороны, помню из Дюма, что Портосу очень нравилась шпага Атоса, и несчастный толстяк сокрушался, что граф де ля Фер не закладывает ее и не продает. Выходит, вариант нормальный. Здешние дворяне, насколько я убедился, не такие уж щепетильные.
Я поговорил с Карлом и убедился, что не ошибаюсь. Если нужда заставит, можно заложить что угодно. Дворянский неписанный кодекс в этом отношении довольно мягок. Правда, возвращать деньги дворяне не любили, за исключением карточных долгов (дело чести), а так…
Мы вернулись к дому Густава и поболтали с гвардейским сержантом, отвечавшим за охрану особняка. Он быстро вошел в положение и посоветовал поспешить, пока не поздно, в лавку итальянца-ростовщика Пандульфи.
— У него многие одалживаются, — сказал сержант. — Сейчас еще ничего, а раньше задержки с жалованьем постоянные были, только у Пандульфи и спасались. Но ухо держите востро: хитрый как лиса. Не обращайте внимания на первую цену, торгуйтесь, иначе заломит несусветные проценты, особенно с тех, кто с ним еще не сталкивался. Что предложит, смело делите пополам, и на том твердо стойте. Иначе с этим жуком поступать нельзя.
Судя по уверенности в голосе сержанта, он не раз прибегал к услугам итальянца.
— Спасибо, — поблагодарил я. — Адресок не подскажите.
Сержант объяснил, как пройти. На первый взгляд было недалеко. Я осознал ошибку позднее, когда выяснилось, что одно дело кататься по Питеру в метро или на автобусе и другое — топать пешком. Даже если бы чудом нашлись деньги на извозчиков, конное «такси» все равно не нанять. Частный извоз в Питере восемнадцатого века не процветал. Большинство дворян ездило верхом или в собственных экипажах. В Москве, говорят, дело обстояло по-иному.
К лавке итальянца мы добрались уже вечером, когда на улице вовсю коптили небо масляные фонари.
Пандульфи жил в двухэтажном доме с колоннами наподобие римских. Этакий Колизей в миниатюре. За витринами первого этажа стояли шкатулки, кубки, подсвечники, какие-то непонятные предметы. Очевидно, владельцы не смогли вовремя вернуть выкуп, и ростовщик устроил распродажу.
Нам повезло — лавка еще не закрылась, однако итальянец не мог принять сразу. В конторе находился кто-то, желавший сохранить инкогнито. Прибыл он на карете без гербов. Кучер, сидевший на козлах, подозрительно посматривал в нашу сторону. Понятно, сплошные секреты.
Интересная картина: к услугам ростовщикам прибегали практически все, особой тайны из этого не делалось, однако кредиторов, мягко говоря, не любили, старались всячески унижать, пнуть побольнее, а упоминание о визитах в их лавки считалось постыдным.
Мы проторчали возле дома Пандульфи больше часа, замерзнув как цуцики. Стоит отметить, что европейское платье, мода на которое в России появилась благодаря царю-реформатору Петру Первому, не очень приспособлена к особенностям нашего климата. Летом в нем жарко, зимой холодно. Солдаты, вынужденные в разгар пекла носить кафтаны поверх камзолов, с обсыпанными за неимением пудры мукой волосами, просто изнемогали, теряли сознание во время многочасового стояния в строю. Не спасали от холодов и моросящих дождей епанчи — шинели в армии появятся позднее, их введет император Павел. Вот уж кому доставалось от историков за введение формы прусского образца, хотя только за солдатскую шинель он уже заслужил себе памятник.
После Екатерины Второй ему досталось весьма разболтанное и расшатанное наследство. Дисциплина в армии хромала, экономика страны медленно, но верно летела в тартарары. Павел же был педантом, стремящимся к возведенному в абсолют порядку. Понятно, что наводился он твердой и безжалостной рукой, но по-другому в тогдашней, да и нынешней России нельзя. Жаль, не долго правил Павел Петрович.
Где-то хлопнула дверь, прозвучали осторожные шаги. Кто-то сел в экипаж, я увидел, как рессоры прогнулись. Карета тронулась с места и растворилась в темноте. Очевидно, таинственный инкогнито выбрался через черный ход, ибо ни Карл, ни я его не заметили. На пороге лавки появился слуга:
— Проходите, господа. Хозяин освободился.
Мы шагнули внутрь. Переливисто зазвенели колокольчики, подвешенные над дверью. Из-за плотной драповой портьеры появился невысокий плешивый человечек с подсвечником в руках. При виде его сразу вспомнился герой «Буратино» — Джузеппе Сизый Нос.
— Чем могу служить господа? — его речь текла плавно, будто ручей.
Итальянцев принято считать темпераментными, суетящимися, постоянно размахивающими руками. Отчасти так оно и есть, однако процент флегматиков среди жителей Аппенинского полуострова ничуть не меньше, чем скажем в средней полосе России. Пандульфи, очевидно, отличался изрядным спокойствием и хладнокровием. Сомневаюсь, что на него так подействовал наш холодный климат.
— Здравствуйте, сударь. Мы ищем господина Пандульфи, — пояснил Карл.
— Пандульфи — это я. Считайте, что я полностью к вашим услугам, — опустил подбородок плешивый. — Какой повод заставил вас искать в этот промозглый вечер моего общества?
— Может, поговорим об этом в другом месте? — предложил я.
— Понятно, — Пандульфи бросил тоскливый взгляд на наши простые камзолы, догадался, что клиенты из нас не ахти, вздохнул и предложил пройти за ним.
Кабинет у ростовщика был маленьким и тесным. Половину помещения занимало массивное бюро из мореного дуба со столешницей покрытой бархатным сукном, с несколькими рядами выдвижных ящичков с позолоченными ручками. Стены обклеены строгими обоями, потолок обшит деревянными панелями. По бокам бюро скрипучие неудобные кресла, очевидно, чтобы клиент, пришедший сюда отнюдь не по радостному поводу, ощущал еще больший дискомфорт и был более сговорчив. Психология, дери ее за ногу.
Итальянец указал рукой:
— Садитесь.
Мы упали в кресла. После долгой прогулки под открытым небом, ноги не держали. Так, надо настроиться на нужный лад, показать Пандульфи, что и мы не лыком шиты.
Итальянец закрыл дверь ключом, положил его в кармашек камзола:
— Чтобы не мешали! Вы ведь хотите поговорить с глазу на глаз?
— Безусловно, — подтвердил я.
Пандульфи разместился на противоположном конце бюро, устроив тощую пятую точку на стуле с высокой резной спинкой.
— Могу я узнать ваши имена?
Понятно, что можете. В противном случае разговора не будет, не так ли синьор Пандульфи.
Я откашлялся и сообщил:
— Я Дитрих фон Гофен, а это мой кузен Карл фон Браун.
— Рад видеть перед собой молодых аристократов. Мое имя вам известно. Вы, вероятно, прибыли из Пруссии? — наугад предположил итальянец.
— Нет, из Курляндии.
— Думаю, вам здесь понравится. Россия — фантастическая страна. Столько возможностей для умного и ловкого человека. Вы приехали сюда, чтобы удовлетворить тягу к путешествием, или думаете обосноваться?
— Мы поступаем на службу.
— Позвольте, догадаюсь, — Пандульфи прищурился. — Наверняка вас привлек блеск российской гвардии. Это очень почетно. Многие иностранные дворяне прибывают в Петербург, чтобы найти место в рядах одного из четырех гвардейских полков. Я прав?
— Да. Нас зачисляют в штат лейб-гвардии Измайловского полка.
— О, у вас, конечно, есть офицерский патент, — с придыханием спросил итальянец.
— Увы, — вздохнул я. — Мы начнем службу с рядовых должностей.
— Похвально, молодой человек. Вы рождены для военной службы. У вас сложение как у Аполлона.
Я чуть не поперхнулся. Итальянец вроде производил впечатление нормально ориентированного, а тут — ни с того ни с чего расточает комплименты в адрес моей фигуры. Глядишь, еще и свидание назначить. Ладно, шутки в сторону. Я ведь не силен в обычаях.
— Но у нас возникли небольшие трудности…
— Небольшие? — недоверчиво протянул Пандульфи.
Да как сказать: жрать нечего и спать негде. Пустяки, одним словом.
— Разумеется, небольшие, — с улыбкой сказал я.
— Ай-яй-яй, — грустно покачал головой ростовщик. — Печально слышать, что подающие большие надежды молодые люди терпят неудобство. Нехорошо.
— Конечно, нехорошо, — с легкостью согласился я. — Так что мы очень на вас рассчитываем, синьор Пандульфи.
— О, вы назвали меня синьором, я очень растроган, — смахнул невидимую слезу с умилившихся глаз, ростовщик. — Сразу вспомнилась родина, милая сердцу Италия, ее горы, поля, луга.
«Макароны, пицца и кьянти», — подумал я.
Хотя не факт, что кьянти уже изобрели.
— Ну, так вы нам поможете?
— Чем именно, я могу оказаться полезен? — в голове ростовщика крутанулась ручка кассового аппарата.
— Не могли бы ссудить нам незначительную сумму, так, на мелкие расходы…
— Смотря что понимать под мелкими расходами. В ваши годы у меня были расходы только на одно — девушки, девушки, девушки… — мечтательно закатил глаза Пандульфи.
Хм, а по виду не скажешь. Сморчок сморчком, а есть что вспомнить о геройской молодости.
Нет, для нас первым делом идут даже не самолеты — ночлег, еда и все такое. Девушки, действительно, потом. Хотя насчет Карла твердой уверенности нет. Есть в нем что-то от дамского угодника.
— Видите ли, мы действительно поступаем на службу в гвардию. Через несколько дней все бумаги будут оформлены, потом получим жалованье, однако до этого срока нам понадобятся деньги.
— Безусловно, безусловно, — кивал ростовщик, как китайский болванчик. — Только не обижайтесь, милостивые господа, я не могу вот так взять и отдать деньги, — итальянец не произнес фразу «первому встречному», но нам сразу стало ясно, что он имеет в виду.
Понятно, одной распиской не отделаться.
Я отстегнул от пояса шпагу и положил на стол.
— Сколько дадите?
— Позвольте, — ростовщик взял шпагу, покрутил в руках, внимательно изучил лезвие, эфес, рукоятку.
— Семейная реликвия, — на всякий случай пояснил я.
— Не спорю, — Пандульфи кивнул. — Что же я всегда рад выручить из затруднительной ситуации. Надеюсь, пяти рублей под сорок процентов годовых будет достаточно.
Я вспомнил напутствие сержанта и решительно произнес:
— Дайте десять рублей, и мы сойдемся на двадцати процентах.
— Боюсь, вы ошиблись адресом, — поджал губы Пандульфи. — Я — не Монетная контора, чтобы давать вам восьмипроцентные ссуды на три четверти стоимости заклада, а вы — не из придворного окружения императрицы.
— Восемь рублей и тридцать процентов, — предложил я.
— Вы торгуетесь как на базаре, — вздохнул Пандульфи.
— Только не говорите, что мы вас разоряем, — предупредил я.
— А что же вы делаете? — вроде искренне удивился ростовщик. — Исключительно из уважения к вашим титулам… кстати, какие у вас титулы?
— Мы бароны, — подбоченившись пояснил Карл, дотоле не вмешивавшийся в разговор.
Пандульфи взгрустнул.
Как выяснилось, в России баронский титул высоко не ставился, ибо почти все прибывшие в страну иностранцы (особенно немцы) оказывались носителями этого дворянского звания. Позднее, баронами за деньги будут становиться ростовщики и финансисты. Так что если кто-то из ваших знакомых хвастается дворянскими корнями, возможно, его предки просто выложили когда-то кругленькую сумму.
— Из уважения к вам, бароны фон Гофен и фон Браун, — продолжил Пандульфи, — я пойду на уступки: семь рублей и тридцать процентов. Это мое последнее предложение.
— Идет, — согласился я, понимая, что лучших условий от него не добьешься.
Получив деньги и оставив в заклад шпагу, мы побыстрее выскочили наружу.
— Поищем постоялый двор подешевле, — сказал я.
Теперь, когда карманы оттягивала приличная сумма денег, на душе стало гораздо теплей. Будущее вновь показалось радужным и веселым.
Не успели мы дойти до конца улицы, как из подворотни ближайшего дома высыпала ватага человек в шесть — рослых, наглых, с дубинками и кистенями в руках. Они быстро нас окружили, преградив дорогу.
— Позвольте пройти, — подался вперед Карл.
Но я, чуя неладное, остановил его.
— Господа, будьте так добры, отсыпьте от щедрот ваших сирым и убогим, — склонился до пояса один из ватажников.
Понятно, что на сирого и убогого он походил так же, как я на балерину.
По небу плыли рыхлые, бесформенные облака. Выглянула луна, залив улицу серебристым светом. А как хорошо начиналось…
Мужчина выпрямился и, сняв с головы шапку, протянул ее к нам.
— Денежки сюда кладите. При нас они целее будут.
Ватажники поддержали его заливистым хохотом. Карл помрачнел, схватился рукой за рукоять шпаги, но пока не спешил ее обнажать.
— С чего вы решили, что у нас есть деньги? — произнес я, пытаясь протянуть время.
Вдруг на улице появятся случайные прохожие, полиция или солдатский наряд. Однако надежды оказались тщетными. Город словно вымер, никого, кроме тощего облезлого кота, рывшегося в мусорной куче в поисках съестных отбросов.
— Нешто вы не от Пандульфи вышли? — хмыкнул веселый ватажник.
Выходит, за лавкой ростовщика установлено наблюдение. Бандиты караулят клиентов итальянца и, выбрав подходящую жертву, грабят. Интересно, знает ли об этом Пандульфи и если да, почему не обращается в полицию и не предупреждает клиентов? Впрочем, он может находиться с разбойниками заодно — сигнал им какой-нибудь подает, фонарем в окошко светит. Деньги, как известно, не пахнут.
По меркам того времени Петербург считался гораздо спокойней в плане преступности, чем Москва. Все же начальство близко, которое время от времени вынуждено меры принимать, чтобы очистить столицу от воров и бандитов. Да и сам Питер город молодой, жизнь в нем только налаживается, вот и не успели как следует закрепиться и войти в полную силу разбойничьи шайки.
Пройдет немного времени, и при взошедшей на престол с помощью гвардейских штыков Елизавете, Петербург переживет страшный период, когда вошедшие во вкус и, почуявшие безнаказанность гвардейцы займутся настоящим грабежом: будут обворовывать знатные дома, к коим сами же поставлены в караул, бесчинствовать на улицах, задирать и бесчестить женщин. А кое-кто из господ офицеров наладит прибыльный бизнес, который в двадцать первом веке называется «крышеванием» — за определенную мзду гвардейцы возьмут под «опеку» трактиры, постоялые дворы, лавки купцов и менял.
Но пока в Питере тихо и спокойно, не считая улицы, где нелегкая вынесла нас прямиком в лапы разбойников.
Не дождавшись ответа, ватажник переспросил:
— Я что грю — нешто вы не от итальяшки идете?
— От него, — согласился я. — Только денег при нас нет. Мы долг возвращали, а теперь пустые как солдат после проститутки.
— Врешь поди! — ватажник хлопнул себя по правой лодыжке.
Почему — вру? Ввожу в заблуждение.
— Я честный человек. Врать мне не к лицу.
— Может ты и честный, но давай-ка мы тебя проверим. Вдруг за подкладку что-нибудь завалилось или в кармане потерялось, а ты и не заметил. Всякое ведь бывает, — рассудительно произнес ватажник.
М-да, на мякине его не проведешь. И соотношение сил не в нашу пользу — шестеро на двоих, значит, каждому придется драться с тремя противниками, а они только в голливудских фильмах по очереди нападают. А шпага моя тютю — лежит у синьора Пандульфи где-то на полке.
Нет, я, конечно, здоровей любого из разбойничьей ватаги, и Карл тоже не лыком шит. Глядишь, кого-то из шайки-лейки покромсаем. Но, будь я букмекером, ставки бы на нашу победу не ставил.
— Поднимите ручки, господа хорошие. Сейчас вас немножко обыщут, — улыбнулся ватажник, обнажая гнилые зубы.
Глава 12
Пожалуй, миром дело не закончится. Сейчас нас будут немножко убивать. И самое противное — все преимущества на их стороне.
Ватажник с гнилыми зубами вцепился в Карла, попытался просунуть руку в карман кафтана.
— Убери грязные лапы, мерзавец, — вспыхнул кузен, вырываясь из тисков захвата.
Его слова только подлили масла в огонь. Разбойники точно стая бродячих псов кинулись на нас, размахивая кистенями. Кузен даже не успел выхватить шпагу. Его прижали к стене, отделив от меня, стали избивать.
— На помощь, Дитрих! — закричал он.
Я действовал интуитивно и грязно — ударил головой ближнего противника, двинул коленом между ног второго, перехватил занесенный кистень у третьего и, крутанув ватажника на сто восемьдесят градусов, умудрился врезать его же оружием по обступившим Карла разбойникам. И едва не оглох от послышавшихся воплей.
— Мама! — выл упавший на колени ватажник, обхватив руками проломленную башку. Сквозь пальцы сочилась кровь.
Меня чуть не передернуло. Нет, одно дело — видеть такое в ужастиках и другое — столкнуться наяву. Я все же не могу привыкнуть к кровавому зрелищу.
— Что же ты творишь… — завопил разбойник с гнилыми зубами, оступаясь от Карла. — Лупцуйте этого гада. Он Митюху убил.
Может, убил, может, нет. Эти гады живучи. Нормальный человек давно бы умер, а всякая сволочь будет коптить белый свет еще много-много лет. Вот так по дурацки устроен наш мир.
Внимание ватажников переключилось на меня.
Кузен воспользовался наступившим замешательством, резким движением выхватил шпагу. Лезвие быстро нашло жертву. Бандит удивленно схватился за живот и тихо опустился на мостовую.
Я схватил ближайшего разбойника за длинные растрепанные волосы, торчавшие по сторонам, будто перья гигантской птицы, рванул вниз и со смаком впечатал коленом в лицо. Надеюсь, от его носа осталось лишь жалкое напоминание.
Страх действительно удесятеряет силы. Дотоле не очень послушные руки работали будто новенькие.
— Бежим, — крикнул я на ухо разгорячившемуся Карлу.
— Куда, почему? — не понял он.
— Бежим, — закричал я, решительно подталкивая его в направлении освещенных улиц.
Не хватало влипнуть в еще одну неприятность — к ватажникам в любой момент могла подойти подмога, да и эта шестерка все еще представляла для нас угрозу.
Карл послушался окрика и припустил во весь дух. А из малого выйдет неплохой спринтер. Жаль, олимпийское движение пока не в чести.
Мы бежали долго, до колик в легких, удалившись на приличное расстояние.
— Все, — сказал я, останавливаясь. — На сегодня марафонского бега хватит. Давай искать постоялый двор.
— Герберг, — поправил Карл.
Оказывается, так, на иностранный манер, назывались в то время дома для приезжих. На весь Петербург, согласно царских указов, гербергов было настроено штук двадцать пять. На первый нам повезло наткнуться практически сразу, он назывался «Шведский трактир» и занимал двухэтажное продолговатое здание из кирпича, с деревянной крышей, высокими «английскими» окнами, украшенными орнаментом и узкими, неудобными воротами. Мы прошли по дорожке, усыпанной красным гранитным песком, и, распахнув тяжелую дубовую дверь, оказались в трактире.
Здесь было тепло и уютно. Натопленные раскаленные печки излучали нестерпимый жар, но после промозглой питерской погоды, он воспринимался как манна небесная. За широкими деревянными столами на грубо отесанных лавках сидело несколько постояльцев, судя по разговорам — в большинстве иностранцы. Я слышал преимущественно немецкую, французскую и английскую речь, перемежающуюся руганью и специфическими морскими терминами. Очевидно, «Шведский трактир» был излюбленным местом пребывания моряков с купеческих кораблей, в большом количестве пришвартовывавшихся в гостеприимных гаванях Санкт-Петербурга. Многие курили, кольца дыма вздымались к грязно-серому потолку, освещенному двумя люстрами. Из кухни доносились аппетитные запахи готовящейся пищи. Между столами сновали с подносами в руках две женщины в темных платьях, спускавшихся почти до пят, белых передниках и накрахмаленных чепцах голландского фасона.
Одна сразу направилась в нашу сторону, посадила за столик возле окна, ловко смахнула тряпкой невидимые крошки и застыла над нами в позе вопросительного знака.
— Что изволите, господа?
— Для начала принесите нам чаю с медом, — сказал я.
После сытного обеда в доме Густава Бирона, есть не хотелось, но горячий чай будет в самый раз. Мы порядком промерзли, набродившись по вечернему Петербургу.
Служанка быстро выполнила заказ, принеся две дымящихся чашки, источавших крепкий аромат душистого чая.
— Еще что-нибудь? — снова осведомилась служанка.
— Душенька, скажите, у вас можно снять комнату дней на десять? — спросил я.
— Сегодня как раз освободилась одна. Шкипер с аглицкого судна «Утренняя Заря» комнату после себя оставили. Уплывают они, — пояснила женщина.
— Тогда мы возьмем.
— Одну на двоих? — уточнила служанка.
— Да. Как-нибудь устроимся. Сколько, кстати, стоит это удовольствие?
— Рупь в день вместе с едой, — пояснила женщина.
— Сколько?! — хором воскликнули мы, памятуя, что для России это большие деньги. Скажем, за двадцать рублей можно купить вполне приличный дом в деревне.
— Рупь, — спокойно повторила женщина. — Дешевле во всем Петербурге не найдете. В «Ливонии» еще дороже выйдет — сорок копеек сверху нашей цены положите. Да и мест свободных может не оказаться. У нас комнаты не простаивают. Не вы, так другие постояльцы появятся. Ежели хотите найти того, кто квартеры в наем сдает — знайте, это и дорого, и опасно.
— А если столоваться не каждый день? — закинул удочку я.
— Поговорю с хозяином, — женщина ненадолго оставила нас и вернулась, чтобы сообщить более приятную новость:
— Хозяин согласен сдать вам комнату за семьдесят копеек в день, если будете только завтракать.
— Берем, — поспешно закивали мы.
Похоже, наши финансы исчерпаются к сроку, указанному Бироном. Ну да ничего, как-нибудь прорвемся. Лишь бы эти полторы недели протянуть.
Служанка отвела нас на второй этаж. Комната была уже готова — пол подметен и вымыт, мягкая постель расстелена, под кроватью спряталась ночная ваза. На тумбочке горела одинокая свечка ночника.
— Может, господа пожелают скрасить свое пребывание женским обществом? — с притворным смущением поинтересовалась служанка.
Гостиничный сервис во всем его «очаровании»… Мы переглянулись. Карл почесал голову, развел плечами.
— Э… как-нибудь в другой раз, — решил за всех я.
— Вас же двое… понятно. Не буду мешать, покойной ночи, — разочарованно хмыкнула женщина и быстро удалилась за дверь.
— Я правильно понял, что она приняла нас за… — открыл рот кузен.
— Правильно, — прервал я. — Но разборки отложим на будущее. Еще будет возможность доказать этой куртизанке, что она в нас сильно ошибалась. А пока, туши свет. Спать хочу больше чем… Ну, ты меня понял, брателла.
Мы так устали, что, не раздеваясь, бухнулись на кровать и заснули до самого утра. Уверен, от нашего богатырского храпа стены ходили ходуном. Разбудили нас чьи-то шаги и деликатный кашель за дверью.
— Пожалуйте спуститься и откушать, — сообщила незнакомая служанка. — Вам уже накрыто.
Плотно перекусив, мы выбрались из-за стола и посвятили день прекрасному ничегонеделанию: гуляли по улицам города, глазели на украшенные скульптурами и живописными изображениями триумфальные ворота, возведенные в честь переезда императрицы из Москвы на постоянное жительство в северную столицу. Анна Иоанновна решилась на такой шаг после долгих уговоров Миниха, который и возглавил масштабную перестройку города. Нынешний Санкт-Петербург многим обязан его инженерному и руководительскому талантам.
Ворота поставили неподалеку от деревянной Троицкой церкви и домика Петра Первого: скромного, состоящего всего из двух комнат. Домик выкрасили в красный цвет, а чтобы он простоял дольше на память потомкам — соорудили над ним специальную крышу, удерживающуюся на каменных опорах.
Великий император любил бывать в Троице, приходя туда со всей семьей.
К вечеру мы едва волочили ноги, однако нас переполняли впечатления. Карл находил, что красивей города нет нигде в Европе.
— Может, разве что Венеция, — вздыхал он.
Полторы недели пролетели как один миг. Карл все же устроил рандеву бойкой служанке, и она сняла с него все подозрения. Я пока предпочитал воздерживаться от слишком тесных контактов с женским полом. Не то, чтобы меня можно назвать монахом, просто свободные отношения никогда не привлекали. Я из тех, кто ищет «большой и чистой любви» и не раз на том обжигается.
Отдав хозяину герберга последние деньги, мы отправились на поиски полковой канцелярии Измайловского полка. Благодаря любезности встреченных прохожих, не пришлось долго кружить по городу — ибо в привычном понимании двадцать первого века как такового военного городка с казармами, оружейкой, клубом и так далее не имелось. Был небольшой полковой двор, в котором размещались помещения, отведенные под канцелярии, штаб, магазины, конюшенные «анбары», слесарные мастерские, цейхгауз — место для хранения оружия и боеприпасов, а также оборудованный плац, где производилось обучение. Сами служивые «от травы до травы» проживали в палаточных лагерях, а потом отправлялись на зимние квартиры, становясь на постой к горожанам. К примеру, нижние чины Семеновского полка размещались в четырех с лишним сотнях обывательских домов, порой расположенных довольно далеко друг от друга. Разумеется, чтобы поднять полк по тревоге требовалось потратить уйму времени на сборы. К тому же далеко не везде в городе имелись мосты, и солдатам приходилось искать всевозможные способы переправы.
В начале тридцатых годов восемнадцатого века Измайловский полк размешался в четыреста семьдесят одном обывательском доме в Москве, затем два батальона проделали путь до Петербурга и стали на постой на Адмиралтейской стороне. Третий батальон застрял в первопрестольной еще на некоторое время и лишь в 1734 году перебрался в город на Неве, расположившись на стороне Петербургской.
Охранявшие ворота, ведущие в полковой двор, солдаты объяснили, как найти канцелярию. Казалось, двери этого небольшого деревянного дома всегда нараспашку — вбегали и выбегали курьеры, стремительной походкой выходили офицеры, хватало и лиц в партикулярном, то есть штатском платье.
Мне не раз во времена армейской службы приходилось бывать в штабах воинских частей — обычно, прежде чем проникнуть внутрь, посетителю предстояло пройти контроль дневальных и дежурного офицера.
Здесь же за дверями располагалась деревянная скамейка, на которой сидели двое караульных, преспокойно игравших в карты. Уже только один вид скучающих солдат ввел меня в изумление. Если бы кто-то из моих бывших начальников набрел на такую картину, парням пришлось бы коротать несколько суток на губе.
— Осади назад, — непочтительно произнес караульный, только что побивший козырем карту напарника. — Чего ищете?
— Нам нужна полковая канцелярия.
— По какому вопросу? — спросил он.
— Насчет зачисления в штат полка.
— Неужто ваканции у нас появились, — удивился второй караульный, сдавая карты. — А мне говорили нету.
— Как же, держи карман шире. Так тебе и скажут, — ухмыльнулся его напарник. — А вы ступайте в унтер-штаб, вторая дверь налево, спросите полкового комиссара. За него сейчас их высокоблагородие капитан Касаткин.
— Спасибо, братцы, — поблагодарил я.
Мы прошли по коридору, постучались в дверь и оказались в прокуренной комнате, где за письменными столами корпели писаря, заваленные грудой бумаг. Как и в двадцать первом веке, у них было полно работы, ибо бюрократии в России всегда хватало с избытком.
— Здравствуйте. Мы ищем полкового комиссара господина Касаткина, — сказал я.
В ответ только скрип перьев да шуршание бумаги. Наконец, сидевший за ближайшим столом писарь отставил чернильницу в сторону, промокнул исписанный лист и, подняв голову, спросил:
— А зачем вам понадобился Виктор Иванович?
— Господин подполковник Густав Бирон сказали явиться в канцелярию Измайловского полка на предмет поступления на службу.
Имя младшего брата всесильного фаворита произвело впечатление. На нас разом уставились пять пар любопытных глаз. Наступила полная тишина.
— Назовите ваши имена, — с придыханием спросил участливый писарь.
Мы представились.
— Подождите здесь, — сказал писарь. — Я доложу господину полковому комиссару о вас.
Потом он вернулся и пригласил войти к капитану, занимавшему отдельное помещение.
— Только поаккуратней, — попросил писарь, и я понял почему.
Полковой комиссар выглядел неважно — то ли болел, то ли мучался от тяжелого похмелья, а может все разом. Ворот измятого мундира расстегнут, нерасчесанный парик небрежно кинут на подоконник, башмаки покрыты грязью, чулки сползли, лысоватая голова, похожая на еловую шишку, вся в буграх. Лицо покрыто мелкими оспинками. Я уже успел привыкнуть к тому, что внешность многих встреченных жителей вынуждено носила следы этой страшной болезни — прививки от оспы начнут делать гораздо позднее, при Екатерине Великой.
Мне Касаткин напоминал бывшего ротного. Мы боялись его до ужаса, ибо наш старлей был человеком настроения, а менялось оно у него чаще, чем ветер. Если все в ажуре, рота блаженствовала, если нет — летали даже старики.
Капитан Касаткин посмотрел мутным взором и заплетающимся языком произнес:
— К сожалению, господа бароны, ваканций в полку нет. Все места заполнены. Рад бы помочь, да нечем. Так что ауфвидерзеен, господа, — он помахал рукой, будто провожал нас на вокзале.
— Но как же так? — выступил вперед Карл. — Нам сообщили, что берут в гренадеры полка. Сказали прийти через десять дней.
Он растерянно замолк, не зная, что сказать дальше и теперь переминался с ноги на ногу.
— Мне ничего об этом не известно, — икнув, произнес Касаткин. — Если бы в часть поступили бумаги насчет вас, я бы знал. Всенепременнейшо бы знал. Но… — он опять икнул, — не знаю. Вот такие дела.
— И что — никаких вариантов? — хмуро спросил я.
Похоже, Густав Бирон просто о нас забыл. Ничего удивительного, высоко взлетевшим людям свойственны провалы в памяти.
— Скажите, вы были на регулярной службе? — осведомился Касаткин.
— Нет, — ответили мы разом.
Я то конечно был, но светить этим при Карле не стоит. Да и чем может пригодиться здесь тот год, отданный российской армии времен сплошных перемен не всегда к лучшему.
— И о службе солдатской, об артикулах и экзерцициях ничего не ведаете? — продолжил спрашивать
— Разумеется, нет.
— И непременно хотите попасть в гренадеры лейб-гвардии, — усмехнулся полковой комиссар. — А вы знаете, что многие, дабы попасть в нижние чины гвардейских полков вынуждены изначально побыть в обозе извозчиками? Они ухаживают за лошадьми и повозками. А там, попривыкнув к военным порядкам и требованиям, переименовываются в солдаты, как только появляются ваканции, и на их места прибывают новые рекруты. Ну, господа фон Гофен и фон Браун, — готовы начать карьеру с полковых извозчиков?
Глава 13
Глаза Карла налились кровью как у быка при виде пионеров.
— Вы… вы осмелились предложить нам, курляндским дворянам, службу в извозчиках? — он потянулся за шпагой. — Да я вас тут же вызову на дуэль и убью, клянусь честью.
Вяловатый Касаткин оживился:
— Во-первых, щенок, дуэли запрещены. Во-вторых — я вызову сейчас караул и они, не посмотрев на твои титулы, всыпят тебе батогов. Не хочешь неприятностей, вали отсюда.
— Да как вы смеете!
— Не кипятись, Карл, — сказал я. — Пойдем отсюда. Что-нибудь придумаем.
— Но я не могу этого так оставить, — жалобно произнес кузен.
— Плюнь. Видишь, он не шутит. Найдем Бирона, разберемся, что к чему.
Тут в комнату вошел подтянутый офицер в чине поручика. Он молодцевато отсалютовал Касаткину, скинул с плеч епанчу и спросил:
— Здравствуй, Виктор Иванович. Что за шум, а драки нет? В коридоре слышно.
— Да вот, Василий Александрович, молодые люди буянят, на дуэль вызывают, — усмехнулся Касаткин.
— Вот как, — протянул вошедший. — Чем же ты им не угодил?
— В полк устроиться хотят, — принялся объяснять Касаткин. — Я им говорю, что свободных мест нет, а они шумят, не верют.
— И впрямь свободных местов нет. Все ваканции заняты, — повернул в нашу сторону голову появившийся офицер. — Последние вот приказом закрыты.
Он положил на стол Касаткину кипу бумажных листов.
— Это тебе, Виктор Иванович, просили передать. Прими документы.
— Сейчас, разберусь с этими, и приму по всей форме, — отмахнулся Касаткин.
Офицер, которого полковой комиссар назвал Василием Александровичем, осмотрел нас с ног до головы:
— Жаль, конечно, что вам не подвезло пораньше обратиться. Вижу, молодцы, прямо на подбор. Рослые, крепкие. Знатные могли б получиться гренадеры. Нам бы такие солдаты пригодились, тем более сейчас, когда война с туркой сурьезная намечается. Вы откуда к нам прибыли, богатыри, из какой губернии?
— Из Курляндии, — пояснил я.
— Жаль, — вздохнул Василий Александрович. — Выходит вам и в Семеновский али Преображенский полки не попасть. Они сейчас берут иноземцев разве что в музыканты. Виктор Иванович, может, возьмешь их в полк сверхкомплекту?
— Не могу, — вздохнул Касаткин. — У нас и так сверх штатов куча всякого народа приписано, одних младенцев душ эдак сто наберется, а то и больше. Матушка императрица гневаться изволит таким переполнением.
— Тогда не взыщите, — Василий Александрович развел руками. — Рад бы помочь, да нечем. Попробуйте в армейский полк устроиться. Если фортуна переменится, глядишь, и в гвардию переведетесь.
Я вспомнил о бумагах, которые принес офицер полковому комиссару:
— Господа, примите наши извинения. Не хочется докучать, но посмотрите, нет ли в принесенных документах наших имен — баронов фон Гофена и фон Брауна?
Касаткин порылся в бумагах, внимательно вчитался, потер указательным пальцем переносицу и сипло объявил:
— Господа, пришла моя очередь просить прощения. Поручик Нащокин[13] доставил приказы о вашем зачислении в полк, — полковой комиссар приосанился. — Поздравляю вас, гренадеры третьей роты Дитрих фон Гофен и Карл фон Браун. Надеюсь, вы не посрамите славы лейб-гвардии ея императорского величества.
«Спасибо тебе, Густав Бирон», — подумал я. Подполковник не забыл о своем обещании, мало того, что устроил нас в гвардию, так еще и позаботился, чтобы мы попали в одну роту.
— Рота ваша вместе с остальными частями полка еще не прибыла из лагерей, — сказал поручик Нащокин. — Думаю, спешить на воссоединение с ней еще рано. Впереди много дел: вам надо построить мундир, получить оружие и довольствие. Жить есть где?
— Нет, мы комнату в герберге снимали, но содержать ее более не на что, — вздохнул я.
— Тогда еще и на постой надо встать. Ну, это к полковому квартирмейстеру, господину майору Шипову. Он вам билет выдаст, — Нащокин вспомнил что-то и добавил:
— Виктор Иванович, выпиши гренадерам сумму для скудости. Видишь, поиздержались они, покуда назначения ждали.
Полковой комиссар кивнул:
— Не обижу, Василий Андреевич. Непременно войду в положение, благо деньги в казне от отпускников пока имеются.
— А мне пора! Счастливо, братцы.
Нащокин умчался так же стремительно, как появился.
Касаткин дождался, когда хлопнет дверь, открыл окованный сундучок и стал выкладывать на стол горки из монет.
— Слушайте меня внимательно, гренадеры. Оклад вам полагается самый малый для нижних чинов — племянничий. Будете получать двенадцать рублей в год потретно.
— То есть? — не понял я.
— Три раза в год, — пояснил Касаткин.
— Выходит по четыре рубля, — подсчитал я.
— Нет, — помотал головой Касаткин. — Вы будете строить гренадерский мундир, я выдам вам на руки денежный вычет из вашего жалованья, около пяти с половиной рублей. На эти деньги вы должны приобрести всю необходимую амуницию, потом узнаете какую. Они вычитаются из годового жалования, которое составит в итоге меньше семи рублей.
Я присвистнул. Выходит, мы должны себя одевать за свой же счет. Для меня, привыкшего к выданным со склада бесплатным армейским гимнастеркам — х/б и п/ш, «афганкам», сапогам, ботинкам-берцам, головным уборам, шинелям и прочее — это было в диковинку. Зарплата худеет на глазах.
— Есть еще и вычеты за медикамент: каждую треть по четыре копейки, — продолжил нагнетать обстановку Касаткин. — А ежели кто из полку убежит или дезертирует, с каждого солдату еще по копейке. Правда, это больше армейских частей касается. В гвардии беглых не бывает. Но я счел нужным предупредить на всякий случай.
Вот те раз — снова расходы. Если и дальше будет продолжаться в том же духе, то я, устроившись на военную службу, буду еще и должен. Как люди живут? У меня же под боком имений нет, помощи ждать неоткуда. И, как говорит Карл, под Митавой мать осталась. Вроде мой сыновий долг помогать ей.
Увидев перепад в нашем настроении, Касаткин сообщил:
— Все не так плохо, господа. Вычеты вычетами, но государство заботится о вас. Будете получать дачу на мясо и соль, почти десять копеек в месяц. В магазине получите муку для хлеба, или, если хотите, можете заменить ее денежным довольствием.
Хлебопеки из нас откровенно скажу — неважные, так что мы решили взять компенсацию деньгами.
В конце разговора Касаткин расщедрился и выдал кроме мундирного вычета по два рубля подъемных. Это и были та самая сумма для скудости, о которой говорил Нащокин. Кстати, Василий Андреевич помог нам еще одним. В дверь постучались. Полковой комиссар разрешил войти, и мы увидели высоченного, даже выше меня гвардейца. В нем было, наверное, метра два росту.
— Гренадер третьей роты Степан Чижиков, — отрапортовал солдат. — Их высокоблагородие капитан Нащокин велели на первое время быть приставленным к обучению двух новобранцев, покуда рота из лагерей не вернется.
Касаткин обрадовался его появлению и отпустил нас вместе с Чижиковым, обещавшим проследить, чтобы все было как положено.
Мы вышли в коридор.
— Будем знакомы, — гренадер протянул широкую как лопата руку. — Я — Чижиков Степан, буду вашим «дядькой».
— Кем? — не понял я.
— Дядькой, — добродушно пояснил солдат. — Впрочем, откуда вам немцам знать. Так зовется старослужащий, который за молодыми присматривает.
Понятно, что-то вроде нашего «дедушки», только имеющего вполне официальный статус.
— Давайте-ка мы сначала навестим квартирмейстера, чтобы он вас на жительство определил, а то уйдет куда, и вы без крыши останетесь, — предложил Чижиков.
Полковой квартирмейстер Шипов без проволочек выдал билеты на поселение. И опять повезло — нас поселили в одном доме на Адмиралтейской стороне.
Потом мы занялись формой. Ранее в каждую часть поступали мундиры трех размеров — «большой, средней и малой рук», далее они ушивались под каждого солдата, но при Анне Иоанновне этот порядок был изменен. Полки сами закупали необходимые материалы и шили форму в специальных шпалернах — портновских мастерских, устроенных при каждой части.
— У нас такие портные есть — так их в модные дома даже приглашают, — похвастался дядька.
А вот сукно на мундир Чижиков посоветовал брать не в полковом магазине, а купить в лавке, причем, желательно в торгующей иноземным товаром, ибо, как выяснилось, отечественные ткани хорошего качества стоили дороже иностранных. Я невольно почесал репу. Выходит еще с тех времен наши производители любили гнать халтуру и задирать цену.
В первую очередь нам предстояло обзавестись кафтаном — верхним длинным платьем почти до колен. Под него одевался камзол, примерно такого же покроя, разве что покороче. Полагались также штаны, доходившие до подколенной подвязки. Чижиков очень не рекомендовал брать для них московское сукно — слишком, по его мнению, толстое. Разумеется, солдату нельзя без обуви — поэтому пришлось закупаться двумя парами башмаков и сапогами. В холодное время очень бы пригодилась шинель, но ее частично заменяла епанча. На шубу, носить которую зимой уставом не возбранялось, нам бы не хватило денег. Полки выручались тем, что держали на складах шубы, поступившие вместе с рекрутами. Разумеется, господа офицеры побогаче, могли позволить себе роскошные одеяния на любой период времени. Были еще чулки, очень похожие на шерстяные гетры футболистов, разве что не полосатые. И куда без нижнего белья — его полагалось две перемены. Добавим к этому галстук, пуговицы и прочее, прочее, прочее…
Главное отличие в форме гренадеров — шапка. Если фузилеры носили треуголки, то головы отборных солдат украшали специальные кожаные гренадерки с красивыми «кукардами».
От Чижикова я узнал каков срок носки каждого из элементов мундира: шапка, кафтан и камзол — три года, епанча аж три с половиной, галстук — полтора, остального, как считало начальство, должно хватить на год.
Казенных пяти с половиной рублей оказалось недостаточно, пришлось потратить часть подъемных, хотя у нас на них были другие планы. Чижиков таскал нас из одной лавки в другую, везде приценивался, щупал товар, проверял на прочность, кривил носом, ежели что-то было не так, придирчиво осматривал цвет сукна (в армии все должно быть единообразно), а после покупки, перед тем, как отнести материю портным заставил ее намочить.
— Чтобы не село после дождя или стирки, — пояснил он.
Так что экипировка наша отняла немало времени и средств, но через неделю мы с Карлом выглядели (во всяком случае, со стороны) не хуже остальных гвардейцев.
— Молодцы! — не преминул отметить Чижиков, устраивая нам смотр. — Теперь переходим к самому главному — к экзерциции. Плох тот солдат, что не знает оружия и приемов.
Вот тогда и началась настоящая учеба, не взирая на дождь, первый мокрый снег и шквальный ветер.
Глава 14
Домовладелец Куракин, к которому нас определили, оказался тертым калачом. Не желая иметь проблем с постояльцами, навязанными сверху, он по примеру многих петербуржцев выстроил во дворе маленькую избушку, называемую «черной» (дело в том, что топилась она по черному, да и солдаты весьма нещадно палили дармовые дрова) и поселил в ней четырех гвардейцев: нас и еще двух гренадеров из третьей роты. Правда, с соседями мы не успели познакомиться, ибо они еще не вернулись из лагерей.
Изба делилась перегородкой на две комнаты, отапливаемые огромной печкой, занимавшей чуть ли не половину дома. Дрова и свечи Куракин был обязан поставлять за свой счет, остальное его не касалось. В лучшем случае, он мог одолжить на время что-то из домашней утвари и тщательно следил, чтобы ее возвращали в срок. Его кухарка пухленькая улыбчивая Дарья за скромное вознаграждение готовила нам еду и постреливала глазками в Карла.
Кстати, наш дядька — Чижиков, очень огорчился, когда узнал, что мы взяли хлебные порционы деньгами.
— Зря вы, паря! Лучше б меня спросили. Хлебушек в Петербурге дорогой, из казенной пшенице оно намного дешевле бы вышло, а что не съедите, так на сухарики пустите. В любом походе сухари завсегда пригодятся.
— Прости, Степан, — повинился я. — Мы же всех тонкостей не знали.
— Ладно, — успокоился великан. — В следующий раз наука вам будет. В Петербурге без понимания жить сложно. Вы не стесняйтесь, если что надо спросить. Я растолкую.
— Спасибо, Степан, — поблагодарил я. — Слушай, а чего наш полковой комиссар на нас так напустился, когда мы в полк записываться пришли.
— А что тут непонятного. Не любит он немчуру, — пояснил гвардеец, — считает, что из-за вашего брата чином выслужиться не может, обходят его по баллотировке. Только ты на свой счет, Дитрих, мои слова не принимай. Я знаю, что вы немцы правильные, вроде нашего командира, подполковника Бирона.
Я заметил, что брата фаворита в полку уважали. Густав отличался веселым нравом, относился к солдатам хорошо, за спины в бою не прятался и пыль в глаза не пускал. Но и совсем уж безоблачной его жизнь не назовешь. Пока во главе армии стоял Миних, всеми фибрами души не любивший обер-камергера Бирона, двум братьям фаворита крепко доставалось — фельдмаршал не упускал случая сорвать на них зло. Поговаривали, что недавняя поездка Густава в Австрию во многом была вызвана желанием подполковника спастись от постоянных придирок, перейдя на службу в цесарскую армию. Но что-то не сложилось, и младший Бирон вернулся в роскошный дом на Миллионной улице, отнюдь не похожий на наши с Карлом «хоромы».
Комнаты в черной избе были меблированы одинаково: грубо сколоченный стол с двумя табуретами, две широких лавки (на каждой набитый соломой тюфяк, служивший постелью, укрывались мы епанчами) и что-то вроде комода, в нем хранились небогатые пожитки. Иной мебели не имелось. Удобства, разумеется, во дворе.
За продуктами ходили на рынок. Спасибо дядьке, он подсказал, где и что можно взять подешевле. Однажды попробовали снарядить вместо себя дворника Тимофея, но тот пропадал до вечера и вернулся пьяным в стельку, спустив наши деньги. Я дал ему по шее, но финансовую ситуацию это не исправило.
Куракин держал собственную баню и регулярно пускал нас мыться, беря по копейке за человека. Здесь было удобней и гигиеничней, чем в общественной бане. Правда, хозяин сразу потребовал, чтобы мы не водили женщин, хотя сам по старинным русским обычаям не очень-то соблюдал принцип разделения полов.
Карл быстро пристрастился к парилке, обожал, когда раскаленные камни обдавались водой вперемешку с пивом, ибо в густом хлебном духу, которым окутывалась баня, дышалось особенно легко и приятно.
Он лежал на верхней полке и балдел, пока я хлестал его веником, потом мы менялись — березовые листья летели по сторонам будто перья. Затем, красные, разгоряченные, выбегали на улицу и обливались ледяной водой.
Ну и что за баня без разговоров за жизнь.
— Знаешь, Дитрих, — спросил как-то раз Карл, отходя после особенно хорошего пара, — неужели об этом мы мечтали, покидая наше имение?
— О чем ты? — не сразу понял я.
— Да о том, что вместо балов, зеркальных дворцов, блестящей карьеры — мы сначала попадем в тюрьму, затем заложим твое оружие и… станем солдатами за деньги, которые любой дворянин назовет смешными. Неужели это та самая Россия, страна огромных возможностей, о которой ты говорил? — с горечью произнес кузен.
Я вздохнул, посмотрел на закопченные бревенчатые стены. Да, Россия всегда была лакомым кусочком для многочисленных негодяев и прохиндеев, сбежавшихся как шакалы со всего света. Им удавалось взлететь ввысь по служебной лестнице, сколотить огромное состояние, оставить после себя кровавый след… А те иноземцы, нормальные честные люди, что искренне хотели приложить свои таланты, ум, мастерство на благо новой родины… Как складывалась их судьба? Не тяжело ль было преодолевать застарелость и косность дурацких обычаев, лень, невежество и извечное российское разгильдяйство.
Сколько их сложило головы на поле брани под нашими знаменами. Сколько дало потом ученых, полководцев, великих литераторов, наконец. Пушкин, Лермонтов, Тургенев… Да что говорить! Но как-то отвечать кузену следовало.
— А на что ты рассчитывал, Карл? Думал, сразу все с неба посыплется как из рога изобилия?
— Нет, но… — смутился кузен.
— И правильно, что не думал. Да, мы с тобой пока всего лишь рядовые гренадеры — нижние чины. Но с другой стороны, служим в императорской лейб-гвардии, а значит, у нас больше возможностей пробиться наверх. Допустим, остались бы мы в Курляндии, что, было бы лучше?
— Смеешься, Дитрих?! Ты не хуже меня знаешь, какая жизнь на родине. Курляндия бедна, после войны остались одни пустыри. Мы нищие как церковные крысы. Только на словах — дворяне, а за душой ничего. Ничего, кроме чести, — грустно ответил кузен.
— Вот именно! Здесь в любом случае не хуже. Да, мы не получили офицерского чина, да и вряд ли могли на него рассчитывать. Но ты слышал, что говорил Нащокин: впереди война с Турцией. Война долгая, кровопролитная. И в то же время — она дает шанс отличиться. А ведь мы обязательно отличимся, Карл. Ты мне веришь?
— Тебе верю, — улыбнулся кузен.
— И правильно делаешь, — сказал я, а сам закрыл глаза и попытался убедить себя, что не занимаюсь самообманом.
Да, другого способа приступить к выполнению моего плана — нет. Хоть кровь из носу, а надо сделать шаг вперед. Пока что я плыву по течению, пора расчехлить весла и грести в нужную сторону. Но как же это непросто!
Там, в прошлой жизни, были свои ориентиры. Я в них разбирался, знал, что стоит за тем или иным маячком, и, пускай, далеко не преуспел, но все же жил как-то упорядочено, в постоянном штиле, избегая штормов и качки.
Тут все по-другому. Я — дворянин, это ласкает самомнение, однако накладывает и определенные обязанности. И как они далеки от стереотипов, которыми меня пичкали во времена школы и института. Почему-то нет лакеев, кого-то из круга «принеси-подай», все приходится делать самому. И еще — на мне лежит большая ответственность за Карла.
Я очень прикипел к нему за эти дни. Удивительно, почему нас, русских, и немцев тянет друг к другу словно магнитом, ведь мы такие разные, с абсолютно непохожими ментальностями, просуществовавшие долгие года в постоянной войне, истребившей миллионы с обеих сторон. И что самое интересное — нет ненависти, передающейся от поколения к поколению! Даже мой дед, отвоевавший четыре года в Великую Отечественную на передовой, всегда отзывался о немцах с глубоким уважением, а я лично общался с ветераном вермахта, солдатом шестой армии Паулюса, сдавшимся в плен во время битвы под Сталинградом. Пленных отвезли в маленький русский городок, оставшийся в тылу, там они строили аккуратные двухэтажные домики с миниатюрными балкончиками, причем строили хорошо, на века. Здания эти стоят до сих пор, украшенные вывесками рекламных контор и магазинов. Немца поразило, что голодные истощенные люди приходили к пленным и делились последним: хлебом, картошкой, сахаром. И это несмотря на то, что многие семьи получили похоронки, а кое-кто эвакуировался сюда, пройдя через разгромленные бомбежками поезда и расстрелянные с самолетов колонны беженцев.
— Милосердие, вот суть русского человека, — говорил немец, вытирая платочком выступившие на подслеповатых старческих глазах слезы.
А ведь если вспомнить — сколько попыток мы делали, чтобы стать союзниками. Еще Петр Первый отправлял в знак дружбы прусскому королю русских великанов для его гвардии, едва не подарил целый полк. Как искала дружбы с Фридрихом Вторым великая Екатерина! Как сорвалась дружба Павла Первого! Чьи-то происки постоянно ссорили нас и разводили по концам барьера, а затем начиналась долгая и кровавая война. Такая же, что ждет нас с Турцией — извечным врагом и соседом России. Увы, турки пока пляшут под французскую дудку. Позднее к сыновьям Галлии добавятся еще и англосаксы. Через сто с лишним лет объединенные англо-франко-турецкие войска нанесут нам поражение под Крымом, по сути дела отрежут от Черного моря, лишат флота.
Так может сделать ставку на дружбу с Пруссией? Австрия — нынешний союзник России — лжива, коварна и двулична. От нее всегда можно ждать вероломства, в любую минуту. А Пруссия? Пока слабая по сравнению с австрияками, но постепенно набирающая силу, уже ощерившаяся подобно хищнику острыми зубами, норовящая вцепиться в лакомые кусочки. Вместе мы будем той несокрушимой силой, которой подвластно все.
Я невольно ухмыльнулся, представив комичность ситуации. Какой-то рядовой солдатик грезит менять оси «реал политик», рулить монархами. Смешно. Хотя… попробовать-то можно.
Я никогда не относился к окружающим свысока. Понятно, что нас разделяют века, мое образование не сравнить с тем, что знают они. Многие понятия не имеют о календаре и ориентируются лишь благодаря батюшке из ближайшей церкви, который объявляет когда наступит и закончится очередной пост. Кое-кто и время считает по старинке согласно взятым еще с Византии традициям — летом семнадцать часов дня и семь ночи, зимой наоборот.
В Петербурге народ, конечно, грамотней, усвоивших европейское времяисчисление больше, чем в провинции. И языкам обучен чуть ли не каждый встречный, правда, изъясняются зачастую варварской смесью, перемежая немецкие, голландские и финские слова.
Но разве это дает мне право над ними смеяться?
Через неделю полк вернулся из лагерей. Чижиков обрадовался этому будто свадьбе. Сам он остался в городе, потому что умудрился серьезно простынуть и провалялся несколько недель в госпитале. Когда наш «дядька» поправился, начальство решило оставить его при штабе порученцем.
Я спросил, чем вызвано его веселье.
— А как же ж не радоваться, — довольно потирая руки, заговорил гренадер. — Во-первых, все друзья вернутся, я по ним заскучал — слов нет. В гошпитале валялся, мечтал, как здоровье в кабаках поправлять буду. Одному ж скучно. И вы вроде в компаньоны не набиваетесь. А как наши придут — ух, водочки попью всласть! Во-вторых, смогу прошение об отпуске подать. Во время стояния на зимних квартирах разрешается отпускать четверть состава. Думаю, ротный, не обидит. Чай не самый последний солдат. Давно я своих не видел: батьку с маткой, поклон им земной, сестер да братишек. Чай я уж настоящим дядькой стал, не токмо для таких гавриков, как вы, — он с прищуркой глянул на нас с Карлом.
— Не хочу тебя огорчать, но на носу война. Вряд ли начальство сильно на отпуска расщедрится, — предположил я.
Чижиков лишь усмехнулся:
— С туркой-то. Так мы его в два счета раскатаем. Вояка из него плохой. Чуть нажмешь — бежит, будто пятки смальцем смазаны.
— Ну-ну, — пробормотал я, помня, сколько еще будет этих войн, когда Оттоманская Порта вновь и вновь, науськиваемая врагами России, двинет войска к нашим границам, однако гренадер лишь хлопнул меня по плечу:
— Не боитесь, покуда присягу не примите, никуда я от вас не уйду, ни в какой отпуск. Токмо вы энтот день на всю жизнь запоминайте. Присяга для солдата ровно как второе рождение. После нее грех в кабаке не проставиться, и мне, Полкану старому, чарку не преподнести за науку.
— Не волнуйся, Степан, будет тебе чарка, — пообещал я.
И вот настал день присяги. Новобранцев всего двое — я и Карл. Нас вывели перед ротой, поставили рядом с развернутым знаменем, командир велел положить руку на Евангелие, и я, волнующимся голосом произнес первые строки:
«Я, Дитрих фон Гофен, обещаюсь всемогущим Богом служить всепресветлейшей нашей государыне императрице, верно и послушно, что в сих постановленных, також и впредь поставляемых воинских Артикулах, что оные в себе содержати будут, все исполнять исправно…»
Глава 15
Обычно так давали присягу офицеры, солдатам полагалось стоять в строю, поднимая правую руку, а потом целовать Евангелие, но для нас, как для иностранцев, сделали исключение. Выяснилось, что после каждого повышения в чине требовалось присягать заново. Офицеры расписывались на гербовой бумаге, их подписи заверял полковой священник.
После присяги мы, как обещались, повели Чижикова в трактир, благодарить за науку. Звали и других гренадеров, но командовавший нами капрал Ипатов никого не отпустил.
— Благодарите, что хоть вам идти разрешаю, — важно объявил он. — А с завтрашнего дня начнете нести службу вместе со всеми. Тогда узнаете почем фунт лиха.
Выглядело его обещание очень уж многозначительным. Что имелось в виду, мы узнали позже. Пока что в моем представлении прочно засели картинки балов из «Войны и мира», сцена входа в город кавалерийского полка из «Гусарской баллады» да пошлые анекдоты про поручика Ржевского. Гвардейская служба представлялась сплошным весельем: промаршировать перед Зимним дворцом, ловя восхищенные взгляды прелестниц, получить по чарочке вина из рук чуть ли не самой императрицы, троекратно прокричать «Виват» и с песнями удалиться на постой. Лепота!
Святая наивность!
Чижиков долго кружил по городу, выбирая «особливое место». В первом трактире ему не понравилось — слишком много народа, яблоку некуда упасть; во втором — скучно, людей нет; в третьем плохо готовят («мне кишки еще дороги»); в четвертом водка «невкусная». Чем привлекла его взгляд пятая точка «общественного питания» — скорее всего, не понимал даже сам Чижиков. Скорее всего, от долгого хождения у него заболели ноги, или нос зачесался нестерпимей обычного.
Мы заняли лучшее место. Какой солдат не любит поесть, а особенно пожрать. А если этот солдат двухметровый вечно голодный гвардеец — ничего удивительного в том, что стол буквально ломился от еды. Мы перепробовали все мясное, что готовилось в котлах или вертелах (и это, не смотря на то, что пост, начавшийся с пятнадцатого ноября, был в самом разгаре), выпили графин водки (множественное число, пожалуй, будет преувеличением — почти все выдул наш дядька). Я больше потягивал пиво, оно ничем не напоминало то, что приходилось пробовать раньше. Гораздо вкуснее — что называется, без консервантов.
Чижиков оказался хорошим рассказчиком, не лишенным чувства юмора. Мы узнали много нового о командире третьей роты — капитан-поручике Басмецове, который в глазах Степана был большим оригиналом и редким лодырем. Так получилось, что солдаты редко видели своего офицера: Басмецов любил препоручать обязанности заместителям, а сам либо пил «горькую», либо ухаживал за богатыми вдовушками. Частое отсутствие в полку и манкирование обязанностями сходили ему с рук только благодаря высокопоставленным заступникам, ибо капитан-поручик водил знакомство с такими знатными птицами, что на них и смотреть-то снизу невозможно: шапка свалится. Обычно, всеми делами в роте заправлял поручик Дерюгин — на редкость злопамятный тип, скорый на кулачную расправу, причем одинаково доставалось что дворянам, что разночинцам — жаловаться в полку было не принято, дуэли еще не вошли в моду, так что он мог не опасаться за жизнь и карьеру.
Я почему-то думал, что большинство офицеров в полку окажется иностранцами, но на самом деле почти все должности занимали чистокровные русские. Опять как-то не вяжется с вызубренной версией: дескать, во времена Анны Иоанновны кругом было засилье иноземцев. Да, командовали полком или входили в штаб: курляндец Густав Бирон, шотландец Джеймс Кейт и Иосиф Гампф — швед или финн, точно не знаю. Но на три четверти офицерский состав оказался русским. Вот и верь школьным учебникам!
Красный как индеец Чижиков сидел с кружкой пива в одной руке и наполовину обглоданной бараньей костью в другой:
— И вот вызывает он меня к себе и зачинает разнос: где ты такой-сякой пропадал и куда, сучий потрох, мундир девал? А что я скажу — правду: еврею заложил, когда пить не на что стало! Так за то через строй пропустят, а то и похуже сделают. Тогда я ему и зачал врать…
Тут он осекся. В трактир вошла компания человек десять молодых шумных людей в темно-зеленых форменных кафтанах с отложным воротником и золотыми позументами по борту, на головах гренадерские шапки. Увидев нас, они замерли у входа, но, посовещавшись, сдвинули несколько столов возле дверей и уселись, бросая в нашу сторону неприязненные взгляды.
— Все, ребята, — с шумом выпуская воздух из ноздрей, произнес Степан. — Сейчас здесь будет жарко.
— А что случилось? — удивился Карл.
— Видишь тех балбесов у дверей?
— Вижу.
— Это кадеты, а они на дух гвардейцев не переносят. Так что готовься к драчке, — Чижиков оглядел трактир и резюмировал:
— Наших больше нет. Придется втроем схлестнуться.
— Что за кадеты? — не понял я.
— Да из Шляхетского корпусу. На офицеров учатся, мать их в душу. Ладно, хоть без слуг приперлись, а то б нам не в жисть не совладать бы.
— Может, обойдется? — предположил я.
— Куда там, — махнул рукой Чижиков. — Тем более — пьяненькие они, да и нас мало. Обязательно привяжутся.
Будущие командиры смотрелись неприглядно. Развязное поведение наводило на мысль, что этот трактир не первый из встреченных на пути. Юнцы, каждому из которых явно стукнуло лет двадцать, а, может, и больше, без стеснения пытались щипать и лапать служанок, все время противно рыгали, одного стошнило прямо на стол, и его товарищи от души повеселились, хватаясь за животы только при одном виде конопатой измазанной морды «приболевшего». К нам пока не цеплялись.
Мы постепенно забыли об их существовании, заказали еще пива и продолжили разговор.
Когда за окнами стало совсем темно, Чижиков поднялся из-за стола и, пошатываясь, побрел к выходу. Мы расплатились и потянулись за ним.
— Позвольте, господа, куда вы так быстро? — голос за спиной заставил нас остановиться.
Кто-то из юнцов, стоял, уперевшись в столешницу. На дебиловатой мордочке застыла нехорошая улыбка.
— Мы спешим, господа кадеты, — хмуро бросил Чижиков.
Не желая заварушки, я подтолкнул его вперед, мы почти уже вышли из трактира…
— Вы так стремительно бежите, будто находитесь на поле боя, и за вами скачет турецкая кавалерия.
Чижиков круто развернулся.
— Никогда… — он икнул, что дало кадетам повод еще раз посмеяться, но гренадера это ни капельки не смутило, Чижиков продолжил: — никогда, я не показывал неприятелю спину. Вам молокососам нужно еще расти и расти, чтобы стать настоящими мужчинами.
На лицах кадетов заиграли желваки, послышался звук отодвигаемых табуретов.
— У вас гренадерские шапки. Мы товарищи по оружию, — попытался образумить юнцов я. — Давайте вместе выпьем во славу русского оружия. Эй, — обернувшись к трактирщику, крикнул я, — принесите водки для нас и наших друзей.
— Дитрих, окстись. Ты собрался пить с этими мальчишками? — Степан удивленно хлопал ресницами, будто увидел на улице слона.
— Я надеюсь на их благоразумие, — шепотом произнес я. — Стычка плохо закончится, и для них, и для нас.
— Я знаю эту породу. Бесполезно, — покачал головой Чижиков. — Они хотят драться. Парням нужно отвести душу.
— Посмотрим, — сказал я.
Служанки принесли водки, разлили ее по чаркам. Я едва успел поднять свою, как в лицо полетели брызги. Кадет с широким плоским лицом и узкими татарскими глазками выплеснул в меня содержимое рюмки.
— Я, князь Беркасов, не желаю пить с теми, кто позорит честь армии, — важно произнес он.
Чувствовалось, что у «татарина» просто кулаки чешутся, и он ищет повод для драки.
Я молча взял со стола рушник, вытер влажные щеки, и совершенно спокойно врезал Беркасову по голове бутылкой с вином. Получилось как в кино — осколки и фонтан брызг по сторонам. Князь свалился под стол как подкошенный.
— Что?! — закричал конопатый юнец. — Наших бьют.
— И ваших тоже. — Чижиков двинул его так, что парня, будто корова языком слизнула. Я успел увидеть только пролетевшее к стене тело, нелепо размахивающее руками и ногами.
И тогда понеслось. И мы, и кадеты были вооружены шпагами, но пока не спешили пускать их в ход.
Раз! Мой кулак въехал в солнечное сплетение кадета, два — я ногой отправил пацана в глубокий нокаут.
Бац! Кто-то зашел сбоку, да так «удачно», что едва не свернул мне челюсть. Ответный удар не заставил себя долго ждать.
— И-и-и-и! — с противным визгом тощий парнишка запрыгнул на спину Карла и принялся молотить его кулаками.
Кузен растерялся и не сразу сбросил досадливую ношу. Я помог ему, опустив на голову визгуна табуретку. Бум. Глаза парня свелись в одну точку, он разжал руки и брыкнулся на пол.
— Спасибо! — успел поблагодарить Карл, избавившись от тощего кадета.
— Не за… — начал говорить я, но не успел произнести фразу до конца.
Тяжелая оловянная кружка, брошенная с изрядной ловкостью, угодила мне в висок.
Абзац!
Все вокруг закружилось-завертелось. Я увидел вбегающих семеновцев, они стали растаскивать дерущихся, пуская в ход приклады мушкетов. Из кучи небрежно сваленных в угле тел приподнялся Чижиков с лицом, сияющим как медная пуговица. Он отряхнул запачканный мундир и что-то произнес, но я уже не мог расслышать его слов. Мне стало глубоко фиолетово на все и вся.
Очнулся я оттого, что две глотки надсадно горланили над ухом:
— Ой, моро-о-оз, моро-о-оз! Не морозь меня!
Вряд ли эту песню успели сочинить в восемнадцатом веке, но сейчас она не казалась анахронизмом. Я научил Карла петь ее после походов в баню. Кажется, она прижилась.
Встревоженные вороны срывались с деревьев и, каркая, взлетали вверх. Деревья качали нестриженными макушками.
Чижиков и кузен волокли меня по ночному Петербургу. И почему-то было так хорошо, что я не выдержал и присоединился к нестройному хору.
А утро встретило нас не только рассветом, страшной головной болью и настоящим морозцем. Нет, все это имелось в полном составе, но началось оно все же с новой ломки стереотипов.
Вот уж не ожидал, что старая армейская поговорка: «через день на ремень» окажется столь актуальной. Стоило принять присягу и понеслось. Обещанный капралом Ипатовым фунт лиха весил намного больше. Мы практически не вылезали из караулов, дежурств и работ. Какая там учеба! О ней пришлось забыть. Если стрелять нас немного научили, благо нормативов на меткость не существовало — главное выпалить в нужную сторону и побыстрее перезарядиться, то метать тяжелые гранаты не умели ни я, ни Карл. А ведь предполагалось, что мы, гренадеры, должны идти впереди строя и забрасывать противника бомбами, а в случае осады кидать увесистые ядра за крепостные стены. Ладно б гранаты хотя бы внешне походили на те, к которым я привык — с длинными ручками, правильным балансом и прочими научно-техническими штучками, предназначенными облегчить старания солдата. Но нет, абсолютно неудобные снаряды, возни с которыми выше крыши: по команде достаешь заразу из сумки, прокусываешь зубами трубку, прикрываешь пальцем, изготавливаешь фитиль, отступаешь правой ногой назад, поворачиваешься корпусом направо, поджигаешь гранату и кидаешь от себя подальше. Если повезет — бомба попадает во вражеские ряды и косит их как траву на лужайке, если не повезет — труды пропадают втуне.
Эх, караулы… прежде меня миновала участь сия (в лучшем случае я ходил помощником дежурного по штабу), но не теперь.
Ежедневно на посты выходило до семисот человек (только в адмиралтейскую крепость почти триста сорок да на нужды Тайной канцелярии сотни полторы). Если учесть, что полки все же распустили часть личного состава в отпуска, то можно представить насколько было несладко тем, кто остался. Отстоял свое, вернулся домой, поспал, к рассвету прибыл в полковой двор, получил новое назначение и так по кругу. Людей катастрофически не хватало.
Гвардейская служба совсем не походила на синекуру. Где те шикарные балы, описанные классиками — с томными красавицами, наряженными в расшитые золотом платья с обширным декольте, и блестящими офицерами в нарядных мундирах, щелкавших каблуками и приглашавших дам на какую-нибудь польку или мазурку? Может, где-то оно и были, но кажется в какой-то параллельной вселенной.
Действительность отличалась от романов, как голливудский боевик от полицейской спецоперации. Усталый офицер едва волочил ноги, ибо ему предстояло тащить лямку наряду с остальными чинами, то есть ходить в караулы или проверять их в зависимости от того, какая рунда выпадет — главная, средняя (до полуночи) или дневная (на рассвете). А мы, солдаты, вообще ходили как сомнамбулы. Налитые свинцом веки закрывались сами по себе, хотелось одного: спать, спать, спать…
Поручик Дерюгин лютовал хуже фрица под Москвой. Казалось, он не знает усталости и может нагрянуть в любой момент. А уж гренадеры пользовались у него особой «любовью». Нас снаряжали на самые гнилые караулы, где нет ни сна, ни покоя.
— Что есть гренадер? — спрашивал и сам же отвечал поручик. — Гренадер — сие означает избранность. Вы — не просто солдаты, вы — чудо-богатыри государства Российского.
А мне почему-то казалось, что эта фраза принадлежит генералиссимусу Суворову.
Во время одного из караулов и произошла моя первая встреча с императрицей. Я запомнил ее навсегда.
Глава 16
Дело было вечером, делать было нечего. Смотри и бди, чтобы какая сволочь не обворовала полковой магазин. На то ты и караульный. Главное — наизусть помнить пароль и отзыв, тут он называется лозунгом.
За неделю до выступления в караул командиру полка присылаются под большим секретом выбранные молитвы. Последовательные слова из них используются для пароля. Если, к примеру, сегодня очередь «Отче наш», то первый пароль — «отче», отзыв — «наш», потом «Иисус» и «Сананда» и так далее.
Сегодня по полку целый капитан дежурит, Толстой его фамилия. Интересно, доводится ли он предком кому-то из наших классиков? Раньше я его не видел, даже не знаю, нормальный мужик или не очень. От характера командира многое зависит. Это я еще по первой службе понял. Хотя, куда солдата не целуй, везде… фалда.
Смена караула только завтра утром. С барабанным боем подойдет новый начкар, нас выстроят в ружье, офицеры отсалютуют друг другу, примут посты, распустят по домам. Вот оно счастье! Скорей бы. Ну до чего же медленно время тянется!
Дежурный офицер сейчас, наверное, в тепле сидит, чаи гоняет. На проверку пробежался (это еще не при мне было), придрался к чему-то, шороху навел и обратно в штаб — греться. Капрал Ипатов потом глотку надорвал, распекая провинившихся. Нет, определенно повезло, что моя очередь не пришла.
Для гренадер капрал, что отец родной. Ближе не бывает. Привычных отделений в армии восемнадцатого века не существует. Есть капральства — человек по двадцать-двадцать пять на одного капрала, который следит за внешним видом солдат, проверяет посты, регулирует споры, иногда выступает в качестве психолога. Среди нас много семейных — их жены и дети живут вместе с супругами в домах, выделенных для постоя. Если муж набедокурит, его половинка не постесняется нажаловаться капралу, а тот знает какую найти управу: пьющий, к примеру, может просто не вылезать из работ, благо, куда приложить силу найдется всегда, шанцевого инструмента в полку завались, и он не простаивает. Одного чересчур распускавшего руки по просьбе супруги заслали в какую-то Тьмутаракань, теперь он уголь ищет, отстреливаясь от волков и медведей.
Учат обычно офицеры или старослужащие. Они обязательно показывают все приемы с оружием, мучают строевой и прочими солдатскими прелестями.
Меняют постовых каждые три часа. Нет, я не доживу. И вроде заступил недавно… минут десять прошло. Как коченеют ноги, пальцы заледенели и не слушаются! Питерская погода это что-то с чем-то. С непривычки можно загнуться. Летом во время жары от влажности все тело покрывается липким потом, а зимой даже легкий морозец кажется жгучим. Угораздило же Петра в таком гиблом месте город построить.
А скука-то какая! Если днем полковой двор кипит как разворошенный муравейник, ночью словно вымирает. Лишь пятна света от раскачивающихся на ветру фонарей прыгают по брусчатке как солнечные зайчики.
Надеюсь, дождя не будет, хотя его нет разве что по большим праздникам.
Я бросил взгляд на темное небо. Ничего… даже луны не видать. Все затянуло тучами. И ветер скверный, до костей пронизывает. Пахнет морем и солью.
Карл дома филонит, недавно поскользнулся и ногу подвернул. Ничего страшного, но для караульной службы временно непригоден.
Лехарь Вихман поколдовал над больной ногой и велел натирать какой-то вонючей смазью три раза в день, а главное — не утруждаться. Вот педантичный Карл и выполняет предписание. Готов поспорить, что не один — Дарья, наша кухарка, совсем ему проходу не дает. Уж она такой случай не упустит, или я ничего не понимаю в этой жизни. Так что покой кузену только снится.
От скуки снял с ремня ружье и стал вертеть в руках.
В той жизни я служил в армии всего год, за это время удалось раз пять пострелять из штатного «Калашникова», не скажу, что из меня получился снайпер, но на твердую «четверку» мог рассчитывать всегда.
Здесь нам выдали длиннющую полутораметровую фузею особого гвардейского образца. Она сантиметров на десять длиннее армейских пехотных. На стволе знак в виде начальных букв полка — «И. П.». Стреляли мы немного, в основном холостыми, ибо обучение зимой даже в гвардии проводилось редко. Армейские части те вообще только в летних лагерях палят, а количество выдаваемых патронов ограничивается тремя боевыми в год. В качестве мишени служат щиты с нарисованными черной краской ростовыми фигурами.
Но в теории меня поднатаскали. Спасибо Чижикову!
Заряжение фузеи — вообще штука долгая и муторная.
Итак, достаешь из сумы бумажный патрон, откусываешь уголок, ставишь курок на предохранительный взвод (кому охота ненароком в себя выпалить), откидываешь огниво, сыпешь чуть-чуть пороха на полку, закрываешь ее крышкой-огнивом, набрасываешь на курок предохранитель. Это еще не все. Ставишь ружье прикладом на землю, высыпаешь остальной порох из патрона в ствол, комкаешь бумажку с пулей в руке, достаешь шомпол и аккуратненько так досылаешь заряд в казенную часть. Потом надо хорошенько утрамбовать. Перед выстрелом снимаешь предохранитель и отводишь курок назад. Теперь можно стрелять — достаточно нажать на спусковой крючок.
Времени отнимается прорва, нервов тоже. Действий выполняется масса: читать и то устаешь. С непривычки в лучшем случае раз в минуту выстрелишь, постепенно, с опытом, получается быстрее. Рука набивается. Есть, говорят, такие умельцы, в основном среди казаков, что пять пуль успевают высадить за это время.
После оглушительного выстрела, шеренга окутывается густым противным туманом, щиплющим глаза — порох-то черный. Гранулы его похожи на графит, но когда разотрешь, он становится бурым. Большинство пуль из свинца, кроме них есть и картечные, их выдают в меньшем количестве (из семидесяти патронов — двадцать)
Более-менее меткая стрельба на расстоянии около ста метров, с дистанции шагов в триста можно даже не целиться, толку никакого. Пруссаки те вообще учатся палить на ходу, а потом бросаются в штыковую атаку.
Конечно, после «калаша» фузея кажется жуткой архаикой, но ничего лучше пока не придумали. На вооружение русской армии это гладкоствольное ружье с кремневым замком, называвшимся «французским батарейным», попало недавно — несколько лет назад, правда, полностью перевооружить все войско не успели, и некоторые части снабжаются устаревшими мушкетами. Но на гвардии не экономят, мы получаем только лучшее. Кстати, такая конструкция замка считается самой передовой в Европе, так что наши генералы порой нос по ветру держат.
Срок службы фузеи десять лет. Раз в два года полк получает сумму на ремонт. Ипатов постоянно проверяет наше оружие, если находит «разстрел» или раковину, фузеи заменяются. Армейские стоят два рубля пятьдесят копеек, гвардейские подороже на целый рубль. Легкими их не назовешь, в среднем весят килограммов пять с половиной.
Я повесил ружье на ремень и стал прохаживаться по караульному пятачку. Может, гусиным шагом пойти, чтобы согреться… Физкультура — она в любой ситуации выручит.
Дома я постепенно устроил импровизированный тренажерный зал, из всякого барахла соорудил штангу, гантели, гири. Как только выдавалась свободная минутка — упражнялся. Тело настоящего фон Гофена и раньше то рыхлым было не назвать, а теперь так раздалось, что мундир враз сделался тесным. Хорошо, Чижиков предупредил, чтобы я одежду посвободней заказывал: в непогоду поддевать лишнюю пару нательного белья.
Мускулы росли как на дрожжах, и это без всяких анаболиков, энергетических коктейлей и прочих хитростей. Не ожидал настолько стремительных результатов. То ли предрасположенность такая, то ли какие-то неизвестные факторы действовали. Бицепсы превратились в банки, трицепсы запузырились, на прессе отчетливые квадратики проступили. Таким я еще никогда не был. В зеркало смотрел и глазам не верил.
Карл сначала посмеивался, но потом враз посерьезнел, когда хорошенько меня в бане разглядел. Ему стало завидно, и с тех пор мы занимались вдвоем.
Теперь я выглядел здоровей Чижикова, раньше считавшегося самым крупным среди гренадер, а значит во всем полку. Он был выше меня, но куда худощавей.
С моей легкой руки еще несколько человек заразились тяжелой атлетикой, но не у всех хватало терпения. Многие быстро остывали и прекращали занятия.
Ипатов одобрил мою «методу» и стал прививать среди гренадер. Так волей-неволей я стал готовить среди измайловцев будущих «мистеров Вселенная».
Кроме того, с моей подачи в полку прижились и некоторые жаргонные словечки, такие, как скажем, «мажоры».
В полку хватало богатых солдат-дворян. Некоторые имели в Петербурге собственные дома, приезжали в полковой двор на роскошных экипажах с гайдуками на запятках, носили не знавшие грязи мундиры из дорогого сукна, украшали уши золотыми серьгами, а пальцы рук перстнями с переливающимися бриллиантами.
В нашем гренадерском капральстве третьей роты был только один «богатенький Буратино» — князь Тадеуш Сердецкий, выходец из знатного польского рода. Его отец чем-то приглянулся Петру Первому, и Сердецкие на долгое время вошли в фавор. Кто-то из них служил даже при Екатерине Первой в знаменитой кавалергардской роте, при Анне Иоанновне ее распустили. Самый младший — белобрысый, рослый, с капризной складкой тонких губ и огромными, похожими на веер ресницами, попал к нам.
Он делал карьеру при дворе и в полку появлялся редко. Его папа ежемесячно отваливал ротному кучу денег, и Басмецов смотрел сквозь пальцы на то, что в строю вместо Тадеуша стоит его крепостной — тоже поляк по имени Михай.
Как-то раз я в сердцах назвал Сердецкого мажором, другим гренадером это понравилось. Они подхватили и понеслось. Даже семеновцев с их «красавчиками» заразили.
Я так увлекся воспоминаниями, что не сразу сообразил — у ворот творится что-то неладное. Оттуда пулей летел подчасок. Он заскочил в штаб, вытащил оттуда трясущегося капитана и взволнованного Ипатова, они побежали втроем. Толстой на ходу пригрозил мне кулаком. Не зная, что и подумать, я вытянулся во фрунт и сделал фузеей на караул.
Ворота распахнулись, на полковой двор вошла многочисленная процессия с факелами. От набившегося народа враз сделалось тесно, как на торжке в базарный день. Впереди всех шагала высокая полная женщина с гордо поднятой головой. По бокам ее сопровождали двое в роскошных одеяниях. Одного я узнал сразу — это был Густав Бирон. Он что-то говорил женщине на ухо, та слушала его внимательно, одобрительно кивая. Второй уступал Густаву ростом, но в его внешности были общие черты с подполковником. Любой мог без труда распознать в них родственников.
«Фаворит пожаловал», — без труда догадался я. Братья есть братья, кровное родство дает о себе знать.
Процессия направилась в сторону штаба. Внезапно, женщина остановилась и подошла ко мне. Я замер, перестал дышать. Сама императрица Анна Иоанновна обратила на меня внимание.
— Кто этот Голиаф? — в голосе царицы слышалась отдышка, однако смотрела она с нескрываемым интересом.
— О, я его знаю, ваше величество. Это гренадер третьей роты фон Гофен, — пояснил подполковник.
— Он из Пруссии?
— Нет, ваше величество, из Курляндии. Мы земляки.
— Вот как, — императрица загадочно улыбнулась. — Выходит не перевелись еще в герцогстве могучие телом богатыри. И давно он служит?
— Несколько месяцев, ваше величество.
— И как служит? Достаточно ли расторопен, знает ли артикулы и экзерциции воинские.
Густав посмотрел на Толстого. Капитан пожал плечами:
— Вот капрал его, Ипатов. Он знает.
— Говори, — приказал Бирон Ипатову.
— Слушаюсь, ваше высокоблагородие, — четко отрапортовал тот:
— Гренадер сей весьма прилежный, хучь и недавно в роте, но уже на хорошем счету. Толков, исполнителен, смекалист.
— Более того, — вмешался Бирон, — по прибытии в Россию он вступился за поручика Измайловского полка Месснера, скрестив шпаги со злодеями.
Анна Иоанновна удивленно подняла брови.
— При ближайшей баллотировке непременно дайте ему чин капрала, — велела она и снова зашагала к штабу.
Густав на мгновение задержался, склонился в мою сторону и тихо произнес:
— А ты молодец. Понравился государыне. Смотри, как бы тебя не съели.
Глава 17
«А я люблю военных — красивых, здоровенных». Глупая песенка, но в чем-то правильная. Вот и Анна Иоанновна выделила меня, что греха таить, за красивые глазки, хотя Карл, похожий на Алена Делона в молодости, куда смазливей, чем я, будет. А вот насчет здоровенных… ну да, мордоворот из меня вышел хоть куда. Харя — поперек себя шире, плечи квадратные. Грудная клетка как у Ивана Поддубного. Поначалу это напрягало — не должны такие метаморфозы с организмом за месяц-два происходить. Потом решил, что переселение души могло вызвать в теле мутации, причем, не обязательно плохие. Нынешнее физическое состояние вполне устраивало, так что расстраиваться я перестал. Проблем и без того хватало.
Кирилл Романович вроде обещался навестить, вот и спрошу у него при случае.
После встречи с императрицей я думал: ну все, карьера обеспечена: раз велела из меня капрала сделать, так на следующий день можно сверлить дырку в погонах. Но время шло, а я по-прежнему ходил в рядовых. Когда намечалась очередная баллотировка — неизвестно. С вакансиями в полку действительно туго. Боевых действий он не вел, большинство больных поправлялись и возвращались на свои места. Перевод в армейскую часть считался наказанием, несмотря на двукратную разницу в чине.
Мнение, что гвардия служила кузницей офицеров для армии, оказалось ошибочным. Гвардейцы варились в собственном соку и не спешили расставаться с родными частями. Более того — намечались династии: если отец служил семеновцем или преображенцем, сыновья непременно хотели пойти по его стопам.
Однако Ипатов все же взял меня на карандаш. Я незаметно сделался его правой рукой. Развод или караул: «Фон Гофен, идемте со мной. Слушайте внимательно». Увильнуть или сослаться на занятость не получится. Нагрузка на меня выпадала будь здоров.
Так капрал готовил себе преемника. Часто оставлял вместо себя, по поручениям отправлял разным, доверял получение имущества. Гренадеры постепенно привыкли по многим вопросам обращаться ко мне, не тревожа Ипатова. Даже Михай не стеснялся. Хороший парнишка оказался. Я по дурости раньше считал, что ни поляк, то с гонором, но при близком знакомстве мнение переменил. Пока хозяин болтался невесть где, Михай исправно тянул лямку, не хуже большинства гренадер.
Пришла зима — холодная и вьюжная. Снега наметало выше крыши. Я вспомнил молодость в кирзовых сапогах и предложил Ипатову заняться физподготовкой капральства, планчик небольшой накидал. Понятно, что народ службу тащит, и собраться полным составом невозможно, но пять-шесть человек ежедневно обреталось в полковом дворе, выполняя не всегда важные работы. Ипатову идея понравилась, мы подошли к Дерюгину. Поручик сначала и слушать не хотел:
— Что за баловство предлагаете! У меня каждый солдат на счету…
Мы объяснили, что гренадеры просто обязаны отличаться в лучшую сторону от фузелеров, и Дерюгин проникся. Пообещал, что постарается переложить нагрузку с нашего капральства на другие, но гренадеры третьей роты должны стать образцом.
— И не вздумайте распустить гренадир! Я вас лично пристрелю, ежели порядка не будет! — грозно предупредил поручик.
— Так точно, ваше благородие! — рявкнули мы с Ипатовым в один голос. — Стреляйте!
А идейка моя была довольно простой — для начала я решил сделать из наших бойцов заправских лыжников. С детства любил погонять в свое удовольствие, даже на соревнованиях выступал, а в армии на второй разряд сдал не напрягаясь. Опыт тренерский имелся, правда, в другом виде спорта, но это не суть как принципиально. Я ж не буду команду к олимпийским играм готовить.
Если верить историкам и археологам снегоступы на Руси появились чуть ли не раньше мамонтов, однако петербуржцы восемнадцатого века зимой развлекались тем, что катались с ледяных горок, с удовольствием посещали катки и осваивали коньки, ездили на санях, но почему-то не очень привечали лыжи. Считалось, что они — удел простого мужичья или охотников. Понятно, что и в гвардии, которая обычно не воевала в зимний период, лыжи не прижились, немногие умели на них ходить, и если я говорю «ходить», так оно и было. Лыжники в те времена не бегали, а с чувством, с толком, с расстановкой добирались до искомой цели.
Я сразу забраковал снегоступы, обнаруженные в полковом магазине. Не то — охотничьи, слишком широкие и короткие, подшитые с нижней стороны вонючей шкурой неизвестного животного. Может, существовали и иные конструкции, но мне на глаза не попались. Я же хотел для гренадер легкие, удобные, хорошо скользящие лыжи. Пришлось засесть за чертежи. После небольшого мозгового штурма пришел к более-менее удовлетворительному варианту, набросал на бумаге и заявился к полковому плотнику Никодимову. Тот почесал голову и изрек, что я хочу смастерить «голицы» и ничего нового, собственно не придумал. Видел он подобные и знает, как изготовить.
Оказывается, не все так плохо с этим делом обстояло в России. Петр Великий понимал важность применения лыж в военных действиях: при нем были лыжные отряды, сражавшиеся в зимние кампании со шведами. Но мы отставали — если норвежцы уже заделались заядлыми биатлонистами, тренируясь стрелять при съезде с умеренного склона, спускаться, не ломая палок и лыж, проходить приличные расстояния при полной боевой выкладке, то в русской армии ничему такому не учились.
Крепко озадаченный Никодимов засел в мастерской. Каждое утро из нее выгребали кучу опилок, потом их сжигали в печах.
В результате на свет появилась первая пара лыж, сделанных из сосны (благо бор поблизости, и недостатка в материале нет), каждая выше меня на вытянутую руку, узкая (сантиметров шесть), с загнутым передним концом (не спрашивайте, как Никодимов это сделал), с выдолбленным по всей длине желобом. Посредине небольшое возвышение, обклеенное берестой. Ступня просовывалась в поперечный кожаный ремень, имелся еще и специальный пяточный для удобства.
Обычно к лыжам полагалась одна палка, но я попросил изготовить две. Так мне было сподручнее. На конце их приделали деревянные кружки, скрепив ременным переплетом. Хоть Никодимов использовал самую легкую древесину, палки все равно получились тяжеловаты. Ездить можно, но хотелось чего-то получше. Я решил сменить их на бамбуковые.
Россия вела оживленную торговлю с Китаем, и в Петербург и Москву поступало немало китайских товаров: в основном, меха из Сибири и изделия из слоновой кости. Побегав по торговым рядам, наткнулся на лавчонку, где в углу скромно ютились бамбуковые жердины. Они не продавались, хозяин долго артачился, но все же отдал за хорошие деньги. Никодимов сделал из бамбука легкие и прочные палки.
Я испытал лыжи. Получилось сносно, даже коньковый ход. На мои «маневры» прибежало посмотреть немало солдат и унтеров. Кажется, был кто-то из штабов (так называли старших офицеров полка). Коньковый ход вызвал у всех изумление, эта техника появилась в действительности намного позже — лет через триста с лишним. Никодимов получил заказ на большую партию — по задумке у каждого из гренадер моего капральства должны иметься собственные лыжи — и снова закрылся в мастерской.
Дерюгин сдержал слово. Мы получили больше свободного времени, и я приступил к занятиям. Пока Никодимов стругал лыжи, мои гренадеры качались в тренажерном зале (спасибо полковым кузнецам), бегали кроссы, крутились на турнике, осваивая подъем переворотом. Я учил их кое-каким приемам рукопашного боя: очень пригодились школьные занятия в секциях бокса и самбо. Правда, на кулачках гренадеры дрались не хуже меня, многие втихаря принимали участие в боях стенка на стенку. Я узнал забавные подробности этих мероприятий — участники обязывались перед схваткой пройти регистрацию в полиции.
От чего не смог нас избавить Дерюгин, так от дворцовых караулов. Гвардейские полки по очереди заступали на охрану Зимнего дворца, точнее «нового зимнего дома» — как его называли. Каждое утро без малого триста человек несли службу, охраняя императрицу и ее двор только гренадер назначалось тридцать девять, не считая капралов.
По такому случаю из полковой казны выделили сумму для новых мундиров, и те, кто ходил в дворцовые караулы, получили новые комплекты обмундирования (на сей раз за казенный счет). Начальство не хотело ударить в грязь лицом, и экипировали нас как надо, правда, сменившись, мы переодевались в старую форму.
Дворцовая служба была куда теплей и приятней караулов при Адмиралтейской и Петропавловской крепостях. Больше всего мы не любили охранять казематы.
Во дворце гренадер ставили на разные посты, стараясь подбирать людей ответственных и дисциплинированных. Обращали внимание и на внешний вид, выделяя тех, кто повыше и покрупнее. Обычно мы охраняли либо деревянную лестницу, ведущую к крылу, в котором жила императрица и чета Биронов, либо Большой зал, там проводились торжественные ужины и приемы, стоял великолепный трон, приподнятый над дубовым паркетом на несколько ступенек.
Мне все было в диковинку, и если бы не грозные вращающиеся глаза Ипатова, я б, наверное, шею себе свернул, особенно в тронном зале — от обилия зеркал, богатых украшений, гипсовых статуй, барельефов кружилась голова. Если ее запрокинуть, на потолке можно увидеть картины так или иначе связанные с царствием Анны Иоанновны. В центре — сюжет, повествующий о вступлении ее величества на престол, разумеется, в виде аллегорий: фигуры Религии и Добродетели представляют будущую императрицу России, которые, стоя на коленях, вручает ей корону. Рядом радуются казанское, астраханское и сибирское царство, а также татарские и калмыцкие народы. О том, чтобы изобразить, как Анна Иоанновна разорвала навязанные ей «верховниками» кондиции, речи не идет, все подано под иным, благообразным соусом.
Однажды мы заговорили о суевериях: молва глаголет, что в тот день 25 февраля 1730 года на небе появилось красное сияние. Многие восприняли это как дурной знак, хотя не очень протяженное правление императрицы отнюдь не назовешь худшим в истории страны.
Вокруг этого сюжета расположены еще четыре живописных изображения: могущество империи, милосердие к преступникам, высокая щедрость и победа над врагами.
Огромное помещение обогревается четырьмя печами, расположенными этажом ниже, однако в зал поступает только тепло из стоящих в каждом углу масок со специальными отверстиями-ртами. Те, кто видят это в первый раз, обычно удивляются.
В основном, Большой зал пустует, и у караульных больших забот нет.
Я снова увидел Анну Иоанновну и теперь смог разглядеть ее лучше. Рост у нее, как и у великого дяди — императора Петра Первого, гренадерский. Видная, статная, кажется, выше меня, склонна к полноте. Лицо смуглое, будто полжизни провела на черноморском курорте. Волевой подбородок, черные как сажа волосы, глаза, в которых прыгают смешинки. «Подготовленный» Пикулем я ожидал увидеть чуть ли не чудовище, но в действительности императрица оказалась добродушной и привлекательной женщиной. Одевалась она роскошно, но тому подобало ее высокое положение. К тому же Анна Иоанновна поставила перед собой цель — показать, что она не просто императрица, а императрица великой державы. Для этого тратились огромные суммы на разные празднества: балы, маскарады, торжественные приемы, фейерверки и иллюминации. Нужно было произвести впечатление, и, стоит отметить, ей это удавалось. Многие иностранцы поражались великолепию и пышности ее двора, при котором нашли пристанище великаны и карлики, шуты, обезьяны, ученые скворцы. С подачи Бирона развивалось коневодство. Сам любимец говорил о себе: «Забота фаворита ежедневно, ежесекундно, ежечасно находиться в службе ее императорского величества».
Он никогда грубо не лез в дела страны, в отличие, скажем от Меншикова, но стремился докладывать императрице обо всем происходящем.
Почти сразу после воцарения на престол Анна Иоанновна дала всему народу полугодовую подушную подать, ибо петровские реформы порядком разорили страну. Крестьяне нуждались в передышке.
Многое делалось для постепенного возвращения накопленного за время Северной войны государственного долга.
Тайная канцелярия — историческое пугало школьных учебников и либерально настроенных политиков — оказалось учреждением с бюджетом в пятьдесят раз меньше чем у императорских конюшен. Более того — при Анне Иоанновне в Сибирь сослали всего восемьсот человек, вместо запущенной Манштейном дезинформации о двадцати тысячах.
Любимым развлечением императрицы была пальба из окна, говорят, стреляла не хуже снайпера. Обожала присказки вроде: «Ямщиком свищет, кошкой мяучит и насвистит хорошее». С удовольствием слушала пение дворовых прислужниц: «Девки, пойте». При ней неотлучно следовали женщины, болтавшие без умолку и веселящие ее до слез. Их называли «трещотками».
Гвардейцев она привечала, любила смотреть, как полки под руководством Миниха штурмом брали возведенные из снега и льда крепостные укрепления. Терпеть не могла пьянства, в обязанности охранявших гренадеров вменялось выводить с приемов упившихся гостей. Мне на раз под локотки приходилось утаскивать не рассчитавших собственные возможности вельмож.
И все бы ничего, но однажды Дерюгин пристал с вопросом, когда я последний раз был на исповеди. Стоит отметить, что большинство солдат в полку православные, для них в полковом дворе соорудили походный алтарь. Католики и лютеране обязаны посещать молитвенные дома в свободное от службы время.
Я признался, что давно не был в церкви. В результате на меня наложили взыскание. Поручик обещал содрать три шкуры, если и впредь буду вести себя подобным образом.
Это заставило меня принять важное решение. В прошлой жизни я окрестился незадолго до призыва в армию. Не скажу, что соблюдал посты и молился, как положено. Даже в церковь ходил редко. Однако вера внутри жила и требовала выхода. Фон Гофен считался лютеранином, но я ведь был от рождения православным.
Слова Дерюгина долго звучали в ушах. Он прав: надо что-то делать.
Я нашел полкового священника — отца Илью, поговорил с ним: рассказал, как мечется моя душа, какие противоречия рвут меня изнутри. Конечно, священник не узнал, что я выходец из далекого будущего, который перенесен сюда некими лицами из параллельного мира. Но отец Илья сумел разобраться в моих метаньях и дал ценный совет. Я решил креститься заново. Это событие было намечено на день, следующий после празднования Рождества Христова.
Торжества эти всегда отмечались с размахом. Нас готовили несколько дней, гоняя как сидоровых коз.
В девять часов утра все четыре гвардейских полка, пройдя торжественным маршем с флейтами и барабанами мимо Зимнего дворца, спустились к Неве. С Петербургского острова прибыл армейский Ингерманландский полк.
Нас выстроили в огромное каре. Напротив дворца из тонких досок возвели восьмиугольную открытую иордань с куполообразной крышей, на которой стояли статуи ангелов, а между ними — картины, представляющие крещение Христа, всемирный потоп и Красное море. Иордань обнесли балюстрадой с маленькими ангелочками. К проруби вел пол, выстланный красным сукном.
Я стоял в первых рядах и отчетливо видел появившуюся процессию во главе с архиереем новгородским. Всего набралось человек полтораста.
Подойдя к иордани, они прочли молитвы и окурили ее из ладанок. Затем архиепископ освятил иордань, опустив в прорубь крест.
По команде вынесли знамена полков, поставили у углов строения, окропили священной водой. Офицеры приказали зарядить фузеи. Как только церемония закончилась, прозвучали залпы орудий, мы тоже палили беглым огнем.
Потом полки развели, а к проруби кинулось немало людей, чтобы умыться святой водой или отнести хоть немного домой.
На следующий день меня крестили.
Глава 18
Много лет Новый год у меня ассоциировался с посиделками за телевизором, нудным и томительным ожиданием момента, когда блатная камарилья, оккупировавшая все «кнопки», сгинет и начнутся нормальные передачи и фильмы. С салатами, наструганными мамой, ее знаменитой селедкой «под шубой», курочкой, натертой специями и томящейся в духовке. С прогулками по праздничным улицам, наполненным пьяными добродушными компаниями. И снова с посиделками за одним столом — с отцом и матерью, моей девушкой — они у меня не часто, но все же менялись. Такая была традиция у нашей семьи — встречать Новый год вместе, а потом идти к нарядной елке, стоявшей на городской площади. Лишь однажды я провел праздник вне стен родного дома — это случилось, когда меня призвали в армию. Нас было трое, мы заперлись в каморке полкового слесаря, сообразили нехитрый стол и грелись от огромной раскаленной лампы. Мой сослуживец умудрился потом, когда глаза слипались сами по себе, заснуть возле нее и спалить гимнастерку.
Этот Новый год оказался вторым, который я отмечал без своих. Если не считать, конечно, Карла. Он знал о моем решении перейти в православие, вяло отговаривал, даже сводил к пастору, смотревшему на меня, как на изменника.
— Зачем вам это, сын мой? — в лазах пастора застыла такая скорбь, что я не сразу нашелся, что ответить.
— Мне не объяснить это словами, святой отец. Я просто знаю, что так надо.
Священник опустил голову и долго подавленно молчал. Мне тоже было как-то не по себе.
Так получилось, что мы держались отдельно от довольно обширной немецкой диаспоры Петербурга. Просто не было точек соприкосновения, разве что молитвенный дом, куда изредка ходил Карл. Никто не приглашал в гости, не звал отмечать праздники, не давал приглашений в театр или на бал. Повозки с веселящимися людьми проносились мимо, мы провожали их тоскливыми взглядами.
Служба засасывала, свободного времени оставалось катастрофически мало, тем более что я лелеял честолюбивые мечты, а без долгой самоотверженной и нудной (что греха таить) работы не обойтись. Война с Турцией началась, но гвардейцев пока не трогали. Все осталось по-прежнему — караулы, работы, наряды, разве что наше капральство занималось по особой, составленной мной, программе, и занятия постепенно приносили первые плоды.
Сказать, что обучение гренадерам давалось легко — нельзя. Поначалу они не понимали, чего собственно от них хотят. Я как мог, объяснял, но иногда кусал губы от бессилия, когда до меня доходило, что разница между нами оказывается слишком большой. Мои гренадеры были детьми иного века с его неторопливым ритмом, долгими сборами и медленной ездой. В их глазах я выглядел торопыгой, слишком суетливым и… странным. Хорошо хоть они объясняли эту странность моим иноземным происхождением.
— Неужто все немцы такие? — порой задавался вопросом Чижиков.
Тут его взгляд падал на впавшего в длительную меланхолию по причине любовного фиаско Карла, и великан-гренадер заключал:
— Да нет, кажись, есть и ничего себе. На человеков похожие…
Капля камень точит. Я руководствовался этой поговоркой и брал одну крепость за другой.
В конце января случилось событие, сделавшее меня на долгое время притчей во языцех. Я возвращался поздним вечером со службы, уставший и продрогший. Зима выдалась холодной, мундир не грел, денег на шубу не хватало, я купил с первого жалования обычный крестьянский тулуп, сделанный из овчины, потратив отнюдь не лишние семьдесят копеек. На условности дворянского этикета было наплевать, особенно, когда на дворе минус тридцать, и воет вьюга, закручивающая спирали из колючего снега, который так и норовит попасть в лицо или угодить за шиворот.
Издалека донесся тревожный набат. На мороз высыпали обыватели с ведрами, наполненными водой, с баграми, кто-то тащил лестницу. Они бросились в конец улицы, где стоял окутанный багровым дымом дом, весь в сполохах огня. На втором (верхнем) этаже бушевал пожар, из черных провалов окон вырывались языки пламени. Стоял едкий удушливый запах. Из-за сильного ветра огонь расползался стремительней, подминая под себя все большую площадь.
Густой дым отрезал парадный вход, возле которого собрались небрежно одетые (видно, в чем успели выскочить) люди: пожилой мужчина с покрывшимся копотью лицом, испуганная женщина, зябко кутавшаяся в накидку из соболей, и не то девочка, не то подросток с ног до головы замотанная в огромного размера платок. Они отрешенно наблюдали как дворовые пытаются утихомирить пожар.
К счастью, дом этот располагался в преизрядном отдалении от остальных, огонь не угрожал перекинуться на другие строения. Ветер иногда подхватывал горящие обломки, они снопом искр падали в сугробы и с шипением, выпуская струйки дыма, гасли.
«Пожарных» хватало и без меня. Гвардии хоть и вменялось оказывать посильную помощь в тушении пожаров, но это был не наш участок, и я мог с легким сердцем идти домой. Но что-то заставило остановиться, а потом подойти к трем погорельцам.
Они подавлено молчали, лишь мужчина иногда шевелил губами, шепча то ли молитву, то ли ругательства. Внезапно девочка оживилась:
— Папочка, там же Митяй, — истошно закричала она, указывая рукой в сторону чадящих окон второго этажа.
«Митяй, Дмитрий», — пронеслась у меня в голове.
Неужели…
— Что ты сказала, девочка, повтори, — закричал я, чувствуя, что волосы на голове становятся дыбом. Не позавидуешь человеку, заживо горящему в охваченном пожаром доме.
Отец девочки по-прежнему обреченно стоял, будто каменный истукан. На лице его не появилось ничего, ни капли сострадания.
Шок, понял я.
Девочка увидела во мне спасителя, ринулась в мою сторону и с мольбой кинулась в ноги:
— Спасите Митяя, добрый человек, век за вас молиться буду. Он же маленький несмышленый, месяц всего исполнилось.
«Так он совсем кроха», — ахнул я.
Но почему родители малыша не могут прийти в себя? Неужто сдались и не хотят бороться за ребенка. Если та женщина — мать, почему не кидается в огонь, разве может она просто стоять и смотреть, ничего не предпринимая? Какая же она мать после этого!
— Где он? — подняв девочку с колен, произнес я.
— В моей комнате, — стуча зубами от страха, заговорила она, — на втором этаже. У него колыбелька маленькая с ручкой. Я там его оставила, забыла, когда все началось.
— Ты его забыла?! — вскричал я, еще сильнее напугав девочку.
Она снова бухнулась на колени, обхватила мои ноги и заголосила:
— Спасите Митяя, дяденька. Христом умоляю!
— Цыц, девка, потом ныть будешь, — приказал я, бросился к ближайшему мужику с ушатом, окатил себя с ног до головы ледяной водой и ринулся в сплошную стену огня.
Стараясь не дышать, добежал до охваченной пламенем лестницы, поднялся по обуглившимся ступенькам, надеясь, что они выдержат и не обломятся под моим весом.
Дым выедал глаза, я с кашлем, будто чахоточный, двинулся вперед и наткнулся на препятствие в виде покосившейся двери. За ней слышалось жалобное попискивание. Митяй, сообразил я. Догадка придала сил. Я разбежался и выбил ногой дверь. Она с грохотом упала, из освободившегося прохода полыхнул столб огня. А чтоб тебя! Пламя едва не обожгло лицо. С потолка посыпались искры как с электрода сварщика. Они немилосердно жглись. И будут у тебя, парень, волдыри размером с пятак. Это в лучшем случае, а в худшем… нет, об этом лучше не думать. Жизнь человеческую надо спасать, тем более, если младенцу всего-то месяц. Чего он видел, кроме мамки-кормилицы?
С неба звездочка упала, прямо милому в штаны… Я ругнулся и осторожно подобрался к тому, что вполне могло быть девичьей спальней. Попискивание раздавалось из миниатюрной колыбельки, больше походившей на корзинку для грибов. Странные здесь обычаи. Где детская кроватка, люлька там какая-нибудь? Неужто ребенка в таком, даже назвать, как не знаю, держат?
Ладно, терпи пацан. Раз не задохнулся, значит, есть еще шанс отметить и последующие дни, и месяцы рождения. Надеюсь, жизнь у Митяя будет долгой и счастливой. Я почитай тебя с того света вытащил. Только потерпи чуток.
Я схватил колыбельку за ручку, нырнул в дым и, кашляя во все легкие, выскочил на улицу. Свежий морозный воздух стал самой лучшей наградой.
Увидев меня с корзинкой, девочка едва не вырвала ее из рук, радостно причитая, вытащила из колыбельки скулящий сверток, развернула его, и я увидел… лопоухого щенка, виляющего хвостиком.
— Спасибо вам, дяденька, — прошептала она. — Вы спасли мою собачку. Я так вам благодарна.
— Это и есть твой Митяй? — как веслом оглоушенный, спросил я. — Выходит, я рисковал из-за собаки?
— Ну да, — удивленно подтвердила девочка. — Папенька мне его подарили на именины. Прелестный щеночек. Я его так люблю.
И она уткнулась носом в короткую шерсть собачки.
— Дела, — протянул я и пошагал прочь.
Не знаю, каким чудом эта история дошла до роты, но с той поры надо мной не раз подшучивали сослуживцы.
В марте нового 1736 года я благополучно прошел баллотировку и стал капралом. Жалование мое увеличилось до восемнадцати рублей в год, но реально, после всех вычетов выходило меньше тринадцати. Ипатов перешел в подпрапорщики и командовал теперь фузелерами, однако по старой дружбе навещал нас и наблюдал за тем, как проходит учеба моих молодцов.
Повышение по службе я отпраздновал вместе с Карлом. Мы нашли трактирчик, похожий на кафе из моего прошлого: с чистыми столами, покрытыми клетчатой скатертью, посеребренными приборами, барной стойкой, с официантками с кружевными передниками и обольстительной улыбкой, и посидели за легким ужином, побаловав себя десертом из мороженного. Это была дань охватывавшей меня время от времени ностальгии.
Я вспоминал друзей: Мишку Каплина, Лёху; конторку в которой прозябал; случайных подруг, так и не ставших ближе и дороже. Думал о том, что не успел наездить на купленной в кредит «Ладе» даже сотню тысяч, а ведь были планы махнуть на ней в Крым, там поваляться на пляже, поглазеть на горы, пожить в палаточном городке и посмотреть Черноморский флот в Севастополе вместе с приваренной к пирсу украинской подводной лодкой. Сожалел о книжках, которые так и не суждено прочитать. И, конечно, грустил о маме, не знавшей где я, и что со мной происходит на самом деле.
Вечер выдался грустным, и Карл, поняв, что на душе у меня тяжело, больше молчал. Мы вернулись в избушку и легли спать.
Такие приступы случались не часто, обычно на скуку и хандру не хватало времени. А жизнь не стояла на месте.
Тренировки с гренадерами продолжались. Снег еще не растаял, поэтому утро каждого дня начиналось с лыжной пробежки. Я шел впереди, Карл, ставший моим заместителем, замыкал цепочку, следя, чтобы никто не выбился из сил и не отстал. Если удавалось выбить боеприпасы — учились стрелять на ходу и метать гранаты. После изнурительного кросса следовали занятия на плацу. Моя строевая подготовка отличалась от прописанной в миниховской «Экзерциции», я подогнал ее к требованиям устава двадцать первого века. Получилось неплохо. Гренадеры маршировали ничуть не хуже кремлевского полка, горланя во всю глотку слегка переделанные, ставшие спустя не одну сотню лет армейской классикой песни, но об этом чуть позже. Стреляли неплохо, доведя движения до автоматизма. С казаками, нам было не тягаться, но будущей прусской пехоте уже могли дать фору.
Отработав строевые приемы, шли в тренажерный зал и обучались некоему симбиозу из разных видов рукопашного боя. Лучше всего получалось у Чижикова: высокий и жилистый, он укладывал соперников на лопатки за считанные секунды. Неплохо выходило и у кузена: Карл если и отставал от «дядьки», то ненамного. Немало времени уделялось силовым тренировкам: солдаты часами тягали «железо». По себе знаю, стоит только втянуться и остановиться уже невозможно.
Поскольку каждому гренадеру полагалась шпага, без фехтования гвардейцу не обойтись. Здесь пригодилось мои каэмэсовские умения, но кое-что пришлось перенять от учеников. Боевые схватки отличаются от спортивных поединков, без грязных приемчиков нельзя, иначе противник быстро проверит какого цвета твоя кровь. А за плечами моих подопечных была не одна настоящая схватка: многие раньше служили на границе с крымской степью и не раз рубились с татарами. Это мне, если честно, стоило учиться у гренадер.
Помня армейскую практику, я старался развить в них дух соревнования: пробежать быстрее всех, ловко кинуть гранату, метко выстрелить… Солдатам пришлось много работать, не все давалось сразу. Иногда возникали конфликты. Не привыкшие к бешенному для жителей восемнадцатого века темпу, гренадеры отказывались выполнять распоряжения, кое-кто жаловался на меня Дерюгину, но поручик быстро привел их в чувство.
Карл помогал мне, как мог, стал правой рукой. Еще одним гренадером, но кого я всегда мог опереться, стал Чижиков. Опытный солдат пресекал все досужие разговоры, если надо пускал в ход кулак. Меня, разумеется, в известность не ставили, и я мог только догадываться, откуда синяк под глазом у кого-то из строптивых подчиненных.
На ближайшем полковом смотре мое капральство отличилось. Нас свели в одну гренадерскую роту во главе с капитаном Мухановым, построили в три шеренги, разделив на четыре взвода-плутонга. Каждая полурота стреляла и метала учебные гранаты — маршлаги по очереди. Получилось, что мы продемонстрировали самые лучшие результаты. Удивленный Муханов вызвал меня к себе и стал расспрашивать:
— Вижу, капрал, твои молодцы как на подбор — крепкие и здоровые. Вымунстровал их на отлично. Действуете слаженно, палите искусно и быстро, гранаты далече метаете. Третья рота раньше ничем не отличалась от остальных, а тут… Я впечатлен! Слышал, вы обучаетесь по какой-то методе.
— Так точно, ваше высокоблагородие, — подтвердил я. — Вместе с поручиком Дерюгиным воспитываем гренадер и духом, и телом. Подготовили для них ежедневные упражнения, через то солдат лучше службу несет.
— Окромя этого еще что показать можешь? — прищурился Муханов.
— Разрешите? — спросил я.
Капитан кивнул.
— Чижиков, фон Браун, выйти из строя, — приказал я.
Гренадеры выступили вперед — красные, вспотевшие, на ресницах и бровях застыли кристаллики льда.
— Вынимай штыки! — скомандовал я.
Гренадеры четко выполнили приказание.
— Накладывай на дуло!
— Примыкай!
Щелк-щелк! Готово…
— Становись друг против друга!
Солдаты развернулись. Между ними было расстояние метра в два.
— Ставь перед себя!
Грозно блеснули жала штыков, выставленных будто копья.
Я забрал у Карла фузею и приказал Чижикову:
— Коли!
Муханов напрягся. Его глаза сузились.
— Ух! — Чижиков резко подался вперед. Штык едва не вонзился в грудь Карлу, но кузен перехватил фузею, пользуясь инерцией противника, потянул на себя и ловко перебросил Чижикова через бедро. Тело гренадера, описав дугу, впечаталось в припорошенную землю.
— Ловко! — присвистнул Муханов. — А еще разик?
Гренадеры, поменявшись местами, повторили прием. Теперь на земле распластался Карл.
— Однако! — не мог скрыть изумления капитан. — И что, все так умеют?
— Так точно, ваше высокоблагородие. Обучено все капральство.
— Интересно. Но ведь это еще не все, чем вы хотите порадовать нас сегодня, капрал?
Он не ошибся. Гренадеры, разбившись по парам, показали еще несколько приемов из разученного арсенала, причем старались на славу. В итоге капитан пришел в полный восторг.
— Поразительно! Непременно доложу об этом начальству. Вашу методу необходимо перенимать, и чем раньше, тем лучше.
Окончательно мы его добили, когда прошлись по плацу маршем, чеканя шаг и распевая «У солдата выходной» так, что стекла дрожали. Над этим коронным номером я работал месяцами, гоняя гренадер на строевых занятиях, добиваясь четкости и слаженности движений. И как нельзя кстати подошла песня, мелодия и ритм которой будоражили кровь, пробуждая у всех военных вне зависимости от эпохи, чувство гордости за выбранную профессию.
Над текстом пришлось поработать, чтобы он соответствовал теперешним реалиям, иной раз пришлось прибегать к «белым» стихам: так в строчке «Ты проводи нас до ворот, товарищ старшина, товарищ старшина» появился «лейб-гвардии капрал». Строчки «идет солдат по городу, по незнакомой улице, и от улыбок девушек вся улица красна» не изменились. Мои орлы прекрасно понимали, о чем речь, ибо такие здоровые и представительные лбы просто не могли не привлекать к себе женские взгляды.
Гренадеры остальных рот смотрели с завистью, а мы маршировали, будто на параде, наслаждаясь триумфом.
Муханов стоял, открыв рот и вытаращив глаза — такого ему видеть, еще не приходилось. От моих гренадер веяло энергией и безудержной лихостью.
— Настоящие русские богатыри, — произнес он, снял гренадерку и перекрестился.
Глава 19
На следующий день Муханов взял меня с собой в штаб, чтобы потолковать с подполковником Бироном об успехах моего капральства. Однако младший брат фаворита не проявил поначалу большого интереса. Он вытащил из кисета понюшку табака, громко втянул его ноздрями и оглушительно чихнул. Нюхание этой отравы считалось высшим лоском, а Густав Бирон не хотел отставать от моды.
— Я чувствовал, что вы, капрал, далеко пойдете. Но каковы першпективы вашей методы? — с усталостью повидавшего виды человека, спросил он.
— Ловкий, умелый солдат, разносторонне подготовленный и дисциплинированный. Войско, состоящее из таких людей, способно решать многие задачи, — четко отрапортовал я домашнюю заготовку.
Бирон спрятал кисет.
— Мне докладывали, я видел, что гренадеры выполняют необычные экзерции. Да, впечатляюще, но не более того. Вы уверены, что все это необходимо в бою? Научите их быстро стрелять, ловко действовать штыком, метать шлаги. Этого, на мой взгляд, хватит с лихвой. Остальное — излишество, — будто подводя черту под разговором, заметил он.
Кажется, я переоценил себя. Густав Бирон подошел к вопросу со свойственной немцам практичностью и некоторой узостью. Выходит старания оказались напрасны. Людям свойственно бояться нового. В переменах они не всегда видят хорошее. Во всяком случае, для себя.
Я не хотел сдаваться. Ситуацию следовало переломить.
— Господин подполковник, вы позволите мне изложить свои взгляды? — внимательно посмотрел я на Бирона.
Он удивился. Думаю, не часто к нему обращались с подобными просьбами.
— Хорошо, капрал. Забудьте на время о субординации. Поговорим с вами как дворянин с дворянином, — согласился подполковник.
— Мы с вами иностранцы, присягнувшие на верность новой родине, и оба будем следовать присяге до конца, каким бы печальным он ни был.
— Верно, — кивнул Бирон.
— Однако у нас имеется возможность взглянуть со стороны.
Для меня — точно. Я здесь недавно, мой взор еще не замутнен. Правила, нет — не игры — жизни, приняты, но свобода маневра осталась.
И Бирону, как иноземцу, есть с чем сравнивать.
— Безусловно, — не стал отрицать подполковник.
— Я знаю, что гвардия является самой боевой силой российской армии. Наши полки лучше обучены, снабжены оружием, провиантом и денежным довольствием. Это ставит нас на ступеньку выше по отношении к прочим частям. Императрица заботится о гвардии, выделяет ее, а мы должны как верные слуги радоваться ее милости, и не просто радоваться, а добиваться того, чтобы доверие ее императорского величества было полностью оправдано. Поэтому солдат Измайловского полка обязан не только знать и уметь делать то, что прописано в «Экзерциции».
— Вы имеете что-то против Экзерциции Миниха? — удивился Бирон.
— Вовсе нет, — покачал головой я. — Фельдмаршал сделал большое дело, честь и хвала ему. «Экзерциция пеша» необходима, но не достаточна. Измайловец должен владеть любым оружием, укреплять дух и тело, уметь действовать при любой обстановке. Еще Великий Петр завещал быть готовым к разным «оборотам». Да, возможно, знание рукопашного боя не пригодится в большинстве сражений, но благодаря занятиям мои гренадеры физически окрепли, стали ловкими и быстрыми. Я могу гордиться капральством.
— Мы годами учим новобранцев строевым приемам, палить и колоть штыком, встречая при том преизрядные трудности. Я не хочу сказать, что русский солдат — тупой и ничего не понимающий, но воинская наука дается ему непросто. Хорошо, что в гвардию попадают люди, отобранные особым образом, но вы видели армейские полки? Многие из них малоспособны, — грустно произнес Бирон.
— Так точно, господин подполковник, — согласился я. — На самом деле мы плохо подготовлены, даже гвардия. Уж извините за прямоту. Если солдат большую часть времени проводит в работах, стреляет только в лагерях и изнурен бессмысленной муштрой, от него трудно ждать многого. Я понимаю, что переломить ситуацию по всей стране весьма тяжело, но добиться впечатляющих результатов хотя бы в нашем полку — не слишком сложная задача. Если на то будет вышестоящее разрешение и внимание, разумеется, — прибавил я.
— И вы беретесь за нее аки Геркулес за свои подвиги? — хитро спросил Бирон.
— Возможно, я покажусь вам прожектером, но мой ответ твердый — да!
— И на чем зиждется ваша уверенность? — заинтересованно произнес Бирон.
— На русском солдате. Он храбр и упорен, что не раз было доказано в бою. Создайте ему должные условия, и мы добьемся успеха.
Я говорил искренно. Да, над русским солдатом издевались оторвав его от нормальной существования, засунув в нечеловеческие условия, лупцуя шпицрутенами и батогами. Он был бесправен, страдал от плохого снабжения и недоедания, месяцами не получал жалованья. Его обворовывали, обманывали, били. Родные не знали: жив он или мертв. С равным шансом могло быть и то, и другое. Жизнь солдата порой не стоила и ломаного гроша. Что говорить, если до воинских частей порой добиралось не больше половины рекрутов, остальные могли умереть в пути или тяжело захворать. От болезней и эпидемий гибло больше солдат, чем в сражениях, а лекари только и могли, что разводить руками. Они оказывались бессильны.
И при этом «серая скотинка», как образно выражаются некоторые политики и литераторы, творила настоящие чудеса. Стоя под ураганным огнем, по колено в крови, русский солдат с — не побоюсь того слова — героизмом — держался до последнего. Что? Что могло заставить его идти на такое самопожертвование, презрение к смерти?
Прирожденное рабство, выработанное крепостничеством? Да нет, вся история Российской империи — история бунтов — опровергает это. Русский человек был терпелив, но до поры до времени, и если знал, что оно пришло — брался за топор и вилы. Тогда и начинался «бессмысленный и беспощадный» бунт.
Нет, на настоящий героизм способны только те, кто несет в себе нравственный стержень, а стержень у нашего народа такой, что с его помощью переломали хребты многим незваным гостям. И если я говорю «русский» — это не значит: соблюдение расовой чистоты или мерянье черепов штангенциркулем. Русский — это еще и прилагательное. Столько народов, смешавшись в одном котле, стали русскими — не по происхождению, а по состоянию души. А уж словами описать такое невозможно. Надо родиться или стать русским.
Я знаю, что широко говорить об этом не принято, полагается маскировать чувства под глупыми шуточками, недомолвками. Здоровой реакцией считается похихикивание, плоские остроты. Но на секунду останьтесь наедине с собой и подумайте…
— Сколько вам потребуется время, чтобы подготовить… — подполковник помедлил, — роту?
— Если мои руки будут развязаны, я сделаю из нее скрипку через полгода, — самоуверенно заявил я.
— Я подумаю, — произнес Бирон и, давая понять, что неофициальная часть разговора закончилась, приказал:
— Ступайте к своим гренадерам, капрал.
И снова ничего не изменилось. Во всяком случае, так считал я.
Все ждали отправки на «кампаненты» то есть в летние лагеря. Подготовка шла полным ходом, но начальство медлило. Очевидно, из-за того, что не было окончательного решения: отправят гвардию на войну или нет. Дела у армии Миниха, направленной на турецкий фронт, кажется, шли неплохо. В Петербург поступали победные реляции, но тревожное ощущение недосказанности и недомолвок в торжественных отчетах сохранялось.
Я привык к тому, что власти никогда не скажут всей правды.
Хроническое безденежье надоело хуже горькой редьки. Повышение в звании не сделало меня богатым. Ответственности стало на порядок больше, а денег… денег не хватало. Но опускать руки не следовало. В конце концов — я дитя своего века, вроде не глупый и чего-то знаю. Но как реализоваться? Багаж знаний у меня специфический, накопленный за двадцать с лишним лет опыт не всегда пригоден в нынешней обстановке. Приноравливаться приходится с полного нуля. Даже нравы здесь интересные: стоит даме показать на балу ножку — бомонд в шоке: какая распущенность! При этом в порядке вещей считается иметь любовников или любовниц, меняя их как перчатки.
Сделать научное «открытие» и поразить мир? На первый взгляд легко: за плечами десять лет школы, пять курсов института. Но школьный курс благополучно выветрился из памяти, а институтские программы были весьма специфичны, меня ж не в инженеры готовили.
Что я помню из физики: так, три закона Ньютона, но он их уже без меня уже успел открыть и сформулировать, прежде чем окончательно ударился в теософию. Теория относительности Эйнштейна, которую и сам не понимаю, нынешним «Невтонам» вообще без надобности. За точную информацию о скорости света и на костер недолго попасть.
По химии у меня завал полный. Геометрию и алгебру, которую помню из школы, придумали древние индусы, арабы, греки и римляне. Пифагоровыми штанами тут никого не удивить. Это скорее меня забьют формулами из учебника Вобана.
Смастерить что-нибудь своими руками? Ну, была у меня в школе практика: раз в неделю ходил на машиностроительный завод, на токарном станке работал, железные болванки на стружку переводил. С моим разрядом в мастерские лучше не соваться.
Обои дома клеил, скворечник в детстве сколотил… ничего выдающегося.
Что я умею лучше других? Языком молоть — работа такая, да сочинительством баловаться — пописывал изредка статейки для сайтов, переводил интересные материальчики. Однажды в пионерском возрасте сляпал фельетон для детской газеты. Его, конечно, не напечатали, но от редакции пришло письмо — дескать, работайте над собой, и будет вам счастье: мама потом на работу носила показывать.
Стоп! А ведь интересная мысль наклевывается.
Газет, к сожалению, в России издавалось немного — «Санкт-Петербургские ведомости», выходившие два раза в неделю: по вторникам и пятницам, малотиражные частные газеты, несколько иностранных изданий, выпускаемых общинами. К примеру, «St. Petersburgische Zeitung» — те же «Ведомости», но на немецком языке.
Как и в двадцать первом веке материалы были разные — официальная хроника: «Императрица, находясь в добром здравии, соизволила нынче стрелять из окна нового зимнего дома и настреляла…», «желтая пресса»: «всем известный кавалер граф Д. похитил девицу В., без согласия ее родителей и нынче же ночью с ней тайком обвенчался».
Новости, светская хроника, отчеты, сплетни, объявления… и нет того, что я мог бы назвать художественной литературой. Неужели никто не додумался до печатания романов по частям с продолжением в следующем номере? Сегодня одна главка, обрывающаяся на интересном месте, через неделю другая. Нехитрый рецепт, тем более в случае, когда книги стоят довольно дорого и от беллетристики полки не ломятся. Эта формула неплохо работала в девятнадцатом веке. Дюма-отец сколотил нехилое состояние, публикуя сочинения таким макаром.
Первой мыслью было: «Накатаю-ка я что-то из классики, скажем из детективчика». Народ ведь любит загадочные истории. Вот и стану родоначальником жанра в России. Обворую, к примеру, Конан-Дойля с его Шерлоком Холмсом. Будет у меня не «Собака Баскервилей», а «Псина Петровых». Вместо Холмса выведу какого-нибудь субъекта, близкого и понятного петербуржцам. Фандорина, к примеру. Был заикой, станет картавым, на виолончели пускай играть научится. Но потом подумалось: «А зачем заниматься плагиатом? Неужели самому не родить что-то стоящее?»
И тогда в один прекрасный вечер я, не взирая на протесты сонного Карла, зажег свечу, налил чернильницу до краев, макнул перо и неровным почерком вывел на девственно чистом листе бумаги: «Проклятье! Карлик Джо так внезапно выскочил у меня перед носом, что я едва успел притормозить».
Гномы, эльфы, драки, смерти… любовь, как же без нее. Универсальный рецепт коктейля. И мистика, только чуть-чуть… золотое время ее пока не пришло. Немного юмора, легких шуточек, без грязи и пошлости. А центральный персонаж? Каким его сделать? Глупым и брутальным… Тонким и воздушным как безе… Или нормальным, среднестатистическим «своим парнем»… Что мне, как автору, ближе? Пусть будет внешне циничным, но обаяшкой внутри.
Я не ожидал, что текст пойдет так легко. Фразы рождались в голове стремительно, на лету. Я не успевал их схватывать, исписывал листок за листком, горя, словно в приступе лихорадки. Свеча таяла, оплавленный воск капал на подставку. Огонек неровно дрожал. Карл ворочался и недовольно бурчал.
— Ты чокнутый, Дитрих! — говорил он и отворачивался к стене.
Ночь пролетела незаметно. На столе лежала стопка исчирканных бумаг. Это был мой первый роман, вернее его первая часть. Чернила закончились, вместе с ними исчез и запал. Я был опустошен, обессилен и преисполнен томительного волнения.
Отпросившись у Дерюгина, пошел обивать пороги газет. Редакторы смотрели на меня с интересом, но никто не желал рисковать. Моя затея казалась им бредовой.
— Зачем нам это, молодой человек? Наши читатели — респектабельные люди, им не понравится.
— Не вижу здесь глубины мыслей. Где философия, стиль, мораль? А образ героя — кого он символизирует?
— Боюсь, нам не подходят ваши сочинения. Мой вам совет — отнесите их истопнику, пущай он разожжет ими печь. В топку, милостивый сударь, в топку!
Но вот, когда я полностью вымотался и едва не последовал совету последнего из редакторов, удача выглянула из-за туч, подобно солнцу.
Газета называлась «Петербург астральный», скромный тираж в полтысячи экземпляров. Я поначалу даже стеснялся туда обращаться, боясь, что меня сразу турнут.
Но, удивительно дело, издатель дал согласие — одну главу романа для пробы пустят в послезавтрашнем выпуске.
— А как будет подписываться: под собственным именем или инкогнито сохраните?
— Под псевдонимом, — решился я.
— Каким, позвольте узнать?
— Гусаров, Игорь Гусаров.
Я ушел из редакции с первым в жизни гонораром — он составил полтину. Если читателям понравится, мне будут платить столько за каждый выпуск.
Глава 20
Люблю весну. Если лето у меня ассоциируется со слишком быстротечной красотой, осень с тоской и увяданием, зима с монотонной бесконечностью, то весна — это время перемен. И не столь важно: к лучшему ли, к худшему — в конце концов, нет худа без добра и наоборот.
Полгода, что я провел в Петербурге восемнадцатого века, закончились незаметно. Такова особенность армейской службы: день тянется как вечность, год пролетает как миг.
И вот я капрал лейб-гвардии Измайловского полка, у меня в подчинении полтора десятка крепких натренированных мужиков, готовых вцепиться в глотку по моей команде. И самое главное, они словно губки впитали суворовское: «сам погибай, а товарища выручай». Если солдат знает, что свои никогда не бросят, всегда придут на выручку, прикроют спину или подставят плечо, он будет сражаться как лев. Очень простое и понятное правило.
Мы стали единым целым, непрерывные занятия и муштра сблизили нас и неважно, что кто-то с рождения был дворянином, а кто-то крепостным. За полковым двором сословная разница играла, конечно, свою роль, но только не здесь. На службе мы все до одного были гвардейскими гренадерами, винтиками могущественной государственной машины и почитали это за честь. Когда ты — важная часть системы, приоритеты расставляются иначе.
Снег растаял, воцарилась непролазная грязь. Обычная русская весна во всем разгаре с ее потоками ручьев, обилием луж, тающими сосульками, веселой капелью, шумным ледоходом и ощущением праздника.
Я выстроил гренадер на плацу, как обычно проверил внешний вид. Не обошлось без замечаний: мундиры двоих гренадер нуждались в чистке, еще один так изгваздался, что отстирать обмундирование не представлялось возможным. По логике вещей следовало заводить служебное расследование, но я старался по возможности обходить неприятные моменты.
— Влип ты, братец. Придется кафтан новый шить. Деньги-то имеются?
— Есть маненько, господин капрал, — почесал голову сконфуженный гренадер. — Поднакопил чуток.
— Готовься растрясти кубышку. Я не Дерюгин, но небрежения формой одежды не потерплю. А где Михай? — остановился я.
Крепостной князя Сердецкого отсутствовал, и меня это встревожило. Михай всегда был исполнителен и пунктуален, сегодня ему полагалось находиться в строю.
— Не знаю, господин капрал, — доложил Чижиков. — В караул его не ставили, на работы не отправляли. Может, заболел?
— Пошлите кого-нибудь к лекарю, пусть узнает, не обращался ли к нему Михай.
Гонец принес нерадостное известие — к полковому лекарю солдат не приходил. Я оставил вместо себя Чижикова проводить занятия, а сам отправился искать соседей Михая по постою — он делил дом с пятью фузелерами четвертой роты.
— Как ушел в князевы палаты вчера с вечера, так мы его больше и не видели, — развели руками они.
— К Сердецкому что ли?
— К кому ж еще, — подтвердили солдаты.
— И часто он к князю ходит?
— Да почитай кажную неделю. Зазноба у ево там. Ядвигой кличут. Ох, и любит он ее.
— А возвращается когда? — прервал я фузелеров.
— Раз на раз не приходится, но к рассвету всегда являлся. А что, запропал куда?
— Пока не знаю, — сказал я и задумался.
«Неужели сбежал?» — мелькнула нехорошая мысль в голове. Такое иногда случалось, не часто, но все же.
Формально на мне вины нет, даже вычеты за беглеца не полагаются, ибо по ведомости службу в капральстве проходит хозяин Михая — князь Тадеуш Сердецкий. Однако начнись разборки, и я понятия не имею, где колобродит этот шляхтич[14]. Такая заварушка может образоваться, что не разберешься — кто прав, кто виноват. А виноват всегда и везде стрелочник, в армействе сиречь капрал.
Затяжной мелкий дождь сеял, словно из сита. Что поделать — Питер. Солнечные деньки весной столь редкие, как зарплата.
Доложить Дерюгину или не стоит? Вполне возможно, что Михай на самом деле заболел и отлеживается на барском подворье, и я напрасно поднимаю панику. Представляю недоумение во взоре поручика, его недовольный раскатистый голос:
— Твою в душу мать, фон Гофен! Ты чего по пустякам суешься!
Но в груди появилось щемящее чувство тревоги. Нет, что-то не в порядке. А поручику я расскажу, когда ситуация прояснится. Плох тот командир, что не решает проблемы самостоятельно.
Пришлось ехать к Сердецким, они обустроились на Васильевском острове. Дом их больше походил на крепость, обнесенную кирпичной стеной. С улицы виднелся высокий дворец с мраморными колоннами, небольшая белоснежная беседка, пруд с лебедями. Кучеряво живут, паны.
У ворот висел железный молоток с деревянной рукоятью. Я взял его и стал бодро выстукивать военный марш.
— Эй, есть кто живой? Отворяйте!
Приоткрылась маленькая форточка. Я увидел красное злое лицо:
— Пся крев! Кого еще принесло? Хто там?
Глаза уставились на меня, оценили гвардейский мундир.
— Что тебе надо, служивый? — вопрос прозвучал на полтона ниже. — Не велено невесть кого пущать.
— Я капрал Измайловского полка Дитрих фон Гофен, начальник князя Тадеуша.
— Да ну?! — не поверил краснолицый. — Какой у нашего пана начальник может быть, окромя ридного батюшки.
— Сейчас как дам в морду, собака, если не откроешь, — предупредил я, зная насколько долго могут затянуться переговоры.
— Но-но, — послышался опасливый голос. — Не грозись кулаками, чай пуганные. Постой тут служивый, я за управляющим сбегаю. Ему решать.
Форточка захлопнулась.
— Беги быстрее, — крикнул я вдогонку, а сам настроился на долгое и томительное ожидание.
Ворота распахнулись. Я увидел управляющего — в расшитом золотом камзоле, напудренном парике, башмаках с блестящими пряжками. По бокам его стояли лакеи с мушкетами наперевес. Странная здесь манера встречать гостей. По глазам вижу — не рады.
— Прошу сказать, кто вы есть и откуда пожаловали? — важно произнес управляющий.
Но в голосе его я услышал нотки испуга. Нет, что-то здесь не в порядке. Словно мой визит стал палкой, разворошившей муравейник.
— Я представлялся кому-то из слуг. Меня зовут Дитером фон Гофеном, я капрал лейб-гвардии Измайловского полка. Князь Сердецкий служит у меня в капральстве, — повторил я.
— Вы один?
— Разве не видно? Или сюда пускают только с ротой гренадер?
— Что вы! Простите.
Управляющий облегченно вздохнул. Кажется, он принял меня за кого-то другого.
— Так я могу пройти? — настойчиво произнес я.
— О, да, простите, господин капрал, — управляющий подал знак, и лакеи расступились. — Милости прошу…
«К нашему шалашу», — добавил в уме я. А «шалаш» изнутри впечатлял больше, чем снаружи. Нет, трудом праведным таких палат не нажить, только надорвешься.
Мы прошли по аккуратной аллее, посыпанной красным щебнем, добрались до крыльца дома. Управляющий угодливо распахнул дверь с зеркальными стеклами.
Я вошел в богато обставленную переднюю, огляделся. Лепной потолок, картины в тяжелых рамах, длинные светильники, мягкие диванчики. Откуда-то доносилось тиканье часов, скрип паркетного пола, эти звуки растворились в тягучей напряженной тишине.
— Прошу покорно извинить, хозяев нет, я один здесь за главного остался. Дом, знаете, присмотра требует, — управляющий притворно улыбнулся. — Могу я знать, что вас привело?
— Я ищу Михая. Его сегодня не было на службе. Я должен узнать, что с ним произошло.
— Вот оно что, — протянул управляющий. — Хотел вас предупредить, но не успел. Еще раз простите, господин капрал. Дела… Так замотался, что из ума было вон. Хорошо, что вы пришли, а то б я себе места не нашел.
— Перестаньте ходить вокруг да около. Что с Михаем, куда он запропастился?
— Видать время приспело рассказать: Михай провинился. Я отправил его в имение. Пущай там поработает. На конюшне людей не хватает.
— А что он натворил? — спросил я.
— О, мне бы не хотелось выносить сор из избы.
— И все же, — многозначительно произнес я.
— Я был очень недоволен его поведением. Думаю, окажись здесь князь или его сын, так легко Михай бы не отделался.
Я вздохнул. Да, ничего не попишешь. Михай, мой гренадер, всего лишь чья-то собственность, будто и не человек вовсе. И хозяева вольны распоряжаться им по своему усмотрению. Да, меня такое положение вещей коробило и до сих пор коробит, но мое мнение по этому вопросу вряд ли кому тут интересно.
— Могу ли я быть уверен, что с ним все в порядке?
— Разумеется, — закивал управляющий. — Михай жив и в полном здравии. А что касается замены… Не извольте беспокоиться, я подберу ладного холопа. Он послужит не хуже Михая.
— А вернуть его нельзя? — с надеждой спросил я.
— Увы, — поджал губы управляющий. — Михай уже далеко. Но вы знайте — завтра же с самого утра я представлю вам нового солдата. Лично привезу, обую, одену.
— Хорошо, — согласился я, хотя у самого на душе скребли кошки. — Буду ждать. Но, если замена окажется неподходящей, я буду требовать возвращения в часть Михая или поставлю под ружье самого князя. Пускай послужит отечеству, — мстительно прибавил я, радуясь найденному варианту.
Понятно, что ротный не будет в большом восторге, но мне сейчас откровенно наплевать. Тело охватила приятная легкость и осознание собственной правоты.
Ворота за спиной захлопнулись, упал на свое место дубовый засов.
Я шел размашистой походкой, погрузившись в приятные размышления, посвященные одному и тому же: как буду гонять князя до полного изнеможения на плацу, стрельбище или в лагерях. Ничего, пробежит у меня километров десять в полной выкладке, узнает, что такое служба. Я злорадно улыбнулся и повернул в переулок.
— Пан офицер, постойте, — окликнул меня женский голос.
Я остановился, развернулся на окрик и увидел прехорошенькую девушку, судя по всему польку.
— Слушаю, красавица.
— Пан офицер, вы Дитрих фон Гофен, да?
— Не стану скрывать. А откуда вам известно мое имя?
— Я слышала, как вы представились, когда к князю в дом пришли. Я специально сказалась, будто бы по делам пошла и сюда выскочила, чтобы вас дождаться.
— Теперь понятно, — согласился я. — Осталось выяснить: кто вы и зачем меня окликнули.
— Пан офицер, давайте отойдем подальше. Я хочу с вами поговорить о Михае, — произнесла девушка, увлекая за собой.
— А ты часом не Ядвига? — догадался я.
— Пан офицер меня знает? — удивилась девушка.
— Пан офицер многое знает, — ухмыльнулся я. — Выходит, это ты его невеста?
— Да, Михай мой коханный, — зарделась Ядвига.
Любимый, значит.
— Так что там с Михаем? — опомнился я.
— Плохо, — всхлипнула девушка.
— Переживаешь из-за того, что его в имение отослали, — сочувственно произнес я. — Но я ничем помочь не могу.
— А кто вам сказал, что Михая в имение отправили? — широко распахнув красивые карие глаза, изумилась Ядвига.
— Управляющий, кто же еще…
— Врет он, все врет. Михай в доме, в порубе сидит. Пан Потоцкий, друг князя Тадеуша приезжал вчера с хлопцами, на нескольких телегах груз тяжелый привез. Михай его разгружал и что-то увидел, чего видеть не стоило. Пан Потоцкий на него ругался сильно, хотел саблей зарубить, да управляющий заступился, посадил Михая под замок, велел дожидаться приезда хозяев, чтобы судьбу его порешить. Боязно мне, — заплакала девушка, — убьют его.
— Почему ты так решила?
— Я в соседней комнате убиралась, слышала, как пан Потоцкий с управляющим разговаривали. Не жилец Михай на этом свете больше, — девушка зарыдала.
— Это правда? — враз посерьезнел я.
Девушка в подтверждение перекрестилась.
Да, она не врет. И та натянутая обстановка в доме Сердецких служит еще одним доказательством. Управляющий, увидев человека в мундире, перепугался не на шутку. Что же такое мог привезти пан Потоцкий? Очевидно, что-то запрещенное законом, то, ради чего загубить человеческую жизнь — плевое дело. Понятно, что управляющий не стал убивать Михая, потому что побоялся ответственности и решил переложить ее на плечи хозяев. Нормальное, в принципе, решение. Никуда парень из поруба не денется, кругом вооруженная охрана — не зря лакеи мушкеты с собой таскают. Понятно, что вояки из них так себе, но на худой конец и такие сгодятся.
Внешне — тишь да гладь, не прояви я служебного рвения, не приди сюда, и не нарвись на невесту Михая, все было бы шито-крыто.
Можно пойти в полицию или Тайную канцелярию, хоть к самому Ушакову, если застану его, разумеется. Но в полиции меня с беспочвенными подозрениями могут поднять на смех: кто такой я, и чего стоят показания крепостной девки? Понятно, что бросить тень на репутацию князей Сердецких нам не удастся.
Тайная канцелярия — дело темное. Угоди я к давнему знакомцу Фалалееву, еще не известно, чем все закончится. Любит чиновник проявлять служебную инициативу, к тому же еще должок перед Огольцовым не отработал, зря тот ему деньги что ли совал, даже меня не постеснялся. Возьмет меня под белы рученьки и в холодную… С него станется.
Нет, ситуацию надо исправлять собственными силами. Вернее, почему только собственными… Эх, пан или пропал! У меня под ружьем целое капральство. Если взять дом Сердецких приступом, да так, аккуратненько, без пролития лишней крови — глядишь, и Михая освободим, и злоумышленников на чистую воду выведем.
— Ядвига, а Потоцкий и его люди где?
— Он думал застать князя Сердецкого-старшего, а тот в Москву по делам уехал, а Тадеуш на охоте вторую неделю пропадает. Никто не знает, когда обещался вернуться. Пан Потоцкий расстроился, плюнул, оставил двух хлопцев груз охранять, а сам в Польшу обратно двинулся. Злой он, — решительно добавила девушка.
— А сколько в доме всего прислуги?
— Немного осталось, почти все с князьями отбыли. Управляющий вот остался, с ним лакеев трое, сторож еще, хлопцы пана Потоцкого. Михай в порубе сидит под замком. Кухарок и девок перечислять?
— Не надо, — улыбнулся я.
Выходит, в доме семеро мужчин, способных держать оружие. Нас вдвое больше. Подходящее соотношение для штурма.
— А кто ворота охраняет?
— Сторож Сигизмунд. Он хоть и старый, но рубака отменный.
— Этот тот, красномордый, — догадался я. — А как-нибудь можно его отвлечь, чтобы ты смогла незаметно открыть нам ворота?
— Ой, пан офицер, дядька Сигизмунд очень строгий. Его не обмануть.
— Хорошо, — кивнул я. — Не будем тебя подставлять. Еще не известно, чем мероприятие кончится и в какую бутылочку выльется. Ты можешь рассказать, кто где находится?
— Конечно, — просияла девушка, еще не догадываясь, в какую авантюру вовлекает себя и нас.
Мы расстались минут через двадцать. Она убежала, весело порхая, будто полевая пташка, а я отправился на полковой двор, стараясь не думать на тему: чем все закончится и что из этого выйдет. Если в расчеты закралась маленькая и досадная ошибка, я в лучшем случае познакомлюсь с курортными местами Сибири, в худшем… в худшем, как говаривал мой армейский друг — татарин Рафаэль Хуснутдинов: «Секир глупый башка!»
Глава 21
Вот он — момент истины. Сумею ли повести за собой людей на дело, перспективы которого столь туманны? Доверяют ли они мне, пойдут ли за мной?
Пока что мой авторитет в капральстве «дутый», гвардейцы не видели меня в бою, если и исполняют приказы, то больше из соображений дисциплины. По большому счету — я никто, ноль без палочки. Грустная, но все же, правда.
Люди вокруг имеют за плечами суровую школу жизни. Это не изнеженные барчуки, к которым можно смело приравнять меня. Они воевали, а война всегда оставляет свой отпечаток на человеке. Можно вспомнить «афганцев», тех, кто прошел Чечню. Это не видно сразу, но потом становится ясно — они другие! Не лучше, не хуже — просто не такие как все. Тот, кто шел в атаку, смотрел смерти в лицо, не мог остаться прежним.
Я прекрасно осознаю, что тот же Чижиков знает и умеет многое гораздо лучше меня. Он понюхал пороха еще в крымских степях, отбиваясь от наседающих татар, рубясь в кровавой сече, едва не угодил в плен. Жаль, наш «дядька», которому на самом деле стукнуло всего сорок, не любит распространяться на эту тему. А таких «чижиковых» только в моем капральстве больше десяти — остальные либо совсем «зеленые», вроде меня и Карла, либо солдаты, переведенные из гарнизонных полков Москвы и Петербурга. Ну и Михай… Он вообще случай особый.
Гренадеры выстроились в одну линию.
— Вот что, братцы, — сказал я, прохаживаясь вдоль строя, — я не имею права приказывать вам в этом случае. Решайте сами. Я возьму с собой только охотников. Думайте, гренадеры.
— А чего думать, — выступил вперед Чижиков. — По себе знаю: ради хорошего дела можно и животом рискнуть. Глядишь, на небесах, когда дадут раскаленную кочергу лизать, зачтется.
Гренадеры заговорили:
— Надо выручать Михая, не по христиански это, товарища в беде оставлять.
— Жаль хлопчика, молодой совсем.
— Он мне алтын должен, что я теперь без денег своих останусь опосля энтого? — с хитринкой в голосе произнес Михаил Михайлов — гренадер, успевший обзавестись семьей и настрогать трех детишек.
Он хлопнул себя по ляжкам и со скорбной миной добавил: — Меня ж баба моя со свету сживет. Что же получается: заместо одного Михая двое сгинут и все Мишки. Выручайте, братцы!
Его шутка разрядила обстановку. Солдаты заулыбались.
— Не волнуйся Михайла, мы и тезку твово спасем, и тебя самого от супружницы выручим.
— Могем и в чем другом с женой подсобить, ежели сам не справляешься.
Снова грохнул смех.
— Благодарю честное обчество, — Михайлов согнулся в шутливом поклоне.
— Так что насчет охотников? — спросил я.
— А ничего, — спокойно ответил Чижиков. — Все пойдем, господин капрал, полным капральством выступим.
К горлу подкатил упругий комок, на глазах выступили предательские слезы. Вроде считал себя непрошибаемым циником, а тут…
— Спасибо, — кивнул я, отворачиваясь в сторону.
Всем капральством зашли в дом, в котором была устроена полковая церковь, помолились. Даже Карл, крестился, глядя на образа православных святых.
— Кузен, надеюсь, ты знаешь, что делаешь, — произнес он, подойдя поближе.
— Мне бы твоей уверенности, — глухо произнес я.
Меня колотил нервный озноб. Понимающий «дядька» предложил пропустить по чарке водки, но я отказался:
— Нельзя на такое с тяжелой головой идти.
— Так рази с эдакой плепорции голова затяжелеет? — усмехнулся он. — Тут только усы окропить. Так что, господин капрал, дернем по славянскому обычаю?
— Не буду, и тебе не советую переувлекаться… славянин.
— Не извольте беспокоиться, господин капрал, буду трезвым аки… — он не нашелся, чего сказать дальше и просто махнул рукой.
Стоит отметить, что водкой от него в тот день так и не пахло.
Хозяйственному Чижикову удалось договориться с извозчиками, и нам выделили три подводы под честное слово. Как ни крути, а ехать все же веселей, чем топать на своих двоих.
Голыми руками противника не возьмешь, стоило подумать о вооружении. Я не собирался устраивать в доме Сердецких побоища, однако, если паны занимаются серьезными делишками, обычной потасовкой не обойтись.
Прихватить из цейхгауза фузеи не получилось бы при всем желании, партизанщина в полку не поощрялась, поэтому у гренадер при себе имелись только шпагами. Да и не хотелось привлекать к себе внимания пальбой на городских улицах.
Не доезжая имения Сердецких, мы остановились, быстро обсудили план действий.
На первом этапе предстояло перемахнуть через забор, связать сторожа, потом ворваться в дом, обезвредить управляющего, лакеев и двух людей Потоцкого, приставленных к неизвестному грузу. Эта часть операции была самой ответственной и сложной.
Я разбил гренадер на три пятерки, под командованием Карла, Чижикова и меня. Стиснул зубы, чтобы не стучали, размял одеревеневшие после долгого сидения в возке мышцы.
Молоденькие девки, шедшие за водой к колодцу, посматривали на нас с интересом.
Ведра пустые, машинально отметил я. Считается, что не к добру. Скверно, очень скверно… или нет? А, плевать! Ничто не вечно под Луной. Двум смертям не бывать… а ведь я однажды уже умер. Врет, получается, поговорка: можно умереть дважды. А ведь не хочется пропадать…
— Только никого не убивать, — предупредил я. — И не увечить! Предупреждаю особо ретивых.
— Понятно, господин капрал, — закивал Чижиков. — Будем без смертоубийства. Как никак христиане.
А ведь христиане друг дружку резали за милую душу. Хоть и говорят про азиатскую жестокость, но не нам мусульман укорять. У самих руки по локоть в кровищи.
А забор у Сердецких хиленький, на Рублевке куда выше и толще у буржуев водятся. И лакеи у тамошних «хозяев жизни» вооружены покруче. За каждым поворотом по пулемету. Не то, что местные мушкеты, помнившие времена Алексея Михайловича.
Зря трясусь. Со мной как никак пятнадцать здоровенных мужиков, это ж такая силища. Мы ведь не только пару челюстей, горы свернуть можем. Если захотим…
— Побежали, — тихо скомандовал я.
Момент вроде удобный, на улице свидетелей нет, а нас надежно укрыли раскидистые лапы елей. Из дома Сердецких не рассмотришь. Даже не верится, что это исторический центр Санкт-Петербурга, глухомань глухоманью. Грибы собирать можно, не покидая «фазенды». Рыбку ловить из открытого окошка.
Башмаки утопали в грязи… весна, как много в этом звуке… много, много лишних звуков: плеск луж, невольный возглас поскользнувшегося Михайлова, тихий мат Чижикова. Далеко нам до спецназа, вышедшего на тропу ниндзя.
Через забор перелетели одним махом, будто некая сила подбросила вверх. Не зря отрабатывал с парнями это упражнения, пригодились тренировочки.
Кажется, Сердецкие еще не додумались до псовой охраны, иначе собачки такой бы лай подняли — на другом конце Питера услышали. Да и порвать человека натасканной псине труда не составит. Это только в кино Шварценеггер двух доберманов голыми руками грохнул, в жизни они бы задали ему перца.
Я краем глаза заметил движение.
Сторож Сигизмунд подскочил, вытаращил глаза, выдохнул:
— Курва!
И упал, получив могучим кулаком Чижикова в висок.
— Оглоушили, господин капрал, — жарко прошептал «дядька».
— Свяжите и рот заткните, чтобы как очнется, панику не поднял.
— Сделаем.
Чижиков извлек заранее подготовленную веревку, скрутил незадачливого сторожа.
— Бегом, бегом, — торопил я.
Зеркальные двери распахнулись, показалась полная женщина с деревянным тазиком, в котором плескалась мыльная вода. А это к чему? Что за примета?
Увидев меня, она охнула, отлетела в угол и захлопала большими ресницами.
— Ой, батюшки святы!
— Молчи, тетка! — скорчил страшную рожу Михайлов.
Он взмахнул шпагой, будто собирался проткнуть как шампуром. Глаза у женщины закатились, она без чувств растянулась в мыльной луже. Надеюсь, не утонет.
Наверху громко заговорили по-польски, загромыхали шаги по деревянной лестнице. Я ринулся навстречу, налетел на испуганного лакея и одним ударом отправил его в нокаут. Парень кубарем покатился вниз, угодил под ноги гренадер, кто-то, кажется, Михайлов вновь потерял равновесие:
— Да что ж такое деется!
Солдаты разбежались по комнатам, круша мебель, посуду.
Грохот, шум, недоуменный взгляд управляющего, до которого стало доходить, что не все в порядке в доме Сердецких.
— Господин капрал, что вы себе позволяете?
— Тебя не спросил! Где, Михай?
— Михай… Я же вам ответил, что отправил его в имение. Обещаю, что завтра, нет, сегодня отправлю замену. Вы странным образом ищете себе рекрутов. Неужели в русской армии так плохо с солдатами?
— Договоришься у меня, сволочь, — Михайлов двинул его так, что клацнула челюсть.
— Постой, ты убьешь его, — остановил я, повторно занесенный кулак гренадера.
— Да он издевается, скнипа![15] — произнес разгоряченный солдат.
Управляющий поднялся, из разбитого рта сочилась кровь. Он вытер ее кружевным манжетом, выплюнул на паркетный пол раскрошенный зуб.
— Я буду жаловаться на вас обер-полицмейстеру.
— Жалуйся кому угодно.
— Дозвольте мне, господин капрал, — снова высунулся Михайлов.
— Давай, — разрешил я.
Гренадер вытянул руки вперед, схватил управляющего за шиворот будто кутенка, без видимого усилия оторвал от земли и стал трясти, словно тряпичную куклу. Голова несчастного болталась из стороны в сторону.
— Оставьте меня, — жалобно попросил он. — Мне дурно.
— Отпусти, — разрешил я.
Михайлов тряхнул его напоследок и разжал руки. Тело управляющего с гулким стуком опустилось. Он встал на четвереньки, икнул. Послышались неприятные звуки, управляющего тошнило.
Я подцепил кончиком шпаги скатерть, сдернул со стола и бросил к нему:
— На, утрись.
— Спасибо, — он вытер лицо, посмотрел на нас и съежился в непритворном ужасе:
— Я… я провожу, ключи у меня.
— Прекрасно, — сказал я, упирая в его грудь лезвие шпаги. — Только будь благоразумным.
Мы нашли Михая в подвале, бледного и безмерно уставшего. Похоже, парень давно распрощался с жизнью. Управляющий разомкнул цепи.
— Вставай парень. Мы за тобой.
— Вы?! — Михай всмотрелся в меня с изумлением. — Вы, господин капрал?!
— И не один, — выступил вперед Михайлов. — Собирайся, тезка. Думал, мы тебя здесь помирать заставим?
— Я не верю своим глазам! Вы, господин капрал. Мишка, — освобожденный заплакал.
— Что же вы аспиды с человеком делаете, — укоризненно произнес Михайлов.
Он обратился ко мне:
— Разрешите, ваше благородие, пана управляющего на цепочку посадить, как собачку. Чтобы не убег, значица.
— Валяй, — разрешил я.
Пока гренадер громыхал цепями, мы с остальными солдатами из моей пятерки вывели пленника на свет.
— За что же они тебя так? — спросил я.
— Давайте провожу вас, господин капрал. Сами посмотрите, — предложил парень.
— Веди.
Мы двинулись по коридору, но нас, похоже, опередили. Навстречу бежал Чижиков:
— Ваше благородие, идите сюда, гляньте, что мы нашли.
За выбитыми дверями оказалось темное помещение, похожее на маленький склад, заставленное от пола до верха дубовыми сундуками, окованными железом. Один из них был открыт.
— Посветите, — приказал я.
Чижиков придвинул чадящий светильник. Я запустил руку в сундук и выудил горсть непонятных округлых предметов, поднес поближе к глазам и изумлено произнес:
— Пятаки?!
Сундук оказался набит медными пятикопеечными монетами. Кому понадобилось столько? Что за странный способ хранить капиталы?
— Эхма, скока же тут их, — присвистнул запыхавшийся Михайлов, снимая шапку. — Цельное состояние.
— Не одна тыща поди, — поддакнул Чижиков. — Скока же времени их сюда возили?!
— Долго, — произнес Михай. — Только при мне пан Потоцкий возков десять привез. При мне сундучок треснул, и денежки посыпались. Пан заприметил и осерчал. Чуть не зарубил, курва.
Гренадеры смотрели на это богатство как зачарованные. Вряд ли им раньше доводилось видеть перед собой столько денег. Помещение походило сейчас на сказочный клад пиратов Карибского моря.
Я повертел пятак в руках, вынул из кармана подобный, оставшийся с последнего жалованья. Оба похожи как близнецы, с одинаковой надписью «пять копеекъ», разве тот, что из сундучка выглядел не в пример новым. Да и дата на нем стояла другая, на моем 1723 год, а на новом — 1728-й. Других различий я не нашел.
— Думаю, надо в полицию идти, а еще лучше в Тайную канцелярию. Пущай знающего человека пришлют. Пятачки-то вдруг того… не настоящие, — высказал вслух предположение Чижиков. — Много фальшивых ходют, нас предупреждали. В приграничных гарнизонах жалованье пятаками выдавать запрещают.
— Так и сделаем, отправим гонца к Ушакову. Дело, судя по всему государственной важности, — кивнул я. — И будем молиться, что это на самом деле фальшивки, иначе…
Я не договорил. И без моих слов все было понятно.
Глава 22
— Надеюсь, никто на это «богатство» не польстился. Если кто прихватил медяк-другой, лучше верните. Скоро приедут из Тайной канцелярии, начнут обыскивать, стыда не оберемся, — предупредил я.
А то, что без обыска не обойтись, стало ясно, как только до меня дошло, сколько здесь укрыто денег. Канцеляристы люди не щепетильные, им все одно — дворянин ты или нет. С такой «крышей», как Андрей Иванович, бояться нечего. Так что нами займутся в первую очередь, всех перетрясут, разденут, карманы вывернут. Гвардейцы у меня небогатые, для них копейка лишней не будет, а тут столько бесхозного добра — бери не хочу. Устоять трудно. У самого алчность сразу взыграла, глаза загорелись, едва переборол себя, и то больше из страха, что с рук это так не сойдет. И без того мы по сути «залётчики», как объяснять будем эту операцию — ума не приложу. Если только рассчитывать на то, что победителей не судят, но пока непонятно можно ли назвать это победой. Вдруг Сердецкие настолько эксцентричны, что предпочитают хранить богатства исключительно в медных пятаках. Тогда мы действительно попали. А за то, что пытались освободить крепостного, по головке не погладят, скорее, снимут сердечную со всем содержимым.
Чижиков вздохнул и нехотя высыпал из кармана в сундук горсть пятаков, точно так же поступили и другие гвардейцы, первыми обнаружившие тайник.
— Все? — вопросительно посмотрел я на солдат. — Окститесь!
— Вот те крест, до последней монетки вернули, — размашисто перекрестился «дядька».
— Тогда выставь у дверей караул. А я пойду, проверю, какой нам еще улов достался.
— Да туточки весь улов, в соседней горнице, — сказал Чижиков.
— Да?! — заинтересовался я. — Тоже деньги?
— Какой там! Хлопчики панские. Мы их повязали, чтобы значица бузу не устроили. Один долго сабелькой махал, так я ему табуретом по башке двинул. Не пачкать же шпагу об дурного, — ухмыльнулся «дядька».
— Тоже верно. Сильно зашиб?
— Не, рази что контузил легонько. Мозги из ушей не вытекли, — не без черного юмора пояснил гренадер.
— Тебе б сценарии к ужастикам писать, — невольно улыбнулся я.
— Что? — непонимающе вскинулся гвардеец.
— Ничего, — отмахнулся я.
Хлопцы пана Потоцкого не походили на привычных из исторических книг и фильмов поляков — никаких тебе длиннющих усов, лохматых шапок, кафтанов, кушаков. Вполне нормальные гладковыбритые европейцы, одетые по последней моде, в напудренных париках с неизбежными косицей и буклями. Один, похоже, валялся в отключке — это ему Чижиков зарядил табуреткой, второй был в полном здравии. Он со злостью уставился на меня, и в ответ на мой вопрос, прошипел что-то нечленораздельное. Это могло быть как ругательство, так и вполне себе вежливое объяснение, что по-русски пан поляк не очень, чтобы очень.
Меня ситуация устроила, пускай его допрашивают чиновники из Тайной канцелярии, для них языковых барьеров не существует: дыба, знаете, куда эффективней разговорных курсов.
— Господин капрал, в окна поглядите — едут, — закричал запыхавшийся солдат из пятерки Карла.
Я выглянул в окно и обнаружил, что вся улица забита: перед забором скопилась масса повозок, с которых спрыгивали солдаты, понукаемые знакомым офицером. Семеновцы, сегодня их очередь при Тайной канцелярии дежурить. А вот личность их командира меня не обрадовала — это был ни кто иной, как капитан-поручик Огольцов. Ничего хорошего, его появление мне не сулило. М-да, не было печали… Почему вместо него сюда не пожаловал кто-то другой?! В Семеновском полку чуть ли не сотня офицеров и как нарочно пожаловал тот, кого я смело мог записать себе во враги.
Семеновцы быстро заняли двор, выставили караульных у дверей. Моих гренадер живо оттеснили, отобрали у них шпаги и трофейные мушкеты.
Меня пока не трогали.
— Ваше благородь, шо ж такое деется? — жалобно вскрикнул Михайлов в мою сторону.
Я решительно двинулся к Огольцову:
— Господин капитан-поручик, прошу оставить гренадер лейб-гвардии Измайловского полка в покое.
Офицер, отдававший распоряжения усатому сержанту, обернулся:
— В чем дело капрал? Почему вмешиваетесь не в свое дело? — он узнал меня, довольно осклабился и коротко приказал: — Арестовать.
У меня отобрали шпагу, завернули руки за спину.
— Господин капитан поручик, за что? — громко спросил я. — Это мы вызвали Тайную канцелярию. Здесь творятся странные вещи.
— Сие не твоево ума, капрал.
Я увидел за спиной офицера выросшую фигуру Ушакова, с ним был неприметный чиновник в черном.
— Отпустите капрала, — приказал генерал.
— Слушаюсь, — вытянулся Огольцов.
Семеновцы ослабили хватку. Я с наслаждением расправил болевшие плечи.
— Верните ему шпагу, — холодно произнес Ушаков.
— Сей момент.
Мне сунули шпагу. Я вновь ощутил приятный холодок рукояти, вложил лезвие в ножны и почему-то вновь почувствовал себя человеком. Что ни говори, а оружие — это оружие, даже если не боевое.
— Капрал, возвращайтесь к своим гренадерам, соберитесь вместе в ближайшей зале и ждите меня для дальнейшей беседы.
Ушаков дал знаком понять, что разговор окончен, развернулся и ушел вместе с чиновником. Огольцов зло посмотрел на меня, но перечить приказу генерала не стал.
— Повезло тебе немец снова. Ну да чай и нам Фортуна милость переменит.
Мы с гренадерами сидели в огромном зале, вольготно раскинувшись на коротконогих диванчиках и кушетках. Михайлов случайно обнаружил хозяйскую коллекцию трубок, вместе с Чижиковым распотрошил кисеты с табаком, и закурил, пуская к потолку продолговатые кольца дыма. Ни дать ни взять Холмс с Ватсоном у камина.
Ушаков с чиновником, оказавшимся служащим Монетного двора, вернулись на удивление быстро. Они заставили гвардейцев очистить помещение и остались со мной наедине.
— В рубашке ты, барон, родился, — усмехнулся глава Тайной канцелярии. — Твои молодцы логово фальшивомонетское порушили. Сказывай, как на то вышел. Только мне не ври, я по глазам увижу, ежели брехать станешь.
— Врать я не стану. Все как есть выложу, только простите, что наперед лезу: не могу не спросить, что с гренадерами моими будет?
— Хорошо будет с твоими гренадерами, — пообещал Ушаков. — Казнить вас не за что, а миловать нечем. Пока нечем… — он многозначительно улыбнулся. — Так что барон, не бойся, сказывай…
Я прокашлялся и приступил к долгому рассказу, стараясь не утаивать подробностей:
— Все началось с того, что в моем капральстве вместо князя Сердецкого служил его холоп, Михай…
— Ишь ты какой, из-за холопа крепостного на разбойство пойти решился! — внезапно восхитился Ушаков. — Силен, хвалю тебя. И слова верные говоришь: «сам погибай, а товарища выручай». Самлично придумал или надоумил кто?
— Надоумил, — кивнул я. — Не мои это слова.
— Ты, поди, думал из-за хлопца этого Михая мы с тебя все жилы вытянем? — прищурился Ушаков. — Негоже у барина имущество воровать… Так ведь?
— Так, — склонился я.
— Вот! — поднял указательный палец Ушаков. — Испокону веков на Руси водилось, чтобы о душе мужицкой хозяин и благодетель заботился — помещик, ну а над ним царское величие стояло. Ты же в этот миропорядок влезть решил. И не испужался?
— Испугался немного.
— Значит, испугался, — удовлетворенно протянул Ушаков, — а за пуганного трех непуганых дают. Мне такие персоны ой как нужны. Тимоха, — он взглянул на чиновника: — Выйдь ненадолго.
— Сей секунд, — поклонился чиновник.
Теперь мы остались вдвоем. Известный своим веселым характером Ушаков помрачнел.
— Выскочка, мнящая себя польским крулем, — Станислав Лещинский, выполнил свое обещание вредить державе Российской как только можно. Деньги, что вы нашли, фальшивые, изготовлены в Польше, причем сделаны добротно — Тимофей Пазухин, что прибыл со мной не нашел в них почти никакого изьяну. Монеты чеканены и гуртованы зело добротно, и отнюдь не молотком или другими малыми инструментами. Нет, барон, тут машина большая трудилась. И сколько таких денег наделано подсчитать невозможно. Почитай, каждый второй пятак ненастоящий. Ежели с 1723 году монетный двор наделал пятикопеечников на три с половиной мильона, выходит, что фальшивых мильон, а то и поболее будет. И все они до сих пор в ходу. Вот и суди сам, какая от этого убыль казне.
— А что нельзя их сразу изъять как фальшивки? — удивился я.
— Сразу нельзя, — устало произнес Ушаков. — Простой люд совсем по миру пустим, а выкупить их не представляется возможным. В казне денег не хватит.
Я узнал, что во времена Петра Первого было начеканено много пятаков из так называемой «медной стопы» — как правило, из пуда получалось сорок рублей, при себестоимости «нечеканенной меди» в пять раз меньше. Уже тогда первые лица государства знали, что пятаки будут подделывать, но мало кто ожидал, какого размера это достигнет, не смотря на все ухищрения Монетного двора.
Фальшивомонетчики имели со своего занятия хороший навар, учитывая массовость распространения медных денег. Если российские кустарные «изделия» еще можно было отличить по, как правило, легкому весу или плохому качеству работы, то за рубежом наладили промышленный выпуск фальшивок практически ничем не отличающихся от оригинала. Страну буквально наводнили высококачественные подделки. Государство просто не знало, что с ними делать. Рассматривалось несколько проектов о дальнейшей судьбе этих монет, но все они были дорогостоящими. Пришлось оставить ситуацию, какой есть. Разумеется, применялись меры по запрету ввоза в Россию медных пятаков, таможенников под страхом смертной казни обязывали тщательно следить за этим, строго досматривать всех приезжих из-за границы. Имущество иностранцев, замешанных в незаконных обменах медной монеты на серебро или золото, конфисковывалось, сами они подвергались высылке из страны. Русских, уличенных в привозе пятаков, арестовывали, допрашивали с применением пыток и казнили.
Однако все строгости помогали мало. Из Польши продолжали поступать все новые и новые партии фальшивок. Таможенники покупались, а сил, чтобы переломить ситуацию у полиции и Тайной канцелярии не хватало. Люди Ушакова с ног сбились.
Выйти на распространителей считалось большой удачей, тем более никто не ожидал, что такими неблаговидными делишками занимаются весьма обеспеченные люди, вроде князьев Сердецких. Но в этом случае, похоже, лежали еще и политические мотивы: Сердецкие приняли сторону Лещинского и помогали ему, как могли, вредя России. Что ж, сколько волка не корми…
— Раз вы сказали, что отличить поддельные пятаки от настоящих очень сложно, то каким образом узнали, что деньги у Сердецких фальшивые?
— Очень просто, — ответил Ушаков. — Перестарались тати, на монетках год проставили 1728-й, ан да не чеканились в год сей медные пятаки. Вот и вышла у них ошибка. Тимоха Пазухин сразу подвох учуял. Он муж знающий.
— И что теперь будет с Сердецкими?
— Коли поймаем, все спытаю, лично плетью на дыбе стегать буду. Кровью умою, паскудцев. А коли сбегут они — их счастье, ну да у меня руки длинные. Хучь на край света заберутся, все одно достанем. А ежели еще и на самого Лещинского сможем показания взять, так мы хранцузиков, кои его сторону держат, за вихры и мордой по столу повозим, — на лице великого инквизитора появилась мечтательное выражение. — Так-то, барон. Службу сослужил ты государству российскому знатную. Жив будь Петр Ляксеевич, расцеловал бы тебя за подарок бесценный, ну а я, старый хрыч, спасибо тебе свое скажу, только «спасибо» мое дорогого стоит. Ежели просить чего удумал, говори сразу, не забыл пока, а то память у меня стариковская, — Ушаков лукаво подмигнул, давая понять, чтобы губу я особенно не раскатывал.
— Мне особенно просить нечего, не ради наград да чинов старался, — спокойно произнес я.
Генерал с интересом взглянул на меня.
— Прошу в одном только милость проявить — отпустите на вольную солдата моего, Михая, и невесту его Ядвигу. А если захочет он и дальше под командованием моим ходить, похлопочите о включении его в штат Измайловского полка. Вот и все мои просьбы.
— Так мало? — удивился Ушаков.
— А мне много не надо, — спокойно произнес я.
Генерал задумчиво потрогал красивый лоб.
— Ладно, будь, по-твоему. Позабочусь о вольной для холопов. И хоть пытаешься выглядеть ты бессребником будто старец какой, без хорошей награды тебя и гренадер твоих оставлять нельзя. Ну да я сам за тебя решу, барон. Милостью не оставлю.
— И еще, — многозначительно добавил Ушаков, — будет у тебя ко мне и слово, и дело, дай знать через сержанта твоего Ипатова. Много он о тебе хорошего говорил. Пока, барон, ждите хороших известий.
Ушаков хлопнул меня по плечу и ушел, а я остался, разинув рот. Кажется невероятным, но выходит, что с первых дней моей службы я находился «под колпаком» Тайной канцелярии, совершенно не подозревая об этом. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!
Глава 23
Ушаков был прав, «хорошие» известия посыпались как из рога изобилия. Мне стоило бы учесть, что в армии не любят «самовольщиков», нет, неправильно — ОЧЕНЬ не любят «самовольщиков» и приготовиться к неизбежному, а оно не заставило себя ждать. На утро разгневанный Дерюгин выстроил мое капральство и часа два драл как сидоровых коз. Потом нам выдали шанцевый инструмент и отправили рыть канаву «отсюда и до обеда», а апогеем были занятия строевым артикулам под проливным дождем и сильным ветром. Промокшие до нитки и промерзшие до костей мы с Карлом едва добрались до дома и сразу завалились спать мертвецким сном. Я только закрыл и открыл глаза, как начался рассвет.
Следующий день обещал выдаться не менее увлекательным. Я ожидал тихих разговоров за спиной, недовольного бурчания гвардейцев, которым пришлось пройти сущую каторгу, но парни не роптали. Похоже, для них недавние события стали настоящим приключением, а тот факт, что удалось накрыть фальшивомонетчиков и выручить от беды сослуживца, придавал схватке романтический флер. Более того, теперь я осознал, что могу считать себя полноправным командиром. Авторитет мой поднялся в капральстве до небес. Гренадеры были готовы выполнить любой даже самый сумасбродный приказ, лишь бы он исходил от меня. Честное слово, стало так приятно на душе, что муштра перестала казаться дикой и ненужной.
История быстро получила огласку — в армейской среде новости распространяются быстрее телеграфа. И тут мы получили свою порцию симпатий. Приходили солдаты и унтера с нашей третьей роты и из других, они поддерживали нас, советовали принять наказания исходящие от Дерюгина, как неизбежное зло. Говорили, что мы еще легко отделались, приводя в доказательство кучу поучительных примеров. Кое-кто советовал поискать правды у «штапов», дескать, Бирон и другие старшие офицеры рассудят нас по уму, но я сразу отказался, понимая, что невольно задел Дерюгина и, возможно, нанес ему сильную обиду. Все же в какой-то степени мы его этой выходкой подставили перед вышестоящим начальством, реакция у которого может укладываться в широкую палитру от казнить, до помиловать. И если отцы-командиры посчитают, что Дерюгин распустил роту, то последствия для офицера могут статься нерадужными. Могут и из гвардии попереть, благо прецеденты случались. Жаль, конечно. Поручик относился к той породе начальников, что с полным основанием считается лучшей: строгий и справедливый, он никогда не давал подчиненных в обиду и стоял за них горой, а в армии это качество очень ценится. Но зато если уж накажет, так на всю катушку.
Мы стояли на плацу, в ожидании поручика, но он почему-то задерживался. Мундиры не успели просохнуть, поэтому большого удовольствия от такого времяпрепровождения никто не получал. Повисло тягостное молчание, нарушаемое изредка покашливанием в кулак простудившихся. Наконец появился Дерюгин. Выглядел он на удивление веселым. Видя его довольную ухмылку, солдаты приободрились.
«Гроза миновала», — решил я.
— Здорово, орлы! — на ходу прокричал поручик.
— Здравжелаввашблагородь! — рявкнули мы, но очевидно недостаточно бодро.
Ни в какой армии нет приборов определяющих степень солдатского воодушевления, но грамотный офицер способен улавливать тончайшие нюансы. Вроде все в порядке, гренадеры орут во всю мощь легких, крик складывается в единый, наполненный гармонией возглас, на лицах восторг, но что-то не то. Будто от длинного, пышущего жаром французского багета, перед тем, как подать на стол гурмана, повара отщипнули мякиш. Дерюгину проявленный энтузиазм не понравился:
— А что уныло так? Ну-ка повторим: здорово, орлы!
— Здрав… желав…
— Другое дело, — он положил руку на эфес шпаги, приосанился: — Всегда бы так отвечали. Ну что, гренадеры третьей роты, допрыгались! О подвиге вашем дошло до самой матушки императрицы.
«Неудивительно, — подумал я. — Ушаков имеет право личного доклада Анне Иоанновне. Вряд ли он замолчал случай с фальшивомонетчиками».
— И она проявила к вам подобающую щедрость. Все гренадеры, участвовавшие в штурме, получат в награду по пятьдесят рублей, а капрал фон Гофен сто рублей и повышение в чине до сержанта. Виват ее императорскому величеству!
— Виват! Виват! Виват! — троекратно прокричали мы, впадая в полный восторг.
Вот так, благополучно закончился штурм дома Сердецких. И командир доволен, и денег немалых отсыпали, а для меня очередные «лычки» как дар с небес. Правда, новая должность куда ответственней, ведь зачастую сержант выступает в качестве второго лица в роте, особенно в нашей, ибо многие из нас успели позабыть, как выглядит капитан-поручик Басмецов, пропадавший неизвестно где.
— Есть из-за чего глотки драть, — довольно произнес Дерюгин. — Фон Гофен, оставьте за себя старшего и извольте следовать за мной.
Так, кажется это еще не все сюрпризы на сегодня. Надеюсь, речь пока идет о приятных.
Мы двинулись к штабу. Я на ходу оглядел мундир, но больших изъянов не нашел. Нет, придраться-то можно, но если у кого возникнет желание, тот и к столбу прикопается: «не там стоишь», а уж солдатского брата всегда найдется, чем попрекнуть.
— Господин поручик, дозвольте обратиться, — попросил я.
Дерюгин остановился:
— Слушаю, сержант.
— Примите мои извинения, пожалуйста. Я просто не хотел вас втягивать в эту авантюру. Если что, взял бы всю ответственность на себя.
Поручик грустно посмотрел на меня:
— А я и не в обиде, фон Гофен. Плохо вы обо мне думаете. Скажу более: я рад, что вы поступили именно таким образом, не посрамив честь гвардии. Но наказать вас я все равно обязан. Порядок такой. Понимаете, фон Гофен?
— Так точно, господин поручик. Понимаю.
Я только что увидел Дерюгина с другой стороны. Поручик стал еще более симпатичен не только как офицер, но и человек. Возможно, эта фраза коряво звучит, но надо понимать, что служебные и личные качества обязательно должны отличаться. У моего приятеля Сашки Смирнова отец был довольно крупным начальником в военном училище — подполковником, заведующим кафедрой. Я часто бывал у друга в гостях, общался с родителями Саньки, видел каким добродушным, веселым и обаятельным кажется его папа. Немного погодя, в разговоре со знакомыми курсантами речь зашла о подполковнике Смирнове.
— Ну, как он? — спросил я.
— О, конкретный препод, настоящий волкодав. Спуску никому не дает. У него все в двоечниках ходят, — ответили мне.
— Рад, что в вас не ошибся, — произнес Дерюгин.
— Господин поручик, а зачем вы ведете меня в штаб.
— Подполковник Бирон велел доставить, а вот зачем вы ему понадобились, мне неизвестно. Ну да мы почти на месте. Скоро все узнаете, сержант.
Мы вошли в штаб, в котором как всегда с делом и без дела слонялось много народа. Поручик сдал меня на руки Бирону и удалился.
Младший брат фаворита сидел за укрытым зеленым сукном столом и со скучающим видом подписывал лежавшие в аккуратной стопочке бумаги.
— Проходите, фон Гофен. Можете сесть на эту скамью. Разговор у меня будет долгий.
Он грустно оглядел не уменьшающуюся кипу документов, вздохнул и отложил перо в сторону:
— Мне в последнее время кажется, что чернил наш полк изводит больше, чем пороха. Если б вы только знали, фон Гофен, как все это надоело!
Я понимающе кивнул, зная, что таких бюрократов, как военном ведомстве, нужно поискать. Полковая канцелярия вела оживленную переписку с кучей канцелярий и прочих государственных учреждений, малейший шаг протоколировался, вносился в особые книги и ведомости. Боевому офицеру было противно сидеть среди всех этих бумажек, но ничего не поделаешь. Таков заведенный еще издревле порядок.
— Но не будем о грустном. Я подписал сегодня приказ о вашем производстве в следующий чин. Поздравляю, вы исправный гренадер и заслужили повышение. Кстати, Дерюгин очень хлопотал о вас, просил, чтобы не наказывали. Он еще не знал, что ваша дерзкая атака привела императрицу в сущий восторг.
Я смущенно улыбнулся.
— Она вас запомнила, еще с первого раза, — сказал Бирон. — А я прекрасно помню нашу последнюю беседу, вы тогда уверяли, что беретесь за выучку целой роты гвардейцев и обещали сделать из нее скрипку. Было дело?
— Так точно, было.
— Так вот, сержант. Будет вам рота и не простая. Рота дворцовой охраны при самой императрице Анне Иоанновне, — с гордостью объяснил Бирон. — Мы давно уже подумывали об учреждении особого воинского отряда на пример екатерининских кавалергардов из исключительно преданных престолу людей. И я, и мой брат обер-камергер слезно упрашивали ее императорское величество внять просьбам поданных, желавших чтобы особа ее пребывала в исключительной дали от всяческих опасностей и была окружена верными и честными персонами. После долгих уговоров матушка императрица согласилась возродить не столь давние, но весьма полезные традиции. Велела подготовить проект, поручила его мне.
Похоже, намечается что-то интересное. Густав Бирон, не большой любитель умственной работы, привыкший ходить в атаку и размахивать шпагой, явно желает скинуть сей труд кому-то другому, по всей вероятности мне — иначе не было бы этого вызова в штаб. Идея и не дурная, очевидно, принадлежит фавориту императрицы, да и момент выбран удачный. Единственный человек, способный внести существенные коррективы в планы — Миних — в настоящее время находится на войне и при всем желании не сумеет вмешаться.
А уж как мне играет на руку создание роты преторианцев! Если рядом с престолом будет находиться верная и что немаловажно боеспособная часть — эпоха дворцовых переворотов, совершаемых восьмью десятками солдат (как было в случае смещения Бирона с регентства) или тремя сотнями преображенцев, поставивших на трон Елизавету Петровну, так вот — эта эпоха сойдет на нет.
Не будет пьяных порывов из казарм, если мятежники начнут понимать, что их встретят не растерянные караульные с опущенными штыками, а четкий и главное моментальный отпор. Даже если окружение Елизаветы сумеет привлечь намного большие силы, то чем дольше сумеет продержаться дворцовая охрана, тем меньше у злоумышленников окажется шансов на победу.
Ведь в чем заключалось основная тактика мятежников — моментальный захват правящей особы, спустя несколько часов страна ставится перед фактом — прежний монарх низложен, на трон всходит преемник или преемница, имеющие на то вполне законные основания. Ну а то, что методы оказались чуточку сомнительными — так, пустяк, о котором скоро забудут. Историю делают те, кто пишут учебники. В них, о чем надо умолчат, к чему не надо — добавят, белое покрасят черным и наоборот. Обычное дело!
Оперативность — вот главный козырь в руках тех, кто совершал дворцовые перевороты.
А если ситуацию изменить? Если отряды тех, кто затеял переворот, увязнут в длительном бою, пускай даже на подступах ко дворцу? Я уверен, что армейские части пойдут на защиту правящего монарха, ибо мятеж есть мятеж. У армии просто не будет иного выхода.
Как я и думал, Густав вызвал меня для черновой работы. Мы до позднего вечера разрабатывали штаты новой части и в итоге пришли к следующему варианту: при Измайловском полку создается тринадцатая рота, получающая название дворцовой караульной со штатом в сто фузелеров и двадцать пять гренадер. Во главе будет стоять майор, в подчинении у него капитан и гренадерский капитан-поручик. Майор отвечает исключительно перед полковником, а им по традиции является император или императрица России. Рота поделена на четыре фузелерских капральства и одно гренадерское. Вводятся стандартные должности прапорщика, подпрапорщика и сержанта.
Если честно — я прямо в раж вошел, обсуждая детали с подполковником. Казалось, разницы в чинах не существует — есть только два увлеченных человека.
— Не стоит вводить много офицерских чинов, — советовал я. — Пусть изначально будет небольшая, но очень мобильная, не стесненная ничем лишним часть. Кроме того, не стоит комплектовать нижних чинов из дворян, — я едва удержался, чтобы не ввернуть словечко о «стимулировании». — Брать рекрутов только из крепостных и разночинцев. По выслуге двадцати пяти лет солдаты получат личное дворянство и хороший денежный пансион. Однако во время службы жалованье их не должно многим отличаться от гвардейского содержания, разве что мундиры построить за казенный счет. Мотство и роскошь развращают, в умеренности я вижу залог верной службы. Если чины знают, что их будущее обеспечено, они вряд ли позволят себя уговорить мятежникам, ибо в случае неудачи, новые преторианцы потеряют все.
Для усиления роты мы решили придать ей полусотню казаков. Их назначение — сопровождать императорскую особу во время частых конных поездок. Да и в случае попытки переворота они, несомненно, пригодятся, ибо боевые качества и доблесть казаков не знали себе равных.
Мы извели не одну банку чернил, прежде чем появился первый вариант.
— Неплохо, неплохо, — оторвался на минуту от чтения проекта Бирон. — Майором я думаю выдвинуть перед императрицей капитана Муханова, если у меня достойные кандидаты и на другие должности, а вас, барон, я не прочь рекомендовать в капитан-поручики. Как вам такое продвижение?
— Если ее императорское величество не будет против, то об этом можно было только мечтать, — признался я.
Признаюсь, карьерный рост казался ошеломительным. Еще недавно я был рядовым гренадером, а теперь замахивался на офицерский чин. Все складывалось весьма и весьма неплохо.
— Думаю, она против не будет. Я вам говорил прежде, она вас запомнила, фон Гофен. Постарайтесь оправдать ее доверие. И не забывайте моих слов — чем выше взлетает человек, тем больше желающих схватить его за ноги, — усмехнулся Бирон.
Глава 24
Одним днем составление проекта не ограничилось. Густав свозил черновик среднему брату на показ (меня с собой не взял), фаворит продержал бумаги неделю и вернул с несколькими пометками. Поскольку воля Эрнста Иоганна была все равно, что закон, пришлось принять все замечания. Собственная безопасность заботила временщика ничуть не меньше безопасности государыни. В новой редакции документа дворцовая рота стала подчиняться и подполковнику Измайловского полка, то есть Густаву Бирону. Впрочем, моим планам эти изменения никоим образом не мешали, главное — возле трона появлялась реальная сила, способная доставить массу неприятностей сторонникам Елизаветы. Пока на бумаге, но первые лица страны заинтересованы запустить преобразования в максимально сжатые сроки, следовательно, больших проволочек не будет.
Мы сидели в жарко натопленном кабинете Густава Бирона. Слуги только что убрали обеденные приборы, оставив нас в тишине. За окнами стояла непроглядная тьма. Тихо переговаривались караульные у ворот, обсуждая последние новости с полей войны.
Красавица-жена Александра, находившаяся на сносях, зашла пожелать нам «покойной ночи». Подполковник с большой нежностью поцеловал ее и попросил «поберечься за двоих». Я видел, что он очень любит жену, и на короткое время позавидовал воркующей паре. Не знаю, почему, но ни тут, ни там у меня не появилось ничего, что можно назвать якорем: ни ребенка ни котенка. Случайные подруги, ни к чему не обязывающиеся отношения, свидания в полумраке кафе и ресторанов, приглушенная музыка, объятия и поцелуи, не всегда заканчивающиеся чем-то серьезней. Бестолковая маячня, одним словом. Разве что мама… Я почему-то боюсь думать, как там она сейчас. Вот такой хронопарадокс — ведь между нами четверть тысячелетия.
— Так, со штатами разобрались, — вытирая пот со лба, произнес подполковник. — Переходим к самому интересному.
На миг он зажмурился, как ребенок, получивший вкусную конфету. Я не сумел сдержать улыбки, зная, что он имеет в виду. Вспомнилась одна история из далекого прошлого.
Есть у меня несколько друзей, поступивших в военное училище. Не все они в итоге стали офицерами, ну да не о том речь.
Я учился в инъязе, на всю группу нас было только трое парней, остальные — девчонки, озабоченные не только учебой, но и нехваткой мужского общества. Не стоит думать, что, пребывая в таком «малиннике», мы шли нарасхват. Ирония судьбы: наша троица в глазах сокурсниц котировалась чуть выше плинтуса. Очевидно, дамы видели в нас только зубрил-ботаников, у которых всегда можно списать или выпросить в критический момент шпору. О свиданиях не стоило и заикаться, а ведь среди одногруппниц водились такие красавицы, что ни в сказке сказать ни пером описать. Но они были холодными как айсберг и ненадолго оттаивали лишь в период сессии. В остальное время предпочитали устраивать совместные вечера-посиделки с курсантами. Не помню, каким макаром меня затащили на одну из таких встреч в недорогом, снятом в складчину кафе.
Я сидел за одним столиком с двумя поддатыми парнями в военной форме, носившими прическу по последней курсантской моде — сзади коротко с окантовкой, зато спереди отращивалась челка не хуже, чем у Преснякова-младшего. Под головным убором этой «красоты» не видно, зато, когда снималась пилотка или фуражка, на лицо падала настоящая копна волос, сквозь которую с трудом можно разглядеть глаза.
Не знаю, какую лазейку в толковании устава нашли модники, но так стриглись почти все старшекурсники. Это у них считалось высшим шиком.
Табачный дымок тянулся кверху, курсанты неторопливо потягивали пиво из высоких бокалов. Многих отпустили до утра, и я мог только догадываться, где они проведут эту ночь.
Звучала томная музыка, кажется, Sade, парочки медленно топтались возле хрипящих стереоколонок.
Партнерш на всех не хватало, поэтому мы пили пиво с орешками и неторопливо беседовали. Разговор зашел на тему, почему ребята выбрали местом учебы именно военное училище.
— Рассчитываешь услышать банальные вещи? — спокойно спросил белобрысый сержант Эдик, заместитель командира взвода или по-простому «замок». — Про семейные традиции, преемственность, долг перед родиной?
— Что-то в этом роде, — не стал темнить я.
Эдик глубоко затянулся, выпустил к потолку колечко дыма, ловко ногтем сбил пепел с сигареты и произнес:
— Ну да, мой папа — «полкан», заканчивал это же училище. Так что насчет традиций ты прав. И родину я люблю, уродину — не уродину, не важно. Но ты не поверишь, — он склонился ко мне:
— Больше всего на свете я тащусь от формы и от оружия. Только ради этого, я поступил в училище и не жалею ни капли. Такие, вот дела, Гоша, — он улыбнулся и добавил:
— Только девкам не говори, засмеют.
Тогда я удивился: оружие — туда-сюда, еще понять можно, но вот ради каких-то тряпок пять лет носить кирзачи? Глупо.
И все же он не покривил душой. Оказавшись здесь, я тоже проникся этим по-полной. Мундир и оружие — вот два предмета особых забот любого военного. То, что они любят иной раз больше всего на свете.
Глядя, на Густава Бирона, я вспоминал тот разговор, машиной времени перенесший меня в бандитские девяностые.
— Барон, вы случайно не задремали? — голос подполковника прозвучал неожиданно резко.
Я встрепенулся:
— Никак нет, господин подполковник. Задумался просто.
— Я уж подумал, от сытной пищи тебя разморило. Вернемся к прожекту. Огород без лишней надобности городить не будем. Фузеи для роты оставим гвардейского образца, — уверенно произнес подполковник.
— У меня есть предложение, даже три.
— Интересно, — Густав выжидающе замолчал.
— Надо что-то делать с креплением штыка.
— С ним что-то не так?
— Сами знаете, господин подполковник. Очень неудобная конструкция. Менять надо и чем быстрей, тем лучше. Глядишь, обгонят нас французы или англичане. Негоже русской армии в хвосте плестись.
С 1709 года русская армия вместо багинетов, вставлявшихся в дуло, и потому не позволявших вести стрельбу, постепенно перевооружалось более практичными втулочными трехгранными штыками. Все части переоснастить пока не удалось, но гвардия снабжалась в первую очередь. Минусом явилась непродуманная система крепления — штыки часто падали во время выстрела, их с легкостью сдергивали в рукопашной схватке.
— Не ты один озаботился, — на лице Бирона появилась широкая улыбка. — На, почитай, что прапорщик первой роты Козюренков пишет.
Он извлек из выдвижного ящика письменного стола два исписанных бисерным почерком листа бумаги. Я углубился в чтение, и понял: это не что иное, как грамотно составленный технический документ.
Козюренков подробно описал недостатки крепления штыка и предложил изменить конструкцию, введя продольную пружинную защелку на трубке. Нарисовал чертеж, снабдил подробными комментариями. Такой штык сам не свалится, и в бою не подведет.
— Все хорошо, в чем заминка? — удивленно спросил я.
— Надо пройти апробацию, — пояснил Бирон. — И деньги нужны.
— Давайте изготовим малой партией, предъявим царице, поясним, что и как. Если она одобрит, найдутся и деньги. Козюренков дело пишет.
— Экий ты прыткий. В России таких Козюронковых пруд пруди. Ежели каждого слушать, да по ихнему делать, изнищаем. На всех денег не напасешься.
— Так это и хорошо, что в стране много толковых людей. Их поощрять нужно.
— Нужно-нужно, — пробурчал себе под нос Бирон, но я видел, что он мои слова одобряет. — Закажем у сестрорецких оружейников с десяток таких штыков. Ежели недорого получится, матушка-императрица войдет в положение.
Бирон набросал поверх записки Козюренкова реляцию и приобщил к проекту.
Я скорчил грустное лицо.
— Ах да, — спохватился офицер. — Ты еще о чем-то молвить хотел. Говори, коль не забыл.
— Мои солдаты обратили внимание, что чистка ружей кирпичной крошки приводит к постепенной порче: меняется калибр, пропадает меткость. Пробовали стрелять из старых фузей и обнаружили, что с расстояния в пятьдесят шагов в мишень попасть уже невозможно. Лучше бы заменить толченый кирпич на что-то другое. Мы стали в капральстве вместо него использовать веретенное масло, оно почитай у каждого в хозяйстве имеется, да и стоит недорого. Стволы полируем суконкой. Благодаря таким изменениям фузеи и прослужат дольше, и в бою не подведут. Кругом экономия выходит, — я не стал уточнять, что в действительности на это «открытие» меня натолкнула знаменитая фраза Левши, что «нельзя ружья кирпичом чистить». — Такое бы в «Экзерцицию пешу» внести да в остальные полки разослать.
— Дельное замечание, — кивнул Бирон.
— Только надо бы это по уму сделать. «Эзерциция» в армию поступила в рукописном виде. Я для интереса сравнил наш экземпляр с тем, что попал в Ингерманландский полк и обнаружил, что они сильно отличаются. Какой является правильным, а какой нет — осталось загадкой. Чтобы не было разных толкований надо сей документ напечатать большим количеством и заменить им все рукописные.
— Был такой разговор. Господин фельдмаршал, чьей властью и был сотворен этот документ, давно хотел произвести в войсках замену, но война вмешалась. Есть вещи куда важней, но я, пожалуй, поговорю с теми, кто может принять такое решение. Еще чего скажешь?
— Мушки бы надо на ствол фузейный наклепать.
— Это еще что за напасть?!
— Чтобы огонь прицельный вести, в белый свет не палить и пуль попусту не расходовать, — сказал я и не поленился пояснить на рисунке.
— Делов-то, навел на супостата, да пали. Ежели он далеко, выстрел твой пропадет, ну а как подле тебя будет, мушка без надобности. Ты харю его всегда разглядишь, без мушки.
— Это сейчас, а я подумываю о том, чтобы прицельный огонь не с двухсот шагов вести, а разика в два-три подальше.
— Так не убьешь никого. Улетит твоя пуля, поминай, как звали, — недовольно сказал Бирон.
— А мы так сделаем, чтобы пуля та как можно далече летела, и урон неприятелю большой наносила.
— Чудите, барон, — фыркнул подполковник.
— Почему же?! Есть у меня задумка с артиллеристами пообщаться. Они в науках сильны и сумеют такую пулю изготовить, что превзойдет нынешние.
Логика была проста: я не химик, при всем желании не смогу ничего сделать с черным порохом, хотя в перспективе работы в этом направлении вести надо. И ученые нужны серьезные, а большой уверенности в том, что я сыщу таковых в нынешней России, нет: Ломоносов делает первые шаги, кругом одни иноземцы, способные быстро передать секреты на сторону в пользу настоящей родины. Так что работы над новым видом пороха отложим до лучших времен.
Переоснащение армии дальнобойными нарезными ружьями обойдется в копеечку, дорогие слишком. Гладкоствольные фузеи обходятся намного дешевле, массовый выпуск налажен, солдаты к ним приучены. В здравом уме Анна Иоанновна и ее министры не пойдут на огромные траты. Получается надо выжать по максимуму из того, что есть, а единственной вещью, которую можно подвергнуть изменению без больших денежных затрат остаются пули, вернее их конструкция. Раз гладкоствольные ружья прослужили в армии аж до Крымской войны, и стреляли, насколько помню из книг и телевизионных передач, гораздо дальше, значит, определенный простор для модернизации существует. Найду хорошего баллистика, пускай поколдует, а где его искать, я для себя решил. Самые подкованные в этом плане — офицеры-артиллеристы. Отношение к ним со стороны остальной братии такое же почтительное, как через сто лет к путейцам. И русских среди них, что немаловажно, хватает. Тогда на какое-то время утечки можно избежать. Понятно, что шпионы будут держать нос по ветру, но они в основном занимаются шпионажем политическим, к России с давних пор укрепилось скептическое отношение: ничего путного они не придумают, эти варвары. Пока суд да дело… Да и к новинкам долго настороженно относятся. Если мы внедрим первыми, другие страны только будут раскачиваться.
Без подводных камней не обойтись, но способы обойти обязательно найдутся. В этом я не сомневался. Дорогу осилит идущий.
Теперь, что это нам дает? Выигрыш в дальности стрельбы — даже если мы увеличим его в два раза, основной наш враг — турецкая конница преодолеет это расстояние за считанные секунды, но и они не будут лишними. Пора учить солдат экономить время, как писалось в одной книжке: главная стрелка на солдатских часах — секундная. Заряжай быстро и четко, стреляй далеко и метко. Пусть каждая пуля найдет себе мишень. Знаю, что турки и татары любители кружить вблизи передвигающихся частей, особенно обоза. Для них будет «приятной» неожиданностью знакомство с дальнобойным оружием.
Выходит, даже из минусов, можно извлечь кучу плюсов. Такая вот высшая математика.
Полностью приводить Бирону свои рассуждения я не стал, но он сразу ухватил идею и целиком проникся. Ему можно довериться, благополучие его семьи отныне и навсегда связано с Россией. Интересы Биронов тесным образом переплелись с моими, и я был несказанно рад. Никто из историков не сумел бы обвинить Густава и его родственников в предательстве страны, они действительно преданно служили империи.
— Мне очень хватили артиллерийского капитана Анисимова, чистого ума, говорят, офицер, — сказал Бирон. — Думаю, он выкажет интерес, а я похлопочу, чтобы его освободили на время от службы и приставили к опытам.
Решив одни проблемы, приступили к другим. Мне откровенно не нравилась солдатская форма, даже гвардейская, из-за полной непрактичности и не приспособленности к нашему климату. А идиотская мода пудрить голову, завивать букли и носить косички, введенная во многом благодаря стараниям самих гвардейцев, раздражала.
Бирон подумывал о том, чтобы сделать мундир новой роты наподобие кавалергардов Екатерины: темно-зеленый кафтан, алый камзол с красным супервестом[16], на котором вышивали золотой и серебряной нитью Андреевскую звезду на груди и двуглавый орел на спине. Драбанты также носили красные штаны в обтяжку, высокие сапоги с раструбами и треуголку с золотым галуном и плюмажем.
Мундир этот считался верхом красоты и роскоши.
Я предложил пойти от противного.
— Давайте начнем не следовать моде, а диктовать ее. Из-за обилия в одежде золота и серебра в Европе нас считают дикарями, которые накидываются на все, что блестит. Нам, конечно, плевать на их мнение, но почему бы не щелкнуть по носу тем же французам, голландцам и англичанам. Пускай они изводят пудру на парики, носят неудобные треуголки, влезают в узенькие штаны, мерзнут в чулочках. Мы изменим форму, сделаем более приспособленной к солдатскому быту и российской погоде.
— И что же вы хотите изменить, фон Гофен, — заинтересовался Бирон.
— Для начала короткую стрижку. Долой букли и косы.
— Хотите уподобить лейб-гвардию мужичью неотесанному?
— Нет, хочу привить чистоплотность телесную. Чтобы меньше насекомых в прическе обиталось, чтобы солдат о службе думал, а не о том, где ему пудры раздобыть.
— Постойте, нижние чины превосходно обходятся мукой.
— Ага, и не спят полночи, пока эта квашня на голове не высохнет. А утром квелые ходят.
— Значит, императрицу о запрете на пудру, букли и прочие излишества просить желаете?
— С вашей помощью, господин подполковник. Меня она слушать не станет, я для нее фигура не выдающаяся, а вот вы донести сумеет. Вас она послушает.
— Скажу вам правду, барон. Я сам нахожу моду эту дурной и противоестественной, но так уж устроен человек: не думает об удобстве своем в угоду всяким веяниям.
— Мода — штука переменчивая. Если ветер подует с нужной стороны, сумеем ее изжить или заменить чем-то более полезным. Если вы, господин подполковник, подадите пример, другие и я, в том числе, охотно к нему присоединятся. Ну, а с фантами всякими постепенно разберемся.
— Я думаю, не на стрижке единой вы хотите заострить внимание, барон?
— Так точно, господин подполковник. Есть у меня несколько разных вариаций форменной одежды, как для лейб-гвардии, так и для частей пехотных армейских. Пытался совместить красивое с удобные. Посудите, что вышло.
Для роты дворцовой службы мы решили изготовить форму пышную, но все же практичную. Мушкетерские треуголки и гренадерские кепки заменили на кивера а ля тысяча восемьсот двенадцатый год. Я знал, что Бирону понравится. Есть что-то в них такое, привлекающее взгляд. Ввели серо-голубые кителя сюртучного типа с высоким стоячим воротником, погоны в виде эполет для офицеров, портупейные ремни, красные (не широкие и не узкие) штаны, черные сапоги. Епанчу решили оставить, но дополнительно добавили длинную шинель (я замучался объяснять, что это и для чего нужно). Густав еще немного пофантазировал, и получилась довольно сносно выглядящая форма.
Я надеялся, что под шумок смогу протолкнуть и реформу в полевом обмундировании для всей армии, представил Бирону альбом с рисунками, над которыми корпел несколько дней, потратив часть из выданной в награду сотни рублей. Художник из меня так себе, но Чижиков отыскал где-то неплохого рисовальщика, и тот за неплохие деньги воплощал на бумаге мои «дизайнерские» изыскания. Я, конечно, не Юдашкин, но это может и к лучшему.
Для полевых частей в летнее время предполагались светлые гимнастерки из льна с кожаными налокотниками и красные (чтобы солдаты меньше боялись крови) штаны с наколенниками, короткие (ниже колена) и легкие сапоги с онучами.
Бирон ухмыльнулся.
— Поверьте, господин полковник, портянки сиречь онучи, полезная и незаменимая вещь. Нога солдатская будет в тепле и сухости. Это ж не чулки.
— Возможно, — кивнул подполковник. — А почему эти… рубахи белого цвета?
— Потому что этот цвет лучше всего подходит для войны в пустыне. В белых рубахах солдатам будет легче переносить палящий зной.
— С чего вы это решили, барон? — удивился Бирон.
Интересный вопрос. Правдивый ответ — услышал в школе на уроке физике, но насколько эта наука на данном этапе продвинулась в вопросах поглощения и отражения световых волн? Пришлось наплести что-то о прочитанных книгах путешественников, которым приходилось пересекать пустыни и общаться с аборигенами. Дескать, туземный опыт.
— Продолжайте, барон. Я слышу от вас много интересного, — удовлетворено кивнул Бирон.
— С удовольствием. Я много думал о головных уборах. Треуголка никуда не годится, кожаные гренадерские шапки тоже не идеальны. Предлагаю в теплое время года вот такую шапку с козырьком и загнутыми ушами, — я нарисовал на бумаге нечто вроде кепи. — Для летнего дождя и ненастья пригодится епанча, но как похолодает, солдат облачится в шерстяной суконный мундир того же покроя, подденет исподнее, а сверху… шинель-скатку.
— Давайте подробнее остановимся на зиме, — предложил Бирон.
— Зимой и поздней осенью солдат пускай носит шапку-ушанку.
— Что такое «ушанка»? — не понял Бирон.
— Э… такая теплая зимняя шапка, обычно называется «треух», — вспомнил я.
— Понятно, — кивнул Бирон. — Морозы в России кого хочешь заставят одеться потеплее. Особенно в Сибири. Иной раз птицы на лету мерзнут.
— Об этом и речь, — поддакнул я. — Для зимних караулов введем караульные тулупы, чтобы постовые не мерзли. И никаких павлиньих-страусиных перьев. Оставим их дамам. Для упрощения различий между чинами можно ввести погоны, нарукавные знаки, — я снова пустился в пространные объяснения, ибо, что такое погоны, армия еще не знала. Существовали прообразы в виде специального шитья на левом плече, но термин пока не вошел в обиход.
— Рода войск будут отличаться,… скажем, кокардами, или цветом мундиров. Мы сэкономим на куче вещей, получим удобный и дешевый мундир.
— Звучит интересно. Думаю, если мы не просто отдадим бумаги, а покажем императрице солдат в мундирах нового покроя, она будет гораздо благосклонней к переменам. Пожалуй, я оплачу строительство нескольких мундиров для образца из собственного кошелька. Есть на примете отличные портные, они помогут воплотить ваш замысел. Через двенадцать дней представим матушке императрице наш прожект. Готовьтесь. Надеюсь, вы будете столь же убедительны, — Бирон с предвкушением потер руки. — И альбомчик ваш я с собой прихвачу.
Глава 25
Благодаря энергии Густава Бирона все действительно завертелось и закружилось, будто в калейдоскопе. И лишь я ощутил себя опустошенным и выжатым как лимон. Словно кто-то внутри щелкнул рубильником и вырубил ток.
Зачем я все это делаю? В правильном ли направлении иду? Какие будут последствия моих поступков? Если в знаменитом рассказе путешественник во времени случайно раздавил бабочку и в итоге коренным образом изменил мир, как аукнутся мои дела в будущем? Нет гарантий, что Лев Толстой напишет «Войну и мир», Эдисон придумает лампочку, Крузенштерн откроет Антарктиду, а Гагарин полетит в космос. Возможна самая невероятная цепочка событий. И разве им обязательно быть плохими?
Вдруг просьбу молодого Наполеона удовлетворят и возьмут в русскую армию, где он станет выдающимся полководцем. Гитлера примут в академию художеств или как там называлось то учреждение, куда его не хотели брать по причине бездарности, подучат, и из него выйдет пускай средней руки, но все же художник. Аляску не продадут, поставят на ней радар и несколько ядерных ракет для защиты США и Канады от, скажем, ракет колумбийских наркобаронов.
Удивительная вещь история. Сколько на ней развилок, которые могли повернуть развитие человечества в ту или иную сторону.
Мой ориентир для будущего предложен Кириллом Романовичем, но стоит ли оставаться в этих тесных рамках, если я могу сделать для страны нечто большее, нежели только предотвратить Елизаветинский переворот и удержать на троне Иоанна VI?
Любому из нас когда-то хотелось переиграть историю, слетать на машине времени в прошлое, предупредить самого себя даже по мелочному поводу: не идти на свидание с девчонкой из соседского двора, которая заставит как дурака несколько часов торчать на морозе у кинотеатра с двумя билетами на отличный фильм в одной руке и с букетом цветов в другой, а сама не придет, потому что ей захотелось тебя подинамить. Не зубрить всю ночь перед экзаменом, а отправиться на пляж, бегло пробежав глазами билет под номером одиннадцать. Дать по морде человеку, которого ты считал своим другом, а он втихаря закладывал тебя начальству.
И вот мне выпал такой шанс, лотерейный билет что ли.
Конечно, было бы хорошо оказаться в теле царя батюшки с неограниченной властью, чтобы все «принеси-подай», чтобы любой каприз на блюдечке. Однако сумел бы я, оказавшись с лету на верхних ступеньках, сходу разобраться и предложить верный путь? Наверное, нет.
Сейчас мое положение шаткое: в глазах Бирона я земляк, на которого можно рассчитывать, скинуть черновую работу, использовать в темных интересах. Курляндцы стараются держаться друг друга, понимая, что в этом основа их выживания, но говорить о существовании влиятельной партии я бы не стал. У всех собственные интересы. Подует ветер в другую сторону, и мы полетим как пух. Так кстати и произошло в истории.
Возможно, я переоценил свои силы, пытаясь одновременно с созданием дворцовой роты запустить маховик реформ, но всему нужен толчок. Маленький камешек, падающий с вершины горы, увлечет за собой лавину.
Одна рота всего лишь начало, испытание в тепличных условиях. Главное, чтобы Анна Иоанновна прониклась духом перемен.
Я понимал, что изменения на первых порах могут вызвать неприятие, особенно в гвардейских полках. На ум пришла ситуация с реформами Потемкина: гвардейцы были не в восторге от его каскеток, курток и сапог, и, радовались, что их форма не претерпела «потемкинских изменений». Вероятно, им нравилось не спать сутками, чтобы привести прическу в порядок: напудрить волосы, закрутить букли, устроить позади крысиный хвостик с металлической проволокой и черной лентой в виде бантика. Понятно, что офицерам помогали денщики, а солдатам побогаче — крепостные, но даже в гвардии хватало тех, кто едва сводил концы с концами и единственным источником существования оставалось скромное жалованье. Я делал ставку на них.
Кроме того, люди Анненской эпохи гораздо привычней к переменам, чем их потомки. Недавно Петр Первый сломал привычный уклад страны, ввел огромное количество новшеств, не все из которых можно назвать полезными. Те, кому довелось стать не только свидетелями, но и участниками коренной ломки легче на подъем. Если реформы окажутся простыми и понятными, их введение облегчит и солдатскую, и офицерскую долю, любое сопротивление будет преодолено.
Не стоит забывать, что в отличие от сиятельного графа Потемкина я находился в более выгодной ситуации. Елизавета и Екатерина Вторая откровенно избаловали как двор, так и гвардейское окружение. Эпоха дворцовых переворотов внедрила в сознание современников, что в их силах убрать неугодного монарха, навязать любые условия. Слишком многое сходило с рук заговорщиков. Елизавета и Екатерина, эти, безусловно, неординарные женщины попадали в заколдованный круг, вынужденно одаривая милостями людей, от которых зависели, тем самым, развращая их.
Анна Иоанновна была не такой. Разорвав кондиции верховников, она действительно стала самодержицей. Слово ее не расходилось с делом. Императрица любила власть, и, что самое главное, умела ей распорядиться. За каких-то десять лет она добилась того, что получалось далеко не у всех монархов: укоротила замашки шляхетства, вольные нравы которого могли привести примерно к такому же разносу страны, как в случае с Польшей, которая надолго исчезла с политической карты Европы.
Не всем был по нраву жесткий (отнюдь не жестокий) нрав царицы, но люди, умевшие ставить интересы страны выше собственных, видели в ее правлении благо для разоренной России. Конечно, находились и «несознательные». С ними обращались просто — арест, Тайная канцелярия, а там как повезет. Большинство, кстати, отпускали, не причинив особого вреда; дело заканчивалось штрафом, наставлением на путь истинный от духовных лиц или непродолжительным сидением под домашним арестом.
Пушкин, серьезно занимавшийся исследованием этого исторического периода, очень удивлялся тому, сколько собак умудрились навесить потомки-«либералы» на Анну Иоанновну и ее фаворита Бирона. Что поделать, воцарившимся незаконным путем монаршим особам и их приспешникам приходилось оправдывать свои поступки хотя бы таким способом.
Мне было легче осознать несправедливость вынесенных историками приговоров, ибо я поневоле втягивался в эпицентр бурлящих событий.
Бирон познакомил меня с Анисимовым, это оказался приятный в общении офицер, начитанный и многознающий. Он служил в Артиллерийском дворе и, если я правильно понял, заведовал там одной из лабораторий. Правда, о своих обязанностях, Василий Геннадьевич распространяться не любил, очевидно, служба приучила его держать язык за зубами. Нам как раз такой спец и был нужен. Умный и не шибко болтливый.
Я рассказал ему о своей идее, объяснил каких результатов надо добиться.
— Возьметесь?
— Задачка сложная, — взгляд офицера стал задумчивым, потом прояснился, — но интересная. Понадобятся две вещи, — Анисимов замолчал и выжидающе посмотрел на Бирона.
— Какие? — нетерпеливо спросил подполковник.
— Свободное время и деньги.
— Вы не будете стеснены ни в том, ни в другом. Голубчик, если вы придумаете такую пулю, что неприятеля за шесть сотен шагов наповал убьет, я лично бухнусь в ноги императрицы, чтобы вам дали генерала.
— А если не получится?
Бирон выдержал паузу и коротко предупредил:
— Сгною.
Я понял, что он не шутит. И кнут, и пряник капитану предлагались серьезные.
На губах Анисимова появилась усмешка.
— Будет сделано, господин подполковник.
Густав Бирон договорился, чтобы капитана до осени прикомандировали в Измайловский полк, и Анисимов мог полностью посвятить себя разработке новой пули. В помощь ему придали полковых артиллеристов. Не знаю, что они творили, но как-то раз чуть не раскатали специально выделенное подворье по бревнам. Сначала что-то громыхнуло, потом дом окутался дымом, из дверей выскочили чихая и кашляя похожие на трубочистов солдаты. Анисимов вышел последним. На чумазом лице расплылась загадочная улыбка. Возможно, такая была у Ньютона, когда тому на голову упало яблоко или у Менделеева, после знаменитого сна.
— Пороху перебрал, — сказал он и скрылся внутри.
Сдается мне, что капитан оказался натурой увлекающейся, и смело ставил рискованные эксперименты, не заботясь о последствиях.
— Надо построить для его экзерциссов другой дом и как можно дальше от цейхгауза, — подумав, произнес Бирон.
«Презентация» у государыни состоялась в положенный срок. Анна Иоанновна пожелала видеть нас в Зимнем доме. Я думал, что кроме нее будет кто-то из генералов или из Кабинета министров, но императрица была в обществе только обер-камергера и Ушакова. Опять расхождение с исторически сложившимся образом недалекой особы, не вмешивавшейся в государственное управление и перепоручившей это неблагодарное занятие группе близких сановников. Анна Иоанновна предпочитала держать руку на пульсе, ее волновало многое. Будучи полковником всех гвардейских полков, она порой лично являлась в полковые дворы с инспекцией. Кроме того, императрица умела слушать советы, не случайно при ней было начато столько полезных для государства дел. Жаль, что свыше Анне Иоанновне отпустили столь короткий срок жизни и царства.
Нас доставили во дворец скрытно, чему немало способствовало то, что в тот день на страже стояли измайловцы. Иностранные послы и прочие любители вынюхивать, что новенького творится в Московии, остались в полном неведении. Мы прошли сквозь галерею запутанных ходов и оказались в Тронной зале. Как часто я стоял там на карауле, будучи рядовым гренадером, и как необычно находиться в центре событий, сжимая вспотевшей рукой эфес шпаги.
В качестве «моделей» подполковник по моему совету использовал гренадер из третьей роты. Карл, Чижиков, Михайлов… знакомые все лица, те, кому я бы рискнул довериться. Статные молодцы ели императрицу глазами, пока та прохаживалась вдоль строя, с интересом разглядывая новую форму. Особенно ее впечатляли кивера, нечто похожее носили сербские гусары, но портные Бирона подошли к делу творчески, и я сам с трудом узнавал первоначальный облик задумки.
— Андрей Иванович, голубчик, скажи мне дремучей, что ты думаешь по сему? — спросила она у Ушакова.
— Недурно, — заметил он. — Господин Бирон постарался. Я бы кое-что добавил. Неплохо бы часовым, что при вашем величестве будут, кирасы определить.
— А не тяжело им будет? — спросила Анна Иоанновна.
— Аккурат в самый раз. Мы ж брать в роту не первого встречного будем. Я тебе, матушка, таких молодцов подберу — кровь с молоком. Не то, что кирасу носить, пахать на них станешь — не устанут.
— Ишь ты, Андрей Иванович, к чему гвардейцев моих приставить хочешь, — засмеялась довольная императрица.
— А что, матушка, и им польза — дух в теле поддержат, и лошадям роздых, — улыбнулся Ушаков.
— Пущай кроме фузей еще и по паре пистолетов заряженных носят, — подал голос обер-камергер.
Густав Бирон вопросительно посмотрел на брата.
— Пригодится. Всякое ведь бывает, а солдатикам твоим больше оружия не повредит, — пояснил фаворит.
— И в какую же это копеечку мне выльется? — спросила Анна. — Мой дядюшка Петр Алексеевич на семьдесят душ кавалергардских одиннадцать тыщ тратил. На такие деньжищи можно полк армейский содержать.
— Эта рота обойдется в скромную сумму. Мы подсчитали, что издержки немногим больше, чем на обычную гвардейскую роту выйдут, — пустился в объяснения Густав. — А безопасность государыни русской для нас важнее любых расходов. Так что не гневайся, матушка, о тебе, да о России печемся.
— Апробацию свою дам, — решила императрица. — Токмо, как генерал Ушаков и обер-камергер говорят, добавьте кирасы с пистолетами. Люблю, когда вокруг оружием громыхают, сладко мне, — мечтательно закатила глаза Анна Иоанновна, действительно знавшая толк в этом деле и оставившая после себя приличную коллекцию огнестрельного оружия. — Где подписаться?
— Тут, Анхен, — подался вперед фаворит.
Императрица вчиталась и задумчиво спросила:
— Кого вы, господин подполковник, в командиры роты баллотируете?
— Капитана гренадер Муханова, — отрапортовал Густав.
— Знаю такого, хороший офицер. Авантажный[17]. И фон Гофена, вижу, пристроить намерены.
— Точно так, матушка. В гренадерские капитан-поручики прочу.
Так, решается моя судьба. Я замер, превратившись в сплошное ухо.
— Спелись вы с ним, однако. Узнают газеты заграничные, что особу мою иноземцы охраняют, скажут что… Что, скажут, Андрей Иванович? — Анна Иоанновна обернулась к Ушакову.
— А, — махнул рукой тот, — нам-то что? Не все ль тебе равно, матушка, что трепачи заморские наговорят. Какой с них спрос!
— Точно, нечего к мнению ихнему прислушиваться, — поддакнул фаворит. — Своим умом жить надо.
— Это все верно, но негоже, чтобы императрицу иностранцы охраняли. И так говорят — кругом-де Анны, императрицы российской, немцы толпятся, продыху не дают. Не обижайтесь, токмо, — она внимательно посмотрела на нас, иностранных «прихлебателей». — Знаю я, что иные из вас голову заради России положат, и на поле бранном проявят себя так, будто тута родина ваша. Но не хочется мне наветов, дабы потомки говорили, что затирала Анна, императрица русская, своих и чужаков лишь привечала. А ведь наговорят такого, чует мое сердце, — с улыбкой Кассандры произнесла она, и у меня невольно сжалось сердце: как точно предсказала эта мудрая женщина будущее.
— Скажи, фон Гофен, давно ль я тебе чин сержантский выписала?
— На днях, ваше величество, — гаркнул я.
— То-то! Иные у меня годами следующего производства дожидаются, а ты как заяц с чина на чин прыгаешь. Через неделю, глядишь, жезл фельдмаршалский в руки примешь. Непорядок это, — погрозила она пальцем. — Вот как мы с тобой, фон Гофен, поступим. Служака ты честный, я об этом и от Андрея Ивановича часто слушала, он мне уши все прожжужал.
Ушаков подмигнул. Что ж, спасибо господин генерал.
— В роту дворцовую, я тебя не возьму, пущай, подполковник русака какого-нибудь подыщет, исполнительного и не спесивого. Есть у тебя такие, Густав?
— Найдутся, ваше величество.
— Вот и прекрасно. А ты, фон Гофен, послужи Андрею Ивановичу. Имеется у него для тебя поручение. Если справишься — я тебя в поручики произведу. Твой ведь командир роты давно по кабакам исшатался весь, пропил мундир гвардейский, честь и совесть. Ну, так мы его в армейскую часть нижним чином сосватаем, поручика вашего… Как фамилия его?
— Дерюгин, — подсказал Густав Бирон.
— Вот-во, Дерюгина в капитан-поручики определим, а тебя, фон Гофен на его место поставим. Не обиделся?
— Никак нет, — отчеканил я.
— Обиделся, по глазам вижу. И правильно делаешь. Мне обидчивые и злые во как нужны, — она сделала резкий знак. — Ну, чай, не в последний раз видимся. Андрей Иванович в обиду не даст. Быть тебе, фон Гофен, с таким покровителем генералом. А пока, прощай. Я вас оставлю, — сказала императрица и ушла.
Глава 26
Э… а как же альбом с новой армейской униформой, изменения в конструкции штыка и прочее. Я остолбенело посмотрел на подполковника. Тот правильно расценил мой взгляд, подошел поближе и тихо произнес:
— Не волнуйтесь, фон Гофен. Дойдет и до ваших придумок. Не хочет матушка такое дело без фельдмаршала Миниха начинать, знает, что обидит старого служаку. А без его одобрения ничего хорошего не получится.
— Понимаю, господин подполковник. Действительно, не стоит через голову начальства прыгать, — согласился я, помня, что генерал-фельдмаршал Миних отличался и обидчивостью, и злопамятностью, что не мешало ему оставаться талантливым полководцем и инженером. — Жаль только время потеряем.
— Наверстаем, барон, — немного легкомысленно сказал Густав. — Русские долго раскачиваются, но потом несутся так, что за ушами свистит. Если Миних не усмотрит ничего для себя опасного, он всенепременно поддержит реформы.
Похоже, прогрессорство мое умерло, не успев начаться. С самого начала ведь было смутное чувство, что пшиком окончится. Не один я тут такой умный. Бироны больше увлечены упрочнением положения возле трона. Мои инновации у них на втором плане. Это я говорю при всей симпатии к подполковнику. Густав Бирон, разумеется, отличный мужик, но организация дворцовой роты нужна ему для другого — отнюдь не для того, чтобы провести полноценную реформу армии.
Что взбредет в голову Миниху, когда тот узнает, какие вещи творятся в его отсутствие, можно только гадать.
Да, сегодня определенно день обломов: местечко в дворцовой роте, казавшееся таким теплым, уплыло прямо из-под носа, еще и непонятная служба у Ушакова, от которой зависит дальнейшая карьера. Смутные вырисовываются перспективы. И пенять в том некого — императрица права полностью. Лишний раз убедился, насколько она умна и проницательна. Будем считать, что России повезло с правительницей. Собственно, так оно и есть на самом деле. После слишком увлеченного коренными перестройками Петра Первого, довольно апатичной во всем, что касалось государственных вопросов Екатерины Алексеевны, и не успевшего опериться юнца Петра Второго, воцарение Анны Иоанновны было благом. Иногда стране нужен как раз такой правитель, вернее правительница — жесткая, справедливая и умная. Понятно, что на такую удобно глядя из будущего всех собак навешивать, но если Россия во время ее царствия сумела перевести дух, накопить жирку, продолжить прежний курс и укрепиться, пошли все эти борзописаки одним хорошо известным туристическим маршрутом.
— Господин подполковник, с вашего позволения, возьму сержанта фон Гофена к себе. Обещаю, что он вернется в полк, как только выполнит поручение государственной важности, — отрывисто проговорил Ушаков.
— Да, я слышал волю императрицы, — спокойно произнес Густав Бирон. — Фон Гофен, с этого момента вы переходите в распоряжение генерала Ушакова. Проявите себя, как подобает солдату-измайловцу.
Он отсалютовал шпагой, давая понять, что разговор окончен.
Мы вышли из дворца. Ушаков усадил меня в свою карету, экипаж покатился, сопровождаемый отрядом вооруженных до зубов гайдуков.
— Полноте вам расстраиваться, барон. Вы молоды, полны сил. Не падайте духом! — ободряюще заговорил генерал.
— Я в порядке, Андрей Иванович. Что было, то было. Какой смысл горевать? Я с самого начала чувствовал, что собираюсь откусить больше, чем влезет в рот.
— Похвально соизмерять свои силы. Те, кто зарывается, рано или поздно осознают, что падение с небес на землю может статься весьма болезненным, — довольным тоном произнес Ушаков. — Есть у меня на тебя виды, барон. Удачно твои солдаты на дом Сердецких наскочили. Столько нового и интересного приоткрылось, — генерал зажмурился как кот, при виде сметаны. — Жаль, не весь клубочек размотать удалось. Главные злоумышленники все еще скрываются.
— Хотите сказать, что Сердецкие и Потоцкий до сих пор не пойманы? — удивился я.
— Пока нет, но всенепременно споймаем, и ты в том поможешь.
— Простите, Андрей Иванович, но я вас не до конца понял: чего именно вы от меня хотите?
— Экий ты непонятливый, фон Гофен, — досадливо покрутил головой генерал. — Иль притворяешься?
— Зачем мне притворяться? Я все больше по воинской части в последнее время занимался, с господином Бироном планы строил. В дела Тайной канцелярии не вмешивался.
— Попробовал бы вмешаться! Я б тебе быстро голову от тела отделил.
— Ну, так я и говорю, что ведать не ведаю, каким образом могу вам помочь.
— Очень даже можешь, — снисходительно объявил генерал. — И наверняка догадываешься как. Уж больно ловко твои гренадеры людей Сердецкого скрутили. Раз-два и готово! А ведь обычно без пальбы или драки хорошей не обходится. Знают воры, на что идут и живыми даваться не любят. Столько голов иной раз класть приходится, чтобы злочинца за шкварник изловить. Вот бы при мне команду такую заиметь, чтобы без лишнего шуму и крика за жабры брать тех, кто ворогом России приходится.
Врагом России или вашим личным врагом, Андрей Иванович. Как разобраться и отделить одно от другого? А желание окружить себя верными людьми — понятно. Ничего в нем противоестественного не наблюдаю. Вон, Густав Бирон того же желает, не случайно меня двигать начал, да только императрица по-другому мою карту разыгрывать начала, Ушакову на кон сдавать доверила.
А мне как быть? И хочется, и колется! Понятно, что благодаря могущественному владыке Тайной канцелярии можно лишний шаг вперед сделать, раз уж с дворцовой ротой не сложилось, но жаль, не ведомо мне, как он себя во время переворота вел: честно сдал заговорщиков с потрохами, или не стал сигнализировать, а просто сменил хозяев? Как-то на школьных уроках истории на этом моменте внимание не акцентировалось, а спросить не у кого: разве, что у Кирилла Романовича, а тот, как оставил меня в камере, так с тех пор не появляется. А ведь обещал, другое дело, что точных сроков не указывал.
Если пораскинуть мозгами — интересный вариант вырисовывается: я теперь не учу историю, я ее по капельке, но делаю. Напыщенно звучит, конечно, но ведь правда от первого до последнего слова.
Что это я все о себе любимом. Вернусь к Ушакову, пока тот в окно задумчиво смотрит на распускающуюся почками деревьев весну-красну. Отвернулся из чувства деликатности, подумать дает. Хорошо, буду мыслить логически. Пожалуй, что второй вариант самым верным кажется. Такие кадры, как Ушаков, ценятся при любой власти, при Елизавет Петровне тем паче. При ней Тайная канцелярия куда бодрей заработала, соответственно и влияние главы этого достойного учреждения выросло. Нос Андрей Иванович по ветру держит. Как только поймет, чья сила берет, враз перекрасится.
Может, согласиться: рискнуть втереться в доверие, в нужный момент подпихнуть и занять табуретку. Нет, Ушаков не настолько наивен, иначе б его давно с потрохами съели. Быстро сообразит, что под него копают и примет меры такие, что и в страшном сне не приснится.
Выходит, что если держаться его линии, то лишь до того момента, как он начнет другой стороне подыгрывать. Я решил идти ва-банк:
— Смею спросить, Андрей Иванович, уж не обо мне и моих ребятах речь идет?
— А о ком же еще! — усмехнулся Ушаков. — Вы себя проявили, как надо показали. Зачем мне неподготовленные конфиденты? Золотом обсыпать не обещаю, но жалованье больше чем в гвардии положу. И до чинов помогу дослужиться.
Опять расставляются сети. И ведь чую, что, согласившись, только запутаюсь. Нет, не лежит у меня душа к ремеслу фискально-пыточному. А если Ушаков действительно переметнется к Елизавете, причем задолго до того, как она о перевороте подумает? Рыба ищет, где глубже, человек, где безопасней. Мне вас, Андрей Иванович, за три версты обходить надо. Вы человек умный, знаете, как не цепями — словами опутывать. Глазом моргнуть не успею — втянете в такие делишки, что волосы дыбом.
— Лестно мне это слышать, Андрей Иванович, но я человек военный. В баталиях для себя вижу пользу государству российскому. Зачем вам плохой сыщик?
Лицо Ушакова озадаченно вытянулось:
— Что-то ты, барон, опять резоны приводить начал странные. Я ведь разговор наш первый помню, ни словечка не забыл. Откуда у тебя, штафирка немецкая, такое высокомерие? Думаешь, подполковник горой за тебя встанет?
Сильно екнуло сердце. Ушаков прав, близость к Густаву Бирона сделала меня излишне безмятежным. Только расслабился, а тут…
— Андрей Иванович, никому я не нужен и не понадоблюсь. Исчезну, и на мое место тут же придут десятки других, ни в чем мне не уступающих. Только я ведь серьезно говорю, если и есть от меня какая польза, так она в другом.
— Ой, гордец! — хлопнул себя по тощим ляжкам Ушаков. — Я тебе, шельмецу, першпективы выдвигаю, а ты мне резонами бросаешься. Ладно, других найду, но от службы моей ты не отвертишься. Хлебай полной ложкой, фон Гофен.
Я облегченно вздохнул. Пронесло.
Карета подъехала к зданию Тайной канцелярии, где нас встречал чиновник с встревоженным лицом. Он мял шляпу в руках и скорбно закатывал глаза. По всему было видно, что мужчина пребывает в расстроенном состоянии духа.
Гайдуки, спрыгнув с коней, опустили подножку кареты, и Ушаков вальяжно ступил на землю.
— Привет, Кононов. Вид у тебя, Михайла Кузьмич, странный. Стряслось чего?
— Андрей Иванович, прости Христа ради! Беда у нас приключилась, — по-бабьи запричитал чиновник.
— Докладывай, — велел Ушаков.
— Не уберегли мы управляющего Сердецкого, дернули на дыбе, а он возьми да помри. Лекарь говорит, что со страху не выдержал.
— Тааак, — со злостью протянул генерал. — Кто допрос вел?
— Я, — обреченно сказал Кононов.
— Как же так, Михайла Кузьмич? Не впервой же колодника расспрашиваешь! — укорил генерал.
— Виноват, Андрей Иванович. Я ж не знал, что он такой пугливый окажется. И сделать-то ничего не сделали, — стал оправдываться чиновник.
— По совести плетей бы тебе надо всыпать, Михайла Кузьмич, да жалованья на треть лишить. Ступай, скажу опосля, как с тобой быть.
Чиновник перекрестился на Андрея Ивановича как на икону и убежал.
Ушаков привел меня в знакомый кабинет, поежился.
— Холодно что-то тут, — пробурчал он и вызвал кого-то из караульных солдат, велев затопить печь.
— Не судьба нам видать, фон Гофен, всю правду узнать. Я на управляющего надеялся, что он больше всех ведает, да вот незадача: умер, окаянный, ничего путного не сказав.
— А лакеи Потоцкого?
— Что лакеи, — махнул рукой Ушаков. — Людишки темные, никчемные. Уж мы их и так и эдак, все перепробовали, а толку никакого. Куда барин уехал не знают, откуда пятаки везли, через какие таможни сказать не могут, они обоз здесь, в России, встречали. Морока одна с ними.
— А пятаки эти фальшивые еще, где всплывали? — спросил я.
— Нет вроде. Все, что Потоцкий привез, мы перехватили, на пути фальшивками он не расплачивался, чтоб не проследили, наверное. Вовремя ты приступ свой затеял, фон Гофен. Протяни немного, по всей России денежки б разбрелись. А так все до монетки в одно место под замком собраны. У меня канцеляристы употели их пересчитывая. А чтобы к пальцам ничего не прилипло, солдаты потом каждого обыскивали.
— Получается, что шляхтичи беглые залегли на дно и прячутся от лишних глаз.
— Выходит что так. Может, в Москве время выжидают, может, под Петербургом где. Не нашли мы их, хоть и старались, — вздохнул Ушаков.
— А за границу не могли удрать?
— Паспорта у них не выправлены, так что далеко им не убечь. Споймаем рано или поздно, — уверенно произнес генерал. — Я, грешным делом, думал, мои до нашего приезда управятся. А оно вон как обернулось с управляющим. Ну да все что ни делается, к лучшему, — философски заключил Ушаков. — Езжай к себе, фон Гофен. Сегодня ты мне без надобности.
Я распростился с генералом и весьма довольный тем, что вторая половина дня оказалась совершенно свободной, отправился домой, но по пути остановился, вспомнив об одном важном деле. Моя старая шпага до сих пор оставалась невыкупленной у Пандульфи. И хоть по большому счету она была мне без надобности, частица души, принадлежавшая истинному хозяину тела, настоятельно требовала сходить к ростовщику и забрать родовое оружие фон Гофенов.
Пандульфи обрадовался моему визиту, угостил крепким кофе и велел слуге принести шпагу.
— Вижу, вы делаете успехи, молодой человек, — сказал итальянец, рассматривая меня большими, как лупа глазами. — Мундир сержанта лейб-гвардии весьма вам к лицу. И деньги видать завелись?
— За комплимент насчет мундира спасибо, что касается денег — да, покуда карман не дырявый, имеются.
— С вами приятно иметь дело, — будто кошка замурлыкал Пандульфи. — Но ежели окажетесь вновь в неприятном положении, приходите смело сюда. Мои двери будут открыты для вас в любое время суток. Впрочем, зачем достойным людям встречаться во время нужды и стеснения. У меня по вечерам собирается достойная компания, играем понемногу, ведем умные беседы для духовного и умственного развития. Как раз сегодня я жду весьма интересных гостей. Думаю, полезные знакомства в Петербурге не будут вам лишними. Присоединяйтесь к нашему обществу.
Меня насторожили его льстивые интонации и густая патока, щедро разлитая в словах. То ли он действительно придерживается нестандартной ориентации и пытается заманить в кружок «по интересам», то ли начинается незатейливая вербовка в шпионы или какие-нибудь франкмасоны. Знаю, что последние в изрядном количестве расплодились среди русской знати, но на меня еще никто не выходил и в масоны не рекрутировал.
— Всенепременно приду, — солгал я. — Но сегодня, увы, нет никакой возможности.
— Как жаль, — всплеснул руками Пандульфи.
Тем временем в комнате появился слуга с моей шпагой, я отсчитал ростовщику деньги, честно заплатил проценты, и, получив на сдачу горсть мелких монет, вышел на улицу.
Навстречу шли солдаты, ведя под ружье просящего милости колодника. Я вспомнил наше с Карлом сидение в казематах Петропавловской крепости, тот голод и холод, что мы тогда испытали. Рука сама по себе развязала шнурок кошелька, я вытащил первую попавшуюся монету из тех денег, что дал мне Пандульфи (это оказался медный пятак), и было собрался протянуть ее арестанту. Но тут взгляд мой упал на дату чеканки.
«1728-й!» — прочитал я и ахнул.
Ростовщик-итальянец всучил мне фальшивую монету, которая, по словам Ушакова, не получила хождения, благодаря вылазке моих гренадеров.
Вспомнилась карета перед его домом, таинственный вельможа, не желавший открывать инкогнито, подозрительные взгляды кучера и лакеев… Стойте, стойте, а ведь рожа одного из них показалась мне смутно знакомой, когда дом Сердецкого штурмом брали.
А это значит…
Крикнуть «Слово и дело» сейчас, когда поблизости караульные солдаты, с помощью которых можно скрутить Пандульфи, доставить его в Тайную канцелярию, учинить допрос… Или поступить умнее и тоньше: доложить Ушакову, установить за ростовщиком наблюдение. В конце концом итальянец может оказаться не виноват.
— Держи, — я сунул опешившему колоднику целый рубль
Арестант сначала ничего не понял, но потом бухнулся на колени и что-то забормотал.
— Удачи тебе!
Я поспешил в сторону Петропавловской крепости, надеясь, что генерал по обыкновению, засиделся у себя в кабинете до вечера.
Глава 27
Андрей Иванович оказался верен своим привычкам. За окнами было темно, зажглись немногочисленные фонари, а он все еще сидел в кабинете и работал. Возле него, почтительно склонившись, стоял секретарь, время от времени, подсовывая очередную бумагу.
— Андрей Иванович, разрешите войти?
— В чем дело, фон Гофен? Я отпустил тебя до утра, — удивленно произнес генерал, бросая в корзину для бумаг смятое письмо.
— Такие дела, Андрей Иванович, — сказал я и положил на столешницу горстку пятаков. — Уж извините за беспокойство.
— Зачем ты мне их принес? Что я медяков не видел? — рассердился генерал.
— Видели, как не видеть, причем буквально на днях. Поэтому и принес к вам лично, других в известность не ставил. Вы рассмотрите монеты получше, особенно дату чеканки. Все сразу станет ясно.
Ушаков придвинул стопку к себе, вперил в нее взгляд. Лицо его постепенно наливалось кровью, дыхание участилось, ноздри раздувались, словно у ищейки, почуявшей след. Он спровадил секретаря и уставился на меня как чекист на врага народа.
— Откуда они у тебя? — хмуро спросил Ушаков. — Неужели присвоил в доме Сердецких? Я был о тебе лучшего мнения, барон.
— Никак нет, — с обидой произнес я. — Я ни копейки не вынес из дома Сердецких. Зря вы обо мне, так говорите, Андрей Иванович.
— Тогда где ты раздобыл эту дрянь? — рявкнул побагровевший Ушаков.
— Ростовщик Пандульфи вместо сдачи выдал.
— Пандульфи… Не знаю такого. Рассказывай все от начала до конца.
Я, пока добирался, успел составить в голове примерный план доклада, поэтому бегло изложил события, начиная с заложенной шпаги, и, заканчивая недавними событиями.
— … и только на улице понял, что в руках у меня фальшивые монеты.
— И ты никому об этом не стал говорить?
— Признаюсь, были мысли арестовать Пандульфи, но потом я решил, что вернее будет рассказать вам, что и как.
Ушаков задумался.
Я стоял напротив, стараясь не мешать ему. Наконец, генерал очнулся:
— Молодец, что ушел тихо, — одобрительно произнес он. — Рыбку не спугнул. Говоришь, Пандульфи звал тебя, обещал познакомить с полезными людьми.
— Так точно.
— И приглашение это ты пока не принял.
— Не понравилось мне оно, Андрей Иванович. Фальшивое, как эти пятаки, — я кивнул в сторону медяков, разложенных на столе.
— И я чую, что неспроста тебя ростовщик заманивает. Чего-то он от тебя хочет, и мне, грешному, любопытно узнать чего именно.
— Может, я к нему снова приду за деньгами. Мало ли какая нужда у меня образоваться могла, — предложил я.
Ушаков покачал головой.
— Нет, на тебя у меня другие виды. Ты все же ступай к себе, отоспись и приходи завтра прямо сюда. Утра вечера мудренее. Я тут покумекаю малость и определю, как мы поступим.
Я давно заметил, что Ушаков любит принимать решения после долгого и тщательного обдумывания. Наверное, эта привычка позволила ему так долго сохранять за собой кресло.
Дома меня ждал встревоженный Карл. Ему рассказали, что Ушаков забрал меня с собой, и кузен изнемогал от дурных предчувствий. Слишком памятным оказалось пребывание в казематах. Слишком…
— Все в порядке, Карл. Не стоит волноваться: Андрей Иванович не собирается отправлять меня в колодничью палату, — бравурным тоном произнес я на пороге.
— Ушаков очень хитрый и опасный человек. У него глаза как у лисы, никогда не знаешь, что прячется за их выражением. Зачем ты связался с ним, Дитрих?
— Можно подумать меня кто-то спрашивал, — усмехнулся я. — Давай лучше на стол мечи, что у нас в печи.
Карл, хоть и сносно овладевший русским языком, до сих пор не понимал многих идиом и потому застыл с растерянным удивлением.
— На стол накрывай, — хмыкнул я. — В смысле жрать хочу, больше чем… Э… не буду смущать твой юный возраст.
Карл все сильнее и сильнее проявлявший задатки Казановы лукаво подмигнул и, вооружившись ухватом, извлек из печи горшок, приподнял крышку. Пахло изумительно. Что может быть лучше каши с мясом, приготовленной в печке!
— Дарья сегодня превзошла саму себя, — одобрительно произнес я, доставая ложку.
— Это не Дарья готовила, — скромно потупил глазки Карл.
— Да? — изумленно протянул я. — И кто же новая Марья-кудесница?
— Как ты догадался? — округлил глаза Карл. — Ее действительно зовут Маша. Она прислуга из соседнего дома. Служит у медика из Англии, если не ошибаюсь, его зовут Джоном Куком[18].
— Что это за птица?
— Птица? О, майн гот, ты опять пользуешься непонятными русскими словечками! Неужели нельзя хотя бы в разговоре между нами пользоваться языком наших отцов?
— Если хочешь в совершенстве изучить русский, привыкай, что мы даже наедине будем общаться только на этом языке. Так что это за доктор?
Спрашивал я отнюдь не из праздного любопытства. Как и у любого нормального человека у меня имелся и собственный шкурный интерес. Кирилл Романович предупреждал, что здесь я подвержен тем же болезням, что и любой житель этих мест. Прививки, сделанные в детстве, остались там… в будущем, в другом теле. Чума, оспа, любой бич восемнадцатого века несет мне смерть. И хотя ничего серьезного я после выхода из Петропавловской крепости не подхватил, о здоровье стоит позаботиться.
Здешняя медицина больших высот пока не достигла, люди предпочитали обращаться к приезжим светилам из-за рубежа или к знахарям, хотя последнее не поощрялось. Оставалось надеяться, что новоприбывший Джон Кук является специалистом своего дела. Мне стоило показаться ему, ибо виска на дыбе давала о себе знать.
Карл начал рассказывать о соседе:
— Он очень хороший доктор, хирург.
— А к нам его, каким ветром занесло?
— Попутным, кузен. Маша рассказала, что господин сей в прошлом году заболел сильной лихорадкой, и хотя, английские доктора справились с болезнью, но последствия остались. Порой у него бывают приступы. Ему посоветовали сменить климат, и вот он совсем недавно прибыл в Петербург, где, прожив в британской таверне Фрейзера, понял, что лучше снять на свои деньги дом. Теперь он наш сосед, временно служит при Медицинской канцелярии, посещает госпитали и там много оперирует.
— А на дому пациентов принимает?
— Ты вроде не производишь впечатления больного. Зачем он тебе, Дитрих?
— Да так… неприятные мелочи. Узнай у своей Маши, пожалуйста. Я б к нему на прием записался.
— Как скажешь, кузен. Тогда, — он почесал голову, — я сбегаю прямо сейчас. С Машей… поговорю.
— Сбегай, сбегай, — с ухмылкой закивал я. — Что, даже ужинать не станешь?
Куда там! Карл схватил гренадерку и умчался с такой скоростью, будто за ним гнались.
— Если ночью не приду, за меня не волнуйся, — на ходу прокричал он.
«Вот она молодость», — вздохнул я, запуская ложку в горшок с кашей.
Ладно, мне больше достанется. С утра голодный хожу.
Ночь прошла тихо и спокойно. Мне снился родной город, улицы, запруженные машинами, толпы пешеходов, замерших на светофоре, витрины супермаркетов, эскалатор в самом крупном из них. Кажется, я соскучился по этому урбанистическому пейзажу.
— Вставай, Дитрих. Все на свете проспишь! — голос Карла вырвал меня из забытья.
— Встаю, — поспешно произнес я. — Я так понимаю, ты только сейчас заявился. Как Маша?
— О, Маша! — с благоговением произнес кузен. — Она прекрасна! Амур сразил меня наповал. Я готов быть ее рабом до конца моих дней.
— Значит, недели на две тебя хватит, — резюмировал я, поскольку знал привычки и манеры кузена. — Что насчет доктора?
— Он примет тебя сегодня, прямо с утра. Я договорился, — гордо сказал Карл. — Так что пошевеливайся, братец.
Ушаков время прихода не оговорил, значит, могу явиться к нему в любой момент с разумным плюс-минус лаптем.
Я поспешно собрался, тщательно побрился и, почистив мундир, пошагал к соседскому дому. Раньше он пустовал, но теперь в нем теплилась жизнь, это чувствовалось еще на подходе. За воротами залаяла собака, показался невыспавшийся сторож с колотушкой. Я назвался, сообщил, что иду к доктору.
Откуда-то прибежала миловидная женщина в строгом платье.
— Вы фон Гофен?
— Да, красавица, — на меня напала небольшая фривольность, очевидно, заразился от Карла.
Женщина с изяществом поклонилась и предложила следовать за ней.
— Доктор ждет вас, господин сержант.
Я оказался в покоях, которые были буквально залиты светом. Негромко тикали часы на камине. На большом ковре развалился рыжий кот. Он грелся в потоке солнечных лучей, проникавших сквозь раззанавешенное окно. Никаких неприятных запахов вроде хлорки или дезинфицирующих растворов. Как это не похоже на медицинские кабинеты из моего прошлого.
Возле массивного шкафа стоял высокий и прямой как истинный английский денди мужчина в очках с золотой оправой. В руках он держал массивный фолиант.
Я поздоровался с ним на английском. Доктор (а это был Кук собственной персоной) заметно оживился:
— О, вижу, вы неплохо владеете моим родным языком? Это облегчает нашу беседу, ибо мой немецкий весьма неуклюж, а русский оставляет желать лучшего. На что жалуетесь, молодой человек?
Я рассказал ему о последствиях визита в Тайную канцелярию, о том, как мне вправляли плечевые суставы.
— Раздевайтесь до пояса, — попросил англичанин.
Он выслушал меня, приставив трубку сначала к груди, потом к спине, заставил проделать несколько упражнений, тщательно прощупал позвоночник.
— Выпрямите руку до упора.
— Ой, больно, доктор.
— Ничего страшного, вы взрослый и сильный мужчина. Согните и разогните пальцы в кулак… Ага… пошевелите пальчиками…
Закончив осмотр, он заявил:
— Не нахожу ничего, что могло бы стать опасным. Конечно, пытка и местный сырой климат не прошли без следа. Знаете, я порой чувствую себя будто в Лондоне — дожди через день, туман… — Кук засмеялся. — Кажется, я отвлекся. Ваш лекарь действовал по всем правилам медицинской науки. Считайте, что вы обязаны ему нынешним удовлетворительным состоянием. Вы ведь пришли ко мне больше из мнимости, да?
— Пожалуй, да, — согласился я. — Разве что иногда бывают неприятные ощущения. Особенно утром, после долгих занятий. Не каждый день, конечно, но все равно…
— А чего вы хотели? Палач над вами хорошо потрудился. Кости и суставы порой будут побаливать, но если вы постараетесь держать их в тепле, то вероятность осложнений в будущем будет ничтожно мала. Организм молодой, сильный — справится. Я пропишу вам кое-какие из своих мазей. Это семейный рецепт, моя матушка научила меня изготовлять их. Боли как рукой снимет. О, она знала в мазях толк, лечила моего батюшку и всю округу. Я ведь в эскулапы пошел, чтобы, как и она помогать людям. Правда, все больше по хирургической части. Крови, помню, боялся — ужас. Когда впервые привели в покойницкую — стало дурно до тошноты. Оставил на полу весь завтрак.
Он снова засмеялся:
— Простите мою многословность. Приятно общаться на языке родины. Вы кстати знакомы с творчеством Шекспира? Если нет, у меня с собой несколько его пьес. Поверьте, они стоят того, чтобы усладить наш мозг дивными картинами. Я в Лондоне любил бывать в театре. Здесь тоже, говорят, при дворе дают представления.
— Конечно, — подтвердил я. — Императрица любит всяческие развлечения и поощряет их.
— Замечательно. Я бы с удовольствием посмотрел какую-нибудь занимательную вещицу. Ах да! Я приготовлю мази сегодня, как только вернусь со службы. Пришлите за ними завтра вашего родственника, того, что вводит в смущение мою…э… горничную Мэри.
— Благодарю вас, доктор, — сказал я одеваясь. — Сколько с меня?
— О, абсолютно ничего. Мы ведь соседи, — лукаво улыбнулся англичанин. — Джентльмен оказал услугу другому джентльмену, только и всего. Впрочем, я наслышан, что вы знаетесь с весьма уважаемым господином Бироном.
— Имею честь знать, — кивнул я.
Это имя у меня больше ассоциировалось с моим полковым командиром — Густавом Бироном. Так что я кивал машинально.
— О, как мне повезло! — захлопал в ладоши англичанин. — Я был бы вам весьма признателен, если бы вы замолвили за меня словечко перед господином Бироном. Речь идет о сущем пустяке. Дело в том, что я поссорился с главным хирургом госпиталя, он оказался человеком завистливым и недалеким, более того — надменным и мало знающим. Я осмелился возразить его способу лечения одного из пациентов, однако со мной не согласились. Не хочу утомлять вас медицинскими терминами, но из-за неправильного лечения тот пациент — несчастный моряк скончался. Я обнаружил его тело в анатомической палате и сообщил об этом в Медицинскую канцелярию. Это дело немало напугало главного хирурга, а он, будучи человеком с большими связями, приложил все усилия, чтобы отправить меня как можно дальше из Петербурга, во флот. Я не боюсь качающейся палубы под ногами, но право слово — мое предназначение в том, чтобы оперировать пациентов и передавать то, что умею другим врачам. А умею я, поверьте, немало. У меня полно рекомендаций от бывших пациентов. Если хотите — можете взять их с собой и показать господину Бирону.
Тут до меня дошло, что англичанин почему-то решил, будто я знаю Бирона-фаворита. И я понял, откуда растут ноги — кажется, кузен наплел с три короба своей пассии, а та не преминула поделиться сплетнями со своим нанимателем.
— Кажется, вышло маленькое недоразумение, — я с трудом остановил поток его красноречия. — Да, я действительно знаком с господином Бироном, но это не обер-камергер, а наш подполковник — Густав Бирон, весьма достойный и храбрый офицер. Но я постараюсь сообщить ему о вашей просьбе, возможно, он поговорит со своим братом, и дело ваше уладится.
— О, я буду весьма вам признательным, — приложил руки к сердцу англичанин. — Мой дом — ваш дом. Хотя ваш Карл считает, что у меня есть и то, что принадлежит ему. Мэри проводит вас, господин фон Гофен.
Он позвонил колокольчиком и вызвал подругу моего кузена. Ей оказалась та женщина, что встретила меня у входа.
— Вы оказались гораздо выше, чем я представляла, — произнесла горничная, когда мы шли по коридору. — Наверное, не знаете отбоя от дам. Они наперебой спешат назначить вам свидания.
— Вы первая, — усмехнулся я, — кто говорит мне о свиданиях. Поверьте, моя жизнь гораздо скучнее, чем кажется.
Угу, я старый солдат и не знаю слов любви. Еще не хватало отбить подругу у Карла, он мне этого до конца дней не простит.
Тоскливый взгляд Марии долго сверлил мне спину. Эх, за милых дам, за милых дам… Может, и впрямь обзавестись боевой подругой, организм-то молодой, своего требует. Хотя, много ль таких найдется, что мой характер сдюжат? Да и служба нынче непростая пошла: свободного времени с каждым днем все меньше и меньше становится. Женщина любит тепло и ласку, как автомат чистку и смазку. Такая вот армейская пословица наоборот.
Я отправился к зданию Тайной канцелярии с чувством неизгладимой симпатии к Джону Куку, говорливому, но обаятельному врачу. Если он действительно настоящий профессионал, нет никакого резона удалять его из Петербурга. Пожалуй, стоит на днях навестить подполковника и замолвить словечко.
Глава 28
— Долго ж тебя носило, — Ушаков не стал скрывать неудовольствия. — Другой с первыми петухами б ко мне прибежал, а ты никак в полдень пожаловал. Пушка только-только жахнула. Я уж солдат за тобой отправлять хотел.
— Простите за опоздание: к лекарю заходил, — сознался я. — После того, как с вашими катами вплотную наобщаешься, полжалованья на лекарства извести можно.
Генерал засмеялся.
— Хватит ужо жалиться, фон Гофен. Глянь на себя в зеркало — здоровый как буйвол, тебе не по дохтурам ходить надо, а девок окучивать. Иль ты и там тоже поспел?
— Полноте смущать меня, Андрей Иванович. Я в делах амурных секретность люблю.
— Надеюсь, не только в амурных. Задал ты мне вчера задачу с Пандульфи энтим. Долго голову ломал, полночи не спал, на кровати ворочался, а к утру смекнул, как мы с тобой все обстряпаем. Пока ты у лекаришки своего пропадал я уж и распоряжения отдать успел, и человека нужного нашел, а чтобы он, голубчик, к беседе долгой и серьезной подготовился, велел его, сокола, в холодной подержать. Догадываешься, о ком речь веду?
— Никак нет, Андрей Иванович. Ни на грош понятия не имею.
Ушаков расплылся в улыбке:
— И я тоже думаю, куда тебе догадаться. Хоть и умный немец ты, фон Гофен, но к полету мысли российской не привычен. Я такую персону для Пандульфи припас — уж он все пальчики как котяра сметану оближет. Знатная может авантюра выйти. Порадуешься за меня, старика, что в скудоумость не впал еще, несмотря на преклонность лет.
— Андрей Иванович, что вы право слово загадками со мной разговариваете! Да и вам грех на возраст жаловаться. Считайте, полжизни всего прожили, впереди еще столько же.
— Ох, и льстец ты, барон. Знаешь, как ключик к старости моей подобрать. Ну, так и я тебя уважу, потерпи токмо чуток. Сейчас приведут человечка, натешишь свое любопытство. Да и я весь в гаданьях — получится ль у меня, иль не получится. Хучь монетку кидай.
— Нельзя вам в трудах ваших методой сей пользоваться, ненадежная слишком, — усмехнулся я.
— И то правда.
Ушаков снял парик, помахал им будто веером:
— Жарко мне. Ну да пар костей не ломит. Любишь в баньке париться?
— Конечно.
— Вот и я сызмальства большой любитель. Раскалю камни докрасна, водичкой колодезной наподдам, хорошо… Душа в небеса улетает, музыку ангельскую слушать. Арфы там али скрипки какие. А потом в прорубь горячим нырнуть. Ух! — генерал задвигал сжатыми в локтях руками. — Ты на чины мои высокие сейчас не смотри, я ведь начинал когда-то с самой ни наесть сошки мелкой. Все прошел: и бедность, и скудость. И повоевать при Петре Ляксеиче довелось. С простого солдатика карьер свой зачинал. Теперь вишь, как возвысили меня. А я каким был, таким и остался. Простой как лыко. И ты гляди на меня и на ус мотай, покуда из ума я не выжил. Пригодится наука в будущем.
В дверь постучали.
— Заходите, — крикнул Ушаков.
В проем протиснулся капрал со смуглым обветренным лицом:
— Приказывали арестанта к сему часу доставить.
— Вот и славно, — заурчал великий инквизитор. — Заводите сюда, сокола ясного.
Караульные втолкнули связанного человека в офицерском мундире. Он поднял мутные глаза, и я с удивлением узнал своего ротного.
— Капитан-поручик Басмецов!
— Позор на мою голову это, а не капитан-поручик, — зло произнес Ушаков. — Я ведь с его батюшкой почитай не один пуд соли съел. Мы ж как побратимы были, а этот… — генерал произнес обидное слово, — крестником мне доводится. Андрюхой в мою честь назвали! Я ж его поганца на этих коленках держал, по грибы с ним ходил, на охоту ездил. Басмецов-покойник на сынишку нарадоваться не мог — умный, грил, растет, старательный, уважение и почет проявляет, к наукам тянется. Все просил пристроить сынка за ради дружбы нашей. Я, дуралей, слушал его, ухи как лопухи развесив. И что из того вышло? Из полка Семеновского в гвардию новую с повышением отправлял, думал, от сердца отрываю. А он как бурьян в огороде вырос, хоть с корнем дери. Все труды впустую пропали. Что делать-то мне с тобой, Андрей Пантелеевич?
— Делайте что хотите, — угрюмо произнес офицер. — В вашей я власти. Готов понести любое наказание.
— Вот ты как глаголешь! Верно, что хочу, то и ворочу. Долго шкуру твою да качан пустой спасал, перед матушкой-царицей покрывал, пятнами от стыда покрываясь как леопарда какая. Видел надысь эту животину при дворе императрицы, — Ушаков, не сдержав эмоций, сплюнул.
Басмецов еще ниже склонил голову.
— А почему стеной за тебя стоял? — спросил великий инквизитор и сам ответил:
— Все потому, что Пантелей Басмецов от пули швецкой меня заслонивший, в глазах до сих пор стоит. Я ему кажинную неделю за упокой свечи ставлю, да молебен делаю. Но не знал, не ведал я, что придется мне сына крестного в колодки заковывать. Знаешь, чего императрица наша, Анна свет-Иоанновна на днях мне сказала?
— Откуда знать мне, Андрей Иванович? — опустил глаза капитан-поручик. — Пьян я был как сапожник. Вроде как зачал намедни австерии одну за другой обходить, так и не мог остановиться. У вас, дядюшка, в гостях токмо и очухался, когда в холодную приволокли да на пол земляной бросили.
— Велела она тебя в солдаты разжаловать, да в армию, что на войне турецкой сражается, направить.
— Может это и к лучшему, — вздохнул Басмецов. — Что может быть сиятельней, чем сложить голову не во славу Бахуса, а отечества ради!
— Приятно слышать мне речи такие, — успокоено произнес Ушаков. — Вижу, не всю совесть ты, Андрюха, в кружке пивной оставил. Об отечестве вспомнил. И оно о тебе помнит, горе луковом. Хочешь, чтобы вместо абшида[19], карьер твой наладился, мундир офицера гвардейского остался?
— Вестимо хочу, Андрей Иванович, — с нескрываемой надеждой сказал Басмецов.
— Тогда слушай меня внимательно, капитан-поручик. Поговорил я с матушкой маненько, слово дал свое честное, умилостливил и отложил приказ ее гневный ненадолго. Но от тебя теперь все зависеть будет. Как поведешь себя, такой и прибыток получишь.
— Андрей Иванович, да я… — Басмецов не веря в собственное счастье, едва не заплакал, — землю из-под ног ваших горстями есть буду, ноги поцелуями покрою, на колени паду, и за вами ходить так буду. Что скажете, все сделаю. Хучь на плаху пойду.
— Кто ж знает, может и до плахи дойдет дело. Смотри, Андрюха, подведешь меня — лучше сам удавись!
— Вот те крест, Андрей Иванович, какую бы муку не принял, не подведу, — истово закрестился офицер.
— Даже пред искушением Бахусовым устоишь?
— В рот не возьму заразу огненную!
— Ладно, памяти светлой отца твоего, Пантелея, прощаю и всецело на тебя полагаюсь в деле важном и государственном. Сколько долгов накопил, крестничек?
— Много, Андрей Иванович, не одну тыщу рубликов. На распутство, девок гулящих, водку окаянную тратился, ничего не жалел. Деньгами швырялся направо и налево. Да и в карты везти перестало. В долгах как в шелках я.
— М-да, — почесал затылок Ушаков. — Хорошо погулял, крестничек, нечего сказать. Ладно, мы тебя из долговой ямы выручим. Не сразу, но выручим.
— Каким образом, Андрей Иванович?
— Да таким, — Ушаков откинулся на спинку кресла. — Пойдешь с подчиненным своим, сержантом фон Гофеном, сразу после обеда к ростовщику — итальянцу Пандульфи, вещицу ему вот эту заложишь, — великий инквизитор вытащил из стола ларец, украшенный драгоценными камнями, — о себе, ничего не таясь, кроме встречи нашей, расскажи, речи его послушай. Позовет тебя Пандульфи к себе на вечер званный, соглашайся, но не сразу, манер держи. Ужом проскользни, но войди к итальянцу в доверие. Это и будет для тебя задание, капитан-поручик. Что у Пандульфи узнаешь, мне пересказывай. Если зачнутся речи подозрительные, «слово и дело» кричать прилюдно не вздумай. Выслушал, запомнил, ко мне приходи. Я тебе раскумекаю, как дальше быть. А о мундире своем не беспокойся. И он, и чин пока при тебе будут. И для всех ты лейб-гвардии офицером останешься. Возникнет интерес, я тебя и выше чином двину. А сейчас иди, умойся, платье в порядок приведи. Я для тебя комнатку особливую приготовил.
Ушаков вызвал секретаря, и тот, отпустив караул, увел моего ротного куда-то вглубь секретарских конторок.
— Вы на самом деле верите в то, что он искренне хочет искупить вину? — спросил я.
— Я Андрюху хорошо знаю, из-за бабы своей сорвался он. Дура она оказалась, рога мужу наставила, с его лучшим другом махаться начала. Оттого и запил крестничек. Любовь и не такие кунштюки с человеком проделывает. Жаль, вовремя наставить не успел. Не кручинься, фон Гофен, выйдет из капитан-поручика толк. Я породу Басмецовскую знаю. Когда зарок дают — умрут, а на своем стоять будут.
— Но зачем все это? — удивился я.
— А затем, — спокойно заговорил Ушаков, — Пандульфи твой наверняка не только фальшивомонетчикам помогает, но еще и в шпионах чьих-то ходит. Очень полезно человека верного подле такого подлого типа держать, Андрюха мой сгодится. Слава худая о нем по всему Петербурге разнеслась. Итальянцу легче будет в оборот его взять. Долгами опутает, запугает. Кой в чем Басмецов ему и вспоможет. Глядишь, в доверие к итальянцу войдет. А там посмотрим — будет день, будет и пища.
— А мне что делать?
— Ты сведи ротного своего с итальянцем, увидишь, что Пандульфи перед ним стелиться начнет, придумай предлог какой и уходи. Не мешай, Андрюшке, — Ушаков погрозил пальцем. — Завтра чтобы как штык у меня к восьми утра тут был, есть у меня для тебя и другие порученьица.
Умытый, причесанный, с завитыми буклями, в наутюженном и почищенном кафтане, Басмецов производил другое впечатление. Сейчас это был настоящий гвардейский офицер — холеный и бесстрашный.
Пандульфи встретил нас с распростертыми объятиями, сам открыл двери, залопотал-залюбезничал:
— Господа гвардейцы! Как я рад видеть вас на пороге моей скромной обители! Прошу вас проходите, не стойте в дверях.
Басмецов оглядел обстановку, воровато оглянулся и, достав из-под мышки шкатулку Ушакова, показал итальянцу:
— Вот, бери в заклад, чума ростовщическая.
Пандульфи на оскорбление не обиделся, даже бровью не повел. Пригласил за стол, велел подавать кофе с угощениями.
Я же зная, что на том обязанность моя закончилась, от приглашения отказался и, простившись с итальянцем и Басмецовым, ушел восвояси. Дорога как-то сама собой привела меня на полковой двор. Давно хотел навестить капитана Анисимова, узнать, далеко ли он продвинулся в изысканиях.
Выстроенная для него за три дня деревянная избушка успела внутри закоптиться, хоть топилась она не по-черному. Как наш огненных дел мастер не спалил ее до головешек, осталось для меня загадкой.
Артиллерист в кожаном фартуке стоял возле верстака и с критическим видом рассматривал зажатую в маленьких тисках деталь.
— Как успехи, господин капитан? — спросил я, вместо приветствия.
— Вот, идейку одну хочу апробировать. Изготовил партию пробных пуль, сегодня счастья на поле попытаю. Составите кумпанию, господин сержант?
— С великим удовольствием. Позволите взглянуть?
— Отчего ж не позволить. Глядите, фон Гофен.
Пуля, придуманная капитаном, немного напоминала те, которыми я в детстве стрелял в тире из пневматической винтовки — с круглым отверстием у основания.
— Зачем оно? — удивленно спросил я.
— Долго рассказывать, — отмахнулся капитан. — Потом как нибудь объясню.
— Договорились, ловлю вас на слове, господин капитан.
Мы решили взять с собой двух мушкетеров, Анисимов лично отобрал несколько фузей, из которых собирался производить пробные выстрелы. Я сходил за ростовыми мишенями и с большим трудом приволок к избушке. Погрузили добро на две подводы и выехали за пределы города. До «кампанентов» полка было далеко добираться, поэтому решили направиться в другое место.
— Есть одно у меня на примете, — сказал Анисимов.
— Главное, чтобы зевак не было, а то подстрелим кого случайно, хлопот потом не оберемся, — предупредил я.
— Не волнуйся, фон Гофен. Там редко кто бывает.
— Отлично. Дорогу-то помнишь?
— Как не помнить, не раз туда ездил. Если все пройдет благополучно, в реке скупнемся. Она неподалече.
— Это дело. Давно в водичке не плавал, аж соскучился, — обрадовано произнес я.
И правда, так хочется нырнуть в прозрачную, будто в озере Байкал воду, отплыть от берега, перевернуться на спину и любоваться редкими облаками на небе. Тем более с экологией пока полный порядок. Земля и водичка еще не отравлены ядовитыми сбросами и отходами жизнедеятельности. В любом месте набери котелок водички и пей некипяченой. М-да, это не хлорка из водопроводного крана.
Капитан нашел подходящую лужайку неподалеку от устья Невы. Одуряюще пахло нескошенной травой, высоко в небе порхали птички. Неподалеку покачивались на ветру березки.
— Благодать, — сказал Анисимов. — Зачнем, помолясь.
Мы установили мишени на обычном расстоянии. Капитан-артиллерист отсчитал полтораста шагов, велел фузилерам взять оружие на изготовку.
— Пали!
Грохнули обе фузеи, испуганные птицы поднялись еще выше, издавая тревожные звуки.
— Попадание! — отметил я. — Увеличим расстояние?
— Пожалуй, — согласился Анисимов.
Мушкетеры перезарядили фузеи, отошли еще на полсотни шагов.
Выстрел! Клубки дыма, быстро развеянные дымом. В мишенях появились две новых дырки.
Дистанция — триста шагов. С такого обычно не стреляют, просто нет смысла переводить патроны. Анисимов встал на колени, истово перекрестился:
— Не подведите, братцы. Пли!
Громкий хлопок, яркая вспышка, будто от салюта, металлический треск. В ушах у меня зазвенело.
— Аааа! — Один из мушкетеров, взмахнул руками и повалился на траву.
— В чем дело? — закричал Анисимов, бросаясь к нему.
— Фузею, фузею разорвало, — будто сам виноват, объяснялся второй мушкетер.
Губы его тряслись.
— А твоя как?
— С моей все в порядке, ваше благородие.
— Живой! — капитан склонился над мушкетером, облегченно вздохнул.
Лица раненого солдата было не видать из-за крови. Я вытер его чистой тряпицей, с грехом пополам соорудил повязку на голове. С помощью остальных погрузил на телегу, укрыл епанчей, запрыгнул и присел рядом.
— В госпиталь! Гоните в госпиталь!
— Как же так, ваше благородие? Что теперь с ним будет?
— Не знаю, ничего не знаю. Авось довезем, а там, что доктор скажет.
Я обернулся и увидел, что мишени были поражены с трехсот шагов. В каждой зияло по новенькой дырке. Похоже, Анисимов находится на верном пути. Жаль, что такая ерунда с разорвавшейся фузеей получилась. Да и солдат пострадал невинно. Что еще будет в итоге, даже загадывать страшно.
Караульные возле госпиталя остановили нас.
— Кто такие? — сурово зарычал капрал-преображенец.
— Уйди прочь, не видишь — раненого везем, — Анисимов спрыгнул с подводы и с грозным видом пошел на капрала. — Дохтура скорей зовите. Умрет солдат, я вас всех в капусту порублю.
— Но, не замай, — отстранился капрал. — Сейчас вызовем.
Он поднес к губам висевший дотоле на шее свисток, дунул. Полилась приятная мелодичная трель.
Все как-то буднично и в то же время невероятно.
Из госпиталя вышел и поспешно направился в нашу сторону врач с несколькими санитарами. Я с радостью узнал вчерашнего знакомца — доктора Кука. Он тоже вспомнил меня, деловито поздоровался, бросил короткий взгляд на раненого и приказал:
— В операционную его. Немедленно.
Санитары осторожно опустили тело на носилки. Фузилер застонал.
— Доктор, что скажете — он будет жить?
— Не могу ничего обещать, уважаемый фон Гофен. Я всего лишь врач. Все в руках Господних, — Кук пошагал за носилками, а я долго смотрел ему вслед, надеясь, что новый знакомый способен воскресить даже покойника.
Анисимов стал рядом, вытащил трубку, набил табаком, и после нескольких неудачных попыток, высек огонь и закурил.
— У него все получится, — сказал он.
— А? Что? — очнулся я, непонимающе повел глазами.
— Получится, говорю у лекаря этого. С того свету выдернет мушкетера моего. Сердцем чую. Ох, и напьюсь я сегодня.
И капитан выпустил в небо густое колечко дыма.
Глава 29
После такого инцидента пришлось идти на доклад к Бирону. Подполковник внимательно выслушал сбивчивые объяснения и велел изложить все на бумаге: посадил нас с капитаном в свой кабинет, дал готовальню и приказал:
— Пишите как на духу!
Капитан старательно выводил буковки, а я помогал ему правильно формулировать мысли. Как-никак высшее офисное образование! Не зря протирал штаны в конторке Сан Саныча Воскобойникова.
К чести Анисимова, всю вину он брал на себя. Мне даже было как-то неудобно, и хоть ничего такого за собой я не чувствовал, друг все равно познается в беде, а капитан относился к числу тех людей, дружбой с которыми дорожить стоит.
— Если мушкетер помрет, я вашу лавочку, господин капитан, прикрою! У меня каждый гвардеец на счету, здесь вам не полевая команда, чтобы людей в распыл пускать, — гневно объявил Бирон, прочитав докладную. — Чтоб каждый день мушкетера того навещать, и мне об том доносить всенепременно. Купите ему с жалованья кушаний, только таких, что дохтур разрешает.
— А насчет меня: вы разрешаете мне продолжать изыскания? — с надеждой произнес капитан.
Подполковник немного успокоился, и уже не пылал как жерло вулкана.
— Безусловно! Мы без меры потратили на них казенных средств, будет больно, если они пропадут впустую. Но хоть чем-то вы меня порадуете? — грустно спросил Бирон.
— Определенные успехи есть, — выступил я. — Удалось поразить мишень с расстояния в триста шагов. Если бы фузею не разорвало, испытали б и на большей дистанции.
— А почему солдата покалечило, можете объяснить?
Поскольку технический специалист из меня неважный, ответ пришлось держать Анисимову.
— У меня несколько предположений. Кажется, я перестарался с пороховым зарядом и отсыпал в патрон больше, чем стоило, — капитан вздохнул. — Может, калибр ружья попался неподходящий. Гадать долго. Буду работать над этим, чтобы впредь происшествий подобных не было.
— Вот именно, чтобы впредь ничего такого не случилось! — назидательно сказал Бирон. — Берегите подчиненных, господа. Думайте об их матерях, женах и детях. И еще раз повторяю — докладывайте мне ежедневно о здоровье раненого. Отпишите его родным.
Я вышел от Бирона озадаченным, вот тебе и «наплевательское отношение к простому солдату». Впрочем, в гвардии к нижним чинам традиционно относились не в пример лучше, чем в армейских полках, что в восемнадцатом веке, что в последующих.
Я, было, хотел поговорить с подполковником о докторе Куке, но потом решил: если англичанин поставит на ноги мушкетера, это станет лучшей рекомендацией в глазах Бирона. Будет день, будет и пища.
Сникший Анисимов звал в кабак: капитан сильно переживал недавнее событие и по старой русской привычке забирался залить горе вином. Я отказался, честно говоря, не хотелось, к тому же мне предстояло еще заскочить в редакцию газеты и передать новую порцию литературных трудов, заодно и забрать полагавшийся гонорар. О моих стяжаниях на ниве российской словесности знал только Карл, остальные сослуживцы пребывали в неведении. Я специально просил кузена не разглашать эту маленькую «военную» тайну. Не чтобы из чувства стыда, просто писательские занятия всю жизнь казались процессом интимным, посвящать в который следует как можно меньше друзей и знакомых. Почему-то так устроен человек, что скорее откроет душу человеку малознакомому, может даже впервые увиденному, вероятность встретить которого во второй раз практически равна нулю. Отсюда, кстати, и все эти разговоры «за жизнь» в поездах дальнего следования. Чем дальше лежит расстояние, тем сильнее развязывается язык.
Редактор газеты слыл существом эфемерным и трудноуловимым. Он почему-то всегда отсутствовал в кабинете и, кажется, пребывал в трех различных местах одновременно, однако ухитрялся испариться за секунду до того, как вы оказывались в этих координатах.
Наконец, кто-то надо мной сжалился и подсказал верный адрес. Я направил стопы к ближайшему питейному заведению, где за столом в полном одиночестве сидел, потягивая большую кружку пива, нужный мне господин.
— Ба, кого я вижу! Игорь Гусаров, наш, так сказать, лучший литератор, светило русской изящной словесности! — смешливо поприветствовал меня он. — Знали бы вы с каким трудом я сохраняю ваше инкогнито, особенно от прекрасных дам, всенепременно жаждущим познакомиться с современным Орфеем печатного слова.
— Неужели есть и такие? — удивился я.
— А как же. Ваш опус идет нарасхват, жаль, возможности не позволяют увеличить тираж, а то мы бы продавали тыщи две каждого выпуска. Искренне надеюсь, что вы пришли не с пустыми руками, иначе последний номер останется без долгожданного продолжения. Не поверите, даже я читаю, — признался редактор.
— Я действительно кое-что с собой прихватил, думаю, на месяц-два хватит, потом напишу еще.
— Знакомые дамы просят, чтобы вы побольше писали о любви, о томлении прекрасных сердец, запертых в клетку одиночества.
— Учту их пожелания.
— Обязательно учтите! Что за роман в коем нет высоких чувств! Лирика, лирика и еще раз лирика! Это так нравится нашим прелестницам. Я знаю, что одна молоденькая, не стесненная в средствах девица покупает мою газету по десять штук зараз и все ради того, чтобы прикоснуться к творчеству господина Гусарова.
— Лестно слышать, — не стал отпираться я. — А как они воспринимают всех этих эльфов, гномов, троллей? Может, им гораздо сподручней читать про леших, водяных, русалок?
— О, у меня были опасения на сей счет, но они не оправдались. В людях заложена тяга к мистическому, волшебному. Ваши труды удовлетворяют ее сполна. Благородные герои, романтические рыцари, сражения, приключения. Язык легкий такой, без выкрутасов. Читатель любит, когда оно как-то само читается, без принуждения над собой. А тот, чьи вещи приходится вымучивать, уж извините меня — и не писатель вовсе.
— А то, что философии маловато никого не смущает? — меня, как любого писателя очень интересовало то, как читатели воспринимают мою книгу.
— Тут я с вами не соглашусь, насчет философии-то. Не забывайте, что мы, человеки, по-разному устроены, двух одинаковых на край света сходи — не встретишь. Отсюда и несовпадения. Каждый волен извлечь что-то свое. Кто-то увидит глубокую мысль, кто-то скольжение по поверхности. Это уж кому оно как покажется. Некоторым читателям железки подавай, рыцарей с заклепками, да деталек важных поболе, чтоб автор доспех французский с аглицким не путал, знал, чем арбалет от лука отличается, а бердыш от секиры. Другие на это и внимания не обратят, им главное, чтоб благоглупостей разных было сверх меры: читай — не хочу. На всех не угодить, мой друг. Помните это, и не подстраивайтесь под чужие вкусы. Пишите, как пишется.
— Постараюсь, — успокоено сказал я.
— Еще как постарайтесь! Молю о том, чтобы источник вашего вдохновения не иссяк, с ним не иссякнут и деньги в моем кармане.
Видя, что затронул опасную тему, редактор спохватился.
— Сегодня, кстати, замечательная погода. По-настоящему летняя: ласковое солнце, весело щебечущие птички…
— Кстати, о птичках. Я тут хотел насчет гонорара поговорить… — начал я импровизированную речь.
— Поэтам деньги не нужны! — с жаром сообщил редактор.
— Поэтам, может и не нужны, а вот прозаикам, творящим в крупной форме, без них — хоть вешайся.
— Безусловно, — счел нужным согласиться редактор. — Я понимаю, что вы честно заработали гонорар, но сейчас наступили трудные времена: тиражи падают, экземпляры порой возвращаются не раскупленными. Продавцы не хотят возвращать деньги. Думаете, я сижу здесь и пью пиво от хорошей жизни?
— Все ясно, — кивнул я. — Думаю, мне стоит обратиться в «Петербургские ведомости», возможно, они захотят пойти навстречу.
— Ну, нет, — редактор аж подпрыгнул. — Вот уж чего я не допущу ни при каких обстоятельствах. Возьмите ваш гонорар и приносите через оговоренный срок продолжение.
— Спасибо, — я расплылся в улыбке. — Не возражаете, если я угощу вас пивом?
— Чтобы я отказался? — изумление в голосе редактора достигло кульминации.
— Все понял, — кивнул я. — Эй, две кружки пива сюда и…
— И то, что я обычно заказываю, — добавил редактор. — В двух экземплярах, пожалуйста.
Я усмехнулся, вспомнив момент с тостами из «Кавказской пленницы»:
— Извините, а вас случайно не Александром по имени звать?
— Ну да, — подтвердил он. — Мать в детстве Сашкой иль Шуриком называла.
Мы засиделись допоздна и в итоге пришли к общему выводу: до чего ж классные мужики из нас получились. Домой я добрался на автопилоте, лег на постель, зачем-то распихал вялого Карла, пахнувшего женскими духами, и крепко-крепко заснул. Что со мной было на рассвете — вспоминать страшно! Пиво, водка, вино, непонятные настойки, коих мы перепробовали от анисовой и, кажется, до тараканьей, к утру смешались в такой опасный «коктейль», что я с трудом дополз до умывальника и там же чуть не отбросил коньки. Выжил ли редактор, который поглощал эти жидкости в двойных объемах, предстояло еще выяснить.
— Плохо мне, — простонал я. — Ой, как плохо!
— Сейчас, кузен, потерпи немного, я тебе помогу, — пообещал Карл.
Карл взял у соседей старинное лекарственное средство — капустный рассол. Не сразу, но все же подействовало. Во всяком случае, к Ушакову я сумел дойти без посторонней помощи, правда, несколько раз, скрывался в кустах по очень важному делу. Помогли еще и пронизывающий холодный ветер, и моросящий дождик (погода, которая в Питере столь же непостоянна, как женщина, резко поменялась на осеннюю). Голова с каждым шагом все меньше напоминала колокол. В кабинет Андрея Ивановича я попал почти трезвым человеком.
— Вот и подвалила тебе настоящая работенка, хватит пером скрипеть, — довольно произнес Ушаков.
Я остолбенел:
— О чем вы, Андрей Иванович?
— Да о том, неужто мне по должности знать не положено, кто у нас в газетах пишет, да еще за псевдонимом Гусаров прячется, — усмехнулся генерал.
— Положено, — невольно согласился я.
— Воот! — важно протянул Ушаков. — За дела чернильные хулить не буду, ибо сам иной раз не без удовольствие эльфов твоих перечитываю, но токмо офицеру гвардейскому еще и шпага нужна бывает.
— Андрей Иванович, вроде я и шпагой владеть умею, — даже обиделся я. — Жаль, господин Звонарский подтвердить это уже не сумеет.
— Ты подвигами своими не хвались. Достал бы мне Балагура, я б тебе тогда всяческий почет оказал в сто раз пуще прежнего.
— И до него доберемся, — хвастливо заявил я, вспомнив, что Балагуром звали таинственного убийцу из окружения цесаревны Елизаветы.
— Ажно как павлин распустил перья. Гляди, оборву тебе хвост, — засмеялся Ушаков. — За Балагуром есть, кому гоняться. Тебе другое покуда предстоит. Весточку я из Польши получил важную от человека России дружного и полезного.
— А что за человек такой, позвольте узнать? — заинтересовался я.
— Тебе можно, — разрешил Ушаков. — Есть князь такой — Чарторыжский. Может, доводилось с ним знаться?
— Никак нет. Только слышал о нем. Да сами знаете, кто ж не слышал, разве что глухой.
Ушаков понимающе улыбнулся.
Надо сказать, история с этим князем прогремела на всю Россию. Случилось это в январе 1735-го года во время войны за польское наследство. Капитан Тверского драгунского полка Глеб Шишкин получил от начальства строгий приказ — сжечь имение Рудзинского — одного из сторонников претендующего на корону Польши Станислава Лещинского. Не знаю, что за напасть случилось с капитаном, но по ошибке он явился во владения соседа Рудзинского, коим к своему несчастью оказался князь. Чарторыжский выступал на стороне России, поддерживал короля Августа, имел четыре охранных грамоты на свои деревни, подписанные лично фельдмаршалом Минихом и генерал-аншефом Ласси. В мозгу Шишкина что-то перемкнуло, он объявил князя самозванцем, а грамоты фальшивкой. Возможно, в голове у хлебнувшего лиха на войне офицера не могла прижиться мысль, что не все поляки настроены против России.
Шишкин, никоим образом не сомневаясь в собственной правоте, сжег и замок Чарторыжского, и ближайшую деревеньку. Драгуны раздели донага князя, его жену, пятерых детей и всех домочадцев и пинками погнали по январскому морозу до соседнего поселения.
Когда известия о том страшном проступке дошли до русского начальства, начались разборки — после показательного суда Шишкина приговорили к аркебузированию, сиречь к расстрелу. Прогремели выстрелы, капитан упал… остались довольны ль поляки, неизвестно. Дров драгуны наломали в преизрядном количестве.
Самым удивительным в этой истории было то, что Чарторыжский тем не менее сохранил лояльность России.
— Думаете, князю можно доверять?
— Конечно, — кивнул Ушаков. — Я его не единожды проверил. Он часто помогал нам, помог и на сей раз.
— Так о чем же таком он сообщил? — заинтриговано спросил я.
— Каким-то образом ему удалось отследить, куда в больших количествах вывозится медь. Князь полагает, что нашел место, где изготовляются поддельные русские деньги, о чем в депеше своей секретной, на имя мое посланной, пишет.
— Так это же замечательно! — воскликнул я.
Ушаков внимательно взглянул на меня и произнес слова навсегда впечатавшиеся в мою память:
— Готовься отправиться в Польшу. Поручаю тебе лично отобрать людей, с которыми ты разыщешь гнездо фальшивомонетчиков, разоришь его и примерно накажешь тех, кто в том гнусном деянии замешан. Только учти, барон, поедешь ты туда не как гвардейский сержант Измайловского полка, а будто простой шляхтич курляндский, коей хочет и мир посмотреть, и себя показать. Помни токмо, ежели случится тебе в тюрьму али плен угодить, мы о тебе знать не знали, слышать не слышали. Понял меня, фон Гофен?
— Понял, Андрей Иванович, — сказал я. — Как не понять.
На душе вмиг стало тревожно и пусто.
Глава 30
Хочешь задеть поляка, скажи, что его страна расположена в Восточной Европе. Девять из десяти собеседников с обидой поправят: «Не в Восточной, а в Центральной», десятый, скорее всего, полезет с кулаками. И причина тут вовсе не в географии.
Раз связано с востоком, значит, с Россией. Согласитесь, неприятное соседство для некоторых...
Так получилось, что истории наших стран сплетены в причудливый узел, и иной раз не так просто разобраться, где тут Польша, Россия, Украина или Беларусь. Четыре славянских народа с такой непростой судьбой. И у каждого свои богатые комплексы.
Есть русские, которые искренне переживают за некую «азиатскость», не понимая, что страна, раскинувшаяся на столь обширной территории и сочетающая в себе элементы многочисленных культур, изначально находится в выигрышной позиции. В нас есть и Европа, которую по недоразумению считают мерилом всего передового, гуманного и светлого, есть и «азиатчина», назвать которую дикой и темной может только идиот или мерзавец. Если кто-то считает себя из-за этой уникальной смеси неполноценным, мне его откровенно жаль.
Среди украинцев тоже имеются интересные экземпляры — вечные «без пяти минут европейцы», которым каждый раз что-то мешает. Некоторые из них считают: стоит только собраться, пошуметь, помайданить — и все проблемы тут же решатся по мановению волшебной палочки. Увы, на самом деле просто резко увеличивается поголовье «гетьманов», которым все, кроме собственного кошелька, до лампочки.
Польша же вечно тяготится расположением. С одной стороны — прагматичная, продвинутая, но ментально иная Германия, с другой — разнузданная, варварская, разудалая Московия, которую бросает по ухабам истории со страшным скрипом и треском, и ничего, живут курилки, разве что крепче становятся. Их дерут — они крепчают.
И что самое обидное для поляка: и немцы, и русские изначально были в проигрышном стартовом положении. Речь Посполитая грозилась подмять под себя и славянские, и неславянские земли. Но в итоге соседи дружно взялись за Польшу, распилили на части. Лишь чудом панове вырвались из объятий двуглавого орла, когда зашаталась российская корона в угаре революции и мировой войны. Владимиру Ильичу было не до жиру — лишь бы спастись за зубчатыми стенами Кремля, пока народ шел брат на брата. Какая там Польша? Пусть катится на все четыре стороны — у нас вон министры продовольствия в голодный обморок падают.
Поляки немного пожили «самостийно», а потом за считаные дни попали в когти орла тевтонского и долгие пять лет дожидались, пока русские солдаты придут к ним — на этот раз для того, чтобы дать пинка немецким оккупантам. Ну а затем, когда новая волна принесла новую пену, можно и памятник солдату-освободителю в тенек задвинуть. Чтоб не мешал процессу вливания в большую семью европейских народов.
Никто не хочет помнить о том, как долго на карте не было такого понятия — Польша, и главное — почему. Вроде и строй имелся самый прогрессивный — демократический: парламент, все должности, включая королевскую, выборные; знай голосуй на Сейме, маши сабелькой да волочись за красотками. А вот... не сложилось.
На дворе сейчас лето 1736-го. Мы второй год воюем с Турцией, и довольно неплохо. По случаю взятия у турок Азова императрицей были устроены пышные торжества, делался праздничный фейерверк. Зимой ожидается приезд главнокомандующего армией — генерал-фельдмаршала Миниха. Он прибудет в Петербург, чтобы составить план следующей кампании. Зная честолюбивый нрав полководца, не сомневаюсь, что намерений у него много, а значит, войск понадобится еще больше. Поговаривают, что на этот раз на войну пойдут и гвардейские части, а пока что все четыре лейб-полка (три пехотных и один конный) несут мирную службу в летних лагерях-кампанентах. Не могу сказать, что известие это вызвало единодушное одобрение в наших рядах. Есть среди нас такие, что каждый день ставят в церкви свечки, моля, что бы спокойная жизнь, вдали от сражений, продолжалась как можно дольше.
Польшей правит король Август III, обязанный короной русским штыкам. Шляхта в расколе: одна половина отрабатывает деньги французские, другая — наши. Сосед идет на соседа, и правая рука не ведает, что творит левая.
И ой как прав в своей логике генерал-аншеф Ушаков, когда, отправляя нас в неблизкую поездку в земли польские, предупредил, что в случае провала всячески будет открещиваться. Да, формально Август — наш друг и союзник, вроде полагается ввести его в курс дела, но какой от этого толк, если цель поездки отряда мигом станет известна и тем, до кого собираемся добраться. С таким же успехом можно ехать по Польше с развернутыми транспарантами: «Мы — русские. Едем, чтобы покарать ваших фальшивомонетчиков». Не берусь загадывать, что ждет нас в итоге.
Андрей Иванович Ушаков, генерал-аншеф, великий и всесильный инквизитор, задавший столь непростую задачку, звонко хрустнул пальцами и улыбнулся так, что в теплом кабинете вдруг сделалось морозно:
— А коли меня понял, слушай и дальше. В сроках тебе ограниченья нет, но чем быстрей обернешься, тем сподручней. Да и я меньше изведусь. Кого думаешь с собой взять?
— Если не возражаете, Андрей Иванович, я бы прихватил моего кузена Карла фон Брауна и двух доверенных гренадер: Чижикова и Михайлова. Все они мне хорошо известны, обучены и могут сгодиться в случае надобности, — перечислил я.
— Надобность обязательно появится. В место я тебя засылаю гиблое. Уж извини старика. Поручение не из простых, для таких и нужны мне люди... не простые, — последнее слово Ушаков выделил особой интонацией, словно с потайным умыслом. — А чтобы полегче вам было, еще одного человечка определю.
Так, кажется, полнотой доверия меня не наделили. Ушаков хочет приставить кого-то из своих. Только «казачка» нам для полноты коллекции не хватало.
Должно быть, эти мысли так явственно отразились на моем лице, что генерал не выдержал и рассмеялся:
— Полноте кручиниться, барон. Я-то думал порадовать тебя, а ты волком на меня уставился. Знаешь моего человечка, хорошо знаешь. Из-за него трам-тарарам с гвардейцами своими на весь Петербург поднял.
Ушаков два раза позвонил в колокольчик, и я увидел, как в кабинет входит... Михай в коротком, похожем на куртку кафтане. Глаза затравленные, похудевший, спавший с лица, бледный, будто только что из могилы. Хотя как сказать, мы ж его действительно с того света выдернули.
— Ну, узнал того, из-за кого дом Сердецких на приступ брал? — уперев руки в боки, довольно произнес Ушаков.
— Точно так, узнал, — сказал я, поднимаясь.
Эх, Михай. После того как мы выручили тебя из княжеского поруба, я боялся спрашивать Ушакова о твоей судьбе. Все тянул до последнего момента, мечтая услышать хорошие новости.
— Я слово свое сдержал: Михай таперича вольный человек. И невеста евонная Ядвига тоже не в холопках ноне. Но вот со службой военной ему придется повременить. Бери его с собой, барон. Парень польский в совершенстве разумеет, читать и писать выучен. Такой тебе завсегда пригодится.
— Спасибо, Андрей Иванович, — только и смог произнести я.
— Хлопец за тебя и в огонь и в воду пойдет, барон. Аки пес верный. Точно я говорю, Михай?
— Точно, батюшка. — Михай низко поклонился. — Но не токмо за барона фон Гофена, но и за вас, Андрей Иванович. Благодетель наш.
— Хватит волосами пол подметать. Ступай в услужение к барону. В Польшу поедешь с ним, будешь его глазами и руками. Не боись, узнать тебя не должны, — добавил Ушаков, видя испуганную реакцию Михая при упоминании о Польше. — Надлежит вам остановиться в городке приграничном Крушанице, найдете там лавку скобяную купца Микульчика, спросите у него: «Как здоровье пана Дрозда?» Ежели ответит, что преставился пан Дрозд, поворачивайте в Россию, делать вам в Польше нечего. Скажет, что Дрозд идет на поправку и хочет на костел новый деньги пожертвовать, договаривайтесь, где с человеком нужным встречаться будете. Князь Чарторыжский обещался проводника доверенного прислать, что к злодеям поможет дорогу найти.
— А если этот Микульчик заявит, что знать никакого Дрозда не знает? — спросил я.
— Тогда это не тот Микульчик, — спокойно отрезал Ушаков. — Велю вам пачпорта подготовить. Дабы путаницы не наблюдалось, имена проставим настоящие.
— А как добираться, Андрей Иванович, — морем или по суше? — спросил я, не очень представляя географию маршрута.
— Каким морем?! Корабли не каждый день туда ходят, пока дождетесь оказии... А судно заради вас я фрахтовать не собираюсь. По суше, по суше, родимые. Езжайте верхом, нечего в каретах трястись, будто вельможи какие. Денег дам достаточно, чтобы в лошадях и припасах ограниченья не знали. Но кутить не вздумайте! Дойдут до меня слухи — следующую поездку в Сибирь устрою, чтоб кровь молодецкую охолонуть.
— Насчет этого даже не думайте. Я и сам в рот ни капли не возьму, и людей своих в узде держать буду, — довольно опрометчиво пообещал я.
— Вот и молодцом. К утру все будет готово. Когда в путь двинешься?
— Завтра, наверное, и поеду, — предположил я.
— Добре. Готовь платье партикулярное, насчет харчей покумекай, а лошадей попервой из конюшен государевых возьми. Указание на сей счет мое будет. А теперь с Михаем можешь домой идти. Я тебя не держу боле. — И Ушаков сделал повелительный знак рукой.
— Пойдем ко мне, Михай, — предложил я, когда мы оказались на улице.
Ветер нагонял высокие волны Невы к берегу, с клекотом носились чайки, на небе собирались грозовые тучи. Липкая жара уступила место приятной прохладе.
— Погода меняется, — отстраненно сказал Михай.
— Э, не только погода, братец. Жизнь, она тоже не стоит на месте. Если ко мне не хочешь, давай в австерию забредем. Я угощаю, — сказал я, не понимая холодности бывшего подчиненного.
— Уж простите меня, господин сержант, — с тоской произнес Михай, едва стоило нам удалиться от Петропавловской крепости. — Велено мне генерал-аншефом пригляд за вами делать и обо всем позже ему обсказать при возвращении. Такова плата за освобожденье от ярма рабского. Соглядатая и наушника из меня Ушаков сделал, в каморы к арестантам подсаживал, чтобы те, за своего принимая, секретами бы поделились. Не противно ли вам, господин сержант, после всего этого со мной рядом находиться, воздухом одним дышать?
Я присвистнул, хотя, собственно, чему удивляться? Служба Ушакова кадрами не разбрасывалась и использовала по мере надобности всех, кого засосало в воронку Тайной канцелярии. Кто знает, насколько далеко заходят планы генерал-аншефа насчет моей скромной личности?
— Ты, братец, из головы все выкинь. Что было, то было, назад не воротишь. Я никому о твоем назначении не скажу, а о том, что будешь докладывать Ушакову, позже обсудим, когда дела обстряпаем и в Петербург вернемся. Помни одно — ты измайловец, лейб-гвардии гренадер ее императорского величества. Носи это звание с честью.
Не ожидал, что простые, в сущности, слова так подействуют на этого парня. Хлопец разом повеселел, расправил плечи. Теперь со мной был все тот же исправный и бравый солдат, которого я лично муштровал на плацу и на стрельбище, гонял на лыжном кроссе и до седьмого пота заставлял таскать железяки в «тренажерном» зале.
— Спасибо вам, господин барон. После разговора с вами будто у ксендза побывал на исповеди. На душе вновь легче стало. — Глаза Михая сияли таким весельем, что я не сумел сдержать улыбку.
Много ли надо для счастья человеку? И в чем оно, счастье, собственно, измеряется, в каких единицах? Иной раз радуешься, что хотя бы жив остался, а порой с души воротит при самом благополучном раскладе. Взять хотя бы Михая — могу ли я позавидовать его жизни? Вряд ли. Сызмальства в крепостных при князе Сердецком, сумевшем втереться в доверие к Петру Великому. Когда достиг рекрутского возраста — хозяин прислал его в полк, чтобы нес службу за младшего барина. Все прекрасно знали, кто стоит у меня в строю, но предпочитали закрывать глаза, будто так и надо. Если б не роковой случай, Михай и на войну бы ушел вместо пана Сердецкого. Как говорится — полжизни под чужим именем.
Мы его вроде выручили, спасли от неминуемой гибели, но, того не ведая, невольно окунули в мерзость и грязь клоаки. Однако — маленький разговор, и парень вновь сияет как самовар на солнце. Может, мне в психологи пойти, снимать психологические стрессы у престарелых вельмож и последствия предменструального синдрома у их молоденьких жен? Понятно, что пока эту роль играет Церковь — молитвы, тайна исповеди и все такое, но окажись вместо меня в теле курляндского дворянина, вбившего в голову дурь, что ему на службе у русской императрицы скатерти настелены и медом намазаны, какой-нибудь профессионал-психотерапевт — деньги б лопатой греб. Ведь чем человек богаче, тем у него с возрастом в башке тараканов больше.
Я все же сумел уломать Михая на посещение австерии. Каждому необходимо посидеть иногда в красивой, располагающей обстановке, чтобы скатерть от крахмала чуть не стояла, серебряные приборы слепили глаза, а улыбки официанток могли расплавить даже воск.
Эх, кто б знал, кто ведал, как я иногда хочу вернуться в свое время, сесть за руль купленного в кредит автомобиля, выжать сцепление, тронуться и так газануть, чтоб уши заложило! Нестись вдоль освещенной магистрали, мимо ярких неоновых реклам, в городском шуме и реве встречных машин. Остановиться возле супермаркета, заскочить внутрь и вернуться с упаковкой картофельных чипсов и банкой газировки. Навестить друзей, легонько хлопнуть Леху по намечающейся проплешине, распить с Мишкой Каплиным бутылочку страшно дорогого и наверняка поддельного французского коньяка. Прийти к маме, положить голову ей на колени, прижаться щекой к теплой ладони, услышать ее добрый голос.
Просто включить телевизор, наконец, и тупо смотреть на рекламную жвачку, без уверенности, что смогу выдержать больше пяти минут.
Как я хочу домой!
Глава 31
«Военный совет» собрался в нашей с Карлом избе, я пригласил только тех, кого намеревался задействовать. Лишние уши, пускай даже трижды надежные, могли все испортить. Гренадер, бывших соседями по «квартере», давно уже не было — они вместе с полком проживали в палаточном лагере. Никто не мог помешать серьезному разговору.
Мои ребята спокойно выслушали известие о поездке в Польшу. Не смутил их и тот факт, что дело, за которым нас отправляют, отдает душком.
— Надо так надо, — невозмутимо пожал плечами Чижиков. — Чай, начальство знает, что делает. Пропасть пропадом и тут можно. Народ там хоть и по-другому молится, а все ж христианский.
— Паненки-то у ляхов чудо как хороши! — причмокнул Михайлов. — Одна Ядвига чего стоит.
— Но-но, не замай, — нахмурился Михай, как только упоминание коснулось его невесты.
— Да брось ты, я ж не в плохом смысле говорю, не в греховном. Невеста твоя, аки роза иерихонская, цветет и пахнет, — добродушно протянул его тезка. — Нюхал бы и нюхал ее.
Чижиков засмеялся. Михай нахмурился еще сильнее. Я понял, что еще немного — и назреет дурацкий и уж совсем неуместный скандал. Поляк — парень горячий, если еще Михайлову по зубам не съездил, так это потому, что помнит, кто его из темницы вызволял, но надолго терпения у него не хватит. Пришлось вмешаться.
— Ты Михайлов и впрямь — не лез бы не в свое дело. Чем твоя супруга тебя не удовлетворяет? — спросил я.
— Я от своей клюшки совсем уж устал, глаза намозолила. Была б возможность, посадил бы на барку и сплавил в Архангельск к родне ееной, а то и куда дальше.
— А чего ж не отправляешь? — заинтересовался Чижиков.
— Дык пацанов моих жалко, все за юбку мамкину держатся, отпустить боятся.
— Отучишь робят от юбки, тогда и на паненок облизывайся, — усмехнулся Чижиков.
Он, как и многие из гвардейцев, ходил холостым, предпочитая семейным оковам случайные связи на стороне.
— Все, надоели, зубоскалы, — разозлился я. — Нам завтра с места в карьер срываться, путь неблизкий, а мы еще и готовиться не начинали.
— А чего нам готовиться? — удивился Михайлов. — Я завсегда готовый, в любой секундный момент.
— Одежда у тебя подходящая имеется? Или в мундире гвардейском рассекать собрался? — рявкнул я.
— Ну... это... кафтан есть мужицкий, — замялся гренадер. — Может, жена еще какие тряпки найдет, — без особой уверенности продолжил он.
— А у тебя, Чижиков?
Тот печально вздохнул и бросил в мою сторону многозначительный взгляд.
— Понятно. Топайте на рынок, покупайте платье.
— Ясно, — четко, по-военному отрапортовал Чижиков.
— А деньги? — спохватился Михайлов.
Ушаков обещал снабдить финансами только на следующий день. Получается, что снаряжать экспедицию придется из своих средств. Вот незадача! Я долго боролся с самым страшным животным на свете — жабой. Все же каждая добытая копеечка трудом и потом досталась, это не те легкие «бабки», что срубал когда-то в конторке Сан Саныча Воскобойникова. Неприятно с денежкой расставаться, конечно, но дело государственное остается делом. Многое на кон поставлено — моя судьба и еще четверых. Нельзя через пень колоду к такой важной вещи подходить, я ж не кошка, у которой семь жизней. Кое-что наскребу по сусекам — от выданных императрицей ста рублей чуток осталось, гонорар еще не растратил. Потери... потери возмещу завтра.
Я развязал кошелек, высыпал на ладонь несколько рублей, потом вздохнул, положил деньги обратно, затянул шнурок и отдал со всем содержимым Чижикову.
— Что делать, знаешь?
— Знаю, господин сержант. Будьте покойны, сделаем в лучшем виде.
— Тогда по-быстрому: одна нога здесь, другая поблизости.
— Эдак нас разорвет же!
— Ничего, вместо одного хорошего гренадера двое будут.
Чижиков и Михайлов ушли с видом заговорщиков. Понятно: любая дорога обязательно проходит вблизи кабака.
Мы остались втроем обсуждать предполагаемый маршрут.
— Сначала доберемся до Великого Новгорода, от него к Пскову, потом к Изборску, а там до Польши уже рукой подать, — предложил Михай.
— А далеко от границы до Крушаниц этих? — спросил я.
— Да почитай всего ничего — верст с полсотни, не больше. Не знаю токмо, куда нас еще пан Дрозд за собой потащит. Ладно, ежели в окрестностях шуровать придется — тогда хорошо, а ну как в самую глубь придется податься? — почесал затылок Михай.
— Сомневаюсь я, что злодеи от границы далеко удалились. Им проще рядышком жить, чтоб сподручней монеты фальшивые в Россию ввозить было, — предположил Карл.
— Согласен, — кивнул я. — Лишний риск им ни к чему. Шляхтичи — сами знаете — друг на друга косо смотрят, если что — и подножку поставить горазды. Опасно через земли соседей богатство такое возить. Сидят наши «мастера» под чьим-то широким и теплым крылышком, раскинувшимся аж до самой России. Из готовят большую партию и, минуя купленных таможенников, перебрасывают добро через границу.
— Я вот что думаю, — продолжил Карл, — найдем мы их, оборудование порушим, петуха красного подпустим, а с людьми, которых на месте споймаем, что делать-то будем? Свинец в горло лить?
Я смутился. Мысль эта мне не приходила в голову. Почему-то в мозгах вертелось одно, кажется, наполеоновское — «главное, ввязаться в войну, а там разберемся». С фальшивомонетчиками здесь действительно поступают круто. Для меня — слишком круто.
— Пожалуй, я так не смогу, — признался я.
За все время, проведенное здесь, от моей руки погибли всего двое, и то потому, что собирались проделать со мной аналогичное, пришлось защищаться. Что самое интересное — случилось это в первый же день. Морально я уже второй год готовлюсь к тому, что буду убивать, но как только доходит до практики...
— Я тоже, — сказал Карл, — нет, если на меня пойдут приступом, шпага в моей руке не дрогнет, но быть палачом — увольте. Я дворянин.
— Эти люди хотели меня убить, не посмотрели, что безоружный. Хотели навсегда разлучить с Ядвигой, им было плевать, что я не собирался никуда бежать и доносить. Я готов задушить их голыми руками,— очень тихо, но с такой ненавистью сказал Михай, что я поверил каждому его слову. — Не надо искать палача, он с вами.
— Ну вот, определились, — тоже тихо произнес Карл.
Чижиков и Михайлов вернулись к полуночи — «тепленькие» и довольные. Я не стал устраивать им разнос. Сегодня не имело смысла, а завтра будет уже бесполезно, тем более что с поручением они справились на отлично — вырядились, согласно «легенде», в лакеев двух господ, решивших переменить климат.
У нас с Карлом сохранилась «гражданка», купленная на деньги Густава Бирона. Неброская, но для путешествия вполне подходящая. Михая решили выдать за управляющего, благо внешний вид вполне соответствовал.
Утром, наскоро позавтракав, отправились в конюшни выбирать казенных лошадей. Я раньше боялся, что не смогу ездить верхом, потому что никогда прежде не обучался, но не так давно получил возможность проверить свои умения. Выяснилось, что тело, оставшееся в наследство от прежнего фон Гофена, прекрасно помнит, как надо обращаться с этими животными, так что можно быть спокойным: в седле я держался вполне сносно. Во всяком случае, никто в спину не смеялся, ну а что в тонкостях не разбираюсь, так это никого не смущало: на то и дворянское звание, дабы прислуга знала, чем угодить.
Ворота оказались заперты. Мы долго колотили руками и ногами, прежде чем услышали и впустили внутрь. Придворные конюхи, зевая, водили нас от стойла к стойлу. Придирчивые гренадеры внимательно осматривали скакунов, как цыгане, смотрели зубы, проверяли подковы, заглядывали под седло. Знаю, что лучше всего брать кобыл, или, на крайний случай, меринов. Жеребцы — существа своенравные и ненадежные, хороши больше для скачек или улучшения породы.
Отобрали десять лошадей: чтобы было на ком везти поклажу, да и заводные по обычаю, оставшемуся еще от татар, не повредят.
Затем все вместе отправились в цейхгауз, где получили на руки по короткому гусарскому карабину, которые, очевидно, нарочно держали для разного рода тайных спецопераций, ибо клеймовки, определявшей полковую принадлежность, на них не имелось. Оружие как оружие — в любой лавке купишь. А что сделано на Тульском заводе — так ведь через Россию ехали, почему б не прикупить по дороге.
— А что нам еще с собой можно взять? — спросил я у офицера, заведовавшего цейхгаузом.
— Да что угодно! — удивился тот. — Приказано препятствий не чинить.
Услышав такой ответ, парни приободрились. Михайлов на радостях увешался с головы до ног пистолетами и стал походить на пирата из голливудского фильма. Чижиков не преминул прихватить гранат. Я подумал и тоже взял с собой несколько. Пускай от них шума и дыма больше, чем толку, но кто знает — вдруг пригодятся. И пистолеты — вещь в дороге полезная, особенно если держать их постоянно заряженными.
Я велел мужикам дожидаться меня на полковом дворе, а сам вместе с Карлом поскакал в Петропавловскую крепость за деньгами, документами и ценными указаниями от Ушакова.
Андрей Иванович вручил нам паспорта, без них и за пределы Петербурга выбраться весьма проблематично, не то что пересечь обширную территорию до польской границы. Я с интересом рассмотрел свой, ибо впервые получал в руки заграничный паспорт восемнадцатого века. Из него следовало что:
«По повелению ее величества российской императрицы, самодержицы всей России и проч., и проч. Сим объявляется всякому, кто должен это знать, что предъявитель сего барон курляндский Дитрих фон Гофен отпущен из России по суше. Он должен в течение недели, начиная от указанной ниже даты, выехать из Санкт-Петербурга и в течение месяца пересечь границу... В удостоверение этого и для беспрепятственного продолжения его пути ему выдан настоящий паспорт, скрепленный печатью ее императорского величества и подписями сенаторов».
Бумага пестрела подписями из пяти разных ведомств (когда ж генерал-аншеф успел их собрать-то?) и была украшена затейливой печатью. Все чин-чинарем, как положено.
— Здесь деньги. — Ушаков передал мне увесистый мешочек. — Рубли, дукаты, всего понемножку. При разумной экономии хватит. Не подведи, барон. А я за тебя и людей твоих помолюсь, свечку пудовую закажу.
— Спасибо, Андрей Иванович, будем стараться.
— Старайся, фон Гофен, из кожи вылезь, но сделай все как по писаному. Опасность не шутейная, ну, да и тебя не пальцем делами, — грубо пошутил на прощанье генерал-аншеф.
Мы вернулись на полковой двор, слезли с коней.
— Все, братцы, идем в церкву, облегчим душу перед дорогой, а затем в путь.
Отец Илья, полковой священник, благословил всех, включая Карла, не желавшего отправляться в лютеранский молитвенный дом.
— Ступайте, дети мои, — прогудел священник басом. — Служите Отечеству нашему на совесть.
Тоска, обуявшую душу, вдруг отступила. Да, я действительно хочу вернуться в неспокойный, вечно проблемный двадцать первый век, но здесь и сейчас судьба велит принять участие в деле, способном повернуть ход истории, смею надеяться, в лучшую сторону. К тому же я в ответе за тех, кто мне доверяет.
Мы вышли из церкви, перекрестились. Карл задрал голову к небу, будто пытаясь прочитать, что написано в облаках о нашем будущем.
— Ну что, гвардейцы, поехали! Есть такая работа — влипать в неприятности, — с улыбкой произнес я.
Надеюсь, ирония в моем голосе помогла смягчить патетику ситуации.
Парни дружно рассмеялись и разом взлетели в седла, будто оторванные от земли неведомой силой.
Глава 32
Расстояние между Санкт-Петербургом и Великим Новгородом пассажирский поезд проходит за четыре с половиной часа. Знаю из личного опыта, потому что моя мать родом из этих краев и немалая часть моего детства прошла в крошечном городке Сольцы, расположенном на берегах изрядно обмелевшей Шелони. Здесь каждый изгиб дороги, лоскуток свежей пашни, каждый встречный валун пропитаны историей древнего края. Отсюда есть пошла земля русская.
Давным-давно на Шелони столкнулись войска московского князя и новгородцев. Можно по-разному оценивать последствия той битвы, но я не хочу оплакивать потерю «демократического» пути развития. Кануло в прошлое новгородское вече, на смену пришла крепкая царская власть. Пожалуй, это и спасло Русь от дальнейшего растаскивания по кусочкам. Порой приходится жертвовать малым ради спасения большого.
В память о той удивительной эпохе остался особенный, не похожий на другие города — Новгород, по праву называющийся Великим. И если вам доведется в нем побывать, обязательно прогуляйтесь по Софийской стороне, зайдите в Кремль, окруженный высоченными десятиметровыми стенами красного цвета, — только задумайтесь, их заложили тысячу лет назад. А знаменитый Софийский собор, выстроенный из плитняка и ракушечника, — главный символ и украшение города. Разве можно пройти мимо? Помните поговорку — «Где София, там и Новгород»? Она родилась не случайно.
Есть что посмотреть и на другом берегу — в Торговой стороне: красивейшие соборы, церкви, больше похожие на крепости, Антониев монастырь с собором Рождества Богородицы. Всего и не перечислишь!
Снимите шапку и поклонитесь нашим предкам, создавшим такую красоту и сумевшим оборонить от многочисленных врагов. Здесь возникает особая гордость за то, что живешь в России, и пусть в крови твоей смешалась кровь многих народов, все равно, дыша этим воздухом, ты до конца дней остаешься русским.
Бью челом тебе, господин Великий Новгород!
Чтобы добраться верхом, нам потребовалось около трех суток. Поездка проходила на удивление спокойно. Мы старались не ночевать под открытым небом и ближе к вечеру всегда останавливались на постоялых дворах или в придорожных трактирах, где нас щедро потчевали рассказами о многочисленных шайках разбойников, человек по двадцать пять — тридцать, безжалостно грабивших и обозы, и одиночных путников.
— Совсем бессовестные тати пошли! Никаких порядков не признают, солдат и тех не боятся. Надысь купца одного заголили, главарь шайки ихней за крестик серебряный потянул. Ему все кричат, что не можно так поступать, а он с себя простой крест снял и купцу взамен на шею повесил. «Таперича мы с тобой братья», — говорит. Тьфу на него! Никакой святости! Лучше уж с шавкой подзаборной сродниться, чем с таким охальником!
— Послушайте, люди добрые, что мне намедни рассказывали: дескать, ехал обоз с Ильменя, налетели люди лихие, всех до одного поубивали, а с мертвых тел уши и носы повырезали. Не иначе как то воры беглые с Сибири озорничают.
Через речки переправлялись где вброд, где на плотах, составленных из семи-восьми сосновых стволов (места едва хватало для не скольких лошадей), один раз — даже на пароме.
Почти до самого Новгорода простиралось открытое ровное пространство с редкими деревеньками и разделанными пашнями. Вдали черной полосой от горизонта до горизонта протянулись дремучие леса. Не верится, но маленьким я ходил туда за грибами, принося полные корзинки белых, груздей, подосиновиков или подберезовиков. Бабушка, сидя на лавке, сортировала «улов», безжалостно отправляя в помойное ведро грибы с малейшими дефектами, а я стоял рядом, чуть не плача от жалости, что вот так пропадают мои труды, ибо приходилось вставать в страшную рань и пешком топать приличное расстояние, прежде чем всего лишь оказаться на подступах к древнему лесу, должно быть помнившему времена былинных богатырей — Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алеши Поповича.
Но вот в отдалении показались земляные валы и крепостные стены. Я привстал в стременах, чтобы лучше разглядеть их. Казалось, сейчас распахнутся ворота, вылетит птицей княжеская дружина в остроконечных шлемах, в развевающихся на ветру плащах, с пиками наперевес. Выйдут на дорогу мудрые калики перехожие, сядет на камень сказочник-гусляр, проведет по струнам и споет нам о гордом купце по имени Садко. И хоть родился я в другом месте, корни мои тут.
— Это и есть Великий Новгород? — спросил Карл.
— Да, — кивнул я.
— Неужели это тот самый город, красотой и могуществом соперничавший со всей Европой? Я много о нем слышал. Издали он кажется по-настоящему великим.
— Боюсь, скоро тебя ждет разочарование, Карл. Новгород пришел в запустение и уже не играет былой роли. Но можешь мне поверить — это святое место.
— Ты намекаешь на все эти храмы, что стоят в отдалении?
— Не только. В Новгороде и его округе много церквей, что правда, то правда, но не это главное — здесь бьется сердце России, и ты скоро почувствуешь его стук.
— Пока что я слышу только чавканье копыт, увязающих в отвратительно мощенной дороге. Неужели у русских до нее никак не дойдут руки?
Я горько усмехнул ся:
— Поверь мне, Карл, эта дорога еще ничего. Нам крупно повезло!
— В чем, Дитрих? — удивился кузен.
— В том, что мы едем именно по этой дороге. Советую тебе проникнуться духом вечности. Пройдут столетия, а она почти не изменится. Будет такой же разбитой и страшной.
Карл посмотрел на меня с подозрением:
— Откуда ты это знаешь, Дитрих?
— Считай, что у меня внезапно открылся дар предвидения.
— Прекрасно, — фыркнул он. — Тогда воспользуйся им еще раз и предскажи, что ожидает нас на ужин.
— А что бы тебе хотелось, кузен?
— Я так проголодался, что готов съесть свое седло. — Во взгляде Карла появился блеск людоеда.
— Седла не обещаю, но еды будет вдоволь.
— Тряхнешь мошной, дорогой брат?
— Не вижу причин, которые могут заставить меня отказаться от плотного ужина.
— Твоим голосом поют небеса, — с умилительным выражением произнес Карл.
В конце тракта находилась застава с десятком разморенных жарким деньком солдат, которые при виде нас оживились и взяли фузеи с примкнутыми штыками на изготовку. Командовавший отрядом капрал резким тоном затребовал подорожные и паспорта.
— Далеко путь держите?
— Далеко, служивые, в Польшу.
— К ляхам, значит. Груз, запрещенный к провозу, имеется?
Ага, так я и сказал.
— Чего нет, того нет.
Возможно, солдаты хотели содрать с нас, как со странствующих иностранцев, взятку, но решительный вид моих спутников оказал свое действие. На этом досмотр и окончился.
— Проезжай! — махнул рукой дородный, будто баба на сносях, капрал.
Мы въехали в Новгород. Он действительно переживал не лучшие времена. Не так давно бушевал пожар, оставивший после себя много следов. Запустение... страшное, но верное слово. Большие пространства, заросшие крапивой и бурьяном, развалившиеся строения — амбары, склады, жилые постройки. Дома преимущественно деревянные, есть в два этажа, но таких — раз-два и обчелся. Мутные стекла или слюдяные вставки. Из каменных строений все больше церкви да монастыри. На улицах много священников и монахов, возникает такое чувство, будто они и составляют основную часть жителей. Люди одеты бедно, ничем не напоминая петербургских модников. Время будто застыло здесь и замедлило бег навсегда.
У монастырских ворот толпились нищие и больные. Каких только калек там не было: и слепые, и немые, без рук или ног, юродивые. И много, очень много — не одна сотня. Словно со всей Руси собрались униженные и оскорбленные. Они запрудили дорогу, движение наше замедлилось. Многие хватали нас за одежду, пытались дотянуться до мешков с поклажей. Старик с землистым лицом, с волочащимися по земле ногами, полз возле моего коня, что-то мычал, постоянно крестился. Я боялся, что он попадет под копыта.
— Только не вздумайте подавать им милостыню, — почти прокричал Чижиков. — Сорвут с коней и затопчут.
Он положил карабин поперек седла. Толпа вокруг нас отхлынула, будто волна от берега.
— Быстрее, — приказал я.
Мы с трудом миновали это вавилонское столпотворение.
— Пронесло, — выдохнул побелевший Михайлов.
Постоялый двор находился через улицу. Мне с трудом удалось найти свободную комнату, остальные были забиты преимущественно офицерами армейских полков и их денщиками. Похоже, какая-то крупная воинская часть срочно передислоцировалась сюда от Москвы и встала где-то в окрестностях палаточным лагерем.
В комнате было тепло. Хозяин за отдельную плату позаботился о мягких перинах и прислал двух совсем молоденьких служанок расстелить постели. Я видел, какими плотоядными глазами смотрит на этих девушек Карл. Они чувствовали на себе взгляд моего кузена, но, будучи привыкшими ко всему, не тушевались и делали все старательно и размеренно, будто даже поддразнивая не к месту разгоревшийся любовный «аппетит» юноши.
— Понравились? — тихо спросил я, когда служанки ушли.
— Русские девушки самые красивые на свете, — честно сказал кузен. — Жаль, у нас мало времени, а то я бы за ними приударил.
— Это всегда успеется, — резонно заметил я. — До утра ты совершенно свободен и можешь заниматься всем, что в голову взбредет. Лишь бы был в состоянии продолжить поездку.
Стоило только произнести эти слова, как двоюродного братца и след простыл. Кажется, он даже забыл думать об ужине.
— Есть-то когда будешь? — крикнул вдогонку я. — Ты же голодный!
— Потом, — донеслось откуда-то с лестницы, ведущей на первый этаж.
— Пущай резвится, — засмеялся Михайлов. — Дело молодое. Махнется с красоткой разок, считай, что поужинал. Ну, а мы с того, если с лебедушками утешимся, все ж никак не насытимся. Верно я говорю, тезка?
Михай неопределенно пожал плечами и ничего не сказал в ответ. Я давно наблюдал за ним такую отстраненность и глубокую задумчивость. Как будто сидит другой человек, не похожий на моего гренадера.
Мы спустились в трапезную. Хозяин велел накрыть для нас стол. Чижиков и Михайлов мечтательно поглядывали на ряды винных бутылок, но я отрицательно мотнул головой.
— Жаль, — вздохнул наш бывший дядька. — У меня с дороги горло прям пересохло.
— И у меня, — поддакнул второй гренадер. — Аки пустыня раскаленная шкворчит.
— А ты кваску туда плесни, — посоветовал я. — Враз полегчает.
Михай, не обращая внимания на наш обмен шутками, молча вгрызся в истекающую жиром куриную ляжку.
К нам подошел драгунский прапорщик — полный, с фигурой, напоминающей кадушку для засолки огурцов.
— Разрешите присесть? — произнес он на немецком.
— Садитесь, — пожал плечами я.
— Вы знаете русский?
— Совершенно верно.
— А мне сказали, что вы иностранцы.
— Одно другого не исключает. Вы все же присаживайтесь, в ногах правды нет.
Драгун грузно опустился на лавку. Очевидно, он происходил из той породы людей, что самое мельчайшее действие непременно сопровождают шумовыми эффектами. Лавка заскрипела на весь трактир, от неловкого движения локтем принесенная им кружка с пивом грохнулась на пол и с ужасающим треском раскололась. Сразу прибежала расторопная служанка с тряпкой. Она подоткнула платье, встала на четвереньки и быстро вытерла образовавшуюся лужу.
— Прошу пардону, господа, — извинился драгун.
— Ничего страшного, пиво тут и вправду неважное, — сказал я.
— Позвольте представиться — Перов Тимофей, по батюшке Иванович, из шляхетства псковского, — важно сказал драгун.
— Барон курляндский Дитрих фон Гофен, а это мои слуги, вряд ли вас интересуют их имена. Будем знакомы.
— Почту за честь, — пропыхтел толстяк.
Он потребовал еще пива и приступил к тому, зачем подсел:
— Господа, смею спросить, вы в каком направлении едете? Поверьте, говорю это отнюдь не из праздного интереса.
Большого смысла в утаивании некоторых деталей маршрута я не видел и потому спокойно ответил:
— Думаю, после Новгорода посетить Псков. Я много хорошего слышал об этом городе.
— Выходит, вас послало само провидение! — Драгун истово, с размахом перекрестился. — Может, возьмете меня в компанию? Начальство дало мне отпуск, и я еду в Псков. Там у меня живет невеста. Мы уже обручены, пришло время обвенчаться, — мечтательно произнес толстяк.
— Поздравляю. Не сомневаюсь, что она сделала достойный выбор, — вежливо сказал я.
— Спасибо. Так каковым будет ваше решение?
— Ну, если вы готовы сорваться отсюда завтра спозаранку — ничего не буду иметь против вашего общества.
— Барон, я рад это слышать. Можете мне поверить, я так жажду встретиться с моей невестой, что не собираюсь засиживаться в этой дыре ни одного лишнего часа. Завтра так завтра.
— Решено, — кивнул я. — Я прикажу слугам разбудить вас, чтобы вы успели собраться.
— Тогда пропустим по чарочке за знакомство? Я оплачу.
— Спасибо за предложение, но мой ответ отрицательный, — с улыбкой ответил я. — Предпочитаю держать голову трезвой.
— Дело ваше, барон, а я вот себя побалую. Невеста у меня строгая, вино на дух не переносит, так что придется держать себя после свадьбы в рамках. Ну а пока и покутить — не велик грех. — И офицер добродушно улыбнулся.
— Зачем вы разрешили ему с нами ехать? — удивленно спросил Чижиков, перед тем как легли спать.
— Не знаю, — спокойно ответил я. — Вдруг пригодится?
И оказался прав.
Глава 33
Мы проехали махонькую, дворов в десять, деревушку, построенную возле узкой полоски воды — не то ручья, не то речушки. Две женщины с платками на головах, в длинных домотканых рубахах на мостке полоскали белье и не обратили на нас внимания. Должно быть, проезжих тут и без нас хватало. Чуть поодаль мальчонка лет пяти ожесточенно натирал песком черные, как смертный грех, чугунки. Больше никого не увидели — сенокос был в самом разгаре.
— Эй, девоньки, — приосанившись, выкрикнул Михайлов, — мы в Псков правильно едем?
Одна из женщин, помоложе, оторвалась от стирки, махнула рукой в направлении дремучего леса, видневшегося километрах в двух от деревеньки:
— Туды езжайте. Все прямо и прямо до самой Боровни, а там спросите.
— А что за Боровня такая?
— Деревня это, — явно удивившись вопросу, ответила женщина. — Большущая!
Понятно, для кого-то и село — город. А для такой глухомани и подавно. Я вообще поражался столь малой заселенности этого края. Можно проехать приличное расстояние и не встретить ни одной живой души.
— А попить молочка холодненького не найдется? — поинтересовался Чижиков.
— Дашь копеечку, я тебе цельную крынку налью, — по-деловому сказала женщина постарше.
Она вытерла красные, покрытые цыпками руки об рубаху, поправила платок и вопросительно уставилась на нас.
— А даром? — вступил в разговор Михайлов.
— Даром водички могу из колодца плеснуть. Надоть?
— Не, — замотал головой Чижиков. — Неси молоко, будет тебе копейка.
— Не обманешь?
— Вот те крест!
— Ванятка, — окликнула она мальчишку.
— Что, мама?
— Сгоняй в погреб, принеси молочка путникам.
— Бегу. — Пацан помчался так, что только босые пятки засверкали.
Принесенное молоко оказалось холодным до ломоты в зубах и вкусным. Даже драгунский прапорщик, крививший дотоле нос от жидкостей, не содержащих спирта, с удовольствием приложился к крынке, смачно сглотнул, размазал пролившиеся капли по шикарным усам и одобрительно крякнул.
— Храни вас Николай-угодник, — напоследок сказала пожилая женщина, когда мы, расплатившись, двинулись дальше.
Песчаная светло-желтая дорога проходила сквозь бор изумительной чистоты — одни только сосны да лесной «ковер», сложенный из опавших иголок и шишек. Высоченные ровные деревья стояли плотными рядами, как гвардейцы на параде. Верхушки покачивались в такт ветру, изредка доносился звонкий перестук дятла и пение невидимых птиц.
По небу бежали облака, оставляя на земле прохладную тень. Только что голову напекало солнышко, и вдруг раз — ты в середине темного пятна, которое стремительно несется вперед. Проходит несколько секунд — и вновь яркий свет и жара.
Мои парни ехали впереди, драгун тащился, чуть отстав. Он уронил подбородок на грудь и сладко дремал, изредка открывая глаза, когда приходилось преодолевать препятствие.
Я завидовал его безмятежности. С другой стороны, он «прогудел» на первом этаже новгородского трактира всю ночь и теперь добирал потерянный сон. Похоже, невесте придется еще с ним намучиться. Личности вроде него с трудом поддаются семейной «дрессировке».
Михай по-прежнему оставался нелюдим, держался обособленно, в разговоры если и вступал, то в самые незначительные, отделываясь односложными короткими фразами. Гренадеры, прекрасно понимая состояние поляка, старались его не задевать.
Карл, более-менее сносно научившийся русскому, с интересом прислушивался к нашим беседам, но не всегда принимал в них участие. Беглая речь давалась ему все же неважно.
Поездку вполне можно было бы назвать приятной, если б не надоедливый гнус. Комариный сезон еще не настал, зато слепни водились в избытке. То и дело приходилось громкими шлепками убивать мерзких насекомых, норовящих укусить в самое неожиданное место.
Дорога разделилась на два рукава — один, узенький, вел к видневшемуся в отдалении погосту. Второй рукав, пошире, накатанный тысячами колес и изрытый копытами лошадей, прямой ниточкой уходил на многие версты без единого поворота.
Местечко для тех, кто упокоился навсегда, выбиралось со вкусом, если можно так выразиться, — тихо, красиво и спокойно. Кладбище выглядело ухоженным, за могилками присматривали — убирали, прогоняли надоедливых ворон и соек, поправляли струганые кресты. Видимо, жители окрестных деревень здесь хоронили родственников и рассчитывали в будущем тоже найти тут последнее пристанище.
— Райское место, — благолепно сняв шапку, произнес Михайлов. — Хотел бы я, чтоб меня похоронили в таком, а не где-нибудь на чужбине.
Он перекрестился.
— А не все ли равно тебе, где гнить? — вяло спросил Чижиков, не разделявший философских настроений собеседника.
— Нет, не все, — недовольно произнес Михайлов. — Здесь все родное, свое. Глаза не нарадуются.
— Это на кресты-то глядючи?
— Да не в крестах дело, — вскипел собеседник. — Лепота тут. Грибов, наверное, видимо-невидимо, зверья всякого мильенами бродит, а в речках рыба разве что из воды не выпрыгивает. Зачерпни ведро — обязательно леща или уклейку вытащишь. Остался бы тут навсегда, избу бы купил — она, чай, рубля три, не больше стоит, бабенку б завел из вдовушек, поласковей, хозяйством каким-никаким прирос.
— Гляди, как бы действительно не остался, — пробурчал Чижиков. — Вон и могилка свежевырытая впереди имеется.
Михайлов бросил взгляд на черный провал в земле и ядовито сплюнул:
— Типун на язык тебе, Степка, болтун ты несчастный.
— Кто из нас болтун! — рассмеялся дядька.
— А у тебя что — не лежит душа к этим краям? — подъехал я к Чижикову.
Гренадер устало вздохнул:
— Почему не лежит? Лежит, конечно. Токмо погнали нас всей семьей отсюда из Рассеи метлой аж до самых крымских степей. И за то спасибо, конечно. Могли батьку моего вообще без головы оставить.
— Из-за чего? — не сразу понял я.
— Знамо из-за чего. Батя мой в стрельцах московских служил, что бунтовать супротив Петра Ляксееича вздумали. Хучь и ни при чем предок мой был, и в мыслях не держал на самодержца покушаться, но как пошли головы на плахе лететь, его вместе с другими в назидание из Москвы выперли и на границу с крымчаками послали с маткой моей да нами, детворой, мал мала меньше. Не все и доехали... Кажную версту кого-то да хоронили. Дали нам землицы чуток, а как зачали полки ланд-милицейские строить, так я туда напросился. Батька сказал, что, раз бугаем таким вымахал, нечего за сохой ходить.
— А в гвардию как попал?
— Обычным макаром, почитай, как почти все из наших... Приехал майор Хрущов, стал людей для гвардии присматривать. Меня начальник наш все уберечь хотел от набору, жалко ему было в столичные войска справного солдата отдавать, да рази такую оглоблю схоронишь? — усмехнулся Чижиков. — Прятали-прятали, да все без толку. Майор, видать, глазастый попался, а может, и донес ему про меня кто. Он как увидел меня, ажно от радости затрясся, Гаргантюэлем каким-то назвал. — Гренадер сплюнул. — Хто хоть это, господин сержант? Скажите, сделайте милость!
— Великан такой из книжки.
— А, — успокоенно протянул гренадер. — Тогда ничего. Я уж думал, ругательство какое. Много доводилось слышать. Так уж устроены люди русские — шагу не шагнут, чтоб не полаяться друг с дружкой, хоть по поводу, хоть впустую. Батюшки святы, запамятовал, на чем и остановился, — растерянно произнес Чижиков.
— На том, как майор Хрущов в гвардию тебя записал, — напомнил я.
— Точно, — кивнул гренадер. — Так все и было. Приехал майор, пальчиком ткнул, великаном энтим назвал и велел писарю бумагу на меня готовить. «Ты, говорит, Чижиков, хоть по фамилии — птаха мелкая, зато вид имеешь исполинский. Стало быть, полагается тебе в гвардии дальше служить». Понятно, что мнения моего и спрашивать не стали. Так и записали меня да еще сотню хлопцев из ланд-милицейского полка в гренадеры гвардейские. Я поначалу закручинился, знал, что у бати из службы вблиз особы царевой ничего путнего не вышло, и у меня на роду такое ж, поди, нарисовано. Но потом привык, втянулся...
— И как, не жалеешь?
— Чего ж жалеть-то?! Чему быть, того не миновать. Умный человек везде примененье себе найдет. Так и с гвардией получилось.
— Значит, ты из московских стрельцов. Интересно, — протянул я. — Вы поначалу в Москве стояли. Не тяжело было в том месте, где раньше жил, обращаться?
— Да как сказать. По первой приходили в башку мыслишки разные, да враз за кончились. Сходил я как-то, поглядел на домик, что батяня руками своими срубил. Стоял возле забора битый час, и ничто внутри так и не шевельнулось, хучь и прошло здесь не одно лето детское. Вот оно — время — что вытворяет. Чужой стала мне Москва, будто и не родился тут.
— А Михайлов откуда будет?
— Леший его знает, — махнул рукой Чижиков. — Из рекрутов набрали, а откуда именно — мне то не ведомо.
— Вологодский я, — обиженно просипел Михайлов — очевидно, дало о себе знать холодное молоко, и гренадер простыл.
— Что, из самой Вологды?
— Ну не из самой, а из деревеньки, что верстах в двадцати от нее будет. Меня поначалу в Бутырский пехотный полк определили, а как ротного моего в гвардию перевели, так он и меня за собой потащил.
— Как зовут твоего благодетеля?
— Дык их благородие подпоручик Хитров Андрей Васильевич. Токмо здесь наши дорожки уже разошлись. Меня в гренадеры забрали, а его в фузелёрскую роту определили. Он все хотел в денщики забрать, да не сложилось.
— Неужели переживаешь, что, вместо того чтобы офицеру своему сапоги чистить да мундир штопать, в регулярстве находишься? — спросил Чижиков.
— При Андрее Васильевиче оно, конечно, поспокойней бы было, он человек душевный — мухи зазря не обидит, но не в человеческой это власти — судьбу свою упорядочивать. Так что мне и тута, в гренадерском капральстве третьей роты, неплохо. Еще б и гоняли вы, господин сержант, не так сильно — я бы жил да в ухо не дул.
— Дурья твоя башка, господин сержант солдата из тебя настоящего делает, а ты просишь, чтобы поменьше гоняли. Думаешь, на печи лежа, можно супостата победить? — разъярился Чижиков.
— Чего мне думать? — хитро прищурился Михайлов. — Нехай начальство думает, а нам приказывает.
— Выходит, котелок у тебя на плечах, чтобы еду в него запихивать, да и только? — поразился дядька.
— И для энтого тоже. Без пищи полезной и голова не работает, и тело не слушается.
— Все, заканчивайте, — устало сказал я, чувствуя, что начинается банальнейший гнилой «базар» ни о чем. — Драгуна еще разбудите.
— Энтого рази только пушкой добудишься, — снова засмеялся Михайлов.
Разговор прекратился. Все замолчали, думая о чем-то своем. Я же все больше — про окружающую нищету. Встреченные деревеньки мало чем отличались друг от друга — горсть черных избушек с огородами, окруженными хилым заборчиком, а чаще — плетнем. Землю пашут плугом, больше похожим на зубья какого-то дракона, — они вгрызаются неглубоко, слегка взрезая почву. Боронят устройством, изготовленным из напиленных деревянных пластин с сучками на нижней стороне. Понятно, что о щедром урожае остается только мечтать, а ведь при грамотном подходе эта землица способна про кормить не од ну страну.
Насколько я понял, за границей давно в ходу устройства гораздо удобней и практичней. Понятно, что Петру Первому было не до сельского хозяйства, он развивал промышленность, да все больше военную, заботился об армии и флоте. Не дошли у него руки до мужика деревенского с косой да сохой. Разве что налогом посильней обложить удалось.
Вот где поле непаханое для прогрессорства! Жаль, не агроном я, из удобрений знаком разве что с навозом, а дачными грядками занимался из-под палки, когда родители наседали.
Помню, как Бирон, подполковник, сокрушался, что не выращивают здесь картофель. И ведь по-человечески его понять можно, сам о жареной картошечке с салом мечтаю, чтоб шкворчала. Вот бы подбить кого культурой этой заняться на полном серьезе — привезти клубни из Германии или Польши, засадить поле побольше, народ постепенно приохотить, только не таким способом, как у нас принято, — с расстрелами да бунтами. Французы, умные люди, что придумали: нарочно объявили запрет простым крестьянам картофель выращивать, только знатным господам разрешили. Конечно, французские «фермеры» быстро из господских полей картошку повыкапывали и у себя посадили. Так и приохотились. Вот что значит тонкое понимание человеческой психологии! Надо бы и у нас такое сделать.
Да много к чему руки приложить стоит! Я первый год немного шальным был, не понимал ничего толком, по наитию действовал. Хорошо, дров наломать не успел. Теперь у меня и знания есть, и опыт небольшой накопился. Осталось только найти этому должное применение. А для этого надо расти, шагать вперед. Тесен стал мне сержантский мундир, нутром это чувствую, но как из пешки в ферзи прыгнуть — не знаю.
И Ушаков, и Бироны — все хотят использовать в своих интересах. Люди они умные, на мякине таких не проведешь. Это сейчас хорошо, что наши интересы совпадают, а если вразнос пойдут? Стереть меня с лица земли для них — раз плюнуть. Подумаешь, барон какой-то курляндский, зачуханный, — не велика птица. Сегодня грохнут, завтра забудут.
Да и я тоже — мечусь между ними, хоть разрывайся. И главное — не знаю, к какому берегу пристать. Везде и плюсов и минусов с избытком.
И наверное, я б и дальше ломал себе голову, если бы не случилось одно весьма неприятное происшествие: шагах в десяти от нас на дорогу повалилось высокое кряжистое дерево, а сзади упало точно такое же, перекрывая путь в обратную сторону.
Глава 34
Вот что значит проявить полную беспечность! За долгим разговором мы и не заметили, как оставили позади бор и въехали в небольшую ложбинку меж двух холмов, густо поросших смешанным лесом. Упавшие деревья фактически отрезали нас с двух сторон. Стволы располагались на уровне груди, лошадям без разбега преодолеть такое препятствие невозможно, к тому же велика вероятность напороться на острые, выставленные словно кинжалы, ветки.
А главное, быстро-то как. Раз-два и готово. Я едва успел осадить мерина, иначе внезапно свалившееся дерево размозжило бы ему голову. Остальные попутчики не сразу сообразили, что произошло, — слишком стремительно развивались события, за какие-то доли секунды.
Засада! В подтверждение моей догадки с холма спрыгнул и встал перед нами в картинной позе бородатый мужик в рваном кафтане, подпоясанном кушаком, в залатанных штанах, с классической рогатиной в руках. Он снял с головы шапку пирожком, нарочито низко поклонился, задев косматыми волосами землю, и, закончив ритуал приветствия, распрямился и водрузил головной убор на место:
— Мир вам, люди добрые, желанные.
— И тебе чего-то в этом роде, — сказал я и приготовился вытащить из-за пояса пистолет.
Бородач глянул на мои действия с насмешкой и с убедительностью страхового агента заявил:
— Ты бы, человече, не трогал пистоль. Вертай обратно. Чай, из нее и убиться можно. Ты мне ее лучше отдай, у меня сохранней будет.
— А если я тебе из нее башку продырявлю? — спросил я, не слезая с коня.
Вместо бородача ответило ружье из кустов. Пуля едва не задела мне ухо. Я невольно подпрыгнул в седле, а разбойник довольно засмеялся:
— Чай, не лаптем щи хлебаем. Такую ижицу пропишем, пожалеешь, что мамка с папкой на свет белый родили.
Я оглянулся, пытаясь рассмотреть, где засели другие разбойники, почему-то не спешившие принимать участия в «деловом» разговоре, но никого не разглядел. Хорошо спрятались, сволочи. Хотя кругом так заросло, что целый полк заныкать можно. Лучше естественной маскировки ничего не придумаешь.
Глупо, конечно, получилось. Нет слов. И угораздило же попасть в банальнейшую засаду, устроенную местными робингудами. Ведь на каждом постоялом дворе предупреждали, что пошаливают на дорогах, не гнушаются ничем. Отморозков всяких полным-полно на любой выбор — и профессионалы, и любители.
Приперла мужика жизнь, взял рогатину — и на большую дорогу экспроприировать экспроприаторов, а компания веселая всегда найдется.
Другой вариант — дезертиры. Их в округе больше, чем комаров на болоте. Мало кому нравится солдатская доля: муштра, побои, голод, да и война идет, по сути, непрекращающаяся — то со шведами, то с татарами. Один стерпит, а второй от постылой безнадеги в леса подастся: до вольного Дона далеко слишком, заставы не дремлют. Пока до казаков доберешься, раз десять поймают, в кандалы закуют. А лес — вот он, рукой подать.
Еще с Сибири бегут, воры-каторжники — без носов, с выдранными ушами, с клеймами на лбу. Эти считаются самыми отмороженными, терять им нечего. Без проблем атакуют что обоз купеческий, что карету дворянскую, а ведь ни купцы, ни дворяне без вооруженной охраны и шагу не сделают, потому что привычны к такому раскладу. Драгун наш, тот вообще в одиночку ехать не хотел — побоялся. Потому и обрадовался, когда узнал, что мы в Псков собираемся.
И как вести себя в этой ситуации — неизвестно. Рискнем, поднимем пальбу — кто ж знает, сколько в кустах засело «охотничков» с ружьями, перестреляют нас как куропаток. Перещелкают, словно в тире. Понятно, что, умирая, на тот свет кого-то да прихватим. Но только это и будет единственным утешением. Задание Ушакова не выполним, про миссию, оговоренную Кириллом Романовичем, тем более можно не заикаться. Плохой расклад получается.
А в душе вполне естественный страх: жить-то охота, молодым умирать не хочется. И слабая надежда, что сумеем договориться, отделаемся небольшим выкупом и продолжим путь дальше. Вряд ли разбойники собираются нас прикончить, уж на что мой родной век — двадцать первый — паршивый, все же и там далеко не каждая бандитская рожа грех убийства на душу берет. А ведь в практичности современникам не откажешь, если уж начнут убирать свидетелей и заметать хвосты, так вплоть до следователей по данному делу.
— Ты, вертоголов, заканчивай, по ваши души зарядов у нас хватит, — разозлился бородач. — А ежели за главного тута, молодцам своим скажи, чтобы без шуток. Следующий раз пульнем в любого на выбор.
Я посмотрел на товарищей по несчастью. Чижиков и Михайлов выглядели невозмутимыми, рискну предположить, что не первое в их богатой биографии ограбление. За оружие не хватались, выжидали. Карл бросал беспомощные взгляды то в мою сторону, то на бородача, то в заросли, откуда прозвучал выстрел. Он явно не понимал, что ему предпринять, и всецело полагался на меня. Спасибо за доверие, кузен, но я сам в полной прострации.
Михай как был, так и остался отстраненным. Не знаю, где витали его мысли. Наверное, где-то далеко отсюда... В далекой-далекой галактике... Или в другом измерении. Веяло от него фатализмом в духе дзен-буддизма. Нет, у парня явно мозги набекрень пошли. По-хорошему, ему надо хватать Ядвигу под мышки и на курорт, нежиться под солнышком, пить «боржоми» или что там вместо него, приводить нервы в порядок. А самое страшное — всеми фибрами чувствую, что добром это не кончится.
С ним как на пороховой бочке — не знаешь, когда рванет. Было бы плевать на парня — спокойно отошел бы в сторонку и не вмешивался бы, но я не могу так поступить — это мой человек, мой подчиненный, возможно, даже друг, хоть и не хочется разбрасываться такими терминами.
Драгун вроде и не проснулся. Лицо как было снулым, таким и осталось, глазки-щелочки, брови чуть на нос не опускаются. Сидит в седле, зевает, ладошкой рот похлопывает. Дескать, утомили меня ваши разборки. Потрясающее самообладание у человека, а может, хмель не успел выветриться? Знавал я героев, которым после второй бутылки — море по колено, а прапорщик не то что одной бутылкой — ведром не ограничился. У Чижикова аж слюнки текли, на драгуна глядючи, как у собаки на сахарную косточку, хорошо хоть я присматривал и деньги на всякий пожарный случай отобрал, потому что дошедший до определенной кондиции пьяный дядька мог стать очень большой проблемой. С него б сдалось разгромить постоялый двор.
— У вас, вижу, лошадок с собой аж по две штуки на брата. Может, поделитесь? — продолжал вопрошать бородатый разбойник. — Деньжата, ежели имеются и карманы оттопыривают, сюда кидайте. Я не гордый, с землицы подниму, за здоровие ваше и живот в кабачке выпью.
Разбойник по-прежнему рисовался, но была в его игре какая-то фальшивая нотка, которая слабенько, но ощущалась. Похоже, драгун прочувствовал это первым.
— У меня с собой только это. — Он достал из-за пазухи белую тряпицу и показал издалека.
Рыбка моментально клюнула на нажив ку. Конкистадоры подкупали индейцев стеклянными бусами, этот повелся на нечто загадочное и завернутое в белую материю.
— Что это у тебя? Покажь, — заинтересовался разбойник, разом забывший об осторожности.
— Не могу, очень приватная вещица, — с такой деликатностью в голосе сказал драгун, что все поверили — там и вправду что-то очень личное и дорогое.
— Стесняешься? — удивился заинтригованный разбойник. — Ладно, сюда тащи.
— Секунду. — Драгун спрыгнул с коня, вразвалочку подошел к бородачу, спокойно протянул ему тряпицу и вдруг неожиданно ловким движением, будто всю жизнь отрабатывал, оказался у него за спиной, одной рукой зажал горло, а вторую с остроконечным, похожим на шило ножом поднес к беззащитному боку.
— Эй, ты что вытворяешь? — обиженно произнес бородач.
Драгун с силой вдавил лезвие, кажется, не до крови, но разбойник перепугался не на шутку:
— Пусти меня!
— Размечтался!
Бандит попытался освободиться от захвата, но прапорщик быстро привел его в чувство. Мы смотрели на разыгрывающееся представление, будто в театре. По идее, так поступить должен был кто-то из нас, но драгун оказался умней, ловчей и проворней. Интересно, чему их готовят в полках? Это ж не драгуны, смесь морской пехоты с десантниками получается. Или нам повезло нарваться на такого одаренного?
— Чего тебе надо, басурман эдакий? — смирившись, пролепетал бородач.
— Людей своих кликни.
— Зачем тебе?
— Посмотреть на них хочу. Да вели, чтоб без дураков. Если кто выстрелит, я испугаюсь, рука дернется. Продолжать?
— Н-не надо, — заикаясь, сказал разбойник.
Он набрал полную грудь воздуха и прокричал:
— Эй, неча в кустах сидеть, выходь-ка!
Кусты затрещали, ветки раздвинулись и на дорогу выпрыгнул... угловатый подросток. Вернее, да же не подросток — девушка, переодетая в мужскую, с чужого плеча одежду. В руках ружье — кажется, охотничий штуцер, с дымящимся дулом.
— И все? — с изумлением произнес драгун.
— А больше и нет никого. То ж мы токмо с племянницей моей Машкой вас на дороге встретили.
— Ты серьезно?
— Дык куда серьезней. Нетути там никого больше. Хучь щас проверьте. — Бородач виновато вздохнул.
Михай отобрал у девчонки штуцер и топтался рядом, не зная, что делать дальше. Воевать с женщинами он не умел и не собирался учиться.
Я кивком показал Чижикову и Михайлову на кусты. Они быстро соскочили на землю, забежали в заросли и вернулись с пустыми руками.
— Верно говорит — нет больше никого. Одна девка была, и та из кустов вышла, — подтвердили слова разбойника гренадеры.
Мы не верили своим ушам. Засаду шестерым вооруженным мужикам устроили двое — шут гороховый вместе с племянницей. Не знаю, на что они положились — то ли на счастливую звезду в небе, то ли на страх в наших душах, то ли совсем из ума выжили, а может, все три варианта вместе. Хотя, окажись наш случайный попутчик более робкого десятка, у них могло и получиться. Мысли о вооруженном сопротивлении я отгонял прочь, как неудачные. Риска на рубль, а результат — в лучшем случае на полушку. Нет, если бы меня предупредили, что в кустах засела девчонка со штуцером и больше никого нет, я бы еще мог покрасоваться, но, увы, никто не спешил делиться столь ценной информацией.
Я спрыгнул с коня, подошел к драгуну, тот продолжал удерживать разбойника стальным захватом.
— Похоже, он говорит правду. Их всего двое.
— Да-да, — затряс головой разбойник. — Видите, не врал я. Двое нас всего.
— Мать твою, борода долбанная! — вспылил драгун. — Себя под монастырь подвел и племянницу не пожалел! Знаешь, что с вами будет опосля этого?
— Дык ничего хорошего, — предположил незадачливый грабитель.
— Верно. Сколько ж вы народу ограбить успели?
— Да нисколько. Вы первые. Мы ж почему на дорогу вышли — погорельцы мы, все хозяйство в дым и пепел ушло: дом, скотина... Жена — и та выпрыгнуть не успела, только сына в окошко передала. Ничего спасти не смогли, ничего, — с горечью забормотал бородач. — Хучь по миру иди. А я не могу. У меня ж еще у соседей дитятко сидит, три годика ему всего.
— Хватит зубы заговаривать. Разжалобить пытаешься?
— Ничего я не пытаюсь. Так все и было.
— По миру идти не захотел, а в воры подался. У, крапивное семя! — прикрикнул драгун. — Сдам вас полицейским, а они церемониться не станут. Не до политесов. Вздернут на первом суку, чтобы больше честной народ не грабили. Хотя... — Драгун задумался. — Когда мы еще до той полиции доберемся... Вози вас с собой.
Он резким движением оттолкнул от себя бородача, вытащил пистолет, направил дуло прямо в лоб грабителя. Палец лег на спусковой курок. Разбойник сжался, девчонка закричала.
Это было как в замедленной съемке. Я едва успел отбить руку драгуна в сторону. Грохнул, да так, что уши заложило, выстрел. Пуля ударилась в дорогу, взметнув облачко пыли.
— Вы чего? — возмущенно закричал драгун. — Это же негодяи, их убивать надо при первой возможности!
— Он безоружный. Так нельзя! Вдобавок здесь его племянница. Хотите пристрелить дядю у нее на глазах? Не по-христиански это, господин прапорщик.
Я прочитал в глазах гренадер согласие с моими словами.
Драгун растерянно замигал:
— Просто поражаюсь вам, господа. Эка невидаль! Подумаешь, какая-то дворовая девка!.. С ней можно порезвиться напоследок, перед тем как укокошить. Она вполне сгодится. Если не в вашем вкусе, господа, я могу попользовать ее один.
— Мразь, — рявкнул я и мощным ударом послал его в нокаут.
Драгун распластался на дороге, дернулся и затих.
Я перевел взгляд на сжавшуюся девушку, походившую на взъерошенного воробушка:
— Забирай своего дядьку и проваливай! Быстрее, пока не передумал! Чтобы духу вашего здесь не было. Узнаю, что этим ремеслом продолжаете заниматься, — голову откручу. Лично! — Последнюю фразу я почти прокричал.
Девушка помогла встать дяде, взяла его под руку и осторожно стала подниматься с ним на холм. Они почти скрылись, как вдруг племянница остановилась, обернулась ко мне и, низко поклонившись, произнесла:
— Добро добром вернется, господин хороший.
И незадачливые разбойники исчезли в кустах.
— Надеюсь, больше приключений на сегодня не предвидится, — сказал я, вытирая со лба пот. — Давайте разбирать завалы. Путь неблизкий.
— А с энтим чего делать? — Чижиков показал на не пришедшего в сознание драгуна.
— С собой забирать, конечно, — пожал плечами я. — Не бросать же его здесь. А если еще кричать будет — двинь ему разок от моего имени.
Гренадер улыбнулся:
— Как не двинуть — обязательно двину. И от вашего имени, и от себя добавлю.
Дядька повертел перед глазами пудовый кулак и так ухмыльнулся, что всем стало ясно — все, за что берется Чижиков, делается с душой и старанием.
Люблю его за такой подход.
Глава 35
Я испытывал определенное неудобство перед драгуном, который выручил нас в трудной ситуации. Все же он дитя своего времени — скорый на расправу, не особенно озабоченный гуманистическими принципами, поэтому подходить к нему с точки зрения морали двадцать первого века не стоит. Схваченная разбойница для прапорщика вполне законная, можно сказать — заслуженная военная добыча, и он вправе распоряжаться ею как заблагорассудится, без скидки на пол и возраст.
Кодекс рыцарской чести здесь своеобразный, в основе его лежит право сильного, и я не уверен, что драгун от него отступил. Скорее всего, это мое поведение было чересчур вызывающим — ударил боевого офицера, отпустил разбойников, пускай даже преисполнившись самых благородных помыслов. Последнее, кстати, очень даже могло быть истолковано как усугубление вины.
Если прапорщик рискнет на меня донести, проблем будет выше крыши. Арест, суд... Любой прокурор от радости ладошки до мозолей сотрет.
Умом я все это прекрасно понимаю, а вот сердцем... Нет, меня нельзя назвать размазней и слюнтяем, я знаю, что мир несовершенен, что каждую секунду в нем совершаются чудовищные преступления, что справедливость — категория эфемерная, а между подвигом и злодеянием может оказаться разница не толще лезвия бритвы. Чтобы жить, приходится принимать чужие правила игры, а они далеко не всегда комфортны.
Не имея сил, чтобы изменить мир, — измениться самому, подстроиться под него? И сможешь ли ты после этого ощущать себя человеком?
Я далеко не идеален, грехов разных — и мелких и крупных — полным-полно. Мне часто приходилось врать и юлить, однажды невольно подставил знакомого, хотя это было скорее недоразумением, но осадок в душе остался. Меня нельзя назвать храбрецом — я многого боюсь, поэтому люблю перестраховываться. Не уверен, что смогу пожертвовать собой, если понадобится. Короче, для иконы мой лик является неподходящим.
Но иногда и я оказываюсь способен на поступок. Пускай он будет наивным, смешным, нелогичным, да чего уж там — откровенно идиотским, но все равно — это мой поступок. Я сам принял решение и поступил так, как посчитал нужным, для того чтобы не предать себя. И возможно, не раз о том пожалею.
Драгун очнулся через полчаса и долго крыл нас трехэтажными матами, но потом то ли всмотрелся в кулаки Чижикова, то ли просто выговорился, но в любом случае — остыл.
— Надеюсь, вы не собираетесь доносить на нас? — поинтересовался я.
— Нет, не собираюсь, — буркнул нахохлившийся офицер. — Хоть и нахожу поступок ваш зело неприличным.
— Тогда примите глубокие извинения за происшедшее. Мне сложно объяснить мотивы моего поведения, но я искренне хочу получить ваше прощение.
— Считайте, что ничего не было. Обиды на вас по зрелом размышлении я не держу. Догадываюсь, что вы представили себя эдаким Дон Кишотом и решили вступиться за честь дамы. Увы, встреченная на дороге особа, показавшаяся вам Дианой-охотницей, скорее всего, вас же и облапошила с помощью своего дядюшки.
— Почему вы так решили?
— Честная девица на большую дорогу не выйдет, путников грабить не станет. Здесь особливый склад характера требуется. Есть еще одно предположение: для простой крестьянки она слишком хорошо стреляет. Да и оружие у нее довольно дорогое и редкое. Скажите, часто ли вам попадались холопы с охотничьими штуцерами?
— Хм, вообще-то нет, ни разу не встречал, — задумчиво произнес я.
— Вот именно. Далеко не каждый шляхтич может позволить себе такой штуцер, будь он хоть трижды охотником. Нет, энто ружье неспроста у нее появилось — украдено или отобрано у кого-то. Мы не первые, кого они так привечают.
Было обидно чувствовать себя натуральным ослом, а драгун продолжал травить мне душу:
— Думаю, встретились мы с будущей Марьей Разбойницей, не успевшей еще войти в полную силу.
— А что за Марья Разбойница? — полюбопытствовал я.
— А вот трубочку табаком набью и расскажу, — произнес прапорщик.
Он закурил и продолжил:
— История это давняя, случилась еще во времена Петра Алексеевича. Появилась на Ярославской дороге шайка разбойников, беглых каторжан. И стояла во главе их баба — Маруська Семенова. Как она командиром ихним стала — то мне неведомо, но слово Маруськино для каторжников тех было законом. Прикажет землю есть или живота себя лишить — выполнят не задумываясь. Такая у нее власть над ними была. Много богатых карет и торговых обозов они пограбили, до того народ запужали, что люди стали бояться по дороге той ездить. Сколько раз пытались поймать ее, да вот незадача — ничего не получалось. Хитра была девка! Из всех передряг выпутывалась. Один раз завела отряд стрельцов, посланных, чтобы словить ее, на болото и там утопила. Вот и пошли слухи, что Маруська эта не иначе как ведьма.
Я улыбнулся:
— Что, так и не поймали?
— Почему не поймали? Поймали, — с гордостью объявил драгун. — И ведь что она удумала! Не побоялась на возок, везущий самого государя, напасть. Болела нога сильно у Петра Алексеевича, вот и ехал на лечение, а солдат с собой мало взял, на трех возках уместились. Два впереди ехали, а третий, с князем Ромодановским, поотстал. Заехали два возка на мост через реку Клязьму, а тут их уже и ждали. Подпилили злодеи бревна, вот и застрял царь-надежа с охраной невеликой на мосту том. Того не знали лиходеи, что позади князь Ромодановский с солдатами едет. Не увидели его. Вот Ромодановский всех-то разбойников и перестрелял, а в кого не попал — споймал и в Москву доставил. Долго Маруську на дыбе пытали, токмо она пытки достойно встретила и в вине своей не покорилась. А как собрались ее, по обычаям, на кол сажать, так она Петру Алексеевичу и говорит, что ежели простит ее, как Христос на горе Голгофе двух разбойников раскаявшихся, то ногу она ему вылечит.
— И что, простил ее Петр?
— Простил, указом своим помиловал, а она ему и впрямь ногу-то вылечила. Не болела с той поры. В награду государь замуж ее выдал за купца богатого. Шесть детишек родила Маруська, а один, говорят, уж больно на царя был похож. — Прапорщик лукаво подмигнул, дескать, понимай как хочешь.
Никогда не слышал этой истории, хотя чувствовалось, что драгун говорит правду.
— Не думаю, что наша Машка Маруське той ровня, — сказал я. — Уж больно легко мы отделались. Да и явно на вторых ролях она после дядюшки своего.
— Сегодня да, а завтра — кто его знает? — развел руками драгун. — Только при другой встрече может уже и нам не повезти.
— Будет день, будет и пища. Главное — на других лиходеев не нарваться. Держим ухо востро до самого Пскова, а там наши пути разойдутся. А вам, уважаемый, большое спасибо от всех нас за то, что из беды выручили.
— Ну так всегда пожалуйста, — не замешкавшись, ответил драгун.
Мы расстались с ним в Пскове, предварительно угостив друг друга бутылочкой хорошего вина. Тимофей Иванович Перов поскакал к своей зазнобе, взяв с нас обещание заглянуть к нему при обратной оказии, а я с удовольствием пожал ему на прощание руку.
Постоялый двор в Пскове ничем не отличался от большинства подобных заведений, раскиданных вдоль дорог необъятной России, — жесткие кровати, столование в трактирчике на первом этаже, кусачие клопы и блохи по ночам.
Я не собирался долго задерживаться в этом городе, нас ждала Польша, однако Карл внес коррективы в намеченные планы.
— Кузен, раз мы не ограничены во времени и вольны выбирать с бе маршрут, почему бы не завернуть хоть на денек в родные пенаты? — витиевато спросил он.
Я задумался. Понятно, что парень за этот год успел соскучиться по родным, и было бы жестоко лишать его возможности встретиться с ними. Крюк выходил не очень большой, и день-другой задержки погоды не делал. Гренадерам все равно — заедем в Курляндию или нет. Они просто выполняли приказы, всецело полагаясь на мою командирскую волю.
К тому же при мысли, что можно встретиться с матерью настоящего Дитриха, что-то больно кольнуло внутри. Наверное, это среагировало то немногое, что осталось от прежнего хозяина тела.
Я дал согласие, хоть и был при том ряд тяжелых моментов: смогу ли смотреть в глаза матери Дитриха, выдержу ли ее взгляд, получится ли изобразить любящего сына? Ненавижу притворяться!
Отряд пересек границу с Курляндией на исходе третьего дня, не вызвав особого интереса у таможенников — курляндские дворяне возвращаются на родину из варварской России.
Я был в Прибалтике давным-давно, еще в детстве. Родители взяли меня в поездку, включавшую в себя посещение Риги. В те недобрые времена Латвия входила в СССР, но уже делала первые попытки к выходу в свободное плавание. В основном это выражалось в следующем: половина встреченных прохожих твердо объявляла, что не говорит по-русски и не может по этой причине помочь найти нужное место.
Мы гуляли по узким улочкам старинного города, любовались прекрасной архитектурой, заходили в магазины, которые были чуть побогаче, чем у нас в средней полосе России. Помню, как удивлялся дисциплинированности латышей, терпеливо дожидавшихся зеленого сигнала светофора, хотя поблизости не было никаких машин, а расстояние до противоположной стороны составляло метра три-четыре, не больше.
Никто не кричал в спину «оккупант» или «чемодан-вокзал-Россия», однако общая нервозность ощущалась. Она витала в воздухе, подобно смогу.
Нечто подобное я чувствовал и здесь. Формально герцогство Курляндское принадлежало Польше, и паны пока были здесь в большой власти. Сказывалось и соседство России. Наличие под боком двух хищников заставляло курляндцев нервничать. Рано или поздно им предстояло сделать выбор. Они это понимали.
К тому же по этих краям не так давно прокатилась война, а она никогда не проходит бесследно.
Мы видели много разрушенных и заброшенных хуторов, опустевшие поля, на которых некому было работать, разоренные замки, помнившие еще крестоносцев.
Родовое поместье фон Гофенов представляло собой одноэтажный каменный дом с оштукатуренными серыми стенами и белыми окнами. Дом стоял подобно маяку на возвышении — высоком холме. Неподалеку протекала неторопливая речушка с прозрачной и холодной водой. Вдоль нее расположились несколько хуторов. Из подворий доносилось мычанье коров и блеянье коз.
Мы прибыли к вечеру, и скотина уже загонялась в хлев.
В хозяйском доме нас заметили, на порог высыпали женщины, одетые в серые домотканые платья, в белых чепцах на головах. С ними единственный мужчина — высокий, в темном камзоле с воротником-жабо. Немного погодя вышла еще одна женщина в длинном платье строго покроя, с темно-русыми волосами и добрыми лучистыми глазами.
Сердце сразу забилось быстрее. Это была мать Дитриха. Выглядела она хорошо — гораздо моложе своих сорока с небольшим лет. Насколько я понял от Карла, муж ее, мой «отец», скончался довольно давно, оставив молодую вдову, маленького сына и небогатое поместье, пришедшее в полное запустение благодаря нечистому на руку управляющему. Однако храбрая женщина мужественно выдержала удар судьбы, взяла все в свое руки — вор-управляющий быстро лишился места, запущенное хозяйство постепенно выкарабкалось из руин, а сын получил вполне сносное, пусть и целиком домашнее воспитание.
Звали баронессу Эльзой фон Гофен, и это имя почему-то шло ей лучше других.
Мы подъехали к дому. Я лихо соскочил с седла, взбежал на крыльцо и, опустившись на одно колено, прижался губами к теплой руке матери. И сразу стало хорошо, будто на самом деле оказался на пороге родного дома, вернувшись после далеких скитаний.
А когда выпрямился, увидел поджатые губы баронессы и глаза, излучающие обиду и недовольство.
— Нет, это не мой сын, — сказала она.
Глава 36
Кровь бросилась мне в лицо. Неужели материнское сердце подсказало баронессе, что с сыном произошла подмена? Я сжал ее руку еще сильнее, с тоской приготовился выслушать безжалостный приговор.
— Нет, мой сын обязательно хоть раз написал бы матери, — продолжила баронесса.
Она позволила мне встать на ноги. Я увидел слезы в ее глазах, посеребренную прядь волос и красивое и в то же время доброе лицо. Не знаю, что сподвигло меня на последовавшие действия, возможно, и вправду ожила часть, доставшаяся от настоящего Дитриха: я обхватил ее за талию, рывком оторвал от крыльца и закружил в безумном танце сыновней любви.
Она забарабанила по моей спине кулаками, засмеялась:
— Отпусти, негодник. Поставь на землю! Слышишь, что я говорю? Немедленно...
— Поставлю, как только скажешь, что я твой сын!
— Ох, сыночек, — всхлипнула баронесса.
Я отпустил ее, обнял со всей нежностью и держал в объятиях до тех пор, пока пропылившаяся рубашка не стала мокрой от слез.
— Мама, мама, — голос мой дрогнул.
Былое чувство внутреннего раздвоения исчезло. И Дитрих, и я — мы вновь стали одним целым.
— Проходи внутрь, сынок. Вижу, что ты и Карла с собой привез!
Успевший соскочить с коня кузен снял шляпу и отвесил изысканный поклон:
— Рад увидеться с вами, дорогая тетушка!
— Я тоже рада встрече с тобой, мой мальчик. Знаю, что тоже не баловал родителей письмами.
— Мы были очень заняты, тетушка. И потом — я же знал, что непременно с ними свижусь в самое ближайшее время.
— Отужинаешь с нами или поедешь к родителям?
Карл вопросительно посмотрел на меня, я пожал плечами — поступай как хочешь. Мы договорились, что пробудем на родине не больше одного дня.
— Простите, тетушка, завтра мы снова отправляемся в путь. Я утром навещу вас.
— Как? — всплеснула руками баронесса. — Всего один день — и в дорогу?
— Простите, мама. У нас неотложное и очень важное дело, — сказал я.
— А кто с вами?
Гренадеры смущенно улыбались.
— Это мои товарищи, мама. Я расскажу о них поз же.
— Что же мы стоим? — спохватилась баронесса. — Проходите в дом, я похлопочу об ужине. Не беспокойтесь за лошадей, мой конюх все сделает. И еще... Яков, отправляйтесь к пастору. Скажите, что я приглашаю его к нам на ужин в честь возвращения сына.
Пришлось выступить вперед и сказать:
— Не надо никого звать, мама. Тем более пастора.
— Почему? — удивилась Эльза фон Гофен. — Разве я не могу показать ему, как вырос мой сын, как похорошел, каким здоровяком он стал?
— Позже, мама, позже. Я все объясню потом. А пока... — Я достал из-за ворота рубашки православный крестик и увидел изумление на лице матери.
— Хорошо, — подавленно сказала она, — это многое объясняет. Поговорим позже, ты прав, дорогой Дитрих.
Я вошел, чувствуя на спине неприязненный взгляд Якова. И вряд ли он был вызван переходом в другую веру — нательного крестика слуга не мог разглядеть. Значит, тут что-то личное, какие-то призраки из прошлого. Жаль, Дитрих мне не советчик.
Эльза фон Гофен отдавала распоряжения. Нежданно-негаданно свалившихся гостей следовало разместить, накормить. Пока резали поросенка, насаживали его на вертел, баронесса лично распределяла, кого и где устроить.
Дом не впечатлял размерами, однако две гостевые комнаты в нем нашлись — Чижиков и Михайлов поселились вместе, Михай, как всегда, предпочел одиночество. Меня баронесса привела в светлицу, некогда служившую спальней для ее сына: на полу — выделанная медвежья шкура, на стене охотничье ружье без особых украшений, рядышком трофей — голова лося с раскидистыми рогами. Знать бы, кто подстрелил. Возле окна широкая деревянная кро ать с высокой спинкой и прозрачным балдахином, комод с тикающими часами. Два мягких стула возле мощного дубового шкафа, сто лет не топленный камин. Похоже, здесь не жили больше года, однако чистота поддерживалась идеальная — практически медицинская стерильность: ни пылинки, ни соринки. На комоде две книги — традиционная Библия и, похоже, какой-то роман. Я бросил беглый взгляд на обложку, нет, автор мне неизвестен. Судя по названию, рыцарский роман. Выходит, настоящий Дитрих не только охотился, еще и находил время для книжек. Похвально для молодого человека.
— Видишь, я оставила все, как было до твоего отъезда, — не без гордости сказала мать.
— Спасибо. Приятно оказаться здесь после долгой разлуки. Такое чувство — будто и не уезжал никогда.
Мать (я решил про себя назвать ее так) закрыла дверь, прогнала любопытную служанку, вертевшуюся поблизости, и, сев на стул, приступила к расспросам:
— Как ты? Рассказывай...
Я занял второй стул и спокойно ответил:
— Со мной все в порядке, мама. Мы с Карлом благополучно добрались до Петербурга, устроились в лейб-гвардии Измайловский полк. Я выслужился до сержанта, Карл пока отстает, но у него все впереди. Он очень усердный и наверняка сумеет выбиться в офицеры.
— На сколько лет ты подписал кондиции?
— На пять, мама. Что будет потом — посмотрим, но эти пять лет я буду служить верой и правдой русской императрице.
— Сынок, Россия сейчас воюет с Турцией. Ты был на войне?
— Нет, — улыбнулся я. — Гвардию не трогают. Мы все больше служим в столице — ходим в караулы, охраняем царствующую семью.
— А императрица... Ты видел ее?
— Не один раз. Своим повышением я обязан милости ее величества.
Баронесса понимающе закивала:
— Да, пока она жила здесь, в Курляндии, о ней говорили только хорошее. Она не могла не обратить на тебя внимания. Скажи, а императрица выделяет нас, бывших земляков? Все же не один год царица Анна была нашей герцогиней.
— Не очень, мама. Она ведь русская по крови. Нет, конечно, Бирон, Левенвольде... они приближены к ее особе, но разве что за прошлые заслуги, в целом же иноземцы приравнены во всем к русским. Даже жалованье платится всем одинаково. Того, что было при Петре Великом, уже нет. Русские ценят в первую очередь знания и таланты, а уж потом только обращают внимание, откуда ты родом.
— Похоже, России действительно досталась мудрая правительница. Кто знает, может, скоро удастся ей взять несчастную Курляндию под свою руку, — грустно произнесла мать.
Похожие речи нам доводилось слышать от многих встреченных по пути курляндцев. Кажется, вассальная зависимость от Польши не сулила краю ничего хорошего. Курляндия нуждалась в сильном, а главное, щедром покровителе. Все надежды обнищавших людей устремились в сторону России, где появился всесильный Бирон, хорошо помнивший свое родство. И от него потихоньку начинали капать сюда денежки, подготавливая мирный и — главное — желанный переход герцогства под российскую корону.
— Рано или поздно это обязательно произойдет, мама.
— Скорей бы, — вздохнула баронесса. — Как тебе живется в Петербурге?
— У нас все спокойно, мама. Тишь да гладь. Жалованье платят исправно, на жизнь хватает. Если закреплюсь и устроюсь в Петербурге, обязательно привезу тебя к себе. Ты должна увидеть, какой прекрасной стала русская столица! Не думаю, что в Европе найдется много городов, способных с ней потягаться.
— Ты очень повзрослел, Дитрих. Уже не юноша, а мужчина... Тебе пора задуматься о будущем.
— Я всегда о нем думаю, мама.
— Подожди, сынок, не перебивай, — с улыбкой произнесла баронесса. — Род фон Гофенов не должен прерваться. Скажи, не нашел ли ту единственную, что тебе по душе?
— Увы, невестой я так и не обзавелся. У меня просто нет времени на ее поиски. Служба...
Показалось мне или нет, но мать облегченно вздохнула. Возможно, сама собиралась подобрать подходящую невесту или чисто по-матерински ревновала к другой женщине, которая может появиться возле единственного и столь любимого сына.
— Что же тебя привело сюда, Дитрих? Ты в отпуске или как?
— Мама, могу сказать тебе по большому секрету — я прибыл неспроста, у меня очень важное и — что самое главное — тайное поручение. Прости, не могу посвятить тебя в детали. Я дал присягу...
— А это поручение очень опасно?
Я закусил губу. Зачем волновать мать, которой и так много досталось от этой жизни?
— Ничего страшного, мама. Съездим в одно местечко и сразу вернемся. Всех делов — кот наплакал.
— Ох, обманываешь ты меня, Дитрих, правды всей не говоришь... — расстроилась баронесса.
— Не имею такого права — правду говорить. Даже тебе, мама, — честно сказал я. — Но ты не переживай. Убить меня непросто, покалечить тоже — видишь, какой здоровенный лоб у тебя вы махал. Сам кого хочешь обижу.
— Вижу, — засмеялась Эльза. — Весь в батюшку покойного, правда, тот чуток повыше был, или кажется мне...
— То мне неведомо, мама. Я его плохо помню, — сказал я и опять не соврал.
— Да как же тебе его помнить! Тебе всего-то два годика было, когда батюшка преставился. Но я всему, чему он просил, тебя выучила. Ты когда крестик мне показал нательный, небось, думал, что гневаться буду за то, что веру переменил?
— Думал, мама. Не знал, как и сказать. Потому, наверное, и не писал тебе. Обидеть не хотел.
— А я вот и не собираюсь на тебя гневаться. Все возвращается на круги своя, — вроде даже ликуя, сообщила баронесса.
— Простите, мама, не понял я... Что значат ваши слова?
— А то они и значат: с чего началось — к тому и возвернулось. Род наш фон Гофенов с давних пор счет себе ведет — с русского рыцаря по имени, согласно вере греческой, Агафон. Служил он в войске князя новгородского Александра, знаменитого битвой на реке Неве. Войско то прозывалось на русский лад дружиной. Хорошо служил, да не заладилось что-то. Не знаю, чем не угодил предок наш князю, но промеж ними обида великая учинилась. А поскольку грозила Агафону неизбежная смерть, пришлось ему в земли литовские бежать и там осесть со всей семьей и челядью. Это уже спустя время потомки его перешли в латинскую веру, сюда перебрались и основали род фон Гофенов. Замок разве что не успели отстроить. Вот и получается, что корни наши в земле русской произрастают. Не одни мы тут такие, почитай, половина баронов родословную от русичей ведет. И не случайно, видимо, тебя в Петербург потянуло. А уж то, что веру иную принял, так это кровь в тебе заговорила русская.
Честно говоря, история эта меня ошарашила. Я успел свыкнуться с тем, что все вокруг считают меня немцем, а тут такое открытие.
— Ну, хватит, заболталась я. Пойду проверю, как ужин готовится. — Женщина привстала, поцеловала меня в лоб и, велев отдыхать после долгого пути, ушла.
Я с удовольствием плюхнулся на мягкую перину, чуть смежил веки и сразу задремал. Сон продолжался немного — минут двадцать, не больше, даже еще не успели позвать к ужину. Причиной пробуждения стало чувство, что кроме меня в комнате еще кто-то есть.
Надо мной склонилась молоденькая пухленькая девушка с длинной и толстой косой, с розовыми щеками, чуть вздернутым носиком и голубыми глазами. Судя по одежде, она была простой крестьянкой, скорее всего латышкой.
— Здравствуй, милый, — сказала голубоглазка и прильнула к моей груди.
Так, кажется, я столкнулся с еще одной стороной из прошлой жизни Дитриха — интимной. Не знаю, насколько далеко зашли их отношения, но девушка была хороша, даже очень. Я осторожно прижал ее и стал нежно поглаживать по спине. Она откликнулась на ласку, впилась в губы жарким, сладким как мед поцелуем и вдруг отпрянула, когда за стеной послышался детский плач.
— Что случилось? — удивленно спросил я.
— Мне надо идти, — приводя себя в порядок, сказала девушка. — Дочка зовет.
— Дочка?
— Да, наша Ивета.
— У меня есть дочь?! — Я приподнялся на локтях.
Новости сегодня одна круче другой. И пускай к этому ребенку я не имею ни малейшего отношения, мой долг о нем позаботиться, ибо для всех я являюсь бароном Дитрихом фон Гофеном.
Девушка потупилась:
— Да, она родилась полгода назад. Знаешь, Ивета так похожа на тебя. Она будет красавицей. Покорит сердца многих мужчин, как ты покорил мое.
— Но почему я ничего не знал?
— Это моя вина. Я ничего не сказала, когда ты собрался в эту противную Россию. Было не до того. Да я сама еще ничего толком не знала. Прости, я была такой дурочкой. Но ты не переживай за нас. Твоя мать обо всем догадалась, она знала, что ты никогда не сможешь на мне жениться. Она нашла мне жениха — Якова, ее помощника, дала приданое.
Понятно, чем вызван злобный взгляд Якова. Мой внезапный приезд не мог прийтись ему по душе. А ведь я даже не знаю ее имени!
— Теперь я замужем и живу в достатке, — продолжила девушка. — Помогаю баронессе по хозяйству. Она поселила нас в своем доме. Относится к Ивете как к настоящей внучке, балует.
— А Яков?! Как он относится к тебе?
— Он хороший. — Девушка выскользнула из комнаты, больше ничего не сказав.
Только за ужином удалось окольными путями разузнать ее имя. Девушку звали Рудитой. Она действительно была простой крестьянкой, ее отец батрачил на соседнем хуторе. Очевидно, между молодым бароном и деревенской красавицей возникла страсть, закончившаяся неизбежным. Дитрих уехал делать карьеру в далекой России, а девушка осталась здесь, с плодом этой запретной любви или не любви — не знаю. Во всяком случае, та часть меня, которую я привык считать вторым «я», при виде Рудиты если и реагировала, то не очень заметно. Похоже, для Дитриха покорение красотки было чем-то вроде спортивного достижения, юношеского подвига. Далеко идущих планов он не строил, о судьбе девушки не задумывался. Банальная история.
После плотного ужина я вновь завалился на кровать. Впереди еще не одна сотня верст по разбитым дорогам всеми забытого герцогства. Хотелось как следует выспаться.
За окном стемнело. В окно падал свет полной луны. Дверь тихонько приоткрылось. Легкое, похожее на привидение создание скользнуло ко мне, нырнуло в постель. Я вновь почувствовал сладкий вкус меда на губах.
— Это я, любимый, — прошептал нежный голос.
— А как же Яков, Ивета? — сдавленно прошептал я, понимая, что не смогу отказаться от этой ночи вдвоем.
— Твоя мать услала его под каким-то предлогом в Митаву, а доченька наша спит. Я ее хорошо накормила...
Она ушла рано утром, оставив меня разбитым, опустошенным, но счастливым, как никогда раньше. А спустя час в дверь постучала баронесса.
— Простите меня, — извиняющимся тоном сказала она. — Я пришла к вам, чтобы узнать: что произошло с моим сыном?
Глоссарий
АБШИД — отставка, отпуск, отстранение от дел.
АВАНТАЖ, АВАНТАЖНЫЙ — успех, успешный.
АВСТЕРИЯ — здесь: «питейный дом», дорогой трактир.
БИРОН Густав (1700 — 1746) — младший брат Эрнста Иоганна. Получил исключительно домашнее воспитание. Будучи на польской военной службе дослужился до чина капитана. В 1730-м году по приглашению Эрнста Иоганна прибывает в Россию, где поступает в новообразованный лейб-гвардии пехотный Измайловский полк в чине майора. В 1732-м году вступил в брак с княжной Александрой Меншиковой, дочерью Александра Даниловича Меншикова — друга и сподвижника Петра I. Густав Бирон очень любил свою жену и тяжело переживал ее смерть после неудачных родов, во время которых погиб и новорожденный младенец. В том же 1732-м году назначен генерал-адъютантом императрицы. Отличился во время русско-турецкой войны 1735–1739 годов, командую сводным гвардейским отрядом, проявив мужество и героизм. После смерти императрицы Анны Иоанновны и смещения регента, разделил судьбу своего брата Эрнста Иоганна, отправившись в ссылку. Умер в Петербурге, куда его вызвали с обещанием служебного назначения. Современники отмечают его храбрость, исполнительность и беспорочную службу. Мне попадались обвинения Густава в недалеком уме, но обоснованием этому служило то, что он… не знал французского языка.
БИРОН Эрнст Иоганн (1690–1772) — вошел в историю, как фаворит императрицы Анны Иоанновны. Граф, обер-камергер (с 1730-го года), регент при царе-младенце Иоанне VI-м (1740). Выходец из мелкой курляндской дворянской семьи. Родился на мызе Каленцеем. Учился в Кенигсбергском университете, но попал в неприятную историю, закончившуюся дракой с ночной стражей и убийством одного из часовых. По приговору суда попал в тюрьму и был выпущен спустя девять месяцев с выплатой большого штрафа. В 1718-м году поступил на службу к Анне Иоанновне, бывшей тогда герцогиней Курляндской. После воцарения Анны на престол был вызван в Петербург и пожалован сначала в камергеры, а потом в обер-камергеры. Сохранились описания его, как человека среднего роста и прекрасного телосложения, очень привлекательного лицом, умного и просвещенного (Бирон оставил после себя обширную библиотеку), который обожал лошадей (благодаря этой похвальной страсти коневодство в России получило ощутимый толчок к развитию) и карточную игру. Всю свою жизнь он посвятил служению российской императрице и пользовался ее безграничным доверием. Бытующий в исторической и бульварной литературе образ Бирона-взяточника мягко говоря далек от правды, ибо в документах (за исключением трудов Татищева, лица весьма заинтересованного в очернении императорского фаворита) не сохранилось свидетельств его корыстолюбия, наоборот, существует много документальных фактов отказа Бирона от весьма дорогих подарков. В 1737-м под давлением русской императрицы был избран курляндским дворянством герцогом Курляндским и Семигальским. Этот важный политический шаг ввел герцогство в политическую орбиту России. В 1739-м неудачно пытался женить своего старшего сына Петра на принцессе Анне Леопольдовне. За день до смерти императрица подписала указ о назначении Бирона регентом до совершеннолетия императора Иоанна, которому тогда исполнилось всего два месяца. Через 22 дня Бирон был арестован генерал-фельдмаршалом Минихом. Отряд гвардейцев под командованием адъютанта Миниха — Манштейна разоружил караул регента и доставил Бирона в Шлиссельбургскую крепость. По первоначальному приговору суда его должны были четвертовать, но воцарившаяся Анна Леопольдовна заменила казнь ссылкой в город Пелым Сибирской губернии. В 1742-м году Бирона по распоряжению воцарившейся на престол после государственного переворота императрицы Елизаветы Петровны был переведен в Ярославль, где прожил до 1762-го года. Император Петр III возвратил Бирона в Петербург, восстановил во всех чинах. Вновь став герцогом Курляндским, бывший фаворит уехал на родину, где прожил до самой смерти. Герцог скончался в Митаве на 82-м году жизни.
ГРЕНАДЕРЫ — отборные солдаты, отличавшиеся физическими данными, что позволяло им метать тяжелые гранаты (гренады). Поначалу они сражались в первых рядах пехоты и забрасывали врага гранатами, позднее гренадеры поменяли свое назначение и стали использоваться для мощного штыкового удара.
ИЗМАЙЛОВСКИЙ ЛЕЙБ-ГВАРДИИ ПЕХОТНЫЙ ПОЛК, в котором проходит службу главный герой книги, был учрежден 22 сентября 1730-го года. Первым полковником стал приближенный к Эрнсту Иоганну Бирону — граф Карл Левенвольде, выходец из лифляндского дворянского рода.
КУК Джон (даты рождения и смерти неизвестны) — английский медик, автор известного биографического труда «Путешествия и странствия по Российской империи, Татарии и части Персидского царства». Заболев в 1735 году лихорадкой, был вынужден «сменить климат» и в 1736 году прибыл в Россию, где поступил на государственную службу в Петербургский госпиталь.
ЛЕЙБ-ГВАРДИЯ — от немецкого leib — тело и старогерманского guardia — охрана. В России учреждена Петром I и первоначально состояла из двух пехотных полков (Семеновского и Преображенского), образованных из так называемого Потешного войска. По табели о рангах 1722 года гвардейские офицеры получали преимущество в двух чинах против армейских. По сложившейся традиции долгое время полковниками лейб-гвардии или шефами становились монаршие особы России. Штаты гвардейских пехотных полков в среднем в два раза превосходили армейские. Вседозволенность и распущенность гвардейцев послужили причиной всех дворцовых переворотов XVIII — начала XIX веков. «Элитные» солдаты и офицеры далеко не всегда могли послужить образцом примерного поведения и службы. Особняком можно отметить лейб-компанию (другой вариант написания — лейб-кампания) — особую гренадерскую роту, появившуюся в Преображенском полку, после воцарения Елизаветы. Дочка Петра возвысила преображенцев, помогших устроить переворот. У тех от почестей закружилась голова, они потеряли всякий страх и ощутили себя безнаказанными. Петербург стонал от их выходок. Лейб-кампанцы дрались, пили, воровали, грабили, насиловали женщин. Во времена, в которых происходят события данной книги, императрицей Анной Иоанновной были учреждены еще два полка лейб-гвардии: пехотный — Измайловский и Конный. Бытует мнение, что эти части создавались в качестве противовеса «старой» гвардии — полков Семеновского и Преображенского.
ЛЕСТОК Иоганн Герман (Иван Иванович) (1692 — 1767), граф, лейб-медик (с 1741), действительный статский советник (с 1742). Происходил из древнего, но небогатого французского дворянского рода. Обучался хирургии у своего отца. Обладал красивой внешностью и изысканными манерами, был очень умен и красноречив. Судя по всему, имел дефект речи, благодаря которому не всегда можно было понять, что он говорит. С 1713 года находился в России. Петр I определил его в придворные медики. Лесток состоял хирургом при царице Екатерине Алексеевне. В 1720-м сослан в Казань в связи с неприятной историей, связанной с попыткой обольщения дочери одного из придворных. В 1725-м возвращен из ссылки Екатериной I и назначен лейб-хирургом при цесаревне Елизавете Петровне, где он сразу стал пользоваться ее расположением. Был главным инициатором переворота, приведшего цесаревну к власти, непосредственно вел переговоры с французским послом маркизом де ла Шетарди. С приходом Елизаветы к власти Лесток вошел в круг первых лиц государства, пользовался огромным влиянием при дворе, вмешивался во внешнюю политику России. В 1744-м попал в опалу, после того, как императрица получила тайную переписку между Лестоком и Шетарди. В 1748-м арестован и приговорен к смертной казни, но позднее помилован и отправлен в ссылку, из которой его возвратил вступивший на престол Петр III. Скончался в возрасте 75 лет.
МЕНШИКОВА Александра Александровна (1712 — 1736) — светлейшая княжна, младшая дочь Александра Даниловича Меншикова. Красотой и умом не уступала старшей сестре Марии, которая была помолвлена с императором Петром II. Опала отца привела к тому, что в 1727-м году Мария вместе со всей семьей Меншиковых оказалось в ссылке — сначала в Раненбурге, а затем в Березове. По дороге в ссылку скончалась мать — Дарья Михайловна Меншикова (в девичестве Арсеньева), в Березове умерли отец и старшая сестра. Александра Александровна осталась лишь с братом — Александром. На их содержание казной выделялось два рубля в день. В 1731-м году Анна Иоанновна возвращает Александру Александровну вместе с братом из ссылки. В феврале 1732-го императрица сама обручила Александру Александровну с младшим братом графа Э.И. Бирона — Густавом Бироном. В мае этого же года состоялась свадебная церемония. Скончалась на 24-м году жизни в результате неудачных родов. Ее ребенок умер спустя несколько минут после кончины матери. Густав Бирон, очень любивший свою жену, на похоронах лишился чувств.
МИНИХ Иоганн Буркхарт Христофор (Христофор Антонович) (1683 - 1767) — выдающийся русский полководец, инженер, генерал-фельдмаршал. Родился в Ольденбурге (Нижняя Саксония). С 1700 года на военной службе в армиях нескольких стран. В 1712-ом году, в войне за испанское наследство, тяжело ранен, попал в плен к французам. С 1716 года на службе у польского короля Августа II, где дослужился до чина генерал-майора. В 1721-м году прибыл в Россию и своим инженерным талантом привел в восторг Петра I. С этого года Миних на службе в русской армии. При Анне Иоанновне становится президентом Военной коллегии и генерал-фельдмаршалом (1732 год). Приступает к реформированию армии: вводит два новых гвардейских полка, создает первое в России учебное заведение для подготовки офицеров — Сухопутный Шляхетский корпус, вводит полки тяжелой конницы — кирасир, подготовил знаменитые «Экзерциции» в дополнение к петровскому военному уставу. В 1734-м командовал русскими войсками в войне за польское наследство. С 1735-1739 главнокомандующий в русско-турецкой войне. В 1740-м отстранил от власти регента Бирона, однако спустя короткое время был вынужден уйти в отставку, а с воцарением Елизаветы попал под суд и приговорен к смертной казни. Только на эшафоте узнал, что смертный приговор заменен ссылкой в Сибирь. Петр III вернул Миниха в Петербург, восстановив в чинах и званиях. Позднее генерал-фельдмаршал принес присягу на верность Екатерине II. Скончался на 85-м году жизни.
НАЩОКИН Василий Александрович (1707 — предположительно 1759) — офицер и приближенный Елизаветы Петровны, оставивший после себя знаменитые «Записки», содержащие бездну важной информации историко-биографического толка. Родился 7 января 1707 г. в Москве. 10 марта 1719 г. зачислен солдатом в Белгородский пехотный полк. В 1726 г. в чине сержанта переведен в Угличский полк. 15 февраля 1727 г. произведен в аудиторы, а через год — в подпоручики и определен в Лефортовский полк. В 1730-м принят в лейб-гвардии Измайловский полк в должности адъютанта. В январе 1737 г. Нащокин произведен в капитан-поручики и командирован в составе сводного гвардейского отряда на русско-турецкую войну. 2 июля того же года участвовал во взятии Очакова, где проявил отвагу и героизм. В январе 1738 г. получил за свои подвиги чин капитана гвардии. В кампаниях 1738 и 1739 гг. Нащокин принял участие в качестве командира 3-й роты Измайловского полка. С 1742-го получил чин секунд-майора Измайловского полка. «Записки» его обрываются следующим числом — 5 сентября 1759 г. Дата его смерти неизвестна, но можно предположить, что умер он примерно в это же время.
ОСТЕРМАН Генрих Иоанн Фридрих (Андрей Иванович) (1686 — 1747) — граф, действительный тайный советник (С 1725), обер-гофмейстер (с 1727 г.). Родом из Вестфалии (Западная Германия). С 1703 года на русской службе. Прекрасно овладел языком новой родины. В 1711 сопровождал Петра I в Прутском походе. Становится одним из ведущих дипломатов России, благодаря ему заключается Ништадский мирный договор со Швецией, завершивший длинную и изнурительную Северную войну. С 1723-го года — вице-президент Коллегии Иностранных дел. С 1725-го года, при Екатерине I начал оказывать большое действие и на внутреннюю политику России. В 1730-м, сказавшись больным, не принял участия в заседании Верховного Тайного Совета, избравшего Анну Иоанновну и принявшего особый акт (кондиции) об ограничении власти императрицы. В апреле 1730 возведен в графское достоинство. С 1734 года первый кабинет-министр. В ноябре 1741 арестован, приговорен к смертной казни, замененной на ссылку. Скончался в возрасте 61 года от тяжелой и хронической болезни.
СКНИПА — вошь (церковно-славянский).
СУПЕРВЕСТ — плотная кожаная или суконная куртка, надеваемая под кирасу для смягчения удара. Использовалась и отдельно в качестве декоративного элемента мундира.
СУХОПУТНЫЙ ШЛЯХЕТСКИЙ КОРПУС — первое в России военное учреждение, призванное готовить офицерские кадры для армии. Был организован в 1731-м году по инициативе генерал-фельдмаршала Миниха. По проекту в нем должны были обучаться дети дворян в возрасте от 13 до 18 лет. Между кадетами корпуса и солдатами гвардии сразу пробежала черная кошка. Они недолюбливали друг друга, постоянно происходили потасовки с применением холодного оружия.
ТАЙНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ — орган политического сыска и суда в России. Была создана в 1718 году по указу Петра I. Первым крупным делом стало расследование обстоятельств измены царевича Алексея. Существовала под разными названиями, в частности «Канцелярия тайных и розыскных дел» или «Тайная экспедиция». Неоднократно упразднялась, но с завидной регулярностью возобновляла существование при смене монархов. Во времена Анны Иоанновны годовой бюджет Тайной канцелярии составлял скромные 2-3 с небольшим тысячи рублей, а трудились в ней меньше тридцати человек. Чтобы показать «размах» пресловутой «бироновщины», стоит отметить, что в то время Тайной канцелярией рассматривалось в среднем по 160 дел в год (для сравнения: при Елизавете Петровне их число выросло почти до 350).
УШАКОВ Андрей Иванович (1672—1747) — прославился в истории как начальник Тайной канцелярии.
Происходил из бедного новгородского дворянского рода (на четверых братьев один крепостной), отличался редкой физической силой. Начал службу в 1704 году, записавшись добровольцем в Преображенский полк. Сумел проявить себя и уже в 1709 году стал капитан-поручиком и адъютантом Петра I. В 1717-1718 годах по поручению императора наблюдал за постройкой кораблей. С 1722 года стал де-факто начальником Тайной канцелярии розыскных дел. Вел следствие по делу царевича Алексея и суд над ним. В 1725 году, после смерти Петра Великого, примкнул к партии, которая поставила на царствие Екатерину I. Угодил в немилость всесильному на тот момент Меншикову и был отправлен в полевые полки — сначала в Ревель, потом в Ярославль. При вступлении на престол Анны Иоанновны подписался под прошением дворянства, осуждавшим попытку Верховного совета ограничить императорскую власть (25 февраля 1730 года).
С 1731 года руководил возрожденной Тайной канцелярией. Обладал правом личного устного доклада императрице.
Бирон не очень доверял Ушакову и, став регентом, потребовал, чтобы все распоряжения великого инквизитора проверялись и визировались генерал-прокурором князем Трубецким.
На момент свержения Бирона командовал Семеновским полком (Миних возглавлял Преображенский).
Удивительно, но Ушаков сумел сохранить свой пост и при Елизавете. Он быстро приспособился к новой власти и попал в обновленный со став Сената 1741 года, продолжая руководить Тайной канцелярией вплоть до смерти.
ШЛЯХТА — здесь: нетитулованное дворянство.
© Дашко Д., 2009
© Издательство «Крылов», 2010
(обратно)





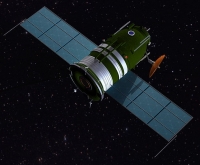
Комментарии к книге «Гвардеец», Дмитрий Дашко
Всего 0 комментариев