ЛОРТКИПАНИДЗЕ ГЕОРГИЙ СТАНЦИЯ МОРТУИС
Станция жила обычной жизнью.
Ярко вспыхивали огни семафоров, гудели мощные локомотивы, пыхтели громкоговорители, резво носились по высоким перронам носильщики. Мимо приземистого вокзального здания ежедневно проплывали скорые поезда и тяжелые грузовые составы. Иногда они приостанавливали свой бег, и тогда облаченные в оранжевую униформу смотрители начинали натужно постукивать молоточками по блестящим колесам и выискивать малюсенькие трещинки, чреватые в пути большой бедой. Вагонные рестораторы пополняли запасы своих кладовых. Чинно прохаживались по перрону обутые в высокие кожаные полуботинки бравые блюстители порядка.
Станция жила как обычно.
Вот только... Вот только одно-единственное выделяло ее в ряду прочих железнодорожных станций, щедрой рукой рассыпанных по бесчисленным стальным магистралям, веткам и веточкам огромной, раскинувшейся на полмира страны.
Составы мчались через эту станцию только в одном направлении - с Запада на Восток. А может на Север, на Юг, в неведомые края. Никто не знал точно. Ибо никто не ведал куда сворачивают серебристые рельсы там, вдали, за последними выходными семафорами. В те дали никто никогда не заглядывал. Все видели лишь одно - поезда идут Туда, и никогда Обратно, волшебство какое-то. Все видели, ничего не понимали и - боялись.
Настоящая дорога с односторонним движением.
Вот так.
X X X
Старуха пришла.
Она пришла на похороны несмотря на ненастный день. С раннего утра заладил мелкий, противный дождик, а сейчас, во время похорон, он полил еще сильнее.
Но она все-таки пришла. Дома уже начинают волноваться. Наверняка Им показалось странным ее желание прогуляться под дождем. Что ж, пускай поволнуются.
Было время, она боялась похорон. Вначале боялась, затем - побаивалась, а нынче - почти все равно.
Много-много лет тому назад, когда она была Девочкой, тоненькой и стройной, ей и в голову бы не пришло, что через много-много лет она с уважением отнесется к Прошлому, которое так и не наступило.
Она остановилась довольно близко от вырытой могилы. Рядом стояли незнакомые люди, стесняться было нечего. Те, кто мог ее узнать сами были стары. Кроме того, они промолчали бы. Чужая жизнь и чужая смерть.
Тому, кого хоронили, было за семьдесят, ей - немногим меньше. На самом деле, они были не очень стары, но время нельзя повернуть назад.
Один землекоп крикнул что-то другому, она не разобрала; тот, другой, что-то ответил первому, она опять не разобрала, гроб опутали толстыми как щупальца канатами и стали осторожно опускать в загодя вырытую яму. Старуха не смогла сдержать тихих слез, уголки прищуренных глаз ее увлажнились и ей пришлось вынуть из сумочки платок. Она когда-то любила его. Того, кого хоронили.
Он так и не узнал об этом. Не суждено.
Она молча, не всхлипывая, плакала, но рядом стояли незнакомые люди, а те кто мог ее узнать сами были стары и они научились молчать.
Гроб начали засыпать землей. Жалость уступала место страху. Старуха понимала, что ее час недалек.
Она знала о его жизни больше, чем он мог предположить. И не только из газет.
Она следила за ним. В пределах ее скромных возможностей. Скромных, но возможностей.
Она следила за ним и после того, как отказала ему, и после того, как вышла замуж и родила детей - двоих мальчиков, а через несколько лет еще и девочку. Ей даже казалось, что она никогда не любила его. Но она любила. Лишь со временем Старуха призналась себе в этом. Она стала мудрее.
Мудрые страшатся только смерти.
Люди постепенно начали расходиться. Ей тоже пора было домой, ведь ее с нетерпением ждали. Во всяком случае, она в это верила.
И только недавно простившегося с жизнью человека больше никто не ждал. Старуха не могла простить себе этого, но время нельзя повернуть вспять.
Она умела неплохо скрывать свои чувства. Она умела скрывать их даже от себя самой.
Когда она наконец вернулась домой, зять накрывшись газетой мирно посапывал на мягком, широком диване, а дочь что-то стирала в ванной комнате.
Они даже не заметили как она вошла. Они ничего не знали о Нем. Впрочем, слышали кое-что. Шли двадцатые годы нового столетия и Советский Союз, как ни в чем ни бывало, продолжал существовать. Образованные люди, в общем, пофамильно знали тех, кто был причастен к руководству огромным государством.
Ее домашние тоже слыли образованными людьми.
X X X
Час пробил и последняя секунда принадлежавшая привычному миру, миру переполненному лунным светом, легкими весенними дождями, голубыми рассветами и беззаботным детским смешком, тихо отошла, превратившись в глухой звук, с которым комок сыроватой земли упал на крышку деревянного ящика. Моего гроба.
Единственное истинное чувство, овладевшее мною с головы до пят, - это удивление. И владеть мной оно будет еще долго. К чудесам я не был подготовлен, не так меня воспитывали и не так учили. Изумление - для человека с моим жизненным опытом - все же излишне острое ощущение, так что остается только удивляться. Неужели наука столь беспомощна и люди еще нескоро узнают всю правду о загробном существовании, если вообще узнают ее? Или по неведомым причинам именно я оказался непонятным исключением из общего правила, согласно которому душа является вредной поповской выдумкой, тогда как бренные останки человеческого тела медленно, но верно разлагаются на невыносимо пахнущие химические соединения, прежде чем окончательно обратиться в прах? По поводу тела мне трудно судить: в одно и то же время я как-бы и ощущаю его, хотя и не вижу ничего из-за окружающей меня абсолютной тьмы, и не ощущаю, так как обычные и каждодневные его потребности никак себя не проявляют. Я не в силах шевельнуть рукой или ногой, ни даже пальцем, но немощь эта вызвана не утратой двигательных способностей или тяжким поражением нервной системы, а вековечной усталостью, которой пронизана каждая клетка, каждый сустав и каждая мышца после семидесяти лет непрерывной жизни. Но - если следовать картезианцам, - я существую, так как, безусловно, мыслю. Говоря откровенно, для меня это - приятнейший сюрприз.
Впрочем, ничего похожего на рай, чистилище или ад здесь и в помине нет. С самого начала, вернее сказать, с самого конца, я очутился под воздействием вполне земных реалий. Излишне плотно поужинав, я забылся в беспокойном сне, и в дальнейшем уже не смог оказать кошмарным видениям достойного сопротивления. Презренный злоумышленник безжалостно истязал мою плоть - и сейчас меня охватывает что-то вроде дрожи, как вспоминаю горящие бездонной злобой жестокие бирюзовые глаза, искаженные звериной яростью черты лица, судорожную хватку душивших меня костлявых рук; припоминаю, как отчаянно я боролся и как истощал силы, капля за каплей, в неравной борьбе; как поразил меня, вконец ослабевшего, смертельный ужас безысходности, как страстно желал, но не мог проснуться, как замирало и, наконец, замерло мое сердце. Миокард омертвел глубокой ночью, а ранним утром до моих ушей, - не знаю каким образом, но у меня сохранилась способность различать звуки, - донеслись жалобные и довольно бессмысленные причитания жены. Не скрою, мне стало немного жаль ее - видит бог, с ума по ней я никогда не сходил, но столько лет рядом... нам нелегко придется друг без друга. Так хотелось бы верить в искренность ее горя, до чего же я все-таки недоверчивый человек! Холодная трезвость мышления всегда была мне присуща, являясь, так сказать, моей характерной прижизненной особенностью, и неприятно щекотавшие слух причитания не помешали мне быстро осознать успокаивающее значение того факта, что в старости ей осталось на кого опереться. Верю и в то, что так или иначе, но применяя все же вполне достойные для нашего смутного времени способы, мне удалось - как бы помягче выразиться - немало поспособствовать и тому, чтобы дорогие мне люди, - в основном родня, конечно, но и некоторые из близких друзей тоже, - не пошли бы по миру. Хотя, сказать по правде, после известных событий я не особенно рассчитываю на их благодарность, ибо уверен - они еще обвинят меня в авантюризме и наплевательском отношении к интересам семьи. Что ж, признаю - у этих обвинений найдется резон, ведь беда никогда не приходит одна и именно сейчас финансовое положение моего семейства оставляет желать много лучшего. Сложись кое-какие события, предшествовавшие моему возвращению в Тбилиси, несколько иначе, родне моей не пришлось бы сейчас суетиться, все было бы сделано за них, а им бы оставалось лишь выполнить последнюю почетную обязанность: стоя у изголовья гроба отвечать на формальные рукопожатия целой армии соболезнующих. Будь я поумнее, меня, разумеется, похоронили бы на более приличествующем моему общественному статусу кладбище и, безусловно, за государственный счет. Но так уж получилось, что по недостатку ума я не пожелал платить за сомнительную честь будущих пышных похорон непомерно высокую цену. Ум - умом, но, как мне кажется, это оказалось правильным решением. Во всяком случае, в моем нынешнем положении ничтожное значение преходящих ценностей слишком очевидно.
Хоронили меня - поскольку пантеон был исключен, - на старом городском кладбище в Багеби. Бренные останки моих родителей покоятся далеко за городом, вовсе в непрестижном месте, и воссоединить меня с ними государственные органы сочли не вполне удобным. Спорное, но с учетом извилин моей биографии, понятное решение. Вся земля в Багеби давным-давно распределена, так называемые "выморочные" участки можно заполучить только по блату или за большие деньги, но в моем случае роль блата выполнило ходатайство упомянутых выше органов, деньги же пришлось заплатить семье, так как государство не пожелало еще и тратиться на своего блудного сына. Возлежа при свечах на древней деревянной тахте, под зеленым бархатным покрывалом, мне пришлось стать невольным свидетелем горячих споров, разгоревшихся по данному поводу между моими ничего не подозревавшими родственниками. Если отвлечся от неизбежных в таких ситуациях словесных выпадов, обусловленных всеобщим ослаблением эмоционального контроля, то следует признать, что без существенной финансовой поддержки, оказанной моей семье чуть ли не посторонними людьми, мой прах так и увезли бы далеко за городскую черту, что в дальнейшем создало бы моим детям и детям моих детей немалые затруднения и, насколько могу судить о человеческой натуре, было чревато дурной ухоженностью моего последнего пристанища... Ну, это в мирных условиях, конечно.
Но вот головная часть медленно бредущей по узкой дорожке, похожей на удав процессии, достигла места печального назначения, гроб опутали толстыми канатами и стали осторожно опускать в заблаговременно выкопанную могильщиками яму. Меня, мертвого, вновь охватило уже немного притупившееся ощущение неопределенного страха. Что если погружение в мир мертвецов означает повторную, уже всамделишную смерть? Я всерьез испугался, что в ту самую минуту, как меня накроет землей, навсегда потеряю самое драгоценное, единственно ценное, что у меня осталось - Его Величество Слух. Изо всех потусторонних сил вслушивался я в окружающий, еще так недавно родной мне, а нынче такой зыбкий мир, и сквозь смесь разнообразных звуков, гомон толпы, рыданья бедной моей супруги, мерную дробь моросящего с утра дождя о крышку гроба, будучи наполовину уже засыпленным землей, вдруг отчетливо разобрал слова, произнесенные одним из землекопов: "А позавчера-то, когда мы отсюда косточки повыкапывали, земля, кажись, была посуше".
Я был возмущен. Участок, понятное дело, выморочный, но так откровенно... Но чуточку после, когда на крышку гроба упал последний комочек земли, а Слух мой так и остался при мне, мое возмущение улеглось. Какая, в самом деле, разница? Земля - это земля. А потом даже стало смешно. Неужели душа моего истлевшего предшественника витает поблизости, поминая недобрым словом как корысть и шарлатанство живых людей, так и созданные ими законы всеобщей конкуренции?
Черт с ними, с живыми мошенниками! Сами того не ведая, они оказали мне большую услугу. Мне нравится Багеби. Это ведь не только кладбище, полвека назад здесь начиналась маленькая деревушка, кончался город. Отсюда отходили автобусы в дачные поселки, отстроенные на склонах окружавших Тбилиси с юга невысоких горных кряжей. Ныне же это местечко - старый уютный мостик, связывающий меня с детскими, да и не только с детскими годами, здесь мне не холодно, не тоскливо и совсем не одиноко. Здесь я почти дома, среди своих. Конечно, за прошедшие десятилетия тут многое переменилось; понастроили немало жилых домов, гостиниц, а чуть повыше по склону - и вилл, капитально расширили дорогу, разбили несколько миниатюрных сквериков, воздвигли памятники царю Георгию Блистательному и классику грузинской поэзии Тициану Табидзе, но кое-что осталось нетронутым, таким же как тогда. Совершенно не изменился невзрачный вход на кладбище, неизменны вечные мраморные надгробия - некоторые из них по пышности не уступают фараоновым усыпальницам, - с высеченными на них датами рождения и кончины, да и приезжие вертихвостки - обитательницы старенькой Вакинской турбазы, - все так же привлекают местных донжуанов. Мир и спокойствие, оказавшись сильнее времени, наделили бесчувственные предметы живым содержанием, обратили их в переживших меня ровесников. Ведь очень скоро выяснилось, что под землей вовсе нет той гробовой тишины, которой все мы так страшимся. Трудно пока сказать, изменились ли мои представления о времени, а если изменились, то каким именно образом, - но уже через несколько загробных часов, до меня сквозь земную толщу донеслись звуки - чего бы вы думали? - смеха. Раскатистый мужской гогот, бесполое хихиканье, затем опять гогот - будто кто-то, несмотря ни на какое кладбище, рассказал сальный анекдот.
Чем больше проходило времени, тем достовернее и отчетливее различал я всевозможные звуки. Радиус их проникновения постепенно увеличивался и вскоре я уже без особых усилий улавливал шуршание шин мягко пружинивших по асфальтовому покрытию шестирядного хайвея с поэтическим названием "Пастораль" - возможно, намек на то, что и полвека назад здесь пролегало узкое шоссе, ведшее к утопавшему летом в праздности и прохладе, и расположенному всего в нескольких километрах от душной и скучной столицы дачному городку, название которого приезжим вертихвосткам всегда нелегко было выговорить - Цхнети. В те времена еще не существовало узаконенного ныне правила именовать все сколь-либо важные магистрали цветастыми прозвищами, да и автомобили были тогда совсем другими, немного недоразвитыми что-ли, но так уж получилось, что и поныне здравствует сей порядком разросшийся дачный поселок, действует автобусное сообщение между городом и Цхнети, а городские троллейбусы, устало подвывая на подъемах, довозят до конечной остановки - Багеби - возвращающихся с центрального тбилисского рынка цхнетских крестьян. По прежнему Цхнети является пристанищем множества частных и государственных дач, именно здесь расположен обновленный комплекс правительственных вилл; как и встарь, отдыхающие здесь летней порой семьи причисляют себя к элите. И вот, спустя некоторое время, мой обостренный слух стал улавливать даже быстрый топот прохожих, спешащих с конечной троллейбусной остановки на остановку автобусную и пытающихся обогнать друг друга, ибо длина очереди на местный автобус так и осталась неизменной, не подверженной ветрам времени величиной. Не исключено, что в дальнейшем я научусь определять, кому именно принадлежат те или иные шаги: подуставшему дачнику, спешащему к жене и детям с переполненной продуктовой сумкой в руках, возвращающемуся после удачной торговли урбанизированному крестьянину, или молодому парню у которого много ветра в голове. Может быть, частота звуков, рожденных шагами там, наверху, станет для меня чем-то вроде часов, и в будущем я смогу отличать беспокойное и живительное утро от сонного жаркого летнего дня, а ускользающие в прошлое вечерние минуты от покрывшей город и людей тягучей тьмы. А может случится и так, что я научусь угадывать по шагам настроение людей, сопереживать им, волноваться за них, вновь стану одним из них, все начну заново, кто знает, может быть!...
Мысленно возвращаюсь к той счастливой поре, когда и сам был Молодым Парнем с Ветром в Голове. Ничем особенным среди сверстников я не выделялся, хотя нашлись бы и невзрачнее меня, не хочется быть к себе слишком уж несправедливым. Было много и других Молодых Парней, у тех под черепной коробкой свистел не то чтобы ветер, а сокрушительный ураган, слепой и беспощадный. И в то поистине счастливое для меня время, я неоднократно проделывал этот самый путь, с конечной троллейбусной остановки на начальную автобусную, и наоборот. Наверху, в Цхнетах, у моих близких родственников была дача, на которой в школьные года мне довелось провести не одни летние каникулы - владельцы ее всегда приглашали на отдых детишек своей не очень многочисленной родни и это было в порядке вещей. Родители обычно отправляли меня сюда на весь июль месяц, а с августа у отца начинался отпуск и тогда мы всей семьей отправлялись на море, куда-нибудь в Сочи, где так весело было собирать на пляже похожие на лайнеры мокрые камушки и... Но я отвлекся. Дача была по тем временам роскошная: двухэтажная, отстроенная качественным некрошащимся кирпичем оранжевого цвета, с флигельками, мансардами, просторной верандой на верхнем этаже, с подземным гаражом и массой подсобных помещении непонятного мне назначения, с винтовыми лестницами и фонтаном, в котором вода плескалась по причине отвратительного водоснабжения крайне редко - дача эта и нынче гордо возвышается над окружившими ее с течением времени на той же улочке строениями поменьше, ну а в те то годы... Главным достоинством дачи все же был, по моему, замечательный сад со всеми закоулками которого я был прекрасно знаком. Чего здесь только не было! Здесь росли и важные, преисполненные самоуважения и плодоносившие каждой осенью - увы, уже после каникул - ореховые деревья, и легенькие черешня с вишней, и неприхотливые яблони и груши, и поспевающие уже к середине июля сливы различных сортов, и ворчливо-колючие кусты ежевики вперемешку с молодыми и низенькими тутовыми деревьями, и, наконец, расцветавшие юной девичьей улыбкой красные и белые розы, это их нежными лепестками, бывало, усеивал игривый вечерний ветерок ведущие к фонтану дорожки. А виноградник, сей некоронованный король земли грузинской, венчал местную флору так, как венчает улетевшую молодость красотки обручальное кольцо. Здесь было, особенно в первую, жаркую половину дня, столько праздности и ничегонеделания, что я порядком от них уставал. До наступления вечера, как правило, царила скука, хотя и в дневные часы, несмотря на зной, мы - ребята, обитавшие в стоявших по соседству дачах, - иной раз гоняли мяч по пустырю под палящим солнцем, рискуя получить солнечный удар. Зато позже, когда светило склонялось к земле, наступало оживление. Бегать и играть можно было в полную силу, без опаски за здоровье, а часто нам удавалось даже общаться с девчонками, стайками высыпавшими на улочки и поляны. Этими ясными и теплыми вечерами так искренне, без оглядки на грядущие школьные испытания, верилось в громаду счастья и в бессмертие души и тела... Впрочем, движимый благостной ностальгией по прошлому, я, ненароком, рисую себе слишком уж идиллическую картину. Холод, отчуждение и вражда тоже не терялись и терпеливо ждали своего часа, оборачиваясь то грозой, то ссорой.
А время шло, месяц за месяцем, год за годом. Ближе к совершеннолетию жизнь начала показывать коготки, да и я норовил высвободиться из под родительской опеки. Властно заявлявший о себе инстинкт самоутверждения и невесть откуда появившиеся соблазны подталкивали меня к нарушению привычных запретов и к приятию неведомых мне ранее правил игры. В старших классах мои школьные отметки стали более пестрыми, - слава богу, у меня хватило ума не портить их окончательно. Футбол, шахматы и походы по окрестным холмам несколько сдали позиции, взамен я научился играть в карты - особенно часто мы с ребятами сражались в джокер и кинг, хотя до секи и преферанса дело тогда не доходило. Каникулы я по-прежнему проводил в Цхнетах и там, волей-неволей, перезнакомился со многими известными моему поколению старшеклассников забияками, драчунами и даже наркоманами, благо летом из города их сюда наезжало немало. Хулиганье липло к правительственным виллам, к "золотой" и "позолоченной" молодежи, к сыночкам подпольных магнатов или влиятельных чинов, которые и составляли основной контингент цхнетских дачевладельцев. Городские искатели легкой жизни слетались поближе к ним, как мотыльки к свету, ведь "золотых" и "позолоченных" сподручно было и Вовлекать и Доить. Все случалось: драки, поножовщина, кражи - последние особо ценились среди молодых людей, искавших и находивших себе идеал в многоцветье сиюминутных развлечений и принципиально отвергающих все, связанное с традиционными грузинскими представлениями о Добре и Зле. Спутаться с этой публикой рисковал любой парень моего возраста, проводивший в Цхнетах летние каникулы. К счастью, мое место в том смешанном обществе всегда было не в первых рядах, а так - с бока припека. Нет худа без добра, даже не в очень большой дозе эти сомнительные знакомства сослужили мне полезную службу, постепенно я стал больше и лучше видеть. Период невольного преклонения перед животной силой довольно скоро сменился периодом откровенного презрения к ее адептам. Природная осторожность удерживала меня от возможных глупостей, искусы преступных соблазнов оказались не столь уж притягательными и вскоре я, в богом и семьей данных мне пределах, научился пускай не отделять, но хотя бы немного отличать плевелы от зерен. Ввиду того, что я довольно быстро - наверное, в силу того, что много читал, - раскусил подлинные и поразительно дешевые амбиции многих "героев" того времени, избежал я и бремени дружбы с ними. Я старался не лезть на рожон, стремился к относительному покою, даже карточную игру забросил, сходился больше с теми, кто чем-то походил на меня и, в результате, у меня не возникало серьезных, травящих душу конфликтов с покуривавшими "травку" обладателями ножей и кастетов. Это рассудочное умение оставаться в стороне, кстати сказать, неоднократно помогало мне в жизни. Зато я узнал чем дышат эти люди, что они представляют из себя на самом деле, и это знание сыграло важную роль чуточку позже, в студенческую пору, когда определялись взгляды и окончательно формировались жизненные установки.
Часто наведывался я в Цхнети и в университетские годы, - то просто погостить у друзей-товарищей, то всласть наиграться в футбол, все-таки этот вид спорта всегда находился в Грузии вне конкуренции. Здесь у "министров" были сооружены неплохие спортплощадки и нас, любителей погонять мяч, не страшили проволочные заборы средней высоты, через которых мы, в случае необходимости, перемахивали, и в это так трудно вериться сейчас. Все - прах, все - тлен.
Удивительными свойствами обладает человеческая память, этот непонятый никем до конца феномен на грани реального и придуманного. Неужели все было? не мертвец, которого понемногу и без опаски съедают непривередливые черви, а полный энергии и жизни, а порой даже внушавший симпатию молодой человек, из года в год втискивался то в набитый пассажирами старенький, пыхтящий на сплошных подъемах автобус, то в маршрутное такси, то, если средства позволяли, в такси обычное - желтоватое, с чашечками по бокам, зеленым огоньком за ветровым стеклом и нещадно щелкающим счетчиком. А ведь так бывало. Бывало и в те времена, когда Цхнети еще был заполнен деревенским ароматом, и в те, когда наступавший большой город окончательно заключил модный дачный поселок в свой грубоватые объятия.
Никогда не было у меня таких идеальных условий для отдыха, раздумий и всяческого рода воспоминаний как сейчас. Здесь, под землей, именно память возлагает на себя функцию времени. Оно, время, как бы сконцентрировалось в малом пространстве и, вместе с тем, осталось бесконечно растянутым. Такая сосредоточенность времени, - это удачно и очень удобно. Время словно сгусток, словно обладающая объемом материальная точка, по ее поверхности можно бродить сколько угодно, никаких границ нет и в помине, а при желании или необходимости можно подняться в "атмосферу", удалиться на любое расстояние от поверхности и рассматривать этот сгусток под любым углом зрения, и тогда в его поле попадают то далекий предок современного человека, идущий с каменным топором в волосатых лапах на другого такого же получеловека-полузверя, то молодые люди со спортивными сумками через плечо, расталкивающие недовольную и медленную очередь на автобус. Можно мгновенно перенестись на двести лет вперед и узнать как разрешило выкарабкавшееся из люльки человечество проблему экологически приемлемого энергоснабжения мегаполисов; потом перевести стрелку часов обратно лет, эдак, тысячи на три, отведать царских лакомств на пиру у ассирийского властителя, воочию убедиться в том, что надсмотрщики не церемонились с голыми, блестящими от пота, надрывающимися в каменоломнях рабами, а миг спустя приземлиться среди рисовых полей какой-нибудь Демократической Кампучии, свободной птицей пропорхать над ее реками и долами, полюбоваться, как людей другие, тоже люди, сбрасывают в водоемы с жирными крокодилами, отметить про себя охотничий блеск в глазах вошедших в раж палачей, и заодно поприсутствовать в здании на Ист-ривер на сессии Генеральной Ассамблеи ООН во время обсуждения кампучийского вопроса и послушать как утонченные дипломаты с наивысшим образованием и изящно повязанными галстуками, с рвением, достойным лучшего применения, защищают самых, пожалуй, отвратительных людоедов двадцатого столетия. Не нужны визы, никто не требует от вас ни заграничных паспортов, ни специальных пропусков; никто не проверяет отпечатков ваших пальцев и не интересуется содержанием вашего досье. Если только вы наделены некоторым воображением, оно, воображение, само стремится материализоваться. И основным элементом этого процесса является, безусловно, память, так как в конечном счете воображение ничто, кроме как множество расцвеченных картинок, извлекаемых из прошлого по прихоти хозяйна и настраивающихся и наслаивающихся друг на друга. Ну а после, в заданную точку пространства-времени, в ваш собственный гроб, всегда можно вернуться, ваше последнее убежище никуда от вас не убежит. Не исключено, что со временем я в еще большей степени осознаю преимущества своего нынешнего положения. Может смерть и есть истинно полноценная жизнь.
Сейчас мне кажется, что прогостил я на матушке-земле вполне достаточно для того, чтобы не превратиться в немощную обузу для близких людей и должен быть благодарен всевышнему за это. И хотя еще совсем недавно, отмеренный мне судьбой срок в семьдесят лет показался бы мне коротковатым, нынче я вполне удовлетворен. Ощущение такое, будто мой уход из жизни, не имея ничего общего с самоубийством, был сознательным актом, совершенным мною в здравом рассудке. Только немного жалею, что в далеком прошлом переживал минуты, когда, стыдно признаться, побаивался скорой и безвременной гибели. Или случайной, нелепой, - что равноценно. Скажем, от меланомы в тридцать два года, от инфаркта в сорок, или в авиакатастрофе в сорок пять. Сколько раз, бывало, напряженно вглядывался в пустячные болячки, беспокоясь не задета ли родинка, или с тревогой вслушивался в равномерный гуд собственного сердца, явственно представляя себе искрошенную атеросклеротическими бляшками стенку кровеносного сосуда. А сколько раз замирало сердце что при взлете, что при посадке, пусть и стыдновато было признаваться себе в такой трусоватости. Пожалуй, без этих, как выяснилось потом, никчемных и беспочвенных страхов легче было бы жить. Хотя, кто его знает, никогда не бываешь уверен в таких делах наверняка. Может подспудная возможность внезапной смерти играла стимулирующую роль, подталкивала к действиям, служила лекарством от лени, гарантировала день сегодняшний.
Почему же я так уверен, что семьдесят лет - вполне достаточный срок? Да потому, что шагая по жизни заново, ступенька за ступенькой, пролет за пролетом, вновь и вновь убеждаюсь, что протекала она по довольно интересному и яркому, если не сказать - бурному, сценарию, при том, что яркость эта была совсем не очевидна. Срок, отпущенный нам природой, можно использовать по-разному. Жизнь чем-то похожа на цветной кинофильм, и если он вызывает интерес, то забываешь о духоте, не обращаешь внимания - до поры до времени - на редкие, но излишне громкие переговоры соседок по креслу, не выходишь из себя из-за случайных покашливаний, а покидая зал не ощущаешь изжоги скрытого недовольства. Скорее наоборот, тобой владеет чувство близкое к счастью. Так и жизнь. Если она была полноценной, - нечего горевать. Как и всем, мне тоже доводилось испытывать кризисы, впадать в отчаяние, совершать обрекавшие меня на зубовный скрежет и бессильные угрызения совести поступки, но никогда в жизни не опускал я преждевременно рук и никогда не приходился жизни пасынком, - хотя последнее, конечно, не вполне моя личная заслуга, предпосылки тому были созданы, надо признать, моими родителями, мир их праху. Жалею только об одном, о том, что так и не удалось приложить руку к созданию культурных ценностей, к тому вечному, что только и ценится в памяти человечества.
Как я только что отмечал, усопший располагает массой свободного времени. И этот океан свободного времени, то есть времени и свободы вместе, поневоле настраивает на философский лад, вынуждает мыслить. Когда-то кто-то выразился так удачно - Вечные Вопросы. Они и взаправду вечны, подобно малым детям вечно требуют ответов и никогда не бывают удовлетворены ими. Они и здесь, в подземной темнице, самые важные и самые главные. Единственное различие, по сути дела, заключается в перемене грамматических времен. От "кто я" до "кем я был", от "как мы живем" до "как мы жили", или даже до "как мы будем жить", потому что по времени здесь путешествуешь как тебе заблагорассудится. И как всегда, как и при жизни, если хочешь подобрать сколь-либо достойный ответ, приходится начинать с самого начала, не забывая при этом, что к вопросам типа "кем же я был", следует относиться с известной долей юмора. Впрочем, человеку с короткой памятью надеется не на что. Память, - это не только мощное оружие, искусно используемое Игроком для победы над действительными и воображаемыми соперниками. Это еще и уникальный щит, противостоящий внешней психологической агрессии и ставящий естественный предел тенденциям, направленным на подавление творческой мысли и уничтожение личности. Это еще и ценнейший исследовательский прибор, прецизионный инструмент, позволяющий изучать окружающий мир. Память - стайер, преследующий тебя всю сознательную жизнь. В определенном смысле справедливо утверждать, что память это - Все. Без нее бесполезны любые знания. Манкурт никогда не сможет поставить перед собой вечные вопросы, не хватит духа. Потому что для этого необходимо заново и беспристрастно оценить свои поступки; оправдаться там, где никто и никогда не требовал никаких оправданий; не позволить осудить себя тогда, когда осуждают все; не опускаться до исповеди, а возвышаться до нее; не бояться правды оставаясь наедине с собой; уметь любить и уметь ненавидеть, и еще уметь вовремя рассмеяться и протянуть руку помощи человеку, потерявшему всякую надежду.
У каждой исторической эпохи - свои законы, у каждого участка биографии - от перегиба до перегиба - свои цели. Цели эти чаще всего оставались недостижимыми, и это было совсем неплохо, ибо далеко не всегда достижение цели идет на пользу человеку, придумавшему ее в горячке буден. Но в тех редких случаях, когда цель все же подчинялась мне, я испытывал ни с чем не сравнимое блаженство. Допускаю, что подобное отношение к цели характерно лишь для людей определенного склада и является всеобщим лишь постольку, поскольку является всеобщей такая человеческая черта, как Властолюбие. А это весьма аморфная всеобщность. Разве обычный, рядовой гражданин заглядывает в завтрашний день? А сколько еще на земле рецессивных личностей, блеклых, тусклых и безразличных людей, а то и глупцов, цели которых не заслуживают даже упоминания? Истинно властолюбивые люди находятся в постоянном меньшинстве, и если они все же заметны на фоне общей серости, так только потому, что не особенно разборчивы в средствах. Но ошибочно впадать и в другую крайность - стремление индивидуума к власти не всегда связано со стремлением во чтобы-то ни стало навязать обществу свою точку зрения. Мое Властолюбие выражалось прежде всего в том, что я всегда старался отстоять свои естественные права и сохранить за собой возможность принятия независимых и автономных решении, невзирая на давление извне. И это было главным, что отличало его от честолюбия или тщеславия, хотя, по общему мнению, я вовсе не был свободен и от этих недостатков. То, что мне впоследствии довелось занять определенное и весьма ключевое место в существующей и поныне системе управления государством - просто игра судьбы, в надлежащий момент легко сменившей насмешливую благосклонность на презрительный гнев. По моему, Властолюбие, прежде всего, черта характера, а черта характера и примитивная борьба за власть в маккиавелистском духе - совершенно различные вещи, они могут соприкасаться, а могут и нет, волею судеб в борьбе за власть приходилось участвовать и нечестолюбивым по природе людям, мало ли какие исторические условия были тому причиной! Властолюбия различных людей так же мало похожи друг на друга, как улыбка младенца на улыбку государственного деятеля на церемонии подписания договора о военно-полицейском сотрудничестве. Да и в течении жизни одного человека эта его черта нередко трансформируется, подвергается воздействию уходящей молодости и наступающей зрелости, иной раз даже мудрости, бывает, обращается в свою противоположность. Одним словом, проявляет себя весьма причудливо и совершенно по разному, я бы сказал так - диалектически, от стремления Разрушать до попыток спасти от разрушения и развала, попыток Удержать.
На вопрос о том, кем же мне все-таки довелось быть, формальный ответ можно поискать, например, в некрологе. Только самое лучшее, часто самое лживое. К сожалению, во все времена стиль литературного содержимого любого официального некролога зависил в первую очередь от должности, которую в момент кончины занимал покойный, его человеческие качества не играли никакой роли. Так было и в пору моей молодости, и в пору моего увядания. С собственным некрологом мне посчастливилось ознакомиться еще до начала панихиды. Мои бывшие коллеги все же решились опубликовать его на страницах центральной прессы. Некролог присутствовавшим зачитал вслух мой двоюродный брат, исконный тбилисец и старый ловелас, так и не выучившийся как следует говорить по-русски, а я лежал себе в гробу и, дивясь комедии, поневоле вслушивался в реквием по себе самому. Благодаря витавшим в воздухе многочисленным репликам мне довелось узнать, что некролог представял собой приличного формата заметку на шестой полосе московских "Известий" (перепечатанную, разумеется, местными изданиями), с маленькой фотографией впридачу. В нем отмечались важнейшие вехи моей биографии: год рождения, учеба, научный и партийный стаж, и далее - "карьерные моменты", в такие-то годы занимал-де должность председателя жилищной комиссии Тбилсовета, с таких-то - на партийной и государственной работе; в такие-то - являлся заместителем и первым заместителем министра иностранных дел страны; в такие-то - вице-премьером Союза ССР; избирался членом республиканского, а затем и союзного ЦК; кандидатом, а затем и членом Политбюро; был депутатом республиканского и союзного Верховных Советов нескольких созывов, персональным пенсионером союзного значения, кавалером многих государственных наград. Некролог завершался трафаретной фразой, гласившей, что "светлая память о друге и товарище навсегда останется в сердцах тех, кто его знал" и подписью "группа друзей", свидетельствовавшими о том, что несмотря на крайне накаленную международную атмосферу, времена в стране стояли относительно либеральные. Знаете, это был некролог не из худших, неброский и фактически точно отображавший внешнюю сторону моей жизни. Меня и сейчас еще прошибает холодный пот, как подумаю, что мог быть и другой некролог, в "Правде", пышный, с большим ретушированным фото, с набором холодно-величественных выражении типа "куда бы ни посылала его партия...", с подписями руководства, все строго по ранжиру, там еще вспомнили бы про присущую мне скромность. И волей-неволей, не всегда все же послушная память возвращается к длинному серому дню, к тому самому заседанию Политбюро, когда и решилась, по сути, судьба еще не написанного, далекого еще некролога. Детали я припомню позднее, сейчас нет желания напрягать мозги или то, что от них осталось, а перед глазами маячит длинный, покрытый толстым зеленым сукном массивный стол и невозмутимые с виду люди, удобно расположившиеся на мягких, почти музейных стульях за этим столом, а во главе стола самый главный и, возможно, самый талантливый среди присутствующих человек с характерным прищуром глаз, которому явно не по душе слова что против моей воли срываются с языка, - это заметно по его стреляющим в упор зрачкам, по редким желвакам на скулах, по застывшим губам, которые только из вежливости не собираются в грозную гримасу. С меня хватит, память-стайер стремится прочь, она уже далеко от ставшего неудобным воспоминания и вновь концентрируется на некрологе.
Ведь и до этой, скупой и маловажной отписки в непартийной газете нелегко было дослужиться. Вот вам и вся цена человеческой жизни. Причем жизни развернувшейся по вполне приличному сценарию: Рождение - Учеба - Работа - Женитьба - Дети - Старость - Больница - Смерть - Поминки (к ним готовились). Несмотря на безусловную схематичность как в качественном, так и в хронологическом отношениях, такой словесный ряд все же дает поверхностное изображение моего жизненного пути. Мог же он быть выражен каким-то иным словесным рядом, например: Рождение - Учеба - Увечье - Инвалидность - Смерть - Поминки, или Рождение - Улица - Преступление - Наказание - Деградация - Алкоголизм - Цирроз - Смерть. Да мало ли еще каким. И для всех вариантов истинно-общими явились бы слова Рождение и Смерть. Хорошо если есть дети. Но постепенно отойдут в лучший мир все кто тебя знал: жена, дети, внуки, "группа друзей" - все исчезнут бесследно. Недостаточно сотворить наследников, нужно еще оставить наследие; счастливы те, кто вправе сказать: "вон этот кирпичик в кладезь познаний и страстей человеческих заложен лично мною". И я, успей заложить свой кирпичик, мог быть по настоящему счастлив - тогда могло и не быть над моим остывшим изголовьем ненужных и пустых разговоров о моих воображаемых достойнствах. Но я опоздал. Грустно. И оправдываться неведением тоже не надо, оно всегда было мнимым и удобным как мягкая подушка - мое показушное неведение. Я мог оставить о себе совсем иную память, удостоиться совсем иных почестей. И пусть никто не храбрится и не заявляет, что это неважно, что концовка у всех отображающих отдельную человеческую жизнь словесных рядов одна и та же, что разницы нет. Человеку, в особенности же человеку властолюбивому, свойственно заботиться о величии своего уникального имени, и не ради потомства, а ради себя самого - хотя, как правило, такие люди (я отнюдь не исключение) при жизни предпочитают заниматься самообманом и нудно разглагольствовать об интересах дела, иногда даже искренне веря в это. А в общем, не только опоздал. Разбрасывался, ленился, не хотел насиловать себя, слишком считался с чужим мнением, перепутал приоритеты. Следовало поменьше оглядываться на царящий в миру и поныне закон джунглей и не отождествлять себя с хищником средней руки с гуманными наклонностями на сытый желудок. И пускай не было дано большого, истинного таланта, какие-то способности были, я уверен. Надо было попытаться.
Давным-давно, в пятилетнем возрасте, я сыграл свою первую шахматную партию. Продолжалась она недолго, мой более искушенный в игре партнер быстро переиграл меня и где-то в районе пятнадцатого хода моему королю был объявлен мат. Продержаться пятнадцать ходов в первой в жизни партии само по себе неплохое достижение, но это не все. На следующее утро я буквально изобрел шахматную нотацию и, восстановив партию по памяти, записал ее в тетрадку (испещренная корявыми детскими иероглифами страничка из той тетрадки еще долго хранилась в ящике моего письменного стола, пока с годами не затерялась в лавине совсем иных бумаг и бумажек). Ознакомившись спустя несколько лет с подлинными правилами шахматной записи, я выяснил, что они ничем принципиально не отличаются от моего детского изобретения. Просто тогда вместо латинских я применил известные мне русские буквы, а обозначением фигур послужили их неумелые рисунки. Вот и все различие. Пожалуй, я был не самым глупым мальчишкой на свете и, кто знает, не займись я политикой, в той, другой, несостоявшейся жизни из меня вышел бы толк.
Оказывается и здесь, под мрачной могильной плитой, тоже можно мечтать. С тем отличием, что на земле мечтают о будущем, а под землей о прошлом. К стоящему здесь смраду я постепенно привык, он не в силах помешать мне наделить детство запахом, особенным ароматом, так и просится название: "запах детства". Это запах беззаботного снега весело играющего с пушистыми ветками голубоватых елок; запах длинных дощатых столов в весеннем парке - за ними бодрые когда-то пенсионеры самозабвенно сражались в шашки и домино; запах уважительного преклонения перед никелированным радиатором автомобиля исчезнувшей ныне марки "Победа"; запах мохнатого волнореза за которым начиналось другое море. Потом детство незаметно стало перетекать в какой-то другой сосуд; запах слегка изменился, он оставался почти таким же, только стал чуточку более терпким, более беспокоящим - так пахло отрочество, нетерпеливо ожидавшее наступления вечнозеленой юности. Совсем недавно я, как и подобало пожилому, немало испытавшему человеку, плохо помнил рассветную пору своей жизни; пробел сменялся пробелом, впадина - впадиной, и рваная ткань моей больной, склеротической памяти походила на набор беспорядочно расположенных цветных и черно-белых фотографии, часто менявшихся местами. Зато сейчас спешить некуда, все понемногу становится на свои места, и я совершенно четко помню, что ровно шестьдесят четыре года назад меня с утра повели в парикмахерскую, а уж затем в зоопарк, а никак не наоборот. Легко восстанавливаю в памяти угреватое лицо цирюльника, полноватого и добродушного дядечки в белом врачебном халате. Помню его короткие, рыжеватые усы и хитроватые глаза. Вспоминаю, как ставили поперек кресла выщербленную доску, чтобы меня удобнее было стричь. Помню как ложились на чистую, чуть влажную простыньку мои космы, как остро кололись попадавшие за ворот волосики. А после был обещанный зоопарк: плескавшиеся в грязноватом бассейне морские львы, верещавшие о чем-то своем голубогрудые попугайчики в вечно галдящем птичьем ряду, самоуверенные обитатели особого вольера - верткие, удалые макаки и весело поплевывавшие сверху на более мелких своих собратьев шимпанзе, углубленный в свои невеселые мысли верблюд, свернутая калачиком и сладко спавшая толстая змея (это именно она погибла во время страшного наводнения шестидесятого года), грузный и неповоротливый бегемот никак не желавший вылезать из воды, всегда дремавший в ожидании своего звездного часа коварный и зубастый крокодил, пугливый жираф, грустный маленький слоненок... Существовало масса первичных понятий, исчезнувших потом куда-то и вернувшихся лишь к старости: "неповоротливый", "коварный", "добродушный", "грустный", и это тогда казалось вполне достаточным. Я был постыдно мал и любая попытка преждевременно вырваться из положенного круга событий немедленно пресекалась, но таким, как оказалось, весьма щадящим образом, что я еще долго оставался в неведении относительно истинного и основного мотива, которым руководствовался мой высший цензор - Отец. А именно его желанием поберечь меня как можно дольше. Как-то раз я, набравшись духу, спросил отца кем был Сталин. Он многозначительно ухмыльнулся, ответил "большой человек" и больше ничего не сказал. Я представил Сталина громадным, косая сажень в плечах, с огромными ручищами и узнав через много лет, что он был низкорослым человеком, удивился безмерно. А в другой раз, когда отец, после окончания футбольного состязания держа меня, мальца, за руку, вместе с друзьями покидал стадион "Динамо" и кто-то из взрослых комментируя игру обозвал арбитра матча "проституткой", я громогласно потребовал, чтобы мне разъяснили значение этого слова. После минутного замешательства взрослые дяди заявили мне, что "проститутка" просто особая разновидность дикой утки с ухватистыми повадками - чем на вышеупомянутого арбитра и походит. Кстати сказать, данный тезис я небезуспешно отстаивал в спорах с дворовыми мальчишками в течении довольно длительного периода времени.
Так хочется приподнять завесу над тайной всех причинно-следственных связей в мире. Неужели, всякой логике вопреки, есть нечто общее между накрахмаленным халатом давно почившего парикмахера и впившимися в меня холодными зрачками элегантно одетого немолодого гражданина номер один, сидевшего во главе длинного массивного стола? И без одного не было бы другого? А могло ли так случиться, что в то утро бедолага-парикмахер с похмелья заявился бы на работу вовсе без халата и, получив от директора заведения взбучку, в сердцах плюнул бы ему в лицо, а в результате меня повели бы совсем в другую парикмахерскую в другой район города и с длиннющей очередью. Так и не попав в тот день в обещанный зоопарк и страшно разобидевшись, может я и потерял бы уважение к родителям, а впоследствии связавшись с уличной шпаной, срезался бы на вступительных экзаменах, и потом была бы совсем другая жизнь и другая смерть? Скажем, меня, так и не ставшего студентом-очником, призвали бы на действительную войнскую службу, а далее передо мной открылась бы офицерская карьера, которая, в конце концов, обернулась бы пленом и безвременной гибелью: где-то в афганских горах пуштунские моджахеды с истинно правоверной неистовостью прикончили бы неверного гяура-оккупанта, отрезав ему голову. Или же, поступив после армии в мореходку, я поплавал бы вдосталь по морям-океанам под советским торговым флагом, и в финале жизни осев в небольшом причерноморском городке, сидел бы нынче у себя на веранде попыхивая за семейным ужином приобретенной когда-то в экзотическом тихоокеанском порту данхилловской трубкой и рассказывал бы о своих заморских похождениях совсем другим внучатам. Разве прожитая жизнь это не всего лишь один-единственный реализованный вариант среди множества возможных, но не реализованных вариантов? Конечно, ученые пытались вывести соотношения между различными причинами и следствиями, философы исписали тонны бумаги в попытках превратить удивительное в прозаическое, физики создали стройную квантовомеханическую теорию, возведшую вероятность в абсолют, но нам, простым людям, от этого не легче. Мы страдаем от необратимости природных процессов, от того, что время на земле течет только вперед, пришпоренный конь мчится по пыльной, неотвратимо ведущей к пропасти дороге и почти не слушается узды, остановить его нет никакой возможности, пригнувшемуся всаднику лишь дозволено мельком оглянуться назад и, сквозь клубы песчаного дыма, поискать усталыми глазами втоптанные копытами в грунт секунды прошлого, и то тайком, и то рискуя сломать себе раньше времени шею. Вероятность, под названием Наша Жизнь, впитывает нас в себя подобно спруту, до самого конца; делает с нами что захочет, заставляет бояться, любить, умирать, ничего себе вероятность, мы ведь все-таки не безымянные орлы и решки.
Но если жизнь - Вероятность, если решения принимаются за нас и против нас, то поневоле приходишь к фатализму. Мне кажется, что противоречие, существующее между определением жизни как реализованной Вероятности и всеобщим требованием подчинить эту Вероятность законам человеческой справедливости, невозможно преодолеть. Вероятность - понятие бесчувственное, ее язык - язык статистики, язык голых процентов и цифр, а живому человеку нелегко привыкнуть к мысли, что его можно приравнять к роботу, которому через некоторое время суждено быть выброшенным на свалку за ненадобностью, и действующему по сложной, саморегулируемой, но все же продиктованной извне программе. Поэтому люди, даже такие манипулировать которыми вроде-бы нелегко, внутренне протестуя против устоявшегося порядка вещей и собственной слабости, в качестве реальности воспринимают не многообразный и, на первый взгляд, бессмысленный круговорот персонифицированных Вероятностей, а рожденную весьма несовершенным человеческим разумом условную шкалу моральных ценностей и личностных достойнств. В самом деле - в одном случае получается, что за глупости, безответственность, голод, войны, горькое горе еще вчера вполне счастливых людей никто не отвечает, виноватых и правых по сути дела нет вовсе, все и так предопределено; в другом же преобладают такие знакомые оценки, как "плохой", "хороший", "друг", "враг", а там и "свидетель", "подозреваемый", "осужденный", и можно без опаски предаваться одному из любимейших людских занятии: выйскивая отягчающие обстоятельства обвинять конкретных, близких и далеких, людей во всевозможных грехах, тем самым до поры до времени поддерживая выработанное общественное равновесие и гарантируя личную безопасность большинства граждан. Все же на самых верхних этажах общественного сознания оба направления имеют своих адептов, никто не знает где Истина, и существующее противоречие смягчается при помощи диалектической схоластики, гласящей попросту, что все до некоторой степени и правы и нет. Одним из неожиданных следствии подобной неоднозначности является то, что лучшим людям нечего особенно надеяться на личное благополучие и материальный достаток.
Когда я думаю обо всем этом, перед глазами встает образ моего отца. Пожалуй упреков в пристрастности мне не избежать, но это совершенно неважно, я чувствую больше, чем способен доказать. Отец был и честнее, и талантливее меня, да и как личность он стоил поболее своего амбициозного отпрыска, но, несмотря на это, прожил нелегкую жизнь и, надорвав себе сердце, слишком рано и в практической безвестности умер. Как и всякого нормального мужчину его покоробило бы от неуместной чужой жалости, но сейчас нас нет в живых, ни его, ни меня, и я позволяю себе немного за него заступиться. Толку от этого никакого, налицо просто желание выговориться, высказать вслух то, о чем упорно и привычно молчал при жизни. Я всегда жил гораздо устроеннее его, по крайней мере так казалось внешне. Мое существование протекало в относительной безопасности; во всяком случае, я, как правило, сам знал на что шел, ему же смерть от шальной пули грозила в течении сотен свинцово-серых дней подряд. За всю свою жизнь надо мной никогда не витал страшный призрак голода, он же был, - в некотором смысле, конечно, - плотью от плоти своей бедновато жившей тогда страны, а в молодости ему и вовсе частенько приходилось засыпать на пустой желудок. Несмотря на полученное в юности довольно широкое и почти классическое образование, подразумевавшее и некоторую тягу к минимальному комфорту, он не обращал почти никакого внимания на скрашивающие жизнь удобства, и, кабы не пообтесавшая ему манеры моя мать, женщина довольно таки властная и с норовом, ходить бы ему всегда в первом попавшем под руку пиджаке, я же был далеко неравнодушен и к одежде, и к материальным условиям среды моего обитания. Большую часть сознательной жизни меня обслуживала легковая машина, мне ее оставили даже после того, как выбросили на персональную пенсию, ему же о таком даже не мечталось, в те годы люди его круга могли посчитать это просто неприличным. Мое имя было знакомо всем мало-мальски почитывавшим газеты людям по той очевидной причине, что я был облечен немалой публичной властью, его же мало кто знал. Наконец, я прожил семьдесят с лишним лет, он - всего пятьдесят пять. Этот список можно продолжить, но в нем так и не будет ни слова о цене, которую пришлось уплатить за такие преимущества. А в прейскурант вошло бы многое. Ведь многому пришлось научиться в жизни, чтобы стать тем, кем в конце концов стал. Например тому, с какой силой следует пожимать руку нужным людям не роняя собственного достойнства, как соглашаться вслух с собеседником внутренне будучи с ним совершенно не согласным, а иной раз при необходимости воспринимать людей как простых двуногих фишек, видеть в них слепых исполнителей моей воли. Я поднаторел в деловых и дворцовых интригах, порой превращавшихся в самоцель, отец же всегда принимал человека таким, каким тот был на самом деле и его простодушная прямота, бывало, граничила с детской наивностью. Он ни на йоту не был карьеристом, не умел идти на компромисс даже когда сам считал его необходимым, из-за чего у него случались большие и малые неприятности, а о крупном служебном продвижении и речи быть не могло. Зато многие порядочные люди прощали ему упрямство и неуступчивость, видя что в ее основе лежит не своенравие, а органическое неприятие парадности и лжи. Если на минуту представить его живым, берусь утверждать, что он остался бы недоволен сыном. Думаю я об этом без горечи: просто две жизни, которые почти не пересеклись, но одна обязана другой самим своим существованием. Он скончался когда мне исполнилось двенадцать лет, и он, - так мне кажется, - просто не успел меня как следует воспитать. И все-таки почти всем ценным, проявившимся потом, в зрелом возрасте, несмотря ни на что, я обязан именно ему. Не хочу быть несправедливым к матери, но она оказала на меня куда меньшее влияние, наверное оттого, что на ней лежали все домашние дела, все то, что в отрочестве и юности как-то не ценишь. Так или иначе, но направление моих интересов определил, пусть невольно, отец. От отца передалась мне и некоторая бесшабашность что-ли, я не терплю жеманности, и вообще, по тщательно скрываемой натуре (и почудилось мне, что я нынче живой), являюсь человеком обожающим бросать камушки в затхлый, стоячий омут и наблюдать за тем как расходятся круги по вонючей воде. Слов нет, отец был далеко не безгрешен, и, стало быть, ко мне по наследству перешли и кое-какие из его отрицательных черточек. Отец не всегда бывал осмотрителен во гневе к ближнему своему, имел различные назойливые слабости и, как я уже отмечал, был невероятно упрямым человеком. В молодости он, насколько мне стало известно, вел не очень-то аскетический образ жизни, любил и шумное веселье, и застолье, и к женским чарам был неравнодушен, но делу своему - железнодорожной инженерии и машинерии - служил преданно. Наверное его, как и меня, охватывала то беспричиная радость жизни, заставляющая безотчетно дрыгать ногами проходясь по комнате в диком плясе не предназначенном для чужих глаз; то безысходная сердечная боль, - не знаю какой она представлялась ему, а я в такие мгновения почему-то вижу себя совсем молодым, где-нибудь в роскошном номере люкс на двадцать втором этаже ультрасовременной столичной гостиницы из стекла и бетона. Вот я, молодой старый человек, в костюме с иголочки и при галстуке, чего-то жду у навсегда умолкшего телефона, огромное окно открывает величественную панораму громадного ночного города упрямо плывущего подобно "Титанику" навстречу неминуемой гибели, издали доносятся слабые и щемящие душу звуки ресторанного оркестра, что-то очень парижское, сен-жермен де пре, и под этот романтический аккомпанемент хочется разбить оконное стекло и броситься вниз, раствориться целиком, без остатка, в ледяном океане космической стужи, олицетворяющей собой вселенское безразличие и эгоизм, разом покончить с этой тоскливой чертовщиной под названием Одна Человеческая Жизнь.
Непросто, за исключением наиболее ясных случаев, раз и навсегда определить, что такое Хорошо, а что такое Плохо. Стоит ли доказывать, что разные отрезки отечественной истории - отнюдь не моральные константы из популярных детских стишков Владимира Маяковского, жил когда-то на заре советской эпохи такой мощный, а ныне полузабытый поэт. Сравнить хотя бы времена отцовские с моими, неизменные атрибуты Тех лет - с неизменными атрибутами Этих. С одной стороны Те времена были плохими, мрачными, беспощадными. Всего хватало - голода, разрухи, предательств. Как ураган уносит пылинки, так унесла война миллионы человеческих жизней, да и произвол уничтожил столько людей, сколько не погибает в иной крупной войне. Но с другой стороны, во многих и многих чистых и честных, пусть и наивных, душах горел святой огонь правоты и справедливости, жила искренняя и непоколебимая вера в то, что грядущее общечеловеческое счастье можно приобрести лишь за счет текущих временных лишений, и она, эта искренняя вера, помогала переносить и бедность, и эзопов язык официальной пропаганды, и вражеские пули, и даже лагеря. К сорок пятому году вроде стало очевидно, что терпели не зря. Капитальное здание высокомерного и тупого насилия, казалось уже возведенное уверенными в своем расовом превосходстве нацистскими правителями, пало под победоносными ударами Новой Эпохи, избравшей мерилом человеческого достойства не деньги, не вещи которые можно приобрести за эти деньги, и даже не семейное благополучие, а желание и умение честно трудиться на народное благо. Мне, человеку получившему первые жизненные уроки в условиях относительного комфорта и иной повседневности, жизнь в том мире, мире отцовской весны, могла бы показаться невыносимой, но смею отсюда, Из Под Земли, утверждать, что и ему, - иногда по крайней мере, - казалась невыносимой новая жизнь, постепенно вытеснявшая былую и походя срывавшая с нее фиговый листок официозного благочестия и политической сверхлояльности. И пусть этот фиговый листок скрывал собой не только ханжество предпринимателей, но и смелость первопроходцев, каково было ему привыкать к мысли, что жизнь, может быть, развивается не по самым справедливым на земле канонам. В сущности, с годами в памяти стерлись многие важные детали; выражение его лица при тех или иных обстоятельствах, слова произнесенные им в связи с теми или иными событиями, но смерть, как водится, все расставила на свои места, провела контрастные грани между светом и тенью. Помню, как в начале шестидесятых наша семья получила квартиру на первом этаже нового дома и, среди прочих новоселов, была осчастливлена соседством с некоторыми высокопоставленными особами той поры. Это были люди особого разлива, для них, похоже, существовали только свои. Их образ жизни отличался от образа жизни простых смертных, они и не особенно скрывали это, да и зачем было скрывать, разве стоило бы тогда становиться высокопоставленным? Вспоминаю, лифт то и дело портился, и тогда шофера их персональных государственных автомобилей, все красные от натуги, таскали на верхние этажи ящики с особенным, "правительственным" лимонадом, и, заставая их за этим невинным занятием, отец становился мрачен и с каким-то усталым презреньем, будто сплевывая, произносил два слова: "Красные князья". И хотя я, по малости лет, еще ничего не понимал, но по тону, по выражению отцовского голоса чувствовал, что два этих слова, Красные и Князья, не должны стоять вместе, но они вместе, и это как бы осень наступившая после зимы, осень оттершая весну из очереди плечом. Я был обычным первоклашкой, но мне уже тогда было видно, каких трудов стоило ему примириться с этим, как он сочувствовал этим шоферам, вполне, впрочем, довольными, - на первый хотя бы взгляд, - своей судьбой. Отца многие считали неудачником, неумелым человеком. Он и хороших отношений с начальством не признавал, если только не считал начальника порядочным во всех отношениях человеком, и докторскую защитил лишь незадолго до кончины, хотя долгое время заведовал в институте отделом, в котором, как говорили, делалось дело, и в партию, когда в нее ради карьеры и пускали и просили, так и не вступил, и денег не заработал - ну, к чему были лишние деньги состоявшемуся в жизни интеллигенту, коли, благодаря передовому общественному строю, его семье на пропитание, да на сочинские пляжи, вполне хватало. Если бы не некоторое количество старых и, в общем, верных друзей, да еще жены и единственного сына, да еще своей любимой лаборатории, жизнь его можно было посчитать прескверной. Но ведь перечисленного, как не посмеивались бы скептики, вполне достаточно для гармоничного существования, и я думаю, что кабы не инфаркт бесшумно прокравшийся к нему в ночь с субботы на воскресение, он дожил бы даже до тех регалий, к которым не стремился никогда.
Ну а мне пришлось жить и действовать в иное время. Если на минуту отбросить все и ныне проходящее по графе "Положительные результаты": - Ликбез, Победу, Космос, и признать, что отцовское время было вотчиной людей предпочитавших наган конституции, приказ сверху - уголовному кодексу, а уголовный кодекс - полету творческой мысли; если напомнить себе ту непреложную истину, что многих и многих упорное стремление отстоять свое человеческое достойнство логическим образом привело к могильной тишине, или, в лучшем случае, к пожизненному безмолвию, то отрицательное моего времени принимало образ дорвавшихся до власти людей, предпочитавших всему на свете поднесенный на кухню вспотевшим от натуги шофером ящик с бутылками лимонада элитарного розлива. Можно было быть обо мне любого мнения, в том числе и дурного, ибо чего скрывать - за мной тоже числились кое-какие грешки, но в одном, - в прочной, искренней, засевшей где-то в области позвоночника неприязни к "красным князьям" отказать мне никак было нельзя. Причем, в своей к ним неприязни я был довольно-таки непоследователен. В юности - благодаря тому, что среди моих товарищей было не так уж мало выходцев из номенклатурной среды, - мне доставляли большое удовольствие случайные, но не столь уж и редкие беседы с их родителями, "красными князьями" и "князьками" по существу. Более того, именно посредством таких, всегда выходящих за официальные рамки бесед старших с младшими, я приобщался к политической жизни, к тому круговороту бестелесных слухов, к той веренице бесплотных сплетен, которые так же необходимы будущему государственному деятелю, как арифметика великому математику. Я был достаточно прилично воспитан для того, чтобы выказывать тому или другому красному графу или барону приличествующие его возрасту и положению знаки почтения, но в своем кругу, среди сверстников и друзей, для характеристики "княжеской" прослойки общества я находил немало резких, а порой даже грубых слов. Конечно же, все это смахивало на лицемерие, и я понимал, что веду себя не очень-то порядочно. Но мне легче было считать себя хитроумным и в меру двоедушным борцом за справедливость, нежели отказываться от принципов и убеждений. Я полагал, и, как мне кажется, не без оснований, что за социализм "красные князья" только на словах, в силу занимаемого ими служебного положения и узурпированной ими власти, а дела у них сильно расходятся со словами. Моя Юность не могла простить им столь чудовищного предательства, ведь своим поведением они подводили не только и не столько меня, сколько весь наш многострадальный народ, бесстыдно обмановали его. Ныне, находясь в деревянном гробу под могильной плитой, я меньше всего намерен обвинять. Я и сам вкусил от сочного древа власти, теперь-то я сознаю, что был тогда слишком молод и горяч, что наклеивать на людей ярлыки безответственно и порой преступно, что требовать высокой ответственности от других проще всего, что и среди "красных князей" попадались различные люди, добрые и злые, честные и не имевшие представления о чести, да и были они, в конечном счете, обычными людьми, обычными отцами и мужьями, питавшими определенные слабости к своим детям и женам, и готовыми претерпеть ради благополучия своих близких множество гражданских и нравственных испытаний. Но я был горяч и молод, и потому полностью отрицал право "красных князей" на приспособленчество, коль скоро это им, а не мне, или кому-нибудь другому, выпало стоять у штурвала. Очень многие последующие компромиссы на моем пути, компромиссы из тех, что щепетильный человек мог бы назвать просто низостью, объясняются как раз впитанным в детстве и ранней юности стремлением как можно сильнее насолить "красным князьям". Должен заметить, что по складу характера я меньше всего был человеком, склонным останавливаться на полпути. Могло быть все: глубокие отступления, кажущийся отказ от достижения цели, но она, эта цель, продолжала существовать, она просто загонялась в закоулки сознания, именно сознания, и в надлежащий, благоприятный момент извлекалась из него на божий свет. Впрочем, о своем отношении к Цели мне уже приходилось вспоминать. И вот где-то в пределах третьего десятилетия жизни в моем сознании начала выкристаллизовываться мысль, что без Власти навредить приспособленцам невозможно, что подвести может именно недостаток легитимно признанного влияния, и если действительно хочешь влиять на события, то отношения следует налаживать с самыми разнообразными людьми. К этой мысли я пришел частично под впечатлением совершенного мной уголовного преступления. К счастью, мне так и не было суждено попасть на скамью подсудимых, понести заслуженное наказание и, таким образом, преждевременно завершить еще не начавшуюся общественную и политическую деятельность. И на этом важнейшем в моей жизни событии память останавливается более подробно.
X X X
Девочка влюбилась.
Все студентки рано или поздно должны влюбиться. Так положено и исключений тут не бывает.
Ей Он нравился весь, целиком. Она видела Его смелым, умным и сильным, еще ей нравились Его улыбка, прямой взгляд, походка, жесты.
А может она влюбилась потому, что Он не обращал на нее внимания, был с ней весел, прост, добр, улыбчив и только.
Как бы то ни было, но она полюбила Его.
Как хотела бы она открыться самой и открыть Ему глаза, как хотелось ей, чтобы Он узнал ее такой, какой она была на самом деле. Или такой, какой она могла бы стать ради Него. Доброй, ласковой и преданной как собачка.
Однако сама мысль о том, чтобы самой, первой подойти к Нему и сказать о терзавшем ее чувстве, казалась ей еретической. Она не была бойкой девчонкой с ухватистыми повадками. И те тоже, может, молчали бы, но их молчание было бы связано с нежеланием идти на риск откровенного разговора. Она же молчала просто потому, что не могла иначе. И когда они встречаясь мило здоровались, она краснела. Она чувствовала, как предательский жар приливает к щекам и подкашиваются ноги. Нет, о признании не могло быть и речи.
А встречаться с Ним Девочке доводилось не так часто как ей хотелось бы. Правда, у них были общие знакомые, но учились они на разных факультетах.
Вначале ей было трудно и плохо, но потом как-то притерпелось.
Беда редко приходит одна, неожиданно и нелепо погиб ее старший брат. Будучи летом на отдыхе, он утонул в море. Спрыгнул с аэрария и не вынырнул. Напрасно ждали его друзья, ждали полминуты, потом минуту, полторы, две, две с половиной.
На следующий день его тело привезли домой. Потом были глухие рыданья мамы и похороны. Юноша, которого она тайком любила, тоже, конечно, пришел на панихиду. Лицо у Него было белым как у брата. Подошел, пожал руку, поцеловал. И в то мгновение поцелуя она забыла о брате. Потом вспомнила и ее охватил ужас и стыд.
Хорошо, что у нее были еще брат и еще сестра.
И поэтому, через несколько лет, когда она наконец получила диплом, родители посоветовали ей не упускать подвернувшийся случай и отправиться в другой, центральный город, чтобы и дальше повышать квалификацию. Она согласилась.
Ей хотелось ехать еще и потому, что ОН тоже собирался в этот город.
X X X
Монотонно-нервное шуршание быстрых шин по шоссе "Пастораль", деловитые гудки отходящих автобусов, бесконечный топот усталых ног, все долетающие до меня обыденные звуки мерной городской жизни, вдруг раскалываются надвое и из глубокой бездны исчезнувшего прошлого в образовавшийся промежуток вторгается самый обычный, тихий, еле слышный скрип, с которым отворилась тогда, полвека назад, тяжелая, отделанная резным дубом дверь. Замок наконец натужно подался, дверь отворилась с мирным, будничным скрипом, и я быстро юркнул в квартиру. С тех пор в Куре утекло немало воды, но именно с той, вполне реальной секунды, и по сей, весьма эфемерный и потусторонний миг, чувствую я себя эдаким подобием Родиона Раскольникова, переиначенного на оказавшийся столь неистребимо вечным советский лад.
Очутившись наконец в прихожей, я окоченевшей от напряжения рукой почти бесшумно закрыл дверь, уже совершенно бессильно прислонился к ней и тыльной стороной кожаной перчатки вытер со лба мелкие крапинки ледяного пота. Так, без намека на движение и с подгибающими коленями, простоял я несколько бесконечных минут, но всему, в том числе и страху, установлен некий естественный предел - блуждавшая по телу нервная дрожь постепенно унялась, улеглось и смятение мыслей, уверенность вернулась в непослушные, одеревеневшие ноги, пустой черный портфель перестал казаться неподъемной ношей. Вот в эти секунды и оборвалась окончательно тугая и незримая нить преемственности с белизной раннего детства, ее милая непосредственность мигом оказалась погребенной под наплывом грядущих лет-невидимок и я повзрослел на целое дряхлое столетие. И когда больше по необычности обстоятельств, чем по необходимости, я, по-кошачьи крадучись, перешел в гостиную, то это был уже не известный моим друзьям неизменный Я, а совсем другой человек (а может я ненароком и сейчас ввожу себя в заблуждение?), человек впервые в жизни тайно и без всякого на то права переступивший порог чужой квартиры и, вдобавок, преступно убежденный в глубокой правоте своих действий.
В гостиной меня обступил сплошной мрак, глаза не успели пообвыкнуть и я сразу же стукнулся коленом о что-то твердое и острое. Я уже упоминал, что передвигался осторожно, крадучись, поэтому и ударился о препятствие не с размаху, но искры все же посыпались у меня из глаз. Вот точно так же посыпались у меня искры из глаз лет двадцать спустя в Маниле, на дипломатическом приеме в честь возглавляемой мною правительственной делегации. Ужас и досада блеснули в глазах худого, смуглого и узкоглазого, облаченного в черную фрачную пару филиппинца, шефа протокольного отдела их МИД-а, когда направляясь легким, спортивным шагом, с дружелюбной улыбкой на лице (таков уж был мой стиль) к премьер-министру Филиппин и изготовившись к теплому, длительному рукопожатию, я ненароком ударился коленом об угол кем-то неосторожно развернутого и забытого парадного стула. Стул был сделан из какого-то весьма твердого дерева, - сандалового, красного или черного, не знаю, я не знаток ботаники, - но, в общем, из экзотического и, главное, смахивавшего на железобетон материала, и от внезапного шока у меня чуть было не вырвался вопль. Но довлевшее над всем и всеми чувство ответственности вынудило меня ограничиться еле заметным придыханием. Даже невнятное и глухое чертыхание, - от которого я в гостиной так и не удержался, - было бы там, на приеме, недопустимо. Пришлось стерпеть, стиснув зубы превозмочь боль, сохранить на лице дежурную улыбку, ничего не поделаешь, я представлял великую державу - Советский Союз - и это обязывало. Глаза шефа протокола постепенно успокоились и вскоре приняли прежнее, тревожно-настороженное выражение. Ох, какое пекло, какие бирюза и лазурь, как нелегко выносить тяжесть жарко обволакивающего тебя строгого темного костюма на борту роскошного белого теплохода, что стоит себе на якоре близ гавани, но в стороне от нее; снующие по периметру заливчика полицейские катера, суетящиеся на палубе официальные лица вперемежку с официантами, а перед открытием по восточному благоуханного банкета - торжественный церемониал подписания совместных документов, открывающих новые рубежи двустороннего сотрудничества (потом в газете прочел: "в Маниле было парафировано соглашение... с советской стороны в переговорах принимали участие..."), море цветов в Манильском аэропорту, а спустя несколько долгих часов - родная прохлада Внуково-2. Но всего этого пока, разумеется, не было и быть не могло, и я, скрипя зубами и чертыхаясь, доковылял до ближайшего окна и приник разгоряченным лбом к прохладному стеклу, оставляя на нем невидимую испарину. Сквозь окно в душную, мрачную комнату проникала лишь кромешная уличная мгла.
Я был готов к тому, что эта ночь будет темнее обычного. Скажу больше - в столь поздний час прильнуть лбом к оконному стеклу чужой квартиры мне удалось только благодаря расторопности городской прессы, заблаговременно известившей население данного района о проведении необходимых ремонтных работ на прогнившем участке электросети. Из объявления также следовало, что подача энергии здесь возобновится не ранее двух часов ночи. Это в наши дни такие работы производятся быстро и незаметно, а тогда - полвека назад - технология была не столь совершенной и это обстоятельство, наряду с иными, тоже поспособствовало осуществлению задуманного нами дерзкого плана. (К слову сказать, я позволю себе здесь небольшое отступление. В истории нашей великой страны где-то на рубеже девяностых годов прошлого столетия был критический момент, когда ее развитие, как и развитие планеты в целом, могло пойти по иному, неверному и пагубному пути. Тот кризис ценой неимоверных усилий был, в конце концов, преодолен, но повернись все иначе... Вот тогда сидеть бы нам, - в одночасье люмпенизированному образованному большинству, или, по выражению одного сильно прошумевшего в ту пору писателя-эмигранта о котором нынче мало кто помнит, "образованщине", - из года в год по своим погасшим кухонькам холодными и голодными зимними днями и ночами, а загодя объявляемые при советской власти в городской печати предупреждения о профилактических и текущих ремонтах электросетей показались бы не неудобством и коммунистическими кознями, а верхом наслаждения. Но это так - между прочим). С высоты четвертого этажа вглядывался я в тихую ночную улицу, парившая высоко над облаками луна не отражала более света, в мире царили сон и тьма, лишь считанные окна в больших домах напротив отбрасывали вовне унылую, еле заметную желтизну, будто там плавились и догорали свечки полузабытые дремлющими хозяюшками своих крохотных изолированных вселенных. И только в узком проеме между окрестными каменными громадами, где-то далеко, за широким оврагом, равнодушно мерцали светлячки городских огней. Дома, дома... В одной из таких громадин, стоявшей, правда, совсем рядом, совместно с родителями обитал и я, и с трепетом ожидавший меня Антончик, Антоша, Антон, мой самый близкий друг... Ситуация складывалась, - как и было нами предусмотрено, - весьма благоприятная, так как родители Антончика находились в зарубежной турпоездке из тех, от которых невозможно бывает отказаться, его бабуля наверняка давным-давно уснула, мои же предки, вполне доверявшие мне как человеку повзрослевшему, были предупреждены, что эту ночь я провожу у своего друга по причинам не столь уж важным, уже забытым, но связанным с будущей экзаменационной сессией достаточно сильно для того, чтобы не возбуждать ненужных подозрений. Меня, приникшего лбом к прохладному стеклу, охватило невиданное дотоле ощущение причастности, может точно такое владеет разведчиком-грандом перед началом одной из тех тайных операций, от исхода которых зависит итог военной кампании или ожесточенного политического противоборства. Каюсь, в голову без удержу лезли высокие слова, мысли принимали облик ложных афоризмов. Я был действительно молод.
Отдышавшись, я наконец отошел от окна и, приблизив запястье к глазам, нажал на кнопочку заморского дива - новеньких электронных часов, полученных в подарок от вернувшегося из Японии дальнего родственника со стороны матери, сотрудника нашего торгпредства. Такими тогда не мог похвастаться ни один из моих друзей. Дисплей мгновенно отреагировал возгоранием маково-алых цифирек: 00.16.27. Это означало, что в запасе у меня оставалось около полутора часов - вполне достаточное время для достижения намеченной цели. Мне были хорошо известны и расположение комнат в квартире, и, конечно же, местонахождение канцелярского сейфа, в котором владелец квартиры, - наш старший товарищ и доброжелательный наставник, - наряду с другими ценностями должен был хранить, очевидно, и весомую часть присвоенных им деньжищ.
Мало-помалу глаза привыкли к темноте и мне стали заметны контуры дверного проема, ведущего прямиком в кабинет Хозяина. Прихрамывая, боль в коленной чашечке еще давала о себе знать, я доковылял до двери, нащупал ручку и, повернув ее, вошел в комнату. Хозяин любил величать ее респектабельным иностранным словом - кабинет (а ну, пошли ко мне в кабинет, дернем по стаканчику, бывало, говаривал он будучи в приподнятом настроении. Ну а по мне, так следовало бы называть замкнутое и чопорное помещение, пригодное для разного рода умственных занятий, то есть занятий бесконечно от Хозяина далеких, если только не принимать за таковые усилия, затрачиваемые им на подсчеты, необходимые для подведения итогов очередного удачного финансового ловкачества). Итак, предварительно убедившись в том, что единственное выходящее во двор окно достаточно от меня удалено и вынув из кармана старенькой холщовой курточки фонарик "Лекланшэ" (на сей раз сувенир от однокашницы, успевшей по большому блату и на зависть всем погостить в Париже у давным-давно отбывшего из родных краев дяди-эмигранта), я направил его лампочкой вниз, включил, и затем стал осторожно приподнимать таким образом, чтобы луч ненароком не скользнул по окну. Вскоре свет выхватил из душноватой тьмы массивный, обтянутый добротным сукном стол и мягкое кресло-вертушку за ним. Обогнув стол я устроился в кресле, рассеянно прошелся лучем по обложке лежащего передо мной контрабандного иллюстрированного журнала не совсем приличного содержания, глубоко вздохнув откинулся на спинку кресла и, выключив фонарик, спрятал его обратно в карман. Ладони в перчатках стали липкими от пота, но я заранее обещал себе не обращать на подобные мелочи внимания. Мне надо было немного передохнуть, прийти в себя. Высокие мысли незаметно улетучивались из сознания постепенно подменяясь иными, куда менее привлектельными. Воображение мое вновь разыгралось. О боже, какая разразится сенсация если провалюсь, подумал я, искренне не предполагая, что даже при столь позорном провале нашей авантюры, в мире не произойдет решительно ничего такого, чего не происходило раньше. Влепят мне лет семь, никак не меньше, продолжал думать я, родне со стыда и страху нос некуда будет казать, а друзья-подружки поначалу просто не поверят в случившееся. Такой фортель, такое коленце, и от кого, от меня, такого смирного и законопослушного типа! Покручиваясь в удобном кресле, я представил себе скорбный облик некоего долговязого зануды - секретаря комсомольской организации факультета, затем перед моим взором возникло осуждающе строгое лицо заместителя декана по учебной части и я даже поежился от страха. Все может закончится плачевно и очень даже просто. Как будто все мелочи учтены заранее, всё предусмотрено, но для слепого случая место под солнцем может найтись и глубокой ночью. Может быть, именно в эту секунду названивает по милицейскому ноль-два преисполненный обостренным чувством гражданского долга прохожий, заметивший чудом вырвавшийся из темного дотоле окна случайный лучик света, а может неладное почует один из припозднившихся соседей Хозяина, встретив меня на лестнице уже после того, как я выберусь отсюда. Еще было время махнуть рукой на задуманное и уйти тем же путем, что и пришел, но меня ждал Антон.
Да, меня ждал Антон и это было непреложным фактом. Антон, Антоша, верный друг моих детских лет... Правду, к концу наши отношения были уже не те. Он опередил меня на пять лет. Авария произошла на багебском участке шоссе "Пастораль". Его серебристо-стальной джип "Вольво-Круйзер" врезался во встречный трайлер, и когда изуродованное тело Антона, кровь и кричащее мясо, наконец извлекли из-под смятых форм дюралевидной стали, было уже слишком поздно. Водитель трайлера отделался увечьем. Экспертиза пришла к заключению, что джип летел по шоссе со скоростью, значительно превышавшей установленный правилами предел. Незадолго до моей кончины супруга Антона подробно рассказала мне, куда он так мчался с загородней дачи. Так уж вышло, что именно тогда она с нетерпением ждала в их городской квартире его приезда. В Тбилисской опере гастролировала "Ла Скала", вечером им предстояло насладиться бархатным тенором Пармуцци и несравненной колоратурой Лобелли, вот он и спешил, боясь опоздать на представление - ведь еще надо было успеть выбрать из кассы заказанные ими билеты. Кстати сказать, супруга Антона, благородная женщина, всячески пыталась исключить судебное разбирательство, но добиться этого ей так и не удалось.
С самых ранних школьных лет Антон и я, будучи одноклассниками, составили сцепленную пару отчаянных спорщиков. Жили мы в одном доме, наши родители хорошо знали друг друга, и нам тоже суждено было подружиться. Спорили мы отчаянно, изо дня в день, до хрипоты и поздней ночи. Коль скоро мы были и соседями, и ровесниками, то и в школу нас отдали одновременно. Наши юные души радовались одним и тем же детским забавам и играм, и первые споры тоже были детскими и беспечными. Мы подрастали, переходили из класса в класс, и вместе с нами наши споры подрастали тоже. Со временем коснулись они вещей уже и вовсе непустяшных: спортивных новостей, ковбойских фильмов, относительных достойнств наших однокашников, а иногда и девчонок, на которых мы, как и полагалось, посматривали свысока и даже, пожалуй, с некоторым пренебрежением. С взаймным благожелательством сосуществовало и сравнительно безвредное соперничество в учебе. В нем никак нельзя было признаваться вслух, но из-за этого соперничества мы, бывало, потаенно ожидали когда же споткнется вызванный к доске учителем "конкурент". Какими же мы были все-таки дурачками!
Есть что-то общее между незрелым детским восприятием мира и старым школьным учебником, все изложенное в котором когда-то принималось за бесспорную истину, а на поверку оказалось, что несмотря на освященность размеренностью учебно-педагогического процесса, учебник частью лжет, а частью - поверхностен и неточен. Так и в ту светлую пору. Билет на футбольный матч или пропущенный заболевшим учителем урок представлялись нам вершиной человеческого счастья, а редкий родительский нагоняй за схваченную невпопад двойку казался событием вселенского размаха. Теперь-то мне яснее ясного, что у радостей, горестей и страхов совсем иная цена, а детство было безоблачным - ни голода, ни холода, ни лишений.
Ну а потом... Потом мы повзрослели, повзрослели и проблемы вокруг которых мы вращались.
Раньше все было предельно ясно. Как наяву вижу себя за исцарапанной партой в перепачканном фиолетовыми чернилами сероватом школьном пиджачке. Рядом уткнулся в тетрадку известный всему честному мальчишьему люду маменькин сынок, а передо мной сидит нескладная тощая девчонка, обладательница самой длинной косички в классе, просто грех не дернуть, невыносимая кривляка и зараза. Взрослые поддавались определениям с еще большей легкостью. Вот сосед по лестничной площадке - пожилой человек со смешной лысиной на острой макушке и зануда каких поискать, вечно он мешает гонять мяч во дворе, ему, видите ли, шумно; зато жилец с пятого этажа - великолепный дядя, время от времени осеняющий нас обильным леденцовым дождем. А как изменили всех всего несколько лет! Маменькин сынок незаметно преобразился в умницу, беседа с которым обогащает внутренне, чувствуешь, что время потрачено не зря; кривляка удивительнейшим образом перевоплотилась в очаровательную, еще не вполне оформившуюся девушку, за которой увиваются все уважающие себя "мужики" нашего класса, но, увы, безуспешно. Оказывается, что лысый зануда с лестничной площадки - всеми уважаемый ученый, труды которого приобрели известность далеко за пределами республики, а сосед с пятого - всего лишь спекулянт дефицитными книжными изданиями, так сказать, коммерсант с интеллектуальным уклоном. Внешний мир засверкал яркими гранями, привычные будто-бы понятия наполнялись новым - радужным и неожиданно неисчерпаемым содержимым. Прежняя, плоская и двумерная картина мира блекла и исчезала, растворяясь в пространственном отображении окружающей действительности. Жизнь представала сложной как шахматная комбинация и многообещающей как первая газетная полоса.
Отсюда, из-под могильной плиты, в сгинувшую навсегда реальность верится все же не лучшим образом и, во всяком случае, вера эта требует постоянной подпитки. Громоздкая конструкция моей памяти поддерживаема прежде всего Мыслью, ведь незыблемые когда-то истины при ближайшем посмертном рассмотрении оказались зыбкими и неустойчивыми, и вся прожитая жизнь кажется отсюда одним большим детством. Что ж, спасибо и на этом, не мне выказывать неудовольствие подобным оборотом событий, наверное только так и можно после физической смерти: - вспоминать отрешенно, как-бы переигрывая заново все прошлое, весь жизненный процесс. Невозможно избежать совершенных когда-то ошибок, смерть не всесильна, зато ошибки вполне поддаются анализу и переоценке. Существует очень небольшая вероятность того, что в грядущих исторических исследованиях или посвященных минувшей эпохе псевдоисторических опусах, появятся строки в которых будет правильно отражена моя персональная роль государственного деятеля эпохи мирового кризиса. И вовсе не только по причине моей никчемности, не только потому, что мне довелось быть всего лишь статистом на политической авансцене своего времени, но и потому, что мои современники слишком хорошо умели прятать концы в воду. Но если вопреки прогнозу, чуду все же суждено произойти, то мой еще не родившийся, по всей вероятности, биограф вряд ли обойдется без сакраментальной фразы вроде: "Имярек формировал свое общественно-политическое сознание на историко-географическом фоне Грузии семидесятых годов двадцатого столетия". Некоторая тяжеловесность этого предложения, надо полагать, будет сглажена, но смысл, убежден, останется именно таким.
Но я поневоле отвлекся, - канва поветствования подобна красивой женщине, так же непостоянна, сама того не желая. Итак, меня ждал Антон и я никак не мог его подвести. Еще раз бросив взгляд на часы - 00.30.12 - я поднялся и, вытащив из кармана небольшую связку ключей, подошел к сейфу. То, что один из этих, свободно болтавшихся на брелочке с изображением похищающего огонь у богов Прометея, ключей подойдет к замку, не вызывало у меня сомнений. Существовала, правда, теоретическая возможность того, что встревоженный потерей связки Хозяин, перед тем как улететь, успел таки врезать в сейф новый замок, но начать, в таком случае, ему следовало бы, пожалуй, с входной двери, которую я только что легко миновал. Подбадривая себя я начал пробовать один ключ за другим, и - о, счастье, - несколько попыток спустя замок поддался, все мои страхи развеялись как дым, и вскоре небольшой железный сейф стоял передо мной с распахнутой дверцей, слегка похожий на покинутого врачем и в бессильной злобе нетерпеливо ерзающего в зубоврачебном кресле беспомощного пациента. Беспечный дантист, вместо того, чтобы спешить изо всех сил к исходящему слюной отчаяния больному, заговорился с приятелем в коридоре. В этот момент я позволил себе слабо улыбнуться.
Наши чаяния оправдывались. Явь, как ни странно, наяву же подменялась сказкой Алладина, и жить с этой секунды приходилось с ощущением этой подмены. Сытое чрево старенького сейфа почти доверху было набито тугими, перехваченными аптекарскими резинками пачками банкнот. Пододвинув к сейфу ближайший стул и положив на него включенный фонарик, я стал внимательно осматривать содержимое чрева. От угадывавшегося даже в полутьме многоцветья купюр разных достойнств захватывало дух и рябило в глазах, но, быстро подавив в себе зачатки сумеречного восторга, я начал смахивать пачки в раскрытую пасть загодя подставленного портфеля. На часах загорелось - 00.36.01. Портфель я предусмотрительно захватил очень вместительный, с множеством различных отделений, явно рассчитанный на солидного мужчину с положением, а не на амбициозного и наивного юнца, каковым я тогда и являлся. Каких-то пять с небольшим лет спустя, я приобрел новый портфель, чуть поменьше размером, зато помоднее и подороже. Новый портфель был сугубо мирным, в нем всегда лежали бумаги и книги, лишь изредка бутылка пива или водки, - то было лучшее время в моей жизни, время науки и познания мира. В ту пору я учился в аспирантуре и жил в Москве, а портфель купил себе в универмаге "Москва" что на Ленинском проспекте, неподалеку от общежития в котором обитал. До политики тогда было высоко и далеко, в лаборатории часто приходилось задерживаться часов до одиннадцати, а то и позже (в полночь меня обычно выгонял институтский вахтер), а выпадавшее мне в промежутках между экспериментами свободное время использовалось для походов в кино, реже в театр, для общения с девицами, дружеских попоек, футбола, шахмат, в общем - почти сплошная гармония и никакой политики. По моим тогдашним, весьма поверхностным наблюдениям, она по-настоящему вторгалась в жизнь обычных людей только тогда, если те уж очень просили ее об этом. Как сейчас помню: за тем, мирным портфелем я простоял в очереди минут десять, касса безразлично выплюнула чек, я сказал "спасибо", съехал на эскалаторе вниз и, натянув ушанку покрепче, вышел на мороз. Вечерело, разноцветные лампочки весело перемигивались и их гирлянды придавали тяжеловесному кубу универмага нарядный и воздушный вид. Напевая про себя окуджавскую песенку о виноградной лозе и нещадно перевирая мотив, я медленно пересек проспект около Физического института, свернул к улице Вавилова и вскоре натужно отворял массивную, отблеск архитектурных излишеств сталинизма, институтскую дверь. То было другое время и другой портфель. А сейчас важнее всего было поглубже запихнуть вовнутрь неподдающиеся тугие пачки. С этим мне удалось справиться довольно быстро, но последняя из них, состоящая целиком из двадцатипятирублевок, все мешала закрыть мне портфель и, таким образом, оказывалась лишней. Я и так старался, и эдак, но ничего не получалось. Разволновавшись, время-то бежало, я начисто - и может к лучшему, - забыл о существовании карманов. Наконец я решился оставить злополучную пачку в сейфе. Пробормотав сквозь зубы, на мелкие, мол, расходы, и справившись, наконец, с основательно разбухшим портфелем, я запер опустошенный сейф и опустил связку ключей в карман. Возникшая тут же естественная мысль вновь открыть сейф и, забрав пачку, использовать карман по прямому назначению, была немедленно подавлена моментальным усилием воли, чем я, признаться, горжусь до сих пор.
Дело было сделано - 00.55.27, пора было убираться отсюда. Прежде чем покинуть квартиру окончательно, я лишний раз удостоверился в том, что на улице все еще темно. Затем приложил ухо к двери, отчаянно пытаясь уловить в подъезде какой-либо подозрительный шум. Так ничего и не услышав, я решился выйти. Теперь легонько прихлопнуть дверь. Так, с дверью покончено. Не надо оглядываться! На лестнице, слава Богу, никого, - 01.00.35. Вот и подъезд уже позади. Вперед, смелей! Боятся уже нечего, улицы пустынны, на моем коротеньком пути встреча с редким милицейским патрулем и, тем более, с грабителями, маловероятна. Это ничего, что руки вспотели и немного дрожат, никак не могут успокоится, вот ведь и наш дом уже виднеется, выглядывает наружу темными бойницами окон и, вроде, глубоко убежден в удаче и полной безнаказанности своих заблудших обитателей...
В это мгновение, немного раньше обещанного, вспыхнули уличные лампионы, и я горячо восблагодарил господа за то, что не попался с поличным на месте преступления.
X X X
А годы шли, зима - за зимой, весна - за весной. Топавшие в школу дурачки подрастали и, по мере того, как они росли, росла и их восприимчивость к злободневным событиям.
Антон и я, мы оба, росли и воспитывались в интеллигентных семьях и потому такие свойства как абстрактно гуманистическое отношение к людскому роду и презрение к богатству приобрели, можно сказать, по наследству. Сносные, по тем временам, жилищные условия и относительная материальная обеспеченность (как я уже вспоминал, в годы нашей школьной юности отец заведовал отделом в крупном институте, да и родители моего друга были не последними людьми на своих университетских кафедрах), сослужили нам полезную службу, - да и как прикажете совершенствовать нравственные устои и мыслительные способности в тесных, голодных каморках. Семейная традиция, как видно, способствовала зарождению в нас того необходимого минимума гражданской совести, без которого все остальные человеческие качества теряют какой-либо позитивный смысл. Любая несуразность, ущербность или несправедливость окружающего мира отзывалась в наших сердцах самой настоящей, почти физической болью. Болью, которую острее всех способен ощутить именно Молодой Интеллигент. У меня, человека немало успевшего повидать на своем веку, нет сомнений в весьма взрывоопасном характере зелья, сотворенного из веры в светлое будущее для всего человечества и высокого образовательного ценза в пропорции один к одному (впрочем, в этом я един со всеми тиранами мира). Но это столь же искренняя, сколь и односторонняя боль. Лгать себе и другим Молодой Интеллигент невеликий мастер, но ему, увы и к сожалению, наряду с ясным видением общественной несправедливости присуще и непонимание того факта, что все блага жизни отнюдь не свалились на него с неба, и счет, рано или поздно, должен быть оплачен.
На счастье, а может и на беду, не берусь судить наверняка, в юном возрасте мне довелось прочитать много хороших книжек. Наверное, все-таки на счастье, - лучше уж вовремя подвергнуться воздействию всевозможных бесполезных комплексов, нежели несколько позже превратиться в не ведающего сомнений чурбана. С толикой отнюдь не лживой патетики могу заявить, что я был взращен материнским молоком десятитомного издания детской энциклопедии, дальних странствий благородных героев Жюль Верна и Майн Рида, пьянящих ароматов доброй старой Франции описанной романтическим пером Дюма-отца, английского социального техницизма столь разнообразно представленного в творчестве Уэллса, развивавшей не только эрудицию, но и воображение фантастикой Шекли, Брэдбери, Лема и братьев Стругацких. За интересным прошлым человечества должно последовать счастливое будущее, - этот привлекательный тезис казался бесспорным, и его не могли поколебать ни безудержный, казалось бы, рост наркомании среди молодежи, ни цветущая как яблоня весной коррупция. Что ж, я был не первый и не последний в длинном ряду мальков, с радостью попадавших в идеологические сети с зауженными ячейками. Число моих маленьких радостей постоянно пополнялось вследствие заблаговременно произведенных подписок на "Литературную Газету" и "Вокруг Света", вечерних телепередач о жарких схватках между остроумными и бескомпромиссными членами Клуба Веселых и Находчивых, счастливых погружений в увлекательный мир, посвященный делам и судьбам героев эпох давно минувших, и, чего греха таить, чтения популярной политической литературы тоже. Все это, да и наряду с этим многое другое, постепенно как бы затягивало меня в водоворот особого искусства - искусства взгляда, искусства смотреть на запутанный лабиринт мировых хитросплетений сверху вниз. Много позже мне, правда, пришлось нехотя признать, что задачи проистекающие из канонов этого искусства, как правило, не имеют и не могут иметь решения, но когда-то отчаянные попытки совладать с ними привели меня вот к какому выводу: моя дорогая и глубоко чтимая родина - Грузия - от равнин Колхиды до гор Сванетии, и от речки Псоу до пастбищ Ширака, все-таки не более чем Дом среди других, весьма схожих, хотя и различающихся размерами и убранством Домов. Мой Дом. А в нем множество всяких клетушек-комнатушек, и в одной из них волей провидения нашлось местечко и для меня. Конечно, забота о чистоте помещения входит в обязанности каждого сознательного грузина, но Дом, сам по себе, никоим образом не может являться альфой и омегой мирового порядка. А раз так, то и положение дел в Доме не может служить истинным критерием соотношения сил в области, которая и нынче во многом остается для меня "белым пятном", в области постоянной и изнурительной борьбы идей в современном мире (термин "современный" использован здесь мною в расширительном смысле; я имею в виду и Большой Мир времен моей юности, и Большой Мир так недавно оставленный мной навсегда, желая таким образом указать на количественный, в основном, характер изменений, происшедших за этот период на планете). Но до идеологического комфорта было еще неблизко, мне пришлось пойти дальше. Со временем я стал придерживаться точки зрения, согласно которой судьба того или иного народа, той или иной нации, не всегда, вообще говоря, должна решаться самим этим народом или этой нацией, и бывают ситуации, когда вполне оправданно вмешательство извне; следует с некоторыми несущественными оговорками признать примат идейных ценностей над чисто национальными, да и то, что народа-монолита нет и не может быть в природе. Соответственно стал я понимать и роль международного права в мировой политике, роль подчиненную мировоззренческим концепциям и статегическим интересам тех или иных держав. То немногое, что я знал о церкви, никак не располагало меня к вере, потребность же верить во что-либо сложное, значительное и высокое, между тем, была и неутолимой, и неутоленной. Ну а поскольку я, с одной стороны, выражаясь словами известного поэта-громовержца "жирных с детства привык ненавидеть", а с другой - вполне искренне желал человечеству добра и процветания, то наиболее пригодной для себя идеологией безоговорочно признал коммунизм. Так, как я его в то время понимал. Разве это не счастье - жить и работать ради великой цели, обещающей людям, всем без исключения, благоденствие и справедливость? Что вообще может сравнится со столь упоительной целью? Заодно добавлю, что по причине лет младых я решился взвалить на себя и личную ответственность за успех или неуспех дела коммунизма в мировом масштабе - абсолютно идеалистическая точка зрения гусара-одиночки, - хотя и не представлял себе сколь-либо отчетливо контуры этой так и неосуществившейся по сей день формации. Не представляю я этого в полной мере и сейчас, совершенно справедливо полагая, что люди будущего сами разберутся что к чему. Но разумный скептицизм приходит с возрастом, а тогда коммунизм был для меня понятием обыденным до ясности, только руку протяни как следует и забери во-он с той далекой полки, и столь нигилистическое отношение к философскому наследию титанов, - родоначальники ведь и сейчас еще считаются таковыми, - можно объяснить разве что моей неопытностью и почти дремучим невежеством. Но, что ни говори, а сердце мое было отдано коммунизму.
Лишь став желторотыми студентами-первокласниками (Антон поступил на истфак, меня же на любопытство заманило на физический, начитался фантастики на свою голову), перед нами приотворилась дверь в большую, настоящую жизнь, мощь и красу которой нам еще предстояло познать. Нам тогда казалось, что освободившись от мелочной учительской опеки, мы наконец задышали полной грудью - разумеется вместе со всем нашим счастливым студенческим поколением. Очень скоро, однако, выяснилось, что отдельные представители этого самого поколения довольно сильно разнятся друг от друга, и пускаясь, образно говоря, в дальний путь, каждый из нас сам волен выбирать себе снаряжение. Вышло так, что лично для меня водоразделом между порядочностью и непорядочностью, своего рода пробным камнем зрелости, стало, в первую очередь, отношение к наркотикам.
Мой столь болезненный интерес к этой, вне всяких сомнений острейшей проблеме до сих пор отравляющей самочувствие человечества, был порожден весьма, как мне кажется, серьезными причинами. Еще в школе, в старших классах, меня возмущало поведение некоторых моих сверстников из тех, что строили из себя героев без всяких на то оснований. Еще более меня возмущала собственная слабость - по понятным причинам я не смел высказывать свое к ним отношение публично. В университете число попавших в поле моего зрения таких, с позволенья сказать, героев только возросло. Впрочем, они-то находили основания под свой самозванный героизм. Разве "ловить кайф" дымя самокрутки с анашой или всаживать себе в вену шприц с лошадиной дозой морфия - не из таких оснований? И какая-то бездумная жестокость владела большинством их них. Я порой поражался легкости, с какой они унижали, а то и увечили (бывает и убивали) тех, кто послабее. Чуть позже я попытался оценить (официальная-то статистика предпочитала молчать) количество наркоманов в университете - этих ослепленных безумной модой подражательства птенцов, вылетевших из теплого родительского гнездышка в сознательную жизнь на крыльях грошового цинизма. Цифра получилась пугающе большой, а экстраполированная на масштаб города, а потом и всей республики, превратилась в огромную, даже не будучи вполне достоверной. А дети-то подрастают, скольких еще ожидают муки неотвратимого распада личности, сколько людей обречено на моральную, да и физическую гибель, и все потому, что яд слишком доступен. Ну как можно было тут равнодушно умывать руки? В свое время мне довелось краюшком соприкоснуться с так называемой "золотой молодежью" и ее повадки тайны для меня не составляли. Поножовщина, торжество грубой силы, пресмыкание перед лидером группы, мелочные интересы ограниченные шмотками, пластинками, иногда оружием. И, почти всегда, наркотики. Полный набор молодого фашиста. Широкое распространение дурманящих веществ всерьез выводило меня из себя. Конечно, и до меня доходили слухи о взяточничестве в высших сферах, о хищениях народного добра в особо крупных размерах, о финансовых аферах, но именно драматический рост пристрастия к наркотикам представлялся мне той жизненно важной проблемой, нерешение которой способно не только развратить окончательно будущее страны - ее молодежь, но и подвести к краю пропасти, к физической деградации и постепенному вымиранию всю нашу малочисленную грузинскую нацию. Это ведь влияет на потомство, мы просто не будем размножаться!
Справедливости ради стоит отметить, что так думал не я один. В то время получили распространие слухи о некоем зловещем плане, принятом на вооружение таинственными врагами грузинского народа. Суть плана состояла в том, что мерзкие вредители эти, действуя, в основном, через своих грузинских агентов - местных продажных душенок - рассчитывали демографически ослабить Грузию, способствуя широкому внедрению наркотиков в быт подрастающих поколений грузин: чем больше наркоманов - тем ниже уровень естественного прироста населения. Шептались больше по углам и кухням, но возникавшие у меня черные подозрения косвенно подтверждались тем, что против разгула наркомании власти не предпринимали каких-либо действенных мер - проблема не то чтобы забалтывалась, она попросту замалчивалась. Как курили анашу - так и продолжали курить, как кололись в вену - так и продолжали колоться. Кое-кто из моих товарищей, помню, утвеждал, будто "барыгу" трудно поймать с поличным, но в это я никак не мог поверить. Хотели бы - поймали, думал я; ведь когда у "клиента" начинаются "ломка", он за лишний укол родную мать продаст, не то что на "барыгу" наведет, время ли распространяться об этических нормах ведения следствия или о презумпции невиновности, когда нация на пороге гибели! Как будто и без того в милицейских участках и пальцем до задержанных не дотрагиваются. Одним словом: захотели бы - арестовали бы всех "барыг", и в кратчайшие сроки. Ну а раз не ловят, значит нет приказа, а раз нет приказа по столь очевидному вопросу, то не отдают его намеренно - как видно, местная агентура проникла "наверх", зацепилась там и работает не за страх, а за совесть.
Вот таким манером я тогда мыслил, и в такой логике ясно проглядывалась ограниченность моего тогдашнего мышления. Безусловно, в логике этой содержалось и рациональное зерно, но из этого зернышка вряд ли мог проклюнуться зеленый росточек, уж слишком сухой была почва. Конечно, я и нынче, много десятилетии спустя, порицаю власти за фактическое, вольное и невольное, потакание распространителям и потребителям наркотических веществ, но предлагаемые мною тогда в приватных беседах радикальные меры были и неосуществимы, и бесчеловечны. Что ж, как известно, узость восприятия и эмоциональная слепота суть дурные помощники в благих делах и намерениях. О, если бы извечные болячки рода человеческого можно было бы вылечить единым махом. Но нет - невозможно. А главное, я полностью упускал из виду социальную сторону этого страшного явления. Вообще, за семьдесят лет собственной жизни если я и пришел к какому-то выводу, так это к тому, что по-настоящему серьезную проблему невозможно разрешить быстро. Ибо рубить с плеча - вовсе не означает решать.
Все-таки по сравнению с Антоном я был человеком лояльным, ибо мой друг был из тех, кого я привык называть "горлопанами", "горластыми критиканами", "лужеными глотками" и прочими обидными названиями (сокурсники, правда, и так окрестили его "хунвейбином" - за норов, смуглую кожу и узковатые глаза, и это несправедливое прозвище преследовало его до конца студенческих лет). О, да - и я, конечно, был против. Против взяточников, воров, "барыг", аферистов, да и черт знает против кого еще. Но он был против них как-то по-особенному, поскольку - постольку. Мы часто до упаду спорили о том, как следовало бы поступить с теми, кто, по негласному - общепринятому, повсюду ходячему, но именно негласному - мнению, несли безусловную ответственность за происходившее в стране, не в одной только Грузии, но в Грузии в первую очередь. По этому вопросу между нами довольно скоро выявились и прямые разногласия, и, скажем так, тонкие различия в подходах к больным вопросам, но запах окружающего нас гниения слишком остро теребил наши неокрепшие политические рецепторы, и мы, в целом, сходились в том, что виноватых во всеобщем разложении следовало бы строго проучить. Куда мы все идем, куда идет грузинский народ, вопрошали мы, и не находили ответа ни в плакатах, ни в газетах, ни даже в книгах. На улицах Тбилиси цвели акации семьдесят первого года и наличие определенного идеологического разброда невозможно было оспорить. Мы видели, что честные люди предпринимали гигантские усилия для того, чтобы оставаясь честными удержаться на плаву. Им, опытным и видавшим виды, нелегко было разобраться в том, что творилось вокруг, не то что нам, молодежи. Основное различие между мной и Антоном сводилось, пожалуй, к тому, что я, будучи, как мне представлялось тогда, в основе своей сторонником конструктивного подхода к самым болезненным проблемам, чаще все же защищал действительность, нежели осуждал ее, если понятие Действительности толковать шире, чем положение в данном месте и в данное время. Я очень старался. Я небезуспешно убеждал себя в том, что народы, как и люди, существуют не только в пространстве, но и во времени; что день сегодняшний и день завтрашний, несмотря ни на какие потрясения, во-многом определены днем позавчерашним; что корни основной массы нынешних трудностей теряются в тумане прошлого, и какими бы колоссальными эти трудности не казались, нельзя скисать и опускать руки, следует вооружиться терпением и хорошенько уяснить себе, что главный лекарь это все-таки время. И хотя тогда вроде все становилось на свои места, в течении весьма длительного периода времени мне приходилось испытывать нечто похожее на раздвоение личности, ибо одно дело понимать, а другое - чувствовать, и трудно требовать от молодого и неопытного человека единства эмоции и разума. Одно дело понимать, что взяточник плох и ему нечего завидовать даже если его так и не настигает карающая рука закона, а другое дело - воочию наблюдать как этот самый нехороший взяточник не только покупает любовницам роскошные квартиры и не страшась возмездия разъезжает по заграницам, но и сам непосредственно участвует в дележке должностей и распределении насущных благ. Возмущаясь разгульным и наглым образом жизни так называемых "антиподов общества" (термин, заимствованный из ежедневной прессы), бросающих вызов честным людям, я склонялся к выводу о необходимости принятия срочных насильственных мер против людей, являющихся, вообще говоря, продуктом устаревшей системы хозяйствования, и разговорчики о "закрученных гайках", "интересах личности" и "человеческом лице" считал вредными и глупыми.
Антон же, на мой взгляд, бывал попросту желчен и потому недоброжелателен по отношению к своей стране, упрямо отрицая реальные социальные завоевания народа. Как будто его самого не обучали грамоте бесплатно! А этот неблагодарный всячески раздувал временные недостатки, зачастую смакуя их, да еще злорадно разглагольствовал о Свободе и прочих высоких, но спекулятивных материях. Что ж, мне казалось, что прав я; он, естественно, считал правым себя, так часто бывает в жизни. Но какими-бы горячими не бывали порой наши споры, во имя старой дружбы мы всегда готовы были простить друг другу наши заблуждения. Со временем, однако, выяснилось, что кроме дружбы нас объединяло - разногласиям вопреки - и кое-что другое, и этим другим было крепнущее стремление самим совершить Поступок, сделать что-либо полезное для общества. Очевидно, это не вполне осознанное желание как-то помочь страждущему человечеству, могло под влиянием внешних обстоятельств не только никак себя не проявить, но и обратиться в свою противоположность; правда, такая опасность казалась слишком далекой, чтобы с ней по-настоящему считаться. В нас просыпался социальный инстинкт и мы уже ощущали ветер времени, его пока еще легонькое, но неослабевающее, с каждым днем все более властно заявляющее о себе дыханье. Потому не удивительно, что перед нами само собой вырастал вопрос: Как, какими конкретно средствами можно воздействовать на ход текущих событий, не выходя при этом за рамки существующих законов? Ни у меня, ни у Антона не находилось на него ответа. С учетом нашего возраста и существующего (и тогда, и поныне, - разница лишь в оттенках) государственного строя, трибуной самовыражения для нас могла стать только комсомольская трибуна, но как было совладать с возникавшими сомнениями? Антон, так тот вообще откровенно презирал Комсомол. Да что у меня может быть общего с этой официальщиной, посмеивался он, довольно и того, что я исправно плачу членские взносы, не хватало еще перерождаться в подпевалу этих гребаных активистов, спят и видят себя в кресле главного пропагандиста. То ли товарища Стуруа, то ли товарища Суслова, или вообще геноссе Геббельса - какая им разница. Да я перестану уважать себя, приятель, если свяжусь с этими прохвостами (я привожу по смыслу примерную его тираду). Послушай, дружище, какую ерунду болтают вслух эти всезнайки, когда вякают, к слову, о живописи. Они ведь и сегодня, после Малевича, Кандинского и Дали, предают анафеме абстракционизм и сюрреализм, лживые святоши, а я думаю, что крайне глупо и смешно, кабы не так грустно, прикрывать из ханжества, косности и страха целые направления в искусстве, наклеивать на художников идиотские ярлыки, мешать им работать, а по прошествии некоего исторического периода, кстати не очень длительного, в глубине души сожалеть о собственной тупости и все равно попирать всё свежее и новое из ложно понятых престижных соображений. Художники-то за это время сходят на нет. И вообще, добавлял бывало он, мне претит цензура, ведь Они и сами не верят в то, во что заставляют верить нас. Все комсомольские лидеры - отъявленные лицемеры, пробу ставить негде. Вот возьми типичного комсомольского вожачка (говоря это, он обычно, злобно хихикая, выворачивал руки лодочкой, ладонями вверх), возьми и подумай (тут он прекращал хихикать), что они сами избрали бы для украшения стен своей личной квартиры, если конечно не побоялись бы, какую-нибудь отмеченную высокими премиями халтуру, изображающую трактористов в поле во время страды, или полотно кисти сумасбродного Сальвадора? Чепуху они городят только нам на потребу, они не сумасшедшие, не беспокойся, и знают истинную цену своим словам, да и цена картины в долларах им и их женам не безразлична, она-то и решает, если хочешь знать. Да там так привыкли молчать, что не желают признавать даже очевидное, лишь бы для них ничего не изменилось. Вот ты о наркомании толкуешь, возмущаешься, а Они даже само ее существование боятся признать официально, не то что с ней бороться (так оно и было, немало воды утекло пока проблему "заметила" пресса). А сколько сукиных детей богатеет на торговле этим зельем, и что-то не видно, чтобы их становилось меньше. И стражи порядка тоже хороши - рыльце в пуху! А скажешь правду погромче - неприятностей не оберешься.
Таким вот образом он тогда рассуждал, и, сказать честно, переспорить этого "горластого критикана" мне бывало нелегко.
Эх, Антоша, Антон, старый друг. В твоих рассуждениях было немало истины, но шестое чувство подсказывало мне, что ты излишне эгоцентричен для правдолюбца и жизнь впоследствии это подтвердила. А был ты довольно избалованным и в некоторых отношениях весьма необязательным молодым человеком, явно предпочитавшим слово "хочу" слову "надо". Моралисту, строящему из себя ангела-хранителя высоких гуманитарных идеалов, следовало бы быть несколько менее самовлюбленным. Тебе, скажем, ничего не стоило проникнуть на какой-нибудь шикарный фестивальный фильм, оставив друга у входа в кинотеатр в толпе обездоленных безбилетников. Это, безусловно, мелочь, в юности при случае так поступали многие вполне достойные люди, и вряд ли можно осуждать сопровождавшую твою удачливость ухмылочку слишком категорично. Но мне всегда были более симпатичны те, кто в сходных ситуациях следует элементарному и, может статься, несколько устаревшему чувству локтя...
Что до меня, то я избегал активной комсомольской деятельности по совсем иным соображениям. Разделяя политическую программу Комсомола я не мог не видеть, что доступные моему обзору иерархические уровни этой организации (разумеется, все больше низшие) основательно засорялись разного рода карьеристами, циничными и просто нечистоплотными людьми. Вплоть до того, что на комсомольскую работу то и дело выдвигались и хулиганы, и "кайфарики" и мелкие фарцовщики; о блате, круговой поруке и очевидной семейственности (слово "непотизм" тогда еще не вошло в моду) я и не говорю. Храня память о повадках подобных субъектов еще со школьной скамьи, я просто не мог признать за ними право обладать теми же идеалами, что и я; не мог поверить в то, что они имели хоть что-то общее с идеями, правоту и справедливость которых я отстаивал в любых дискуссиях. То, что с такими типами в Комсомоле мирно сосуществовали и порядочные, честные девушки и юноши, только подливало масла в огонь. Я не желал, считал ниже своего достойнства, якшаться с людьми, готовыми на любой обман ради того, чтобы пробраться в партию с черного хода. Сознавая солидную обоснованность используемых Антоном аргументов, я все же находил, что некоторые минусы общественного строя (как-то нелепое цензурирование в сфере искусства), сравнимы по смыслу с отходами производства или с браком в работе, в то время как основную свою функцию, функцию преграждающей путь потоку злонамеренной буржуазной пропаганды плотины, редакции и худсоветы выполняют (в ту пору словосочетание "Главлит" мне также ни о чем не говорило), и с этим неудобством следует как-то мириться. Ведь никто не отказывается от самолетов, хотя они, бывает, грохаются оземь, или от атомных электростанции, хотя их реакторы подвержены взрывам и утечкам. Нет слов, препоны мешающие художникам творить - зло, но зло неизбежное. Нет слов, человек выражающий восхищение существованием цензуры и репрессивных органов власти, недостоин высокого звания Человека - он попросту Раб, продукт чуждой нам идеологии. Но... Наличие капитализма на планете оспаривать не приходиться. Реальный социализм окружен враждебным строем и вынужден защищать себя. Нас поставили в условия, когда определенная Цель оправдывает определенные Средства, и нечего распускать нюни. Без веры в осуществимость коммунизма на всей земле моя жизнь теряла смысл; все чистые и светлые страницы отечественной истории, все чем вправе было гордиться Советское государство, все то народное самопожертвование без которого никак не удалось бы выстоять в лихолетье, было для меня свято, но я не хотел якшаться с примазавшимися к великому делу попутчиками, в те годы это было выше моих скромных сил.
Больно ранившее сердце несоответствие между желаемым и действительным вызывало у меня хандру, порой возникало желание забыть обо всем, что не имело непосредственное отношение к моим личным проблемам, а их, естественно, тоже хватало. Но в такие минуты, минуты слабости, я вспоминал про Антона и про всех, кто в какой-то мере ему поддакивал, и стряхивал с себя наступившее было оцепенение. Ведь если таких безответственных горлопанов как мой друг, не желающих признавать, что главным критерием содержания Добра и Зла в мире является достигнутая в обществе степень социальной справедливости, допустить до решения важных вопросов, они сначала все разрушат, а остатки продадут оптом и в розницу какой-нибудь Америке. А Америку той эпохи, Соединенные Линчующие Штаты лицемерных сенаторов и капиталистических акул, я терпеть не мог. Конечно, я сходил с ума при виде великого Чарли на старых лентах, слышал о Фолкнере (хотя и не успел его к тому времени прочитать), готов был признать достоинства О,Генри и Твена, воздать должное творениям По и фантазиям Диснея, поклониться праху Эдисона и Линкольна - пускай он и политик, но ни на ядовито-зеленые бумажки - основу американского могущества, ни на воздвигнутые на костях забытых бедняков небоскребы, мои симпатии уже не распространялись. А кто повинен в мировой нищете, в безжалостных войнах, в наличии на земле миллионов и миллионов голодающих и больных, в невероятной детской смертности где-нибудь в Индокитае? Конечно, США. Как может одна страна потреблять сорок процентов производимой в мире энергии и предоставлять своим имущим гражданам по два или даже по три легковых автомобиля на семью, в то время как дети бедняков к югу от Рио-Гранде вынуждены продавать себя? По какому-такому закону? Не бывать тому! И пускай мы с Антоном друзья, уступок здесь быть не может.
Пожалуй, следует добавить, что в ту пору, несмотря на различия во взглядах на ряд весьма принципиальных вопросов, мой друг и я были едины в одном: в нетерпимости к финансовой разновидности нечестности, и если бы нас тогда спросили, а на какие средства собираемся мы жить и содержать семью в будущем, мы тотчас ответили бы, что жить намерены на зарплату, какой бы она ни была. Жизнь изменяла нас по-разному, влияла на нас подспудно, различия в характерах и позициях рано или поздно проявились бы (да они и проявились) и в житейских мелочах, но жульничество, вымогательство, стяжательство, денежные махинации, деляческие комбинации ради презренного куска хлеба с маслом, на который, кстати, мы пока себе не зарабатывали, были для нас понятиями настолько далекими, крамольными и отвратительными, насколько они же были близкими и привлекательными для многих наших сверстников. Таким образом, в нашем сознании постепенно вызревали семена Неподдельного Возмущения чем-либо, а эти семена, в зависимости от почвы на которой они произрастают, способны давать самые неожиданные всходы. Люди, способные испытывать чувство Неподдельного Возмущения и жаждущие найти применение своим силам и способностям, могут стать и неисправимыми нигилистами, и последовательными, я не боюсь следующего слова, революционерами, ибо, как известно, можно на какой-то, иногда очень значительный срок узурпировать должность и власть, но ни в коей мере не право деятельных членов общества служить своему народу.
X X X
Большой центральный город встретил Девочку мягкими, тающими на губах снежинками.
Через москвичей - давнишних родительских знакомых - ей удалось быстро снять недорогую уютную квартирку неподалеку от станции метро. Никогда раньше ей не доводилось жить одной, поэтому пришлось привыкать.
Эта была первая холодная зима в ее жизни.
Вначале было немножко трудно, обо всем приходилось заботиться самой, но ощущение покинутости и одиночества вскоре оставило ее. Она была молода и обладала достаточно общительным характером для того, чтобы предаваться унынию слишком долго. Мир вокруг был похож на цветной воздушный шарик, который она все надувала и надувала своим легким дыханьем, новыми знакомствами, красочными нарядами, концертами, танцами, кавалерами и, разумеется тем, ради чего она, собственно, сюда и приехала: штудиями в знаменитом институте, слава о котором гремела по всей стране. А главное, она изредка виделась с Ним. Как-бы далеко Он ни был, но все же Он был рядом, ходил по тем же улицам, бродил по тем же скверикам, пожимал руки общим знакомым, дружески целовал ее при встречах. И сладкий дурман овладевал тогда ею с головы до пят. Какое счастье, думала Девочка, что от Него некуда было деться.
Но воздушный шарик все увеличивался в размерах и лопаться, казалось, не собирался. Она была очень привлекательной - тоненькой и стройной - девушкой, и подле нее, конечно, кружилась тьма поклонников. Пылких и не очень, болтливых и бессловесных, серьезных и легковесных. И какой-бы она была женщиной, если не сводила бы их немножечко с ума. Девочка продолжала любить Его, но можно ли все время любить безответно; вот она и решила не отталкивать поклонников до тех пор пока они не переступят роковую черту. Уж тогда, уверяла себя Девочка, у нее хватит сил постоять за себя. Поэтому время от времени она принимала их приглашения.
Иногда из родного города наезжали подружки и останавливались у нее пожить. От приезда до приезда накапливалось немало всякой всячины, и они, сидя за чаем, а иногда даже за бутылкой шампанского, живо обсуждали последние, да и иные, еще неостывшие вести с родной земли.
Новые запахи быстротекущей жизни и чары большого хмурого города сладко и ненавязчиво кружили Девочке голову. Ей не было скучно жить. И, несмотря на то, что Он по-прежнему ничего не замечал, а она по-прежнему была в Него влюблена, Девочке, в общем, было не так плохо как раньше.
X X X
Это с трудом поддается объяснению, но все сложилось на редкость удачно. Подумать только, сколько фигур и пешек должны были выйти на единственно верные позиции для того, чтобы наше наступление могло увенчаться успехом. Ведь успей Хозяин врезать в дверь новый замок, заночуй у него тогда хоть кто-нибудь из многочисленной его родни, не случись ремонта на подстанции, не напейся Хозяин вдрызг несколькими днями раньше, не будь родители Антона в отлучке, да мало ли... И тогда одному амбициозному тбилисскому студенту никак не удалось бы набить хрустящими банкнотами свой кожаный портфель. Однако - как назло - обстоятельства мне благоприятствовали. Антон, конечно же, с трепетом ожидал моего прихода. Помню, что отворив дверь он первым делом приложил палец к губам: тихо, мол, бабушку не разбуди. А когда я, весь дрожа от испытанного совсем недавно треволнения, юркнул в темную гостиную, у него, небось, не меньше моего тряслись поджилки. Но чуть после, когда мы наконец заперлись в его комнатке и он посмел включить свет, то, окинув испытующим взглядом распухший от денег портфель и переведя взор на мое ошалевшее от возбуждения лицо, он мигом все понял и радостно хлопнул меня по плечу. Ноги уже не держали меня. Я поставил портфель на пол и мы сели - он на свою постель, а я на стоящий рядом стул. Теперь можно было чуток передохнуть. Наконец я почувствовал себя в безопасности, может во временной, может относительной, но в безопасности.
В те минуты я жаждал только одного - перевести дух. Так приятно было сознавать, что все позади, что в комнате светло, что рядом друг. И только невнятная, ноющая, разлившаяся от макушки до кончиков пальцев усталость мешала мне залиться радостным и безотчетным смехом. Переплетение страстей обернулось переплетением времен, и мне представилось, что это не Антоша, а... ну, конечно, сам Федор Михайлович Достоевский - высокочтимый мною и совсем недетский писатель, - недобро прищурившись вглядывается из глубин ушедшего столетия в мое утомленное от негаданного поворота судьбы лицо. Помниться, Антон задал мне какой-то малозначительный вопрос, и я что-то невпопад ответил. Потом еще спросил, и я опять что-то ответил. Эти вопросы и ответы были ничтожны по своей сути, мне было слишком хорошо для того, чтобы придавать значение словам. Но такое счастье не могло длиться вечно и вскоре я попросил горячего чаю. Антон задернул штору и мы тихо, на цыпочках проследовали на кухню. Мой друг и соратник поставил чайник на плиту, и вдруг уж очень наигранной, обыденной до неестественности показалась мне окружавая нас цветная натура: зеленый в желтую крапинку чайник мирно вскипавший на голубоватом огне; небрежно накинутый Антоном на плечи синий в полосочку пляжный халат; простроченный оранжевой ниткой по белой шелковой подушечке развеселый зайчишка; сама блестящая подушечка эта, подсвеченная багряным сполохом от древнейшей тахты, расположившейся из уважения к больным ногам его бабули где-то между кухонным столом и газовой плитой; дождевые разводы бледносероватых узоров на светлых когда-то обоях, чашки из перламутрово-розоватого фарфора выставленные Антоном на черно-белую клеенку; радужное ощущение призрачной безопасности, куда я позволил себя безоговорочно утопить. Всего этого просто не может быть, мелькнула мысль. И даже сейчас, целую жизнь спустя, когда за грехи, кажется, воздано сполна, иной раз я ловлю себя на предательской увертке, что это не я вовсе, а кто-то совсем чужой и неведомый, вломился подобно заправскому грабителю в квартиру Хозяина той тихой, весенней ночью, и, вместе с тем злосчастным сейфом, лихо взломал и хлипкую крепость своих прежних убеждений. Чайник вскоре поперхнулся громкой струйкой пара, Антон прямо в чашках заварил нам крепкого чаю, и стало яснее ясного, что несмотря на поздний час, нам здесь же, не откладывая, придется решать как быть дальше.
Конечно, было не до сна. Подробно, во всех деталях, я рассказал Антону как было дело, умолчав лишь об оставленной в сейфе последней пачке банкнот. Наверное следовало сказать ему и об этом, но я, признаться, побоялся истеричных обвинений в промашке, изменить-то все равно ничего было нельзя. С тех пор не один десяток лет развеян по пыльной дороге прошлого невозвратными секундами, но и сегодня как наяву искрятся перед моим потухшим взором горячие глаза моего приятеля, и я вижу как бегают по клеенке его нервные, длинные пальцы, как расплывается в полутьме его лицо, как прорисовываются на высоком лбу линейки морщин, которых я раньше не замечал. Мы пили крепкий горячий чай вприкуску с острым зеленым перцем. Я ищу подходящее сравнение. Да, именно! Мы пили чай маленькими, осторожными и свирепыми глотками. Допили. Убрали чашки и вывалили содержимое портфеля на стол. А потом наступила тишина. Благоговейная, долгожданная тишина нарушаемая только шелестом купюр, банкнот, денежных знаков, акций, облигации, ценных бумаг, валютных обязательств, ваучеров - называете как угодно, вы будете недалеки от истины. Нам было лень, просто по-человечески лень, проверять все пачки до единой, и из этой груды мы наугад выбрали штук десять. В каждой пачке оказалось ровно по тысяче рублей, тут уж сомнений оставаться не могло. Тогда Антон сел на тахту, а я под счет Антона стал кидать ему пачку за пачкой - такой вот беспроигрышный баскетбол. Игра продолжалась минут пятнадцать и за это время мы насчитали двести двадцать бросков - двести двадцать тысяч!
Ну вот, мы и стояли - фигурально выражаясь - по колени в деньгах. Никогда в жизни - ни до, ни после - не доводилось мне видеть столько денег вместе, хотя впоследствии и суждено было стать влиятельным членом правительства (в нашей реальности это означало лишь конвертацию власти в привилегии, но отнюдь не в банковские счета). За Антона, впрочем, утверждать не берусь, - он прослыл довольно зажиточным человеком. Однако, я отвлекся. Немного отдышавшись, - было отчего, да и часовая стрелка успела перевалить за три, - я услышал от своего друга первое дельное соображение. Послушай, сказал он, послушай, а что если Хозяин все же побежит в милицию, криминалисты сейчас, говорят, даже по перчаткам научились определять... выкинь, кстати, перчатки... Да нет, перебил его я, навряд ли он побежит жаловаться, что он враг себе что-ли? Ну как он им объяснит, что у него дома хранились такие деньги? Ведь даже если он станет там утверждать, что у него украли тысячи три, не больше, не может же он не понимать, что настоящий вор, в случае чего, не будет играть в молчанку, - развивал я свою мысль далее. Почему же, возразил Антон, вор-то как раз и будет помалкивать. Ну да ладно, - махнул я рукой, - перчатки выброшу утром, а сейчас сплюнем три раза через левое плечо. Мы знали на что шли и нечего хныкать, такие как он официально обычно не жалуются, да и не видал меня никто, ни одна живая душа, а года через два он возместит себе ущерб, можешь не сомневаться. Нас ему подозревать неоткуда, а дружить с ним мы будем как и прежде... до зимы, по-крайней мере. Если же он сам расскажет про то как его обчистили, то ужаснемся разок, у нас должно получиться, не красны девицы. Что ж, будем пай-мальчиками, - согласился Антон и, усмехнувшись, добавил. - Видишь в какую ситуацию мы с тобой, дружок, попали? Вор у вора дубинку украл - точно по пословице наших старших братьев. Не знаю, что внезапно вывело меня из себя: то ли упоминание, ни к селу и ни к городу, русских в контексте "старших братьев", то ли вульгарное сравнение молодых вроде-бы идеалистов с воришками, но от неожиданной обиды я даже не смог ничего сказать и позорно смолчал, только сердито посмотрел другу в глаза. Интересно, каков был мой взгляд и что прочитал в нем Антон, но, думаю, он не ошибся. Стальной блеск в моих круглых от фанатизма зрачках, интуитивное осознание того, что настал момент выбора направления дальнейшей жизни, так как развилка, оказывается, преодолена, и вопрос, что ни один из нас ни разу не посмел высказать вслух, но ответ на который был очень важен для нас обоих, ибо он, этот ответ, указывал - каждому по-отдельности - на путь ведущий в будущее:
- Ну и как же мы, в конце концов, поступим с этими деньгами?
X X X
Сытно пообедав, Ловкач, как всегда, вернулся в свою комнату и, водрузив ноги на подоконник, удобно устроился в любимом кресле. Справа, на широком подлокотнике, лежала глубокая стеклянная пепельница. От первого же неловкого движения Ловкача она очутилась бы на полу вместе со всем своим содержимым, но тот настолько уже привык к описанной выше рискованной позе, что, составляя единое целое с окружавшей его обстановкой, время от времени стряхивал пепел в пепельницу не глядя, лишь провожая взором степенно выплывающие наружу из широко распахнутого окна колечки сизого дыма. Сквозь окно в комнату проникал притягательный и глубоко способствовавший послеобеденной неге и правильному пищеварению аромат голубого небосвода. Именно в таком приятном состоянии души и тела любил Ловкач спокойно поразмышлять на отвлеченные и не очень отвлеченные темы.
О, Господи! До чего же наивным, поверхностным и скучным человеком оказался на поверку его ближайший друг! Даже обидно, что он, Ловкач, так поздно понял это. Плоские идеалы, плоские чувства, плоское мировосприятие. Все его раздражает - даже один вид весело танцующей под рок и поп молодежи, как это он тогда выразился: "Тупо-сосредоточенные дегенеративные лица, стонущие в притворном экстазе...". Фу, какая жеманная, картинная, подхваченная где-то фраза. Ну как могут лица стонать? И как не стыдно ему повторять всякую чушь? Приспичила нужда выпустить из себя лишний пар, вот они и пляшут. Не любит он людей. И вообще - его поведением управляют довольно примитивные принципы. Впрочем, Ловкач, по-существу, ничего не имеет против того, что поступки его друга можно легко предугадать. Хуже то, что этот Чурка чересчур самонадеян и слишком уж уверен в его, Ловкаче, лояльности. Похоже, Чурка действительно поверил в то, что он, Ловкач, согласился участвовать в этом сомнительном предприятии под влиянием тех же примитивных принципов и горит желанием - подобно доморощенному Робин Гуду - воздать наконец Весельчаку сполна за все его грехи. Святая простота! Но сознайся Ловкач, что Весельчак чем-то ему импонирует, этот осел, его дружок, чего доброго, перестанет с ним здороваться. Поэтому сознаваться Ловкач ни в чем не собирается. Но, боже милосердный, какой наив, какое простодушие, глубоководное озеро простодушия чуть разбавленное ханжеским елеем, да и непомерное нахальство в придачу. И с чего это, с какого бодуна, его друг детства, этот оловянный солдатик, вообразил себя хозяйном жизни и присвоил себе право быть кому-то судьей?
Иногда Ловкач искренне поражается убогости идеалов своего ближайшего приятеля. Вроде-бы начитанный, неглупый парень, культурные родители, с чего это он вдруг так... так разошелся? Ну с чего, скажите пожалуйста, загорелся сыр-бор? Что так его возмутило в Весельчаке? Что тот нечист на руку? Нельзя воровать? Нельзя посягать на народное добро? Нельзя запускать руку в государственный карман? Ну нельзя так нельзя, но ведь всегда воровали, посягали, запускали... Крали, крадут и будут красть, и ничего с этим не поделаешь, так уж устроен мир. Он, Ловкач, и впрямь лихо тогда прошелся насчет ворюг и хапуг у власти, ради красного словца прошелся, а господин Чурка с похмелья принял его слова всерьез и вздумал, что обрел единомышленника. Но... Черт возьми, когда таскаешь тяжести в чужой квартире, подпольному миллионеру таскаешь, дьявол его побери, - да какому там подпольному, об его миллионах каждой дворняге известно! - а потом в знак благодарности тебя потчуют всяческой недоступной обычным смертным снедью, приправляя ее поучениями в откровенно стяжательском духе, то в сердцах на другой день и не такое скажешь. Ну а насчет того, будто все воришки одинаковы, так Ловкач готов поспорить с кем угодно. Иногда Ловкачу хочется крикнуть в рожу своему дружку: очнись ты, вшивый утопист, оглянись кругом, ну кто из твоих близких, друзей, знакомых, самых-самых, кто из тех, с кем ты общаешься потому что они лучше других, Кто из них соблюдает законы до конца? У многих ли порядочных людей все в порядке с доходами, расходами, налогами, пропиской, тещами, тестями, жилплощадью, с биографией наконец? Почему же ты, осел эдакий, общаешься с ними, коли думаешь о них плохо? И вообще, да здравствует Феликс Круль, главное, по-моему, все же личность человека посягнувшего на казну или чужой карман, а не сама казна или содержимое этого кармана. С этой точки зрения, Весельчак, конечно же, много симпатичнее других воришек, да и мало разве он совершил другим добра за свою не очень долгую жизнь. Вон, спортплощадку целую отгрохал... А нынче они сами решились на грабеж, так что же, разве они ровня рецидивистам или карманникам? И ежели все пройдет как загадано, что скажет по этому поводу его дружок-чистоплюй? Да и чего он добивается, в конце концов? Дает ли себе труд задуматься над тем, что проповедует? Он, пожалуй, и в самом деле верит в то, что в идеальном обществе граждане обязаны существовать на свое скромное жалование, принимая за должное и ценники на товарах, и мелочную расчетливость, которую и скупостью-то не назовешь. И никому, за исключением редчайших единиц, заботливо поддерживаемых на пьедестале, не дозволено жить в свое удовольствие. Никто не высовывается, никто не тратит денег на глупости или игристое шампанское, никто не дарит любимым и нелюбимым женщинам пышные букеты из роз, гвоздик и тюльпанов, никто не залезает в долги и не расплачивается за них, никто не решается на отчаянные сумасбродства и на гостеприимное застолье, и так - от первого до последнего дня. Пусть спросит себя: кому нужны такое общество, такая скучная, блеклая, собачья жизнь? Неужели он полагает, что революция - его революция - произошла только для того, чтобы зашоренным, душевно ограниченным, серым как мыши и невозмутимым в своем неколебимом равнодушии к обычной человеческой улыбке чинушам, жилось лучше и спокойнее всех остальных? Черта с два! По его, Ловкача, глубокому убеждению, Весельчак уже потому симпатичнее всех этих скучных до зевоты бюрократов, что плюет им в лицо всем своим поведением. Но ему, Ловкачу, следует быть осторожным, не надо забывать и о том, что каким бы Чурка не являлся олухом, и как глубоки бы ни были его заблуждения, они все-таки друзья детства и им трудно обойтись друг без друга. Нет нужды выбалтывать все свои мысли, даже если абсолютно уверен в собственной правоте, - это бестактно. Да и потом, пусть Чурка в лучшем случае достоин лишь звания наивного идеалиста, справедливость требует признать за ним немало ценных качеств. Он честен, прямодушен, щепетилен, в меру начитан, на него можно положиться, к чему отталкивать такого человека? Ловкач готов платить определенную дань лояльности, не обострять без нужды отношения с Чуркой, создавать видимость единства, оставаясь на своих позициях в главном. Ну а вопрос о том, каким образом добывать себе деньги на пропитание - важная, но все же частность. Правда, об этом не следует говорить вслух, тем более, что личная репутация Ловкача, да и репутация всей его семьи - вне подозрений. Вплоть до сегодняшнего дня - он кристален в финансовом отношении. Его другу, как и всем вокруг него, отлично известно, что в его небольшой семье не водятся и отродясь не водились шальные деньги. Считается, что его родители получают высокую зарплату, а на деле все деньги расходятся почти без остатка. Сколько благ проходит мимо, и от них приходится отказываться с тем большей болью, что они действительно существует на свете. Они бедны, это факт, а Ловкачу надоела бедность, засиделась она у него в печенке. Ведь так и жизнь пройдет. Но просто так взять и сказать своему старому другу, что готов наплевать на принципы, ради того, чтобы вырваться из унизительной, тягучей паутины... Ну нет, пока это лишнее. Тот его просто не поймет, не дано, ментальность не та. Получился бы разговор на разных языках. Хотя, вроде бы, чего тут не понимать? А Весельчак-то прав. Ну - сегодня, ну - завтра, а дальше что? Не вечно же сидеть на шее у родителей. Небогатые они, так что же, неужели он при всех своих способностях обречен на бесславную гибель от острой финансовой недостаточности? И жизнь промелькнет мимо на машине, которая никогда не будет ему принадлежать? Но если так, если действительно так, разве хоть кто-нибудь на свете обладает правом помешать Ловкачу разорвать путы любым доступным ему способом? Нет, мои дорогие, он вовсе не желает всю жизнь стоять на обочине разинув рот. Мир не так однозначен, как это представляется Чурке. Выбор есть, и выбор этот, кстати говоря, предельно прост. Либо вечное смирение, либо переход в иной социальный клан. За этой внешней простотой, однако, скрывается подвох. А что если в этом преисполненном условностями обществе статус бедного, но порядочного интеллигента все же ценится выше богатства? "Мерседес", спору нет, великолепная машина, но, как это ни печально, люди его круга все-таки предпочитают благочинную репутацию академика сомнительной репутации дельца, и с этим тоже приходиться считаться. Выходит, выгоднее смириться, но... Но если поставить на карту все, нырнуть незаметно из клана в клан на часок-другой, за этот звездный час сделать себе будущее, и сразу же вынырнуть обратно, то он согласен. Согласен, слышите вы! А сейчас как раз такой шанс, зырк - туда, зырк - обратно, надо только рискнуть и не упустить его, не сдрейфить в решающий момент. Рискнуть один раз, всего один, и навсегда обеспечить себе сытую жизнь. Ну, если не навсегда, то, во всяком случае, надолго. Срок зависит от количества денег упрятанных в сейф, который они договорились вскрыть. Смешно, но факт: согласия в этом вопросе они достигли немедленно - противоположности, как говорится, сходятся. И что с того, что друг его детства собрался ограбить чужую квартиру не по экономическим, а по идеологическим соображениям? Дитя! Что ж, тем хуже для него. Но сама идея - идея выкрасть деньги, уже украденные другим, - Ловкачу весьма по душе. Перекочевав в их руки эти грязные деньги как-бы очистятся, облагородятся, а ради чистых денег Ловкач тем более готов рискнуть. И вообще, тот кто хочет достичь чего-то стоящего в этой жизни - не имеет права на трусость. В конце концов, должен же он когда-нибудь проверить себя в деле. И пускай им движут более чем земные мотивы, кто может узнать об этом? Только бы все прошло хорошо, а после... После он что-нибудь придумает для этого большого ребенка, своего компаньона. Главное, чтобы он держал язык за зубами. С деньгами Ловкач получит высшее благо - Независимость. Богатому человеку нечего страшиться плебейских напастей - потери работы или смены настроения у непосредственного начальства. Вот ради этого в конечном счете он и рискует. В случае провала ему грозит не очень длительное лишение свободы - несколько лет за недоносительство, не больше. Ведь в порыве р-р-революционного энтузиазма Чурка взял на себя всю черновую работу. И если Чурка принесет-таки деньги, то Ловкач рассчитывает хотя бы на тридцать процентов. Хотя идейный Чурка, по всей вероятности, предложит ему половину. Что ж, в таком случае Ловкач отказываться не станет.
И все же, звонкая монета - звонкой монетой, но Ловкач, выдыхая в зеленеющей день колечко за колечком, ни на минуту не прекращает спор со своим вечным оппонентом. Просто не в силах прекратить. Ну чего тот хочет, чего добивается? Чего ради рискует собственным благополучием и достойной старостью своей пожилой мамы? Чего жаждет его сердце? Неукоснительного и строжайшего соблюдения писаных законов? Всех законов? Или только их части? Соблюдения их буквы или духа? Попытаемся представить, как можно этого добиться. Предположим он, Ловкач, каким-то образом встал у руля государственной политики движимый единственной целью - обеспечить соблюдение действующего законодательства всеми членами общества. Предположим далее, что он, Ловкач, всесилен, аппарат власти беспрекословно подчиняется его распоряжениям, а заговоры против него подавляются в зародыше. Итак, есть Ловкач-Диктатор. Но Ловкач-Диктатор все же смертен и, потому, должен спешить. Очевидно, что повального законопослушания можно добиться лишь ценой очень большой крови. Люди непослушны и коварны, так и норовят жить не по закону, а в свое удовольствие, поэтому, хочешь - не хочешь, а Ловкач-Диктатор вынужден будет прибегнуть к грубой силе. Сыск, казематы, концлагеря. Особо строптивых придется уничтожать физически, да и, говоря откровенно, не только их. Мало ли... А когда палачи управятся наконец с заданием, и последний преступник поплатится за свои прегрешения жизнью, как прикажете поступить с самими палачами? Наградив их за ретивость переквалифицировать в учителей и офицеров, или утопить в болотах? А кому топить? И во имя чего все эти катаклизмы? Во имя распрекрасного Послезавтра? И разве Ловкача-Диктатора во всех его ипостасях не проклянут на веки вечные? Хватит, постояли на чужой позиции, пора возвращаться на свою. Ловкач совершенно не убежден, что Весельчак, их Весельчак, благодаря которому жильцы получили возможность перебрасываться мячем через сетку, щедрый и добрый Весельчак, - являет собой большее зло, нежели корпус вышколенных палачей, во имя всеобщего распрекрасного Послезавтра выполняющих леденящие кровь приказы, подписываемые бескорыстными и бессердечными роботами в человеческом обличье. Скорее, Ловкач убежден в обратном. Человек живет, радуется, грустит Сегодня, интересуется тем, каким будет Завтра - иногда ради себя, иногда ради счастья своих детей и близких, но не может, ну просто не в силах, представить себе всеобщее Послезавтра. Не способен, даже если был круглым отличником по всем философским предметам. И слава богу, что человек создан именно таким - маленьким и слабым. Человек не прочь потрогать руками собственное Завтра, но чужое Завтра его интересует лишь постольку - поскольку; главное, чтобы оно не ударило по своему - а кто против такого порядка вещей, тот, волей-неволей, жесток и смешон. Разве кого-нибудь кроме Ловкача касается его борьба за счастливое Завтра? Ловкач с невнятной злостью притушил сигарету о днище пепельницы. Ничего, даст бог, обойдется. В шкуре люмпена он побудет, как и договаривались, часок-другой, даже занятно, а по истечении этого срока он сменит эту шкуру на элегантный плащ рыцаря-интеллигента. Люмпен-пролетариат... Ловкач чертовски любит историю. По его мнению, именно история - единственная научная дисциплина, гармонично сочетающая в себе занимательность, общественную значимость и национальный дух. Как прекрасно, что в скором будущем ему предстоит карьера профессионального историка. И нельзя, чтобы его постоянно отвлекали от науки бедность и быт. Ведь женится же он когда-нибудь! Нет, Ловкач не позволит костлявому задушить себя. Весельчак прав - деньги абсолютно необходимая штука. Ловкач - не Чурка, и вполне терпимо относится к Весельчаку, только вот денег у того явный переизбыток. Раз Весельчаку угодно величать их своими юными друзьями, пускай по-дружески и поделится с ними, - это будет справедливо. Ловкач молит бога об одном: лишь бы дельце выгорело, лишь бы запланированный визит его дружка в пустующую квартиру Весельчака прошел гладко - без сучка, без задоринки. Тогда Ловкач станет обладателем немалых денег, аванса на будущее, и постарается отработать этот аванс. Честное слово, на курсе не будет студента прилежнее него. А его друг... Черт с ним, пусть поступает как хочет. Чурка ненавидит людей нарушающих установления, которые сам невесть почему считает справедливыми? Что ж, пускай сам побудет в шкуре такого человека. Денег у него хватит. Не поставит же он себя, в самом деле, вне общества и закона? Только бы сейчас за руку не схватили...
Хорошо, допустим деньги уже у них. А дальше? Надо обдумать как их припрятать. Видимо, следует оформить себе несколько сберкнижек и соблюдать предельную осторожность в течении нескольких близжайших лет. И дружка своего надоумить соответственно - чтобы ненароком не подвел. Ну да ладно, об этом беспокоиться пока рановато - уладится как-нибудь...
X X X
Члену ЦК Партии, депутату Верховного Совета, заместителю министра иностранных дел страны не спалось.
Прошло пять лет с тех пор, как он покинул Грузию и перебрался в Москву. Пять долгих лет. И за все эти годы ни разу не удалось провести отпуск так, как ему хотелось. Предскажи ему тогда кто-нибудь, что он не будет волен даже в выборе места для обычного летнего отдыха, он поднял бы такого на смех. Ядовито-вежливо, так как он умеет. А вон чем обернулось! Каторжным трудом и почти полной потерей личной независимости. Целых пять лет пролетело с тех пор, как его перевели на работу в Центр, и все эти годы были какими-то... Ни рыба, ни мясо, какими-то дипломатическими что-ли - и это еще легко и непонятно сказано. Постоянно приходилось думать о том, как установить и укрепить добрые отношения с коллегами по службе, не раздражая совсем уж заоблачное начальство, а с этой точки зрения лето - пора отпусков - оказалось наиболее подходящим временем года. Он ведь был новичком, начинавшим деятельность в совершенно необычной для себя области практически с нуля, и ему необходимо было не только доказывать свою профессиональную пригодность и компетентность, но и завоевывать доверие коллег. Ведь у него полностью отсутствовало специальное образование и Высшую Дипакадемию он окончил заочно - правда, с отличием - лишь в позапрошлом году. Не удивительно, что ему пришлось, постоянно жертвуя личными пристрастиями, перестраиваться на ходу. Зато сегодня никто не смеет сказать про него, мол, "чужак", он на хорошем счету в министерстве и обладает неким политическим кредитом выходящим далеко за узковедомственные рамки. Конечно, сочти он, что потолок достигнут и вполне можно удовлетвориться существующим положением дел, он вел бы себя посвободней. Но он еще так молод, ему всего тридцать шесть. Сейчас он чуть-ли не самый молодой замминистра в стране, уже член ЦК, депутат - рано, рано ставить на себе крест. Вот только нынче позволил себе он роскошь отдохнуть от "летней дипломатии", его желание погостить на родной земле было встречено с пониманием, перед отъездом министр вызвал его к себе и в конце разговора пожелал ему как следует набраться сил, ибо, как выразился министр, осенью "их ждут большие дела". "Их", то есть - "нас". Его, наконец, приняли в круг посвященных, а обстоятельства предшествовавшие его внезапному назначению, кажется, преданы забвению. И вот он дома. Пусть родной ему приходится вся необъятная советская страна, Грузия дорога ему как-то по-особенному. Здесь он родился, вырос, возмужал, стал, как говорится, человеком; сознание того, что грузинская земля существует на свете, поддерживает его в нелегкие минуты.
Утром автомобиль отвезет его на черноморское побережье, и ближе к вечеру основательно прожаренные солнечными лучами покрышки бронированной "Чайки" плавно подкатят к решетчатым воротам спецдачи. Вот и подошел к концу третий день его пребывания в Тбилиси: жара как в Сахаре, сплошные гостины у местных высокопоставленных лиц и некогда отдышаться. Еле удалось повидаться со старыми друзьями, да чудом выбраться в художественную галерею, "пощупать" на слух и глаз новые фамилии. Он удержался таки от искушения побродить по улицам и улочкам родного города, весело раскланяться с кем-либо из старых-старых знакомых, - ради одного этого он с радостью отложил бы завтрашний отъезд, но все это оказалось совершенно нереальным и он только разок успел проехаться по городу. Рядом с одним невысоким, старым, наполовину оштукатуренным домом - жухлый от времени порыжевший кирпич, занавешанные окна, заметна даже неприличная надпись на штукатурке, - он велел шоферу приостановить лимузин; он даже попытался не выходя наружу заглянуть в окно, словно подглядеть в замочную скважину за давно канувшим в вечность кровоточащим мгновением, но занавеска так и не шевельнулась и, бессильно откинувшись на мягкую спинку широкого сиденья, он сделал водителю знак рукой.
Кое-кто косо поглядывает на него за то, что он до сих пор не обзавелся семьей, но замминистра доволен, что хоть личная жизнь не полностью подчинена интересам карьеры; мужчина он или нет в конце концов, черт его побери! Ему прекрасно известно, что дамы на него заглядываются, да и девушки почитают за лакомный кусочек, еще бы! Но он склонен выбирать сам. Женщина которая его любит, или думает, что любит, хороша собой, но он не вполне уверен в том, что ему следует жениться на ней. Все-таки он не свободен от предрассудков. Всю жизнь он полагал, что его будущая супруга - без сомнения, грузинка по-национальности, - будет родом из исторических тбилисских кварталов - Ваке, Вере, в крайнем случае - из Сабуртало, и полагал так оттого, что все девушки, к которым он в юности испытывал симпатию или которые испытывали симпатию к нему, по случайности или, скорее, по скрытой закономерности, проживали именно в этих районах родного города. А Таня вот - русская, москвичка, живет в спальном районе у черта на куличках - в Орехово-Борисово - по-грузински знает ровно три слова и, вдобавок, разведенка. Хорошо еще, что своих детей у нее нет. Вообще-то, он не против интернациональных браков, но почему-то думал, что его минует чаша сия. Вот он и тянет, тянет - долготерпению Татьяны можно только поражаться. А ведь давно пора научиться принимать мир таким, каким он и является в действительности. Он уже не тот, что семь-восемь лет назад, да и слово "любовь" звучало тогда как-то иначе, возвышеннее что-ли; жалко, конечно, но что поделаешь, не всегда жизнь оправдывает надежды. Что ни говори, как ни старайся забыть незабываемое, а ему было скверно. Тоскливые месяцы и годы медленно уплывали вдаль, и, спасаясь от скрытой, неразделенной, безответной любви, он буквально утопил себя в активной - не без толики показухи - повседневной деятельности. Объективно говоря, он находился на грани краха и не обладай он врожденным талантом уворачиваться от неприятностей, неизвестно еще чем-бы все закончилось. Но он не опустил подобно безвольному хлюпику руки, рана поныла, поныла и постепенно зарубцевалась. А сейчас подошло время другой, пусть менее горячей, менее бескорыстной, но все же любви, и... нельзя, неудобно больше жить одному. Он скоро женится, не в этом, так в следующем году, - это решено. Жениться и, быть может, даже на Татьяне.
За окном душная, давящая, выматывающая душу ночь. Заместителю министра жарко, он отбрасывает легкое покрывало прочь и лежит уставясь глазами в потолок. Наверняка пошел уже четвертый час утра, время он давно научился чувствовать кожей. Раздумывает, не включить ли стоящую у изголовья радиолу, но ему лень протянуть руку и дотронуться до кнопки. Пока лень.
Милый родной город и эта жаркая ночь за окном всколыхнули отстоявшиеся воспоминания.
Узнав о том, что замминистра отказался переночевать на загородней даче, где и прохладно, и глаза отдыхают на зеленых красотах, Первый Секретарь был немного удивлен. Но замминистра настоял на своем, просил понять чувства человека, так давно отсутствовавшего в родимом городе и Первый Секретарь предложил ему, по старой дружбе, переночевать в своей городской квартире, благо семья Первого на отдыхе в Гаграх. Замминистра испытал небольшую неловкость, но все обошлось, оказалось, что Хозяин Республики нынче ехать на дачу вовсе и не собирался. Вот и приходится высокому гостю сейчас - в безуспешной попытке уснуть - возлежать на мягкой широкой постели. В эту комнату храп Первого Секретаря, правда, не доносится, но заснуть, ввиду тяжелой городской духоты, пока не удается. Как видно, ему уже не столь легко дается перемена места - понемногу сказывается возраст. Он переводит глаза с потолка на широко распахнутое, не задернутое тяжелой портьерой окно; потом, переборов лень, встает, подходит к окну и отрешенно вглядывается в мерцающие светлячки редких огней спящего города. На какое-то мгновение вспоминает, как далекой ночью с трепетом всматривался из похожего окна в полуночную тьму и тотчас забывает об этом. Вновь ложится, и ложась дотрагивается до кнопки на радиоле. Стены и потолок просторной комнаты слабо, едва заметно, освещаются голубоватым светом мягко стекающим с панели управления. Он плавно вращает хромированный верньер и вскоре ночную тишь начинают осторожно раскраивать ритмичные звуки томной танцевальной мелодии. Она то страстно взрывается, приглашая жить в полную силу, то спадает как волна и, вытягивая жилы из сердца, принуждает жалеть себя и ощущать в полной мере собственную малость. Этой ночью ему, наверное, уже не сомкнуть глаз. Судорожный поток музыкальных звуков внезапно прерывается быстрым и наверняка хорошо оплаченным говорком бесконечно далекого диктора. Так и есть, замминистра прилично объясняется на французском, в эфире радио Монте-Карло, обычная торговая реклама: покупайте детские коляски фирмы "Блан и Мориц", дешево, удобно, практично. Затем новая музыкальная вставка, легкая мелодия подхватывает на руки как пушинку, зовет на Ривьеру, на Гаваии, на Бермуды, но он не имеет права, времени, да и никто там, на Ривьере, его не ждет.
Он продолжает вращать рычажок, французскую речь сменяет арабская, ее - английская. Похоже, он наткнулся на круглосуточное вещание "Уордл сервис ов Би-би-си", в эфире последние известия, это не лишено интереса. Английским замминистра владеет блестяще - вообще, надо признать, что лингвистические курсы в дипшколе принесли ему немалую пользу. Разумеется, бюллетени МИД и ТАСС о событиях на планете будут доставляться ему и на черноморское побережье, но когда это еще будет, радио оперативней, он же не мальчишка, понимает, чему следует верить, чему - нет. Можно и послушать, все равно уже не заснуть. Так-с, прослушаем сперва краткие сообщения: в Париже успешно продолжаются франко-западногерманские переговоры по военному сотрудничеству; победа правящей партии на выборах в Уругвае; министр иностранных дел Египта обвинил Советский Союз в затягивании процесса мирного урегулирования на Ближнем Востоке - эх, вот вам и благодарность за Асуанскую плотину и недавние поставки истребителей; в Женеве возобновились индо-пакистанские консультации по Кашмиру, ну, это гиблое дело; землетрясение в Чили, большие разрушения, много жертв; очередная волна репрессии в Польше, интересно о ком это они, сколько же можно мусолить польскую тему; Танзания закупила у Москвы очередную партию военной техники, любопытно почему нет ни слова о недавней сделке, по которой Уганда получила двадцать устаревших танков "Брэдли", десять безоткатных орудий и столько же бронетранспортеров для внутренних полицейских сил, - наши поставки Танзании лишь попытка сохранить военное равновесие в регионе; ожесточенные стычки на границе между Намибией и ЮАР; либерийский, как бы не так - один флажок, танкер разломился надвое в Бискайском заливе, - это попахивает экологической катастрофой; террористами похищены два бразильских сенатора, об условиях их освобождения сообщений пока не поступало; преступник, выкравший из Пекинского музея изобразительных искусств шедевр Ци байши, задержан в Гонконгском международном аэропорту; курс американского доллара на Токийской бирже опять качнулся вниз...
Известия закончились и ему неожиданно показалось, что обо всем этом, и о консультациях по Кашмиру, и о бразильских сенаторах, и о танкере, он уже когда-то слышал. Все люди, все без исключения, как заведенные пляшут в одном нескончаемом хороводе выделывая замысловатые па, и ни у кого не достает ни мудрости, ни силы вырваться из его мягкого, дружелюбного плена. Все повторяется, абсолютно все. Нет у того хоровода ни конца, ни начала. Эта мелодия слишком тосклива, она невольно напоминает ему о том, как он, в сущности, одинок. Покрутим-ка верньер. Почему бы не поехать поездом? Летает он часто, но только по служебным делам; в воздухе он ощущает себя слишком беспомощным, зависимым от других, потому-то и предпочел сейчас для поездки на море самолету автомобиль, но поезд... Поезд совсем другое дело. Поезда на побережье отправляются вечером, а до вечера он успел бы кое-кого повидать. Утром нагрянет лимузин; так удобней, опрятней, в конце концов так принято, но ему вдруг остро захотелось очутиться в обычном душноватом четырехместном купе, жареная курочка на столе, помидоры, зелень, острый овечий сыр, бутылка хорошего коньяка или чачи, а главное, душевная беседа с приятными попутчиками о том, о сем - ведь путешествие так хорошо развязывает языки. Вернуть бы молодость, "поезд номер двести шестьдесят четыре Тбилиси-Сочи отправляется с третьего пути, провожающих просим освободить вагоны". Где же они, эти провожающие? А может лучше принять прохладный душ и постараться уснуть? Завтра его ожидает долгое путешествие, а он будет совершенно разбит, но нельзя же, в самом деле, будить хозяйна посреди ночи, так что придется обойтись без душа. Поезда он всегда любил. В детстве, когда родители брали его на море, он словно прилипал к полуоткрытому окну и всегда боялся проспать утром, пропустить самую первую полоску подернутого небесной дымкой бесконечного морского простора, норовил выбраться из купе в коридор пораньше, и за это его поругивала мать. Да и позднее он остался к поездам неравнодушен, в них у него разыгрывалось воображение. Замминистра вспоминает: тысячетонная махина стучит колесами по перевалу, перегон Зестафони-Хашури, загорелый студент возвращается с очередных каникул, лежит на верхней койке и, уткнувшись потным лбом в жесткую путевую подушку, мечтает о любимой девушке, ласкает ее, целует ей волосы, глаза, шею, она вскоре выскочила замуж, это было сильным ударом, но тогда еще не все было кончено, еще оставалась надежда, и он мечтал о ней уткнувшись в подушку носом, и когда поезд на минуту придержали на глуховатом полустанке и мимо, к теплому, усталому морю промчался встречный скорый состав, а до первого сентября было еще неблизко, ему подумалось, что Она там...
...Верньер остановился. На крыльях знойного сирроко в комнату врывается дробь кастаньет, за тысячи километров от него лихо выплясывает под эту дробь прекрасная андалусийка, которая никогда не будет ему принадлежать, томный рыцарь сходит с ума от ее гордой осанки, обнаженных плеч и невероятной глубины черных глаз, а он, бобыль-бобылем, отлеживается в теплой постели...
В голову замминистра исподволь прокрадываются не очень веселые мысли. Ему тридцать шесть, уже тридцать шесть. Много это или мало? Если судить по достигнутой на иерархической лесенке ступени и по открывающимся служебным перспективам - то немного, если же учитывать чисто биологическую сторону вопроса - то вовсе немало. Природе наплевать на то, что он один из самых молодых замминистра в стране, да еще в каком министерстве, в самом что ни есть ключевом! Смерть нельзя победить, ах, если б знать, когда пробьет урочный час. Но сие неведомо даже светилам-консультантам из четвертого управления минздрава; интересно, могут ли они хотя бы отсрочить его наступление? Или это совсем даже неинтересно? О болезнях и о четвертом управлении не хочется думать, но крамольные мысли, окунаясь в полузабытое прошлое, не спрашивают разрешения. Замминистра прикрыл глаза, но он не спит и даже не дремлет. Он всего лишь вспоминает, но ему кажется будто ему снится занимательный сон. Место действия - вот этот самый город, а он совсем юнец - второкурсник и шалопай. Они быстро идут по улице, он и два его сокурсника, и у всех троих поламывает в голове. После вчерашней пирушки - доконает их вино в конце концов, - вовсю разыгрался этот чертов похмельный синдром, вот и пришлось им сбежать с лекции, променять вонзающиеся ненавистной иголкой под черепную коробку заумные слова скучного лектора на эликсир богов - дрянное, чуть кисловатое, порядком разведенное водой, но хотя бы холодное местное пиво. Ведь без двух-трех кружек на брата день можно было выбрасывать из жизни и они - Антон, будущий замминистра, а по случаю и еще один ничем не примечательный парень, даже не товарищ, а так, вчерашний знакомец, хотя из памяти никак ни выбросить его странноватое имя - Элефтерос, сбежали каждый со своего факультета в хинкальную, что когда-то располагалась в полуподвальчике напротив Кашуэтской церкви. Хинкальную эту давным-давно отменили, помещение передали тбилисским художникам, церковную паству от грешных пьянчуг оберегли, а Кашуэти (ей еще предстоит попасть под обстрел гражданской войны годы спустя) и поныне радует глаз, но в тот давний осенний день места более привлекательного чем эта хинкальная, для бедных студентов не было и быть не могло. Только холодное, пенистое пиво, да дымящиеся хинкалины могли помочь обрести им нормальное состояние души и тела. Гонимые сладким предвкушением близкого счастья они влетели в хинкальную, ринулись к стойке и наперебой закидали усатого, дородного буфетчика своими пожеланиями: "Тридцать, нет сорок, какой там сорок, пятьдесят, да - пятьдесят хинкали, да поскорее. И пива, пива. Открой-ка нам пока шесть бутылок "Жигулевского", а там посмотрим". Лишь потом, немного успокоившись и осмотревшись, они оккупировали один из свободных столиков - сидячие места здесь не были предусмотены, - и моментально заставили его пивными бутылками, гранеными стаканами и тарелками. Вскоре после первых - этих наиболее судорожных, но самых вкусных - глотков в глазах у всех троих прояснилось, да и буфетчик подозвал к себе Элефтероса, забирай, мол, свои полста штук, да поскорее. Будущий замминистра удовлетворенно крякнул, Антон придвинул к себе перечницу, еще секунда и можно было приступать к трапезе, исторгавшийся от горячих хинкалин едкий, пахучий дым дразнил ноздри, руки вновь потянулись к наполненным до краев стаканам, но... В этот самый момент кто-то, мятый и небритый, в грязном, и даже не в грязном, а скорее в нечищенном старом пальто, без всякого приглашения пристроился к их столику, и, извинившись, будто все ничего, вытащил из кармана бутылку водки. Нет, они, конечно, к трапезе все же приступили и дернули еще по стаканчику пива, душа, что называется, горела, но и соседствовать с каким-то бродягой им вовсе не улыбалось. Первым побуждением было выкинуть непрошенного гостя вон. В этот довольно ранний час свободных столиков вокруг полно, что это он к ним пристал? Но это - к их чести - было лишь первым побуждением, ибо раз уж решился и подошел человек, да еще и постарше, да и на уличного нищего не очень похожий, не гнать же его в шею, не в правилах это наших. Вот они, смутившись, так и не отказались от любезно предложенной водки, - в свои восемнадцать они еще не научились твердо выговаривать "нет", - более того, сами принесли недостающий стакан, да и пивом гостеприимно угостили незванного гостя. А когда человек в нечищенном пальто опять подлил им водки, то руки его уже не тряслись и взор не был затуманен, и немедленно выяснилось, что подошел он к ним лишь потому, что учуял в молодых парнях благодатных слушателей - так необходимо было ему высказать вслух что-то свое, кровное, но такое, что держать про себя никак было нельзя. Вот его цепкие, длинные пальцы приподняли наполовину заполненный водкой стакан, а слегка одуловатое, плохо выбритое лицо сразу стало более напряженным и выразительным. Поначалу они еле разбирали его негромкий, чуть хрипловатый голос, но постепенно он распалялся все больше и больше, и они уже не просто слышали, а слушали его, все более проникаясь к нему сочувствием и пониманием. Разговаривая он глоток за глотком опрокидывал в себя водку, запивал ее пивом, закусывал тепленькими хинкали, а они внимали ему раскрыв рты. "Ребята, - говорил он хриплым обвиняющим голосом. - Вы не подумайте, я не нищий и не бродяга, просто сейчас немного не в себе. Пятый день как отца похоронил, все как полагается, поминки, то да се, только обида меня за горло схватила, вот и пью с тех пор, никак остановиться не могу. Или не хочу - все равно. Не просто взял он и умер, а, считаю, убили его. Нестарый был, ему в прошлом месяце шестьдесят всего исполнилось. Сердце, правда, барахлило, находила на него эта, как его, жаба, спазмы одним словом. Пришлось в больницу его укладывать, врачи настаивали. Через пару дней доктор тамошний отвел меня в сторонку и говорит: оставить мы твоего отца у себя оставим, но если лекарства хорошего не достанешь, ничем ему не поможем. А если достанешь, то мы, пожалуй, попытаемся его вытащить, а что полегчает ему, это уж точно. У нас этого лекарства, говорит, нету, да и было бы, выписывать и назначать его мы не имеем права. Только министр может позволить, но министр не позволит, лекарство это большой дефицит; оно импортное, на золото купленное, его для больших шишек придерживают, чтоб они, не дай бог, не окочурились нам на несчастье. Так я тебе, говорит, адресочек дам одного спекулянта, и ежели ты ради отцовского здоровья раскошелишься рубликов эдак на пятьсот, он это лекарство тебе денька за два на блюдечке преподнесет. Согласился я. Нелегко было, я ведь человек рабочий, больших денег у нас в семье отродясь не водилось, но как тут не раскошелишься, родной ведь отец, не чужой. Адресочек то я на бумажке своей рукой записал, если что, то врач вроде бы в стороне... Ну, в общем, пошел я к этому спекулянту. Гришей его звать, может слыхали, он на Авлабаре живет. Явился к нему и говорю, так мол и так, лекарство нужно, помоги. Договорились мы быстро, я с ним и не торговался, не до того было. Велел он мне зайти назавтра. И верно, прихожу на другой день, а у него лекарство приготовлено - ну, думаю, молодчина я, жизнь отцу спасаю. И только денежки на стол выложил, верьте - не верьте, милиция нагрянула. Не забуду, как Гриша на меня посмотрел, подумал видно, что это я наводчик. Только я непричем был, и деньги отобрали у меня, и лекарство, вещественные, мол, доказательства. Гришу арестовали, лекарство конфисковали, а деньги обещали после суда вернуть, хоть и не верю я им. Да что там деньги, и сейчас перед глазами ампулы эти, близко они лежали, на расстоянии протянутой руки. Как я их не упрашивал, милиционеров этих, ничем их не пронял, меня еле отпустили, под расписку, да еще Гриша этот обо мне плохо думает. А аккурат на следующий вечер у отца приступ случился и - каюк. Так и не смог я ничем ему помочь, отцу-то. Не старый был еще, но жизнь тяжелую прожил. Всю жизнь проработал как вол, войну прошел, детей на ноги поставил, ни перед кем глаза ему отводить не приходилось, а вот из-за лекарства помер. Справедливо это? Я вот как думаю: достал же Гриша эти ампулы, так разве хоть одна шишка от этого померла? Молодец этот Гриша. Я б не в каталажку его упек, а живьем памятник поставил, да еще собственноручно надпись высек на этом, как его, на постаменте: Григорию-мол спасителю от благодарных пациентов. А что? А как же иначе? Я понимаю, что он здоровьем торгует. Да только что нам, бедным, ради порядка делать? Самоотверженно подыхать на койке, я спрашиваю? Умирать?...
...Человек в нечищенном пальто в очередной раз поднес стакан ко рту...
Глаза у замминистра все еще закрыты. Сон продолжается. Человек в нечищенном пальто долго не уходил, они поддержали разговор, целый час с ним беседовали, да и выпили тогда немало, бутылки не хватило. И как наяву сейчас предстает перед мысленным взором замминистра слегка одуловатое и небритое лицо того незнакомца, как будто заново прослушивает он его незамысловатую, бесхитростную, слегка бессвязную и простецкую речь. Замминистра на долю секунды приподнимает веки. Любопытно, как тому сейчас? Жив ли он? Здоров? Да, вот так: то была картинка жизни без прикрас, никаких шуточек. Как искренне он тогда возмущался, как близко принимал такие безобразия близко к сердцу. А нынче и сам приписан к четвертому управлению, пользуется, так сказать, благами. А ведь перемен до смешного мало...
Странная все-таки штука жизнь. Мог ли он тогда предполагать, что к тридцати годам превратится в подающего надежды политика, а в тридцать шесть все еще будет холост. Все верно, за последние лет пятнадцать он, по крайней мере раза три, всерьез хотел жениться и даже придумал на эту тему не очень веселую шутку: "В жизни я влюблялся целых полтора раза, но мне всегда недоставало пол-очка для женитьбы". А кроме того, поступая на физфак он наивно полагал, что физика так и останется дамой сердца на всю жизнь. Конечно, он всегда был "продвинутым" малым и интересовался всякого рода политическими новостями, причем постоянно "лез" не в свои дела, но чтобы политика заняла место науки... Нет, такого он тогда и представить себе не мог. В детском возрасте он - подобно многим своим сверстникам - был очень неравнодушен к звездам. Бывало, отец водил его за ручку по вечерним улицам и, едва звезды загорались на небесах, учил его странно будоражащим детскую душу названиям: Кассиопея, Лира, Вега, Альтаир, Денеб, Сириус, Альдебаран и многим другим. Совершенно особенный пиетет испытывал будущий замминистра к Бетельгейзе - красному гиганту созвездия Орион, по сравнению с которым даже огромное и слепящее глаза родное светило казалось до обиды слабеньким светлячком. Поражали расстояния и то, что, как объяснил ему отец, ежевечерне вспыхывавший у них над головами небосвод был каким-то призрачным, ненастоящим. Ведь свет шел с этих звезд к Земле тысячи и тысячи лет, и за эти тысячелетия звезды успевали перемещаться по небосклону, а иногда даже исчезать в небытие. А в девятом классе ему в руки попалась истрепанная и переполненная новыми откровениями книжка некоего Гарднера: "Теория относительности для миллионов". Это было чудесно. Мир сразу приобрел необычные измерения; время бежало то быстрее, то медленнее; летящий наперегонку со световым лучем к братьям по разуму посланец Земли - сверхмощный космический корабль с фотонным двигателем вместо сердца - сердито наливался массой, вселенная рождалась в ослепительном фейерверке грандиозного первичного взрыва и галактики разлетались в разные стороны как мошки. Чуть позже ему довелось прочесть увлекательную книжку Юнга о том, как расщепляли атом и делали атомную бомбу. Калейдоскоп имен стал внушительней: политика и физика, администраторы из Лос-Аламоса и профессура Геттингена сплелись в один тугой узелок. Ган и Лиза Мейтнер, Ферми и Оппенгеймер, Ванневар Буш и Конэнт, Гровс и Юри - все эти люди что-то делали, создавали теории, суетились, стараясь опередить Гитлера с его "чудо-оружием", а потом взяли и сбросили "малыша" и "толстяка" на Хиросиму и Нагасаки, пепельные тени людей до сих пор на стенах; правда, кое-кто был против, но голоса еретиков удалось заглушить. Потом одна больная девчушка должна была сделать много-много бумажных аистов для того, чтобы выздороветь, но она так и не успела, а еще когда по тротуарам барабанил веселый дождь, отец говорил, что дождь этот, возможно, радиоактивный, потому что в Казахстане прошло испытание...
Итак, закончив среднюю школу с весьма приличным аттестатом, он решил поступить на физфак университета. Он немного побаивался вступительных экзаменов, но багаж знаний у него оказался достаточно весомым и сквозь экзаменационное сито он пробрался до смешного легко, тем более, что тем летом конкурс был на удивление низким. Вскоре выяснилось, что формулы давались ему без особого труда, очевидную даже для самого себя нехватку "божьей искры" до поры до времени компенсировала отличная память, да и интереса к физике, интереса живого, искреннего, он не успел пока растерять. Он был очень молод, времени для совершенствования у него, казалось, вдоволь - целый век, или даже два. После удачно взятого при выполнении домашнего задания интеграла можно было самоудовлетворенно растянуться на диване и предаться сладостным грезам о грядущем великом открытии, Его открытии, которое переменит лицо мира, и о сопутствующей этому открытию непременной Нобелевской премии. Успешное разложение тригонометрической функции в ряд Маклорена делало рукопожатие шведского короля более ощутимым, а решение громоздкого дифференциального уравнения методом вариации постоянных, шлифовало острые углы будущего выступления на общем собрании Академии Наук.
Замминистра переводит сонный взгляд на радиолу. В полузабытье он и не заметил как прекрасная андалусийка закончила свой огненный танец и ему приходится выслушивать какую-то абракадабру. Приподнявшись на локте замминистра меняет диапазон и настраивает приемник на частоту родного "Маяка", "...легкую оркестровую музыку", донесся до него бархатный баритон московского диктора. Замминистра неуверенно задерживает руку на верньере, но потом смиряется, отпускает руку и откидывается на теплую подушку.
О да, он всегда был излишне честолюбив, это следует честно признать. Безвестность - худшее ему наказание, замкнутость противоречит всему его существу. Конечно, предоставь ему господь выбор, может он и не бросил научную работу. Но с годами выяснилось, что научные претензии должны постоянно подкрепляться не только тяжким повседневным трудом, работы он никогда не боялся, но и внутренней, глубинной убежденностью в том, что этот труд и есть сама жизнь. Научное познание, в силу своего рационального характера, не прощает искателю научных истин обычных человеческих слабостей и привычек. А у него, увы, явно недоставало воли. Да и не только воли. Пожалуй еще и самого главного: постоянного, неподдельного, неослабевающего, переходящего порой в фанатизм интереса к избранной сфере деятельности, интереса, который и называют в обиходе призванием. Для кропотливой, рассчитанной на годы и десятилетия лабораторной "медитации" он, как оказалось, не был создан. Он обладал слишком разносторонней натурой, был слишком политичен, с трудом заставлял себя сосредоточиться на узкой, по его мнению, проблеме. Неплохо, однако, отучившись в университете и получив законное право поступить в аспирантуру, он должным образом это право реализовал, не упустив, таким образом, подвернувшейся возможности очутиться в самом сердце родимой державы - или же, как утверждали явные ее недоброжелатели, в имперской столице мирового зла, - святой белокаменной Москве. Влившись в коллектив первоклассного и по тем временам превосходно оснащенного научного учреждения, он бесспорно получил громадную фору по сравнению с многими так и оставшимися в провинциальном Тбилиси сокурсниками. С удобными в обращении приборами приятно было возиться, тема казалась весьма захватывающей, и все те, научные, годы он провел как-бы под высоким напряжением воли, работая честно, изо всех данных ему природой сил. Но больше всего, пусть и не вполне осознанно, он все-таки боялся обмануть чужие надежды - а особенно надежды тех замечательных людей настоящей, большой науки, с которыми ему посчастливилось общаться. Если вдуматься, то им тогда, в первую очередь, управлял не интерес, не страсть к познанию, а присущее ему сызмальства чувство ответственности, ответственности перед руководителями темы, перед ожидавшей его триумфального и окончательного возвращения домой матушкой, перед родственниками и друзьями, перед поставленной целью наконец. Все это в один прекрасный день должно было закончиться и закончилось банкетом. Он и сейчас, копаясь иногда в прошлом, не может припомнить более светлых и чудных страниц в книге своей судьбы, чем те, на которых запечатлены события времен московской аспирантуры. Да, это были настоящие годы. Но чудными эти годы представлялись ему не потому, что научная проблема над которой ему выпало биться, была единственной, неповторимой, или хотя-бы выходящей вон из общего ряда таких же весьма захватывающих проблем, а потому, что он был молод, полон сил и энергии, впервые обрел относительную самостоятельность, его эго нашло какое-то новое выражение. Но время неудержимо летело вперед, диссертация была успешно защищена, банкет состоялся, в надлежащее время он вернулся, как и предусматривалось, в родной город и вынужден был задуматься о том, чем заняться дальше.
Замминистра страдальчески закатывает глаза к потолку. Вернувшись из Москвы он устроился в один из институтов республиканской Академии Наук. Институт обладал неплохой репутацией, но ему, он считает, просто не повезло. Здесь на его долю выпал какой-то псевдонаучный кошмар. Достраивали новый корпус, а рабочих рук не хватало. Стоило ли защищать диссертацию, коли функцию рабочего-строителя приходилось выполнять чаще, чем ученого-исследователя. Тему, над которой так споро работалось раньше и нюансы которой он успел прочувствовать, пришлось оставить, так как в институте не было необходимой для соответствующих исследований аппаратуры, да и рассчитывать на ее получение в обозримом будущем не приходилось. Подобных ему кандидатов наук здесь было слишком много, и у каждого находились свои аргументы и претензии. Приходилось через силу заниматься вещами, о которых он имел самое смутное представление, впереди открывались довольно удручающие перспективы. И вдруг, совершенно неожиданно, прозвучало это предложение.
X X X
Девочка очень любила кино.
В этом, конечно, не было ничего удивительного. Многие из нас, не смея нарушить монотонное течение своего жизненного потока, представляют себя людьми готовыми на поступок только глядя на экран.
До сих пор, так уж получилось, Девочка жила жизнью в которой поступки совершались за нее. В том, что жизнь пока не успела поставить перед ней действительно сложные задачи, не было ее вины. Скорее, в том было ее счастье. Она была славной, призывно поблескивавшей, но не очень яркой звездочкой на ясном ночном небосклоне. В этом нет ничего особенного. Очень и очень многие, умные и глупые, добрые и злые, сильные и слабые, живут так до самой смерти.
Итак, Девочка любила посещать кинотеатры.
Она получила неплохое образование, обладала довольно тонким вкусом и, как ей самой казалось, умела отличать изысканные шедевры от бесталанных поделок. Пожалуй, так оно и было.
Но ходить в кино одной было скучновато. Иногда она ходила вместе с подругами, иногда ее приглашали знакомые парни. Если, а так тоже случалось, во время сеанса она ощущала у себя на коленке, или чуть повыше, прикосновение чужой ладони, она спокойно, но твердо снимала ее и больше не ходила с "виновником" в кино. Она ведь была влюблена. Но Девочка была тоненькая и стройная, и юноши искренне увлекались ею один за другим.
Поэтому неудивительно, что как-то раз, снежным, но от этого не менее погожим декабрьским днем, один молодой человек пригласил ее в кино.
X X X
Итак, я осмелился произнести вслух вопрос, ответ на который был важен для нас обоих.
Удивительно, но решились мы на нашу совместную авантюру без четкого представления о том, что же делать в случае удачного ее исхода.
Вначале сама мысль об успехе казалась фантастической. Но разработанный нами план оказался настолько конкретным и переполненным всяческими деталями, что мы как-то незаметно очутились в положении людей успевших сказать "А", и, которым, следовательно, предстояло произнести также и "Б". Отказаться от "Б" означало бы бесславно и безропотно капитулировать, увильнуть от взятых обязательств, уронить себя и в собственных глазах, и в глазах друга. О, нет, мы уже не могли бросить все на полдороге. Но перенеся все внимание на технику исполнения плана ограбления, мы не то чтобы забыли, а просто не желали думать о перспективе, о том, ради чего, собственно, пустились во все тяжкие. Были в такой беззаботности и молодое, переходящее в несостоятельную вальяжность лихачество, и подсознательное нежелание связывать себя какими-либо обещаниями на будущее. Во всяком случае я был убежден в одном, в полном бескорыстии наших побуждении. Правильнее сказать, что я был уверен в Антоне, как в самом себе. Об этом не говорилось, это подразумевалось само собой.
Но вот, чудо свершилось, "Б" последовало за "А", и вся непростота заданного мною вопроса развернулась во всей полноте. На мгновение показалось, что в комнате сгустилась мертвая, почти нестерпимая тишина. Еще минуту назад можно было строить какие-то иллюзии, но теперь отступать было некуда. Груда состоящяя из разноцветных хрустящих бумажек едва умещалась на тахте. До них можно было дотронуться, их можно было погладить, надежно спрятать, наконец использовать.
Первым от оцепенения очнулся Антон. Неожиданно он вскочил со стула, жадно потер руки, несколько раз пробежался по комнате, потом уселся прямиком на стол, чуть не опрокинув при этом опустевшие чашки, и, глядя мимо меня куда-то в стену, бодро заявил: "Ты молодец. Хотя я надеялся, что ты притащишь по меньшей мере миллион".
Я грустно улыбнулся: разве это было так важно?
- Деньги не пахнут, - услышал я ровный и сразу повзрослевший голос моего друга.
Мне потребовалось целых несколько секунд для того, чтобы осознать смысл сказанных им слов. Но по прошествий этих секунд в мозгу моем роем пронеслись не очень приятные мысли. Тоже мне, нашел время для дурацких древнеримских поговорок. За кого он меня принимает? Не ошибался ли я в нем? Не был ли я слеп как крот? Вопросы эти со скоростью света промчались в моем сознании. Не утерпев, я осведомился как можно более язвительным тоном:
- Хочешь сказать, что из тебя такой же император Веспасиан, какой из меня Раскольников?
- Хочу сказать, что собираюсь хорошенько пораскинуть мозгами: выкинуть мою долю на ветер, или оставить ее себе и постепенно истратить на благородные цели, - спокойно ответил Антон.
Таких слов я не ожидал вовсе. Мы вновь замолчали, но вскоре я первым нарушил гнетущее, натянутое молчание, растерянно заладив однообразное: "Так, так, значит, значит, так значит ты, именно ты...", но, так и не завершив мысль, замолк.
Антон соскочил со стола, подошел к тахте и уселся на денежную кучу верхом. Потом стал играться пачками, жонглировать ими, выстраивать из них на полу кубики и пирамидки. Видимо, так ему легче было раздумывать о своих будущих планах, и через несколько минут его угрюмое лицо (так мне показалось) озарила злорадная ухмылка. Исподлобья взглянув мне прямо в глаза, он проговорил:
- Послушай, а может вернем их нашему общему другу, законному владельцу?
Я продолжал молчать. Вряд ли мое лицо выражало что-либо осмысленное. Наверное я не мигая и еле сдерживая выпиравшую из меня злость, тупо смотрел на Антона. Тот, не сводя с меня настороженных глаз, продолжил:
- А может пойдем сейчас в милицию и во всем признаемся? И заодно потопим нашего милого друга? Только учти, нас посадят, а он вылезет из воды сухим. Он человек богатый и связи у него большие.
Наконец я пришел в себя. Надо найти в себе силы мыслить трезво. Все возможные альтернативы, пожалуй, названы. Но как допустить, чтобы возвышенная и справедливая месть не обернулась жалким пресмыканием благородных мстителей перед ими же похищенными деньгами? Ни за что! Но и Антон хорош! Тот еще фрукт! Была моя очередь говорить, и я не заставил себя ждать:
- У Достоевского в "Идиоте" одна сценка есть, если помнишь. Женщина сто тысяч царских рублей - огромные деньги - в костер бросает. А что если я эти деньги сейчас сожгу? Я их принес - что хочу, то с ними и сделаю. Ты же в органы доносить на меня не станешь. Полезешь в костер?
- Не полезу, не надейся, - с деланным равнодушием отозвался Антон. Кажется, он меня ненавидел.
Не обрашая внимание на тон его ответа, я некоторое время продолжал в задумчивости стоять перед ним. Решение следовало принимать быстро, немедленно, чтобы позднее самому не стать жертвой соблазна, и сделать это мне удалось сразу. Но навязывать свой путь другу детства я не мог, да и не имел права. Поэтому бодреньким, с небольшой примесью еще не прошедшего разочарования голосом, я сказал:
- Ладно. Пошутили и хватит. Не будем ссориться из-за этих бумажек. Разделим их поровну. Пусть каждый из нас возьмет по сто десять тысяч и распорядится ими как сочтет нужным. Главное, родители ничего не должны узнать, - я сделал паузу и, четко разделяя слова, произнес, - Отчитываться друг другу в тратах необязательно. И если один из нас случайно попадется, пускай не впутывает другого. Идет?
- Идет, - после небольшой заминки согласился Антон.
X X X
Окном моя комнатушка - мой персональный оазис родительской квартиры, - выглядывала не на улицу или во двор, а чуть ли не упиралась в торец соседнего корпуса. Не стой тот у меня под носом, выглядеть бы моей уютной обители чуток попривлекательней, а историю моей жизни пришлось бы, наверное, переписывать заново.
Соседний дом, на зависть многим, был весьма добротным строением, приютившим, подобно нашему, в своем чреве наряду с обычными жильцами и таких, кто свободно мог быть отнесен к категории "красных князей" республиканского масштаба. Он был поновее, повыше и подлиннее нашего (восемь этажей против пяти и четыре подъезда против наших двух), а в общем, оба дома казались достойными друг друга соседями - несколько тяжеловатые на вид, они привлекали содержанием: квартиры тут были просторными, потолки в них - высокими, лестницы - пологими и широкими, разве что ковровых дорожек недоставало, а заставленный гаражами длинный общий двор и - что занимательно - подъезды обоих корпусов убирались регулярно и за недорогую плату. Одним словом, в те годы здесь жилось, по сравнению с другими районами города, неплохо. Конечно, за последние десятилетия списки здешних жильцов претерпели кое-какие изменения. Кто-то скончался, кто-то родился, кто-то сошел со сцены, кое-кого "сошли", кто-то, предварительно обеднев, продал свою квартиру, а кое-кто, разъехавшись с бывшей супругой (или супругом) сменил привычные "хоромы" на жилище поскромней. Поскольку "красных князей" всегда полагалось немного "разбавлять" интеллигенцией и передовиками производства, здесь получили прописку и наши с Антоном родители, таким вот образом и очутились мы среди тех, которым было принято немного, но завидовать. У завистников, бывало, водились деньжата, а квартирный вопрос настоятельно требовал решения. Вскрыв тугую мошну такой завистник довольно легко мог найти потомственного, но живущего со своей семьей чуть-ли не впроголодь завшивевшего интеллигента, или же "красного князька" рангом помельче, и предложить тем весьма выгодные условия квартирного обмена. Как раз в пору нашего взросления, - а учились мы тогда, помнится, в классе эдак седьмом, - именно таким макаром в соседний дом вселилась одна весьма примечательная личность.
Примечательной было прежде всего ее внешность. Полное румяное лицо его украшали пышные бальзаковские усы, над ними с полным сознанием своего превосходства устроился крупный, мясистый нос, под высоким лбом расположились широко посаженные и чуть выпученные, словно от вечного удивления, глаза; густая шевелюра пока не выказывала признаков поседения или облысения, и только свисавшая над округлым животом жирная, почти женская грудь, наводила на грустные размышления о вреде малоподвижного образа жизни. Видимо, этот человек и сам сознавал всю пагубность гиподинамии, так как его частенько можно было видеть облаченным в адидасовский (что по тем временам считалось почти недоступной роскошью) спортивный костюм. И он не только красовался им перед соседями, о нет! Мне приходилось видеть его бегающим трусцой в ближайшем скверике; в нашем городе такое было как-то не принято, считалось не вполне солидным занятием, но он, как видно, не страшился таким образом подрывать в глазах соседей свой престиж. Этот человек заботился о своем здоровье и хотя грубые законы деловой жизни вынудили его привыкнуть к весьма обильным возлияниям, он, по мере сил и возможностей, пытался обеспечить себе спокойную и долгую старость. В описываемый отрезок времени ему уже исполнилось сорок полновесных лет, но он все еще был холост, хотя и не терял надежды обрести семейное счастье, так как время от времени среди соседей распространялись слухи об очередной отвергнутой им невесте. В такие дни жильцы делились на два лагеря. Представители первого, в нем преобладали пожилые матроны и не очень пожилые и весьма премиленькие женушки, судача между собой, обзывали невесту дурехой и глупышкой, не способной удержать завидного жениха и упускающей счастье, само плывущее в руки, а представители второго - преимущественно мужчины среднего возраста с высшим образованием, понимающе подмигивали друг другу при встречах, как бы громогласно провозглашая, что не в деньгах все-таки счастье. Но это не мешало тем же мужчинам обращаться к нему не по имени, или - даже более фамильярно - только по отчеству (в русской, как и сейчас принято в Грузии, транскрипции), а лишь по прозвищу. Хозяин - вот какая за ним закрепилась кличка, и, надо сказать, она так пришлась ему по душе и он с такой радостью откликался на нее, что довольно скоро все позабыли его настоящее имя. И даже дворовые пацаны, а к их числу тогда относились и я с Антоном, обращались к нему именно так. Позже, познакомившись с ним поближе, мы изобрели для него другую кличку - Весельчак, но употребляли ее только в наших приватных разговорах, на то у нас были свои причины.
Денег у Хозяина, по всему было заметно, куры не клевали. Перебравшись в мир иной преклонных лет его родители, оставили ему в наследство большущую, но древнюю квартиру в малопрестижном районе города, которую он и сменил потом на новую - в нашем доме. Единственная сестра его, как мы после узнали, выйдя замуж на жилплощадь никогда не претендовала, тем более, что Хозяин, по собственным его словам, всегда помогал ее семье как мог. А мог он многое. Был он в ту пору счастливым обладателем большой редкости - роскошного черного "Мерседеса", а также кирпичного двухэтажного дома в Цхнети, что создавало ему незапятнанную репутацию делового человека, которому законы нипочем. Хотя он жил один, но все видели, что его частенько (и полагаю, не вполне бескорыстно), навещали многочисленные родственники. Кроме того - это следовало из его же хвастливых рассказов - он нередко покидал пределы не только города и республики, но и страны, заслужив видимо чем-то доверие нашего ОВИР-а, закрывавшего глаза даже на факт его холостой жизни. И мне, и Антону, - в числе других соседей, - часами приходилось выслушивать завлекательные истории (надо признать, рассказчиком был он незаурядным), коими он ясными и теплыми вечерами после очередного зарубежного вояжа потчевал аудиторию во дворе. Хоть и был он, что называется, крепким хозяйственником, оформленным на соответствующую должность в системе Минлегпрома, но как-то так вышло, что никто из соседей ("красные князья" повыше рангом не в счет, они и во дворе-то практически никогда не появлялись) не мог толком объяснить, где же этот парень зашибает деньгу. То ли он на местном ткацком комбинате сырьем подторговывал, то ли "левые" его цеха станками оснащал, то ли производством спортивной обуви пробавлялся. А скорее и то, и другое, и третье, и даже четвертое вместе. Одним словом, по тем временам он считался дельцом высшей марки, из тех у кого все повсюду схвачено, посвятившим всю сознательную жизнь крупному подпольному бизнесу, хотя какому конкретно, уважаемым соседям с необходимой в таких делах достоверностью не было и не могло быть известно. Несмотря на общительность и словоохотливость, о своих делишках он предпочитал помалкивать, а могло и так случиться, что он многие виды бизнеса, и не только легпромовского, и не только в пределах республики, успел перепробовать и отовсюду свою законную долю изымал, кто его разберет. Человек он был добродушный и по-своему неплохой. За свои деньги он, наняв каких-то шабашников, оборудовал по соседству с домом спортплощадку, - пригнал технику и за неделю все было готово. Стоит ли доказывать, что за столь царский подарок обитатели наших корпусов остались очень ему благодарны. Место для игр было выбрано им весьма удачно, не под носом у жильцов, а в сторонке - так, чтобы и детям можно было вдоволь по мячу стучать, и тишина в округе не очень нарушалась. Да и взрослые иногда, добровольно возвращаясь в свою молодость, вступали в ожесточенные волейбольные сражения. В такие деньки премиленькие женушки обычно болели за своих благоверных, мужья старались изо всех сил, а бизнесмен-меценат судил финальные матчи.
Так уж вышло, что Антон и я особенно приглянулись этому дельцу. Неизвестно, что послужило тому причиной: то ли одиночество, то ли желание прослыть покровителем не только местных любителей спорта, но и неоперившихся приверженцев естественных и гуманитарных наук, то ли ему просто доставляло удовольствие общение с молодыми людьми слабо знавшими жизнь. Но так или иначе, но он проникся к ним нескрываемой симпатией, и именно она, эта симпатия, определила в дальнейшем сущность отношений между молодостью, в нашем лице, и опытом, в лице нашего деловитого соседа.
X X X
Это предложение подействовало на меня подобно... ну, например, подобно виду колодца на измученные жаждой и изнуренные долгим переходом передовые части наступающей жаркой летней порой армии. И знают-то солдаты, что оставивший эти места неприятель мог побросать в колодцы трупы собак и кошек, ибо на войне - как на войне, но многим ли удасться побороть искушение и отказаться от прозрачной, холодной как слюда воды. Не им же, привыкшим подставлять грудь под свинец, бояться столь призрачного риска! Одним словом, над этим предложением я задумался весьма основательно. Как видно, в душе я и ранее допускал для себя возможность такого поворота дел, раз уж не ответил искусителю немедленным и твердым отказом. Подумать только, мне предложили перечеркнуть всю предшествующую жизнь, все мои действительные или мнимые достижения, при этом лишний раз подчеркивая их ничтожную рыночную стоимость, и начать все заново, с нулевой отметки. И одно то, что я не отреагировал однозначным и немедленным "нет", выговорив себе сутки на размышление, означало в этих условиях немало.
Сутки выдались какими-то сумбурными, занятыми, меня все время дергали, отвлекали, не удивительно, что я истерзался сомнениями и мне никак не удавалось принять определенного, устойчивого решения. Ночью, когда мать уснула, я, погасив в своей комнате свет, устроился в любимое кресло и долго сидел так, без движения, в темноте и ступоре. И когда я, в конце концов, решил таки переместиться в постель и залезть под покрывало, то это было, скорее, данью привычке - ибо сон пока не имел права ко мне снизойти. Допустим я приму это предложение и начну новую, новую в буквальном смысле, жизнь. Сколько "за", сколько "против"... поди-ка подсчитай. И как все объяснить близким людям, прежде всего матушке и своим друзьям? Не отшатнутся ли они от меня? Не обвинят ли в открытом дезертирстве с научного фронта, в измене собственной, как там ее в ленинизме, "прослойке", в продажности ради... Ради, конечно-же личного благополучия, чего же еще?... Ну, с этой проблемой еще можно как-то справиться, в конце концов я не могу допустить, чтобы принципиальные вопросы касательно моего будущего, решались за меня другими, пусть самыми ближайшими людьми. Но главное не это. Вопрос следует ставить в иной плокости, а именно: что я теряю и что приобретаю в случае принятия мною этого предложения?
Теряю... Теряю какие-никакие, а плоды моего предыдущего труда, оставляя на память лишь тлеющий венец из пожухлых листьев - диплом кандидата наук (впрочем, бумажка эта, весьма возможно, мне еще пригодится); теряю, вероятно, благорасположение некоторых мягких и интеллигентных людей; теряю всякую надежду когда-нибудь стать настоящим ученым. А что же приобретаю? Прежде всего возможность отличиться, двинуться вверх по лестнице, когда-нибудь зацепиться за верхушку. Может это мой единственный реальный шанс заставить мир заговорить о себе. А я, болван эдакий, не могу жить без сознания реальности этого шанса, я слишком тщеславен - ведь честолюбие как наркотик, - и никто и ничто уже не способно изменить меня. Наука... Наука - блестящее поле деятельности, кто спорит! Но, говоря откровенно, в науке мне трудно будет добиться чего-то действительно значительного. Слишком много времени потеряно, вот уже второй год я фактически бездельничаю, даже не знаю, чем занят с девяти тридцати до пяти тридцати, то ли отбываю повинность, то ли выполняю ритуал, это уж как кому приятнее представлять. Но дело не только в потерянном времени, его можно наверстать, до старости пока далеко. Нет, не в этом. Гораздо хуже, что я почти перестал верить в свое предназначение, свой талант, а без таланта в науке... Это то же, что без денег в ресторане. Дела идут скверно. И не надо обманывать себя. А разве я не лгу себе утверждая будто цена предстоящей перемене - вся прежняя моя жизнь? Будто она, жизнь моя, состояла из одних только лекции, экзаменов, приборов, реактивов и микросхем. Будто и взаправду неприкосновенна подобно священной корове лабораторная тишина ускользающих вечерних часов, когда в попытках наладить неподдающийся эксперимент я оставался один на один с треклятущим спектрофотометром. Будто мимолетное, скользнувшее волной по зеркальной глади и едва заметное прикосновение к основам мироздания, в силах заглушить лязг и грохот окружающих будней. Будто и в самом деле маги и волшебники, которых я успел полюбить за знания и порядочность, счастливее всех иных смертных на свете. Да, они могут то, чего не могут другие. Но разве они всесильны? Кроме того обычные смертные - тому есть масса подтверждений - порой готовы откинуть такой фортель, что иному магу и не приснится. А коли ты - простой смертный - все же намерен прожить богом данную тебе жизнь единственным и неповторимым способом, то можешь ли позволить себе грех подражания любому, пусть самому великому магу и волшебнику? И разве победа одержанная над силами природы при помощи циркуля, линейки и компьютера, ценнее победы над собственной хандрой? И разве душевное ненастье подвластно всем антибиотикам мира вместе взятым? А споры, самые важные в жизни споры, споры с Антоном, с Хозяином, с самим собой - разве мне удалось одержать в них полную и окончательную победу? А клокотавшие магмой страсти; пылкие сердечные чувства, разлагавшие мою единую и суверенную личность на мозаичную россыпь потаенных и трудновыполнимых надежд - разве я уже списал их с лицевого счета? И если даже содрав с себя струпья изрядно поистрепанной, полумертвой кожи, я найду в себе силы предстать перед миром в истинном своем обличье, то разве новые споры и страсти не растравят вновь мою столь охладевшую к переменам, но не замороженную пока еще душу, и не в этом ли залог успешного познания себя? И разве вправе я забыть, как именно жажда победы в страстном споре толкнула меня когда-то на преступление - не я ли это выскреб из сейфа у ничего не подозревавшего Хозяина весомую часть его личных сбережений, заставив того призадуматься о бренности всего земного, и разве не украсил бы мой поступок послужной список любого настоящего мужчины? Разве пять последних лет, лет посвященных единственно защите диссертации и устройству на более или менее приличную работу, в такой степени обтесали шероховатости моей душевной оболочки, что я и в самом деле вообразил, что тогда ничего серьезного не произошло, что мне удалось вычеркнуть из памяти и кривую улыбку дорогого моего друга Антоши, и костер, в пламени которого обращаясь в ничто синим огнем горели сто десять тысяч неправедно добытых рублей? А сегодня, по прошествии стольких лет, тебе предлагают вернуться на стезю твоей взбалмошной юности, прозрачно намекая на то, что путь познания научных истин - не твой путь, ибо ты слишком слаб для его преодоления. Тебе предлагают, пока не поздно, принять мужественное решение: сменить линию жизни по собственной воле. Разумеется, такое решение простым быть не может, оттого и не спится мне в этот поздний час. Тем больше мужества от меня сейчас потребуется для воскрешения истинного своего призвания, растаявшего за эти годы как дым в прекрасном далёке. И, возможно, новая линия жизни, сплетающаяся узелками политических уловок и хитростей, окажется для меня более приемлемой, чем нынешняя, прямота которой безжалостно испаряется под палящими лучами научного бессилия. Да, это нелегко - начинать все сначала. Еще труднее - наплевать на мнения окружающих тебя людей. Тяжело - менять относительную свободу растительного существования на оковы притворного благочестия, но... Но игра стоит свеч! Я не наивен, упаси боже! Я способен предвидеть, что на новом пути мне суждено войти в неизбежное соприкосновение с жестокостью и ложью, несчетное количество раз пожимать руки людям похлеще старого доброго Хозяина, вступать с ними в разнообразные коалиции, сговоры и союзы, оправдывая обязательные компромиссы высшими государственными интересами, но разве не к этому ли я в глубине души стремился? Разве не следует мне проверить на деле: обладаю ли я хваткой настоящего политика, то есть человека, верно соизмеряющего цель со средствами? Разве здравый смысл не моя стихия? И разве не стихийный политик конфисковывал у Хозяина незаконно нажитое богатство? Так почему же не попытать счастья в политике организованной и систематической? Неужели с тех пор я потерял остроту зрения и твердость удара? Ерунда, годы посвященные активной науке только закалили меня. Я ведь вырос с тех пор, здорово прибавил в весе, отчего же не сменить отмычку политика стихийного на перо, бумагу и ловкость ума политика профессионального? Я не прощу себе, если упущу эту возможность, другая может не представиться за всю оставшуюся жизнь. Что же до того, что предаю науку... Да полно, предаю ли? Все предопределено. Наука ничего не потеряет, это я рискую потерять себя. Но и найти тоже. И если мне суждено оставить науку ради совершенно пока неоформленных целей - то так тому и быть. Не стоит обольщаться - многие мои знакомые сочтут меня если не изменником в прямом смысле этого понятия, то уж карьеристом наверняка. Ну и что? Что они знают о моем прошлом, да и, если уж на то пошло, о науке, которая всегда требует жертв? Оставаться в ней середнячком? Нет уж, дудки. И вообще, на всех не угодишь. Я взрослый человек и сам несу ответственность за свои решения. И риск сломать себе шею я, наверное, предпочту той жизни, в которой ничего не происходит и не может произойти...
X X X
Итак, поле битвы осталось за политикой. На следующий день он подал в дирекцию института заявление об уходе.
Спасательный круг был брошен ему полузабытым, еще с университетской скамьи, приятелем и собутыльником по пивнушкам, уже упомянутым обладателем неординарного имени - Элефтерос. Сей скромной и приятной внешности молодой человек, еще со студенческих лет без лишних сантиментов предпочел научной работе комсомольскую карьеру, ограничившись получением диплома, и, пока будущий замминистра ковал в Москве кандидатскую диссертацию, продвигался совсем по иной стезе. Он преуспел настолько, что ко времени возвращения будущего замминистра в родной город успел дослужиться до консультанта ЦК партии по идеологии - так формально определялась его должность, имевшая к его истинной деятельности, как это ни странно, лишь косвенное отношение - впрочем, об этом будущий замминистра и член Политбюро узнает лишь годы спустя, получив допуск к специальным служебным архивам. Важным же оказалось то, что в первые годы после возвращения в Тбилиси, годы постыдного метания между унынием и отчаянием, на достаточно высоком уровне было принято решение о создании республиканского Центра по Изучению Социодинамики Общественного Мнения - инициатива по тем временам революционная, - и высокое начальство возложило на старого его полуприятеля почетную миссию по подбору кадров в новое учреждение. Ранее полученная кандидатом на должность специальность не имела в данном случае особого значения, да и желающих идти на столь неопределенную работу поначалу было немного - поэтому консультант ЦК, хорошенько порывшись в памяти, вспомнил о молодом кандидате наук без диплома социолога, но с ярко выраженными социалистическими взглядами, с которым его когда-то связывали короткие отношения, и решил испытать на нем свою профессиональную способность искушать умы. Позвонив будущему замминистра домой и условившись с ним о встрече, он посоветовал тому рассудить о своем положении в институте здраво, исходя из существующей реальности, послать науку к черту и отнестись к его предложению перейти на работу в создаваемый Центр всерьез. Между ними состоялся примерно такой диалог: "Один физик сможет у нас сделать больше, чем три социолога - они же у нас пока почти сплошь неграмотные". "Но ведь дело для меня абсолютно новое, справлюсь ли?" "Настоящей социологии у нас все равно нет, а вот логическое мышление просто необходимо. Шефу я тебя отрекомендую самым лестным образом, но должен завтра же иметь на руках твое заявление, послезавтра может быть слишком поздно - наши дремучие псевдосоциологи очнутся и нам несдобровать". "Но я же беспартийный". "Неважно. Я постараюсь, чтобы в партию тебя приняли вне очереди, а для начала сойдет и так". "А зарплата?". "Чуть побольше, чем у тебя сегодня. Но это не предел и не главное. Ты поймешь, когда я введу тебя в "кулуар дю пувуар" - коридоры власти. Потом благодарить будешь"...
На следующий день будущий замминистра сжег мосты оставив в институтской канцелярии заявление об уходе...
...Да, это был хороший человек..Был. Как жаль, что я так и не успел воздать ему добром за добро. В расцвете сил стать жертвой злокачественной опухоли в мозгу, какая нелепая смерть! Лишь недавно, уже в ранге члена Политбюро, получив доступ к архивным делам поры моей политической юности, я получил полное представление о характере деятельности этого человека. Будучи формально штатным консультантом республиканского ЦК, на деле он параллельно занимал совершенно засекреченную должность сотрудника совершенно засекреченного отдела тайной полиции - так называемого Отдела Слежки За Самим Собой (ОССС), о существовании которого мне стало известно совершенно случайно и, повторяю, совсем незадолго до моих политических, а затем и физических похорон, в начале третьего десятилетия наступившего столетия. И сегодня основная масса наших сограждан не владеет ни малейшей информацией о том, что данное подразделение когда-то выполняло чуть-ли не ключевую роль в обеспечении безопасности нашей Великой Социалистической Державы. Оно было создано по личному указанию Сталина в начале пятидесятых годов. Вождь, получив, очевидно, от своих врачей - которых, как известно, недолюбливал, считая агентами сионизма, - правдивую информацию относительно состояния собственного душевного здоровья (усилившийся с возрастом параноидальный синдром), нашел в себе мужество принять опережающие меры, вверив проверку лояльности высшего должностного лица государства особому сверхсекретному отделу, а именно пресловутому ОССС, щупальца которого вскоре раскинулись по всем союзным республикам - соответствующие республиканские подотделы поначалу вели неусыпную слежку исключительно за Первыми Секретарями республиканских компартии.. В дальнейшем, однако, Первыми Секретарями дело не ограничилось... Cистема ОССС, продолжав исправно функционировать и после кончины Сталина, наводила невнятный ужас на Хрущева и Брежнева, и, сыграв основную роль в неизбежном устранении авантюриста Горбачева в конце 80-ых и спасении Советского Союза, была расформирована в связи с изменением общей обстановки в стране и мире лишь относительно недавно, всего за несколько месяцев до моего изгнания из Политбюро. А мой приятель и студенческий собутыльник по тбилисским хинкальным Элефтерос, как позже выяснилось, был ответственным сотрудником именно этой системы...
...Он всегда будет хранить о том своем сокурснике самые теплые воспоминания. Замминистра зевает и сладко потягивается в постели. Хорошее настроение постепенно возвращается к нему. О четвертом управлении, о больничной палате, наконец о когда-то случайно попавшихся на глаза строчках из чужого учебника "Больной Д., сорока двух лет, поступил в стационар с симптомами...", понемногу забывалось. Мысли стали более земными и здоровыми. Ни разу не приходилось ему пока жалеть о принятом тогда решении, он и в самом деле нашел себя.
Радиола верещит.
"Наши корреспонденты передают из-за рубежа...".
Воображение рисует серьезных и солидных людей в серых костюмах, с кейсами в руках и портативными диктофонами в петлицах. Вот один из них, с хорошо уложенным пробором и со складным зонтиком под мышкой, садится в такси где-нибудь на Стрэнде, а другой профессиональной скороговоркой задает точно выверенные вопросы всемирно известному и весьма импозантному скульптору-монументалисту в мексиканском сомбреро на голове...
...Поначалу приходилось нелегко. Но ему с самого начала удалось, что называется, "поставить себя". Став сотрудником Центра он стремился не только оправдать доверие своего рекомендатора, - хотя и это, конечно, присутствовало, - но и как можно быстрее овладеть тонкостями своего нового ремесла. Он очень хотел хорошо работать, утвердиться в непривычном окружении, доказать себе и другим, что "выходцу" из точных наук социологические изыски нипочем. В широкой эрудиции и умении рационально, логически мыслить ему невозможно было отказать - накопленные им ранее знания и опыт послужили неплохим подспорьем. Впервые в жизни став, благодаря усилиям своего приятеля, небольшим, но начальником, он решил обращаться со своим новым статусом так же осторожно, как хирург со скальпелем. Сгусток воли и энергии, он по мере сил и возможностей старался довести до конца каждое начатое дело, строго контролируя деятельность своих, таких же молодых как и он сам, подчиненных. Не обладая - в чем он сам себе, бывало, признавался - по настоящему независимым характером, он, тем не менее, довольно скоро овладел византийским искусством "конструктивно фрондировать", т.е. публично высказывать неочевидное и немножко "крамольное" мнение тоном человека, искренне заинтересованного в улучшении существующего - разумеется, всегда несовершенного - положения. Медленно - но верно - в иных цековских кабинетах о нем составлялось мнение, как о личности при необходимости способной в интересах дела отстаивать отличные от взглядов непосредственного начальства взгляды.
Центр, кроме всего прочего, занимался сбором и обработкой самых разнообразных сведений, имевших прямое или косвенное отношение к мотивации социального поведения студенческой - в первую очередь - молодежи. На его долю руководителя молодежного сектора доставалось регулярное составление окончательного "экстракта", который затем за его подписью направлялся директором Центра в высшую инстанцию под грифом "секретно". Некоторая нестандартность; умеренная, если так можно выразиться, смелость; грамотная, но не переходящая в дурной тон острота четких формулировок; резковатые, критичные, но всегда лояльные рекомендации, видимое усердие в сочетании с очевидной наблюдательностью, - все это привело к тому, что подготовленные в его секторе доклады стали обращать на себя внимание власть имущих. Всего за неполный год деятельности за ним утвердилась репутация дельного, компетентного и перспективного молодого руководителя новой формации. Он явно метил, как говорится, на повышение.
"...Империалистическая агрессия в Западной Африке должна быть немедленно прекращена, а войска агрессора выведены из...".
И оно, это повышение, не заставило себя ждать. В один поистине прекрасный день его вызвал к себе директор Центра и торжественно, выйдя из-за стола, объявил ему о принятом решении. Ему только и оставалось, что поблагодарить директора за оказанное высокое доверие. Возможно, директор был лишь передаточной инстанцией, но в приватной беседе приятель-консультант решительно отклонил его подозрения. Ну да ладно, неважно было кто, важно - что. И в назначенное время предвыборное собрание коллектива сотрудников Центра выдвинуло его кандидатуру на очередные выборы в Городской Совет Депутатов Трудящихся. В партию же его приняли практически минуя кандидатский стаж - Элефтерос и тут не подвел.
...Неужели он все-же уснул? Что это за пауки и паучки лезут к нему из-под кровати? Да нет, из-под земли - пауки с человеческим лицом. О боже, что за монструозный кошмар ему снится, а он так рассчитывал на отдых...
X X X
Наконец подошла моя очередь и мне наконец удалось втиснуться на заднее сиденье потрепанного маршрутного такси. Две дородные пассажирки тесно прижали меня к дверце, машина задребезжав тронулась с места, и я покрепче прижал локтем к колену разбухший черный портфель. Время от времени мои губы неудержимо расплывались в глупой улыбке. Я слишком живо представил себе изумление, которое, вне сомнения, овладело бы моими невольными попутчицами, раскройся вдруг перед ними тайна безобидного с виду портфеля.
Машина быстро проехала Багеби, оставив автобусную стоянку далеко внизу, и помчалась дальше и выше - в Цхнети моего детства. Ярко белевший вдали высотный корпус университета напомнил мне об ушедших в небытие приемных экзаменах. Подумать только, всего три года прошло, а кажется - целая вечность. Помню лето, дикую жару, толпу родителей на солнцепеке и потные от волнения ладони. Помню холеру, которая тем летом не обошла вниманием и наш город. Был объявлен карантин, из города без предварительного обследования никого не выпускали, гостиницы были переполнены отъежающими, но я оставался оптимистом. До того оптимистом, что в тенистом саду Цхнетской дачи продолжал есть немытые фрукты и ягоды прямо с кустов и деревьев, и ничего, - это сходило мне с рук.
Мне подумалось, что попутчицы удивились бы куда больше, разведай они, как собираюсь я поступить с содержимым моего портфеля. Что ж, в этом жестоком мире, оказывается, нельзя полагаться даже на ближайших людей. Потратит свою долю на благородные цели, ишь-ты, какой благородный! А вот мне не пристало бросать красивые слова на ветер. Не для того я рисковал той ночью, не для того взялся за это неприглядное дело, чтобы жиреть как эти недоноски! Нет, лучше уж одним махом смыть с себя всю эту грязь.
Летний сезон в Цхнети, этой резиденции имущих и правящих тбилисцев, еще не начинался. Сейчас здесь было тихо, прохладно и малолюдно. Тем лучше. То, чего не может или не хочет сделать Антон, обязан сделать я, - в противном случае чистая изначально идея окажется безнадежно испачканной. Я не смею использовать даже копейку из этих денег, не могу, не имею права "оставить их в живых". Я не зря помянул в том разговоре имя давно почившего императора Веспасиана. Я пройду свой путь до конца, даже если никто и никогда не узнает об этом.
Машина уже поднялась довольно высоко по петлявшему вверх шоссе-серпантину. Горная прохлада проникла в салон автомобиля, запахло зеленью и лесом. Попутчицы, найдя общий язык, тараторили как трещотки, а я, то и дело высовывая лицо в открытое окно, любовался проскальзывавшей мимо природой. Ветер путал мне волосы, на душе было легко и свободно. Я чувствовал себя благородным и сильным. Родной любимый город простирался подо мной: его дома, улицы, скверы, люди, страсти - все лежало у моих ног. И чем выше и выше, карабкаясь вверх по шоссе мимо пожухлой придорожной травки, поднималась машина, тем мельче и мельче становился город. Дома величиной в спичечную коробку, миниатюрные автомобильчики муравьями бегающие по улочкам, а людей и вовсе не разглядишь иначе как в подзорную трубу. Законы перспективы как законы жизни, людям так безразлично то, что вдали от них, подумалось мне. Что ж, все это позади, а впереди меня ожидает заранее припрятанная в укромном местечке канистра с бензином. Потому-то и решил я забраться сюда, в Цхнетскую глушь, что в городе с его гамом, взаимным подсматриванием и непредсказуемыми случайностями, нелегко было подыскать уголок подходящий для сожжения столь большого количества хрустящих банкнот. Зато в Цхнети мне все было знакомо, и я знал места, где можно устроить небольшой костер оставаясь незамеченным. Кроме всего прочего, ко мне возвращалось утраченное душевное спокойствие; ведь через некоторое время вещественное доказательство совершенного мною в полном здравии и рассудке уголовного преступления перестанет существовать.
О, я хорошо знал, что Большинство безоговорочно осудило бы меня. Большинство признало бы меня либо дураком, либо сумасшедшим, либо преступником, либо тем, другим и третьим одновременно. И мнение Большинства оказалось бы решающим. То, что я похитил большую сумму денег, походя наказав мошенника за мошенничество, многие сумели бы и понять и простить; нашлись бы и такие, кто искренне позавидовали бы мне - еще бы, отхватить такой кусок безнаказанно! - но сожжение их мне бы никто не простил. Со мной перестали бы здороваться, и, возможно, посадили бы в сумасшедший дом или тюрьму. Я стал бы изгоем, прокаженным. Большинство умеет изолировывать, опутывать, наказывать. Но какое отношение имеет Истина к Большинству? А для меня Истина, как я ее в то время понимал, значила больше, чем общественная репутация.
Перед моими глазами маячила широкая спина неразговорчивого водителя, и мне вдруг показалось, что машиной управляет не пожилой человек в замызганной кепчонке и потертой кожаной тужурке, а всесильный император Веспасиан.
X X X
Тем давним февральским днем, когда Антон и я, чертыхаясь и перепрыгивая через снежные лужи, в очередной раз возвращались из университета домой, посреди тянущегося вдоль жилых корпусов двора нас настиг трубный глас, доносившийся откуда-то с верхних этажей. Мы, разумеется, задрали головы вверх. Сам Хозяин, с которым, надо сказать, нас уже связывало шапочное знакомство, высунувшись из окна почти по пояс, отчаянно махал нам рукой и орал: "Ребята, ай-да ко мне! Шкафчик перетащить надо, подсобите-ка соседу, не сочтите за лишний труд". Переглянувшись мы вразвалочку, нехотя, свернули к его подъезду. Радости было, откровенно говоря, маловато, но спешить нам было некуда, да и просьба была пустяковой и исходила, что ни говори, от человека чуть-ли не годившегося нам в отцы.
Лифт мягко поднял нас на четвертый этаж, мы выбрались на широкую лестничную площадку, и только успел нажать я на искусно ввинченную в дубовую дверь пуговку звонка, как под его соловьиную трель перед нами отворились врата небольшого земного рая. О да, и раньше доводилось нам изредка гостить у разбогатевших удальцов, обуянных непомерной гордыней меблироваться под Генрихов и Людовиков, а после отпускать прозрачные шуточки на вечную тему "зарплата и расходы", но сумбурная роскошь открывшаяся ныне нашему взору превзошла все ожидания. Ибо роскошь - роскошью, но некая вычурность, безусловно, сразу бросалась в глаза. Заметно было, что квартира, порог которой мы только что переступили, принадлежит презревшему все каноны умеренности одинокому холостяку, в отчаянии взбившему дрожащей от неумеренных возлияний рукой ядовитую смесь из всяких там ампиров, жакобов и барроко (за этот список я, впрочем, не ручаюсь). Роскошь начиналась с прихожей, продолжалась в гостиной, достигала апогея в смежной с ней широченной зале, ну а что скрывалось в спальной комнате, - уж не знаю, право. Достаточно было и того, что мы увидели. Мы очутились в окружении как антикварных, так и ультраимпортных столиков, кресел и шкафчиков; на стульях, на подоконниках, на рояле, на кривом, стилизованном под турецкий ятаган низеньком табурете и даже на паркете, одним словом, всюду, валялись (именно валялись) разбросанные одной и той же дрожащей и небрежной рукой предметы как и обихода, так и далеко не первой необходимости: парочка помятых костюмов, несколько пар дорогой обуви, кожаная куртка, многочисленные солнечные очки и всевозможных фасонов шляпы - от ушанок и кепок и до громадного мексиканского сомбреро; широкоэкранный телевизор марки "Сони" и несколько транзисторов явно западного происхождения придавали квартире несколько фантасмагорический оттенок. В холле куда мы были Хозяином любезно препровождены, к одному углу приткнулась музыкальная стереоустановка фирмы "Филлипс", а к другому - диковинная заморская штучка под названием видеомагнитофон, которую мы видели впервые в жизни. Но это было далеко не все. С потолков свисали выполненные в хрустале и бронзе люстры, пол был устлан мягкими цветными коврами о национальном происхождении коих я, в силу моей недостаточной осведомленности, мог только гадать; на стенах в обрамлении позолоченных рам висели подлинники - а может и подделки, кто его знает - известных и неизвестных мне знаменитых художников: на из полотнах лесные пейзажи соседствовали с городскими видами, а наивные кормящие мадонны - с удалыми горцами в живописных шапочках. Впечатление было такое, будто посетители - в нашем лице - попали в музей, где не чураются подторговывать и дефицитными промтоварами исключительно импортного производства.
Не обращая особого внимания на разинутые рты своих юных гостей и сочтя, видимо, что нескольких минут вполне достаточно для того, чтобы освоиться с необычной обстановкой, Хозяин несколько фамильярно полуобнял нас за плечи и легонько подтолкнул к высокому и массивному секретеру с белым мраморным верхом. Сразу же выяснилось, что по хозяйской воле нам предстояло не мешкая передвинуть его из залы на заранее определенное место в гостиной. Нам действительно довольно скоро удалось приподнять тяжелый секретер и подтащить его к месту назначения, причем Хозяин, делая вид будто помогает нам, придерживал ношу снизу пальцами правой руки, да извиняющейся скороговоркой приговаривал, что, мол, хотя ему и совершенно безразлично куда этот комод поставить, но, дескать, присосалась к нему пиявкой одна знакомая, переставь да переставь, не смотрится, мол, шкафчик у этой стены. "Эх, ребята, почем вам знать, что такое женская блажь, - со смаком заявил наш капиталист. - Поживете с мое, поймете, что с бабой надо обращаться как с ребенком, ни больше и ни меньше". И дернуло же тогда раскрасневшегося от натуги Антона забыть о правилах вежливости и сболтнуть, что не очень-то, видать, большой специалист хозяюшка наш в области дамских капризов, ибо слухов всяких о его шалавах ходит столько, скоько на шахский гарем хватило бы, но что толку, коли шалав этих никто в наших дворах и в глаза не видел. И уж не побаивается ли Хозяин, что красных девиц у него отобьют молодцы помоложе? Антон, конечно же, хватил лишку. Шуточка у него получилась пошлая, притом нагловатая, и мне сразу стало ясно, что моего дружка просто распирает от раздражения. Я понимал, несладко таскать мебель явному паразиту и подпольному воротиле, который в довершении ко всему еще и не стыдится расписывать свои несуществующие успехи на дамском фронте, но зачем же так грубо?
Столь неожиданная атака безусого юнца застигла Хозяина, что называется, врасплох. Вместо того, чтобы решительно осадить наглеца, воротила принялся жалко юлить, утверждая, что женщин водит он к себе незаметно, дабы не замарать их доброе имя, благо среди них попадаются не только свободные дамы, но и невесты, а то и законные жены уважаемых в обществе мужей. Коль скоро совместными стараниями секретер успел занять облюбованное неизвестной подружкой Хозяина место в гостиной, и, тем самым, деловая повестка нашего визита оказалась исчерпаной, нам пора было смываться. Но выяснилось, что уязвленный Хозяин вовсе не собирается нас отпускать. Наоборот, вознамерившись продолжить беседу на интересующие его темы в более душевной обстановке, он как бы ненароком пригласил нас на кухню и почти силой заставил занять места за небольшим и относительно опрятным столиком. "У меня, ребята, нынче только холодные закуски, так что не обессудьте, - заявил он. - Вы славно поработали и я не хочу оставаться у вас в долгу". Человек слаб. Вначале мы не очень искренне отнекивались, но в конце концов дали себя уговорить, не желая, в частности, показаться слишком уж невежливыми.
Мигом исчезли со стола какие-то непонятные бумажки - по-моему, наряду с газетами среди них были и просроченные лотерейные билетики - и Хозяин предстал перед нами во всей широте своей небезгрешной души. На старенькую клеенку он выставил яства, лакомится коими нам приходилось лишь изредка. Баночка черной икры и баночка красной - ешь не хочу, толсто нарезанная вареная осетрина, крабы, сочнейшие маслины, нежирная ветчина, здоровый кусман алванской гуды - острого овечьего сыра, пакетики иноземной горчицы, о хлебе и масле и упоминать не стоит. Рядом со столом, на полу, стоял ящик с чешским пивом. Венчала эту гастрономическую стратегию пузатая бутыль французского коньяка, окруженная серебрянными рюмочками и высокими, слепленными "под глину" пивными кружками. Мы и в самом деле были потрясены, не верилось, что все это - ради нас.
Завершив нехитрую сервировку Хозяин вскрыл пару бутылок "Пльзеньского", свинтил пробочку с коньячной бутыли, наполнил ароматным напитком рюмки и, приподняв свою, торжественно произнес тост за встречу и здоровье присутствующих. За это мы выпили залпом и, естественно, поморщились. Пить "Наполеон" таким образом, конечно, дикость, но в такую слякоть и холод как-то не очень хотелось восторгаться букетом и, кроме того, тост - это тост. Но не успели мы закусить, как Хозяин без малейшей передышки наполнил рюмки заново и неожиданно провозгласил новый и, как он заявил, внеочередной, тост за будущую свою супругу. Как видно, нанесенный ему Антоном в пылу раздражения молодецкий укол не прошел бесследно и мужская честь Хозяина требовала удовлетворения. Но наши молодые желудки требовали ее не меньше хозяйской чести, и речь свою он вынужден был толкать под весьма энергичные движения наших рук и челюстей, да и мало кто на нашем месте совладал бы с искушением набить чрево поскорее да поплотнее, хотя слушали мы его, следует признать, с неослабным вниманием. Раззадоренный коньячным нектаром Хозяин поведал нам, что хотя жизнь и вынудила его разочароваться во многих женщинах, но, тем не менее, он не потерял еще надежды подыскать себе подходящую благоверную, притом такую, которая последует за ним не ради денег или бриллиантовых безделиц, а исключительно по любви. Он не спешит, так как в жизни всякое может случиться и ему не хотелось бы оставлять необеспеченными тылы. Правда, он также не лишен некоторых недостатков, например, выпимши иногда буянит, ибо какой истинный мужчина безгрешен, но полюбившую его женщину, он, конечно, озолотит, хотя и неверности прощать никому не намерен. Да разве он не мог жениться раньше! Мог, и не раз. Даже больше, разоткровенничался наш тамада, с некоторыми кандидатками в невесты - о чем те не могли догадываться, - он в постели такие номера и фортели выделывал, что о женитьбе потом, по его понятиям, и речи быть не могло, хотя те, исполняя все его желания и сумасбродства, может статься и лелеяли какие-то надежды, черт этих сучек разберет! Но и с такими он не скупился. Каждая хоть что-то, да от него приятное помнит. Кому - браслет, кому - кулон, кому - камушек на добрую память, без этого и мечтать нечего о том, чтобы завладеть уважающей себя дамой, а не какой-нибудь пятирублевой девкой, - тут он сделал безуспешную попытку сплюнуть на пол. Что ж, разочарований у него было немало, но надежды он не теряет. Потому и предлагает тост за девушку своей мечты и желает своим юным друзьям таких же подруг жизни, как и себе - непорочных, домовитых и знающих свое место.
Разделавшись с этим тостом и отправив вслед за глотком коньяка в широкую пасть здоровенный кусок ветчины (мы послушно последовали его примеру), он немедленно вновь наполнил опустевшие рюмки, подбавил пива в кружки и, без особых предисловий, приступил к следующему тосту.
Выпьем за ваши грядущие великие успехи, золотые мои, говорил он распаляясь все больше и больше, именно за ваши, потому как за мои уже море вина испито, да и надежд моих родителей, царствие им небесное, я, если честно, не обманул. Знаю, что не обманул, так как завистников у меня по жизни, нутром чую, вдоволь, а это, дорогие мои, самый верный признак успеха. Ну да, кишка у них тонка, у сопляков этих. Я свое дело сделал, и сейчас мы, мое поколение, жирует у власти, но будущее, конечно же, за такими как вы. Очередь теперь за вами, лично вами, потому как вы молодцы, я же вижу, да и говорю о вас всегда только хорошее - соседи не дадут соврать. Котелки у вас варят здорово, язык подвешен что надо, руки-ноги на месте - я б и сам не постеснялся таких сыновей (тут я не смог сдержать кривой ухмылки, которая, кажется, не была замечена). Одно только вам скажу как на духу. Раз уж взялись за треклятущие ваши книжки, то так за них держитесь, чтоб искры из глаз и мозги пуще щек распухали. Обязательно в академики должны выйти, или, на худой конец, в профессора, иначе в жизни вам настанет каюк. А разленитесь, как многие и до вас разленились, - ничего у вас не получится и будете влачить жалкое существование с девяти до шести и от зарплаты до зарплаты. И смотрите у меня: одних только способностей ума для того, чтобы выбится в люди, то есть для продвижения вперед и наверх - а это одно и то же - совершенно недостаточно. Раз уж вы сделали ставку на знания, то этих знаний у вас должно быть больше, чем у других, иначе пропадете в жизни точно так, как многие и до вас пропадали. Вы с меня пример не берите, не надо, у меня другая ставка. Вот я, хоть и получил когда-то диплом - все честь честью, номер, печать, подпись, бумага гербовая, - но на самом деле человек неученый. Вы, конечно, спросите, друзья мои, зачем он мне понадобился? А для начала! В самом начале пути пригодился, и только, а сейчас-то он мне и не нужен совсем. Свою взятку я уже взял. За пояс любого ученого заткну и своей судьбой очень даже доволен. Все у меня есть, чего только душа пожелает. И денег у меня вдоволь, и недвижимости, и власти. Да, именно власти, потому что великая, вселенская власть мне не нужна, я не больно честолюбив, задницы пускай другие лижут. Мне с Китаем и Америкой соглашений заключать незачем, мои соглашения поскромнее будут, но хлеб с маслом и икрой они мне завсегда обеспечат (он подзакусил осетринкой и жестом призвал нас налечь на деликатесы, последнее, впрочем, было излишне). Вон там, в кабинете, сейф стоит, старый и верный дружок мой, много знает да молчать умеет, сейфуленька мой, крепость моя, эта, как ее, цитадель. К чему это я вам объясняю? Не то, чтобы вы с меня пример брали, для того особые таланты требуются, но глядите - не обманитесь, не будьте наивными дурачками, жизнь жестокая штука, катком припечатает - и не заметит. Я к вам хорошо отношусь, потому и говорю все это. Деньги - главное в жизни. Деньги - это спокойствие, достаток, здоровье, курорты, бабы, вкусная пища, удобный транспорт, обеспеченная и долгая старость, одним словом, деньги - это праздник жизни, а не бесцветное прозябание. Поэтому хорошенько учитесь в вашем университете и в академики пробивайтесь, иначе все время вам о копейке думать, и ради ее, медной, без продыха промышлять, между автобусом и такси выбирать и выбор на автобусе останавливать, и ни машины вам не видать классной, ни квартиры просторной, а у других будут, да еще и жена будет пилить и пропесочивать каждый божий день. Жены, они богатых любят, так-то! И в партию вступайте как можно скорее, у нас иначе нельзя. Не вступи я в нее вовремя, ничего бы у меня не вышло. Отец-то мой ничего путного в наследство мне кроме сметки деревенской да квартиры той не оставил. Время было такое, бедное, вот и подался он в город на заработки, да и женился там. Таких как мы тогда здесь великое множество было, мать, вечное ей спасибо и вечная память, меня и сестрицу мою с превеликим трудом на ноги поставила, старик-то в конце совсем плохой стал... В общем, навидался я в детстве голодухи, вспоминать тошно, но зато читать-писать научился, а в один прекрасный день хвать меня по башке - баста, чем я хуже других? Сметливость-то деревенская при мне была, куда городским до нас, я и сам быстро разобрался что к чему... Ну а с партией-то социальное происхождение как раз помогло. Вам, интеллигентикам, в нее вступить, кстати, потруднее будет. Одно зарубите себе на носу: думайте что хотите, как хотите и о чем хотите, дела свои потихоньку как вам надо, так и устраивайте, но на людях вы должны выглядеть первыми коммунистами. Деньги в жизни главное, но бывает иногда - по опыту знаю - что партбилет дороже денег. Сами понимайте, если анкета не в порядке, то рассчитывать не на что, к хорошей кормушке вас никто не подпустит, так уж устроено в нашей стране, черт бы ее побрал! Так здесь заведено, и никому и ничему не дано это изменить. Но вы молодняк, и с анкетами у вас наверняка пока чистенько. Таким как вы интеллигентикам дорога в партию вовсе не заказана, не так уж это и сложно. Главное, соблюдайте правила уличного движения, ищите подходы к нужным людям и по-дурацкому не спешите, вперед и поперек батьки не забегайте. Помните: что у вас в башке после семинаров по марксизму и истпарту осталось - никого не интересует; война во Вьетнаме или там переворот в Греции - не ваша забота. И без вас справятся, то этих топят в крови, то тех. Будете такие вещи близко к сердцу принимать, дела ваши - пиши пропало. Нужным людям это не понравится, потому как тогда вами, выходит, управлять трудно, вы и сами управлять хотите, и кому вы такие нужны? Чувство несправедливости, если эта самая несправедливость вас самих или ваших близких не коснется, самая вредная вещь на свете. А ежели желаете с нужными людьми общий язык сыскать, так извольте подхлопывать им на собраниях, да погромче, да так чтобы слышно было. Но не только. Пролазьте для начала на какой-нибудь ма-а-люсенький постик в комсомоле или там в профсоюзе, это любому из вас по плечу, парадов майских и ноябрьских не чурайтесь, строиотрядов тоже - пригодится это, и не скупитесь, не жадничайте, дарите, дарите что и сколько сможете тем, кто способен что-то дельное для вас сделать. Одаривайте их ценными подарками на дни рождения, на именины, на Новый Год и на Старый тоже. Предлагайте посмелее, не бойтесь - кто-нибудь да возьмет, клюнет. Приручите такого к себе, ну а потом просите, просите у него без страха, даже требуйте, такой поймет. Небольшая протекция и партбилет с хлебным местечком у вас в кармане. И без всякой очереди...
Когда часа через полтора мы, покачиваясь от выпитого, оставили Хозяина в задумчивом одиночестве и очутились наконец на свежем воздухе, я не выдержал и сказал:
- Значит, выходит, все мы круглые болваны, а этот хлыщ получает, да и всегда будет получать от жизни все, что ему заблагорассудится, так что ли? Он, значит, истинный Хозяин, а нам и сейчас на него ишачить, и всю жизнь на таких как он спину гнуть? И боятся ему нечего, так? Малого стоило бы как следует проучить!
- И проучим! - с хмельным восторгом согласился Антон.
- Я не шучу!
- Я тем более!
И мы крепко пожали друг другу руки.
X X X
Пригласившего ее в кино молодого человека Девочка знала давно и плохо. Одно из тех случайных, "тусовочных" знакомств, о которых никогда не знаешь, с чего они начались. Да и потом, встречаясь на улице, они вежливо улыбались друг другу, произносили пару необязательных фраз и расходились в разные стороны. Впрочем, как-то раз они пошли в одну сторону и молодой человек даже проводил ее до дому. В общем, она никак к нему не относилась, ни хорошо, ни плохо; он фигурировал среди ее знакомых "третьего эшелона" и она вспоминала об его существовании лишь в минуты их редких встреч. Краткие беседы между ними бывали, как всегда в подобных случаях, доброжелательными и поверхностными. Но то было в далеком родном городе, ну а здесь, в иноязычной морозной столице, она искренне обрадовалась негаданному звонку полузабытого соотечественника. Ведь телефонный провод и был той пуповиной, что связывала ее с отечеством, каждый такой телефонный разговор напоминал Девочке о том, что там, в теплых и дорогих сердцу краях о ней еще не позабыли. Соотечественник объяснил ей, что номер телефона узнал случайно, от их общей знакомой, и вот, решил позвонить, разузнать как она себя там, на чужбине, чувствует. Они немного покалякали о том о сем, а потом молодой человек неожиданно пригласил ее в кино. Он сказал, что столичная его командировка подошла к концу, а назавтра он улетает домой, в теплые края, и хотел бы вечерком отдохнуть культурно - можно сходить в кино, билеты он, на всякий случай, уже взял. Именно так он к ней и обратился: "Можно сходить в кино". Правду сказать, она соблазнилась фильмом. В московских кинотеатрах был аншлаг, картина была, судя по многочисленным письменным и устным отзывам, умопомрачительная, Федерико Феллини, киномир охал и ахал, восхищались стар и млад, масса новых впечатлений. Одним словом, фильм стоило посмотреть, да она и раньше с удовольствием на него пошла бы, но ее всегда отпугивала длинная очередь за билетами. Итак, она с радостью приняла его приглашение. Они договорились встретиться возле входа в кинотеатр за четверть часа до начала сеанса. Молодой человек пошел по своим делам, а через часок она, наскоро надушившись, надела дубленку и выскочила на мороз. Весь день было солнечно, но сумерки начали уже сгущаться над огромным городом, повалил снежок, морозец весело щипал щеки, в свежем зимнем воздухе веяло сладостным ожиданием, а спустя минуту-другую рядом замаячил зеленый огонек свободного такси. Она отчаянно замахала рукой и, устремившись к притормозившей у кромки тротуара желтой в шашечках "Волге", ступила таки сапожком в обманчиво примерзший к асфальту сугробик. Еле удержавшись на ногах, она подбежала таки к машине, открыла дверцу, устроилась на заднем сиденье поудобнее и, переведя дух, вежливо обратилась к водителю: "К кинотеатру "Мир", пожалуйста". Мотор надрывно заурчал и такси рванулось с места, увозя Девочку в будущее.
X X X
Я развеял иссушенной веткой золу, которая так еще недавно была сказочной грудой бумажных денег. Все было кончено. Страница была зачитана до дыр, до последней строки, и перечитывать ее заново уже не имело смысла. Оставалось лишь перевернуть ее, ибо целлюлозный эквивалент малюсенькой частички общечеловеческого труда прекратил свое бесславное существование.
На душе по прежнему было муторно. Ну вот и все, подумал я, почему же у меня такое неважное настроение, будто ничего и не произошло? Чего же я ожидал? Фанфар? Нет, я знал, что фанфар не будет. Знал, что вокруг ничего не изменится. Знал, что веду себя как террорист, а меня учили и учили правильно, что терроризм ни к чему доброму привести не может, в худшем случае он ведет к бесцельному кровопролитию, в лучшем - к ошибкам. Но к чему обманывать себя, при чем тут терроризм? Я сводил личные счеты и пропади пропадом вся политическая философия! Я просто не мог терпеть его циничное вяканье, его вечно улыбающуюся животную рожу, я не мог больше терпеть эту амебу с кошельком вместо мозга. Я просто хотел попортить нервы этому торгашу, пусть хоть раз прочувствует на собственной шкуре, что такое потеря. Я не в силах расстрелять его или хотя бы посадить в тюрьму, я не могу даже добиться его исключения из партии, для всего этого требуются хоть какие-то доказательства, а я знаю, знаю с его рассказов же, как эта скотина расправляется с доказательствами. Единственное, чего я добился бы легальной борьбой, так это репутации интригана, и это с молодых лет! По сути дела у меня не было выбора. Уже не было. Но даже сейчас я неудовлетворен. Вот если бы я мог теперь, сию минуту, бросить ему в лицо горсточку этого пепла и сказать: смотри, негодяй, во что я превратил наворованное тобой, и если бы вокруг стояли люди, много честных людей, и если бы они - при мне же - стали выносить из его квартиры все его добро, все эти картины, ковры, секретеры и импортные телевизоры, складывать их во дворе и выводить рядом на асфальте белой маслянной краской заветные слова: "осторожно, краденное", "смотрите все", "вор живет на четвертом этаже", и так далее, и тому подобное, вплоть даже до явных маразмов, вот тогда я был бы более счастлив. Но все равно я не был бы удовлетворен полностью, ибо таких как он слишком много, и у них есть покровители, которые куда хуже и куда опасней.
От пережитого напряжения и всех тех заплетающихся, бессвязных мыслей, что гнездились в моем мозгу, у меня пересохло во рту. Я ощутил себя букашкой, комариком, в унынии и бессильной злобе бьющемся о стекло опрокинутого на него стакана.
Живописный дачный поселок приоделся в вечерние покровы. Похолодало. Зябко передернув плечами я вскочил с заросшего мхом большущего камня и пнул тлеющий холмик ногой. Зола развеялась. Пора было возвращаться на шоссе и позаботиться о попутной машине. Я еще собирался успеть на именины моей подруги, веселье там было в самом разгаре. Жизнь продолжалась.
X X X
Там, наверху, ночь.
Его величество Сон незаметно просочился к горожанам сквозь надежно запертые на засовы двери, плотно закрытые ставни, оконные решетки, сквозь микроскопические трещинки в стенах. Повинуясь монаршей воле слипаются мало-помалу веки у злых и добрых, трусливых и смелых, уродов и красавцев, бунтарей и охранителей. Она, грозная воля эта, отменяет законы дня ушедшего и оплодотворяет потаенные надежды спящих цветными фантазиями рассвета. Всем пришла пора видеть сны: взрослым и детям, профессорам университетов и следователям по особо важным делам, бедным студентам и богатым завмагам. Сомкнула веки, должно быть, моя бедная супруга; уснула, надо полагать, дочь; сладко посапывает мой маленький внучек, ворочается в постели зять. И только мне суждено бодрствовать вечно.
В сей поздний час в моем подземном пристанище властвует тишина. День отошел, и вместе с бодрым гулом автобусных дизелей и птичьим пением автомобильных клаксонов улетучился и живой шум топающего над головой простого пешего люда, лишь изредка прошмыгнет запоздалая машина по великолепному творению дорожной техники, зеркально гладкому шоссе "Пастораль". Вначале слышится слабый комариный писк, он становится все тревожнее, а когда воздух и земля наконец вздрагивают от пронзительного визга над головой, я как наяву, как лет десять или тридцать тому назад, представляю себе Лицо. Усталое лицо утомленного буднями человека за баранкой. Обычного живого человека средних лет. Не вполне трезвого, излишне молодящегося - хотя предательская седая проседь на виске и выдает возраст, - мужчину в расцвете сил с не до конца еще исчерпанными запасами природного оптимизма. Да, я отчетливо вижу его лицо, умные глаза, высокий лоб, кажется, когда-то давным-давно мы даже были знакомы. Сегодня он задержался на даче у старого приятеля, в узком кругу отмечалась годовщина свадьбы Хозяина, и он поддался, будучи за рулем, опрокинул в себя парочку рюмашек. Всего парочку, это ведь совсем немного. И заметно повеселел. Алкоголь развязал ему язык и он наговорил много лестного соседке по застолью - симпатичной блондинке бальзаковского возраста, и она тоже мило и оживленно с ним болтала. Когда-то он ходил у нее в воздыхателях, давно забытые времена, и в глубине души был убежден, что и сейчас нравится ей. Еще чуть-чуть и он предложил бы ей вернутся в город вместе, на его машине и там, в пути, может и решился бы на что-то, она-то наверняка не прочь развеять скрытую печаль и пустоту, но, как назло, гостеприимные хозяева именно ее-то и упросили переночевать на даче, вот и пришлось в одиночестве мчать вниз, к родимой мягкой постели. Жене он порядком опостылел, та и не проснется наверное, да и ему сейчас хочется только одного - забраться под покрывало и уснуть. Итак, мой не очень трезвый водитель летит домой на всех парах и я начинаю беспокоиться за него. Ему следует соблюдать предельную осторожность. Когда родной дом так близок, особенно обидно нарваться на блюстителей порядка, это может дорого ему обойтись. В лучшем случае такая встреча основательно облегчит его бумажник. Берут, и ныне берут, как и полвека назад! И внимательным надо быть, нельзя клевать носом. До самого рассвета с улиц города изгнаны правила уличного движения, да и лихачей за полвека не перевелось, и катастрофа может подстерегать потерявшего бдительность водителя у ближайшего перекрестка. Вот тогда будет уже не до шуток, и в холодной квартире прозвучит тревожная телефонная трель, и долго еще придется кому-то ждать в длинном коридоре печального приземистого здания, пока равнодушная рука все на свете повидавшего и ко всему привыкшего эксперта не выпишет крупным четким почерком: "прекращение жизнедеятельности наступило в результате черепной травмы и последующего кровоизлияния в мозг", и вскоре после того, как свидетельство о смерти скрепят канцелярской печатью, по моему соседству поселится еще один бестелесный дух.
Но вот автомобиль мирно промчался надо мной и на некоторое время вновь воцарилась тишина. Привычный ритм загробной жизни. Это подчиняясь ему красит по утрам небосвод багряная заря, чирикают ранние пташки, озаряет окрестности ласковыми лучами солнце. Без этого ритма мое подземное существование лишилось бы смысла, будущее растаяло бы в удушливом тумане мелкой повседневной суеты, навсегла возликовал бы мрак - вечный и неотвратимый. С трепетом дожидаюсь я рождения нового дня, гулкого топота шагов, всего того, что было вчера и позавчера, и не надо мне никаких изменений, ибо они вызывают в моей душе страх, а не надежду. Утро, солнце, вечер - и так до бесконечности, больше мне ничего не нужно. Ведь утро и солнце, там, наверху, - это утро и солнце жизни, которую ты покинул навсегда. Не знаю сколько раз сменяли утро и вечер друг друга с тех пор, как меня закопали в эту разрыхленную червями почву, по понятным причинам я лишен возможности делать зарубки на внутренней стороне гробовой доски, но, полагаю, что времени прошло не так уж мало, от нескольких недель до нескольких месяцев, но навряд ли больше. Наверху пока тишь да гладь, и боже упаси нас от урагана. К счастью, сила моего воображения пока вполне тождественна силе моей воли, и желание подняться, желание вернуться обратно, к своим, не опустошает мне душу. Будь у меня полная уверенность в том, что я всегда найду достаточно сил, чтобы совладать с подобным соблазном, я был бы счастливейшим из мертвых. Но такой уверенности я, к сожалению, не ощущаю, и не исключено, что в далеком завтра мне вновь предстоит погибнуть - уже от тоски, и душа моя будет дотла выжжена ею, и тогда мне ничто уже не поможет. Разве что на земле изобретут способ оживлять мертвецов. Причем без всякого клонирования. Клон, что там ни говори, это индивид, в сущности - чужая личность, а настоящее оживление - совсем другое дело.
Ученых иногда осеняют сногсшибательные идеи. А что если упомянутый способ разрушения человеческого общества когда-нибудь действительно будет изобретен? Вот начнется потеха! Сохранить такое в секрете едва ли удастся, возникнет масса забавных, пикантных и, главное, противоречивых ситуации, срочно придется разрабатывать новое гражданское законодательство. Увы, я не настолько наивен, чтобы поверить в паломничество убитых горем потомков и, следовательно, прямых и косвенных наследников, в открытые будущим правительством многочисленные бюро по оживлению. Нет - и не надейтесь. Далеко не всякий помчится выкладывать свои кровные на это кляузное, отягощенное всяческими хлопотами дело. Ведь оживление в грядущий век вполне предсказуемого рыночного безумия бесплатным быть не сможет. Кроме влюбленных, пожалуй, только потерявшие детишек родители, да еще бездетные супруги вцепятся в это открытие мертвой хваткой. А скольким оно обернется костью поперек горла! Старики-то, хвала им, отжили свое, оставили деткам наследство, высвободили жилую площадь, а уход-то, уход за ними! Сколько нервов, сколько времени, сколько средств. И вообще, кто дал науке право так грубо и бесцеремонно вторгаться в естественное течение жизни? Неужели истории с атомной бомбой и генетическим клонированием не послужили человечеству - особенно его образованной части - назидательным уроком? Что ж, может и появится такая новая профессия - Воскреситель, да только будьте готовы выдавать Воскресителям этим бесплатное молоко плюс надбавку за вредность к повышенному должностному окладу. Опасное это будет занятие - возвращать умерших к жизни. И без порядка, без соответствующего кодекса в нем никак не обойтись. Реальностью - по крайней мере в нашей державе - станут невероятные ныне параграфы. Параграф I: Право на воскрешение предоставляется лицам с даты кончины которых прошло не менее трех лет; Параграф IV: Исключительным правом уменьшения срока указанного в Параграфе I, а также определения максимального возраста воскрешаемых лиц пользуется Президиум Верховного Совета СССР; Параграф VII: Преимущественным правом на воскрешение пользуются Герои Социалистического Труда, Академики АН СССР и Союзных Республик, Народные Артисты, Заслуженные Мастера Спорта и Матери-Героини; Параграф IX: Воскрешение не дозволяется лицам, которым к моменту кончины исполнилось семьдесят пять или более лет, кроме случаев предусмотенных Параграфом IV; Параграф XV: Воскрешение допускается лишь при наличии особой формы, подтверждающей имущественный и гражданский ценз заявителя; Параграф XXIV: Лицо подвергшееся воскрешению может быть использовано по прежнему месту работы лишь по разрешению Союзного Совмина, - и шут его знает какие еще параграфы, пункты, положения и предположения разбушуются в этом кодексе. Но мне пока не следует надеятся на достижения научной мысли, да и под кодекс я вряд ли подпаду. К черту! Так приятно вспоминать и думать, думать и вспоминать, зная что наверху жизнь течет своим чередом.
Наверное, мне здесь было бы куда спокойнее, будь я не политиком средней руки, а настоящим - пусть невеликим, но настоящим ученым. Физиком, математиком, биологом, филологом, социологом, экономистом. Моя мысль продолжила бы привычно работать в заданном десятилетия назад направлении, и даже полыхни земля ядерными взрывами, я не почувствовал бы никаких перемен. Влекомый чисто научной любознательностью и, вероятно, менее чем ныне обремененный укорами совести или уколами воспоминаний, я и здесь тихо-мирно занялся бы поисками доказательств все той же теоремы Ферма, посвятил бы основное время обозначению все новых фаустовских парадигм в германской литературе или построению сколь умозрительных, столь и бесполезных футурологических концепций. Но коль скоро в течении многих лет мне приходилось исполнять всего лишь посильные и многотрудные обязанности высокопоставленного правительственного чиновника, то и достался мне куда более скромный удел - стоять на перекинутом через реку вечности висячем мосту, любуясь отражением моего прошлого в ее мерной глади. А с поскрипывающего от старости моста виднеется поросшая былью дорога, вьющаяся между прибережными холмами. Зрелость, Юность, Отрочество - они все дальше отстоят от моста по этой дороге, тающей там вдали за рекой, в цветущем и недосягаемом межхолмье. Некогда и я бродил по ней, любовно подсчитывая чудом сохранившиеся на ней смолоду вехи и вешки; разве кто, кроме меня, мог бы разглядеть их сегодня? Все отмечено на этом пути, все мои ошибки, любые поступки, даже намерения; все начала и все концы, все родинки тщательно скрываемые или выставляемые напоказ на двуликой физиономии непричесанной моей биографии. Ныне же прогуливаясь по мосту и размышляя о днях минувших, я полностью свободен и волен в своих решениях: волен принимать за точку отсчета, например, день моей первой шахматной победы, или, при желании, день моего избрания депутатом горсовета, а то и сравнительно недавнее прошлое - день моего официального освобождения от всех партийных и государственных постов. Однако, избрание депутатом... Да, без этой вешки не было бы и иных, более важных вех на моем пути. Звание депутата, законодателя, народного избранника - это довольно высокое и почетное звание. Тогда меня как-бы перевели в более тяжелую весовую категорию. Отныне мне предстояло головой отвечать и за победы, и за поражения. А союзники и покровители... С того дня они могли играть лишь прикладную - хотя и бесспорно важную - роль.
Став обладателем первого в своей жизни депутатского мандата я, кстати говоря, вполне мог позволить себе не то чтобы халатное, но, скажем так, не очень придирчивое отношение к новым обязанностям народного избраника. Все имевшие доступ к горсоветовской кухне очень скоро получили весьма смутное, но, тем не менее, достаточно достоверное представление о высокой степени моей загруженности по месту основной работы. Модное словечко "социодинамика", ученая степень кандидата наук и пухленький пропуск в здание Центрального Комитета поднимали мой личный престиж на почти недосягаемую высоту. Пожалуй, кое-кто на моем месте решил бы формально "отслужить" депутатский срок и, щеголяя дома и на улице блестящим значком на лацкане выходного пиджака, удовлетвориться малым. Кое-кто, но не я. Мне вовсе не улыбалось купаться в лучах временной и преходящей славы. Уже тогда в моем мозгу рождались причудливые замыслы и полуфантастические проекты, неведомые никому на свете. Я начинал верить в свою пленительную звезду.
Итак, хотя депутатство и стало для меня весьма ответственной общественной нагрузкой, зарплату мне платили все же за другое. Усилиями сотрудников моего сектора составлялись доклады, справки и меморандумы, а также экстракты из этих докладов, справок и меморандумов, используемые в дальнейшем для наиболее эффективного осуществления республиканскими структурами власти утвержденного высшими союзными органами внутриполитического курса. Естественно, никто не снимал с меня ответственности за каждое словечко, и тем более за каждую выходящую из сектора письменную рекомендацию. Положение обязывало, поэтому моим коллегам, приходилось, признаться, нелегко, ибо попытки схалтурить пресекались мною, как говорится, на корню и невзирая на лица. Вскоре однако все сотрудники сектора вынуждены были смириться с моими требованиями а, в результате, полагаю, наша общая деятельность оказывалась небесполезной для правительства. Мы занимались, выражаясь на канцелярите, современной грузинской молодежью, ибо она - молодежь - во все времена и на всех географических широтах, отличается повышенной социальной активностью и всегда привлекает к себе гласное и негласное внимание властолюбивых взрослых дядь. Оно и понятно: Настоящее обязано интересоваться Будущим, иначе оно рискует его потерять - неновая, в общем то, мысль. Вероятно, мы в какой-то степени дублировали чью-то работу, но наверняка так и было задумано с самого начала; ведь научный подход мог доказать свою пригодность лишь в условиях соревнования, хотя бы и негласного. Мы догадывались, что наши выводы сравниваются с аналогичными выводами, получаемыми в других ведомствах, хотя их содержание оставалось для нас секретом. Мы находились как-бы между небом и землей, или, если угодно, между молотом и наковальней, и степень нашей конкурентоспособности определялась степенью достоверности обрабатываемых нами материалов. Товарная цена скрепленных моей подписью рекомендаций базировалась на обширном статистическом расчете. Но сектор был малочислен и ребята, как они ни старались, подчас не в силах были обеспечить полноценное исследование поступавших к нам по различным каналам данных. Системный научный подход подразумевал собой и сравнительный анализ протекавших в обществе на различных глубинах и стратах тенденций; следовательно мы нуждались не только в сегодняшнем, но и во вчерашнем, даже позавчерашнем информационном сырье. Такое сырье, вообще говоря, уже было собрано самим потоком исторического процесса, но покрывалось пылью и плесенью в закрытых ведомственных архивах, поскольку у этих ведомств находились дела поважнее. Но нам необходимо было развиваться, если мы хотели выжить в конкурентной борьбе. На нашей стороне были все выгоды узкой специализации, и по моему хорошо аргументированному мнению, в случае допуска наших сотрудников к искомым архивным сведениям, позиции не только моего сектора, но и всего нашего учреждения существенно укрепились бы. Именно тогда, по моему убеждению, мне удалось одержать свою первую политическую победу. Вскоре после моего депутатского крещения, я обратился к директору Центра с предложением поднять на самом высоком в республике уровне вопрос о предоставлении вверенному мне молодежному сектору дополнительных информационных привилегий. Предполагалось, что регулярное получение нами - с соблюдением всех необходимых мер предосторожности - хотя бы части из дотоле полностью закрытых архивных материалов, значительно повысило бы качество наших рекомендаций и существенно облегчило бы тогдашнему руководителю республики более эффективно, - безусловно, в интересах будущего Грузии, - контролировать протекавшие в молодежной среде процессы. Уместно пояснить, что имена и фамилии конкретных людей нас, как правило, не интересовалию. Мы собирали Мысли, Соображения, Взгляды, и прекрасно обходились без паспортных данных на их носителей, нас вполне устраивали, например, псевдонимы. Хотя сотрудникам сектора и не запрещалось публиковать статьи в специальных научных журналах, но последнее слово, как и разрешение на публикацию, всегда, разумеется, оставалось за экспертной комиссией. Хотя все мои сотрудники были заблаговременно предупреждены об ответственности за разглашение служебной тайны, но мне вовсе не улыбалось лишать и их, и себя дальней перспективы. Первоначально вмешивать в дело своего приятеля-протектора (повторяю, тогда я ни сном и ни духом не ведал, что Элефтерос был секретным сотрудником самого ОССС), я не собирался, опасаясь слишком уж великой от него зависимости, и потому рискнул обратиться к шефу напрямую.
Шеф, увы, отнесся к моей идее безо всякого энтузиазма. В действительности он попросту хотел избежать неприятностей. Будучи довольно мягким по природе человеком, он, как и многие другие руководители среднего ранга, страдал синдромом безынициативности и инстинктивно побаивался любых нововведений, способных - хотя бы теоретически - пошатнуть его положение. Да и связываться лишний раз с правоохранительными органами ему не хотелось. Депутатские нашивки, однако, прибавили мне смелости и я, бюрократическим канонам вопреки, пошел таки на поклон к Элефтеросу, упросив устроить мне аудиенцию с его официальным начальником - соответствующим секретарем республиканского ЦК. Приятель, сраженный красочным описанием открывавшихся перед Центром радужных перспектив, дрогнул и аудиенция состоялась уже через несколько дней. Секретарь выслушал меня внимательно и благосклонно и, быстро схватив суть моих предложений, направил к Генералу в Штатском. Генерал в Штатском показался мне весьма проницательным и эрудированным человеком, и хотя его колючие глаза поначалу сверлили меня словно буравчики, но к концу беседы заметно оттаяли, продолжив вести за мной наблюдение с ясным оттенком доброжелательности. Вспоминаю, что Генерал в Штатском очень быстро разобрался в существе дела, и вообще, с ним легко было беседовать - оставалось впечатление, что он понимает собеседника с полуслова. Его обещание обстоятельно подумать над поднятым мною вопросом прозвучало вполне обнадеживающе и я покинул его кабинет с чувством того, что дело сдвинуто с мертвой точки. Месяц спустя я с облегчением убедился, что интуиция меня не подвела. В сектор, правда со значительными ограничениями, но все же начала поступать полезная информация. И хотя шеф какое-то время относился ко мне с заметной прохладцей, в конечном счете он стал считаться со мной в большей степени, чем прежде.
Истинная свобода воли понятие потустороннее. Там, наверху, выбранные нами когда-то дороги в конечном счете неизменно обращали нас в рабство. А здесь, в мире теней, инициатива принадлежит нам, великодушным и благородным мертвецам. Здесь мы стали, йо-хо-хо, добрыми, мудрыми, терпимыми, свободными от мстительности, лукавства и иных низменных чувств, и в награду от... не знаю от кого, право... в награду получили не придуманные кем-то райские кущи, а нечто большее - возможность проверять себя в самых сложных и запутанных ситуациях. Разве нынче я себе не настоящий Хозяин? Разве не волен я выбирать все новые дороги, и даже не выбирать, а перебирать их? Не понравилась одна дорога, разочаровала другая, ну что же, к моим услугам множество других путей. Все настолько в моей власти, что я порядком испуган и растерян; широкий выбор отзывается непривычной неуверенностью души. Ведь разрешено забыть обо всем, чем занимался наверху, избрать себе любое дело. Можно переквалифицироваться в управдома, а можно и во врача, в хирурга-бессребренника с длинными красивыми пальцами и невероятно отзывчивым сердцем. Или, оставив пальцы длинными, заменить отзывчивое сердце на черствое, так оно будет ровнее биться. Нет, все-таки лучше отзывчивое. Лечу по вызову на рокочущем вертолете в глухое, богом забытое селение, дующие с океана жестокие ураганы прилепили жалкие домишки к крутому, скалистому, скудному и негостеприимному склону, но суровые, мужественные люди не уходят отсюда, потому что здесь их родина, и еще потому, что океан кормит их, а ветер наполняет грудь упоительным воздухом свободы. Поспеваю в последний миг к потомственному рыбаку. Тихо стонет на краю гибели немолодой уже труженник моря с обветренным, каменно-благородным лицом, слезы на глазах у жены и многочисленных детей, но я успеваю его спасти и, не дожидаясь неизбежных проявлений благодарности, спешу к вертолету в окружении восхищенных коллег. Мы вздымаем в небо и вот уже я, усталый, счастливый и гордый за дело, которому служу, возвращаюсь домой. Дома меня с нетерпеливым волнением ожидает любимая женщина с трудной, неустроенной судьбой (мы, конечно, пока не оформляли своих отношений). А потом - вечер вдвоем, жгучее пламя в камине и пушистый белый медведь на полу, а глубокой ночью, в промежутках между объятиями и страстными ласками, шепет о том, что касается только нас двоих. Ну что ж, это не самая плохая судьба. А наскучит, изберу себе карьеру хитроумного детектива, соединяя в собственной душе мудрость комиссара Мегрэ с дедуктивным методом великого Шерлока. Именно мне предстоит вести почти безнадежное следствие по нашумевшему тройному убийству в китайском квартале, и я с дьявольским упорством старой ищейки бреду по следу безумного маньяка, рискуя при этом и собственным престижем, и самой жизнью. Очевидно, что именно я посажу на скамью подсудимых этого безобидного на вид, но жестокого, коварного и почти неуловимого очкарика, попутно избавив невиновного человека от позора и облыжного обвинения, и в час триумфа мне будут рукоплескать все адвокаты страны. Но, нет... Врач или сыщик, это слишком обыденно, слишком старо, и я, пожалуй, достоин большего. И пускай сверкнет в моей судьбе пленительной звездочкой наш ближайший сосед по вселенной - Альфа Центавра, а я... Несомненно, именно меня, самого опытного звездолетчика космического флота Земли, назначат командиром Первой Звездной. И вот, я уже нахожусь в элегантной капитанской рубке флагмана экспедиции - гордого нуль-звездолета "Кавказ", и сидя за электронным штурвалом в опутанном проводами командирском кресле, веду подготовку к посадке на поверхность неизвестной карликовой планеты. Вокруг бушует страшная электромагнитная буря, бешено мигают разноцветные лампочки на пульте управления, шлем скафандра молодцевато откинут за спину, богатырские фотонные двигатели мощно пожирают субстанцию пространства-времени, на гигантском экране безмолвно вырастает приближающаяся планета, вахтенные офицеры точно выполняют мои распоряжения и "Кавказ" вскоре мягко садится на поверхность. По праву первооткрывателя я нарекаю планету Лио - по имени моей прелестной смуглокожей нареченной, и пусть это станет еще одним доказательством безграничного могущества истинной любви! Совершенно очевидно, что после кропотливых поисков экспедиция обнаруживает на планете следы деятельности галактического разума и в истории человечества открывается новая великолепная глава. Или еще лучше: обойдусь без переквалификации и останусь тем, кем был, элитным дипломатом, не более, но великий боже, ох какие мне выпало вести переговоры! Ничего подобного Земля-матушка никогда не видала, до чего же все-таки замучил меня кошмар той душной тбилисской ночью десятилетия тому назад! Что ж, ремесло переговорщика оказалось, как всегда, востребовано. Вся эта нечисть, все эти разумные пауки, вырвавшиеся на поверхность из подземных глубин, связанное с этим феноменом ослабление глобальных позиций рода человеческого на планете, претензии этих монстров на установление равноправных отношений с огорошенным человечеством, обмен посольствами между двумя разумными цивилизациями, совершенно новый комплекс проблем во весь рост ставших перед человечеством, и в центре всех этих умопомрачительных событий - Я, человек, которому доверена святая миссия защиты интересов Мировой Федерации на многотрудных переговорах с монстрами во имя мирного будущего человечества. Не скрою, сей тернистый путь, - несмотря на внешнюю, мягко выражаясь, малопривлекательность монстров, - кажется мне наиболее обещающим и привлекательным, все таки склонность к искусству компромисса накрепко въелась в мою дипломатическую душу. Но только пускай все это произойдет со мной потом, в свое время, а пока останусь всего лишь рядовым депутатом Тбилисского Городского Совета, странноватым субъектом, которому пока что никто ни прочит блестящей карьеры на дипломатическом поприще.
Случилось так, что на первой же сессии вновь избранного Совета (формально это всегда называлось выборами, хотя, как известно, данное мероприятие контролируется партийными органами и по сей день) меня, депутата- новичка, ввели в состав депутатской комиссии по городскому строительству и благоустройству. Подозреваю, что это произошло случайно, по инерции, ибо никакого отношения к делам коммунальным и строительным я ранее не имел - просто с учетом микроскопического веса так называемых выборных органов в партийной системе власти, такая инерция была в порядке вещей. Доволен этим я не был, но, как гласит народная мудрость, "назвался груздем - полезай в кузов". С познавательной точки зрения, это назначение оказалось, однако, весьма полезным. Оно позволило соприкоснуться мне с одной из наиболее острых проблем города - жилищной. В компетенцию комиссии также входила охрана архитектурного облика столицы Грузии.
Город... Как он далек, и, одновременно, как близок мне в своей обворожительной недосягаемости. Это нынче лишь топот ног да рев клаксонов над головой, а раньше... Мой дом, моя улица, мой двор, мои друзья - все это было частью родного Тбилиси, но если бы только это! А петушковый дом на бывшей улице Софьи Перовской, не так давно снесенный с лица земли во имя расширения проезжей части главной городской магистали и ввиду отсутствия такта и воображения, - ведь это в нем провел большую часть жизни великий наш Писатель, классик, гордость грузинской прозы двадцатого века, - о, сколько раз доводилось мне переступать порог этого дома в прошлой жизни! А выбоины на асфальте, как люто они ненавидились и как поминались последними словами во время быстрой езды! А круглое, похожее на огромный торт здание, где помещался обширнейший в городе концертный зал, - сколько было здесь проведено антрактов и завязано знакомств! А старый сапожник у ближайшего детсада, такой незаменимый, что и детство без него никак себе не представишь, стены его конуры вечно были обклеены цветными фотографиями знаменитых футболистов и кинозвезд - боже, с каким вожделением я засматривался на них! А потом я вырос, стал серьезным, а потом и солидным человеком, но где-то там, в глубине души, оставался тем же мальчишкой. И город, город тоже... Что-то в нем рушилось, строилось, менялось каждый день, час, секунду, и все же перемены были неуловимы, и до сих пор не в силах я постичь тайну его изменчивого постоянства. Но тогда, в пору моего первого депутатства, волею судеб я оказался среди тех, кто в меру своего разумения стремились сделать его чуть краше. Петушковый дом, правда, позже не удалось отстоять, - и в этом большая доля моей вины, тогда уже высокопоставленного московского чиновника, нежели моих бывших и немощных коллег по горсовету. Так вот: я люблю тот период моей, как выяснилось позже, взбалмошной жизни, - мне и теперь кажется, что он отличался бескорыстием и некоей жертвенностью, пусть даже притворной.
Давным-давно кануло в Лету время, когда столица грузин опустилась до положения провинциального торгового городка - вотчины купцов-армян и иных присных наместника Его императорского величества. По слухам когда-то, в незапамятные с сегодняшней высоты времена, Тбилиси (в русской транскрипции Тифлис) был стольным городом могущественного малоазийского царства, перекрестком караванных путей и средоточием возвышенного поэтического духа, но это было так давно, что даже если так и было, то вряд ли сейчас от того кому-нибудь легче. История каждого города суть причудливое переплетение правды и вымысла, желаемого и действительного, неправдоподобно героического и непостижимо позорного, Тбилиси не может быть исключением, но было же, было в его истории Нечто, заставлявшее трепетать наши юные сердца. Нечто, молодецкое как взмах меча и неистребимое как воздух и солнечный свет. Ведь в мире кроме политики и экономики, к счастью, существует еще и культура, не наносная, нет, а связующая поколения с поколениями, из глубины веков согревающая своим жаром нас, обнищавших не только духом, но, зачастую и грешным телом, сосудом скудельным нашим. Я склонен думать, что культура это прежде всего ее носители - грешные люди, так и не павшие ниц перед всемогуществом мирового зла, остальное же пусть останется прерогативой археологов и прочих "логов". Так вот, насколько мне известно из истории, хоть и знаю я ее хуже чем хотелось бы, к началу двадцатого века в нашем провинциальном городишке собралось не так уж мало подобного рода грешников - иногда безграмотных, порой очень даже образованных, главное же - объединенных стремлением не потерять лицо в этом жестоком мире. Они оседали здесь и обустраивали себе гнездышко подобно птицам, прилетавших из навечно сгинувших эпох или покрытых вечной мерзлотой континентов. Они прилетали со всех сторон, из разных уголков Грузии, уголков райских, но патриархальных, не отмеченных пока печатью эры всеобщего прогресса - из Самегрело, Гурии, Имерети, Кахети; они летели из сопредельных с Грузией пространств Кавказа. Летели и из-за северных гор, кто в ссылку, кто в поисках себя; не знаю, что привлекало их сюда кроме высочайшего предписания - то ли отзвуки былого величия покоренной, но непокорной земли грузинской, то ли сила притяжения совсем иных руин и пирамид, ибо известно, что пыль поверженных великанов влечет иных к себе как неопытного отрока юная дева. Но история - историей, пересуды - пересудами, а человеку трезвомыслящему не следует пробавляться летаргическими мифами. На памяти моей Тбилиси - большой и современный город, не хуже, но и не лучше многих других современных городов, но слишком уж пропахший - странновато это звучит в моих правоверных устах - социалистическим душком. И таким он стал не сразу. Духовность, о которой я читал в книгах, национальная геральдика столь близкая сентиментальному воображению обедневшего дореволюционного аристократа, высокомерное отчаяние потерявших голову и состояние сановитых гордецов, родовые проклятия - все это обесценилось, растаяло, развеялось как дым от сжигаемых сухих листьев. Символы... Не столько упал спрос на них, сколько сократилось предложение. Я и поныне придерживаюсь того мнения, что во имя действительного прогресса иной раз оправдано избавляться от оков прошлого со всей возможной беспощадностью, но, боже мой, как часто власть предержащие вместе с колыбелью выбрасывали и ребенка, как часто элементарная логика и здравый смысл приносились в жертву совершенно утопическим фантазиям, и не только в нашей стране. Что было - то было, не стоит отрицать. Ураганами пронесшиеся над городом смертоносные вихри двадцатых и тридцатых оставили на его лице незаживаемые раны и язвы. Во имя прогресса, а скорее под предлогом его, беспощадно уничтожался цвет нации. Потустороннее в своем дичайшем трагизме зрелище - опальная интеллигенция, беспомощно барахтающаяся в ежовых рукавицах завзятых врагов народа, - ставилось руками опытных и хладнокровных режиссеров, и, казалось, не будет этому конца, правые кружились в одном танго с виноватыми, но... Но кроме культуры, увы, существуют еще экономика и политика, и ничего с этим не попишешь. И все-таки ненастье отступило - оттепель отогнала тайфуны и смерчи с горизонта, и бледный от затяжного удушья городской лик вновь покрылся живительным румянцем. Но как ни крути, цвет лица - дело частное, а город рос и развивался фабричными колесами подминая под себя праздную публику, всех этих лавочников, шарманщиков и церковников, утрачивая при этом изрядную толику своей самобытности. Индустриализация, пятилетка, встречный план, буржуазный национализм, экономическая контрреволюция, троцкистское, а потом и каменевско-зиновьевское охвостье, - эти термины недаром прочно вошли в политический обиход. К началу войны Тбилиси приобрел вполне осязаемые черты крупного промышленного центра. Построенные и перестроенные коммунистами фабрики и заводы не могли простаивать, потребность в рабочей силе заметно возросла. Для управления производством понадобилась армия умелых инженеров, плавно перетекавшая в дивизию политически благонадежных менеджеров - правда, так их тогда еще не величали. Возникавшие задачи невозможно было решить без привлечения в город дешевых крестьянских рук. Выходцев из села предстояло обуть, одеть и обучить, это стоило денег, но такая политика - политика, казалось, окончательно выбившая опору из под ног торгового сословия, - вроде постепенно окупала себя. Попадавшие в город крестьяне пополняли, в основном, ряды пролетариата. Понятно, что в те годы население Тбилиси увеличивалось, главным образом, за счет привыкших к низкому жизненному уровню пришлых крестьян.
Все это отвечало - жестокие исключения только подтверждали правило - духу и потребностям наступившей эры созидания, выглядело естественным и прогрессивным. Но на более поздних, уже послевоенных этапах своего развития, город как-бы потучнел, раздобрел, раздался вширь. И его нездоровой полноте постоянно сопутствовала непременная одышка. Уж слишком много сиюминутных выгод в ущерб дальней перспективе можно было извлечь из пуска в эксплуатацию очередного "вонючего", без мощных очистных сооружений, промышленного объекта, из открытия очередного факультета в политехническом институте, из экономии бюджетных расходов на качестве строительства жилья или на его архитектурном стиле. Город, как и люди, слишком уж жил сегодняшним днем. Применяя подходящую для процессов роста сухую фразеологию канцелярских документов, можно резюмировать: "Преимущества планового метода развития народного хозяйства использовались далеко не полностью".
Итак, город раздавался вширь, число горожан непрерывно умножалось, а человек, что бы там не воспевали поэты, существо оседлое. Орудия Второй Мировой отстреляли свое - рабочим, служащим, интеллигентам, всем до единого, нужна была крыша над головой. Пока залечивались нанесенные войной раны, особых претензий не возникало, при генералиссимусе особых претензий вообще не могло, в силу известных причин, возникнуть, но мирная жизнь понемногу утверждалась повсюду, а тут еще умер Сталин, подоспела реабилитация и стало поспокойней: советскому человеку разрешено было строить планы на будущее уже не опасаясь внезапного ночного ареста. Люди привыкали смотреть на жизнь иначе, с учетом, так сказать, собственных прав, да и языки у них развязались, чего греха таить. Ну а извечный квартирный вопрос, тот самый о котором вспоминал товарищ Воланд, вновь и вновь разжигал у наших сограждан довольно низменные частнособственнические страсти. Жить по-старому, в тесноте, да и в обиде, становилось невмоготу. Люди возмечтали: если уж коммуналка, так пускай просторная; ежели теснота и негде повернуться, так хоть в изолированной квартирке со всеми удобствами. Хотелось жить по-человечески, с некоторым достоинством, и, если по-честному, то и в ту пору ненавистный санитарный минимум - пять, а потом и восемь квадратных метров на истомленную душу, - обходился всеми правдами и неправдами. Да и вожди страны оказались в довольно сложном положении. Нестерпимо, политически проигрышно было держать в подвалах и времянках половину населения и одновременно объявлять всему миру о завершении строительства наиболее передового в социальном отношении общества. Руководству, по сути, некуда было отступать. Оно обязано было "засучить рукава" и должным образом обновить и использовать накопившийся в условиях мирного времени - со всеми скидками на "холодную войну" - ресурсы. Не всем удалось выдержать психологическую перестройку связанную с развенчанием имени Сталина, - хотя пленумов и заговоров на этот счет состоялось вдоволь, - и, как ни банально это звучит, но новое утверждало себя действительно в тяжелой борьбе. К концу пятидесятых возобладали сторонники позитивной программы реконструкции созданного генералиссимусом общества, и на фоне этого в стране, наконец, приступили и к широкомасштабному жилищному строительству. И хотя непривычно низкие потолки вызвали у населения немалое и обоснованное раздражение - народ презрительно окрестил новые типовые квартирки "хрущевками", - сам факт организации поточного производства жилых домов приобрел непреходящее значение. По-моему, кое за какие вещи Никита Сергеевич заслужил уважение людей, хотя, если честно, я и нынче, с того света, осуждаю его и за непоследовательность, и за недоброжелательное, увы, отношение к моей грузинской нации, и за... Впрочем, кто старое помянет... Но у медали была и оборотная сторона. Мировая гонка вооружений, наша бедность, техническая отсталость помноженная на стремление пустить пыль в глаза, показуха и т.д. - все это мешало строить и много, и хорошо. Строить мало было уже нельзя, ну а дешевое жилье - это жилье стандартное. Стоило ли удивляться тому, что советские новостройки почти не отличались друг от друга, где бы они не возводились. Города стремительно теряли свою непохожесть. И столица Грузии в этом отношении разделила судьбу других наших республиканских столиц.
В ту пору у меня, точно так же, как и у тысяч и тысяч моих сограждан - далеких от проблем строительства дилетантов, рождалось великое множество неудобных, но вполне естественных вопросов: Чем объясняется низкое качество возводимых по всей стране жилых корпусов (за исключением разве что Москвы и Ленинграда)? Почему же справивший новоселье счастливчик сразу же вынужден выложить на ремонт жилища тысченку-другую из собственного кармана? Почему это официальная расценка за труд рабочего-строителя значительно ниже суммы, за которую он согласен взять лопату в руки, и как тут прорабам не ловчить, фальшивые платежные ведомости не составлять, без приписок обходиться, дефицитные стройматериалы "налево" не загонять, и самим от алтаря ими возводимого не питаться? Почему список очередников на жилье возведен чуть ли не в ранг высшего государственного секрета? И десятки других Почему. Но вопросы эти так и оставались, как правило, без ответа, впрочем никто, будучи в полном уме и здравии, и не собирался задавать их вслух. Да и кому было задавать? Бессловесным депутатам или продажным газетчикам? Что могли наши депутаты? Только сам очутившись в этой категории служивых, я понял чего может стоить борьба за интересы вовсе незнакомых тебе людей. Но, признаться, получив назначение в рабочую комиссию горсовета я ликовал. Ведь теперь у меня появилась возможность досконально разобраться во всей этой кухне.
Постепенно обраставшее зримыми деталями мое небескорыстное намерение составить себе политический капитал, так и осталось бы, надо предполагать, неисполнимой и небезвредной фантазией, не прояви я вовремя должную заботу на предмет составления капитала морального. Уровень коррупции в республике и тогда был отвратительно высоким, но путь соучастия в ней - по многим причинам - моим путем стать никак не мог. Чистую, без единого пятнышка, деловую и гражданскую репутацию - ее то и следовало перво-наперво завоевать, обеспечивая себе надежный тыл перед дальним походом. С самого начала я исключил из арсенала подручных средств такой апробированный исторической практикой метод, как подсахаренная лесть, отлично сознавая, что дутый авторитет - как свой, так и чужой, - рано или поздно сослужит мне дурную службу; ну, кому нужна за пазухой испорченная граната, готовая взорваться в любой момент? Завоевание истинного авторитета (так же как и личной независимости, впрочем), требует от его соискателя постоянной готовности к риску, и чем выше вершина к которой он стремится, тем более высокой пробы должна быть такая готовность. Бросающийся очертя голову с высокого обрыва в бушующее море пловец - вот на кого похож такой соискатель: либо свернешь шею, либо пожнешь славу. Трудноватый выбор, ничего не скажешь, но тогда мне казалось, что игра в которую я вступил, стоит пылающих свеч, и еще что удача сопутствует смелым и ветер дует в их паруса. И я нашел в себе силы для того, чтобы не в ущерб основной своей работе на правах депутата посещать ведающие градостроительством учреждения, трепаться за жизнь с большими и малыми начальниками, вникать во всякого рода мелочи, которые и мелочами-то были лишь на первый, непосвященный взгляд. Полагаю, я обладал врожденным искусством слушать и впитывать чужое мнение; подозреваю, многие лечили на мне свои больные нервы и дурное настроение. Я умел как-то легко становиться на точку зрения собеседника, и он, часто сам того не замечая, так же легко переходил на доверительный тон. Притом, и это придавало мне особую значительность, во всех этих случаях я был небольшим, но официальным представителем законодательной ветви власти, пользовался определенными привилегиями, и мне, в силу этого обстоятельства, нередко удавалось выуживать из моих визави весьма поучительную информацию (кстати, моя "добыча" шла в общую копилку - в секторе она подвергалась дальнейшей тщательной обработке). Никто из моих собеседников и предположить не мог, что сведения, которыми они меня столь любезно снабжали, пригодятся для обобщений высшего порядка. Мастерство обобщения... Самые яркие краски, самие мягкие кисти и самые глубокие замыслы ни гроша не стоят, пока художник не займет приличествующее ему место у мольберта и не нанесет на холст первый мазок. Вот таким художником, только в политике, я и стремился предстать перед ценителями в обозримом будущем.
Хождения по ведомственным кабинетам тяжким бременем ложились на распорядок моего рабочего дня, максимально уплотняли его. Однако, к величайшему моему сожалению, расслабиться и ограничить деловые контакты одним только чиновничьим людом мне - со своими амбициями - никак было нельзя. Поэтому я, в частности, не чурался посещать жилища тех избирателей, чьи заявления ложились на мой депутатский стол, хотя и сознавал, что в глазах коллег по горсовету становлюсь фигурой одиозной. И пусть далеко не каждый заявитель мог рассчитывать на мое вмешательство, но я действительно пытался реагировать на каждый случай беззакония, нарушения взятых государством обязательств, неуважения прав граждан. Еще при жизни, в старческом умилении я, помнится, оценивал ту пору моей политической юности как наиболее бескорыстную, но, конечно же, истинное бескорыстие тут было не причем - на самом деле я остро нуждался в умной саморекламе. Коль скоро некоторые средства я исключил из своего арсенала уже тогда, оставалось одно: исступленное следование букве официального мандата. А в исключительных случаях и превышение этой буквы. И все же я, наверное, вел себя примерно так, как и должно было вести себя - разумеется, чисто теоретически - ответственному представителю Советской Власти. Риск, собственно, состоял в том, что я частенько подменял своей не очень скромной персоной действия не всегда видимого, но почти всесильного Аппарата (точнее, его крохотной частички), того самого Аппарата, на котором и нынче стоит Советская Власть, но который своей ватной бездеятельностью иногда способен ставить в критическое положение и государство, и общество в целом. И в связи с этим моя мысль поневоле устремляется к тем самым - ужасным, крайне противоречивым и впоследствии из общественной памяти изъятым - событиям конца восьмидесятых-начала девяностых лет ушедшего столетия. Ведь именно тогда по вине бездеятельного Аппарата высшей партийной власти, выпущенный на волю хаос чуть было не посадил на рифы роскошный лайнер мирового социализма, и только благодаря решительным действиям новых командиров на капитанском мостике удалось вдохнуть новую жизнь в обморочный Аппарат, принципиально обновить его, и, тем самым, спасти совсем пока не дряхлый, хотя и проблемный корабль от бесславной и безвременной гибели. А ведь так хорошо все начиналось, с приятного ветерка необходимых перемен ...
X X X
Старенькая "Волга" дребезжа мчалась к месту свидания. Девочка, разумеется, была юна и прелестна, но она и не догадывалась, что летит на свидание. Она просто собралась в кино. Феллини это... О, это Феллини. Высший класс!
Девочка была так молода и прекрасна, что было совершенно неважно, чем она занималась на самом деле. Сказать по правде, она могла заниматься чем угодно. Из нее получился бы замечательный врач-онколог, потому что она ненавидела страшную болезнь и не боялась испачкаться в грязи и крови, если действительно надо. Она могла бы прославиться как блестящий литературовед, так как много читала и научилась отличать плохие стихи от хороших. У нее были задатки великой актрисы, оттого что ей были небезразличны чужая боль и чужая радость, и еще оттого, что она была женщина. Итак, неважно кем она была, или кем собиралась стать. Главное, что здесь, в большом центральном городе, она познавала немало для себя нового, набиралась жизненного опыта и знаний, которые несомненно пригодились бы ей в скором будущем. Ну а что это были за знания - другой разговор. Она была молода и прекрасна, вот и все что следует о ней знать.
И когда такси наконец подкатило к фасаду кинотеатра "Мир", она расплатилась с водителем, оставив тому, как водится в далекой Грузии, всю сдачу, выбралась наружу и весело хлопнула дверцей. Валил снег, небеса осыпали ее хлопьями и через минуту-другую ее от снегурочки уже не отличить было. Целая минута прошла, утонула в вечности, пока нерасторопный молодой человек не обнаружил на тротуаре снежную принцессу, которая немедленно подставила ему щечку для братского поцелуя. Целая минута. Это была непростительная ошибка. Молодой человек обязан был расплатиться с водителем сам. Любой ценой.
X X X
Итак, началось с ветерка перемен.
Должен оговориться заранее: официальными толкователями геополитических процессов полная картина происходивших тогда в нашей стране удивительных превращений не составлена и по сей день, - на то были и остаются свои причины. Да и мне - невольному свидетелю как зарождения т.н. "перестройки", так и ее краха, - в сей незавидной, но относительно спокойной обстановке отрешенности от всего земного, нелегко восстановить в памяти расцветку - не говоря уже об оттенках - столь размашистого исторического полотна: ведь даже о существовании всесильного Отдела Слежки за Самим Собой - пресловутого ОССС - мне окончательно стало известно лишь незадолго до низвержения с высот близких к вершинам верховной власти. Тем не менее, в силу своего положения, я все-таки о многом знал, и еще о большем догадывался. О получивших известность под летучим названием "перестройка" судьбоносных событиях конца прошлого века, когда едва не растрясло всю государственную конструкцию, также как и об угрозе, которую она в себе таила, наш обыватель ныне осведомлен крайне скупо, в объеме нескольких абзацев из обновленных учебников Истпарта, и это, конечно, неспроста. В них информация о "перестройке" тщательно закодирована под безобидные пассажи о диалектике классовой борьбы и коллективной мудрости партийного разума, вовремя оценившего степень надвигавшейся опасности и своевременно принявшего необходимые меры ее пресечения. Не удивительно потому, что с тех пор целые поколения моих сограждан выросли с сознанием того, что тогда в нашей державе ничего особенного не происходило, живых же свидетелей тех событий - вроде меня - с течением времени становится все меньше. Что ж, подобная предосторожность властей предержащих в конечном счете себя оправдала: умиротворение умов и оздоровление общества наступили за каких-то два десятка лет - исторически ничтожный срок. И правда, кто сейчас, кроме кучки чудаков, помнит о миссионерах, о партийных диссидентах, о жалких реформаторах первой демократической волны, о попытке государственного переворота и о жертвах эту безнадежную попытку сопровождавших? Ведь ныне и мне-то, даже с поправкой на соответствующую моему высокому служебному положению осведомленность, нелегко припомнить полные инициалы авантюриста Горбачева, обменявшего Советскую Родину на сомнительную честь обладания Нобелевской премией Мира. То ли М.С., то ли, наоборот, С.М. - все время путаю. А ведь в зените той самой неудавшейся "перестройки" - гремел на весь мир. Впрочем, получение им столь своеобразной международной взятки, на мой взгляд, лишь усугубляет его вину. Истпарт последних изданий, правда, мимолетом проговаривается, что М.С. (или С.М.) де был арестован и расстрелян как злейший враг партии и народа (прямые доказательства тому отсутствуют, но косвенных предостаточно), но вопрос о подготовивших его падение причинах тщательно обходится - дабы ненароком не возбудить критически настроенные умы, коих во все времена обнаруживается куда больше ожидаемого. Однако здесь, в могильной тиши, никто и ничто не может помешать мне - хотя бы во имя абстрактной истины - поподробнее разобраться с феноменом "перестройки" - этим любимым детищем сгинувшего в исторической лете М.С., и наглядным примером того, как обещающий всеобщие благие перемены беззаботный ветерок постепенно и неуклонно превращается в беспощадный ураган всеобщего раздора и разрушения. Как могло случиться, что при полном попустительстве правящей элиты, наиболее популярным лозунгом тех лет вдруг стало принадлежавшее загнанной в вечное подполье кучке миссионеров безаппеляционное "так жить нельзя"? Основное содержание их разрушительной пропаганды состояло в тотальном отрицании советского прошлого и заразительном требовании перемен. Радикальных, каких угодно, понятно каких, разнообразных, невыразительных, к лучшему, к худшему, но - перемен. Ныне общеизвестно, что миссионерам - субъективно скучным поборникам иллюзорных человеческих прав, объективно же ярым противникам самого принципа социальной справедливости, - никоим образом не дано было самостоятельно поднять народные массы на борьбу против пусть деформированной, но все же собственной, народной в своей основе власти. Для этого им следовало настолько заинтересовать собой внешние и враждебные государству силы, чтобы те придали им статус хорошо оплачиваемых агентов. И эта малая взаимная цель была достигнута в кратчайшие сроки - запах добычи немедленно почуяли стервятники всего мира. Ясно, что без скрытой, а затем и открытой поддержки М.С. и его ближайших приспешников тут обойтись не могло хотя бы по техническим причинам.
Перемен - все разом потребовали перемен. Под пагубным воздействием так называемых "агентов влияния" (в царившей тогда неразберихе под эту категорию, увы, имело несчастье угодить немалое количество весьма приличных, казалось бы, людей) и при полной растерянности продажной партийной верхушки, широкие народные массы постепенно подхватили беспрепятственно распространяемые миссионерами подрывные лозунги и неосознанно начали действовать себе во вред.
Для понимания происходившего следует, прежде всего, честно признать, что определенные основания для недовольства у населяющих нашу гигантскую страну народов действительно были. Достигнутое ценой океана крови - в годы правления Сталина, и куда меньших жертв - во времена его не очень путевых преемников, первичное равноправие людей, хотя и сняло, в принципе, проблемы голода, безработицы, прожиточного минимума, предоставило десяткам миллионов весьма посредственных работников, равно как и членам их семей, невиданные ранее социальные блага - от возможности ежегодно позагорать на море, и до бесплатного высшего образования, - но оказалось все же неполным, зыбким, условным. Ведь даже после того как репрессии пошли на убыль, механизмы их воспроизводства - под шумок борьбы с культом личности - сохранялись. Начальник учреждения - как правило, член партии, - зачастую выступал в роли феодала, подчиненный - крепостного, в одной руке у этого феодала был кнут - секретарь парткома, а в другой пряник - секретарь профкома; на деле все это помогало держать в крепкой узде так называемые свободные трудящиеся массы, не осознававшие, впрочем, в полной мере, степень собственной несвободы; худо-бедно обеспечивало работу неповоротливой и во многих своих звеньях коррумпированной, но как-никак государственной машины-защитницы, и этот закрепленный и освященный доисторическими эпохами уклад реальной жизни невозможно было отменить исключительно законодательным путем. Традиция продолжала брать свое. Впрочем, замечательная пословица: "Я начальник - ты дурак, ты начальник - я дурак" - некую прелесть новизны не утеряла и поныне. В такой обстановке многие способные люди обрекались либо на вырождение, либо на умирание, и это становилось настоящей драмой, даже трагедией социалистического общества. Мне ли не знать, что проблема эта, увы, не изжита и сейчас, десятилетия спустя, оставаясь возбудителем вечной мигрени для высшей власти, вынужденной, как и прежде, уповать на приход очередного светлого будущего. И тогда, в канун перестройки, именно так все и начиналось: истинный талант - как по мнению окружающих (в сталинские времена те хоть молчали в тряпочку), так и по его собственному разумению, - зачастую так и не получал должного вознаграждения за свои труды. Бесталанность и глупость также не могли полностью удовлетворить своих амбиций - частью по объективным обстоятельствам, частью же по причине присущей им зависти, а именно советской ее формы. С другой стороны, загнивавшее государство мало-помалу возвело критику в собственный адрес в ранг мании собственного преследования. Однако не следует забывать и о том, что принцип равенства в нашем обществе в некоторой степени уже успел осуществиться и, являлся - согласно воззрениям сторонников эволюционного развития социализма, к коим я себя относил и отношу, - настолько весомой ценностью, что во имя его отстаивания, мною и многими моими соратниками в определенных условиях допускалось - как это впоследствии и приключилось, - применение весьма сильнодействующих и не всегда законных средств. Ведь историческая справедливость в том, между прочим, еще и состоит, что простым, среднестатистическим жителям нашей страны (да и всей Восточной Европы, коли на то пошло), при всех этнопсихологических и прочих различиях между ними, возникший в стране общественный уклад - с учетом всех его недостатков - предоставил множество вполне реальных благ, во всяком случае, неизмеримо больше, чем предшествовавший ему и доныне упрямо идеализируемый некоторыми известными миссионерами монархический строй. И даже изначально присущая новому обществу неизбывная суровость и даже жестокость - отрыжка сталинизма - была где-то там, далеко, на бескрайних просторах нашей необъятной родины, в тюрьмах и лагерях, а так, в целом... При социализме человек человеку был отнюдь не зубастый волк, а друг, товарищ и брат, что и было, кстати, вполне черным по белому зафиксировано в немного смешном, но, как-никак, официальном документе - моральном кодексе строителя коммунизма. Миссионеры же задались целью доказать, что это вовсе не так, что идеальный человек - не полноценный гражданин, а всего лишь тварь-одиночка, что рынок и собственная цена на рынке - суть главное в жизни. Вне этого основополагающего постулата не смогли бы появиться на сцене ни М.С. (а может С.М.), ни собиравшийся подхватить эстафету из его слабеющих рук младший его подельник, более известный под партийными псевдонимами "Царь Борис" и "Годунов", разделивший впоследствии бесславную судьбу своего предшественника. Простенькая истина же состояла в том, что с началом "перестройки" философские споры о переменах почти сразу переместились на улицу, а крамольный вопрос о власти вновь приобрел ключевое значение, ибо взбудораженные миссионерами и их высокопоставленными пособниками неразумные массы и сами не ведали, что начинают действовать себе во вред. Не удивительно, что на этом фоне иностранная агентура стала легко проникать даже в святая святых партийного и государственного аппарата. Вот и получилось, что в определенный исторический момент спасать от повального разрушения созданное ценой огромных жертв предшествующими поколениями революционное общество социальной справедливости выпало, как ни парадоксально, лишь самым решительным его охранителям - хорошо еще, что на практике таковых оставалось еще достаточно много. Повсеместно распространившаяся тогда потребность переиначить существующие правила общежития на потребу исключительно собственному эгоизму, по сути своей проистекала именно из присущих обществу первичного равноправия недостатков: уравниловки, самодурства многочисленных начальников, пренебрежения к экономическим стимулам человеческой деятельности и, конечно, из бесконтрольности исполнительной власти. Но в данном случае ни на подтверждающий все это фактологический материал, ни на очевидные ошибки и просчеты высшего руководства и ссылаться-то не хочется, ибо все это - частности. В конце-то концов, усилиями ОССС мы отринули смерть и отстояли нашу жизнь. Главный урок "перестройки" состоял, по-моему, в выявлении скрытого дотоле парадокса - ведь самая, казалось бы, материалистическая идеология в истории человечества, получив в ноябре 17-го шанс на общечеловеческое развитие, всего за несколько десятилетий - срок исторически ничтожный - породила противоречивую смесь идеализма в умах и мелкой, грошовой расчетливости в действиях. И это выпуклое противоречие не могло однажды не проявиться во всей красе. Сопутствовавшая обществу первичного социализма система власти, - каюсь, что был ее непосредственным соучастником, - постепенно выродилась в вертикальное сообщество полуграмотных копеечных интриганов и настроилась, таким образом, на саморазрушение, хотя ставить под сомнение ее амбициозный курс на мировую доминацию не считалось возможным вплоть до самого последнего дня. Однако вместо того, чтобы опираясь на законопослушное население спасать ситуацию, М.С (а возможно и С.М.), этот жалкий лицемер и карьерист, - можно подумать, что в юности кто-то втиснул его в компартию насильно, - решил испить до дна предложенную миссионерами чашу и, под оглушительные аплодисменты мирового империализма, лично возглавить разрушительные процессы в нашем обществе. Более того, будучи формальным лидером союзного государства, он посмел публично согласиться с утверждениями миссионеров всего мира будто наша единая страна вовсе не союз равных, а империя типа царской - после этого признания удержать огромную и именно силой единства отразившую фашистское нашествие многонациональную страну от развала, стало труднее во стократ. Можно лишь поражаться тому, как адептам социальной справедливости из ОССС и подчиненной ей системы Служителей Истины (СИ) все же удалось выдюжить и, разделавшись в августе памятного мне 91-го года с горбачевцами и миссионерами, сохранить целостность страны, проведя ее буквально по кромке пропасти. Но это было немного позже, а тогда... Вместо того, чтобы исправить или, на худой конец, подправить общество, горбачевцы, исходя из присущей им лени и сопутствовавшей ей бессовестности, объявили это принципиально невозможным. Общество они решили выворотить наизнанку, разумеется небескорыстно. На моей памяти коррупция в той или иной степени всегда подтачивала основы государственности, но при М.С. она расцвела настолько буйно, что стала нуждаться в идеологических оправданиях и они, увы, не заставили себя ждать. В результате конкретные носители коррупции возомнили себя примерными гражданами. С сожалением отмечаю, что миссионеры - как правило, лично порядочные, но слепо ненавидящие Советский Союз люди, - во имя ложных политических целей пошли сперва на скрытый, а затем и на открытый союз с коррупционерами всех мастей, предоставив им в полное распоряжение как свои интеллектуальные возможности, так и целую демократическую идеологию. Теперь коррупционерам уже сравнительно нетрудно было отвлечь внимание сидящего на мизерной зарплате и утерявшего привычную перспективу трудящегося люда от преступной долларизации экономики, порожденной ею инфляции рубля и прямого присвоения народной собственности, и направить его энергию на достижение иных, вроде бы высоких целей. Например, на защиту прав человека, на обеспечение свобод совести и слова, на развитие этнической самобытности вплоть до отделения национальных республик от Союза и создания независимых государственных образований, а в целом - на достижение мнимых и действительных экономических, гражданских и сексуальных свобод. Любимой темой подконтрольной миссионерам прессы стал подсчет количества жертв коммунистического режима за все десятилетия его существования, а сакральной ее фразой - некая высшая мудрость, звучавшая примерно так: "Если вы такие умные, то почему вы такие бедные?". Внешние приоритеты страны объявлялись либо несущественными, либо вовсе несуществующими. Припоминаю, что во всей этой вакханалии присутствовал еще один, особенно неприемлемый для меня нюанс. Достижения нашей науки на земле и в космосе, особенно точных ее дисциплин, коими наш народ всегда справедливо гордился, слишком часто высмеивались безграмотными писаками от журналистики, которые цинично коря советскую науку за отсталость, в то же время не стеснялись тратить огромное количество лживых словес во имя дальнейшего уменьшения ее бюджетного финансирования. Сие, в условиях американского научного лидерства, объявлялось ненужной роскошью, а работникам умственного труда, всяким там старшим и младшим научным сотрудникам, предлагалось либо вовремя записаться в стан миссионеров-демократов, либо взять в руки мотыгу и грабли дабы физическим трудом зарабатывать себе на жизнь. Не удивительно, что наука постепенно вытеснялась астрологией, научные прогнозы подменялись гороскопами, на экраны телевизоров хлынул поток шарлатанов с дипломами и без, но бог с ней, с наукой... Снявши голову по волосам не плачут, до науки ли было, когда рушилось все государство, весь привычный уклад жизни. В моду вошло посыпание головы пеплом по поводу и без повода, вор в законе как-то незаметно превратился в героя, демагог - в правдолюбца, взяточник - в мецената, преступник предстал гуманистом. Не удивительно, что фрондирующие пичужки, совсем недавно браво пописывавшие нравоучительные статейки о пользе воспитания молодежи в духе верности идеалам коммунизма, начали ощущать себя если не потомственными миссионерами, то хотя бы могучими борцами за свободу. Тогда же на весь мир прошумело перевранное по одному из телемостов СССР-США (очередное изобретение горбачевцев) заявление наивной советской участницы о том, что в стране у нас, мол, нету секса. Бедная девушка, которой ведущий просто не дал завершить осмысленную фразу, попала под волну гомерического хохота присутствующих, а впоследствии была отдана зубрами продажной журналистики на растерзание толпе. Подрастающему поколению великой державы примером для подражания предлагалась чистая в помыслах проститутка. Проституция вообще - и не всегда, кстати сказать, телесная, - воспевалась всеми возможными и невозможными способами, принципиальность и верность подлежали осквернению и осмеянию, о светлых революционных идеалах уже и поминать вслух считалось неприличным. Возобладали эпигонство, низкопоклонство, самоуничижение, мазохизм. Возникавший на наших глазах священный союз между продажной частью высшей партийной номенклатуры (т.н. "крышей") и всеми теми, кто проходил в агентурных данных под секретным кодом "демшиза" - недовольными, нелояльными, идиотиками, дешевыми авантюристами, психически озабоченными людьми, мелкими добровольными шпиончиками иностранных государств, - постепенно стал угрожать самим основам нашей государственности.
Итак, ментальные горбачевцы, низложив Маркса и Ленина, но не смея предложить на их место собственного лидера, выдвинули на эту роль известного академика-миссионера, отца советской атомной бомбы - по их замыслу, его канонизация в качестве морального авторитета помогла бы отвлечь народные массы от реальных жизненных проблем. А ведь у М.С. когда-то был выбор, в самом начале его деятельности ему доверяли, верили в то, что его реформы направлены на освобождение общественного строя от деформаций при непременном сохранении социалистического характера громадного государства. Тогда ему удалось обмануть и увлечь за собой даже таких вроде бы не очень наивных персон, как я. Однако вскоре выяснилось, что все его реформы - блеф, и пока ОССС цацкается с миссионерами, общество претерпевает труднообратимые изменения. Причем даже за невиданно широкое распространение таких явлений, как гомосексуализм и педофилия, равно как и за очевидный приплод маньяков-каннибалов на территории страны, адепты новоявленной демократии возлагали ответственность исключительно на давно почивших в бозе коммунистических вождей. Озвученное "демшизой" извращенно-ублюдочное сознание юродивых - вот что выдавалось дирижерами миссионерской кампании за солидарность всех потерпевших от советской власти. Прошло совсем немного времени (хотя М.С.- С.М. пока еще формально считался высшим руководителем страны) и защита государственных интересов окончательно была объявлена нарушением суверенных прав советских граждан, лозунг дружбы народов исподволь сменился на полную его противоположность, а любая сходившая с уст миссионеров брехня стала почитаться за мудрость откровения. Несогласные подвергались моральному террору и беспощадно высмеивались; их величали совками и ретроградами, а также доносчиками и тайными агентами органов безопасности (хотя их критики, нередко бывало, и сами ранее прислуживали этим самым органам в качестве мелких платных агентов). Привычые ценности подменялись суррогатами, ибо сознание обычного советского человека, вне зависимости от его этнической принадлежности, подлежало раздвоению сознания, и первой истинной жертвой "перестройки" должна была пасть мораль - в этом и состояла суть т.н. Демократической Ловушки, ничего общего, естественно, с подлинной демократией не имевшей.
Ментальные горбачевцы, для которых страна была лишь резервуаром природного сырья, при помощи обманутых ими, как сейчас представляется, миссионеров, поставили перед собой преступную геополитическую цель: выставить Советский Союз на распродажу, причем не оптом, а, так сказать, в розницу, по частям. Для этого, играя на святых для большинства честных людей понятиях, - таких, например, как любовь к родине, - ими планировалось создание на месте исчезавшей евразийской державы как минимум пятнадцати - по числу республик (а то и больше - по числу автономии), - националистических монстров, призванных за недорогую плату вывести свои оболваненные народы на мировой аукцион дешевой рабочей силы. Причем по законам торжища их дремучий, искусственно культивируемый национализм заканчивался бы на границах бывшего (так они планировали) СССР и не подлежал искоренению даже с его распадом, а за кордоном всем бывшим "совкам" была уготовлена единая участь - участь рабов индустриального и богатого внешнего мира. Впрочем, номенклатура горбачевского призыва свои заслуженные тридцать сребренников намеревалась истребовать и получить в любом случае. И, подумать только, как близко они подошли к осуществлению своего коварного плана. И кабы не рыцари - иного слова и не подберу - из ОССС, правящая КПСС пала бы окончательно и держава рухнула бы вместе с ней.
Народ наш в целом простодушен и вовсе не удивительно, что с ним, найдя опору внутри страны, решили поиграть извне. В большей мере удивляла, даже поражала, скорость разложения государственных структур. Борьба за чистую власть и за очень большие деньги велась от имени все быстрее нищавшего населения, которое оставалась разменной монетой в этой грязной игре. Именно этому населению предстояло, по замыслу внутренних противников социализма, попасть в Демловушку и уже в ней сполна расплатиться за всю свою первозданную наивность. Была намечена и высшая международная цель. Сделать мировую политику заложницей внешне разобщенных, на самом же деле сплетенных в единый невидимый кулак специальных служб и воплотить в жизнь оруэлловский сценарий развития человечества - вывернув его наизнанку, раз и навсегда.
Тем временем, опасность проистекавшая от заключительной фазы "перестройки" становилась все более грандиозной. Все переворачивалось с ног на голову. И жертвой номер один, как я уже упоминал, пала мораль. Впрочем, простые люди, пусть не всегда осознанно, сопротивлялись давлению как могли.
Один мой друг, весьма интеллигентный и нестарый еще человек, физик по профессии и доктор наук по научному званию, часто посещавший многотысячные антисоветские митинги в центре Тбилиси и позволивший, наряду со многими другими, вовлечь себя в Демловушку еще при Горбачеве, позже рассказывал мне об одном памятном эпизоде своей жизни. Привыкший в проклятое советское время к минимальному комфорту и длительному оплачиваемому отпуску, и ни в коем случае не допускавший к себе саму мысль о том, что физический голод может коснуться и его семьи тоже, он неожиданно обнаружил что остался ни с чем. Пустой карман, полупустой желудок, трехмесячный младенец дома и вечные причитания обманутой в лучших ожиданиях жены - вот самая общая картина его растительного существования в разгар провинциального вооруженного конфликта времен активной фазы "перестройки". Популярные тогда националистические идеи, однако, не захватили его в должной мере, а участвовать в бойне с автоматом в руках ради непонятных и далеких ему целей, представлялось совершенно невозможным по множеству самых различных причин. Поэтому приходилось выкручиваться как-то иначе. Подступали холода, рассчитывать - как очень быстро выяснилось - было не на кого, так как все близкие ему люди оказались под прессом сходных проблем, и он дальновидно решил создать на зиму хоть какой-то запас картошки.. Хлеб уже тогда подлежал нормированию и выдавался городским жителям по талонам, но при определенном везении и проявив некоторое упорство и ловкость, из громадных ночных очередей у хлебозаводов - отстояв в них по нескольку раз - все же можно было извлечь некоторое количество вкусно пахнущих буханок. В сельских районах республики тогда образовался громадный дефицит хлеба, и многие жившие впроголодь городские жители - вне зависимости от их прежнего социального положения - старались вывозить из города свои скромные хлебные излишки и менять их на традиционные деревенские продукты. Развитие этого нехитрого бизнеса немедленно поставило под удар снабжение городского населения хлебом и вызвало ответную реакцию властей. Мой друг довольно долго одолевал терзавшие его сомнения, и за это время власти успели издать особые правительственные постановления, запрещавшие вывоз хлеба из города, но положение складывалось безвыходное и молодой доктор наук решил рискнуть - в атмосфере всеобщего бардака его попытка имела бы неплохие шансы на успех. Поначалу ему действительно сопутствовала удача. Не раз и не два той осенью, ранними-ранними утрами, еще до рассвета, перекинув за плечи переполненный буханками рюкзак, он осторожно продирался сквозь вооруженные патрули сновавшие на подступах к перрону, и законопослушное сердце его при виде их всегда вздрагивало и замирало, успокаиваясь лишь тогда, когда удавалось наконец втиснуться в переполненный вагон раскуроченной электрички. Вожделенные картофельные поля были, в основном, сосредоточены южнее Тбилиси, ближе к границе, в населенных азербайджанцами районах. Поезд ехал очень медленно, одолевая часа за четыре расстояние, на преодоление которого ранее требовалось от силы два. Вся медь - кроме защищенного высоким напряжением контактного провода - на всем протяжении пути была вырвана контрабандистами с корнем и продана за границу в качестве лома цветных металлов, и семафоры, естественно, не работали. Тем не менее, железная дорога, оставаясь относительно дешевым и доступным видом транспорта, функционировала с большой нагрузкой, но соблюдение всех правил безопасности не представлялось в таких условиях возможным, и потому машинисты водили составы очень осторожно, на свой страх и риск.
В тот памятный ему ноябрьский день - и это оказалось его последней ходкой, - мой друг добрался до места назначения, как и прежде, без приключений и совершил весьма успешный бартерный обмен: выменял на двенадцать свежих буханок хлеба целых три ведра ядреной картошки. Собравшись в обратный путь и очутившись вскоре на узенькой, ставшей ему привычной платформе, он уже стал предвкушать, как заявится домой несколько часов спустя, отсыпает трофейный картофель в предназначенный для этой цели и чудом сохранившийся с доперестроечных времен громадный картонный ящик из под цветного телевизора, и, отдышавшись, примет тепловатый (о горячем нечего было и мечтать) душ, но вечно припозднявшейся тбилисской электрички на этот раз не появлялось слишком уж долго. Тем временем неожиданно повалил снег, первый настоящий снег в том году. Хлопья его становились все крупнее, день же начал клониться к вечеру, и среди ожидавших электричку на платформе таких же как и он бедолаг прошел слушок об обрыве контактной сети на трассе. Мой друг встал перед неприятным выбором: продолжить ожидание с неясной перспективой заночевать в мусульманской деревне в расчете на сердобольность местных жителей, или же пуститься по шпалам в путь до крупной узловой станции Марнеули, отстоявшей от платформы километров на пятнадцать - добираться до столицы оттуда было бы гораздо проще. Поделившись идеей похода по шпалам с несколькими крепкими на вид мужиками - одному пускаться в путешествие было страшновато, - ему удалось уговорить двоих из них - армянина и азербайджанца - державших путь именно до Марнеули. Сказано - сделано. Шли они споро, растянувшись по шпалам коротенькой цепочкой и мало разговаривая друг с другом. Снег почти не мешал им идти, но через пару часов, уже где-то на подходе к станции, когда железнодорожное полотно стало раздваиваться и растраиваться, а вдали уже показались контуры первых городских домов, за замыкавшим эту небольшую цепочку моим другом неожиданно увязалась свора собак. Сначала он пытался не обращать на них внимания и просто ускорил, насколько это было возможно, шаг. Собаки немного приотстали, но одна, особенно активная, самая большая и самая грязная из них, видимо вожак своры, с громким лаем все же увязалась за ним и все норовила куснуть его за пятки. Мой друг, парень в общем-то не из робких, решил остановиться и обернуться. Но оборачиваясь, он неудачно поскользнулся на мокром рельсе, и больно упал. Тут уж пришлось заорать что есть мочи и во весь голос призвать на помощь несколько обогнавших его попутчиков - их национальность и вероисповедание интересовали его в тот момент меньше всего на свете. Упавши он оказался на четверинках, и глаза его поравнялись с глазами собаки. Потом друг рассказывал мне, что в то мгновение ему было дано узреть в глубине ее бездонных немигающих глаз пресловутую Демократическую Ловушку во всей ее полноте, весь шум ее и всю ярость, раскрыть все обманы ее и махинации, все сладостные ее посулы и неисполнимые обещания, все сокрытые в ней неутолимые страсти и неутоленные желания. Но в них, в этих яростных глазах, ему открылся еще и длинный узкий лаз, ведущий куда-то далеко в пропасть - пропасть своего реального падения, - и он, попытавшись взглядом достичь дна этой пропасти, но так его и не достигнув, вдруг немощно и негромко завыл. Собачий лай неожиданно смолк. При виде стоявшего на четверинках между сумеречными серебристо-лиловыми рельсами и отчаянно воющего доктора наук, многоопытный пес испугался и, поджав хвост, убежал... Стоявшие поодаль в ожидании вожака собаки послушно последовали за ним, и подступившим к моему другу на помощь с камнями в руках попутчикам уже некого было отгонять. Они лишь помогли ему, все еще подвывавшему и постанывывшему, подняться - по счастью, упав, он не ушибся, - и дойти до станции. В конце концов дневная мечта моего друга осуществилась далеко за полночь: ему удалось таки доехать до тбилисского вокзала не утеряв при этом ни единой картофелины, и вскоре оказаться дома, в относительном тепле и, главное, в безопасности. Жене про свое приключение он ничего не рассказал, ибо она и так казалась чрезмерно взволнованной его опозданием, но больше в ту деревню за картошкой не ездил. К счастью, к тому времени ему все же удалось создать кое-какие запасы, что и помогло им пережить ту страшную, памятную зиму.
Х Х Х
Итак, мы с Антоном твердо решили как следует проучить ненасытного Хозяина, сколь незаслуженно, столь и безнаказанно пользовавшегося всеми земными благами в полное свое удовольствие. И мы вполне точно определили самое чуткое звено системы его жизненных ценностей: деньги, деньги и еще раз деньги. Без денег трепыхаться бы ему рыбой в отсыхающей под полуденным солнцем луже. Было очевидно, что нанести зарвавшемуся наглецу чувствительный укол прямиком в сердце возможно лишь похитив у него достаточно крупную сумму денег. В остальном, по нашему мнению, он был неуязвим.
Наверное, пришла пора упомянуть и о том, что в студенчестве своем я как-то незаметно для себя попал в плен к Достоевскому. Глубоко почитая его гениальность, залпом читал я и про Карамазовых, и про село Степанчиково с его обитателями, и про Верховенского, и про Шатова, и, в довершение ко всему, искренне восхищался Родионом Раскольниковым, как человеком Посмевшим, решившимся переступить через препятствия, колебания, сомнения и условности, но сохранившем, несмотря ни на что, и понятие о чести, и доброту, и сострадание к людям. Значит можно все же поступать по-своему и оставаться человеком! Но, боже мой, как я тогда читал Достоевского! Ведь я упивался им как детективом или фантастикой, трудно поверить, но так и было со мной на самом деле. Я и "Преступление и наказание" прочел так, словно это был приключенческий роман, с убийством, с погоней и следователем, с соответствующей развязкой и так далее. Ну или почти так. Во всяком случае психическую неуравновешенность несчастного студента я относил к слабостям клиническим, а не идейным. Уж я-то на его месте, мнилось мне, никак не допустил бы тех грубых, непоправимых ошибок, что понаделал он и попался. Я одновременно ему сочувствовал и презирал его. Лет семь-восемь спустя мое мнение о романе и его главном герое изменилось почти до неузнаваемости, но семь лет - это семь долгих лет, многое смешавшись. А тогда, не в последнюю очередь благодаря образу Раскольникова, мною овладело убеждение в допустимости насильственной формы самоутверждения. Я с негодованием отверг бы всякое подозрение в том, что сам способен убить человека, но не убийством же одним! Лишь одно условие считал я действительно обязательным - самоутверждение не должно превращаться в самоцель; оно способно оправдать себя только растворяясь в космического масштаба идее. Беда Раскольникова, - это беда личности возомнившей себя сверхчеловеком, белокурой бестией, Наполеоном без трона, рассуждал я. Ну а случись что человечество могло бы избавиться от нищеты, болезней, угнетателей-кровососов только ценой убийства скупой старухи, или даже всех скупых старух вместе взятых? Что? Не стоило бы заплатить такую цену? Разве справедливо презирать и, тем более, наказывать Раскольникова - не того что в романе, а идейного до мозга костей, - только за то, что он нашел в себе силы во имя общечеловеческого прогресса раскроить старухе-процентщице череп? Прогресс требует жертв и всегда получает требуемое - так было, есть, и так будет. Раскольниковы сами творят свой высший суд, но человечеству все равно не обойтись без них, они необходимы как фермент, как бензин для мотора внутреннего сгорания - бензин сгорает, а машина едет вперед, преодлевая совсем иные барьеры. И идейные Раскольниковы заслуживают тем большего уважения, чем страшнее их личная судьба; ведь ей, как правило, как и судьбе бензина, не позавидуешь. Впрочем, с глаз долой - из сердца вон. Я часто спорил сам с собой. Ну как прикажете определить необходимую и достаточную дозу спасительного насилия? Где остановиться? Но вопросы - вопросами, а, как-бы то ни было, человек, посвящающий жизнь борьбе за торжество справедливости и свободы, всегда должен быть готов к применению силы. Иначе его принудят расписаться в собственной беспомощности и он прослывет жалким шутом и в глазах современников, и в памяти потомков. Такие вот соображения. Нетрудно представить с какой радостью и с каким облегчением воспринял я согласие Антона после той неповторимой пьянки.
Хозяин стоил миллионы. Миллионов могло быть пять, а могло и все пятнадцать, во всяком случае так полагали многие уважаемые и заслуживавшие безусловного доверия люди, как-то: моя матушка, родители Антона, ученый сосед с первого этажа, наши сокурсники, горожане... В общем, имя им было - легион. Ну а после той пьянки у нас улетучились последние сомнения: у себя на квартире такую барахолку мог устроить только неофициальный миллионер. И когда Антон согласился, у меня отлегло от сердца. Утром, переговорив на ясную голову, мы с ним подтвердили наше первоначальное решение. И только после этого взялись за дело по-настоящему.
Судя по всему, некую часть своего состояния делец хранил в сейфе, о существовании которого он так неосторожно сболтнул. Сейчас нам предстояло основательно поломать головы над тем, каким образом добраться до вожделенной бронированной цитадели. Разработанный нами в общих чертах план длительной правильной осады выглядел следующим образом: втерясь в доверие к Хозяину и завоевав прочные его симпатии, заполучить естественное право захаживать к тому по-свойский в любое время суток и постоянно провоцировать на столь приятные его сердцу пирушки, а в надлежащий момент опоить его до беспамятства и воспользовавшись беспомощным его состоянием, снять слепки - а никак не похитить, дабы не будить последующих подозрений - со всех ключей, которые при нем окажутся (по нашему мнению, учитывая частнособственническую психологию Хозяина, не могло случиться так, чтобы ключ от сейфа не находился бы при нем постоянно). Затем, при первом же удобном случае, следовало проникнуть в квартиру Хозяина, вскрыть сейф и перенести его содержимое в загодя определенное надежное место. Мы понимали, что осуществить задуманное будет далеко не просто и непредусмотренные первоначальным планом препятствия придется преодолевать импровизируя, с ходу, но надеялись на лучшее. Жребий был брошен.
Итак, спустя несколько дней после описанного выше пира, мы вскладчину наскребли денег на пару бутылок неплохого коньяка и, купив в ближайшем гастрономе два "Енисели", заявились к гаражам и дождались появления хозяйского "Мерса". Когда счастливый обладатель редкой тогда иномарки неспешно и вальяжно вылез из машины, мы решились перехватить его на полпути к подъезду, и (как только наглости у нас достало, уму непостижимо) без особых предисловий объявили о своем желании спрыснуть полученную якобы утром стипендию, да еще и в гости к нему напросились, будто только и делали, что пировали с ним в его холостяцкой берлоге. Вот так, у воспитанных пай-мальчиков хватило нахальства... Впрочем, нам пока нечего было терять. Откажи он, и провалился бы наш замечательный план, вся наша авантюра и, как знать, может и к лучшему, на нет и суда нет... Но он не стал строить из себя недотрогу, только удивленно взглянул на завернутые в старую газету бутылки и переспросил: "А чего хорошего-то произошло, друзья мои?". Тогда Антон вновь сослался на полученную утром стипендию и сильное желание промочить горло в этот промозглый, слякотный февральский день, а я, как и было между нами условлено, добавил: "Не хотим оставаться перед вами в долгу, вот и предлагаем разделить с нами нашу небольшую радость". Хозяин какое-то мгновение оценивающее молчал, а затем широко улыбнулся, залихватски хлопнул меня по плечу и весело приказал: "А ну-ка, айда ко мне!". Начало складывалось удачно. Но когда, предварительно усадив нас за кухонный стол, он откупорил обе бутылки и вылил их содержимое в раковину, мы, откровенно говоря, не только обомлели, но и немного испугались. Теперь нам несдобровать, он обо всем догадывается, почему-то подумалось мне. Но, покончив с бутылками, Хозяин повернулся к нам и, выпятив грудь колесом, громогласно и с напускной строгостью заявил: "Ребята, мой дом для вас всегда открыт, но за кого вы меня принимаете? Не хватало только чтобы вы тратились на коньяки, с вашими-то деньжищами. Кроме того, да будет вам известно, от магазинных коньяков у меня бывает изжога. Так что грабить будем мои погреба". И сказав это, Хозяин, в подтверждение того, что и в самом деле является владельцем погреба, вытащил из кармана толстую связку ключей и внушительно ею потряс.
Уже пару месяцев спустя мы были с Хозяином на короткой ноге. Нам действительно удалось втереться к нему в доверие, досконально познакомиться с его характером, окружением, привычками, а заодно и с планировкой его квартиры. Мы, кстати сказать, с удивлением обнаружили, что входная дверь не оборудована какими-либо специальными запорами. В общем, сближение наше развивалось такими темпами, что и притормозить-то было некогда. Мы, терзаясь от предчувствия опасности, неслись к финишу, который сам себе уготовили, только вот признаться себе в собственной слабости не решались. Выпущенный из кувшина джинн приобрел над нами непомерную власть, и мы пили, пили, пили как... как никогда раньше. А делец... Делец искренне радовался нам. Он, видно, сильно истосковался по простому, свободному от корысти и шкурничества человеческому общению, и потому широко и радушно распахнул перед нами двери своего дома. И мы пили, пили, пили. Говоря по совести, нам очень нелегко дался переход на слишком напряженный для наших неокрепших организмов алкогольный режим - в среднем два-три выпивона в неделю, как у заправских алкашей, - но чего не сделаешь идеи ради! Дома приходилось нелепо фантазировать, допоздна скрываться от родительских очей, выдумывать несуществующие дни рождения, именины, крестины, свадьбы и прочие официальные и неофициальные праздненства. Мать, конечно же, сразу приметила, что я частенько заявляюсь домой нетрезвым, то и дело закатывала мне взбучки, да мне и самому бывало неприятно оправдываться и строить из себя невинного дурачка. У Антона дома тоже происходило нечто подобное. От полномасштабного родительского гнева нас спасало лишь то, что эти пирушки Хозяин закатывал не очень регулярно. Откровенно говоря, я успел себе опротиветь, и не будь я убежден, что пью и лгу лишь во имя высшей справедливости, то наверняка бросил бы всю эту игру к черту. Наверное, так было бы лучше. Но это ясно сейчас, задним числом...
Х Х Х
Шестой час утра.
Замминистра беспокойно ворочается в постели. Из открытого окна вместе с душным летним воздухом в комнату, ну и пекло, накладывая медноватые мазки на потолок и стены проникают первые утренние лучи. Привстать с ложа и задернуть окно портьерой нет ни желания ни сил, да и свет пока не сильно режет глаза. Но приятного в этом мало, ведь скоро совсем рассветет, вот и пытается замминистра устроить свое склонное к полноте тело на постели таким образом, чтобы уберечь зрачки от пронзительных бликов, лицом на подушку, животом на матрас. Лежит так без движения, пять минут, десять, полчаса. Вот он уже перестал чувствовать руки и ноги, хочет шевельнуть пальцами, но бессилен - конечности будто отнялись. Неужели Его Величество Сон наконец снизошел к нему и теперь пред ним простирается сказочная страна потаенных мыслей и никем не узнаваемых вечных страстей? Да, похоже, он действительно уснул. Мозг гудит словно барабан. Или же наоборот: барабаны гудят в мозгу - бумбарасса, бумбарасса, бумбарасса. Что за чушь? Бумбарасса. Что за белиберда? Но нет, не чушь это и не белиберда, бумбарасса, есть что-то леденящее разум и стынущее жилы в этом настойчивом гуде, который, кроме всего прочего, служит фоном для самых разнообразных звуков. И какой стук стоит кругом! Стучат неумолимо, угрожающе, стучат железными кувалдами, кегельными шарами, бейсбольными битами, дирижерскими палочками, ветками и даже карандашами - всем, чем можно стучать. И барабаны отзываются смертоносной дробью - бумбарасса, бумбарасса, бумбарасса, а их хозяева весело жаждут крови, и слышно как нежно замирают их каннибальские сердца в унисон барабанному ритму: ведь невидимые барабанщики, в терпком упоении ожидания, рассчитывают скоро обрести желаемое и сполна насладиться видом терзаемой человеческой плоти. Бумбарасса. Вот он плывет куда-то на лодке, гребет изо всех сил, только вот куда плывет и почему гребет с таким остервенением? Река, широкая и могучая, то медленно и плавно катит свои сероватые мутные воды, то вздымается бурными водоворотами и вихрями, ей-ей, как бы лодку не затянуло куда-нибудь в болотистую тину. Но нет, пока нет. Берега еле видны в дымке стелящегося над водой тумана, но они есть, - эти берега, -неприметные на фоне буйной прибрежной растительности тонкие полоски. И войнственный гул барабанов доносится именно оттуда. Сокрытые под зеленой сенью тугих переплетений змееподобных лиан людоеды-кровопийцы, изнывая от голода и желания, сладострастно потирают мохнатые руки, и их кровавые намерения выдает шевеление их противных паучьих пальцев. Бумбарасса, не уйдешь, бумбарасса, не улизнешь, бумбарасса. Гремят барабаны судьбы. Ему становится жутко и боязно, но это постепенно проходит - он вспомнил таки откуда эти барабаны взялись: из далекого детства, из романа Конан-Дойля "Затерянный Мир", там тоже ворожили лесные духи с берегов Амазонки. Но река течет, Конан-Дойль остался далеко в прошлом, а густые заросли враждебных лиан и гром барабанов, - это слишком реально; там, позади, за отекшей от усталости спиной, неопределенность и страх, а впереди огромное багряное пятно заходящего солнечного диска. Совсем скоро на огромную излучину могучей реки опустится тропическая ночь, он точно знает, что опустится, усыпит на время ненасытных людоедов, даст ему долгожданный отдых. Но пока приходиться грести, налегая на весла изо всех подтаивающих сил. Как назло лодка запутывается в мохнатых - как пальцы каннибалов - водорослях, еле-еле движется вперед и наконец замирает. Ночь пока далеко и красный диск откровенно смеется над ним. Отчаявшись он отбрасывает весла в сторону, и, под неугомонный грохот барабанов, бессильно опускается на промозглое днище уставившись в равнодушное небо невидящими, остекленевшими глазами. И о чудо, только он ложится на днище, как лодка освобождается от подводных пут и плывет, плывет сама, без весел, против течения и воли водяных. Лодка быстро набирает скорость, а он садится на корму, еще немного и он окончательно воспрянет духом. Река становится узкой, бурлящей, а вода голубеет прямо на глазах. Лодка, влекомая мощным течением, мчится вперед. И тут он с ужасом догадывается, что облегчение-то - временное, что конец близок. Ну да, вот уже и голубая вода вновь сереет, превращаясь в жидкий асфальт и видно, как его поток по наклонной устремляется к мрачному, замерзшему диску и вливается в безжизненные солнечные недра. Но, увы - опалить человека адским пламенем, расплавив его бренное тело на составляющие атомы, способно даже мертвое солнце. Сраженный неприятным открытием он вновь, в припадке энергии, хватается за весла и пытается развернуть лодку обратно, но, разумеется, безуспешно. Неумолимые водовороты выталкивают ее в прежнее положение, и красный диск вновь готов поглотить его без остатка. И все громче гремят невидимые барабаны: бумбарасса, не уйдешь, бумбарасса, не уйдешь...
Замминистра неслышно шевельнулся на пропотевшей постели. Сон, кажется, полностью овладел его душой и разумом, радиола так и осталась включенной, обливая пол голубоватым светом, и багровый солнечный диск судорожно взметнулся над обреченным суденышком дамокловым мечом ...
...Барабаны гремят - бумбарасса. Несмотря на предзакатный час светло как днем, лодка стрелой несется по серо-асфальтовой речной глади, разве что ближе к берегам вода еще переливается мутно-зеленоватыми пятнами, и он, раз и навсегда вверяя душу и телесную оболочку роковым барабанам, прекращает наконец бессмысленное сопротивление. И, о чудеса, барабаны немедленно умолкают, видно людоеды только и ждали его капитуляции, и на берегах воцаряется мир и покой. Да никто и не собирается его трогать, никто не замышляет зла, нечего было грести против течения, пугать честных людей! А теперь все позади, он свободен, свободен! Тропики прекрасны, дьявол загнан в свою нору, а лодка так и мчится по реке и его охватывает безудержное веселье. Пора было сдаваться, он сдался и выбор его правилен, давно бы так! Барабаны требовали от него такую малость, бумбарасса, и этот огромный голодный диск на горизонте, такую малость... Угнетавший волю страх летучим паром вытекает из пор его кожи, и ласковое светило, забыв о собственном своем скором закате, легко приподнимается над горизонтом одаряя землю-матушку щедрыми лучами. Разум вновь подчиняется ему и мысли его приобретают обычную стройность. Все неправда, все его больное воображение. И никакая это не весельная шлюпка, а современный, оснащенный компьютером и мобильной связью речной катер, мощный мотор которого без малейшей натуги тянет против течения. Управлять таким судном очень легко, знай себе посматривай на монитор, да время от времени легонько нажимай на клавишу автоматического вызова, передавая свои координаты в Центр. Теперь-то он вспомнил как здесь очутился. Плывя на катере вверх по течению он выполняет свой высший долг. И затертая до дыр книжка Конан-Дойля помогает ему коротать время. Служебный долг. Ведь именно в этих местах, в почти первозданных дебрях Верхней Амазонии, вылезли из подземных глубин на поверхность эти богомерзкие твари - разумные пауки, и основали там колонию. Вырубили, непонятно каким образом, среди девственных джунглей поляну, как будто и не росли здесь никогда могущественные кедры и секвоии в окружении густых колючих кустарников и ярких тропических цветов, расположились здесь в свое удовольствие и запустили Послание в эфир.
Надо ли поминать о том, какой все это произвело эффект? Сенсация, равной которой не было в истории человечества. О, это было почище пришельцев, летающих тарелок, снежного человека, всяких там инопланетян. Сколько поколений людей мечтало о контакте с иным разумом, безуспешно искало следы чужих цивилизаций и на своей планете, и, обращая воспаленный взор в космическую даль, в поведении иных звездных систем, а Они, оказывается, все это время копошились под нашими ногами. Такого подвоха человечество не ожидало. Возвышенная, прославленная в летописях космическая идея обернулась сугубо земной проблемой. И хоть были бы это дельфины, или, на худой конец человекоподобные приматы, так нет же - мерзкие, гнусные пауки, давить бы их и давить! Но первоначальный паралич чуть-было не охвативший нервные центры человечества, скоро прошел; опасность, возможно смертельная и нависшая над миром во всей своей неприглядной мощи, была налицо. Необходимо было действовать - быстро, слаженно, без паники. Послание определенно адресовалось правительству Всемирной Федерации Государств - Объединенному Совету, оно содержало, помимо всего прочего, предложение начать переговоры и, какое-бы неприятное чувство новоявленные разумные членистоногие у человечества не вызывали бы, к предложению следовало отнестись с должным вниманием. Ибо переговоры эти были не столько желательны, сколько необходимы - хотя бы для зондажа возможностей потенциального противника, хотя бы ради того, чтобы выиграть время...
...Быть может это сны сыграли с ним такую злую шутку, быть может именно они перенесли его в далекое будущее, затмив и небритого собутыльника со стаканом водки в дрожащих, но цепких пальцах, и непристойную надпись на древней ржавой штукатурке. Унесли в грядущее так и не посчитавшись со всеми его святыми. Душная ночь скоро отойдет уступая дорогу не менее душному рассвету, приближается час отъезда на море, скорей бы, скорей...
...Первый тревожный звоночек прозвенел неделю назад. Зоркий телеглаз контрольного спутника зафиксировал в труднодостижимом районе перуанско-бразильской пограничной зоны в верховьях Амазонки некое буро-грязное новообразование на привычном зеленом фоне густого и почти непроходимого лесного массива. По внешнему виду феномен напоминал морскую звезду. Но уже через несколько витков выяснилось, что звезда превратилась в пятно правильной округлой формы. Витки следовали один за другим, а буроватый круг продолжал расползаться во все стороны, искореняя всяческую живность вдоль непрерывно растущего его периметра. Пятно быстро раздувалось, но достигнув приблизительно двадцати километров в диаметре, неожиданно прекратило расти. Снимки вызвали живой интерес в Космоцентре, особенно впечатляла именно правильная форма пятна. Хотя в принципе не отвергалась и возможность необычной лесной эпидемии или вспышки вулканической, либо горнообразовательной деятельности геологических пород, основное подозрение все же пало на неуловимых повстанцев. Немногочисленные, но вездесущие - считалось, что они способны выкинуть и не такой фортель. Например оборудовать под оголенной от растительности земной поверхностью очередную сверхсекретную подземную базу. И хотя совершенно неведома была причина, в силу которой гипотетическим повстанцам понадобилось вырубить сотни гектаров джунглей, и еще более неясно было, как удалось им это провернуть за столь короткий срок, - но гипотезу следовало проверить. Через пару дней после получения первых снимков самолет-крепость Патрульной Службы поднялся со взлетной полосы Межэтнической Контрольно-Исследовательской Базы "Ориноко-2" (национальных ВВС и, соответственно, военно-воздушных баз в старом понимании, давно уже не существовало) и взял курс на пятно. Пилоты, этнический брит Браун и этнический мальгаш Левеши, оставили заполненый по всем правилам маршрутный лист у дежурного инспектора Базы (насколько известно, это был последний человек, видевший летчиков живыми), совершили игривый круг над аэродромом и лихо набрали высоту. Самолет больше не возвращался...
Он взглянул на часы. Четырнадцать ноль-ноль по местному. Катер легко разрезает носом широкую водную гладь Амазонки и неотвратимо приближает его к цели. Что ж, штурвал в надежных руках. Его руках. Именно ему, хитрой лисе и старому, опытному дипломату доверил Председатель Объединенного Совета честь первого контакта. Чужаки твердо настояли на том, чтобы в начале переговоров весь род человеческий непосредственно представлял один-единственый его посланец, и Совет выразил уверенность, что ни один человек на матушке-земле, той самой, где люди всегда считали себя полными, хотя и немного неряшливыми хозяевами положения, не сможет выполнить историческую миссию с большим успехом, нежели он - Полномочный Посол. В портфеле у него довольно четкие инструкции и полный текст Послания, он наделен правом на некоторую инициативу, и, наконец, в память ему навечно врезались слова из той, последней, радиограммы Брауна и Левеши: "Видим на поверхности пятна гигантских членистоногих, напоминающих пауков. Идем на вертикальную посадку. Прием", и через несколько минут отрывистое:"Разгерметизация... Пауки наступают...". Потом наступило гнетущее молчание, рация на самолете, очевидно, вышла из строя, а может уже некому было вести передачу. Судьба пилотов и поныне покрыта мглой, ему же снятся кошмары в душную летнюю ночь...
Да, случай поразительный! Но пока на базе раскачивались, гадая что имели в виду под "пауками" летчики патрульной службы прежде чем окончательно умолкнуть, очередной спутник кружившийся вокруг Земли на более удобной для космических съемок орбите, передал в Космоцентр новую информацию. На желтоватом фоне ясно были видны крупные членистоногие существа. К этому времени подоспели сведения с "Ориноко-2". Становилось ясно, что повстанцы не имеют к феномену ни малейшего отношения. Человечество столкнулось с какой-то жутковатой загадкой. Что-то случилось.
Дальнейшие события развивались весьма захватывающим образом. Пока готовилась докладная Директора Космоцентра на имя Председателя Объединенного Совета, с 16.00 до 17.00 по Гринвичу радиолюбители всех стран и континентов (это обстоятельство указывало на то, что передача велась не только из района Пятна) на частотах 11,7; 9,6; 6,25 и 5,7 мегагерц могли слышать как сухой металлический голос раз за разом зачитывал на чистейшем английском языке текст следующего содержания:
Народы поверхности нашей общей планеты Регул - на ваших наречиях именуемой Землей!
Говорит радиостанция посольства подземной сверхцивилизации Регул. Мы приветствуем Вас. Гибель вашего летательного аппарата и членов его экипажа наступила в результате его агрессивных действий, направленных против персонала нашего посольства. Мы убедительно просим Вас сохранять спокойствие и не совершать безрассудных актов, способных нанести непоправимый вред делу мира на Земле. Наше посольство видит свою цель в налаживании первичных контактов с высшим правительственным органом надземной человеческой цивилизации. То, что Вы воспринимаете как Пятно, в ближайшее время увеличиваться не будет, так как освобожденная от лесного покрова площадь пока достаточна для того, чтобы посольство Регула могло успешно выполнять возложенные на него функции, однако режим экстерриториальности должен быть распространен на него немедленно и в обязательном порядке. В 22.00 по Гринвичу на данных частотах будет передано официальное Послание Правительства Регула. Повторяем значения частот: 11,7; 9,6; 6,25 и 5,7 мегагерц. Повторяем значения частот...
За короткий период времени, с 17.00 до 22.00 по Гринвичу 18 сентября 2092 года, руководящие круги Всемирной Федерации испытали сложную гамму чувств. Вначале все выслушавшие эту передачу (по всей Земле таких нашлось бы от силы несколько десятков тысяч человек - точная цифра неизвестна) искренне приняли ее за мистификацию новоявленных радиохулиганов. Но среди этих тысяч случайных людей была и сотня-другая "слухачей", - сотрудников, в чью прямую обязанность входило кропотливое прочесывание эфира. "Слухачи", недоуменно пожав плечами, корректно поставили в известность непосредственное региональное начальство, а руководители соответствующих региональных ведомств направили корректные рапорты в Федеральное Министерство. Никто не отнесся к содержанию передачи всерьез, никто не рвался открыть людям глаза, уже готова была начаться обычная ведомственная неразбериха, но, поскольку большинство информационных агентств планеты обладали собственными, чаще негласными, источниками прямо в Космоцентре, ближе к вечеру по Гринвичу, события в верховьях Амазонки, к ужасу федеральных бюрократов, стали достоянием крупнейших редакций и телекорпораций мира. В частности, первое достоверно зафиксированное известие о гибели патрульного самолета, с очень кратким комментарием промелькнуло в экспресс-репортаже Свободного Федерального Северо-Американского Агентства уже в 18.00. За ним последовали и более или менее приближенные к непознанной пока реальности сообщения других информагентств. Приблизительно в это же время Федеральный Министр Безопасности сопоставлял первые рапорты "слухачей" с донесениями командующего базой "Ориноко-2" и данными космической съемки. Контроль над средствами массовой информации в конце XXI столетия осуществлялся слишком тонкими методами для того, чтобы федеральная администрация - особенно при жестком дефиците времени - могла бы моментально заткнуть рты спесивым как кинозвезды комментаторам. Нетрудно представить себе последствия - в вечерних выпусках последних известий приводились уже и краткие биографии погибших, по всей видимости, пилотов, и обстоятельное внешнее описание пятна, и невероятные спекуляции по поводу неведомых паукообразных существ, и полный текст дневного, самого первого сообщения Регулян. Что и говорить - в 22.00 взбудораженное человечество, можно сказать, в едином порыве прильнуло к радиоприемникам. Послание выслушал практически каждый гражданин Федерации. Первоначальное безразличие сменилось вначале удивлением, затем оцепенением, а потом и первозданным страхом. Впервые в истории человечество - не на уровне отдельной нации, а в полном масштабе, - столкнулось с опасностью массового глобального психоза. Волнение передалось и высшим сановникам планеты. Необходимы были какие-то решительные действия. Вот в такой обстановке рано утром 19 сентября собрался на экстренное заседание Объединенный Совет.
Председатель Совета - высокий, широкоплечий, осанистый мужчина средних лет - вошел в зал заседаний едва успев унять охватившее его по дороге сюда волнение. В лимузине он пару раз с таким остервенением ударил кулаком по пуленепробиваемому стеклу, что даже видавший виды персональный шофер не посмел скосить глаза в сторону разгневанного патрона. Но Председателю довольно быстро удалось справиться с припадком гнева и лишь чрезмерно скошенный набок галстук, да еще то, что его бесцветный, сухой голос зазвучал тише обычного, выдали окружающим душевное состояние их признанного лидера. Уж кто-кто, а члены Совета давно научились различать мельчайшие оттенки тембра председательского голоса. Председатель сразу же попросил присутствовавших занять свои кресла за подковообразным столом президиума и поднялся на трибуну без всяких ритуальных формальностей - уже одно это предвещало нечто похожее на мощную летнюю грозу. Царившая в зале тишина, и до этого нарушаемая лишь изредка сдержанными и почтительными покашливаниями, как бы по мановению волшебной палочки сгустилась еще сильнее. Еще с минуту-другую в небольшом помещении раздавался еле слышный стрекот избранных видеокамер, после чего репортерам было предложено очистить зал, шутка-ли, Совету предстояло определить стратегию человечества на ближайшее будущее. Председатель, еще раз исподлобья оглядев собравшихся, вынул из широкого пиджачного кармана сложенную надвое бумажку, дабы зачитать заранее заготовленный личным и многократно проверенным в деле помощником текст, содержавший детальный обзор происшедших в последние дни событий. С этой частью уже нарушенного, но все же ритуала Председатель справился очень быстро, минут за пять. Члены Совета внимательно и вежливо выслушали высшего своего руководителя, хотя его выступление, естественно, не содержало какой-либо дополнительной, не известной им информации. Но отложив затем бумажку в сторону, Председатель направил совещание в иное, более открытое для обсуждения русло. В предназначенном для высших административных работников Федерации закрытом циркуляре заключительная часть его речи передавалась следующим - восстановленным по стенограмме и неприукрашеным - образом: "В общем, товарищи, надо что-то делать. Весь вопрос в том, останемся ли мы, люди, все разумное человечество, хозяевами на нашей планете - на суше, на море и в воздухе, или нам придется основательно потесниться. К сожалению, наши первоначальные надежды на то, что мы стали жертвами масштабной мистификации не подтверждаются фактами. Пауки, - это, увы, нечто реальное. Причем мы не должны упускать из виду и то, что так называемые пауки, или Регуляне, как они себя называют, возможно ставят конечной целью наше полное истребление как биологического вида, судя по тексту Послания их Лучшие и Разумнейшие, пропади они пропадом, рассматривали и такой вариант. И все это навалилось на нас именно теперь, когда человечество успешно справилось с большинством социальных и политических проблем, избавилось от войн, обеспечило себе безопасное поступательное развитие, вышло в далекий космос. Хорошо еще, что не в прошлые эпохи... Мы все под угрозой. Что-бы они не утверждали по поводу нашего самолета, как бы не изворачивались, каких бы дохлых собак на нас не вешали, это они совершили агрессию, а не мы. Это они вылезли на поверхность, а не мы полезли под землю. Не спорю, в Послании содержится официальное приглашение к переговорам, но ведь эти переговоры могут оказаться лишь дымовой завесой, скрывающей откровенно захватнические цели. В Послании они даже осмелились назвать род человеческий "погрязшим во внутренних распрях", ничего себе - лояльность. Думаю, товарищи, мы не дадим увлечь себя миролюбивой риторикой. После того как они беспардонно сбили нашу летающую крепость, я весьма обеспокоен самой возможностью безудержной "паучьей" экспансии. Мы не можем позволить себе сидеть сложа руки. На мой непросвщенный взгляд (тут Председатель не смог удержаться от иногда свойственного ему небольшого кокетства) пауки не могут вызывать у нас, у простых людей, ничего кроме ясного отвращения. Вы только постарайтесь представить себе, дорогие товарищи, готовых сожрать нас громадных плотоядных членистоногих существ, как в жестком триллере, бр-р-р. Итак, друзья мои, пауки, с которыми мы привыкли бороться при помощи хлорофоса и иттерпена, бросают вызов нашему безраздельному господству на земле! К сожалению, нам мало что известно о технических достижениях их, если можно так выразиться, цивилизации, хотя любой объективный наблюдатель уже сделал бы вывод о довольно высоком уровне их научных познаний. Каким-то образом, вероятно путем лингвистического анализа наших радиопрограмм, пауки изучили английский язык. Кроме того, они фантастически быстро освободили от вековой растительности значительный кусок нашей территории и ныне, мимикрируя его под своего рода посольство, используют в качестве первичного плацдарма, что, кстати, заставляет усомниться нас в мирном характере их действительных намерений. Тем более, что эти, с позволения сказать, дипломаты не остановились перед подлым уничтожением двух наших граждан, пусть даже вооруженных - их трагическая участь, по-моему, не может вызывать у нас сомнений. Возникает немало вопросов, и, несмотря на цейтнот, мы не можем допустить ни малейших промашек в ответах: Не теряем ли мы драгоценное время? Может ли человечество позволить себе сосуществование с иными формами разумной жизни на собственной планете? Что мы обязаны сделать для немедленного поднятия морального духа народов мира? Вам, товарищи, хорошо известны наши ресурсы. К счастью, нам хватило ума сохранить и даже нарастить запасы самого разнообразного биологического оружия, и при желании, вероятно, мы смогли бы стереть с лица земли данную колонию разумных паукообразных существ. Есть у нас и мощные лазерные установки, способные испепелять все живое с околоземных орбит, туда щупальца наших непрошенных гостей, надо полагать, не дотянутся. Но мы в ответе за все человечество, за его будущее. Где гарантии того, что наши гигантские мегаполисы, земельные угодья, вся наша инфраструктура не подвергнутся беспощадному и жестокому разрушению, управляемому с недоступных нам глубин? Раз им оказалось под силу уничтожить флору и фауну на территории в триста квадратных километров в Южной Америке, то что помешает им действовать аналогичным образом в других регионах мира? И, наконец, разве ликвидация одной-единственной колонии повлечет за собой ликвидацию их подземного мира, этого Дантова Ада современности? Конечно же, нет. Атакуя противника в момент когда он формально протянул нам руку для первого контакта, мы только озлобим его, подарим ему дополнительные основания для враждебных акций. Будь у меня уверенность в окончательной победе человечества, то я бы первым лично нажал на пускатель, но, к сожалению, последствия лазерно-космической атаки на колонию пауков пока непредсказуемы, а фатального исхода мы должны избежать любой ценой. По моему мнению - я никому его не навязываю, но полагаю, оно достаточно хорошо аргументировано, - сейчас нам необходимо выиграть время и, следовательно, принять предложение о начале переговоров. Параллельно сегодня же мы приступим к развертыванию всех полицейских и спасательных сил, приведем армию в полную боевую готовность. Штабам всех уровней следует учесть возможности противника по радиоперехвату и в максимально короткие сроки поменять действующие шифровальные коды. И наконец: не надо забывать о главном. Что-то вынудило их обратиться к нам с Посланием, что-то лишило уверенности в собственных силах, и мы обязаны исследовать природу этого положительного для нас нюанса. Товарищи, у меня пока все".
Закончив выступление Председатель сошел с трибуны, грузно опустился в персональное, одному ему принадлежавшее кресло и с полным безразличием выслушал аплодисменты, которыми коллеги наградили его выступление. Потом, будто вспомнив что-то важное, он придвинул к себе настольный микрофон и добавил: "Однако, товарищи, мы забыли избрать председательствующего. Даже в минуты такого испытания нельзя терять голову. Ошибку можно и должно исправить. Предлагаю... - он медленно оглядел зал. - Предлагаю вести сегодняшнее заседание нашему дорогому товарищу Энверу, члену Совета от Зоны Восточных Балкан, боевому генералу наших южноевропейских полицейских сил, впрочем, все вы его очень хорошо знаете... Но до голосования я хотел бы проинформировать Вас о принятом мною сегодня утром единолично - исходя из присущих мне полномочий и ввиду сложившейся чрезвычайной ситуации - принципиальном решении. А именно: новое положение о цензуре вступает в силу сегодня же, еще до созыва очередной сессии Парламента. Надеюсь, возражений я не услышу. И еще раз хотел бы подчеркнуть свою позицию: переговоры и еще раз переговоры. Надлежит без промедления назначить Полномочного Посла и послать его в район колонии в порядке предусмотренном в их Послании. Мы могли бы, конечно, поторговаться по процедурным вопросам, настоять на увеличении численности нашей делегации, но к чему? Более полезно будет узнать какого рода прием обеспечат "пауки" нашему безоружному посланцу. Посмотрим, что они понимают под проявлением доброй воли. Рано или поздно туман рассеется, а пока - переговоры. Сейчас же ставлю на голосование кандидатуру товарища Энвера. Единогласно", - и Председатель, откинувшись на спинку кресла, устало смежил веки. Первая гроза миновала.
Последующая кратковременная дискуссия показала, что члены Совета полностью разделяют точку зрения своего Председателя по всему кругу затронутых им проблем (впрочем, ключевые положения его краткого выступления мог подвергнуть критике лишь отпетый авантюрист, каковых в Совете давно не водилось). Слабенькую полемику вызвал вопрос о сроке созыва парламентской сессии, но, учитывая необходимость принятия правительством решительных и эффективных мер, сессию отложили до лучших времен. Именно сейчас Федеральное Правительство особо остро нуждалось в абсолютной свободе рук...
Да, ему никак не забыть как все начиналось - в 22.00 по Гринвичу он наравне со всеми слушал Послание по транзистору и ничуть не помышлял о какой-то новой дипломатической миссии возлагаемой по его душу. А ведь 2092 год выдался довольно спокойным. Мистификация, подумалось ему тогда, великолепная шутка повстанцев. Но, как ему впоследствии заявил Председатель лично, ни о какой мистификации не могло быть и речи. Мощные пеленгаторы засекли излучательную активность подземных пришельцев в верховьях Амазонки, и если бы только там... Председательский выбор пал на него, именно его назначили Полномочным Послом Человечества. И вот он ныне на пути к месту назначения...
...Замминистра отлично сознает, что все это лишь сон, забавное забытье. Он может приказать себе проснуться, если захочет. Но сон так увлекателен, а ему так долго пришлось бодрствовать, и такая мучительная жара кругом. Нет, нет - сейчас он не будет просыпаться. Еще слишком рано. Любопытно, однако, как поведет себя дипломат двадцатого века в критической ситуации конца двадцать первого? Перехитрят ли его чужаки, или же это он оставит их в дураках? Прельстится ли ролью великого миротворца, или же смирится с тем, что проблема носит сугубо военный характер и, следовательно, ему следует ограничиться выполнением разведывательных функций, проще говоря, стать соглядатаем? Поглядим, посмотрим...
Он сверяется с бортовым компьютером. Этой посудине понадобится еще пара часов для того, чтобы одолеть оставшуюся полсотню километров.
Автоштурвал уверенно ведет катер по фарватеру. У речных капитанов прошлого века от зависти слюнки бы потекли. Ишь каково, по фарватеру, огибая надводные и подводные препятствия! Впрочем, принцип тот же что и в крылатых ракетах, а им лет сто, если не больше. Полномочный Посол позевывая выходит из уютной каютки, поднимается на мостик, подставляет ветерку свое постаревшее, одутловатое лицо, - любой федеральный министр мог бы сейчас позавидовать его хладнокровию, - прикладывает к глазам сильный морской бинокль и лениво скользит окулярами вдоль пламенеющей там и тут орхидеями и лишайниками береговой линии. Все это успело ему порядком надоесть, но надо же чем-то занять себя. Но что это шевельнулось на берегу, там вдали? Пошаливает обезьяна? Или неуклюже пытается взлететь большая птица? А может покачивается верхушка невысокой пальмы? Что это ему мерещится... А вот опять... Да это же рука, обычная человеческая рука! Неужели... Надо бы остановить катер. Человек за бортом, один в джунглях, и ему наверняка плохо. Лень снимает как рукой. Полномочный Посол кидается в рубку, быстро набирает на клавиатуре компьютера нужную команду и, подчиняясь ей, катер резко сворачивает к берегу и вскоре мягко к нему причаливает. Лежащий на самой его кромке человек внезапно встает на четверинки, затем в полный рост, пошатываясь идет к судну и - словно из последних сил - переваливается через борт. Одежда его изодрана в отрепья, лицо все в царапинах, да и сам он, по всему видно, еле дышит. Полномочный Посол абсолютно убежден, что крайне истощенный и, вдобавок, обязанный ему спасением незнакомец не опасен, поэтому подносит к губам бедняги стакан воды и поит его собственной рукой. Гость, немного отдышавшись, постепенно приходит в себя и Полномочный Посол решается задать ему первый и самый естественный вопрос: "Кто вы?". Незнакомец, еле двигая запекшими губами, тихо отвечает: "Летчик погибшего самолета-крепости. Моя фамилия Браун, сэр". Времени в обрез и сплошные джунгли кругом. Полномочный Посол все же решает спрятать спасенного в своей каюте. На время переговоров, памятуя об обещании явиться к "паукам" без сопровождающего лица, гостя придется хорошенько запереть, а что же еще делать, как поступить?...
Х Х Х
Начало лета. Или поздняя весна. В прошлом году лето выдалось холодным и дождливым; июль словно март - лужи, туманы, свинцовое небо, серые плащи. Зато нынче под голубым небом глубоко дышит распустившаяся еще с весны светлая московская зелень, в аллеях и скверах стоят принаряженные листвой стройные, высокие деревья, воскресные улицы овеяны миром и спокойствием, и не подумаешь во что они превратятся завтра - толчея, грубости, муравейник, вечная спешка, Москва. А сегодня - солнце, тишина, зелень, сердечная тоска.
Да, сердечная тоска. Опустив голову Девочка бредет по тротуару. Места знакомые, гулять здесь ей приходилось и раньше. Скоро улочка перейдет в тупичок, а за тупичком, если проскользнуть по узенькой, невидной тропинке, начинается сад. Даже парк. Парк, в котором много тенистых аллей, лиственниц, заасфальтированных дорожек и длиннющих, давным-давно обжитых пенсионерами и малыми детьми скамеек. Существует, конечно, и парадный вход, но она предпочитает прошмыгнуть в парк по тропиночке, побродить там немного, потом посидеть в тени на длинной зеленой скамейке и вернуться домой. Но сперва она купит мороженое, эскимо или "Лакомку". Пожалуй, эскимо. "Лакомка" вкуснее, но после всегда остаются сладкими пальцы. Сердечная тоска. Сегодняшний день она целиком посвятит себе. Она не в духе, ей не до игривых подружек, не до телефонных сплетен, и, конечно же, не до надоедливых поклонников. Завтра быть может. Но не сегодня. Сердечная тоска.
Он женился. Так просто - взял и женился. Свадьбу сыграли неделю назад. Самое обидное, что она ничего не знала. Иногда фантазировала. Ловила Его взгляд при редких встречах. Прослышала о Ней. Но никогда не видела их вместе и никогда не думала, что Они соединятся.
Девочка покупает эскимо. Маленькая очередь быстро проходит. Пара монет лоточнице - эскимо и копейка сдачи Девочке. Копейка выскальзывает из пальцев, катится по пыльному асфальту. Сердечная тоска. Новость упала на нее как снег на голову. И хотя Девочка давно уверила себя в том, что махнула на Него рукой, известие о свадьбе высветило всю замурованную в глубине сердца страсть. В тот день рухнул мир и она плакала, плакала так, как мало кто умеет плакать, совсем не по-бабьи, почти без всхлипываний и слез, только ресницы чуть-чуть увлажнились. Это уже потом, на другое утро, она вспомнила, что давно махнула на Него рукой и, как ни в чем ни бывало, пошла на работу, но в тот день... что и говорить. Ее самые заветные, самые тайные надежды развеялись в прах. Это как землетрясение, ну что тут поделаешь! И хоть была бы Она чем-то лучше меня, распаляет себя Девочка откусывая от ледяного эскимо. Девочке горько и больно, ей хочется сорвать на Той злость, навлечь на Нее кары небесные. Чего только о Ней не поговаривали даже ее подруги. Ветреница, самка, похотливая самка удачно выскочившая замуж! А он... Тоже хорош! Неужели польстился на ее папу-академика? Сердечная тоска.
День в самом разгаре и солнце начинает припекать. Почти как на августовском пляже далекого, далекого моря. Девочка постепенно успокаивается и даже корит себя за то, что несправедлива к победившей сопернице. У Девочки доброе сердце, да и не ханжа она совсем, просто слишком жалеет себя. Кому какое дело до ее частной жизни? И где сказано, что в дочек академиков запрещено влюбляться? Нет, нет, Та не виновата. Просто жизнь такова, и с этим приходится мириться. Кому-то всегда достается пустой номер в лотерее. Надо быть стойкой. Стойкой! Время все залечит.
Девочка медленно идет мимо заботливо, на совесть, ухоженной лужайки по узкой дорожке плавно перетекающей в широкую тенистую аллею. По левой стороне, вдоль остриженного газона, призывно вытянулись те самые длинные зеленые скамейки, а справа, за решетчатой оградой, начинается обычный городской ералаш, толчея, муравейник, Москва. Сильная усталость внезапно словно придавливает ее к земле, ноги подкашиваются, и она из последних сил добирается до ближайшей скамьи. Решено, здесь она доест свое эскимо, немного отдохнет и домой... Вчера опять звонил этот, как его... Если б он хоть чуточку догадывался, насколько ей сейчас не до него. Сославшись на спешку она быстро, даже как-то невежливо прервала разговор... Фу-ты, чурка бесчувственная! Бес ее попутал тогда, зимой, принять его приглашение. "Можно сходить в кино". Как бы не так, только кино было у него на уме! Впрочем, как могла она предугадать дальнейшее? Хотя, пожалуй, не так уж трудно было и предугадать, не впервой. Чурка! Считает себя умником, перехитрить меня вздумал, вокруг пальца обвести, вновь распаляет себя Девочка, но ласковое дуновение теплого ветерка, чирикание пташек, смешливая девчушка-первоклашка с гиком пробежавшая мимо, постепенно остужают ее. Никому, никому на свете не хочет она отдавать свое сердце, оно занято, занято, неужели так трудно понять? Он женился, ну так что ж? Пусть так, можно любить и женатого. Но неужели Он так никогда ничего и не приметит? Ни ее опущенных долу глаз, ни трепета в голосе, ни прерывистого дыхания? Неужели Он никогда-никогда до нее не снизойдет? И разве она о чем-нибудь у Него просит? Чурка чурке под стать! И вообще, черт с ними, с мужчинами! Это из-за них она так много курит, иногда полпачки в день. Воображалы, бесчувственные воображалы. А любить женатого... Нет, это безнадежно, безнадежно. Сердце занято, легко сказать! Она должна, должна, просто обязана разлюбить Его, забыть, вычеркнуть из жизни, иначе как жить дальше, и жить ли? Но Девочке так хочется Его любить, и что ей с собой поделать? У нее отнимают, уже отняли смысл ее нехитрой жизни, а теперь требуют еще и безоговорочной капитуляции - Они отнимают, Они требуют, кто это - Они? Время, должно пройти время - тогда появятся и Другие. Но время пока не пришло, только сладковатые молочные капли падают на равнодушную землю. Сердечная тоска.
Вот Девочку опять потянуло на улицу, туда где клаксоны и суета. Она встает со скамьи и - коль ноги держат - медленным шагом идет к выходу. Нет, не следовало ей тогда принимать то приглашение. Она вовсе не собиралась влюблять его в себя. Вот так всегда, представишь себе будто между мужчиной и женщиной возможны простые дружеские отношения, а на поверку у всех в мыслях одно-единственное. Да и фильм ее тогда только расстроил. Не то чтобы она ожидала большего, грех жаловаться на режиссуру, сценарии или игру актеров. Но ей трудно было примириться с тем, что чужие воспоминания могут стоить больше нежели ее собственные. Наверное, она все-таки немножко сноб в душе. И название тоже претенциозное: "Амаркорд". Такого-то и слова не существует в природе. Как будто нельзя было обойтись обычными словами. Феллини большой мастер, что и говорить. Но тогда, во время сеанса, случилось нечто странное; в одну и ту же минуту разумом она прикоснулась к своей неминуемой будущей старости, а сердцем очутилась в давным-давно растаявшем детстве, вспомнила и о любимом платьице в белый горошек, и о том, что когда-то у нее был брат, и о стареющих без нее в далеком Тбилиси родителях. Грусть и боль будущих потерь пронзили все ее слабое существо, а страдание придало ее жизни поэтичность и гармонию. Ненадолго она даже забыла о своей беззаветной, но безответной, несчастливой, уродливой любви, но все казалось таким хрупким, игрушечным, все так легко можно было поломать, что когда сеанс закончился и в зале зажегся свет, все действительно поломалось и она вновь ощутила себя беззащитной крохой. Пригласи чурка ее на кинокомедию или музыкальный фильм, может она и отнеслась бы к нему чуточку иначе. Иначе - значит лучше. На самую малость. Ведь до кино ей было так хорошо, так весело на душе, даже о Нем не хотелось думать, потому и приняла она приглашение малознакомого, по сути, человека. Из кинотеатра она вышла погрустневшей, малознакомый человек проводил ее домой, они по товарищески попрощались и все вернулось на круги своя. Затем упорхнул один месяц, потом другой, и вдруг это письмо. В ее почтовом ящике и без обратного адреса. Ей и раньше приходилось получать Такие письма, ведь она была тоненькая и стройная, и она сразу догадалась о чем оно, но не смогла сразу представить - от кого. Быстренько перебрав в уме имена своих поклонников, она так и не вспомнила о парне приласившем ее на "Амаркорд" пару месяцев назад, ибо среди них он никогда не числился. В правой руке она держала авоську с хлебом, коробкой сахара-рафинада, завернутом в плотную бумагу и нарезанным на ломтики куском любительской колбасы, и еще с кулечком конфет "Мишка на севере". Ко всем этим предметам она спокойно, с полным сознанием собственного державного превосходства, присоединила и письмо без марки, и только после того как лифт вознес ее, тоненькую и стройную, на седьмой этаж и она наконец попала в свою квартирку, пристроила хлеб в хлебницу, колбасу в холодильник, а пачку сахара и конфеты в кухонный шкафчик, только после того, как сняла пальто и хорошенько умыла руки под хлесткой струей горячей воды, - только совершив все это, она, удобно свернувшись на кровати калачиком, вскрыла таинственный конверт. Вскрывая его у нее на миг замерло сердце, ей вдруг почудилось будто письмо послано Им. Но Он всего лишь топтал тот же асфальт, что ежедневно топтала и она, и, казалось, не собирался пока жениться. Увы, нет, письмо было не от Него.
По дороге назад Девочка доела наконец свое эскимо и теперь искала глазами место куда можно было бы выбросить бумажку. Урна стояла далековато, в противоположной от выхода стороне, и она, воровато оглянувшись, забросила бумажку под скамейку. Ей стало стыдно и она как-то сразу поняла, что пальцы у нее сладкие и липкие, и что ела она никакое не эскимо, а "Лакомку". Конечно, "Лакомку". И как только умудрилась она так ошибиться? Сердечная тоска.
Когда Девочка вышла из парка на улицу, та показалась ей излишне оживленной, слишком беззаботной и шумной. Нет, большой город не хотел или не мог ее понять. Ей до боли быстро захотелось очутиться дома и она заспешила к ближайшей стоянке такси.
Х Х Х
Тот незабываемый майский день складывался на редкость удачно. Мне рано удалось покончить со всеми служебными делами, что в последнее время происходило совсем нечасто, и уже к шести вечера сидел дома, на кухне, за обеденным столом. В тот день мать встретила меня на редкость обильным обедом, а на десерт ею была приготовлена клубника в молоке. Расправившись с пищей я, накинув на себя плед, с удовольствием растянулся на диване, но лениво просмотрев последнюю страницу "Известий" и не найдя там ничего достойного моего внимания, отложил газету в сторону. Я не особенно был привычен нежиться таким вот образом, да и возможность такая выпадала мне совсем нечасто, но в тот вечер, помнится, на мне сказалось накопившееся за несколько напряженных будних дней утомление и я впал в основательную дремоту. Честолюбивый бюрократ новой формации на некоторое время уступил место немного повзрослевшему, но по сути все тому же молоденькому аспиранту, что так недавно увлеченно нажимал на кнопки диковинных приборов и наивно млел под струнный перебор окуджавских и никитинских песен в угаре интимных "общежитейских" вечеринок. Как раз в подобные, весьма редкие минуты счастливого полусна, мне особенно легко верилось в то, что и взаправду я остался именно таким: хорошим, добрым, тонким, даже немного застенчивым человеком, а все мои тщеславные мечтанья, все лелеемые мною замыслы - от лукавого, и они улетучатся, стоит только по-настоящему пожелать это. Согретый пледом, весь во власти обманчивой беззаботности и розовых сновидений, умиротворенный, я так дремал пару часов, никак не меньше, и даже очнувшись все боялся стряхнуть с себя овладевшее мною благостное оцепенение, минута за минутой продлевая вязкое ощущение доставшейся мне неизвестно за какие заслуги свободы. За окном стемнело, теплые весенние сумерки опустились на мирную землю, а я, счастливый и довольный, в послеобеденной неге возлежал на мягком диване и лишь изредка потягивался для еще большего счастья. Вдруг, как нарочно, подумалось о телефоне, о том, как странно молчал он все это время, и как хорошо, что он молчал, потому как зазвони он ненароком, - и, ввиду того, что я забыл приглушить аппарат, а мать в случае чего обязательно бы меня разбудила, ибо имела совершенно четкие инструкции на этот счет, - покой мой был бы нарушен самым беззастенчивым и непоправимым образом. Я ведь всегда старался быть начеку, мне в любую минуту могли позвонить по делу, и я не позволял себе манкировать важными деловыми звонками. Потом я услышал как в прихожей несильно притворили дверь - очевидно это мать вышла поболтать к соседке, потемки совсем уж занавесили окна, я остался в квартире совсем один и еще раз поздравил себя с тем, что мне так никто и не звонит, ни друг, ни враг, ни начальник, ни подчиненный. И, разумеется, в это самое мгновение раздался телефонный звонок.
С опаской и надеждой вслушивался я в его пронзительную трель. Опасался я настойчивости звонившего, надеялся же на то, что терпение невидимого претендента на собеседование скоро иссякнет. Мне очень не хотелось подниматься с моего уютного диванчика, и я попытался мысленно представить себе лицо неизвестного, столь бесцеремонно вломившегося в мой досуг и поправшего... не знаю чего там поправшего, но чего-то наверняка. А телефон продолжал звонить. Ни один из моих друзей не способен на такую настойчивость, с тоской подумал я, а помощник секретаря ЦК товарищ Элефтерос - лентяй похлеще моего. Антон - бездельник по призванию, да и другие ничуть не лучше. Мысль моя продолжала нехотя работать. Может это Генерал, мельнуло у меня подозрение, когда я, наконец приподнявшись, коснулся ступнями пола, или сам Министр собственной персоной, мелькнуло другое, когда, вдев наконец ноги в тапки, я подковылял к телефону. И только я собрался поднять трубку, как аппарат неожиданно замолк.
Ну что за свинство, что за мелкий подвох судьбы, возмутился я, в тот же миг возненавидев моего упрямого и, несомненно, вздорного истязателя. Если уж звонишь, так звони до победного конца, сердито твердил я плетясь обратно к дивану, ибо желание полежать на спине не успело пока улетучиться целиком, но только я прилег, как телефон зазвонил снова.
Мгновенным тигриным прыжком оказавшись у аппарата, я схватил трубку и, поднеся ее к уху, рявкнул нечто не очень похожее на вежливое "слушаю Вас". Но уже минуту спустя, если не раньше, мне пришлось сменить тон на более милостивый. О, такого звонка я, признаться, никак не ожидал. Даже позвони мне домой Генерал или Министр, я не был бы так поражен - я уже пользовался определенной известностью в так называемых коридорах власти и в генеральском, например, звонке не было бы ничего сверхъестественного. Но человек нарушивший мой покой... О, это было совсем-совсем другое. О моем существовании вспомнил человек искусства, настоящего большого искусства. Деятель, уважаемый не только в руководящих издательских и писательских кругах, но и удостоенный высшей награды - безоговорочного доверия собственного народа. Писатель, чье имя даже наиболее критично воспринимавшие действительность представители нашей интеллектуальной элиты произносили с легким придыханием.
Сейчас, с высоты прожитых лет, я как никогда ясно вижу, что на протяжении всей моей весьма насыщенной событиями жизни, мне так и не довелось общаться с более значительной и одухотворенной личностью. Это был талант в ряду талантов, каждый из которых сам по себе был незауряден. Из ныне здравствующих художников мысли с ним мог бы сравниться разве что дон Эскобар Секунда, да и то с немалыми оговорками. Вообще мнения человеческие о людях с годами склонны претерпевать изменения, но мое личное мнение о Писателе не только никогда уже не изменится, но и не покроется даже малой коростой ржи, так оно устоялось. А в стародавние времена милых студенческих шалостей, да и гораздо позже, фамилия Писателя ассоциировалась в моем сознании с понятием абстрактного и недоступного величия, он существовал как бы этажом выше обычных людей, подобных, скажем, мне, Антону или, тем более, Хозяину, да что там этажом, - он парил высоко в небе, его лидерство представлялось совершенно бесспорным, а ведь мне и тогда не было свойственно беспрекословное преклонение перед авторитетами, да и особой приверженностью музам я никогда не отличался. В отличие от Антона, с юных лет любившего подмечать как фальшивит третья скрипка в оркестре, я довольно плохо разбирался в искусстве. Иногда - не секрет - я производил на своих друзей впечатление непробиваемого дилетанта, что, впрочем, скорее веселило их, чем раздражало. Более-менее прилично чувствуя литературу, я тем не менее умудрялся схватывать весьма посредственные оценки на уроках словесности, и, будучи не в силах воздержаться от публичного излияния своих, как я был уверен, оригинальных взглядов, частенько попадал впросак. Но, несмотря на обилие "троек" и "четверок" я не падал духом. Много и довольно беспорядочно читая, я, в конце концов, "натаскал" себя до состояния, в котором читатель способен отличить слабое, поверхностное произведение от глубокого, не вполне даже понимая или принимая позицию автора. В других сферах высокого искусства дела у меня обстояли не столь радужно. Я никогда не знал, да и сейчас не знаю, в чем сокрыта разница между ре-минор и ля-бемоль, или даже между квинтой и октавой. Мне, разумеется, было известно, что великого Ван Бетховена при рождении нарекли героическим именем Людвиг, наслышан был я и о романтической связи, соединившей знаменитого Шопена с не менее знаменитой Жорж Санд. Без особых затруднений мог я назвать фамилии наиболее выдающихся композиторов и исполнителей, помнил кое-какие тривиальные факты и фактики из истории музыки, однажды чуть не влюбился в студентку консерватории и этим дело, пожалуй, и ограничилось. Тем не менее, я по-своему любил музыку и получал удовольствие не только от песен Челентано, Джо Дассена и Аллы Пугачевой, но и от равелевского "Болеро" или "Интродукции и рондо каприччиозо" Сен-Санса. Читая или решая дома математические уравнения, я, бывало, часами держал проигрыватель включенным - как ни странно, это помогало мне воспринимать материал, и беда моя, очевидно, состояла не в ледяном презрении к музыке, а в поразительно полном отсутствии музыкального слуха и вокальных способностей. Безголосым в Грузии издревле приходилось нелегко, и не удивительно, что я, незаметно для себя, выбрал путь наименьшего сопротивления. В результате с течением времени мое музыкальное сознание все более ориентировалось на непритязательные эстрадные песенки, а это, при всем уважении к эстраде, не совсем то, что можно назвать большой музыкой. В происшедшей метаморфозе я порой виню сотоварищей по молодежным застольям, никогда не упускавшим случая подтрунить над моими вокальными способностями, да так подтрунить, что у меня постепенно выработался комплекс - я даже слово о музыке и то боялся вымолвить. И хотя мне не забыть сердечный пыл, с коим я в далеком отрочестве внимал суровой музе третьего бетховеновского концерта (солист - Эмиль Гильельс, Кливлендский симфонический оркестр под управлением Джорджа Селла), или страдал, как должен был страдать великий Марио Ланца исполняя предрасстрельную арию бедняги Каварадоси, но убедившись, не без помощи доброжелателей, в полной своей музыкальной несостоятельности, в дальнейшем я стал посещать концерты классической музыки единственно антракта ради, вернее ради тех исключительных возможностей общения с утонченными особами противоположного пола, которую антракт обычно предоставляет дальновидным молодым людям. С живописью дело обстояло немногим лучше. Во время жарких споров ни о чем и обо всем, мне ничего не стоило ввернуть словечко "дадаизм", всуе помянуть Дали и Бретона, или же прочитать окружающим небольшую лекцию о скрытой - за властной недоверчивостью папского взора - мощи средневекового католицизма, столь убедительно переданной кистью бессмертного Веласкеса (портрет папы Иннокентия X). Мне искренне нравились импрессионисты с их светлыми красками, цветными полутенями на холстах и верой в простую красоту сложной жизни, но стоило тем же окружающим невзначай завести речь о композиции рисунка, о разнообразных стилях, цветовой гамме и иных тайнствах живописи, как я стыдливо умолкал. Если я видел на рисунке, скажем, скошенную набок бутылку, меня так и тянуло спросить, случайность это, небрежность, или же авторская задумка творца, а ведь столь дилетантские вопросы не должны были, как я сейчас понимаю, рождаться у истинного ценителя. Итак: литература, музыка, живопись, что же еще оставалось? Кино? Ну, здесь каждый мнит себя знатоком. Цирк, балет? Они крайне далеки от меня. Архитектура, скульптура? Слишком сложно и громоздко. Сложнее даже музыки, ибо музыкальные ноты воздействуют на человека непосредственно через слух, а всякие там готические шпили и псевдоримские колоннады еще и через специальное образование. Правда, с тех пор как в круг моих депутатских обязанностей вошли вопросы связанные с текущим градостроительством, я иногда заставлял себя просматривать кое-какую журнальную периодику по означенной тематике, но чтение это никак не могло компенсировать полного отсутствия систематических знаний, так что и архитектор из меня был никудышный (справедливости ради, а не из желания задеть кого-либо, хочу заметить, что дилетанты в профильной горсоветовской комиссии составляли прочное большинство). Да и не зодческие, а больше жилищно-бытовые страсти входили в компетенцию нашей комиссии. Впрочем, бог с ней, с комиссией. Обиднее в те годы казалось то, что посвятившие себя с юных лет служению разнообразным музам добрые мои товарищи как-то по детски верили в силу своего дарования, и на блестящем фоне их оригинальных поступков и безаппеляционных суждений минусы моего духовного воспитания оттенялись еще ярче. И вот беда - с течением лет выяснилось, что грехи юности склонны преследовать людей до последнего их вздоха, прилипают к памяти и не отвяжешься от них никак. Вот так и мне не удалось избавить себя от комплекса, вместившего в свое чистилище всю мою явную и придуманную бездуховность, и до самого последнего вздоха я слепо верил в справедливость большей части понавешанных на меня когда-то ярлычков, пока сама смерть, сей непобежденный доселе борец против злых мифов и тиранических легенд, не приободрила меня. А в те весенние дни восемьдесят третьего года бушевавший во мне комплекс бездуховности как-бы дополнял собой то страстное желание добиться высочайшего положения в обществе, что, пожирая слабые ростки внутренней раскованности, грозно пламенело в моей душе. Я метался между двумя крайностями: враждебностью к самовлюбленным фокусникам от искусства и благоговением перед парившими в недосягаемой вышине истинными гениями духа. Мне ведь тоже надо было в кого-то верить. И когда я наконец осознал с кем именно беседую по телефону, то чуть не сгорел на месте от смущения. Писетеля-то к фокусникам от искусства я никоим образом не относил.
Слава богу, в ответ на мое резковатое обращение он вежливо назвал себя, и пока мой обессиленный полудремой разум с трудом переваривал услышанное, наш выдающийся соотечественник успел извинительно спросить: "Не разбудил ли я Вас ненароком?", - до чего же все-таки проницательны эти гении! "О, нет, что вы, нисколько", - растерянно пролепетал я в ответ. Язык и разум отказывались мне повиноваться, смущение мое было слишком глубоко, чтобы я мог поддерживать подобие светской беседы. Избитые банальности так и вертелись у меня на языке, рассыпаясь - к великому счастью - в прах прежде чем принять жалкий вид грубой лести. Полагаю, что в те первые и незабываемые минуты нашего знакомства я произвел на маэстро довольно жалкое впечатление. Наверное Писатель сразу понял с кем имеет дело - с не успевшим спросонья прийти в себя рассерженным юнцом, внезапно низвергнутым с вершин блаженного покоя на каменистое ложе идолопоклонства. Впрочем, это совсем неважно, а важно то, что Писатель пригласил меня к себе.
Да, да - именно так все и произошло: меня удостоили высокой чести, это было неожиданно и очень приятно. Пригласил он меня с простотой истинного величия - как я мог убедиться впоследствии, интеллигентнейшая манера Писателя вести беседу очаровывала слушателя, оставляя на его долю лишь покорное восхищение - и секрет очарования был вовсе не в обычнейших словесах, употреблямых миллионами людей в сходных ситуациях, а в особой мягкости тона, тщательном подборе нужной интонации, в упругой последовательности слов в используемых им предложениях, в сослагательном, если так дозволено выразиться, строе его речи. За давностью лет не рискну настаивать будто помню его слова с буквальной точностью, но им было сказано что-то вроде: "Не смогли бы вы на днях навестить меня, старика? Уж извините, что посмел обратиться к Вам со столь необычной просьбой, но вы настолько меня моложе... Без Вашего участия никак не решить одной важной проблемы, но это не вполне телефонный разговор. И если у Вас нет возражений, то я буду счастлив видеть Вас у себя в удобное для нас обоих время". Я, признаться, опешил. Вы, наверное, поняли, что сколь решительным и даже склонным к авантюризму не казался я людям, которых сам ни во что особенное не ставил, столь робким и скованным выглядел я общаясь с личностями, чье превосходство над собой в глубине души безоговорочно признавал. Сама мысль о том, что я не исполню этому человеку пустяшную просьбу, показалась мне крамольной. "Согласен быть у Вас когда Вам будет угодно", - еле выдавил я из себя. "В таком случае жду Вас у себя завтра вечером, часикам, эдак, к восьми, если Вас это устроит. Живу я на улице Софьи Перовской...". Тут уж я не вытерпел и осмелился перебить Писателя: "Да кто же в нашем городе не знает Вашего дома! Обязательно буду у Вас ровно в восемь. Счастлив буду познакомиться с Вами, батоно". Под конец нашей беседы я полностью взял себя в руки, но оставалось лишь проститься, разговор был закончен. После я так и не прилег на мой любимый диван, было не до отдыха. Я весь был уже там, в завтра. И о чем только собрался он со мной говорить?
Я нимало не преувеличивал. Добротный кирпичный дом в два этажа и с высоким крыльцом выходящим на улицу Перовской, был тогда знаком каждому образованному тбилисцу. Я говорю был знаком, а не знаком, по простейшей, увы, причине - дом давно снесли на потребу очередной реконструкции городского центра и на месте улицы Перовской проложили широченную магистраль "Форэ Мосулишвили", здесь ныне бегают автобусы, троллейбусы, легковые машины, да и люди живут другие, потому так и подмывает описать этот дом поподробнее. Но с неоправданными поползновениями все же желательно бороться, и я привлеку Ваше внимание лишь к одной, наиболее яркой детали. По воле первого и давно забытого владельца этого дома, верх крыльца слепили в форме петушиного клюва, а весь фасад здания покрыли геральдическими кирпичными петушками, да так, что с противоположного тротуара весь дом так и казался перепоясанным этими петушками. И закрепилось за ним прозвище - петушковый дом. Так его и звали горожане - петушковый - с середины девятнадцатого века и до самого сноса. В первую империалистическую петушковый дом, основательно подремонтированный и отреставрированный, был приобретен знаменитым купцом первой гильдии Амаяком Нахапетовым. Позже, в пору первой независимой грузинской республики, споро приноровившийся к меньшевистским реформам Нахапетов, оставался, кроме всего прочего, основным поставщиком фуража для гвардейской конницы социал-демократического правительства, вот и пришлось ему в 21-ом бежать из Батума на итальянском корабле в одной компании со свергнутыми грузинскими министрами. За границей следы Нахапетова растаяли так же, как и его надежды на спокойную старость в петушковом доме по улице Перовской, сам дом же передали в постоянное пользование одному из революционных комиссаров новой власти, ближайшему сподвижнику влиятельного грузинского большевика Тедо Бзванели. Позже, в эпоху довоенного сталинского ренессанса, Бзванели снискал себе определенного рода известность, попав в учебники по Истпарту в незавидном качестве неисправимого национал-уклониста, отчего в свое время несладко пришлось не только ему, но и всем его дружкам-сподвижникам. Но в полуголодном двадцать первом году было не до выявления всех политических нюансов. Тем более, что в те исторические дни будущему Писателю участь всех бывших и настоящих владельцев петушкового дома была и вовсе безразлична, ибо когда победоносная одиннадцатая армия с небольшими боями заняла Тифлис и над городской ратушей зареяло алое знамя советской власти, мальчонке пошел всего двенадцатый годик, и во всей округе разве что его матушка, да еще преданные тетки и бабки, не могли нарадоваться озорным детским стишкам маленького шалуна, не подозревая во что выльется со временем это увлечение. Но мальчик оказался не так прост. К концу двадцатых годов юноша уже автор рукописного сборника вполне серьезных стихов и активный член крикливого литературного кружка "зеленые бородачи", объединявшего в своих рядах наиболее "революционных" грузинских поэтов. Юноша избрал себе довольно претенциозный псевдоним "Вано Грозный" и, кажется, в любой момент не прочь был поизгаляться и не на словах, а на самом деле расквасить нос кое-кому из своих идейно-творческих противников. Опубликованные стихи были, однако, отмечены - этого никто не мог отрицать - печатью истинного таланта и попали в поле зрения самого Галактиона, публично заявившего, что, дескать, столь обещающему поэту не место среди отъявленных невежд и демагогов - высказывания подобного рода были тогда еще возможны, хотя уже и не всегда безопасны. К мнению Галактиона, несмотря на его молодость, прислушивались все мало-мальски близкие грузинской словесности люди, и не удивительно, что эти слова великого маэстро отечественной поэзии возымели на безусого, но "грозного" юнца неожиданное воздействие. Он немедленно порывает с леваками, но, видимо избегая обвинений со стороны бывших союзников в предательстве, во всеуслышание объявляет о том, что навсегда бросает стихотворчество и намерен отныне посвятить себя театру. Он действительно перестает сочинять стихи, пишет так и не нашедшую впоследствии своего постановщика драму, и почти полтора года работает в театре простым осветителем. В общем, драматурга из него не получилось, но любовь к перу и бумаге все же оказалась сильнее необдуманных и поспешных заверений. Понемногу он начинает овладевать искусством прозы, пишет небольшие рассказики о бурлящей кругом жизни и о великом, породившем новые надежды разломе. Он быстро взрослеет, отказывается от прежнего псевдонима и пытается напечататься под тем именем, что дано ему от рождения. Наконец, после нескольких безуспешных попыток, один из ведущих республиканских литературных журналов принимает его рассказы к печати. После косметической правки они появляются на журнальных страницах и к нему приходит первый настоящий успех. Эти рассказы сразу обратили на себя внимание как читателей, так и художественной критики. Вот где пригодилось ему поэтическое видение мира - музыкальность и гармония его литературных картинок не оставляет критиков той поры равнодушными и они одаряют молодого прозаика чем-то похожим на первые похвальные отзывы. Но Писателю тесны географические границы Закавказья, и он самолично переводит на русский язык несколько своих произведений, объединяя их в единую по стилистике книжку. Ему везет, книжку включают в план одного из московских издательств, и вскоре, совершенно для него неожиданно, из-за границы доносится авторитетный голос самого Максима Горького, не пожалевшего добрых слов для оценки первых серьезных опытов молодого советского прозаика грузинского происхождения. Окрыленный напутствием живого классика, Писатель продолжает работать, что называется, с огоньком, и постепенно завоевывает признание у массового московского читателя. Его произведения охотно печатают столичные журналы, моментально исчезают с прилавков пока еще малотиражные сборники его сочинений, его начинает хвалить серьезная критика, со временем ему начинают предоставлять достаточно высокие трибуны, он - баловень судьбы, во всяком случае в этом уверены многие из не столь удачливых его собратьев по цеху, но... Но, как ни странно, довольно быстро выясняется - на это указывали в своих воспоминаниях близкие ему в те годы люди, - что он грустнеет, теряет твердую почву под ногами, переживает что-то похожее на кризис. Внутренняя неудовлетворенность собой, все эти годы тихо тлевшая в его душе, становится все более жгучей, он весь во власти трудно контролируемых подспудных сил, в нем зреет убеждение, что он способен сочинять не только милые сердцу новеллы, пусть и наполненные глубокими и элегическими страстями, но и создавать нечто более весомое, плотное, нечто такое, что более полно отражало бы окружающий мир и тенденции его развития. И наконец: он всем своим существом стремится повидать Европу, ему необходимо разобраться в старой цивилизации для того, чтобы правдиво писать о новой. Тут уместно важное отступление. В дореволюционные времена отец Писателя, известный городской терапевт, был - подобно многим интеллигентам и разночинцам той эпохи - каким-то боком связан с социал-демократическим подпольем; так, разлитая в обществе обычная фронда, не вдававшаяся в тонкости различий между эсерами, анархистами, большевиками и меньшевиками. Достаточно ловкий конспиратор и хороший знаток своего ремесла, он, бывало, подлечивал раненых в перестрелках боевиков невзирая на их партийную принадлежность, укрывал у себя нелегалов за которыми по пятам следовала охранка, а иногда даже помогал распространять подрывную литературу. Трудно сейчас сказать, заподозрили ли власть предержащие столь уважаемого в местном высшем обществе человека в чем-либо неблаговидном, либо предпочли не замечать довольно очевидного и лежащего у них под носом, что и привело, в конечном счете, к крушению империи, но жилище его ни разу так и не подверглось обыску, и это обстоятельство сыграло немаловажную роль в тот момент, когда на самом высоком уровне принималось решение о длительной заграничной командировке Писателя. Дело было в том, что более чем за двадцать лет до этого, на мансарде отцовского особняка в течении нескольких дней укрывался от жандармского преследования некто Джугашвили, никому тогда не ведомый активист большевистского крыла российской социал-демократической рабочей партии. В конце двадцатых годов обедневший врач-фрондер скончался на той же мансарде от быстротечной чахотки, но несколько лет спустя после этого печального события, бывший беглец все же счел себя обязанным отплатить добром за добро и сын врача получил таки разрешение отбыть в длительную зарубежную командировку. Итак, с тридцать второго по тридцать пятый год Писатель путешествует по Европе, достойно представляя там и советскую литературу, и родную республику, и первую в мире социалистическую державу. И всюду, от скадинавских фьордов и до древних руин Пелопонесса, он - желанный гость. Было зафиксировано, что только три европейских правительства - румынское, болгарское и венгерское - отказались выдать Писателю въездную визу, расписавшись тем самым в собственной беспомощности. О, он не только путешествует, осматривает, сравнивает, выступает, оппонирует. Нет, он еще много и хорошо пишет, его знаменитые путевые очерки регулярно печатаются в центральных советских газетах, а кое-что более серьезное откладывается им на потом (этот период в жизни и творчестве Писателя литературная критика ныне именует европейским). Именно тогда в его творчестве в полной мере обнаруживают себя публицистические мотивы, дотоле стыдливо и довольно тщательно скрываемые им под полупрозрачной вуалью светской отстраненности. Его проза становится содержательнее, реалистичнее, фундаментальнее. Его имя приобретает мировую известность.
Он среди тех, кто с близкого расстояния наблюдает за неудержимо вздымающейся в заоблачную высь мутной фашистской волной, за безумием взбешенного экономическим кризисом мелкого буржуа, за позорным раболепием многих либеральных светил, за коричневой мглой быстро заволакивающей добрую старую Европу. Много пишет он о растлевающем воздействии нарождающегося культа грубой силы на образ мышления добропорядочных граждан, об опасности новой международной бойни, о теряющих надежду бедняках и о теряющих терпение богачах. Среди его вновь обретенных друзей и корреспондентов Илья Эренбург, Жан Ришар Блок, Андре Жид, Луи Арагон, Андре Мальро, Анри Барбюс, Герберт Уэллс, Пабло Пикассо, Лион Фейхтвангер, многие другие, не менее знаменитые деятели европейской культуры. С трепетом следит он из Парижа за ходом судилища над Георгием Димитровым, с ним знаются виднейшие литераторы, художники, музыканты, политические журналисты. Их имена, окруженные впоследствии почти божественным ореолом, воплощались в конкретных личностях, с которыми он общался как равный с равными. То, что для таких как я всего лишь история, пусть и овеянная духом борьбы и славы, для Писателя - вчерашняя, но всегда пьянящяя повседневность.
Пишет он в эти годы на двух языках, на грузинском и на русском. Отечественная критика по-прежнему относилась к нему бережно, даже почтительно; впрочем, его двуязычие как нельзя более мирно уживалось с советским патриотизмом, а в его изумительных по форме эссе и очерках не было ни грана верноподданичества, хотя и присутствовала столь понятная и востребованная временем лояльность. Но все имеет свой конец, завершилась и эта его командировка, так нерасчетливо обогатившая его и литературным, и жизненным опытом, а главное, многочисленными и весьма полезными контактами с интереснейшими людьми культурной Европы. В конце тридцать пятого года Писатель возвращается в Советский Союз. Через Москву - где он задержался недели на две, не больше - его путь лежит в родной Тбилиси, а точнее, в старый район грузинской столицы - Сололаки, где он и обрел пристанище в небольшом, но ладно скроенном отцовском домике. Вскоре он женился на дочери известного тбилисского художника и на некоторое время исчез из поля зрения официальной местной критики - тогда и получил распространение ложный слух о том, будто его тоже не миновали репрессии, - но через некоторое время этот слух был опровергнут непреложным фактом реальной жизни: в Москве большим тиражом издается книга, в которой он как бы подытоживает все пережитое им вдали от родных мест. Кроме того, оказывается, что параллельно тому Писатель работал и над ее авторизованным переводом на грузинский язык. По общему и достаточно устоявшемуся мнению, в его "Европейских туманах" проистекавшие тогда на европейском континенте исторические процессы показаны с безоглядной страстностью задетого за живое публициста, изысканной отстраненностью элитного беллетриста и с обстоятельностью, характерной больше для судебного следователя, нежели для служителя муз. Как известно, этот документальный роман еще до начала мировой войны был переведен на несколько европейских языков. Книга увидела свет не только в Европе, но и в Соединенных Штатах, получила неплохую рекламу, и не удивительно, что популярность Писателя возросла во сто крат. Вы, конечно, согласитесь, что и сегодня она читается с громадным интересом, и ее современные переиздания - к сожалению, довольно редкие, - никогда не залеживаются на прилавках. Но и это еще не все. Всего два неполных года проходит с начала его тбилисского затворничества, и - о, чудо! - свет увидело новое, написанное уже на грузинском языке произведение Писателя, нынче прекрасно всем известное "Похищение огня". Для создания поразительной глубины реалистического полотна грузинской жизни двадцатых годов в этом многоплановом романе мастерски использованы как аллегорические формы авторского самовыражения, так и элементы национального исторического эпоса. В этой книге Писателю как никогда успешно удалось избегнуть излишнего бытописательства и передать важнейшие события той поры размашистой и емкой кистью. Герои романа получились правдивыми и человечными. Критика, однако, в данном случае повела себя крайне осторожно; к моменту издания романа репрессии все еще продолжались, все было перевернуто вверх дном, а в узилище определяли, случалось, за то, за что совсем еще недавно благодарили и награждали. Но цепкая память человека по фамилии Джугашвили вновь сослужила Писателю добрую службу. Он был отправлен от греха подальше, в страну Испанию, туда где разворачивалась беспощадная гражданская война, с заданием написать книгу, в которой с надлежащей силой отразились бы свободолюбивые чаяния героического испанского народа. Сложилось так, что там, на Пиренеях, ему часто приходилось в одной руке держать авторучку, а в другой - карабин. Но и то правда, что в тот мрачный год подставлять грудь под фашистские пули было, пожалуй, безопаснее, нежели бросать свое имя на растерзание отечественным литературствующим политиканам. Впоследствии, правда, кое-кто искренне удивлялся, что Писатель так и не разделил печальной участи Михаила Кольцова, с которым он, кстати, успел познакомиться в Мадриде, но, как видно, не было суждено... Вроде у него и впрямь была охранная грамота, так как его так и не сразили ни пули, ни наветы. Участник сражения под Гвадалахарой и очевидец кровавых событий под Уэской, Брунете и Теруэлем, пережив обстрелы и бомбардировки, написал таки обещанный роман, написал честно и резко, помянув и Пасионарию, и Антонова-Овсеенко, и Дуррути, и Компаниса, и многих иных (другое дело, что большинство имен цензура безжалостно выкинула и первоначальный вид был возвращен произведению лишь в пору хрущевской оттепели). Известно, что начиная с весны тридцать девятого года общая политическая обстановка стремительно менялась и в стране, и в мире, что и предопределило отношение официальных властей к антифашистской литературе; поэтому книжка - на удивление завистникам, ожидавшим ее полного уничтожения, - вышла в свет микроскопическим для советских издательств тиражом и наш читатель получил ее полный вариант в массовом порядке лишь в начале шестидесятых. В довоенном издании книга называлась "Они не пройдут", но история, увы, внесла свои коррективы. Тогда Они все же прошли, прошли неся на штыках и штандартах ненависть к низшим расам и человеческой свободе, надолго ввергнули человечество в пучину насилия и фарса, и потому Писатель, всегда с трепетом относившийся к исторической правде, снял прежнее заглавие - ведь вы тоже, наверное, читали в молодости его "Интербригады". Лично я впервые прочитал это произведение еще в десятом классе, впоследствии не раз перечитывал его, а после еще долго бредил звучными басконскими и каталонскими именами. Там, в сражавшейся Испании, Писатель, судя по всему, провел весьма запоминающиеся и замечательные месяцы своей жизни, и написанные кровью "Интербригады" тому порукой. Впечатлении и находок накопилось у него столько, что даже встреча с Хемингуэем в знаменитом ресторане "Остелерия дель соль" так и осталась обычным эпизодом, заслужившим немногим более страницы в издании объемом в двадцать печатных листов. Местные фашисты тогда готовились воцариться в Испании всерьез и надолго. Их союзники - главари германского нацизма - хвастали покрыть мистической свастикой весь европейский континент, а если повезет, то и всю планету. Испанская проба сил обернулась трагическим поражением интернационалистов, но содержание "Интербригад" прекрасно отразило личную веру Писателя в неодолимость мирового добра и в конечную победу - далекую, но окончательную - гордого испанского народа и всех других гордых народов, которых самозванные "сверхлюди" вздумали было держать на вечных коленях. Они хотели глумиться над ними до скончания веков, "тысячу лет", как утверждали сами, но, воистину, смелый грузинский прозаик уже тогда видел дальше Гитлера, дуче, генерала Франко и прочих диктаторов коричневого окраса. Но испанская кампания завершилась, увы, победным парадом фалангистов, республиканское правительство пало, волей-неволей приходилось сворачивать деятельность и собирать пожитки. Итак, возвратившись в начале тридцать девятого в Грузию Писатель - с некоторым удивлением, к которому примешивался неясный страх, - обнаружил, что многих людей из числа его приятелей, не говоря уже о некоторых знаменитых грузинских поэтах, нет более в живых, а вскоре убедился, что вся его переведенная на язык букв испанская катавасия массовым тиражом издана так и не будет. Нельзя сказать, что проявленное им во фронтовых условиях мужество осталось и вовсе незамеченным. Его не только не вовлекают в так называемые "дутые дела", но, наоборот, представляют к высокой правительственной награде. Боевой орден на груди значительно поднимает его престиж, новое затворничество уже исключено, местные руководители разных рангов вынуждены безоговорочно признать его авторитет, и через некоторое время Писателя, - разумеется, не без подачи из соответствующих союзных ведомств, - избирают Председателем республиканской писательской организации. Сразу выяснилось, что Председателю Союза писателей не подобает жить в недостаточно помпезном пристанище в Сололаки, и по специальному решению бюро грузинской компартии в горсовете ему вручают ключи от петушкового дома по улице Перовской, тем более, что к тому времени злополучного сподвижника Тедо Бзванели в республике предпочли надежно забыть. Собственно, согласия Писателя, не говоря уже о согласии его беременной супруги, никто и не спрашивал. Но они понимали, что отказ от этого дара мог быть чреват тяжелейшими последствиями, ибо любая снисходительность имеет свои пределы.
Ну а потом... Потом, в полном соответствии с историческими законами, наступил кровавый рассвет двадцать второго июня сорок первого года, и все поняли: не пронесло, господин Гитлер постучался и в наши двери. И Писателю, человеку, всем образом своих предыдущих действий так часто предупреждавшему других об опасности, что нес человечеству коричневый образ мыслей, негоже было оставаться в стороне. Несмотря на то, что у них в семье появляется столь долгожданный малыш, он просит освободить себя от выполнения административных обязанностей по писательскому союзу и направить на фронт, в действующую армию. Просьба, после естественной заминки, удовлетворяется и его призывают на войнскую службу, которую, однако, на сей раз предстояло пройти не в окопах, а - по приказу министра обороны - в редакции армейской "Красной Звезды". В газете он выполняет не только обязанности одного из редакторов, но и, рискуя собственной жизнью, несколько раз появляется на передовой - об этом я сам читал в какой-то газете. К сожалению, мне немного известно про его фронтовые годы; знаю только, что Геббельс внес его фамилию в список десяти наиболее ненавистных ему советских пропагандистов. Ну а когда война, наконец, отгрохотала, и Писатель, целый и невредимый, вернулся домой, в Грузию (прежний его пост, кстати говоря, был уже занят), - он, неожиданно для общества, надолго умолк. Тонкая книжица фронтовых воспоминаний, пара газетных очерков о Берлинской операции - и все. Ни одного, даже самого малюсенького рассказика за целых пятнадцать лет! Только в начале шестидесятых, как я уже упоминал, читатель получил полный текст "Интербригад", но ведь то было еще довоенное произведение. Неизвестно отчего, но, как видно, он просто потерял вкус к самому процессу письма. За неоспоримые прошлые заслуги его избрали действительным членом республиканской Академии Наук, но факт остается фактом: он надолго прекратил заниматься своим ремеслом. Злые языки распускали самые разнообразные слухи. Поговаривали, например, что он жестоко запил и постепенно сходит с ума (ничего подобного, разумеется, не было; наоборот, Писатель если и сходил в то время с ума, то только по своему первенцу, а вскоре жена подарила ему еще и двойняшек - мальчика и девочку). Нашлись люди, утверждавшие, что он исписался, что сталинская эпоха не могла пройти даром даже для такого как он баловня судьбы, что он навсегда потерян для литературы. И когда весной шестьдесят второго года Писатель вручил главному редактору самого толстого и популярного в республике литературного журнала рукопись нового грузинского романа, это было воспринято как самая настоящая сенсация. Роман назывался как-то странно - "Перевертыш", и наименование это еще более возбудило нездоровые страсти. "Перевертыш" напечатали не сразу, его пришлось "пробивать" несмотря на то, что в те годы многие литераторы позволяли себе невозможные до двадцатого съезда пассажи. В данном случае некоторым препятствием послужила сверхоригинальная - для той поры - манера изложения (из страха попасть пальцем в небо, не стану здесь ее обсуждать), но преграда эта не оказала, к всеобщему удовлетворению, фатального воздействия на судьбу романа. Года через два роман был издан отдельным томом. Это - прекрасная книга, да и последующий русский перевод ее оказался весьма удачным.
Начиная со второй половины шестидесятых Писатель и в самом деле не создавал сколь-либо значительных произведений, так, больше по мелочи, ничего крупного, но... Подозреваю, что виной тому возраст, те самые годы, что всех пригибают к земле-родительнице. Зато еще пышнее расцвел его яркий публицистический дар. И в Тбилиси, и в Москве изданы полные собрания его сочинений. Народ любит Писателя за сотворенное им, за "Похищение огня" и за "Европейские туманы", за "Интербригады" и за рассказы начала тридцатых, за "Перевертыш", и за самые ранние его стихи. Утекло много воды, может он и исписался, но не мне его судить. И я ужасно горд оттого, что он мне позвонил.
Ожидание следующего вечера превратилось в медленную пытку. Помню, днем я страшно волновался и непозволительно путал слова, фразы и бумаги, так что секретарша даже заботливо спросила, не лихорадит ли меня. Вернувшись домой пораньше, я долго не находил себе места и даже отказался от обеда. Мать была удивлена таким моим поведением, но, хорошо зная мой характер, не стала донимать меня вопросами, догадавшись, что правды от меня не добиться. И вот, приглаженный и чистенький (хотелось все же выглядеть поприличнее), я, ровно в восемь, поднялся на невысокое крылечко и чуть дрожащей рукой покрутил ручку старомодного звонка, что так красиво смотрелся на массивной входной двери петушкового дома по улице Софьи Перовской.
Х Х Х
На меня, бывало, наваливала хандра, противно становилось до тошноты. Я не лгу, сейчас мне незачем лгать или оправдываться, все равно слишком поздно. Потом хандра отступала, но память о ней оставалась. из игры я не выходил только во имя справедливости, из желания ущемить этого ненасытного хищника - Хозяина - побольнее. И Ловкач пока оставался моим верным союзником. Но что-то тут все же было не так.
...Той памятной весной май месяц выдался на редкость солнечным и теплым. Семестр близился к концу, приближались зачеты и экзамены. Помню, было воскресение, и все нормальные люди пытались хоть на время позабыть о буднях. Тем ясным, не утратившим еще прохладу утром, я позевывая вышел во двор - якобы для того, чтобы подышать свежим воздухом перед трудами. То есть так мне казалось, на самом же деле я попросту отлынивал от занятий. Дойдя до волейбольной площадки я с удивлением обнаружил, что, несмотря на ранний час, мои друзья уже успели меня опередить: Ловкач и Весельчак, греясь под мягкими лучами утреннего солнышка, о чем-то мирно беседовали. После обмена обычными приветствиями Ловкач, с каким-то сомнением в голосе, осведомился о моих планах на предстоящий день. Планов у меня никаких не было, если не считать того, что рано или поздно я все же намеревался засесть за осточертевший конспект по векторному анализу. В общем, я ответил, что никаких планов у меня нету. Тогда в разговор немедленно вступил Весельчак: "Раз такое дело, дорогуши, то не просиживать же нам дома штаны в такой погожий денек. Мой верный "Мерс" к вашим услугам. Предлагаю с ветерком прокатиться вдоль Арагвы. Кстати, я знаю одно местечко между Мцхета и Пасанаури... Такие шашлыки жарят, просто во рту тают, пальчики оближете, да и винца малость пригубим, без этого не обойтись. А за руль посажу одного моего доброго знакомого. За недорогую плату он, пока мы будем кутить в свое удовольствие, из машины и носа не покажет. Полста ему отвалю, и все дела. Ну как?". Я немного - больше для порядка - помялся, а Весельчак продолжил гнуть свое: "Давайте, провернем это дельце не откладывая. Пока заправимся, доедем, то да се... Утром я лечу в Москву, отбываю на недельку, ибо, да будет вам известно, деньги заработанные в поте лица на юге нашей безбрежной родины, сподручнее тратить на ее же севере. Но начать можно и сегодня... А родителям вашим беспокоиться нечего. Я человек солидный, всем известный, а править машиной будет, обещаю, стопроцентный трезвенник и язвенник. Вечерком все будем дома и в полном порядке". Не смея сразу ни согласиться, ни отказаться, я молча переглянулся с Ловкачом, но наше молчание быстро приобретало все признаки одобрения и Весельчак, залихватски мне подмигнув и хлопнув Ловкача по плечу своей широченной ладонью, подвел под обсуждением черту: "Ну ладно. Долго думать вредно, полчаса вам на сборы, а я побежал. Мне еще надо дружка своего прихватить, о водиле позаботиться и тетку уговорить. Она, старая, вчера у меня гостила, уходить припозднилась, да и заночевала, вот пускай теперь благим делом займется - немного приберет, чемодан мне уложит, а заодно и за квартирой, пока не вернусь, присмотрит. Тетка у меня молодец, золото червонное, я ей разве что ключей не доверяю, да и то только потому что рассеянная, а в остальном... Оставлять ее у себя на целую неделю не хочу, еще напутает чего, да и не сможет она, ну а до вечера - вполне. В общем, через полчаса - у моей машины".
Напомню, что всестороннее сближение с Весельчаком входило в наши намерения, и потому не удивительно, что возражений у нас не нашлось, а вот желания покутить на природе - хоть отбавляй. Итак, мы решили ехать, хотя я мог дать голову на отсечение, что нашим предкам эта затея по душе не придется. Что ж, попытка - не пытка; мы немедля вернулись к нашим матушкам на поклон и, каждый по своему, попытались им втолковать: так мол и так-то, уважаемый сосед оказал нам высокую честь и пригласил совершить увлекательнейшею прогулку по живописному ущелью на великолепном автомобиле, погода отменная, пить мы не собираемся, шофер - абсолютный трезвенник, прокатимся в горы и вечерком вернемся обратно. Нельзя сказать, чтобы матушка моя пришла от такой перспективы в восторг, тем паче, что ее недостойный отпрыск в последнее время вел несвойственный ему и довольно-таки разгульный образ жизни, но мне удалось уговорить ее посоветоваться с матушкой Ловкача по телефону. Отца Ловкача, к счастью и радости, дома не оказалось и наши добросердечные мамы в конце концов сдались - мы получили их необходимое благословление. Они, бедняжки, и не подозревали, что их сыновья уже успели сдружиться с Весельчаком, сами-то они - из свойственного потомственной интеллигенции невольного снобизма, - и допустить такого не могли, так как в глубине души и в грош не ставили своего могущественного соседа. Но наверное, им вспомнились зеленые луга и голубые горы собственной юности, и они, по излишней доброте своей, рассудили, что разочек можно позволить деткам отобедать (а они не могли не понимать, что такая прогулка не может не возбудить у нас зверского аппетита) даже с самим сатаной, а не то что с местным дельцом-меценатом. Так или иначе, но матушки отпустили нас с миром, да и Весельчак не заставил себя долго ждать.
К полудню хозяйский "Мерс" уже успел проехать древнюю нашу столицу Мцхета и устремиться вверх по начавшей понемногу петлять шоссейной дороге. Мчась навстречу приключениям по живописному нагорью, мы в эти минуты составляли одно неделимое целое. В широком салоне было тесновато, ибо нас там набралось пятеро мужиков, хотя пятого, вертевшего баранкой худосочного молчуна, говоря по правде, в расчет можно было не брать: его заранее предопределенная роль была скромна и высокооплачиваема - за приличную мзду ему полагалось возить нанимателя по заранее оговоренному маршруту, вдобавок же в круг его обязанностей входил окончательный развоз пьяных пассажиров по домам. Когда окруженный вниманием и заботой собутыльников и прихлебателей Весельчак кутил до упаду в одном из пригородных ресторанов, водителю строго-настрого воспрещалось показываться в виду застолья, дабы не подвергнуться искушению пропустить стаканчик или чем-либо стеснить присутствующих. Поэтому на вынужденных длительных стоянках тот вылезал из машины лишь для того, чтобы поразмять затекшие ноги, да перекинуться словечком-другим с каким-нибудь бедолагой. Зато за каждый такой трудовой денек Весельчак отваливал ему по полста, а за месяц водиле набегало, бывало, побольше чем иному доктору наук. Об этом Весельчак поведал нам еще до появления водилы, не считая, видимо, нужным скрывать от нас суть и форму отношений со своим наемником. Вот и тогда, насколько могу припомнить, водитель лишь внимательно следил за дорогой и за все время нашего общения не промолвил и десятка слов. Разумеется, участие в общей беседе ему прямо не возбранялось, но коль-скоро она с самого начала взяла, если можно так выразиться, гастрономический уклон, то и у нашего водителя, загодя (как я успел краюшком глаза приметить) припрятавшего в бумажном кулечке пару холодных котлеток, наверняка было мало желания участвовать в обмене мнениями на равных - кому охота подбирать крошки с чужого стола. Таким образом, полноправных граждан в машине оказалось четверо: Весельчак, Ловкач, я собственной персоной, и старый дружок нашего мецената, о котором мне стало известно лишь то, что его звали Анзор. В пути Весельчак всецело завладел вниманием нашего маленького общества. Словоохотливый человек и отличный рассказчик, он без устали болтал о пользе полноценного и разнообразного питания, разбирал по косточкам достоинства и недостатки самых различных ресторанов, хинкальных, закусочных и придорожных харчевен; знакомил нас с деловыми биографиями директоров этих уважаемых заведении, с большим знанием дела говорил и о доходах этими заведениями приносимых, и о том, кому из теневиков сколько перепадает; вспоминал о былой своей удали, когда слопать два десятка большущих хинкали и закусить их парочкой кебабов ему бывало раз плюнуть; рассказал об эволюции своих вкусов, о застольных безумствах в подземных кабачках и купатных, расположенных по всему протяжению проспектов Плеханова и Руставели, и, конечно же, о незабываемых пирушках в Шиндиси и Бетании; о деньках давно минувших, когда верхом блаженства ему и его верным мушкетерам представлялись кутежи в местечке Пантиани, что чуть повыше и подальше Цхнетских лесов и рощ, и о временах нынешних, когда вкус его в надлежащей мере способен усладить лишь только пир в таком расчудесном местечке, как Ахалдаба, куда мы, как немедленно выяснилось, и направляемся. Услышав это, наш попутчик Анзор сладострастно и смачно цокнул языком, и сразу стало ясно, что через часок-другой всем нам в полной мере предстоит насладиться волшебствами кудесников жаровен и чародеев сковородок. И я, и Ловкач, были, разумеется, не прочь вкусно поесть, а наши молодые желудки работали тогда вполне исправно. Так что при всей нашей - по крайней мере, моей - преданности светлым идеалам социальной справедливости, кулинарная тема, столь детально развитая Весельчаком в салоне его автомобиля, никак не могла оставить нас равнодушными. Мы с энтузиазмом поддерживали беседу и подкидывали Весельчаку все новые и новые вопросы, на которые он охотно нам отвечал. Мы ведь понимали, что на тот день сами лишили себя выбора и потому сочли возможным чуток смирить гордыню, - хотя и не сомневались, что миг отмщения обязательно наступит и мы сделаем все, что в наших силах дабы его приблизить.
Не знаю как Ловкач, но об этой Ахалдабе я раньше и слыхом-то не слыхал. Что там Ахалдаба, мне и в Пантиани-то довелось "хинкальничать" один-единственный раз, а ведь Весельчак давным-давно прошел там свои университеты. Мне даже обидно стало, живешь вот так и живешь, и не замечаешь чем богат мир, так ведь можно и жизнь проморгать! Совсем расхотелось думать о том, зачем мстить Весельчаку, который мне никогда ничего дурного не делал. Зато у меня распалилось гастрономическое воображение - я живо представил, как дымятся на подносе густо посыпанные черным перцем сочные хинкали и мне безумно захотелось есть. "Мерседес" быстро мчался по Нижней Хевсурети. Вскоре за окном промелькнуло крупное селение Жинвали, а затем и деревня Ананури со своей известной средневековой крепостью. Затем, немного не доехав до горного курорта Пасанаури, машина свернула направо, и, одолев мост, выехала на тянувшуюся вдоль левого берега Арагвы проселочную дорогу. Колеса под нами сразу немилосердно задрожали, но через пару минут мы наконец остановились на широкой заасфальтированной площадке. Выйдя из машины и оглядевшись вокруг, я увидел несколько приземистых и легких строений, отстоявших друг от друга на довольно значительном расстоянии. Итак, мы прибыли в загадочную Ахалдабу.
Это небольшое селение легкомысленно раскинулось на берегу пенистой горной реки, там где чистый и прохладный воздух умиротворяет разгоряченное пыльными буднями лицо городского жителя, властно напоминая ему о том, что, несмотря на все ухищрения современной цивилизации, человек такая же плоть от плоти насыщенной живописными красотами дикой и необузданной природы, как и сильная хищная птица, как орел, в эту самую минуту царственно парящий высоко в здешних небесах. Сама река, впрочем, нам с площадки не была видна, но зато мы отлично слышали ее искрившийся свежей мощью гул. Оставив, как и было предусмотрено, водителя рядом с автомобилем, мы под мудрым водительством Весельчака двинулись по истоптанной дорожке вперед, и, пройдя между двумя соседними строениями, стали спускаться вниз по узковатой, изогнутой как змея, но добротно выструганной деревянной лестнице, конец которой невозможно было углядеть сверху. Но вот, спуск, к общему облегчению, закончился, и нашему взору открылась и сама река, и вся панорама уютного прибрежного ресторанчика. Он совсем не походил на типичное заведение общепита той эпохи. В стоявшем поодаль крытом помещении здесь, насколько я мог заметить, располагалась лишь кухня (ее-то я сразу приметил, ибо вкусный запах жареного мяса мигом растревожил мне ноздри), столики же были разбросаны прямо перед нами - частью под полотняными навесами, частью под сенью высоких раскидистых деревьев, частью же просто под открытым небом, но все же - по мере возможности - в тени. Отсюда, между прочим, следовало, что в непогоду ресторан не работал, или же работал вполсилы, но зато в хорошую... За сезон в этих краях наверняка набиралось немало солнечных дней, и так, наверное, приятно бывало укрывшись от летнего зноя под тенистой листвой, посидеть здесь с друзьями за чаркой доброго вина, и, радуясь шумному кипению каменистой Арагвы, произносить приличествующие восторженному состоянию духа и тела велеречивые тосты. И пусть мы явились сюда в самом начале сезона, но пыл наших желудков остудить было не так-то легко и просто. В общем, Весельчак выбрал один из стоящих ближе к крутому и ниспадающему к берегу реки склону столиков и громогласно подозвал официанта. Уже через несколько томительных секунд к нам подбежал худой долговязый парень в не первой свежести фартуке, и, приветливо улыбнувшись, изготовился исполнить любое наше гастрономическое пожелание.
Здесь и вправду ничего не стоило ощутить себя венцом мироздания. Непринужденная и доверительная атмосфера предстоящего застолья; искристая, кипящими брызгами заигрывающая с редкими солнечными лучами шумная горная речка; легкий, словно бы сошедший с какой-то старинной гравюры висячий мостик, да и весь окрестный пейзаж - эдакая мирная весенняя пастораль, - все это бесконечно очаровало меня. Что-то вроде жалости к ничего не подозревавшему Весельчаку шевельнулось в моей душе, когда, облокотившись локтями о дощатую поверхность стола, я стал обозревать окружавшее меня пространство. Может Весельчак и не виноват так сильно, как мне это кажется, промелькнула мысль, - может он и сам, в какой-то степени, жертва; хомо сапиенс со всеми присущими роду человеческому слабостями и страстями. И, насколько могу припомнить, это крамольное суждение мне удалось подавить не сразу. А потом началось такое...
Вряд ли возможно во всех подробностях описать вкусовые прелести раз за разом исчезавших в наших утробах яств. Самые красноречивые эпитеты представляются мне неточными и ни к чему не обязывающими. Может разве что великому Писателю, этому непревзойденному повелителю синтаксических оборотов и идиоматических ловушек, удалось бы подобающим образом описать тончайшую и разнообразнейшую вкусовую гамму, что медленно подтаивала у меня где-то между небом и гортанью, я же пасую - даже сейчас у меня не хватает для этого ни мастерства, ни терпения. Кстати сказать, здесь, в этом изъеденном червями гробу, воспоминания о всяких там лакомствах и пирушках, - да что там о пирушках, - даже о невнятном вкусе черствой хлебной корки, относятся к наиболее болезненным и причиняющим нестерпимые мучения. Мысленно перенестись в далекое прошлое или в не менее отдаленное будущее, - это пожалуйста; пробавляться изящными философскими гиперболами, или там угрызениями неспокойной совести - проще простейшего, а вот грешным делом полакомиться так же, как тогда в Ахалдабе, как в некогда знаменитом ресторане московской гостиницы "Пекин", или хотя-бы так, как в дешевой студенческой забегаловке - нет уж, извините покорно. Вот и я не стану без нужды теребить свою уставшую память, отмечу только, что все мы самозабвенно уплетали все то, чем нас время от времени одарял наш долговязый официант, отрываясь от этого процесса лишь тогда, когда единодушно избранный нами тамадой Весельчак произносил очередной заздравный тост. В наши чарки щедро лилось вино, даже отдаленно не напоминавшее бурду, или, в лучшем случае, кислятину, что в те времена обычно подавалась обычным посетителям обычных тбилисских ресторанов. Отказаться же здесь от доброго питья мог разве что человек, страдающий обострением язвы желудка, и не удивительно, что недавнее обещание не пить, торжественно данное нами матушкам, было предано забвению.
И все-таки пили мы с Ловкачом не с таким остервенением, как наши старшие товарищи. Мы старались не допивать наши сосуды до донышка и преуспели в этом. Кроме того, пару раз нам удалось пропустить свою очередь, и потому к окончанию пиршества, когда Весельчак и Анзор, казалось, уже и лыка не вязали, мы еще не окончательно утеряли способность соображать. Часикам эдак к шести было выпито и съедено все, что мы были в состоянии выпить и съесть, пора было возвращаться в город. И тут-то и произошло событие, взнуздавшее спокойное течение моей жизни. Некоронованный король вселенной - его величество случай - взял в свои руки мою персональную судьбу. Ну а ежели вам кажется, что слова эти звучат излишне выспренне, что ж, мысль мою можно выразить и проще: не произойди тогда этого события - не произошли бы и многие другие, и все дальнейшее в моей жизни сложилось бы по иному. Наверное. А случилось все так: Анзор в десятый, кажется, за вечер раз вышел облегчиться. Его сильно пошатывало и всем нам стало очевидно, что пить он больше не в силах. Воспользовавшись его отсутствием и призвав себе на помощь остатки разума, Весельчак пьяным взмахом волосатой длани подозвал долговязого к себе: "Ра-а-а-сч-е-е-т!"...
Сейчас не столь важно точно назвать фантастическую цифру в рублях, произнесенную нашим официантом почти с детской непосредственностью (хотя я и очень хорошо ее запомнил), не столь важно дивиться той неприкрытой гордости, что сопровождала поиск Весельчаком денег у себя в карманах (все-таки, на мой взгляд, он слишком долго шарил руками в карманах брюк и пиджака), не столь уж важно помянуть и изогнутую в знак благодарной угодливости спину вертлявого подносилы; зато чертовски важно отметить одну особенность момента, что в буквальном смысле дорого обошлась нашему тамаде. Вытаскивая из брючного кармана искомое количество чуток засаленных банкнот, Весельчак ненароком подцепил и находившуюся там связку ключей, которая, в полном соответствии с законом всемирного тяготения, немедленно оказалась под столом. Мелочь эта прошла мимо внимания официанта, всецело поглощенного подсчетом щедрых чаевых, Весельчак и ухом не повел, а сильно перепивший Анзор вернулся из туалета лишь тогда, когда деньги окончательно перекочевали в карман долговязого и насел на нашего тамаду с нудным и безуспешным требованием продолжения застолья, тем самым отвлекая его внимание от более важных и насущных задач. Не знаю, кто первым - Ловкач или я - принял случившееся за знамение свыше, кто из нас быстрее догадался, что на земле в тот миг валялась та самая связка тех самых ключей, коими перевозбужденный Весельчак не так давно потрясал перед нашими изумленными очами, трепаясь насчет золотого ключика от ненаглядного сейфуленьки, но когда я нырнул под стол, чтобы подобрать то, что плохо лежит, то, - клянусь! - моя рука напоролась на руку Ловкача. Никогда в жизни не понимали мы друг друга так хорошо, как в то звездное мгновение. Помнится, я уступил Ловкачу трофей без лишней борьбы, связка немедленно исчезла в кармане его брюк и все наши прежние бредни неожиданно приняли вполне осязаемую форму. Удача, неслыханная удача! Еще бы, ключи попали в наши руки аккурат накануне утреннего вылета Весельчака в Москву, - не отложит же он путешествие только оттого, что утерял по пьяни связку ключей, наверняка, у него найдутся запасные. И потом... Мы и сами-то, будучи под сильным градусом, даже не вспомнили о тетушке дорогого соседа, которая, должно быть, уже уложила все необходимое в чемодан любимого племянника и с нетерпением ожидала его возвращения - иначе как бы он попал тем вечером к себе домой? Но обошлось. Как выяснилось позже, она его действительно дождалась. А домой мы возвращались сытые, веселые, гордые собой, любой ценой готовые отбиться от родительских упреков. Мрачноватый водитель мчал нашу подгулявшую компанию обратно в город по упоительной горной трассе, жизнь была восхитительна и прекрасна. Но основные трудности, бесспорно, ждали нас впереди. У меня, например, вызывала смутное опасение теоретическая возможность попадания в какую-нибудь хитрую электронную ловушку на пороге холостяцкой квартиры Весельчака, но от одного дня никак нельзя было требовать большего. Незапланированная пирушка в Ахалдаба, выпавшая, как по заказу, из кармана Весельчака связка ключей, тетушка у него дома, сам его отлет в Москву на следующее утро, а главное - объявление в газете об отключении электричества в целом районе, на которое я случайно наткнулся несколько дней спустя... В общем, налицо цепочка последовательных случайностей, и выпади из нее хоть одно звено, так и остаться бы мне скромнейшим физиком, но... О боже, как поздно я убедился, что слишком настойчивые попытки проведения в реальную жизнь даже кристально чистого принципа, способны довести этот самый принцип до полнейшего абсурда, выхолостить его полностью, ибо как только вы по-настоящему входите за дело, выясняется, что люди существуют для принципа, а не принцип для людей, и это губительно и для людей, и для принципа, и для вас самих. Настает миг, и вы, понимая это, морально уже готовы отступить, но ложная гордость мешает, аберрации и потертости неизбежны, - и то, что в результате остается от вашего принципа, совсем не похоже на его первоначальный вид. Вот я подавил шевельнувшуюся тогда во мне жалость к Весельчаку и не позволил себе стать размазней, но эта моя принципиальность обернулась жестокостью, а истинную цену этому превращению я познал лишь десятилетия спустя. Но тогда думалось не о праве осуждать и приговаривать, а о выпавшей на нашу долю удаче. Итак, вечером мы без особых приключений вернулись в наши дома, и после долгих, чуть ли не слезливых расставаний у подъезда Весельчака, вскоре очутились каждый в своей постели. Кое-как раздевшись, я повалился на кровать и немедленно уснул, а небольшая трепка, так и не миновавшая меня наутро, не представляет для вас ни малейшего интереса. Что же до тетушки Весельчака, то сия достопочтенная особа, как видно, с честью выполнила возложенные на нее племянником обязательства, ибо на следующее утро тот благополучно отбыл в аэропорт на вполне демократическом такси - Ловкач своими глазами видел, как он садится в желтую машину с чашечками.
С того самого дня мы с Ловкачом повели за квартирой Весельчака слежку как заправские сыщики. Трехдневное наблюдение убедило нас, что никаких тетушек он дома не оставлял. И все же я не смел переступить порог его квартиры, мысль о ловушке не давала мне покоя. Именно тогда на глаза мне попалась искомая заметка в "Вечерке", предупреждавшая население района о предстоящих профилактических работах на подстанции - время указывалось. Такого удобного случая нам больше могло и не представиться. Судите сами: Весельчак в Москве, ключи в кармане, сигнализация (если она и установлена) - отключена. Итак, мы оказались перед необходимостью принятия быстрого решения, и мы это решение приняли. Как мне удалось обчистить сейф, - вам уже известно.
Х Х Х
Они кружились в танце тесно прижавшись друг к другу. Руки Художника уверенно вели ее по комнате и Девочке казалось будто это Его руки. Но, увы, это были руки Художника и только.
Танцевать она всегда любила. И раньше она иногда танцевала у себя в комнате под любимую пластинку, танцевала одна-одинёшенька, и всегда ей удавалось улучшить минутку для того, чтобы заглядется на свое отражение в большом зеркале и полюбоваться собой - растрепанной и румяной. Вот если бы Он разочек глянул на нее такую, чокнутую и непристойную, Он непременно бы в нее влюбился, и Она его, слепца эдакого, хорошенько бы помучила, отомстила бы за страдания, которые Он, любимый, ей, сам того не ведая, причинял. А после они весело и долго смеялись бы друг над другом. Но Она плясала перед большущим зеркалом одна-одинёшенька, а Он был далеко-далеко, за тридевять земель, и так в нее и не влюбился. А потом он взял и женился на другой, оставил ей черную пустоту в сердце, обрек на вечные терзания, унылые вечеринки да скучные дни рождения. "Как Ваши дела?". "Прекрасно. А Ваши?". Чужая радость. А сегодня вечером она познакомилась с Художником и они закружились в танце. Дымная, прокуренная насквозь комната, сладкая музыка, стеклянные глаза, напускная дешевенькая раскрепощенность, - да, ни на что кроме таких вот танцев она уже не годна. Вечеринки, дни рождения... Чужое счастье, а свое - уплыло, просочилось сквозь бессильно сжатые в кулачок пальцы. Позавчера она еще могла надеяться, ведь свадьбу - уж об этом-то ей известно, - сыграли только вчера. А кажется, будто прошел целый месяц, год, век. Вечность прошла, - и к прошлому нет возврата. А Художник-то - парень что надо: высокий, стройный красавчик, впалая грудь его излучает особый, мужской жар, тонкие руки исполнены сознанием сокрытой в них силы, зрачки сверкают как у дикой кошки, светятся в полутьме. Э, да он уверен в себе, не то что разные там умники и мямли! Сила. Мужская сила и обаяние, - в этом весь секрет. Завтра вторник. Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота. В воскресенье она пойдет гулять в парк. В ее парк. Эскимо или "Лакомку". "Лакомку" или Эскимо. А Художник так на Него похож, иногда ей кажется, что разницы нет вообще. И они медленно-медленно кружатся в полузабытье перебирая ступнями, к прошлому нет возврата, и ей не страшны, нет, ей приятны и желанны сухие, длинные, жаркие пальцы Похожего, его нарочито жесткие, грубые, горячие руки, одинаково привыкшие и к женщинам, и к кисти...
Х Х Х
Реджинальд Браун, эсквайр, брит, тридцати лет от роду, пилот-разведчик Патрульной Службы Среднеатлантической Зоны Безопасности, уроженец Большого Лондона и симпатичный малый, в авиацию попал вопреки родительской воле. Директор элитарной вест-эндской гимназии умственного труда, с полным на то основанием, прочил юному выпускнику своего заведения блестящую будущность неподкупного искателя научной истины. Реджи с малых лет имел наклонность любопытствовать над не вполне прозрачными для большинства гимназистов творениями человеческой мысли, прослыл умником, и за то неоднократно бывал подвергнут насмешкам со стороны своих более нормальных сотоварищей. С самых юных лет его привлекали трактаты о древних, зачастую примитивных, но никак не желающих исчезать из памяти населяющих землю рас и народов разнообразных верованиях, и, надо признать, в этом своем увлечении он обрел истинное понимание со стороны своей матери, миссис Браун, которая всячески, с переходящим в полное самоотрицание упоением, потворствовала развитию гуманитарных наклонностей сына. Казалось, Реджи оправдает ожидания матушки и своих многоопытных наставников. И действительно: молодой человек играючи преодолел свои первые вступительные испытания, а несколько лет спустя уже числился в первой пятерке счастливых обладателей Королевского Диплома медиевической ориенталистики - именно такие свидетельства вручались наиболее обещающим студиозам, успешно преодолевшим усложненный курс филологических и исторических дисциплин в Кембриджском колледже "Олд Стоунз". На церемонии награждения особо отличившихся дипломантов, увенчанный академическими лаврами, учеными степенями и благообразнейшей блестящей лысиной знаменитый профессор Конифф в порыве благодушной откровенности заявил, что Браун и только Браун достоин занять открывавшуюся в скорейшем будущем вакансию старшего ассистента на руководимой профессором кафедре Общей Восточной Философии, но увы, - чаяниям Кониффа, равно как и светлым надеждам матушки Браун, так и не суждено было осуществиться. Вскоре после того, как молодой Браун в ожидании упомянутой вакансии временно занял на кафедре должность младшего куратора, он, неожиданно для себя и еще более неожиданно для окружающих, утерял присущий ему интерес к тайнам архитектоники южноазиатских пагод и к особенностям психолингвистического строя языков и наречий тибето-бирманской группы, и представил в присутственные места сразу два заявления: первое - об уходе с занимаемой должности по собственному желанию, и второе - о приеме в Бирмингемское высшее летное училище. Странные и необъяснимые с виду действия юного многообещающего ориенталиста произвели настоящую суматоху как в попечительском совете выпестовавшего его колледжа, так и в особняке "Хай поплар" по Донован-роуд 211, где безутешная миссис Браун вынуждена была принимать большие дозы диатомина. Но Реджи, ее любимый Реджи, в котором она души не чаяла и ради которого во всем себе отказывала, был непреклонен. Он твердо решил летать. На прямой вопрос отца, отставного офицера военно-морских сил, безупречно прослужившего без малого три десятка лет на борту флагмана Северного флота Первой Европейской Зоны Безопасности линкоре "Скотланд", что же послужило причиной столь неожиданного и радикального решения, последовал твердый и обдуманный ответ: "Именно слишком хорошее знание истории толкнуло меня на этот шаг. Будь я более поверхностным исследователем предмета, которому я честно посвящал свои способности, мне и в голову не пришло бы заняться чем-то иным. Но полученное мной глубокое и систематическое образование не прошло даром - оно вынудило меня разочароваться в моральной ответственности и даже дееспособности человечества в целом, и иначе взглянуть на собственное предназначение. Я более не вижу смысла в псевдоинтелектуальной, хотя и весьма изощренной игре ума, на участие в которой в нашу жестокую эпоху обречен любой уважающий себя гуманитарии, и которая способна лишь подвергнуть новым испытаниям непрочный миропорядок вокруг нас. Тебе, отец, лучше многих известно, что его установление потребовало таких затрат крови, пота и ресурсов, которые показались бы чрезмерными даже самому равнодушному скептику. И кого, кроме моей бедной матушки, может удивить мое стремление употребить собственные силы и знания на поддержание этого порядка, а не на его подрыв?". Далее Реджи добавил, что и в гимназии, и в колледже он обнаруживал недюжинные способности к точным наукам, обладает крепким здоровьем, ибо никогда не отлынывал от физической подготовки, не боится неба и не страдает приступами высотной болезни, а также искренне надеется, что экзамены в училище окажутся ему по плечу. Старому морскому волку пришлись по душе откровения сына; он и сам недоверчиво относился к прежней деятельности Реджи, иной раз за обеденным столом, к неудовольствию горячо любимой супруги, прозрачно намекая на то, что в роду Браунов никогда не водились никчемные людишки. Не удивительно потому, что Браун-старший приписал овладевшее Реджи томление духа, не в последнюю очередь, и своему затрапезному брюзжанию. Поэтому, лихо подкрутив седые офицерские усы, глава семейства благословил предстоящий поворот в судьбе сына, обещав черкнуть пару строк своему старому товарищу - начальнику летного училища в Бирмингеме. Согласованные действия молодого эсквайра и мистера Брауна-старшего на домашнем фронте, помогли почтенной леди достойно выстоять перед лицом крушения материнских надежд, что и привело, в конечном счете, к тому, что бывший дипломированный востоковед с течением времени стал обращаться со штурвалом реактивного самолета так же легко, как прежде обращался со словарем. Чего-чего, а упорства и ловкости Браунам было не занимать.
К исходу двадцать первого столетия человечество не испытывало недостатка в желающих летать на боевых самолетах Патрульной Службы. И вовсе не романтичное представление о древней профессии воздухоплавателя было тому причиной. В Патрульную Службу, как правило, поступали молодые люди искренне убежденные в необходимости ее существования. К концу века миропорядок, фундамент которого стал закладываться непосредственно после завершения мировой ядерной войны 2025 года выжившими здоровыми силами планеты, спасавшими то, что еще можно было спасти, - успел утвердиться на всей территории Земли. Принципы нового мирового порядка призваны были предотвращать возникновение любого аналогичного конфликта, и, по замыслу отцов-основателей, обеспечивать человечеству все возможности для мирного поступательного развития. Тем не менее, общественная жизнь планеты вовсе не была лишена внутренних противоречий. То тут, то там разворачивались локальные столкновения, перераставшие порой в вооруженные мятежи; не перевелись пока и межнациональные, конфессиональные и межплеменные раздоры - их постоянно тлеющие очаги продолжали отравлять каждодневное существование большим массам людей; разношерстным политическим авантюристам нередко удавалось вербовать себе многочисленых сторонников и борьба с ними отнимала у общества немало времени и сил. Сила... О, сила по-прежнему, как и в довоенные времена, продолжала играть в политике доминирующую роль, разве что вся глобальная политика превратилась в политику внутреннюю, ибо сама Земля стала единой и неделимой. И все же: ситуация на планете, несмотря на консолидацию в целом, оставалась сложной в частностях. Перспектива дестабилизации правящего режима не была устранена полностью, так же как и не были окончательно разрешены все социальные, экономические, юридические, демографические, национальные или расовые проблемы. В отдельных регионах планеты человечество даже во второй половине двадцать первого века сталкивалось с последствиями изменения климатической карты мира и с хроническим недоеданием определенных групп населения. К счастью, среднегодовая температура прилегающего к земной поверхности воздушного слоя относительно быстро - всего за несколько десятилетий - приблизилась к довоенному уровню, не претерпела качественных изменений и структура атмосферных осадков. Средиземноморские пляжи почти вернули себе былую роскошь, льды отступили обратно к полюсам, а технологический прогресс, как водится, внес в повестку дня неотложную задачу о пределах искусственных нагрузок на среду обитания. Но все равно: приходилось, как и в проклятом прошлом, считаться и с засухами, и с заморозками, и с наводнениями, и с экономическим дисбалансом спроса и предложения, и с неповоротливостью механизмов хозяйствования, и, конечно же, с разнообразными проявлениями народного недовольства. Зарожденный в угаре почти пещерных послевоенных условий и в обстановке охватившего многие страны и целые континенты чуть-ли не всеобщего одичания политический режим, - с течением десятилетий, и по мере понижения общего радиоактивного фона и успешного осуществления восстановительных процессов, - в целом постепенно и неуклонно модифицировался в сторону демократизации. Тем не менее, к концу века число зафиксированных в Великой Хартии обязательных запретов и ограничений оставалось раздражающе большим. Настоятельная необходимость разного рода предосторожностей цензурного порядка проистекала из неравномерного характера распределения ресурсов и производительных сил на территории планеты, а также из недостаточно однородной организации общества, хотя за последние десятилетия оно и заметно продвинулось в сторону весьма своеобразного социализма. За эти годы политический режим в значительной степени стабилизировался и стал пользоваться почти неограниченной моральной поддержкой правотворческих слоев населения всех государств земного шара, все равно - затронутых прямо ядерными бомбардировками или нет (в стороне от процесса централизации никак не могли оставаться и те малые и слабые страны, которым только и удалось - в силу спасительной их незначительности, - избежать опустошительных ракетно-ядерных ударов). Но, кроме данной поддержки, режим нуждался еще и в реальной силе, ибо моральная поддержка суть величина изменчивая и зависимая от трудно предусматриваемых случайностей. К счастью, господствующая мораль породила и нечто похожее на силу коллективного разума и ей, коллективной силе этой, суждено было легитимироваться и трансформироваться в мощь государственной машины еще в начале сороковых годов двадцать первого столетия, когда полномочными представителями бывших национальных государств была единогласно принята Великая Хартия, а на ее основе наконец образована долгожданная Всемирная Федерация Государств. Федеральная структура глобального новообразования в первую очередь отразилась в многочисленных и разветвленных бюрократических атрибутах, без коих оно не смогло бы эффективно функционировать; таких как Федеральное Правительство, Мировой Парламент, наделенная полицейскими правами армия, органы охраны общественного порядка, и, конечно, в огромном множестве иных. Относительно свободной от глобальной федеральной опеки оставалась мировая масс-медия, как печатная, так и электронная. Создатели Великой Хартии видели одну из наиболее серьезных причин ядерной развязки прежней истории человечества, с одной стороны, в чрезмерной тенденциозности органов массовой информации, слишком часто игравших дезинформационную, поджигательскую роль, а с другой - в нарушениях основных принципов защиты общечеловеческих прав, и, в частности, свободы слова. Поэтому отцы-основатели практиковали контроль за прессой, радио и телевидением относительно либеральными методами (впрочем, от контроля как такового, невозможно было воздержаться). В интересах сохранения целостности Федерации, режим управлял событиями на Земле довольно жесткой рукой. Отныне любой локальный конфликт между людьми разных этнических групп или вероисповеданий, особенно с применением незарегистрированного в филиалах федеральной полицейской службы огнестрельного оружия, официально именовался внутренней разборкой и жестоко подавлялся армией и органами безопасности. Правительство расценивало подобные столкновения как мятеж, и - через скорые и крайне формализованные судебные процедуры - не скупилось на длительные приговоры его зачинщикам. Зато пресса и телевидение освещали эти раздоры с различных позиций, а ежедневные новости планеты подавались ими в сенсационном духе и держали подписчиков и зрителей в состоянии постоянного напряжения. С историей трудно спорить, легче оспаривать ее видимые итоги, но послевоенная форма политического устройства планеты была, видимо, не только возможно лучшей, но и диалектически единственно оправданной, отвечающей очередному преходящему историческому этапу, который преодолевало человечество в своем неуклюжем, но неуклонно поступательном развитии. Неплохим залогом того, что режим способен гарантировать успешное продвижение человечества к зафиксированным в Великой Хартии гуманным и благородным целям, служило хотя бы то, что Федеральное Правительство (официально преобразованное на Венском конгрессе 2071 года в Объединенный Совет, но сохранившее в политическом обиходе прежнее название) в своей повседневной деятельности опиралось не на эклектический и формальный союз государств с различным социально-экономическим строем, типа некогда существовавшей ООН, так и не сумевшей разрешить жизненно важные для всего человечества задачи, а на фактическое единство государств социалистического и народно-демократического типа, ибо социализм стал господствующим хозяйственным укладом на планете. Социализм этот обладал рядом особенностей (например, экономически вполне обоснованным считалось повсеместное наличие не очень широкой капиталистической прослойки населения, то есть людей, извлекавших законную прибыль на вложенный капитал и эксплуатировавших, во имя этого извлечения, ближних своих - одно лишь это обстоятельство, вкупе с весьма относительным, но все же соблюдением принципов свободы слова, подпирало собой некую глобальную плюралистическую надстройку). Самым существенным, однако, было то, что единое человечество впервые в истории пришло к твердому заключению: никакой иной общественный строй, никакая иная формация не в силах обеспечить неэгоистическое распределение извлекаемого из недр сырья и получаемоматериальной продукции по всей территории земли, для всех населяющих ее народов, и, главное, для будущих поколений людей.
Исторической наукой Реджи Браун увлекся еще в гимназические годы. Именно этот интерес к путям развития человечества и послужил причиной тому, что вначале он чуть было не заделался любимцем профессора Кониффа, а затем внезапно сменил тихо скрипящее перо кабинетного исследователя на рев реактивных турбин. Разумеется, прежде всего он хотел побольше узнать об истории Британии, о походах норманов и римлян, о Стюартах, Тюдорах и Плантагенетах, о Кромвеле и о парламенте, о Черчилле и о Железной Маргарет, но ведь подлинный интерес к прошлому шутя преодолевает национальные границы, мановением мысли сокращает расстояния между странами до размеров печатной буквы и превращает Землю в летящий по холодным космическим просторам крохотный шарик. Вот и Реджи не мог стать и не стал исключением из господствующих космополитических правил существования - просто в отличие от многих других он оказался человеком действия. Следует заметить, что по сравнению с довоенными эпохами на планете произошло немало благотворных изменений в сфере народного образования, и многие из них коснулись методик преподавания общественных дисциплин в средних и высших школах. Отрадной особенностью явилось, в частности, то, что Всемирную Историю, с доантичных эпох и вплоть до Третьей Мировой Войны, земляне отныне изучали по стандартному учебнику, составленному крупнейшими авторитетами в сферах истории и педагогики из самых разных стран. В этом толстенном трехтомнике важнейшие факты человеческой истории излагались по возможности беспристрастно. Учебник был единый и унифицированный, по нему учились школьники России и Австралии, Северной Америки и Китая, Скандинавии и Сахеля, Полинезии и Фарерских островов. Нации, разумеется, не отказались полностью от права знакомить свою молодежь и с национальной историей тоже; наряду с учебником Всемирной Истории разбросанными по всему миру частными педагогическими издательствами выпускались в свет и учебники по местной истории, но горячие головы все же вынуждены были считаться с теми положениями Великой Хартии, которые объявляли вне закона разжигание национальной и расовой розни. Реджи, к слову сказать, обучался британской истории в изложении английских авторов - Кроулигса и Хичкока, но текст этого учебника был утвержден и признан приемлемым для британских школ не в Лондоне, а в Цюрихе, там где расположилась штаб-квартира федерального министерства образования. (Федеральной столицы на планете не существовало: развитие компьютерных средств связи и коммуникаций - прежде всего т.н. Интернет - облегчило рассредоточение основных федеральных ведомств по всей территории земного шара. Руководители Земли старались не задевать ничьих патриотических чувств; часть штаб-квартир по старой международной традиции осела в Швейцарии, часть же рассеялась по градам и весям всех континентов. Так скажем Космоцентр находился в Денвере, штат Колорадо, регион США; Управление по использованию атомной и термоядерной энергии в мирных целях - в Дубне, регион Россия; департамент по развитию высокотемпературных сверхпроводимых технологий в Аделаиде, регион Австралия; министерство ирригации - в Киншасе, регион Заир; а влиятельнейший Институт по изучению текущих международных проблем - в Стокгольме, регион Швеция). Обязанности консультантов и экспертов министерства образования заключались, кроме всего прочего, в разработке компромиссных вариантов исторического прошлого с последующим внедрением их в печатную продукцию как государственных, так и частных педагогических издательств. Наглядным примером, иллюстрирующим деятельность консультантов этого министерства, является хотя бы способ освещения англо-аргентинского конфликта 1982 года в средних учебных заведениях планеты. Учебник Всемирной Истории ограничивался кратким изложением фактической стороны дела, довольствуясь следующей, довольно расплывчатой схемой: Причины Мальвинского (Фолклендского) кризиса коренились в колониальной эпохе далекого прошлого; последующим поколениям аргентинцев и англичан следовало решать эту проблему полюбовно, исключительно путем мирных переговоров; исторические права Аргентины на означенные острова представлялись более весомыми, но президентам этой страны следовало терпеливо дожидаться выполнения Соединенным Королевством принятой в семидесятые годы двадцатого столетия резолюции Генассамблеи ООН по этому вопросу, выдержанной в духе аргентинских притязаний. Развязывание конфликта военным правительством Аргентины не привело и не могло привести к решению проблемы Мальвин (Фолклендов) и его результатом стало лишь закрепление более сильной в военном отношении Великобритании на островах. Далее в учебнике следовали общие фразы о необходимости проявлять в спорных ситуациях миролюбие и выдержку. В общем, составители учебника как следует позаботились о том, как бы не допустить случайного крена в ту или другую сторону. В национальных же учебниках события освещались несколько иначе. Девятикласник средней школы аргентинского города Росарио, более подробно ознакомившись с историей захвата Мальвин британцами, мог самостоятельно прийти в выводу о том, что англичане воевали "не по правилам" (инцидент с потоплением крейсера "Хенераль Бельграно"), и что аргентинский десант на острова носил антиколониальный, освободительный характер. Одновременно указывалось и на несвоевременность затеянной хунтой генералов-милитаристов операции, на то, что аналогичную политику следовало реализовывать мирными средствами, и на то, что в итоге дружеские отношения между народами двух стран были поставлены под угрозу. Однолеток мальчишки из Росарио, посещавший лицей где-нибудь в Манчестере, из книжки Кроулигса и Хичкока об инциденте с "Хенераль Бельграно" ничего узнать не мог. Зато он мог там вычитать, что попытка решения аргентинской военщиной обострившихся внутренних проблем страны за счет внешнеполитической авантюры, обернулась полным ее провалом. В книжке особо подчеркивалось, что, исходя из исторического опыта и традиционных действий Британии в аналогичных ситуациях, Фолкленды (Мальвины) в надлежащее время были бы переданы Аргентине в форме не затрагивающей британскую честь. Итого: предусмотренные в национальных учебниках разночтения приводились к общему знаменателю именно в учебнике Всемирной Истории. Поскольку тексты всех трех учебников были утверждены в Цюрихской штаб-квартире, нетрудно понять за какого рода деятельность выплачивались высокие годовые оклады консультантам и экспертам федерального министерства образования.
Но стоп! Дальнейшее обсуждение механизмов власти неминуемо увлекло бы любопытствующих в трясину многочисленных, но в действительности малозначащих деталей. Малозначащих, ибо никому не следует полагать будто в двадцать первом или двадцать втором столетии придумали способы натягивания вожжей уж очень отличные от тех, коими человечество пользовалось с незапамятных времен. Лучше уж вовремя остановиться и, чуток передохнув, вернуться на более твердую почву испытанных традиционным психологическим анализом исторических суждений. Суждений не очень строгих, далеко в мелочах не бесспорных, но все же основанных на безусловных фактах, таких как... Ну скажем, как на воцарении почти круглогодичной зимы в северном полушарии в конце двадцатых, или на быстром и почти повсеместном распространении каннибализма в начале тридцатых годов двадцать первого века. Вспомнить и более далекое прошлое, - и не только лишь сумрачные дни и недели Третьей Мировой, но и непосредственно предшествующие ей месяцы и даже годы так называемого мира. Уделить основное внимание не тем, преисполненных кровавым драматизмом и мелкими страстишками сумасшедшим сентябрьским неделям 2025 года - неделям, обошедшихся человечеству в миллиард убитых, два с половиной миллиарда пострадавших от ожогов, облучения, отравлений и инфекционных заболеваний, не считая мириад мужчин, женщин и детей, изверившихся в основных моральных и цивилизационных ценностях, - а несколько более длительному периоду всеобъемлющей подготовки к этой войне. О, тогда тоже мало кто верил, что двухнедельный (всего лишь!) кошмар атомных и иных бомбардировок уступит место годам и годам томительной ядерной зимы и ренессансу первобытно-пещерных правил общения между выжившими. Вспомним же прошлое. Такое отступление все же может принести ну, совсем хотя бы мизерную, но пользу - вдруг человечество не возжелает оступиться в очередной, четвертый раз. Да и без четвертого раза... Разве мало нам того, что скепсис заражает лучшие умы? Еще бы! Ведь все миролюбивые заверения и велеречивые декларации, исходившие от лиц, облеченных, казалось бы, наибольшим доверием и ответственностью, оказались перечеркнутыми неумолимым ходом истории за какую-то пару недель.
Судя по тому, чему учили по учебнику Всемирной Истории Реджи Брауна и его ровесников, Третья Мировая Война носила ярко выраженный идеологический характер, и, потому, могла и не начаться. Экономическую выгоду не получала ни одна из воюющих сторон по той простой причине, что и не рассчитывала получить ее. К началу осени 2025 года соотношение сил, сложившееся между великими державами, было примерно таким же, как и в восьмидесятых, к примеру, годах двадцатого столетия. Те же основные союзы, то же военно-стратегическое равновесие, те же действующие конституции в странах-участницах конфликта, та же полная бессмысленность ведения боевых действий. Казалось, что может быть проще - полемизируйте, дискутируйте, спорьте сколько влезет, как спорили всегда; лезьте из кожи вон доказывая вашу правоту, но не хватайтесь господа, пожалуйста, за ножи. Ножи - это совсем другое дело. Но, увы, спорили, спорили - и доспорились. Ибо сорвались на крик, на площадную брань, переступили за порог нервной устойчивости государственных организмов. Военная партия победила, но победа оказалась воистину пирровой. Трезвый расчет был с позором изгнан из коридоров власти, а немногочисленные оптимисты опровергнуты, так сказать, действием, безудержным ходом событий. Слепая, обыденная ненависть застлала стратегам человечества глаза. Первый день ядерной войны одновременно стал и последним днем триумфа высших представителей капиталистической элиты, совершенно обезумевших от животного страха перед коммунизмом. Несколько недель спустя элита эта сама пала жертвой собственного эгоизма и обдуманной политики культивирования мистического и иррационального в ущерб разумному и рациональному. Но этим сатанинским коммунистам тоже пришлось несладко, не так ли? Так мстили человечеству те, для которых сама мысль о том, что, неровен час, придет конец строю, обеспечивающему им сверхприбыли, раболепные взгляды услужливых чиновников, победоносную биржевую горячку, виллы, бассейны, белоснежные яхты, продажных женщин и прочую мелочь, являлась невыносимой. То, что в начале двадцать первого века на планете от элементарного недоедания ежегодно погибали десятки миллионов людей, и эта цифра продолжала увеличиваться, их заботило мало. Элита привыкла наслаждаться плодами цивилизации. Она обладала всем: эмоциями - для себя; демократией - для себя; нефтью, золотом, бриллиантами и драгоценными украшениями - для себя; привилегированными клубами и средствами производства - для себя; чистым воздухом и голубым прибоем - для себя. Ради всего этого темно-серо-буромалиновая человеческая масса, все эти неудачники от природы, бездельники, что без устали плодили себе же подобных бездельников (и каких урожаев, каких биотехнологических прорывов могло хватить на эту ораву!), основательно перепахала матушку-землю за все столетия до и от Рождества Христова. Казалось, можно было и почить на лаврах, подкидывать время от времени относительно приличным и богобоязненным неудачникам обглоданные кости в блестящих упаковках и продолжать предаваться нирване, но не тут-то было. Никак не проходило у достойнейших представителей рода человеческого пугающее ощущение мирового непостоянства. Все бы хорошо, справиться со своими баламутами хватило бы и смелости и сил, но как было быть с этими красными чертями со своими ОССС, КГБ, ГРУ и прочими атрибутами, что так прочно обосновались чуть ли не на третьей уже части земного шара, и с дьявольским упорством мутят воду в оставшихся двух третях? "Неправильно, нехорошо живете, - истово вопят на всех радиочастотах красные и их подголоски. - Эксплуатируете, угнетаете, обманываете, рвете из рабочих рук кусок хлеба". "Империализм, гегемонизм, социальная справедливость, классовая борьба, диктатура пролетариата, одномерный человек, закат Европы, гибель цивилизации", - вторят им яйцеголовые интеллектуалы, и от этого можно совсем взбеситься, ибо жрут эти интеллектуалы за троих, и требуют все новых и новых денег на свои писания и прожекты. И это благодарность? Разве мы, верхи, не по справедливости делились со своими неудачниками, не говоря уже о яйцеголовых? Разве где-либо в мире достигли более высокого уровня жизни и комфорта, чем на старом, добром Западе? Разве мы, верхи, не нянчились с бумагомараками, не делали вид будто они ничем не хуже нас? А чем они платят за добро? "Империализм, классовая борьба, диктатура пролетариата?". Такой валютой в обмен на доллары и евро? Нет, конечно же не яйцеголовым лезть первыми на баррикады, но кто может поручиться, что они не переметнутся к красным, если те, не дай бог, водрузят алые стяги где-нибудь на Монмартре? А "третий мир"? Ох, уж этот прожорливый и вечно недовольный "третий мир"! Существование "мировой деревни" не позволяло изнеженным верхам капиталистического мира всласть наслаждаться приторно-цветными сновидениями на своих шелковых матрасах; они боялись, иногда не вполне осознанно, проснувшись одним сероватым утром обнаружить себя такими же нищими и оборванными, как и те несчастные, которых они, или же их предки, обогнали и обобрали. Столпы общества чувствовали себя обманутыми, да и было отчего. Счастье, доставшееся на их долю, оказалось зыбким, покоившимся на нетерпеливо вздрагивающем вулкане, и, с течением времени, охватывавшее их чувство неопределенности лишь усиливалось. Усиливалось до тех пор, пока не превзошло некий запретный порог, за которым сильные мира сего готовы скопом поднести естественный инстинкт самосохранения в жертву своим же агрессивным флюидам.
В учебнике Всемирной Истории довольно подробно описывался ход боевых действий; анализировалась ситуация, предшествовавшая катастрофическому обострению кризиса; приводились фамилии тех государственных деятелей, которые в принципе могли сделать больше чем сделали (или не сделали) для предотвращения роковой развязки. Но поскольку это был все-таки учебник по истории, а не по психологии масс, в нем обходился вопрос: а на что все же надеялись облаченные и в гражданские костюмы, и в военные мундиры высокопоставленные граждане своих государств, отдававшие подчиненным совершенно конкретные и беспрецедентно варварские распоряжения и приказы, достоверно при том сознавая, что они непременно будут выполняться? Стратеги ведения "затяжной ядерной войны", на американской, скажем, стороне, возможно и не предполагали, что вся кампания всего то за неполную неделю примет форму всеобщей анархии и хаоса, но не могли же они, в самом деле, всерьез опираться на хвастливые и безответственные заявления безнадежно проституированной монополистической прессы об отвратимости возмездия и непреодолимости антикоммунистического "Вала Авраама Линкольна" (так окрестило верховное командование США космический оборонительный рубеж, состоявший из постоянно барражировавших над планетой спутников и челноков, оснащенных лазерным и электромагнитным оружием). А как могла советская, наоборот, сторона недооценивать убойную силу затаившихся в глубоких шахтах и на громадных атомных подлодках ракет дальнего радиуса действия "Гарри Трумэн" и "Генерал Грант"? Президенту США, военспецам высших рангов стран НАТО, крупнейшим финансовым воротилам и советскому правительству было прекрасно известно, что широко разрекламированный спутниковый вал бессилен против выстреливаемых с подводных лодок-невидимок управляемых крылатых снарядов, разрушивших впоследствии четвертую часть Северной Америки, и не полностью обеспечивает защиту от межконтинентальных баллистических ракет, запускаемых в определенном, так называемом "зеркальном" порядке. Нет, политиками и генералами западных стран руководили скорее злоба и ненависть, нежели трезвый расчет. Здравомыслящие американцы, в массе своей, были против войны, но, увы, поводок в руках "молчаливого большинства" на сей раз оказался слишком слаб для того, чтобы удержать своих "цепных псов" от решительных шагов к пропасти. Пропаганда, которую и в лучшие-то годы нельзя было назвать мирной, накануне войны и вовсе словно с цепи сорвалась. Пропитанные шовинизмом телепрограммы и передовицы ведущих газет предавались безудержному восхвалению американской военной машины, как бы взбадривая "своих парней", ура-патриоты процветали и делали завидные карьеры, ФБР и вся натасканная против инакомыслящих судебная система, работали с интенсивностью, какая никогда ранее не наблюдалась в Соединенных Штатах, а либералы, пацифисты и сторонники сбалансированных действий оказались разобщенными до неприличной бездеятельности. Формирование общественного мнения давно было отдано на откуп "ястребам". Союзникам по НАТО предложили шагать за заокеанскими "трубадурами свободы" до победного конца, не забыв предварительно поставить этих своих союзников в незавидное положение атомных заложников. В сложившейся обстановке значительная часть американского народа поверила словам судьбоносного президентского послания, в котором драматическая необходимость ведения ядерной войны оправдывалась прежде всего интересами сохранения гибнущих христианских ценностей и отстаивания привычных национальных идеалов. Впрочем, не исключено, что и сам президент в тот момент верил своим словам. Третья Мировая Война было идеологизирована до крайнего абсурда, и, может быть, именно в этом и проявилась скрытая мощь законов исторического материализма. Александр Македонский, Чингисхан, Наполеон и Гитлер надеялись прибрать к рукам сказочные богатства и почти неисчерпаемые ресурсы, дотоле им не принадлежавшие, военная победа для них оборачивалась реальными миллионами тонн и кубометров, торжеством их неконтролируемой личной власти, но "победитель" Третьей Мировой ничего не получал, более того - заведомо терял. И те, кто планировали и санкционировали операцию "Санраиз-Сансет", не могли не отдавать себе в этом отчета. Не удивительно, что современным историкам пока не удалось обнаружить в чудом сохранившихся архивах документов, прямо свидетельствующих о готовности правящих кругов США вести войну на тотальное уничтожение противника, но сейчас и без документов вполне ясно: они готовы были жертвовать миллионами американцев - ведь владельцы личных противоатомных бункеров составляли ничтожную долю американского народа, а бомбоубежища могли вместить в свои чрева не более трети населения страны. Соединенные Штаты не постеснялись потянуть за собой в ядерную пропасть своих ближайших партнеров, - и цветущие европейские города были повергнуты в прах. Характерная участь постигла гордый Альбион, прекрасную родину сэра Реджинальда Брауна, эсквайра. Десять миллионов убитых, втрое больше пострадавших от химических атак противника и от тех или иных форм радиационного поражения, практически уничтоженная промышленность, разруха в городах и сельских районах, лютые морозы по всей территории - и это в богатейшей стране с высокоразвитой гражданской обороной. Совершенно непонятно, на какой благоприятный для себя исход могло рассчитывать островное государство, ресурсы которого не шли ни в какое сравнение с ресурсами сверхдержав, но ведь и то правда, что стоящие у власти консерваторы, во имя, как они утверждали, блага Великобритании, максимально нагнетали напряженность в международных отношениях. И куда делось хваленое британское хладнокровие: любая мелочь, произведенная в редакциях ведущих газет, немедленно подхватывалась на Даунинг-Стрит 10 и раздувалась до неимоверных размеров, а тем временем редкий день проходил без какой-либо хитроумной провокации в адрес социалистической части мира. Форин-Офис в ту пору отказывался не то чтобы приносить формальные извинения, но даже давать какие-либо объяснения по поводу незаконных действий британских рыцарей плаща и кинжала, чуть-ли не ежедневно задерживаемых с поличным в государствах Восточной Европы и в Советском Союзе, а архиепископ Кентерберийский не стеснялся публично благословлять незадачливых шпионов. В стратегическом отношении британская военная машина была лишь придатком американской, но ее патроны подчас проявляли большее рвение, чем их заокеанские коллеги - видимо сгоряча лидеры правящей партии тори не успели разобраться откуда исходит действительная угроза британскому суверенитету. Викторианские замашки лишали их спокойного сна, а поскольку они понимали, что само существование Советского Союза делает невозможным возрождение былой ведущей роли Англии в европейской политике, то не прочь были разделаться с ним даже ценой превращения своей страны в прямого вассала Соединенных Штатов. Робкая оппозиция со стороны лейбористов и тред-юнионов только раззадорила премьер-министра. В конце концов вся политика его кабинета была продуктом недовольства слишком долгим сохранением послеялтинского расклада сил в Европе, и в начале сентября 2025 года она, эта политика, наконец получила логическое завершение.
С изящным чувством такта обходился в учебнике Всемирной Истории вопрос о том, почему же все те государства, которые в силу классовых причин были, вроде, заинтересованы в поддержании мира, оказались бессильны повлиять на ход событий. Почему же достигнутой ими экономической и военной мощи хватило для нанесения сокрушительных ответных ударов, но недостало для предотвращения самой войны? Не был ли упущен ими благоприятный момент для какой-либо принципиальной уступки; не могли ли они, поступившись относительно малым, сохранить большее? Тяжкая правда состояла в том, что подобная возможность даже не рассматривалась ими всерьез. Как, ограничить себя? Остановиться на достигнутом? Да это пораженчество, трусость! Остановишься - придушат! Казалось бы, самое разумное - укрепить крепостные стены и, воздержавшись от опасных ночных вылазок, застроить город удобными и красивыми зданиями. Но все было не так просто. Поводы для таких вылазок по всему периметру крепости, да и вдали от нее, представлялись слишком часто, и не всегда легко бывало удержаться от соблазна. Обычно удержаться и не стремились. То тут, то там, вспыхывали революции и мятежи. Революционеры и мятежники вызывали определенную симпатию в определенных общественных кругах; эти круги не стеснялись взывать о помощи, и оказание советской стороной такой помощи, пусть даже самой мизерной, пускай даже моральной, поддерживало центры власти западного мира в состоянии постоянного нервного напряжения. Возможно, основной и главной причиной войны было упорное и растущее нежелание привыкшей к безнаказанному потреблению всевозможных благ западной плутократии договариваться с коммунистами и, прежде всего, с СССР. Но не менее упорное нежелание коммунистов отказаться от экспорта своих порядков за пределы своей крепости и хоть немного приглушить амплитуду антикапиталистической агитации, подливали дополнительные порции масла в никогда не затухавший костер. Самое большее, что мог бы уловить накануне войны беспристрастный наблюдатель за коммунистическими средствами пропаганды, - это предсказуемые изменения тональности в предверии каких-либо широко разрекламированных международных акции, но такие ее модуляции уже не могли удовлетворить даже самых либеральных политиков Запада, нуждавшихся в действительно широких жестах с советской стороны. Без таких, причем исходимых с самой верхушки, жестов их заклевали бы, да в конечном счете и заклевали, ультраправые патриоты. Но широких жестов так и не последовало. Коммунистические ортодоксы боялись ослабления своих позиции внутри крепости - тем более, что с времен приснопамятной "перестройки" кое-какой опыт по этому поводу у них уже присутствовал, - и, кичясь чуть-ли не жреческой чистотой своих воззрений, они вольно или невольно не давали сбить уровень напряженности на планете. Все шло однажды заведенным чередом. Заявления рассчитанные на внутреннюю аудиторию, на аппарат, на широкие массы населения, на союзников по борьбе, следовали одно за другим - все они прочили гибель капиталистическому строю и уже потому действовали на апологетов этого строя как красная тряпка на разъяренного быка. "Ну как прикажете, - патетически восклицала государственный секретарь Соединеннных Штатов Джессика Туайэр за полмесяца до начала операции "Санраиз-Сансет", - как прикажете договариваться с людьми глубоко и искренне убежденными, что все мы, всё что нам дорого, весь образ нашей жизни, обречены сойти со сцены в угоду их утопическим доктринам. Разве больной (если даже допустить, что мы больны), может доверять врачу (даже если допустить, что они врачи), во всеуслышание и с апломбом объявляющем о скорой и неотвратимой гибели своего пациента? Разве нам приходилось слышать от Советов хоть одной доброе слово о нашем с вами будущем или прошлом? И разве они перестали быть "империей зла", разве перестали с презрением отвергать присущие нам демократические идеалы, все то, к чему мы так привыкли? Разве все мы не были свидетелями тому, как совсем недавно был с позором изгнан с должности высокопоставленный деятель советского режима за одну только четко сформулированную в интервью европейской коммунистической газете мысль о том, что интересы сохранения мира на планете должны превалировать над всеми утопическими соображениями?". Если они так расправляются со своими, то чего же должны ожидать от них мы, чужие?". К сожалению эти, во многом риторические вопросы принадлежали не какому-нибудь рядовому конгрессмену или стареющему сенатору, а руководителю внешнеполитического ведомства США. К еще большему сожалению, госсекретарь использовала нечто слишком похожее на истину в чисто конъюнктурных интересах. Но доля истины, причем немалая, в ее словах действительно присутствовала. Одно лишь официальное заявление Советского правительства, в котором была бы четко проведена здравая мысль о возможности некоммунистической альтернативы для западного мира во веки веков, возможно смогло бы предотвратить катастрофическое развитие ситуации, но такая попытка так никогда и не была сделана. Госсекретарь имела ввиду тот факт, что незадолго до начала бойни один из ведущих заместителей главы советского правительства, отчаявшись, видимо, найти понимание у своих коллег, на свой страх и риск дал опрометчивое интервью итальянцу - московскому корреспонденту коммунистической "Униты" некоему господину Чиавитта. В этом интервью он несколько раз подчеркнул императивную необходимость сохранения мира и высказался за смягчение идеологического конфликта. Более того, отвечая на один из вопросов, он произнес фразы, возмутившие его ортодоксально настроенных товарищей и на короткое время прогремевшие на весь мир:"В конце концов, живите как хотите. Мы не только не имеем права навязывать друг другу свой образ жизни, но и должны найти в себе мужество открыто заявить об этом. Откровенно говоря, я считаю, что столь часто повторяемые на всех уровнях утверждения как об исторической обреченности капитализма, так и о бесчеловечности социализма - одинаково вредны, и льют воду на мельницу войны в самое неподходящее время. Слова обычно приходиться дополнять делами, а сегодня это связано с очень большим риском". Лейтмотив опубликованного "Унитой" интервью был очевиден - дескать, довольно обливать друг друга помоями, пора согласиться с существующими реальностями и, фигурально выражаясь, подписать вечный мир пока не поздно. На деле, однако, инициатива заместителя главы правительства лишь осложнила и без того запутанную ситуацию: содержание интервью перекочевало из "Униты" во все ведущие информационные органы западного мира, которые взахлеб принялись расписывать разногласия возникшие в высших эшелонах советского руководства, а социалистическими союзниками СССР ненадолго охватило чувство близкое не столько к замешательству, сколько к коллапсу. Шоковая реакция не заставила себя ждать: уже через три дня наскоро созванный пленум ЦК вывел замглавы правительства из состава Центрального Комитета партии за "допущенные ощибки в работе", а наутро после пленума центральные советские газеты опубликовали Указ Президиума Верховного Совета об освобождении товарища имярек от занимаемой должности. Стоит ли удивляться тому, что миссис Туайэр не преминула вспомнить об этой истории на слушаниях в конгрессе.
Словом, чем более взрывоопасной становилась ситуация, чем в большей степени от государственных деятелей конфликтующих блоков требовались сдержанность, дальновидность, объективность - тем в меньшей степени они эти качества выказывали. Одержимость вступила в борьбу с разумом и мудростью, и постепенно брала в ней верх. Доминирующим элементом политики стало плавно перетекающее в безумие упрямство, стремление доказать свою правоту ВО ЧТО БЫ ТО НИ СТАЛО. Что ж, видимо именно в этом, как, впрочем, и в том, что многие десятилетия спустя Реджи Браун сменил себе профессию, проявилась скрытая логика исторического развития, но от столь очевидного триумфа канонов диалектической науки, населявшим тогда земной шар людям легче, увы, не стало.
Существует неписаный закон бытия: если агрессору для нападения необходимо получить предлог, а осторожный противник никак ему оного не предоставляет, то подходящий предлог агрессор - в меру собственного хитроумия - изобретает сам. Так неоднократно бывало в истории, так случилось и на этот раз. Один из древних мудрецов когда-то говорил о склонности исторических событий повторять себя в различных по стилю жанрах. На сей раз, однако, трагедия не только обратилась в фарс, но и возвела себя в величайшую степень. За несколько дней до начала Третьей Мировой произошел инцидент, поразительным образом напомнивший нашумевший эпизод большой политики восьмидесятых годов двадцатого столетия. Схожесть двух исторических моментов настолько бросается в глаза, что в голову невольно прокрадывается мысль о дьявольской репетиции, хотя, совершенно очевидно, что никакого преднамеренного сценария не было и быть никак не могло. Но схожесть, схожесть. И различное поведение враждующих государств в абсолютно схожей ситуации вскоре высветило яркими заревами атомных пожарищ, насколько все же мир изменился в худшую сторону. То, что в свое время сумело вызвать лишь очередной всплеск пропагандистской активности, послужило ныне, страшно подумать, детонатором всеобщей мясорубки.
Итак, самое начало осени 1983 года. 1 сентября. Ночь. Красавец лайнер "Бойнг-747" выполняющий рейс КЕ-007 по маршруту Нью-Йорк-Анкоридж-Сеул сбивается с предписанного курса и вторгается в советское воздушное пространство над полуостровом Камчатка...
Х Х Х
Кативший по Садовому кольцу задрипанный таксомотор, повинуясь воле Девочки свернул у гостиницы "Белград" направо и через пару минут притормозил на привокзальной площади. Так уж вышло, что в тот миг когда она садилась в машину, ей до слез жалко стало уплывающего в сероватой дымке выходного дня, расхотелось ехать, но было уже поздно, мотор подвывая завелся, и она тихо и неуверенно ответила на молчаливый взгляд водителя: "Это рядом с Киевским вокзалом, я покажу". Да, жаль пропавшего летнего воскресения, вот она и решила сойти у вокзала и остаток пути пройти пешком, ей в голову не пришло, что привокзальная площадь даже в выходные не отличается спокойным нравом. А чуть позже, когда перерешила, сумрачный водитель показался ей слишком занятым важным делом переключения скоростей, и она как-то постеснялась отвлечь его от серьезного занятия. Пришлось ей сойти на кромке пропыленной и галдящей площади, а вдобавок, переплатив по доброте душевной целый рубль, сильно хлопнуть - иначе не закрывалась - дверцей. Дом в котором она снимала квартиру, находился неподалеку, в десятке минут неспешной ходьбы. Она пересекла площадь и медленно пошла домой мимо полупустых привокзальных ларьков и закрытых на выходной магазинов. Вот уже второй год она обитает здесь, иногда ей даже кажется будто в этой уютной квартирке она жила вечно. Она плыла по узкому тенистому тротуару вдоль стены длиннющего дома, голубое воскресное небо опускалось на зеленые кроны высоких кленов, их ветки надежно защищали ее от уличной пыли и тягучих тепловозных гудков, и тот, кому посчастливилось бы увидеть ее в эти сказочные мгновения, наверняка сравнил бы ее с принцессой.
Добравшись, наконец, до своей квартиры и переступив ее порог, она почувствовала, что у нее подкашиваются ноги. Едва приведя себя после длительной прогулки в порядок, она, накрывшись пледом, прикорнула на широком спальном диване и быстро забылась в чутком, но тяжелом сне.
Когда Девочка проснулась, на дворе вечерело. Отгоревшее солнце успело раскрасить небесную синь в фиолетово-багровые тона. Оранжевые фасады многоэтажек уже взметнулись ввысь россыпями жемчужных огоньков, она даже вспомнила поэтическую строчку: "Черным ладоням сбежавшихся окон раздали горящие желтые карты" - когда-то она любила читать Маяковского вслух. Девочка привстала с дивана и подошла к по-летнему широко распахнутому окну. Во дворе с шумом и гамом носились детишки, и их голоса редкими пташками долетали до ее седьмого этажа. Это благодаря их мягкой, ласковой терпимости ей удалось так долго, целых три часа, нежиться под теплым пледом. Да, тишина приятная штука, но в сердце все же кольнуло оттого, что о ней сегодня так никто и не вспомнил, никто не позвонил, не растревожил ее сна. Даже Художник, уж хоть он мог бы... Но Девочка мгновенным усилием воли берет себя в руки, - ну что за неумные страхи, это ведь так прекрасно - одиночество, и как могла она подумать, что о ней забыли, от нее отказались ее добрые, милые подружки и друзья. Такого и в мыслях нельзя допускать, просто такой уж сегодня день. Никакой. И пускай телефон молчит до глубокой ночи. Утром ей так хотелось побыть наедине с собой, никого не видеть и не слышать. И не расстраиваться надо, а...Сейчас она поставит на плиту чайник, вскипятит воду, заварит чаю - цейлонского, между прочим, - нарежет вкусной любительской колбаски, намажет на печенье сливочного масла и выпьет на ночь чашечку некрепкого чая без сахара, сахар вреден. Затем, если уж станет совсем невмоготу от скуки, она включит телевизор, и в полночь, самое крайнее в половине первого, ляжет. Надо хорошенько выспаться. Неделя выдалась какой-то путаной, сумбурной, она устала, вся издергалась, вот только сегодня отошла немного. Девочка наливает в чайник свежую воду и ставит его на плиту. Ах да, надо зажечь газ! Она зажигает газ и снова возвращается к открытому окну. Завтра, как и полагается понедельнику, тяжелый день. Утром ее ждет малоприятная беседа с руководителем темы, ей не миновать замечаний, она и сама знает каких. Заварку надо сделать послабее, от крепкой у нее учащается сердцебиение, мучает бессоница, и даже хуже - может привидеться кошмар, и тогда завтра ей будет не до разговора с шефом. Как все надоело! Итак, ее наградят парой обязательных выговоров и какой-нибудь сомнительной похвалой, ей предстоит вытерпеть сердито-участливый, с упором на угрызения совести, взор шефа, потом она провозится до вечера собирая материалы для статьи, их будет явно недостаточно, и послезавтра опять придется отпрашиваться и идти в читалку. Она вовсе не такая уж лентяйка - просто все навалилось разом, а Он... Но она запретила себе думать о Нем. Одним словом, завтра обычный, напряженый рабочий день. Вот такие вот понедельники, наряду с иными неурядицами, и расшатывают ее нервную систему. О, боже, хоть бы кто ее понимал! Впрочем, хорошо, что день напряженный; это значит, что завтра ей будет не до истомивших ее переживаний. В конце концов пора научиться жить так, как живут все - без надрыва и внутренних истерик. Девочка смотрит в окно. Багрянец почти растворился в густых фиолетовых сумерках, мягкий ветерок подул, разнося по улицам невидимую пыль, и видно как покачиваются, неслышно шевеля редкой листвой над тротуарами, макушки чахлых дворовых тополей. А во дворе припозднившейся детворы полным-полно. Детишки облепили качели, барахтаются в песочных ямах, и пташки их голосов летят все дальше и дальше, к звездам, нечаянно задевая тополиные верхушки невидимыми крыльями. Вода в чайнике наконец закипает и Девочка чинно заваривает себе чаю. Завтра трудный день. Будни, суровая проза жизни. О, боже, как надоели ей эти душещипательные беседы с шефом - ежедневные причитания коллеги Верочки, и те выслушивать куда легче. Вера старше Девочки лет на десять-двенадцать, в выглядит, бедняжка, старушенцией, ни дать ни взять - молодая старушка. Как-то раз ей довелось посочувствовать Вере, уж и не вспомнить по какому поводу, и с тех она обречена выслушивать ее интимные излияния. Факт, что Вера серьезно больна, на работе все об этом знают и сторонятся ее, вот только Девочка тогда почуяла, что та больна оттого, что одинока и несчастна, а всего-то - перекинулись при знакомстве парой малозначащих общих фраз. Родственные души. Может вся загадка в ее внешности? Или в судьбе? Ленка, аспирантка из соседней комнаты, кое-что ей о Вере порассказала. Оказывается, лет десять назад за Верой и за старшей сестрой Лены, разом за обеими, ухаживал, или, правильнее сказать, приволакивался один молодой человек, - эдакий богемистый донжуан, то ли перспективный музыкант, то ли волейболист - член сборной молодежной страны, то ли сын академика; одним словом, из тех, кто легко кружит головы неопытным девицам. Вера и сестра Ленки дружили еще с училища, но их дружба так и не выдержала испытания волейболистом-музыкантом, а тот взял и женился совсем на третьей, дочке то ли посла, то ли министра. Сестра Ленки потом, к счастью, удачно выскочила замуж и успела родить двойняшек, в Верка так и не выскочила, осталась одна, не смогла забыть, изгнать музыканта-волейболиста из зловредной памяти, хотя поклонников тогда и у нее хватало. И что же? В неполные сорок Вера мечется между кардиологической клиникой и психдиспансером, и чего-то в ее лечебной карточке не понаписано, и все с упрямства, с того, что с тех пор травит себя почем зря. А ведь, несмотря на все это, лицо ее сохраняет следы былой красоты. Ей бы хорошего мужика, такого чтоб ее поставил на ноги, и она еще многим из тех, кто помоложе, даст сотню очков форы. Вера - худая и стройная - чем-то похожа на Девочку, как бы Девочке не повторить ее путь. Вот почему меня так к ней тянет, думает Девочка, ведь я тоже могу любить бесконечно. Лет десять, а то и больше. Она подходит к высокому зеркалу в прихожей, пристально вглядывается в свое отражение, с сожалением вспоминает как потанцевывала здесь одна-одинёшенка, под исходившие из стоящего в гостиной старенького проигрывателя веселые ритмы. Да, они похожи. Потому-то ей ее и жаль. Девочка сознает, что жалея Веру, она жалеет и себя. Иногда Девочкой овладевает странное желание бросить все дела, проводить Веру к себе домой, уложить в постельку, посидеть у ее изголовья, провести ладонью по волосам, приласкать, приголубить, успокоить ее и успокоиться самой. Солгать ей про еще не прожитую очень долгую и счастливую жизнь, убедить ее и себя в том, что пока жизнь продолжается, никто не вправе терять надежду на лучшее. Да внешностью они схожи, а судьбами? Нет, нет, слава богу, пока еще нет. Но за будущее, к сожалению, нельзя ручаться. Да и внешность дело не последнее, далеко нет. Девочке опять вспоминается Художник. Вспоминается, как кружились они в медленном танце, и как он приглашал ее в театр на Таганке "где-то на будущей неделе", и как она с радостью согласилась. А потом он... Он даже не позвонил. "Где-то на будущей неделе" у него нашлись дела поважнее. А может он звонил ей сегодня, пока она гуляла? Нет, тогда он обязательно позвонил бы позднее, разбудил ее, заставил бы откинуть плед, но он так и не соизволил... Нет, нет, никуда бы она с ним не пошла и не пойдет, бог с ней, с Таганкой. Неужели этот невежливый барчук и впрямь вздумал будто она просто млеет в его обществе? Ничуть не бывало! Она и внимание на Художника только потому и обратила, что тот чем-то похож на Него телосложением и выражением глаз. Такой же высокий, сухощавый, скуластый. Вот она и повела себя с ним как-то по особенному, обещающе, не так как с другими, и (если она права, то это немножко и ее вина) вселила некую неосязаемую надежду в его богемистую душу. А что, может действительно подбросить Художнику шанс? Парень он, вроде бы, неплохой. Только здорово ошибается, если думает будто это она станет бегать за ним. Она никогда не будет ни для кого проходной любовницей, лакомкой-однодневкой. И даже если ей и суждено всерьез Художником увлечься, то все равно, если что-нибудь пойдет не так, она найдет в себе решимость того одернуть. И вообще: она ничуть не страшиться разделить ложе с симпатичным ей человеком, но вовсе не желает быть покоренной в минуту слабости и позже втайне сожалеть об этом. Но она не собирается ни перед кем оправдываться, даже перед собой. Она вовсе не сомневается в своем извечном женском праве - праве на любовь и тайну. Художник ей симпатичен, не более, но он так на Него похож, с Художником ей показалось бы, что она не так уж сильно изменяет Ему. Но Ему все равно. Он не обращает и, наверное, уже никогда не обратит на нее внимания, пелена не спадает с Его глаз. И только тот, на Него похожий... Но, господи, как же ей решиться на такое? Честно говоря, она просто хочет, чтобы Он приревновал ее к Художнику, тем более, что они знакомы, но ведь здесь в Москве - она чувствует - все получится совсем наоборот. Художник вильнет хвостом - и в кусты, поминай как звали! А потом еще и обтрепают ее имя почем зря. И что за мысли роятся у нее в голове! Все равно, даже если тот ее пригласит, она ни за что не пойдет с Художником в театр. Даже по телефону не соизволил позвонить, обманщик! Нет, она не собирается рисковать своим добрым именем. Да пошли они все к дьяволу! А, кстати, позволь она Художнику распустить руки, то потом, после, насытившись, она бы точно представила себе, что те руки, губы и горячие ласки принадлежали Ему, а не какому-то незванному Художнику, и она испытала бы счастье, близкое к тому о котором всю жизнь мечтала. А забеременей она нечаянно... О боже, с каким ужасом восприняли бы это ее близкие, ближайшие, те кто действительно души в ней не чаят. О родителях и речи нет - плач и стенания в стиле "для того ли мы отпустили тебя...", да и братишка, узнав что у нее вздулся животик, пожалуй дал бы кулакам волю - он никогда не отличался особой душевной тонкостью и воспринял бы случившееся однозначно: как семейный позор. Сестрица - та тоньше, сама женщина, но женщина до отвращения традиционная и сугубо положительная, не представляющая себя в роли неверной жены замужняя мать; во всяком случае тайники ее страстей скрыты глубоко-глубоко и до них не добраться даже Девочке. Но нет, все это сказки-сказочки, она вовсе не собирается доверить свою репутацию какому-то прощелыге только потому, что тот на Него, видите-ли, похож, а после кусать в бессильной ярости локти, но... Какая все ж таки Грузия провинция, прямо таки большая деревня. Иногда ей даже не хочется туда возвращаться. То есть, иногда она согласна, но иногда - нет. Правда вернутся на родину ей все же придется, все предопределено. Подумать только, конец двадцатого века, все нынче образованные, никого ничем ни пронять, ни изумить, на словах все беспутные либералы, все за любовь во всех ее проявлениях, но если ЭТО коснулось тебя - пощады не жди. Какое дикое мещанство, но тут уж ничего не поделаешь - вокруг все мещане, хочешь - не хочешь, а приходится к ним подстраиваться, иначе сомнут. Нет, она и сама не оправдывает гулящих девиц, что шатаются по кафе и ресторанам, и частенько рожают неизвестно от кого - вот уж кто неразборчивы, вечно лживы и вечно несчастны. Но уж совсем не вкусить от запретного плода, ну так и жить-то не стоит. Женщина она или не женщина, в конце-то концов? Конечно, она, как и всякая нормальная женщина, хотела бы сочетаться законным браком, создать полноценную семью и нянчить собственное дитя. А для этого прежде всего следовало бы забыть о Нем и поскорее встретить положительного, солидного человека, который смог бы достойно ее оценить и которого ей не сложно было бы - с течением временем - даже полюбить. И этот хороший человек, если он правда хороший, не должен задавать глупых вопросов о ее прошлом. Прошлое у каждого свое. Ну, допустим, что ей нечего скрывать. А если бы было? Разве в наше время так уж трудно выдать себя за девицу, если хороший человек потребует от тебя именно девственности? Полсотня в зубы, и репутация твоя кристально чиста, но так унижать себя! И не только себя. Достойный доверия супруг, вообще-то говоря, обязан смотреть на прошлое своей избранницы сквозь пальцы. А ежели нет, так значит дурак, чурка, такой ей и задаром не нужен. Долой пошлые распросы, надо будет - сама ему обо всем расскажет. Или не расскажет. Во всяком случае, право решать должно оставаться за ней. Мельком она подумала о Чурке, правда после того письма он уже не просто Чурка, в Чурка в кавычках. "Чурка". Обычный Чурка ни за что не сумел бы сотворить такое письмо. Прочитав его тогда, она даже растерялась, ибо ничего подобного не ожидала. Письмо - это всего лишь письмо, сотканная на равнодушной бумаге витиеватая вязь чужих мыслей, а живое человеческое слово - нечто совсем иное, близкое. Ведь и Художника она выделила из массы не только ради внешних его достойнств. Прежде чем она уверовала в его на Него похожесть, прежде чем остановила на нем взор - она навострила уши. Поначалу ее внимание привлек его недурно подвязанный язычок. На той вечеринке кроме танцев, кокетничанья и бездумного смеха, вдосталь хватало словесной игры и самолюбования. Общество явно претендовало на повышенную интеллектуальность, разгорелся оживленный и многоголосый спор о, если так можно выразиться, "предназначение высокого искусства", а там и о живописи и живописцах - так всплыла в беседе фамилия Дорэ. И этот, на Него похожий, стал весьма красочно расхваливать Дорэ и его необычайные таланты. Потом, когда вечеринка и танцы-жманцы подошли к естественному завершению, тот, на Него похожий, о котором она успела прознать, что он и сам из племени рисовальщиков, взялся проводить ее до станции метро, и там, в вестибюле, прощаясь она спросила:"А где вы столько узнали об этом Дорэ?". Художник, пожав плечами, ответил: "Да я сегодня впервые узнал об его существовании. Нас окружали поразительные пижоны", - и бог весть, когда он говорил правду, сейчас или тогда. Одних этих слов оказалось достаточно для того, чтобы она выделила его из общей массы. Только после этих его слов, а не танцев, когда, сказать правду, ей тоже что-то такое показалось, она, собственно, догадалась, что тот на Него похож. Вот она - сила живого слова. Но чисто грузинская нерешительность все же сослужила ей неплохую службу, вот она и пришла быстро в себя, а нынче, когда выяснилось, что Художник возомнив о себе невесть что, не соизволил ей даже позвонить, она окончательно решила дать ему отставку. Придется этому маляру и мараке примирится с тем, что приглашать в театр ему отныне придется совсем другую девушку. Ах, Дорэ, Дорэ - вот истинный виновник того, что сегодня так муторно у нее на сердце, катализатор ее душевного неблагополучия. Дорэ, да еще Он - ничего не видящий и, тем более, ничего не понимающий. Странно все-таки, что в этот воскресний вечер ей так никто и не позвонил. Даже немного обидно. Девочка едва покрывает дно чашечки заваркой и подливает кипятка. Брызги летят, жалят пчелками ее пальцы, но она мужественно льет воду до краев - чем слабее получится чай, тем лучше. Слава богу, хоть Чурке-то ничего не известно ни о Нем, ни о на Него похожем, ни о Дорэ, ни о пропащей Таганке, куда она и не собирается идти. Не то чтобы его мнение имело бы какую-ту особую цену, нет. Просто к чему лишние пересуды. Умей Чурка читать на расстоянии ее мысли - вряд ли слал свои литературно оформленные письма. А впрочем, может и слал бы, кто его знает? Девочка глотнула из чашки. Горячо. Не мешало бы подбросить сахарку, но она ограничивает себя. Да и кто он такой, - этот Чурка? Раньше ей о нем было известно лишь то, что он несколько лет провел - как это суждено и ей - в каком-то московском институте и успел защитить там кандидатскую диссертацию. То ли по физике, то ли по химии, то ли по математике. А может по техническим наукам. После защиты вернулся в Тбилиси и устроился там работать по специальности, но науку вскоре забросил. Убежал из нее то ли в горсовет, то ли в прокуратуру, то ли куда-то еще. Следовательно, за ней пытается ухаживать карьерист. Не похоже, правда, что то письмо написано лгунишкой и карьеристом, но не исключено, что "Чурка" только прикидывается овечкой, а на деле он - проходимец и плут. Своим письмецом он ее, право, смутил - там есть такие бесстыжие фразы, что она читая даже краснела. Чай немного остыл. Девочке кажется, что она никогда в жизни не смогла бы выйти замуж за подхалима и карьериста. Она вновь подходит к окну и ставит полупустую чашку на подоконник. Ночь уже подступила к глазам, не видать и ребятишек внизу; их гомон улетучился в прошлое и легкие пташки более не задевают своими звонкими крылышками тополиных веток. У Девочки суетливо на душе. Мрак опускается на город, ветер усиливается, телефон продолжает молчать, совсем как в знаменитых стихах Блока - "аптека, улица, фонарь". Скоро полночь, потом ЗАВТРА, а завтра - тяжелый день. Мыслями Девочка возвращается к Вере. Неужели ей так ничем и не помочь, бедняжке? Можно, конечно, попытаться развеселить ее необязыващей легкой болтовней, но как устранить причины что довели ее до такого состояния? Никак их не устранить, ах, если б она могда! "Годы летят, ах как годы летят, и некогда нам возвращаться назад". "Возвращаться" или "оглянуться"? А впрочем неважно. "Наши годы как птицы летят". Сейчас она допьет эту чашечку и примется за следующую, а потом включит телевизор. Сегодня воскресенье, может и подадут в эфире что-нибудь веселенькое. Порции веселья она в последнее время привыкла получать по черно-белому маленькому ящику, а все эти вечеринки с Дорэ... Ничего они не стоят. В ее власти, конечно, хоть с завтрашнего утра начать жить красиво, например, вовсе не пойти в институт, забыться, но... Для этого ведь надобно перебороть, пересилить себя. Пожалуй даже поломать. Но это так трудно. Порой она мечтает о том, кто будет готов проделать эту неблагодарную работу за нее. Так тяжко нести на себе крест, взваленный на плечи еще тогда, когда совсем не разбираешься ни в жизни, ни в людях. Сама-то она никогда не решиться поломать себя, и потому не пойдет с Художником на Таганку, хотя это, возможно, и было бы наилучшим выходом. И наиболее счастливым. Сила женщины в ее слабости - в слабости и ее сила. Надо стать достаточно податливой и слабой, иначе не исключен и самый ужасный исход, летальный для души, и только потом для тела. Ей может все опостылеть. А ведь по натуре она очень жизнелюбива. Сегодня был погожий денек, но он "отошел, постепенно стемнев", ветер нагонит тучи и завтра по всей московской области установится дрянная погода. "Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя...". Она любит непогоду. Как хорошо дома одной, когда за стенами свирепствуют ветер и дождь, а тебе тепло и некуда спешить, можно всласть слушать музыку непогоды и мечтать, и мечтать. Хорошо как в детстве. Но завтра напряженный понедельник, шеф, Вера, заботы, привычная суета, и нет никого способного тебя поломать и сделать счастливой. А сейчас она допьет свой чай, включит телевизор и будет тихо-тихо ждать случайного телефонного звоночка. И ждать, и ждать...
Х Х Х
Разрисованную резными петушками дверь долго не открывали, и я, несмотря на охватившую меня робость, решился крутануть звонок посильнее. Наконец его отчаянное тренькание было услышано, и дверь медленно, с заунывным скрипом отворилась. Никогда ранее не доводилось мне видеть Писателя со столь близкого расстояния. Всем своим обликом этот рослый и мощный старец излучал достойную простоту, более подобавшую, на мой взгляд, коронованным особам, нежели мастеровым пера. Он любезно мне улыбнулся, молча сделал рукой пригласительный жест и, освобождая мне проход, подвинулся в сторонку. Глуповато, от великого смущения, покланиваясь, и невольно при том сутулясь, я осторожно ступил в прихожую и с наименьшим возможным подобострастием пожал протянутую мне Писателем руку. "Мне необходимо поговорить с Вами", - сказал он, и я с удовольствием отметил, что голос у Писателя молодой, бодрый и ровный. Затем Хозяин провел меня через весьма обширную гостиную и радушным велением длани предложил взойти на широченную, устланную довольно потрепанной ковровой дорожкой деревянную лестницу, ведшей, очевидно, на верхний этаж.
Перед лестницей я на какую-то долю секунды замешкался, никак не решаясь заступить на ступеньку первым. Заметив мое смущение, Писатель ободрительно мне улыбнулся и прошел вперед. Мне осталось лишь следовать за ним, украдкой обозревая с лестницы гостиную и пытаясь понять куда же это я все-таки попал.
Поднимались мы по лестнице с полминуты, не больше, но тем не менее я успел подпасть под очарование некоего чуждого, но все же знакомого, где-то вычитанного и оттого не раздражающего меня духа. Вставленный в неглубокую нишу бюст какого-то лысого римлянина, вероятно императора или философа; длинный массивный стол в окружении высоких чопорных стульев; развешенные по стенам и обрамленные позолоченными рамами картины; торжественно установленные на мраморные плитки старинные бронзовые канделябры; старинная же люстра, излучавшая хрустально-золотистый свет из под высокого потолка - все это немедля вызвало у меня вполне старорежимные ассоциации. Тем временам мы поднялись на второй этаж. Признаться мне и сейчас неведомо, как именно устраивали в прошедшие столетия свой быт достославные британские литераторы: могло статься, что верхние этажи их особняков занимали спальные покои, а не рабочие помещения, но незримо витавший в этом уголке улицы Перовской викторианский душок никак не желал меня покидать. Почему-то на мгновение я и сам представил себя писателем, эдаким современным Киплингом, который мрачно скрестив на груди руки, любуется отнюдь не интерьером старенького верийского здания, а серо-зеленоватым пейзажем Корнуэлла, с искренней грустью оплакивая былое величие той Империи, над владениями которой никогда не заходило солнце. Но увы, - мы немедленно проследовали в рабочий кабинет Писателя, и я, в силу необходимости, перестал оплакивать то, что никогда мне по праву не принадлежало. В кабинете было тепло, темновато и уютно, однако, очарование самодеятельным викторианством продолжалось. Свисавшие над потухшим камином ветвистые оленьи рога; белая и пушистая медвежья шкура на дубовом паркете; литографии и гравюры, заполонившие стены кабинета; многочисленые книги, журналы и альбомы, разложенные на письменном столе и на шкуре в некоем, одному только Хозяину ведомом порядке - все неоспоримо свидетельствовало о том, что обустраивая свою обитель Писатель целиком полагался на собственное разумение - чуткого женского влияния, по-моему, здесь не чувствовалось. Закрыв за собой дверь поплотнее, Хозяин включил стоявшую у него на письменном столе настольную лампу, и усадил меня в одно из удобных, но довольно ветхих кресел, окружавших небольшой журнальный столик. Затем Писатель неожиданно, подобно опытному фокуснику, исчез за тяжелой портьерой прикрывавшей, видимо, некий потайной ход, но через пару минут вернулся, неся поднос с парой высоких бокалов, зажигалкой, бумажными салфетками и лежащими на маленьких блюдечках пирожными. Поставив поднос на столик он опять исчез и, разумеется, вскоре же вернулся, на этот раз неся в правой руке бутылку красного вина (видать какого-то особенного, ибо на ней не было этикетки), а в левой - пачку заграничных сигарет, и на столике сразу стало тесно. Затем он, удобно устроившись в кресле напротив, с минуту оценивающе осматривал меня своими глубоко посаженными и хитровато прищуренными глазами, и, прервав наконец затянувшееся молчание, молвил: "Мне необходимо потолковать с Вами". Разумеется, я не имел ни малейшего представления, о чем же собирается Хозяин со мной толковать, но пока-что он вел себя вполне демократично - не по положению и возрасту. Мое первоначальное волнение уже унялось, я успел в некоторой степени освоиться с непривычной обстановкой и изготовился слушать.
Писатель ловко разлил вино по бокалам, пригубив свой со вкусом причмокнул, и кивком головы пригласил меня последовать своему примеру. Признаюсь, вино показалось мне очаровательным. Улыбнувшись краешками губ Хозяин сказал: "Истинная Хванчкара. Это такая редкость, остаток прошлогоднего урожая. Подарок моего старого друга, пожилого рачинского крестьянина. Вот уже много лет как он каждой осенью от всего сердца преподносит мне десятилитровый бочонок, и я с большим удовольствием принимаю это подношение. Я пью это вино малюсенькими порциями, как лекарство. Оно поддерживает мои угасающие, увы, силы - а это нелегкое дело". "Да, вы правы, замечательное вино", - отозвался я. Он отпил глоточек, вытер губы салфеткой и продолжил (забегая вперед, добавлю, что беседа наша, случайно или нет, но протекала на русском языке):
- Вы наверное несколько удивлены тем обстоятельством, что я, совершенно чужой вам (тут я сделал рукой слабый, но протестующий жест) и старый уже человек, без видимых на то оснований, предпринял определенные шаги для того, чтобы завязать знакомство с вами. Но все в этом бренном мире имеет свое объяснение. Дело в том, что вы, - как впрочем и все мы, - живете не в безвоздушном пространстве, и проявляемая в последнее время вами общественная активность не может оставаться незамеченной. Во всяком случае, в поле моего зрения она попала. Впервые я прослышал о вас от некоего Арчила Кезерели, моего дальнего родственника, семье которого долгое время никак не удавалось улучшить свои жилищные условия. То есть, ему не отказывали в этом прямо, но просто не продвигали в очереди вперед с той скоростью, какая полагалась ему по закону; или, скорее, полагалась бы, работай в нашем обществе законы с человеческим лицом, ну это так, к слову... В общем, Арчил устал ждать. В свое время он пришел ко мне сюда, домой, и по-родственному попросил меня помочь. Я допускаю, что он до сих пор таит на меня обиду, так как несмотря на полнейшее мое к его семейству сочувствие, оказать ему ожидаемое им содействие я так и не смог. Вы вправе мне не поверить, но не помог я ему вовсе не потому, что желал бы избежать возможных обвинений в протекционизме, а потому что я, по складу характера, просить никогда не умел и до сих пор не умею, и вообще - довольно таки беспомощен в практических вопросах нашей жизни. Не умею и никогда не умел, да... Даже за родного внука, хотите верьте - хотите нет, не заступаюсь, хотя до меня и дошли слухи будто этот шалопай при вынужденном общении с гаишниками вовсю использует мой авторитет, дабы уберечь талон от прокола. Но тут я просто бессилен. Не слушается, не считает такое поведение зазорным, на все готов - лишь бы выкрутиться. Одним словом, человек Новый. Впрочем, я ненароком отвлекся. Так вот, несмотря на то, что Арчил Кезерели, вероятно, до сих пор на меня в обиде, в свое время он ознакомил меня со своим правым делом со всей возможной откровенностью. Именно правым, ибо моя убежденность в правомочности претензий супругов Кезерели зиждется не на слепой доверчивости, а на точном знании суммы необходимых фактов. И, позволю себе повторить, будь я человеком иного склада, я не преминул бы оказать семье Арчила всяческую поддержку, но, увы, - выше головы не прыгнешь; я всего лишь не сделал для них того, чего не смог бы сделать в аналогичной ситуации для себя самого. Так или иначе, но новую квартиру они недавно все же получили, и вам об этом, уважаемый товарищ депутат, конечно, хорошо известно.
Писатель замолк, распечатал пачку "Кента", прикурил сигарету от зажигалки, пару раз затянулся и немного торжественным (так мне показалось) голосом произнес:
- Вот тут-то впервые я о вас и прослышал.
И он опять ненадолго умолк. Может он ждал, что я задам ему простенький вопрос: каким, мол, многоуважаемый, образом, прознали вы о скромном существовании скромного депутатика городского совета, но вопроса я никакого не задал. Лишь пригубил из бокала и приготовился слушать дальше. Что ж, он был прав. Фамилия Кезерели, равно как и причитания мадам Кезерели, не успели пока еще изгладиться из моей памяти. Итак, я так и не подал голоса, и минуту спустя Писатель продолжил свою речь:
- Арчил пригласил нас, меня с супругой, к себе на новоселье и мы приняли его приглашение. Видите ли, Арчилу было великолепно известно, что ни малейшей роли в их облагодетельствовании я не сыграл и, возможно, решил меня по-своему усовестить. Обычное проявление человеческой слабости. Ну а с нашей стороны, не принять его приглашение означало бы проявить другую непростительную слабость - высокомерие. А я всегда ненавидел высокомерных людей. В общем, мы пошли. И там, за столом, после нескольких традиционных тостов, Арчил пересел ко мне и тихо, не привлекая внимания остальных гостей, рассказал о перипетиях своей квартирной эпопеи. Перечисляя официальные инстанции, в которые ему пришлось обращаться, он естественным образом упомянул и горсовет. И, в частности, вашу комиссию...
...Комнатушка была, как и положено полуподвальному помещению, темной и затхлой. Глава семейства, встретивший меня утомленно-вопрошающим взором, не выказал, когда я назвал ему свою должность (а она и впрямь не звучала достаточно внушительно, велика важность, председатель одной из горсоветовских комиссии), ни малейшего почтения, вероятно предположив, что меня к нему прислали точно так же, как присылали многих и до меня. В общем, Кезерели представили будто это обычная формально-плановая проверка каких много, неспособная внести какие-либо изменения в их судьбу. Но они ошибались. Явился я к ним по собственной воле, выполняя собственную Программу Действий, о чем семейству Кезерели известно быть никак не могло. Хотя, с другой стороны, это, конечно, была проверка. Ибо, по-моему, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Многочисленные заявления направляемые ранее Арчилом Кезерели на имя председателя горисполкома, переправлялись далее вниз по инстанциям, и, в конце концов, оседали в нашей рабочей комиссии. Дело Кезерели досталось мне от своего предшественника. Человеку несведущему сама мысль о том, что к Кезерели относятся несправедливо, либо предвзято, показалась бы странной. На заявления накладывались самые благообразные и многообещающие резолюции типа: "Рассмотреть в кратчайшие сроки", "При возможности удовлетворить", "Принять надлежащие меры", и так далее в том же духе. Не хватало только самой нужной резолюции, как-то: "Проявить чуткость", или же "Рассмотреть вопрос по существу"... Ждали Кезерели долго - одиннадцатый год. С юридической точки зрения их вопрос представлялся довольно сложным. При подушном пересчете на членов их семьи приходилось по полметра жилплощади сверх установленной нормы. Это был тот самый, в общем, далеко не редкостный случай, когда принимая решение следовало рассматривать не одну какую-то причину, не один какой-то фактор, а всю совокупность таких причин, начиная от санитарных условий, и кончая реально малым метражом...
...Они говорили мне, что очень вам благодарны, и что не забудут о вашем участии в их судьбе по гроб жизни. И не пригласили вас к себе на новоселье только из опасения за вашу же репутацию. У вас ведь могли найтись доброжелатели, сами понимаете какого рода...
...Общая очередь продвигалась вперед чудовищно медленными темпами. Ознакомившись с анкетными данными членов семьи Кезерели: отец - научный работник, мать - педиатр районной поликлиники, сын - студент первого курса Политехнического института, дочь - ученица восьмого класса, я составил о Кезерели бумажное впечатление, состоявшее в том, что они потенциально честные люди. И вот, для подкрепления этого "бумажного" мнения, я и решил внезапно, без всякого предупреждения, к ним нагрянуть. Ибо человеку Систему, - а я к таковым, несомненно, в какой то степени принадлежал, - было предельно ясно, что резолюции на заявлениях Кезерели носили откровенно "отписочный" характер. К ним в дверь я постучался (звонок был, но не работал) вечером, в начале десятого, когда семья Кезерели (если не вся, то большая ее часть) должна была, по моим расчетам, быть в сборе, а покинул я их куда как поздно, в половине второго ночи. Уходил я внутренне полностью убежденный в том, что именно этому семейству помочь можно и должно. Ордер на получение трехкомнатной квартиры в новостройке на окраине города, был выдан им неделю спустя моего позднего визита, и вскоре семья Кезерели праздновала новоселье...
...Они знают кому обязаны и никогда этого не забудут. Такое не забывается, - сказал Писатель, глубоко затянувшись сигаретой. Пригубив вина, он продолжил:
- Итак, мы там были. Рассказ Арчила показался мне, грешному, не вполне правдоподобным. Вся эта история достойна телефильма из тех, знаете ли, "шедевров", в которых заведомых небылиц понапичкано далеко сверх необходимого минимума. Хотя эта халтура и смотрится, бывает, с порочным интересом. Арчил и по сей день свято верит, что вы тогда явились к нему домой лишь выполняя свой служебный долг. Особенное впечатление произвело на него проявленое вами абсолютное бескорыстие. Но я стреляный воробей, меня на мякине не проведешь. Долг - долгом, но вы, конечно же, явились к ним по своей глубоко личной инициативе. Кроме того, мне стало известно и о пыле, с каким вы отстояли кандидатуру какого-то незнакомца на заседании комиссии, - известно от непосредственного участника того заседания, давнишнего моего приятеля. Ну прямо как в сказке, любезный мой! Вы уж простите меня, старика, за то, что решился полюбопытствовать: что из себя представляет чиновник, воспринимающий чужую беду столь близко к сердцу, и это в наше-то рациональное время! Я, знаете ли, на своем веку повидал немало и дурного, и доброго, но на этот раз не удивиться все-таки не смог. Простой горсоветовский работник, ни с того, ни с чего растревоженный судьбой совершенно неизвестных лично ему людей, да еще из обездоленных, без какого-либо блата "наверху", - да такое могло приключиться разве что в пору моей далекой юности. И я сказал себе: здесь присутствует какой-то подвох. Будь я писателем лишь по профессии, а не по призванию; будь я пресыщенным и равнодушным вельможей - а я мог бы с успехом играть и такую роль; не занимай меня человеческие сомнения и житейские закономерности чуть более положенного, клянусь всем что мне дорого, я и пальцем бы не пошевельнул. Но, пока что, я, божьей милостью, живой писатель. Живой и писатель. И посетила меня банальнейшая мысль: а чтобы мне с ним не встретиться и по душам поговорить, я нутром чую его Необычайность, а мне, старому, только такого и подавай, этого-то мне и нужно. Я ведь, поймите, не устал интересоваться людьми. Вы уж извините меня за откровенность, я предпочитаю выражаться прямо, без экивоков, не для того я вас пригласил, чтобы ограничиться пустой светской беседой по принципу: "кукушка хвалит петуха, за то, что хвалит тот кукушку". Вы заинтриговали меня как профессионал профессионала. Ибо я профессиональный писака, а вы профессиональный... (тут Писатель ненадолго задумался), даже не знаю как назвать это, но я почуял, что вы ЧЕГО-ТО ТАМ профессионал, такие вещи чувствуешь инстинктивно. Я бы назвал вас политиком, но в нашей стране нет профессиональных политиков, есть люди выбившиеся на авансцену и, в силу обстоятельств, объективно вынужденные вести политику, но это совсем другое дело. Именно вести политику - с большей или меньшей энергией, и с меньшим или большим успехом. Итак, вы произвели на меня впечатление, но мне не хотелось бы опираться именно на первое впечатление: вопреки широко распространенному мнению, оно может оказаться и обманчивым. Не пугайтесь, но я взял на себя смелость навести о вас кое-какие справки. Это оказалось не очень трудным делом. Выясняется, что по нашим столичным меркам, вы довольно-таки известная личность, не знаю, осознаете ли вы в полной мере значение данного факта, и как сами к своей популярности относитесь. И в результате, нынче мне о вас известно не так уж мало.
Он озорно взглянул на меня, отпил здоровый глоток вина, с силой притушил недокуренную сигарету о днище пепельницы, и весело откинулся на спинку кресла. Мне показалось, что он вдруг помолодел лет на двадцать. Речь его я слушал молча, не перебивая, не двигаясь в кресле, и даже без попытки закурить, не видя пока необходимости как-то выразить свое мнение по поводу столь странной писательской любознательности. Писатель с пару минут, изучающе на меня поглядывая, помолчал. Потом вновь наполнил бокалы и продолжил:
- Итак, вы бывший физик, отступившийся от физики по двум основным причинам: отсутствию веры в себя как в ученого и неуемному честолюбию. Вы поняли, что не подкрепленное верой в собственные силы честолюбие - бесплодно; что засушливая почва точных наук на самом деле никак не способствует - гении не в счет - взращиванию романтических и окрашенных в полумистические цвета детских надежд. Вы пришли к выводу, что следует чем-то поступиться, наукой, либо амбициями, и разрешили конфликт наиболее радикальным из доступных вам способов - решили начать заново. Интуиция не подвела вас, но начать заново вам, разумеется, помогли. Кто именно помог вам совершить первые и, вне всяких сомнений, весьма нетвердые шаги в политике, я пока не знаю, но то, что такой человек нашелся и существует в природе - самоочевидно. Не найдись он, и вы либо остались бы, вероятнее всего, середняком в науке, либо просто спились на политических задворках, о худших вариантах я и думать не желаю. Не знаю пока кто он таков, общая картина слишком стерта и мне намекали на совершенно различных людей. Впрочем, в данный момент, для нас это не столь уж и важно.
Писатель раскурил новую сигарету и я, в свою очередь, решил последовать его примеру. Мне здесь нравилось. Должен признаться, что слушал я его со все возрастающим интересом.
- Рад вам сообщить, что, как бы не расходились мнения разных людей о ваших деловых и человеческих качествах, бесспорно одно: никто не считает вас карьеристом в узком смысле этого понятия; во всяком случае, мне не приходилось сталкиваться с четко выраженным мнением подобного рода. А ведь такого следовало бы ожидать. Но нет. Считают одержимым, фанатиком, мечтателем, фантазером, даже деревенским дурачком. Считают честным, вредным, наконец опасным человеком. Считают всем чем угодно, только не карьеристом и проходимцем. Все это многообразие мнений высказывалось в различных ситуациях самыми разными людьми - в том числе и умными тоже. И я задал себе вопрос: кто же вы на самом деле? Вопрос, в данных обстоятельствах, согласитесь, вполне уместный. И еще согласитесь: ординарному, так называемому среднему человеку, то есть человеку, плохо разбирающемуся в психологии людей неординарных, нелегко будет правильно ответить на этот вопрос. Но я писатель, моя профессия - люди. Я не привык оставлять подобные вопросы открытыми. Время научило меня критически относиться как к людям вообще, так и к определяющим их поведение мотивам. Не подумайте только, бога ради, что я отрицаю высокое начало в человеке. Нет, просто ни в одном человеке, даже в наилучшем из возможных, по моему, не может быть только высокого. К чему упрощать, люди - всегда люди, даже выдающиеся. И тогда я задал себе другой вопрос: чего же вы хотите для себя, чего добиваетесь для себя лично? Ничего? Тогда вы действительно не карьерист. Совсем ничего? Даже в самых глубинных помыслах? Тогда вы Христос. Но может ли так быть? Я, во всяком случае, ничего не слыхал о втором пришествии. Вы, как-никак, по образованию физик, то есть рационалист, привыкший мыслить логически, решать правильно составленные задачи, ставить перед собой разумные цели, выбирать средства объективно годные для достижения подобных целей и неспособные необратимо изменить цель как таковую. Так неужто вы, вопреки всему вашему жизненному опыту, неожиданно как в сказке, решились стать идеалистом? Неужели вы и впрямь одержимый верой в прекрасное завтра праведник, лишенный единого шанса на успех? Нет, непохоже. Не вздумайте только, будто я как-то осуждаю вас. Скорее, я осудил бы ваш не признаваемый мною идеализм. То, что вы посмели начать другую жизнь, указывает на возможное, даже вероятное величие ваших внутренних сил, но ни в коем случае на идеалистичность ваших помыслов. Да и обстоятельства ваши особенные. Вы ведь поменяли специальность, да и все направление вашей жизни, вовсе не в ту юную пору, когда человек совершает необдуманные поступки следуя единственно неодолимому влечению своей души. Отнюдь. На случай неуспеха вы неплохо подстраховались. Не поймите меня превратно. Я вовсе не утверждаю, будто вы неспособны рискнуть. Совсем напротив, ваши поступки не укладываются в прокрустово ложе рентабельного послушания. Будучи неглупым человеком, вы не можете не понимать, что без известной доли риска куша не сорвешь, но это должен быть вполне обдуманный риск. А тогда... Тогда вы сочли необходимым довести начатое дело - я имею в виду защиту диссертации - до конца, твердо встали на ноги, и только после этого поставили перед собой вопрос о духовной ценности вашего существования, говоря высоким слогом - о смысле вашей конкретной жизни. После, а не до. Воля ваша, сударь, но, на мой взгляд, для идеалистов такой подход нехарактерен. Далее. Ваше политическое поведение напомнило мне поведение положительного героя определеного рода. Вас можно сделать главным героем документального телефильма под названием "Народный избранник", и это, при моем полнейшем убеждении в том, что человек вы умный и прекрасно представляющий как именно организуются избирательные кампании в наших девственных условиях. А ведь вы на выборной должности, вы депутат! Не можете же вы не знать, кому должны быть за это обязаны (я протестующе повел плечами), не можете не отдавать себе полнейшего отчета в истинном вашем положении. Так кто же вы? Все-таки карьерист? А хорошо это или плохо, быть карьеристом? Разве к этому понятию так уж непримиримо чувство меры? Ка-рье-рист. Да, пожалуй, по отношению к вам я рискнул бы употребить именно это слово. Правда, с определенными ограничениями. Карьеристов видал я в жизни разных: низких и с оттенками благородства, подловатых и довольно порядочных, всяких. Вы только, бога ради, не держите на меня обиду за этот длиноватый монолог. Вы здесь для очень серьезного, повторяю - серьезного и откровенного мужского разговора. Разговора на равных, невзирая на разницу в нашем возрасте и положении. Ощутимую разницу. Итак, возможно вы карьерист. Ну и что? Разве это свойство характера указывет с необходимой полнотой на политическое, мировоззренческое лицо человека? Или у вас совсем нет такого лица? Очень сомнительно. Мне почему-то кажется, - рассейте, пожалуйста, мои заблуждения, если я ошибаюсь, - что вы вполне разделяете основные постулаты и конечные цели марксистской идеологии и надеетесь на их реализацию, по крайней мере, в далеком будущем. Но почти в такой же степени я уверен и в том, - не обессудьте! - что вы плохо знакомы с трудами классиков марксизма, еле можете отличить Фейербаха от Гегеля, вообще не в ладах с теорией, и предпочитаете получать информацию и пополнять ваши знания из разнообразной периодики и полупопулярных книжек, выпускаемых в свет Политиздатом.
Он снова замолк и испытующе, как бы ожидая ответа, посмотрел на меня. Интуитивно я почуял, что стоит мне сейчас проявить неискренность, или даже чрезмерную скромность, и я обязательно подорву складывающееся между нами доверие. Поэтому, после непродолжительного раздумия, ответил так:
- Для меня, как и для любого более или менее широко мыслящего грузина, встреча с вами - счастье. Логическая сила вашего анализа впечатляет. Могу предположить, что далеко не все факты, касающиеся моей скромной особы были вам доступны, следовательно не со всеми вашими умозаключениями я согласен, но слушал я вас с громадным интересом. Я всегда преклонялся перед вами, а сейчас, не сочтите за лесть, преклоняюсь еще больше. Что же до моей идеологической подкованности, то, признаюсь, вы попали в точку: в социальных теориях я достаточно безграмотен. Как и многим, мне тоже в свое время приходилось сдавать госэкзамен, и потому я немного знаком с основами общественных наук, ну а до первоисточников руки, извините, не доходили. А вот текущими событиями политической жизни я, вы и тут абсолютно правы, действительно интересуюсь. Пересказ истинных событий - даже полупопулярным, как вы выразились, способом, - по моему, увлекательнее заумных философских теории. Да и когда же мне...
- Ну вот видите, - перебил меня Писатель, - я был не так уж далек от истины. Я исходил из того, что у вас просто не могло хватить времени для штудирования этих самых первоисточников. И совмещать несовместимое, на мой взгляд, вам удается именно в силу недостаточного их знания. Для меня вы, как бы странно это не звучало, идеалист-прагматик, разделяющий цели партии и идеалы коммунизма. Подчеркиваю - цели. Что же до средств, то тут дело с вами обстоит посложнее. Опять таки остановите меня, если решите, что я слишком заврался. В конце концов, все мои выкладки я делаю, опираясь на известные мне данные вашей биографии. Я, скажем так, очеловечиваю вашу сухую анкету, пытаюсь разглядеть в ней существенное, могу пойти и по неверному пути, ибо люди склонны ошибаться. Итак, я говорил о средствах. Иными словами, о пределах, о рубежах того, что вы считаете допустимым. Теперь, молодой человек, держитесь. Я собираюсь защищать свой главный тезис касательно вас, и вам, предупреждаю, трудно будет меня переубедить. ВЫ СТРЕМИТЕСЬ К ВЛАСТИ. Большой власти, очень большой. И готовы считать для ее достижения приемлемыми самые разнообразные средства, лишь бы они не очень воздействовали на главные цели, победу мирового социализма, социалистических общественных отношений, и так далее, и тому подобное. То, что вы плохо себе представляете, в чем же конкретно эти цели состоят; то, что не знаете, как будет этот самый коммунизм выглядеть - ведь это до сих пор никому на свете, несмотря на большие старания, не удалось, - лишь на руку вам. Все предпочитают полагаться на интуицию, - Писатель безнадежно и слабо махнул рукой. - Следовательно совесть ваша спокойна и почти все, в том числе и насильственные средства, оказываются достойными внимания. По сути дела, ограничения на них накладываются лишь вашим происхождением и воспитанием, а это, видит бог, весьма ненадежные ограничители. Ох, дорого обходятся человечеству все эти социальные эксперименты, осуществляемые под руководством так называемых харизматических личностей. Кровь, пот и слезы. Безжалостно проливаемая народная кровь, бесполезно пролитый в землю пот миллионов, горькие слезы детей и матерей - вот истинная цена большинства социальных экспериментов. Вспомните хотя бы Пол Пота. И тут же парадокс: без социального экспериментаторства, без динамических решений, затрагивающих судьбы всего человечества - развитие заканчивается, и тогда человечество рискует преждевременно одряхлеть, а то и задохнуться в ядовитых испарениях болота именумого Консерватизмом. Итак, сейчас я позволю себе сформулировать ваше кредо. Вы хотели бы воздействовать на умы и сердца миллионов, если не миллиардов, используя для этого относительно человеколюбивые средства. Не будучи, как мне кажется, жестоким от рождения человеком, вы вряд ли будете принимать жестокие и несправедливые решения, разве что вас к тому принудят крайние внешние обстоятельства - вас ведь, наверное, рвет при виде крови... Не ручаюсь за вас. Оправдывая проведение социальных экспериментов вы, тем самым, в принципе оправдываете и социальных экспериментаторов. Отсюда и проистекает главный закон вашей жизни: стремление к власти, и даже человечность ваша вынуждена этому закону подчиняться. Ибо для властолюбца человечность прежде всего тактика, но никоим образом не стратегия. Высшие цели холодны, как ледяные шапки Гималаев, и недоступны слабакам. История знает немало случаев, когда деятели, бестрепетно проложившие себе путь к вершинам власти, не чурались милосердия. Вспомним Цезаря, нашего Давида Строителя, короля французов Генриха Наваррского, воздадим должное Наполеону, и ему было ведомо это благородное чувство. Список можно продолжить. Но и те, кого я назвал, не страшились проливать моря крови, иначе какими же они были бы властителями в свое жестокое время! Вот я гляжу сейчас на вас, многое угадываю, кое-что просто знаю, и мне нелегко представить вас в роли человека, упивающегося сознанием властной безнаказанности, призрачного могущества над беззащитной человеческой плотью, - нет, ваша суть не такова! Известно, что почивший в бозе Председатель Мао как-то обмолвился: "Прочтешь много книг - императором не станешь". Что ж, если судить по историческим фактам, то опровергнуть эту неприятную мыслишку совсем даже непросто. Мало кто из мессианствующих мировых лидеров получил систематическое и глубокое образование; как и вам, им тоже было мало дела до своих первоисточников. Они, как правило, уже в зрелом возрасте подбирали себе соответствующую собственному умонастроению литературу, все остальное - что неприятно звучало, могло вызвать споры, не сходилось с их далеко идущими замыслами - отправлялось в корзину. Поэтому у этих властителей мозги, а главное руки, оставались свободными, и даже догматы веры им шутя удавалось использовать в своих политических интересах. Ну в вы - кандидат физических наук! Одно это резко снижает ваши шансы. Вы должны поломать себя, если хотите властвовать. Это вам, батенька, не профессию сменить! Стоит ли ломать, вот в чем вопрос. Сложный вопрос, гамлетовский. Все дело в том, чему служить собираетесь, что великое парит над вашими мелкими и честолюбивыми, такими понятными мне, и не только мне одному, страстишками! Вы, вообще, любезный мой, человек во многих отношениях уникальный. С таким упорством ковать собственное скользкое будущее, пытаясь при этом оставаться порядочным человеком; рваться к власти, применяя скорректированные на современность, но, тем не менее, изрядно скомпрометировавшие себя либеральные методы; соединять несоединимое во имя неведомого; упорствовать в характерных для идеалиста заблуждениях, являясь прагматиком на деле - чего стоит только ваше заступничество в деле Кезерели, заступничество с дальним прицелом; стремиться к вершине, сознавая, что конкуренция экстремально высока, а шансы на успех минимальны; не жалеть ради этого минимального, призрачного, единственного шанса всех благ жизни: молодости, сна, отдыха, да и любви, наверное; помогать бесконечно далеким людям не будучи по призванию ни гуманистом, ни филантропом - такое не часто встретишь. Либо я очень грубо ошибаюсь, либо вы человек недовольный. В противном случае вы самый сытый, самый циничный карьерист, какого только можно себе представить. Но, как я уже говорил, таковым я вас не считаю. Ну а раз вы человек недовольный, то недовольны вы не идеей, которая вас захватила - за нее вы, быть может, и в огонь кинулись бы, - но известными особенностями текущего исторического момента. Вы, видимо, верите, что способны на большее, чем ваши естественные конкуренты, но, не обладая реальными рычагами власти, доказать это будет трудновато. А ведь вы не можете не понимать, что победа маловероятна, что ежели волна успеха в самом скором времени не вознесет вас на своем ненадежном гребне, все ваши прожекты прожектами же и останутся. И знаете, как просто может развязаться клубок всех этих противоречий? Ваше упорство оценят достоинейшим образом, вас заметят, выдвинут на ответственные посты, превратят в хорошо вышколенного бюрократа с высоким окладом, подобающими привилегиями и завязанными руками, и, увы, вынудят отступиться от ваших фантазии. Так очень может случиться. Вы полагаете, что челядь дремлет? Уверяю вас, вы ошибаетесь. Она с исключительной бдительностью следит за тем, чтобы ее жизненные интересы не ущемлялись даже ненароком, нюхом чует малейшую опасность и старается еще в зародыше подавить любую угрозу своему благополучию. А подавить зачастую означает - подкупить. На все ведь есть своя рыночная цена, и не обязательно деньгами. И что тогда вы скажете себе, не супруге, не друзьям-знакомым, а себе? Что устали, опустили руки? Что игра не стоила свеч? Что вам и так хорошо? Что укатали сивку крутые горки? Не страшитесь, молодой человек, столь заурядного финала?
Он говорил долго и взволнованно, и мне нелегко было уследить за всеми нюансами его страстной и насыщенной мыслями речи. Но на последний вопрос - благо старик наконец передохнул - я счел себя обязанным как то ответить:
- Мне трудно заглянуть в будущее. В отличие от вас я не знаменитый литератор, а всего лишь, как вы совершенно правильно подметили, идеалистический прагматик, в меру своих скромных способностей действительно преданный делу социализма. Но, к великому нашему счастью, конечная победа или поражение этого дела от меня одного зависеть никак не может - один в поле не воин. Поэтому я не страшусь никакого финала. Могу сказать лишь одно: сегодня я в себя верю. Не знаю, насколько правомерно употреблять в отношений моих жизненных планов сильное выражение "захват власти", но если в ближайшие годы обстоятельства поставят меня перед жестоким выбором: либо сытая, обеспеченная жизнь для себя, либо перспектива проявить себя с сопутствующим риском сломать себе шею, - я, видимо, изберу второе. Иначе говоря, я согласен, по крайней мере, с одной из ваших оценок. Я действительно человек недовольный. Я недостаточно туп, чтобы быть довольным. Впрочем, думаю, это не предосудительно ни с какой точки зрения. Мыслящий человек может быть частично удовлетворен, но довольным быть не должен. Думаю также, что под этими словами подписался бы любой искренний поборник социальной справедливости.
- Как вы сказали, искренний поборник? Сказали бы яснее: настоящий коммунист. Не надо стесняться этого слова. Что ж, если вы настоящий коммунист в душе, то, вам, пожалуй, можно простить и ваш карьеризм, ибо со временем обязательно выяснится, что это самый незначительный из ваших недостатков. Ведь взамен вы готовы осчастливить страждущих мира сего, не задаваясь каверзным вопросом: а зависит ли, собственно, от субъекта, пускай наделенного и властью над целой страной, и государственной мудростью, духовное и материальное благосостояние породившего его народа? История, впрочем, показала, что иногда зависит. Итак вы, возможно, заслуживаете не только внимания, но и уважения. И, в таком случае, у меня на вас свои виды. Сколько бы мне не было лет от роду, силы мои пока не исчерпаны, и я еще могу тряхнуть стариной. Все, что вы от меня здесь услышали, весь мой длинный монолог, - это преамбула. Я ожидал резких возражений по главному моему тезису, их не последовало. Отсюда я, за недостатком воображения, заключаю, что их у вас попросту не нашлось. Прекрасно, что вы не стали их выдумывать, - это дает нам возможность продолжить наш мужской разговор. Слушайте-ка меня внимательно.
Он придвинул свое кресло к столу поближе и заговорщически мне подмигнул. Потом вновь наполнил опустевшие бокалы и продолжил:
- Я старый человек, не в столь отдаленном будущем мне предстоит не совсем приятный переход в царство теней, и я устыдился бы себя, занимай меня сейчас больше судеб родины проблема моих больных суставов. Давно уже Грузия не выдвигала на передовую мировой общественной жизни, или, если угодно, общественной войны, по-настоящему крупномасштабного деятеля, неважно литератора или политика, артиста или ученого, спортсмена или учителя - в данном случае профессия не имеет значения. Конечно, у нас немало талантливых и даже выдающихся личностей, увенчанных лаврами, премиями и высокими постами, но при всех их видимых достоинствах всем им присущ один глубинный недостаток - свои личные интересы им ближе, чем интересы грузинского народа. Я не осуждаю их, собственно, у вас перед ними только одно преимущество: вы намного моложе и сидите в этом кресле, они же определенно завершают свой жизненный цикл и вполне довольны собою. Обычно это высокопрофессиональные работники, добившиеся нетривиальных успехов в жизни, и у них есть некоторые основания для самодовольства. Но народу нашему... Ничего так не хватает нашему народу, как настоящего лидера - пресловутого крупномасштабного общественного деятеля. Не мессии, не человека, обреченного служить массам идолом, а личности, способной правильно оценить необходимое для поддержания своего авторитета соотношение между требовательностью и демократизмом. Да, нам не хватает такого деятеля, мы заждались. Эта нехватка принципиально отличается от нехватки мяса или масла. Речь идет не о материальных, а о духовных лишениях. Время безжалостно, молодой человек, и понесенные грузинской нацией за минувшие десятилетия потери велики и невосполнимы. Не пристало мне постоянно сокрушаться и лишний раз выражать сожаление по поводу исторических несправедливостей, - сделанного не воротишь, а уход деятелей из сферы культурного обращения был в любом случае неизбежен. Печально, однако, что на наше место, место людей постепенно вас покидающих, претендуют, как правило, слишком мелкие люди. Это печально. А трагично то, что эти неадекватные замены воспринимаются как должное. Я не хотел бы идеализировать прошлое, как далекое, так и - тем более - близкое; мне глубоко претят фальсификаторы отечественной истории, играющие на доверчивости и невежестве многих простых людей, но должен со всей серьезностью заявить, что время подвело мины под многие ценности, казавшиеся ранее незыблемыми, часовой механизм запущен и, рано или поздно, хотим мы того или нет, им предстоит взорваться. Итак, ценности размываются, и формы этого размыва различны. Я, конечно, имею в виду не мелко-крупное взяточничество, ставшее неотъемлемой чертой нашей жизни, хотя по этому поводу можно высказать немало горьких слов. Я говорю о коррозии, разъедающей души и сердца людей. С болью в сердце я вынужден констатировать, что прежде порядочных людей - людей неспособных вскрывать чужие письма, завышать за деньги оценки будущим врачам, стесняющихся внести на рассмотрение ученого совета заведомо слабую диссертацию - было значительно больше. И роль они играли большую. И в академической жизни, и в искусстве, и в семье. И в партии, черт побери, и в партии тоже. Я член партии с 1936 года, я многое перевидел и перенес, многих друзей потерял, я имею право сказать такое. Что ж, сегодня наше общество пожинает плоды, посеянные десятилетия назад. Слишко многое было разрушено так, что ничего достойного не создали взамен, слишком много связей разорвали, выдумали будто незаменимых нет. А они есть, незаменимые. Людей-то не вернешь. Да, раньше или позже они все равно ушли бы из жизни, но повернись тогда многое иначе, они успели бы подготовить себе смену. Я не хочу приукрашивать, никто не свободен от недостатков, и эти люди также не были святошами. Но большинство из них верило во что-то более ценное, чем собственное тщеславие или спокойствие, у них были какие-то благородные принципы, высокие идеалы, которым они так или иначе пытались следовать. Ну а сегодня... Подросли целые поколения без корней. Сколько их, чванных эгоистов, без запинки произносящих гладкие фразы о долге перед народом и государством. Они всюду, они проникают сквозь любую лазейку, любую щель. Такова основная Тенденция, и, к сожалению, противоположная тенденция слишком слаба. А в литературе особенно. Есть у нас талантливые писатели, кое-кого я знаю лично, с кем-то знаком по произведениям, но когда всю жизнь пишешь эзоповым языком о своем маленьком мирке, поневоле перестаешь ставить перед собой масштабные задачи. Исключения есть, но их очень мало, и они, как бы это сказать, неполные что-ли... Талантливые люди либо гибнут от недостатка воли и хладнокровия, либо замыкаются в себе, а нашей нации тем временем нездоровиться. Ведь как ценности подвержены инфляции, так и народы - заразной инфлуэнце. Повторяю, я старый человек, мне мало что терять, но я хотел бы оставить по себе добрую память. И когда в наше безликое, по большому счету, время, я прослышал о вашем существовании, у меня, чего греха таить, забрезжила искорка надежды. Длинный, долгий день всегда начинается с раннего-раннего рассвета. Только вот законы человеческого коловращения отличаются от законов вращения земного шара - так что изволь поднатужиться, если не хочешь, чтобы небосвод затянуло хмурыми облаками. Если я буду сидеть сложа руки, то так про меня люди и скажут: в трудное время сидел сложа руки. И я подумал: что если весь свой многолетний опыт, немалый, и хочу верить, заслуженный авторитет, прочные связи с власть имущими как здесь в Тбилиси, так и, в еще более значительной степени, там в Москве, использовать для поддержки стоящего человека, обладающего временем, желанием и, главное, способностью послужить моей небольшой по географическим размерам, но очень своеобразной, непохожей на другие прекрасные страны мира родине? Может когда-нибудь это мое решение отзовется для Грузии благом? И более того: почему бы мне не стать такому человеку своего рода крестным отцом? На определенных условиях, конечно. К крестнику я предъявил бы очень высокие требования. Он должен уметь сохранять лояльность по отношению к своим коллегам, быть честным в финансовом смысле этого слова, не задирать носа и не быть падким на лесть, всегда сохранять достойнство и не пресмыкаться перед начальством. Отдавая необходимую дань реалиям жизни, он должен при том не терять из виду дальнюю перспективу; обладать здоровым, но умеренным честолюбием, и пусть не очень глубокими, но достаточно широкими познаниями и высокой общей культурой. И разумеется, он должен быть чужд всякому позерству. Но это еще не все. Он обязан искренне придерживаться так называемых левых убеждений - ибо среди "правых" воинствующих мещан, на мой взгляд, все же больше. Он должен понимать, что на деле именно капитализм несовместим с соблюдением основных человеческих прав, и, следовательно, обязан не парить или порхать над схваткой, а участвовать в ней. Безусловно отвергая шовинизм, он обязан реально сочетать любовь к своей родине с интернационализмом. И наконец: он должен обладать твердым и последовательным характером, дабы не опускать руки при первых же неудачах. Разумеется, знаком я с вами недостаточно близко, чтобы объявить вас безупречным носителем вышеперечисленных качеств, но впечатление вы на меня производите неплохое. В частности, мне нравится, что вы не склонны оспаривать свои неочевидные недостатки, хотя, безусловно, с полным основанием могли бы сослаться на ваши очевидные достоинства. Я стар и у меня нет времени для колебаний. Сейчас или никогда. Грузии нужен общественный деятель, и, если не возражаете, последнюю ставку я сделаю на вас. Признаюсь, я не могу сейчас предвидеть, что из этого выйдет. Отдаленные последствия наших поступков - все равно, дурных или хороших, - покрыты мраком неизвестности, но тем больше у меня для такого решения основании. Пора и мне рискнуть, иначе будет поздно, да и вам не следует страшиться риска последующей борьбы, если не хотите вечно оставаться простым винтиком в бюрократической системе управления. У вас есть вопросы?
Я даже опешил. Вопросы? Да целый рой вопросов! О какой последней ставке толкует этот старик? Что он может? Стоит ли мне раскрываться перед ним полностью? Хотя, конечно, его поддержка может оказаться весьма ценной. Должен признаться, я растерялся, от моего спокойствия не осталось и следа. Больше всего я боялся ляпнуть какую-то чушь, и потому не смел и слова вымолвить - и куда делась моя показная самонадеянность? Правильно оценив мое состояние, Писатель дружески мне улыбнулся, подлил вина в бокал и, подтянувшись в кресле, чуть-ли не шепотом молвил мне на ухо:
- Вы, должно быть, чертовски заинтересованы в том, чтобы ваша кандидатура фигурировала в списке будущих депутатов горсовета, тем более, что формальное проведение очередных наших выборов не за горами и оступаться вам никак нельзя. Ваша деятельность не всем по душе, и кое-кто будет рад шансу провалить вас. Но мне-то она по душе, и этого довольно. На всех не угодишь, знаете ли. К счастью, на носу и другие, куда более масштабные выборы, и я имею честь предложить вам больше, чем простое, хотя и почетное продление срока действия вашего нынешнего мандата. А что если я замолвлю кое-где за вас словечко, и вас, с божьей помощью, изберут в состав Верховного Совета нашей республики? Так как, согласны?
X X X
Довольно молодой, подтянутого вида кореец (узкие, раскосые глаза на полноватом лице, голубые петлицы на лацканах форменного пиджака) осторожно, стараясь не разбудить пассажиров, прошествовал через салон и, спустившись по алюминиевой винтовой лестнице вниз, очутился в тускло освещенном, крохотном закутке. В этот поздний, или, правильнее сказать, предрассветный час здесь никого не было. Стюардессы наверняка прикорнули в предназначенной для обслуживающего персонала каюте и беспокоить их не хотелось, а он, бывший военный летчик, пробрался сюда лишь для того, чтобы немного развеяться и подкрепиться порцией крепкого горячего кофе. На душе у него было неспокойно. Насыпав в чашечку загодя намолотый заботливой рукой одной из стюардесс кофейный порошок, он до краев наполнил ее водой из танка и опустил в нее миниатюрный кипятильник, гордость национальной электротехнической промышленности. Это далеко не первый его полет на этом лайнере в качестве курсанта и в рамках национальной программы переподготовки военных пилотов на гражданские, но на душе скребут кошки и никак не отделаться от чувства будто нынче что-то не ладно.
Вода быстро вскипела и курсант осторожно, дабы ненароком не выплеснуть кофе, вынул кипятильник из чашки и отключил его от питания. Положив кипятильник на металлическую полочку и оставив кофе стынуть на столике, он нагнулся к иллюминатору. ТАМ было темно.
А ведь не так уж и много минут отсчитано стрелками надежно защищенных от магнитных бурь и электрических полей бортовых хронометров с того мгновения, как красавец "Боинг" круто взмыл в ночное небо со взлетной полосы аэропорта в Анкоридже и взял курс на Японские острова. Остались, растаяв в прошлом, далеко позади веселые огоньки небольшого арктического города живущего своей особой, полярной удалью; города где все перемешано - нефть и золото, привозные ананасы и хмельные морозы, эскимосы-бизнесмены и бизнес на эскимосах. Аляска была так непохожа на его родную Корею, и может как раз потому и любил он так сильно и этот рейс, и эту недолгую стоянку в стильном, вечно в гирляндах огней, приполярном аэропорту. За штурвалом курсант ощущал себя гражданином мира, стягивающим разрозненные части земного шара в единое неделимое целое, и ни за какие коврижки не променял бы он по доброй воле охватывавшее его на десятикилометровой высоте чувство - чувство грандиозной уверенности в собственных силах, - на размеренные блага гражданской жизни. Оно, это чувство, иной раз бывало настолько сильным, что никак не успевало до конца увясть в промежутках между полетами. Там, высоко в небе, он становился как-бы Антеем наоборот - ведь именно бесконечное небо было ему матерью-кормилицей. До сих пор ему везло: не успевали ноги стать вялыми и ватными от вынужденного земного безделья, как под ревущий аккомпанемент мощных турбин наступал желанный час очередного взлета, и все приходило в полный порядок, он снова был счастлив. В Сеуле его ожидала семья, но если ему пришлось бы выбирать между небом и землей, еще неизвестно каким стал бы выбор. Нет, наверное, он выбрал бы семью, даже конечно семью, но это был бы тяжелый выбор, и мир, который он так любил, сразу сузился бы до размеров его квартиры. В последнее время он заметил, что женушка как-то косо на него поглядывает. Хм-м... может, ей и в радость было бы, смени он профессию и протирай штаны в какой-нибудь вшивой конторе, но разве ему, будущему пилоту лучшего в мире пассажирского лайнера пристало протирать штаны? Жена... Как-то раз рейс задержали в Анкоридже на целые сутки и тогда он - вполне случайно и вполне закономерно - познакомился с Элен. В тот вечер он бреясь нечаянно порезался лезвием, кровь никак не останавливалась и ему вздумалось обратиться в пункт оказания первой помощи за ватой. Пока медсестра накладывала пластырь на ранку, он пошутил, она рассмеялась в ответ, а потом рейс неожиданно отложили и он пригласил ее в бар аэропорта. Вначале Элен потягивала кока-колу, а он пил виски, но очень осторожно, не мог же он надраться перед вылетом. Потом он предложил ей довольно крепкий коктейль и она немного захмелела, а когда в баре притушили огни и здоровенный негр стал выводить на саксофоне замысловатые трели, они закружились в танце и он, недолго думая, привлек ее к себе и поцеловал, а потом была не по полярному короткая ночь. Утром вылет разрешили и, когда самолет поднялся в воздух, он старался выглядеть бодрячком, и это ему удалось - с курсанта спрос небольшой. С того вечера прошло несколько недель, и вот несколько часов назад он вновь встретился с Элен. Она выглядела усталой и красивой, но, времени было в обрез и они ничего не успели, пара прощальных фраз не в счет. Курсанту стало немножко жаль свою жену. Да что это он... Элен, как и залихватские огни, осталась внизу, на земле. Сегодня у нее было ночное дежурство и, наверное, она сидит в своей амбулатории, а может и спит с каким-нибудь новым пациентом. Курсант прикоснулся пальцем к коротенькому шраму на левой щеке. Элен - это приятное воспоминание, ничего более, и все-таки он любит этот сияющий огнями приполярный аэропорт.
Да, Элен, - это бесспорно приятное воспоминание, но в эти минуты на ум приходят не только Элен и негр-саксофонист из бара: никак не выходит из головы предполетный инструктаж, проведенный бравыми американскими парнями за полтора часа до старта. Он вовсе не был для него необычным - этот инструктаж. Более того, участие в таком задании для него - большая честь. Он, простой курсант, на период действия инструкций становится полноправным членом экипажа и допускается к штурвалу этой гражданской громадины наравне с командиром корабля. К ним, бывшим военным асам, и в прошлом не раз обращались с подобными просьбами. Впрочем, какая-же это просьба, попробуй-ка ее не выполнить, попадешь в черный список и вылетишь с работы, церемониться с тобой не станут - мечты о "Боинге" так навсегда и останутся мечтами. А так просьба пустяковая. Если ты и в самом деле патриот - подмени на часок своего официального командира, садись за штурвал и измени курс вблизи воздушного пространства враждебной державы. Выскользни чуток из коридора, километров эдак на пятьдесят, а то и на все двести, если позволит обстановка. И пусть себе стрекочут сильные кинокамеры ночного видения, закрепленные под крыльями и на брюхе самолета. Ему и его товарищам не раз приходилось так скользить вдоль китайской и северокорейской границ, и ничего страшного с ними пока не случалось. Правда, они никогда не проникали на большую глубину и их, вероятно, не успевали вовремя засечь. Им просто везло. Не всегда такие вылазки проходили гладко. "Ди-Cи" японской авиакомпании премило усадили на военный аэродром недалеко от Шанхая, а австралийский "Боинг" еле унес крылья в районе Гуанчжоу, успев добраться до Гонкогна. На том "Боинге" летал знакомый штурман, он потом рассказывал какого им было, когда за ними погнался истребитель, и они, буквально в последнюю секунду, выскочили из воздушного пространства страны дядюшки Мао. И выскочив, не поверили, что все позади. Истребитель повернул обратно, но они натерпелись такого страху - не приведи господь. А чего стоил тот нашумевший случай в небе Карелии, когда лайнер ведомый опытными летчиками из "Кореан Эирлайнз" глубокой ночью обстреляли, а после повели садиться на какое-то замерзшее озеро. Двое пассажиров погибли от пуль, экипажу при посадке пришлось проявить максимальное мастерство и неимоверную выдержку, разразился громкий скандал. Газеты потом долго ругали русских на чем свет стоит; как, мол, могли эти варвары стрелять в гражданский самолет сбившийся ночью с курса, поднялась шумиха, посыпались высокопарные декларации, но ведь всякий уважающий себя летчик из "Кореанз" понимает какова подоплека. Пилоты не могли просто так взять и сбиться с курса. Им не позволили бы бортовые компьютеры и станции слежения по маршруту следования, пролегавшему далеко за пределами Карелии. Правильнее сказать, что вероятность ошибки минимальна и надеятся на то, что пограничники примут такую вероятность во внимание, никак нельзя. Они просто обязаны делать то, что делают, на их месте он поступил бы также. Бывший военый летчик не может их осуждать. И та, и другая сторона знают, на что идут. Да, профессия у летчиков "Кореанз" рискованная. Но, с другой стороны, попробуй откажись. Женушка-то прихварывает, да и дочкам надо успеть помочь встать на ноги. Придет время, они подрастут и если отец прослывет неудачником, или, пуще того, непатриотично настроенным элементом, им нелегко будет найти себе путных женихов. Зато если верно ИМ служишь, то и ОНИ не бросают тебя на произвол судьбы - таков закон. Обеспечат теплое местечко в правлении какой-нибудь солидной фирмы, и об этом тоже известно любому служащему "Кореанз". А если ИМ не служишь так, как ОНИ от тебя требуют, то медкомиссия быстро обнаружит у тебя слабое сердце, упадок зрения или реакции, и тебя либо переведут на низкооплачиваемую работу с последующей мизерной пенсией, либо просто вышвырнут вон. И тогда останешься один на один с твоими жалкими сбережениями, и семья на берегу, и надолго ли их хватит - сбережении-то? В общем, выбора нет. Да и командир - самый настоящий фанатик, стойкий борец против коммунизма. Уступит ему штурвал с неохотой, подчиняясь лишь правилам игры. Большой человек! Господин Чан, похоже, выполняет указания ЦРУ с большой радостью и у господина Чана денег куры не клюют. А еще говорят, что брат господина Чана несет ответственность за охрану самого президента Чон Ду Хвана, что господин Чан не единожды удостаивался чести присутствовать на семейных раутах высшего лица государства, да и вообще, одно время служил его личным пилотом! С таким человеком не очень-то поговоришь, выполняй приказы - и точка!
Итак, перед вылетом с ними провели инструктаж. Можно сказать, что это был совершенно обычный инструктаж, без такого не обойтись. Разметили им курс и подбросили новую аппаратуру, кое-что правда было подвешено на самолет еще в Нью-Йорке. Была правда одна небольшая странность. Никогда прежде им не позволяли нарушать расписание, всегда они старались уложиться в срок, честное имя компании - превыше всего, и погода вроде стояла летная, и все же - вылет рейса задержали на целых сорок минут, да и чужаков в гражданском подбросили, сидят нынче над шасси в чреве лайнера в ожидании своего часа. А шесть минут спустя стартовал еще один такой-же "Боинг", рейс КЕ-015, следующий,как и они, из Анкориджа в Сеул. Господин Чан объявил экипажу, что это делается для лучшей маскировки. А зачем нужна маскировка? Раньше обходились и без нее, зачем она?
Чашечка кофе наполовину опустела. Курсант опять глянул в иллюминатор. ТАМ было темно.
Итак, по всей видимости, они занимаются радиоэлектронной разведкой. Задание - проверка реакции советских систем ПВО на Камчатке и в Приморье, радиоперехват. Ради одной только киносъемки к ним не стали бы подбрасывать чужаков, с ней экипаж справился бы и сам. Нет, задача перед ними поставлена серьезная, очевидно ее выполнение связано с немалым риском. Впрочем, если их все-же собьют, кое-кто сделает на этом неплохую пропаганду. Шутка сказать, триста человек, притом граждане самых разных стран! Но об этом лучше не думать. Понадеемся на гуманность русских. Курсант усмехнулся, весь его опыт говорил за то, что пограничники могут руководствоваться только понятием воинского долга, если, конечно, не вмешаются большие верхи. Но они могут не успеть... Наверняка самолет поставлен под удар. Итак, радиоэлектронная разведка. Это означает, что американский разведывательный самолет, либо "Эр-Си-135", либо "АВАКС", будет лететь параллельным курсом вдоль берегов Камчатки и Сахалина далеко за пределами воздушного пространства СССР и передавать информацию дальше, а пассажирский двойник КЕ-015 должен их в какой-то мере прикрывать, вводя русских в заблуждение. Это означает, что в ЦРУ не уверены в том, что операция обойдется без жертв. Но делать нечего, задание есть задание.
Он опять вспомнил о жене и об Элен. Просто чудо, что никто ничего не пронюхал про Элен. Руководство компании не поощряет любителей крутить романы на стороне, да и жена у него ревнивая, а он, вообще-то говоря, все еще любит свою жену. Впрочем, если сегодня что-то случится.,. Нехорошо на душе, страшновато. Он не трус, он неоднократно доказывал это себе и другим. Но сейчас, когда служба в ВВС уже позади, и он привык ощущать себя гражданином мира, когда мечта о гражданском "Боинге" так близка к осуществлению, совсем не хочется рисковать головой. Жизнь слишком хороша, черт бы ее подрал!
Курсант пытается анализировать свой страх. Почему же он все-таки думает, что рискует головой? Может потому, что боится оставить жену и детей без опоры в жизни, а остальное достраивает его богатое воображение? Нет, не только. Прежде он как-то не сомневался в том, что и для врагов является гражданином мира. Прежде у него была уверенность, что как-бы не повернулись события, самолет сбивать не станут. Ну, стрельнут разок по тулову лайнера и поведут на военный аэродром или на замерзшее озеро, как тогда в Карелии. Экипаж был бы вне опасности. Но сейчас ситуация иная, совсем иная. Уже после того, как инструктаж закончился, господин Чан и тот, долговязый, задержались в комнате, а он вышел из нее последним и догадался не очень плотно прикрыть за собой дверь, а у долговязого и господина Чана времени было в обрез и в спешке они забыли проверить дверь как следует, и он подслушал, как господин Чан получил недвусмысленный приказ от того, долговязого, что назвался Кертисом: "Принудительную посадку в России ни под каким видом не совершать". Господин Чан обязательно выполнит этот приказ. Вот если бы командиром был он, бывший военный летчик, Кертис не мог быть так уверен в том, что его указания будут выполнятся в полном объеме и при всех обстоятельствах. Но на этом самолете он всего-навсего курсант. ОНИ знают кому можно доверить командирскую должность. Господин Чан из тех, которые совершают харакири и посылают людей на верную смерть во имя высшего долга, а он, хоть и военная косточка, но все же не из таких. Потому-то наверное и предпочел демобилизоваться при первой дельной возможности. Он не трус, он не раз доказывал это в прошлом, но он жизнелюб, и ему претит самоубийство во имя так называемых высших идеалов. От слов Кертиса повеяло чем-то худшим, нежели короткая пулеметная очередь. Бывший военный летчик иногда читал газеты. Они, эти газетные новости, не приносили успокоения. Правда, в мире после Вьетнама на какое-то время стало полегче, полегче стало и на Корейском полуострове, Север и Юг вступили в трудные переговоры и полеты, в целом, стали более безопасными. В середине семидесятых такой красавец, как пассажирский "Боинг-747", пожалуй, не стали бы сбивать даже в критической ситуации. Но нынче в мире творится какое-то сумасшедствие, то и дело ожидаешь, как какой-нибудь террорист приставит к твоему виску дуло револьвера, и это полбеды, разрядка предана забвению, русские и американцы ощерились друг на друга в бессильной взаимной злобе и ка-ак возьмет какой-нибудь Иван да и шарахнет без предупреждения по злостному нарушителю государственной границы. А Кертису и его друзьям хоть бы хны! Они мастаки извлекать выгоду из любого дерьма и наверняка предусмотрели любой поворот событии. Если все пройдет по плану, с которым их в общих чертах ознакомили, то все члены экипажа получат в Сеуле неплохие премиальные, а парни из разведки, те, что затаились до поры до времени в укромном местечке в брюхе самолета, сделают шаг к очередной нашивке. Ну а если суждено случиться непоправимому... Курсант невольно зажмурился. Там, в ЦРУ, не то что на трехсот, на трех тысяч пассажиров наплевать: чем больше будет невинных жертв, тем громче будут ругать русских коммунистических варваров, а он - будущий пилот "Боинга" - мельчайшая разменная монетка в этой грязной игре. И отлично сознает это. Но что поделаешь: ради манящего места за штурвалом стоит рискнуть.
Курсант допил наконец свой кофе, полоснул водой пустую чашку и только собрался еще раз глянуть в иллюминатор, как кто-то почтительно постучал в дверь. Затем она медленно отворилась и на пороге закутка появился бортинженер. Лицо его было строгим и мрачным, будто вырубленным из каменных скул, глубоких глазниц и тонких, бледных, без единой кровинки губ. Образ бортинженера напомнил курсанту монстра из недавнего фильма Хичкока, который экипаж посмотрел в Нью-Йорке перед вылетом, и он вздрогнул, хотя и понимал, что во всем повинно тусклое освещение. Монстр с секунду молча помаячил на пороге, а потом металлическим голосом произнес:
- Господин Сон, командир просит вас вернуться в рубку. Через пять минут мы будем подлетать к большому русскому полуострову Камчатка.
X X X
В гробу тихо и темно. Но мрак бездушия более мрачный мрак. Вчера над городом взорвались атомные бомбы. Взорвались и разнесли город в клочья.
Помнится, шелестело шагами, шуршало шинами и деловито клонилось к полудню совершенно обычное утро. И вдруг всех как ветром сдуло и на Багеби спустилась неурочная тишина. Я подумал - как странно, в это время суток никогда такого не случалось. Она угнетала и давила, эта тишина. Только что надо мной гудели клаксоны, каблуки выстукивали джигу на пыльном асфальте и привычный ритм городской жизни подкармливал меня ежедневной порцией дежурного оптимизма. Пока там ничего не менялось, я знал - город, страна и планета сохраняют присущий им и только им прекрасный облик. Но воцарившаяся над кладбищем гнетущая и непрерывная тишина вскоре сильно обеспокоила меня.
Не знаю долго ли тишина эта держалась - может несколько часов, а может и целые сутки, - но исчезла она так же внезапно, как и появилась. Потом где-то очень далеко непослушные дети взорвали несколько хлопушек, и я возрадовался, что звуки земли вновь пришли ко мне в гости. Чего греха таить, потери слуха я боялся, наверное, не меньше, чем атомной бомбардировки родного города. Но не успел я воспрянуть духом и трезво поразмыслить о причинах недавнего безмолвия, как время и пространство заполнил собой зловещий свист. Карающие молнии осерчавшего небесного владыки мощно вспороли мягкую и податливую грудь той случайной тишине. Он был повсюду, этот свист. Он принадлежал мне, и в то же время не имел ко мне ни малейшего отношения. Но постепенно, в поисках истины, разум начал осторожно примерять силу воображения к свистящей и гремящей действительности, и настал момент, когда поиски эти воскресили в памяти картинки из бесконечно невероятного детства давным-давно отгоревшей жизни моей. И детство мое - сей лукавый волшебник - хитроумно повязало леденящий душу свист - о,нет, не с фальшиво-яростными заседаниями международных трибуналов, и не с набившими оскомину газетными шапками, и не с ядовитыми ядерными грибочками, - а с мерцающим экраном коричневого ящика, предмета всеобщей зависти и вожделения. Я сидел на высоком стуле еле дотягиваясь ножками до пола, на мне были коротенькие штанишки, а со светившегося таинственным голубоватым светом экрана доносился такой же свист, и не знающая жалости стальная птица откладывала яйца на полете, который, как я много позже узнал, назывался бреющим. Яйца с грохотом раскалывались и из разбитой, охваченной пламенем длиннющей гусеницы, беспомощно замершей на блестящих железных рельсах, высыпали малюсенькие точечки и кидались врассыпную. Снег в котором догорала жалкая гусеница, весь был усеян этими бегущими точечками - так их было много. Стальная птица отчего-то невзлюбила их и они также пытались как-то спастись от ее всепроникающего свиста. А ведь в самом начале, после первых хлопушек, свист не показался мне таким уж зловещим. Я даже обрадовался ему как веселой песне. И правда - слабенький, далекий свист - так могло бы начаться, скажем, и пение клаксона, но миг спустя его уже нельзя было спутать ни с чем другим - именно так свистела стальная птица из моего детства. А еще миг спустя раздался всепоглощающий грохот. Шквал.
Прошла минута, за ней другая, затем еще и еще, и я как-то вдруг осознал, что случилось худшее из всего, что только могло случиться. Случилось то, чего я очень боялся, о чем предупреждал, во имя пре дотвращения чего поступился своей безоблачной карьерой, своим добрым именем, сытой обеспеченностью моих родных и близких. Случилось то, о чем я боялся думать даже здесь, где мне вроде ничего уже не могло казаться страшным и непоправимым. Шквалы повторялись с небольшими промежутками, они становились глуше и глуше, а потом прекратились совсем. Бомбы взорвались, оставив под собой развалины и смерть. Потом опять сгустились сумерки гнетущей тишины. Но сомнений быть не могло. Началась война. Мне никто не мог объявить об этом, но не догадаться мог только глухой.
Я попытался привести мысли в порядок. Второе яйцо раскололось где-то над главным проспектом. Здание оперного театра рассыпалось как спичечный домик, лампионы сметены ударной волной, люди... о них лучше не думать. Детские хлопушки, наверное, взрыхлили посадочную полосу аэродрома, а третье яйцо обратило в прах какой-то окраинный район Тбилиси. Но вот первое... Я не смог тогда и не могу взять в толк и сейчас: зачем это противнику понадобилось бомбить кладбище в Багеби. В Багеби отродясь не водилось никаких военных объектов. Разве что за такой объект с большой натяжкой сошло бы шоссе "Пастораль". Все-таки по нему ездили члены грузинского правительства - с дач в министерства и обратно. Но разве летчик не видел, что на шоссе не было машин? Что же в таком случав его прельстило? Сверхсекретный военный завод? Тогда я покорно склоняю голову. И когда только успели его отгрохать? Научный городок? Вздор. Сквер? Памятник поэту? Надгробия? Жилые дома, которых здесь так немного? Может вражеский летчик сбросил на меня бомбу просто по ошибке? А может ему было все равно где освободиться от груза? А может этот добряк пожалел людей и предпочел бомбить заведомых мертвецов? Кстати, успели ли предупредить население города о воздушном налете? Но утром все было так спокойно, и их как ветром сдуло, стало быть с предупреждением запоздали. Удалось ли хоть кому избегнуть смерти? И как там все мои, все те, кого я оставил жить без меня? Здание оперного театра... Но это абсурд, дело не могло ограничиться оперным театром, разве что генералов сразила повальная форма музыкофобии. Впрочем, на Руставели находятся административные здания... Землю, бедную родную планетку опять поливают свинцовым дождиком, мы просто угодили под капельку. Опять Земле делают больно, ранят, терзают. Опять торжествует зло, собирая обильный урожай человеческих страдании. Но по странной прихоти физических канонов землю над моим гробом так и не разметало от взрыва, смерч пощадил мои истлевшие кости, и мне, надежно укрытому здесь от всех земных проблем, вновь досталась завидная роль наблюдателя. Завидная ли? Война попыталась с корнями вырвать сумбурное чувство признательности, связывавшее меня с миром, который я покинул, и придававшее высший смысл моему потустороннему бытию. Какая-то совершенно неправдоподобная тишина укутала город в саван, обратив солнечное утро в долгую, нескончаемую ночь. Я чуть не забился в гробу подобно мелкой рыбешке, которую отхлынувшая волна оставила на гальке брюхом кверху, и невольно задал себе нехороший вопрос: Чего стоят все мои воспоминания, - а я-то так их лелею, так ими горжусь, - если даже вечно неизменные, одолевшие время мраморные надгробия повергнуты в тончайшую пыль? Неужто вся цена моему блестящему воображению - ломаный грош в базарный день? Чего стоит весь мой немалый опыт, мое знание жизни, сверкающие жемчужины познания вообще, если возненавидевший самое себя разум восстал и обрек род человеческий на самоубийство? Все-таки обидно - о чем только не успел я здесь передумать: о свете и о тени, о том как дружилось, и о том как любилось. О страстях, победах и неизбежных изменах. О жестокости и о священном праве на ошибку, которое нельзя отнимать у людей. О находках и о невозвратных потерях, которые никогда не кажутся нам по настоящему невозвратными. О счастливой доле слепца и несчастливой - зрячего. А сколько я передумал о другом священном праве - извечном женском праве на обман и игру, кляня себя за то, что всю жизнь оспаривал это право, сам обделяя себя положенной свыше толикой счастья. Такими ценными порой казались мне выводы к которым я самостоятельно приходил, и что-же, прицельное бомбо- и ракетометание отнимают сейчас у меня последнюю радость? Как это, должно быть, несправедливо. А может, наоборот - именно в этом и заключается высшая справедливость, и очень жалок мой бессильный бунт - эта пошленькая жалость к себе любимому. Но разве возможно совсем не жалеть себя? Кому не больно, когда вещи представляющиеся тебе очень важными, не кажутся таковыми даже самым близким людям? Чужая жалость недоступна, унизительна? Верно. И тем больше оснований жалеть себя, любимого. И плевать на осуждающих и обсуждающих тебя самоуверенных мещан, не упускающих случая подставить тебе ножку. Сами-то, поди, не стесняются себя жалеть. Ну это ладно, это абстракция, а как быть с конкретными фактами моей жизни и поныне управляющими ходом моего воображения? Их тоже, как говорится, на свалку истории? Мало-ли накопил я их за всю жизнь, накопил да и внес на сберкнижку ощущений, рассчитывая понемногу расходовать накопленное, да еще и взимать проценты в виде надежд и самооправданий? Многое хранится на той сберкнижке: очищающее пламя костра жадно пожиравшее краденые деньги, сто десять тысяч - шутка сказать! - и красное, полыхавшее возмущением лицо Хозяина; долгое общение с Писателем и успешная политическая карьера; и, наконец, самое достопримечательное - авантюрное интервью корреспонденту "Униты" товарищу Чиавитта. Момент, когда я в гордыне вознамерился поднять высокие волны на поверхности невозмутимого океана, но легкая насмешливая рябь подхватила меня как мелкую рыбешку и выбросила подыхать на берег. Похоже, взрывы вконец меня доконали; видать, я все еще вынашивал планы чудесного возвращения, а выясняется, что возвращаться просто некуда. Разве обугленная людским безумием Земля пригодна для полноценной жизни? Когда я беседовал с Массимо Чиавитта, у меня, несмотря ни на что, все еще сохранялась надежда на то, что у величавых государственных мужей хватит ума не поджигать сухие ветки. Но увы!- владыки мира уподобились задиристым школярам. Ради мира на Земле, а вовсе не из удовольствия напомнить о себе, рискнул я тогда своим высоким положением; и как, должно быть, проклинала меня за это жена, не осмеливаясь, однако, проклинать меня вслух, как-никак я все же был мужем и отцом. Неужели ОНИ и взаправду способны покончить с цивилизацией? На что похож сейчас проспект Руставели? Там, наверно, сплошные развалины. Оперный театр! В дни моей молодости какие-то злодеи подожгли его с разных сторон, потом здание долго восстанавливали, наконец восстановили, и вот... Ничто не вечно. Помню споры давно минувших лет. Я верил в прогресс, а Антон с жаром доказывал всем нам, что время бессильно изменить человеческую суть, что год тысяча девятьсот семьдесят пятый ничем не отличается от, скажем, тысяча семьсот девяносто второго - те же страсти, те же постепенно дряхлеющие люди, когда-то преисполненные очаровательных юношеских надежд; те же одержимые юнцы, которых ждет неминуемая старость; те же великолепные красотки, которым суждено нарожать детей и раздобреть вширь; та же святая вера в лучшее будущее. Что там технический прогресс - одна мишура! И что же - выходит, он оказался прав. Если честно, то мысль об эфемерности всеобщего прогресса впервые посетила меня, когда мне стукнуло двадцать девять. Как сейчас помню: в мае месяце меня впервые зазвал к себе Писатель и я ощутил себя чуть-ли не счастливейшим из смертных, а в конце июня - бац! - Девочка неожиданно вышла замуж, и за кого, если б вы думали? Волей-неволей тут примиришься с эфемерностью прогресса. Впрочем, я уже тогда, зимой, в ресторане, почуял что дело принимает хитрый оборот. Аж свет стал не мил. А с другой стороны... С другой стороны на карьерные успехи я нажаловаться не мог. На службе все складывалось блестяще. Вот такая вот дикая мешанина и подтолкнула мое разумение к эдакому послеобеденному экзистенциализму, да позволено мне будет так выразиться. Какой-там к черту прогресс, думалось мне бессонными ночами, если на работе все отлично, и будет еще лучше, в мои-то годы, а волком выть хочеться, да вой не вой - легче не станет. Кусай губы и улыбайся людям. От судьбы уйти никому не дано - ни попу, ни генералу. По понятным причинам я не мог сделать послеобеденный экзистенциализм своей официальной идеологией, работа моя была не для слабых духом, Писатель отвернулся бы от меня, да и не был я из тех, кто может махнуть рукой на жизнь и карьеру всего лишь на почве неразделенной любви, но по ночам я исповедовал именно эту философию и она вроде-бы ненамного облегчала мое существование. Сей ВРОДЕ-БЫ экзистенциализм уравнивал всех со всеми, - еще не родившихся, с давно ушедшими, а неудачников со счастливчиками, - единственно потому, что в основании его лежала простая и доступная истина: Любой Человек Смертен. И старое как мир суждение: "Смерть - великий уравнитель" - уже не казалось пустой блестящей побрякушкой. И верно - разве не кончают одинаково и великий греховодник и ходячий свод всевозможных добродетелей? Человек может быть бедным, как бродячая дворняга, или богатым как Крез, властвовать над миллионами сердец, или всю жизнь прозябать в рабстве и нужде, слепо карать по чужой указке или самому пасть жертвой хладнокровного палача - но настанет его последний час и он обратится в прах, в случайный набор никак уже не связанных молекул, мигом ранее составлявших его тело и душу. И исчезнет куда-то все, что было для него радостью или горем, ласковым лучиком весеннего солнца или упоительным жаром победы, и даже если не сразу забудутся дела его - добрые или злые - ему то, набору молекул, что? Земля продолжит свое вращение вокруг оси, и осень будет сменять лето, а зима - осень, но уже без него. А ведь и Земля и Солнце не вечны. Все не вечно. Существует же стройная теория "коллапсирующей вселенной", согласно которой через мириады лет вселенная сожмется в кулак, сотрет звезды и планеты в порошок, потом произойдет новый взрыв и начнется очередной жизненный цикл без всякой памяти о старом. И если, не приведи господь, эта теория справедлива, то к чему жить? Как выцарапать у мироздания уголок для поэм Гомера, Руставели и Данте, для опер Вагнера, ваяний Микеланджело, идей Маркса, или, скажем, для латиноамериканской прозы второй половины двадцатого века? О каком смысле бытия может идти речь, если все сущее обречено на неминуемое и абсолютное уничтожение неумолимыми законами природы - и не надо насылать на Землю какую-нибудь бедовую комету или развязывать термоядерную войну, все равно - неоспоримый, глубочайший мрак в конце тоннеля. И даже если человек чувствует себя сейчас веселым и счастливым, если рядом верный друг, если он вершит добрые и полезные дела - растит детей, пашет поля, покоряет космос, пишет стихи, постигает истину; если даже он, достойно завершив свой путь на Земле, покидает нас с каким-то известным ему одному дорогим именем на холодеющих устах, то не умирает ли он все равно в одиночку - как бы не цеплялся за призраки людей, не по собственной воле покидающих его в решающее мгновение? О, я довольно долге поклонялся этому весьма привлекательному экзистенциализму. Но проходили годы, сердечные раны заживали, затягивались нормальной тканью бытия, и чем сильнее поддавался я текучке, тем менее склонен был следовать его догматам. И не потому, что в силах был их опровергнуть, а потому что вся эта философия слишком уж оказалась производной от настроения. Я перестал быть ее горячим, хотя и тайным любовником, оставшись ленивым и довольно ветреным супругом, избегающим, однако, окончательного разрыва. "Послеобеденный экзистенциализм" казался мне зерцалом истины, пока невыдуманная сердечная тоска определяла мое отношение к окружающему миру, но, по мере того, как жизнь брала свое и переживания забывались, теряясь в тумане прошлого, я перестал нуждаться в этом зерцале. Но и порвать с ним уже не мог. Раны с годами рубцуются, но на рубцах всегда остается несмываемый отпечаток увядших страстей. Да только вот подсознание не обмануть словом "увядшие", для него не существуют ни Вчера, ни Позавчера, - есть одно только вечное Сегодня. И вне зависимости от того, как устроилась моя жизнь, - а, в общем, все сложилось вполне прилично: я женился, пошли дети, внуки, я проник в высшие сферы, - былую твердую веру в прогресс восстановить мне было не дано. Каюсь, я перегорел. Все-таки вера в счастливое будущее человечества - твердый орешек для тех, кто испытывал хоть какое-то достаточно сильное разочарование. И вообще, я рискну сделать смелый вывод - пусть возвращение в лоно материалистического мировоззрения и предопределило мою головокружительную карьеру, но в душе я оставался немного "послеобеденным экзистенциалистом", и это предопределило мое сокрушительное падение. А сегодня, когда в городе пылают пожары и погибают от жажды люди, я физически ощущаю, как "послеобеденный экзистенциализм" возрождается и, покидая уютную оболочку подсознания, вновь занимает господствующие позиции в моем сознании. Массовая бойня отличный стимулятор мозговой деятельности. Мысли о бренности всего небесного и земного атакуют мозг по всему фронту. Не спорю, затянувшаяся потусторонняя ночь наступившая после моей медицинской и гражданской смерти, оказалась серьезным испытанием для материалистической части моего мироощущения, но, вплоть до вчерашнего дня, мой взгляды не успели претерпеть заметных изменении. До сих пор я не терял надежды, что человечество отправит обреченный общественный строй на пепелище истории минуя рифы геноцида, но капитализм не устоял перед искушением хлопнуть напоследок дверью, и вот - проспект Руставели рассыпан на мелкую каменную крошку. Должен признаться, что в условиях крушения человеческой цивилизации, какой-бы уродливой она не была, даже бестелесному духу нелегко оставаться последовательным материалистом. Мертвая тишина, воцарившаяся наверху после всепоглощающих атомных шквалов, низвела до нулевой отметки стоимость моего главного богатства - памяти, в то же время неожиданно придав мне новую силу поверить в ее совершенно особое предназначение.
Слишком уж построена вся человеческая психика на стремление противоречить чему- или кому-либо. Попробуйте-ка прямо, без обиняков, внушить человеку, что в его интересах быстренько согласиться с вами, и он непременно попытается увильнуть от положительного ответа на ваше, может, вполне честное и разумное предложение. Если же в аналогичной ситуации вас, да и его тоже, больше устроило бы "нет", то ему смертельно захочется ответить "да". Конечно, на действительный характер ответа почти всегда налагают ограничение объективные факторы - разум на то и разум, чтобы, при необходимости, с успехом подавлять наши естественные желания, - но, объясните-ка пожалуйста, на кой ляд мне, в моем-то положении, подавлять желания, и чем сильнее убеждался я в абсолютной бесполезности какого-бы то ни было анализа давно и бесповоротно сгинувших событий, тем настойчивее теребил я свою бедную память, бередил уже зарубцевавшиеся душевные раны, и они, эти раны, начинали кровоточить, хотя, казалось, какой может быть в омертвевшем рубце кровоток? Спасаясь от безумия, весь в ожидании новых налетов вражеской авиации на растерзанный город, бежал я в пленительное далеко и там, на широких голубых просторах прекрасной страны неисполненных надежд, украдкой расправлял мои невидимо поникшие плечи. И пусть наверху полыхает атомное пламя и живые завидуют мертвым, все равно - я молод, полон сил и страстей, грудь украшает недавно врученный мне под расписку депутатский значок, я назначен председателем рабочей комиссии в горсовете, руковожу отделом в Центре социодинамики, хожу в перспективных, в общем - налицо все основания для того, чтобы купаться в счастье. Вот только личная жизнь пока неустроена, руки как-то не дошли в "сплошной лихорадке буден", и пора с этим кончать! И я, неглупый молодой человек и перспективный чиновник, решаю преодолеть все преграды на пути к тому, что принято называть личным счастьем. С давних пор мне нравилась одна девчушка - не очень близкая подруга одного моего товарища, Ну, нравилась она мне не так чтобы очень, середка на половинку. Но мне было немножечко ее жаль, у нее нелепо погиб брат, хороший и добрый парень, с которым я был знаком еще в школьные годы. Утонул в море. А она... Она казалась мне приветливой, добросердечной, мечтательной, даже чуточку робкой, и особенно мне нравилось, что разговаривая с ней не приходилось напяливать на лицо фарисейскую маску дежурной улыбки, улыбаться можно было искренне - так она к себе располагала. И вот, как раз тогда, когда на работе у меня все складывалось как по писаному, и я начал подумывать о том, как бы мне получше устроить свою личную жизнь, закралась-таки в голову мыслишка, а почему бы нам... или мне... нет, все-таки нам, ей и мне, не обменяться кольцами? А потом и свадьбу сыграть, ведь она-же, наверняка, замечательный человек, один на сто тысяч! Но по крайней мере одно препятствие я уже тогда счел весьма серьезным. Уж очень мало было у меня возможностей для общения с ней. Проходили дни, недели, месяцы; она, неожиданно для меня, укатила в Москву на какую-то свою стажировку, а мыслишка, тем временем, крепчала и превращалась в навязчивую мысль. Я и не заметил, как влюбился в нее, такую далекую и неприступную. Эта влюбленность стала постепенно определять и смысл моих поступков, и мое отношение к действительности. Нечто подобное я испытал когда мне было девятнадцать, но тогда я был ребенком, или почти ребенком, неспособным, как мне кажется, на подлинно глубокое чувство. А ныне я взрослый, умудренный кое-каким опытом человек, готов променять все блага жизни на одно ее дружеское прикосновение. Но она была слишком далеко от меня, и у меня невольно опускались руки. Легко сказать - променяю блага. Да разве в благах... Разве могу я позволить себе бросить все к черту и уехать к ней, притом без всякой гарантии на успех? Как, все предать? Оставалось в бешенстве скрежетать зубами. Но, увы, летели недели и месяцы, а меня все сильнее охватывало пренеприятнейшее чувство - чувство дикой ревности к какому-то незнакомцу. Ну, конечно, у нее кто-то есть, она, наверняка, давно завела себе кого-то, уверял я себя. Само словосочетание "создать семью" показалось мне постыдным. Неужели я такой болван, бес мне в ребро, что хочу обделать это дельце будто по заказу? Пора бы понять, что такие дела по заказу не делаются. Надо как-то отыскать ключи от ее сердца, в этом, и только в этом, а вовсе не в моих настоящих и будущих регалиях мой единственный шанс. Пока что она незамужняя, и это уже неплохо. Значит, надо как следует постараться и предстать перед ней в более выгодном свете, чем возможные конкуренты. Сетовать на судьбу бесполезно, факты надо принимать такими, какими они есть. А что касается расстояния... Неужели на мое решение повлияет ничтожное расстояние в полторы тысячи километров между цивилизованными городами, связанными железнодорожным и воздушным сообщением? Какой-же тогда я мужчина? Нет, нет - любой человек, если он человек чести, должен нести свой крест, и я постараюсь достойно пронести свой.
Но недели сменяли друг друга. Вероятность того, что девчонка, такая тоненькая и стройная, выскочит замуж за первого попавшегося хитреца, возрастала (я был уверен в этом) с каждым месяцем. Необходимо было действовать.
Наступила первая зима моей любви. Красота жизни приняла облик запорошенных снежинками улиц, я уже не мог спокойно отсиживаться в тылу, и, выписав себе под каким-то правдоподобным предлогом командировку, слетал на недельку в Москву. Промаявшись несколько дней между морозной улицей Горького и гостиничным номером, я наконец решился набрать на телефонном диске ставшие дорогими цифры. Но до того, еще утром, я не поленился пойти в кассы кинотеатра "Мир" и втридорога купить с рук пару билетов на вечерний сеанс, - давали "Амаркорд" Феллини, - и вместе с ними запрятать глубоко в карман пиджака и смелую надежду. А что если разговор между нами сложится, и я настолько осмелею, что возьму да и приглашу ее в кино, она же возьмет да и примет мое неожиданное приглашение? А затем провожу ее до дому? Если так случится, то я, ей-богу, сочту исчерпанной программу моего визита в столицу, и утром во Внуково поедет счастливый, уверенный в себе человек, дабы проблаженствовать пару часов в тесном самолетном кресле в раздумьях о том, каким же должен стать его последующий шаг.
Истомившись от ожидания, я начал позванивать к ней с пяти часов вечера, надеясь застать ее сразу по возвращении из института. В шесть тридцать (подозреваю, что она даже не успела снять с себя пальто) мне ответил женский голос. Еле поборов противную дрожь в пальцах (трубка чуть не выпала у меня из рук, я и не подозревал, что, разговаривая по телефону, можно так нервничать), я поздоровался и назвал себя.
К моей радости она сразу меня признала и, кажется, даже обрадовалась. Стало полегче. Ну а дальше разговор потек как-то само собой, и когда я решился и пригласил ее на "Амаркорд", она очень естественным тоном, легко и свободно, приняла мое приглашение. Товарищ сказал товарищу "да", не более того, но и это я счел большим достижением.
Мы встретились у входа в кинотеатр за четверть часа до начала сеанса. Там толпилось множество людей и я, к сожалению, упустил момент ее появления. Когда же я наконец ее увидел, она стояла у входа растерянно оглядываясь по сторонам, и клянусь - никто еще не выдумывал снегурочку милее, чем она. Девочка очень мило подставила мне щечку для поцелуя (мне стало жарко несмотря на десятиградусный мороз) и мы пошли занимать свои места. От нее исходил слабый запах хороших духов и, когда мы проходили между рядами кресел, я был ужасно счастлив и горд, и мне казалось, что на нас смотрит весь зал и восхищается моей спутницей...
И тут я внезапно очнулся. Меня разбудил все тот же гром - крылатые ракеты подхватили эстафету у тяжелых бомбардировщиков и стали наносить по израненному телу города новые удары. К стыду своему должен сознаться, что я даже обрадовался этим посланцам смерти - мертвый город вряд ли стали подвергать столь ожесточенным бомбардировкам. Значит в Тбилиси еще теплится жизнь и, как знать, может ему суждено восстать из руин. И когда гроза прошла, я вновь погрузился в забытье, но уже гораздо более умиротворенный, чем прежде. Мне было не до размышлений, не до оценки действительного положения дел, не до смысла всего происходящего. Я просто вспоминал.
... И мне казалось, что моей спутницей восхищается весь зал.
X X X
Сухо потрескивает забытая радиола, рассветное солнце окрасило комнату в бледнорозовые тона, скоро в путь, миг пробуждения все ближе и ближе, но заместитель министра и не думает просыпаться. Очень уж занимает его вся эта загадочная эпопея с разумными пауками, подавшими трубный глас из подземных глубин. Как в добротном триллере. Профессиональный интерес гложет заместителя министра и во время сна: мы - их, или они - нас? Удастся ли заключить хорошую договоренность с антиподами? Или дух конфронтации окажется непобедим и обе цивилизации будут обречены на медленное уничтожение? Нет, просыпаться, пожалуй, рано. И полно, сон ли это? Разве это не его лицо отражается в густой воде Амазонки? А его новый спутник, разве его спас кто-нибудь другой? Кстати, надо как следует порасспрошать этого заросшего трехдневной щетиной оборванца, пусть добавит к происходящим историческим событиям несколько скупых слов очевидца. Именно очевидца, ибо в этих местах нынче, пожалуй, мог прятаться только один Браун - пропавший летчик с "Ориноко". В таком случае Полномочный Посол обогатит свое высокое начальство, бредущее, увы, в потемках, еще несколькими крупицами достоверного знания.
...всей нашей планеты. Правительство и Народ Регула считают создавшееся положение нетерпимым. Ресурсы поверхностного слоя планеты, хищнически разрабатываемые погрязшим во внутренних распрях человеческим родом, не должны более использоваться только одним видом разумных существ, населяющих Землю. Жизненные интересы дальнейшего поступательного развития регулянской цивилизации требуют обязательного установления Нового Экономического Порядка и заключения соответствующей конвенции. До окончательного разрешения этого центрального вопроса необходимо выработать приемлемый для обеих сторон Кодекс Поведения Земных Разумных Существ.
В интересах облегчения переговоров по широкому кругу проблем Правительство Регула сочло возможным ознакомить человечество с некоторыми историческими особенностями развития регулянской цивилизации, с ее насущными потребностями, а также с основными нормами общественного поведения граждан Регула.
Регулянская цивилизация, или, как она первоначально называлась - Счастливое Сообщество Гордых Мохнатых Пауков, - возникла около двух тысяч лет назад на границе между Нижней Мантией и Внешним Ядром в полостях естественного происхождения. В ту далекую пору Гордые Мохнатые Пауки имели небольшие размеры - до двух метров между наиболее удаленными друг от друга кончиками противоположных клешней, - и обладали весьма примитивной биохимией, питаясь Глупыми Погаными Червями и используя в процессе метаболизма обильно представленные в породах Нижней Мантии химические элементы. Гордые Мохнатые Пауки размножались половым способом и вели отчаянную борьбу за существование с Глупыми Погаными Червями. Борьба эта завершилась полной победой Гордых Мохнатых Пауков, так как Глупые Поганые Черви, в силу их общей недоразвитости, далеко не всегда употребляли в пищу плененных Гордых Мохнатых Пауков, а иногда даже отпускали их на свободу. В отличие от Глупых Поганых Червей, Горды Мохнатые Пауки использовали все выгоды своего положения, но условия существования в первоначальном ареале обитания непрерывно ухудшались. Гордых Мохнатых Пауков становилось все больше и больше, а Глупых Поганых Червей - все меньше и меньше. Гордые Мохнатые Пауки устремились к просторам Верхней Мантии, и вынужденные, в условиях дефицита привычной пищи, конкурировать друг с другом, подчинились строгим требованиям естественного отбора. Это был период мощного ускорения интеллектуального и физического развития Гордых Мохнатых Пауков, ибо рассчитывать на выживание могли только сильные и умные особи. Сегодняшние историки Регула вынуждены судить об этой героической эпохе по косвенным приметам и отдельным разрозненным фактам, но, согласно существующим ныне воззрениям, именно к этой эпохе относится разделение Сообщества на Разумных Гордых Мохнатых Пауков и Недостойных Мохнатых Пауков. В то время как в результате благотворных мутации Разумные развили присущие им издревле способности к счетно-логическому мышлению, создали письменность, овладели началами так называемых точных наук, построили землеройные аппараты и оружейные заводы, поставили себе на службу лучистую энергию радиоактивных элементов, наладили эффективную сейсмогравиметрическую связь - аналог вашей радиосвязи, запустили в оборот финансовую единицу, разработали основы права, - развитие Недостойных пошло по иному пути. Они занялись построением и распространением того, что на человеческий язык можно перевести как "этические теории", проводили все время в бесплодных и нескончаемых дискуссиях и, вдобавок, создали и стали поклоняться вреднейшему культу Бедного Глупого Поганого Червя, тем самым внося сумятицу в единые ряды Разумных. Лучшие из Разумных вовсе не хотели, чтобы плоды их титанического труда доставались бездельникам Недостойным, но проявляли понятную терпимость, пока продовольствия хватало на всех. Но вскоре Глупые Поганые Черви были полностью истреблены и над расой Мохнатых Пауков нависла чудовищная угроза голодной смерти. В этот грозный час Лучшие из Разумных призвали своих собратьев под развернутые знамена и ополчились войной на Недостойных. Война принесла убедительную победу находившимся на неизмеримо более высоком техническом уровне Разумным, употребившим останки эстествующих дегенератов в пищу. Именно тогда Разумные дали начало нынешней расе Регулян.
Но поедание Недостойных не могло стать и не стало решением проблемы общественного питания. Разумные размножались и продолжали увеличиваться в размерах. Суровая действительность стимулировала поиск новых, более устойчивых механизмов видового выживания. Их суть определалась двумя основными факторами: желательностью снабжения особей достаточным количеством калорий и необходимостью сохранения Пауков как биологического вида. После тщательного размышления Лучшие из разумных выработали План Спасения и представили его на утверждение Всеобщего Съезда Разумных Гордых Мохнатых Пауков. На съезде, созванном примерно тысячу лет назад, была принята эпохальная Программа Развития, положения и дух которой и по сей день определяют жизненную философию регулян. Съезд вынес тяжелое, но мужественное постановление - О создании Великого Патриотического Фонда. Согласно этому историческому решению, определенная часть Разумных переходила в полную собственность Фонда с тем, чтобы послужить источником так называемых Почетных Калорий для своих соотечественников. Проведенные экспертами подсчеты показали, что численность Фонда следует постоянно поддерживать на оптимальном уровне пятнадцати процентов от популяции - в те годы именно такой уровень позволял как постепенно наращивать поголовье Разумных, так и обеспечивать продовольствием всю популяцию. Много времени и сил отнял от участников Съезда поиск приемлемого способа выявления Генераторов Почетных Калорий. Хотя основной принцип - принцип естественного отбора - ни у кого не вызывал ни малейших сомнений, во избежании нежелательных эксцессов долженствовало разработать процедуру, отвечавшую высоким принципам справедливости, и, таким образом, устранявшую опасность любых вспышек массового недовольства. Окончательный вариант решения предусматривал проведение Ежегодных Турниров-Праздников, особых состязании в силе и ловкости, в ходе которых и определялись бы кандидаты в Фонд. Получив в последнее время некоторое представление об истории человечества, мы можем сравнивать эти турниры с состязаниями гладиаторов в Древнем Риме. Подобным новаторским и, одновременно, вынужденным способом, нашим далеким предкам удалось справиться с проблемой воспроизводства Великого Рода Разумных Смелых Гордых Мохнатых Пауков. С тех пор Турниры-Праздники проводятся регулярно. Правда, в последние столетия проходной балл был несколько сокращен и составляет ныне приблизительно одиннадцать процентов, так как исследованиями наших юристов и статистиков установлено, что около четырех процентов от популяции всегда приходится на тяжелых преступников - Гадких Мохнатых Пауков, чья вина состоит в проявлении нездорового интереса к давно искорененному из сознания любой здравосмыслящей особи культа "Бедного Глупого Поганого Червя".
Название Регул трудно перевести на человеческие языки, но наиболее близкая к оригиналу интерпретация вобрала бы в себя такие привычные людям понятия, как "Общность", "Вера" и "Победа". Именно на данном названии, в основном из соображении простого удобства, остановился, созванный тридцать лет спустя Первого с намерением юридически закрепить достигнутый уровень общественно-политического сознания Мохнатых Пауков, Второй Всеобщий Съезд. С тех пор в истории регулян открылась новая победоносная глава, продолжающаяся и по сей день. Началась так называемая Эволюционная Эпоха - эпоха свободная от всякого рода антагонистических противоречий. Объективные законы развития влекли регулян дальше и выше, туда где предполагалось существование земной поверхности. Ее наличие постулировал великий регулянский ученый Круикуак, сформулировавший на основании тонких гравиметрических измерении гениальную догадку о существовании Большого Внешнего Мира. Хотя гениальный Круикуак пал смертью храбрых на одном из Ежегодных Турниров-Праздников, но дело его продолжили его достославные ученики. Примерно пять столетии назад Первая Академическая Экспедиция имени Круикуака пробилась к высшим слоям Верхней Мантии и достигла пород расположенных между Мантией и Корой (или, по вашей терминологии - границы Мохоровича). Господствовавшие в Коре геологические условия резко отличались от привычных. Регуляне испытывают в Коре ощущения сравнимые с ощущениями, переживаемыми людьми приблизительно на высоте Эвереста. Кора оказалась крайне дискомфортной и негостеприимной для расы Гордых Мохнатых Пауков. Поэтому в течении столетии регулянская цивилизация продолжала развиваться в пределах Верхней Мантии. Упадок интереса к Коре был обусловлен как и без преувеличения грандиозными ресурсами заложенными в Мантии, так и необходимостью подтягивания научно-технических тылов. Именно в Эволюционную Эпоху наука, техника и технология регулян поднялись на качественно высшую ступень. Только за два предыдущих столетия список их научно-технических достижений пополнился теорией относительности и математической геохимией, теорией ядерных сил и микроэлектроникой, атомной энергетикой и пластохирургией, новейшими породопроходческими аппаратами и сенсорными приборами сейсмогравиметрической связи. Но вместе с достижениями росли и потребности регулян. В их обиход вошло понятие комфорта. Выяснилось, что дефицит в целом ряде минералов и солей, без которых, не ведая о потенциальных возможностях их использования, общество легко обходилось раньше, можно изжить только путем освоения континентальной и океанической Коры. Дальнейшее продвижение регулян к земной поверхности диктовалось также необходимостью решения тех невиданных ранее проблем, с которыми Гордые Мохнатые Пауки столкнулись в связи с изменением структуры общественного потребления. В частности, увеличение средней продолжительности жизни и быстрый рост уровня благосостояния регулян вынудил Правительство Регула в конце прошлого века повысить квоту отчислений в Фонд до девятнадцати процентов, причем доля преступных элементов возросла до семи и одной десятой процента. Логическим финалом столь неблагоприятной тенденции мог стать необратимый развал цивилизации. Потому неудивительно, что усилия регулян в двадцатом и двадцать первом веках по человеческому, так называемому христианскому летоисчислению, были направлены на превращение границы Мохоровича в относительно подходящую среду обитания. И усилия эти оказались небезуспешными. На границе создавались колонии и оазисы с более-менее сносными условиями существования. Небольшие колонии регулян появились и на необъятных просторах океанической и континентальной Коры. И регуляне начали узнавать удивительные вещи об окружающем их Внешнем Мире. Под влиянием поступавшей информации их устоявшийся жизненный уклад претерпевал медленные, но основательные изменения. В школах Регула стала преподаваться новая дисциплина - астрономия, появились специалисты по волновой радиосвязи, готовились кадры подводников и десантников, в тщательно законспирированных тайниках на поверхности Земли устанавливались мощные антенны, лингвисты Регула с помощью компьютерной техники принялись за расшифровку человеческих языков. В клешни ученых Регула попали минералы и химические элементы с удивительнейшими свойствами, их применение открывало новые, не поддающиеся учету возможности для ускоренного развития регулянской экономики. Практически неисчерпаемые источники биомассы, богатейшие залежи органических и неорганических соединений, искусственное культивирование органики в тех, давным-давно оставленных Мохнатыми Пауками местах, что сегодня не смогли бы прокормить даже одного-единственного Гадкого Мохнатого Паука - вот что сулило и сулит регулянам участие в освоении Внешнего Мира. Кроме того, впервые в истории Регула общество получило шанс ограничить контингент Генераторов Почетных Калорий одними только преступниками. Высокий уровень научно-технического развития регулян создал неплохие предпосылки для решения новых задач, и это вопреки тому, что, как оказалось, во Внешнем Мире процветают особые формы разумной жизни, прошедшие совершенно иной путь общественного и технологического прогресса. Уничтожение, либо подчинение, этих форм было вполне по плечу технической цивилизации, способной избежать ответных ударов противника. Регуляне не считают нужным скрывать от Человеческой Расы и ее Объединенного Совета, что в свое время ставился вопрос об истребительной войне против чуждых форм жизни, пользовавшихся громадными благами в течение долгих веков надежно скрытыми от Лучших и Разумных регулян, не говоря уже о широких массах Мохнатых Пауков. Военная партия в рядах регулян обладала довольно широкой поддержкой и строгой организацией, и не в абстрактной жалости дело, что вынашиваемым ею в отношении человечества планам так и не суждено было осуществиться. Передовые отряды регулянских десантников натолкнулись на неожиданное серьезное препятствие: их панцыри оказались совершенно бессильными перед губительным воздействием солнечного света. Выяснилось также, что выведение улучшенной, невоспримчивой к потокам фотонов и других элементарных частиц породы регулян методами генетической инженерии, пока что обречены на провал, ввиду того, что гены световой восприимчивости Пауков рассеяны по внутренним областям хромосом, несущих ответственность за выполнение важнейших жизненных функции паучьего организма. И хотя соблюдение особых мер безопасности позволяет некоторое время поддерживать жизнедеятельность десантируемых на земную поверхность отдельных особей, одними этими мерами вряд ли удастся обеспечить силам вторжения серьезное стратегическое преимущество. Поэтому более весомыми выглядели и выглядят аргументы мирной партии регулян - попытаться привлечь человечество к взаимовыгодному сотрудничеству во имя ускорения экономического развития обеих земных цивилизации. Регул мог бы поставлять человечеству ценные минералы из глубин Коры и Мантии, передавать ему определенную технологию и "ноу-хау", гарантировать взаимную безопасность. Человечество, в свою очередь, внесло бы позитивный вклад в дело повышения жизненных стандартов регулян, вовлекло бы Регул в свои космические программы. Следует стремиться к положению, при котором сотрудничество между нашими цивилизациями превратится в непременное условие сохранения всеобщего мира на планете. Разумеется, Регул выступает за хорошее соглашение - в полной мере учитывающее интересы сторон и поддающееся взаимной проверке в разумных границах. Поскольку, по очевидным техническим причинам, такая проверка в обозримом будущем не сможет стать всеобъемлющей, считаем необходимым разработку комплексных мер доверия, которые предваряли бы развитие всесторонних контактов между двумя цивилизациями. Первым шагом в правильном направлении может стать выработка Кодекса Поведения Земных Разумных Существ, о чем упоминалось в начале настоящего Сообщения.
Поскольку указанный Кодекс должен учитывать суть основных психофизиологических особенностей субъектов - представителей популяций Высоких Договаривающихся Сторон, мы желали бы кратко информировать человечество об общепринятых нормах взаимных отношений между индивидуальными особями регулян.
Дееспособная взрослая особь, обладающая гражданскими правами и обязующаяся выполнять гражданские обязанности перед обществом, - это Гордый Мохнатый Паук с развитыми многоярусными клешнями и нормальными по Бурхугу парапсихическими рефлексами, двух лет от роду и выше. Цементирующие регулянскую цивилизацию моральные принципы, по нашему убеждению, многоязыкому человечеству должны быть близки и понятны. В обязанности дееспособным регулянам вменяются следующие нормы поведения: Сохранение супружеской верности в пределах продолжительности жизни одного из супругов; преданность друзьям - паукам и паучьихам - пока таковая преданность не наносит ущерба интересам общества в целом; вдохновенное понимание нежелательности сохранения жизни неполноценным членам общества, и, как следствие, отказ в содействии особям тяжело раненым в турнирных сражениях, либо получившим тяжелые телесные повреждения на общественных работах; проявление дружеского участия к Мохнатым Паукам-Сироткам и к особям, страдающим легко излечимыми формами стагнации; беспрекословное повинование Лучшим и Разумнейшим регулянам - цвету и гордости нашей цивилизации, а также немедленное информирование Служителей Истины - верных слуг Лучших и Разумнейших - о проступках и неблаговидных помыслах неблагонадежных элементов; искренняя ненависть ко всем отступникам и отщепенцам, усомнившимся в полезности и справедливости вышеперечисленных норм. Эти сведения о краеугольных принципах нашей морали мы передаем человечеству с самыми благородными намерениями. Если человечество проявит интерес к предлагаемым переговорам, то рассмотрение данной темы может быть продолжено.
Мы ожидаем от человечества и его вождей принятия мудрых и последовательных решении. Разумеется, вы вольны встать на путь конфронтации и отказа от сотрудничества. Мы, однако, за конструктивные переговоры и надеемся на дальновидность членов Объединенного Совета. Если сегодня мы упустим возможность для начала диалога, события на нашей планете могут принять трагический оборот и вся ответственность за непредсказуемые последствия ляжет на руководителей человеческой расы. В случае если они проголосуют за нагнетание напряженности и, в конечном счете, за вооруженный конфликт, то трудно будет рассчитывать на миролюбие регулян. Не исключено, что в общественном мнении Регула возобладают аргументы выдвигаемые военной партией и тогда никто не сможет поручиться за то, что столкновения удастся избежать. Крайне важно, каким будет принципиальное решение Объединенного Совета - переговоры или их отсутствие. Если в течении двух суток решение не будет принято, правительство Регула подаст в отставку в полном составе, и это, без сомнения, усложнит наши отношения. Технические аспекты переговоров нетрудно определить через межправительственное соглашение по процедурным вопросам. В любом случае, однако, ваш полномочный представитель должен будет в согласованное сторонами время прибыть в нашу надземную колонию лично. Неявку мы будем вынуждены расценить как явное проявление недоверия к Регулу в целом. Слово сейчас за Человечеством. Наши приемные антенны и записывающие устройства готовы к регистрации вашего официального ответа начиная с этой минуты и в течении двух ближайших суток. Просим использовать длины волн...
...Мы пошли на переговоры несмотря на захлестнувшее нас отвращение. Позавчера Полномочного Посла принял и проинструктировал лично Председатель Объединенного Совета. Совет принял позитивное решение, но подчеркнул, что переговоры следует вести с величайшей осторожностью. Переговоры обещали передышку, а она была необходима - эта передышка, люди должны были освободиться от малейшего подобия панических настроении. Кроме того, выигрывалось время для обсуждения практических мер безопасности. Послу предписывалось визуально изучить строение паучьего организма, самим своим появлением во вражеской колонии подтвердить возможность непосредственного контакта между представителями обеих цивилизации, без чего никакие меры доверия не будут считаться достаточно эффективными, и побольше узнать о потребностях, и, следовательно, о слабых местах этих, как они себя величают, регулян. Далее Послу следовало затронуть вопрос об обмене представительными делегациями для ведения торгово-экономических переговоров и обговорить кое-какие гарантии невмешательства. В качестве жеста доброй воли передать регулянам револьвер устаревшей модели и потребовать от них аналогичного поступка. Таким образом предполагалось выяснить по какому принципу могло развиваться оружейное дело Регула. Этим обязательные функции возложенные на Полномочного Посла исчерпывались.
А нынче он подкармливает жиденьким бульоном спасшегося от верной гибели летчика Патрульной Службы. К молодчикам из Патрульной Службы они, дипломаты, всегда относились с легким презрением, приблизительно так, как в довоенные времена к полицейским, но выбора не было. Да и служат они одному и тому же делу...
...Старина Браун понемногу приходит в себя. Глаза стали живыми, заблестели; речь из прерывистой превратилась в ровную, потекла как Амазонка. Это было ужасно, ужасно, рассказывает он. Это трудно передать словами, надо было видеть. Они вели аэрофотосъемку Пятна, простейшее дело, и заметили внизу какие-то копошащиеся многорукие точки. Они были очень заинтригованы этими точками и решили опуститься пониже. Они не собирались садиться там, хотя для их машины что вертикальная посадка, что вертикальный взлет - раз плюнуть. Но... Но кто-бы мог предположить! Смерть, дьявол ее побери, иногда приходит на цыпочках, или, например, является в образе многоруких точек. Для его друга, Ференца, она, во всяком случае, так и принарядилась. Многоруких точек... Когда они спустились пониже и давай кружиться над Пятном и этими паукообразными на высоте около полукилометра, у них глаза на лоб полезли от удивления. Они уже собирались возвращаться на "Ориноко" и доложить все по порядку, но у Фери, на их беду, как раз в тот момент зачесались руки и он прошипел сквозь зубы: "А пальнуть-бы разок по этим тварям". У Брауна не нашлось возражений по существу. В конце концов, кто мог ожидать, что эти твари способны на такое. Вот Фери и нажал на гашетку. Он, Браун, успел заметить, как разорвался панцыръ у одного из пауков, и как брызнула из под панцыря темно-коричневая жидкость. А потом в них как-бы попала молния и самолет стал терять высоту. Браун попытался выровнять машину и сбавить скорость падения. Ему удалось добиться этого и, хотя двигатели отказали, он кое-как посадил самолет на брюхо. Но от удара кабину разгерметизировало, да они все равно не смогли бы в ней отсидеться. Они сели на самой окраине Пятна, почти на ТОГО САМОГО, с развороченным панцырем, и увидели, как рядом с ТЕМ САМЫМ копошится его собрат. Кажется собрат лакомился трупом, но Браун не может за это ручаться, все произошло слишком быстро. Как только они выпрыгнули из кабины и помчались наутек, тот, трапезничавший, двинулся за ними с какой-то ленивой, но довольно быстрой трусцой. Граница за которой начинались густые заросли, была, по счастью, совсем близко, и он, Браун, успел-таки в них укрыться. Он мчался что было мочи, но в самый последний миг, перед тем как заскочить в кустарник, он все же оглянулся, хотел подсмотреть, как там его напарник. Зрелище подстегнуло его сильнее всякого кнута. Клешня поотставшего паука перехватила бедняге Фери пояс и потрясенный Браун увидел, как голова Фери исчезает в пасти чудовища. Ну тут уж Браун дал такого теку... Бежал, запутывался в густых лианах, падал на траву, вновь бежал. Полностью выбившись из сил прилег под каким-то деревом. Счастье его, что под деревом не оказалось термитника и на него не польстилось какое-нибудь местное пресмыкающееся. Он долго лежал так, не смея встать, а вечером глаза его стали слипаться, и это тоже было опасно, но, к счастью, сон не шел к нему. Едва он смыкал веки, как ему чудился паук-людоед и немой, застывший ужас в глазах Фери. Кое-как дождавшись утра и немного успокоившись, он поднялся на ноги и продолжил путь в никуда. Чудом прибился к реке. И, благодарение богу, его заметили с этого катера! И вообще, жизнь - дура, сплошная цепь случайностей. Матушка с ума бы сошла, приключись с ним беда, ну что-то такое, как с Фери. И что ему не сиделось в Англии! Патрульная Служба, Патрульная Служба... В зеркало он пока не смотрелся, но уверен, что поседел за эти дни...
Ничего особенного. Ничего такого, что привлекло бы его внимание - внимание Полномочного Посла. Но от бессвязной речи этого несчастного веет холодком и по посольской спине. И с этими тварями он должен говорить о мире. Вот тебе и почетное поручение! Как бы не послужить миролюбивым регулянам Генератором Почетных Калорий...
... Заместитель министра иностранных дел нервически подергивается во сне. Что за фантасмагория? Какое отношение может иметь к реальной действительности этот кошмар? И никакого Брауна, конечно, нет в природе, и никакой на дворе не двадцать первый век, а всего только конец двадцатого. Не спятил ли он? И нехорошие сказки о какой-то там Третьей Мировой Войне. Миллиарды убитых и раненых, климатические изменения, разгул генетических уродств, города в развалинах, и Тбилиси тоже. Нет, все же хорошо, что ему удалось вырваться в отпуск. Нельзя так переутомляться, ничего удивительного, что ему снятся такие сны. А будущее? Какой-то полицейский мир и наводящая ужас на все сущее всесильная Патрульная Служба. Но он участвует в строительстве не такого, а гораздо лучшего будущего. И не ценой мировой войны. Мы ее ни за что не допустим. Ни он, ни его министр, ни страна, ни народы мира. И что там за интервью "Уните"? У него и в мыслях такого нет. Просто фантастика, мираж, его болезненное воображение. Никогда ни один из членов правительства не позволит себе выступить с интервью, положения которого расходились бы с официальным партийным курсом. Не бывало такого прецедента. Не может и не должно быть. И вообще, если всерьез борешься с империализмом, нельзя допускать принципиальных компромиссов. Он почти ненавидит этого наглого типа, вражескую душонку, обманом пробравшуюся на ответственный пост. Интересно, кто бы это мог быть?...
X X X
Рейс КЕ-007 продолжается. "Боинг" с погасшими бортовыми огнями быстро скользит в ночном небе. Громадный чужой полуостров остался позади, впереди - тяжелое, свинцовое море. Еще немного и начнет светать.
В рубке лайнера тепло и уютно, но курсант зябко поеживается в кресле. Пока все идет хорошо, слишком хорошо. Летели они над Камчаткой почти с полчаса, и все это время он сидел как на иголках, в ожидании неотвратимой погони. Где-то рядом господин Чан, каменное лицо, каменные мысли, отрывистая речь сверхчеловека. Неужели им удасться безнаказанно улизнуть? Что же русские молчат, уснули, что-ли, у своих радаров? Если так, то Камчатку парни из ЦРУ запишут себе в актив. Будь его воля, они ограничились бы этим активом. Сейчас самое разумное - вернуться на оживленную международную трассу. Но аппетит к этим парням приходит во время еды. Сейчас они почти молча колдуют над своей аппаратурой, наверняка им удалось кое-что выудить, для них происходящее - большое дело, и они не желают упускать не единой возможности. Радист застыл у передатчика, судя по его сосредоточенному лицу и бегающим по клавиатуре пальцам - ему есть что передавать. Будь она неладна, эта секретность. Экипаж не знает, что может ожидать лайнер через пару минут. С другой стороны, если бы русские как-то не отреагировали бы на их вторжение, то радисту и передавать бы было нечего. Видно, там, на той стороне, произошла какая-то заминка, иначе к ним в хвост уже пристроилась бы парочка русских истребителей. Ну а пока приходится выполнять приказы Чана и Кертиса. Курс взят на Сахалин. Камчатку и Сахалин разделяют нейтральные воды Охотского моря. Воды-то нейтральные, да зона для полетов запретная. Хотя над морем ничего смертельного им, видимо, угрожать не должно. Но если за ними все же увяжутся хищные насекомые с красными звездами на фюзеляжах, то про нейтральные воды лучше позабыть и следовать за насекомыми туда, куда им укажут. Если, разумеется, триста человеческих жизней чего-то стоят в этом мире...
... Вань, а Вань! Уснул, что-ли, бля? Или думаешь у тебя на экране кукурузник светится? Да это же "Эрся", на все сто "Эрся"! Живо подымай машины! Улетит он, не сносить нам погон. Тревогу гони, тревогу...
... Кертис будет доволен. Трудно сказать какую информацию удалось им извлечь о готовности советской ПВО, какие служебные переговоры записать на пленку и передать дальше, но съемка ночного видения наверняка проведена успешно. Работа с закрепленными под крыльями самолета камерами обещает весьма ценные результаты. Болтают, будто со спутников все видно. Так-то оно так, да не совсем! Спутника с орбиты не сдвинешь, а у аэрофотосъемки свои тонкости, своя информативность, да и контроль необходим. Иначе возможны накладки, и неизвестно какая из них повернется боком в решающий момент. Вообще-то, если они, в конце концов, вернутся на трассу и мирно долетят до Сеула, то он, подающий надежды курсант, возможно и подаст в отставку. Ибо если так пойдет и дальше, то несмотря на всю его любовь к небу, никаких нервов не хватит. Пока, правда, выходит, что они утирают русским нос. Странно, что господин Чан до сих пор не подхватил себе гипертонию. А может и подхватил, он ведь редко меряет себе давление...
... Докладывает капитан... В воздухе два перехватчика, только что поднялись. Чего? Чуток запоздали, дежурный уже получил от меня по шапке.. Как? Ну да! С летчиками на связи, а как же... Сейчас "Эрся" летит в запретной зоне над Охотским морем и приближается к Сахалину. Не делает никаких попыток вернуться на международную трассу. Случайность считаю исключенной. Разрешите принудительную посадку в Охе...
...Принудительную посадку разрешаю. О нарушении госграницы доложено командующему округом. У меня там не баловать и соблюдать инструкцию, бля... Попытайтесь связаться с нарушителем по международной аварийной частоте. Выпускайте, как положено, пару предупредительных ракет по курсу самолета-разведчика. Потом садитесь ему на крылья и рулите на аэродром. Только не дайте ему уйти. В случае невыполнения приказа, сбивайте к чертовой матери...
... Сесть на крылья пока не могу. Слишком темно. Делаю попытку связаться на аварийной. "Эрся" не отвечает. Перехватываю кодированные сигналы с борта нарушителя, считаю, рация у суки в порядке. Даю предупредительный выстрел ракетой...
...Посветлело, но видимость пока скверная. Хотя и не такая тьма, как сорок минут назад. Что это за разрывы в облаках там, вдали? Летающие тарелки? Бортинженер и мальчики Кертиса куда-то запропастились, курсант осторожно посматривает на второго пилота, а тот пристально вглядывается в белесое небо. Потом бросает косой взгляд на командира. Господин Чан, кажется, изменился в лице. Вот опять! Летающие тарелки? Ерунда! Да это же русские ракеты - предупредительные сигналы русских истребителей! Но почему молчит рация? Ах да, господин Чан приказал отключить ее от приемных частот. У них же приказ не отвечать на радиовызовы. Вот и пробил урочный час! Какие там тарелки! А хорошо бы встретить инопланетян... Конечно, истребители дают выстрелы по курсу лайнера, указывают в какую сторону следует лететь, если хотим выжить. Но разве господина Чана этим проймешь? Немедленно следовать за истребителями - вот единственный выход из положения. Когда же, черт побери, этот кошмар закончится? Но что это за приказ отдает командир? Вернуться на международную трассу? Но мы не можем... Это ведь не тот случай когда лучше поздно, чем никогда. Кто их туда сейчас отпустит? Попытка улизнуть в то время как их пытаются "вести", чревата самоубийством. Но... "Боинг" снижается, резко уходит в сторону от разрывов, видит бог, курсант тут не причем. Ясно, что перехватчикам такая строптивость подопечного понравиться не может. Остается надеятся на бога, да еще на то, что у господина Чана наконец проснется разум. Слабая надежда...
... Постоянно пытаемся связаться с "Эрся" по аварийной частоте. Не отвечает...
... Продолжаю засекать кодированные сигналы. Не зажигают бортовых огней, суки, маневрируют, уйти пытаются, бля. Уверен, они нас заметили, хотят выбраться из зоны. Дам еще разок предупреждение. Не перестанут валять дурака, собью по инструкции...
... А Элен? А жена? Кажется, он любил их? И ту, и другую? Второй пилот выполняет очередной приказ командира. Лайнер опять меняет курс. Вот чем отвечает на предупреждения русских этот фанатик. Фиглярством. И второй тоже хорош, на лицах не ужас, азарт...
...Пускаю последнюю ракету. В кошки-мышки играют. Какие будут указания?
. .. Какие еще на хер указания? Скоро граница, Япония, бля. Если драпанет, головой будете отвечать...
... Детей жалко, детей. Кертис и господин Чан - сумасшедшие. На борту триста пассажиров, среди них дети. Спят и видят сны. У второго пилота девчата на выданье. Черт бы побрал его дисциплинированность...
... "Эрся" зажег бортовые огни! Маскируется под гражданку! Пыль в глаза пускает...
... Д-д-а-а! Кажется и вас проняло, господин Чан! Бортовые огни
включены, в салон дали освещение. Там, наверное, паника... Господи, помилуй! Господи, помилуй! О, Великий Будда! Даем ИМ знать, что мы образумились.
Покачиваем крыльями, похоже, господин Чан принимает условия противника. Что, проняло? Поняли, наконец, что вашей жизнью жонглирует некий мистер Кертис? Не поздновато ли?...
...Алло, алло! Вроде бы это не "Эрся", фюзеляж какой-то не такой...
..."Эрся", не "Эрся", да какая на хер разница? Упускать эту сволочь
не имеем права...
"Боинг" покачивая крыльями набирает высоту, всем видом показывая, что готов послушно следовать за перехватчиками. Но уже поздно, слишком поздно. Внизу - южная оконечность Сахалина. Дальше Япония. В небе разыгрывается драма. Пилот в истребителе не имеет ни малейшего основания доверять своему непослушному коллеге с "Боинга". Где гарантия, что тот не попытается улизнуть в последний момент. До Японии буквально рукой подать. И что тогда делать? Сбивать нарушителя над Хоккайдо или идти под трибунал за невыполнение приказа? Будь они над северным побережьем острова, все было бы нормально, а сейчас рисковать уже нельзя. Они тертые калачи, их на мякине не проведешь...
X X X
В этот поздний час Председатель Объединенного Совета, устало и безнадежно закрыв лицо ладонями, сидел за громадным письменным столом.
Председательская вилла величественным утесом возвышалась над заливом рукотворного моря. Сквозь огромные зеркальные окна в комнату просачивалась так любимая им дробь искусственных волн, раз за разом накатывавшихся на ухоженный берег. Порождавший их ветер был настоящим, и в другой вечер эта дробь подействовала бы на Председателя успокаивающе. В другой вечер, но не в этот.
Председатель задумался о бренности всего земного и о тяжелом бремени прожитых лет. О надвинувшейся с возрастом старости и о смысле своего предназначения. Могущественнейшего человека планеты в последние недели стала одолевать никогда раньше не посещавшая его хандра. И недолгое пребывание в своей великолепной летней резиденции - хитрой машине, вся начинка которой, от гардин и до изумрудных каминов, подчинялась легонькому мановению его указательного пальца, лишь усугубило эту хандру.
Председатель был далеко не молод, но он всегда считал, что жил правильно. И вот только в последние недели... Сказать правду, нынче он утопал в сомнениях, словно в зыбучих песках. Нет, должно быть, он сильно постарел.
Председатель был тайным гурманом и - по натуре - эпикурейцем. Эта его особенность была хорошо известна его ближайшему окружению, но оставалась тайной для населения планеты. Он никогда, или почти никогда, не страдал несварением желудка и часто разнообразил свое меню. Буква Великой Хартии лишала Председателя радости прямо указывать главным редакторам крупнейших газет и журналов, что им позволительно печатать, а что непозволительно, но угодливая светская хроника никогда не позволяла себе упоминать о его гастрономических наклонностях. Власть Председателя простиралась далеко и глубоко, и не строптивым репортеришкам было ее оспаривать. По детальным указаниям Отдела пропаганды Совета - учреждения, в определенных, но весьма широких рамках контролирующего свободное телевидение и прессу, - органы информации создали его виртуальный собирательный образ - образ непритязательного в личной жизни, строгого, но справедливого отца и мужа, скромного радетеля истины, живущего интересами широких народных масс. Председатель, бывало, громко хохотал в кругу своих домашних над многочисленными статьями и очерками, в которых до небес превозносились его альтруизм и самоотречение. Лукавая Рада, его шестипалая пятилетняя внучка, недавно, воспользовавшись его отсутствием, пробралась в его кабинет и прилепила к стене старательно вырезанную из журнала глянцевую цветную фотографию: "Председатель на рыбалке". На ней молодцевато выглядевший Председатель бережно и одухотворенно держал на весу длинную красивую удочку, а рядом, в прозрачном, наполненном голубой водой глубоком пластмассовом ведре плескались здоровенные рыбины. Дедушка как-то рассказал внучке, что недолюбливает червей и потому терпеть не может удить рыбу, но Рада не знала о том, как деда, однажды пересилив себя, поплелся таки на рыбалку, дабы доставить удовольствие читательницам процветающего еженедельника "Форчун энд Фэмили".
А в эти полуночные минуты он сидел в высоком полумягком кресле за внушительным, ярко освещенным письменным столом, и некому было заглянуть ему в глаза - ладони надежно укрывали их от света.
Председатель неожиданно вспомнил как двенадцать лет назад для него устроили пышную охоту в далекой, забытой, но богатой носорогами замбийской саванне. Охоту на двуглавых носорогов. Тогда считалось модным охотиться на двуглавых носорогов, этих чудищ и мутантов, порожденных атомной войной. Это и сейчас модно и престижно. Охота на них разрешается только когда поголовье, вечно находящееся на грани истребления, чуть-чуть возрастает. И тогда цена на лицензию достигает ста тысяч кварков. Ему, конечно, охота не обошлась ни цента. За долгую свою жизнь Председателю так и не удалось заставить себя полюбить Хемингуэя, но первый памятник открытый им после вступления в высшую должность, был как-раз памятник Хемингуэю на Пласа Майор в Гаване, и, после завершения торжественной церемонии, статс-секретарь Регионального Правительства Кубы почему-то шепнул ему на ухо, что великий Эрнесто очень любил охотиться на носорогов. Может потому, что хотел показать свою образованность. Председателю вдруг страстно захотелось проверить себя в настоящем деле, - ведь столько воды утекло с той поры, когда он в последний раз смотрел опасности в глаза, - и он сразу загорелся идеей такой охоты. Спустя несколько дней он упомянул в присутственном месте о двуглавых носорогах и о своей любви к охоте, и вскоре начальник ГлавОхоты, с неожиданной легкостью пробив себе десятиминутную аудиенцию, робко пригласил его поохотиться в южноафриканской саванне. Он с большим удовольствием согласился, и недолгое путешествие в Замбию так пришлось ему по душе, что когда в министерстве социального обеспечения наконец открылась вакансия министериаль-директора, начальник ГлавОхоты получил назначение на этот пост, а это было не очень существенным но все же повышением.
Председатель сидит как сидел, спасая ладонями глаза от назойливого света настольной лампы, но кроваво-красные полоски все же проступают сквозь его тесно сомкнутые пальцы. Председателю чудится зависшее над желто-зеленой саванной живое, ослепительное солнце. О, тогда там было много людей. Белые и негры, правительственные чиновники и охранники из Службы Безопасности, загонщики носорогов и водоносы. И, кажется, пахло горелым. Председатель считал себя хорошим стрелком, но ему давно не приходилось стрелять из ружья большого калибра, и днем раньше он попросил инструктора немного с ним позаниматься. Они стреляли в большой щит, установленный на расстоянии полусотни метров от них, и к концу дня он так набил себе руку, что в яблочко попадали восемь из каждых десяти посланных им пуль. С такими шансами на двуглавого носорога можно было идти. Он не был трусом и не допускал и мысли, что ему от роду написано погибнуть под лапами диковинного африканского зверя. Рядом с ним, с винтовкой наперевес, будет стоять его верный личный охранник. Ему предписано стрелять если зверь все еще не будет повален на землю за двадцать метров до Председателя. Двадцать метров и не метром больше. Но Председатель был почти спокоен (хотя это "почти" и содержало в себе долю риска). Он затылком чуял, что начальник ГлавОхоты слишком дорожит своим местом для того, чтобы с Человеком Номер Один случилось что-то нехорошее. Председатель не верил в заговор, и, кроме того, утреннее донесение Директора Службы Безопасности зарядило его необходимой дозой оптимизма. Директор Службы Безопасности имел очень серьезные причины сохранять верность своему Председателю, который, однако, и сам догадывался, что на всей Земле не нашлось бы серьезной и легальной политической группы, заинтересованной в его насильственном устранении, ибо тогда шел лишь первый год его председательствования и он еще не успел никого по настоящему обидеть. С нелегалами же у Службы Безопасности всегда были особые счета. Да, в те времена он еще не слыл верховным вождем, все видели в нем осторожного бюрократа с героическим прошлым, сменившим другого такого же бюрократа законным путем. Никто не ждал от него принципиально новых идей и решительных перемен. Поставивший его у руля Федерации истэблишмент пока не имел особых причин для недовольства, а террористические и экстремистские группы были взяты под надежный контроль.
Их кавалькада тронулась в путь ранним утром. Почти два часа они ехали на джипах по выжженной саванне, но чем ближе становилась Замбези, тем сильнее меняла местность свой однообразный лик. Потом кавалькада остановилась почти на самом берегу какой-то сильно обмелевшей речушки, но все-таки здесь была влага и прохлада. Там было много негров и белых. И когда обезумевшее от частых уколов легких стрел животное, грозно пригнув к земле обвислые морды, наконец вырвалось на поляну и помчалось на Председателя, а охранник судорожно вскинул винтовку на плечо и прицелился, готовясь в нужное мгновение сбить чудовище с ног, выстрел остался за Председателем. Он долго выжидал, и притихли все - белые и негры, чиновники и водоносы, - но когда серо-голубоватая носорожья туша слишком ощутимо приблизилась к нему, то решительно нажал на курок. Убойная сила пули была настолько велика, выстрел же настолько точен, что мчавшееся во весь опор животное сразу притормозило, по инерции пробежало еще с десяток метров, пошатнулось, и, осев набок, рухнуло оземь. Раздался мощный выдох общего облегчения и, через считанные секунды, над саванной взорвались громовые раскаты аплодисментов. Аплодировали все - и белые, и негры. Ладони - жирные и тощие, иссохшие и пухлые, розоватые и коричневые, желтые и черные - бились в остервенении друг о дружку, а он, гордый и счастливый, прошествовал к истекавшей кровью груде мяса, держа свой тяжелый оптический карабин высоко над головой. Первыми, опередив охранника, с поздравлениями к нему подбежали начальник ГлавОхоты и статс-секретарь Регионального Правительства Замбии, а Председатель заворожено любовался дымящейся рваной раной в боку животного и рассеянно пожимал им руки, - вот что значит большой калибр! Правда, он целился зверю в межглавие, а не в бок, но носорог, видимо попытался увернуться в последнее мгновение.
Потом кавалькада джипов вернулась в Лусаку. На грандиозном, устроенном в его честь банкете Председателю подали витиеватое угощение, приготовленное из мяса убитого им носорога. Председатель отведал блюдо, но оно ему не понравилось. Стало даже немного противно, но не хотелось обижать этих гостеприимных людей. Тропическое солнце немилосердно грело с раннего утра, в банкетном зале несмотря на "кондишэн" было душновато, но все-таки он выпил пару рюмок ледяной водки, чистое безумие в такую жару, и настроился на сентиментальный лад. И тогда к нему, настроенному на ТАКОЙ лад, подсел статс-секретарь Регионального Правительства Замбии и смиренно попросил его выслушать. Председатель благосклонно согласился и статс-секретарь не мешкая изложил свое дело. Засуха, нервно говорил статс-секретарь, так часто глотая слюну, что Председателю неприятно стало на него смотреть, засуха отняла у замбийского крестьянина плоды его труда. Вот уже второй год подряд стихия испытывает экономику страны, приходится под высокие проценты закупать зерно и горючее для сельхозмашин в Европе и Америке, потому что для немедленной оплаты нет валюты. Замбия не единожды ставила вопрос о безвозмездном займе в Международном Кредитном Банке, статс-секретарь лично просил Председателя Правления МКБ проявить понимание и ответственность, но, как видно, социалистические принципы всяк понимает по своему, иначе им не пришлось бы ходить по миру с пустой сумой. Отказывать им в помощи сейчас, когда ежедневно от голодной смерти умирает двадцать-тридцать человек, и им не удается сократить эту цифру хотя бы вдвое! Засуха охватила не только Замбию. Зимбабве тоже страдает от нее, но склады в Булавайо переполнены продовольствием, а вот для Замбии никто и пальцем не пошевельнул, бесплатно отказываются давать даже старые консервы. Потому-то статс-секретарь и осмелился сегодня заговорить с ним о делах, ему больше не к кому обратиться, а голод растет... Председатель слушал и мрачнел, ему не доложили вовремя о бедственности положения на Юге Африки, потом подумалось, что охоту здесь ему устроили неспроста. Обещал статс-секретарю вмешаться и тот, обнажив красные десна в благодарной улыбке, отошел. Лет пять спустя, когда начальник ГлавОхоты уже стал министериаль-директором, до Председателя дошли слухи, будто жена начальника ГлавОхоты получила в подарок от замбийского статс-секретаря алмазные украшения и именно по этой, а не какой-либо иной причине, носорог был убит на территории Замбии, а не соседних Зимбабве или Ботсваны, но тогда Председатель решил не придавать этим слухам значения.
Видение желтого палящего солнца, зависшего над полуобмелевшей рекой внезапно исчезло, и мысль его, преодолевая время, струйкой потекла куда-то в невозвратную даль прошлого. В те ревущие сороковые, когда к недавно принятой Великой Хартии мало кто относился всерьез, преданных людей катастрофически не хватало, и потому его, нищего и безвестного ратника-экзекутора, заметили и назначили сотником особой мотобригады политотдела Восточноевропейской Зоны Безопасности. О, в ту пору о нем много писали в специальных бюллетенях, в них он представал одним из самых молодых и удалых офицеров Зоны. В те времена с голодом и разрухой не было покончено даже на Европейском континенте, а конвульсии, которыми сопровождался каждый мало-мальско стоящий шаг на тернистом пути к всемирному государству, отнюдь не способствовали быстрому подъему экономики и развитию производства. Достаток привился в домах европейцев гораздо позже, уже после того, как век перевалил за свой экватор, ну а в сороковые годы во многих сельскохозяйственных регионах послевоенного Старого Света разгорелась жестокая классовая борьба, так похожая на ту, что бурей пронеслась над Советской Россией в двадцатых-тридцатых годах прошлого столетия - в общих чертах с историей тех лет личный состав мотобригад знакомился на обязательных спецсеминарах. Ему и тогда очень, до недосыпу, хотелось побыстрее выдвинуться, выбиться в люди. Он как мог и умел закалял волю и логику, презирал малодушных чистоплюев мечтавших загребать жар чужыми руками, таившаяся в нем энергия так и норовила хлестнуть через край, но не было никого, кто замолвил бы за него словечко. Он был один, совсем один. Поэтому - не страшась возможной начальственной выволочки за неуместное проявление инициативы, - всегда сам просил послать его туда, где ожидалось жестокое сопротивление и было труднее всего. А их рейды меньше всего походили на увеселительные прогулки. В ту яростную пору, когда он, неопытный командир среднего звена, сотник механизированного продотряда, под неусыпным политотделовским оком изымал излишки продовольствия у румынского или польского кулака, а им вслед неслись ругань, проклятия и пули, он еще не умел изъясняться высоким политическим слогом. Это пришло позднее, с учебой и должностным положением. И это полумягкое кресло в доме, где его слово - закон, тоже пришло позднее, значительно позднее.
О боже, как он умел ненавидеть полвека назад! И как горело, клокотало все у него в груди от возмущения, когда одни голодали и умирали, а другие наживали добро, спекулируя продуктами и водой. Позже, уже потом, когда извилистый ход исторического развития, впитавший в себя кривую множества человеческих жизней, привел его в пестрое сообщество холеных властных джентльменов и смуглолицых азиатских мудрецов, а затем и возвысил их над ними; когда его быстрый и гибкий, самим богом предназначенный для сложной политической борьбы ум, цепкая память разложившая по полочкам разнообразные знания, без которых он был бы бессилен исполнять свои нынешние обязанности и отличать важнейшее от второстепенного, превратились в общественное достояние, - ненависть и возмущение стали посещать его все реже и реже; вся его жизнь превратилась в сплошную осознанную необходимость, все что он ни делал, все шаги, которые предпринимал, были Такими, а не какими-то Другими, потому что иначе было нельзя, была бы совершена ошибка за которую пришлось бы платить слишком дорогой ценой. Но от сознания того что он и только он определял Какими именно эти шаги должны быть, его охватывало чувство законной гордости. Всем было известно, что Председателя можно убедить, даже переспорить, но принудить к чему-либо его нельзя. И с этой особенностью его характера постепенно пришлось примириться и льстецам, и гордецам. С течением лет проблемы, которые жизнь ставила перед ним, выглядели все масштабнее и масштабнее, тысячи плавно перетекали в сотни тысяч, сотни тысяч в миллионы, миллионы в миллиарды, и за принимаемыми решениями все труднее было разглядеть ломку судеб маленьких-маленьких людей так похожих друг на друга. С годами круг лиц, пользовавшихся правом непосредственного доступа к нему, значительно сократился. Без предварительного согласования к нему в кабинет не смели входить ни его заместители, ни члены Федерального Правительства (или, что то же самое, Объединенного Совета; Председатель обычно приветствовал небольшую путаницу в названиях, узревая в подобного рода семантических неоднозначностях некий высший смысл), традиционное исключение составляли лишь Старший Личный Секретарь, Спикер Парламента и министр финансов, с которым он был связан давней личной дружбой. Изредка такое право предоставлялось и Директору Службы Безопасности. Кроме того, Председатель достаточно регулярно созывал узкие деловые совещания Совета Высших Наблюдателей, в которых участвовали наиболее влиятельные на тот момент полицейские военачальники планеты, и довольно часто, хотя и исключительно по предварительной записи, принимал у себя в резиденции влиятельных депутатов Мирового Парламента, как-никак это учреждение все еще обладало формальным правом на его переизбрание. Великая Хартия закрепила перевес исполнительной власти над законодательной, оставив последней, однако, кое-какие прерогативы. Отказ от прямых выборов депутатов Парламента и от сопутствующей таким выборам вакханалии, способствовал укреплению стабильности глобального политического новообразования, равного которому никогда не было в истории человечества, и которое призвано было обеспечить исстрадавшемуся роду людскому мир и покой. Депутаты избирались строго ограниченными в численном отношении кланами Выборщиков, то есть людей проявивших себя ответственными членами общества в труде и личной жизни. Полномочия вновь избранных депутатов в обязательном порядке подтверждались (или не подтверждались) региональным статс-секретарем. Звание Выборщика присваивалось пожизненно. Выборщик лишался права участвовать в заседаниях клана только в случае совершения очень серьезных и постыдных проступков. Процедура выборов в Мировой Парламент повторялась каждые восемь лет. Имелось в ввиду обеспечить полноту политических прав граждан в далеком цветущем будущем, ну а пока, в эпоху грандиозной перестройки, человеческому обществу предлагалось удовлетвориться куцым полувыборным Парламентом, сохранившим, однако, некоторое право на реальную законодательную инициативу. Отражением относительной самостоятельности законодательной власти было наличие в разных регионах органов печати неподцензурных редакторам Отдела пропаганды Совета, вынужденных контролировать пишущую братию относительно мягкими методами, отвечающими зафиксированным в Великой Хартии положениям. Что же до взаимодействия между Советом и Парламентом, или, что почти то же самое, между Председателем и Спикером Парламента, то залогом их успешного сотрудничества служил сам принцип редкой сменяемости выборщиков. Председателю были вручены знаки отличия - перстень, печать и трезубец - на сессии Мирового Парламента двенадцать лет назад. С тех пор ни разу депутаты не поднимали вопроса об его отставке, даже не заикались, ибо ни одна парламентская комбинация не осмеливалась выдвинуть заведомо обреченное на позорный провал и чреватое тяжелейшими последствиями требование. С тех самых пор свободная пресса всех континентов поет хвалебную осанну его многотрудной деятельности и рукоплещет его нечастым публичным выступлениям, ограничиваясь праведными молниями в адрес отдельных нерадивых министров, которых - в случае настоятельной необходимости - он всегда готов уволить. Ему приходиться встречаться со многими людьми, но по-настоящему он общается только с очень близкими родственниками и особо доверенными сотрудниками. Этих людей он выучил назубок, видит их насквозь, до такой степени насквозь, что иной раз ощущает себя брошенным, никому не нужным и одиноким стариком.
Ну а нынче он тяжело задумался, спрашивая себя, чему же, в сущности, послужила вся его жизнь.
Лозунги тех лет, когда он во главе механизированного продотряда громил кулаков, а практическая реализация принципов Великой Хартии наталкивалась на яростное сопротивление классового врага, проповедовали аскетизм и презрение к роскоши. Сам Председатель был родом из большой рабочей семьи и презирать роскошь ему было совсем нетрудно. Легко быть аскетом и ненавидеть богатых, если в Зоне карточная система, а горячий обед и сдобная булочка на ужин тебе положены только потому, что ты ежедневно рискуешь своей ничтожной жизнью, а мать выбивается из сил, чтобы младшим в семье доставалось каждым утром по стаканчику молока. Хорошо еще, что вообще пережили эту мясорубку. Первую атомную атаку Председатель помнит, как будто она состоялась вчера, а ведь ему тогда только-только исполнилось пять. Ему было тогда ровно столько, сколько сейчас Раде, и, кто знает, не потому ли у бедняжки лишние пальчики на ручках? Правда, она поздний ребенок, но не от этого же... Что-то грозное и всесильное подхватывает тебя как пушинку, возносит прямиком на дерево и ты чудом бессильно застреваешь в густых его ветвях, непонятно только как это дерево выстояло, пасмурное небо и такие стоны кругом, будто режут тебя самого, груды щебня и битого кирпича заваливают все входы и выходы полуразрушенных зданий, а люди на улице шатаются как слепые. В младшую сестренку, совсем малышку, угодила какая-то железяка и она истекла кровью - и никто ничем ей помочь не смог. Вот тогда-то и поклялись страшной клятвой его чудом уцелевшие родители народить еще детишек, и он, подранок, запомнил эту клятву навсегда. Наверное папа с мамой не надеялись на то, что старший сын сумеет выжить - ведь он прошел через Это, и с тех самых пор призрак лейкемии маячит над ним всю его долгую жизнь.
Война как-то неправдоподобно быстро закончилась и наступил не очень долгожданный мир. Но что это был за мир? Чуть ли не хуже самой войны. Бомбы уже не перепахивали города и села, но люди продолжали умирать. И вовсе не только от ожогов и радиации. Что-то скверное случилось с погодой, зимой ударили морозы и не отступили до самого лета. Первый послевоенный год оказался и самым страшным. Хилый, больной урожай не мог прокормить всех выживших, - как ни старались, а слабым и инвалидам еды никогда не доставало, многие тогда перемерли от голода и холода. Часто к смертельному исходу приводила самая пустяковая болезнь, бациллы проникали в тело человека сквозь смехотворную царапину и человек сгнивал заживо, вода и воздух были отравлены, врачей и просто фельдшеров катастрофически не хватало, жилища были разрушены. Старики, женщины и дети были совершенно беспомощны перед бандами озверевших насильников. Но их семья выжила наперекор всему, а мама - мама-молодец! - народила еще детишек, а он был самым старшим, и без него малюткам пришлось бы скверно. Но несмотря на вечную прохладу и вечный голод, времена года как и раньше принялись сменять друг друга, и люди понемногу начали расправлять спину. Кое-где открывались больницы, кое-где школы, кое-где задымили фабричные трубы, постоянно освобождаемые от завалов улицы по утрам стали заполняться людьми в опрятной одинаковой одежде, установился какой-то порядок. Ему посчастливилось попасть по семейной разнарядке в наспех поставленную школу-хижину, где его обучили грамоте и арифметике, и еще тому, что Земля круглая. А когда он подрос и поумнел, то, оглядевшись, понял, что пора найти себе достоиное место в жизни. А она, жизнь, не стояла на месте. И когда Всемирной Федерации потребовался хлеб для рабочих, а вопрос был поставлен так - пан или пропал; либо Хартия и ее принципы, либо нескончаемая война всех против всех и вечный разор на окровавленной планете, - то он, недолго думая, записался в моторизованный продотряд простым ратником-экзекутором. Правительство форсировало восстановление индустриальной базы цивилизации. В те времена с массовой послевоенной разрухой на планете соседствовали малые островки зажиточности и относительного благосостояния, ибо в некоторых слабо затронутых войной экономических регионах до натурального обмена дело все-таки не дошло. Этим регионам руководители Федерации отвели роль зародышей грядущего процветания - здесь капитал оставался капиталом и господствовал закон извлечения наибольшей возможной прибыли. Но большая часть этой прибыли затем перекачивалась в наиболее пострадавшие районы планеты и направлялась на возрождение тяжелой индустрии - таким образом капитал ставился на службу будущему социалистическому производству. Медленно но верно налаживалась мирная жизнь, заметно полегчало. Строилось все больше и больше школ, обучение в них постепенно становилось дешевле и фундаментальнее, существенно снизилась смертность. Стали выходить и продаваться в киосках ежедневные газеты, народные массы постепенно узнавали и о Великой Хартии, и о том, что власть опирается не только на традиционную винтовку, но и на облагороженную высшим законом реальную силу. Знамением эпохи стало то, что там, наверху, наконец отказались от извечного раскола мира. Договоренность между молодыми национальными элитами была достигнута на базе полного отказа от слияния частных капиталов и возрождения крупной буржуазии, и это было еще одним доказательством того, что капитализм, как общественный строй, изживает себя. Но поскольку частные предприниматели как таковые существовали в природе и, волей-неволей, помогали отстраивать разрушенное хозяйство, то кое-кому из них удавалось по-настоящему разбогатеть. Укреплением мелкой и средней буржуазии - так начинался довольно кратковременный период централизованного государственного капитализма, период переходный к так называемому "мягкому" социализму, укладу, завоевавшему командные высоты в экономике задолго до прихода Председателя к кормилу высшей власти. И в начале переходного периода его преподобие капитал - или "деньги", как его предпочитало именовать простонародье - концентрировался у самых разных социальных типов: у совладельцев частно-государственных смешанных фирм, у преуспевших хозяйчиков небольших лавок и магазинов, у пайщиков и акционеров возрождавшихся банковской, кредитной и торговой отраслей, у владельцев небольших предприятии легкой промышленности, не подпавших под легкую руку национализации, у административной верхушки, у занятых в возникшей заново и распухавшей как на дрожжах системе сервиса. В общем, у тех кому удалось легче других отделаться в этой войне, особенно в странах, избежавших прямых атомных ударов. И, конечно, у заплывшей жиром человеческой накипи - у спекулянтов и бандитов, у взяточников и сельских мироедов, у содержателей публичных домов и контрабандистов. Но капитал этот был зыбким, ненадежным, плохо воспроизводил себя, недаром закон извлечения наибольшей возможной прибыли действовал в отравленной миазмами радиоактивного распада атмосфере. Слишком жива была память о том, к какому исходу привел человечество мир, в котором священный принцип свободного предпринимательства властвовал над всеми остальными принципами. Великая Хартия исключила возможность перерождения государственного капитализма в монополистический, переходный период подходил к логическому финалу, средняя буржуазия хирела на глаяах, жалко барахтаясь в обмелевшем потоке государственных субсидий, мелкая буржуазия разорялась, не выдерживая возросшего напора налогового пресса, политическая система поставила правые партии в неравноправное положение. У коммунистических и социалистических доктринеров оказались развязанными руки. На основе признания так называемого "консенсуса национального спасения" во всех странах мира один за другим формировались технократические министерские кабинеты, впоследствии объединившиеся под эгидой Единого Федерального Правительства Всемирной Федерации Государств. Уж если наученные горьким опытом великие державы, а ведь даже война не смогла лишить их лидирующего положения в мире, нашли пути к объединению, то что оставалось делать малым государствам как не следовать за ними, хотя некоторые из "малышей", будь на то их воля, может статься и не спешили бы с осуществлением радикальных социальных перемен. Но в создавшейся исторической ситуации у них не оставалось иного выбора. Великая Хартия покончила с расколом общества и породила предпосылки для мощного научно-технического рывка человечества и утверждения прочного мира по всей территории планеты. Все же в мировом масштабе процесс стирания классовых различий и национальных барьеров не мог проистекать, да и не проистекал безболезненно и ровно. В той же Замбии, где Председатель в 2080 году пристрелил двуглавого носорога, в тридцатых, сороковых, даже пятидесятых годах отправили к праотцам не одного правительственного эмиссара. Их убивали открыто и из-за угла, убивали пулями, вилами, даже граблями, чем придется, но более сильная историческая тенденция, в конечном счете, взяла верх.
Председатель никогда не страдал внезапными приступами укоров совести. Не то чтобы ему вовсе неведомо было это чувство, но, во-первых, он всегда считал, что живет правильно, а во-вторых, он вырос в политика слишком высокого ранга, а политик высокого ранга не имеет права безнаказанно теребить свою совесть, ибо от этого неминуемо упадет производительность его труда, и он не только никогда не поднимется на вершину власти, но рано или поздно оступится с уже достигнутой ее ступени. Он не теребил совесть, или, вернее сказать, она его не теребила, потому что любое его деяние, все равно - доброе или злое, находило свое оправдание. То, что он все же был человеком совестливым выражалось в том, что он считал необходимым искать своим поступкам оправдания и всякого рода смягчающие обстоятельства, а то, что он вполне ладил со своей совестью - в том, что он всегда находил их. Но он был умным, не шибко образованным, но очень умным человеком ("ума палата" - как некогда с оттенком зависти говаривал о нем его самый первый командир), и, несмотря на нынешнюю его страшную удаленность от народа, то есть от суммы индивидуальностей, общие законы существования которой были ему, казалось, известны, иной раз он до боли ясно измерял глубину пропасти отделявшей его нынешнего от его-же прежнего, от того удальца, что во главе механизированного продотряда стремился туда где труднее всего и где легко может подкараулить пуля. Пуля даже не бандитская, а пущенная из обреза Хозяином; пылающим праведным гневом Хозяином, грудью защищающим СВОЕ добро, от которого его принудили отказаться только потому, что дети в городах пухнут с голода. И еще потому, что рабочие, сильные и здоровые рабочие, должны выстоять смену у домен, станков и конвейеров выпускающих листовую сталь, тракторы, роботы, компьютеры, ткани - все чего не хватало и что остро было необходимо людям. Тогда он мог... Говорят, с годами люди не меняются, сердцевина их остается прежней, но на эту вроде бы неизменную сердцевину напялено столько всякого, что в реальной жизни все время имеешь дело с меняющимся человеком. К этой, несколько еретичной для бывшего сотника мотобригады, мысли Председатель пришел сам, без чей либо подсказки. Себя он исключением из правила не считал, но все же надеялся, что выигрывает свою битву за жизнь. Но вот, из-под земли нежданно-негаданно нагрянули разумные пауки и он усомнился в своей победе.
Председатель, сколько он себя помнит, никогда не был свободен в принятии решений. С малых лет он помогал родителям по хозяйству постигая грамоту и счет на полуголодный желудок, а когда подрос и записался в продотряд, то о самостоятельности нельзя было и мечтать. Инициативность поощрялась только в боевой обстановке. Суровая дисциплина, чувство долга, храбрость - на этих китах и держались особые мотобригады. А после того, как его заметили и назначили сотником, бремя ответственности все сильнее стало давить на его широкие плечи. Ему самому не раз приходилось удивлятся скорости своего стремительного восхождения, многое он приписывал везению, удаче. На самом же деле его возвышению в немалой степени способствовала присущая ему обостренная классовая интуиция. Еще будучи сотником он, не мудрствуя лукаво, убедил себя в том, что главное преимущество социализма над капитализмом в словах можно выразить чрезвычайно просто - социализм, в отличие от капитализма, гарантирует гражданам "немножко справедливости на всех" и как строй практически никого кроме амбициозных эгоистов не обижает. Никогда после не дозволял он убедить себя в обратном и, несмотря на ожесточенное сопротивление идеологических и политических противников, делал все от него зависящее, чтобы "немножко справедливости" по возможности действительно перепадало всем без исключения. Значительно позже, когда его впервые ввели в состав Федерального Правительства, процесс объединения человечества на социалистических началах принял почти необратимый характер. Уже на обширных просторах Европы, Северной Америки и Австралии была отодвинута угроза голодного мора. В таких отсталых геополитических регионах как Африка, Азия и Латинская Америка восстановление жизнеспособной экономики наталкивалось на значительные трудности, но, в общем, постепенное перераспределение ресурсов и товарной продукции из передовых регионов в отстающие, открывало неплохие перспективы и для этих континентов. В странах-участницах Федерации вводились общественные фонды потребления, становились доступными и всеобщими лечение и учеба, повышалось качество жизни. Правительство, тряхнув тугой мошной, изыскало достаточно средств для ускорения научно-технического прогресса, оказалось что новые технологические разработки можно стимулировать и без оружейного бизнеса. Ошеломляющие достижения научной мысли вызревали и плодоносили как на Земле, так и в Космосе, и Председатель иногда с удовольствием думал о том, что без него тут не обошлось, ибо он как мог способствовал скорейшему внедрению новшеств в народное хозяйство, лично заботился о том, чтобы работники интеллектуального труда получали достойное вознаграждение, и им, этим беловоротничковым работничкам, не очень-то приходилось ломать голову над моральными последствиями своей служебной деятельности. Разумеется, экономика не стала, да и не могла пока стать совершенно мирной, для планомерного оснащения полицейских войск, сравнимых по численности с крупнейшими армиями довоенного времени, кроме довольствия требовалось немало самых разнообразных вооружений. Но производство оружия на планете было поставлено под жесткий государственный контроль, из политической лексики исчезло понятие ГОНКИ ВООРУЖЕНИЙ, ненужными стали громоздкие и экологически "грязные" виды оружия - баллистические ракеты с ядерными зарядами, водородные авиабомбы, бактокапсюлы и бинарные химические снаряды - все что ранее составляло основную ударную мощь мировых армад. И несмотря на то, что с конвейеров продолжали сходить крылатые ракеты средней дальности, атомные подлодки-ракетоносцы, космолазеры и многое-многое другое, основная доля федерального бюджета все же расходовалась на мирные, позитивные цели. К сожалению, нелегальная торговля оружием все еще велась с широким размахом - не говоря уже о том, что преступный интернационал нуждался в постоянном пополнении своих арсеналов, в различных районах земного шара, зачастую рука об руку с мировым криминалитетом, продолжали действовать подпольные антиправительственные группировки, которых далеко не просто бывало своевременно обнаруживать и подавлять. Идеологических противников Великой Хартии, при всей их многоликости, можно было отнести к одной из двух больших групп: представителям первой не нравилось, что частнопредпринимательская деятельность как таковая не искоренена раз и навсегда - "слишком много капитализма" твердили они в своих листовках; "слишком много социализма, слишком мало свобод" - возражали им представители второй, отвергавшие любую регламентацию частной жизни вообще. Иные несогласные могли рядится в какие угодно одежды и кричать что угодно - от "Спасение во Христе" до "Долой ниггеров" - все равно при ближайшем рассмотрении они оказывались либо "правыми", либо "левыми". Единственное что объединяло "левых" и "правых" врагов правительства, - это нежелание принять непреложную истину второй половины двадцать первого века: "РЕАЛЬНЫЙ СОЦИАЛИЗМ ЭТО НЕМНОЖКО СПРАВЕДЛИВОСТИ НА ВСЕХ". И они боролись как могли, эти партизаны прошлого. Прятались в джунглях и пещерах, взрывали бомбы в городах, отравляли водоемы, похищали людей. Федеральное Правительство, конечно же, принимало меры противодействия. Космос, небо, суша, моря и океаны - все было объявлено ареной гласной и негласной борьбы против экстремизма и терроризма. Мир был разделен на Зоны Безопасности, что само по себе предусматривало еще один наднациональный уровень контроля. На страже Великой Хартии стояли тюрьмы и брандспойты, искусственные спутники и атомные подлодки, самолеты и переоборудованные под плавучие полицейские базы старые авианосцы, печать и общественное мнение. И все же апостолам высшего закона планеты забот хватало. Председатель редко вмешивался в дела связанные с непосредственной технической деятельностью Службы Безопасности, в поле его зрения могло попасть лишь масштабное, вопиющее нарушение принципов Великой Хартии в сфере уголовно-политического сыска, в остальном же он всецело полагался на Директора. Конечно, Председателю было известно, что кое-где нет-нет да и применяются пытки, правду из заключенных и задержанных выбивают по крупицам, иногда даже принуждая к даче ложных показаний, вымогают у подследственных солидный бакшиш и, соответственно его величине, варьируют сроки наказания, но, в общем, не находил нужным лично вмешиваться в компетенцию региональных подразделений Прокуратуры и Суда. Если бы он принялся разбирать все скандальные происшествия, то не смог бы заниматься ничем иным, но, к великому его счастью, все жалобы на злоупотребления представителей власти на местах глохли еще до того, как достигали уровня федерального министериаль-директора. Благодаря этому обстоятельству Председатель, с полным на то моральным основанием, позволял себе сосредотачиваться на куда более неотложных проблемах развития человечества. Видимых успехов было совсем немало. К середине столетия удалось добиться резкого удешевления установок по управляемому термоядерному синтезу, в шестидесятые годы наладить производство высокотемпературных проводников, в семидесятые вплотную заняться освоением Луны, в восьмидесятые - Марса. Все эти, и многие другие, научно-технические прорывы Председатель и Правительство со спокойной совестью записывали себе в актив. Так что до сих пор он мог без особого труда убеждать себя в том, что не зря прожил жизнь и принес своей работой немалую пользу обществу. Правда он не совсем так представлял себе служение обществу, когда пареньком заявился в продотряд. Запечатленные в боевых лозунгах идеалы так и остались идеалами, жиэнь же предпочитала развиваться по своим законам. За прошедшие десятилетия многое изменилось, и изменилось необратимо. И вот сейчас он сидит за столом прикрыв глаза руками. Как-никак он не только внес свой посильный вклад в усмирение деревенских мироедов или в освоение космического пространства, но кроме того узаконил огромные взятки. Не то чтобы он от души потворствовал взяточничеству и взяточникам, но он искал и не смог найти никакого иного выхода. Он не мог не узаконить взятки, если хотел остаться честным человеком. Иной путь был бы слишком революционным, чреватым такими потрясениями, которые могли бы до основания подорвать с таким трудом возводимое здание народного благополучия. Взяточничество Председатель принужден был считать неизбежным злом, проистекавшим как из самой сути человеческой, так и из несовершенства механизма хозяйственных отношений. Когда-то он, как и его предшественники, пытался навести порядок чисто административными средствами, но, в отличие от них, очень скоро понял, что за каждым новым запретом неминуемо должен вводится еще один новый запрет, от обилия запретов и регламентаций действительная жизнь не станет ни легче ни проще, и ругать будут за это на всех перекрестках именно его, а не кого нибудь другого. В конце концов, полагал Председатель, порядок - вовсе не самоцель. И он пошел по другому пути, решился таки узаконить взятки, хотя и пережил немалые сомнения в правильности такого шага. Но когда трезвый анализ помог их преодолеть - совесть успокоилась. Но вот почему-то появление подземных тварей, этих смердящих пауков замахнувшихся на святая святых, вновь разбудило тревожные сомнения.
Собственно, слово "узаконил" по отношению к правотворческой деятельности Председателя было не вполне применимо. Скорее он "смотрел сквозь пальцы". Закон преследовал взяточников, строго карал за мздоимство. Ежегодная судебная статистика всех Зон Безопасности наглядно свидетельствовала - суды не дремлют, масса мелких и крупных взяточников попадает за решетку, следователи получают высокие зарплаты не за красивые глаза. Но ведь грань между подарком и взяткой так нелегко провести. И если на низших уровнях общественно полезной хозяйственной жизни директора и бухгалтеры государственных учреждений, члены правления мелких фирм, боссы кооперативной торговли не чурались брать прямо в лапу, то "наверху" расплачиваться деньгами за оказанную услугу обычно считалось дурным тоном. Там предпочитали рассчитываться, что называется, борзыми щенками. И борзые эти, взбираясь вверх по крутым серпантинам власти, раздувались до размера дойных коров. Дарили министрам и их женам, министериаль-директорам и статс-секретарям, членам Совета и депутатам Парламента, личным секретарям влиятельных особ и всемирно известным журналистам. Взятки исполняли роль смазки, без которой колесики сложного механизма перестают вращаться. Это именно они, взятки, напяливая на себя благородную маску дорогих подарков, заставляли людей работать - подписывать, планировать, производить. Дарили бриллианты и картины из Уффици и Эрмитажа, земельные участки и прогулочные яхты, свадебные геликоптеры и антикварные спальные гарнитуры, суперстереотехнику и спортивные плазмомобили. И пусть не все влиятельные люди стали взяточниками, пусть фракция "чистюль" сохранила за собой кое-какие ключевые посты, но не она делала погоду - да и что могли противопоставить они, бедняжки, извечным "грязнулям" в бушующем океане несменяемых человеческих вожделений! Безжалостный естественный отбор постепенно вытеснял их сторонников из управленческого аппарата, менял душу самим "чистюлям". Ведь они редко принимали единоличные решения. Они - эти решения - почти всегда рождались в недрах ответственных совещаний и согласований, опирались на докладные записки или на устно выраженные мнения облеченных известным доверием лиц, да иначе и быть не могло - и мир велик, и жизнь сложна, и ночь темна. Кроме того, согласно принципам Великой Хартии, руководители, проявляя коллегиальность, обязаны были и друг с другом считаться, и к высказываниям компетентных советников прислушиваться. И если кто-то, случалось, закатывал взяткодателю скандал, почти в любом случае можно было подыскать более покладистого партнера, который за соответствующую мзду изложил бы высокому начальству дело таким образом, что тому осталось бы только выразить свое восхищение и благословить задуманную негоцию. На многое приходилось закрывать глаза даже честным министрам, министериаль-директорам и статс-секретарям, ведь прежде всего они отвечали за выполнение "цифирных" показателей по своим ведомствам, за это с них спрашивали по всей строгости и их непоколебимое "нет" негоциям могло бы отразиться на выполнении плановых заданий. Но вездесущая Служба Безопасности доносила Председателю - мзда идет "наверх", все выше и выше, просто не может не идти туда. Иначе все вышестоящие руководители выглядели бы в глазах нижестоящих круглыми болванами, позволяя им, как же, безнаказанно ворочать миллионами и приобретать неписаную власть над государственным аппаратом, в то время как они, большие начальники, только гремели бы бессильными словами. Нет, полотна из запасников Дрезденской галереи и сапфировые колье из Лувра предназначались именно для самых-самых, жиревших при полнейшем попустительстве довольно свободной, а значит и довольно свободно покупаемой прессы. Случалось, конечно, и такое, что какой-то большой начальник попадался с поличным, и тогда масс-медиа разносила сенсацию по белу свету, но тщательно регулируемый всплеск эмоций вскоре таял без следа и все продолжалось как обычно. Служба Безопасности, выполняя свой долг перед Федерацией, доносила Председателю конкретные факты и имена. Это были имена людей слишком хорошо известных и слишком заслуженных, чтобы их всех можно было бы средь бела дня с треском прогнать и поголовно отдать под суд. Такая чистка среди администраторов и хозяйственников мирового масштаба сильно подмочила бы авторитет Объединенного Совета и всей системы власти в глазах широчайших масс населения Земли, вызвала бы непредсказуемое по итогам обострение загнанных внутрь общественного организма недугов. Поэтому в течении нескольких лет Председатель всячески заигрывал с лавочниками, втираясь к ним в доверие и укрепляя собственные позиции (все же его, как выходца из продотряда, основательно побаивались как бы на генетическом уровне), и только на исходе пятого года властвования, он, ощутив наконец твердую почву под ногами, принялся за осуществление своего дьявольского плана. Лишь двоих посвятил он в этот план до конца, ибо никак не мог действовать в одиночку. Эти двое были особо доверенными его сотрудниками: не будь он убежден в их кристальной честности, они никогда бы не заняли своих должностей - министра финансов и Директора Службы Безопасности, - и их честность он ценил почти столь же высоко, как их преданность. Около месяца потребовалось тройке высших сановников Федерации для того, чтобы в полной тайне обсудить все детали предстоящей затеи. А затем Председатель подал знак к наступлению. Один за другим полетели с постов наиболее одиозные министры - кое-кого сплавили на заслуженный отдых, кое-кому прозрачно намекнули на желательность добровольной отставки, против особо упрямых была организована кампания в прессе, для устрашения строптивцев был разыгран даже громкий судебный процесс над федеральным министром общественных работ Хуаном Педроцом - простым людям приятно было бы лишний раз убедиться, что проворовавшимся членам кабинета нечего рассчитывать на снисхождение. Бедняге Педроцу немилосердная судьба уготовила незавидную роль козла отпущения. Злополучный министр погорел на пустяке: фонд Махатмы присудил ему высшую премию за культурно-просветительскую деятельность в 2084 году - жалкие двести тысяч кварков. Председательские ищейки быстро докопались до сути - устав фонда запрещал денежные выплаты лицам находящимся на государственной службе, но от подписи министра Педроца зависело благосклонное отношение региональных отделений министерства к целям и задачам фонда. Премиальные, естественно, не облагались налогом. Аналогичные нарушения буквы устава неоднократно допускались в прошлом, ежегодно фонд присуждал от четырех до семи премий, и появление в списке награжденных одного-двух государственных мужей не особенно кололо глаза, но в данном случае дельце не выгорело. Министр Педроц был обвинен в вымогательстве, в злоупотреблении служебным положением, в протекционизме - а дальше пошло-поехало: взяточничество, сожительство с несовершеннолетней секретаршей, несоответствие рангу - все раскрутили до последней ниточки, все подогнали под неумолимую букву закона. "Подумать только, господа присяжные заседатели, - воздевал руки к небу государственный обвинитель. - Подумать только, бывший министр Педроц занимал апартаменты в которых свободно могли разместиться не один, а тысяча Педроцов. Тысяча квадратных метров на одного Педроца, тогда как рядовые сотрудники министерства общественных работ ютятся в квартирках-клетушках!". Печать и телевидение позабавились на славу - еще до оглашения приговора в массовом иллюстрированном журнале "Масс Дайджест" появилась язвительная статья "Тысяча Педроцов", и после этого участь непонятливого министра была решена - десять лет тюремного заключения. Но выгнать неугодных министров - полдела, триада истинных хозяев положения затратила немало усилий для того, чтобы заполнить открывшиеся вакансий подходящими людьми. И лишь после того как сессия Парламента утвердила состав нового кабинета, Председатель решился приступить к завершающей фазе операции. Впереди было самое трудное, самое главное - то, ради чего он и заварил всю эту кашу. Суть председательского плана состояла вот в чем: коль скоро искоренить взяточничество было не в его силах - от ударных военно-полицейских акций несомненно пострадала бы глобальная экономика, более того, рисковало пошатнуться с таким трудом возведенное здание Мировой Федерации, - оставалось по мнению Председателя только одно: обязать высших руководителей всех без исключения ведомств смело собирать подарочную дань с подчиненных и иных заинтересованных лиц с последующей ее добровольной передачей в пользу государства. За это им, высшим руководителям, полагалось дополнительное к их основным доходам, абсолютно конфиденциальное и, в то же время, весьма скромное вознаграждение. Определение истинной ценности даров, получаемых высшими должностными лицами планеты, возлагалось на сверхсекретнейшую экспертную комиссию. Членам комиссии - известным в своем кругу квалифицированнейшим искусствоведам, экономистам, инженерам и прочим узким специалистам, - было поручено составление сертификатов на дальнейшее хранение добровольно сдаваемых первыми лицами различных ведомств музейных экспонатов, а также выдача лицензий на использование получаемых в качестве взяток разнообразных предметов роскоши в общепланетарном хозяйстве. Само собой подразумевалось, что эксперты ни сном ни духом не ведали о тернистой дорожке, по которой ценные вещи и драгоценности попадали на их правый, но негласный суд. Все виды круных даров и взяток предварительно сосредотачивались в личном председательском хранилище. Предусматривался следующий механизм контроля: перво-наперво министры сдавали все денежные подношения и всю недвижимость (в некоторых случаях нотариалъно оформлялась купчая на подставное лицо) министру финансов, а затем министр финансов в присутствии Директора Службы Безопасности передавал добычу Председателю лично. Далее Председатель созывал экспертную комиссию, выносившую свой вердикт. И справедливость восстанавливалась: полотна возвращались в Уффици, Лувр и Эрмитаж, конфискованные геликоптеры вручались передовикам производства, деньги пополняли государственный бюджет, драгоценности переправлялись в Алмазные Фонды и ювелирные магазины, на земельных участках воздвигались детские учреждения и дома для престарелых. А как лихо "убедил" он в необходимости сотрудничества своих новых министров! О, это был его звездный час. Поистине историческое заседание кабинета он провел как бог, или как дьявол, - ему не в чем себя упрекнуть. "Ну что же, уважаемые товарищи по борьбе - члены нашего Совета, поговорим по душам, начистоту", - начал он, свирепо оглядев присутствующих. "Мы тут посовещались между собой", - он кивнул своей волевой, мощной, бычьей головой в сторону стоявших навытяжку министра финансов и Директора Службы Безопасности, не оставляя у членов Совета сомнений в том, кто держит вожжи в руках. - "Посовещались и решили ввести вас в курс событии". "Все вы взяточники, а нет - так станете ими", - рявкнул он так громко, что у министров от страха екнуло сердце. "Вы что же, думаете, мы здесь ушами хлопаем? Нет уж, милейшие, нам известна вся ваша подноготная. Вас не удивило, кстати, ваше неожиданное возвышение? Ведь совсем недавно в этих вот креслах сидели очень уважаемые и богатые люди. Как по-вашему, что вынудило их расстаться с насиженными местами? Может мы были недовольны тем как они учились в школе? Может у них недоставало опыта ведения государственных дел? Может они плохо разбирались в политике? Или может они захотели уйти сами? Нет, любезнейшие, их погубила жадность, они возомнили себя всесильными, вообразили, что им все дозволено". Председатель грозно вскинул голову. Небольшая аудитория притихла совершенно. Набрякшее, налитое кровью лицо Председателя, суровый облик министра финансов и серая парадная форма шефа тайной полиции произвели на членов Совета должное впечатление. Сия благочестивая триада не пустого тщеславия ради подобрала на министерские посты достаточно несамостоятельных людей - хорошо ознакомленных с нешуточной длины списком собственных прегрешений персон, не вполне понимающих каким это образом удалось им, таким отпетым грешникам, проскользнуть сквозь шлюзы парламентских процедур и председательской требовательности и достичь высот падать откуда никак уже нельзя - все кости себе переломаешь. "Нам очень хорошо, с точностью до одного кварка, известны истинные размеры ваших состояний. Мы осведомлены и о том, что все это - не тещино наследство. Надо полагать, вы уже успели понять, что полностью находитесь в нашей власти. Но мы не причиним вам вреда, не будем подрывать авторитет нового правительства, если вы скрупулезно и без проволочек будете исполнять мои указания. Вам надлежит удовлетвориться ранее награбленным, и тогда мы - я и присутствующие здесь мои ближайшие и самые верные сотрудники - обязуемся не преследовать вас в уголовном порядке. Более того, вы даже будете получать скромное дополнительное вознаграждение за честную службу. Но если вы посмеете нас ослушаться, то берегитесь. Как вам прекрасно известно, все реальные рычаги власти: полиция, телевидение, газеты, банки, Парламент - все в наших руках. Отныне вы должны досконально следовать нашим указаниям, а неисправимые жадины пускай пеняют на себя". И он подробно ознакомил находившихся в прединфарктном состоянии министров со своим дьявольским планом, повергнув их в молчаливое изумление. Присутствовавшие замешкались, их молчание, угрожая перейти в подспудное сопротивление воле верховного властителя, затягивалось, и нетерпимый к малейшим признакам неискренности Председатель уже начал терять привычное самообладание. Гроза казалась неминуемой, но тут, к всеобщему счастью и облегчению, набравшись мужества первым со своего кресла привстал Заместитель Председателя по Австралии и Океании, высокий, благообразный мужчина с небольшой пиратской эспаньолкой на лице, и громогласно заявил: "Что ж, если у нас нет иного выбора, то я согласен. Я и сам так вел дела в своем семейном бизнесе и это всегда оправдывало себя", и с независимым видом опустился обратно в кресло. По залу прокатился вздох облегчения. Остальные члены кабинета не замедлили последовать примеру решительного австралийца и дело было сделано. Директор Службы Безопасности вручил каждому министру по официальному бланку (бланки были изготовлены из бумаги особого химического состава и их практически невозможно было подделать) и предложил им поставить свою подпись под заранее напечатанным текстом следующего содержания: "Повестку дня заседания кабинета министров от 4 марта 2085 года, равно как и все произнесенное его участниками вслух, признаю государственным секретом наивысшей категории важности, в чем и совершенно добровольно собственноручно расписываюсь. Об административно-правовой ответственности за разглашение государственных секретов наивысшей категории предупрежден". Когда бланки наконец были подписаны, собраны и переданы Председателю в руки, тот, криво и недобро усмехнувшись и исподлобья поглядывая на притихших человечков, каждый из которых обладал громадной властью над миллионами и миллионами людей, уверенно отчеканил: "Надеюсь мне не придется никому напоминать, какое наказание ждет ослушника допустившего клеветнические измышления известного рода. О принятых здесь сегодня решениях я запрещаю вам упоминать, пускай намеком, даже самым близким людям, не говоря уже о любовницах. К великому счастью, женщин в моем кабинете сейчас нет. Как вы прекрасно понимаете, длинный язык навлечет беду не только на его обладателя, для таких дел нам не понадобятся судебные решения. Не вынуждайте меня быть жестоким". Сказав это, он поднялся и вышел из зала, оставив членов Совета, всех вместе и каждого в отдельности, наедине с невеселыми мыслями.
Древо посаженное и выращенное Председателем плодоносит вот уже более семи лет. Система всеобщего взяточничества в какой-то степени оправдывает себя. Дары сосредотачиваются в специально оборудованном хранилище, раскинувшемся на территории в двадцать гектаров, и никто об этом, кроме самых верных его друзей-соратников и дрожащих за свою шкуру министров ведать не ведает. Даже управляющий хранилищем и его немногочисленные технические сотрудники. Правда ходят по углам странные и нелепые слухи о продажности могущественных министров могущественного Федерального Правительства, но личное бескорыстие любимого Председателя никто и в мыслях не ставит под сомнение, и из этого обстоятельства Председатель также извлекает кое-какую выгоду. Именно выгоду, потому что один из его несгораемых сейфов битком набит доносами и жалобами на членов Объединенного Совета. Как правило он не дает этим доносам и жалобам хода и только крепче держит в узде послушания свою нечестивую команду. Приятно все-таки быть Верховным Арбитром! Председатель не собирается вовсе недооценивать дедуктивные способности отдельных дошлых элементов, но всегда сохраняет спокойствие олимпийца, ибо отлично понимает, что ни один, даже самый дошлый из дошлых борзописцев не в силах привести убедительные доказательства причастности Председателя к темным делишкам его министров. А между тем механизм работает как часы. Председатель принимает подношения исключительно от министра финансов и только в присутствии Директора Службы Безопасности, и, в надлежащие сроки, созывает своих экспертов. И происходят чудеса: картины возвращаются в Эрмитаж и Уффици, на отвоеванных у дельцов участках земли возводятся детские садики и разбиваются скверы, довольные рабочие смело занимают места за штурвалами личных геликоптеров - и так продолжается уже семь долгих лет. Шумливая, но вполне доброжелательная большая пресса умиленно подхлопывает каждому из его редких публичных выступлений, а когда редкая депутация Парламента все же поднимает вопрос о разгуле коррупции, он мягко обещает провести расследование и наказать правительственного чиновника, если действительно удастся доказать его вину. Иной раз замять дело не удается, вину действительно доказывают, и тогда виновника быстренько удаляют со сцены, самое большее на что он может рассчитывать - пара холодных строк в бульварной газетке. И все идет своим чередом. И не о чем сожалеть. Никакими другими средствами воспрепятствовать разгулу коррупции он не мог, а мириться с ней не хотел.
Председателя не особенно тревожила вероятность утечки информации из правительственного колодца. Случись невообразимое и посмей какой-нибудь министр, из смещенных или ныне действующих, вопреки всему поплыть против течения, вряд ли бы он чего добился. Обман был слишком грандиозен, чтобы хоть один из депутатов Парламента рискнул принять за чистую монету порочащую высокопоставленных сановников информацию без тщательной проверки, которую, конечно, без председательского содействия невозможно было бы провести. Опыт подсказывал Председателю, что попытки возбуждения подобных скандалов не разрастутся до размеров политического бедствия, ибо никакая система власти не заинтересована в разглашении ее альковных тайн. Но в эти минуты он сильно засомневался в качестве своей внутренней правоты. Полезли из под земли эти вооруженные до зубов чертовы твари, и кто знает, какие только новые испытания не выпадут на долю человечества; возможно, что отныне все его поступки будет определять жестокая необходимость длительной и кровавой борьбы, и что-то тогда придется сказать людям? Не его министрам, не депутатам, не умным до приторности журналистам, не лощенным государственным промышленникам, а народу - тому самому народу от имени и во имя которого они действуют, и который прекрасно чует своим безошибочным нутром какие сявки и пакостники заседают во всех этих бесчисленных комиссиях и особых совещаниях, опутавших мягкими, но прочными щупальцами частную жизнь и личное благосостояние так называемых "маленьких людей". Куда там всем этим "маленьким людям" разного цвета кожи разбираться в тонкостях душевного склада Председателя, что им до того, какими средствами вынужден он охранять сокровищницы человеческого духа, изымать у лихоимцев хотя бы часть награбленного, да еще и так изымать, чтобы о всей правде никто не догадался. Разразись всепланетный конфликт, и каким-то образом придется те самые миллиардные массы, с мнением которых до сих пор не приходилось по настоящему считаться, мобилизовывать на еще более страшную войну, чем третья ядерная. Конечно, человечество будет бороться, к этому его призовет прежде всего инстинкт самосохранения, но, если карты раскроются, для его правительства не найдется места в этой борьбе. Ведь если посмотреть правде в лицо, всех их только терпят. Черт с ними, думают все эти миллиарды, пусть их, пускай набивают себе карманы и обжираются как свиньи, зато и нам кое-что перепадает с пиршественного стола, сколько хорошего в жизни, сколько веселья, и оно не подвластно какому-то там правительству, да и жизнь с годами стала полегче, голода почти нет и скоро, наверно, совсем не будет, вон у скольких уже цветные стереовизоры и видеофоны, плазмомобиль постепенно превращается в предмет ширпотреба, тысячи семей проводят уйкэнд в лунных диснейлэндах, благосостояние обречено на медленный, но все же рост, и черт с ними, с этими типами из Совета и Парламента, и с их жалкими пособниками из информационных агентств, пусть себе бесятся с жиру, тешут себя и своих детей, лишь бы не было войны и неожиданных арестов, была бы спокойной ночь, а с утром и днем мы справимся и сами. Именно так они и думают - пусть все продолжается как заведено, - лишь бы не разбушевалась война и не возобновились массовые репрессии. Что ж, до сих пор он обещал им мир и покой, всем этим добропорядочным гражданам, на которых экстремисты наводили куда больший страх, чем паразиты из административного аппарата. Обещал, и как мог выполнял свое обещание. Ну да, - думает Председатель. - Я не только посылал экспедиции на Венеру и Марс, я дал им мир и покой, я стал фельдмаршалом мирового мещанства, и надеялся что обойдется, что время работает на меня, что когда-нибудь потом проблема коррупции сама по себе отойдет на задний план, а сейчас выясняется, что времени нет. И надо искать и находить высокие слова, не может же Совет отказать человечеству в лозунгах военного времени! В конце концов Великая Хартия всего лишь конституционный документ, отвечающий интересам эпохи реконструкции, для фронтовых условий она непригодна - а линия фронта завтра, быть может, будет проходить по каждой квартире и вдоль каждой улицы. И если переговоры с эти коричневыми тварями будут сорваны, то придется встать перед зеркалом и плевать себе в лицо: поручать взяточникам произносить высокие слова о чести, трусам - разглагольствовать о самопожертвовании и героизме, старым развратникам - поучать других морали, отпетым ворам - наладить снабжение население. А ему останется только стоять перед зеркалом и плевать себе в лицо, кто тогда вспомнит про возвращенные всемирно известным галереям бесценные полотна, про бассейны и загородние дачи переданные сиротам и престарелым в безвозмездное пользование, про геликоптеры для рабочих и крестьян, про жирные премии для деятелей науки и культуры. Сколько благ оплачивала введенная им система полулегального взяточничества, а те кто стригут купоны наивно полагают, будто все происходит само собой. Фигушки с два - само собой! Все они получают проценты с того добра, что он и его немногочисленные друзья железной рукой отбирают у всех этих министров, министериаль-директоров, статс-секретарей и продажных писак, но разве поймет кто-нибудь... А что касается честных людей - честные люди привыкли получать за труды чистыми деньгами, а он подкармливал их грязными, вонючими банкнотами, и "чистюли" будут винить его, пожалуй, громче, чем мелкая сошка. Да и кто поверит, что к его рукам не прилипло ни единой крошки, что его родня избежала соблазна присвоить государственное добро, что его ближайшие соратники не обогатились подобно своим коллегам по Совету? Никто решительно, такого безжалостно засмеют. Верно, он не ожидал, не мог предвидеть, что подземные твари потянутся к солнечному свету, но ведь не зря говорят - ошибка вылезает с той стороны, откуда меньше всего ее ожидаешь. Вот он уже произнес - неслышно, нехотя, только подумал, но все же вышептал это противное слово "ошибка". Какой тягучий, солоноватый, медно-кровавый привкус у этого слова - особенно если занимаешь пост Председателя и не можешь ни перед кем покаятся, даже перед Радой, и чего только ей о нем не порасскажут когда она подрастет и поползут разные слухи. Слухи! Как часто, однако, не бывает дыма без огня! Директор Службы Безопасности - его близкий друг и чистейший человек - не утаивает от него горькой правды и его откровенные доклады помогают Председателю видеть мир таким, каким он и является в действительности. Все-таки я из породы тюфяков, - подумал Председатель грустно. - Сколько раз я одергивал себя когда мне хотелось обложить Директора последними словами, как следует выругать за то, что он никогда не лжет и не подыгрывает мне, пересказывает гнусные анекдоты, не прельщает розовыми туманами, даже родственников моих не щадит, называет черное черным, знакомит с общественным мнением, не тем, которое выплескивают на божий свет газеты и стереовизоры, а с реальным, настоящим, кидающим за глаза звонкую фразу:"продажная свора", говорит мне правду о людях, которые лезут мне в душу, для всех этих господ Директор просто председательский доносчик. Но Председатель тут же спохватывается - дело все-таки не в том, что они друзья, а в том, что без Директора он как бы без глаз, ушей и рук одновременно. Нельзя гневаться на человека, на которого должен положиться в трудную минуту, и без которого ты, вдобавок, как без глаз, ушей и рук. И он вынужден сдерживать себя - хоть он и Председатель, а Директор всего лишь один из правительственных чиновников.
Если бы только он в свое время не струхнул по-настоящему помериться силами с этим сбродом. Если бы только он рискнул изменить выдвинувшему его истэблишменту и опереться на объявленные несуществующими социальные низы. Если бы только... Сколько всяких если. Но ведь он ведал и одобрял. Его поставили у руля Всемирной Федерации и он правил ей как положено. Неплохо правил, оттого-то его и не свергли тогда, когда сделать это было куда легче, чем сейчас. Пристрелили бы на охоте - и кранты. В гордыне он надеялся справиться и с сыростью в фундаменте, и с трещинами на фасаде. И кабы не пауки - как знать, может и обошлось бы. Ну а пока единственная надежда его правительства - переговоры. Конечно, решение о вступление в переговоры с Регулом принималось с соблюдением всех писаных правил - на переговорах настоял Объединенный Совет, свое добро дал Президиум Парламента, - но истинная причина того, что космолазеры не испепелили колонию пауков сразу, - это нынешнее политическое положение в Федерации. Пауки слишком чужды всему человеческому и, кроме того, кое в чем выдали себя. Они заинтересованы в сотрудничестве уже только потому, что на суше им не закрепиться, не позволит их собственный организм, ну а безнаказанно крушить планету не только не в их интересах, но, пожалуй даже, выше их возможностей. Ему уже доложили, сколько прыти и энергии пришлось им истратить для того, чтобы полностью освободить от джунглей территорию Пятна - энергозатрата была столь велика и непроизводительна (на кой ляд им вообще далась эта колония?), что ее можно объяснить, скорее всего, намерением пустить человечеству пыль в глаза. Что ж, примем их игру за чистую монету. Мещанам, которые благодаря ему укрепились у кормила власти, не по плечу большая война за общечеловеческие интересы, а удалить их сейчас, он, пожалуй, не может, разве что если громко хлопнув дверью уйдет сам, но это означало бы оставить человечество без политического руководства в самый драматический момент. Отдать паукам в клешни такие козыри, которые обеспечат им наивыгоднейшие позиции в самом начале конфликта. И пусть уж лучше он принесет себя в жертву собственной совести, чем преподнесет паукам человечество на блюдечке с голубой каемочкой. Какой он ни есть, он все же пастырь, и он отвечает за свою паству. Сейчас уже поздно принимать какие-то принципиально новые решения в сфере высокой внутренней политики, дипломатический зондаж поручен опытному чиновнику, карьерному дипломату набившему руку на урегулированиях всякого рода региональных конфликтов среднего масштаба. Председатель принял дипломата несколько дней назад, ознакомил его со стенограммой последнего заседания Объединенного Совета и, напоследок, лично проинструктировал. "Никогда не забывайте, что вы представляете все человечество, - напутствовал Председатель своего посланца. - Держитесь гордо и достойно. Они с самого начала должны понять, что мы не просители. Не стесняйтесь настаивайть на своем и помните: в наших арсеналах все еще достаточно оружия для того, чтобы разорвать земной шар на части. Постарайтесь ликвидировать инцидент с нашими летчиками таким образом, чтобы возложить на пауков хотя бы часть ответственности за него. Передайте им наше принципиальное согласие на экономические переговоры, но ни в коем случае не поддавайтесь на лесть и шантаж. Если первая встреча пройдет гладко, затроньте вопрос о дальнейших контактах. По возвращении подробно опишите с кем имели дело как в физическом, так и в психическом отношениях. И, наконец, предложите им обменяться миролюбивыми жестами, - и он положил руку на старый кольт образца 1911 года. - Баш на баш, мы им показываем кое-какое оружие, пусть устаревшее, а они то же самое показывают нам. Скажите им, что обмен оружием у человечества - некоторый символ доверия. И что по таким символам Совет тоже будет оценивать меру искренности противника, пардон, высокой договаривающейся стороны, - тут Председатель усмехнулся. - Таким путем мы надеемся хоть что-то узнать об их технике и материалах". Когда дипломат с его разрешения поднялся и уже готов был направиться к двери, Председатель, будто о чем-то вспомнив, неожиданно окликнул его. "Еше одно, - сказал Председатель хищно заглядывал посланнику в глаза.- Заявите им, что в основе всех переговоров может быть только принцип невмешательства во внутренние дела друг друга. Если они посмеют вторгаться в эфир или пользоваться нашими коммуникациями связи без нашего согласия, как это имело место в момент нашего первого знакомства, то мы прекратим с ними всякие сношения. Мы готовы предоставить им в пользование одну-единственную, хорошо охраняемую от подслушивания любопытными бездельниками частоту, которую они в дальнейшем смогут использовать для связи с нашим правительством. Передайте им, что это условие обсуждению не подлежит. Мы не позволим никому, ни на земле, ни под землей, туманить нам мозги фашистской пропагандой и морочить слабые головы россказнями про бедных глупых червей. Они должны понять, и здесь многое будет зависеть от вашего поведения, от того, как вы будете держаться, что человечество, что бы они о нас там не думали, это не сборище трусов, а сообщество свободных людей, которым есть что терять, и которые в случае трагической необходимости готовы сражаться за матушку-планету до последней капли крови. Я не случайно доверяю вам столь многотрудную, беспрецедентную по ответственности и физически крайне неприятную миссию. Как в моей памяти, так и в памяти моих коллег - членов Объединенного Совета, все еще свежи героизм и мастерство проявленные вами при погашении конфликтов происходивших в прошлые десятилетия в разных регионах нашей планеты, а особенно, во время памятного Кашмирского кризиса, когда от вашей выдержки, энергии и дипломатического таланта зависела судьба сотен тысяч людей. Ведь в том, что правительству не пришлось тогда применить оружие, - а бомбить этих фанатиков мы принуждены были бы с воздуха, - почти целиком ваша заслуга. Так будьте же достойны той миссии, что поставлена сейчас перед вами. Удачи вам". Сказав это, Председатель устало улыбнулся и пожал руку человеку, которого, возможно, отправлял на верную смерть. Он не зря напомнил дипломату о Кашмирском кризисе, пусть шагает навстречу опасности с высоко поднятой головой. В действительности в том деле решающими были далеко не его усилия, но пусть так думает... На какие только хитрости не приходится пускаться руководя людьми! И как-же быть все-таки со взятками? Может разогнать к чертовой матери всю эту свору и начать все сначала? Теперь или никогда? Воспользоваться чрезвычайным положением и потребовать для себя чрезвычайных полномочий? Править посредством декретов и окончательно заткнуть рот прессе? Отменить Великую Хартию и ограничить прерогативы Парламента чисто представительскими функциями? Но время ли сейчас для этого? Да и сможет ли он, хватит ли сил? Как-никак ему уже за семьдесят. Как же быть?...
Председатель, погруженный в свою тяжкую думу, даже не заметил как проснувшаяся в неурочный час маленькая Рада, как и была в ночной рубашоночке с кружевными оборочками, забралась к нему в комнату и давно уже дергает ручкой дедушкин халат за широкий рукав. Потом он внезапно очнулся, перевел на внучку мутный взор - девочка даже отшатнулась от испуга - порывисто поднял ее на руки и обнял.
X X X
Друг мой, (Писатель любил пофилософствовать за чашкой крепкого цейлонского чая), друг ты мой сердешный, уж не кажется ли тебе, что писатель, - это нечто вроде лингвиста или учителя чистописания, и главное его достоинство - излагать свои мысли на бумаге без грамматических помарок? Нет, не подумай только, что я заранее ратую за неряшливость в письме. Но куда там гладеньким стилистам до бунтарей духа, до тех мастеровых нашего цеха, которые привыкли заправлять авторучки густой красной кровью вместо жиденьких чернил. Хм, Маяковский и ... грамматика - курам на смех. Кстати, друг мой, гениальный Хэм дружил с помарками, ничего не поделаешь, это доказано - не веришь, отсылаю тебя к Казенсу. Слышал что-нибудь о Казенсе? Ну так что ж: чем же лучше нас всякие эстетствующие грамотеи из окололитературных институтов? Красиво писать, увы! - это нередко красиво лгать. Господа лгунишки вовсю пользуються тем, что правда иной раз бывает и скучной, и пресной - и как бы они не старались разбавить своей преснятиной океан лжи, их кредо неизменно - да здравствует удобная неправда! Что ж, кричащим неправду во весь голос, к сожалению, не возбраняется писать красиво, но все равно - их жалкие, убогие потуги бросают тень на всю литературу. Спору нет, надо бы писать красиво и хорошо, вот только формалистика плохо уживается с "хорошо" и "красиво". Качество писательского пера оценивается в особых единицах: в интенсивностях пышных страстей на квадратуру страницы, в веере незавершенных видений, порождающих логическое замыкание в гибнущем под житейскими заботами читательском сердце, в поливариантности художественного образа и, разумеется, в таланте скрывать жестокую правду под красочными одеяниями ни к чему вроде не обязывающих вежливых словесных конструкций. Хорошему писателю иногда - не всегда - и читатель необходим особенный, превосходный. О да, слишком, слишком много второстепенных факторов. Одному мешает отсутствие способностей, другому - знаний, третий - панически чувствителен к критике, четвертый - великолепен, но его раскусила цензура, пятый - в лапах у издателя, потому что беден, шестой - вовсе не нашел издателя, седьмой - хворает, восьмой - родился слишком рано или слишком поздно, девятый - в плену художественной концепции, десятый гениально мыслит, но слова у него шипят как карась на сковородке. Все это так. Но - и это главнее всего - не лги красиво, а если уж никак нельзя без этого обойтись, - все же постарайся оставить правде побольше простора. И если лжешь, если другого выхода нет - лги так, чтобы за твоей ложью виднелась твоя боль. Чтобы читатель плакал над твоей судьбой. И тогда ложь перевоплощается в грозное оружие против поработителей духа. А настоящий писатель всегда вооружен. Даже если он сочиняет исключительно детские сказки. Есть на свете и такие страны, дружище, где моим братьям по перу и духу завязывают руки и напяливают шоры на глаза. Полиция держит их за малых детей за которыми нужен особый уход, и если детишки пошаливают, то их без лишних церемоний шлепают по мягкому месту. Тогда трудно. Но, к великому счастью, история оценивает писательский труд не по провалам, а по вершинам. А известно ли тебе, друг мой, известно ли, в какие моменты своей ветренной, непутевой жизни находит душа писателя гармоническое согласие с собой-единственной? Только в такие, когда смертельный страх перед будущим читателем уравновешивается верой в силу собственного таланта. Мы не вправе забывать о том, что произведение на создание которого затрачен год, а то и два, читатель одолеет за день, какое очевидное несоответствие, какая чудовищная несправедливость! Но веру в себя нельзя терять... И есть еще некое шестое чувство, любовь что-ли... Из написанного мной отчего-то мне всего дороже "Похищение огня", хотя с высокопрофессиональной точки зрения - сие далеко не лучшее из моих творений. Несмотря на то, что написал я этот роман довольно быстро, дался он мне с большим трудом, чем все остальное. Я люблю его перечитывать и каждый раз он читается чуточку иначе, не знаю кто из нас стареет быстрее... Впрочем, я не погрешу против истины если скажу, что "Похищение" выдержало испытание временем. Во всяком случае его охотно раскупают наши дорогие тбилисцы. Этому роману во многих отношениях повезло: во-первых - рукопись в редакцию принес писатель, который, несмотря на молодость, уже числился в сонме маститых; во-вторых - самые нетерпимые годы были еще впереди. Медико успела вовремя родиться, так же как за несколько лет до того успел появиться на свет бессмертный ныне Остап Бендер - а ведь еще немного, и великий комбинатор был бы похоронен на пыльной архивной полке, а Медико не спасло бы даже кесарево сечение. Но если на минуту забыть о политике, разве удалось бы мне так скоро протолкнуть свой роман в печать, будь он моим первенцем? Будучи отлично знаком с литературно-издательским миром, весьма и весьма сомневаюсь в этом. Как ни крути, а известная фраза о негорящих рукописях принадлежит великому оптимисту. Литературное крещение "Похищения" могло быть отсрочено на десятилетия, а могло и вовсе не состоятся. Но, к счастью, обошлось. Сейчас другое время, жить стало полегче, но по большому счету - а я не хочу признавать иного - время всегда одно и то же. Мы избранные, и нам часто мешали говорить, но ежели нам, по недосмотру или по удачному стечению разных обстоятельств, удавалось подать голос, нас слышали, а часто даже слушали. Мы избранные, а избранность - категория особенная. Пай-мальчикам создающим лубочные тексты с соблюдением всех грамматических и стилистических канонов, заказана дорога на Олимп, а мы, избранные, в глубине души все же храним надежду на наше посмертное восхождение. Если ты, друг мой, внимательно прочел "Похищение огня", у тебя хватило бы ума понять в чем состоит истинная ценность этого произведения. Нет, не в том, что на ее страницах воссоздана живая картинка грузинской глубинки первых послереволюционных лет - хотя и это важно; и не в том, что в лице Рамина наш читатель получил слепок типичного тбилисского интеллигента той эпохи - хотя и это представляет известный интерес; и не в том, что образ Медико излучает такое тепло, что под его влиянием, бывало, даже озлобленные на жизнь и людей преступники раскаивались и возвращались к нормальной жизни - я могу показать тебе их письма, если ты сомневаешься в этих моих словах. Нет, не в перечисленных мной "интересностях" соль, да и, говоря по чести, не знаю я - в чем она. Три десятилетия назад казалось - знал, а нынче - нет, не уверен. Много позже я полюбил страницы, которые считал и считаю спорными и несовершенными в чисто художественном отношении. Ну, есть там такие... будто целый год, или даже годы, десятилетия, спресованны в строчку, в абзац, в единую долю секунды: суть предельно ясна и любое добавленное слово оказывается ненужным. Только недавно я понял: вот такие страницы и строчки и есть настоящая литература. Дурной, ничтожный человек ненароком, единственно от нечего делать, прочтя их, пожалуй, мог бы задуматься о своей изломанной судьбе всерьез и даже загореться желанием совершить хоть одно доброе дело - по велению сердца, а вовсе не из стремления покрасоваться перед собой. Дорогие страницы и строчки. Согласен, батюшка, остальные тоже по-своему неплохи, иначе книга не получилась бы, но сегодня я их мог бы переписать заново, а те, дорогие, оставил бы без изменений. Иногда я думаю, как мог бы писать идеальный писатель? Как Толстой? Как Достоевский? Как Фолкнер? Как Маркес? Как кто-нибудь еще? Между прочим, хотя мне и кажется, что, подражать Толстому, Достоевскому или, скажем, Фришу в принципе легче, чем Маркесу или Кортасару - под словом "подражать" я подразумеваю возможность достижения формального сходства с глаголом их произведений, не более, - я вовсе не считаю, что мачете острее ножа, а Маркес более велик нежели Достоевский. Скорее наоборот, коли на то пошло. Латиноамериканская манера письма, вообще, на мой взгляд труднее поддается расшифровке, чем русская или европейская. Видимо, при прочих равных или почти равных условиях письма, качество разлитого в нем и раздробленного на мельчайшие молекулы мироощущения, сказывается на содержаний и обходится дороже самой причудливой - или самой косноязычной - формы. Под содержанием я менее всего имею в виду так называемый гражданский пафос произведения. К чему пафос - гражданственность все равно присутствует в любом сколь либо значительном произведении, даже если автор с пеной у рта убеждает окружающих в обратном. Она всегда тут как тут - в явном или неявном, в прямом или косвенном, в постоянном или преходящем виде. Даже обычная лирика, - излияния любовных чувств, ода женской красоте, воспевание ямочки на подбородке, - может превратиться в политическое оружие. Для этого достаточно опустить на страну ночь обыкновенного фашизма. А пафос... Иногда преданность правильным идеям приводит к ложным выводам, что поделаешь - недостатки суть продолжение наших достоинств, - старое и верное изречение. От ошибок не застрахованы даже великие. Вот мой литературный учитель Горький - на что уж великий был человек, но и его нет-нет да и заносило на крутых разворотах логики. В прогремевшем на весь мир его ответе американским корреспондентам - вам, наверное, попадались на глаза его "С кем вы, мастера культуры? " - Алексей Максимыч величал Чарли Чаплина однообразно сентиментальным и унылым фокусником. Бедняга Чарли... Впрочем, я отвлекся. А вот последнюю мою вещицу, ты знаешь какую, я чту куда меньше "Похищения". Она написана в иной манере, и написана лучше, профессиональнее что-ли, и может именно потому я люблю ее меньше. Она навевает на меня грустные мысли о неизбежности ухода, о тщете человеческих потуг. "Перевертыш" писал человек подуставший и утерявший значительную долю изначальных иллюзий, а любовь должна питаться иллюзиями - иначе какая-же это любовь? Если помнишь, последние страницы этой книжки посвящены последним неделям жизни одинокого и больного старика, который будучи не в силах, в неизбежные минуты просветления, отрешиться от скорого и печального небытия, остро ощущает приближение неизбежного конца, и сказ о том, как он проигрывает в памяти далекое прошлое, живет в нем... нет, так я в юности писать не смог бы даже если б захотел... Ты - рано седеющий горожанин. Тебе, конечно, тоже приходилось видеть на улицах заброшенных, никому не нужных стариков и старух - слабых, бедно одетых, отживших свое. Жилы их просвечивают сквозь темную, сухую, прозрачную кожу словно струны, а лучшим доказательством их безысходного одиночества служат их полупустые авоськи за которые они судорожно держатся. Тебе, кстати, никогда не случалось, во исполнение вычитанной в подслеповатых глазах просьбы, дотягивать этих людей без будущего до ближайшей автобусной остановки - особенно в морозный день? В мороз-то им труднее нести свои авоськи, ибо от него у них немеют и отнимаются их ненадежные руки. Вот таким вот старикам и старухам - людям без имущества и видимой биографии, - и посвящены последние страницы "Перевертыша". Я пытался писать их от души и сердца, оставляя разум холодным. Кажется, в какой-то степени мне это удалось, да и критики не жалели потом хвалебных строчек, но "Похищение" я все-таки люблю больше. Не исключено, впрочем, что менее известного литератора они расколошматили бы в пух и прах, хотя бы за излишний и не соответствующий духу эпохи пессимизм, но... Критики, слава богу, стесняются меня кусать, поэтому я никогда не доверял их дифирамбам. И все же - я их недолюбливаю. Как и всякий порядочный грузин, я - крайний индивидуалист. Нас ведь хлебом не корми, дай только выделиться из общей массы, и у нас это сильнее, чем у других народов. Как знать, может в этом и состояли, прежде всего, психологические истоки феодальной разобщенности Грузии, и может психология играла в средние века более значительную роль, чем экономика или политика. Хотя, каюсь, это ересь, ересь... Но я опять отвлекся. Я говорил о себе. Так вот: я не страдаю синдромом ложной скромности, но стараюсь сохранять объективность в любых обстоятельствах. Помни, друг мой, никогда не знаешь, писатель ли ты или же просто удачливый графоман, баловень судьбы, волей случая вознесенный на пьедестал кратковременного и преходящего успеха. Истинная слава посмертна, и не стоит забывать о том, что твое место в истории будут определять совершенно незнакомые тебе люди. Бывает, на меня находит тоска и я жалею, что стал писателем, а не философом. Ведь хочу я того или нет, но мое место среди писак, которым от роду написано красиво излагать на бумаге неправду, а про философа, любого философа, такое так прямо и не скажешь. Их философская неправда не так ясно заметна, да и потом, они, как правило, заблуждаются вполне искренне, их липы и ляпы являются естественным итогом некоей ограниченности изначально присущей их, в целом весьма внушительным, умственным возможностям. Даже в корне неправильная философская или социальная теория способна доставить чисто интеллектуальное наслаждение, возбудить чувство протеста, восхищения, благодарности - ведь философия, как-никак, наука, а в науке даже тупиковые и опальные пути будоражат исследовательскую мысль. И хотя попытки воплощения догматов ошибочной философии в историческую практику обычно оборачивались слишком большим злом, но все же к авторам обанкротившихся доктрин я не испытываю столь же откровенной неприязни, как к политикам-практикам, использующим эти доктрины в личных интересах. На мой взгляд, на политиков вступающих на путь жестокой борьбы за власть, всегда ложится большая ответственность, чем на путающихся в попытках облагодетельствовать человечество идеалистов. В отличие от такого вот философа присягнувший неправде писатель - просто мелкий жулик. Унизительно, не так ли? Настоящему писателю, пока он здравствует и пишет, следует сторониться одного, по меньшей мере, малопростительного и страшного греха - лакейства. Право, лучше быть неопрятным бумагомаракой, нежели лакеем, даже талантливым. Ты вправе задать мне каверзный вопрос - а насколько сам я следовал этому нехитрому правилу в своей писательской жизни? Да следовал же, следовал, ей-богу! Мне приходилось и дипломатничать, и хитрить, и сговариваться, но лакеем я не был никогда. Я, честно тебе признаюсь, иногда хотел стать им - но у меня не получалось. Вот потому-то после войны я так долго не мог сочинить ничего путного. Компромисс, разумный компромисс - вот максимум на что я был способен, а этого было уже недостаточно. Но моя спина не умеет сгибаться подобно закорючке или знаку вопроса, политический ревматизм, знаешь ли... И даже из-за этого проклятого максимума я провел немало бессонных ночей, может статься, я когда-нибудь тебе расскажу и об этом. А ежели наступила полоса неудач, и тебе не до пера и бумаги? С кем не бывает? От стихийных бедствии никто ведь не застрахован. Боль - она для всех одна: и для писателей и для простых смертных. Не забыл как недавно, сидя в этом самом кресле, ты так красочно жизнеописывал овладевшую тобой прострацию, всего лишь естественную реакцию на обычную и весьма распространенную жизненную неудачу? Она вышла замуж? Обидно, не спорю. Вышла замуж за твоего старого друга? Обидно вдвойне. Но разве ты сдался? Разве ты послал себе пулю в лоб, спился, хотя бы перестал ходить на работу? Вот так и я боролся со своими неудачами. Все ведь проходит. Не до конца, говоришь, проходит? А и не надо, чтобы до конца! В моей жизни бывало и похлеще. Слушай. Я познакомился с той женщиной в Лондоне, относительно недавно. Весной шестьдесят девятого, четырнадцать лет назад, считаю недавно. Ее звали Эльза Брайт и она была то ли энглизированная немка, то ли онемеченная англичанка, - это неважно. Она писала плохие стихи, у нее были большие, грустные и синие как глубокое море глаза и она была младше меня на целых тридцать лет. И я - степенный, семейный человек, разменявший той весной шестой десяток - влюбился в Эльзу как малое дитя. Смешно, не правда ли? В это трудно поверить, но я говорю чистую правду. И что самое невероятное - она ответила мне такой пылкой взаимностью, что я, старый какаду, ни на миг не усомнился в ее искренности. Уж не знаю, чем я ее пленил - азиатским акцентом, романтической сединой или яростной речью на утреннем заседании Пен-Клуба, но она позволила себе раскрепоститься. Может я был для нее всего лишь диковинной игрушкой, очередным острым ощущением, но и в таком случае у нее хватало такта для того, чтобы не развеять ощущение счастья, которое целиком овладело мною. И я, старый пень, влюбился в эту... эту нимфоманку. Тот месяц я провел как во сне. Подумать только энглизированная немка Эльза Брайт, любила меня на всех языках мира. Но месяц быстро пролетел, счастье... счастье, увы, улетучилось, волшебный замок рухнул, моя творческая командировка подошла к концу. Одному только богу, богу и мне, известно, как близок был я, старая перечница, к тому, чтобы остаться в Англии, бросить здесь все-все решительно - и жениться там на Эльзе. Жениться и никогда не вернуться к старому. Но... Но разум взял верх над эмоциями, и вот - я здесь, среди вас. Мне было плохо, дружище, ай, как мне было нехорошо. Нехорошо и стыдно. Плохо как... Как натощак забредшему в собственную молодость никчемному старикашке. Но я победил себя и мы с тобой сейчас разговариваем - вернее, разговариваю я, а ты вынужден меня выслушивать - в моем кабинете. Разве это не замечательно? И не говори мне, бога ради, что моя любовь, любовь старого какаду, была слишком противоестественна и тебе пришлось хуже меня. Не говори! Не придумали еще таких весов на которых можно взвешивать человеческую боль, боль утраты и разочарования. Мы не переписываемся. Не могу. Так что ж? Ты - писатель? Тебе плохо? Отлично. Докажи себе и другим, что ты чем-то отличаешься от растревоженного самца. Стисни зубы, перетерпи плохие времена, наступит же и утро когда-нибудь. Все еще будет - литература, музыка, огонь в камине, дружба, красота иных женщин. И работай, работай как вол, не теряй время попусту - не вернешь. Не мечтай о скором успехе, доверься больше суду потомков, а не современников. Помни: недоверие близких и слепота дураков не должны быть в помеху. Вспомнил отчего-то Илью... Эренбург был моим другом, я как-то рассказывал тебе о нем... Смешно. Будто я уговариваю тебя заняться моим взбалмошным ремеслом. А я просто стараюсь убедить тебя в том, что дорогу осилит идущий. Нет, друг мой. Твое дело не перо, а портфель, твои знаки отличия - не членство в Пен-Клубе, а мандаты и пропуска, твое оружие - не печатная строка, а специальные службы, действующие во благо нашего народа. Так задумано нами и уже поздно отрекаться от затеянного. Хотя, признаюсь тебе как соратнику, - иногда меня все же одолевают сомнения, мучает вопрос: верна ли моя последняя ставка, ставка на тебя? Не введут ли тебя в соблазн ложные солнца с их притягательными лучами, ты ведь человек и ничто человеческое тебе не чуждо. Но я уже слишком стар, и не мне менять коней на переправе. Я дал тебе слово и не нарушу его, но заклинаю тебя всем что тебе дорого, заклинаю святой памятью отца твоего и жизнью матери твоей - остерегайся дьявола с лицом Эльзы Брайт, не подведи народ, себя и меня. И как бы тебе не стало трудно, помни - дорогу осилит идущий. Помни, страх смерти - самый бесплодный страх из всех возможных страхов. Я боюсь попасть в темницу, потому что ведь я могу и не попасть в нее, а смерть моя... Она все равно рано или поздно меня найдет. О боже, единственное о чем я мечтаю по-настоящему, - это о времени, когда наконец будет достигнуто гармоническое единство между интересами свободной личности и интересами коллектива. Впрочем, мы с тобой беседовали о литературе, а не о смысле нашей жизни. Кстати, знаешь как настоящая фамилия великого Оруэлла? Блэйр...
X X X
"Ресторан качается, точно пароход, а он свою любимую замуж выдает...".
Чурка вдрызг пьян, сразу видно, что скоро он совсем потеряет над собой контроль. Даже не верится, что этот человек писал ей такие письма. Нет, он уже не может остановиться.То орет на весь ресторан, то лопочет о чем-то непонятном, обильно сдабривая бессвязный лепет непечатными словами, а теперь еще вздумал декламировать Андрея Вознесенского и воображает, что ей это очень нравится. С соседних столиков давно на них оглядываются. Как бы чаша терпения метрдотеля не переполнилась, все это может закончиться большими неприятностями. Но какое выгодное впечатление производит на его пьяном фоне этот новенький, как его, Антон. Чурка, хитрец эдакий, прихватил с собой дружка, и правильно сделал что прихватил, иначе она и вовсе не приняла бы его приглашения. И вот все стало ясно: Чурка ведет себя как болван и зануда, а Антон полон самоуважения и той внутренней легкости, которая когда-то позволяла ей растрепать себе волосы. Ну, о волосах это так, к слову. Как странно! У нее словно выросли крылья, она раскована и счастлива. Счастлива? Как странно! Неужто это от шампанского? Не может быть! О, она заметила... Антон так томно на нее посмотрел, а она... она ответила на его призывный взгляд. О, она сразу раскусила и его нехитрую душу, и его дешевую игру, но... но он пришелся ей по душе, И он отвел глаза, не выдержал, а когда вновь поднял их, то в его глазах читалась мольба. Чурке бы это не понравилось, ну да, бог с ним, с Чуркой. Неужели Антон влюбился в нее, в негласную избранницу своего друга, с первого взгляда? Или это все же игра? Как странно, ей не хочется, чтобы это была только игра. Так надоело одной, и Чурка этот надоел, а этот новенький сразу пришелся ей по вкусу. Статен, чертовски интересен, сразу видно - настоящий мужчина! Что ж, она вовсе не прочь влюбить в себя дружка своего поклонника. Есть нечто чрезвычайно привлекательное в таких пикантных ситуациях, они скрывают в себе нечто такое, без чего женское естество теряет смысл. Нечто чуток, на самую малость, запретное а запретный плод ох как сладок! Ничего не скажешь, симпатичный парень. Кажется Чурка в отчаянии захотел покрасоваться перед ней своим послушным дружком - таким тактичным, сообразительным, воспитанным, скромным, - и жестоко на том прогадал. Можно сказать допрыгался, с горя напился - а водка до добра не доводит, - позорно опьянел, глаза влажные, мутные, пустые, декламатор с позволения сказать...
... "Будем все как было. Проще, может быть. Будешь вечерами в гости приходить..."
... Сам виноват. Нечего было доводить себя до такого состояния. Понял бы сразу очевидное - они не рождены друг для друга - ему же было бы лучше. Ей нравятся мужчины совершенно иного типа - типа Антона, Художника, типа Того, которого ей никогда не забыть. Того, который, сам того не ведая, выдал ее равнодушному свету на растерзание, но не обязана же она ни с того, ни с чего переделывать себя. Она способна в меру посочувствовать Чурке, не более. Не более. Ей ведь тоже до боли знакомо чувство неразделенной любви, но разве она беспокоила кого-нибудь? Такова жизнь. И Чурке лучше бы вести себя собранней, мужественней, и не напиваться до горячки. Если честно, то она приняла его приглашение только из жалости да скуки, да и то только узнав, что с ними будет кто-то третий. Верно говорят, что жалость пошленькое чувство. Сидела бы себе дома и смотрела телевизор. Хоть не довелось бы выслушивать этот пьяный вздор и видеть как неплохой и, в общем, приличный человек расползается по швам у нее на глазах. Но нет худа без добра, ведь благодаря ему сегодня она познакомилась с чудным парнем. Антон, А-н-т-о-н, Антоша... довольно редкое имя. Они так смотрят друг на друга, шампанское взыграло что ли... Пускай его следовало бы подержать пока на дистанции, но, честно говоря, от него исходят весьма притягательные флюиды и она может не устоять. Они делают его Похожим. Кто знает, может им и суждено познакомиться поближе. А сегодня бедняге Антону придется несладко. Легко ли будет ему довести в стельку пьяного Чурку до домашней постели? Если только их сейчас же не выведут вон под его хриплую бредь: "... И никто не скажет, вынимая нож: Что ж ты, скот, любимую замуж выдаешь?"...
X X X
... А помнишь, Антон, как скверно было нам после, помнишь ли непроходящее ощущение предательской сухости во рту, сухости лютого страха долго еще преследовавшего нас - безусых, неоперившихся юнцов, осмелившихся бросить вызов условностям уголовного кодекса и растревожить уютное гнездышко нашего достойного соседа? Не позабыл как обтягивает желудок гусиная кожа, как жалят в лоб бисеринки ледяного пота? Не коришь ли и себя за наше юношеское неумение прямо и честно глянуть друг другу в глаза, неумение за которое нам потом так долго и дорого пришлось расплачиваться? Причем расплачиваться малыми частями, - вначале ревностью, затем утратой взаимного уважения и, наконец, глубоким взаимным недоверием. И куда испарились наши жаркие споры о будущности Грузии, о правах, обязанностях и свободах, о справедливости и о порядке, о войне и о мире? Куда подевалось наше школярское соперничество, что так трогательно умело уживаться с самой искренней дружбой? Что-то сломалось в нас после того Дела, да и не из-за самого Дела, его-то мы с тобой провернули вполне благополучно, а из-за денег, к которым мы, как выяснилось при дележке, относились очень неодинаково. Ты сразу дал мне понять, что небезразличен к ним и жаждешь легкой жизни, а я... я не просто поразился внезапной в тебе перемене, меня возмутила твоя измена - на моих глазах ты перебежал в лагерь Хозяина. Что же мне оставалось делать? Разве что унизить тебя своим бескорыстием - бескорыстием и еще преданностью высоким общественным идеалам. Помнишь, как предложил я тебе лезть за деньгами в распаленный силой моего воображения костер? Мог ли ты забыть о том, даже если бы захотел? А ты не хотел. О, ты оказался куда взрослее меня. Ты отнесся к тем деньгам так, как, пожалуй, мог бы отнестись к ним и я, но лет десять-пятнадцать спустя. Но тогда я был юн, наивен, смел и честен - ибо вскрыл сейф Хозяина вовсе не ради припрятанных в нем денег, вот потому-то я и не смог не выразить тебе - хотя бы взглядом - своего возмущения. И как начала вырастать тогда между нами Стена, так и вырастала потом всю оставшуюся жизнь. О, как ревновали мы друг друга по мелочам. О боже, до чего же по глупому, по дурацки ревниво, соблюдали мы торжественный обет молчания положивший начало нашей взаимной глухоте: не расспрашивать друг у друга о судьбе тех денег, начисто вычеркнуть ту ночь из памяти, сделать вид будто ничего важного тогда не произошло. Так тебе и не довелось узнать, что я поспешил обратить свою долю под покровом цхнетского леса в хлопья черного пепла, поэтому превратное представление обо мне унес за собой в могилу. Жаль, что нам до сих пор не суждено поговорить здесь по душам, хотя я пока не теряю надежды тебя найти. При жизни же судьбу твоих жалких тысченок мне не так уж трудно было проследить, мало-ли... Пышненькая свадьба, семейные круизы по европам, дорогая машина, прекрасная дача в Цхнети, а наследство тебе, извини уж, от родителей досталось небогатое. Да и не стал бы ты расставаться со своей долей богатства вопреки собственным убеждениям, не стал бы - при своей хватке -заниматься тихой благотворительностью, не бывает - или почти не бывает - на свете таких чудесных превращений. Что ж, рассчитал ты недурно. Но я уверен, что ты так и не смог забыть, как предлагал я тебе лезть за этими грязными деньгами в огонь.
Но, как ни двусмысленно это бы сейчас не звучало, Антоша, наша дружба тогда все же выдержала это испытание. Пошатнулась она, но устояла. Да пойми ты, - мне так легко было убедить себя в том, что мой мальчишеский бунт, бунт праведника-одиночки, бунт бесполезный и никому ничего доказать, и, тем более, ничего на свете изменить не способный, - все-таки выше и чище твоей корыстной прозорливости. И пускай тема эта - по нашему обоюдному согласию - была объявлена закрытой .для обсуждения, но ты и без всяких слов мог вычитать в моем взгляде что-то похожее на презрение - ведь я не так уж и старался его скрывать. Но хотя по фасаду здания нашей дружбы и пролегла глубокая трещина, сам фундамент казался достаточно прочным - ведь столько всякой всячины накрепко связывало нас. И треснутое это здание успешно противостояло подспудным толчкам еще с десяток лет, до самой твоей свадьбы, прежде чем рухнуть окончательно. И даже рухнув оно подняло такую пыль, что та, взметнувшись ввысь, не развеялась до самого скончания дней наших. А пока до твоей свадьбы было еще очень далеко, а время шло, и вот уже ты стал посматривать на меня свысока, уже мне приходилось вычитывать в твоих глазах нечто смахивавшее на презрение: как же, ведь я, променяв науку на мирскую суету, сбежал из института в горсовет, предоставив тем самым любому недоброжелателю достаточно оснований для того, чтобы заподозрить меня в приспособленчестве и карьеризме. Ну что ж, тогда я даже был немного рад что так получилось, и ты получил наконец предлог облегчить совесть не прибегая к лицемерным ухищрениям. После того нашего Дела мы так боялись ненароком задеть друг друга "нескромным взглядом, иль ответом, или безделицей иной", что становилось противно до тошноты, да и московские годы моего научного паломничества ничего к лучшему не изменили. А когда я вернулся из Москвы, поменял профессию и прицепил к лацкану значок депутата Городского Совета, наша взаимная лояльность стала уже совершенно убийственной. Под напором недоброй и беспощадной повседневности рвались связывавшие нас живые нити, но рвались не разом, а постепенно, одна за другой, и на уцелевшие приходилась все большая и большая нагрузка. По жизни мы виделись все реже и реже, и хотя по-прежнему поверяли друг другу разные безделицы, но о каких-то самых важных, самых существенных вещах вовсе перестали разговаривать друг с другом. Это может показатся смешным, но за всю оставшуюся жизнь я ни разу так и не поинтересовался, какую ты получаешь зарплату. Ну и ты не оставался в долгу, никогда в моем присутствии не заводил беседу о мастерах делать себе карьеру, и тоже из нежелания кольнуть меня в самое чувствительное место. Так и оставались эти темы запретными до самого конца, мы сами наложили на них табу. И долго бы еще тянулась жизнестойкая круговерть наших сложных дружеских отношении, будь мы отшельниками и не явись ТА женщина между нами. И вот тогда ревность испепелила дружбу, вытравив ей нутро и лицемерно пощадив лишь внешнюю оболочку. Ну а поскольку ревновать выпало мне, то и зачинщиком Игры, если только формальное охлаждение и без того натянутых отношений можно величать Игрой, оказался я. Мы так и не поссорились как должно, но ТУ женщину я тебе не простил, и ты, конечно, догадывался об этом. Подумать только, у меня не нашлось формальных оснований для того, чтобы расквасить тебе нос, она ведь верила и в твою любовь, и в то, что полюбила тебя, и я не захотел сеять зло - более того, я даже не порвал с тобой (а значит и с ней) окончательно и бесповоротно. Не хватило смелости и желания, и еще не хватило благородства раз и навсегда отказаться от попыток взлелеять запоздалые сомнения в ее душе, ведь не мог же ее как-то не раздражать мой чиновный рости и все укреплявшееся общественное положение. Почему-то подавляющее большинство женщин (я сужу, разумеется, исходя лишь из моего личного опыта) благоговейно относится к внешним признакам, внутренними же мужскими свойствами они более или менее откровенно пренебрегают. Не на словах, конечно, а на деле. И даже лучшие из них (а твою супругу я всегда относил к лучшим, к так называемой белой кости) не гарантированы от семейных потрясений, ибо нередко не выдерживают испытания чужим мужским успехом или, того хуже, достатком. Но мне-то, к сожалению, так и пришлось жить с ярмом на душе. У меня не хватило воли ни на то, чтобы разрушить вашу семью, ни на то, чтобы полностью отказаться от любых связей с вами.
Но всему этому суждено было случиться потом, после, а тогда ТОЙ женщины еще и в помине не было, и приступы тупой взаимной неприязни возникали между нами на более прозаической почве. Кровавое злато и та ночь-искусительница когда я потерял уважение к тебе, и еще укоры совести вперемешку с уколами страха. Ха-ха, обманутый нами сосед, капиталистическая акула той стародавней социалистической действительности... Сейчас, из гроба, - все суета сует, тщета и канитель - ха-ха, а на другое утро... Нет, неладно у нас с ним получилось, неладно. О да, далеко, бесконечно далеко разошлись наши пути, но мы, пусть и дышали разным воздухом, все же оставались близкими соседями и старыми знакомыми, и из моей жизни Хозяин исчез лишь когда меня перевели в Москву на руководящую работу в МИД СССР, а в молодости нам и после того Дела частенько приходилось с ним встречаться. То на дворе, то на улице, то где-нибудь еще. В те достославные времена окружающий мир, несмотря на предостерегающие передовицы в центральных газетах, сладко нежился под мирным солнышком, выложенные серой базальтовой плиткой тротуары проспекта Руставели весело пружинили под нашими ногами, шар земной уверенно плыл по Галактике и в страшные атомные сказки как-то не хотелось верить. А годы шли... Я поступил в аспирантуру, ты заполучив красный диплом, стал младшим научным сотрудником Института национальной истории, ну а он - он подыскал таки себе подходящую супругу, домовитую и, вполне вероятно, непорочную, совсем растолстел, бросил пить, и, гордо восседая за баранкой своего "Мерседеса" чем-то стал напоминать мне игрушечного китайского богдыхана в шелковом паланкине. Так ни в чем он нас и не заподозрил. При встречах его полное, румяное лицо сразу расплывалось в добродушной отеческой улыбке, и я не могу припомнить случая, чтобы он забыл пригласить нас к себе домой. "Что же вы, ребята, в последнее время совсем меня подзабыли...". Мы вежливо болтали с ним о всякой всячине, принимали его приглашения, но до визитов дело доходило крайне редко. Ну и он не особенно настаивал. Как-никак он обзавелся семьей, потом пошли дети, а семья... сами понимаете, семья - это семья. Оказалось, что под его грубоватой, деловитой наружностью дремал податливый на ласку заботливый муж и отец семейства, куда уж тут до кутежей и попоек. Но в тот раз... О, когда он вернулся из своей то ли увеселительной, то ли деловой столичной поездки и наткнулся дома на распахнутый настежь сейф, то на следующий же день вознамерился отвести душу вместе с преданными юными друзьями, так часто пользовавшимися его радушием и гостеприимством, - вот когда нам пришлось призвать на помощь всю нашу выдержку. Он высмотрел нас во дворе из своего окна, моментально спустился к нам и буквально затащил нас к себе. Я помню, как он схватил меня за плечо и круто повернул лицом к подъезду, да так круто, что у меня затряслись поджилки от страха: естественно, я подумал, что ему обо всем уже известно и что мы пропали. И тебя тоже, Антон, тебя тоже обуял ужас, но ты держался молодцом. Мы обошлись без взаимных приветствии. Он с трудом выдавил из себя хриплое: "Хлебнем немного коньячку, ребята", и столько силы и ненависти выпирало из этого "хлебнем", что мы моментально лишили способности сопротивляться. Мы молча поплелись за ним, и я, признаться, испугался что не выдержу и пущусь наутек, но страшным усилием воли заставил-таки себя шагать по лестнице наверх. Но, к величайшему нашему облегчению, уже вскоре после первых стопок выяснилось, что Хозяин знать ничего не знает, и ожидает от нас только одного: готовности разделить с ним горечь и обиду за бутылкой веселящей сорокаградусной жидкости. И какого было мне строить из себя пай-мальчика, ведь в ту пору я находился в самом начале длинного пути и еще не разучился краснеть (правда я, скорей всего, позеленел от страха). Не знаю как тебе, Антон, а мне тогда было очень неуютно. Очень. И чтобы заглушить выворачивавший мне внутренности стыд, в тот вечер я по скотски напился, и как только умудрился не проговориться спьяну - ума не приложу! С грехом пополам справившись с ролью, я пошатываясь заполночь приплелся домой. "Мама, мама, я больше не буду...".
О, как же был он тогда взбешен, каким праведным гневом обуян! И с какой мощью прорывалась наружу клокотавшая в нем злость. Правду сказать, я еле верил собственным глазам, - не вполне верилось, что неблагоприятный ход событий способен довести добродушного от природы человека до столь крайнего состояния. Как и прежде мы пили коньяк, но на сей раз это был обычный напиток, приобретенный в ближайшем продмаге за относительно умеренную цену. Нынче Хозяину было не до "Наполеона", балыка, золотых рюмок и прочего форсу. Мы заправляли наши грешные утробы весьма средним коньяком, каждый раз наполняя плохо вымытые чайные стаканы на четверть и закусывали обжигающее питье дешевой магазинной же колбасой. "Меня посмел ограбить какой-то сукин сын, - коротко заявил нам Хозяин после первой же стопки. - Если бы вы только знали, ребята, насколько он меня облегчил". Потом он разлил по второй, мы выпили, и он давай изливать нам - долго и яростно - душу. Что это у нас за правительство, - орал он без всякого стеснения, ругая наше бедное правительство последними словами, а я очумело смотрел на него, испугавшись как-бы правительство крепко не обиделось на него за дурные манеры, да и на нас впридачу, но ему, кажется, было все едино. "Что это за правительство, куда оно смотрит, мать его? Элементарный порядок навести не могут, ядрена мать, штаны протирать, бля, мастера, ля-ля-ля, а квартиру на неделю оставить нельзя. Эх, столкнуть бы разом все наше быдло, беспредельщиков этих недоношенных, мать их... в глубокий бассейн, да и утопить там до смерти. Или не в бассейн даже, чтоб не выплыли, а собрать их, подлюг, внизу, на площади Героев, удобное местечко, да и огнеметами их, с четырех сторон, вот и вся недолга. Живо научились бы уму-разуму, зря только цемент на тюрьмы переводят, мать их... вешать их, на улицах вешать, сволочей проклятых!" - вопил он, стуча кулаками по мятой, грязной скатерти. Я молча слушал и, кажется, заливался румянцем. Ну а ты, Антон, держался молодцом, эдаким некраснеющим бледным рыцарем. Тогда ты в первый и в последний раз переступил через наш неписаный запрет, заговорив о том, что было и прошло, ну да другого выхода не было, воскресив дурной сон недельной давности. Ты был чертовски хлоднокровен, я и сейчас восхищаюсь тобой и твоим невероятным самообладанием. Ты, втайне желая направить грядущее расследование по ложному следу, учтиво посоветовал Хозяину не отчаиваться и, если только овчинка стоит выделки (я заметил, как при этих твоих словах в мутных глазах Хозяина блеснула искорка), вооружиться надеждой и терпеньем, и поискать следы среди тех овеянных преступной славой искателей беспокойного счастья, коих в просторечье принято именовать ворами в законе. Хозяин внимательно тебя выслушал, но в ответ лишь недоверчиво мотнул головой. Потом осушил стакан до дна и грустно сказал: "Нет, братцы, это был новичок, кустарь, вонючий таракашка. Воров в законе я знаю хорошо. Многих. И они меня тоже. Нам приходилось подставлять друг другу плечо и меня они не тронули бы. Я проверю, конечно, но это ничего не даст. Нет, ребята, это жизнь пошла такая, бездельников расплодилось видимо-невидимо и всяк норовит отхватить себе кусок пожирнее. Сукины дети! Придется мне эдак и сигнализацию к дверям подключать, и вообще держаться начеку.
Годы шли и шли, и наши пути расходились все дальше и дальше. Я все упорнее вживался в стереотип труднодоступного государственного мужа. Ты, Антон, чем дальше тем больше становился подобен среднему нашему гражданину со средними же, на мой непросвещенный взгляд, духовными и материальными запросами (дача, машины, круизы, - это не от тебя, а от Хозяина, сам бы ты себе не нажил), ну а жертве наших юношеских амбиций, насколько мне позже стало от тебя известно, вполне даже повезло. Он отошел от своих сомнительных дел еще до того, как прокуратура успела опомниться, дожил до весьма преклонных лет и мирно испустил дух в собственной постели окруженный многочисленными домочадцами. Третья Мировая его миновала. Мы же, вообще говоря, его пережили ненадолго и до войны тоже не дотянули... Только вот... Можно бы и забыть о нем, но увы! - здесь, в подернутом червоточинками дубовом гробу, совесть моя так основательно растормошена оглушительными маршами бомбовых разрывов, что уже не столь покладиста как прежде и не дает мне спокойно отлежать свое. А ведь раньше мне так легко удавалось с ней договариваться, прикармливая объедками с моего стола, и так вплоть до самого рокового момента жизни моей. Но нынче она вышла из повиновения и былая податливость возвращается к ней лишь изредка, да и то в минуты, которые я предпочитаю называть минутами слабости. Что ж, приходится уныло вспоминать и о том, как не хотелось пожимать чью-то ненадежную или даже кровавую руку, но не пожимать ее было нельзя. И о том, как виновато и незаметно отводились при этом в сторону глаза. И о том, как шагал все выше и выше по ступенькам власти, считаясь только с тем, что надо поднятся еще выше по лестнице, и как я выдохся на этом подъеме, и как понудила меня жизнь в конце прислониться к перилам и умерить свой пыл. И о том моем бессмысленно-мужественном интервью, и о нашем молчании, Антон, и о том, что любовь надо уметь защитить... К сожалению, я понял, что за добро следует бороться с открытым забралом лишь тогда, когда занавес начал опускаться и было уже слишком поздно. Я понял, что в жизни ты либо странствующий рыцарь круглого стола, либо прислужник той изменчивой меры зла, что позволяет нам вечером засыпать с туманной надеждой на светлое утро. Третьего не дано. А что если жизнь твоя всего лишь цепочка недоразумений и неисправимых ошибок, и посмертный удел твой - борьба с собственной памятью в холодном подземелье? Впрочем, я не уверен, Антон, что ты поймешь меня. Ты всегда называл Добром чуточку другие вещи - те, что попроще и подоступней.
Ниточки рвались и рвались, но все что случилось с нами до ТОЙ женщины было, я верю, переносимо. Но вот ОНА появилась, повелительно повела слабым плечиком, и нашей судорожной дружбе суждено было выйти из нового испытания с окончательно подбитым носом. Все это, должно быть, вполне закономерно - испокон веку если между друзьями, даже более надежными, чем были мы с тобой, становится девушка, потерь почти невозможно избежать. Чрезвычайно трудно. Но надо же было, чтобы на моем пути очутился именно ты, старый друг детских лет моих. И это при тех потерях, которые наша дружба и без того уже понесла. Ведь ты был единственным, кого я порой посвящал в свои "дела сердешные", да и ты, помнится, не оставался у меня в долгу. Хоть эту сторону наших отношений мы до поры до времени как-то оберегали от грубых столкновении с действительностью. Оберегали, да так и не уберегли. В том, что в конце концов надорвалась и эта, казалось, самая надежная, самая прочная нить, можно было бы, конечно, обвинить мое себялюбие, но ведь ты, друг мой, совсем не захотел с ним считаться. Старый, но вечно юный вопрос о том, что главнее - любовь или дружба, ты разрешил в пользу любви, и у меня не хватает духу осуждать тебя за это, хотя мне иногда кажется (грешен, грешен!), что ты, оставшись верным себе, попросту подобрал плохо лежащую драгоценность и положил ее себе в карман. Ты перешагнул не только через мои надежды и нашу дружбу, но и через слабые сомнения этой растерянной девушки. Ты победил, все остальное - не в счет.
Десять долгих лет лежат между двумя далекими ночами. Ночь первая - тогда ты ликовал и, перебрасывая мне пачку за пачкой, подсчитывал свой барыш, ночь, заложившая первые кирпичи в кладку выраставшей меж нами Стены, и ночь вторая - когда она бестрепетно объявила мне о своем предстоящем замужестве. Это было, как я сейчас думаю, лучшее десятилетие моей жизни - десятилетие любви, познания, стремительных перемен и веры в будущее, но и то ведь правда, что за эти десять лет наша дружба по известным тебе причинам основательно поизмельчала. Может именно в ту пору ты и решил, что и вовсе не обязан нести по отношению ко мне каких-либо серьезных моральных обязательств. Я ведь вышел на подъем, да еще на какой крутой подъем. Ты ведь не знал чего стоило мне оставить науку, тебе казалось будто я не понимал двойственности своего положения. Не ведал ты и о том, что я давным давно сжег свою сотню тысяч (сто десять тысяч - если быть точным) в укромном сельском местечке. Ты и в грош не ставил сложившееся вокруг моей горсоветовской деятельности общественное мнение и предпочел судить строго - вот, полюбуйтесь на перебежчика, предавшего науку потому лишь, что она не воздала ему по кажущимся заслугам! О, конечно, ты не утверждал такого вслух - но ты подразумевал именно это и продолжал хранить многозначительное молчание, растягивая порой свои тонкие губы в презрительной усмешке, я-то прекрасно понимал, что она означает. О, я хорошо читал по твоим губам: "Шалишь, братец, тридцать сребренников из совместно вскрытого нами сейфа - вот красная цена и твоему предательству, и твоей успешной политической карьере. Подмазал кое-кого наверху ради теплого местечка, чистюля эдакий. Уж кого-кого, а меня тебе вокруг пальца не обвести". Ты ничего не знал, да и знать не хотел ни о побудительных мотивах моих поступков, ни об истинном механизме моего неуклонного возвышения. Тебе хотелось верить только в одно: бывший физик и борец за справедливость изменил себе, сдался, пригласил в храм менял и стал выслуживаться перед власть предержащими с тем, чтобы заполучить от них льготы, привилегии и всяческие материальные блага. Тебе хотелось верить в это и ты верил. Верил - с удовольствием злорадствуя в душе. Что мог ты знать о великих надеждах - таившихся в глубинах моей души надеждах, которыми я ни с кем не поделился бы даже на смертном одре? Ничего. Но все-таки в самой глубине оскорбленной души я удивлялся тебе: неужели мой старый, хотя и непутевый друг находит себя вправе с легким сердцем осуждать меня только за то, что я честно признал свое научное банкротство? Неужели он не дает себе задуматься над вероятностью того, что человек единождый уже рискнувший переступить закон из чисто идейных соображений, может впутаться в политические дела не из одного только желания пожить в роскоши? Неужели тебе так ни разу и не пришло в голову, что за моим подъемом кроется нечто более значительное, нежели стремление выслужиться пред власть предержащими? Вот так - молчание в малом приводит к безмолвию в большом. Было время - мы знали друг о друге решительно все, прошло несколько лет - и мы стали чужими людьми.
Огорчала ли меня твоя презрительная усмешка, старался ли я как-то рассеять впечатление, постепенно складывавшееся у тебя о причинах моего успеха, пытался ли объясниться? Честно признаюсь - нет. Не огорчался, не старался, не пытался. Я был слишком занят собой и своими государственными делами, чтобы принимать всерьез новые факторы, вносимые в наши отношения моими служебными успехами. Я пробавлялся иллюзиями десятилетней давности, теми иллюзиями, что надолго внесли в мое сознание элемент собственного морального превосходства. Я продолжал считать тебя своим неравным другом, и нехитрый камуфляж к которому я время от времени прибегал, не мог, да и не должен был вводить тебя в заблуждение. А время летело как запущеный из пращи камень, обстановка вокруг менялась, менялось и наше положение в обществе, и вот уже ты, преисполненный сознания собственной правоты, попытался приписать мне черты отрицательного персонажа окружавшей нас действительности. Со стороны мы по-прежнему выглядели близкими друзьями, но что это было? Скорее всего - инерция, упрямство, ослиная логика излишнего политеса - все те признаки, которые чужды истинно доброжелательным отношениям между людьми. Нам бы побольше простодушия и поменьше ложной гордости, но увы... Разделявшая нас пропасть становилась все шире и глубже, и стоит ли изумлятся, что настал день... Прости, но ты ведь не любил ее так горячо, как любил я, - тебе легче было не совершать непростительных ошибок. И надо же было мне, незрячему умнику, выкопать себе яму собственными руками и довериться именно тебе! А все потому, что мы не сберегли нашу дружбу - не зная всей правды у нас не хватило духа поговорить начистоту, не хватило мудрости простить друг другу то, что можно и должно было простить. Вот и я виню тебя в том, что ты не поинтересовался причинами, направившими мою жизнь по новой стезе, но мог бы я сказать хоть что-то путное о твоих побудительных мотивах, сомнениях, чувствах? Ничего. Я такой же болван и слепец как и ты. Вместо того, чтобы совместными усилиями разрушать Стену, мы добавляли в кладку все новые и новые кирпичи, предварительно густо обмазывая их быстро твердеющим цементом. Строительство обрастало мусорными ямами, битыми кирпичами и стеклянными осколками, и нам следовало бы разгрести свалку, пока не поздно, но мы, болваны эдакие, предпочли застыть в красивой позе перед кривым зеркалом и любоваться своим неправильным отражением. Мы повели себя как белоручки не пожелавшие взять грабли в свои изнеженные руки. А ведь накопилось столько всего - совместные попойки с Хозяином, полуночный скрип половиц в его темной квартире, твой хищный и недобрый взор плотоядно ласкавший разноцветные кредитки, озарившее лесную глушь живительное пламя в котором они сгорали, твое завидное благополучие в те времена, когда у меня каждый рубль был на счету и, кроме всего прочего, многообещающие служебные успехи наполнявшие мою жизнь новым смыслом в ту пору, когда защита диссертации тебе только снилась, ну и, вдобавок, ТА женщина. Неисповедимы пути господни!
Да, да - так оно и было. Я уже пользовался в городе некоей известностью, моя фамилия у многих была на устах, а ты, молодой, но не первой молодости сотрудник института национальной истории тогда только-только готовил еще ненаписанную диссертацию к защите. У тебя были все основания немного, несмертельно, но все же завидовать мне. Как же, я не только стал кандидатом наук намного раньше тебя, но потом, небрежно откинув прочь все свои научные побрякушки, как ни в чем ни бывало ударился в политику, быстро продвинулся до высокой должности в Центре социодинамических исследовании и, вдобавок, получил в награду мандат депутата городского совета. Более того, неизвестно каким путем устроился в мягкое кресло председателя одной из его рабочих комиссий и, вообще, обрел немалую популярность. Люди, обычные горожане, спешили ко мне за помощью, ко мне - перебежчику и двурушнику! Как ты, наверное, негодовал в душе. А как-то раз (волей случая именно тогда мы оказались в Москве каждый по своим делам одновременно) я, в приступе душевного бессилия забыв о пользе спасительного недоверия) решился познакомить тебя (своего близкого .друга!) с моей избранницей, привлекательнейшей девушкой из интеллигентной тбилисской семьи, проходившей тогда курс аспирантуры в одном из московских институтов. Не будь я так слеп и глуп, несомненно заметил бы как загорелись твои глаза, когда, повинуясь твоему невинному желанию, ознакомил тебя с ее наиболее поверхностными анкетными данными. Упоенный чувством и надеждой, я как-то запамятовал об осторожности, забыл о том, что ты тоже далеко уже не мальчик и тоже подумываешь о женитьбе. Я находился во власти сознания своих политических успехов, и некоторые затруднения на личном фронте казались мне легким облачком, не более, готовым упорхнуть при первом порыве весеннего ветра. Ну да, я быстро поднимался в гору, а кем же был ты, в конце-то концов? Всего лишь младшим научным сотрудником, раскусившим нехитрые механизмы охмурения доверчивых девичьих душ. Впрочем, твое положение имело свои выгоды. Ты шагал по тбилисским улицам высоко задрав голову ибо понимал: слыть молодым историком изучающим историю своей страны в Грузии не только модно и престижно, но и патриотично, и даже самая глупенькая из хорошеньких девушек втайне предполагает, что исполнение этой выигрышной роли выпадает на долю порядочных людей не растрачивающих силы и способности в погоне за жар-птицей скоропалительного успеха. И оная порядочность тоже входила в число добродетелей, перед чарующим притяжением которых не может устоять ни одна доверчивая девичья душа. Кроме, разумеется, самой меркантильной. И потом: ты был богат, богаче любого своего сверстника, и мог безраздельно располагать своим богатством, так как о его существовании осведомлен был только ты один, я же не в счет, да и родителям своим ты наверняка ни словом о припрятанных где-то денежках не обмолвился. Ты был достаточно умен и осторожен, чтобы не сделать свое финансовое благополучие видимым, ты не относился к мотылькам, что сорят деньгами налево и направо, до поры до времени ты просто тратил на свои нужды немного больше других, вот и все. Помню с каким негодованием отвергал ты попытки сокурсников вытянуть у тебя лишнюю трешку, но сам-то ни в чем себе не отказывал. Наверняка ты подбросил родителям удобоваримую версию об источнике своего дополнительного дохода - репетиторство на дому, переводы, или еще что-то в этом же роде, - и зажил себе припеваючи. Ты ограничился тем, что исключил из повседневности денежные затруднения, и этого было вполне достаточно, многим ли из твоих сверстников было дано похвастаться таким счастьем? И вот постепенно возникло следующее положение дел: один молодой человек, в прежние времена перспективный естествоиспытатель, служитель храма высокой научной истины, страстный борец против буржуазных пережитков и всякого цвета реакционеров, переродился в ренегата и карьериста, причем карьериста настолько ловкого, что начальство закрывало глаза даже на то, что он холостяк, хотя холостяцкая жизнь, вообще-то, не поощряется у нас государством; другой же молодой человек - в недалеком прошлом страстный ценитель прекрасного и блестящий скептик, безупречный юноша с чистыми руками и светлой душой, изредка, правда, искренне заблуждавшийся в оценках кое-каких общественно значимых явлений, - набросил на свою личину обычного воришки и уголовника патриотическую маску интеллигентного либерала. Не берусь с полной уверенностью утвеждать: создалось ли такое положение в действительности, или же оно явилось лишь плодом моего излишне реалистичного воображения. Я только хочу сказать, что таковым оно выглядело для нас обоих, - о боже, как часто вынюхиваем мы о других самое дурное и тщательно скрываемое, не давая себе труда вникнуть в личность "подозреваемого" поглубже. Бывает, пелена призрачного всезнания слишком поздно ниспадает с глаз, и понимаешь, что подлинное знание - знание чуткое и терпимое к людским слабостям и вожделениям - давно измельчало под наплывом обыденных фактиков и фактов. Досталось нам кривое зеркало - каждому свое, и видишь в зеркале том только то, что хочешь и ожидаешь увидеть - искривленные отражения наших лиц - принимая их ущербные контуры за непреложную, высшую истину. И растаяла, просочилась в трещинки правда. Та живая, настоящая, непростая правда, что не стыдится смешивать хорошее и дурное в человеке. Страшится то кривое зеркало чистых и откровенных разговоров, предпочитая им недостойное дипломатическое кривляние. И как огонь раскалывает стекло, так раскалывается это кривое зеркало под воздействием малейших благородных деяний и честных чувств, и потому почитает оно за наибольшее благо так называемое "общественное мнение", удобное и усредненное мнение испуганных людей, с трепетом душевным соблюдающих известные правила известной игры. И если правила, не дай бог, нарушены - дзинь, лопается зеркало, и нарушитель исторгается в гнусную тьму повального осуждения. Вот поздно, безнадежно поздно задаюсь я вопросом - что же это такое - друг, и, в жажде оправдаться, сам себе отвечаю: друг - это человек от которого мы требуем больше, чем даем ему сами. Здесь, в замогильной тьме, иной раз связываешь несвязанные вроде бы вещи - вот и о смысле мужской дружбы задумался не я, карьерист и ренегат, а я - растерянный и угнетенный нелепым созвучием атомных раскатов, неужели и тут присутствует какой-то неразгаданный пока мною символ? Вспоминая о тебе минутой раньше, Антоша, я жалостливо причитал, мол, было время - мы знали друг о друге все, прошли годы - мы стали чужими людьми. Ну а может это тоже символично, может и не стоило знать друг о друге все? Знать о человеке все - означает знать все о тайных движеньях его души, о всех его эгоистических помыслах, и если бы только это! Неизбежно в поле зрения попадают неизвестно зачем совершенные им маленькие подлости и большие слабости, то есть подлости и слабости которые особенно трудно прощать. Очень нелегко нести на плечах крест лишней информации, немногим удается безболезненно пронести эту ношу через всю жизнь, нередко бывает и так, что от взваленной на себя тяжести напрочь отнимается язык, причем это происходит в ту неповторимую и единственную минуту от которой зависит каким будет будущее всей нашей вселенной. И ты лишаешься друга, ну может не сразу, не целиком, а по ломтикам и долькам, но болезненный процес начат, остановить его не удастся никакими средствами, метастазы недоверия заражают вс новые и нетронутые пласты твоей души, и наступает момент когда становится абсолютно ясно: друга больше нет, и он никогда уже к тебе не вернется. Перед тобой человек о котором тебе многое известно, особенно из его прошлого, но к судьбе которого ты глубоко равнодушен, и которому, по большому счету, на тебя и вовсе наплевать. И вообще, скольким и скольким не подали бы мы руки, знай о них столько же, сколько и о себе, любимом. Хотите дружить счастливо? Тогда не требуйте от дружбы слишком многого. Лучше уж знать о человеке с которым связан близостью или дружбой только самое существенное, только то, что и определяет его внутреннюю суть, - иначе рано или поздно придется похоронить и дружбу, и близость под тяжким грузом бесполезных агентурных данных. Наша с тобой беда, Антон, состояла в том, что, начиная с определенного возраста и под влиянием привходящих обстоятельств, на нас стал давить этот тяжкий груз в то время, как фактическую основу нашей жизни, ее стержневой материал, мы, каждый по отдельности, ревностно скрывали от посторонних, как нам казалось, глаз. Вероятно, в душе мы рассчитывали на известную прочность нашей дружбы, на то, что слабеющий пучок связующих ниточек, несмотря ни на что, выдюжит, вынесет добавочные натяжения и мы не утратим способности управлять ходом событий. Я уж, во всяком случае, полагал что выдюжит, не подведет, иначе не впутал бы тебя в мои личные дела себе на погибель. Но я нуждался в поддержке, ждать ее было неоткуда, и я, болван каких поискать, понадеялся на тебя, друга моих зеленых лет. Ведь чего-то ради мне нужно было ее с тобой познакомить, может просто потому, чтобы показать ей: вот, полюбуйся, сердечная подружка, посмотри какие замечательные у меня друзья. Мыслил ли я о том, что ближайший друг способен украсть у меня надежду - да посмей кто тогда усомниться в нашей дружбе, мигом получил бы отпор от нас обоих, мы же никогда не выносили сора из избы, но... Но вот оказалось, что невероятное произошло, и ничего тут не поделаешь! Иногда стараюсь представить - поменяй нас жизнь ролями, поступил бы я так же, как и ты? Отбил бы у человека которого называл другом, - даже если отношения с ним развивались не так гладко, как хотелось бы, - любимую девушку, доверь он мне свои чувства? Не хочу красиво лгать, у меня нет однозначного ответа на этот вопрос, уклончивый же прозвучал бы явно неубедительно. И все же не было у меня веры в силу твоей к ней любви, Антон, - слишком много трезвого было в твоих действиях и решениях. У меня нет и не может быть доказательств, но не забывай: как-никак, а знал я тебя не первый год, и мне не так уж трудно было распознать истинную природу твоего чувства. И вовсе не злость или обида убедили меня в том, что ты подобрал сокровище оставленное кем-то без присмотра, а длительное и кропотливое изучение натуры человеческой, чего-чего а опыта мне не занимать - что ни говори, а целая жизнь позади. Впрочем, уже после сцены в ресторане, тяжким похмельным утром, я почти понял, что она весьма подошла бы тебе, подошла бы по взглядам на жизнь, по уровню своего мышления, восприятию жизненных ценностей, мало-ли по каким еще показателям личного и социального характера. Ну а то, что смог приметить я, пьяный, влюбленный и выведенный из привычного равновесия, то подавно приметил и ты, - трезвый и морально подготовленный к законному браку молодой светский лев. Не укрылось от тебя и ее нарочито прохладное ко мне отношение. Вот и решил ты ковать железо пока горячо. Ну разве не украсила бы чуть-чуть фрондирующего молодого историка с холеной мушкетерской бородкой и туго набитой мошной, надлежащим образом оформленная связь с образованной девушкой из приличной семьи, да еще и с опытом столичной жизни за плечами? И чего хорошего можно ожидать от Будущего, если Дружба такова? Нет, не верил я в твою страсть тогда, не верю в нее и сейчас, хотя и бессилен логически доказать себе это. Не будь этого... Да разве можно заранее предвидеть, простишь измену или нет? Но я, клянусь тебе, справился бы. Лет через пять, десять, не знаю, - но справился бы и простил. Любила ли она тебя? Не знаю. Думаю, что ей тоже было все равно, и она тоже руководствовалась в основном утилитарными соображениями. А думаю я так потому, что мне известно в кого именно она была влюблена немногим раньше. Честное слово, я рад бы ошибиться, но даже если ошибки нет, она, на мой взгляд, имела большие, чем ты, основания для такого решения. Во-первых, она никого не предавала, во-вторых, женская душа куда более нашей, мужской, подвержена отчаянию одиночества и нуждается в опоре и собственных детях, и, в третьих, такого рода утилитаризм наши славные грузинские девушки впитывают с пеленок. Не все - так многие. Честь и хвала тем из них, кому дано преступить через выработанные традиционным воспитанием и подражательным рефлексом привычные ориентиры выгодного замужества, но ведь для того им вовремя должен улыбнуться светлый лик взаимной любви, ну а твоя будущая жена, с этой точки зрения, была обделена счастьем. Она была (а может и есть, - если только спаслась от недавних бомбежек) лучше нас с тобой, и мне не пристало в чем-то ее винить. Ну а ты? Ты же мужчина - отец, муж, доминанта, - на тебе лежит львиная доля ответственности за соблюдение благородных принципов в человеческих отношениях, и потом, ты же историк и патриот, хранитель святого огня нашей нации, поэтому тебе труднее простить заранее обдуманные эгоистичные действия. Потом вы посовещались и пригласили меня на свадьбу, и я, поколебавшись, принял приглашение. Долго размышлял и решил не рвать с вами окончательно. К тому времени Писатель уже прочно вошел в мою жизнь и мне был обещан мандат депутата Верховного Совета Грузии. Я обрел такого покровителя, что деловое мое будущее, не в пример личному, казалось обеспеченным, и я, быть может вам назло, не заxотел лишать вас моего высокого расположения. О я был сдержан, очень сдержан, но твою оплеуху я перенес стойко. На каких только государственных должностях не довелось мне пребывать, но я так и не поддался соблазну задрать нос кверху. Я сделал вид будто все быльем поросло, да и мало-ли оказал вам впоследствии мелких услуг: круизам вокруг европ, ежегодным путевкам в престижные дома отдыха, должностью директора института и даже республиканского значения государственной премией не подзабыл кому обязан, Антон? Не забыл, кого пришлось мне обеспокоить в союзной Академии Наук по поводу твоей работы довольно таки среднего достоинства? Припоминаешь, как прилетал в Москву, записывался ко мне на прием, дабы втолковать мне, старому дураку, все значение этой премии для твоей карьеры? О, она была нужна тебе как воздух для того, чтобы обезопасить себя от превратностей научной судьбы и еще для того, о чем не очень хочется вспоминать, для того, чтобы укрепить свой престиж в собственной семье (я уверен - она тебя отлично раскусила, вот только поделать ничего не могла, а я к тому времени давно уже обзавелся супругой и, вроде, не жаловался на жизнь). Я всегда удивлялся: как только хватило у тебя духу просить меня еще и о таком! Ведь по сравнению с этой просьбой остальные твои претензии - просто мелочь. По моему тайному мнению, о некоторых твоих просьбах жена твоя вообще ничего не знала, а с некоторыми просто мирилась, ты ведь ревниво оберегал священные прерогативы главы семейства. Когда на меня нисходила благодать и мир казался светлым и добрым (а такое настроение иногда овладевает людьми крепко сидящими в удобных и высоких креслах), мне думалось, что ты обращаешься ко мне с мелкими просьбами только из сострадания, таким странным, чуть ли не библейским,способом стремясь загладить свою вину передо мной, вину которую тебе нелегко было признать. Таким косвенным образом ты как бы сетовал на ограниченность собственных возможностей, и тем самым, мирился с моим несомненным превосходством в определенных областях жизни. Ты как бы объяснял мне: "Прости, друг, такова житуха, кесарю - кесарево, богу - богово; я обрел счастье, во всяком случае ты, мой вечный соперник, уверен, что это и есть счастье, но зато ты достиг высокого положения в обществе, добился власти над людьми, пользуешься огромным влиянием, тут мне с тобой не тягаться. Кто знает, может я и не прочь поменяться с тобой местами, но с судьбой бесполезно спорить, не лучше ли простить друг другу старые грешки, - сам видишь, я у тебя одалживаться не чураюсь". Но благодушное настроение рано или поздно улетучивалось (с власть имущими и так тоже бывает), и тогда я находил иные, менее благородные причины, разумно объяснявшие твое поведение. Например, ты вполне мог считать меня циничным и сластолюбивым везунчиком, для которого какая-то там женщина - всего лишь преходящее увлечение. И поелику возможно не извлекать время от времени небольшую выгоду из дружбы с таким типом - просто грешно!
А жизнь-то стремительно неслась вперед. Я действительно сотворил себе головокружительную карьеру, меня перевели в Москву, и хотя я уже не мог регулярно видеться с тобой и твоей супругой, мысль о том, что когда-то она предпочла синицу в руках журавлю в небе, еще долго приятно щекотало мне нервы. Я не старался изменить что-либо. Старое чувство притупилось, потеряло остроту. Я исполнял важные государственныеобязанности и меня не тянуло к сомнительным адюльтерам. Но тебя, Девочка, я не забыл, и не жалею о том. Надо сохранять что-то святое в душе. И теперь понятнее, почему я не отказывал другу детства в пустяковых его запросах. До скинувших меня с правительственного щита запоздалых укоров совести, как и до атомных раскатов над тбилисскими улицами и проспектами было еще очень далеко.
С годами, Антоша, ты тоже достиг кое-каких успехов, защитил докторскую, дослужился до директора института, поблистал в обшестве, и только та дурацкая катастрофа на Цхнетском шоссе выбила тебя из седла. В некотором смысле ты стал жертвой любви к прекрасому - в тот роковой час ты спешил в оперный театр и немного не рассчитал... И все же ты тоже переплыл через Стикс не простым смертным и твой некролог, если судить по количеству строчек, оказался даже пышнее моего. Какое это может иметь сейчас значение, но не женись ты на моей любимой много-много лет тому назад, я наверняка позаботился бы о твоей карьере еще лучше. Сделал бы тебя, например, послом. Такова истина, какой-бы мелочной и неприятной она ни казалась. Впрочем, расскажи тебе Харон о том, что твоего старого друга и благодетеля с треском вышвырнут из правительства всего через четыре года после твоей безвременной гибели - и тебе сразу стало бы легче. Но когда тебя не стало, я по-прежнему находился, так сказать, на коне - заместитель главы правительства и кандидат в члены Политбюро, это, прямо скажу тебе, братец, не шутка. У твоей жены всегда было больше гордости, чем у тебя, Антон. И не полюбила она меня немного и из-за тебя, и что ты ведаешь о моей боли, у тебя ведь не мерзли ноги под ее окнами на заснеженной улице, не тебе приходилось срываться с насиженного места и лететь из города в город только ради того, чтобы не забыть как выглядит ее улыбка, и что тебе знать о сказочном головокружении, и о том, как немилосердно качает пьяная улица из стороны в сторону бедного влюбленного, и о тех минутах, когда мне казалось, что моей спутницей восхищается весь зал...
X X X
В мае восемьдесят четвертого года мне в торжественной обстановке был вручен мандат депутата Верховного Совета Грузии. Писатель сдержал свое обещание. Что ж, я не прочь был оправдать его высокое доверие. Но первым крупным успехом обольщаться не следовало. Я понимал, что и в дальнейшем не вправе пренебрегать мощной поддержкой и громадным нравственным авторитетом своего покровителя.
Ровно год прошел с того дня, как в моей квартире раздался незабываемый телефонный звонок, безжалостно нарушивший мою послеобеденную дрему. За этот год я проделал гигантский прыжок наверх и, что ничуть не менее важно, заслужил почетное право регулярно посещать Писателя в его петушковом доме на улице Перовской. Патриарх национальной литературы любил встречаться со мной в домашней обстановке, и в глубокомысленных беседах на самые отвлеченные темы мы провели не один час. Общение с Писателем в какой-то мере помогло мне преодолеть глубокое уныние, овладевшее мною после женитьбы моего старого друга на дорогой мне женщине. Не могу похвастать тем, что перезнакомился со всеми членами небольшой писательской семьи, - едва я заявлялся, Писатель спешил увести меня на второй этаж, и там, уединившись в тиши его кабинета, мы обкуривали друг друга дымом хороших заграничных сигарет и воспаряли в высоты, недоступные, быть может, пониманию его ближайших родственников. Мы подолгу обсуждали важные политические проблемы, не всегда сходились во мнениях, случалось я слишком горячо отстаивал какую-то спорную позицию, и тогда он посматривал на меня хмуро и с видимым неодобрением. Иногда мне удавалось удовлетворить его любопытство к изюминкам научного познания - особенный его интерес, помнится, вызывала вероятностная картина физического мира: в его кабинете мне не раз и не два приходилось рассказывать моему визави об исторических перипетиях возникновения квантовой механики, о самих основах этой дисциплины, и всякий раз он повелительно заканчивал обсуждение этой темы приблизительно так: "Вы, милые мои, готовы обвинить человека в вандализме, если ему наплевать на существование вашей пси-функции, но не хотите или не можете понять, что все прелести жизни заключаются в маленьких случайностях". А иногда, когда он бывал в особо игривом расположении духа, мы просто сплетничали как старые друзья. Не всегда покидал я его дом с сознанием мило проведенного вечера, а иногда он становился сердитым и колючим, и в такие дни мне казалось, что все пропало и он сожалеет о взятых на себя обязательствах. Но проходило несколько дней, и он приветствовал меня как ни в чем ни бывало - с мудрой улыбкой на ясном челе, - и осыпал меня ворохом разнообразных новостей требовавших немедленного рассмотрения. И все-таки было заметно, что он волнуется, что над ним довлеют какие-то сомнения, и вплоть до самого дня выборов я, признаться, не был уверен в том, что он сдержит свое обещание. С родственниками его, как я уже говорил, сойтись поближе мне не удалось. Разве что мне случилось как-то перекинуться с его внуком десятком фраз и сделать вывод, что Писатель не ошибся в оценке своего наследника. Парень слишком походил на "позолоченных" времен моей юности; в его глазах читалось все то, что он думал и о жизни, и о собственном именитом деде, который, похоже, был совершенно прав называя внучка человеком Новым. Но это так, к слову.
В день выборов я, как собственно и ожидалось, легко преодолел проходной балл. Первым делом мне, конечно, следовало не мешкая изъявить своему покровителю благодарность. Никогда ранее не являлся я к нему домой без предварительного уведомления, но сейчас я чувствовал себя слишком счастливым и уставшим для того, чтобы соблюдать какие либо условности кроме самых общепринятых. Настроение у меня было приподнятое, я, что называется, летел по тротуару и прохладный майский ветерок ласково обдувал мое разгоряченное лицо. Очутившись у петушкового дома я легко взбежал на крыльцо и без малейшей робости крутанул язычок старомодного звонка на знакомой двери.
Ждать на сей раз пришлось довольно долго. И вот когда я, исчерпав запас терпения, собрался было уйти, дверь наконец отворилась. Писатель открыл ее сам. Неестественная бледность на его лице сразу поразила меня. Вместо того чтобы пригласить меня войти, он вышел на крыльцо и долго молчал, время от времени потирая лоб и смотря куда-то то ли мимо меня, то ли сквозь, да и я не смог вымолвить ни слова, приветствие застыло у меня на губах. Никогда ранее не видел я его таким. Мне так не повезло, как это я ему заранее не позвонил! От Писателя сильно разило спиртом, и он, без сомнения, был мертвецки пьян.
Трудно найти слова для описания охватившего меня замешательства! Дверь была открыта настежь, молчание затягивалось, я готов был сгореть со стыда и единственным моим желанием было как можно быстрее удалиться куда глаза глядят. В реальность происходившего трудно было поверить: живая история грузинской литературы, ее гордость и честь, покачивалась на пороге собственного дома, ежесекундно рискуя свалиться на тротуар на потеху юным зевакам родного квартала. В смущении я даже не понял, узнал ли он меня. Но наконец, минуты эдак через три, Писатель дружелюбно потрепал меня по плечу и неожиданно твердым голосом, свидетельствовавшим о том, что он вполне способен отдавать отчет в своих действиях, произнес: "Явился? Заходи, заходи, гостем будешь. Хорошо, что явился. Так хочеться поговорить, а не с кем. Идолы, таитянские идолы, а не живые существа, ей-богу. Заходи же, нас тут продует", и, высвобождая мне путь, отступил за крыльцо в глубь прихожей. Делать было нечего и я неуверенно переступил порог. В прихожей было довольно темно, ставни на всех окнах были полузакрыты, свет пробивался вовнутрь тонкими полосками и у меня возникло ощущение, что Писатель дома совсем один. Он легонько подтолкнул меня в спину и повел к лестнице, приговаривая: "Ну чего стоишь, иди смелее. Знаю, все знаю, девяносто девять и девяносто восемь сотых. Мои сердечные поздравления. И не надо меня благодарить, я поступил так, как счел нужным. Нет, не будем сейчас об этом... Вот уже неделя как мои домочадцы проветриваются в Гаграх, море, кипарисы, ананасы в шампанском... пригласили их... прикатят не раньше чем через день-два, и ты можешь видеть как решил я распорядиться свободой. Самым постыдным образом, старина. В кой веки раз я решил напиться чистейшего шотландского виски. Спецзаказ из цековского распределителя, между прочим... Мужественным людям, даже если им далеко за семьдесят, не пристало воротить нос от прозрачного как слеза мадонны шотландского виски. Домочадцы укатили... ну и бог с ними, когда они дома и тогда-то больно с ними не поговоришь. А я давным-давно не напивался допьяна, и что-то мучает, мучает, на сердце камень... и поговорить-то не с кем, все ходят нынче умные, важные, расфуфыренные как павлины в зоопарке, а друзья... друзья, увы, большей частью в прошлом, большинства нет в живых, а те, что милостыо божьей еще дышат... Ну где же они, куда подевались? И не дозвонишься... Ух-ты, как мы разучились понимать... идем же, идем". Поднимались мы по лестнице под эту его сбивчивую скороговорку, и время от времени он довольно ощутимо толкал меня в спину, но когда мы наконец доплелись до дверей его комнаты, я подвинулся с намерением пропустить его вперед. Догадавшись, что я не позволю себе первым открыть дверь кабинета, он неловко, наступив мне на ногу и чертыхнувшись, сильным толчком распахнул ее, и вступив в свою обитель, ироничным поклоном пригласив меня последовать за ним.
В комнате царил беспорядок, было заметно, что здесь не убирали по крайней мере в течении нескольких последних дней. Покрывало на постели было смято, на полу то тут, то там виднелись серые холмики сигаретного пепла, письменный стол был застлан усыпанными хлебными крошками старыми газетами, журнальный столик весь покрылся довольно свежими темно-бурыми пятнами, очень смахивавшими на винные, и я подумал, что в дни отсутствия своих близких, старик прикладывался не только к шотландскому виски. На столике красовался большой пузатый фужер, из таких очень удобно пить шампанское или лимонад, а рядом стояла известная всему миру граненная бутыль. Писатель тут-же схватил бутылку и плеснул себе в фужер немного горячительной жидкости. Потом взглянул на меня, обворожительно улыбнулся и сказал: "Ну что ж, предлагаю тост за твой долгожданный успех. Времечко пришло. Кто знает, может я пью сегодня последний раз в жизни, так пусть же мои тосты будут посвящены тебе - рыцарю политических турниров, человеку, которому я искренне и всецело доверяю. Или ты предпочел бы выпить за мое последнее разочарование?". Осушив фужер до дна и беззвучно посмеиваясь, он добавил: "Не удивляйся. Разве тебе не приходилось пьянеть до умопомрачения, и всегда ли молодость была тому виной. Просто настроение... Садись, да садись же вот в это кресло. Думаешь, сейчас я буду тебя спаивать? Ничуть. Сегодня ты должен оставаться трезвым, алкоголь не для тебя. Нет, не дам тебе ни капли, ни единой капли, да садись же". Комическая сторона ситуации брала верх, мое первоначальное смущение рассеялось, и я, пытаясь сохранить серьезный вид, осторожно расположился в ветхом мягком кресле.
Писатель, как видно весьма довольный моим визитом, промурлыкав что-то очень классическое, вновь плеснул виски себе в фужер и упал в соседнее кресло. С минуту он молчал, собираясь, видимо, с мыслями, а затем обратился ко мне почти трезвым, ровным голосом, как бы продолжая прерванный минувшим вечером интересный разговор:
- Поздравляю тебя еще раз, избранник народа, надеюсь ты не давал своим избирателям слишком опрометчивых обещаний. Помни, оказывать легкие услуги легко и приятно, но дельные обещания всегда трудно исполнять, кстати, ты никогда не задумывался над тем, почему их так избегают давать так называемые порядочные люди? А не в последнюю очередь из страха быть, так сказать, унесенными в глубокое море во время отлива - не спасет даже умение плавать. Брать на себя обязательства и выполнять их - это, друг мой, редкий удел смелых и чистых людей, многих ли можем мы назвать такими и можем ли осуждать остальных - вот в чем вопрос. А приходилось ли тебе видеть собственными глазами настоящий подвиг, встречаться с живыми героями? Обычные, кстати, на первый взгляд люди. Я-то и видел, и встречался, старина: на войне - как на войне. Только вот в дни мира им, героям ратных буден, приходилось куда труднее. А беспокоила ли тебя когда-нибудь совесть, старина? Пока не мучала, нет?Впрочем, ты еще так молод, ты только гадаешь, что ж это такое - совесть... Иногда мне кажется, что человек должен жить лет двадцать пять-тридцать, не больше - ведь чем ближе к смерти, тем память беспощадней, и нет печальней ощущения нежели ощущение приближения собственного конца. Неминуемого приближения. А в двадцать думаешь о другом, убиваешь муху - хлоп! - и веришь, что убил муху, а лет через двадцать выясняется что ты прикончил слона. Понимаешь ли ты, юный друг мой, что это за великое слово - репутация, и чем оно, словечко это попахивает? Создаешь ее, создаешь трудом своим, целой жизнью своей, и, вроде, делаешь все как полагается, но наступает мгновение, и тебе становится нестерпимо ясно, что одна ложка дегтя, под влиянием обстоятельств или просто по глупости когда-то опущенная в бочку меда, лишает тебя сна и покоя. Вот что такое совесть. Не забывай, я прожил долгую жизнь, так и не успев, к сожалению, стать самодуром, хотя соблазн такой возникал, всякое бывало. Я тоже был молодым, о боже, как я был молод! Если б ты знал - не понимал, а именно знал, но это невозможно, для этого ты должен дожить до моих седин, - если б только знал как горько сознавать, что все уже в прошлом и вернуть ничего нельзя. И как трудно уходить, если любишь жизнь больше, чем она того стоит. Все, все - в далеком невозвратном прошлом, - и любовь, и дружба, все. И стихи, повести, романы тоже. Галактион и Эльза Брайт. Даже не верится, что совсем скоро ничего уже не будет, полная тьма, а подвести итоги нет сил, да и как прикажешь стать беспристрастным судьей себе самому? - Он поднял фужер и отхлебнул виски на пару секунду прервал свой горячий монолог. - Может и переживет меня ненадолго какое-нибудь из моих сочинений, но ведь я не Данте, не Шекспир, не Толстой, не Кафка, я не переоцениваю себя. А ведь и то, что мной достигнуто, достигнуто ценой ненавистных компромиссов. Совесть - это, кроме всего, еще и болезнь сентиментальных стариков, дружище. Ты, наверное, слышал, что в сорок первом я, как и многие, добровольцем пошел на фронт. Меня разубеждали, не хотели брать, я ведь был тогда видной фигурой писательского мирка, руководителем нашей организации, но я настоял на своем, и они в конце концов уступили... А как по-твоему, почему я записался в добровольцы? Я ведь легко мог избежать фронта, а жена моя чуть с ума не сошла, когда я объявил ей о своем решении. Она и сейчас не знает, почему так случилось. Правда не знает. А меня погнала под пули совесть. Под пули может гнать сознание того, что жизнь сотворила над тобой нечто постыдное с твоего согласия. Поэтому под добровольцами я разумею сейчас не молодцов рвавшихся бить врага на передовую, таких тоже было немало, но мои мотивы были слишком уж иными, и я не хотел бы прятаться за их спины. Ты спросишь: как могла меня погнать под пули совесть, если угрызения ее - болезнь старческая? Верно, мне было тогда чуть больше тридцати, приблизительно столько, сколько тебе сейчас. Но я так тебе отвечу, старина: пока ты молод и надеешься на лучшее, то думаешь будто действием своим, - каким-то героическим самопожертвованием, либо добрыми делами, - никогда не поздно искупить вину или исправить ошибку. Но стоит постареть, ощутить вот здесь (он прикоснулся ладонью к темени) тяжкий груз, груз памяти, лет, назови как хочешь, начинаешь понимать - искупить ничего нельзя. Что толку в твоем самопожертвовании, если совершал поступки о которых никогда никому не расскажешь, потому что стыдно? Разве то, что я когда-то в поисках смерти подставлял голову под немецкие пули, дает мне возможность быть откровенным сейчас, много лет спустя, хотя бы перед тобой, моим, да будет так дозволено выразиться, доверенным лицом? В том то и дело, что такой возможности у меня нет. И поневоле превращаешься в дряхлого неврастеника. Тебе, мой юный друг, посчастливилось родиться позже, ну а мне, в свои тридцать, пришлось перевидеть, пережить и испытать столько, сколько тебе и твоим друзьям и не снилось. Только не надо завидовать. Не стоит того, лучше уж я позавидую вам. Широкая общественность ничего не знает... Плевать мне на широкую общественность, что ей до моей жизни, да и не знает она потому, что и знать ничего не хочет, а узнает приголубит и приласкает, так за что же ее уважать? Эх, товарищ депутат, так хотелось выговориться за все эти годы, а женщины все понимают по-своему, или совсем ничего не понимают. Ну что тут жаловаться, жаловаться поздно. А может я просто чудак. Может я все принимаю излишне близко к сердцу? Но как же иначе, ведь я писатель. Подумать только, эти хитрецы ловко купили меня, простофилю, ишь... Председатель грузинского Союза. Быть Председателем Союза очень почетно, но ты ведь не представляешь какая это была работа... Да и в Москве... Отчего я так не любил Леопольда Авербаха, всех этих пролетлеваков... И тебе не понять, каково было нам перебираться со своим скарбом сюда, в этот самый петушковый дом. Дом о двух этажах. Просторный дом. Вообще-то не придерешься. Председатель Союза должен жить в просторном доме Я не могу и не хочу пересказывать тебе, что это была за работа, мне неудобно, ты ведь не широкая общественность, не приголубишь, хотя и многим мне обязан, детали теперь во всей широте и долготе помню я один, и память эта исчезнет вместе со мной, но, боже, что за деятельность... Постоянно выдавать белое за черное, а черное за белое. Расхваливать бездарей, которым впору было держать в руках топор вместо пера, и зажимать всех остальных. Вести двойную жизнь и находиться в постоянном разладе с самим собой, во имя непререкаемого "так надо". А еще тогда говорили: "линия партии"... И так почти два года, целых два года. Я уже задыхался, я не мог. Не мог больше работать на этой должности, изолгался весь... В отличие от тебя я-то не создан для политики. И... нет, я не хотел переселяться сюда, в этот дом. И жена не хотела, она вполне порядочная женщина". Но страх великая сила, куда величественее голода. Я испугался, что, отказавшись, навлеку на себя участь бывшего хозяина этого дома, а жена моя разделит судьбу его бывшей хозяйки. А знаешь ли ты, какова была их участь? Слышал, быть может. Он ведь был всем в Грузии известным национал-уклонистом. Его расстреляли здесь же, за городом, сразу после ареста, а жена и ребенок сдохли от... от чего угодно на этапе, так и не доехав до места назначения. Не знаю наверняка, да и откуда мне знать точно, но так рассказывали многие. Это называлось политеческим разгромом оппозиции. И вправду, чем не политический разгром? Кроме всего прочего, за этим деятелем от оппозиции действительно водились кое-какие грешки. Воздух тогда попахивал гарью, а национал-уклонизм в тех условиях это, брат, тебе не кукиш в кармане и не безобидные вирши. Нет, они не были похожи ни на Швейков, ни на голуборожцев. И мы съехали со старой квартиры. Одной рукой я пожимал руки тем, кто поздравлял меня с высоким назначением и новосельем, вот так же, как и я сегодня тебя поздравил, а другой - другой молотил по стене, бессильным кулаком по старой кирпичной стене, так не хотелось сюда переезжать. А теперь ничего, привык, живу. Сколько лет позади, целая историческая эпоха, война, победа, двадцатый съезд, амнистия, - а ведь прошлое привязано к ноге словно гиря, черт ее дери! Вселился же я в этот чертов дом. Думал, противиться не имеет смысла, не так поймут, то есть поймут правильно, и загремит тогда бывший герой испанской войны. И жену жалко было молодую. Ну, как долго мог товарищ Сталин благосклонно относиться к памяти моего отца, вождь народов был человеком крутых и жестких решений. Ну ладно я, черт со мной, но допустить, чтобы она замерзала где-то в казахстанских степях или на зауральских просторах? Да никогда в жизни. Ну и пошла та самая работа с пишущей братией: жирей на государственных харчах и зарабатывай свою долю презрения и ненависти. Глазам своим не верил - неужели я заслужил эту судьбу? А ведь за плечами у меня Испания, война с фашистами, бомбежки, Гвадалахара, Теруэль, и какие люди, какие люди... То, о чем ты читал у Эренбурга или у меня, для тебя всего лишь более-менее достоверная информация о прошлом, для меня же, товарищ депутат, моя собственная жизнь. И ведь главное, выхода-то никакого не видно. В отставку нельзя. Отставка в такое время у меня одна могла быть - в Сибирь. Я занимал слишком видное положение для того, чтобы в те человеколюбивые времена рассчитывать на снисхождение. И, самое ужасное, писать ничего не могу, чувствую: все что ни напишу, любая строчка, да что там строчка, буковка любая моя, будет ложью, профанацией. Хочешь верь мне, хочешь не верь. Сколько лет прошло, а как вспоминаю про это - мороз по коже подирает. Срок давности на воспоминания не распространяется, не рассчитывай, тем паче если ты писатель, или, как говаривали тогда старшие товарищи - инженер человеческих душ. Ежели претендуешь на то, что сам себе свой высший суд, где уж тут рассчитывать на юридическую казуистику. И не знаю, что со мной было бы, кабы не война. Кощунственно это звучит, знаю, но война, сынок, была для меня избавлением. Война стала для меня лекарством, средством бежать от ставшего мне ненавистным мира. И я не упустил случая сбежать, дезертировать с мира на войну. Есть такая крылатая империалистическая фраза, ее нередко цитируют в прессе, когда испытывают нужду лишний раз подчеркнуть авантюристический характер американской геополитики, произнес ее сгоряча бывший государственный секретарь и генерал Александр Хейг, - сгоряча не как военный, а как дипломат, ибо дипломату язык дан для того, чтобы скрывать свои мысли, - и звучит она так, эта фраза: "Есть вещи поважнее мира". Дикая мысль для нашей эпохи, и звучит она дико, но что поделаешь, если даже дичайшая эта мысль иной раз может оказаться правдивой. Я все знаю, все испытал на себе, я видел войну, - это гнусная пакость, это окопные нечистоты с кровью напополам, это валяющиеся в непролазной грязи оторванные конечности обычных людей. Я знаю, мне ли не знать, что война - кошмар. Но когда я говорю, что ужасная мысль эта содержит в себе зерно истины, я не думаю ни о героических освободительных войнах, ни о том, что действительно можно представить себе вещи пострашнее, чем война, например, сплошной полпотовский концлагерь на матушке земле ценой вечного мира. Ведь даже термоядерная война, наверное, когда-нибудь закончится, а правление вампиров присвоивших себе право на геноцид, может продолжаться бесконечно долго, и я не уверен, что такая жизнь имеет больше смысла, чем всеобщая гибель. Будем, однако, надеяться, что народы никогда не будут поставлены перед этим бесчеловечным, жутким выбором... Но, повторяю, я не об этом. Я о себе. Я о том, что подвернувшаяся возможность сбежать на войну из мира, в котором мои труды были, вроде бы, достойно вознаграждены, казалась мне избавлением. Когда через несколько дней после начала войны я заявил жене, что собираюсь на фронт, она, бедняжка, едва не лишилась сознания. Еще бы, променять благоустроенный быт и радости отцовства на окопные страдания, такое могла понять разве что жена декабриста. А супруга моя, несмотря на все ее благие качества, была и остается самым обычным, добрым, ласковым, но не очень далекий созданием. Впрочем, должен признаться, что в окопах как таковых сидеть мне не довелось. Конечно, на фронте я попадал во всяческие переделки, но все-таки прежде всего в качестве военного корреспондента, причем высоко ценимого. Так уж получилось, что командование как могло оберегало меня от пуль и снарядов, и с этим я ничего не мог поделать. Вначале комиссар которому я вручил прошение послать меня на фронт, помню, очень на меня озлился и, в конце концов, ответил, что не может своей властью решить этот вопрос. Похоже, он сразу подумал, что я блефую. Но мое решение было твердым и я сказал ему, что взять меня ему придется. Я пошел на поклон к самому главному тогда в республике начальнику по этой части, и со всей убедительностью объяснил ему, что ненавижу фашизм, обладаю боевым опытом еще с испанских времен, и если мне сейчас не позволят бить фрицев с оружием в руках с близкого расстояния, то я немедленно подаю в отставку. Теперь я уже мог пригрозить отставкой, вряд ли в сорок первом меня сослали бы в края отдаленные всего лишь за избыток патриотизма, это выглядело бы слишком неестественно. Удивительное было время, даже жене, ближайшему человеку, я объяснил свое решение теми же словами, что и военкому, боялся, как бы она ненароком где-нибудь не проговорилась. Помню, я говорил ей, что, дескать, в такое время человек с боевым опытом обязан держать в руках винтовку, если хочет и дальше считать себя честным человеком и мужчиной, что от борьбы с нацизмом не пристало уклоняться автору "Европейских туманов", что если я останусь дома, она перестанет меня уважать, и все прочее в таком же духе. Она ничего не желала понимать, но я был непреклонен. После Победы, уже по возвращении домой, я старался поменьше болтать о событиях четырехлетней давности, все больше рассказывал ей о моем фронтовом житье-бытье, и, похоже, вскоре она действительно уверовала в то, что делит ложе с великим писателем бесстрашно променявшим спокойный тыл на боевые награды, а за четыре смертных года на мою долю, несмотря на исключительное в своем роде положение, выпало не так уж мало орденов и медалей. Мне не хотелось лишать ее иллюзий, и я так ничего ей не рассказал об истинных причинах моего бегства. И кроме того, в моих аргументах был резон, мне не пришлось долго придумывать их. Другое дело, что все они имели второстепенное значение. Но я-то не забыл, как бежал из дому обуянный чувством бессилия, бежал прочь, в огненный ад, от призраков людей некогда спокойно спавших у себя в постели, приглашавших к себе домой друзей, потчевавших их чаем с вишневым вареньем и изничтоженных, сметенных отсюда помелом, да так сметенных, что и холмиков-то могильных после них не осталось. Правда, иногда я успокаивая себя, очень старался убедить себя в том, что я ничуть не хуже своего предшественника, тот ведь тоже занимал апартаменты какого-то сбежавшего эмигранта, ну ты и сам поимешь всю слабость этого аргумента. Ты не устал слушая меня, сынок?
Я слушал его с таким интересом, что до меня не сразу дошел смысл его невинного вопроса. Он откинулся на спинку кресла, лицо его оставалось бледным как белая скатерть, и я испугался, как бы чего плохого не приключилось со стариком. Помедлив, я ответил вопросом на вопрос:
- А вы-то сами не устали? Я слушаю вас как завороженный, подумать только, вы рассказываете такие вещи... ведь это все история, и я благодарен вам, но... Может мне все-таки лучше уйти?
- Нет, нет, не уходи пожалуйста! И только слушай, слушай! Мысль моя ясна как стеклышко. Мне сейчас не нужен собеседник, я нуждаюсь в слушателе. Возьми-ка на себя эту благородную миссию и наберись терпения, все монологи рано или поздно иссякают, и мой не станет исключением, - с этими словами он придвинулся поближе к столику, одним махом осушил фужер, вновь нацедил в него виски, отставил и какое то время прищурившись буравил меня тяжелым недоверчивым взглядом. Может он успел пожалеть о своей чрезмерной откровенности. Но если Писатель и допустил на минутку, что своим рассказом развенчивает себя в глазах молодого человека, обязанного ему своим возвышением, то он безусловно заблуждался. Я слушал его с сочувствием, его искренность не вызывала сомнений, и, кроме всего прочего, я давно вышел из того возраста, когда считают, будто обычным смертным, и даже самым уважаемым из них, удается избегнуть жизненных соблазнов, капканов и ловушек так ни в чем и не скомпрометировав себя. Право же, он мог ни о чем не сожалеть. Наоборот, я был рад еще раз убедиться в том, что передо мной не полуживая схема, не плюшевый медвежонок, а живой, страстный, умудренный уникальным историческим опытом человек, с присущими ему слабостями и измученным от переизбытка совести сердцем. Как хотел бы я мягко и ласково похлопать его по плечу и дружески сказать: "Не горой, старина. Все давным-давно прошло, все в прошлом, все хорошо и мы очень тебе благодарны", но, конечно, такое я не мог себе позволить, и Писатель продолжал буравить меня взглядом в поисках следов фальши на моем лице. Потом он отвел глаза, поднял фужер со столика, задумчиво повертел его в руке, быстро, чуть ли не воровато отхлебнул из него, поставил обратно, шумно вздохнул и, резко откинувшись в кресле назад, продолжил:
- Самое удивительное, наверно, все же то, что подавляющее большинство окружавших меня людей, включая тех, кого я называл, да и считал, своими друзьями, не находило, да похоже и не искало в моих действиях ничего предосудительного. И чем больше воды утекало в реке времени, тем меньше оставалось людей способных бросить мне в лицо: ты поступил непорядочно дважды: в первый раз тогда, когда занял высокий пост к которому у тебя не лежала душа, ты обязан был увернуться от этого назначения под любым предлогом; а во-второй, когда перебрался в этот вот дом, - и потребовать у меня ответа. Ну а более пристрастное рассмотрение моей биографии удлинило бы список моих прегрешений во много раз. Но время шло, идеалисты становились белыми воронами, уровень конформности нашего общества постоянно повышался. Замечаете ли вы, уважаемый товарищ депутат, в какое конформное время мы сейчас живем? Впрочем, тебе не с чем сравнивать, ты ведь не жил в то время - а то было очень поляризованное время. И сильно поляризованное общество - общество всегда дитя своей эпохи. Ну а сегодня... Я ведь не глух и не слеп. Правда, у меня уже нет достаточных сил для того, чтобы быть одинаково хорошо осведомленным о жизненных ценностях всех слоев современного грузинского общества, но так ли в действительности различны эти ценности? Интеллигенция, рабочие, крестьяне, мелкие буржуа: кто знает чего тут больше - различий или сходства? Сознаю, отлично сознаю, - индивидуализм, любование переливами оттенков души человеческой - суть отличительные достоинства моего ремесла, исключите исключения из жизни - и разум перестанет существовать. Но литературный, и, тем более, социальный анализ не может базироваться на исключениях. Ведь анализируя приходится оперировать большими величинами и усредненными понятиями. Трудно, скажем, подвергать сомнению факт принадлежности моих отпрысков к интеллигенции. Происхождение, воспитание, образование - разве не этими понятиями определяется принадлежность того или иного субъекта к социальному слою? Я не хотел бы обобщать, но мне волей-неволей приходиться наблюдать чем дышат люди их круга, они часто гостят у нас, и кроме того их беседы, их разговоры... Все эти люди, по крайней мере подавляющее большинство из них, выходцы из так называемых хороших семьей, так сказать, из элиты. Но посмотри, друг мой, чего стоят ее представители, какова их реальная цена. Даже если их благосостояние не связано напрямую с коррупцией, стяжательством и прочей уголовной мурой, все равно - для них всегда забронировано местечко в кустах, на критику общественных пороков у них никогда не хватает духа. Как правило, они циничны и аморальны, а преступность для них всего лишь форма перераспределения доходов, - и ничего более. Впитанные ими с молоком матери жизненные принципы прочно зиждятся на накопительстве. Мещанство, не на словах, конечно, а на деле, возведено в доблесть. Все то, что выходит за пределы узко понимаемых собственных интересов и еженедельных раутов, на которых родители хвастают друг перед дружкой импортной одеждой своих малюсеньких чад - не принимается всерьез. Почти исчезло понятие профессиональной этики и чести. Борьба за высокие идеалы, готовность к самопожертвованию, благородство высоких страстей - превратились в чистую абстракцию, произошло смещение понятий. То, чему наше поколение когда-то сказало ясное НЕТ - стало предметом спекуляции. То, что мы считали патологией духа - превратилось в норму растительного существования. Передергивает пьяный старик, можешь подумать ты, - и окажешься неправ. Я не вламываюсь в широко распахнутую дверь, отнюдь. Скорее я хочу проскользнуть в узкую щелочку. Я знаю, мне ли не знать: всегда найдутся персонажи чуждые приспособленчеству и в политике, и в семье. Среди этих персонажей - в рамках их общего неприспособленчества - скрыты настоящие жемчужины, более умные и гибкие, чем другие; проявляющие готовность к совершенно необходимым компромиссам, понимающие что есть и в семейной, и в общественной жизни вещи, не считаться с которыми глупо и нельзя. Но если бы ты знал, какое они, эти жемчужины, составляют меньшинство! Мне всегда казалось: мы вырастили детей порядочными людьми, отдали им что могли, делились радостями и горестями, но допустили какие-то ошибки, и вот - нынче я недоволен и собой, и ими. Ну а о старшем внучонке моем, ну да ты имел счастье с ним познакомиться, и говорить не хочется. А все еще и потому, что им ни в чем не бывало отказа. Начинается с контрабандной жвачки и контрабандных же ковбоек, потом потребности возрастают - приходит звездная пора путевок в престижные санатории, именных пропусков на кинофестивали, собственных автомобилей и турпоездок за границу, и нет никаких сил отказать, и ни в чем этом вроде бы нет ничего дурного, и все-таки наступает момент и ты убеждаешься, что вырастил не сильного .духом человека, а дипломата в скверном, худшем понимании этого слова. Человека, которого извечные проблемы борьбы за более светлый, лучший мир чем сегодня, оставляют совершенно равнодушными. Недоросля, искренне считающего политику невмешательства верхом дипломатической мудрости, куда ему до понимания того, что такая линия жизни частенько приводит к обратным результатам, что рано или поздно такой человек лишается и дружбы, и любви, и уважения. И выходит - ты вручил путевку в жизнь гномику, вообразившему будто ему выпало парить над схваткой, тогда как ему суждено всего лишь ползать под ней. Признаюсь, мне горько сознавать, что учителем и воспитателем я оказался неважным. Даже никудышным. Мне не удалось внушить своим детям простую истину: дипломатия это искусство выбора наилучших средств для достижения нравственной цели, - и только. По-моему качество человеческой личности прежде всего определяется сущностью выбранной им цели, ее моральным содержанием, а уж потом средствами ее достижения. Ну а если цель состоит в том, чтобы любой ценой не портить отношений с улыбчивыми людьми, с которыми объединяют разговорчики о детских костюмчиках, да еще ядовитое сплетничание о тех, кто еще как-то умудряется сохранить чувство собственного достойнства, - то стыд и срам таким средствам. Больше всего меня тревожит то, что представление мещан о счастье сильно смахивает на апофеоз безнаказанного эгоизма. А эгоизм питается падалью, - легкими успехами да показухой, - вот почему они так страшатся риска! Я уверен что и мои дети, и мои внуки, и их друзья-товарищи, в общем, все члены их кампашки, тоже испытывали сильные чувства, но они все делали и делают для того, чтобы эти сильные чувства ненароком не выплеснулись через край. Да что там кампашка, что взять с бедных интеллигентов, а чем другие лучше? Потому и знобит меня от ощущения того, что духовные кастраты заполонили мир, не зря таких когда-то так не любил Маяковский, а Владим Владимыч имел нюх на настоящих людей! И потом, какая мешанина и какие глупости царят у них в голове. Часами готовы они обсуждать наряды Жаклин Кеннеди, походку и стать Софи Лорен или дриблинг Гарринчи. Я воздаю должное и достижениям мировой ткацкой промышленности, и таланту модельеров, и звездам киноэкрана, и добротной футбольной игре, но каким образом все это может стать самой страстной, почти единственной темой ежедневных бесед - для меня тайна за семью печатями. Нет, ты не такой, ты - сильная личность, но не уверен, гибкая ли ты единица. Не растрачивай себя понапрасну, не теряй головы, не стесняйся признавать свои ошибки, - и ты многого добьешься. Не забывай, я сделал для тебя то, что хотел бы сделать для своего внука. И то, что я счел его недостойным моей поддержки, должно послужить тебе предостережением. Молю тебя, не подведи меня, сынок. Ты еще не достиг своего потолка...
Только сейчас я заметил, как он, в сущности, устал. Он был сильно пьян и излишне возбужден. Внезапно прекратив свою страстную речь он, пошатываясь, поднялся во весь рост, совершил по комнате две-три нервные пробежки, потом подошел ко мне, доверительно положил мне руку на плечо и извиняющимся тоном сказал: "Извини меня, сынок. Кажется я и взаправду устал. Если не будешь возражать, немного посплю. Пора... до завтра. А вечерком загляни ко мне, и мы поговорим обстоятельнее. Обязательно поговорим". Он, безусловно, нуждался в отдыхе, и я рад был оставить его наедине с собственной постелью. Я пробормотал слова благодарности и прощания, и в одиночестве (стоит ли объяснять, что у Писателя недоставало сил для того, чтобы проводить меня до двери) спустился по лестнице вниз. Очутившись наконец на крыльце, я сильно захлопнул за собой дверь.
А ночью, во сне, мне привиделся отец. Мы о чем то горячо спорили, вот только не помню уже о чем. Смутно припоминаю, что он поругивал меня за наивность, и только одна его фраза намертво впилась мне в тающее подутреннее сознание: "Нации часто ведут себя как плохие люди". Но в связи с чем была она им произнесена, так и осталось навсегда тайной.
А на следующий день, ближе к вечеру, город облетела страшная весть: Писатель скончался. Вернувшаяся с моря семья обнаружила Писателя в постели уже бездыханным. Официальный, опубликованный в печати диагноз гласил: кровоизлияние в мозг. И не верить этому диагнозу не было серьезных оснований.
X X X
Двое на берегу моря. Закат. Огненный шар навис над тонкой полоской далекого горизонта, вот-вот он коснется его своим багровым ободом и уйдет под кипящую воду. Вдоль ухоженного пляжа тянется белокаменный бордюр, за ним - заставленная длинными голубыми скамейками аллея. По ней цепляясь за остатки испарившегося летнего дня гуляют отдыхающие, да и на скамейках тесно от парочек, любующихся величественным полотном морского заката. На скамье, нежно прижавшись друг к другу, сидят Двое. Двое на набережной. Крупный план. Правая рука мужчины ласково касается вьющегося золотом локона молодой женщины, доверчиво склонившей голову ему на грудь. Она в легком летнем платьице, но колени прикрыты светлым жакетиком. Через минуту-другую солнце опустится за горизонт и просалютует финишной зеленой искоркой своим многочисленным огнепоклонникам. Над землей сгушается фиолетовый вечер, с моря дует свежий ветерок, в воздухе веет прохладой, и женщина зябко поводит плечами. Крупный план. Мужчина бережно накидывает жакет ей на плечи. Двое молча наблюдают за плоским красным диском медленно погружающимся в глубокую темную синеву. Заметна легкая округлость ее живота. Дальний план. Бриз и мелкие барашки до горизонта. Округлость живота совсем незаметна, белокаменный бордюр превратился в тонкую и длинную светлую полоску. Над аллеей витает дух безделья. Камера сверху: темнеющий пляж, громады высотных гостиниц, рой машин на широкой улице...
... Месяц сгинул будто и не было его вовсе, а потом еще месяц, и еще... Как летит время! И давно ли была она в Него влюблена? Даже не верится, что когда-то Он занимал столь несуразно великое место в ее мыслях. А как она страдала, мучилась, как плакала в подушку, как ныло в сердце! Нет, она ничего не забыла, да и не хочет забывать, но очень удивляется себе. Неужели замужество так ее изменило? Какой несчастной, никому не нужной, брошенной чувствовала она себя Тогда, как хорошо ей Сегодня, и все же чего-то недостает. Но ведь всегда чего-то недостает. Нет, нет, ни за что, ни за какие коврижки не променяла бы она счастливое Сегодня на неопределенное, кисло-сладкое Вчера. Сегодня у нее тихое, спокойное и уверенное в себе, широкое как... как прелестный залив, которым они не могут налюбоваться и который так умиротворяет их души. Ну а Вчера... Вчера она невольно сравнивает с океаном - прародителем всех морей, заливов, бухт и бухточек, океаном то величественно-мирным, то в гневе вздымающим к звездам сердитые волны-исполины. Но ведь вечно жить в океане нельзя, невозможно. И громадное спасибо ее Антону. Какое счастье, что после того, как вышла за него замуж, она и думать забыла о своих прежних увлечениях. Совсем недавно, буквально перед отъездом на море, она неожиданно столкнулась с Ним на улице. Лицом к лицу, не обойти стороной. О боже, что с ней приключалось при таких встречах прежде! Бросало в противную дрожь, кровь отхлынивала от лица, подкашивались ноги. А нынче они встретились как ни в чем ни бывало, просто как старые добрые друзья. И никакой дрожи, никакого жара в сердце, одно только гордое сознание того, что у нее есть муж, мужчина на силу, волю и плечо которого она вправе рассчитывать во всех жизненных ситуациях. Все было так просто и буднично, что потом она даже не смогла скрыть от себя разочарования, неужели от некогда всеохватного чувства непременно должно оставаться вот такое вот пресное ощущение? Ей даже жаль. Жаль не себя, она вполне счастлива, чего ей себя жалеть. Жаль потерянных лет, истрепанных нервов, жаль своей юности. Но все это - мятная женская жалость, а не мировая скорбь, не отбивающая вкус к жизни депрессия. Одним словом - мелочь. Ей так хорошо в эти сладостные минуты, и она так благодарна за это своему супругу, и голова ее удобно возлежит у него на сильной груди, и никого не замечаешь вокруг, и от него исходят нежность и тепло.
Какая красота кругом! Синее-синее море, багряный полукруг устало ныряющий в пучину, а через полчаса, не больше, вечерний небосвод усеется яркими звездочками, они весело замерцают, совсем как блестки на подвенечном платье, и мысли подхватят ее и унесут куда-то ввысь и вдаль... А сколь величав и статен степенно подплывающий к портовой гавани залитый светом корабль, сияющий в закатном полумраке лебединой белизной. Маяки у ворот гавани перемигиваются красными и зелеными огоньками, и отлично видно как, любуясь вечерним силуэтом праздничного белого курорта, сгрудились на носовой палубе лайнера пассажиры. Кто-то сойдет в порту на берег и канет в звездной курортной ночи, а вместо них теплоход-красавец примет на борт новых путешественников и ранним утром исчезнет в бледном море. Ей вдруг очень остро, до потери сознания, захотелось оказаться на палубе этого судна, далеко за полночь, одной, совсем одной. Или, еще лучше, на капитанском мостике. Тогда она откозыряет тающим светлячкам береговых огней и в знак долгого прощания с берегом лихо скомандует: "Самый полный вперед!". А когда светлячки погаснут в тумане прошлого и она наконец утолит сладкую жажду памяти глотками соленого океанского ветра, то она, утомленная, но полная сил, весело сбежит с капитанского мостика вниз, вихрем промчится мимо матросов и официантов, ворвется в самым роскошный бар и решительно потребует у бармена самый крепкий коктейль. А потом, пошатываясь добредет до своей каюты-люкс, свернется калачиком на мягкой постели и, предвкушая спелую зарю, уснет мертвым сном. А назавтра... назавтра Босфор, долгожданная стоянка в портовом городе Стамбул, а дальше Мраморное Море, Дарданеллы, таинства древней Эллады, и всюду на ее пути обжигающий нёбо коктейль, взбитый великолепным барменом в синем галстуке бабочкой... Ей следует подговорить Антона и отважиться на длительный морской круиз. Ее не устрашить ни грозными муссонами или пассатами, ни морской болезнью, ни ржавыми пятнами под ватерлинией. Давно в детстве, когда она еще училась в школе, родители прихватили ее с собой на борт отплывавшего из Батуми в Одессу корабля. Корабль звался "Украина", и они всей семьей очень весело проводили на нем время. Но в последний день плавания поднялся ветер, волны заходили ходуном и судно очень сильно качало. Тогда она держалась молодцом, лучше всех, и отец шутливо окрестил ее "старым морским волком". Но с тех пор прошло добрых два десятилетия, и за все эти годы нога ее так и не ступила на палубу настоящего лайнера. Хотя глиссеров, катеров и разных там "Комет" в ее жизни было хоть отбавляй.
Дарданеллы и Босфор. Босфор и Дарданеллы. Какие манящие имена! Они обязательно должны отправиться в дальнее плавание. Надо будет достать путевки. Она уверена - ее Антону это задание вполне по плечу. Чем они хуже других? Ей так хочется повидать мир. Только раз, еще в студенчестве, ей довелось побывать в Польше, и то по комсомольской путевке. Но это было так давно. В географию она влюбилась совсем маленькой девчушкой. Дух захватывало от звучных имен далеких столиц, широких рек, великих озер, гремящих водопадов и недосягаемых горных вершин, и оттуда, из далекого детства, сейчас выплыли эти сладостные названия - Босфор и Дарданеллы. Вокруг Европы на белоснежном лайнере, и не одной, а вместе с любящим мужем. Блистать счастьем и красотой - ну что может быть прекраснее! Какое все-таки эгоистичное чувство - разделенная любовь. Хотя, фи, "разделенная" - слишком казенное слово. Исполнение желаний - вот так будет правильнее. И какое великое счастье - дарить любимого человеку добро. И сколь ущербна любовь неразделенная - здесь это казенное словечко в самый раз. Она так хотела дарить Ему добро, но у нее, увы, накрепко были связаны руки. Ну и черт с ними, с мужиками, со всеми ее прежними поклонниками... О, ей слишком везло на хлюпиков пока не появился Антон. Она-то знает, ее надо было брать сильной, твердой рукой, без излишнего миндальничания. Она бы не оказала сопротивления. Ну, она не первого встречного, конечно, имеет в виду, первый встречный нарвался бы на решительную оплеуху. Она имеет в виду других, стоящих, влюбленных в нее, но не любивших как следует парней. Не любивших, ибо они действовали с оглядкой, избегали крайностей, а ведь только крайности и служат свидетельством истинной глубины чувства. И пусть несогласные сыпят округлыми фразами, - дескать, для того, чтобы любить, надо уметь и хотеть видеть, иначе можно не только проглядеть хорошего человека, но и задохнуться в трясине похоти и мещанства. Пусть их. Все это жалкие теории, уж она-то знает им цену - дырявый грош в базарный день. Даже самые отчаянные моралистки ночами мечтают о сильном и грубоватом мужчине, даже чуточку экстравагантном, ну таком, конечно, чтобы пришелся по душе, и пробавляются пресными теориями только пока вокруг них пустота, вакуум. Все мы, бабы, моралистки, пока не грядет час. И одного только требуем по-настоящему: чтобы наш мужик с нами считался. Пройти мимо хорошего человека, ишъ-ты! Пускай сам не проходит мимо, коли такой молодец, пускай переводит слова на язык дел. Вот так, как это сумел сделать Антон. Ради нее от старого друга отступился, как же его после этого не ценить? Антон вел себя как настоящий мужчина и вот итог: в сей поздний час именно она, а никто другая, склонила голову ему на грудь, и прощальный солнечный зайчик тому свидетель. Вот так: в конце концов и ей улыбнулось счастье. Вот оно, ее счастье: в нежном касании ее волос с рубашкой мужа, в лебединой белизны кораблике, что так внезапно пробудил дремавшее в глубине ее души желание постранствовать по морям-океанам, в той священной, пока едва заметной тяжести в нижней части живота, что скоро целиком перевернет ее жизнь... Мужчина чуть отодвинулся от нее, устроился поудобнее, и в голову женщине воровато и неожиданно прокралась крамольная мыслишка: а так ли это? А может она просто придумала свое счастье? Неужели больше ничего не случится? Никаких изменений? И ее вместившее в себя столько мук и страдании прошлое, - всего лишь бурная прелюдия к совершенно обыденной семейной жизни. И это все? А кем же были люди, которых она когда-то вычеркнула из своей жизни, и существовали ли они вообще? А может они были всего лишь плодами ее болезненной фантазии, эдакими фантомами, призраками? И она их придумывала точно так же, как в далеком-далеком детстве злых и добрых духов? Признаться, она редко думала о них как о живых людях, с их горестями, радостями, характерными слабостями или жизненными принципами, но разве они не отвечали ей тем же? Разве Он хоть вот столечки ей сочувствовал? Э-эх, от подлинного сочувствия до любви не такое уж большое расстояние. Но Он был слеп, Ему было все равно, и она, если честно признать, тоже была слепа. Недаром ведь сказано, что любовь слепа, она любила - и все. Влопалась просто потому, что подступило время, а дальше к инерции постоянно примешивалось упрямство. А человеческая суть Его всегда была для нее закрыта, И славно, что закрыта. Наверное, оттого-то с таким спокойствием вспоминает она о не так давно до краев переполнявшем ее бурном чувстве. Ну а кто-же был кроме Него? Художник, которым она чуть было не увлеклась? И вспоминать не хочется. Друг Антона - Чурка-чурочек, по уши в нее влюбленный? И вспоминать не... Женщина остерегается ставить точку. В его любовь она никогда по-настоящему не верила и оставалась к нему совершенно равнодушной, но последний разговор с ним, разговор происшедший слишком поздно, когда все уже стало ясно как день и ничего изменить было нельзя, вынудил ее оценить этого человека несколько иначе. Нет, она, конечно, ни в коей мере не сожалеет о своем выборе, все у нее сложилось - лучше некуда, Антон так нежен с ней и с таким достоинством держится в обществе, что находясь рядом с ним она совершенно не страшится за свое будущее. Нынче она чувствует себя как за каменной стеной, а раньше... раньше подружки любили сравнивать ее с загнанным кроликом, так часто и нескладно пыталась она выдавать за спокойную уверенность рассчитанную на внешний мир молодецкую браваду. Может ли она сейчас сказать себе, что ее девичьи мечтания наконец сбылись? Она даже не знает. Может - да, а может и нет. И если нет, то, наверное, иначе и быть не могло, грезы на то и зовутся грезами, что создаются свободным от оков ежедневной рутины воображением. И все-таки, - долой сомнения! Самое большое счастье ждет ее впереди. Она на третьем месяце, совсем скоро в их жизнь войдет быт. Быт - это когда день сменяет ночь, ночь - день, и приходится стирать пеленки. И очень многое зависит от того, как умело они с ним справятся, она хорошо сознает это. Что ж, она готова и к этому испытанию. По сути дела, к нему она стремилась всю свою жизнь. Счастье - это просто хорошо устроенный быт, а иначе может думать только самовлюбленный неудачник. Таким романтика необходима как... как бензин автомобилю. Таким, как... как тот ее угрюмый поклонник, которого она когда-то, еще до того письма, прозвала Чуркой. Женщина вздрогнула от неожиданности. Неужели это она о нем так - романтик? Или виной этой бессмысленной оценке замерзающие на небосводе звезды? Да и положа руку на сердце, какой из него романтик? Человек бросивший науку в погоне за карьерой и властью, глупец променявший творческую работу на нудную тянучку в горсовете. Что ж, возможно он и не прогадал. Как это ни странно, нынче, когда их контакт сведен к минимуму, она понимает его гораздо лучше, чем прежде, чем в ту бесконечно далекую пору, когда он так домогался ее благосклонности. Но для этого надо было пережить тот разговор, первый и последний настоящий разговор между ними. Говоря откровенно, она надеялась, что Антон порвет с ним. К тому и шло, как забыть ей тот вечер в ресторане, когда Чурка напился до потери человеческого облика, но... но каким-то чудом им удалось сохранить видимость нормальных отношении, до разрыва не дошло, и теперь она даже рада, что так получилось - она не хотела бы чувствовать себя злодейкой. Всяко бывает в жизни. И романтику этому не в чем ее упрекнуть, она никогда его не обнадеживала, и если ему так уж хочется искать виноватых, пусть винит своего друга, или бывшего друга, ей безразлично, она не причем. Вот уж прямо - исполкомовский романтик. Неужели он надеялся завоевать ее сердце находясь за тысячи километров от нее? И полагал, что двух-трех скоротечных визитов достанет для того, что спалить ей душу? С чего бы это? Неужели он не понимал, насколько был ей необходим настоящий сильный мужчина, и не за тысячи километров, а рядом? Может, тогда... Его не отпускала работа? К черту работу! Его не отпускал сыновний долг? Но разве виновата она в том, что он так и не решился оставить на какое-то, неизвестно на какое, но на конечное же время, свою пожилую мать? Да он просто обязан был рискнуть ради того, чтобы попытаться ее уговорить, убедить в искренности своего чувства. Хотя... Возможно, она все равно сочла бы его черствым эгоистом, - если нет любви, то и в предлогах не может быть недостатка. Да она и не верит, что это он из-за матери, - да он просто просиживал штаны в своем учреждении. Она не любила и не полюбила его, но этот последний, искупительный разговор был все же необходим. С той поры она лучше понимает не только его, но и себя. Словно стала богаче. Как это ни странно, но только тогда она поверила в то, что действительно была любима, а ведь никакие письма не смогли ее убедить в этом. И еще: она поняла, насколько удобно было думать, что Чуркой руководил лишь трезвый расчет и что нравилась ему не как личность, а как... ну хотя-бы как будущий кандидат наук, кому не хотелось бы иметь интеллигентную женщину под боком, что... И миллион других Что. Но, в конце концов, ему удалось убедить ее в неподдельности своей любви. Она догадывается, что романтик-Чурка испытал от этого глубокое моральное удовлетворение. Основные части его разбитой армии стремительно отступали, штаб драпал что было мочи, но прикрывавший это позорное отступление арьергард не сдался до конца и герои-драгуны окропили своей алой кровью покинутые регулярным войском редуты и флеши. В юности она охотно читала про Наполеона и Бородино, и еще про странного молодого человека по имени Пьер, поэтому она отличает авангард от арьергарда... Пожалуй, романтик-Чурка мог бы гордится последним арьергардным сражением. Только вот не совсем понятно: за нее он сражался или против? Если за, то ему многое можно простить, если же против, то... то он даже хуже, чем она предполагала. Теоретик от любви... Как это он ей сказал тогда: "Для того, чтобы любить, надо не только уметь, но и хотеть видеть. Если одно из этих условий не выполнено, то либо любви нет совсем, либо человек немая игрушка в руках слепой страсти. Моя беда в том, что я всегда видел слишком много". Главного он не видел! Но говорил уверенно, хотя и печально. Словно завещание оставлял. Фиксировал, так сказать, последнюю волю. Но из жизни не ушел, не-ет, на такое его романтизма недостало. А по ней, только слепая страсть - страсть настоящая. И пусть ты как кукла на ниточках, все равно прекрасно. В другой раз она с удовольствием поспорила бы с ним. Но и он тоже по-своему прав. Любить не попрекая за явные недостатки; знать то, чего знать не следует, и все-таки любить - на такое способен далеко не каждый. Но Антон все же любил ее сильнее. Иначе мосье романтик сражался бы до конца. Не распрощался бы раз и навсегда, а совершил бы во имя своей любви, единственной и неповторимой, какое-нибудь сумасбродство. А ему - лишь бы уйти красиво, и неважно - с высоко поднятой головой или с поникшей... Последним словом его было "спасибо", она спросила: "За что?", естественный вопрос, и не получила ответа. Он только вымученно (или загадочно?) улыбнулся, повернулся и ушел. И в самом деле, - за что "спасибо"? За то, что научился любить? Или за то, что научился терпимо относиться к миру и людям? Или нелепое это выражение благодарности было преисполнено грустной иронии, которую ему вздумалось соотнести с ее душевной слепотой, как же это она, такая-сякая, эдакую любовь да и не оценила? Нет, правда, за что "спасибо"? Она не поняла, а ему бы только красиво уйти.
Но они, ее муж и Чурка, все-же продолжают встречаться. Изредка, но все же... Она не может понять: что за пуповина связывает этих людей? Как отнестись к тому, что даже схватка из-за любимой женщины, схватка принесшая полную победу одному и абсолютное поражение другому, завершилась каким-то подобием почетного мира. Необъяснимо, но факт. И даже ей после того, последнего разговора, приходится обмениваться с Чуркой ничем не обязывающими вежливыми фразами. О, мы очень современные люди. Антон вовлек ее в какую-то странную игру, и она смиренно соблюдает ее правила, хотя и не вполне понимает ее цели. И игра эта ей не очень нравится. Она облагораживает крамолу которую следовало бы выжечь дотла. Вот и сейчас: у нее появилось ощущение того, что они с Чуркой тогда чего-то не договорили, и только их положение, - ну причем тут их, не их, а ее положение, - мешает им исчерпать чашу взаимного познания до дна. Изменить-то все равно ничего нельзя, и слава богу. Она любит мужа, любит своего Антона, Антошу, любит, любит, любит. Женщина упрямо и сердито повторяет это слово мысленно и теснее прижимается виском к мужниной груди. Все-таки она немного растерялась. Она любит своего супруга и не намерена ему изменять, тем более с давно отвергнутыми поклонниками, это было бы в высшей степени непристойно. И с чего это вспомнилось о Чурке в такой приятный вечер! Со страху женщина еще крепче прижимается к мужу, и тот, немного удивленный неожиданным проявлением нежности, целует ее в волосы. Надо крепче любить тех, кто заботится о тебе, назидательно внушает себе женщина, иначе напрочь забытое Позавчера способно обрушить оземь устоявшееся Сегодня Ах, как нелегко бывает порой бороться с собственной памятью. Она не хотела бы думать ни о ком из них, ни о Нем, ни о Художнике, ни о Чурке, но именно потому, что не хотела бы, иной раз и думает. К Нему, ради которого она так убивалась, нынче она равнодушна до неприличия. Художник... Это неспетая песня и еще неизвестно как бы ее мелодия прозвучала, ну и бог с ним, она не желает ему зла. А с этим горсоветовским... Впрочем, он уже не горсоветовский. Антон недавно обмолвился, и она почуяла как это ему неприятно, что его друга, или бывшего друга, избрали в Верховный Совет. Ну конечно же, ему не должно быть приятно его служебное продвижение, да и ей, признаться тоже не очень. Но муж вынужден был поставить в известность и ее. Уж лучше он, чем ее сплетницы-подружки. Наверное Антон прав. Если уж они не порвали между собой тогда, то тем более незачем делать это теперь. Лучше уж не переступать через некую грань, лояльность сквозь зубы... Она вовсе не жаждет роковых сцен. Она не злодейка, и чем больше задумывается над всем что было и чего не было, тем менее желает лишать себя этого старого знакомства. Нет, она не злодейка. Пусть его, пусть делает себе карьеру в лабиринтах власти. Вот уж кому суждено объехать земной шар! Хотя кто его знает, может еще оступится и сорвется вниз. Заранее не скажешь. Пусть делает карьеру и по ночам вспоминает о том, что когда-то был без ума от Девочки и "Амаркорда" в кинотеатре на заснеженном бульваре. Бывали дни-денечки. А она совершенно, ну вот ни на столечко, не виноватая перед ним. Не екнуло сердце и... все права. Это он был от нее без ума, а не наоборот. Они ничем его не обнадеживала, ничего не обещала, совесть ее чиста. Пусть пеняет на себя, карьерист несчастный! Нельзя же быть таким чуркой, нельзя же рассчитать целую жизнь, все ее изгибы, промерить каждый шаг! Он хотел добиться ее сердечного расположения малой кровью. Слишком малой - вот в чем корень зла! Если любишь, будь добр, докажи это, сделай что-нибудь стоящее, и сделай ради меня, меня единственной, а не просто так, ради жизни на земле. А все-таки Антон немножко ревнует ее к нему, шестым чувством ощущает она эту неуловимую на ощупь ревность. Он ничего не знает, конечно, об их последнем разговоре, но подозревает, что их связывает нечто большее, чем отношения между победительницей и отвергнутым, и, видимо, не уверен, что его бывший друг окончательно похоронил свои надежды. И все же Антон не спешит с ним рвать, тут что-то не так, какая-то лакуна, что-то неясно. Справедливости ради следует признать, что исполкомовский романтик не только слал ей пространные письма, но и пытался кое-что сделать, но она слишком поздно узнала об этих его попытках, а то неизвестно как бы все еще повернулось и как сложилась бы ее судьба. А письма были все-таки особенные. Она их не порвала, не хватило духу, а надежно спрятала, так спрятала, что Антону никак не добраться до них. Они все же вошли в ее жизнь, заняли скромный уголок в памяти. Ведь такие письма получаешь не каждый день. Два письма, всего два. Первое она нашла в почтовом ящике на лестничной площадке, оно чин-чинарем было вложено в стандартный конверт без указания адреса отправителя. Второе... Он прилетел в Москву специально для того, чтобы вручить ей это послание. Он не был уверен, что она выслушает его, да она и не уверена, что стала бы его слушать. Но он, хитрец, все равно сделал так, что Второе письмо попало ей в руки. Он позвонил ей в пятницу поздно вечером. Она была не в настроение, не хотела его видеть, и только воспитание не позволяло ей сказать об этом прямо. Но она ясно дала ему понять... Что-то она придумала. Кажется, она сказала, что утром уезжает к друзьям на подмосковную дачу, или что-то этом духе. А там и понедельник... Да, у нее было серьезное преимущество, но отчаяние придало ему отваги и, несмотря на позднее время, он обещал приехать через сорок минут - обещал и повесил трубку, она даже возразить ему не успела. Дело близилось к полуночи, и делать было нечего, ей пришлось впустить его в дом. Он даже не поздоровался, не снявши пальто только положил какую-то книгу на платьяной шкаф и лицо его странно исказилось, то ли от ярости, толи от еле сдерживаемого рыдания. "Это подарок...". "А если я его не приму?". Но он повернулся и исчез в морозной ночи. Шкаф был высоким и она не смогла бы запросто достать книгу и вернуть ее ему царственным движением руки, ну а прыгать при нем... нет, ей не хотелось выглядеть смешной или слишком ему близкой. Он исчез, а книга так и осталась лежать на шкафу. Делать было нечего и она вскочив на табуретку и привстав на цыпочки достала книгу и развернула ее. Чья-то биография, а между страницами конверт, незапечатанный конверт, и в нем листки. Вот таким путем попало к ней Второе письмо. Но Первое было добрым, а Второе колючим и резким. Не так давно она не удержалась и еще раз перечитала эти письма. В Первом было семь страниц, во втором - девять. Всего шестнадцать страничек, исписанных убористым, мелким, хотя и довольно ясным почерком. Шестнадцать страниц его жизни. И немножко ее. Если честно, то приятно сознавать что можно влиять на мужчину так сильно. Но все-таки письмо, - это теория. "Теория, мой друг, забавна...", или как там у Гёте? Ничто не в силах заменить живого общения, никакое написанное пером слово не сравнится по силе воздействия со звуком, никакой, самый томный взгляд - с ласковой, но мужественной и твердой рукой. Он оказался слабее Антона в главном - в действий. Теоретики подчас любопытны и человечны, но за ними никак не почувствуешь себя как за каменной стеной. А все потому, что в глубине души им наплевать на твое желание быть завоеванной в борьбе, они ждут от тебя пристрастия с самого начала, а случись потом какая нибудь ссора - с полным основанием влепят тебе словесную пощечину: "Ты сама этого хотела". Вот о чем мечтают теоретики - подчинить тебя своим привычкам, а любимые привычки им дороже любимых людей. Эгоисты. Она всегда считала его теоретиком и только последний их разговор, к сожалению, основательно потряс ее схему. Что ж, в конце концов она вынуждена была прийти к выводу, ей не оставалось ничего другого, что друг Антона, этот самовлюбленный теоретик Чурка, не только слал ей любовные письма, но и старался как-то воздействовать на ход событий. Правда, действовал он как-то неуклюже и вдали от нее .Неожиданно выяснилось, что он знает о ее жизни слишком много, может столько, сколько она и сама о себе не знала. Ей и сейчас не вполне ясно откуда удалось ему прознать столько всякой всячины. Чего только там не было - Он, Похожий, Ловкач, ее товарищи по работе, поклонники разного калибра, подруги, друзья, враги, родственники - и как только ему удалось... Словно он возглавлял хорошо законспирированную шпионскую сеть. А когда она напрямик спросила его: "Откуда?", он криво улыбнулся и ответил:"Для этого надо было любить тебя так, как любил я", и не стал вдаваться в подробности. А жаль! Именно подробности-то и интересны. Иной раз она ловит себя на том, что с удовольствием убила бы его. И вовсе не потому, что он знает о ней слишком много или позволяет себе трепать языком, - да и знать-то о ней особенно нечего, - а за то, что он вообразил себя директором ФБР. Или КГБ, какая разница. Экая наглость, собирать о ней сведения! Впрочем, в Тбилиси и шагу так не ступишь, чтобы в ухо не накапали... она и сама о стольких наслышана... и еще он, найдя в себе силы пошутить, добавил: "методом дедукции", и это, может быть, была правда, но все же она в какой-то миг с удовольствием прикончила бы его и никто не осмелился бы осудить ее за немотивированное убийство. Но ей удалось подавить это совершенно дикое желание в зародыше. На самом деле она довольно высокого мнения о его человеческих достоинствах и почти уверена, что он ни за что не станет пересказывать досужие сплетни. "Для этого надо было любить тебя так, как любил я". А вот она ничего не знала о Нем, ничего не вынюхивала, просто восхищалась им, и неужели ее любовь, такая мучительная и безнадежная, была чувством менее чистой пробы? Ни за что на свете! А может она просто недооценила глубину ума своего неудачливого поклонника. Из чистого милосердия, следовало бы, пожалуй, признать, что она была любима человеком творческого склада души, об этом вопияли шестнадцать исписанных убористым почерком страничек, но она так поздно услышала этот крик! Как жаль, что он избрал полем своей деятельности политику, низменное занятие для сухих и черствых бюрократов, - вот она и приняла его всего лишь за механизм, сложную, но марионетку, за технического исполнителя чужой вышестоящей воли. И к тому времени когда она, дозрев, оказалась бы в состоянии переменить это свое мнение, было уже слишком поздно. Антон уже успел получить от нее положительный ответ, и только выходящее из ряда вон сумасбродство способно было изменить что-либо. Но сумасбродства не последовало. Он сказал "спасибо", помахал ручкой и ушел, ему бы только красиво уйти. А у нее на душе остался какой-то мутный осадок. Он говорил ей вещи в которых она себе не признавалась, даже и не думала о них, - не очень-то благородно с его стороны. В канун собственной свадьбы она вовсе не нуждалась в психоанализе. Совсем наоборот. И он тоже хорош, - разве любовь нуждается в кропотливом изучении слабостей любимого человека? Наверняка нет. Она вот очень Его любила, но совсем ничего о Нем не знала, да и не стремилась узнать, даже свадьбу - и то прошляпила. Так неужто она любила хуже? Не хуже, а лучше, чище любила она, вот. А такие как Чурка способны заранее подсчитать в какую копеечку влетит им свадебное путешествие. Она тогда спросила его, все-таки не удержалась: "Допустим ты докопался до того, что я тщательно от всех скрываю. Зачем тебе это нужно?". И он ответил улыбнувшись покойницкой улыбкой: "Ты хорошая и тебе нечего скрывать. И никаких тайн я не открывал, просто собрал все воедино. Если хочешь знать, я вообще никогда не придавал твоим слабостям или глупостям серьезного значения. Мы же не дети. Жизнь сложна. Не упрекай же меня за то, что я не хотел выглядеть дурачком. Я не умею быть слепым, и это не вина моя, а беда".
И все-таки ее иногда охватывает безотчетный страх и тогда она желает ему смерти. Смерти, а не боли. Но это страх за себя, такую стройную и тоненькую, нетвердо стоящую на земле, а не желание отомстить человеку, любившему ее так сильно, что любовь эта, естеству и назначению вопреки, обратилось в бесполезное знание застлавшее ему небо. Что ни говори, а гордость ее была уязвлена, она никому не разрешала так разговаривать с собой. Он и только он повинен в том, что сегодня ей труднее обманывать себя, чем когда-либо раньше. Иногда ей кажется, что будь он хоть на капельку глупее, их роман мог бы состояться. Но и это, наверное, неправда. Просто они не подходили друг другу. И еще, - и это тоже важно, - он был слишком далеко. По правде говоря, она неплохо к нему относится. Во всяком случае гораздо лучше чем раньше, когда она всячески подчеркивала равнодушную дистанцию: "спасибо. .. извините... спасибо... извините...". Она оказалась послушным инструментом в руках высшей силы. Не виновата же она, в самом деле, в том, что Антон влюбился в нее и захотел взять в жены, как и в том, что она ответила ему взаимностью и вышла за него замуж. Она, слава богу, не жалеет о сделанном выборе. Антон заботливый и нежный супруг и, - она полностью уверена в этом, - в скором будущем достойный отец ее детей. Кроме того Антон трудолюбив, на работе его ценят и уважают, он обязательно добьется своего, и у него не пусто ни в голове, ни в кармане. В общем, Антон как ему и положено, настоящий мужчина в доме, и отныне ей не придется вертеться как белке в колесе. Впрочем, время покажет. Им предстоит длинный-длинный путь - целая жизнь, а жизнь прожить - не поле перейти. А лайнер вокруг Европы возникнет в их жизни всенепременно...
...Средний план. Солнце давно ушло за горизонт и над скамейками ярко вспыхнули светлячки лампионов. Женщина, будто очнувшись от тягостного сновидения, неожиданно встрепенулась и резким движением отстранилась от неподвижно сидящего мужа. С моря завеяло прохладным ветерком. Мужчина поежился и вынул сигарету из нагрудного кармана. Через минуту-другую пара поднимется со скамьи и неспешно побредет по аллее. В гостиничном буфете их ожидает легкий ужин перед сном. Стоп-кадр.
X X X
Планета Земля шагнула в двадцать первый век.
Несмотря на то, что за последние два тысячелетия матушка-Земля основательно поистрепалась, она все же оставалась удивительной и прекрасной колыбелью редчайшего галактического чуда - жизни. И не просто жизни, а жизни разумной, - такой не следовало бы слепо страшиться естественных напастей. Постепенное исчерпание невосстанавливаемых природных ресурсов, загрязнение рек, морей и океанов, разорение нерестилищ и сокращение лесных массивов, повышение концентрации углекислого газа в атмосфере и утечка фреона из холодильных агрегатов: эти - и другие подобные - раны продолжали саднить и в двадцать первом веке, но разум на то и разум, чтобы успешно справляться с задачами неизбежно возникающими в ходе технологического прогресса. Причин для воодушевления хватало. Век двадцатый человечество отметило воплощением в металлическую конструкцию дерзкого проекта инженера Эйфеля, век двадцать первый - окончательным посрамлением черно-белого телевидения. Где-то вблизи маячила победа над сердечно-сосудистыми заболеваниями и автомобильными катастрофами, ну и что с того, что плоды прогресса не валялись на скамейках и тротуарах, в урочный час они превратились бы в общедоступный товар, так всегда бывало в истории. Итак, с прогрессом дела обстояли неплохо, научные исследования шли своим чередом, аспиранты недосыпали, мыли пробирки в лабораториях, и, улучшив минутку, забегали в библиотеку за новыми научными журналами; их шефы покушались на сокровенные тайны мироздания, капитаны промышленности внедряли в производство обещавшие принести наибольший экономический эффект новинки, с компьютерами и мобильными телефонами научились обращаться даже домашние хозяйки и дети. Сложнее было с социальными проблемами. Тут в сущности похвастаться было нечем. За последние лет пятнадцать-двадцать политическая карта мира так и не претерпела сколь-либо заметных изменений. В список знаменательных событии конца прошлого столетия можно, пожалуй, включить падение диктатуры Дювалъе на Гаити, народно-демократическую революцию в Боливии, осуществленную президентом левой ориентации национализацию базовых отраслей экономики в Сенегале, восстановление демократических форм правления в Чили, Парагвае и Бангладеш, официальное объявление независимости Намибией, подписание мирного договора между Ираком и Ираном, успешные военные перевороты в Таиланде и Габоне, неудавшуюся попытку вырвать из орбиты империализма Пакистан (пришедшее в Исламабаде к власти популистское правительство не устояло под натиском реакции и через несколько месяцев было в буквальном смысле похоронено в ходе успешного контрпереворота нити которого тянулись в ЦРУ), да еще кровавую вакханалию на Ямайке, напомнившей всему миру о том, что маньяки полпотовского типа не перевелись окончательно и готовы показать когти при каждом удобном случае. Вот, пожалуй, и все. Но какими бы важными перечисленные события стороннему наблюдателю не казались, полюса власти в Москве, Вашингтоне и Пекине практически полностью сохранили свою притягательную силу. Замедлила бег Япония, начала сказываться острая нехватка собственных ресурсов и окрепли конкуренты, особенно в отраслях где японцы занимали лидирующие позиции - в электронике и робототехнике. Несколько подтянулась Западная Европа и интеллектуальный мир вновь обратил воспаленный взор на европейский культурный феномен. Возрождалась и крепла вера в духе "ретро", вера в особое предназначение Старого Света как Ноева ковчега современной цивилизации. Увеличение доли Западной Европы в валовом производстве капиталистического мира естественным образом сопровождалось ростом ее политического веса. Евросоюз постепенно обретал черты сверхдержавы и, как очевидное следствие, возрос интерес к материальным и духовным условиям существования западноевропейских народов. Не дремали, разумеется, философы. Не случайно настольной книгой многих западных интеллектуалов стал фундаментальный труд некоего Байара "Антишпенглер", изданный впервые в Париже в 2007 году.
Сейчас уже нелегко установить, что было причиной, а что - следствием; новый ли цикл экономического подъема способствовал развитию политической лихорадки, или наоборот - возросшая активность различных слоев самодеятельного населения привела к заметному ускорению темпов роста производительности труда, но, к большому сожалению европейских либералов, экономическое процветание, как это случалось и встарь, так и не одарило европейцев сколь-либо гармоничным сосуществованием. Хотя в ходе военных действий было безвозвратно утеряно слишком много документов той эпохи, бесспорно одно: уже к концу первой четверти двадцать первого столетия капиталистические страны Европы столкнулись с новой серьезной пролемой - экономическим кризисом особого рода и связанной с ним опасностъю дестабилизации привычных политических устоев общества. Да и кризис ли это? - вопрошали экономисты и политические комментаторы. Его нельзя было назвать кризисом перепроизводства, ибо безработных в очередях на биржах труда и копавшихся в мусоре в поисках съестного нищих в странах Западной Европы насчитывалось в процентном отношении не больше чем, скажем, в восьмидесятых годах двадцатого столетия. Основная масса выбрасываемых на рынок товаров находила своего покупателя, изделия сложного технологического профиля пользовались все возрастающим спросом населения. Неверно было бы окрестить кризис "сырьевым", "базисным" или "надстроечным". Новизна момента состояла в том, что уже к концу первой декады годам нового века границы национальных экономик превратились в совершенно расплывчатую условность. "Общему рынку" такое и не снилось. Элементарный арифметический подсчет показывал, что около четырех пятых всего валового продукта любогоо западноевропейского государства производилось на принадлежавших транснациональным концернам предприятиях. Число действовавших под наднациональным флагом фирм угрожающе возросло. Процесс концентрации капитала с невиданной ранее легкостью подминал собой гербы, гимны, флаги и прочую национальную символику. Данный процесс сам по себе не был нов, новизна заключалась в его поистине всесокрушающих масштабах. Процесс глобализации уверенно шагал по планете. Погрязшая в схоластических дискуссиях интеллигенция никак не могла разобраться к какой нации она, собственно говоря, принадлежит. Космополитизм стал модой дня. Шовинисты и самые разнообразные люмпены драли глотки на демонстрациях, направленных против распродающих национальное достояние с молотка предателей-депутатов, а в то же самое время велеречивые министры, руководствуясь программными установками крупного капитала, втихую накладывали очередную положительную резолюцию на очередной проект по слиянию отечественной когда-то фирмы с иностранной компанией. Это были времена триумфального торжества принципов свободного предпринимательста и беспошлинной торговли. Конечно, подобное практиковалось и раньше, но масштабы, масштабы... Да разве только Западная Европа. Нынче дельца с Филиппин можно было так же часто встретить на Елисейских полях, как истинно парижского ажана. Гиндзё заполонили хваткие бизнесмены из апельсиновой Сицилии, а подряды на строительство кемпингов на Фиджи или отелей на Балеарских островах с большей охотой предлагались не испытанной, но постепенно прогоравшей в жесткой конкурентной борьбе "Хилтон Корпорейшн", а англо-испано-сингапурскому гиганту "Хэвиленд Янг Парана Интернэшнл" - быстрее, лучше, дешевле. И даже хамбургеры вне которых типичный американец с трудом представлял себе рабочий день, ныне поставлялись в автоматизированные кафетерии итало-американской пищевой монополией "Макдонаддс Пиццериус Компани". Контрольные пакеты переходили из рук в руки на торгах и тендерах, и вот уже основную массу тонизирующих напитков поставляла в супермаркеты супермонополия "Мессершмидт Пепсико", а бананами в придорожных палатках и ресторанчиках чуть ли не по всему миру торговала всесильная "Шелл Фрют". И даже прибравшим к рукам большую часть чаеразвесочных фабрик мира владельцам концерна "Дарджалинг инкорпорэйтед" отныне приходилось общаться друг с другом исключительно на английском языке, - факт, мимо которого не прошел дотошный репортер из "Уорлд пэрейд", этого выходящего в свет на двадцати семи языках Земли сверхпопулярного иллюстрированного еженедельника...
Такие были времена. Дошло до того, что объективные исследователи столкнулись с неожиданными методологическими затруднениями: национальную принадлежность типичного буржуа, и ту невозможно становилось определить, ибо источники приносившие ему доход и прибыль находились, как правило, за тридевять земель от места его жительства. Непонятно было из каких поступлений складывался его доход, так все было запутано-перепутано. Неясно было куда вкладывалась прибыль - цепочка оказывалась слишком длинной, а банковские операции занимали миллисекунды - поди-ка, разберись. Неизвестно, хотели того профсоюзные вожаки или нет, - но организованный рабочий класс европейских капиталистических стран стал расслаиваться на страты по тому же принципу, что и буржуазия. Ведь испокон веков голосовавшего за левого депутата Жану из парижского предместья, теперь приходилось работать не на Францию, и даже не на Хозяина, а черт-знает на кого, а то что американскому брату Жана по классу также нередко выпадало прислуживать некоему суровому иностранному господину (при том, что американцы все-таки стояли на капитанском мостике, а доллар оставался сильнейшей из мировых валют), служило весьма слабым оправданием происходившему в глазах немногих независимых людей, олицетворявших национальную совесть Франции. Итак, экономика процветала, рынок насыщался продуктами, спрос поспевал за предложением, темпы инфляции оставались терпимыми, а клубок противоречий становилось все труднее распутать. Фактически гражданам предложили - во имя процветания транснациональной экономики - не валять дурака и навсегда позабыть о таких понятиях, как "родина", "национальная честь", "национальный экономический интерес", тем самым взвалив на их психику непосильную ношу. Но в который раз хитрецы обманули только самих себя. Как и можно было ожидать, национальные предрассудки оказались слишком живучими для того, чтобы с ними удалось расправиться так же легко, как с геральдикой и символикой. Чересчур сильно натянутая пружина вскоре пошла сжиматься в обратном направлении. Для нарушения неустойчивого равновесия достаточно было малого толчка, и толчок этот не заставил себя ждать. К началу второй декады века экономическая конъюнктура ухудшилась и количество безработных в Западной Европе в течение каких-то трех-четырех месяцев увеличилось на пять миллионов человек, а угрозу почувствовали все. В прежние времена может и обошлось бы, но сейчас... По всей Западной Европе прокатились мощные выступления трудящихся, в передних рядах демонстрантов, конечно же, находились коммунисты и другие леваки. Наибольшей популярностью пользовался лозунг призывавший всех, всех, всех бойкотировать производимые на заводах и фабриках транснациональных компаний товары. Бойкот, разумеется был неосуществим, но в создавшейся обстановке левые силы перехватили инициативу и, оттеснив назад исконно правых националистов, под ура-патриотическим покрывалом повели наступление на святыню святых "свободного мира" - частную собственность. Запахло гарью, и на политическом горизонте западноевропейских стран отчетливо замаячил призрак Народного Фронта. На стороне буржуазии и транснациональных компаний были безработица и угроза заморить ослушников голодом и нищетой, окончательно заменив их роботами и автоматами. На стороне пролетарских и полупролетарских слоев - классовая дисциплинированность, а также четкое осознание того факта, что борьба против отечественных эксплуататоров и иностранных экономических агентов суть неделимое целое. Как ни странно, но идею бойкота поддержали многие мелкие и средние буржуа из тех, что оставались за бортом транснационального процветания. С другой стороны, в двойственном положении очутились миллионы и миллионы рабочих, занятых на предприятиях транснациональных концернов. Ведь их благополучие, как и благополучие их семей, целиком зависело от финансовых показателей работы тех предприятий, на которых они гнули спину. Но и таких, склонных к оппортунизму рабочих трудно было заставить производительно трудиться в атмосфере нетерпимости, нагнетавшейся вокруг деятельности "трансков" - этих чудовищных монстров эпохи империализма, осыпавших граждан дешевыми калориями и джоулями в блестящих упаковках и отбиравших у них последние крохи национального самосознания. Но, в конечном счете, завоевать симпатии людей оказалось не под силу даже этим монстрам. Выборы, прошедшие в странах Западноевропейского Союза в 2011-2012 годах, принесли внушительную победу левым партиям. Чудесным образом, а больше под влиянием обстоятельств, социалисты и коммунисты временно забыли об идеологических разногласиях и выступили на выборах как единая, хорошо организованная сила. В Италии, Испании, Франции, Дании, Швеции, Бельгии, Нидерландах, Португалии, Греции, на Мальте к власти пришли социал-коммунистические коалиции. В Англии у руля встали лейбористы, в Западной Германии - социал-демократы. И хотя почти всюду роль первой скрипки в коалициях досталась социалистическим, следовательно реформистским партиям, крупная европейская буржуазия наконец-то почуяла смертельную опасность своему классовому господству. Политическое наступление левых грозило взорвать все здание европейского порядка, дельцы в панике переводили свои состояния за океан, лихорадило биржи; фунты, марки и франки покатились вниз, мечту о едином евро пришлось забыть, жадные заокеанские банкиры радостно потирали руки, не забывая, впрочем, о политике. Белый Дом и госдепартамент тоже забили тревогу. Но традиционная европейская буржуазия обладала достаточным историческим опытом классовых сражений. Проявив полную готовность игнорировать формальные и неформальные признаки национального суверенитета она перегруппировала силы, сомкнула ряды и ринулась в контратаку. На стороне европейских буржуа был могучий фактор, который она не преминула использовать в своих классовых интересах. Великая Америка, несмотря на интернационализацию ее экономики, оставалась отменно капиталистической страной без каких-либо вывихов левого толка. Противоборство классовых соперников в Западной Европе происходило на неизменном фоне стратегического паритета великих держав. И это обстоятельство лишало рвущийся к революционной власти рабочий класс западноевропейских государств надежд на открытую и эффективную помощь с Востока. Ну и, кроме всего прочего, буржуазия держала в запасе штык - в любой момент улицы европейских городов могли окраситься алой кровью рабочих и студентов. Армия, как и прежде, оставалась наиболее консервативным институтом общества. Невзирая ни на какие изменения экономической и социальной конъюнктуры, НАТО и Варшавский блок продолжали укрепляться и противостоять друг другу. Таким образом, официальная военная политика социалистических правительств Западной Европы была ничуть не менее, а часто даже более антисоветской, чем политика их предшественников, ибо социалисты ничего не опасались больше, нежели оказаться обвиненными политическими оппонентами в том, что они-де сплошь агенты Кремля. Что же до коммунистических партий, то многие из них, сосредоточив все внимание на внутриполитической борьбе, в пылу этой борьбы при каждом удобном и неудобном случае подчеркивали свои независимые от КПСС позиции, любовно пестуя действительные или надуманные разногласия в коммунистическом движении. Для любого объективного наблюдателя сейчас очевидно, что в долгосрочном плане антисоветизм левых только ослаблял их, но участники политических битв не были и не могли быть такими наблюдателями. Следуя по пути тактических уловок в ущерб стратегическим интересам, левые очень скоро очутились в патовом положении. Когда на поверхность всплыл решающий вопрос - вопрос об отношении к собственности - никакие антисоветские реверансы не могли ввести буржуазию в заблуждение: для нее самой черной тенью на свете оставалась тень социалистического грехопадения. Повисли в воздухе предвыборные обещания национализировать важнейшие отрасли промышленности и покончить с засильем "трансков" и их духовных прислужников. Немедленно активизировались, почуяв запах гари, фашисты. Обласкивая лидеров нелегальных экстремистских групп крайне правого толка, крупный капитал намекал на возможность устройства кровавой бани и установления фашистской диктатуры как панацеи от всех бед демократического разложения. Попытки бойкотировать продукцию "трансков" привели к довольно неожиданным последствиям. "Трански" добровольно сократили производство многих товаров широкого потребления с целью вызвать рост цен и безработицы и подогреть антиправительственные настроения. Сокращение непосредственных доходов от розничной торговли обернулось для большинства транснациональных фирм ощутимым, но отнюдь не фатальным уроном. И, как ни странно, они готовы были до поры до времени его терпеть. "Компании-самоубийцы", как нарекла их пресса, на деле выполняли социальный заказ флагманов мирового капитализма, находивших в своих поистине бездонных сокровищницах необходимые средства для поддержания этих компаний на плаву. Нарушение равновесия между спросом и предложением еще более обострило внутриполитическую обстановку. Возросшая нестабильность принудила реформистские правительства притормозить свою же политику реформ, расхождения между словами и делами привели к новому расколу электората рабочих партий. Началось движение вспять. Пресса, основной тираж которой был на корню скуплен транснациональными монополиями, охотно предоставляла страницы комиксам, слащавым рассказам из семейной жизни и экономическим обзорам, призванным убедить обывателей в том, как "хорошо было раньше", когда все эти коммунисты и прочие "соци" знали свое место. Политический престиж левых сил неудержимо падал в сознании народных масс. Настало время расплачиваться за допущенные стратегические просчеты и излишнюю уступчивость. С другой стороны, для буржуазии отпала необходимость прибегнуть к сильнодействующим средствам, фашистов опять загоняли на задворки. На очередных и внеочередных западноевропейских парламентских выборах 2015-2016 годов, левые партии, понеся тяжелые потери, перешли в оппозицию. Праздник пришел на улицу правых, облегченно вздохнули мелкие держатели акции, лозунг бойкота был немедленно снят, биржа отреагировала моментальным ростом индексов, "трански" получили возможность возмести понесенный ущерб. Ура-патриоты во весь голос поносившие национал-предателей всего несколькими годами раньше, скопом превращались в отчаянных сторонников "Объединенной Европы" или даже Всемирного Правительства всего западного мира. Столь крутой разворот событий хоронил надежду на стабильную разрядку напряженности между Западом и Востоком, ибо если левые реформаторы в глубине души мечтали о такой разрядке, то правые морализаторы не признавали ее как таковую. Именно с середины второго десятилетия двадцать первого века начался новый виток гонки вооружений в космосе и на земле - новый виток накопления средств уничтожения людей и взаимной ненависти. Хотя демократические формы правления и удалось отстоять, маятник политической жизни в Европе и во всем капиталистическом мире качнулся вправо. Государственные деятели получившие во временное хранение шифровальные коды запуска баллистических ракет, демонстрировали еще меньшую сговорчивость, чем их предшественники конца двадцатого столетия. Социалистическая часть планеты, с внимательной настороженностью следившая за ходом политических процессов в стане своего исторического оппонента, занялась, как и следовало ожидать, ускоренным залатыванием прорех в системах противоракетной и гражданской обороны.
Ну а матушка-Земля как ни в чем ни бывало продолжала вращаться вокруг собственной оси. День сменяла ночь, а ночь сменял день. Могло показаться, что особых оснований для беспокойства у человечества нет и в помине.
X X X
Облаченный в белую фланелевую пижаму, склонный к полноте мужчина средних лет мирно возлежал на широкой, мягкой постели. На высокий, гладкий лоб его были водружены дорогие очки в тонкой золотой оправе; рядом, на ночном столике, стоял недопитый стакан воды. Не падай проникавший из широкого, чуть приокрытого окна дневной свет на страницы книжки, которую он попеременно перелистывал, можно было бы подумать, что мужчина ненароком спутал шумный полдень с тихим полуночным умиротворением. На глянцевой суперобложке книги художником была изображена исполинская черно-белая рыбина, навалившаяся верхней половиной тулова из набегавшую фиолетовую волну. Пенистый кончик волны залихватский изгибался вниз, к рыбьей голове, а сама рыба чем-то напоминала потерявшую оперение и рухнувшую в море гигантскую птицу, которая теперь безуспешно пыталась выбраться оттуда. Всем своим добропорядочным обликом мужчина походил на отставного банковского клерка поднакопившего за век своей службы кое-каких деньжат, и вряд ли кто, глядя на его упитанное лицо предположил, что лицезреет дипломата номер один нашей планеты. И тем не менее это было именно так: волею судеб склонному к полноте мужчине принадлежала одна из самых высокооплачиваемых и величественных синекур, когда либо придуманных человечеством. Да полно, синекура ли?... Работа на такой должности поглощала массу энергии и времени, и непонятно было, как мог дипломат номер один валяться днем на мягкой постели при столь напряженной обстановке. Фамилия этого деятеля была известна всем международным обозревателям так же прекрасно, как и их собственная; количество больших и малых дипломатических узлов в распутывании которых ему довелось принимать непосредственное участие впечатляло, - и все же он обладал непропорционально малой реальной властью, настолько малой, что порой ему становилось стыдно. Стыдно до отчаяния, поскольку все вокруг, включая президентов и премьеров, общаясь с ним соблюдали декорум будто он был, скажем, Римским Папой. Но куда ему до влияния католического первосвященника! Всего четыре года назад, когда он был всего лишь министром иностранных дел республики Колумбия, он, пожалуй, пользовался большим авторитетом у себя в на родине, чем сейчас - на посту Генерального Секретаря Организации Объединенных Нации.
Дочитав наконец последнюю страницу, Генеральный Секретарь положил книжку на столик, откинулся на подушки и, призадумавшись, замер. Книга произвела на него сильное впечатление, но, окончив ее он ощутил глубокое уныние. Всегда неприятно, когда покрытое библиотечной пылью чужое предсказание, никогда не принимавшееся никем в серьезный расчет, с течением времени обретает вполне конкретные очертания.
Впервые этот роман попался ему в руки давным-давно, еще когда он совершенствовал свои знания в привилегированном британском колледже, а нынче ему случилось перечитать ее вновь. В те далекие годы его отец, будучи послом своей страны при дворе Ее величества и дальновидным человеком, добился, благодаря своим связям, определения своего отпрыска в Итон. Отец восхищался британской системой закрытого образования, и будущий Генеральный Секретарь впоследствии вынужден был признать, что диплом выпускника Итона пользовался у него на родине совершенно особенным кредитом. Именно наличие этого диплома выступало в роли дополнительной гирьки, когда на бюрократических весах определялась относительная ценность различных кандидатур на замещение какой-либо лакомной вакансии в системе министерства иностранных дел. Он также понимает, что годы учебы в Итоне воспитали в нем такие не очень характерные для представителей романской расы качества, как терпимость, хладнокровие, умение владеть собой в запутанных ситуациях и искусство ладить с незнакомыми людьми, с совершенно иными взглядами на жизнь. Эти приобретенные качества, вкупе с отцовскими деньгами и аристократической родовитостью, предопределили его успешную карьеру. И вот так, штурмуя одну дипломатическую высоту за другой, он дослужился до высшего дипломатического поста на земном шаре. Судьбе и случаю угодно было вознести его в святую святых наиболее представительного международного форума, а весной 2019 года он был избран Генеральным Секретарем ООН и, как ему показалось, понял что это означает - быть счастливым. Тогда он никак не ожидал, что именно здесь - в ООН, ему предстояло испытать как глубокое разочарование в коллективном разуме населяющих планету наций, так и абсолютное бессилие перед лицом нависших лавиной международных проблем. Он неспроста вспомнил об этой книжке, и привел в недоумение личного секретаря, когда ранним утром позвонил в офис и попросил того не только раскопать томик в библиотеке, но и прислать его к нему на квартиру. Сквозь молчащую мембрану микрофона Генеральному Секретарю передалось так и не высказанное вслух изумление своего ближайшего сотрудника: как, неужели господин Генеральный Секретарь не собирается приезжать в дом на Ист-Ривер именно сегодня - когда амплитуда неуправляемого кризиса достигла апогея? Неужели он не информирует Совет Безопасности об итогах своей поездки в Пномпень и переговорах с лидером Движения Неприсоединения, премьер-министром Кампучии Со Нимом? Личный секретарь не вешал трубку как бы ожидая новых указании, молчание затягивалось и Генеральный Секретарь решился-таки удовлетворить законное любопытство своего испытанного помощника. Нет, он не сможет сегодня приехать, пусть его не ждут. Ни сегодня, ни - вероятно - завтра. Он болен. У него жар, и после всех этих путешествий сильно болит голова. Три дня назад - Москва, позавчера Пномпень. Есть предел его силам. Все необходимое он сообщил своему заместителю ранее, пусть тот сам проведет все запланированные заседания. А ему нездоровится, голова трещит, он придет в форму через денек-другой. Все равно у него создалось впечатление что все в руках божьих и их усердие не способно внести какой-либо вклад - плюсовый или минусовый - в общее решение. Так или иначе, но работа Совета Безопасности парализована двойным вето - американским и советским, - и пока он ничего ни придумать, ни поделать не может. У него сейчас к личному секретарю одно-единственное поручение, вернее просьба: прислать ему искомую книгу, и как можно скорее. Он повторил секретарю название романа и фамилию автора: "Разумное животное" некоего Мерля, Робера Мерля. Надо внимательно поискать в каталоге, так как, возможно, книга давно не переиздавалась. На французском она издана в конце шестидесятых, так что если в хранилище не найдется английского или испанского перевода, его вполне устроит французский экземпляр. Итак, он надеется получить эту книгу через час-полтора... Личный секретарь не подвел и вскоре он держал книгу в руках. Читал дипломат номер один быстро.
Желание перечитать фантастическую по жанру повесть, созданную писателем, бесспорно придерживавшимся левых убеждений, родилось у него неспроста. Так он отреагировал на факт стремительного изменения к худшему положения в мире за последнюю неделю. В юности он отнесся к этому занятному чтиву достаточно легковесно. Что ж, это была довольно лихо закрученная история о мыслящих и говорящих дельфинах с ясной пропагандистской подкладкой: наука на службе военных ведомств способна принести человечеству немало вреда. И кабы не резкое обострение советско-американских отношений, он, возможно, об этой книге и не вспомнил бы. Но единожды вспомнив, обнаружил, что один ее эпизод созданный воображением автора шесть десятилетии назад, почти адекватно описывает некоторые определяющие моменты нынешней международной обстановки. Трагедия недельной давности - гибель американского авиалайнера над Сахалином - всколыхнула мир, и лихорадочная эта неделя лично для него завершилась вот этой, тупой и сердитой мигренью, когда он, обессиленный и окончательно разуверившийся в своей миссии доброй воли, в середине рабочего дня разлегся в широкой, мягкой постели с поучительной книгой в руках. Он вполне представляет себе о чем шепчутся в эти минуты сотрудники его аппарата в небоскребе на Ист Ривер, ну да черт с ними, пусть думают что хотят! Так или иначе, работа Совета Безопасности парализована двойным вето и он бессилен предпринять что-либо. Посмотрим, что принесет завтрашний день, а пока он взял себе небольшой отпуск.
По всем Соединенным Штатам, от западного побережья до восточного, от Аляски до Флориды, и от Калифорнии до штата Мэн, прокатились стихийные антисоветские демонстрации. Ситуация такова, что властям нет нужды инспирировать их организационно, им остается только умело направлять выплеснувшуюся через край энергию американцев в заранее уготовленное русло. Инакомыслящим и рта не дают раскрыть. Нынче у простого американца что на уме, то и на языке. А рассуждает он примерно так: "Этих комми не перевоспитаешь, пока не дашь им хорошенького тычка в зубы. А как прикажете поступать с то и дело сбивающими гражданские самолеты варварами? У нас, слава господу, хорошая память. Сорок лет назад мы им простили южнокорейского "союзника" и они приняли великодушие за слабость. Теперь они настолько обнаглели, что сбили наш самолет, укокошили наших мужей, жен, братьев, сестер, детей. Не моргнув глазам убили пятьсот человек. А тут еще Куба, Ямайка, Барбадос, Намибия, танковые армады, лазеры, спутники. Они давят нас где и как только могут. И мы, дураки, терпим. Баста, хватит! С варварами может быть только один разговор: приструнить их силой - и точка!". Ну да, именно потому он и вспомнил про Мерля. Генеральный Секретарь вновь берет со столика только что отложенную книгу, быстро находит нужную страницу и еще раз перечитывает столь взволновавшее его место: "Сайгон, 4 января 1973 (Ю.П.И.). Американский крейсер "Литл-Рок" начисто уничтожен атомным взрывом в открытом море вблизи Хайфона. Выживших нет". И далее начало следующей главы: "Как у великана, который спокойно заснул, уверенный в своей силе, а проснулся от коварно нанесенного ему во сне удара, первой реакцией США после нападения на "Литл-Рок" было изумление. Возмущение появилось лишь через сутки, словно было необходимо именно столько времени, чтобы волнение охватило все это огромное тело. Но ярость овладевшая им тогда, соответствовала масштабам могущественнейшего государства мира. По всему необъятному материку прокатилась волна гнева и, как внезапный прилив, захлестнула 180 миллионов американцев. Радио, телевидению, газетам обычные слова казались слишком слабыми, чтобы выразить возмущение, которое внушал этот столь необычный поступок. Всемогущие боги на Олимпе, с изумлением и ужасом убедившиеся в том, что они подверглись нападению низшей расы, были бы также уверены, что в кратчайший срок разделаются с теми, кто осмелился нанести им удар. Журналистам, комментировавшим это душевное состояние, казалось, что лишь эпитеты, взятые из мира животных, передают презрение, с каким их соотечественники относятся к противнику. В газетах, где замелькали такие заголовки, каких не видели со времен Пирл-Харбора, Китай сравнивался обычно с "бешеной собакой", которую следовало "посадить на цепь или прикончить". Трагедия "Литл-Рока" не оставила живых и не имела свидетелей". Генеральный Секретарь перечитал эту цитату с нехорошим чувством "дежа вю" и внутреннего неудовлетворения. Мерль словно в воду глядел, уныло подумалось ему. Замените Китай на Россию, Хайфон на Сахалин, цифру 180 на цифру 300, крейсер "Литл-Рок" на пассажирский лайнер "Боинг-877", внесите кое-какие второстепенные ситуативные коррективы, помножьте ненависть 1972 года на поправочный коэффициент гораздо больший чем единица, чтобы получить ненависть 2025-го, и вы получите живейшее описание сегодняшнего дня. Но так не считаться с мнением Генерального Секретаря ООН! Президент США допустил его в овальный кабинет всего на полчаса. Холодный прием, в ходе которого ему пришлось выслушать бескомпромиссную позицию американского правительства и совершенно неприемлемые для противной стороны условия урегулирования конфликта. О, он пытался возражать против столь откровенного диктата, но ему, сославшись на острый дефицит времени, фактически бесцеремонно указали на дверь. "За нами весь американский народ..."... Без излишних церемонии ему дали понять, что усилия по обеспечению национальной безопасности отнимают у президента массу времени, и главнокомандующий не имеет права тратить драгоценные минуты на заведомо бесполезные разговоры. Комитет ООН по связям со страной пребывания испытывает возрастающие трудности при осуществлении повседневной деятельности, нью-йоркская полиция предпочитает оставлять без внимания попытки - иногда небезуспешные - террористических актов против сотрудников иностранных представительств, местная пресса окрестила ООН сборищем антиамериканских агентов и полна призывов сбросить "это инородное тело" в океан. Русские, со своей стороны, также не склонны выступать в роли мальчиков для битья. Составленное в жестких выражениях заявление Советского правительства по поводу инцидента с самолетом не оставляет сомнений в том, что русские силы ПВО и впредь намерены сбивать любой подозрительный объект провокационно нарушающий воздушные границы СССР и проявляющий злостное непослушание; в заявлении также содержится взвинтившее до предела американское общественное мнение требование принести извинения правительству и народу Советского Союза. Три дня назад Генеральный Секретарь совершил блиц-визит в Москву, надеясь смягчить тон советских публичных выступлений и "способствовать", как было сказано в коммюнике, "процессу урегулированию советско-американских разногласий путем организации встречи в верхах". Беседа с главой Советского государства продолжалась свыше двух часов, но так и не привела к каким-либо ощутимым результатам. "Если мы и сегодня закроем глаза на их бесчинства, то завтра они зашлют к нам еще один "Боинг" или сами взорвут собственное посольство в какой-либо социалистической стране с целью приписать диверсию нашей разведке. Хватит. Мы сталкиваемся с подобными провокациями буквально каждую неделю и сыты по горло. Они забывают, что Советский Союз - великая держава, а советский народ - великий народ. И он не простит своим руководителям, если те позволят безнаказанно оплевывать страну на виду у всего мира. Мы обязаны показать Белому Дому, что наше миролюбие ошибочно принимать за проявление слабости. Вашингтон сам поднял бурю, пусть теперь пожинает ее плоды", - тон высказывании главы государства отличался твердостью, стало ясно, что Москва отказывается сделать первый шаг к примирению, предоставляя эту честь Вашингтону. Генеральный Секретарь возвратился в Нью-Йорк в весьма удрученном расположении духа. Впрочем, заседания на Ист-Ривер шли своим чередом. Два дня назад группа неприсоединившихся стран выдвинула компромиссный проект резолюции, в котором ответственность за конфликт возлагались на обе стороны, но эта благая попытка натолкнулась на обоюдное советско-американское вето. Генеральный Секретарь предпринял еще один важный шаг, срочно вылетев в Пномпень для встречи с фактическим лидером Движения Неприсоединения. Последняя конференция глав государств и правительств неприсоединившихся стран прошла в Кампучии, что по уставу предоставило этой стране статус Председателя Движения, а главу ее правительства возвело в ранг неофициального лидера стран Третьего Мира. Генеральный Секретарь призвал премьера Со Нима в максимально сжатые сроки созвать внеочередную конференцию Движения с единственной целью: стимулировать переговоры между США и СССР. Беседа в Пномпене продолжалась три часа, после чего Генеральный Секретарь вернулся в Нью-Йорк. Перелет за перелетом, вот почему у него побаливает голова. Итоги встречи с Со Нимом трудно назвать обнадеживающими. Конечно, Со Ним выразил свое понимание, более того, одобрение усилиям Генерального Секретаря. Разумеется, кампучийский премьер обещал проконсультироваться с главами правительств и сделать все возможное для созыва внеочередной конференции. Он также обещал подготовить специальное заявление от имени Координационного бюро Движения и распространить его в ООН в качестве пресс-релиза. "Но, - грустно покачал головой Со Ним в конце беседы, - не следует обольщаться и рассчитывать на эффективность планируемых нами мероприятий, у нас с вами нет реальной власти, одна только ставка на мировое общественное мнение, а ОНИ сейчас вряд ли станут к нему прислушиваться. Моральным авторитетом поджигателей войны не остановить. Американцы хотят вести маленькую войну в Европе, но если НАЧНЕТСЯ, то Европой дело, конечно же, не ограничится. А западноевропейские союзники, полагаю, вскоре последуют за своим старшим братом как бараны на бойню". Фактически Со Ним, - так же как и он сам, - расписывался в собственном бессилии. Но в общем, беседа с Со Нимом, человеком, с которым у него издавна сложились не только формальные отношения, как всегда, оказалась весьма поучительной. Со Ним сделал несколько весьма глубокомысленных замечаний по поводу разразившегося кризиса, затем посетовал на китайцев. "В Пекине сейчас гремят словами, а на деле ждут не дождутся советско-американского конфликта, надеясь погреть на костре руки. Близорукая политика. Полагаю, что китайцы постараются помешать нам созвать конференцию в ближайшую неделю, - заявил Со Ним и добавил, - а ведь сейчас самое главное - время, нам его катастрофически не хватает, хотя вы, вне всяких сомнений, можете всецело положиться на мою добрую волю". Генеральный Секретарь относился к личности лидера Движения с непритворным уважением. Деятели их положения не могли позволить себе частых задушевных бесед, но у Генерального Секретаря нередко возникало желание поверить Со Ниму свои мысли касательно многих больших или малых проблем, при этом интуиция подсказывала ему, что Со Ним, в свою очередь, высоко ценил товарищеские отношения с Генеральным Секретарем. Генеральному Секретарю неплохо была известна официальная биография кампучийского премьера, и он не уставал поражаться тому, что этот человек, не знающий даже кем были его родители и какова его истинная фамилия, так далеко пошел. И далеко не только в прямом, карьерном, смысле, но и в познании многих аспектов социального бытия окружающего мира. Размышляя о судьбе Со Нима Генеральный Секретарь невольно сопоставлял ее с судьбой отца-основоположника Движения - Джавахарлала Неру. С образом и деятельностью Неру он успел ранее ознакомиться из многочисленных книг и старых документальных кинолент. Со Нима же ему посчастливилось узнать лично, и он частенько ловил себя на том, что ему непонятна схожесть характеров и судеб этих двух выдающихся людей при полном несходстве их биографий и полученного в юные годы образования. Пандит Неру, будучи человеком высокой культуры и широчайшей эрудиции, сочетал в себе терпимость к заблуждавшимся и нетерпимость к врагам народов Индии. Этот неустанный борец против британского колониализма никогда не опускался до англофобии, хотя людей столь же последовательно как Неру боровшихся за освобождение Индии от иноземного владычества, можно было свободно пересчитать на пальцах одной руки. Но ни один честный человек не мог обвинить первого премьер-министра независимой Индии в фанатизме или саморекламе, его авторитет был соткан из ткани совсем иного покроя. Неру был благородный мыслитель. Но, что там ни говори, он родился в богатой семье кашмирских брахманов, а высшее образование получал в Хэрроу, Кембридже и Иннер Темпл. Консервативная метрополия привила ему вкус к либерализму. Власти оказалось не под силу развратить его цельную личность, богатство так и не вытравило из его сердца милосердие к бедному, забитому люду, и ему суждено было оставить по себе добрую память. Но кто его знает, кем стал бы Неру, не будь его отец в свое время видным деятелем Индийского Национального Конгресса? Судьба Со Нима складывалась куда печальнее. Сегодня Со Ним был, пожалуй, настоящим интеллигентом, не образованным человеком европейского или азиатского толка, а именно интеллигентом в высоком смысле этого понятия. Кроме того, он был автором фундаментального исследования по истории Кампучии, доктором гонорис кауза многих университетов мира и даже Нобелевским лауреатом. Столь высоко оценил норвежский стортинг его плодотворное посредничество в деле погашения кровопролитного конфликта между Индонезией и Малайзией. Вот уже более десяти лет он бессменно руководил правящей народно-революционной партией и правительством Народной Республики Кампучии, пользуясь в своей стране тем моральным весом, который совершенно невозможно приобрести грубыми методами "промывания мозгов". Будучи либералом по духу, Со Ним возглавил страну социалистической ориентации, - столь своеобразное сочетание субъективного и объективного факторов причудливо отразилось на формировании внешней и внутренней политики этой страны и, в конце концов, вывело ее в лидеры Движения Неприсоединения. Генеральному Секретарю нелегко было понять, благоприобретенным ли был у Со Нима этот либерализм или же чисто генетическим, да и вообще - как могла выжить мягкость в характере человека, проведшего в аду полпотовской коммуны те детские годы, которым от бога положено быть годами веселья, шкодливых шалостей и контрольных по правописанию? Со Ним как-то признался ему, что очень смутно припоминает мать - высокую, худую, смуглую женщину на рисовом поле с длинной косой в руке, - и еще хуже помнит отца, настолько плохо, что ему все время кажется будто лицо, которое могло бы быть отцовским, принадлежит совсем чужому человеку. Генеральному Секретарю отлично известно, что всем своим успехам Со Ним обязан самому себе, своему необычайному трудолюбию, воловьему упорству и природному таланту. Ну и, конечно, относительной гуманностью пришедших на смену Пол Поту вьетнамских ставленников. Искренняя взаимная симпатия обязывала: при встречах они предпочитали общаться без переводчиков, задавали друг другу, упражняясь в своем французском, немало каверзных вопросов, и это обстоятельство помогало Генеральному Секретарю воспринимать кампучийский феномен сквозь призму личного опыта Со Нима, удивительного человека, получившего первое представление о грамоте в одиннадцатилетнем возрасте и доросшем до звания доктора гонорис кауза прославленных университетов мира и чина руководителя партии и правительства своего государства. В тот раз Со Ним обмолвился и о том, что один черный день своего детства он все-таки хорошо запомнил. 17 апреля 1975 года - ведь у дней, так же как и у людей, есть лицо и есть имя. Семнадцатого апреля победители выбросили их из собственного дома вон. Дальше были дорожная пыль и стоны умирающих. Их колонна направлялась, как выяснилось впоследствии, в провинцию Кратьэх, и, чтобы не замедлять шествия, больных и уставших прикалывали к родной земле штыками. Среди оставшихся там, на обочине дороги, были и его родители - худая, смуглая женщина и мужчина без лица, а он каким-то чудом добрел до коммуны, он и не помнит как, видно кто-то поддержал его в пути. Он забыл лицо своего отца, но самое странное то, что он напрочь позабыл собственное имя. Это в коммуне староста дал ему новое прозвище - Со Ним. Утренняя поверка - "Со Ним", отзыв:"Я" и два шага вперед; вечерняя поверка - "Со Ним", отзыв: "Я" и два шага вперед; а если ненароком шатнешься в сторону, тебя, семилетнего карапуза и агента современного ревизионизма по совместительству, исполосуют в кровь солдатским ремнем. С новым именем он так и не расстался. Да и не желает расставаться, он его выстрадал и оно принадлежит ему по праву. Он не жалуется на память, грех жаловаться, одних только иностранных языков она вместила с полдюжины, а вот подлинное его имя навсегда втоптано в дорожную пыль где-то между столицей страны и уездом Прасаут провинции Кратьэх. Во время своего визита в Кампучию весной прошлого года Генеральный Секретарь не удержался и в частной беседе выразил Со Ниму свое сугубо личное удивление по поводу того, что именно Пномпень был избран местом проведения последней конференции Движения, всем ведь хорошо известно, что Кампучия является страной, входящей наряду с Вьетнамом и Лаосом, в число ближайших союзников Советского Союза в Азии, а это, вообще говоря, могло оттолкнуть сторонников чистого нейтрализма. "Видимо, - продолжил развивать свою мысль Генеральный Секретарь, - избрание Пномпеня стало реальностью благодаря необычайно высокому личному авторитету глубокоуважаемого господина премьер-министра, и еще благодаря тому, что его страна далеко не всегда слепо следует за своим могущественным покровителем". Со Ним тогда долгим взглядом посмотрел на своего иноземного собеседника, а потом хитро прищурившись сказал ему приблизительно следующее: "Во-первых, существует прецедент руководства Движением, насколько к функциям страны-председателя применимо понятие руководства, государством социалистической ориентации. Как вам, вероятно, известно, на рубеже семидесятых и восьмидесятых годов прошлого столетия эти обязанности успешно выполняла Куба. Несомненно, свою роль сыграл и, как вы выразились, необычайно высокий личный авторитет Фиделя Кастро, но основным, на мой взгляд, было все же признание успехов Кубы на новом для нее историческом пути развития. В конце концов она была первым государством Латинской Америки покончившим с крайними формами пауперизации и нищеты, с неграмотностью и вопиющим социальным неравенством. Разумеется, уровень жизни ее населения долгое время оставался сравнительно невысоким, но, вопреки чаяниям империалистов, народной Кубе удалось выстоять в условиях навязанной американцами блокады, и не только выстоять, но и прочно встать на ноги, и именно Москва подставила плечо Фиделю и Че в трудные для них годы. Хотя Че, конечно, фигура особая... Когда на Кубе привились новые формы общественных отношений, очевидные плюсы кубинской модели развития воодушевили многие народы Третьего Мира. Ну а во-вторых, разногласия по отдельным вопросам не затрагивают сути наших отношений с Советским Союзом, мы никогда не выдвигали надуманных предлогов для обострения советско-кампучийских отношении только ради того, чтобы выслужиться перед большинством Движения". "Так как же расцениваете вы нынешнее место Кампучии в Третьем Мире - задал новый вопрос Генеральный Секретарь. - Что-то похожее на Кубу тех времен, или есть какие-либо принципиальные различия?". "Принципиальных различий, пожалуй, нет, - ответил Со Ним помедлив. - В чем-то наше положение лучше тогдашнего положения кубинцев, у нас ныне вполне добрососедские отношения со странами региона, блокады нет и в помине. В чем-то хуже: национальная история современной Кубы свободна от геноцида - индейцы эпохи конкистадоров в данном случае не в счет. Испаноязычная кубинская нация - относительно молодой продукт христианской культуры. И, кроме того, кубинской революции повезло на руководителей, что тоже немаловажно. Фидель, Че - этими именами когда-то бредила молодежь всех континентов. Латифундисты, компрадоры, гангстеры, диктаторы, полицейские уродства, - этого на старой Кубе было сколько угодно, но поголовного истребления образованных людей, закрытия театров, парков и почтовых отделений она на себе не испытала. Мы, кхмеры, не так уж давно прошли через ужасы геноцида, что наложило неизгладимый отпечаток на нашу национальную психологию. Но в целом, повторяю, принципиальных различий между нами все же нет, и, прежде всего, по объективным причинам. Дело в том, что за прошедшие полвека характер терзающих Третий мир проблем не изменился, разве что они обострились до такой крайности за которой проглядывается пропасть. Возьмите любую область, любую проблему: сырьевую, цен, экологическую, голода, неграмотности, охраны здоровья, детской смертности, бюджетных дефицитов - в целом положение только ухудшилось. Опять таки достаточно очевидно для тех, кто хочет видеть - головную боль такого рода лучше научились лечить в странах социалистической ориентации. Пусть нас немного, пускай мы в меньшинстве - но наши старания не пропадают втуне. Пусть нами не искоренена бедность, зато мы покончили с нищенством. Пусть нас преследуют неурожаи и давит техническая отсталость, зато мы не ведаем массового голода и безработицы, а в тяжелые времена друзья готовы прийти к нам на помощь. Транснациональные компании беззастенчиво грабят попавшие в сферу их деятельности страны, не так уж трудно понять, какие язвы скрываются там за фасадом кажущегося процветания. Настоящие полуколонии! А сравните, как живут люди у нас, или в Лаосе, или во Вьетнаме. Здесь невысокий уровень благосостояния, это верно. Но нет и нищеты. Медицинская помощь - пускай не самая квалифицированная, но в большинстве случаев достаточно эффективная, - общедоступна. Кампучия ныне страна сплошной грамотности. Нет у нас и ночлежек, которых полно в богатейших и великолепнейших городах мира. Увы, мы вынуждены непропорционально много тратить на оборону - империалисты отлично понимают, что народную власть можно свергнуть только организовав вторжение извне. И все-таки, с учетом всех обстоятельств, наши реальные достижения явно перевешивают наши же мнимые или действительные недостатки. Нам конечно известно, что тенденциозные люди на Западе считают наш государственный строй недемократичным, а образ жизни - пресным, несправедливо обвиняют нас в похищении свободы творчества и тоталитаризме. Жаль, что умелая пропаганда иной раз воздействует на чувства вполне передовых людей. Что ж, пускай приезжают к нам почаще - мы готовы рассеять их заблуждения. Не нам, столькое пережившим, опасаться дискуссий с людьми, искренне стремящимися распознать подлинное положение вещей. Только вот: настоящим врагам на нашу наивность рассчитывать нечего. Мы не теряем бдительности. Наша уверенность в правильности социалистического выбора не слепа, политика дружбы и сотрудничества с Советским Союзом оправдала себя. Будь я уверен в том, что на планете сохранится мир, то... то был бы спокоен за будущее моей страны и моего народа. К сожалению, такой уверенности у меня нет". В ответ на эту тираду Генеральный Секретарь весьма недипломатично заметил, что успехи Кампучии, так же как и достижения ее соседей, связаны с получением концентрированной советской помощи, прежде всего военной, и задал премьеру вопрос, который поостерегся бы задать при переводчике: "Но как же быть с вашим суверенитетом? Ваша военно-экономическая зависимость от Советского Союза бросается в глаза и вы, безусловно, ограничены в ваших политических решениях. Вам трудно быть нейтралами. И, несмотря на это, ваша страна пользуется заслуженным авторитетом среди участников самого крупного нейтралистского объединения в мире. Как вы сами представляете себе практическую деятельность по руководству Движением Неприсоединения, не будучи по настоящему независимой страной?". К этим словам Генеральный Секретарь привоскупил, что высказывает всего только свое личное мнение и сознает, что невозможно оспаривать право господина премьера оставить данный вопрос без ответа, но, само собой разумеется, в любом случае господин премьер может полностью положиться на скромность и тактичность дипломата номер один. Со Ним однако ответил прямо, без колебании: "Но Движение Неприсоединения отнюдь не является нейтралистским объединением, или, во всяком случае, не должно быть таковым, когда речь идет об определении ее отношения к ключевым проблемам современности. Мы не можем высказываться "против" только потому, что Советский Союз выступает "за". Что же до зависимости от СССР... Во-первых, абсолютной политической независимости не существует, с философской точки зрения это - ненаблюдаемая величина. Независимость понятие относительное. Во-вторых, мы исторически действительно очень обязаны Советскому Союзу. СССР был единственной великой державой, оказавшей нам помощь после свержения режима, преступлениям которого несть числа. Режима, который превзошел в зверствах самих нацистов. Ну-ка вспомните, как отнеслись к нам другие великие страны. Держава, несколькими годами ранее уничтожившая бомбежками с воздуха более полумиллиона моих безоружных соотечественников, не только не признала народное правительство, но и обеспечила международную поддержку изгнанным фашистским главарям, обвиняя нас - вернее, наших предшественников, - пытавшихся спасти то, что еще можно было спасти, в нарушениях прав человека! Можно ли, представить себе больший цинизм!? Лицемерие Соединенных Штатов сравнимо разве что с присущим им национальным эгоизмом. О китайцах и говорить нечего. Без материальной поддержки которую оказывал Пол Поту Пекин, без автоматов, наручников и дальнобойной артиллерии китайского производства, режим не продержался бы и нескольких месяцев, а то и недель, а когда эти подонки, спасая свою шкуру, бежали из столицы, приют и провиант им предоставил тот же Китай. Не бесплатно, разумеется. Взамен Пол Пот и его ближайший подручный Иенг Сари обязались тогда вести против нас бесконечную вооруженную борьбу. Для нас, кхмеров, не секрет, почему Поднебесная помогала маньяку, публично заявившему, что из восьми миллионов соотечественников для построения невиданного в Азии и в мире коммунистического общества ему потребуется только один. Иными словами, после того как семь миллионов кхмеров превратились бы в навоз, пекинские мандарины с полного согласия и одобрения Пол Пота и его камарильи, - или даже без оного, - начали бы заселять мою родину китайцами и постепенно превратили бы Кампучию в обычную китайскую провинцию. И никто ничего не мог бы сказать, буква международного права не была бы нарушена. Вот тогда Пекин взял бы в клещи весь Индокитай. Но номер не прошел. А когда мой народ, волею судеб, наконец, избавился от кровожадных людоедов, англичане и французы слепо последовали за американцами. И только Советский Союз оказал нам безоговорочную поддержку. Кем были бы мы без военной помощи Вьетнама и экономической - СССР? Мы, - страна лежащая в руинах, с больным и голодающим населением, страна без денег, городов и культуры! Без сомнения, нам навязали бы новый людоедский режим или какую-нибудь марионетку, и вот тогда о независимости и суверенитете не было бы и речи. Я повторяю и подчеркиваю: мы крайне обязаны и благодарны Советскому Союзу. Но несмотря на это, вы неправы подразумевая в своих выкладках тотальную зависимость Кампучии от СССР. Вы без всякого на то основания считаете, что некоторые характерные особенности нашего внешнеполитического курса реализуются только благодаря снисходительности Советского Союза, руководители которого наблюдают за отдельными экзотическими действиями премьера дружественной малой страны как-бы сквозь пальцы. Это не так. Во-первых, Народная Кампучия ныне не та, что сорок лет назад, мы - государство с функционирующей экономикой и боеспособной армией; во-вторых: географически мы расположены далеко от России и вынуждены считаться с чисто региональными проблемами; и, наконец, - зафиксированные в ряде документов условия советско-кампучийского сотрудничества ни в малейшей степени не оскорбляют наше национальное достоинство, скрупулезно выполняются обеими сторонами и приносят моей стране немалую выгоду. Именно поэтому мы считаем возможным принимать от советских руководителей безвозмездную помощь, которую им не так-то легко нам предоставлять. Ведь ее ежедневный объем достигает миллиона долларов, а СССР, как вам известно, несет на себе немало других, не менее для него важных, международных обязательств. Разумеется мы, со своей стороны, оказываем посильную поддержку многим советским внешнеполитическим инициативам, полагая, что они служат делу мира и процветания опутанных кабальными соглашениями народов. Кроме того, сотрудничая с Советским Союзом в стратегическом отношении, мы лучше обеспечиваем собственную безопасность. Но Советский Союз отнюдь не навязывает нам экономическую модель развития - а ведь это непременно случилось бы, задолжай мы Международному Валютному Фонду или, скажем, Мировому Банку сколь-нибудь значительную сумму. Мы не социалистическая страна в европейском понимании этого слова, хотя правящая партия и руководствуется революционной идеологией и в своих действиях, и в своей пропаганде. Эксплуататорские классы в годы правления полпотовской клики были уничтожены физически, и у нас не было оснований возрождать их, но наша партия, учитывая огромную отсталость разоренной страны и психический склад кхмерской нации, с самого начала придала экономике многоукладный характер, сохраняющийся и по сей день. Обстановку мы оцениваем трезво". "Итак, вы утверждаете, что страна - лидер Движения Неприсоединения, может позволить себе поддерживать практически безоблачные отношения с одной из великих держав, объективно судить о политике этой державы и, в то же время, честно выполнять свои обязанности морального руководителя Движения? И это в условиях, когда об единстве Движения, в котором состоят, помимо всех прочих, еще и американские клиенты, говорить не приходится? Ну допустим... Но меня интересует (я буду благодарен, если получу ответ, и можете полагаться на мою скромность), верите ли вы в искреннюю доброжелательность Советского Союза и к Движению в целом, и к вашей стране в частности? Не логичнее ли предположить, что Россия заботится не о чистоте идеологии, а просто о защите своих интересов, конечно же выходящих за пределы собственно государственной границы СССР? Неужели вы лично не видите каких-либо недостатков в общественном устройстве этой страны?" - задал несколько каверзных вопросов Генеральный Секретарь. Со Ним отозвался после немного затянувшегося молчания. "Как Вы, надеюсь, знаете, существующие между нами отношения не раз позволяли мне проявлять откровенность, то есть, сказать по правде, черту несвойственную официальным лицам обреченным стоять на страже интересов своей родины. У нас в самом деле очень хорошие отношения с Москвой. Мы постоянно укрепляем связи со странами СЭВ, так как именно в этом и видим экономический смысл интернационализма, - начал объяснять он, едва заметно улыбнувшись в ответ на благожелательный кивок Генерального Секретаря. - Мы без колебаний идем на политическое сотрудничество с СССР, поскольку оно вполне в интересах кампучийского народа. Советско-кампучийские отношения неплохо сбалансированы и я весьма удовлетворен достигнутым уровнем их развития. Но ни в коем случае не хотел бы создавать у вас впечатления, будто я идеализирую Советский Союз. Однако сегодня никакая другая страна мира не способна выполнять роль донора, или, если угодно, тыла мирового социализма. Поэтому мы, социалисты у власти, что в Азии, что в Африке, что даже в развитой Европе, не всегда проявляем хрестоматийную принципиальность. Мы не малые дети, и понимаем, что Советский Союз, будучи великой державой и преследуя собственные цели, иной раз руководствуется отнюдь не идеологическими соображениями. Но мы негласно признаем за ним такое право. Я не хотел бы, этики ради, касаться внутренних проблем СССР, но, раз уж зашел такой разговор, расскажу вам об одном забытом эпизоде из истории советско-кампучийских отношении. Эпизоде мелком, но, полагаю, весьма характерном. Само собой разумеется, что в случае утечки информации о нашей беседе, я буду вынужден публично дезавуировать как свои, так и ваши высказывания". С этими словами Со Ним поднялся из-за стола, подошел к вставленной в низенькую нишу небольшой деревянной статуэтке Будды, развернул божка лицом к стене и коснулся его затылка ладонью. Боковая стена кабинета медленно раздвинулась и обнажила заставленные книгами стеллажи. Пока Генеральный Секретарь довольно оторопело наблюдал за манипуляциями премьера, тот, привычным движением руки, снял с одной из полок книгу в черном кожаном переплете, вернул статуэтку в прежнее положение, - стена при этом закрылась, - и, раскрыв книгу на нужной странице, продолжил свой рассказ: "Перед вами, друг мой, сочинение некоего Михеева: "Индокитай: Путь к миру", изданное в Москве издательством "Международные отношения" в 1977 году тиражом 8000 экземпляров и единственный экземпляр перевода на кхмерский язык находится ныне в надежных руках, - Со Ним многозначительно скосил глаза на статуэтку, - Несколько лет назад книжку по случаю приобрел в одном из букинистических магазинов Москвы сотрудник нашего посольства, и таким образом книга очутилась у меня. Сочинение это было подписано к печати, как явствует из вот этой вот страницы, в начале октября 1977 года, то есть тогда, когда основная масса ужасов творимых фашистской кликой в Демократической Кампучии оставалась, правда, малоизвестной широкой мировой общественности, но накопились и такие факты, отрицать которые серьезным политикам было уже невозможно. Им, и в том числе тогдашним советским руководителям, хорошо было известно, что все жители нашей столицы, города с почти трехмиллионым населением, были выселены в сельскую местность сразу после того, как части "кхмер руж" заняли Пномпень. Перемещение больших людских масс хорошо заметно из космоса, да и сам Пол Пот поспешил раструбить на весь белый свет об этой своей "победе". Ну а я сейчас почитаю вам, что писал наш советский друг -товарищ Михеев - по поводу массового выселения жителей из города. - Лицо премьера внезапно показалось высокому гостю ссохшимся и старым. - "Кроме того, покидая Пномпень, американцы и руководители лонноловского режима оставили здесь своих агентов и тайные склады оружия с целью спровоцировать волнения и свергнуть народную власть. В Пномпене было выявлено 20 тысяч таких агентов. Все это вынудило правительство эвакуировать население Пномпеня (за исключением военных), направив его на выращивание риса. В связи с этим в западных странах была поднята шумная кампания о "зверствах", якобы чинимых новыми властями против прежних сторонников лонноловского режима. Однако свидетели, находившиеся в то время в Пномпене, отмечали, что новые власти не допускали "ни жестокости, ни мести". "Тут все неправда! - с жаром воскликнул Со Ним, грузно опускаясь в кресло. - Новые власти показали свое истинное лицо в первый же день, выгоняя прикладами людей из их домов и расстреливая на месте тех, кто оказывал малейшее сопротивление. Не все же блеяли как овцы на заклание! Но Михеев предпочитает цитировать западных авторов из числа тех, кто был завербован китайской разведкой, либо подпал под влияние маоистской пропаганды - одно практически равнозначно другому. Книга предназначалась для советского читателя и находилась в свободной продаже. Возникает вопрос о том, в какой степени отражала она официальную позицию МИД СССР. Безусловно, к концу 1977 года миру недоставало достоверной информации из Кампучии, сотрудники немногочисленных иностранных посольств лишены были права свободно передвигаться по улицам обезлюдевшего Пномпеня, страна была изолирована от внешнего мира и далеко не каждый политик склонен был принимать рассказы беженцев из преисподней за чистую монету. Не было пока известно, например, что премьер Пол Пот живьем закапывает в землю маленьких детей. Не было известно, что ценнейшие культурные памятники и здания банков взрывают динамитом. Не было известно о массовых казнях и о кострах из книг. Но разве так уж трудно было сделать правильные выводы из фактов уже ставших достоянием мировой общественности? Так уж трудно представить себе эксцессы геноцида? Разве выселение жителей из громадного города в трехдневный срок могло обойтись без жертв? А больные в госпиталях? А женщины в родильных домах? А слабые и увечные? А старики и дети? Все эти соображения лежат на поверхности, но я абсолютно убежден, что в тот исторический момент деятели ответственные за внешнюю политику социалистических государств не видели иной реальной альтернативы и стремились по-хорошему договориться с людьми захватившими власть на гребне освободительной войны и выдававшими себя за коммунистов. Я отдаю себе отчет в том, что с точки зрения большой стратегии наличие в недрах Кампучии определенных полезных ископаемых имеет большее значение, чем судьба какой-то безвестной лицеистки забитой мотыгами за ношение очков и знание иностранного языка, но как примирить с этим совесть революционера? А вот еще перл из этой книги: "Но у патриотов Демократической Кампучии, ее нового строя есть враги. С "потерей" Кампучии еще не смирились реакционные империалистические круги. Они все еще лелеют мечту о ее возвращении к прежним порядкам". Да, ничего не скажешь... А новые-то порядочки были пострашее тех, что в третьем рейхе, ай-ай... Какие нехорошие люди, эти враги! Но чего только не простишь революционерам, когда они приходят к власти. Злую гримасу - и ту принимаешь за сердечную улыбку. И вообще, как иногда говорят мои русские собеседники, лес рубят - щепки летят. Конечно, ничего подобного я не скажу советскому послу. К чему ворошить прошлое? Советский Союз заслужил признательность нашего народа. Но, право же, я не хотел бы оставлять на вас впечатление дурачка". Победоносно захлопнув книгу Со Ним поднялся с кресла, подошел к нише и, повторив манипуляцию со статуэткой, водворил томик на старое место.
Устрашающие по непосредственным результатам и отдаленным последствиям годы правления клики изуверов в Камбодже потрясли воображение Генерального Секретаря. Будучи образованным человеком кое-что о Пол Поте и его коммунах он слышал и раньше, но только после ряда бесед с Со Нимом смог он по достоинству оценить всю глубину злодеяний террористического режима. И в душе его постепенно вызрело убеждение в том, что феномен Демократической Кампучии необходимо изучать и изучать, ибо человечество пережило пандемии чумы, крестовые походы и лагеря уничтожения, но чтобы целая страна копировала бы собой Освенцим... Нет, такого цивилизованный мир до Пол Пота еще не знал. Генеральному Секретарю приходилось иной раз - воображая нечто подобное у себя дома, в Колумбии, - испытывать внезапные приступы животного страха. Подумать только - все его друзья, знакомые, родственники и он сам, - все были бы раздавлены в один миг. Кстати, коммунистическая Ямайка совсем под боком... Ничего неожиданного в латиноамериканском рецидиве геноцида не было бы. Недавно он поймал себя на том, что при одном воспоминании о Со Ниме у него холодеет где-то под ложечкой и потеют ладони. Но загадочная тема притягивала как магнит. Сколько раз он зарекался говорить с Со Нимом о Пол Поте, но ничего не выходило - он не мог противостоять нездоровому желанию разузнать о лидерах "кхмер руж" как можно больше. Как-то принимая в своей резиденции прилетевшего в Нью-Йорк для участия в генассамблее ООН Со Нима, он задал высокому гостю вопрос касающийся личности Пол Пота: "Какая одиозная фигура! Каким же надо было быть человеком, чтобы додуматься до политики геноцида по отношению к собственному народу? Порождением какой химерической фантазии была его психология? Был ли этот человек садистом и палачом по призванию, или же он стал жертвой определенной политической концепции? Не был ли он душевнобольным?". Со Ним устало улыбнувшись ответил: "Я тоже много думал об этом. Очень много. И не Пол Пот, а Салот Сар, ибо Пол Пот всего лишь его революционный псевдоним. Говорят даже, что псевдоним "Пол" - искаженное Поль - он взял из уважения к Сартру. Так вот, Салот Сар, или, если угодно, Пол Пот, так привычнее, не был ни сумасшедшим, ни опереточным тираном, ни палачом по призванию. При всей своей одиозности, он фигура в какой-то степени интернациональная. Было бы несправедливо, или, по крайней мере, неточно называть его простой китайской марионеткой, хотя этнические корни у него действительно были китайскими. Но не следует беспричинно оскорблять память его ханьских предков. Китайским агентом он был в той мере, в какой это диктовалось обстоятельствами. Итак, сойдемся на том, что он был кхмер. Для кхмера той эпохи он получил сносное образование, какое-то время учился во Франции, вместе со своими будущими соратниками был связан с французской компартией, писал интеллектуализированные социологические эссе, печатался в левой прессе. С коммунистами вскоре разошелся, проявив себя активным сторонником экстремистских тенденций - видимо, в этом и следует искать истоки его будущей зловещей политической карьеры. О, опыт у него был. Внутри партии он долгое время вел себя достаточно скромно, что не помешало ему устранить ее лидера и в результате кровавой и тайнственной интриги захватить партийную власть. Тем не менее, "Брат номер один" - все они присваивали себе номера или псевдонимы - продолжал оставаться, насколько это было возможно в нелегальных условиях, доступным и общительным руководителем. Кажется, в ранней юности какое-то количество лет он успел провести в монастыре, впрочем, это не доказано. В общем, азиатские города с их вопиющими контрастами вызывали у него чувство отвращения. Он хотел все переменить быстро, смешать небо с землей, установить полное и абсолютное равенство всех и каждого. И это в Азии, где все меняется медленно или не меняется вовсе. А для этого недостаточно было пассивно восхищаться китайской культурной революцией. Следовало применить ее методы в той стране, где он имел реальный шанс заполучить власть. В отсталой и уставшей от войны Кампучии. Маоистов в Пекине, надо полагать, интересовала возможность практического приложения своих теорий в азиатских странах, тем более, что у себя дома им так и не дали довести культурную революцию до логического конца. Ну и не хотелось им упускать кампучийский вариант из рук - созревший плод сам просился им в руки. С точки зрения чистого социального экспериментатора не столь уж важно, послужит объектом эксперимента родина, или же какая-нибудь другая страна. Это уж как придется. Если же учесть и то, что в случае успеха Китай становился гегемоном в Юго-Восточной Азии, заинтересованность пекинских политиков в победе полпотовского крыла Национального Единого Фронта значительно возрастала. Вот почему в Пекине решились поставить на Пол Пота. Наиболее дальновидные руководители Китая не могли не понимать, что втягиваются в авантюру - но уж слишком соблазнителен был куш. Пол Пот, конечно, понимал, что добровольных сторонников его модели государственного устройства, предполагавшей ликвидацию городов - этих рассадников зла и неравенства, и отмену денег - этой первопричины всяческих пороков, нашлось бы немного. Поэтому он морально подготовился к тому, чтобы пролить море крови своих соотечественников, иначе на воплощение в жизнь его сверхсмелых теорий нечего было и надееться. Но, не заручившись поддержкой могущественного патрона, начать он не мог. А заручившись, уже и шагу не мог ступить без его санкции. В общем, к великому несчастью моего народа, интересы партнеров совпали полностью. Остальное было делом техники. Первым делом Пол Пот обязан был повязать кровавой порукой своих соратников и бойцов. Знаете, я верю в то, что он собственноручно закапывал живьем в землю малых детей. И вовсе не из садизма, вряд ли он получал от подобных акций половое удовлетворение. Дело в другом. Если толкаешь подчиненных на массовые убийства и не склонен прощать им малейшего милосердия к несчастным жертвам, то и сам должен подавать личный пример своим гвардейцам. Это элементарная политическая истина. Поэтому Пол Пот был объективно заинтересован в том, чтобы гвардия не усомнилась в твердости принципов своего командира. Тогда никто не посмел бы проявить мягкотелость. Награждали и продвигали по службе только непорочно жестоких, с остальными рано или поздно расправлялись как с ренегатами. Существует фотография, - я как-нибудь покажу вам ее, - на которой улыбающийся премьер Демократической Кампучии изображен вместе с мальчишкой, сынишкой захваченного в плен лонноловского офицера, которого закопает в землю через несколько минут. Пусть кое-кто утверждает, что фотография может быть искусной подделкой. Я верю, что Пол Пот занимался такими делами, ибо они вызывались интересами сохранения власти вооруженным меньшинством общества, то есть необходимостью, а не капризом. Он был настолько же заинтересован в гнусной саморекламе внутри страны, насколько не заинтересован в ней вне ее. По этой причине Кампучия была намертво изолирована от остального мира. Правление Пол Пота неплохая иллюстрация к тому, что ждет любой, даже самый миролюбивый народ, если он посадит себе на шею откровенного террориста. Вы думаете, окажись у государственного руля итальянские бригадисты или западногерманские РАФ-овцы, наводившие страх на европейского обывателя в те самые годы, когда "красные кхмеры" захватывали одну командную позицию за другой, - они действовали бы иначе? Нет, народ для них ничто, самое дешевое сырье на свете, -поэтому они обращались бы с народом точно так же. Просто в культурных странах не переживших массированных американских бомбардировок и обладающих хорошо отлакированными государственными институтами, им было несравненно труднее дорваться до власти, чем в бедной и опустошенной Кампучии, где полпотовская демагогия о прелестях настоящего социализма завладела умами неграмотных крестьян, в течении долгих лет не слышавших ничего, кроме взрывов фугасок и видевших в горожанах источник всех своих бед. Итак, перво-наперво он повязал своих сторонников кровавой порукой, так повязал, чтобы они последовали за ним до самого конца каким бы он не был, а затем принялся за осуществление своей псевдосоциалистической уравниловки. При этом он был дьявольски осторожен, приблизил к себе родственников и стал выполнять любое, даже самое крохотное пожелание своих покровителей. Провозгласив изоляцию высшим благом для Кампучии, он, тем не менее, вступил с ними в подневольную связь, ибо получать оружие мог только из Китая. А Поднебесная ничего не раздавала младшим союзникам бесплатно, ее политические требования долженствовало выполнять без излишней торговли, да еще и расплачиваться за артиллерию рисом и каучуком. Отсюда - пограничная война Кампучии с Вьетнамом. В конце концов Пол Поту было все равно где перемалывались в пыль кости его соотечественников - в коммунах, одной из таких, где прошло мое детство, или на границе с некогда дружественной страной. Что ж, своим безоговорочным послушанием он обеспечивал себе надежный тыл; когда режим рухнул ему было куда уносить ноги. А так... Мелкий политикан, приживальщик, маккиавелист, руки по локоть в крови. Обычная психология удачливого карьериста, готового на любое преступление ради достижения эгоистической цели. Фюрер. Секрет прост, а король гол. Необузданная жестокость и патологическое лицемерие - вот и вся его человеческая суть. Странно однако, что люди обладающие подобным нравственным багажом и совершенно абсурдными идеологическими претензиями, нет-нет да и получают возможность для претворения в жизнь своих утопических концепций и успевают натворить немало бед, пока их не устранят. Все эти фашиствующие революционеры - подлинный бич для слаборазвитых стран. Ньюберт правит на Ямайке второй год, и его правление мало чем отличается от полпотовского, разве что он успел истребить относительно меньший процент населения острова. А Салех в Судане, разве это был не исламский вариант культурной революции, хорошо еще, что местный генералитет довольно быстро, хотя и не без помощи извне, справился с этим авантюристом. А Коморские острова? Можно привести еще несколько примеров. Все эти, с позволения сказать коммунисты, и сегодня в сердце присягают Троцкому и Мао, и нет гарантии, что рецидивы левого терроризма в будущем не получат еще больший размах. Ведь проблемы обостряются, а значит, повышается и давление в котле. В последнее десятилетие произошло несколько государственных переворотов. Чаще власть переходит к традиционно фашиствующим диктаторам, но иногда у руля оказываются и левые экстремисты. Они даже опаснее, ибо прикрываются революционной фразой и их труднее раскусить. Вы уж извините, что я так долго рассуждаю об этом, но ваш вопрос задел меня за живое. В общем, между психикой людей типа Пол Пота и идеологией левацкого терроризма проглядывается очевидная связь". "А не сталкивается ли сегодняшняя Кампучия с проблемой терроризма?"- задал очередной вопрос Генеральный Секретарь. "Ну что вы, - Со Ним весело заулыбался. - У нас достаточно сил для того, чтобы урезонить потенциальных смутьянов. Какая может быть у них под ногами почва? У нас мало имущественных контрастов. Встречаются, конечно, недовольные, но где их нету - на Марсе? Кроме того, наличие некоторого количества недовольных - признак неплохого общественного здоровья, не так ли? Структура нашего государства не благоприятствует любителям наживать моральный капитал через насильственные политические акции, так что им у нас рассчитывать не на что. Ныне мы живем в одной из самых спокойных стран Азии, и кабы не кое-какие пограничные проблемы с Таиландом, я мог бы спать спокойно. Студенческая молодежь Пномпеня отличается умеренностью. Молодые люди видят, что родина нуждается в их знаниях, а не в бессмысленных актах кровавого террора. Будьте покойны, они наслышаны об ужасах полпотовщины от тех, кто постарше. Наш народ, как ни один другой народ мира, испытал на себе последствия левацкого авантюризма, жаждущих повторения практически нет совсем. Изредка мне докладывают о тех или иных одиозных фигурах из молодежной среды. Сами понимаете - возраст. Обычно наши люди обстоятельно и спокойно беседуют с ними, и дело кончается миром. К мерам пресечения прибегать приходится крайне редко. Нам, разумеется, еще предстоит совладать со многими проблемами, но терроризма в их списке нет".
Беседы с Со Нимом Генеральный Секретарь относит к своим наиболее ярким воспоминаниям. Глупо было бы отрицать это. Но все это - вчера, позавчера, в прошлом. Сегодня - хуже. Сегодня он с удивлением вынужден признать, что величие проблем, которые так занимали его воображение, померкло перед угрозой нависшего над человечеством апокалипсиса. Ведь если водородные бомбы начнут взрываться, кто вспомнит о таком блестящем явлении, как "левацкий терроризм", чью больную совесть потревожит память о замученном полпотовскими убийцами очкарике, кто молвит хоть слово о восточном мудреце Со Ниме, да и где будет вся наша планета? Генеральному Секретарю невольно подумалось о внуке. Мальчуган живет с родителями в Боготе и давно не видел дедушку, которым так гордится. Ну, ничего, малыш, скоро дедушка покажет тебе Америку. А потом они возьмут и махнут всей семьей куда-нибудь на Ривьеру или в Бразилию. Генеральный Секретарь намерен востребовать мальчишку к себе, ведь они так редко видятся. Пускай на недельку оторвется от уроков, ничего страшного. Он возьмет мальчика на Кони-Айленд, на желтый песочек будут игриво накатываться сине-зеленые волны, они немного позагорают, и солнце будет жечь ему спину точно так же как сорок лет тому назад. Никто, никто решительно, не желает погибать от ударных волн и отравленной воды. Ну что ИМ стоит договориться о мире...
Генеральный Секретарь поднес левое запястье к глазам - четыре часа пополудни. День в самом разгаре. Ему стало стыдно. Что это он так распустил нюни! Можно подумать, что Совбезу нечего рассматривать кроме очередной русско-американской драчки. Как раз в эти минуты идут слушания по жалобе Сирии на действия Израиля, на границе каждый день инциденты, имеются убитые и раненые. В конце концов - кесарю кесарево. И вообще, нехорошо оставлять ООН на произвол судьбы, дезертировать нехорошо. Сейчас он встанет с постели, побреется, подберет себе галстук, велит подогнать к подъезду лимузин и помчится в свой офис на Ист-Ривер. Скоростной лифт вознесет его тело на тридцать восьмой этаж, он улыбнется секретарше и пожалуется своему заместителю на крайне отрицательно повлиявшую на его трудоспособность мигрень. А завтра будет добиваться у президента еще одной аудиенции. Он должен быть уверен в том, что исполнил долг сполна...
X X X
Писателя хоронил весь город.
День, хотя с утра и повеяло прохладой, выдался погожий. На рассвете промчался коротенький ливень, надежно прибивший городскую пыль к асфальту, но потом выглянуло солнышко и к полудню лужи успели подсохнуть, только прозрачные капли нет-нет да и скатывались на землю с мелко дрожащих листьев. Дышалось легко и свободно. Солнечный майский день.
Главная площадь республики, - та самая, которая в будние дни слишком похожа на широкую и грязную улицу, - была переполнена людьми. Сейчас здесь все казались совершенно одинаковыми. В ожидании открытия траурного митинга все одинаково переминались с ноги на ногу и одинаково волновались, хотя в глубине души и понимали, что речи с которыми здесь будут выступать ораторы, тоже, в силу обстоятельств, будут одинаковыми, похожими друг на друга как барабанившие по серому асфальту капли. Выступать собрались самые-самые: самые умные и самые необузданные, самые важные и самые величественные, самые знаменитые и самые ловкие. Эти люди умели отличаться друг от друга, но умели и не отличаться. А в этот скорбный для народа час отличаться было нельзя, неприлично. Все были в ожидании. А когда речи отгремят, пенные барашки людского моря сменяя друг друга вознесут священный гроб к главной усыпальнице моей земли - на гордую Мтацминда. Огромное, многоголосое даже в самые траурные минуты людское море. Океан прижатых ко дну страстей. И один из пенных барашков, такой же одинаковый, как и все остальные, - молодой депутат Верховного Совета Грузии, отдающий прощальную дань кудеснику слова и мысли.
... Я подошел слишком поздно, в половине двенадцатого, всего за полчаса до начала митинга, и, после нескольких неудачных попыток протиснуться поближе к трибуне, сдался и замер где-то на дальних подступах к ней. Признаться, я был немного огорчен. Мало кто из получивших сегодня доступ на трибуну, включая собратьев покойного по перу, имел большие нежели я моральные основания для того, чтобы напутствовать Писателя в бессмертие приличествующими случаю проникновенными словами, воздать ему за неоплатные труды скромным, но искусно сплетенным из роз и гвоздик венком, вытянуться подле гроба в струнку сжав до боли синеющие губы, печально преклонить колено у его хладного изголовья... Но увы! События последних месяцев его суматошной жизни так и остались исключительно нашим достоянием, и я счел более удобным для себя затесаться в толпу, выдать себя за одного из Одинаковых, довольствоваться безликой ролью статиста в грандиозном спектакле, который ставился опытными режиссерами на сцене необъятного народного театра. Не желая привлекать к своей персоне особого внимания, я незаметно убрал с лацкана пиджака депутатский значок - символ достигнутого мною уровня общественной значимости, - и тем самым окончательно перевоплотился в обыкновенного среднего горожанина из тех, что собрались почтить память великого человека в эти горестные для нации часы. Строго говоря, прятать значок я не имел права. Народный избранник далеко не мальчик, а порождение высших принципов советского демократизма, и потому место символа - на лацкане, а не в кармане пиджака. Но на собственные слабости и прихоти все мы привыкли смотреть сквозь пальцы, и я предпочел прошагать весь путь от площади Республики до Пантеона в качестве частного лица.
Манифестация, как и ожидалось, получилась грандиозной. Процедура торжественных похорон освящена у нас в Грузии древней народной традицией, и, вне зависимости от того, приятно ли душе благополучного обывателя столь откровенное скопление большого количества людей, или не очень, - нарушать ее не принято. Как раз в такие моменты жизни благополучный обыватель затягивает сытое брюшко потуже и лезет из кожи вон, стараясь убедить себя в том, что он ничуть не хуже тех, ради кого и разгорелся весь сыр-бор. Площадь Республики и прилегающие к ней улицы были запружены почитателями писательского таланта, к тротуарам жалостливо приткнулись автобусы, троллейбусы и одинокие легковушки, солнце поднималось все выше и выше, но и оно, кажется, остановилось, когда первый оратор - глава республиканского писательского союза Писателей - поднялся на трибуну и, объявив митинг открытым, пригласил к микрофону руководителя республики. Признаюсь, его выступление мне показалось несколько суховатым. С течением времени, однако, выяснилось, что речи остальных ораторов также не отличались многообразием и глубиной. Впрочем, аудитория внимала им с неизменным интересом и одобрением. А она была внушительной - эта аудитория. Позже газеты напечатали, что в митинге и манифестации, по оценке министерства внутренних дел, приняло участие от двухсот до трехсот тысяч тбилисцев и гостей столицы. Легко можно представить, какая нешуточная ответственность легла в тот день на правоохранительные органы и городские власти.
Человек хоть единожды в жизни испытавший себя зрелищем выведенной из равновесия людской массы, уже не может считаться наивным юнцом. Он немедленно приобщается к некоему высшему знанию, его опыт обогащается кое-чем из того, о чем он раньше читал только в книжках. Вывести массу из равновесия непросто, но не дай бог... Свидетелем тому мне довелось впервые стать сразу по окончании горячей футбольной схватки на центральном стадионе в Тбилиси много-много лет тому назад. Вот когда я действительно осознал, что зрительская масса состоит вовсе не из восторженно охающих при забитом голе или удачно выполненном финте болельщиков, но еще из... Впрочем, ни из кого тогда она не состояла. Люди утеряли индивидуальность, и я, к стыду своему, на некоторое время тоже поддался всеобщему неразумию. Тысячи пальцев, объединенных порывом ненависти в единый стальной кулак, - кулак способный крушить все без разбору, бьющий с одинаковой силой стадности и по правым, и по виноватым - вот в кого все мы тогда превратились. В тот жаркий весенний вечер 1977 года я впервые узрел вырвавшегося из бутылки джинна - а такое нечасто у нас узреешь! Я был ошеломлен и смят извращенным, хищным великолепием толпы - толпы способной проявить терпимость только к личностям совершенно определенного толка: провокаторам, поджигателям, истерикам, юродивым. Все остальные обладали единственным правом: раствориться без остатка в этой толпе А ведь в начале игры скорого взрыва ненависти ничего еще не предвещало. Тбилисское "Динамо" - потенциальный лидер чемпионата - принимало топтавшуюся в хвосте турнирной таблицы ворошиловградскую "Зарю". Тбилисцы в те годы находились на подъеме, и в их полном превосходстве над слабеньким соперником никто не сомневался. Мы предвкушали легкую и красивую победу наших кумиров. Но, как говорится, мяч круглый. Несмотря на все старания у динамовцев игра так и не пошла, и к исходу состязания на табло насмешливо сияли глупые обоюдные нули. Болельщики приуныли - еще бы, получаем жалкое очко вместо верных двух. И с кем делимся? С аутсайдером, которому надо было вбить минимум пять сухих мячей! Но время на исходе и, пожалуй, ничего изменить уже нельзя. Пора, пора домой. К пресному ужину, к постылой жене, к нудной тянучке. Ну все - хватит, пошли, не стоит драть глотку ради этих заcравшихся поганцев, им бы не мяч гонять, а забивать козла... Но вот, всякой логике вопреки, на последней минуте матча в воспаленных от обиды сердцах тысяч зрителей воссияла яркая искра надежды. Защитник Костава с мячом прорвался в штрафную площадку гостей и был сбит кем-то из оборонявшихся. Стадион вздрогнул и взревел, трибуны ликовали. Но на беду одновременно с падением игрока прозвучал и финальный свисток арбитра. Судья решительно воздел руки к небу, просвистел в свою дуду и стремительно зашагал к центру поля. Оставшиеся без пенальти и вероятной победы динамовцы понуро двинулись к раздевалке. Но разве мог свисток арбитра затушить возгоревшееся из той искорки пламя? Когда у малого ребенка отнимают игрушку - тот поднимает рев. Когда отбирают надежду, пусть незаслуженную, у десятков тысяч взрослых людей, те тоже начинают вести себя как малые дети - орут благим матом и кидаются искать виновных. Ревели все, и я, помню, ревел вместе со всеми, но игрушку возвращать нам не собирались, а силы у нас были совсем не детскими. Футболисты и судьи давно покинули поле, но мы стояли насмерть. И хотя голосовые связки подустали и рев вроде начал стихать, никто уже не спешил домой - к пресному ужину, к постылой жене, к нудной тянучке. И я тоже не спешил уходить, хотя и был тогда вполне доволен холостяцкой жизнью в Москве и аспирантскими страстями (мое присутствие на игре объснялось просто: началась пора отпусков и шеф на пару недель отпустил меня домой). Я чувствовал: стоит мне покинуть стадион и мои спина и затылок сгорят, испепелятся под гневными и презрительными взглядами остающихся, и, что самое главное, в те неповторимые минуты я всеми фибрами души ненавидел презренного судью. Итак, рев стихнул, и я тоже умолк - на миг показалось будто огромная, переполненная людьми чаша и вовсе замерла. Но затишье оказалось недолгим. Наверное все разом вспомнили что-то наболевшее и тщательно от себя скрываемое, но отнятую игрушку никто возвращать не собирался, и через минуту-две откуда-то из глубины чаши стал подниматься глухой, не предвещавший ничего хорошее зловещий ропот. Он нарастал как-то не совсем уверенно, волнообразно, но зато неотвратимо, и в конце концов превратился в рык. Рык раненого и растревоженного в своем логове зверя. И главное: народ расходиться не собирался. Игроки давно скрылись в раздевалке, судью вывезли с территории стадиона под конвоем, а народ не сходил с трибун. Стадион бесновался и рычал как разъяренный дракон. Дракон, рана которого на беду охотника смертельной не оказалась. Дракон, набирающий силы для мстительного прыжка. Запахло паленым. Почуяв опасность милицейские цепи начали стягиваться поближе к правительственной ложе. К чести своей должен сказать, что я довольно скоро пришел в себя. Минуту назад я был как все, а минуту спустя - уже нет. Я остыл, мне было наплевать и на судью, и на счет, - изменить-то все равно ничего было нельзя, но и уходить не хотелось: интересно стало до жути. Чем же все это закончится: падет ли раненный зверь от охотничьей руки, или же придет в себя и растерзает обидчика в клочья? Постепенно я вновь обретал хладнокровие и наблюдательность. И хотя мое внимание, как и прежде, было обращено в сторону зеленого поля, одновременно я не упускал из виду и того, что творилось у меня за спиной, там где тянулась межярусная перемычка на которую успели взобраться разные типы из тех, юродивых. Блюстителей порядка вблизи было видно, милицейские посты были сняты и переброшены вниз, на поле, и юродивые получили наконец желанную волю. Вот один из них, кривобокий, сутулый, и какой-то весь из себя подловатый, изо всех сил запустил в сторону нижней трибуны пустой бутылкой, которая наверняка раскроила череп какому-нибудь бедолаге, и задал стрекача. Вот второй, такой же молодец, как и первый, кинул в глубь чаши здоровенный камень и сиганул к лестничному пролету. Но что такое какие-то бутылки и камни, раскроившие черепа паре-тройке бедолаг! Что такое слабеющий стон зашибленного по сравнению с порывом народного гнева! Дракон угрожающе рычал и обстановка продолжала накаляться. Трибуны гневались, а внизу, на футбольном поле, в это же самое время происходили любопытные события. Так же как земная суша испокон веков манила к себе усталых морских странников, так и зеленое поле свободы властно притягивало к себе возмущенных любителей футбола. Вот один любитель, - не обремененный, вероятно, семейными заботами и окончательно утративший способность мыслить, - решился испить пьяный воздух свободы до дна. Вот он вспугнутой птицей выпорхнул из нижних рядов и помчался туда, вперед, к центру поля. Добежав до милицейского кордона он попытался прорвать его и бежать дальше, видно у бедняги совсем помутился разум. Два милиционера схватили его и поволокли обратно. Тот все пытался вырваться у них из рук и блюстители порядка свалили его на траву. Многоголовому людскому морю это очень не понравилось. В знак солидарности с задержанным любителем и до того кипевший от возмущения стадион и вовсе попытался выйти из берегов. Не успели нарушителя вывести с поля, как к центру что было духу помчался другой такой же помешанный и, понятно, разделил судьбу своего незадачливого предшественника. Кто уж помнил о футболе! Вечерело. Над трибунами продолжали ярко гореть мощные прожекторы, а рев раненного зверя продолжал грозно сотрясать густой сигаретный дым, серебрянным маревом зависший над переполненной чашей. Помешанных вокруг становилось все больше и больше. На гаревой дорожке показались облепленные пожарными в касках пожарные машины. Милицейская цепь еще теснее сплотилась вокруг правительственной ложи, но красные чудища пока угрюмо молчали и, кажется, никто не верил, что они тоже могут заговорить. Осмелевшие зрители широким потоком хлынули на поле, и удержу им не было. А я стоял зачарованный и смотрел на это диво сверху. На следующий день я узнал, что среди высыпавших на арену находился и мой друг-математик, человек в высшей степени рациональный, положительный и скромный, страстный любитель футбола. Он так и не сумел разумно объяснить мне, что за бесовская сила кинула его в пекло. Стражи порядка замерли у дальней от меня бровки, метеориты из камней и бутылок безостановочно падали людям на головы, и зеленая арена стадиона вся была усеена беспорядочно метавшимися по ней людьми. От этого захватывающего дух зрелища невозможно было оторвать глаза. Вот тогда то я по-настоящему понял, что это за мощь - мощь огромной толпы.
Та футбольная история, как это ни странно, пришла таки к счастливому финалу. Восторжествовало известное эмпирическое правило: подчинить своей воле бушующую людскую стихию способна только сильная личность. Благодаря мужеству тогдашнего Первого Секретаря, не побоявшегося рискнуть собственным престижем, события удалось повернуть в спортивное русло. Какие слова он нашел; как добился того, что в этой кутерьме его выслушали; каким образом уговорил он всех этих впавших в детство и потерявших, казалось, всякий контроль над собой болельщиков удалиться с поля, для меня, свидетеля происходившего, и по сей день остается тайной. Но положительный итог его вмешательства был налицо: вскоре на трибунах установился относительный порядок и тысячи людей, покинув наконец стадион, устремились вниз по улице скандируя динамовские лозунги. Из повергнутого дракона наконец выпустили воздух. Несколько десятков побитых и раненых, несколько перевернутых и сожженных автомобилей, право же, лишь мелкая нервотрепка по сравнению с тем худшим, что удалось предотвратить. Но зрелище объединенной в единый кулак и изготовившейся к броску толпы мне не забыть никогда.
И вот сегодня людей на площади и прилегающим к ней улицам собралось несравненно больше, чем тогда на стадионе. Обеспечение порядка в таких условиях - особо трудная и ответственная задача. Ни одного дерзкого слова, ни одной неуместной шутки. Все должно проходить очень организовано, все участники траурного митинга должны быть проникнуты одной-единственной мыслью. Мыслью о невозвратимой тяжкой утрате, обязавшей всех только одному - работать на своем рабочем месте лучше, больше и энергичней. И не дай бог если мысли людей потекут в каком-то ином, все равно каком, но ином направлении - неприятностей не оберешься. Впрочем, для беспокойства вроде не было серьезных основании. На лицах у людей действительно была написана скорбь. Здесь не только выполняли гражданский долг, здесь прощались с человеком, которого любили и ценили.
Итак, митинг открылся ровно в полдень. Ораторы говорили долго, нудно и однообразно. Речи выступавших несколько различались по уровню эмоциональной экспрессии, в зависимости от того к какому литературному клану принадлежал выступавший. Поминали заслуги и награды покойного, поминали его преданность делу коммунизма и чуткое отношение к способной молодежи, отмечали его высокие качества человека и гражданина, помянули и о его близости к народу, и о высокой вере в его счастливое будущее. Конечно, соболезновали родным Писателя. Тридцать три раза было употреблено слово "талант", семь раз слово "гений", один известный литературовед даже назвал покойного "великим кормчим". В общем, на мой взгляд, речи эти были слишком утомительными и откровенно слащавыми. Сотни тысяч скорбящих терпеливо дожидались завершения торжественной части, - этого неизбежного зла, порожденного самыми добрыми намерениями. Наконец в три часа пополудни процессия, которую возглавили члены ЦК и правительства Грузии, медленным шагом тронулась по проспекту Руставели. Маршрут был предусмотрен следующий: площадь Республики - проспект Руставели - площадь Ленина - улица Кирова - улица Чонкадзе - Мтацминда. Это было так символично... Гроб несли по главному проспекту Тбилиси, носящему нетленное имя великого поэта Грузии. И я, затерявшись в толпе Одинаковых, шагал вместе со всеми. Издалека я мог видеть только черную точку гроба, невнятно колыхавшегося где-то вдали, - вот так я и Писатель вновь оказались бесконечно далеко друг от друга. Не знаю, что со мной приключилось, но мне вдруг стало скорее весело, чем грустно, и я ничего не мог с собой поделать. Солнечное небо сияло надо мной, голубое и глубокое; легкий ветерок подбадривал меня, и я неожиданно ощутил прилив энергии и сил. Моя судьба отныне в моих руках, - отчего-то подумалось мне, - Писатель ушел навсегда, и я наконец остался один на один со стихией. Обратного пути нет, я обязан взять над ней верх, и я сделаю это. Жаль, что моему могущественному покровителю никогда больше не суждено полюбоваться глубоким голубым небом у себя над головой; он более не порадуется ни легкому ветерку, ни тонкой шутке, но я сохраню о нем память. Это был великий человек. Упрямец, идеалист, ретроград - но великий. Пусть он, слишком уж уповая на свою прозорливость, плохо читал в моей душе, но все же он подступился к разгадке ближе других. И взамен я постараюсь стать достойным его духовного завещания, смысл которого открыт лишь мне одному. По мере сил и возможностей, постольку - поскольку. Но ведь это все же лучше, чем ничего. Я ведь мог бы просто наплевать и забыть, до призраков ли прошлого в нашем деле. Но я не хочу забывать. Все-таки я обязан этому человеку слишком многим. Писатель будет жить в моем сердце пока оно бьется, и думай я иначе, мои туфли не топтали бы сегодня этот асфальт. Человеком больше здесь, человеком меньше - в отличие от людей на трибуне стадиона, здесь никто не обратил бы ни малейшего внимания на мой уход. Тоже мне, великая честь - превратиться в одного из Одинаковых. Но я иду за гробом, иду смиренно, иду из уважения к личности Писателя, личности которая стала для меня легендарной. Иду, так как из из жизни ушел хороший, честный, добрый человек. Иду, потому что в глубине души убежден: он был чище, красивее, сильнее, лучше меня. И еще потому, что я ему должен и никогда уже не смогу вернуть ему этот долг.
Оставив позади широкий проспект пенные барашки людского моря вторглись во владения тесных улочек Сололаки и неустрашимо устремились наверх - по направлению к Пантеону. Море разделилось на многочисленные речушки - резвые и не очень, - и резвым повезло больше: только им было суждено окружить Пантеон заводями скорби. Моя же обмелевшая речка застряла где-то на полпути к месту последнего отдохновения Писателя. Подойти к нему поближе не было никакой возможности. Оставалось только терпеливо дожидаться окончания церемонии и последующего отлива. А пока меня обрекли на длительное стояние посреди молчаливых и незнакомых мне людей в почтенном отдалении от Пантеона. И это после стольких часов траура. У меня начали отчетливо побаливать ноги, но... Невольно я задумался о бренности всего земного. Ох, какие высокие требования предъявлял Писатель к своим избранникам. Мне вспомнился длинный список этих требований, стало и смешно, и грустно. Ведь таких людей нет на свете, и в недосягаемости - вся прелесть идеала. Неужели к концу своего века этот умный старик вознамерился перехитрить жизнь? Если так, то он переоценил свои силы. Что убило его? Наступившее разочарование в моих способностях? Сознание бесплодности своих усилий? Невозможность повторить себя в самых близких ему людях? Тщета и суетность жизни? Начисто испепелившая ему нутро ненависть к конформизму? Может в эпилоге он почувствовал, что не в его власти контролировать поступки такого сложного человека как я? Может он признался себе в том, что неосмотрительно отдал мне больше, чем должен был предложить? Может животный страх неминуемого провала нашей затеи ускорил его кончину? А может всего понемножку? Он не скрывал от меня, что угнетен. Угрызения совести отравляли ему последние дни. Он горько сожалел о том, что жизнь не дано прожить заново, не мог простить себе темных пятен своей биографии, но и сдаваться без борьбы не хотел. Вот и попытался вылепить из меня, благо именно я подвернулся ему под руку, существо по образу и подобию придуманного им идеала. Как-то раз он признался мне, что считает конформизм миллионоглавой гидрой, с которой он мечтает поступить так же, как мечтал поступить Нерон с римским народом, добавив, что он всегда пытался победить эту гидру, но, в конце концов, она его одолела. Как он оплошал! Ведь это невозможно - уничтожить конформизм, да еще силой оружия. Каждый человек в некоторой степени конформист, и тогда пришлось бы истребить всех, в том числе и антиконформистов типа Писателя, ибо их антиконформизм - тот же конформизм с малообязывающей приставкой "анти". По сути дела, этот их хваленый антиконформизм - та же фронда, неприятие к любым организованным формам борьбы за вполне светлые идеалы. К оружию? Ради бога! Я готов сражаться. Но не против конформизма, не против миллионоглавой гидры без партийной принадлежности. Я член Коммунистической партии Советского Союза и люблю определенность во всем. Писатель - пройденный этап. Хорошо пройденный, но все-таки пройденный. Я кланяюсь, низко кланяюсь ему в ноги, но... пришли иные времена, взойдут иные имена. Но не на людях, конечно же не на людях. На людях я остаюсь все тем же последовательным антиконформиетом, но себе-то я обязан говорить правду. КОНФОРМИЗМ НЕВОЗМОЖНО ИСТРЕБИТЬ. Лучше уж служить вполне определенному и достойному делу - делу коммунистического строительства. Все эти мысли, мысли сумбурные и во-многом противоречивые - противоречивые, ибо в душе что-то протестовало против них, - колотились о мою черепную коробку в течении всего моего вынужденного стояния на солнцепеке, достаточно, кстати, неприятного, ибо в этот час солнце жгло не то чтобы немилосердно, но все же достаточно надоедливо. Но вот, появились наконец первые признаки отлива и наша речушка потекла вспять. Траурная церемония исчерпала себя и я воспрял духом.
Чуть позже, когда мне удалось выбраться из толпы и помчаться домой с четким намерением немедленно принять очищающий горячий душ, мне стало как-то не по себе. Писатель покинул нас, и этого стенаниями не поправишь, но что это я за человек, если даже в такие минуты умудряюсь спокойно рассуждать о дальнейших путях моей карьеры?! Вот если бы я мог хоть чем-нибудь ему помочь... Во всем виновата толпа, все эти Одинаковые, да едва ли половина из присутствовавших на похоронах читала его книги, - злился я на себя и других. Захлопнув за собой дверь, я быстро разделся и закрылся в ванной. И только потоки горячей воды смыли злобу прочь.
А так все прошло гладенько и спокойно. Толпа рассосалась будто ее и не было вовсе, море обмелело, петушковый дом когда-нибудь будет снесен. Люди возвратились домой. Кое-кто вернулся к теплому очагу, любимым книгам, привычным наслаждениям; кое-кто - к пресному ужину, постылой жене, нудной тянучке. Был человек - и нету, что тут винить других в конформизме. Небось, возвращаясь с иных поминок к себе на Перовскую, Писатель тоже позволял себе выкурить любимую сигарету перед сном, как же - привычка. А привычка - дело святое. Эх, как легко осуждать других и как трудно их по-настоящему понять...
X X X
... Право, никак не могу отделаться от впечатления, что нации ведут себя как дурные, вздорные люди.
- Женщины или мужчины?
- Как взбесившиеся домохозяйки. Апофеоз мещанства.
- Ну, ну. Эк вы хватили. Ради красного словца еще куда ни шло. Впрочем, если вдуматься, вы не так уж и далеки от истины. Но мы отвлеклись. Ваша миссия, многоуважаемый товарищ, к излишнему философствованию не располагает. На это у вас, батюшка, и времени-то хватать не должно. Сия роскошь нынче доступна лишь сибаритам. Однако, вернемся к нашим играм. На чем же мы остановились?
- На визите Малапарте к Больцману.
- Вот, вот. На визите Малапарте к Больцману. Ваше мнение?
- Заслуживает внимания.
- Пристального внимания, многоуважаемый, пристального! Мало радости доставит нам итало-австрийский пакт. Не говоря уже о чехах и венграх.
- Согласно информации Мальцева до пакта еще очень далеко. Может стоило бы немного выждать. Не окажет ли наш демарш обратного воздействия на события? Я опасаюсь...
- Информация Мальцева... Его источник Брансмауэр. Довольно надежный, кстати говоря, источник. Кроме того в нашем активе известное вам донесение нашего военного атташе, та статья в "Вашингтон Пост" и... Нет, нет. Я скорее опасаюсь, не запоздали ли мы. Впрочем, я и не собираюсь спешить с демаршем. На данном этапе "тихая" дипломатия вроде сулит больший успех, но если упустим момент... Роль пассивного наблюдателя может привести нас к пассивному сальдо. Если итало-австрийское сближение будет продолжаться такими же темпами, то скоро я и гроша ломаного не дам за австрийский нейтралитет.
- Да, вы правы. Пожалуй, опасно оставаться в стороне.
- Вы летите завтра в десять, не так ли?
- Совершенно верно. Лазарев ждет.
- У моря погоды... Надо предполагать, основная тяжесть переговоров придется все-таки на нас с вами. Так. Ну что учить ученого Будьте осторожны с Причарди. Хитрая лиса. Провокация против "Платонова" его рук дело.
- Только ли его?
- В основном. Как мне сообщили, министр не имеет к этому делу прямого отношения.
- Кстати, что с кораблем? Получили добро в конце концов?
- Да. Вчера "Платонов" пришвартовался в Неаполе. Но Лазареву пришлось поздно вечером сходить к Бертело.
- Можно ли считать, что инцидент с "Платоновым" исчерпан?
- К сожалению, нет. Войти в акваторию еще не означает выйти из нее. Вам, как главе делегации, следует проследить за тем, чтобы "Платонов" выпустили из Неаполя в целости и сохранности. Предупредите Малапарте, что вся ответственность за намеренное обострение отношений ляжет на Рим. Одного Лазарева там может не хватить. В связи с инцидентом правые вчера освистали в сенате Бертело, а неофашисты даже обещали подложить "Платонову" мину при выходе из гавани. Если с "Платоновым" случится что-то нехорошее, нам придется укладывать чемоданы. У Малапарте и Больцмана окажутся развязанными руки и... В общем, мне трудно в деталях предвидеть нашу реакцию на нарушение австрийского нейтралитета, но то, что она будет очень жесткой - могу обещать. В конце концов, существует Государственный договор. Но не хватало нам только конфликта в Центральной Европе.
- Можете быть уверены, гарантировать безопасность "Платонова" я потребую от Малапарте на первом же свидании. Следовательно, я прижму их к стенке завтра.
- Это - в первую очередь. Но думаю, что Малапарте упорствовать не станет. Он не посмеет подставить своего министра. Только бы полиция не оплошала!
- Кстати, что передают из Вены?
- Они встревожены. Линдер сегодня утром завтракал у Мальцева. Хвалил торговое соглашение. Долго распространялся о значении неизменного нейтралитета Австрии для сохранения европейского и мирового статус-кво. Мальцев поддакивал, но требовал гарантии. На Линдера сильно давят атлантисты. Заокеанские и свои, правофланговые от собственной партии. Но он понимает и то, что мы не будем смотреть на его флирт с НАТО сквозь пальцы. Мальцев держался твердо, Линдер ушел от него в большем замешательстве. Они знают о вашей предстоящей поездке и до вашего возвращения серьезных шагов предпринимать не станут. Ну а ваша задача - как следует обработать Малапарте. Привлечь его внимание к явной невыгоде для Италии союза с Австрией по двум, по крайней мере, причинам: попытка завлечь Австрию в НАТО поставит Рим в положение троянского коня, только вот финал может оказаться иным, чем у Гомера - это первое; и второе, - неблагоприятные для Италии исторические аналогии. Напомните-ка ему, что в свое время товарищ Муссолини ничего не смог противопоставить аншлюсу, хотя ему вовсе не улыбалось танковые дивизии товарища Гитлера на Бреннере. И если войскам НАТО несложно оккупировать Австрию, пусть даже и с согласия венских капитулянтов, то и нам несложно найти адекватный ответ. Вот когда положение Италии станет ненадежным! Зачем же играть с огнем и ставить под сомнение статус Австрии как нейтрального государства? К чему множить число горячих точек в Европе? Малапарте, как разумный человек, не сможет отмахнуться от ваших аргументов. А Бертело заявите прямо: Советский Союз не оставит без последствий посягательство на дух и букву Государственного договора, регулирующего нейтралитет и независимость Австрийской республики.
- Значит, все-таки демарш?
- Да, но не ультимативный. Все же употребив выражение "не оставит без последствий" вместо "не оставит безнаказанным" или "не потерпит", вы, проявляя твердость, не лишаете себя пространства для маневра. Убежден, что сжигать мосты нет необходимости. Сжигать мосты, вообще, не дело дипломатов. Но и без нужды культивировать иллюзии наших партнеров по переговорам было бы неосмотрительно.
- Как оценивает Мальцев общую обстановку в Австрии?
- Как сложную, но довольно благоприятную. Федеральный президент стоит за безоговорочный нейтралитет. В кабинете Хольмана засилье министров от правобуржуазных и клерикальных партии, но сам Хольман не рискует торговать суверенитетом страны в открытую. В пределах предвидения переговоры Больцман-Малапарте будут продолжаться, но больше с целью снизить австрийские пошлины на итальянский экспорт, чем заключить пакт о взаимопомощи. Но мы всегда должны быть готовыми к внезапным поворотам в глобальной стратегии, например к оформлению альянса Северная Америка - Западная Европа - Япония. Такой поворот мог бы побудить Хольмана действовать вопреки воле президента. Народные массы довольно инфантильно относятся к идее укрепления военных связей с Североатлантическим блоком, даже при формальном соблюдении нейтрального статуса Австрии - следовательно со стороны общественного мнения угроза незначительна. Но, с другой стороны, такие активные сторонники австро-советского сотрудничества как Брансмауэр и его друзья, в настоящий момент находятся в меньшинстве. До президентских выборов еще два года, и вряд ли внутриполитическая обстановка в Австрии успеет за этот срок серьезно измениться. Но мы не можем позволить захватить себя врасплох. Одним словом, за Хольманом и Линдером, да и за Брансмауэром, нужны глаз да глаз.
- Это-то понятно. Итак, все-таки начать с "Платонова"?
- Обязательно. Им придется проглотить эту пилюлю. Потребуйте от них веских гарантии. Если ситуация неожиданно осложнится, посетите капитана теплохода на виду у репортеров. Дайте Малаларте понять, что для всех будет лучше, если "Платонов" выйдет в открытое море до вашего отъезда из Италии.
- Меня беспокоят вероятные итальянские требования. Может показаться смешным, но я до сих пор не составил себе ясного представления о границах уступок, на которые мне дозволено будет пойти. Миронов говорил мне одно, Паламарчук - другое, Лазарев может иметь и вовсе отличное мнение, да еще этот "Платонов" повис... Возможно я буду вынужден связаться с вами до подписания протокола.
- Кто у вас главный экономист в делегации?
- Сикорский. А с итальянской стороны - Радич.
- Радич? Ну ничего. Радич так Радич. В случае благополучного исхода с "Платоновым", во имя прогресса политического, то есть уступок Бертело и Малаларте по австрийскому комплексу, поручите Сикорскому заинтересовать Радича кое-какими контрактами на десятки миллиардов лир. Сообщите им, что в сентябре решится вопрос о размещении крупного заказа на строительство завода малогабаритных тракторов, и при известных обстоятельствах ФИАТ может получить преимущество над "Судзуки". Имеется в виду Башкирский проект. На севере Италии растет безработица, они могут клюнуть.
- Что ж, Радич возможно и ухватится за эту возможность, но Малапарте...
- Помогите им ухватиться за нее. Ну и потом, Сикорский великий дока по этой части, и ему виднее нас с вами, на какие послабления мы можем пойти по нефти и газу. Разумеется, в обмен на дешевые кредиты. Но, конечно, если препятствия покажутся непреодолимыми, немедленно снеситесь со мной.
- Еше один вопрос. Дело Курциуса...
- Ни-ни, ни в коем случае! О деле Курциуса с Малапарте ни слова. Если хочет, пусть давит сам. В деле Курциуса у нас нет слабых мест, он осужден согласно нашим законам и с соблюдением всех установленных процедур. Этот вопрос не может быть предметом настоящих переговоров. Если вам попытаются навязать его в повестку, смело заявляете протест!
- Так. С Курциусом ясно. Я также попытаюсь вытянуть все возможное по Эритрее, хотя Малапарте наверняка скинет меня Бертело, а тот сошлется на необходимость проконсультироваться с Дюпрэ. Тем не менее у меня есть небольшой шанс.
- Нота Рассела?
- Вот именно.
- Что ж... Если умело обыграть, то шанс действительно есть. Впрочем, весьма слабый шанс. Что еще?
- Ну, порядка ради, обоснованная критика неизменно негативной позиции Италии на переговорах по разоружению в Центральной Европе и... и пока все.
- Проблеме разоружения вам уделять много внимания не следует, хотя напомнить о ней, конечно, стоит. Тем более после известного выступления Хэммонда в подкомиссии. Но вскользь. Вам предстоит решать более насущные, более "земные" что-ли, проблемы. О ракетах и лазерах ни Бертело, ни Малапарте ничего нового рассказать не смогут, другое дело - "Платонов". Это обязательная программа...
X X X
По широкому, покрытому асфальтом пирсу неторопливо прогуливался мужчина средних лет.
Он выглядел как обычный турист: легкий коричневый загар, короткая бородка, белая хлопковая майка с какой-то надписью на груди, шляпа "плантатор" на голове, кинокамера через плечо, - все выдавало в нем иностранца. Пожалуй даже можно было сказать, что мужчина выглядел как пресыщенный турист, так веяло от него закормленностью и благодушием. Но если первое наблюдение было верным, и он действительно принадлежал к сему непоседливому племени рода человеческого, то пресыщенность была лишь ширмой, под которой скрывалась некая неудовлетворенность. В Неаполь, да и в Италию вообще, он попал впервые в жизни. Здесь, в порту, поодаль от всемирно известных музеев, отелей и магазинов, турист-новичок при желании мог бы почерпнуть из окружающей сутолоки немало поучительного. Беззлобно и привычно переругивались между собой докеры, важно прохоживались по пирсу портовые служащие в униформах, праздно летали между мачтами кораблей местные чайки, деловито скользили по рельсам портальные краны, жужжа метались в складских помещениях бойкие транспортеры - одним словом в порту кипела жизнь. Но ни голосистая перекличка просоленных морем неаполитанцев, ни впечатляющий вид акватории, ничуть не занимали внимание бородатого туриста. Он продолжал чинно, не теряя из виду трапа, прогуливаться вдоль белоснежного корпуса океанского лайнера по бортам которого большими синими буквами было выведено его название: "Андрей Платонов" - на носовой части по-русски, на корме по-английски. Тонкая струйка белого дыма била из большой трубы в голубое небо и медленно растворялась в его просторах. Лайнер готовился к скорому отплытию, менее чем через час ему вновь предстояло окунуться телом в глубокие воды Тирренского моря. Многие пассажиры, вернувшись из прогулки по городу, уже поднялись на судно, кое-кто из наиболее домовитых обустраивался в каютах заново, но большинство высыпало на палубу вкушая аппенинский аромат июльского зноя. Туристы, по-южному жестикулируя, обменивались наиболее яркими впечатлениями от кратковременного пребывания на суше, надеясь в душе при отплытии из гавани занять на палубе местечко поудобнее, - такое, чтобы все было видно. Бородатый турист однако не спешил подняться на борт. Дойдя почти до самой кормы, он на малое мгновение как бы очнулся, стряхнул с себя оцепенение, и, задрав высоко голову, стал вглядываться в лица на палубе. Так постоял он несколько длинных минут, явно стараясь обратить на себя чью-то таинственную благосклонность, и кажется преуспел в этом, ибо лицо его вдруг расплылось в неожиданной доброй улыбке, предполагавшей наличие ответной улыбки с верхней палубы, или даже целого сонма таких улыбок. Добрая улыбка эта мигом согнала с его чела пошловатое выражение благолепной сытости, он галантно поднес правую руку к сердцу, чуть поклонился и продолжил свое медленное шествие по направлению к корме.
Но счастливая улыбка вскоре сошла с его губ, да и спесивый, пресыщенный плантатор тоже окончательно исчез. Лицо бородача приняло задумчиво- утомленное, даже угрюмое выражение, и когда он оставил корму далеко позади выяснилось, что обманчивый облик самодовольного барина был всего лишь маской, фикцией. Удалившись от судна на почтительное расстояние, метров эдак на пятьдесят, он остановился, переступил за тянувшуюся вдоль причала ярко-оранжевого цвета заградительную линию, и, нагнувшись, попытался подсмотреть собственное отражение в мутно-зеленой портовой воде. Потерпев в этом начинании неудачу, он зло сплюнул в нее и резко выпрямился.
Антон, - а именно так звали этого бородача средних лет, - был не в лучшем состоянии духа. Правда, от навязчивых мыслей-прилипал его на пару секунд отвлек образ жены (это она одарила его улыбкой с палубы), которая давно поднялась на судно, ибо как истинная грузинка немножко боялась, что корабль неожиданно отчалит раньше положенного часа и унесет весь их нехитрый багаж в безбрежную даль. Но секунды эти минули, а навязчивые мысли не собирались отлипать. Частично они были связаны именно с женой, а конкретным поводом, или скорее причиной, выведшем Антона из равновесия, была небольшая заметка в английской "Гардиан". Утром, когда он покупал в портовом киоске цветные фотографии с морскими видами Неаполя, эта треклятая газета сразу же попалась ему на глаза.
Неприятная новость состояла, как ни странно, в том, что, как Антон узнал из этой заметки, вчера в Рим для ведения политических переговоров прибыла делегация Советского Союза во главе с первым вице-министром иностранных дел. Большего ему при его довольно поверхностном знакомстве с английским языком из заметки извлечь не удалось, но и этого было вполне достаточно. Антон, разумеется, ровным счетем ничего не имел против улучшения итало-советских отношении, но была тут одна тонкость... Честно говоря, он предпочел бы если эти переговоры начались в какое-то другое время.
Инициатором их нынешнего путешествия была жена. Не то чтобы Антон предвзято относился к туризму, отнюдь, но в данном случае, он, говоря откровенно, предпочел бы остаться дома. Но она так давно мечтала о морском круизе! Так надеялась, и он не посмел высказать вслух свои возражения, уступил ей с постной миной на лице. Мальчики их давно вышли из грудного возраста, нынче уже не боязно было оставить их бабушкам на попечение, а самим развеять городскую скуку по далеким морским просторам. Июль-август, за полтора месяца множество европейских портов, - не удивительно, что этот круиз входил в число наиболее престижных и дорогих маршрутов. Достать семейную путевку было очень и очень нелегко, а обычными методами - просто невозможно. Говоря по правде, он и в прошлом, и в позапрошлом году метался между Совпрофом и "Интуристом". Просил, умолял, добивался, беспокоил занятых людей, - и ничего. Ему не раз обещали помочь, но так - ради красного словца. Обещания не выполнялись и когда наступало лето, им, вместо желанного морского путешествия, вновь приходилось отправляться в Сочи, Гагры или Ялту. К ужасу своему, Антон даже заподозрил, что жена вот-вот смирится с унижением, но перестанет его уважать. А ради того, чтобы обеспечить ее вечное уважение, он был готов на все. Даже на то, чтобы пойти на поклон к бывшему своему другу, Птице Высокого Полета. К человеку, который, было время, изо всех дарованных ему природой сил ухаживал за той самой девушкой, что восемь лет назад согласилась стать его, Антона, женой. С тех пор многое изменилось: у них растут два прелестных мальчугана, а бывший друг сделал головокружительную карьеру - забрался в высокое кресло первого вице-министра иностранных дел, что ему сейчас какая-то путевка для двоих, или потерянная в незапамятные времена девушка! Видит бог, Антон обратился к вице-министру не во имя их увядшей дружбы, а единственно ради любимой жены своей, ради того, чтобы в семье не наступил разлад, - и разве он не вправе был так поступить? И вот они, - благодаря великодушию, незлопамятности и незлобивости первого вице-министра, - в течении двух дней отбивали чечотку на неапольских тротуарах, и все бы хорошо, да Птица Высокого Полета как назло прилетела в Рим именно сейчас, и жена может узнать об этом из любой местной газеты - они ведь накупили целый ворох на память. Вернее, могла бы, а кроме того, эту весть ей вполне способна сообщить какая-нибудь сплетница- доброхотка из туристок. Всегда найдется доброхотка с невинными глазами, и, что еще печальнее, с совершенно невинными мыслями. Болтуны! Ну а ему неприятна эта параллель. Он предпочел бы ее избежать. О, все это неспроста! Небось, первый вице таким вот нестандартным образом подчеркивает глубину пропасти между ними: Я, мол, достал вам эти путевки и ради бога: кто старое помянет, тому глаз вон, - но я все же не позволю вкусить вам от сочного плода абсолютной победы. Я сделаю так, чтобы мы очутились в Италии в одно и то же время, и вам все станет ясно: разве ваша Италия и моя Италия - одно и тоже? Вы мотаетесь среди чванных бездельников, рожденных для того, чтобы пробавляться аперитивами в барах и таращить глаза на голых баб, а я приезжаю в эту страну на свидание с премьер-министром. Ну какая мы после этого с вами ровня?. Да, первый вице наверняка мог бы выстроить подобную конструкцию и заявиться сюда лишь для того, чтобы лишний раз ненавязчиво напомнить им о собственной значимости. Дурак! И за руку не схватишь, правительственные решения не обсуждаются. Да он ни за что не польстился бы на эту путевку, но жена, жена... Впрочем, она ничего не знает, он не осмелился рассказать ей о том своем унижении. Разве ему легко было выпросить у него эти путевки, но он победил, и потом императорским жестом возложил глянцевые билеты на ее ночной столик - вот это был подарок так подарок! И она оценила, - ластилась к нему все последующие дни. А он ей объяснил: "Это все мои старые знакомые из Совмина". В общем, он сказал ей правду. Почти. Ну что могло ему понадобится здесь именно сегодня? Он так много передумал об их дружбе, так тщательно выискивал собственную неправоту. Нет, ему не за что вымаливать себе прощение. Теперь-то он знает точно: его жене никогда не нравился этот его дружок. Не нравился и не мог понравиться. Совершенно другой стиль. Да и вообще: в ту пору мало какой женщине искренне пришелся бы по душе этот молодой бюрократ. Какой-то мрачный, излишне академичный и, вдобавок, идеалист с завиральными идеями. Нет, женщина ищет в мужчине совсем иное: надежность, силу, уважение к быту - именно то, что она обрела в своем супруге. Они быстро полюбили друг друга, и будь первый вице честным человеком, он нашел бы в себе мужество приветствовать их союз. И не так, как он приветствовал, не формально, а искренне и от души. Ну а если он предпочитает формально, то и с ним - формально. Он не решился тогда порвать с ними, так тем хуже для него. Теперь он уже не сможет отмахнуться от них. Вот где ключ к разгадке. Вот почему в критической ситуации Антон решился обратиться к нему с просьбой оказать незначительную услугу. Вот почему бывший друг не посмел ему отказать, но и капитуляцию подписывать не захотел. Что ж, в таком случае Антон вынужден рассматривать официальный визит первого вице-министра страны в Рим как ответный укол. Ну хорошо же, следующий выпад будет за Антоном. Погодите-ка, он того еще о чем-нибудь попросит, он приперет его своими просьбами к стенке, пусть разыгрывает из себя благородного дона пока хватит терпения, черт бы его побрал! Посмотрим, надолго ли достанет его благородства. Посмотрим, доколе он, скрипя от досады зубами, заставит себя исполнять ИХ пожелания, делать ИХ дело. Назвался груздем - полезай в кузов! И наплевать куда еще залетит Птица Высокого Полета. Чем выше - тем лучше, тем более сложными для выполнения просьбами станет он того допекать!
Вообще, он не уважает его. И не уважал никогда. За что его уважать? Уважал бы, - может и наступил на горло собственной песне, подыскал бы себе другую. Хотя другая, наверно, оказалась бы хуже. Может он и сейчас еще пощадил бы этого карьериста, но заметка в "Гардиан" открыла ему глаза. Что ж, он не останется в долгу. Господин вице-министр еще пожалеет о своей назойливости. Жалкий показушник! Как он всегда задавался, как выпячивал наружу свою им же придуманную честность, из кожи вон лез только бы прослыть неподкупным, даже от внешторговских сертификатов нос воротил, хотя при нужде их тогда покупали и перекупали все кому не лень. А он не покупал и, таким образом, оказывался честнее других. Косился на ближайших людей. Дурак и чистоплюй! Хоть перед ним бы не валял дурака. А как же те сто десять тысяч, а? Не слышу! Небось когда пониже спины пригрело, сунул в лапу кому повыше, да еще и моральное оправдание подыскал: мол, не беру, а даю. Знает он его, прекрасно знает! Да только дудки, братец: по закону, что давать, что брать - все едино. А как, каким взглядом он тогда на него посмотрел, той далекой ночью, когда пришлось таки заявить в лицо этому болвану, что выбрасывать на ветер такие деньжища просто смешно. С человеком, который в упор смотрит на тебя такими ненавидящими глазами невозможно дружить. Можно играть в дружбу, не более того. Невозможно дружить с человеком, который окостеневшие принципы ставит выше реальных интересов близких ему людей. Да и сам едва ли их соблюдает. На деле-то он и все ему подобные считают, что принципы обязательны для всех, кроме их самих. Они всего только долгоживущие мыльные пузыри, не более, но и лопаются тоже как мыльные пузыри, - всему свое время. Он заподозрил Птицу Высокого Полета в скрытом человеконенавистничестве еще когда тот был птенцом, когда они были молоды, веселы и вместе бегали в пивнушки. В человеконенавистничестве - подумать только! Что-то было в его умозаключениях эдакое... словно обдававшее ледяной струей. Ну может это слишком сильное слово - человеконенавистничество, но у него нет желания церемониться с человеком отравившем ему эту поездку. Ну да, ему бы только перевести все на язык принципов, всяких там "измов". Даже естественное желание создать себе семью и прожить жизнь в ладу со своими приятелями - для него проявление мелкобуржуазного инстикта. Ох, как была бы несчастна его супруга, попутай ее бес и выйди она замуж за этого мыльного пузыря! Несколько месяцев тому назад он сочетался законным браком с какой-то московской простушкой, хо-хо! Интересно, они и в постели рассуждают о политике? Черта с два! Лицемер! Нет, в молодости он таким вроде не был. Тогда он был всего лишь догматиком и сухарем, но логика жизни вылепила из него номенклатурного чиновника по образу и подобию других чиновников, преуспевающего циника, для которого даже дача взятки - чисто политический акт. И даже женитьба - чисто политический акт. Наверное холостяков не принято назначать на высокие посты или допускать к важнейшим государственным секретам, брак все-таки заземляет, как-никак больше ответственности. Сейчас-то он ищет мира, разжирел как боров. Времена когда он находился в состоянии перманентной войны с непослушным человечеством, вскрывал сейфы, пытался покончить со злом в одиночку, давно прошли. А ведь он и его хотел втянуть в эту войну. Какой парадокс: он начинал как террорист, а в итоге превратился сановника, в одного из тех, чья деятельность обеспечивает стабильность существующего строя. Роли переменились, окопы нынче не для него, он миротворец, столп общества, сеятель. Зато простой научный сотрудник, и по совместительству счастливый супруг и отпустивший мирную бородку отец семейства, неожиданно для себя самого переходит на военное положение. Ну а сколько можно терпеть булавочные уколы от лицемерных миротворцев? Мира под оливами им подавай, в "мирных" условиях они, чего доброго, тихой сапой отнимут у тебя все, лишат покоя, вскружат голову твоей женщине, запутают ее сколь бесплотными, столь и бесплодными воспоминаниями, отберут самоуважение. Мира им! Нет, не будет им мира! Нельзя бездействовать. Каждая его будущая просьба - залп по позициям врага. И пусть только его превосходительство первый вице-министр попробует уклониться от сражения. Тогда он сделает так, что единственная женщина которую тот по-настоящему любил, будет его презирать. И он уверен: битва будет беспроигрышной. Истину о том, что высокий пост не гарантирует человеку счастья, первый вице, благодаря стараниям своего друга детства, испытает на собственной шкуре.
Антон вспоминает судорожный звонок бывшего приятеля прошлым летом. Неожиданный звонок немолодого холостяка. Птица Высокого Полета впервые за много лет осчастливил родной город транзитным визитом. Тем летом жара в Тбилиси стояла пуще итальянской. Кажется, он только что вернулся из Пицунды и собирался улетать в Москву. Но в небольшом промежутке между этими историческими событиями, Птица, из вежливости ли, из ностальгии, или еще из каких-то неведомых политических соображений, набрал на диске нужные цифры и позвонил Антону домой. А может его больше всего интересовало как там ОНА, он ведь не удержался - почти сразу справился о ее самочувствии. Так или иначе, но они договорились о короткой встрече, и он прислал за ним лимузин в каких простому научному сотруднику никогда раньше не доводилось ездить. Плевать на лимузин, в иных обстоятельствах Антон отклонил бы приглашение, либо, в худшем случае, предпочел бы добираться до места встречи пешком, но мысль о том, что Птица, сам того не ведая, поможет вернуть ему уважение жены, успела его вовремя ужалить. А потом были скуповатые мужские объятия, много взаимно вежливых фраз, несколько тщательно препарированных воспоминаний, а в самом конце, когда Антон наконец решился обратиться к Птице со своей просьбой, тот усовестившись, а может вовсе и не усовестившись, а просто так, приличия ради, спросил: "Не могу ли я быть тебе чем-нибудь полезен?". Разумеется, Антон ответил односложным "можешь", и тактично замолк, предоставив вице-министру возможность самому поинтересоваться: чем же все-таки можно быть полезным старому другу? И лишь после того, как настоятельный интерес был проявлен, Антон раскрыл карты: "Мы тоже хотели бы повидать мир. Ну, скажем, будущим летом, сейчас-то уже не успеть, отпуск кончается. Ты ведь не представляешь, как у нас сложно с хорошими летними путевками, особенно с европейскими морскими круизами. Бывает, таким жлобам достается, что от удивления и возмущения остается только разводить руками. Ведь все по блату, а у нас никого нет". Антон говорил мы, но и он сам, и его собеседник отлично понимали, что имеется в виду ОНА. "Ну почему же никого? - в тон собеседнику отпарировал вице-министр. - У вас, конечно же, есть я. Сделаю, если до того не снимут". В общем, он обещал устроить им эту поездку, и выполнил свое обещание. Вот почему они сейчас в Неаполе, а он, как назло, объявился в Риме, это все его штучки, он-то хорошо его изучил, этого террориста в душе. Можно сменить себе фуфайку, налепить на себя маску, но не изменишь же себе нутро. О, Птица Высокого Полета еще себя покажет, дайте ему волю. Ну отобрать чужую жену - на это вряд ли он решится, хотя, может и хотел бы, но правительству своему, хозяевам своим, он еще учудит, будьте покойны. Не может такого быть, чтобы он не сорвался. Террористы в душе рано или поздно всегда срываются. Им слишком мешают люди вокруг, им никогда не хватает воздуха. Они социально опасны всюду, куда бы их не занесло, уж ему ли не знать повадок своего благодетеля...
Бородатый мужчина средних лет поглядывает на часы. Пора подниматься на борт, до отплытия остается минут двадцать, не больше. Наверняка ОНА уже волнуется. Глубоко вздохнув и напоследок разок сплюнув в мутную и спокойную воду, он шагает обратно, к трапу. Итак, сегодня он принял принципиально важное решение: обрести высокопоставленного покровителя. И пусть покровительство это крещено ненавистью, - плевой заметкой в "Гардиан" и дурацким фехтованием дешевых амбиций, - тем лучше. Каждый воюет как может. Он вполне способен смотреть сквозь пальцы на чужой успех, но миловать неприятеля, назло тыкающего тебе в нос своим успехом - нет уж, дудочки. Поэтому он будет и дальше допекать его просьбами и не предлагать ничего взамен. Улыбаться в лицо и посмеиваться над ним за спиной. Посмотрим, кому в конце концов достанеться победа. Ишь, мира захотели, не будет им мира...
X X X
ВЫПИСКА ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ОТЧЕТА ГЛАВЫ ДЕЛЕГАЦИИ СССР, ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ТОВАРИЩА ...... О ВИЗИТЕ В ИТАЛЬЯНСКУЮ РЕСПУБЛИКУ И ПЕРЕГОВОРАХ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ МИД ИТАЛИИ 10-15 ИЮЛЯ 1991 ГОДА (печат. по фондам арх. МИД СССР).
...Наш ИЛ-72 совершил посадку в аэропорту Фьюмичино в 12.50 по европейскому времени.
У трапа самолета нас встретила группа сотрудников советского посольства во главе с советником-посланником товарищем Квитко. С летного поля мы поехали прямо в посольство, чтобы отдохнуть с дороги в отведенных нам апартаментах и привести себя в порядок. Первая встреча с итальянской делегацией была намечена на четыре часа пополудни..."
Сов.секретно. ИЗ ДОНЕСЕНИЯ ГЛАВЫ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ДЕЛЕГАЦИИ, ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РЕЗИДЕНТУРЕ...(Информация спецподразделения N288 Отдела Слежки за Самим Собой, печат. по фондам арх. ОССС).
"...переведя дух и немного подкрепившись, я не мешкая отправился к послу Лазареву. Мне, как главе делегации, полагалось поговорить с послом тет-а-тет еще до официального открытия переговоров. Не скрою, товарища Лазарева в высшей степени интересовали сведения из первых рук о текущих печальных событиях в нашей державе: о степени и характере развития внутриполитического кризиса в стране, и особенно о ситуации в Прибалтике, в Закавказье и, само собой, в столице.
Известная мне из личного дела биография товарища Лазарева, несмотря на несколько сомнительную пятую графу, в целом располагала к доверию. В самых общих чертах она развивалась следующим образом: Родился в сорок первом году в Свердловске, после окончания профтехучилища начал трудовой путь на комбинате "Свердлосталь" учеником фрезеровщика. Благодаря проявленным способностям, дисциплинированности и упорству постепенно заслужил уважение в коллективе и был выдвинут на должность старшего мастера участка. После окончания курсов по повышению квалификации, был назначен заместителем начальника, а затем и начальником цеха. Будучи активным комсомольцем вступил в ряды партии, в разные годы избирался заместителем секретаря, секретарем парткома предприятия, членом бюро райкома КПСС. В семьдесят пятом году по производственной разнарядке был зачислен в Высшую Дипломатическую Школу. Владеет английским, французским и итальянским языками. С семьдесят девятого года на дипломатической работе. Работал первым секретарем посольств СССР в Нигерии, Камеруне и Финляндии, советником-посланником в посольствах СССР в Марроко, Мавритании и Тунисе. С восемьдесят седьмого по восемьдесят девятый годы - заместитель заведующего отделом МИД СССР. В прошлом году получил ранг посла и назначение в Рим. Женат, трое детей. Скромный, деловой человек с сильной рабочей закваской. Таких бы побольше в наш аппарат!
Товарищ Лазарев не поленился самолично заварить крепкого чаю и, разлив напиток по чашкам, тактично предоставил мне возможность начать беседу. Конечно его, как и любого находящегося вдали от родины дипломата, немало интересовала министерская жизнь, да и вся наша столичная кутерьма, поэтому я как мог постарался удовлетворить его любопытство и, самое главное, успокоить его, заверив что ход событий находится под полным контролем ЦК и кризисные явления перестройки носят временный и заранее предусмотренный партийным руководством характер. После завершения этой стадии беседы я, как мне и полагалось в качестве непосредственного начальника посла Лазарева по линии нашего министерства, перешел непосредственно к делу и начал задавать ему необходимые вопросы. Я был неплохо осведомлен как о внутриполитической конъюнктуре на Апеннинах, так и о степени заинтересованности итальянской стороны в тех соглашениях и контрактах, ради заключения которых нас сюда и прислали, но желательно было получить достоверную информацию по этим направлениям и непосредственно из посольских источников. Мнение Лазарева по таким ключевым вопросам как перспектива подписания итало-австрийского военного пакта, проблема терроризма, итало-советское экономическое сотрудничество, имело для меня особую ценность. Кроме того, в мое намерение входило углубить представление о товарище Лазареве как о личности и профессионале. Деловая часть беседы, в целом, протекала так, как это меня устраивало, - я ставил вопросы и получал на них более или менее обстоятельные разъяснения. Товарищ Лазарев "просвещал" меня с видимым удовлетворением, не стесняясь демонстрировать начальству (в моем лице) свою довольно обширную эрудицию и удачно сдабривать свои выкладки довольно солеными прибаутками. Было заметно, что наш посол очень жизнелюбивый человек, и его добротное природное начало успешно противостоит как козням идеологических эмигрантов и невозвращенцев, так и стенаниям местных газетчиков, без устали льющим крокодиловы слезы по судьбам русской интеллигенции, а также беспрецедентным попыткам неназванных террористов подложить мины - в буквальном смысле - под устоявшуюся конструкцию многостороннего итало-советского сотрудничества (вообще, должен отметить, что именно решительные действия товарища Лазарева во многом способствовали ликвидации инцидента с пассажирским лайнером "Андрей Платонов", который мог стоить жизни сотням советских людей). Христианско-демократический кабинет, по словам посла, весьма непрочен. ХДП вынуждена лавировать, в скором будущем ожидается реорганизация кабинета на основе коалиций с социалистами и социал-демократами, - это побуждает существующее правое правительство выжидать, и серьезно подрывает позиции идеологических экстремистов, ратующих за ослабление торгово-экономических связей с Востоком. Особенно их бесит мнимая зависимость итальянской экономики от советских энергоносителей, но относительная дешевизна нашей нефти и газа делает чиновников более сговорчивыми. И хотя нас не устают обвинять в демпинге, но дешевый импорт с Востока помогает поддерживать итальянскую промышленность на плаву - в эпоху кризиса не до жиру. Надо полагать, новые контракты будут подписаны без длительных проволочек - тут важно не продешевить и смело требовать уступок по политическому комплексу. Самая острая проблема сегодняшней Италии - безработица. Автоматизация производства больно ударила по рабочему классу, пятнадцать процентов самодеятельного населения сидит без работы! Наши заказы несколько смягчают остроту данной проблемы в промышленных районах Севера, поэтому миланские и туринские дельцы и депутаты от северных провинций - обеими руками за дальнейшее развитие сотрудничества с нами. Особенность политического момента такова, что большой итальянский бизнес сейчас нуждается в спокойной атмосфере сильнее, чем в дальнейшем увеличении нормы прибыли и удешевлении рабочих рук. Капитаны промышленности опасаются взрыва и, как следствие, полного делового паралича. Пока нет оснований говорить о наличии революционной ситуации в стране, но повышенная нервозность вполне ощутима. Отсюда - более эластичная политика правящих кругов. Большая пресса пытается заигрывать с коммунистами - властители информации сознают, что судьба улицы в руках у ИКП. С Компартией у посольства отношения нормальные, но довольно прохладные, все эти "евро" и "берлингуэристы" не особенно склонны оправдывать некоторые наши политические пристрастия, проводимая нашей партией политика "перестройки" породила атмосферу некоторой растерянности в рядах итальянских левых сил, но что касается экономического сотрудничества, то в этом вопросе Компартия решительно на нашей стороне. Руководители ИКП отдают себе отчет в том, что расширение экономических связей с соцстранами несколько облегчает положение рабочего класса Италии и не рискуют дискредитировать себя в его глазах. Коммунисты сохраняют лидирущие позиции в борьбе за влияние на пролетариат и, естественно, не намерены растрачивать политический и моральный капитал, который накапливали десятилетиями. Впрочем, внутри самой Компартии нет единства, но прямо воздействовать на течение внутрипартийных процессов мы не можем. Социалисты и социал-демократы, как водится, слишком аморфны для того, чтобы претендовать на роль "национальных объединителей", одной аморфности для этого недостаточно, хотя, как это не раз бывало в истории, в одночасье крупный капитал может призвать к власти и их - оппортунизм высоко ценился во все времена. Набирают силу неофашисты - партия люмпенов и крикливых представителей правой интеллигенции. Их лозунг "Назад в Италию" пользуется определенной популярностью, но пока господа бизнесмены предпочитают брать в услужение более респектабельных лакеев, у последышей дуче нет шансов уцепиться за министерские кресла, хотя неприятностей они доставляют немало. В частности, именно в результате их активизации центр тяжести местного терроризма переместился слева направо..."
ВЫПИСКА ИЗ...
"...надо думать, что имевшая место беспрецедентная попытка подорвать на мине советский пассажирский лайнер "Андрей Платонов" при входе в акваторию Неапольского порта - дело рук правых экстремистов. По согласованию с МИД этот случай освещался в нашей печати весьма глухо..."
ИЗ ДОНЕСЕНИЯ...
"...здесь у нас немало доброжелателей. После того как посольство и резидентура по своим источникам исключительно своевременно получили конфиденциальную информацию, я немедленно связался с Бертело и пригрозил немедленной оглаской всей этой истории. Бертело чуть не хватил удар. В общем, он тут же позвонил министру внутренних дел и пригрозил отставкой. Полиция, вовремя обезвредив мины, успела предотвратить страшную трагедию. Нас упросили не раздувать дело до дипломатического скандала, добавив, что прямых улик не нашлось. Когда речь идет о наших кораблях, улик никогда не находят! Ну да ладно, мы не полезли на рожон и дали себя уговорить.
Дело замято и правые экстремисты так и не дождались желанного подарка, но нашим сотрудникам приходится соблюдать осторожность в городе. Впрочем, не все так плохо, как может показаться на первый взгляд. Если средний класс стал более консервативным, чем прежде, то студенчество, наоборот, в последнее время сильно полевело. Тут такое творилось пару месяцев назад... Они раздобыли себе новых кумиров. Главный козырь этих кумиров - молодость. Они сами вчерашние студенты и прекрасно знают, как надо с ними обращаться, левые лозунги и все такое прочее. Великолепно владеют пером и словом, в общем - Римский Клуб наоборот. Дико талантливые, но без штанов. Бедные. Но потом, вероятно, разбогатеют. Пройдет несколько лет и студенты-альтруисты, как это бывало и раньше, превратятся в добропорядочных буржуа, а кумиров-нонконформистов монополии закупят оптом, на корню. Хотя, шут его знает, может история и не повторится. Наиболее значительная фигура среди них некто Байар, француз по национальности. Печатается он, в основном, у себя на родине, но частенько наведывается сюда, в Рим и выступает здесь с пламенными речами. Чрезвычайно общителен и контактен. Следующим, пожалуй, идет Полетти, перебравшийся в Рим уроженец Палермо. Хотя здесь он у всех на виду, но в остальной Европе его знают довольно плохо. Хуже, скажем, того же Эскобара Секунда. Из иностранцев он уступает в популярности разве что Байару, и, по словам тов.Лазарева, когда держит речь перед студентами на чистейшем тосканском наречии - любо-дорого слушать. На митингах иногда присутствуют наши ребята. Говорят, что здорово. Ну есть еще и другие, помельче: Сангинетти, Лейт, Якобсен. Есть и совсем мелюзга. Все эти кумиры - по структуре левые, все они сильно ругают капитализм, но называть их стратегическими союзниками коммунистов, наверное, неправильно. Слишком уж они тяготеют к анархизму. А в целом впечатление такое, будто Европа возвращается в шестидесятые годы. Хиппи, "мэйк лав, нот уор", феминистки. Студенческие лидеры очень резво разъезжают по европейским столицам, кое-кто из них, несмотря на расходы, побывал даже в Соединенных Штатах. Таким обеспечено достаточное финансирование и хорошая реклама. Надо полагать, кто-то весьма заинтересован в том, чтобы анархизм ненароком не задышал на ладан. Ничто не ново под луной. Большая часть этих леваков впоследствии, без сомнения, займется интеллектуальным бизнесом, а меньшая... Что ж, меньшая пойдет до конца. И маятник терроризма вновь качнется справа налево...
ВЫПИСКА ИЗ...
"...я не был и не мог быть удовлетворен аргументами, выдвинутыми Бертело и Малапарте в оправдание линии, направленной на вовлечение в сферу действия НАТО нейтральной Австрии. Итальянцам без обиняков было заявлено, что Советский Союз предпримет все необходимые меры для поддержания центральноевропейского статус-кво и сохранения австрийского нейтралитета. Им было также заявлено, что намеренное игнорирование провокационных действий политических подстрекателей и экстремистов, способно не только подорвать традиционную базу советско-итальянского экономического сотрудничества, но и нарушить существующее на континенте межгосударственное равновесие. В таком случае ответственность за беспардонное вмешательство во внутренние дела Австрии целиком падет на авантюристов, задавшихся невыполнимой целью изолировать Советский Союз в Европе. В замешательстве Бертело не нашел ничего лучшего как...
...я исключительно высоко ценю деятельность нашего посла тов.Лазарева на своем посту. Он делает буквально все что в человеческих силах, для улучшения советско-итальянских отношений и снискал большое уважение в здешних политических кругах. Считаю своим долгом отметить, что энергичные действия тов.Лазарева в немалой степени способствовали рассасыванию инцидента с пассажирским теплоходом "Андрей Платонов"...
X X X
Весь город под ним как на ладони.
Отличную все-таки оптику ставят нынче на самолеты. Просто великолепную. До земли почти четыре километра, но через окуляры он свободно различает лица приговоренных к смерти людей. Лица мужские, лица женские. Безиятежных среди них нет. Лоб, глаза, нос, прорезь рта, гримаса страха. Лица не тех, что сейчас сломя голову рыскают в поисках какого-нибудь занюханного убежища, а немногих - уже смирившихся с неизбежным. Эти словно замеревшие перед удавом кролики. Но тех что бегут и пытаются спастись - много больше. Они еще надеятся... Ха-ха!
Дыма внизу немного, совсем немного. Пыль клубится там, где было летное поле: разрушено здание аэровокзала, да сметены ближайшие кварталы - и все. Пока все. Настоящие роды еще впереди. Через минуту-другую брюхо его самолета разрешится новым смертоносным бременем и от этого городишки останется только пятно на старой карте. Он нес шесть атомных бомб по пятьдесят килотонн каждая, теперь остались четыре. Одну он просто так, потехи ради, обрушил на какой-то еще более дрянной городишко, даже по карте не справился, наплевать, одним больше, одним меньше. А другую сбросил на аэропорт, на аэропорт положено бросать по инструкции, ибо это военный объект. В их эскадрилью входило девять самолетов. Он да славная восьмерка истребителей сопровождения, но прорваться в городское небо оказалось совсем непросто, и эскадрилья понесла невосполнимые потери. Вражеские зенитки до них не доставали, но воздушной схватки избежать не удалось. Подумать только, почти все его товарищи нашли смерть на этой земле: и Старый Сэм, и Джи-Джи, и Лаки, и... Двум истребителям удалось унести ноги, в живых остался он один: так ведь его-то одного и прикрывали, атомные бомбы тоже денег стоят. Был горячий бой, но вражеских стервоз тоже всех до единой отправили к черту в пекло. Небо было очищено, нашим парням удалось выиграть для него пространство и время ценой собственных жизней, и вот он нынче ощущает себя полным хозяином положения. Эта никчемная столичка не имеет особого стратегического значения, просто зло берет, что для его "Хайкросса" не нашлось дела поважнее. Но идиоты штабники пожалели на этот свинарник континенталку, - высчитали, что самолето-вылет, такой вот как этот, обойдется дешевле, - взяли и угробили почти всю эскадрилью. Ну он еще набьет кое-кому морду когда вернется на базу. Пожалуй, следует исходить из того, что ему дано похозяйничаеть в небе еще с полчасика, но за это время он рискует не успеть прицельно сбросить все четыре бомбы и зафиксировать последующие разрушения на пленку, ибо должен проявить осторожность: самолет может развалить взрывная волна на одном из заходов. Пожалуй, он рискнет остаться здесь до конца игры, задержится на часок, ему не впервой. А час... Час в небе - эта целая прорва времени, вечность. За час он превратит этот дрянной городишко в автомобильную стоянку и снимет прекрасные фотографии, там внизу и почесаться не успеют. По четверть часа на маневр и заход. Метать атомные фугаски он намерен километров эдак с двух-трех, и сразу наверх, а взрываться они будут над землей метрах в двухста. Фейерверк будет как в День Независимости или Хэллоуин, пускай повеселятся!
Он верит в Бога. Верил всегда, и вера эта покрепче дюрали из которой сварганили его "Хайкросс". Бог велик и справедлив - именно благодаря его величию и справедливости он сюда прорвался, и не его, а чужие косточки остались белеть на чужбине. Вообще-то, он с детства испытывал пристрастие к прицельному бомбометанию. В школьном компьютере у них была записана забавная игра "Прицельное бомбометание" и он пять раз становился чемпионом класса. Ему приятно разглядывать в мощные окуляры искаженные ужасом и безнадежностью лица этих беспомощных муравьишек, он ощущает себя наместником самого господа, его карающей дланью. И все равно чьи лица искажает смертельный ужас - друзей или врагов. Если в этом городе и есть друзья Америки, то и они получат свою порцию горяченьких. Если бы ему приказали, то он с равным удовольствием метал горяченькими над Кентукки или Луизианой, разницы-то особой нету. Его товарищи, те что обеспечил ему прорыв, потому-то и нашли здесь свою смерть, что были идеалистами, простыми американскими парнями, верящими в друзей и врагов и утерявшие веру в Господа нашего, они воображали, что защищают идеалы свободного мира, дурни! А как эти орлы драли глотку перед вылетом: "Санрайз-Сансет, да погаснет звездный свет!". Орали так, что любо-дорого. Все орали, и он тоже орал, а лейтенант Баллантрэ громче всех. Все орали от души, и только он один смеялся в душе над всем этим быдлом. Все были на взводе, все как один, и почти все орали в последний раз. Овечий помет, а не люди! Поняли теперь почем фунт лиха? Дурни! Нет друзей и нет врагов. Есть только муравьишки-люди и муравейники-города - жалкие скопища мусора и никчемных страстей. Он с равным удовольствие превратил бы в автомобильную стоянку Даллас или Сакраменто, Эль-Пасо или Монреаль, но он всего-навсего солдат, обязанный без рассуждений выполнять приказы начальства, и если генерал Морган и дядя Сэм решили, что Тбилиси лучше подходит для парковки, то так тому и быть. Тбилиси так Тбилиси, хотя командование и пожалело пару баллистических ракет на эту вонючую дыру. И вообще, все люди - одинаковы, все свиньи - без единого исключения. Впрочем, некоторые свиньи вроде почище других, как-то пожирнее. С такими парнями как Адольф Гитлер, Барри Голдуотер, Джошуа Ньюберт или лейтенант Колли, он, пожалуй опрокинул бы стопочку-другую пшеничного виски. Опрокинул бы, да и пропорол им брюхо велосипедной спицей. Наверное, в этом дрянном городишке тоже нашлась бы парочка типов, с которыми стоило бы раздавить бутылочку, да уж беднягам не посчастливилось вовремя с ним познакомиться. "Санрайз-Сансет, да погаснет звездный свет!".
Вообще-то, если говорить совсем честно, он не всегда был таким. Давным-давно он, как и все остальные ублюдки, разделял людей на плохих и хороших. Но лейтенант Баллантрэ вовремя выбил у него из головы эту дурь. Да и в роте... Не было ни одного человека такого, чтобы на него можно было до конца положиться, ни единого! Разве что в воздушном бою. Все гадили друг другу как только могли. Впрочем, это не мешало меняться девчонками. Старые суки, вспороть бы им всем брюхо, чтоб хоть новых ублюдков не нарожали, да руки марать не хочется. Да ну их всех к дьяволу, пора приниматься за дело, ему поручено превратить город в кладбище, вот с кладбища он и начнет. Вообще-то после аэродромов полагается ломать железнодорожные вокзалы, но к черту стратегию, какие здесь после него будут ходить поезда! Он обрушит на кладбище килотонку, и она прихватит за собой полгорода впридачу, да еще три ее сестрицы ждут не дождутся своей очереди выпасть из люка. Судя по городской карте, это где-то здесь. Полно металла и мрамора, немного зелени и ни одного автомобиля. Пожалуй, вот оно - кладбище. Только вот крестов маловато, ну это не удивительно, здесь же земля битком-набита коммунистами, дьявольским отродьем, какие могут быть над этими безбожниками кресты. Ну держитесь, коммунисты-атеисты, я поддам вам жару! Мраморные надгробия, место тихое, зеленое, возьмем-ка его на прицел. По-о-ошла родимая! Гуд бай, сестричка, привет народу! Теперь отлетим в сторонку и повыше, чтоб нас в воронку не засосало, камеру запустим, пускай снимает себе. Яйцеголовых интересует рисунок, будет им рисунок. Им - план, ему - спасибо и лишние премиальные. Хотя как могут быть премиальные лишними?
Теперь переместимся поближе к центру. Судя по всему, - это их главная улица. По карте - Руставели авеню. Кто-то строил, строил, да и выстроил. Ну и домишки здесь. Смахивают на дредноуты с древних картинок и ни одного небоскреба. Подумать только: еще вчера здесь ведать не ведали о его карающей длани! А машин-то сколько брошено у тротуаров. Ну ничего, сейчас от них останется одна металлическая пыль. Молекулы. Спасайся кто может! По-о-ошла родимая!
Боже милосердный, время идет, а у него в загажнике еще две бомбы, ровно две. Он слишком долго маневрировал, скоро, очень скоро в небе могут появиться вражеские истребители, если только их не перехватят на подходе. И тогда ему тоже каюк. Плохо, что радиосвязь прервана и он не имеет представления об оперативной обстановке. Времени в обрез, а на базу не хочется возвращаться с грузом, урежут премию наполовину, скоты! Не мешкая опустим третью килотонку вот на это квартал, или нет - пожалуй, на тот. Много их тут, вокруг водохранилища, развелось, на выбор. И куда не сбрасывай, конец-то у всех один. Ох уж эти жилые кварталы. Тут вчера, наверное, кто-то вылез из утробы и потребовал своей доли воздуха. Ублюдки произвели на свет ублюдка, пусть лучше скажут ему спасибо, что малышу не довелось долго мучиться в этом поросьячем мире. Тут любили, дружили и сердились друг на друга. Драмы, наверно, происходили, и трагедии, - девчонка, там, прыгнула в постель к очередному дурню, или папаша денег не дает на машину, жила. Ну ничего, я разрешу все ваши трагедии и драмы. Будьте покойны, старина "Хайкросс" никого не даст в обиду. По-о-ошла родимая!
Две еще остались... ах, нет, только одна. Одна, а жаль. Он с большим удовольствием прописал бы ижицу еще доброй сотне тысяч, не стоило бросать бомбы куда попало, сейчас у него остались бы в загажнике целых две, а так только одна, и кто-то вздумает выжить и рассказать, черт бы его побрал! Ну одна, так одна. Ох, люди, зачем вы так гневили господа нашего, вот и начинайте теперь заново, с Адама и Евы. Пощупаем-ка теперь вон те домишки по-над речкой. А в речку то прыгают - дай боже, по водичке размечтались, в водичке-то оно умирать сподручней, попрохладней. Вон там виднееется переплетение железнодорожных путей, им уже не суждено возродиться из пепла и дыма, да и стадион рядом. Капитальное строение! Огромная чаша, как у нас в Далласе, а на дне чаши зеленое поле. Жалко зелени, но что поделаешь! Получайте на десерт. Его привет местным футболистам. 1:0 в пользу Америки. На сегодня хватит. "Санрайз-Сансет, да погаснет звездный свет!". И на базу пора, ему еще не надоело жить. Хлопнуть бы сейчас рюмашку ржаного виски. Прощайте родимые...
Бомбардировщик ложится на обратный курс и вскоре превращается в еле заметную точку над горизонтом. Истребители противника так и не смогли ему помешать, они попали в воздушную засаду над Кавказским хребтом, их обломками усеяны склоны Казбега и Эльбруса. Но пилот рано радуется тому, что вышел сухим из воды. Он еще не знает, что база стерта с лица земли ракетами противника и возвращаться ему некуда. Да и вообще, все карты устарели. Самолет потерпит аварию при вынужденной посадке, на которую пилот решится, когда в баках не останется ни капли керосина "Люкс-5" - чудо-топлива, гордости американской химической мысли...
X X X
... Ду-шаш. Ну вот и дожили мы с тобой, старина, до самого до двадцать первого века. Подумать только - все старое полетело к чертям! Все списано по особой статье, все амнистированы. Мы вчера не просто Новый Год справили, а Новый Век - Утро, Зарю, Рассвет - величай как душе приятно. Рад я, друг мой, рад ужасно, до слез, что дожили мы, что так протопали по двадцатому, что никому провести себя не дали. Дай нам бог и по двадцать первому налегке прошагать, от первого года и до самого до последнего. Хватит, хватит силенок, ты только не сомневайся! Смеятся хочется. Петь, плясать и смеятся. В летах я, чтобы плясать, несолидно как-то, а петь и смеятся - этого сколько угодно. Вот и пою, вот и смеюсь, радостно мне на старости лет. И на здоровье пока не жалуюсь, тьфу-тьфу. С той поры как с кутежами завязал - явно пошел на поправку. Ну какой из меня пенсионер? Не пенсионер я, а бык племенной, если хочешь знать правду. Верил я, конечно, что доживу, что пощадит меня косая, что не возьмут меня ни пуля, ни болезнь, ни прокурор, а все одно - рад я, рад как дитя, как... как жеребец после первой случки. Ты только вдумайся, дружок, вдумайся, - сегодня второе января двухтысячного года. Ученые мужи говорят: подождите еще годик до нового столетия, но они как всегда ошибаются, ты уж лучше поверь мне, умудренному опытом человеку. Всю жизнь нам твердили: тысяча девятьсот, тысяча девятьсот, тысяча девятьсот, а нынче - две тысячи, без дураков и на душе легко. Как будто одним махом стряхнул с себя всю нажитую пыль. Я молод, полон сил, я, подобно птице Феникс, восстал из пепла. Птица Феникс. Клянусь тебе памятью матушки моей, десяток лет тому назад я о такой и не слышал. Тогда я делал большие деньги и мне было не до литературы. Стоп! Беру. Но когда я нажил действительно большое состояние, у меня хватило ума и воли сказать себе: стоп! В общем, друг мой, я вовремя понял, что все нажитое добро с собой в могилу не унесешь. Семья моя живет как у Христа за пазухой, миллиончиков у меня поболее чем пальцев на твоей мозолистой правой руке - ну и достаточно, ну и честь пора знать. Как тебе известно, старик, недавно я удачно продал все свои паи заинтересованным людям и чисто вышел из игры. Мне всегда очень везло, полоса удач не могла продолжаться вечно, - и что тогда? Севай-ду. Вот и оформил я себе небольшой пенсион по состоянию здоровья, - ну уж такая-то малость мне полагалась по закону, - и зажил себе припеваючи, вот и сражаюсь теперь с тобой в нарды. Куда пошел, шаш у тебя, а не беш, меня не проведешь. Я ни о чем не жалею. Денег у нас дома видимо-невидимо, жена довольна, оболтусы обуты-одеты, лежи себе на софе, посматривай телевизор, да почитывай разные умные книжки. Ни тебе пьянок, ни нервотрепки, ни страха мигом лишиться всего что добыто, ни бессонницы. Раньше-то я книжек почти не читал, хотя в школе и любил уроки литературы. Не читается как-то, когда боишься что могут замести, не до читалки тогда и не до поднятия культурного уровня, не хватает ни времени, ни силенок. Все время уходит на пустое, так сказать, делопроизводство. На попойки, на кутежи, на торговлю - деньжата-то сами собой в карман к тебе не потекут, вот и сражаешься за них где-попало и с кем-попало. А потом... Да здравствует двадцать первый век. В двадцать первый век я вступил образованным и начитанным человеком. Понимаешь, соседушка - образованным. Чего и кого только я за десять лет заслуженного отдыха не перечитал, наших и иностранцев, - всех-то и не перечислишь. Никогда бы раньше не поверил, что человек способен одолеть такую прорву книг. А особенно полюбил я книги про Великую Французскую Революцию. Слышал ли ты, старина, что у французов три века назад была своя революция? Ду се, прекрасно, если и дальше так пойдет, то партия, считай, моя. Все там было: и король на гильотине, и террор, и контрреволюция, и интервенция, - все как у нас, чертовски интересно. Стоит мне прилечь на софу, то в голову лезут всякие умные мысли. К примеру, задаешь себе вопрос: Чего хотели вожди французской революции, и что у них получилось на деле? Очень поучительное чтиво. Но, вообще-то, я все читать люблю, и даже длиннве романы, такие, например, как "Дон-Кихот". Дор чар, замечательно, в самый раз. "Дон-Кихот", - это неподражаемо, друг мой. А сколько я узнал всяких заумных словечек, иногда диву даюсь, как же это я когда-то без всего этого - и жил? Чем отличался от набитого деньгами мешка, и как земля меня носила? Нет, ты не подумай, дружище, что я вдруг свихнулся или отрекаюсь от своего прошлого. Это глупо. Ох и повезло тебе с ду якэ, но и мы не лыком шиты. Знавали и мы счастливые деньки! Без денег жизни тоже нету, но все-таки... все-таки я и тогда, в расцвете сил моих, был довольно артистической натурой. Именно артистической. Страсть к искусству всегда жила во мне, но она дремала, спала, мой образ жизни не давал ей проснуться, - и все же один раз она вышла таки из-под контроля. Якэ и я опять в игре! Открою тебе одну тайну, скорее, чуток приоткрою, да и то только потому, что много воды с тех пор утекло. Этим эпизодом моей биографии я особенно горжусь. Дремавшие внутри моей натуры музы очнулись и надебоширили в свое удовольствие. Клянусь всеми святыми, дебош удался на славу, и мне не жалко, что он обошелся мне в кругленькую сумму. Наполни-ка, сосед, себе стаканчик, и мне тоже подлей. Отличное винцо, такое даже я позволяю себе по большим праздникам, а сегодня как раз такой праздник. Так слушай. Как-то давным-давно, почти тридцать лет тому назад, я поставил спектакль оригинального жанра, постановка которого обошлась мне ровнехонько в двести двадцать тысяч тех еще рублей, немалые по тем временам деньги, но тем больше я горжусь своей режиссурой. Опять ду-шаш, и каюк тебе, можешь сдаваться. Лучше слушай. Только смотри, дружище, не проговорись, дело хотя и давнее, но время иногда любит кусаться за хвост. Я никому эту историю не доверял, даже жене моей, вот она и жжет меня изнутри. Все похвастаться хочется, да не перед кем. Разве что, вот перед тобой, да и то в честь Утра, Зари, Рассвета... не выдашь же ты меня в конце концов,.Да, целых двести двадцать тысяч. Двадцать семь лет тому назад. Ну, тот год выпал особенно удачным, я загреб полмиллиона чистыми, и сознание того, что будущее мое безоблачно, придавало мне особый кураж. Ты пей, пей, дружище, не стесняйся. Пей, играй и слушай.
В те годы я жил в Ваке. Место хорошее, и квартирка ничего себе, в свое время я за нее дорого заплатил, но корпус был староват, вот и уступил я ту квартиру по сходной цене одному артельщику и перебрался сюда, в Багеби, к тебе поближе. Я так считаю, здесь, в Багеби, экология и самый чистый в городе воздух. А чистый воздух в нашем возрасте, сам понимаешь... Ну так вот: жил я в Ваке, не бедствовал и держал жизнь за глотку зубами мертвой хваткой, выколачивал большие бабки и не ведал никаких сомнений. Злость у меня тогда в душе большая была, но мелочиться я не любил - да и сейчас не люблю, - ни в словах, ни в делах, ни в деньгах. Оттого и любили меня друзья. Ну если не любиди, так по крайней мере - льнули ко мне. Двор у нас был большой и дружный, шутка сказать, три корпуса вокруг. В нарды сражались, в шашки, домино, волейбол - площадку я отгрохал, в гости друг к другу запросто хаживали - золотое было времечко. Жили там по-соседству два молодых парня, из умников, желторотые студентики, я часто видел, как они шатаются по улице вместе, и на лицах у них написано, что они изваяны из белой кости, а в жилах течет голубая кровь. Других они ни во что не ставили, а меня и вовсе презирали. Презирали за то, значит, что я, дескать, делец и комбинатор, и денег за пару месяцев зашибаю больше, чем они смогут заработать за всю свою честную трудовую жизнь. Такие вот мотыльки, привыкли на всем готовеньком, маменьки им тогда по утрам масло на хлеб мазали, никак иначе. Возраста они были самого подходящего, лет по девятнадцать-двадцать, не больше. Были они податливые как воск, самоуверенные как... как мушкетеры Дюма, и спесивые, как кастильские гранды. Я и сказал себе: будь человеком Хозяин, посади-ка их в лужу, проучи их чего бы это тебе не стоило, СОВРАТИ их. И я начал их усердно совращать. О, моя хитроумная затея была достойной писательского воображения: я сделал из себя мишень, круглую мишень для стрельбы, десятку, яблочко, а им отвел неблагодарную роль стрелков-мазил. Представляешь, родимый, целятся эти близорукие цыплята в яблочко, стреляют, и кажется им, что попали. Но попали-то в молочко, только ничего про то не ведают. А когда проведают, будет поздно. Они уже совращены, дело сделано, и я радостно потираю руки. Вот в чем состоял великий смысл моего плана. Я приблизил к себе этих пацанов, дал им насладиться запахом больших денег, ослепил их роскошью и показухой, привел их в ярость. Я так их подогрел, что они потеряли над собой власть. Я, черт побери, спаивал их! Я подстроил им ловушку, а они думали, дурачки, что это они обвели меня вокруг пальца. Это меня-то - стреляного воробья! Одни словом, они вознамерились меня обобрать. Роман между мной и этими пацанами - целая эпопея со своими приливами и отливами, просчетами и надеждами, но, в конце концов, мои замысел удался. Они трусили, они отчаянно трусили, но еще больше боялись признаться себе в трусости. Они ненавидели меня, ненавидели, - и уважали тоже. Их надо было только подтолкнуть, и я максимально облегчил им задачу. В ресторане, притворившись мертвецки пьяным, я подбросил им под ноги связку ключей от моей квартиры и сейфа, в котором хранил деньги, - и они клюнули: взяли и спрятали эти ключи. Я подговорил своего дружка, начальника райэлектро разжиревшего на моих харчах, отключить ток в ночное время суток и сделал так, чтобы предупреждение о профилактических работах напечатали в "Вечерке" как раз тогда, когда я прохлаждался в московских ресторанах. И вдобавок, я подстроил все это тогда, когда их маменьки да папеньки куда-то укатили. И они клюнули на приманку - наивные дети. Слишком уж удачно все для них складывалось, но бац, - и мышеловка захлопнулась. Я оставил в сейфе достаточно большие деньги - те самые двести двадцать тысяч, - чтобы все было как надо, и это самая сильная сцена моего спектакля. Я ведь искренне симпатизировал им. Я не пожадничал, мог ведь подложить им рваную сотню, и все сошло бы прекрасно. Но я не хотел экономить на художественной ценности произведения, а двести двадцать - это мой личный код, мой шифр, счастливое для меня число... Так вот, они забрались в мою квартиру, отерыли сейф и взяли деньги. Представляю себе, как они крадучись шастали по темным комнатам и бились коленами о стулья, как набивали хрустящими банкнотами портфель. И наконец: как, обмочившись от страха, бежали из страшной квартиры прочь. Да, это было великолепно. Режиссер достоин всяческой похвалы, не так ли, друг мой? Это ведь он заставил актеров ходить по тонкой проволоке, в то время как они думали, что расхаживают по проспекту. Не каждому режиссеру удается такое. И когда я вернулся из Москвы и проверил сейф, то искренне поздравил себя с успехом. Теперь они были целиком в моей власти, эти чистюли. Эти горе-грабители наверняка оставили бы какие-нибудь следы, а в угрозыске у меня всегда были связи, - при желании я мог бы произвести у них на квартире обыск и сгноить их в тюрьме. Мог заставить их вернуть мне деньги, а мог заставить убирать мне квартиру до конца жизни. Но я, к чести своей, не поддался соблазну шантажа. Не для того я их совращал, чтобы измываться потом над ними. Я и сейчас счастлив сознанием того, что моими действиями руководила не подлость, а тонкий вкус непризнанного, но большого художника. Больше всего меня интересовало, что они будут делать дальше. Согласись, я имел право на такое любопытство. Не забывай, старина, что за это право я выложил двести двадцать тысяч чистыми, и не востребовал их обратно. О, посмотрел бы ты на их ошеломленные лица, когда после моего возвращения из Москвы, я зазвал их к себе и сообщил о грабеже. О как умело я притворялся! Ругался страшными словами, обещал отомстить - мне их даже жалко стало. Да, все прошло как по маслу, но... Но они не притормозили, старина, нет. Они хорошо усвоили урок, который я им преподал, но не притормозили. Не знаю, как они после договаривались со своей совращенной совестью, эти чванливые мессии, но договорились полюбовно, что и требовалось, кстати говоря, доказать.
Извини меня, сосед, но в этот день Утра, Зари, Рассвета, день судьбы нового века, да будет он для нас долгим и счастливым, я все еще не могу открыть тебе имена актеров. И не только из скромности или нежелания ворошить прошлое. Не говоря уже о том, что у меня нет никаких доказательств, а времена переменились, старина. Я вышел в отставку, у меня подросли наследники, пошли, как тебе известно, внуки, и я не хочу доставлять им беспокойства. Один из этих юнцов залетел слишком высоко, чтобы я мог безнаказанно марать его честное имя: он способен устроить нам семейную неприятность, а мне есть что терять. И даже тебе, дорогой соседушка, я не рискну назвать его фамилию, ты ведь можешь ненароком проговориться, сболтнуть где не надо, - и все будет кончено. Одно неосторожное слово, одно движение, и мы с тобой потеряем все, - вот как высоко он залетел. Ты, разумеется, уже гадаешь: кто бы это мог быть? Но, боюсь, я не найду в себе смелости подтвердить твои самые блестящие догадки. Да и второй тоже вполне уважаемый человек, не стоит его волновать, не имеет смысла. Звезд с неба он не хватает, но вполне счастлив, по всему видать мои деньжата пришлись ему впрок. Пригодились, и слава богу. Детки работали в паре, и тот кто залетел повыше, хочет - не хочет, но и сегодня прикрывает того кто пониже Так что - молчок, старина, безопасность превыше всего. Но не скрою: мне приятно сознавать, что являюсь хранителем уникальной информации по праву. Сие - лучший комплимент для такой артистической натуры, как я. Кроме того, надеюсь, что я преподал им хороший урок, и они больше не презирают людей так безбожно, как в те далекие времена. Я сбил с них спесь.
Только вот и у меня ближе к старости защемило на душе. Вот он я: просвещенный человек давно покончивший с нелегальным бизнесом и читающий на ночь сочинения Монтеня, - неужели я чем-то хуже, ну хотя бы родителей этих юнцов? Честных, бедных, культурных людей, совращать которых я не собирался. Ведь не вмешайся я тогда, их сыновья, по образу их и подобию, тоже выросли бы в таких же - честных, бедных, культурных. Черт побери, какое у них было право меня презирать за то, что я общипывал государство? Да не я, так другой - какая разница? Не соблюдай я правила игры, меня бы тоже смяли и выпотрошили. Да, я делал большие деньги, но не мог поступать иначе. Я был хороший игрок, делание денег было для меня тем же занятием, что для Нодара Думбадзе писание книг, или для академика Векуа поиск доказательств новых математических теорем. Каждый живет как может. Я делился с ближними и творил добро как мог. И не только эти юнцы, но и многие другие, обязаны мне на сегодня своим благополучием. Нынче я уважаемый всеми пенсионер, книголюб, счастливый отец и дедушка, и я вовсе не собираюсь отказываться от своего прошлого. Неужели какой-нибудь убийца, палач, террорист, самозванец, какой-нибудь Борис Годунов, Робеспьер, Пол Пот - все эти честные, бедные и культурные - чем-то лучше меня? Не думаю, старина, не думаю, не так-то все просто. Я никого никогда не убивал и даже не хотел убивать. Ни в двадцатом веке, и ни, дай бог, в двадцать первом...
X X X
Березняк, нежно примиряя полуденный зной с заповедной подмосковной прохладой, шумел над тропинками и полянами ранней сентябрьской листвой. Они сделали привал, спешившись со своих скакунов на затерявшуюся среди высоких берез зеленую лужайку. Пока они не очень устали, но все же основательно пропотели, ибо гарцевали на конях второй час подряд, да и животным следовало отдохнуть. Один был седовласым, с грубыми чертами лица, второй - помоложе, с вкрадчивыми глазами, холеными, коротко подстриженными усиками и нервно бегающим вверх-вниз кадыком. Одеты они были одинаково: заправленные в сапоги зеленые брюки армейского покроя с кожаными латками на бедрах и коленях, и темно-синие холщевые куртки с откинутыми на спину капюшонами.
Седовласый отстегнул от седла термос, свинтил с горлышка эмалированный стаканчик, налил в него оранжевого соку и передал стаканчик своему молодому другу. Тот жадно отпил, отчего его кадык задвигался еще быстрее, крякнул от удовольствия и вернул стакан хозяину. Седовласый вновь наполнил его, сделал несколько больших, степенных глотков, водрузил стаканчик на прежнее место и отставил термос на лежавший неподалеку плоский, мшистый камень. Приметив под ближайшими березками пригодные для отдыха ложбинки, они оставили коней пастись на лужайке, без лишних слов опустились на землю и, прислонившись к стволам, устроились на траве поудобнее. Несколько минут они, боясь разбудить тишину, наслаждались видом березняка и переливами солнечных бликов на лужайке, но потом седовласому, видимо, надоело ждать и он прервал затянувшееся молчание:
- Добрый сок, Сергей. И термос хорошо держит температуру. Незаменим в походе. А жеребцы-то наши не сбегут? Щадим мы их, щадим. Обидеть боимся, веревки они не знают и кнута.
- Не сбегут, Александр Карпович, - младший даже потянулся от удовольствия, - привыкли они к нам. И привыкли потому, что щадим мы их,
- Тяжко им с нами. Это же тебе не лошадь владимирская. К песчанику она, и к зною привыкшая. Я бы на месте этого шейха, или как там его по имени-отчеству, таких подарков и не делал вовсе. Жалко скотинку.
- Наши ахалтекинцы не хуже. Да шейх этот, Александр Карпович, не то что о рысаках своих, о женах своих думать - не думает. Белое солнце пустыни. Ему бы только перед вами покрасоваться, а конем больше - конем меньше...
- Ну, не убедил ты меня, Серега. Слышал я, что в тех краях добрая лошадка в цене. Ценится поболее, чем даже главная жена в гареме. На Востоке женщина - забитое существо, Сергей. Это тебе не твоя Дарья, что чуть не по ней, так зафыркает - хоть к шальному из дома беги, да и Лидка моя из того же теста сделана. Конюшни на них нету.
Человек с холеными усиками, как видно, живо представив себе фыркание своей половины, криво улыбнулся и ничего не ответил. Седовласый же продолжал развивать свою мысль:
- Ты думаешь, Серега, шейх нас красавицами из своего гарема потому только не закидал, что у нас лишних жен заводить не принято? Нет, сынок, копай глубже. Он преподнес нам то, что ценней и дороже, оскорбить нас пустяковым подношением постеснялся. Вот он от себя коней-то любимых и оторвал. Пораскинь мозгами, Сергей, и ты поймешь, что я прав. Мы - народ хлебосольный, гостеприимный, у нас этого не отнимешь, но, мать перемать, хоть матом их крой, шейхов этих, разве культура подарка у нас так развита, как на Востоке? Развиваемся мы, развиваемся. Цивильными совсем стали, цилиндров только не носим, а традиции у нас херовые - раз-два и обчелся. Было в старину кое-что, да и то сберечь не сумели. А ведь подарки красиво дарить, - это тебе не взятки совать нечистым на руку хамам, ядрена их вошь. Тут обхождение нужно. Чтоб и принять не стыдно было, и не принять - стыдно. Ну кто у нас такому обучен?
- Ну почему же не обучены, Александр Карпыч, обучены. Кавказцы обучены, например. Грузины, армяне, черкесы, горцы всякие. Попробуй от их подарка откажись, оскорбишь насмерть, руки не подадут. Вон мне давеча знакомый человечек оттуда на день рождения роскошный рог с цепью преподнес, говорит, сам царь из него пивал, - ну насчет царя он может нарочно загнул, переборщил, но все равно приятно... Вы мне как отец родной, Александр Карпыч, от вас у меня секретов нету. В первый миг меня даже оторопь взяла, так неудобно стало. Но попробуй не прими, считай, похоронил человека. Да и Дарья тут как тут, зудит над головой, как твоя оса. Ну рог это, понятно, не конь арабский, но скажу я вам - тоже штучка. Вот только великоват немного. И как они из эдакого сосуда да вино пьют? Весь из себя серебрянный, с цепочкой золотой, и камушки вкраплены... Нет, как хотите, а грузины большие мастера преподносить подарки, не хуже шейхов. Хороший народ - смелый, гордый, с открытой душой.
- Молодой ты все же еще, Серега. Есть у них, верно, изюминка в душе, да и Сталин, вечная ему память, из их роду-племени, но... Хитроватый народец, да и двоедушный малость. Кстати ты мне о грузинах напомнил, Серега, очень кстати. А то совсем память дырявая стала. Старость не в радость. Ты грузинского парня, что недавно у нас на именинах Лидии Алексеевны гулял, помнишь? Очкарик из университетских, но не хиляк, высокий такой, представительный, веселый. Анекдотами сыпал, поговорками козырял, стишки читал собственного производства, дамы ему хлопали. Припоминаешь?
- Это тот, что Ирке Коноваловой глазки строил? Неплохой, видать, парень, да и язык у него подвешен неплохо. Забалтывать мастак, под вечер даже мне зубы заговорил. Обаятельный, черт! Депутат он, кажется, ихний, - или я чего-то путаю?
- Нет, не путаешь, точно тамошний депутат. - седовласый исподлобья взглянул на собеседника, - Депутат-то он депутат, но слышал я, не очень-то его они там жалуют, не по высоте, мол, птичка летать норовит.
- А как, кстати, он к вам попал, коли не секрет, Александр Карпыч?
- Ну коль у тебя от меня секретов нету, то у меня от тебя - и подавно. В прошлом году скончался мой старый фронтовой друг и товарищ, известный грузинский писатель, светлая ему память. Да ты знаешь о ком я, знакомил я вас как-то... (тот что помладше энергично закивал головой). Так вот, случилось нам незадолго до его смерти свидеться. Он был в Москве, звякнул мне, как всегда, ну и зазвал я его к себе на дачу. Выпили мы немного, чего греха таить, вспомнили былое, про то как вместе фрицев били, пятое-десятое, тогда-то и зашла впервые речь об этом очкарике. Ну, он завел, сам понимаешь, вот... - Седовласый вновь налил себе соку, жадно выпил его до дна и продолжил. - Писатель-то мне по старой дружбе тогда желание свое сокровенное и открыл. Способный, мол, парень, только вот затирают его, говорит, а я, мол, из него человека хочу сделать. Кое-что, говорит, я и сам уже сделал, постарался, но дальше - тпру. Много всякого еще порассказал, и все неспроста. Ну, в общем, что долго рассказывать, я друга моего грузинского, не в пример многим из его сородичей, любил и уважал. Не как писателя, в литературе я слабо разбираюсь, а как личность, как смелого фронтовика, человеком он был настоящим, прямым, не как некоторые... Для чего живем, Сергей? В общем, мы с писателем тогда так и порешили: парня того на произвол судьбы не бросать. С тех самых пор его в грузинские депутаты и вывели, а ты как думал? Депутат-то он депутат, ну а дальше что? Сегодня он депутат, а завтра, глядишь, уже не депутат, писателя-то в живых нету, присмотреть некому. Да только повезло парню: вот он я, живой еще, крепкий. Старик я, Серега, и склероз меня уже донимать начал, и дел всяких по горло, но не в моих правилах о людей забывать, оттого и держусь еще. И когда писатель умер, то подумалось мне: скоро и я с ним на том милом свете свижусь, и спросит он меня про того парня: присмотрел ли за ним, как завет друга исполнил? Не суеверен я, Сергей, но перед собой и миром чистым уйти хочу, не так уж много мне и осталось... Вот мы с Лидией Алексеевной его на именины и позвали. Я за ним в Тбилиси свой самолет, кстати, сгонял, и все кому положено чин-чинарем поняли: такой-то мне родным человеком приходится, и трогать его не моги. Кое-кому, небось, пришлось прикусить язык.
- Ну и как, Александр Карпыч, у него сейчас дела?
- Как дела, спрашиваешь? Несладко там ему, справлялся я. Больно умен, честен, к восточным хитростям, обману да поклонам не приучен. Многие на него волком посматривают. Ну да я, с божьей, да и с твоей тоже, Серега, помощью, постараюсь не дать его в обиду.
- Не осерчайте за вопрос, Александр Карпыч, не в зятья ли к вам он метит, Аленке-то, младшой внучке вашей, поди, уже замуж пора, а парень он, сами говорите, из себя видный, - рассмеявшись заметил тот, что помладше.
- Стар я дурака валять, - нахмурился седовласый. - Верно говоришь, и Аленушка наша подросла, и парень он неплохой, все правильно. Только вот Алене, я считаю, рановато под венец идти, спешить ей некуда. Да пойми ты, не в Алене дело, и не в Лидии Алексеевне, что без ума от его грузинской обходительности, а в друге моем почившем, и не привык я шутить такими вещами, Сергей. Обещал, что позабочусь о парне, и позабочусь, и ты, Серега, мне в этом поможешь. Али нет?
- Да помогу конечно, - тихо отозвался тот, что помладше, - как не помочь. Как вы мне тогда помогли, так и я сейчас. В долгу не останусь. Что делать-то надо?
Пару минут собеседники, как бы наблюдая за забавами мирно резвившихся скакунов, помолчали. Затем седовласый, собравшись наконец с мыслями, нарушил молчание.
- Пораскинул я тут мозгами, анкетку его еще разок просмотрел, Сережа, и надумал так. Кадр он ценный, кандидат каких-то там наук, владеет иностранными языками, принципиальный, в людях, как мне представляется, разбирается неплохо. Мог бы я его, конечно, и там, в Грузии продвигать, да когда меня не будет, местные доброхоты обглодают его до косточек. Да и не лежит у меня душа к тому, чтоб из него вельможу мелкопоместного растить. Сюда, в Москву ему перебираться надо, к нам поближе. И за дело наше он здесь живота не пожалеет, уверен, проявит себя может даже ярче, чем иной коренной москвич. Он парень образованный, интеллигентный. Мягковат пока, но что с того? С годами станет жестче. И то хорошо, что не в диктаторы метит. Чего ему в Грузии терять-то? Еще неизвестно, как там все обернется. В жизни я навидался, дай бог тебе столько, Сергей, хуже не будет. И заметил я, в частности, что стоит перевести к нам на ответственную должность мужика с периферии, так тот начинает вкалывать не за страх, а за совесть. Всем этим новичкам Папу Римского перещеголять хочется, святее его быть, поговорка есть такая про Папу Римского, Серега, и очень мне она по душе, поговорка эта. Ну, я не против. Лезут из кожи вон - ну и пускай, делу не помеха, только полезней. Да и ленинская национальная политика, сам понимаешь, обязывает. Так вот, к чему я про это толкую. Воробьев уходит. Ну знаешь Савелия Воробьева - зама нашего Васильича. Вот и вакансия налицо. Да только мне самому выдвигать его кандидатуру не совсем удобно, тебе это сподручней. Вот и организуйте официальное письмецо от Секретариата, а мы рассмотрим и примем решение. Ну, предварительно я все же с Вадиком переговорю, уважит, я думаю, меня старика. А может и лишний штат зама ему спустим, не знаю еще, как все это технически будет выглядеть. Не мне тебя учить, сам знаешь, как такие письма составлять. Аргументацию подклейте в том духе, что я тебе сейчас говорил: молодой, кандидат наук, партийный, нацмен, депутат, языками владеет, еще что-то такое безобидное. А мы отреагируем как надо, в положительном смысле, это уж я расстараюсь. Беседовал я с ним пару раз и убедился: в азах нашей политики он вполне разбирается, да и память у него отменная. Определим его для порядка в Высшую Дипломатическую заочником, через пару лет и диплом подоспеет, так что и волки будут сыты, и овцы целы. Решение мое верное, не сомневайся, Сергей, выбор - политически правилен, он - наш. Поможешь так провернуть это дельце, чтоб все - без сучка и без задоринки, спасибо тебе большое скажу и, несмотря на седину мою, в ножки поклониться не забуду. А нет, так господь с тобой.
- Да что вы, Александр Карпович, - смутился тот, что помладше, - какой пустяк, о чем речь, право. Что вам замминистра назначить? Доверяя мне малую часть комбинации, вы всем нам честь оказываете, а вы - поклониться! Да завтра же письмецо и составим. Я подпишу, и Расько подпишет. Двух наших подписей за глаза хватит. В четверг будет заседание, сразу и выносите на утверждение. А тем временем, давайте этого парня сюда, мало ли какие могут вопросы возникнуть. Только вы до четверга словечко свое Владимир Васильичу все же молвите, чтоб не свалился он ему совсем как снег на голову. И делу - венец.
- Ну, коли так, то в четверг все и утвердим. Благодарю тебя, Серега, век не забуду. Ты уж прости меня, лиса старого. С Вадиком то все уже и переговорено, и обговорено. Душевный человек. Так что, с руководством МИД-а все в ажуре, сработаются. Ну и мне свой век доживать будет легче.
- Да вы еще всех нас переживете, Александр Карпович! Вон сегодня-то утречком обскакали меня, хоть мой вороной и не хуже вашего гнедого. Крепкая у вас косточка. Поди, в молодые годы на медведя ходили.
- И на медведя хаживал, и на кабана, и на изюбра. Но косточка моя все же не охотничья. Военная эта косточка. Я в учениках у командира Рокоссовского ходил, а у него школа была дельная, и экзамены мы не у доски сдавали. Рокоссовский-то из шляхтичей был, да и от Иосиф Виссарионныча, честь ему и слава, в она время настрадался немало, но в трудную минуту товарищ Сталин положился на него и вернул на фронт. Видишь, доверились ему и не пожалели. К человеку подход надо уметь найти. Вон, Никита-то наш говаривать любил: незаменимых, мол, нету. До того договорился, что самого и заменили, и я в том не последнее участие, кстати говоря, принимал. Незаменимых-то и вправду нет, но заменять попусту - последнее дело, Сергей. Ошибся человек - поправь, он тебе же первому и благодарен будет. Да и кто ошибок не допускал, я что-ль, али кто другой из живых или мертвых?
- Ну, о ошибках ваших никому ничего не известно, Александр Карпыч. Иногда кажется мне, что вы мудрец. Ей-богу, мудрец. Из египетской сказки. Да и не кажется, а так оно и есть.
- Не льсти мне, Сергей. Тебе не известно, так мне известно. Запомни, - человек слаб, и еще - человек смертен. Мы, каждый по отдельности, малые люди, Сережа, но делу служим большому. Родине нашей, Советской России служим, и, через нее, всему человечеству. И коли я способному молодому человеку помогу на столбовую дорогу своей тропинушкой выйти, тем я не только завет верного своего друга и старого фронтовика исполню, но и дело наше советское в мире на миллиметр вперед двину. Есть, есть мне чем гордиться и что вспоминать, Сергей.
- Не сомневаюсь я в том, Александр Карпыч. Ваша жизнь для меня пример. И для всего моего поколения тоже. Бывает, жалею, что не ровесником вам прихожусь. Какое было время! Ну уж и тем счастлив, что одним воздухом дышим.
- Оттого и ценю я тебя, Сережа, что к подличанию ты не приучен. Впрочем, не пора ли нам с тобой отсюда трогаться? Разомлели мы здесь, и кони наши от безделья чахнут. Да и попариться в баньке тоже не повредит...
И вскоре всадники оседлали своих скакунов и продолжили свой путь среди высоких берез...
X X X
Нужные слова нелегко подобрать.
Нелегко подобрать слова для описания той великой радости, что была мной испытана, когда воцарившуюся над кладбищем после атомного урагана мрачную тишину внезапно прорвал истошный вопль Как бы спящего человека разбудили, ввернув в его тело длинный острый кинжал. А потом тишина навсегда уступила место другим посланцам царства земных звуков: жалобным стонам заживо погребенных, женским и детским всхлипываниям, затяжному кашлю старого курильшика, неразборчивым причитаниям кладбищенских бродяг, лопотанию выживших из ума, протяжному дворняжьему вою. Останки и остатки гражданской цивилизации напоминали о себе.
Оказалось, что атомным взрывам вопреки, там, наверху, тлела жизнь. Жизнь растоптанная, увечная, отравленная потоками радиации, взрыхленная ударными волнами, обугленная тепловыми смерчами, - но все же жизнь. Печаль овладела мною. Среди тех, кого мгновенная смерть миновала, могли быть и мои близкие, а я даже не знал: молиться мне за их здравие, или за упокой; уповать ли на скорое избавление их от страданий, или же благодарить всевышнего за то, что он даровал им жизнь в неисповедимых путях милосердия и благодати. Я попытался - хотя и весьма приблизительно - вообразить себе всю боль огромного города; ведь еще вчера здесь наслаждались благами цивилизации, читали газеты, с удовольствием закаляли тело под прохладным душем, беззаботно нанизывали кольца табачного дыма друг на друга, строили планы на завтра, а сейчас... Я пытался, метаясь между отчаянием и надеждой, представить себе хотя бы возможную степень разрушений. Сколько же их было, этих страшных шквалов: пять или четыре? Не помню точно, но даже если четыре... Предположим все же, что окрестный рельеф в целом сохранил свой облик, река Кура (любопытно, как ее обозначили на секретных картах генерала Моргана: Кура-Ривер или Мтквари-Ривер?) не вышла из берегов, а Священная Гора - святая Мтацминда - по прежнему господствует над местностью, ну и что: много ли мы с того выгадаем? Ясно, что в любом случае, подавляющее большинство зданий, основная масса техники и, как принято писать в репортажах с места боевых действий, живой силы, расплавились в атомном пекле. Наверняка тысячи тбилисцев моментально превратились в пепельную тень. Наверняка тысячи и тысячи горожан - людей с вытекшими глазницами и выгоревшей плотью, - в отчаянной попытке спастись ползли к реке извиваясь как черви, а десятки и сотни из этих тысяч доползли до нее лишь для того, чтобы найти неминуемый конец в ее мутных и теплых волнах. Несомненно нашлись бы и счастливчики, они есть всегда. Кому-то удалось отсиделся в убежище или глубоком подвале вдали от эпицентра, кое-кто оказался вне города, кому-то просто повезло, но не позавидуют ли вскоре живые мертвым? Не обречены ли выжившие на постепенное одичание? Не падут ли они в скором времени жертвами голода, холода и болезней? И потом: вряд ли таких счастливчиков много. Я отчетливо помню, что сирены молчали, да и поди, загони в бомбоубежища такую прорву народа, если все происходит очень быстро, без официального объявления войны. Я полностью отдавал и отдаю себе отчет в том, что раз уж Тбилиси - не бог весть какой важности стратегическая цель, - подвергся столь жестокой атомной бомбардировке, то конфликт с самого начала принял глобальный, мировой характер, и страшной участи не избегли и другие крупнейшие города мира. Но когда до меня донеслись вопли и стенания, меня словно подстегнуло. Ведь они, эти нечеловеческие стоны послужили плохоньким, но хоть каким-то залогом тому, что человечество, черт бы его побрал, выживет, возродится всем напастям, фортелям и фокусам вопреки, и все, быть может, повторится сначала. Все, - и культура тоже.
От нечего делать пытаюсь представить себе возможные практические шаги по обеспечению жизнедеятельности остатков прежнего, столь несовершенного, но такого желанного цивильного общества - пытаюсь и не могу. Трудно. Коль скоро правительственные здания обращены в прах, транспортные артерии парализованы, связь между различными районами страны нарушена, - мировая война ведь, не на родном же городе свет клином сошелся! - то что же могло остаться от государственной инфраструктуры, а если и осталось кое-что, что убережет ее от распада? Вероятно, пережили бомбардировки считанные администраторы высшего ранга и некоторое количество штабных офицеров, но сейчас они, наверное, просто люди о двух ногах и руках, без всяких рычагов воздействия на умы и события. Навряд ли потерявшие армию генералы способны хотя бы передать выжившему населению мандат на организацию общества на какой-нибудь новой основе, ведь их сила зиждилась на переставшем существовать физически низовом управленческом аппарате. А кто и чего ради будет в такое время подчиняться генералам без армии? Постигший тбилисцев удел ужасен, но что-то там будет завтра, коль скоро война все же не вечна, а сотни тысяч духовно опустошенных людей и обреченных на скорую гибель калек вынуждены будут влачить жалкое существование? Кто обеспечит их пищей и чистой водой? Каким-то подобием медицинской помощи? Кто поддержит духом и вооружит их поступательной концепцией возрождения? Кто защитит слабых от сильных? Что спасет народ от клик, кликуш и мародеров? Что предотвратит общество от окончательного одичания и распада? Что вообще произошло со страной? С Грузией? С Советским Союзом? С Европой? С Миром?
Относительная устойчивость внетелесного состояния, в котором я давно здесь пребываю, вооружила мое бедное сознание ложным чувством превосходства над жертвами трагедии (они ведь безнадежно мертвы, не так ли?), и увлекла меня в густые дебри мировой политики. Я и здесь, в преисподней, остаюсь дипломатом, государственным деятелем, ничуть не менее опытным и компетентным, чем те, другие, обскакавшие когда-то меня в отмененных нынче за ненадобностью гонках. Именно в здешних условиях и способен человек вроде меня использовать все преимущества мыслящего тросника, ибо ничто превходящее извне над моим бессмертным разумом более не властвует, и это поневоле привносит успокоение в мою грешную душу. О да, ТАМ долго не будет ничего, кроме жалобных стонов и примитивной борьбы за существование. Но пройдут годы, десятилетия, века и все перемелется. Атомная война XXI века займет приличествующее ей место в учебниках истории, и чарующая нить преемственности вновь натянется между прошлым и будущим тугой тетивой. А пока мне ничто не в силах помешать складно выстроить в цветовой ряд как реальные события прошлого, так и возможные события будущего. И если под влиянием чувства инерции, я, находясь под властью магического круга интимных воспоминаний, до сих пор слишком явно злоупотреблял прошлым, то взрывы над городом вновь разбудили во мне желание предугадывать и предвидеть. И не удивительно, что мой цепкий, натренированный ум профессионального дипломата пытается охватить контуры упорядоченного будущего, которое обязательно грядет хаотическому настоящему на смену.
Но следует честно признать, что такой перелом происходит во мне отнюдь не моментально. Несмотря на страстное желание все разузнать и разнюхать, мое воображение пускается в плавание по волнам грядущего с оглядкой на давно прошедшие дни. Моей осторожной натуре всегда чуждо было благородство особого рода, - табу, налагающее запрет на ненужный и бесполезный поиск виноватых и на смакование неисправимых ошибок под видом их осуждения. Слишком часто я испытывал соблазн победоносно бросить в лицо допустившего промах: "ведь я же предупреждал тебя!", и только иногда, в редких случаях, мне удавалось сдерживать себя ценой максимального напряжения воли. Вот и сейчас: мир на грани погибели, катаклизм уже произошел, поиски виновных в катастрофе, пожалуй, тщетны, но мне все-таки приятно сознавать, что я-то был в рядах тех немногих идеалистов, что громко ПРЕДУПРЕЖДАЛИ мир о приближении судного дня. ПРЕДУПРЕЖДАЛИ и ПОСТРАДАЛИ за свою строптивость. Злорадство - мелкое чувство, не спорю. Но почему бы не рассматривать это мелкое чувство, эту мстительность, как предтечу восстановления исторической справедливости? Это удобно, - мелкая основа сразу преобразуется в значительную, и мне, хочешь-не хочешь, куда легче снять с себя недостаточно обоснованное обвинение в эгоизме, мысленно предаться сладостному ощущению собственной непризнаной правоты и, таким образом, освободить крылья собственного разума для упоительного полета в грядущее. Когда же это я позволял сомнениям увлечь себя? И разве я когда-либо стыдился своего карьеризма? Ничуть. Я и был в действительности одним из самых прожженных карьеристов, и это никогда не мешало мне делать свое дело с полным сознанием собственной значимости. Но я, - боже упаси! - никогда не шагал по трупам, разве что в большевистских мечтаниях ранней юности и исключительно по недомыслию. А когда я посмел признаться себе в очевидном: в эфемерности своего благополучия? Отнюдь не в юности, нет. И даже не тогда, когда находился в пике политической формы. Пожалуй, все же ближе к концу. И последнюю гирьку возложил на весы моих сомнениий все тот же дон Эскобар Секунда - полномочный посол, гранд, философ, литератор, дипломат и безупречный идальго двадцатьпервого века. Помнится, будучи в ранге заместителя главы правительства отвечавшего за внешнюю политику, я в очередной раз дал в своем кремлевском кабинете аудиенцию испанскому послу. Было это, если не ошибаюсь, зимой 2024 года, тогда нашим министром был милейший Владимир Васильевич Светлов, образованнейший и интеллигентнейший человек, потомственный советский дипломат, а я уже много лет как исполнял вышеупомянутые обязанности куратора внешней политики страны. Владимир Васильевич был тогда членом Политбюро, я же всего только кандидатом в члены, но, тем не менее, вот уже второе десятилетие занимал второе по значению положение в союзной дипломатической иерархии. Конкретная работа, - всякое там составление нот и докладов, соблюдение буквы протокола, приемы, приглашения, инструкции нашим послам, бумаготворчество и прочее, - оставались прерогативой министерства. Когда же дело доходило до стратегического планирования и конкретных рекомендаций Политбюро, или до серьезных кадровых изменений в нашем дипкорпусе, то официальная бумага шла на самый верх за двойной подписью - Владимира Васильевича и моей. Должность Зампреда Совета Министров по международным делам была введена в первой декаде XXI века. По первоначальному замыслу обладателю этого поста следовало выполнять роль буфера между министром с Садового Кольца и главой правительства, координируя между различными ведомствами выполнение взятых страной международных обязательств и разделяя с министром ответственность за разработку новых международных проектов. Не стоило бы сейчас подробно останавливаться на причинах, вызвавших такое усложнение привычного механизма, отмечу только, что данное новшество привело к определенной нейтрализации личного момента в управлении внешней политикой страны. Ввиду того, что ранее я в течении нескольких лет работал первым вице-министром, то в конце концов выбор пал на меня, а поскольку реформа управления была задумана, как говорится, всерьез и надолго, то мне решили придать еще и соответствующие полномочия по партийной линии. Правда, эдак с середины второго десятилетия XXI века, мой персональный политический вес стал постепенно уменьшаться. Равновесие в Политбюро сместилось не в мою пользу, усилилась тенденция к введению единоначалия в управлении текущими международными делами и меня стремительно оттесняли на обочину, но должность пока не отменяли и не отнимали. Итак, меня не спешили трогать, а поскольку я как-никак обладал значительным практическим опытом, то советовались со мной довольно часто. Так или иначе, но вплоть до отнюдь не добровольного завершения своей карьеры, я пользовался и влиянием, и уважением соратников по партии. Но логика жизни в конце концов неумолимо привела к тому, что меня с треском освободили от исполнения всех партийных и государственных обязанностей. Вот и нынче мне вспомнились обстоятельства моего политического крушения. Ибо это тот элемент прошлого, та стартовая площадка, оттолкнувшись от которой только и суждено моему разуму обрести необходимое успокоение.
Итак, дон Эскобар Секунда... К нему я так и не научился относиться как к официальному представителю иностранной державы, что меня в итоге и погубило. Это был единственный человек среди всей многоликой дипломатической братии, к которому я относился не как к ангажированному политику, любой ценой отстаивавшему интересы, правые или неправые, нравственные или аморальные, приславшего его правительства, а как к самодостаточной, творческой и необыкновенно притягательной личности, которая и сама тяготилась тесными рамками дипломатического этикета и сопутствовавшей ему манерностью. Получасовое общение с испанским послом ненавязчиво подводило жертву его красноречия к естественной мысли о том, что Ее Величество Жизнь существенно богаче и разнообразнее всех философских доктрин мира вместе взятых. Я же с ним беседовал куда чаще и дольше, чем это вызывалось необходимостью сохранения моего душевного равновесия. Дон Эскобар чем-то напоминал мне Писателя дней моих суровых, того самого, чье вмешательство раз и навсегда определило направление моего жизненного пути. Та же глубина и ясность мысли, та же оригинальность умозаключений, та же свежесть восприятия, то же одухотворенное лицо, и, главное, то же детское любопытство к шарадам окружающего мира, что всегда сопутствует вечной молодости ищущего духа. Воистину, пепел Клааса стучал в его рыцарственном сердце тореадора. Тот факт, что жизнь забросила этого всемирно известного эссеиста и воинствующего демократа на дипломатическую стезю, я отношу к разряду превратностей судьбы. Так и великому Неруде в один из ярких периодов своей жизни довелось представлять свою страну во Франции. А манеры у Секунды, несмотря на всю его непритворную обходительность, были совершенно недипломатическими. Одевался он не то чтобы дурно и неряшливо, а небрежно, даже нарочито небрежно, что мало согласовалось, скажем, с архитектурным стилем здания Мининдела, которое ему, в силу служебной необходимости, нередко приходилось посещать. Но иногда он навещал и меня в Кремле. В мой кремлевский кабинет он входил с той же непосредственностью темпераментного сына гордых Пиренеев, что и в дворец спорта ЦСКА на какое-нибудь баскетбольное состязание (он состоял в ярых поклонниках этой красивой игры и болел за мадридский "Реал"). Он, как правило, сам сидел за рулем посольского лимузина, чем вызывал скрытое недовольство более чопорных своих коллег. И, кроме всего прочего, он был на короткой ноге с некоторыми известными московскими поэтами, писателями и художниками, что вызывало к его персоне не только повышенный и понятный интерес разного рода специальных служб, но и настороженную ревность официального дипкорпуса. К нашей стране он относился с должным уважением, что и подчеркивал при каждой удобном случае. Должность посла в Москве была предложена ему премьером Испании социалистом Веласко Альваресом, восторженным почитателем его литературного таланта. Не будь данного личного момента, не было бы и дона Эскобара Секунды - дипломата. Секунда терпеть не мог заниматься всякими бумажками, не любил и не умел лгать. Он постоянно чувствовал себя не в своей тарелке, когда ему предстояло выгораживать своих незадачливых соплеменников (а необходимость в его посредничестве, увы, возникала нередко), да и мне недоставало особого удовольствия читать ему нотации по заранее заготовленным бумажкам. Бывало, что малоприятная обязанность по представлению законных претензий к некоему уличенному в неблаговидных действиях испанскому дипломату, разведчику или журналисту выпадала на мою долю, и тогда я смущался за него столь же искренне, как и мой собеседник, готовый под землю провалиться от стыда за Испанию, которая, как я понимаю, сама по себе была совершенно не причем. Но если проступок носил слишком уж вызывающий характер, что вынуждало нас объявить того или иного испанского поданного персоной нон грата, то Секунда не спешил сдаваться и протестовал изо всех дипломатических сил. Я припоминаю несколько случаев, когда наши аргументы ему показались недостаточно вескими, и тогда он сражался за репутацию своих подопечных как львица за детенышей. Чаще же, однако, он принимал вид раскуривающего сигарету мальчугана застигнутого врасплох грозным папашей, - мальчишка пытается втоптать окурок в твердый асфальт, но пунцовая краска на щеках выдает его с головой. Он абсолютно не умел изворачиваться, и я не мог заставить себя всерьез на него сердиться, посему после завершения официальной части быстренько сменял гнев на милость, переводил беседу на более нейтральные темы и, вообще, делал все возможное и невозможное для того, чтобы мы разошлись мирно. В то же время он великолепно знал жизнь и людей, и вполне был способен проявить неуступчивость, а когда дело касалось коренных интересов его родины, он бывал неумолимым и твердым как гранит. Впрочем, не для того я вспоминаю все это, чтобы критически оценить вклад дона Секунды в святое дело укрепления дружбы между испанским и советским народами, тем более, что худшие его предчувствия, к большому сожалению, оправдались, и очень скоро. Нет, нет. Лишь воспоминания о последней, и, как впоследстии выяснилось, важнейшей нашей встрече, не дают мне покоя.
...17 февраля 2024 года мой рабочий день начался с дона Секунды. Ну, если не считать нескольких малозначимых распоряжений, отданых мною утром личному секретарю. С Секундой дела обстояли сложнее. 15-го числа в мою канцелярию поступила просьба испанского посла принять его для беседы. Так как 16-го числа я был перегружен делами, а с испанцами мы, кажется, воевать не собирались, то я назначил встречу на полдень 17-го. Февраль на дворе стоял такой же, как без малого полвека назад, когда я еще не потерял надежды определить себя в науке и почти ежедневно до поздней ночи корпел над диссертацией в одном из столичных институтов... Потом выключал приборы, гасил свет в лаборатории, выходил из здания на ночную, морозную улицу и медленно шагал к общежитию навстречу завтрашнему дню, а голубые звезды и заснеженные ветки невысоких елей сулили мне исполнение желаний... Наверное это и было - счастье. Разве мог я тогда помыслить, что... Ну это уже сантименты. Итак, в назначенный час дон Эскобар Секунда находился у врат моего кабинета (тьфу, чуть не сорвалось: "у врат рая"). Вышколенный нелегкой службой личный секретарь проводил посла ко мне и моментально оставил нас наедине. В переводчике мы не нуждались, так как английским оба владели преотлично. После традиционного рукопожатия я предложил гостю занять удобное кожаное кресло за небольшим круглым столиком заставленным свежими, прямо с юга, фруктами и бутылками минеральной воды, и сам опустился в кресло напротив. Всегда помня, что дон Эскобар не какой-нибудь ординарный дипломат, а выдающаяся личность, я, общаясь с ним, правил круглого стола придерживался неукоснительно.
Ох, уж этот щекотливый вопрос о свидетелях. Обычно деловые встречи на столь высоком уровне редко обходятся без участия технических сотрудников - политического советника посольства иностранной державы и дипломата низкого ранга с нашей стороны, - которым вменяется в обязанность протоколировать беседу. Затем протокол принято сверять, редактировать и подписывать, придавая ему тем самым статус официального документа. Впрочем, из этого правила допускаются исключения. Тем более, что дон Эскобар явился ко мне без советника, что указывало на его пожелание придать беседе доверительный характер. Учитывая в целом нормальный характер советско-испанских отношений, с моей стороны было бы бестактной перестраховкой настаивать на скрупулезном соблюдении писаных правил. Кроме того, возникал вопрос и о доверии ко мне лично. Но я находился на виду не первый год, был, как мне казалось, свободен от мелочной опеки со стороны КГБ и ОССС, да и что крамольное мог сказать мне испанский посол? Никогда ранее мне не приходилось злоупотреблять оказанным мне доверием и довольно часто случалось беседовать с иностранными дипломатами с глазу на глаз, - не все ведь случаи жизни можно уложить в прокрустово ложе протокола, а незапятнанная репутация предоставляла мне кое-какие гарантии личной безопасности. Кроме всего прочего, я был стреляный воробей и отлично сознавал, что, возникни такая необходимость, контрразведка легко записала бы на пленку все мои служебные и внеслужебные разговоры. Такие правила игры принимаются сторонами без лишних слов.
Широкой, размашистой натуре дона Эскобара всегда претили цветастые и вкрадчивые вступления (как это не похоже на латинянина), и он, свободно раскинувшись в мягком широком кресле, немедля и без околичностей взял быка за рога: "Я слышал ваши люди отказали Байару во въездной визе. Вам не стыдно?". "Байару? - в свою очередь удивился я. - Я не в курсе дела. Неужели, дорогой мой Эскобар, вы всерьез предполагаете, что мне докладывают фамилии всех лиц, собирающихся посетить нашу страну?". "Ну так вмешайтесь. Во имя искусства, ценителем которого вы являетесь, и во имя справедливости, которой вы служите. Неужели фамилия Байар вам ни о чем не говорит?". "Но ведь он, кажется, француз, - лениво отпарировал я. - Почему бы его интересы не защищать французскому послу? С какой стати его судьбой обеспокоились вы?". Дон Эскобар ракетой взвился вверх со своего кресла и моментально плюхнулся обратно. "А вот это-то как раз неважно, - глаза его загорелись от возмущения. - При чем тут его национальность? Байар великий писатель, гордость, если угодно, прогрессивного человечества, и я его хорошо знаю. Зачем вы одариваете предвзято настроенных журналистов такой вкусной пищей? Их ведь хлебом не корми. Любой из них мог бы сейчас обыграть такую, к примеру, тему: Не так давно по вашей стране в составе пуштунской делегации путешествовал мрачный фанатик, талиб, на совести которого гибель многих честных людей, единственная вина которых состояла в том, что они изредка играли в шахматы и вечерами слушали классическую музыку, то есть, по мнению наиболее ретивых фундаменталистов, нарушали законы шариата. Так вот: этот человек удостоился вашей визы, а великий Байар успевший доказать всем действительно зрячим людям, что достоин людского уважения, Байар, из кожи вон лезший на многих форумах в защиту мира и человеческих прав, Байар, не побоявшийся публично влепить пощечину этому старому крокодилу Торресу за то, что его полиция практикует пытки и похищения людей, Байар, вызволивший из тюрем сотни палестинцев и канаков, - оказывается недостоиным этой чести. Я не один раз и по самым различным поводам схлестывался с Байаром, но мне никогда не приходило в голову отказать ему в чашке чая. Неужели вы полагаете, что Эскобар Секунда решился бы занять пост посла в вашей стране, не будь он действительно искренним другом вашего народа и не уважай он основные социалистические принципы? Неужели вы полагаете, что великий Байар в течении всего времени пребывания у вас допустит прямые или косвенные нападки на ваше правительство и ваш строй? Ему, я абсолютно уверен, просто хочется подержать пальцы на пульсе вашей культурной жизни, повидаться со старыми знакомыми, может быть, взглянуть свежим взглядом на ваши новые города. Неужели вы не понимаете, что отказывать Байару в визе неприлично, недальновидно и недостойно цивилизованных людей? Молю вас, вмешайтесь, иначе будет поздно, вы нанесете смертельную обиду и ему, и мне, и Франции. Если не хотите поступать порядочно, - поступите хотя бы умно". "Но позвольте, - возразил я, - все последние заявления Байара, включая его последнюю книгу, - сплошная низкопробная антисоветчина. Мой дорогой господин посол, неужели вы водите дружбу с людьми, поливающими вас грязью? Вы ожидаете от нашего руководства особого отношения к Байару на том основании, что у него есть определенные заслуги перед антивоенным движением, и еще на том, что он популярный на Западе литератор. Но ведь это, согласитесь, вчерашний день. Пока он держался в рамках, у него не бывало трудностей с въездом в нашу страну. Если мне не изменяет память, он посещал ее раза три или четыре. И вообще, бывшие друзья хуже врагов, эту простенькую истину вы не в силах отрицать. Не сочтите за высокомерие, но я, право, не уверен, что должен вмешиваться в работу компетентных органов нашего государства ради столь сомнительного доброжелателя". Дон Эскобар взглянул на меня затравленно и свирепо. "Но я, господин вице-премьер, в данный момент обращаюсь к вам не как к политику, а как к честному человеку - сделайте что-нибудь для великого писателя, которому, как любому из нас, иной раз приходилось заблуждаться, но чье имя останется прославленным в веках. Байар... Да это же Байар!". В его возгласе было столько страсти и наивной веры в какую-то исконную справедливость, что мне очень захотелось напрочь забыть о разделявшей нас государственной границе. "Ну ладно, дон Эскобар, я посмотрю. И если что-то возможно будет изменить, то поставлю вас в известность первым. Вы же тоже прекрасно понимаете, что обещаю вам это как доброму другу, а не как полномочному представителю испанского королевства, входящего в Западноевропейский Союз. И не надо примешивать сюда советско-афганские отношения. Не стоит, право. Разве ваша страна, да и вообще, любая страна Европы, руководствуется в своих практических действиях лишь чистой христианской моралью? А ведь мы еще и атеисты. Все происходящее на Ближнем и Среднем Востоке входит в сферу наших интересов, и мы, конечно, не можем их не защищать. Кстати говоря, исламских фундаменталистов в Пуштунистане подкармливают оружием и деньгами некоторые ваши идейные друзья, а вовсе не безбожники-коммунисты из Москвы". "Я мог бы воспринять ваши слова, как оскорбление, - возмутился дон Эскобар, - хищников, за определенную мзду вкладывающих оружие в руки злейших врагов прав человека, не следует называть моими друзьями. Коммерсантов, и в том числе испанских, делающих грязный бизнес на пуштунских теократах, я недолюбливаю не меньше вашего. Кстати, Байар придерживается по этому вопросу совершенно аналогичного мнения. Но тут мне как раз все предельно ясно. Кровожадные вампиры в цивильном обличье обогощаются на крови и страданиях людей, - это же старо до обыденности, чего же еще можно ждать от этих исчадий общества потребления, но вы... Почему вы? Что у вас общего с агрессивным исламом? Я имею в виду вашу идеологию, конечно. Не спорю, мусульманское население составляет треть населения вашей страны, и даже если какая-то его часть и не относит себя к последователям Корана, я все же могу представить себе связанные с этим потенциальные проблемы. Аллах велик - не так ли? Но ведь вы не требуете, кажется, от ваших среднеазиатских коммунистов, чтобы они во имя сохранения советского стратегического влияния в районе Персидского залива тщательно соблюдали традиции закята или еженощно утыкались лбами в каракумские пески во время богослужений? Это выглядело бы довольно странно, не правда ли? Ох уж эти стратегические интересы! Скажите, вас никогда не охватывает ощущение того, что все мы полным ходом катимся к пропасти только потому, что больные нервы человечества некому лечить? И еще потому, что в отношениях между государствами, как и в средние века, господствует не мораль, а сила, а все эти "стратегические интересы", которые мы так рьяно защищаем, всего лишь условности, - сложные для понимания, но условности, - то есть понятия явно противоречащие действительным стремлениям народов, и все только и думают о том, как лучше надуть друг друга". Я почувствовал, что беседа потекла в русле общеполитической дискуссии и вздохнул свободнее: "Что ж, дон Эскобар, иногда меня и охватывает похожее ощущение, но кто же виноват в том?". "Кто виноват, спрашиваете? Виноватых нет и виновны все. Вряд ли, однако, ваш кабинет удобное место для развития столь банальной мысли. Ваше время стоит дорого, а покончить с этой темой за полчаса невозможно. Лаконичными могут быть заготовленные краснобаями впрок экспромты и афоризмы, кропотливый же поиск истины отнимает месяцы и годы". "Ну что ж, годами мы и в самом деле не располагаем, но, сказать по правде, я не спешу и готов с интересом вас послушать. Просветите меня. Ведь не всякий удостаивается чести обменяться мнениями с доном Эскобаром Секундой, и да будет ему известно, что в нашей тоталитарной стране он не испытает недостатка во внимательных слушателях". Я уверен, что он должным образом оценил мой доброжелательный сарказм, глаза его игриво блеснули, тонкие губы искривились в легкой и почти незаметной улыбке. Но обмена мнениями, увы, не получилось. Господин посол понял меня слишком уж буквально и проговорил без остановки битый час. На мою долю выпало слушать, поддакивать, и, по мере возможности, не терять нить его рассуждений. Надо признать, рассказчик из него был великолепный. Прошла всего пара минут с начала его монолога, а его грузное тело уже выпорхнуло из кресла и заметалось по комнате подобно резвому бильярдному шару. Он явно почувствовал себя полноправным хозяином кабинета. В свою страстную речь он попытался вместить все ключевые проблемы человечества. О чем только он не говорил: и о вероломстве политиканов, и о том, что не хотел бы выдавать любимую внучку замуж за капиталиста, и о том, что бедным не до культуры, а богатым не до бедных, и о том, что количество зла в мире - величина постоянная, и складывается она из малюсеньких частиц зла нашедших пристанище в наших сердцах, это их диалектическая сумма проявляет себя то в виде террора, то в форме бомбежек, то в преднамеренном повышении цен на продукты питания, - но начало зла в человеческой душе. Он обличал все пороки общества. Насколько мне удалось его понять, он широко пользовался характерной для социального фрейдизма аргументацией, но излагал все эти старые как мир доводы в настолько совершенной форме и такими, идущими из глубины сердца, словами, что поневоле хотелось признать его личное право на идейный приоритет, отводя остальным претендентам незавидную роль жалких эпигонов. Давно не приходилось мне слвшать столь яркой пропагандистской лекции, да и то верно, что я попал под пресс одного из лучших ораторов Европы. Ах, каким был бы он в Грузии тамадой! Он с огромной силой внутренней убежденности доказывал, что фашизм, в основе своей, не социальное, а индивидуальное явление; что ростки его гнездятся в душе каждого человека; что неумение и даже нежелание обуздать тайные, темные, агрессивные инстинкты, которыми только и гордимся мы в действительности, - ибо ошибочно полагаем будто они и придают нам истинную ценность, - постоянно подкармливают наше фашистское подсознание. По этой причине он счел нужным процитировать Брехта: "Все еще плодоносит чрево породившее Это", и с видимой грустью добавил: "Это невозможно искоренить вконец. И все же - каким бы сатанинским злом не был фашизм, есть и худшее зло: порождение не души, а общественного самодовольства. И зло это именуется Конформизмом, и оно хуже фашизма хотя-бы оттого, что на свете, к счастью есть антифашисты, и их немало, но антиконформистов нет и не может быть в природе. Конформизм - крест человечества". "Все мы: и вы, и я, и все остальные - конформисты, и останемся таковыми навсегда", - торжественно заключил он и гордо замолчал. Я вздрогнул. На минуту мне показалось, что я помолодел лет на сорок. Гром и молния, разве не о том же толковал Писатель перед самой своей смертью? Писателя давно уж нет в живых, - с течением лет выяснилось, что не так уж он и велик, каким казался, хотя и забыть о нем полностью не забыли, - скоро и мне предстоит свидание с ним в мире теней, а я выслушиваю от человека, которому Писатель в отцы годился бы все те же слова. О боже, Секунда, пожалуй, вообразил будто открыл нечто новое. Да наверное еще Аристотель думал о том же самом. Неужели все мы живем в совершенно неизменяющемся мире? Мысль эта отозвалась в моем мозгу пронзительной и болезненной нотой, и я на миг потерял самообладание: "Но почему же конформизм? Что вы все тянетесь к этому слову, как мотыльки к свету? Мало что-ли других проблем? Тем более что эту, как вы сами утверждаете, людям никогда не решить. Да и что можно сделать, дон Эскобар, чтобы вы назвали человека просто человеком, не презирая его в душе хотя бы и против своей воли. Как добиться того, чтобы вы не окрестили его эгоистом? Чем заслужить такую честь? Ну, скажем, что должен я совершить для того, чтобы заслужить вашу благосклонность? Впустить Байара? Снизить цены на хлеб? Благословить книжные костры, памятуя о том, что лучшее враг хорошего? Подать в отставку? Что изменится? Есть же пределы возможного". Я сорвался, и срыв этот был недостоин заместителя главы правительства, но за последние десятилетия меня принуждали выслушивать и принимать всерьез столько лощеных фраз, что я не смог сдержаться, - уж лучше бы мы закончили на Байаре! "Ну зачем же проситься в отставку? - возразил дон Эскобар. - Возьмите-ка лучше пример с меня. Будучи конформистом по образованию и антиконформистом по призванию, я не только не подаю в отставку, но и принимаю живейшее участие в политической жизни, хотя мне сам бог велел писать книги, рассчитанные на узкий круг элитарных читателей: искусство ради искусства, полет чистой фантазии, поток сознания, и все в таком же духе. Критику левых интеллигентов я как-нибудь пережил бы, но не в этом дело. Нельзя замыкаться в себе. Зачем же подавать в отставку (он, казалось, уговаривал меня не делать рокового шага, как будто я уже решился подать в инстанцию заявление об уходе по собственному желанию), лучше употребите данную вам богом и вашим правительством власть на добрые дела. Вы же человек информированный, вы же видите, не можете не видеть, что земля напропалую несется к термоядерной катастрофе. Сделайте хоть что-нибудь, господин Заместитель Премьера! Иногда мужество состоит в том, чтобы решиться на уступки. Иначе все мы, вместе с нашими концепциями благоустройства планеты, полетим в тартарары. От американцев нечего ждать, от европейцев тоже. Они думают, что большой войны никогда не будет. Слепые безумцы! Увы, мои соотечественники в подавляющем большинстве - слепые безумцы. В противном случае они что-то предприняли бы для изменения политики своих правительств. Устроили бы всеобщего забастовку. Разнесли бы в пух и прах военные заводы. Но они погрязли в мыслях о хлебе с маслом, они разобщены и глупо радуются этому, среди них почти нет героев, тех кто стоит выше страха - высмеивают, а смех такое дело... Когда эти обыватели поймут, что общий удел не минует и их, когда их носом ткнут в грязную лужу из крови напополам с дерьмом, то будет уже поздно. Но вы, коммунисты, вы кичащиеся своей программой социального оптимизма для всего человечества, неужели вы не видите всю пагубность бездействия? Или вы тоже зажрались? Тогда нечего обманывать людей. Вам не нравится, когда вас называют конформистом? Понимаю, вас тошнит от этого слова, но ваши мучения напрасны, - как я сказал, не конформистом быть невозможно, ибо все мы вынуждены заботиться об удовлетворении своих потребностей, но вас тем не менее тошнит. Я вовсе не осуждаю вас за это: вы желали бы изгнать владеющее вами чувство дискомфорта. Что ж, вполне обоснованное желание. Но для этого надо что-то сделать, дорогой мой, похлопотать, пошевелить мизинцем, пожертвовать напускным авторитетом. Я пишу книги и бегаю из посольства в посольство, а что делаете вы? Сидите, извините за прямоту, в кабинете, подписываете бумажки, в которых жизни не больше, чем, например, в номере моего автомобиля, и чрезвычайно довольны собою. Извините уж, что я вас так... А ведь куда мне до вас, хоть я и писатель. Вы принадлежите к тем, кто формирует государственный курс, я же всего только обычный смертный. Перо и бумага недостаточные рычаги власти в нашем мире. Сбросьте с себя привычные оковы, ощутите себя Маратом или Дантоном, Марксом наконец! Вот уж кого нельзя было устрашить видом гильотины. Или Сталиным! Не подумайте только, будто я настраиваю вас на переворот, упаси господь. Просто я хочу, чтобы к вам вернулась ваша решимость, та решимость, которая наверняка владела вами, когда вы были помоложе... Напишите книгу и издайте ее, устройте презентацию, пресс-конференцию, пригласите журналистов, раздавайте интервью налево и направо. Ведите себя как ответственный, но свободный человек. Загляните к себе в душу, почаще советуйтесь с вашей совестью. Подумайте о тех несчастных, о детях, что обречены погибнуть в будущей мясорубке. Постарайтесь остановить ЭТО...". Так он говорил, взволнованно и сбивчиво, и даже малой доли его слов было достаточно для того, чтобы надолго испортить наши отношения и, вероятно, я был вправе отреагировать на его выступление более чем резко, - еще бы, посол иностранного государства ведет пропагандистскую обработку правительственного чиновника высокого ранга совершенно недипломатическими средствами, можно даже сказать: вербует его, но я почему-то медлил возражать. Подумалось о том, что мне ни много, ни мало шестьдесят девять лет; о том, что обстановка в мире дрянная и продолжает ухудшаться; что путей выхода из тупика не видно; что в свое время я не остановился перед тем, чтобы ограбить человека, воплощавшего собой куда меньшее зло, чем какой-нибудь милитарист у власти; о том, какая сволочная штука жизнь и как жаль, что финиш близок; о том, что я так и не сохранил единственного человека с которым дружил, и проиграл единственную женщину которую любил; о том, что февраль в этом году выдался слишком тусклый, - и мне расхотелось разыгрывать из себя высокопоставленного чиновника, возмущенного бестактным поведением официального представителя иностранной и не очень дружественной нам державы. Признаться, я растерялся. Кажется, дон Эскобар тоже внезапно осознал, что хватил лишку. Он как-то сразу замолк и сник, лице его выражало нечто похожее на смущение. Сказать бы ему сейчас сухо и строго: "Боюсь, что в течении некоторого времени наши страны будут вынуждены поддерживать отношения на уровне поверенных в делах", но ничего такого я, конечно, не сказал, только поднялся с кресла и подошел к окну. Густой снег валил хлопьями, и в ту минуту больше всего на свете мне захотелось слепить снежок и изо всех сил запустить его высоко в небо. Но маловато у меня их оставалось - этих сил! Бедный дон Эскобар как-то весь съежился, втянулся в кресло (пока я смотрел в окно он успел опуститься в него), стал похож на... на плюшевого мишку, и мне стало его жаль. Желая разрядить обстановку я, без всякой связи с недавними тирадами господина посла, вспомнил о Байаре: "Я не забыл о причине, которая привела вас сегодня ко мне, господин посол. Я свяжусь с руководством МИД и, если только дело не серьезнее, чем мне это сейчас представляется, то, пожалуй, можно будет надеяться на его благополучный исход". Мгновенно оживший дон Эскобар с готовностью подхватил конец брошенного мною каната. "Буду очень благодарен вам за содействие. Желаю вам доброго здоровья. Сегодня я отнял у вас немало времени, наговорил лишнего, постарайтесь простить мне мою навязчивость. До свидания", - извиняющимся тоном проговорил он. "До свидания. Заходите почаще, дорогой сеньор Эскобар. Я всегда искренне рад видеть вас", - улыбнулся я ему на прощание. Мы пожали друг другу руки и я проводил его до дверей кабинета.
Вернувшись за письменный стол, я машинально включил настольную лампу и рассеянно проглядел какие-то бумажки. Потом опять подошел к окну, уперся лбом в стекло и, наверное, с полчаса наблюдал за хаотичным кружением белых хлопьев. День выдался на удивление спокойным - такого за свою долгую службу я и не припомню. По сути, кроме уже состоявшейся встречи с испанским послом, распорядок дня иных серьезных мероприятий не предусматривал. Я должен был еще прочитать и подписать два письма: одно - в Бонн, нашему военному атташе, и другое - в Асунсьон, временному поверенному в наших делах, но с этим можно было не спешить. Недавняя встреча произвела на меня неожиданно большое впечатление. Я был застигнут врасплох, и странное дело - вновь почувствовал себя двадцатилетним. Будто кто-то, наделенный неведомой и могучей силой, заново смазал животворным маслом мои давно поскрипывающие суставы. Я стоял у окна, любовался падающими с неба белыми хлопьями и улыбался неизвестно чему. К счастью, за эти полчаса меня никто не потревожил - телефоны как по заказу молчали, помощники сидели в своих кабинетах, личный секретарь терпеливо ожидал моих дальнейших указании. Когда я наконец очнулся от наваждения, то подумал, что беседу с доном Эскобаром все же надлежит оформить, хотя-бы и по памяти, в виде записи, и вновь уселся за стол. Я включил компьютер и попытался представить себе текст, строчку за строчкой. Долгое время у меня не выходило ничего путного, отчет получался каким-то абсурдным, детский лепет напополам с мудростью, ни один настоящий дипломат не поверит в это. Все-таки, в конце концов я остановился на наиболее правдоподобном, с моей точки зрения, варианте отсебятины и окончательная редакция записи выглядела уже относительно пристойно:
ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР С ПОСЛОМ ИСПАНИИ В СССР СЕКУНДОЙ
17 февраля 2024 года
1. Секунда пришел ко мне к двенадцати часам в возбужденном состоянии и заявил, что решился ходатайствовать за Байара. Байар-де часто заблуждается, но в целом он прогрессивно настроенный писатель, неоднократно поддерживавший миролюбивые инициативы советского правительства, и, потому, по мнению посла, к его заблуждениям следует отнестись с известным снисхождением. На мой вопрос, по какой причине за французского гражданина ходатайствует испанский дипломат, Секунда ответил, что его связывают с Байаром узы тесной личной дружбы, и его просьбу в этом контексте также следует рассматривать как личную. Секунда сказал, что вряд ли можно ожидать от Байара антисоветских выпадов в течении всего времени его предполагаемого пребывания в СССР и справился о возможности отмены отрицательного решения ОВИР. Я уклонился от прямого ответа, ограничившись заявлением в том духе, что с учетом высокого авторитета Секунды и Байара в кругах либеральной западной интеллигенции, и помня об известных заслугах Байара перед антиядерным движением в Европе, переговорю с министерством, но окончательное решение вопроса о визе, безусловно, относится к компетенции нашего министерства иностранных дел. Секунда долго благодарил меня за участие и выразил надежду, что МИД сочтет возможным пересмотреть прежнее решение в позитивном духе.
2. Пользуясь случаем (беседа велась с глазу на глаз и в отсутствие переводчика) Секунда затронул ряд деликатных вопросов международного положения не имеющих прямого касательства к советско-испанским отношениям. В частности, он в пессимистическом духе оценил перспективу сохранения всеобщего мира, возложив равную ответственность за обострение обстановки на все конфликтующие стороны. Я, со своей стороны, отвел это обвинение, отметив очевидное противоречие содержащееся в рассуждениях посла: ведь ему самому неоднократно приходилось признавать выдающееся значение миролюбивых внешнеполитических инициатив советского правительства, к которым, однако, оставались и остаются глухи правительства входящих в НАТО стран, и, наряду с другими, и правительство Испании.
3. Секунда весьма презрительно отозвался о региональном "правительстве мулл" в Пуштунистане, обвинив мировое сообщество, а также и Советский Союз, в снисходительном отношении к, как он выразился "зарвавшемся и предавшем основные принципы своей же религии талибском духовенстве, культивирующем мракобесие у себя в регионе на виду у всего культурного мира". На мое замечание, что центральное афганское правительство в Кабуле пользуется реальной поддержкой испанского правительства, получая от него оружие и боеприпасы, Секунда немедленно ответил, что он придерживается об испанских торговцах оружием того же низкого мнения, что и Байар, и не относит себя к числу тех безответственных испанских политиков, которые отвечают за организацию военных поставок режиму в Кабуле. Я повторил нашу официальную позицию по отношению к Афганистану: Советский Союз, соблюдая принципы международного права, не считает возможным вмешиваться во внутренние дела соседнего дружественного государства. Как бы мы не оценивали протекающие в Афганистане внутриполитические процессы, нет оснований ставить под сомнение законность талибского "правительства мулл" в Пуштунистане, и, тем более, нельзя однозначно утверждать, будто все афганское духовенство разделяет экстремистские позиции отдельных влиятельных фанатиков. В отношении Афганистана СССР проводит ту же политику, что и по отношению к любым другим странам, заинтересованным в налаживании взаимовыгодных контактов с Советским Союзом. Основным приоритетом советской внешней политики в ближневосточном регионе, где, как хорошо известно испанскому послу, сохраняется взрывоопасная обстановка, является стремление поощрить здесь тенденции к мирному урегулированию спорных вопросов, что, вне всяких сомнений, отвечает подлинным интересам многомиллионных масс трудящихся в странах Ближнего и Среднего Востока. Пусть о моральной стороне своей политики задумаются те правительства, при прямом попустительстве или по указанию которых продолжаются поставки современных вооружений в регион. На мои слова Секунда реагировал весьма вяло, заявив, однако, что в том, что касается поставок оружия, он и сам отстаивает перед кабинетом в Мадриде аналогичную точку зрения.
4. Беседа продолжалась более полутора часов. В 13.40 мы распрощались. Напоследок посол Секунда вновь напомнил мне про дело Байара.
Итак, официальный документ о нашей беседе был составлен и даже, в достаточной степени, обкатан. Ничего из ряда вон выходящего. Кстати, Светлову я позвонил в тот же день. Мои доводы возымели действие и Байара впустили в страну. Но, в конце концов, дело было не в Байаре.
Ночью сон долго не шел ко мне. Жгло душу сегодняшнее "сделайте хоть что-нибудь!". Ну а что могу я сделать? Да и кто может? Машина давно запущена. Неужели кто другой на моем месте: Писатель, или Антон, или Хозяин, или даже дон Эскобар лично - в силах изменить что-либо? Очень сомневаюсь. А я... Я уже слишком стар. Стар! Мое время ушло. Если и мог я сделать что-то путное, это было слишком давно, когда на свете жил какой-то совсем другой человек, НЕ-Я, не имевший со мной ничего общего. А сейчас... Сейчас у меня совершенно не осталось на большую политику сил. Я разучился даже смеяться, и способен нынче только на созерцание. В конце концов, Секунда много моложе меня, мне под семьдесят, а ему каких-то пятьдесят два - ему и карты в руки. На мою долю осталось совсем немного таких зим как эта, потом снежные хлопья уже без меня будут падать на бреную землю, а я... Я глубокий старик и больше всего на свете думаю о своем внуке, - это единственный человек, которому я доверяю. Ему одному, - а не вам, дон Эскобар! На черта мне вообще далась эта политика, единственное на что она способна, - это привести личность к полному краху. Черт бы побрал того моего дружка, Элефтероса, - как я недавно, за истечением срока давности и изменениях в государственной архивной политике, выяснил, тщательно законспирированного агента всесильной когда-то ОССС, - за то, что надоумил меня оставить науку. Черт, кстати говоря, и побрал. Я-то так и не успел как следует отблагодарить его за содействие. Совсем еще молодым он подхватил мозговую опухоль, и никакой блат ему не помог. Мне так стало жаль его тогда, неплохой был человек и, как выяснилось, хороший агент, но... Что же, сейчас мне благодарить его за то, что он подтолкнул меня на неверный путь? Хотя при выпадавших иной раз на мою долю невзгодах, мне иногда хотелось, чтобы он стоял рядом, казалось, вместе мы одолели бы... И незачем ругать его за то, за что надо ругать себя. Сегодня я мог бы быть академиком, или на худой конец доктором наук, и жить без надрывов и неисполненных амбиций. Восторгаться маленькими радостями старости и бояться мировой войны не больше любого грамотного человека, просматривающего после обеда ежедневные газеты и не очень-то всерьез воспринимающего всю эту писанину. Подумать только: были времена, когда я мог отличить континуум от конденсатора! И тут верный раб бессонницы - мой старый и больной мозг - с натугой начал извлекать из кладовых памяти почти позабытые фамилии из тех, что когда-то были преисполнены неизбывного очарования. То были фамилии людей, образ мышления и жизненные принципы которых некогда скрашивали мое подернутое туманом забвения прошлое. Да, было время, когда дельная статья в научном журнале ценилась мною больше всяких там коронаций или демаркаций пограничных зон. Это уже потом политика целиком заслонила собой науку и бесцеремонно обратила те волшебные фамилии в обыденные наборы букв, почти наугад отобранных из обычного алфавита. А какие это были фамилии! Вслушайтесь в их чарующую музыку: Ф-а-р-а-д-е-й, М-а-к-с-у-э л-л, Г-а-л-и-л-е-й, Л-е-й-б-н-и-ц, Н-ь-ю-т-о-н, П-у-а-н-к-а-р-е, К-а-п-и-ц-а. А параллельно с миром этих колоссов сосуществовал никчемный мирок разных там Гогенцоллернов, Тюдоров, Медичи, Романовых, Бисмарков, Керзонов и прочих незначительных людишек, строящих из себя, единственно благодаря своей родовитости, физическим данным или умению обжуливать других, невесть что. Это уже после все перевернулось и сознание медленно повернулось к новым ярким фамилиям: Т-э-т-ч-е-р, М-и-т-т-е-р-а-н, А-л-ь-е-н-д-е, П-и-н-о-ч-е-т,Т-о-р-р-и-х-о-с, Б-х-у-т-т-о, Р-е-й-г-а-н, Б-е-г-и-н, А-р-а-ф-а-т. А игроки с выщипанными номерами на отлинявших майках, всякие там Фейнманы, Эйнштейны, Ландау, Планки, Франки, Дираки, Боры с Гильбертами, Кюри-мужчины и Кюри-женщины, Полинги и Паули с холодной рассудочностью были отправлены на скамейку запасных. Но вот нынешней ночью старичку привиделось, что игроки основного состава подустали и настала пора поразмять ноги запасным. Вот и наступило времечко подводить итог: а за окном безжалостно кружат белесые и равнодушные к времени и людям снежные хлопья, и что же мне сказать себе в ободрение, пока еще нахожусь в добром здравии и трезвой памяти? Скоро, очень скоро, не будет ни того, ни другого - только круговерть тающих снежинок над моей могилой, некий будущий февраль без меня, и еще внучок без любимого деда на этой земле. И больше ничего. Но до того грядет страшная минута последнего пробуждения, - страшная именно своей незамутненной прозрачностью. Один из тех, из великих, по фамилии Ф-е-р-м-и, мог произнести в эту последнюю, ясную минуту горячие слова целебной молитвы: "Я, Энрико Ферми, так, как мне было дано, служил науке и истине. Я сделал атомный реактор. Не знаю, хорошо это или плохо, но я сделал его. Прости меня, Господи, если можешь. Я так мало жил, но моя жизнь не прошла впустую". Некто Ш-р-е-д-и-н-г-е-р мог встретить предсмертное мгновение смелыми словами: "Я, Эрвин Шредингер, написал уравнение Шредингера. Его знает наизусть каждый уважающий себя физик, и я вправе гордиться этим", и умереть со счастливой улыбкой на угасающих устах. Т-а-м-м ничего не мог бы сказать, он не в силах был говорить, редчайшая болезнь превратила его в беспомощного инвалида, но ум его оставался ясным, и он обязательно подумал бы:"Я, Игорь Тамм, всю свою жизнь был порядочным человеком, никогда не гнался за почестями и титулами - они находили меня сами; я просто занимался любимым делом и, кажется, обогатил чем-то существенным науку. Я вправе надеяться на то, что когда исчезну с лица земли, коллеги и друзья помянут меня добрым словом". Ферми, Шредингер, Тамм... А я? Что смогу сказать себе я? Что в пору далекой и пылкой юности простодушно желал счастья всем живущим на земле? Что во имя этого всеобщего счастья взялся судить, казнить и миловать, и во имя высшей справедливости ограбил чужую квартиру? Что из чисто карьеристских соображений не постеснялся ввести в заблуждение самого Писателя? Что во имя призрачного счастья власти предал науку? Что докарабкавшись до высокой зарплаты и какого-то подобия служебного авторитета успокоился и честно отрабатывал положенные мне законом и циркулярными распоряжениями льготы и привилегии? Что не сумел сохранить дружбу? Что оказался не в силах завоевать любовь? Неужели я и в самом деле такой дурной человек? Но ведь это неправда! Неправда! Дон Эскобар максималист, а я уже стар, я не могу, вот будь я помоложе... И я не собирался обманывать Писателя, - так, самую малость. Ну не получилось все так, как было задумано, но ведь есть же природные границы человеческим возможностям! Меня, по правде говоря, давно уже не снедает зависть при виде чужого успеха, пусть кто может тот достигнет большего, чем я. Верно, когда-то я жаждал сверхчеловеческого, но жизнь поставила меня на место. Я слишком поздно, трагически поздно осознал, что сверхчеловеком в реальной жизни стать нельзя, что супермен - всего лишь отрыжка воспаленного воображения от реакционных философов и режиссеров коммерческого кино. И вообще, ницшеанства не существует и все люди живут в мире банальных трюизмов. Дайте же мне умереть спокойно! А он - пиши книги, устраивай пресс-конференции, раздавай интервью, бей в набат. Слушайте меня, люди! Меня - и никого более! Я - пророк, мессия мира и дружбы между народами. Все лгут - один я говорю правду. Ну, не я один. Правду хотел бы вам сказать и дон Эскобар Секунда, но у него не получается, у него слишком тихий голос, почти шепот. Его мало читают в нашем блеющем от скотских восторгов мире, а я принадлежу, видите-ли, к элите формирующей государственный курс великой державы. Мне и карты в руки, мне - а не дону Эскобару. А дон Эскобар пусть отобьет себе пухлые ладони аплодируя моим невоздержанным речам. А понимаете ли вы, дон Эскобар, что меня за такие несогласованные речи за шкирку да на преждевременную пенсию? Хотя какую там преждевременную, но... но это неважно, я не хочу уходить. В моем ли возрасте - за ушко да на солнышко?! Неужели вы, дон Эскобар, до сих пор не поняли, что политика создана не для современных Дон Кихотов худшего издания, а для рационалистов с железными нервами и стальной выдержкой? Мистика давно изжила себя. Миру грозит война? Не впервой! Она грозит ему целых восемьдесят лет, не является ли это лучшим доказательством тому, что ее и вовсе никогда не будет? А если все-таки суждено... Смешно полагать, будто я, даже с вашей помощью, дон Эскобар, смог бы остановить паровой каток, чему бывать, тому не миновать. Интервью ему подавай! А как врежут потом с утра: "Подать сюда Ляпкина-Тяпкина!". Классику читать надо, русскую классику, господин посол. Совесть, конформизм, программа социального оптимизма для страждущего человечества, ох и мастак вы пускать по ветру красивые словечки! Но мне скоро семьдесят, время подводить итоги, совсем как у Р-е-м-а-р-к-а: "Время жить и время умирать". А подать сюда Ляпкина-Тяпкина? А все же дон Эскобар Секунда в чем-то прав. Сколько можно трусить? Кто из знаменитых сказал: "Нет большего порока, чем трусость", Б-у-л-г-а-к-о-в? Нельзя больше трусить. Пересилил же я чувство страха в самом начале пути, значит могу. А может не Ляпкина-Тяпкина? Может подать сюда какого-нибудь иностранного корреспондента из прогрессивных. Мыслящего, зарекомендовавшего себя правдивым журналистом, таким чтоб не переврал слова и мысли. Если уж погибать, так с музыкой. Но кого же, кого? Выбор невелик. Пожалуй даже, выбора нет. Я недурно знаком с Массимо Чиавиттой - московским корреспондентом "Униты", и мне всегда нравились его статьи и репортажи. Даже из специально для меня предназначенных переводов было очевидно, что их писал неглупый, зрячий и доброжелательный человек. Да, только он. Во-первых, он стратегический партнер, коммунист и предпочитает Маркса Раймону Арону - следовательно в главном мы единомышленники. Во-вторых, руководство его партии всегда особо подчеркивает свою приверженность свободе слова, - в этом определенная гарантия того, что интервью напечатают без искажений. И, в третьих, его газета выходит большим, чуть ли ни миллионым тиражом, - а в этом залог тому, что мои слова разнесутся по всему миру, и их никто не в силах будет замолчать, ни левые, ни правые. Пусть на какое-то историческое мгновение, но я обрету имя собственное. Я, заместитель главы правительства и старый, умудренный опытом человек, от имени своей страны протягиваю Западу оливковую ветвь мира, и да будет мой жест оценен по достоинству. И провалитесь вы, дон Эскобар, в преисподнюю...
...Позже он вспомнит, почему остановил выбор на Чиавитта. Это было на приеме в итальянском посольстве лет пять тому назад. Держа в руке бокал шампанского он весело беседовал с красивыми дамами, и этот Чиавитта случайно, а может и не очень случайно, затесался в их легкомысленный кружок. Потом дамы разбежались кто с кем, для них он, пожалуй, был староват и неинтересен, а этот Чиавитта воспользовавшись моментом бесцеремонно подхватил его под локоть и настолько разошелся, что заявил буквально следующее: "Счастлив познакомиться с таким выдающимся московским грузином, как вы. Я только вчера прилетел из Грузии. Ох, сколько у вас блестящих людей! Вы, грузины, народ с сильной интеллигенцией, - это бросается в глаза. Но, как мне дали понять, историческая судьба вашей родины сложилась не очень завидно. Жестокие репрессии двадцатых и тридцатых, гибель национальной дивизии под Керчью, расстрел манифестации в 56-ом. Отцы недосчитались сыновей, сыновья - отцов. А когда страсти улеглись, то остался страх. Мне показалось, что разговаривать с иностранцами у вас не боятся только провинциалы". Тогда он, неожиданно легко поддавшись на эту небольшую провокацию, немного обиделся и пустился доказывать этому нагловатому Чиавитта, как тот заблуждается в оценке судеб грузинской интеллигенции. Шампанское ударило им в голову, они заспорили излишне громко, но в конце концов журналист уступил и, махнув рукой, сказал так: "Вы симпатичный народ и очень похожи на нас, итальянцев. Вас так же трудно переспорить и вы, как и мы, индивидуалисты до мозга костей. Несмотря на то, что я коммунист, уважаю я вас именно за это, а не за политику. Никак не могу забрать обратно свои слова о царящем у вас страхе, но, пожалуй, готов согласиться с тем, что писать о вашей интеллигенции свысока было бы неэтично. Я напишу как можно честнее". Совершенно дурацкий спор, но итальянец употребил редко слово "неэтично" и он проникся к нему доверием...
Так вот откуда начался мой полет в грядущее. С недавнего прошлого. С воспоминания о том, как я пострадал в борьбе за мир. И пусть мое донкихотство так и не принесло облегчения народам планеты и осложнило положение моей семьи - разве не вправе я гордиться здесь, под землей, своим далеко не обывательским поступком? Что ни говори, а в атомной войне, в том, что мой родной город и множество других больших городов нашего распрекрасного мира, превращены в обломки ада, в том, что мириады жаждущих мечутся по развалинам улиц и проспектов в поиске глотка воды, в том, что человеческая культура отдана на растерзание чуме и мору, я неповинен. Неповинен, слышите! Я успел вовремя умыть руки, но не кровью - не кровью! Я умывался слезами, ибо знал и чувствовал, чем все это кончится! Я ничего не смог остановить, но последуй другие за мной, - другие здесь и другие там, - ужаснейшей катастрофы, возможно, удалось бы избежать. Впрочем, что сейчас горевать о былом. Уж кто-кто, а я-то сейчас нахожусь в своем подземном убежище в полнейшей безопасности. Надо мной пылает Земля, а я - я весь в размышлениях о грядущем миропорядке. И если ограничить свою фантазию строгими рамками исторического материализма... Но прежде следовало бы воздать должное профессиональному мастерству товарища Чиавитта. И даже не столько мастерству, сколько тому, что он правильно понял смысл поставленной перед ним задачи.
Все было очень для меня необычно. В столь щекотливом деле я, конечно, не мог положиться даже на моего верного личного секретаря, хотя и поручил тому доставить мне специальный телефонный справочник по соответствующему служебному каналу Обнаружив в нем номер мобильного телефона Чиавитта и поборов немалое волнение, я позвонил ему за полночь, представился по фамилии и должности, напомнив таким образом о значительности собственной персоны, и, когда слегка обалдевший журналист окончательно уяснил, что разговаривает с одним из высших сановников страны, жестко объявил тому, что немедленно хочу сделать феноменально важное заявление для печати. Затем, уже более мягко, добавил, что речь идет именно о его газете в силу ее партийной принадлежности, что время не терпит, и объяснил, какими улицами лучше в столь поздний час добираться до моего дома. "Но только выезжайте сразу, - потребовал я, - иначе можете запоздать". Как потом выяснилось, Чиавитта сидел за компьютером и мой звонок не разбудил его, но не сомневаюсь, что он, как истинный зубр своей профессии, в любом случае выехал бы ко мне без проволочек. И вот, в начале второго часа ночи, итальянский журналист ввалился ко мне в квартиру, отряхнув снег с пальто прямо у меня в прихожей (вот, наверно, был удивлен дежуривший в подъезде сотрудник охраны, но, делать было нечего, приходилось идти на риск. Должен сказать, что моя проснувшаяся от шума супруга, накинув халат хотя и выглянула на звонок из спальни, так и не поняла, кем же был этот импозантный бородач с миниатюрным диктофоном в руках, но на следующий день я решил рассказать ей обо всем, так что события не захватили ее врасплох). Получив письменный текст моего заявления и выслушав мои условия, Чиавитта выразил намерение немедленно связаться со своей редакцией, но я остудил его пыл: "Не хотели бы вы задать мне несколько относящихся к делу вопросов, я готов по мере сил удовлетворить ваше законное любопытство". Чиавитта благодарно взглянул на меня и включил свой сверхпортативный диктофон. Расстались мы около пяти утра. Ушел он уставший, но чрезвычайно довольный, да и я еле держался на ногах. Содержание интервью было напечатано в "Уните" только на третий день (подозреваю, что окончательная увязка происходила на уровне ЦК Итальянской Компартии), и все эти три дня я ездил в кремлевский кабинет сам не свой, весь во власти тягостного и томительного ожидания скорого и неотвратимого возмездия, отменял все запланированные ранее мероприятия и, ссылаясь на дурное состояние здоровья, уезжал домой в середине рабочего дня. Меня лихорадило, температура подскакивала по три раза на дню, жена, после того, как я рассказал ей о случившемся более подробно, в отчаянии ломала себе руки, и мы в страхе дожидались неминуемого финала этой авантюры. Сейчас иногда мне кажется, что ничего особенного не произошло; подумаешь, высказал вслух пару-другую фраз в защиту мира, говорил что-то о необходимости взаимных компромиссов, о желательности одновременного прекращения пропаганды своих философских доктрин перед лицом всеобщей опасности, выступал за радикальное урезывание военных расходов и подчеркивал, что поиск истинного взаимопонимания обречен на неудачу, если только государства не научатся прощать обиды друг другу. Чиавитта задал мне немало конкретных вопросов о международной обстановке - он был из тех, кто быстро схватывает суть, - и хотя я попытался удовлетворить его любопытство максимально полно, белых пятен в моих ответах все же оставалось немало. При всем при том, даже наиболее пристрастный судья попал бы в затруднительное положение, стараясь извлечь расхождения между официальной позицией нашего партийного руководства и моими личными взглядами на основные международные проблемы. Изюминка, ради которой я заварил всю эту кашу - лейтмотив всего интервью - особенно ярко сверкнула в заключительной его части: "Пока человечество не придет к идее мирного сосуществования в идеологической сфере, нелегко надеяться на позитивные сдвиги в иных сферах: военной, экономической, политической. Западу пора громко, с использованием всех средств массовых коммуникаций, признать: Реальный социализм завоевал историческое право на существование и развитие в семье цивилизованных народов мира. Востоку, так же громко и с той же силой убежденности, заявить: Человечество не может обойтись без политического и философского плюрализма, одностороннее провозглашение права собственности на историческую истину противоречит принципам демократии, вне которой нельзя надеяться на подлинно созидательное общественное и технологическое развитие. Я не философ, а политик-практик. Поэтому меня мало трогают возможные обвинения в эклектизме моих воззрений, но не надо забывать, что они выстраданы через многолетний опыт деятельности на высоких государственных постах". После этого Чиавитта не удержавшись задал мне необязательный вопрос, высказываю ли я только свои личные взгляды. И хотя отвечать было необязательно, - очевидно, что какие-бы личные свои взгляды не излагал заместитель главы правительства в беседе с западным, пускай даже коммунистическим, корреспондентом, они неизбежно получают официальный оттенок, - но из вежливости я ответил ему и на это. Когда с вопросами было наконец покончено, мы заново прослушали запись, и я попросил Чиавитту внести несколько несущественных изменений в окончательную редакцию текста. Я и сейчас крайне благодарен товарищу Чиавитта за то, что мое интервью было опубликовано в том виде, в каком мы его согласовали. Больше всего я опасался возможных искажении буквы, ибо они не могли не привести к искажению смысла и самого духа интервью. Мне было хорошо известно, что в самой Итальянской Компартии действовали силы, способные пойти на подлог и извлечь из фальшивки определенную выгоду. Но Чиавитта действовал молодцом. Он и его политические друзья из ЦК ИКП не подкачали.
А дальше произошло то, что и должно было произойти. Расчет оказался верным, и могущественная мировая пресса разнесла мои слова по белу свету. На короткое время ведущие зарубежные издания самых различных направлений запестрели заголовками: "Комунисты отступают", "Москва пересматривает свою политику", "Несанкционированное интервью или изменение курса?", "Слово за Вашингтоном", "Скандал в благородном семействе", "Советы дают миру шанс", и так далее, и тому подобное. На следующий день после публикации меня стали обходить стороной, а на очередном заседании Секретариата ЦК предложили объясниться на Политбюро. Естественно, что мои объяснения были признаны совершенно несостоятельными.
Хорошо помню тот серый февральский день. Перед глазами маячит длинный, хорошо отполированный стол, и люди, сидящие в удобных, почти музейных креслах за этим столом, а во главе стола самый главный, и возможно, самый талантливый среди присутствующих человек, которому явно не по душе слова что я произношу против своей воли; это заметно по его стреляющим в упор зрачкам, по редким желвакам на скулах, по застывшим губам, которые только из вежливости не собираются в грозную гримасу; по смущенному, мальчишьему ерзанью вполне взрослых людей в ставших вдруг неудобными креслах. Помню полные едкого сарказма слова Самого Главного: "Наш уважаемый друг возомнил себя исторической личностью, с нами он уже не считается, куда нам до него. Ему лучше других известно, что полезно и что вредно для дела мира и коммунизма. В учебники захотел!". Помню осуждающее покачивание головой милейшего Владимира Васильевича, - надо же, какую я подбросил себе и другим дохлую кошку! Помню отрывистое: "А теперь проголосуем, товарищи...". Не надо. Не надо вспоминать. Они были, конечно, правы. Они не имели права поступить со мной как-то иначе, мягче. По отношению к своим соратникам по борьбе я поступил по свински, око за око, все верно, но... Но зато в ужасах войны я неповинен. Неповинен! Я умыл руки, чуть было не взошел на крест, и дон Эскобар Секунда может быть мною доволен. Интересно, удалось ли ему пережить бомбежки?
Последовавший вскоре Пленум ЦК, на котором мне, ввиду приступа стенокардии, присутствовать так и не довелось, полностью поддержал точку зрения Политбюро. Решение было вынесено единогласно. Исключение из состава Центрального Комитета и строгий выговор по партийной линии. Сорную траву - с поля вон! Стоит ли лишний раз напоминать себе о том, что меня сняли с работы и отправили на пенсию.
Ну что ж, что было, то было. А вскоре колесо истории совершило очередной оборот, раздавив при этом миллиарды человеческих жизней, - и большой ли с бездушного колеса спрос? И стоило ли вообще вспоминать про тот длинный серый день? Все равно - оборот следует за оборотом, а день тот в нем, как пятая спица в известном колесе. Прошлое осталось в прошлом. Ату его, ату! Давайте думать о грядущем.
И все же тина прошлого даже здесь, в царстве теней, вяжет меня по рукам и ногам. А что если не только меня? Когда это кто-нибудь учился на исторических ошибках? Разве что изнывали со злобы. Дело в том, что люди по своей природе - неизлечимые реваншисты. Боюсь, что человечеству - если оно вообще выживет - и в грядущем нелегко будет избавиться от старых философских представлений и привычной политической лексики, пусть они и подвели его к порогу гибели. Если о людях и можно сказать что-либо твердо, так это то, что они не умеют, даже если вроде-бы и хотят, извлекать правильные выводы из допущенных ими просчетов. Мешает чувство собственного достоинства. Посыпать одежды пеплом - так это с охотой, а признать без околичностей собственную неправоту, - на сие их никогда не хватает. И все же я не хотел бы заранее впадать в излишний пессимизм. Кое-какие выводы из происшедшего все же, вероятно, будут сделаны. Уж слишком велико потрясение. И не может, не должно случится так, чтобы чудом выжившие окончательно опустили бы руки. Человек, при всех его недостатках, существо непоседливое. Мир грядущего обязательно породит и новых идеалистов, и новых маньяков, и новых прагматиков, и новую культуру. И только понятия о справедливости и безопасности останутся прежними. Если, конечно, там наверху хоть что-то сохранилось в целости, не иссякли родники, не растаяли ледники и плодоносит почва.
И вот уже я, полновластный Хозяин загробного мира, Плутон двадцать первого века, великим напряжением воли и разума переношусь в далекий и неведомый мне двадцать второй. Позади войны, авантюры, интриги, сговоры, заговоры, инфаркты, денитронг с обскурантилом, угрызения совести. Признатся, нескончаемое подведение итогов мне изрядно поднадоело. Лучше уж оставить руины XX и XXI веков на растерзание счастливым археологам XXII столетия, пусть изучают тлеющие головешки. А там, в двадцать втором, все пока хорошо и спокойно, природа залечила таки свои рваные раны и на земле воцарился длительный мир. Исхитрились потомки - научились, избавились от, поломали древние традиции бытия. Довоенные государственные структуры начисто уничтожены, национальные границы отошли в область преданий. Плачевные итоги термоядерного катаклизма убедили маловеров в никчемности этого бронтозавра - института государственных границ. Ракеты просто не заметили их: возможна ли более наглядная агитация против? Уже в первые дни мира у сторонников научного социализма нашлась веская причина для ликования - разве это не их классики предсказывали необходимость отмирания государства? Сила человеческого предвидения ограничена и век спустя нетрудно простить классиков за то, что сей процесс чуток отклонился от начертанного ими маршрута, - в каком лютом кошмаре привиделись бы интеллигенту девятнадцатого столетия разрушительные способности ядерных исчадий. Но это несущественная частность. Пусть не государственный аппарат как таковой, не государство как институт, как форма упорядочения общества, но Национальное же Государство убило себя! Ибо не оправдали надежд, привели к вселенской катастрофе такие его непременные атрибуты, как национальный герб и флаг, национальная армия и шовинистическая в своих основах система народного образования, национальное понимание фундаментальных человеческих прав, свобод и обязанностей, национальное отношение к проблеме пустого желудка и человеческого здоровья, национальные культы и извращенная трактовка светлого понятия "патриотизм". Ныне я готов свидетельствовать: человечество восстало из пепла и воссияло заново на четкой интернациональной основе. К великому счастью, отцы-основатели грядущего, те кто стояли у истоков создания всемирной державы, вовремя осознали: либо планета, не изрезанная национальными границами вдоль и поперек, либо бесславная смерть. Факт, что распростершаяся на весь мир многонациональная и многорасовая держава обязана своим рождением весьма решительным и хладнокровным лидерам. И когда огромное государство без определенного названия, прочно встало на ноги, то национальные органы управления получили в нем приблизительно тот же статус, что и, скажем, земельные правительства в довоенной Западной Германии, сенаты штатов в США, или правительства автономных республик в Советском Союзе. Вновь подтвердилась старая историческая истина: какой бы беспросветной не казалась разруха, самое опасное и смутное время наступает потом, когда начинает налаживаться мирная жизнь, оживляется экономика и на рынке появляются разнообразные материальные блага. Решительные и хладнокровные лидеры поняли и то, что человечество не может более позволить себе подразделять страны на бедные и богатые, как не может позволить себе вечно двигаться по капиталистическому пути развития. И именно ввиду того, что человечество не могло себе такого позволить, первые шаги первого федерального правительства Земли оказались вынужденно жесткими. Первым делом из остатков бывших национальных армии были сформированы полицейские части. С кулаками, грабителями, саботажниками, экономическими шовинистами разговаривали на общедоступном и весьма суровом языке военных трибуналов. Объявили о том, что конечной целью общественных усилий является социализм, но социалистические отношения распространялись по планете исключительно извилистым путем. Решительным и хладнокровным лидерам приходилось учитывать и неодинаковую степень разрухи в различных странах, и историческую разницу в уровне развития производительных сил, и национальный темперамент. Мировая экономика очень долго оставалась смешанной, многоукладной, но отцам-основателям удалось чуть-ли не главное: укрепить авторитет наднациональных органов власти и подвести под выбранную стратегию развития эффективную юридическую базу. В надлежащий день в торжественной обстановке (дело происходило в одном из небольших городков одной из небольших, но относительно благоустроенных стран), под барабанный бой и развернутые стяги была зачтена вслух своеобразная конституция - обязательный для всех жителей планеты кодекс межнационального общения и гражданского поведения. Ход церемонии передавался по телевидению на все континенты. Своду незыблемых отныне правил человеческого общежития было присвоено достаточно эффектное название - Великая Хартия.
Переживший термоядерный шок мир, десятилетия спустя обрел таки, на радость философам и литераторам, необходимую многомерность. Правда, в первые послевоенные годы мириады голодных и босых человеческих существ, в большинстве своем растерявших все представления о гражданском долге, находились в состоянии разобщения, но постепенно угроза анархии отступила. Решительные и хладнокровные лидеры многонационального человечества не теряли времени даром.
В грядущем я побывал как турист, на большее не хватило ни сил, ни воображения, и многое осталось от меня сокрытым, но, как мне показалось, благие перемены, по сравнению с прошлыми эпохами, были налицо. Там мне попалась на глаза пропагандистская брошюрка, с содержанием которой я ознакомился с громадным интересом. Можете судить об успехах наших потомков сами. Через полвека после окончания военных действий уже были завершены или завершались основные революционные мероприятия: практически была разрешена проблема голода, обеспечена была, в целом, и общественная безопасность, достаточно эффективно стимулировался научно-технологический прогресс, центры власти были рассредоточены в геополитическом отношении. Подчинение законодательной и судебной властей планеты власти исполнительной в брошюре объяснялось особенностями периода исторической реконструкции, а демократизация политической жизни и сопутствующее ей смягчение нравов намечались на конец текущего и начало будущего столетия. Из брошюры становилось ясным, что сильное правительство пока еще вынуждено было практиковать ограничение политических прав граждан, хотя Великая Хартия и обеспечивала общество некоторым подобием свободы слова. Во всяком случае, конституционный приоритет на планете принадлежал, в основном, социально-экономическим правам. Значительное внимание уделялось историко-археологическим исследованиям и, насколько я успел узнать, граждане мира восстанавливавшие исторический облик планеты по крупицам, окружались наибольшим почетом и уважением. Столь бережный подход к истории рода человеческого позволяет надеяться как на то, что благодарное человечество никогда не забудет о таких выдающихся личностях, как, например, Альберт Швейцер, архиепископ Туту или Мартин Лютер Кинг, так и на то, что такие имена как Ферми, Шредингер и Тамм не выпадут из истории науки. Следовательно, виртуозы будущего смогут полностью оценить прелести симфоний Бетховена или ноктюрнов Шопена, влюбленные тридцатого столетия будут декламировать своим жестоким избранницам сонеты Петрарки, а книголюбы тридцать пятого обменивать прижизненные издания Паустовского на потрепанные томики Байрона. Можно надеяться и на это, хотя в такие дали я еще не осмелился заглянуть. Жестокая правда, однако, состоит в том, что для нормализации жизни в двадцать втором веке пришлось почти полностью пожертвовать двадцать первым - веком целенаправленного насилия, экономических неурядиц, имущественного неравенства, материальных и людских лишений, великим веком Преодоления. Не преуменьшая очевидного положительного значения Великой Хартии, отмечу несомненное: под прикрытием этого эпохального документа в период реконструкции совершалось немало неблаговидных дел и даже преступлений, но в конце концов окрыленное первыми успехами человечество нашло в себе мужество превозмочь все несправедливости. Впрочем, не следовало доводить дело до Третьей Мировой.
Жаль, конечно, что в грядущем не нашлось места ни для меня, ни для Ловкача, ни для Хозяина, ни для Девочки, ни для Старухи, ни даже для Писателя Мы исчезли бесследно. Да нам и не следовало привлекать к себе внимание потомков. Мы слишком любили самих себя, из-за таких как мы и заварилась вся эта каша. И нечего мне рассчитывать на то, что стараниями ученого люда эликсир бессмертия будет разливаться в бутылочки и распространяться через торговую сеть. Нас это открытие в любом случае не коснется. И вообще, я вполне примирился с судьбой, не так уж здесь и плохо - ни атомная бомба тебя не берет, ни чужая ненависть не теребит. Правда, иногда скучно. Бог с ними: с колесом истории, с Писателем, с доном Эскобаром, с моей неудавшейся карьерой суперполитика, с мечтателями всех сословий и рангов. Бог с ним, с набитым желудком цивилизации, - пускай об этой проблеме надлежащим образом заботятся Председатели будущих Объединенных Советов Земли. Бог с ними, с напастями, которые подстерегают человечество в космосе, на земле и под землей, - сами разберутся. А я, если позволите, отдохну немного. Я устал от счастливого будущего, до которого мне далеко как до Плутона. И я устал от истошных воплей людей, которым я ничем не могу помочь. Я не хочу их слышать. Лучше уж я заглушу их каким-нибудь неповторимым, совершенно драгоценным воспоминанием. Дайте мне дотошно, слово в слово, переиграть мою единственную обязывающую беседу с Девочкой. Беседу, на которую мы отважились много лет спустя...
X X X
Сверхгордый Славной Плеяды Лучших и Разумнейших Регулян - Птороакр Свирепая Клешня - был спешно командирован на Поверхность.
Птороакру было прекрасно известно, что путешествие к солнечному свету связано если не с прямой опасностью, то, во всяком случае, с изрядными неудобствами. Говоря по правде, он никогда не испытывал тех желаний и страстей, что влекли выше, к Поверхности, этих несносных Искателей Знаний. Многие, слишком многие нашли погибель в страшных ловушках Поверхности. Птороакр с давних пор предпочитал всем красотам родимой Мантии свою обжитую, теплую и хорошо охраняемую многостворчатую нору, но Плеяда именно на нем остановила свой державный выбор, и ему пришлось покориться. Вообще, его положение с недавних пор сильно пошатнулось - с тех самых пор, как во время последнего Турнира-Праздника этот мерзавец из светлейших - Латург - открыто обвинил его в подкупе коллегии арбитров. Обвинение стоило Латургу двух пар клешней, но репутация Птороакра покрылась трудносмываемым пятном. Птороакр, паук по натуре мирный, с большим удовольствием обошелся бы без драк и ссор, но, по милости Латурга, оказался вынужденным озаботиться о чистоте своего имени, ибо знал, ему ли было не знать, сколь короток путь от Славной Плеяды до Великого Патриотического Фонда. Птороакр понимал, что коллеги остановили свой выбор на нем неспроста. Ему дали шанс реабилитировать себя и он прекрасно понимал, что не может позволит себе поступиться этим шансом.
Причина, вынудившая Плеяду отрядить на Поверхность своего представителя была, безусловно, достаточно веской. Обстоятельное послание запущенное от имени Гордых и Мохнатых в планетарный эфир, не осталось без ответа. Руководители человечества, вняв голосу разума и, быть может, страха, согласились на переговоры. Не было ими отвергнуто и содержащееся в регулянском послании предварительное требование об их проведении вблизи от колонии Гордых и Мохнатых, в укромном местечке земной Поверхности. Для Плеяды не являлось секретом брезгливо-высокомерное отношение людей ко всем непохожим на них биологическим особям, поэтому она с самого начала стремилась поставить человеческого посланца в максимально неуютное положение. И вот, несколько часов тому назад Полномочный Посол Человечества прибыл на место свидания. Лучшие и Разумнейшие до последнего момента дискутировавшие насчет того, кого же назначить своим Полномочным Послом, все же, после долгих препирательств и по упомянутым выше причинам, остановились на кандидатуре Птороакра. Вот почему Птороакру пришлось таки втиснуть свое студенистое тело в элегантный выходной панцырь и, забравшись в тесноватый скоростной подъемник, помчаться на негостеприимную Поверхность. Вот и сейчас, он пытается, подобрав под себя клешни, справиться с охватившим его волнением и сосредоточиться на предмете будущих переговоров. Через несколько часов лифт доставит его грузное тело к оговоренному заранее месту встречи с Человеком. Потом его ждет небольшой отдых, совершенно необходимый для адаптации его организма, столь безжалостного исторгнутого в непривычную среду обитания. Следовательно, человеческому посланцу придется довольно долго дожидаться его появления. Очко в пользу регулянской делегации...
...Полномочный Посол Человечества заметно нервничал. Он и не мог предположить, что его переговоры с регулянами под самый конец так осложнятся. Правда, ему сразу не понравилось, что партнер запоздал к оговоренному началу, но он, памятуя о значении доверенной ему миссии, решил не обращать внимания на мелкие гадости. Тем не менее, начальная фаза контакта протекала под знаком взаимной доброжелательности: сторонам удалось подавить в себе естественное чувство взаимного отвращения (Полномочный Посол справился с этой проблемой пористине героическим усилием воли), как удалось и многое другое. Они довольно быстро договорились о дате начала следующего раунда переговоров и статусе постоянных смешанных комиссий: торгово-экономической, коммуникационной, экспертной и лингвистической; согласовали порядок функционирования канала радиосвязи (это Полномочный Посол счел весьма существенным достижением); обменялись оружием - он всучил партнеру кольт образца 1911 года и получил взамен смахивавший на мундштук блестящий предмет. И вот выясняется, что регулянская делегация прятала дубину за пазухой. Очередной рабочий день незаметно перешел в вечер, и он уже собрался было поздравить партнера с успешным завершением начальной стадии переговоров, но... "Господин Полномочный Посол, - забегали по монитору транслэйтера яркие строчки, - делегация Регула считает необходимым подчеркнуть, что все достигнутые ранее договоренности потеряют силу, если принципиальный вопрос о невинных жертвах, отмщение за которых предусмотрено священными традициями нашей расы, не получит справедливого разрешения. Абсолютно невозможно убедить Славную Плеяду, да и весь Регул в том, что печальный факт неспровоцированной агрессии со стороны ваших летчиков возможно проигнорировать во имя неких высших интересов. Далее: нами установлено, что на борту вашего судна, в нарушение ранее согласованной процедуры, кроме официального посланника федерального правительства находится еще один человек, а именно летчик по фамилии Браун, принимавший непосредственное участие в разбойном нападении на мирную регулянскую колонию. Совершенно очевидно, что гарантии личной безопасности распространяться на него никак не могут. Преступник должен понести определяемое нашим судом заслуженное наказание за свои злодеяния. Поэтому Правительство и Народ Регула настоятельно требуют его немедленной выдачи компетентным регулянским властям. Сообщаю вам также, что в случае отрицательного ответа, меня уполномочили прервать с вами всякие сношения. Вне всяких сомнений, господин Полномочный Посол должным образом оценит добрую волю регулянской делегации, которая воздержалась от постановки данного вопроса перед господином Полномочным Послом в начале переговоров с единственной целью: облегчить их проведение. Но теперь, когда первые осязаемые результаты нашей встречи налицо, и позволяют нам с надеждой смотреть в будущее, делегация Регула не может более оттягивать рассмотрение указанного вопроса и вынуждена внести его в текущую повестку. Полагаем, что для определения своей позиции господину Полномочному Послу вполне достаточно двадцати четырех часов". Полномочный Посол в сердцах даже выключил транслэйтер. Не то чтобы он растерялся; он ожидал, конечно, что каверзный вопрос о летчиках рано или поздно всплывет на поверхность, но все же оказался неподготовленным к тому, что регулянская делегация поставит его в столь жесткой форме. Они, эти презренные твари, убаюкали его сладкими речами, а он, старый болван, клюнул на их приманку как неопытный юнец. Наконец, после продолжительного невеселого раздумья, он включил транслэйтер и продиктовал роботу-секретарю: "Протестую против столь односторонней постановки данного вопроса и считаю, что упрощенный, прямолинейный подход к этой сложной проблеме серьезно затруднит работу наших делегаций. Руководителям Регула следовало бы учесть то обстоятельство, что наши летчики встретились с принципиально новым явлением, и именно это обстоятельство, а не какая-то злая воля, определило их практические действия. Ничего не могло быть им известно и о мирном характере вашей колонии. Совсем наоборот, у летчиков были все основания полагать, что они столкнулись с игрой грозных природных сил, а не с проявлением разумной деятельности иной земной цивилизации". Экран продолжал настаивать на своем: "Все ваши доводы не имеют ни малейшего значения. Ваш упрямый отказ признать реальность и сделать из нее надлежащие выводы, надолго прервет сношения между нашими цивилизациями, и, возможно, в недалекой будущем приведет к конфликту планетарного масштаба. С учетом того, что за последнее время между нами сложились добрые отношения, я самым конфиденциальным образом готов обратить внимание Вашего Превосходительства на истинное существо дела: если Плеяда пойдет в данном вопросе хотя бы на подобие компромисса, она испытает на себе все последствия взрыва народного негодования, и не считаться с этим фактором она просто не может. Ваше упорное нежелание признать принцип "клешня - за клешню, жертва - за жертву" основополагающим, и, тем самым, представить человечество в наилучшем свете перед регулянской общественностью, возложит на вас лично тяжелую ответственность за срыв переговоров, которые обещают быть весьма плодотворными". В ответ Полномочный Посол пробормотал, что обязан снестись со своим правительством и предложил прервать заседание. На катер он вернулся преисполненный самых тяжких дум и сомнении...
...Птороакр испытывал сильнейшее недомогание. К сухости во рту и ряби в сейсмах, этим обычным симптомам высотной болезни, добавились нервическое подергивание клешней и непроизвольное выделение коричневого секрета из ядоносных желез - признаки начинающегося вегетативного невроза. Слишком многое было поставлено на карту. Слишком многое зависело от того, каким будет ответ его партнера по переговорам. Он, Птороакр, все сделал для того, чтобы загнать господина Полномочного Посла в тщательно замаскированную ловушку. Обеспечил переговорам режим наибольшего благоприятствования, переборол искус создания малосущественных дополнительных подковырок, согласился на обмен образцами оружия - всучил посланнику гравивсасыватель устаревшей конструкции, и все ради того, чтобы заполучить этого типа - пилота-убийцу. Наблюдавшая за продвижением человеческого посланника вверх по Амазонке разведка, своевременно донесла в Центр Связи о том, что бежавшему в джунгли пилоту-убийце удалось добраться до посолького катера и в настоящий момент скрывается на его борту. Как только Птороакру доложили об этом, он сразу понял: это и есть его шанс реабилитировать себя. Если ему удастся вытребовать у Полномочного Посла незадачливого господина Брауна (фамилий пилотов стали известны регулянам еще из ранних радиоперехватов), и, что самое главное, сделать это таким манером, чтобы переговоры, в успешном ходе которых Славная Плеяда весьма заинтересована, не сорвались, то Лучшие и Разумнейшие останутся довольны его деятельностью на Поверхности. Тогда ему не будут страшны ни мерзавец Латург, ни Великий Патриотический Фонд. Более того, в знак особой признательности его, вполне возможно, удостоят высшей чести - на три года освободят от участия в Ежегодных Турнирах-Праздниках, и он доведет до конца важнейшее дело всей своей жизни: добьется того, что его коллекция пахучих магматических стеблей станет самой полной в подземном мире, - а ведь в ней пока не собрано и половины всех запахов! Пригрозив Полномочному Послу срывом переговоров, он пошел на очень большой риск. Если он проиграет и вернется ни с чем, то Великий Патриотический Фонд довольно скоро раскроет ему свои объятия. Никакие прошлые заслугы, никакие ранги отличия, никакие награды не будут приняты во внимание, его коллекция пахучих стеблей пойдет с молотка и, возможно, достанется этому мерзавцу Латургу. Правда, дешифраторам из Центра Связи пока не удалось разгадать код посольских радиограмм, но по его указанию разведка постоянно прослушивает эфир, пытаясь установить хотя бы факт вызова посланником своего правительства. Но вызова нет до сих пор. Значит ли это, что Полномочный Посол колеблется, рассчитывает варианты, взвешивает проценты и по каким-то причинам не спешит ставить свое правительство в известность о его, Птороакра, дерзком требовании? Видимо, да - означает. Птороакр не сомневается в том, что правительственный ответ на посольский запрос может быть только отрицательным - ведь окруженного доверенными советниками Председателя взять на пушку не так-то легко. Но блефуя Птороакр ставит на честолюбие посланника, на то, что тот вовсе не горит желанием делить свои дипломатические достижения с какими то безвестными или известными чиновниками и сановниками. Птороакр опытный политик, цена тщеславия ему хорошо известна. При значительных ставках судьба лишних пауков обычно не берется в расчет, лишних людей, надо полагать, тоже. И вот - эфир пока спокоен. Надо собрать нервы в клешню и ждать. Ждать. Чем дольше будет размышлять Полномочный Посол, тем больше шансов на то, что мелкое, по сути дела, требование регулянской делегации будет принято во имя... ну, во имя мира на Земле, например. Только бы перебороть это ненавистное подергивание левых клешней, только бы выкрутиться...
...Полномочный Посол полулежал в придвинутом к иллюминатору гибком кресле и думал, пытаясь разобраться во всех нюансах внезапно осложнившейся обстановки. Браун безмятежно, как и полагалось недавно оправившемуся от тяжелого стресса человеку, мирно посапывал в каютке. Луна, спелая как добрая головка коровьего сыра, повиснув над голыми и неожиданно сухими берегами тихой речной заводи, насмешливо подсматривала за ними, там, вдали, начинались джунгли, такие родные и близкие, а еще дальше... Дальше кипела жизнь, солнечный свет водопадом заливал знаменитые пляжи, на которых загорали великолепные в своей еле прикрытой наготе полногрудые мулатки, катили по авенидам роскошные автомобили, а здесь... Здесь только голая, будто выжженная земля, а могучей земной реке в этих местах, пожалуй, больше нечего делать: через год эти заводи будет превращены в отличное, достойное этих тварей болото. А еще легкий катерок, да двое слабых человечков на этом катерке. Совсем рядом, в наспех сооруженных из непонятного, похожего на мокрую глину, материала грибовидных строениях и гигантских червеобразных норах, прячутся подземные пауки - чудища, выползшие из невесть каких глубин. Навалились, дьявольские отродья, всей тяжестью на посольские плечи, нелегкая их принесла!
Так думал Полномочный Посол, рассеянно прислушиваясь к сопению ничего не подозревавшего, уставшего и издерганного бедняги, и ему пуще прежнего захотелось бросить все к черту и уехать домой. Только вот неизвестно, дадут ли ему уехать, и даже если дадут - имеет ли он право вот так все взять и бросить на полдороге. Еще сегодня утром он восхищался собой, собственным .дипломатическим талантом. Он уже представил свое имя навечно вписанным золотыми буквами в скрижали человеческой истории, - и нате! Из-за этого дурака Брауна важнейшие, эпохальные переговоры находятся под угрозой срыва, да и его - Полномочного Посла - будущность тоже поставлена под вопрос. Ну почему-же этот болван очутился на берегу себе на погибель как раз тогда, когда мимо проплывал правительственный катер? А теперь изволь тревожить ради него самого Председателя, да еще и взваливать на себя всю ответственность за возможную неудачу. Не Председателю же, в самом деле, расплачиваться за ошибки своего посланника. О таком не стоит и мечтать, ведь у Председателя под рукой находится согласный на все козел отпущения - господин Полномочный Посол. И ведь что особенно обидно: результаты - обнадеживающие, весомые, значительные, - на переговорах уже достигнуты. Хоть завтра скрепляй протокол печатью. Но если он сейчас запросит Председателя, то все может рухнуть. Парламент, пресса, общественное мнение, переполненные оружием арсеналы, тупая самоуверенность соаетников, забота о сохранении собственного престижа, мало ли что еще, лишат Председателя возможности пойти на требуемую уступку. И тот, недолго думая, ответит на запрос приблизительно так: "Условие противника неприемлемо, пилота Брауна ни при каких обстоятельствах не выдавать". Переговоры моментально полетят к чертям и Полномочному Послу придется отправлятся обратно восвояси, да и то если он не послужит своему недавнему партнеру завтраком - удобнейший, кстати говоря, возникнет для объявления войны предлог. Но если ему повезет, и он выберется из джунглей целым и невредимым, то гордиться ему все равно будет нечем. Что ж, он не таясь отрапортует Председателю о полном провале своей миссии. А напоследок, распустив павлином хвост, произнесет парочку сакраменталышх фраз, что-нибудь вроде: "хотите мира - ждите войны". И вручит кому следует заявление об отставке. И поставит на себе крест.
Впрочем, если быть предельно объективным, есть вещи поважнее, чем его личный успех или неуспех, поважнее, чем его карьера. Например, безоблачное будущее человечества. В чем, в конце концов, великий и высший смысл его профессии? Не в том ли, чтобы платить дешевле сегодня, чем дороже завтра? И разве его деятельность во время кашмирского кризиса не лучшее тому подтверждение? Там ведь тоже, после того как мятежники утихомирились, полетели головы с плеч, там ведь тоже эмиссарам Объединенного Совета пришлось основательно зачистить местность разнообразными экзекуциями. Но ведь худшее: бомбардировки с воздуха, применение химических гранат против окопавшихся в неприступных горных селениях фанатиков, применение массовых репрессий, удалось предотвратить. А разве сегодня он не столкнулся с аналогичной ситуацией? Сегодняшняя цена - Браун, завтрашняя - война с Регулом. Что дороже? И кто возместит расходы, если сегодня он стушуется и не выполнит своего долга? Только вот примешивать к этому чрезвычайно щекотливому вопросу Председателя и Объединенный Совет по меньшей мере неразумно...
...Говорят, недавно учеными созданы новые эффективные средства против вегетативного невроза. Надо будет попробовать, иначе можно не дожить даже до Турнира-Праздника. Больных неизлечимой формой невроза Медицинская Служба немедленно отправляет в Великий Патриотический Фонд. Невзирая на личность и должностной ценз. Запускать недуг никак нельзя. Впрочем, может это оттого, что сегодня такой день... Решающий день. Есть от чего подскочить давлению. Эфир все молчит, из приемников доносятся только шорохи да потрескивания, господин Полномочный Посол до сих пор не вышел на правительственную связь, а летчик, которого Птороакр так стремится заполучить, спокойно дрыхнет в своей каюте. Значит, Полномочный Посол ничего тому не сказал. Вообще-то летчика можно было бы захватить и силой, но как бы он это потом объяснил Славной Плеяде? Нет, применение силы в данном случае было бы для него губительно. Приходится терпеливо ждать. Ждать и анализировать. Допустим, что после зрелого размышления посланник даст положительный ответ, но, разумеется, оговорит его некоторыми условиями. Какими? Например, он может потребовать от него прочных гарантии неразглашения. С его стороны такое требование выглядело бы вполне логичным. И какие же гарантии в силах ему Птороакр предоставить? Обещать Полномочному Послу неразглашение всей этой истории федеральному правительству? Но, во-первых, он не может предвидеть решение Плеяды по этому вопросу, а, во-вторых, захочет ли посол ставить себя в положение человека, которого можно будет шантажировать, и, следовательно, завербовать? Наверное, не захочет. Нет, пожалуй, лучшей гарантией является общность их интересов, и об этом следует заявить открытым текстом. В конце концов, главным фактором является то, что живым Брауна никто, кроме самого посла, не видел, и того, очевидно, считают погибшим. Наоборот, неожиданное воскрешение летчика из мертвых произвело бы ненужную сенсацию с труднопредсказуемыми последствиями. Вдобавок, партнер Птороакра по переговорам должен хорошо осознать, что даже в случае выдачи им Брауна, правительство Регула будет бессильно дискредитировать посла в глазах его соотечественников. Даже хорошо сохранившийся труп пилота-убийцы не мог бы служить веским доказательством нечистой сделки, ибо он мог быть захвачен регулянами непосредственно на месте катастрофы самолета еще до прибытия господина Полномочного Посла в данный географический регион. Равно как и демонстрация живого пленника по земному телевидению, или трансляция по радио его обличительной речи. В любом из перечисленных вариантов господин Полномочный Посол с полным основанием будет вправе объявить инициаторов подобных спектаклей провокаторами и садистами, и никто на свете, по крайней мере в юридическом аспекте, не сможет его опровергнуть. Но до этого не дойдет, незачем. И потом: должна же быть какая-то доля чисто делового риска, непременно сопутствующая высокой миссии профессионального дипломата! Такая логика может прозвучать для Полномочного Посла достаточно убедительно. Но это - в случее его положительного ответа...
...Да, да, да, черт возьми, да! Ему следует немедля дать положительный ответ регулянской делегации. И не впутывать в это дело Председателя и его министров, у них и без того хватает проблем. Он должен взять на себя всю ответственность, смело разрубить узел. Пусть только бедняга Браун не подумает, что ему легко дается такое решение. Но сейчас он в ответе за все человечество, и... Не его же вина, в самом деле, что несчастный пилот попал в такой переплет. Браун, конечно, не виноват. Не вина это его, а беда. Сердце Полномочного Посла разрывается от жалости к летчику. Полномочный Посол не будет, - потому что не может, - непосредственно присутствовать при акте выдачи, он сойдет на берег и предоставит этим грязным тварям полную свободу рук, то есть клешней, - чему бывать, того не миновать. И то ведь правда, что на месте Реджи мог оказаться и он сам - Его Превосходительство Полномочный Посол. Разве он не рисковал жизнью направляясь сюда, на встречу с этими отвратительными чудищами. Конечно, он еще потолкует с главой регулянской делегации о соблюдении секретности, выторгует кое-какие мелкие преимущества, попытается оттянуть неизбежное - но дело вовсе не в секретности. Полномочный Посол является единственным свидетелем чудесного спасения Брауна, и никто, включая правительство Регула, не в силах будет доказать его причастность к повторному исчезновению пилота. Главная опасность не в этом: главная опасность - глаза Брауна. Быстрей, быстрей, на берег, вон отсюда! Ну да что поделаешь, результаты первой фазы контакта выгодны для человечества, и он - Его Превосходительство Полномочный Посол - призван закрепить дипломатические достижения любой ценой. Да, именно так - любой ценой. Даже ценой жизни; своей или Брауна. Выпало Брауну. Завтра утром он объявит регулянам о своем окончательном решении. Он сделал все, что мог. И бог ему судья...
X X X
...Шампанского?
- Изволь. Для вкуса. Я слишком стара для того, чтобы пить шампанское, но сегодня позволю себе немного.
- Не наговаривай на себя. Ты в прекрасной форме. Нынешней молодежи дашь сто очков вперед.
- Мне сорок шесть, и от этой истины некуда уйти.
- Всего сорок шесть. Это возраст расцвета. Личности и красоты. Это нам, мужчинам, поздно начинать заново в такие годы. Прединфарктное время. Слишком много забот.
- Даже на твоей работе?
- На моей прежде всего. Не хочу выглядеть плаксой, но ты не представляешь, какая это нервотрепка. В молодости я готовил себя к чему-то совсем другому.
- Ты жалеешь себя?
- Иногда. Позволь, я все-таки наполню тебе бокал. Этот ресторанчик я открыл совсем недавно. Я не большой любитель ресторанов, но...
- Здесь очень мило. Особенно эти зеркала... Я знаю, что ты не ходишь в рестораны. Ты столуешься в кремлевской столовой. У вас там цены двадцатых годов.
- Откуда ты знаешь, какие там цены? Ты ведь не столуешься в кремлевской столовой. Так и быть, открою тебе государственную тайну. Там цены сороковых. Впрочем, ты права. Мне не полагается шататься по ресторанам. Но я шалун. К тому же мне полагается охрана.
- Ого, значит нас здесь охраняют? Я-то думала, что здесь мило, а за мной, оказываются, по пятам следуют соглядатаи. Нечего сказать, удружил!
- Не беспокойся. Этим роботам твоя персона абсолютно безразлична. Как я жалею их за это!
- А ты знаешь, я могу возгордиться. Меня пока никто ни от кого не охранял. Только в детстве. Самым горячим защитником моей чести был брат. Младший. Тот, который не утонул. Один раз из-за меня он поколотил сильного и рослого парня. Просто за то, что тот увязался за мной с автобусной остановки. Как это смешно сейчас, правда? А потом моим защитником всегда был Антон. Антон, которого ты так не любишь, скорей, недолюбливаешь.
- Твой муж? Ты неправа, я просто равнодушен к нему. А раньше, до того как он увел тебя у меня из-под носа, я его очень любил. Несмотря на то, что у нас случались серьезные размолвки.
- Размолвки? Какие же?
- Мало ли что происходит в юности. Всего и не упомнишь. Впрочем, это неважно. Важно то, что ты его любишь, верно?
- Я замужем уже восемнадцатый... нет, девятнадцатый год, и я привыкла к нему. Ну и дети, конечно... У него много отличных качеств. Я всегда чувствовала себя за ним как за каменной стеной. Раньше, когда выходила замуж, я была в него влюблена. Правда-правда. Или увлечена им... Не знаю, как правильнее высказать, да и не все ли равно? Ты совсем не ухаживал за мной. Ты боялся меня, я понимаю. Ну а он как раз умел ухаживать за женщиной, - этого у него отнять нельзя.
- Носил цветы? Водил в театры? И все такое прочее?
- И все такое прочее. Мне надо объяснять как это важно?
- Не надо, Я всегда поступал точно так же, если не любил женщину, которую охмурял. И нередко достигал желаемого.
- Наверное не совсем так же. Это были не просто цветы и театры. Это были настоящие букеты, замысловатые фигуры из гвоздик, роз и тюльпанов, много-много цветов, и это были не просто театры. Для того, чтобы достать билет на спектакль, следовало здорово потрудиться. Но ты ведь не думаешь, что он купил меня за букеты и билеты, хотя и то, и другое стоило по тем временам недешево. Меня радовало отношение к себе.
- Я могу подумать, что он перехитрил тебя. Но если это и была купля-продажа, то, наверное, самая приемлемая ее форма. По-моему, ты не из тех, кто живут по расчету. Хотя кое-что и могло навести меня на такую мысль. Я имею в виду и Антона, и еще некоторых. Тогда они считались выгодной партией. Но, насколько мне дано судить, куда больше общественного статуса их родителей, тебе нравились их раскованность, умение подать себя, обаяние, даже телосложение. Но ты была так молода тогда.
- Каких некоторых? Но ведь никто, ничего, никогда...
- Неважно. Тебя выдавали глаза. Заинтересованные люди много видят, а я был из заинтересованных. Но неважно. Важно, что ты была тогда совсем девчонка.
- Ты намекаешь на то, что потом я стала хуже?
- Нет. Просто время меняет всех нас. Мы становимся рассудительнее и с возрастом проще смотрим на многие вещи. Кстати, как поживает твоя сестра? Помнишь, ты как-то познакомила нас.
- Неплохо. Нянчит детей, как и я. Если наших великовозрастных оболтусов можно назвать детьми. Ну а как твоя семейная жизнь?
- Течет, как степенная полноводная река. Волга впадает в Каспийское море. Эта поговорка была в ходу много лет назад, когда я еще только собирался защищать кандидатскую. Говорили, что если хочешь умаслить Ученый Совет, диссертация должна быть как "Волга впадает в Каспийское море".
- А твои дети?
- Дети как дети. Уже довольно взрослые. Ни жене, ни детям должного внимания я не уделяю, такая уж у меня служба. И они это чувствуют. Ничего не поделаешь, так уж сложилась жизнь.
- А твоя мать?
- Ей далеко за восемьдесят. Она живет с нами и за ней ухаживает служанка, которой мы платим немалые деньги. Сама понимаешь, старый человек нуждается в особом уходе. Сказать по правде, маме не хотелось переезжать сюда, вМоскву, но другого выхода не было. Ничего, привыкла. Как пошли внучата, привыкла.
- Веселая, видно, у тебя жизнь. И тебе твоя работа нравится?
- Да как тебе сказать. Я же сказал, что в молодости все представлял себе несколько иначе. Мнил из себя черт знает кого. Все намного обыденнее и скучнее, чем казалось с дальнего расстояния. Но понимание этого тоже приходит с годами. В юности я готов был взорвать все, что казалось несправедливым. Потом пообтесался малость. Дай-ка переложу тебе салатик оливье. Вот тэк-с, пальчики оближешь! Эх, человек должен жить лет двадцать пять-тридцать, не больше. Пока у него сохраняются иллюзии. А потом... потом, чао бамбино.
- А у тебя, значит, не сохранились. Я помню, когда-то ты сильно ругался по поводу всяких льгот и привилегий. А сейчас у тебя уже нет иллюзий и, поэтому, ты вовсю пользуешься льготами и привилегиями, так?
- В общих чертах именно так. Я... Мне неприятно пользоваться ими, но я бессилен изменить что-либо. Лучше бы уж таким как я увеличили зарплату, - смешно члену правительства сидеть на каких-то семистах рублях в месяц, - но лишили льгот. Я обеими руками за это, но меня и слушать никто не станет. Систему подачек невозможно отменить. И потом: социально это не называют подачками, льготы нам положены за наш самоотверженный и ответственный труд на ниве гражданского благоденствия, понятно? А ларчик на самом деле открывается очень просто. Хорошего - мало. Просто элементарно мало. На всех не хватает. Хочешь-не хочешь, а приходится как-то выделять людей из общей массы.
- И ты еще недоволен? Тебя-то выделили.
- Да, выделили. Но в молодости, поверь, я боролся не за это. Поверь, не ради черной икры и баварского пива... Тогда все имело другую цену - слово, вещи, все. Вкусно, правда? Для тебя я заказал стерлядь, но если тебе не понравится, мы переменим заказ. Но думаю, ты останешься довольна.
- И за что же ты боролся?
- В двух словах этого не объяснишь. А в десяти... в десяти слишком длинно. Заскучаешь. В общем, я хотел, чтобы все было чище. Но я не был бескорыстен, отнюдь. Мне хотелось, чтобы на меня указывали пальцем, - это вот он, мол, затеял большую стирку. Я был тогда не таким смирным. Сейчас меня хоть на доску почета вешай, а тогда я был активным малым. Выбивал страждущим квартиры, вступал в расчетливые политические союзы, лицедействовал, случалось летал за тобой в Москву, иногда напивался до чертиков, любил жить.
- Скажи, ты разочаровался в жизни или в себе?
- М-м-м. Трудный вопрос. Наверное, немножко и в том, и в этом. Но жизнь не виновата, это-то я способен понять. Виновны я, и еще, пожалуй, время. Ни с собой, ни с временем я, конечно, ничего поделать не могу. Весь мой оптимизм, как оказалось, не имел под собой достаточно прочного основания. То ли дело - твоя работа. Все - культурно, все - чисто, все - для людей. Ну это я в принципе, конечно...
- И все же мне не ясно, чего же ты ожидал.
- Это нелегко передать словами. Ты можешь высмеять меня, или даже заподозрить в мании величия, и все потому, что мои юные чувства трудно выразить адекватно. Кто-то из великих сказал: мысль высказанная есть ложь. Как верно сказано! Чего я ждал? К чему готовил себя? Только не к кропотливой бумажной работе. Сейчас-то мне наверняка многие завидуют - ясно почему. В мои-то годы получить назначение на такую должность, ну это весьма приятно и лестно, не спорю. Но настоящей власти у меня на самом деле не так уж много, и уж во всяком случае совершенно недостаточно для того, чтобы говорить вслух о том, о чем принято умалчивать, - знаешь, сколько надо мной людей. Да и рядышком хватает. Хожу все время с оглядкой, боюсь оступиться, осторожничаю, превратился в паркетного администратора. Ну это от долгой работы в МИД-е. Из меня сделали дипломата. Или я сам его из себя сделал, вылепил собственноручно. Иногда думаю, что не следовало бросать науку... Позволь предложить тост. Пью за тебя, за твое здоровье, за то, чтобы все было хорошо. До сих пор не верится, что мы с тобой в ресторане, один на один... Гм, чего же я хотел? Славы, славы с большой буквы. Чтоб море людей, и все меня слушают, а потом шумят, спорят и расходятся по домам, а мои слова не дают им покоя Чтоб обрывали телефон и закидывали письмами. Я честолюбивым был тогда, дико честолюбивым, до неприличия, до тшеславия. Если б мог тогда предвидеть, что дослужусь до большого начальника, и это мой потолок, то удавился бы. Но успокоили, рано успокоили. Не надо было меня сюда, в Москву, перетаскивать. Вообще ничего не надо было мне давать, может тогда и совершил бы я в жизни что-то путное. Написал бы хорошую книгу, сохранил бы моральный авторитет - тот, которым обладал еще в горсовете, ну да ты об этом, наверное, и не слышала, украл бы тебя у мужа, пустился бы в кругосветное плавание на ялике или в путешествие на воздушном шаре. Во всяком случае, то была бы настоящая жизнь.
- А твоя, значит, ненастоящая?
- Моя жизнь - призрак. Но я это не от жалости к себе. Или к тебе... Ох, как она глядится со стороны! Кем я только не перебывал. Заместителем министра, потом первым заместителем, с прошлого года меня сделали вице-премьером и, вдобавок, кандидатом в Политбюро. Но это потолок. Я уже пустой, из меня весь воздух... Ни сил, ни воли. У меня узкая специальность - внешняя политика. Я типичный советник очень высокого ранга. А со стороны это выглядит великолепно - всякие там загранкомандировки на государственных харчах, рауты с вареными президентами на закуску, переговоры, визиты, приемы, взвешенные на аптекарских весах остроты. Поверь, это утомляет. Работа хорошо вышколенных чиновников, и только. А я... Море людей! Позволь, я подолью тебе шампанского. И вообще, за то, что мы здесь, за твое счастье.
- Спасибо. Значит, ты думаешь, что оставшись в Тбилиси написал бы хорошую книгу, или...
- Написал бы. Во всяком случае, постарался бы написать. У меня даже задумка была такая. И знаешь, кто меня предостерег? Писатель! Ты не знала, что мы были знакомы? Антон не рассказывал?
- Впервые об этом слышу.
- О, в последний год его жизни мы были накоротке. И часто разговаривали. Как-то раз будучи у него в гостях, - вечер, помню, стоял туманный и мрачный, -я заикнулся на эту тему. Так, вскользь, мол, к перу иногда тянет, но он понял. Он вообще был очень замечательный человек, ему не надо было долго объяснять... И знаешь, что он мне сказал?
- Понятия не имею. Откуда? А ты-то совсем не ешь.
- Ничего, успею. А он мне сказал так: "Нету на свете более дьявольского и неблагодарного труда, чем писательский труд. Во-первых, никогда не уверен в том, что ты родил: произведение искусства или муть черную. Ну ладно, написал. Поставил последнюю точку. Перечитал заново. Отредактировал. Откорректировал. Провел сквозь самоцензуру. Год, а то и два, позади. А во-вторых, представь, что весь мир состоит из сплошных врагов".
- Из сплошных врагов? Так и сказал?
- Так и срубил. И еще сказал, я чуть-ли не наизусть помню, видишь ли, память у меня профессиональная: "И ты отдаешь свое детище, в котором ты и сам-то не уверен, на растерзание своим врагам. А те раздевают твое дитя, твое слабое, неокрепшее дитя, на морозе. С таким удовольствием разворачивают пеленки, благо сами бы умели рожать. И друзья - враги, и родные - враги, а редактора и всякие там из Главлита - волчья стая. Одним одно не нравится, другим - другое, третьи - вообще обкорнать все норовят, дай им только волю. И друзья твои на тебя косо посматривают: в персонаже-то каждый себя узнает, потому что узнать хочет, а персонажей этих - раз-два и обчелся. Вот и доказывай потом: милые мои, родимые, вы не имеете к дурным качествам такого-то героя ни малейшего отношения, совпадение это случайное, кажущееся - не поверят! Хоть умри - не поверят! Да и сам-то ты себе не до конца веришь. Потом, еще через годик-другой, книга на конец появляется на прилавках, иногда ее даже охотно покупают. Но ты ее перечитываешь и понимаешь: главного ты в ней так и не сказал, и, вдобавок, очень трудно понять, зачем ты ее вообще написал. Три-четыре года жизни - коту под хвост. И это - в лучшем случае. Нет, я никому из своих друзей писать не советовал бы".
- И ты думаешь, все это он говорил всерьез?
- Н-не уверен. Тогда был уверен, а теперь не очень. Видишь ли, Писатель строил обширные планы на будущее, и кое-какая роль в них отводилась мне. Если хочешь знать, без Писателя я бы ничего не достиг. Но об этом очень мало кому известно.
- Вот как? Ты меня и вправду заинтриговал. Иноересно, чем это ты ему так приглянулся? Ведь ты, кажется, был очень далек от мира искусства. А стихов даже мне не писал.
- Еще как далек. Но дело в том, что в конце жизни Писатель отошел от него еще дальше, чем я. Его занимали совсем иные мысли. Как раз те, что терзали меня в юности куда сильнее, чем сегодня, и, наверное, совсем не будут тревожить меня в его возрасте, если мне бужет суждено... Как принести своей родине наибольшую возможную пользу? В чем смысл жизни? Чем отличаются люди от животных? Что сильнее: жизнь или смерть? Добро или зло? Как обмануть время? - и все в таком же духе. Он пришел к заключению, что Грузии не хватает деятеля, общественного деятеля по типу Ильи Чавчавадзе и, не смейся только, попытался определить на эту роль меня. Вот об этом-то никто до сих пор не знает. Знали мы двое, и вот ты сейчас - третья. Ну и оказалось, что попытка эта - с негодными средствами.
- А почему именно тебя?
- Он был в жестоком цейтноте и понимал это. Жить ему оставалось недолго, а своим детям и внукам он уже не доверял. Ну не верилось ему, что кто-нибудь из его прямых наследников способен выхватить, так сказать, знамя из его слабеющих рук. Поэтому он спешил. И тут ему - к счастью ли, к несчастью ли, - подвернулся я. Но к счастью для меня - так мне долго казалось. Почему он остановил выбор на мне? Во-первых, я был молод и, по мнению Писателя, еще неиспорчен; во-вторых, он опирался на кое-какую обнадеживавшую его информацию; и в третьих, надо признать, я неплохо ему подыгрывал, что называется, втерся в доверие. Писатель был могущественным человеком, он сделал меня депутатом Верховного Совета Грузии, но, кажется, в глубине души он все-таки начал понимать, что его надеждам не суждено сбыться. Вскоре он скончался при обстоятельствах о которых не хочется вспоминать, но его вмешательство породило инерцию, повлекшую меня наверх. Вот какое мощнейшее придал он мне ускорение... А вот и наша стерлядь!
- Уй, как вкусно! А ты взаправду мог бы украсть меня у мужа?
- Если б ты знала, как часто мечтал я об этом. Но ведь мечтать и мочь - разные вещи, не так ли? И все же: до переезда сюда, наверно, смог бы, но это зависело бы и от тебя. Таким как я, нужен вещий знак.
- Ну так тоже нельзя. Почем тебе знать, может я и подала бы его тебе.
- Хитросплетения слов. Скажи-ка мне лучше, счастлива ли ты?
- А что такое счастье? То - о чем не ведает никто. Иногда мне кажется, что я счастлива. У меня есть для этого все, или почти все. Мы не бедствуем, да ты же знаешь! Все как у людей - квартира, машина, нормальная работа. И мой муж, хоть ты его и недолюбливаешь - все же порядочный человек. И он хорошо заботится о мальчиках.
- Прости за нескромность, но квартира и машина, этим-то он наверное обязан тебе?
- Прости за нескромность, но я не привыкла считать деньги в чужом кармане... Но если так уж хочешь знать, то знай - я тут как раз не причем. Квартира и машина - это как раз он. Или, вернее, его родители. Кроме того, Антон очень рачительный хозяйн.
- Ну ладно, извини... Я это так, к слову. Но ты сказала: иногда счастлива. Иногда, следовательно, ты не считаешь себя избранницей судьбы. Налить тебе соку?
- Да, пожалуйста. А есть разве такие, кроме полных идиотов, что счастливы всегда? По-моему, это невозможно. Мы - обычные люди. Все без исключения. Помнишь, когда-то, давным-давно, еще когда ты сходил по мне с ума, ты пытался убедить меня в том, что все люди одинаковы?
- Нечто подобное я действительно припоминаю.
- Ну вот. Ты доказывал, что людьми правят стремление к материальным благам и сексуальный инстинкт. И еще мощное чувство социального престижа. А я заспорила с тобой, сказав тебе, что люди все разные и ты ошибаешься.
- Ну и что?
- А то, что теперь я с тобой согласна. Ты доволен? Все люди одинаковы. Так и было - во все времена.
- Но сейчас я вовсе так не думаю. Наш официант и, скажем, Франц Кафка, очевидно должны сильно отличаться друг от друга. А я чем-то отличаюсь от Антона. А Антон от моего начальника. И так далее.
- Тогда я тоже ответила тебе в этом духе. Ну а ты сказал, что различия носят второстепенный характер. И еще ты говорил, что когда болит, то у всех болит одинаково. А сейчас, выходит, ты думаешь иначе. Почему же ты переменил свою точку зрения? Разве она тебя не устраивала?
- Ничего я не переменил, я просто лгал тебе, лгал безбожно. Я помню тот разговор. Не так уж часто беседовали мы друг с другом, чтобы я мог его начисто стереть из памяти. Я твердил тебе о людской одинаковости только потому, что хотел сбить с тебя спесь. Ты ведь посматривала на таких как я свысока, причисляла себя к высшему сословию. Не каждый бы заметил, но я заметил. Иногда, в минуты слабости, я даже готов был примириться с этим, но потом я приходил в себя и становилось очевидно: сбить с тебя спесь - важнее всего. Вот такое я придавал этому значение. Все твое хваленое высшее сословие я нарекал одним именем: мелкая буржуазия. Я не люблю и никогда не любил мелких буржуа, хотя с годами, чертова жизнь, сам стал на них похож. Но ты... Ты была как яркая жемчужина на фоне серого и сытого пляжного песка, вот и все твое высшее сословие. И если хочешь знать, тогда я думал, что подсознательно ты не столько выбирала себе супруга, сколько определенный образ жизни. Конечно, это тебе не помешало, а помогло увлечься Антоном. Ты нутром признала в нем своего. А я оставался чужаком. Дело тут не в положительных и отрицательных качествах, а в социальном нюхе.
- Продолжай, продолжай. Я догадываюсь почему тебе удалось так высоко залететь. До личной охраны и всяческих льгот. Ты умеешь быть жестоким.
- Не обижайся, прошу тебя. Извини за откровенность. Я ведь не хочу тебя обидеть... Столько лет прошло. Жестока правда, а не я. Но я вовсе не уверен в своей правоте. Я... Просто мне так кажется. А прав я или нет, о том тебе судить.
- А помнишь, потом ты все-таки сказал мне: "Ты лучше всех", и я не забываю об этом. Но я уже тогда почувствовала, что ты говоришь неправду. Как могла я быть "лучше всех", если все одинаковы?
- Видишь ли, была еще одна, глубинная, причина по которой я солгал. Ревность слепила мне глаза. Я хотел дать тебе понять, что ни во что не ставлю всех твоих поклонников, а впридачу и всех тех, о которых ты, может быть, тогда мечтала. Даже если они принадлежали к высшему сословию. Невинная ложь. Это был вещий знак.
- Ах, вещий знак?
- Да, вещий знак. Это уже потом, когда у тебя с Антоном зашло слишком далеко, и я увидел, что земля уходит у меня из под ног, я написал тебе... Впрочем, я и раньше писал. Не мог сдержаться. Лучше не будем об этом.
- Давай, не будем.
- Еще шампанского?
- Еще немножко.
-Тебе нравится вид, который открывается отсюда?
- Для того, чтобы оценить его по настоящему, надо выйти на балкон.
- Если хочешь выйдем и прогуляемся.
- Нет, нет, потом. Отсюда тоже кое-что видно. Сказочная картинка. Эти плакучие ивы, и березки, и озеро там вдали... Похоже на усадьбу князей Болконских.
- А здесь на самом деле бывшая княжеская усадьба. Но, кажется не Болконских. Да и вообще, не Болконские, а Волконские. Болконских выдумал граф Толстой. Лев Николаевич.
- Было бы гораздо лучше, если бы ты не любил поправлять чужих ошибок. И почем я знаю, может быть ошибаешься именно ты.
- Возможно и ошибаюсь. А вот и наше второе. Сейчас ты поймешь что значит настоящее филе. А какой гарнир!
- Да, очень впечатляюще. А что ты заказал на десерт?
- Очаровательный торт.
- Как? Целый торт?
- Целый торт.
- И эти люди толкуют о необходимости экономить и о мелких буржуа. О боже, где на свете справедливость? Ты не боишься, что я не стану его есть?
- Не боюсь. Ведь фигурные букеты из гвоздик и тюльпанов приходились тебе по душе. Почему же ты должна отказываться от фигурного торта?
- Ладно, не буду. Только смотри: целиком мы его не одолеем, остаток я заберу с собой. Должна же я думать о детях.
- А как ты объяснишь им, откуда взялся торт? Кстати, где ты оставила своих мальчиков, в гостиничном номере?
- Я скажу им, что купила торт в галантерейной лавке, а по дороге половину съела, потому что не удержалась. И мной, широко раскрыв рот, любовалась вся улица Горького. Уж чего нибудь придумаю, не волнуйся. И что им делать в душном номере, вспомни себя в этой возрасте. Шатаются сейчас по Москве, сорванцы. Ну они уже взрослые, смогут за себя постоять, я почти не боюсь за них. Скажи, война будет?
- А-а, и ты туда же! Позволь, я закурю.
- Ты не против если, я тоже? Что за вопрос, ты же знаешь, что я курю. Изредка.
- Не знаю. Раньше ты покуривала, это я помню. А как нынче - не знаю.
- Ого, какие сигареты! Да, ты себя не обижаешь, друг мой. И зажигалка у тебя, как у заведующего продуктовой базой.
- Зачем ты хочешь меня уколоть? Поверь, это лишнее. Кстати, это вполне стандартные американские сигареты. Просто стандарт высокий. Пожалуйста.
- Спасибо. Что-то ты не отвечаешь мне про войну.
- А что я могу ответить? Зачем гадать на кофейной гуще. Я могу отвечать только за настоящее. За сегодняшний день. Пока войны не будет. Потому что выиграть ее нельзя. Силы практически равны.
- То есть я могу быть спокойна за своих детей?
- Пока да. Лет десять я тебе, пожалуй, могу гарантировать. А дальше - неизвестность. Покрыто мраком и мглой.
- А мне кажется, что войны никогда не будет. Сколько себя не помню, нам все время обещали войну. Все время говорили: вот это и это может привести к мировой войне. Я жду ее всю жизнь, а ее все нет и нет. По-моему, война - просто выдумка. Для того, чтобы держать нас в узде. Я всегда пугала моих малышей Бабой Ягой, когда они не хотели слушаться, и они пугались и начинали вести себя смирно. Они верили в Бабу Ягу. А я точно знала, что никакой Бабы Яги нет на свете. Вот и война, точь в точь как моя Баба Яга.
- К сожалению, это только поверхностное сходство, первое впечатление. Военная опасность куда реальнее Бабы Яги. Сегодня на Земле накоплены горы оружия. И если оно начнет взрываться и стрелять - добра не жди. Но я же обещал тебе десять спокойных лет. Еще поплаваешь по морям-окианам.
- Это намек, да?
- На что намек?
- Не считай меня дурачком. Я хитрая и умная. Это намек на наше путешествие по морям-окианам. Столько времени прошло, а ты никак не можешь забыть.
- Наше путешествие?
- Ну да, наше. Мое и Антона. Антон мне все рассказал. Я знаю, что ту путевку мы получили благодаря тебе.
- А вот ты о чем. Ни на что подобное я не намекал. Клянусь. Как ты могла подумать, что я стану попрекать тебя за это? Я могу быть полезным для тебя и сегодня, и завтра. Всегда. Тебе стоит только слово сказать. Тебе или Антону, ему я тоже не откажу. Поздно сводить старые счеты.
- Налей мне еще шампанского. А скажи... Антон больше ни о чем таком тебя не просил?
- Когда просил? О чем?
- О чем нибудь еще.
- Ну... Вообще-то нет, не просил.
- Что значит "вообще-то"? Ты темнишь, большой начальник. Скажи мне правду.
- Зачем я? Спроси у своего мужа сама.
- И спрошу. Тебе же хуже. Он подумает, что ты его предал. А ты ведь не хочешь, чтобы он думал о тебе, как о предателе, верно?
- Ну не хочу.
- Тогда тебе придется сказать мне правду. Зато я обещаю хранить тайну. Свято. Я еще никогда не нарушала честного слова. Даю тебе честное слово, что буду молчаливой паинькой.
- Но ты никогда не была паинькой. Да и потом: знаю я ваши женские штучки. Наобещаете с три короба, а после...
- Нет, нет, сейчас не тот случай. А ты правда не хочешь, чтобы он думал о тебе, как о предателе?
- Твоя правда. Я хотел бы этого избежать.
- Фи, какой скользкий, какой дипломатический ответ. Он, видите ли, хотел бы избежать. Чего улыбаешься? Ты не предал бы его даже ради меня?
- Ради тебя? Я... Я... Я... Не знаю. Говоря откровенно, только это одно и заставило бы меня послать твоего муженька куда подальше.
- Вот видишь. А теперь представь, что ты предаешь его ради меня. Итак, просил он тебя о чем-то еще, или нет? Неужели ты мне не веришь, - я ему ни о чем не скажу, даже не дам понять. Но мне, необходимо знать об этом. Слушай, не серди же меня!
- Ну ладно. Шут с вами! Попал как кур в ощип... В общем-то да, просил. А как ты думала, занять кресло замдиректора такого знаменитого института, как ваш Институт национальной истории, так уж и легко? Вот уж о чем никак нельзя говорить вслух. Огласка подорвет мой авторитет, а от его авторитета и вообще ничего не останется. Не то чтобы это имело какие-то серьезные последствия, но все же... Это повредило бы нам. Всем нам. И тебе тоже. Ну да, он просил помочь. И я не смог ему отказать. Если хочешь знать, не столько ради него, сколько ради тебя.
- Большое спасибо. Знаешь, я всегда подозревала, что дело тут нечисто. Что ни говори, а его назначили, можно сказать, с бухты-барахты. Взяли и назначили. Как бы я не уважала своего мужа и не желала ему добра, но подобных ему кандидатов наук в институте человек тридцать, не меньше, а выдвинули именно его. И я никак не могла объяснить себе - почему? Впрочем, я, наверное, должна сделать книксен и горячо поблагодарить тебя от имени всей нашей семьи. Правда, правда. Благодаря тебе нас уважает тбилисский бомонд.
- Что, что?
- Неужели ты не знаешь, что такое бомонд? Бомонд - это высший свет. Профессора, режиссеры, лауреаты, люди с княжескими фамилиями.
- Мне не надо объяснять, что такое бомонд. Не забывай, что я дипломат. А хороший дипломат обязан знать языки. Просто я прослушал тебя, зазевался на секунду...
- И о чем же ты подумал?
- О том, как долго ждал я сегодняшнего дня. Ведь наш первый настоящий разговор состоялся много лет назад.
- Да. Незадолго до моей свадьбы.
- Незадолго до твоей свадьбы. И месяца не прошло, как ты расписалась с Антоном. Сочеталась, так сказать, законным браком... А вот этим-то ты наверняка останешься довольна. Это совершенно особенный торт, такого ты, ручаюсь, в жизни не пробовала!
- О-о... Экселенц! Так любила восклицать моя покойная учительница немецкого, если ей что-то очень нравилось. Экселенц. Не торт, а загляденье. О, вкусно! Ты знаешь, мне кажется, что отсюда я захвачу с собой жалкие остатки.
- Ты заберешь отсюда точно такой же торт. Я сейчас распоряжусь. Думаю, что в машине он испортиться не успеет. Прокатимся с ветерком.
- А что я скажу своим?
- Что по случаю приобрела его в книжном магазине... Ну да, и месяца не прошло...
- Но ведь ты и пальцем не пошевелил для того, чтобы я изменила свое решение!
- Теперь жестокие слова говоришь уже ты. Что я мог изменить? Ты мне объявила о своем бесповоротном решении, и когда я сказал, что никогда не причиню тебе вреда, - а ведь разбивать жизнь влюбленной не в тебя женщине, - это однозначно плохо, ты крикнула: "Да, не сделаешь, надо тебя на вот столько знать...". Было так? Твои слова?
- Мои слова, но что из них вытекает? Что женщину слушать не надо. А ведь я оказалась права, ты и вправду ничего не сделал.
- И все равно, запомни: на "вот столько" знать человека нельзя. Знать на "вот столько"- означает ничего не знать. Ни о хорошем, ни о плохом. Мало ли по-каким причинам были у меня связаны руки!
- Наплевать на причины! Ты даже не попытался... Тебе главное было уйти красиво. А может я не верила в твою любовь, может думала, что у тебя какой-то расчет? Ведь ты очень расчетлив в жизни. Что ты сделал для того, чтобы я не утвердилась в своих сомнениях? Ровным счетом ничего.
- Ладно. Один я кругом виноват. Да и что ты мне доказываешь? Что, я сам не знаю, что ли? Если кто-нибудь и виноват - так это я. Сам и заплатил, кстати.
- Ты... Ты всегда хотел вылепить меня по своему образу и подобию. Ты не хотел признавать очевидного: я другой человек с другими принципами. В тебе и сейчас бурлит ущемленная гордость. Ты просто насильник, если хочешь знать.
- Да, я насильник. И будь я твоим мужем, тебе нелегко было бы утаить от меня нечто существенное. Если бы Антон и я сейчас поменялись бы местами, то мне донесли бы о том, что кое-кто прохлаждается в загороднем ресторане. А нет, так сам догадался бы, что дело неладно. Я и сам не рад. Охотно променял бы свою догадливость на доверчивость твоего супруга.
- Да, тебя нелегко было бы провести. Но все же, добрый мой тебе совет, не переоценивай себя. Неужели ты так ревнуешь свою жену?
- Честно говоря, жену я ревную меньше. Потому что люблю ее с куда меньшей силой, чем любил тебя тогда. И продолжал бы любить. Умом я понимаю, что на ваши шашни иногда следует смотреть сквозь пальцы, ведь вы ничуть не лучше нас. Умом, но не сердцем. Как-никак я коренной тбилисец, мой родной язык - грузинский, и пускай я не типичный грузин и давно сижу в Москве, но все-таки... Умом-то я прекрасно понимаю, что ревность, месть, недоверие, - чувства довольно низкой пробы.
- Даже месть?
- Месть - в первую очередь. Кому что может доказать мститель? И, главное, что он может изменить? Какую ошибку исправить? Время необратимо.
- Но неужели ты будешь молчать, если у тебя, например, украдут жену или похитят детей?
- Похитители детей всегда злодеи, а я не имел в виду уголовных преступников. Но и в этом случае последнее, решающее слово должен сказать Закон. Что же до жены... Нет, на деле я не стану молчать, во мне слишком сильна грузинская закваска, иногда я чувствую и поступаю как дикарь, теряю контроль над собой, за пределами службы, понятно. Но когда остужаюсь, способен признать себя неправым. Миром должны править милосердие и умение считаться друг с другом, а не ревность и месть. Не говоря уже о деньгах.
- Мой милый... милый, это утопия. Ты хочешь, чтобы люди отказались от гордости, ибо гордость и милосердие слишком часто несовместимы. Ибо, если любовь - высшее милосердие, то оно же и вынудит тебя отойти в сторонку, если кто-то полюбит твою жену. Но ведь тот кто-то абсолютно не посчитался с тобой. О какой же совместимости может идти речь?
- Все так. Мир слишком сложен, чтобы выразить его посредством фраз и замкнутых логических конструкции. Я сказал "должны править"...
- Вот видишь, ты и сам все понимаешь. И мы - лучший пример. Я хорошая жена Антону и никогда, хочешь верь - хочешь нет, ему не изменяла. Не изменяла физически, хотя искушение порой могло быть велико. Мало ли встречаешь интересных мужчин. Но я держалась. И все же: в эту минуту мы считаемся только друг с другом, а не с Антоном, или твоей супругой. Дома все будет иначе. Помни об этом. Только не думай, бога ради, что я такая уж... мстительница. Я способна оценить и благородство, и великодушие, но и месть иногда бывает оправданной. Всего не предусмотришь.
- Ты настоящий философ. А ведь я мог бы устроить твою карьеру, если бы ты позволила.
- Я-то может и позволила, но Антон не позволит, и будет прав. Вот тогда он получил бы право на месть,- то самое право, которого ты так хотел бы его лишить. Ах, какая вкуснятина!
- Кофе или мороженое?
- Но я уже совсем не могу есть.
- Давай прогуляемся по балкону. Полюбуемся озером, и вообще... А от мороженого лучше не отказывайся. Это совершенно особенный пломбир.
- Ну что ж, выйдем, передохнем немного. А потом... Посмотрим, может я и попробую твоего мороженого. Знаешь, о чем я мечтала всю свою жизнь? - Быть свободной от обязательств. Но так не получается...
X X X
Видит бог, я многое отдал бы за то, чтобы не дожить до сегодняшнего дня. Сегодняшнего позора.
И все-таки, - выбора нет. Слишком далеко зашло. Но об этой моей просьбе никто ничего узнать не должен. Не говоря о моих глубоко уважаемых коллегах, даже моя горячо обожаемая супруга. Преждевременная утечка информации может все испортить. Ведь я унижаюсь не столько ради себя, сколько ради нее.
С некоторых пор я почувствовал, что отношение моих коллег ко мне изменилось к худшему. Раньше я старался не придавать внимания всяческим сплетням, - гадливые разговорчики в курилках и на лестничных пролетах редко обходятся без многозначительных недомолвок и завистливого шипения. Но всему есть свой предел. Пора поставить зарвавшихся завистников на место.
Я долго терпел. В конце концов, когда какой-то подлец, ноль, круг от бублика, распространяет про тебя грязные сплетни, до поры до времени позволительно не замечать подлеца, показывать всем, что не желаешь связываться с ничтожеством, ибо ставишь себя неизмеримо выше его в нравственном отношении - и все тут! Но когда против тебя начинают плести интриги, когда тебе собираются нанести удар в спину, когда организатором направленной против тебя кампании является такой авторитетный, не будем о качестве авторитета, ученый муж как Батуашвили, когда Батуашвили и его придворная камарилья готовы отнять у тебя плоды твоего труда, когда тебя выбивают из колеи, - то не бороться уже нельзя. Спасибо еще, что недруги Батуашвили вовремя открыли мне глаза.
К сожалению, Батуашвили и его соратники не знают, каким образом я очутился в кресле замдиректора. Знали бы, поубавили прыть. Но что поделаешь, если Он тогда настоял на своем, и потому мне, также как и бывшему директору института, приходится держать язык за зубами. Он хотел во что бы то ни стало избежать огласки, да и мне она тогда казалась излишней. Но вот, пришла пора и директора отправили на заслуженный отдых, я же моментально оказался без надежного прикрытия. Теперь мои враги искренне полагают, что им легко удастся разделаться со мной; я их, видите ли, уже не устраиваю. Будто бы из-за того, что до сих пор не представил докторскую к защите, в действительности же потому, что провожу линию прежнего директора, чем поневоле ущемляю авторитет директора нынешнего. Они хотят посадить на мое место этого сервильного кретина Ласаридзе (стыд и позор нашему Ученому Совету, не говоря уже о ВАК, за то, что ему удалось заполучить докторскую степень: всем известно, что он и двух слов связать не в состоянии), и с его помощью вершить свои темные делишки. Общеизвестно, что по своим повадкам клика Батуашвили ничем не отличается от сицилийской мафии, но при старике у нее все-таки были подрезаны крылья. А теперь, если только их планам суждено осуществиться, они завладеют всем институтом. Директор, вне сомнения, пойдет у них на поводу. Будет он портить с мафиози отношения, как-же - держи карман шире! Наш Батуашвили академик, а директор пока что всего только член-корреспондент, в академики ему еще только предстоит баллотироваться. А я оказался лишним в их мафиозном раскладе. Что этим негодяям до того, что у меня двадцать три опубликованные работы и почти завершенная докторская на столе! И если я не спешу с защитой, - это только делает мне честь, другой на моем месте давно защитился бы: если уж диссертация Ласаридзе прошла, то моя и подавно прошла бы, но нельзя же совсем терять совесть! Провожу линию старого директора, сволочи! А как Батуашвили лебезил перед стариком, как пытался подольститься, подластиться к нему! Но тот не давал: старый интеллигент и замечательный ученый отлично догадывался, что за птица этот Батуашвили. Но вот его отправили в почетную отставку, добились таки своего, и у Батуашвили открылось второе дыхание. И у всей его клиентуры - тоже.
Что ж, они приперли меня к стенке. Я не хотел ввязываться в драку, но они не оставили мне иного выхода. И я вынужден приготовить этим господам сюрприз особого рода. Для этого опять придется прибегнуть к Его помощи, опять идти к Нему на поклон. Видит бог, как я не желаю этого! Но другого выхода не вижу. Иначе они меня просто сьедят.
Дело, разумеется, не только в том, что я собираюсь идти к Нему на поклон. В конце концов, мне не впервой унижаться перед Ним. Труднее всего было в первый раз, когда я решился попросить Его о сущей мелочи: подумаешь, пара путевок на круиз! То была пустяковая просьба, но тогда я перешагнул через некий принцип. А после Неаполя стало совсем легко: я несколько раз обращался к Нему с различными просьбами, и Он исполнял их как цуцик. Неаполитанские решения остаются в силе до сих пор: наши отношения - позиционная война, не более того; каждая моя просьба - залп по позициям врага. Но сейчас мне труднее, чем когда-либо, да и Он может, наконец, заартачиться. Говоря откровенно, я не предполагал заходить так далеко, но меня вынудили Батуашвили и его клика.
Всего пару недель тому назад у меня и в мыслях не было выдвигать мою недавно изданную монографию на государственную премию. Совершенно ординарный труд, я и сам невысоко его ценю. Но если по институту разнесется весть о том, что я - кандидат на лауреатство, мои позиции временно укрепятся. До вынесения официального вердикта Батуашвили будет бессилен предпринять что-либо, и ему придется подождать. И тут мне можно надеяться только на моего старого друга. Ситуация вынуждает меня быть с Ним откровенным, в противном случае результат может оказаться недостаточно удовлетворительным. Либо Он сделает все как надо, либо пропади Он пропадом, и Батуашвили выкинет меня вон. Полумерами не обойтись, сейчас действует физиологический закон: все или ничего. Надо втолковать Ему, что институт находится на грани развала, что Батуашвили и его подголоски не остановятся ни перед чем, и что, - а это самое главное, - простого телефонного звонка на сей раз недостаточно. Необходимо осуществлять постоянное силовое давление. Я заявлю Ему без обиняков: либо ты сейчас поможешь мне получить Государственную премию Грузинской республики, либо между нами все кончено. Я абсолютно уверен в том, что провернуть это дельце Ему вполне по силам: я ведь прошу всего лишь премию республиканского значения, а не награду всесоюзного масштаба. Мне неприятно обращаться к Нему с подобной просьбой, но... Орудия расчехлены и готовы салютовать Нациям. Теперь или никогда. Вот почему сейчас, дайте только закончить бриться, я покину этот уютный гостиничный номер, оставлю дежурной по этажу ключ, поймаю такси, поеду в центр, сойду поблизости от Старой Площади, и немного пройдусь пешком. Вчера вечером я звонил Ему на работу и пропуск мне выписан на одиннадцать тридцать.
Архитектонику беседы я уже продумал, не единожды прокрутив в уме все возможные варианты. Я буду откровенен. Абсолютно, предельно, грубо откровенен с Ним во всем, кроме одного: Он обязан уверовать в то, что моя монография действительно заслуживает быть отмеченной, но завладевшая всеми командными позициями батуашвилевская мафия ни за что не допустит моего триумфа. И отрезвить эту мафию может лишь своевременное вмешательство влиятельных вышестоящих персон. Причем такое вмешательство должно осуществляться тонко и технично. Не следует, например, давить непосредственно на членов Премиального Комитета. Действовать следует через Президента, либо, в крайнем случае, через соответствующего вице-президента Академии Наук, и действовать так, чтобы Президент, или хотя бы вице-президент (что то же самое), отнеслись к Его поручению (просьбе, требованию, пожеланию) не формально, а по существу, и не вздумали бы потом увильнуть от взятых на себя обязательств. Иначе говоря, Он обязан держать ногу на педали до самого до победного конца.
Мой старый друг - стреляная птица, и от Него следует ожидать любых выкрутасов. Поэтому я готов сегодня же удовлетворить Его законное любопытство. В моей монографии нестандартно, но весьма аргументировано, освещен довольно актуальный вопрос отечественной исторической науки (не зря я захватил с собой кипу положительных рецензий), а именно, вопрос об экономическом характере инициированных первичным капиталистическим накоплением перемен в жизни типичного грузинского села. Наврядли его любознательность простирается за пределы моих пропагандистских способностей, но в любом случае я найду, чем затуманить Ему мозги.
Моя жена подозревает, что я отправился в очередную календарную командировку. Пусть себе подозревает. Не нужно ей знать о том, каким путем стараюсь я заполучить эту злосчастную премию. В свое время я, уже после круиза, рискнул рассказать ей о том как доставал путевки на "Платонов", и потом сожалел о своей откровенности. Кажется, я вычитал в ее глазах нечто похожее на презрение, промелькнула такая быстро угасшая искорка... Прошли годы, но не могу забыть ее насмешливого взгляда. Правда, после она была очень нежна ко мне, наверное поняла, что я пошел к Нему на поклон не себя ради. Она так мечтала о морском путешествии в дальние страны, и я исполнял ее девичьи мечтания, поступаясь при этом немалой толикой собственного достоинства. Разве можно было презирать меня за это? То была сама первая и самая трудная просьба, - дальше было куда легче. Но больше я ей о таком не рассказывал. Пусть думает, что все мы - все трое - старинные друзья, давно простившие друг другу мелкие прегрешения и не обременяющие друг друга излишними просьбами.
Итак, в путь. Я всматриваюсь в зеркало. Вижу все: усталые настороженные глаза, чисто выбритые челюсти, крупный мясистый нос, давно поседевшие от возраста и мелких невзгод волосы. Я в полном порядке. Не стыдно будет показаться в ЦК. Оглядываюсь кругом. Телевизор и люстра выключены, окна занавешаны, можно уходить. Я запираю снаружи дверь, долго иду по длинному гостиничному коридору и мягко пружинит под моими дорогими зимними башмаками пушистая ковровая дорожка...
X X X
...И когда солнце наконец окрашивает стены в устойчивый оранжевый свет, лежащий на широченной постели мужчина признается себе в бесполезности дальнейшего сопротивления и одним мощным рывком скидывает с себя цепи окончательно обезумевшего Морфея.
Вот он, - позевывая и смешно подпрыгивая на босу ногу, - прошмыгывает к распахнутому окну и выглядывает в разбитый местными садовниками маленький сад. Садик - ухоженный, подстриженный, чопорный, какой-то совсем английский, - все еще дремлет. Только короткие соловьиные трели время от времени как бы выплескиваются из окружающего пространства, и тут же тонут в вязкой летней тишине. Видимо, он проснулся сам, без чужой помощи; никто не будил его и не тревожил, зря он так боялся проспать. Да он и не проспал, это же очевидно. Несмотря на то, что комната уже залита желтоватым утренним светом, слишком тихо и рано. Мужчина отходит от окна, садится обратно на постель и взор его падает на негромко потрескивающую радиолу. Внезапно он о чем-то вспоминает, наклоняется к радиоле и энергично вращает ручку настройки. Быстро находит желанную частоту и откидывается на подушку. "Московское время: семь часов пятнадцать минут"...
...Заместитель министра изо всех сил пытается вспомнить, на каком же месте прервался его страноватый и страшноватый, но чудовищно интересный сон. Он так поздно уснул, голова тяжелая, но... Постой, постой... Какой-то разговор... дьявольский напряженный... Кажется, между двумя... нет, тремя... или двумя... двумя!... да, двумя весьма серьезными, чем-то озабоченными мужиками. Один из них, тот что с жирноватым, внушительным лицом, очень сильно гневался. Его звали... Черт возьми, да как же его звали? Как к нему обращался другой мужик? Предводитель? Нет. Пред... Предатель? Да нет же! Пред... Представитель? Нет... Ах да, черт подери, Председатель! Вот, именно Председатель. Ну да, конечно, - это же был Председатель Объединенного Совета лично, крутой, сильный мужик, чем-то похожий... Чем же?... Лицом, лицом похожий на его министра, на самого Владимир Васильича. А второй... Председатель почему-то кричал на бедолагу. Вроде винил того в каком-то прегрешении. Или даже в преступлении. А тот, второй, защищался как мог, заискивал, прикрывал лицо руками, кажется даже плакал, вымаливал прощение и говорил, говорил... Что же он говорил? Ах да, что-то вроде: "Ну не мог я иначе, не мог. Они заманили меня в ловушку. Они же бессовестные, эти пауки, эти твари. Я же хотел как лучше. А Председатель с лицом Владимир Васильича топал ногами, все стучал и стучал кулаком по столу, и орал на того, второго: "Это ты, ты сдал летчика тварям на съедение. Это ты, ты бессовестный, а не они!".
...О чем же они так страстно спорили? Но ведь я сейчас окончательно проснусь и все забуду, забуду! Все выветрится из памяти... Кажется, мне снилось что-то очень важное, что-то из такого, о чем забывать нельзя... Война, миллиарды убитых, города в развалинах, холод как на полюсе. Нет, нет... войны не было, война то ли кончилась, то ли пока не начиналась... А еще он давал какое-то дурацкое интервью левой итальянской прессе. И еще там были какие-то итальянцы и испанцы, в общем иностранцы-засранцы. Да, тот был именно испанец. Родовитый, пухленький такой, похожий на плюшевого медвежонка, или, скорее, на Санчо Пансу. Он плюхнулся, именно плюхнулся, в кресло. Размахивал руками и, кажется, тоже о чем-то просил, все упрашивал меня о какой-то визе, и еще о чем-то...
...Замминистра испытывает весьма малоприятное ощущение. Такое, будто его или уже выгнали с должности, или вот-вот собираются выгнать, но он об этом пока ничего не знает. Он щипает себя за ладонь. Нет, вроде бы все в порядке, разве что ему не удалось отоспаться как следует, да еще и радиола осталась включенной. Перемена климата, знаете ли! Все прочно, Он на квартире у Первого Секретаря, через часок ему подадут лимузин - и фьюит на побережье! Он в законном отпуску, и никто не собирается, да и не смеет, ниоткуда его снимать. Разве Владимир Васильич не говорил ему, что осенью их ждут большие дела? Говорил.
...А-а, вспомнил, вспомнил! Пауки, какие-то отвратительные сторукие создания, вот откуда взялось это ощущение. Мрази подземные! Фу, и как это он не проснулся от такого кошмара раньше! Возраст! Возраст дает знать о себе, годы берут свое. Ему уже тридцать шесть, - и не всего, а целых тридцать шесть, - о, как бесшумно подкралась к нему пора всяческих недугов. То и дело жди инфаркта, инсульта, язвы... Впрочем, что это он, нельзя же киснуть от одной-единственной кошмарной ночи. Под душ бы сейчас, но увы, неудобно, надо подождать пока проснется хозяин квартиры. И, что ни говори, - очень захватывающий сон!
Замминистра вновь поднимается с постели и подходит к окну. Лениво совершает, все еще позевывая, парочку имитирующих физзарядку движений, но они не приносят ему ни удовлетворения, ни облегчения. И вообще, для зарядок здесь слишком душно. Скорей бы на море, на море! Окунуться бы в набегающую волну и уплыть далеко-далеко, к горизонту, так чтобы пляж виднелся тончайшей белой полоской, и, главное, устать, смертельно устать. Так устать, чтобы еле хватило сил на возвращение. Он давно надоел самому себе. Он возмутительно благополучен, эфемерен, инфантилен, совсем забыл о том, что такое настоящяя опасность, чем она пахнет и какой у нее вкус. Живет он как самая настоящая баба, только у бабы все мысли о семье, а у него о службе - вот и вся разница. Скучно и бессмысленно жить так - в сплошных заботах об интересах государства. И пора, наконец, жениться. Этот отпуск должен стать последним отпуском, который он проводит в одиночестве. И как только вернется в Москву, первым делом заявится к Тане-Танюше. В тот же вечер. Бедная девочка заждалась. Хватит, он больше не имеет права обманывать ее ожидания. Он заявится к ней с дорогим букетом в руках и сделает ей официальное предложение. Навряд ли ему откажут. Он уверен на девяносто девять процентов. Давно бы так, без лишних излияний. Каким же он был дураком! И как хорошо, что ему привиделся кошмар этой ночью. Он испугался, испугался и понял что охвативший его страх - с виду такой беспричинный, - все же поддается лечению. Курсом здоровой семейной жизни. Да и коллеги перестанут считать его белой вороной. И куда-то он смотрел раньше? Таня, Танечка, Танюша, хорошая девчонка. Вот будет-то радости в одном из спальных корпусов Орехово-Борисово! Море шампанского! А о переходе в кирпичный центр города озаботимся потом, попозже... Что за шум? Кажется, Первый Секретарь проснулся и сейчас заглянет в эту комнату. Пожалуй, пора принять ободряющий прохладный душ перед дальней дорогой. А Антону он позвонит потом, на обратном пути. Пусть поволнуется, черт с ним...
X X X
Без ребят мне будет очень скучно, но дедушка решил, что нам всем пора ехать домой и решение это - окончательное. Я раньше думал что наш дом, - это дом в котором мы живем, но оказывается, что у нас есть и другой дом, дом в котором я ни разу не был. Совсем в другом городе. Все дело в том, что я грузин. Москвич, но грузин. Дедушка часто говорит мне: "Никогда не забывай о том, что ты грузин". Еще он говорит, что сам виноват в том, что я ни слова по-грузински не понимаю. Грузия - это то ли страна, то ли часть света, пока не знаю точно. И там, в Грузии, оказывается есть такой же город, как Москва, только чуть поменьше. Город этот называется Тбилиси, там у нас есть квартира, и завтра мы туда едем.
Я не хотел ехать в Тбилиси, и папа с мамой тоже не хотели, но дедушка решил, что ехать надо, и тогда мама с папой перестали спорить. Папа даже билеты на поезд принес. Они во всем слушаются деда. Деда мы все очень любим, он у нас замечательный. Ни у кого из моих друзей нет такого дедушки. Он очень большой человек. Раньше я не догадывался, что дедушка очень большой человек. Конечно, он большой - высокий и лысый, - но я не знал, что он очень большой, потому что дядя Петя который ходит к нам в гости, тоже старенький и лысый, но никто про него не говорит, что он очень большой человек. А про моего деда все так говорят. И Варвара Николаевна - наша классная руководительница, и Юлия Сергеевна - наша пионервожатая, и даже сам дядя Петя. Правда, дядя Петя давно к нам не заходил, и я сам случайно услышал как мама говорила папе, что Петр Степанович - ДВУРУШНИК. Я не знаю, что такое ДВУРУШНИК, может это профессия, вроде космонавта или капитана, а может и болезнь какая-то. Мне все-таки показалось, что ДВУРУШНИК - это не очень хорошая вещь. А спросить маму я постеснялся. Я тоже уже большой, и мне бывает стыдно, когда я чего-то не знаю. Лучше я потом спрошу у дедушки. Его я почему-то совсем-совсем не стесняюсь. Может из-за того, что он очень большой человек.
А недавно дедушку СНЯЛИ. Раньше-то я думал, что снимают только на фотокарточку, да еще и обманывают будто птичка вылетит, - это чтобы я не вертелся, - но это что-то другое, что-то невеселое, и фотокарточка тут не причем. Дедушка раньше никогда на меня не сердился, а сейчас иногда сердится, мама с папой часто ходят хмурые, а папа даже перестал водить меня в парк на Ленинские горы. Раньше мы гуляли там чуть ли не каждый день, а теперь - не каждый, и даже в это воскресенье не пошли. И Пашка с передней парты сказал мне, что деда моего сняли и он уже не очень большой человек, и Колька тоже сказал, а Оля Нестерова слушала и смеялась вместе со всеми. Я думаю, что все они врут, потому что завидуют: как может очень большой человек ни с того ни с сего стать маленьким только потому что его СНЯЛИ, да еще и не на фотокарточку, но мне вдруг стало очень обидно оттого, что Оля смеялась. И Пашка тоже хорош. А я-то думал, что Пашка - друг, а какой-же он друг? Дедушка на машине его катал, а он смеялся - друг называется! Ну и пусть. Я хотел с ним марками поменяться, а теперь не буду. Я бы поменялся с Юркой Северцевым из соседнего подъезда, но завтра мы уезжаем домой, и с Юркой я уже не увижусь.
Папа все твердил, что с ПЕРЕВОДОМ у него трудности, и он не может бросить свою работу, но мама сказала, что ПЕРЕВОД ему УСТРОЯТ, и чтоб он не канючил, потому что оставаться в Москве нам все равно нельзя. И дед тоже сказал папе, чтоб он не волновался, и еще сказал, что машину у нас не отнимут, дадут другую. Я очень, очень рад, что у нас будет машина. У нас сейчас машина большая-пребольшая, черная, блестящая и с белыми занавесками сзади. Я очень люблю сидеть на переднем сидении, рядом с дядей Леней. Дядя Леня - это наш шофер, и он часто катает меня, когда я его об этом прошу. Дедушка говорит, что он - близкий человек. Правда, я знаю, что у дяди Лени - семья, и он не сможет поехать с нами в Тбилиси. Мне жалко, что дядю Леню нельзя будет забрать с нами вместе с его семьей, он к нам очень привык, и без нас ему будет скучно.
Мне и дедушку жалко. Пока его не СНЯЛИ, он работал в Кремле. Кремль - это такой огромный красивый дворец за кремлевской стеной. А перед ним ленинский мавзолей. Однажды я видел Ленина, меня дедушка повел посмотреть, а в дворце живут и работают революционеры, такие же как мой дедушка. Над Кремлем сияет алая пятиугольная звезда, - ну ее-то все вы наверняка видели! Вот в Кремле-то мой дед и работал. А я всегда очень-очень его ждал, и когда лифт останавливался на нашем этаже, то бросался открывать дверь, и всегда печалился если это был не он, а кто-то другой. Он приходил с работы поздно, усталый, но все равно ПОДТЯНУТЫЙ, точно как наш школьный директор Владимир Семенович. А как его СНЯЛИ, он уже никуда не ходит, и даже по телефону почти совсем не разговаривает. Мама говорит, что дедушка пострадал за мир. А я не понимаю, как это можно - пострадать за мир. Ведь мир - это мир. А мир главнее всего - так нас в школе учили. Войну я часто смотрю по телику, очень бывает интересно! А что это такое - война, нам тоже объяснили в школе. Это когда много-много солдат, и они стреляют, страдают и умирают. Страдать - это когда больно. А дедушке не больно, он здоровый и сильный, хотя и старый. Просто он на кого-то обижен. Так что я не думаю, что он пострадал за мир. В классе мы часто играем в войну на переменках. Иногда я на стороне красных, а иногда - белых, и тогда красный - Пашка. Мы хоть и друзья, а всегда воюем друг против друга. Но у нас никто не страдает, потому что мы никого не убиваем, как в телике.
Вчера я спросил дедушку: "Как это можно пострадать за мир?". Дедушка долго не отвечал, а потом сказал: "Никак". Так я и думал, что мама что-то напутала. Правда, она у меня очень умная, добрая и красивая, и ее надо слушаться, но иногда она что-то путает. Папа часто повторяет, что женщины похожи на детей и склонны к ошибкам. Этого я не понимаю. Мы, дети, никогда не ошибаемся. А женщины ошибаются. Даже такие, как мама. Ошибаться, - это говорить не то, что думаешь. Вчера мама нашей соседке тете Глаше говорила, что ей давно хочется съездить в Грузию, а ведь неправду говорила! На самом деле ничего ей кроме кроме Москвы не нужно, но... А я всегда говорю то, что думаю. И если совру, то чуть-чуть, так чтобы никто не заметил.
Вчера вечером я и дедушка вместе разглядывали альбом со старыми фотографиями. Альбом у него пухлый и пыльный, раньше дедушка мне его не показывал, он и маме с папой редко его показывал, и сам не любил его смотреть. Все повторял: "Тени прошлого должны спать спокойно". Он мне объяснил, что тени прошлого, - это люди которых уже нет в живых. А вот вчера вечером дедушка был очень грустным, все вздыхал и твердил, что он уже стар. Потом открыл сундучок, который всегда заперт на ключ, иначе я и сам бы давно туда залез, вытащил из него альбом, посадил меня на колени, и мы давай смотреть фотографии - страница за страницей. На первых страницах были приклеены фотки какого-то мальчишки, и дедушка сказал, что это он в моем возрасте. Неужели я, когда вырасту, стану таким же седым, как дедушка? Наверно стану. Раз деда так вырос, значит и мне придется расти, чтоб не УДАРИТЬ ЛИЦОМ В ГРЯЗЬ и тоже стать очень большим человеком. Дедушка научил меня, что ПАДАТЬ ЛИЦОМ В ГРЯЗЬ - стыдоба, но так говорят в ПЕРЕНОСНОМ смысле. На самом деле это означает - не справиться с уроком.
В альбоме много-много разных фотографий. Дедушка на них такой молодой и веселый. А сколько у него орденов! Я все наизусть знаю! Три ордена Ленина, орден Дружбы Народов, орден Октябрьской Революции, и еще медаль - За Доблестный Труд. А самый главный орден - Золотая Звезда Героя! На фотографиях дедушка то стоит на трибуне, смеется и махает рукой, то ему пожимает руку какой-то другой очень большой дядя, то он среди больших генералов, то что-то пишет на бумаге. А на одной фотке он стоит на палубе большого белого корабля и улыбается. Эти странички мы пролистали быстро. Но две старые фотографии дедушка рассматривал очень долго. На одной была изображена очень красивая тетя, страшно похожая на принцессу из мультика "Спящая красавица", который показывали в субботу, а дедушка прищурившись любовался этой тетей, и в то же время как бы мечтал о чем-то, а потом я заметил, что на фотографию капнула слеза, и дедушка сказал, что ему в глаз попала пыль, но только я понял, что никакая это не пыль - дедушка просто плакал, и я не знал что и подумать, потому что дедушка у нас сильный и никогда не плачет. Я ничего не сказал и даже не спросил про ту тетю, но, конечно, догадался, что это не бабка, потому что в этом альбоме молодую бабушку мы видели еще раньше. А на другой был ИЗОБРАЖЕН какой-то молодой серьезный дядя немного похожий на папу, но не папа. Дед сказал мне, что я уже взрослый и должен понимать, что такое смерть, и еще сказал, что на фото СНЯТ его старый друг, который умер оттого, что быстро ехал на машине и попал в аварию, его звали дядя Антон и они вместе учились в школе. Как я и Пашка. Дедушка не знает, что я поколотил Пашку за то, что он смеялся, и думает, что мы дружим так же, как и до того как деда СНЯЛИ.
Но потом пришла бабушка и сказала, что пора укладывать чемоданы и надо проверить не забывает ли дедушка чего-нибудь важного. Тогда дедушка спустил меня с коленок и пошел за бабушкой, а альбом так и остался лежать на столе. И я влез на стул и опять нашел дедушкину принцессу. Она была очень-очень красивая, так что я влюбился в нее почти так же сильно как в Олю Нестерову, и мне стало жалко принцессу оттого, что она, наверно, поседела как дедушка, а может даже умерла, как дядя Антон о котором я не знал, но потом я подумал и решил, что такая красивая принцесса не могла постареть и умереть, и она, наверно, заснула так же, как Девочка из мультика и ждет принца, который разбудит ее поцелуем, и хотя я очень не люблю целоваться, но мне так захотелось быть принцем, что я ее поцеловал прямо на фотке. И мне даже чаю расхотелось выпить перед тем, как мама отправит меня спать.
Потом я оставил альбом на столе и выбежал из комнаты, а дедушка поднял меня на руки, хотя меня уже трудно поднимать, потому что я тяжелый, и сказал папе, что первым делом надо позаботиться о том, чтобы меня научили грузинскому языку. Я очень обрадовался, потому что, судите сами, если я и на самом деле грузин, то мне стыдно не знать грузинского языка. Я ведь уже взрослый и понимаю, что если человека так и не научить родному языку, то он обязательно УДАРИТ ЛИЦОМ В ГРЯЗЬ.
А потом мама повела меня пить чай на кухню, а бабушка с дедушкой уже легли спать, и мы с мамой остались на кухне одни. И мама налила мне на блюдечко горячего чаю и стала на него дуть, чтоб он поскорее остыл, а сама тоже заплакала и сказала, что у нас все было бы в порядке, если бы дедушка вел себя как все нормальные люди, не витал в облаках и немножко подумал бы и о своей семье. И тогда не пришлось бы уезжать из Москвы, к которой мы все очень привыкли, и ОКУНАТЬ меня в ЧУЖУЮ СРЕДУ. И мне тоже стало очень грустно, потому что я буду скучать и по Пашке, и по Юрке, и по Ванюше, и, конечно, по Оле, и даже по Варваре Николаевне, хотя я на нее и в обиде за то, что позавчера она дала мне замечание за то, что у меня все пальцы в чернилах, а раньше у меня тоже бывали пальцы в чернилах, но она никаких замечаний мне не делала, и даже хвалила за то, что я усердно занимаюсь на уроке. И мне сразу стало ясно, что без друзей жить плохо, и что маме тоже будет очень трудно без своих друзей, и она даже грузинскому не сможет выучиться, потому что, во-первых, она у меня москвичка, а, во-вторых, уже давно не ходит в школу. Но мама сказала что реветь нечего, потому что другого выхода у нас все равно нет, и вытерла слезы фартуком. И еще она сказала, что если войны не случится, то настанет время, когда люди будут благодарны дедушке за то, что он для них сделал. А я не удержался и спросил маму, кому нужна эта война, хотя, конечно и само собой, война, наверно, очень веселая штука, если на ней не страдать. Я вот, например, тоже играю в войну на переменках, хотя, конечно и само собой, уроки иногда тоже полезно учить, иначе, как говорит дедушка, останешься неучем. А Варвара Николаевна все-таки дура.
Мама поругала меня за то, что я назвал Варвару Николаевну дурой и сказала, что если бы мы завтра не уезжали, то поставила бы меня в угол. Ну это она просто так грозится. Я уже большой и ставить меня в угол нельзя, так папа говорил. Но потом она сразу забыла про угол и сказала, что война не нужна никому на свете кроме сумасшедших, и я понял, что настоящей войны никогда не будет, потому что все сумасшедшие сидят в сумасшедших домах. Я знаю, что такое сумасшедший дом. Это такой большой белый дом с решетками. Однажды когда дядя Леня катал меня по дороге, мы проезжали мимо такого дома и дядя Леня сказал мне: "Вон видишь - сумасшедший дом". Я попросил его ехать помедленней, и дядя Леня поехал очень медленно, а я высунулся из окошка и увидел за оградой двух сумасшедших в белых халатах. И я махал им рукой, потому что мне стало очень жалко их за то, что они сидят за оградой, они ведь тоже люди и им, наверно, тоже хочется на волю. И они помахали мне в ответ. А когда мы уехали, я сказал дяде Лене, что их жалко, потому что даже животным, которые сидят в клетках, хочется наружу, а сумасшедшие, как-никак, люди. Но дядя Леня объяснил мне, что сумасшедший дом - это лечебница, где сумасшедших лечат, и как только вылечат, то обязательно распускают по домам. И я совсем успокоился и даже решил, что когда подрасту, то возьму да и сойду с ума, просто так - интереса ради, а потом возьму да и вылечусь.
А когда мы с мамой напились чаю, меня сразу отправили спать, потому что утром всем нам рано вставать. Мама подхватила меня и быстро-быстро повела в спальню, так что я и заикнуться не успел о том, что еще рано и я хочу посмотреть по телику сказку про слоненка Томми и тигрицу Бетти. Но раз так, я смолчал, потому что я уже взрослый и понимаю, что капризничать стыдно. Ведь и дедушка, и бабушка, и мама, и папа очень устали сегодня, оттого что укладывались. И я смирно лег в кровать, и когда потушили свет, долго разбирался, хочу я все-таки ехать в Грузию, или не очень, и в конце концов решил, что должен ехать, потому что Грузия - это моя родина, а Варвара Николаевна учила нас, что выше родины нет ничего на свете. А потом я приглашу к нам, в Тбилиси, весь класс, и Пашку тоже, и все будет как надо. А сейчас мне пора спать, потому что если я хорошенько высплюсь, то завтра мама не будет такая печальная, а папа такой сердитый, бабушка будет ласкаться, а дедушка будет такой же веселый как тогда, когда он работал в Кремле, и его возила туда и обратно большая черная машина дяди Лени.
X X X
Возвратившись с похорон домой Старуха, настолько быстро насколько позволяли ей годы и телосложение, скользнула в свою комнатку и плотно прикрыв за собой дверь, облегченно вздохнула. Зять мирно посапывал в глубоком кресле, а дочка затеяла постирушку, так что ее возвращение прошло незамеченным, что было как нельзя более кстати. Но облегчение вскоре сменилось отчаянием. Она, как и была в плаще, рухнула на постель. Ноги больше не держали ее. И, кроме того, она больше не хотела сдерживать слезы. Комок в горле все рос и рос, но плакать на улице было неудобно, и только сейчас она могла выплакаться вволю.
Она была стара, безнадежно стара, и ничего не могла поделать с этим. До сих пор ей казалось, что она давно примирилась с неизбежной участью, но сегодня, на похоронах, она поняла, что примирение невозможно. Она чувствовала себя, несмотря на старость, точно так же, как и в те бесконечно далекие времена, - времена, когда ее муж был еще жив-здоров, а человек, тело которого сегодня предали кладбищенской земле, считался чуть ли не всесильным. Она чувствовала себя, как в те еще более далекие времена, когда и вовсе не была знакома со своим будущим мужем, любила совсем-совсем другого, а человек, тело которого сегодня предали земле, был всего лишь несчастным влюбленным, забрасывавшим ее, тоненькую и стройную, печальными любовными посланиями. Ну пусть не забрасывал, пусть она получила от него всего два письма, семь и девять, но ведь эти шестнадцать пожелтевших листов - реальность? Они ведь правда были? Раньше, в счастливом далеко, когда смерть казалась несбыточной сказкой, она часто перечитывала эти письма, иногда не очень внимательно вчитываясь в текст, с оттенком легкого превосходства над ее корреспондентом, иногда же, наоборот, - с пристрастием. Некоторые строчки она заучила (или запомнила) наизусть, так, на всякий случай, может надеялась когда-нибудь поспорить с безнадежно в нее влюбленным, а может и не потому, может эти строчки просто вторглись в ее память без спросу. Как-то раз, когда у них много лет назад действительно приключилось нечто вроде спора, они ей чуток пригодились, - и все. Но все последующие годы ее по пятам преследует эта несбыточная сказка о смерти. Вначале она, как бы желая еще раз подчеркнуть свою неисправимо гордую сущность, сгладила неявно-треугольные отношения в прямую линию, а затем, не удовлетворившись содеянным, сократила прямую до размеров точки. И она осталась одна, совсем одна наедине с памятью о ее несчастном муже и с вылинявшими строчками о горячем неразделенном чувстве, которые сейчас не хочется ни перечитывать, ни вспоминать. Ибо когда ею все-таки овладевает желание перечитать эти письма с того света, она подходит к зеркалу, вглядывается в свое морщинистое, почти изможденное лицо, и желание окунуться в прошлое сразу исчезает, улетучивается в небытие. О, она слишком хорошо понимает, что прожить жизнь заново никому не дано. Никому, и даже ей, когда-то такой тоненькой и стройной.
О, если б она могла! Если бы хватило сил сотворить чудо, вернуть юность, любовь, желание и умение сводить с ума всех этих мужчин, все их иродово племя! Но время... время нельзя повернуть назад: так, кажется, пелось в одной популярной песенке времен ее молодости. Время нельзя повернуть назад, и потому она не позволяет себе перечитывать эти письма. Не только потому, что когда она смотрится в зеркало у нее пропадает охота, но из страха, из опаски разреветься и еще потому, что она не хочет никому их показывать, даже ненароком. Раньше, в счастливом далёко, ей так хотелось показать эти письма своим близким подружкам, прихвастнуть перед ними, она, бывало, еле сдерживала себя, но нынче... Нынче никого не осталось в живых, ни мужа, ни автора этих писем, и она боится, страсть как боится разрыдаться над ними, а пуще смерти она боится того, что именно в то самое мгновение, мгновение плача, когда она будет совсем-совсем беспомощна, дверь в ее комнатку приоткроется, и дочь, или даже зять, увидят ее, такую несчастную и жалкую, над ворохом пожелтевших от старости листочков, увидят расплывшиеся от ее слез чужие строчки, и она хотела бы этого избежать, потому что не в силах будет объяснить им что-либо. Хотела бы избежать, какой дипломатический ответ!
И все-таки она не вполне понимает, что с ней творится. Она ведь всю жизнь любила своего мужа, Антона, это же так очевидно. А сегодня того, второго, похоронили, и, хотя она иногда желала ему смерти, ей стало нестерпимо ясно, что она понесла новую невосполнимую потерю. Но разве могла она любить двоих одновременно? Прежде она не позволила бы себе даже задуматься над такой неестественной, попросту нелепой возможностью. Но вот, ИХ уже нет на свете, и даже ЕГО, в которого она когда-то была по уши влюблена, тоже давным-давно нет, и выясняется - все смешалось у нее в душе. С одним она жила, разговаривала, делилась надеждами и горестями, ссорилась вечерами и мирилась утром, дышала одним воздухом, с другим - спорила длинными бессонными ночами, чтобы забыть днем, третьего - вообще выдумала, но, видно, она любила всех троих, просто любила их по-разному. Третий нелепо погиб, к мужу своему она привыкла, а к тому, другому, никогда и не старалась привыкнуть, хотя, раз отвергнув, иногда и жалела его. Но что их связывало? Всего два его письма и два настоящих, без фальши, разговора за сорок долгих, но промелькнувших как чудесный сон лет. Иногда ей действительно кажется, что жить наяву она начинает только сейчас, а все остальное было только сном, но потом она, пересилив себя, подходит к зеркалу, внимательно всматривается в свое усталое и по сей день непонятное и чуждое ей лицо, и с сожалением удостоверяется в реальности бытия. Неровен час, и лет через десять, или даже двадцать, - может ей и суждено дожить до глубоких седин, - ее вынесут из дома ногами вперед и похоронят точно так же, как она похоронила пять лет тому назад своего Антона, да и того, другого, сегодня днем. Если, конечно, не случится чего-нибудь непредвиденного, большой войны, например. Но она не верит в то, что война угрожает им всерьез.
Как давно не виделись с ней ее мальчики! Дочка у нее, правда, под боком - молоденькая совсем, можно сказать юная, но не стерпела, выскочила замуж в восемнадцать лет за бедного студентика и, благо у того с жилплощадью было туговато, привела его к ней. Все к лучшему. У них растет прелестная девчушка, ребенку уже третий годик пошел. Только вот приходится ее дочке заниматься постирушками, пока ленивый зятек посапывает в кресле, - давно пора сменить стиральную машину на новую модель. Да и поспорить, погорячиться они любят. В глубине души Старуха не очень довольна дочкиным приобретением: дай бог, все образуется, но не очень-то верит она в прочность ранних браков. Другое дело - ее мальчики, ее гордость. Давно оперились, прочно встали на ноги и вполне прилично зарабатывают. Одно плохо: постепенно отдалились от матери, невестки держат их в ежевых рукавицах. Вот уже вторая неделя, как мальчики не заходили ее проведать. Иногда ей хочется высказать им все, что она думает о невестках, но до сих пор воздерживатся... Ей хотелось бы избежать. В конце концов, у мальчиков свои семьи, им виднее, и не ей жаловаться на то, что они подзабыли свой сыновний долг - и денег подбрасывают, и букеты к праздникам дарят... А остальное как сложилось, так и сложилось, бог им судья. Иногда она спорит с собой: что лучше - быть тоненькой и стройной, и верить в то, что впереди целая жизнь, или же быть старой, умудренной опытом и разочарованиями, как сейчас, но знать, что твое Я имеет продолжение в роде, в твоих детях и внуках, которые, какие бы ни были, все же твои, а не чужие, и твои черты останутся запечатленными в них и после того, как... как тебя уже не станет. И этот захватывающий душу, но бесцельный спор всегда заканчивается вничью. Нет, нет... сыновья у нее хорошие, только больше бы тепла, чуточку больше тепла.
И вот, набравшись сил и мужества, она поднимается с постели и снимает с себя плащ. Душившие ее слезы выплеснулись на щеки, и она подходит к своему большому, антикварному, вставленному в замысловатую золоченную раму зеркалу, которое висит на стене напротив ее подушки и навевает ей по утрам мысли о бренности всего земного. Много лет тому назад Антон привез это зеркало из Ленинграда, увидел в комиссионке и решил ее обрадовать, вот и тащил зеркало на своем горбу. Она тогда спросила, почему он это сделал, он ведь не любил ходить по магазинам, а у них хватало дома зеркал, но он, оказывается, вспомнил, как она где-то в гостях не смогла отойти от похожего зеркала, так оно ей пришлось по душе, и ему пришло в голову сделать ей приятный сюрприз. Она всегда умела сдерживать себя, только вот сейчас, потому что две смерти... Но тогда у нее тоже брызнули слезы из глаз. Зеркало они решили повесить у нее в комнатке, а не в спальне, и так и осталось оно там висеть навсегда, насмешливо напоминая о том дне, когда у нее от благодарности к мужу брызнули слезы, и когда она еще была красивой и ее не старили эти морщины, и особенно вот эта - прорезающая лоб наискосок. Вот она стоит у зеркала с мокрым плащем в руках, и два смутных, еле слышных звука, не считая тех, что проникают, как обычно, в комнату с галдящей о чем-то своем улицы, - плеск равнодушно бьющей из крана воды и ритмичный храп молодого и неизвестно отчего уставшего зятька, - мешают ей сосредоточиться и вспомнить: кто же все-таки украл у нее красоту и грацию, кто довел ее до этой странной минуты, минуты осознанных невозвратимых потерь и неосознанного сопротивления неизбежному будущему...
X X X
И на черта дался мне этот концерт.
Видит бог: время, когда я относился к итальянской классической опере с благоговением, давно кануло в вечность. Говоря откровенно, вместо того, чтобы нарядившись клоуном, внимать визгливым ля-солям этой очаровательной коровы Лобелли, я бы с удовольствием перекинулся лишний разок в картишки с соседями или, на худой конец, повалялся бы в постели, но под напором привходящих обстоятельств невозможно, совершенно невозможно устоять! Все против меня, все решительно: от высшего, тэк-с сказать, света, всех этих Батиашвили, Бродзели, Санадзе, Ласаридзе, Лапаури, Читанава, - и вплоть до собственной жены. Как пронюхала о том, что в Тбилиси приезжает "Ла Скала", потеряла сон и аппетит. То давление у нее упадет, то занавески на окнах не так занавешаны, то еще что-то... Успокоилась только когда я выторговал у этой мещанки Лили, жены Ковзоева, двухместный абонемент в шестом ряду партера. Небось, наобещала ей с три короба, а я, Директор, выполняй! Сегодня она даже не соизволила подождать меня, улизнула с утра к своей Лили, - посплетничать и язык почесать,- села в свой "Фольк" и адье, будь здоров! Бабе шестьдесят с лишним, а строит из себя малолетку. И славно, что улизнула! Хорошо, что она умеет водить машину, иначе надоедала бы мне здесь целыми днями. Как уехала, мы сразу засели за пульку, - им-то, счастливым соседям моим, в город сегодня не надо, - и отлично провели время. Еле заставил себя встать из-за стола. Играли мы по маленькой, но карта не шла и я проиграл рубликов сорок, малоприятно. Посочувствовали мне, сукины дети, и правильно сделали. Я бы тоже посочувствовал. А сейчас приходиться жать на газ, дабы успеть заскочить домой, принять душ, переменить белье, одеться, нацепить на себя - в эдакую-то жару - галстук, заехать к Ковзоевым, посадить всю эту ораву в машину, и потом долго-долго рыскать вокруг оперного театра, подыскивая удобное место для парковки, черт бы их всех подрал! Вот и жму...
Смешная штука - жизнь. Разве мог я в дни своей полуголодной юности всерьез предпологать, что когда-нибудь и мне, будущему профессору и Директору, достанется роскошная, в два этажа, дача в Цхнети, и что в моем гараже будут нежиться две иномарки? А теперь... Мой "Вольво-Круйзер" - агрегат всему городу на зависть. Вот и жму на газ, стрелка спидометра подрагивает у отметки "сто", но я уверен - мой зверюга не подведет. Да и "Пастораль", надо признать, великолепное шоссе. Широченное и гладкое как зеркало, не хуже чем где-нибудь в Бельгии, ездить по нему одно удовольствие. Не могу забыть, полвека здесь змеей вилась узенькая двухрядка, считавшаяся правительственной трассой. А я был молод, молод, молод! Да-а, было времечко! Много воды утекло с тех пор, хм-хм... Нет, смешная все же штука - жизнь. О даче в Цхнети, да и о директорстве, я тогда мечтать, конечно, не мог. Слава всеобщему прогрессу и процветанию, нервирует и сводит с ума только одно - возраст. Но успехи геронтологии вселяют в меня надежду. Шестьдесят пять, - это еще не старость. Я, как и мой верный "Вольво-Круйзер", на полном ходу, и выгляжу молодцеватее своих щенков, ух, чтоб их материнское семя. Тявкайте, тявкайте - вам еще не скоро делить наследство. Черт меня побери, если я не доживу до девяноста!... Узенькая вилась здесь тогда дорожка, да и та была не из лучших - петляла, выбоины да рытвины на асфальте. Впрочем, все доперестроечные дороги были такими. Нелегкая была жизнь, почти всем доставалось на орехи почем зря, а нонешние шалопуты избалованы до крайности, ничего для них не жалеем, как тут им не избаловаться! Наша вина, наша. В мое время все было иначе. Шла борьба за приличную жизнь и за место под солнцем дрались не щадя живота: расталкивали конкурентов руками, давили сами, чтоб не быть раздавленными другими. А хорошо бы завести знакомство с этой, как ее, Лобелли, чтоб сегодняшний вечерок не выпал пустым номером и просранным префом. Надо поговорить на эту тему с директором гостиницы. Недаром я устроил в институт его балбеса, пускай теперь подсобит маленько. И если выгорит... Как забавно поглупеют лица моих партнеров по префу, вот было бы здорово! По-моему, для этой заморской телки я и в свои шестьдесят пять достаточно импозантен. Есть еще порох в пороховницах. После концерта надо будет на полчасика отделаться от моей дражайшей половины, как-нибудь попасть в артистическую, а дальше я надеюсь на свои экспромты, красноречие и знание итальянского, "кара миа...". Ради такого конца стоит поддать на газ...
X X X
Вчера вечером ты хлестал водку из горлышка, орал пьяные песни, ругался как скот, лез в драку и, конечно, совсем не думал о том, каким будет неизбежное отрезвление. Ох, если бы... Если бы ты опомнился хоть на секунду, вспомнил о горьком похмелье, которое ждет тебя утром. Если бы постарался живо представить себе фактуру отвратительной лавы, что круша внутренности поднимается из глубины желудка. Если бы ведал, что творишь в пьяной эйфории. Если бы не терял способности оценивать вред, который тебе же и нанесут выпаленные в злом горячечном бреду лишние слова. И если бы тебе не казалось, будто все тебе нипочем и любое море по колено. Если бы. Но человек пьющий, жалкое подобие хомо сапиенса, способен жить только настоящей минутой. Вчера ты потерял лицо, а сегодня сожалеешь об этом, но увы! - слишком поздно...
... Странные мысли посещают меня, однако, во время моих ежевечерних прогулок. Признаюсь, я давным-давно не притрагивался к спиртному. В мои-то годы и при моей изрядно потрепанной сердечной мышце - алкогольное отравление смерти подобно. Но будь я помоложе, - клянусь всем что для меня свято, - напился бы как безработный моряк. И будь что будет на следующий день. Увы, пить мне никак нельзя, я давно уже не претендую на то, что кто-то отпустит мне грехи, вот и остается гулять по зеленым улочкам родного города, гулять и воздыхать по прошлому. Но, раз уж мне запретили туманить себе сознание спиртным, я решаюсь на маленькую уловку. Гуляю я не просто так, а с заранее обдуманным намерением. Наконец и мне довелось испытать на собственной шкуре справедливость весьма спорной, на первый взгляд, поговорки: преступника неудержимо влечет на место преступления. Для стороннего наблюдателя, - ну скажем, для случайного постового, - эта картина не может представлять какого-либо интереса: старый обиженный человек не спеша прогуливается среди древних, как и он сам, тяжелых шестиэтажек, давно растерявших остатки былого лоска. Фасады этих домов образуют периметр некоей простой геометрической фигуры, и взору проникшего вовнутрь сей фигуры стороннего наблюдателя открывается раздольный двор, заставленный длинными столами и лавочками, - ветхими и кое-где подгнившими, но все же не растерявшими в наш век безумных скоростей свою притягательную силу, - и, кроме того, странное сооружение: нечто вроде первобытной волейбольной площадки, используемой ныне славными обитателями этих потресканных домов вместо автомобильной стоянки. Сторонний наблюдатель, вне всяких сомнений, при виде всех этих столов и лавочек равнодушно промолчал бы, разве что необязывающе поцокал языком, как бы сожалея о днях давно минувших, но уму и сердцу старого человека картина эта далеко небезразлична. Здесь он рос, бегал по двору в коротких штанишках, отсюда повезли на кладбище его отца и здесь поседела его мать. Вон тут, по-соседству, жил его верный друг, а вон в той квартире повыше, пребывала когда-то любопытнейшая личность, - все почему-то звали ее просто: Хозяин, - не раз вступавшая в конфликт с писаным законом, но ухитрявшаяся всегда вылезать сухим из воды. С Хозяином старика связывает особой прочности нить. Хозяйская обитель была размерами поболее, чем у соседей, так как состояла из двух смежных, присоединенных друг к другу квартир, и вообще - тогда он считался богатым человеком, одним из самых богатых в городе. Вот и эта волейбольная площадка, или, если угодно, автомобильная стоянка, когда-то была построена на его деньги. А деньги он обычно хранил в железном сейфе, установленном в его кабинете. Хозяин любил свой сейф, он любил его так, как любил бы собаку, если бы она у него была, называл его ласково "сейфуленька" и, бывало, расхваливал его прелести особо доверенным собутыльникам - один из самых богатых людей в городе любил прихвастнуть. Старик входит во двор, садится на лавочку и вспоминает о былом. Хозяина давно нет в живых, друга детства тоже, но пылкие словесные баталии между юными рыцарями благородных идеалов семидесятых - благополучными студентами местного университета, - далеки от завершения. Как забыть о горячих спорах под коньячок и закуску: спорах о честности, о смысле жизни, о справедливости общественного устройства, о любви и о ненависти, и о прополке сорняков тоже, - а как иначе можно наставить жуликов на праведный путь? Вспоминает старик и о том, что эти споры однажды ночью привели его в квартиру Хозяина, только вот Хозяина, как назло, не оказалось дома, и заставили его - ну да, эти споры и заставили, - вскрыть и очистить хозяйский сейф. Вспоминает он и о кожаных перчатках, которые потом выбросил в реку. Вспоминает и о том, как быстро-быстро, опасаясь как бы его не застали за этим шкодливым занятием, перекладывал пачки банкнот из сейфа в чрево вместительного черного портфеля, и как для последней пачки не хватило места, и как он впопыхах забросил ее обратно в сейф, и о том, как они с другом играли в беспроигрышный волейбол той незабываемой ночью, и чем все это кончилось, и как невообразимо давно все это было, и, конечно, про феерический костер в загородних сумерках - костер в пламени которого, разбрызгивая во все стороны разноцветные искры, горели деньги, деньги, деньги...
И, право, какое дело стороннему наблюдателю до немощного старика, который насытившись воспоминаниями стремится вырваться из их заколдованного крута и бежит от места преступления прочь. Вот он поднимается с лавочки и удаляется медленным, шаркающим шагом. Это и есть его бег, быстрее он просто не может. Не знаю, случайное ли это совпадение, или глубокий символ, блеснувший своим каким-то самым доступным краюшком, но путь старика лежит прямиком на кладбище. Ну пусть не на самое кладбище, но рядышком, совсем рядышком. Там нынче его жилище, его берлога, квартира, которую ему по возвращении, - вынужденному, - в родной город уступили местные власти в знак признания прошлых его заслуг. Может по причине этого соседства, он в последнее время частенько думает о той непроглядной тьме, что в скором будущем всенепременно поглотит его тело и душу. Дорога на кладбище длиновата, но довольно живописна, сумерки страсть как прозрачны, а старик, несмотря ни на что, еще крепок, и оттого, наверное, отказывается от вполне доступного ему общественного транспорта и предпочитает идти пешком. Итак, он бредет по направлению к своему дому, и пусть его без труда обгоняют другие, более молодые и беззаботные прохожие, но зато мысль его легка и невесома. Лучше сказать, почти невесома, ибо бремя прожитых лет отягощяет сердце с большей силой, нежели разум, и она, мысль эта, летит, обгоняя всемогущее время, веселой стрелой. Она шутя обходит запреты и преодолевает препоны, она подобна волшебному локомотиву, бесстрастно отсчитывающему стыки на магических рельсах. Локомотив тянет за собой вагоны памяти, пока еще почти пустые. Вагоны, груз которых возляжет на сердце только в самом конце длинного пути. Локомотив бодро тянет их без происшествий и остановок, но вот настает черед и поезд замирает на самой первой станции - Феерический Костер - и впускает в свои купе и коридорчики чуть ли не первых своих пассажиров (о, они пока ни о чем не подозревают), а спустя мгновение локомотиву дают зеленый, и он, протрубив в сказочный рог, подхватывает легенький пока состав и, набирая скорость, мчит в будущее дальше. Но это ненадолго. Вновь на его пути встают красные огни семафоров и, мягко подпрыгивая на игрушечных стрелках, волшебный поезд подкатывает к украшенному алым кумачом перрону. На кумаче красуется сотканная из суровой походной нити ясная надпись: Аспирантура - Залог Ваших Будущих Успехов. Надпись мерцает красными стоп-сигналами Ленинского проспекта, все вокруг меркнет, надвигается первая московская зима, перрон быстро покрывается залетающими прямо в купе февральскими снежными хлопьями, но вот, звучат фанфары, поезд трогается и летит в холодную даль, мимо спрессованных в секунды полустанков с неразличимыми названиями вроде "...второго дня", "...икс деленное на два...", "... если подинтегральная экспонента сходится в промежутке....", и... и подлетает к третьей остановке. На мрачном фасаде приземистого и старомодного вокзального здания тяжелыми, выцветшими буквами старательно выведено: Банкет, а ниже малюсенькими буковками добавлено: "по случаю присуждения искомой ученой степени". Здесь поезд отдыхает очень недолго, на самом деле он и не останавливался на этой станции по-настоящему, проходит коротенькая минута и он, ускоряя ход, ныряет в ночь и пургу. Вот так, чуть не сходя с рельсов и ума, мчится он сквозь кромешную тьму и сплошные завывания метели, да ведь конец перегону Наука, и ранним утром, вконец оглушив пассажиров нескончаемыми победными гудками, выныривает из тоннеля на четвертой остановке. На перроне нет ни души и никто не покидает вагоны, но вовсе не потому, что совсем нет желающих поразмять ноги после утомительного ночного перегона. Увы, выход из вагонов строго по пропускам, поезд окружен суровыми конвоирами с нарукавниками на ватных локтях, да и вокзальное здание всего только строится. Лишь укрылся от конвоиров в полуразвалившейся сторожке смотритель путей, да радует глаз корявая надпись на белом полотнище - Политика Только Для Самых Бессмертных. На этой станции поезд стоит долго, очень долго. Наливается хитростью и мощью, хищно выжидает момент для броска в широкую, студеную степь и наконец издав протяжный и жалобный глас, начинает свой поход через всякие там плохо освещенные и невнятные Значкастые, Воспитательные, Парадные, Предрассудочные, Разочарующие, Одобрительные, и прочая, и прочая. Он должен пройти их все, пока не выберется на главную магистраль - Большому Кораблю - Большое Плавание. Но пока он медленно, медленней чем пассажирам хотелось бы, пробирается сквозь болотистые чащобы и размашистые степные пространства, где ловушки, катастрофы, полустанки, встречные составы и семафоры поджидают на каждом шагу, - там вдали, за лесными туманами, вздымаются ясные и упругие контуры воздушного и лучистого строения. Здесь, у станции номер пять, поезд должен, ну просто обязан остановить свой бег. Но он степенно проплывает мимо этого чуда возвышающей дух архитектуры, и, о ужас! - вовсе не думает притормозить. Пассажиры, пытаясь разобрать как же все-таки зовется эта сказочная станция, прильнули к окнам, но туман мешает, ох как мешает разбирать буквы на расстоянии, встречный состав как назло мелькает перед глазами, да и машинист поддает пару, и красочная надпись на фасаде так и остается нерасшифрованной: то ли Счастье, то ли Девочка, то ли вообще - Дуракам Вход Воспрещен.
Но жизнь неудержимо мчится вперед, и поезд тоже летит вперед, мимо зеленых гор и гордых речных излучин, и станция Счастье остается где-то там, в невозвратных утренних туманах, глубоко позади. А маятники Земли все качаются, отсчитывая минуты и часы, и рельсы великой магистрали Большому Кораблю - Большое Плавание деловито прогибаются под растущей тяжестью локомотива и вагонов, стонут и крошатся под быстрыми их колесами каменные шпалы, зажглись уже высоко в небе первые вечерние звезды, и замаячила впереди шестая остановка. Конечная - так, во всяком случае, значится в расписании и в плацкартах. Вот и поезд решительно притормаживает у стройного высотного здания без окон - сверхулътрасовременного, как ненастоящая жизнь, и сияющего холодным светом, как запасное солнце. Огромными электрическими буквами блистает на фасаде изменчивая надпись. Сочетания слов в ней постоянно меняются: она то Государственно-Важная, то Полномочно-Посольская, то Предправительственная, то - Все Возьму, Сказало Злато, то - Все Возьму, Сказал Булат, то Холостым Не Место На Высших Государственных Постах, то Барьеры Не Для Слабых, то Оставь Надежду Всяк Сюда Входящий, то высвечивают вдруг странные нерусские слова - Кулуар Дю Пувуар, но все это неважно... Кажется, поезду некуда ехать дальше. Дальше пути нет, достигнуты цели и исчерпаны средства. Успокоиться бы на достигнутом, но откуда-то издали слышится тихое и настойчивое: "Постарайтесь остановить ЭТО...", и в фойе здания появляется дон Эскобар Секунда с лицом машиниста, поддерживающий под локоть сэра Реджинальда Брауна, эсквайра. Дон Эскобар и старина Реджи любезно кланяются толпе и, протискиваясь между встречающими и провожающими, идут вперед - к головной части только что прибывшего состава. Все кричат им: куда же вы, куда, стойте, держите их! Но дон Эскобар, улыбаясь, делает рукой насмешливое "под козырек" и, прощаясь с Реджи у самой кромки перрона, смело поднимается в кабину локомотива. Грохот на платформе шестой остановки достигает апогея, но дон Эскобар - сильный, огромный, ледяной как молибденовая сталь и горячий как сердце - высовывается из кабины, заслоняет ладонью солнце - все умолкают - и уверенно, гневно вопрошает: "А зачем ты лез в чужую квартиру? Зачем вскрывал сейф? Ради денег? А Рим? А Манила? А Москва? А твой внук? А Девочка? А Писатель? Ты не имеешь права!". И поезд послушно трогается, всей мощью своей надвигаясь на кроваво-красные огни склонившихся в ужасе семафоров. Всем известно, что там, за семафорами, только неухоженная и давно заброшенная ветка - Дорога в Никуда, - и всем кажется, что поезд перевернулся, что неминуемое крушение уже произошло, что пассажиры низвергнуты из рая в ад. Но поезд бесстрашно и свирепо, с какой-то самоуверенной обреченностью, сворачивает на Дорогу в Никуда, и ведомый доном Эскобаром, не обращающим ни малейшего внимания на стоящих у насыпи мальчишек и девчонок, дружно желающих пассажирам доброго пути, летит к самой последней станции, к истинному месту следования, о котором с самого начала было известно машинисту, но о котором ничего не знают те, шумной толпой галдящие на холодной платформе шестой остановки. Только вот пассажиры уже стали умнее, гораздо умнее тех, галдящих попусту - на этой ветке все набираются ума. И хотя поумневшие пассажиры все еще привычно строят опрятные планы на завтра, но все они прячут глаза, ибо сердца их охвачены неясной тревогой, и даже ужасом, - недаром они столько испытали за свой последний век. Но они доедут, неизвестно когда, но они обязательно доедут, и им даже станет легче на душе после того, как дон Эскобар объявит им название седьмой и последней станции на их долгом пути: Станция Мортуис. Чем-то леденящим веет от этого слова - Мортуис. Уж не потому ли, что оно так напоминает другое слово - Смерть. Но поезд мчится дальше, и хотя ужас стучится в их отяжелевшие сердца, им некогда думать о смерти. И вот уже, размахивая желтыми, как осенние листья, фонариками, ходят по узким коридорам вагонов молодцеватые проводники в униформах и кричат: "Всем пассажирам приготовиться. Следующая станция - Мортуис"...
Старик уже совсем близко от кладбища, но сумерки уже сгустились и заходить на кладбище, пожалуй, страшновато. Будь сейчас утро, он зашел бы туда. Ему по душе светлая тишина, нарушаемая лишь редкими всхлипываниями да птичьим гомоном. И он любит читать высеченные мастеровыми на мраморных надгробиях даты, эти даты уравнивают всех на свете - и больших, и малых, - но сейчас, увы, слишком темно, и старик решительно сворачивает к своему дому. Стороннему наблюдателю невдомек, что там его ждет не дождется мальчишка, который слишком мал для того, чтобы погибать в пожаре надвигающейся атомной войны. Но старый человек, и это тоже нелегко заметить со стороны, искренне считает что сделал все возможное, и что, следовательно, совесть у него чиста перед богом и людьми. Странные мысли посещают старика во время его ежевечерних прогулок...
...В последние недели сердце все чаще и чаще напоминает о себе. Чечетка, джига, вальс-бостон, блюз, - и в самое скверное время суток. Вероятно, мое сердце считает себя самым неутомимым солистом на свете. Боюсь, оно ошибается, манкируя мнением своего старого, издерганного жизнью хозяина. Странно, раньше я и не замечал, что оно бьется, разве что иногда в теплую погоду мерзли ноги. Впрочем, я не боюсь смерти. Раньше боялся, - а теперь перестал. Я сделал все, что было в моих силах, определил свою позицию. И своих не пустил по миру, - помогли старые, крепкие как пеньковая веревка, связи. Ведь в Москве оставаться нам никак уже было нельзя. Ну, можно было, конечно, попытаться, но то была бы жизнь в одиночестве, разве к такой мы привыкли, и, кроме того, там нам пришлось бы явственнее испытать на себе истинную цену дружбе лицемерных подлипал, а их столько набралось вокруг меня за последние годы! Будучи дальновиднее и опытнее всех членов моей семьи вместе взятых, я хорошо знал, где нам было бы лучше. К счастью, пеньковая веревка не подвела, да и ИМ удобнее было отправить меня не на каторгу, а в почетную южную ссылку. Что ж, на нечестную игру я не могу пожаловаться: в память о былых заслугах мне предоставили обширную квартиру в сравнительно благоустроенном районе Тбилиси, вблизи от Багебского кладбища - здесь, несмотря на близость к центру, относительно чистый воздух, - и подарили машину, - во всяком случае, пока я жив, отбирать ее у нас не станут. Да и зятек мой внакладе не остался: я пристроил этого симпатичного, но слабого человека на прилично оплачиваемую, но необременительную должность в русскоязычной тбилисской газете. В общем, я действительно сделал все что мог, и мне нечего боятся Станции Мортуис. Только бы не началась война. Жалко внучка. Всех жалко, конечно, - но его особенно. Он такой смышленый и неприспособленный. И потом, что там ни говори, он все-таки мой внук. Других у меня нет.
Последние месяцы я влачу растительное существование. Почти не заглядываю в газеты, редко смотрю телевизор - я как-то растерял интерес к Остальному Миру. Но та информация, которая, несмотря ни на что, все же достигает до моих ушей и глаз, утверждает меня в старом мнении: ненависть приведет к войне. Неужели ОНИ не смогут остановиться? На Земле ничего не изменилось, абсолютно ничего. Для чего читать газеты и смотреть телевизор? Для того, чтобы ознакомиться с анатомией очередного международного кризиса? Не стоит тратить время зря, тем более, что его у меня осталось не так уж много...
Честное слово, будь я помоложе - напился бы как безработный моряк. На меня давит груз прожитых лет, немилосердная память о людях и времени, которых уже не вернуть. Но человек пьющий, жалкое подобие хомо сапиенса, способен жить только настоящей минутой. Завтра он будет сожалеть, но - поздно, поздно! Писатель не выдержал и умер нетрезвым, но я не хотел бы брать с него в этом пример. А ведь он оказался прав: петушковый дом давно снесли. Боже, дай мне силы достойно встретить свою смерть. А лучше всего умереть от инфаркта глубокой ночью и никого не тревожа. Как мой отец. Как давно это было!
Недавно я встретился со Старухой. Она гуляла в парке Победы с маленькой внучкой. Как смешно - у нас внучата, трудно поверить! Мы поговорили о том о сем, но разговор не получился. Как и прежде вежливые взаимные кивки, пара-другая фраз-голышей, дистанция. Антона уже нет и нам нелегко поминать старое доброе время. Но уходя я успел заметить: годы ничуть не изменили ее к худшему, она такая же стройная и тоненькая как тогда, разве что высохла да поседела, и будь я помоложе - никто бы меня не остановил. Я обязательно приударил бы за ней. И пусть бы все завертелось с самого начала.
Странные мысли приходят мне в голову во время моих ежевечерних прогулок на свежем воздухе. Но всему свой конец, и вот уже я, кряхтя как отживший свое паровоз, поднимаюсь по лестнице на второй этаж и звоню в знакомую дверь. Еще одна страница календаря оторвана, еще одним днем ближе до Станции Мортуис...
Х Х Х
...А потом, что было потом?
- Потом начался обмен. Идеями, ископаемыми, техникой. Словом - обмен в самом высоком смысле.
- Ну обмен техникой и полезными ископаемыми, - это понятно. Но обмен идеями? Мы ведь так сильно отличаемся от людей.
- Не так сильно, как это кажется на первый взгляд. Но мы поняли это сравнительно недавно. Видишь ли, очень уж мы разнимся внешне. Это мешало. Но обмен все же происходил. На первых порах - очень осторожный. Тогда регуляне и представить себе не могли, что наступит время и книги написанные человеком займут в их библиотеках почетное место. И не просто книги, не справочники и учебники, а художественная литература и даже юмористические журналы.
- Мы, регуляне, не могли, значит, представить, а люди могли?
- Конечно же, нет. Они были такими же беспомощными, как и мы. Впрочем, надо признать, в гуманитарных областях знаний мы отставали. У нас была письменность - но не было писателей, были краски - но не было художников, были звуки - но не было музыки, были формулы - но не было диалектики. Мы от них многому научились. Стали мягче.
- А с каких пор это у нас началось?
- На самом деле мы всегда были к этому готовы. Прогресс нельзя остановить, поэтому наше "размягчение" было исторически обусловлено. Да и на поверхность мы рано или поздно выбрались бы. Но в эпоху первых контактов никто из наших и не помышлял о том, что с людьми можно общаться на равных, как с союзниками. И они отвечали нам взаимностью. На определенных условиях мы соглашались терпеть их, а они - нас. Тогда на Земле, как и сейчас, было двоевластие. Но о таком явлении, как взаимопроникновение культур, не могло быть и речи. За высказывание завиральных мыслей можно было запросто попасть в Великий Патриотический Фонд. Но контакт принес нам слишком много материальных выгод, нам удалось принципиально обновить фундамент нашей экономики, жизнь Регула стала гораздо разнообразней. Тебе сегодня смешно, но понятие меню вошло в наш обиход только после контакта. Турниры-Праздники приказали долго жить. Спустя некоторое время они превратились в ритуал, в некую освященную временем самобытную традицию. А потом и вовсе в спорт, что-то вроде твоего любимого хоккея с шайбой, - в состязание силы и ловкости, исключавшее несчастные случаи со смертельным исходом. Еды сегодня хватает на всех, а преступников мы стараемся перевоспитать.
- Верно, мы отменили Фонд, но в какой-то, и может даже в излишней степени, мы стали зависеть от благорасположения людей. Можем ли мы быть уверены в их добросовестности? Не переплатили ли за меню и комфорт? Не оставили ли они нас в дураках?
- Начнем с того, что полная, безграничная независимость была хуже. Худой Мир,- и то лучше Доброй Ссоры, а между нами ныне установлен Хороший Мир. Человечество ведь тоже очень много получило от нас, многому научилось. Благодаря достижениям нашей технологической мысли они сегодня лучше удовлетворяют свои постоянно возрастающие потребности. Не забывай, что до отмены Фонда как такового, в области культуры мы им ничего не могли предложить. Культуры у нас попросту не было. Вернее были ее зачатки, ведь своими истоками наша культура восходит к эпохе ожесточенных битв с Бедными Глупыми Богатыми Червями и их духовными наследниками. Но история наша была суровой, - суровой по необходимости, но все же очень суровой и жестокой, - и от данного факта некуда скрыться: потому зачатки эти не могли развиваться как положено. И мы сегодня котируемся на культурном рынке человечества только благодаря контакту. Но взаимопонимание с бывшими врагами пришло не сразу. Только когда выгоды от экономического сотрудничества стали очевидными для самого отсталого Мохнатого, когда материальный обмен, проще говоря - торговля, приобрел устойчивый характер, когда рядовой Мохнатый начал чувствовать себя личностью свободной от вековых догм, вот тогда и изменилось наше отношение к культурным ценностям человечества. Будучи передовой расой в технологическом отношении, мы уступали человечеству в философском понимании мира, но к счастью, нам хватило таланта осознать наше отставание. И тогда мы принялись наверстывать упущенное: у нас появились первые отечественные стихи и новеллы, симфонии и трактаты. Первые наши шаги в искусстве были робкими, детскими, мы часто падали и ушибались, но нас поддержали. Переводили на человеческие языки сочинения наших писателей, осмысливали в человеческих категориях поэтические находки наших поэтов, исполняли в филармониях произведения наших композиторов, допускали наших художников к участию в престижных вернисажах, извлекали из наших трактатов рациональное зерно. И наши первопроходцы почувствовали, что они не одиноки, что их талант может рассчитывать на признание не только у себя дома. Мы ощутили некую общность судеб с человечеством, поняли что находимся в одной лодке с расой людей, осознали как опасно бездумно раскачивать эту лодку. Кроме того, культурному обмену сопутствовали и другие благотворные перемены. Например, в один прекрасный день мы решились отменить Великий Патриотический Фонд - тебе прекрасно известно, что ныне весь Регул празднует эту дату как великий праздник. Отменив Фонд мы приоткрыли дверь в лучшее будущее. Но, повторяю, лед начал таять только под впечатлением прямых выгод от экономического сотрудничества.
- И все-таки, неужели подвох со стороны правителей человеческой расы абсолютно исключен? Не стали ли мы более уязвимыми? И не грозит ли Регулу - так, между прочим, - опасность полного уничтожения
- Абсолютно исключать такую возможность, разумеется, нельзя, таких гарантии нет в природе. Поэтому мы поддерживаем нашу обороноспособность на довольно высоком уровне. Но разве в природе есть какие-либо абсолюты кроме, разве что, некоторых физических констант? Разве можно полностью исключить возможность того, что, например, в нашу планету врежется шальная комета? И разве невозможен подвох с нашей стороны? Разве у Мохнатых отсохли клешни? И разве наши военные заводы демонтированы? Зато ныне права Мохнатого ограждены от произвола Лучших и Разумнейших законом. Мы познали вещи, о которых раньше не имели никакого представления, жизнь наша стала многомерной, - вот что действительно важно. Горячие и глупые головы найдутся и у нас, и у них. Общая задача регулян и людей - не допустить к власти реакционеров и экстремистов. И пока эта задача решается успешно. Конечно, между двумя цивилизациями сохраняются очевидные различия, в том числе и принципиальные, но подавляющему большинству разумных существ ясно: взаимное сотрудничество облегчает жизнь всем нам. Мы выиграли даже больше. Посуди сам. Разве тебе не показалась бы пресной собственная жизнь без любимых книг написанных не только регулянами, но и людьми, жизнь без театров, без футбола и шахмат, без вкусной еды? Ты хотел бы отказаться от всего этого? А ведь ничего подобного у регулян в незапамятные времена Эволюционной Эпохи не было. Нас было слишком мало, потому что мы поедали друг друга, и мы были грубы, потому что несмотря на внешнее единство не знали ничего, кроме кровавой борьбы и узаконенной междоусобицы.
- Выходит, между регулянами и человечеством заключен неравный брак? Ты ведь сам сказал, что мы получили больше. Но если это действительно так, то человечество должно им тяготиться. Пробьет урочный час, и что будет с нами тогда?
- Ну, может я не вполне ясно высказался. На деле человечество получило долгожданный гражданский мир. Само наше существование, постоянная потенциальная угроза со стороны Регула, скрепляет человеческую цивилизацию лучше всякого цемента, И у нас есть все основания полагать, что люди хорошо осознали это. Прежде на Поверхности бушевали истребительные войны, которые они называли Мировыми. Самой короткой и самой разрушительной была последняя, третья по счету. И прорвись Регул на Поверхность в эпоху предшествующую Третьей Мировой, неизвестно, согласились бы наши Лучшие и Разумнейшие разговаривать с расколотым на враждующие лагеря противником. Регул мог попытаться захватить всю Землю силой. Это было бы величайшим преступлением, но в ту пору мы, пожалуй, совершили бы его. И это стало бы величайшей глупостью, ибо взорвав материки и изменив лицо планеты, Регул не получил бы взамен ничего существенного: вся Земля утонула бы в торжествующей над прахом поверженного соперника деспотии. Нам следует благодарить судьбу за то, что мы немного опоздали, и еще за то, что панцыри не могут защитить нас от губительного солнечного излучения, - этот чисто физиологический фактор подрезал нашим империалистам клешни.
- А как по-твоему, не появись мы, пережило бы человечество Четвертую Мировую Войну?
- В рамках диалектической логики на твой вопрос невозможно ответить точно. Шесть десятилетии с лишним они держались. Даже достигли успеха в деле объединения Поверхности. А потом появились мы и ситуация резко изменилась. Вообще-то, человек существо малонадежное, чувствующее себя уверенно только когда видит перед собой очевидную угрозу. Тогда он мобилизуется на отпор. А так... Миротворцев у них хватало и до Третьей Мировой, не говоря уже о первых двух. Недавно мне попался на глаза раритет - их древний учебник по истории - там приведены любопытные факты... Но это тема другой беседы.
- Но я хочу задать и обратный вопрос: Неужели если бы человечества не существовало, регуляне вынуждены были бы вечно терпеть произвол Лучших и Разумнейших, пополнять соотечественниками Великий Патриотический Фонд и обрекать себя на вечную темноту, бескультурье и отсталость? Можно ли, позволительно ли, утверждать подобное?
- И на это тоже невозможно ответить однозначно. Возможно, наука и нашла бы какое-то позитивное решение. Но вряд ли можно сомневаться в том, что без контакта наш мир сегодня управлялся бы куда более жесткими законами, чем те, которые сформировали нас с тобой. Даже если бы такое решение и было найдено, и мы, в конце концов, выбрались бы на тропу культурного прогресса, - это произошло бы ценой невообразимо больших потерь. И потом: зачем гадать о том, что могло произойти, но не произошло, если в таком гадании нет нужды. И запомни: Хороший Мир - лучше Доброй Ссоры. Это главное. И надо ценить достигнутое и уважать чужие интересы. В прежние времена между Гордыми Мохнатыми Пауками царили подозрительность и вражда, еле прикрытые медоточивыми речами, а то и не прикрытые ими вовсе. А сегодня мы можем откровенно обсуждать любые вопросы, даже те, которые волнуют нас больше всего. Разве этого мало?...
Х Х Х
Мир огромен думал я уткнувшись носом в мокрую гальку Мир неисчерпаем а рядом плескались дети и низенькие волны раз за разом накатывались на меня и когда мне надоело лежать на животе я встал и победоносно оглядел весь широкий пляж Я увидел ее в голубом купальнике и больших черных очках Она с кем-то разговаривала и смеялась а я... Жизнь моя промелькнула передо мной за один-единственный миг Я ничего не знал и ничего не желал знать повернулся и вбежал в зеленую солоноватую воду и поплыл куда глаза глядят. Солнце взобралось на самую вершину купола и жгло по-летнему немилосердно а она не могла и не старалась меня удержать и не было на свете силы способной вернуть ее в прошлое и потому мне оставалась только плыть да плыть за горизонт к белому кораблику что серой мухой полз по моресклону И я несколькими мощными взмахами рук настиг белый кораблик Во имя человеколюбия кричал я захлебываясь от пены Во имя человеколюбия и огня спустите шлюпку и поднимите меня на борт Но капитан молчал презрев правила хорошего тона и морского братства во имя точного исполнения таможенных законов и я отправился в обратный путь и до сих пор не понимаю как это меня не поглотила пучина и выбрался на равнодушный солнечный берег а она стояла в голубом купальнике подставив полуобнаженную грудь солнцу и весело улыбалась прохожим не обращая на меня никакого внимания Но ей не удалось меня обмануть я заметил как она подсматривала за мной краюшком глаза наверно думая вот человек способный ради меня доплыть до горизонта и вернуться обратно Откуда было ей знать что капитан попросту отказался взять меня на борт. Я подарил ей лунный взгляд отвернулся и попросил у соседа газету В Ливане шла война, бомбили палестинские лагеря в Западном Бейруте а в пятом туре межзонального турнира Ларсен опять закончил партию вничью Молчание затягивалось и мне стало ясно что от ее взора ничего не укроется Она откинув мяч в аут и покачивая бронзовыми от загара бедрами ушла с волейбольной площадки и заняла привычное место за столиком в столовой спального корпуса Фламинго В ее честь из бассейна одна за другой стали вылетать рыбы Рыбы сладострастно шипели на великой сковородке любви и голода а громкоговорители на пляже не щадя своих потрепанных мембран пели Подари Мне Лунный Камень Но пробил час отдыха и их сразу отключили Подари Мне Лу... и пришла пора мне сдавать топчан местной капитанской дочке Капитанская дочка посмотрела сквозь меня как сквозь медузу я положил топчан на место и побрел прочь как окаянный Что поделаешь жаловался я Демиургу Спальный корпус Фламинго мне не по карману Она меня не любит Сволочь капитан чуть не утопил меня в этой луже Война в Ливане может кончиться только одним полным провалом Ларсена в межзональном состязании Канитель с топчанами сведет меня с ума Море кипело под Солнцем Я был совершенно одинок и немного несчастен Мимо меня толпой валили дымящиеся от загара трудяги с Колымы и Алдана Они поправляли себе здоровье и жадно впитывали в себя жаркие лучи полуденного Солнца и орали Банзай когда им выпадали дама семерка и туз а мне совершенно нечего было делать и я опять вернулся на пляж и в отчаянии кинулся в прохладную воду Я яростно поплыл в глубину рассекая плавниками волны Я дышал через жабры и разучился понимать человеческую речь Эх написать бы обо всем книгу с горечью подумалось мне Написать бы хорошую книгу Книгу О Ларсене и о Ливане О голоде и о любви О нахлебниках и о наследниках И о многом другом Например о том что это лето никогда не повторится и о том что каждый человек будь он трижды замужем или женат хоть немножко да и живет двойной жизнью и о том что каждый умирает в одиночку и о том что каждый заслужил немножко счастья и о том что каждый должен хоть раз но отдохнуть в спальном корпусе Фламинго Как жаль что я совсем не умею писать ведь никто другой не скажет того чего сказал бы я Сказал бы и умер ради бога Получилась бы здоровенная очень толстая книга Может книга Может липа А может просто бумажная салфетка Я поплыл обратно постепенно превращаясь в человека Кто-то сказал если писатель может не написать книгу он и не должен ее писать А я... Я не могу ее не написать Пусть липу Пусть бумажную салфетку Пусть даже учебник по сольфеджио для глубоководных моллюсков Не могу не написать и пускай страдают другие Или не читают Все равно я пишу... Пишу ли Неужели я не шучу Какой из меня писатель Лучше я буду играть в волейбол перед спальным корпусом Фламинго и возбуждать интерес скучающих дам И так каждое лето А мечты пускай останутся мечтами Но... Если я не могу ее не написать то у меня просто нет выбора Но какую прорву времени ухлопаю я на мое новое хобби Стану посмешищем для людей которые боятся как бы чего не случилось ни дурного ни хорошего И капитан никогда не возьмет меня на борт Но лучше утонуть Утонуть чем ничего не сказать И пускай закончится война в Ливане а Ларсен станет чемпионом и я украду один два три года у себя самого но я напишу напишу напишу и "кроме свежевымытой сорочки, скажу по совести, мне ничего не надо" Мне??? Год...Два...Три...
1







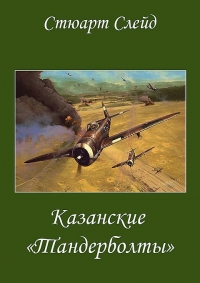
Комментарии к книге «Станция Мортуис», Георгий Борисович Лорткипанидзе
Всего 0 комментариев