Том Пардом Искупление Августа
Как может человек, не обладающий писательским даром, дать неведомой читательской аудитории представление о том, что значит жить под немцами? Как может он раскрыть реальность прусской тирании людям, живущим в обществе, которое никогда не было изуродовано подобной катастрофой? Вас никогда не вынуждали глядеть на помои, которые немецкие спутники связи льют в гостиные Европы. Вас никогда не допрашивала немецкая служба госбезопасности, заставляя мучительно взвешивать каждое слово, хотя сам он на человеческом языке изъясняется с изяществом тех, кто всю жизнь лает и хрюкает. Вы никогда не видели, как французские школьники стоят по стойке «смирно» у себя в классе и поют — на родном языке! — гимн, восхваляющий человека, являющего собой высший символ их унижения, немецкого кайзера!
Вы, возможно, не имеете представления о спутниках связи. По моим предположениям, раньше чем через пятьдесят лет мои заметки никто не прочтет. Если вам случится вскрыть конверт до указанного срока, могу только сообщить, что настанет день, когда люди будут передавать движущиеся изображения точно так же, как сейчас они передают сведения по радио и телефону. В каждом жилище будет аппарат, принимающий такие изображения. Теоретически каждый гражданин цивилизованного мира получит возможность наслаждаться (недорого и с полным удобством) любым творением гения, когда-либо созданным для подмостков. Пьесы Расина, оперы Люлли — все они будут в распоряжении любого фермера в самой безлюдной глуши.
Однако в обстановке, в которой мне пришлось влачить первые десятилетия моей жизни, редко выпадали случаи, когда спутники передавали подобные бесценные шедевры. Час за часом, день за днем европейские народы оглуплялись дешевыми развлечениями, подбираемыми толстозадыми болванами, которые распространили Kultur по Европе на острие своих штыков.
Один мой дядя провел шесть лет в тюрьме, потому что осмелился воспротивиться нашим немецким «опекунам» и «дружественному французскому правительству», чистящему их прусские сапоги. Сам я вынужден был жить в изгнании на самой южной оконечности Африки. С тех пор как мне исполнилось двадцать три года и почти до сорока лет — то есть в возрасте наибольшей активности — я был отторгнут от родного языка, от искусства и музыки, еды и питья моего народа, от всего привычного и родного, что питает душу истинного патриота.
Меня зовут Алайн Варесс. Пишу я это в 1914 году, но родился я в Лионе в 1971-м. Всего два месяца назад я дышал отравленным воздухом девятого года XXI века. Всякий, кому случится прочесть это в ближайшие годы, сочтет меня сумасшедшим. Через пятьдесят лет, когда гигантские самолеты будут с ревом проноситься в небесах, а люди будут привычно пользоваться электронными приборами, моя история покажется более правдоподобной. Если мистер Гринуэй прав, мои читатели к тому времени успеют привыкнуть к спутникам связи с электронными информационными системами. А несколько лет спустя, еще до конца XX столетия, вы увидите начало исследований, которые позволили мне — и тому, помешать кому я явился — совершить путешествие во времени.
Я не вполне понимаю научные открытия, благодаря которым оказался здесь. Я был просто служащим, бухгалтером в обсерватории, нанявшей меня. Могу только сказать вам, что принцип, которым я воспользовался, каким-то образом связан с колоссальными магнитными полями, окружающими некоторые астрономические тела. Один из молодых астрономов обсерватории понял, что время можно каким-то образом перекрутить, и начал ставить эксперименты на основе своих идей.
Он доверился сотруднице, ставшей для него чем-то вроде наперсницы, она все рассказала мне, и два года спустя я обнаружил себя во Франции, чуть в стороне от проселочной дороги, с соленоидом за спиной и портативным электронным прибором в руке. Устройство контролировало силы, генерируемые соленоидом.
А перед тем функционеры прусской диктатуры чуть было не перечеркнули мои надежды. Разумеется, они ничего не знали о моем намерении укрыться в прошлом. Однако преследовали меня, так как обнаружили, что я пробрался в родную страну по подложному паспорту. За пятнадцать минут до того, как я намеревался покинуть свое временное пристанище, ко мне заявились сотрудник госбеза и коллаборационист. Газовый баллончик вывел коллаборациониста из строя. А меткий пинок в соблазнительную цель оставил колбасную задницу извиваться на газоне. Однако к тому времени, когда я выехал на шоссе, вертолет уже преследовал мой грузовичок, мчавшийся по дороге. Когда я встал перед соленоидом, тридцать немецких солдат ринулись на меня, и я крепче сжал руль велосипеда в ожидании, когда задействованные мною силы проявят себя.
Невозможно объяснить, какое ощущение возникает после перемещения во времени. Я планировал прибыть в июнь 1914 года, чтобы
провести месяц в Париже до того, как истечет последнее лето свободного города, но миновало две недели, прежде чем я начал по-настоящему наслаждаться парижской жизнью. Вначале мне день-деньской приходилось напоминать себе, что прохожие на улицах — настоящие люди. Да и еда первое время не доставляла удовольствия, так как я сомневался в ее питательной ценности.
Я планировал добраться до Парижа на велосипеде. И даже сумел раздобыть модель, пропорции и рама которой соответствовали образцам начала XX века. На велосипеде, с запасом хлеба и сыра, я мог доехать до Парижа и без денег. В Париже я продам двенадцать маленьких алмазов, которые захватил с собой, и проблема наличности будет решена. План был отличный, но, конечно, ничто никогда не происходит так, как вы рассчитали. Только немецкий штабист по тупости своей способен верить, будто он предусмотрел все детали. Я проехал пять миль, и тут шину прокололо. В моем собственном времени я на велосипеде не ездил и после часа бестолковой возни обнаружил, что не знаю, как пользоваться инструментами. И мой с трудом добытый велосипед остался лежать под кустом.
К счастью, я захватил с собой еще и дорогую гармонику на случай, если мне понадобятся деньги еще по пути в Париж. Гармоники за девяносто пять лет не очень изменились — даже название фирмы осталось прежним, — так что я продал свою в ближайшем городке и купил билет на поезд.
Мой поспешный отъезд, кроме всего прочего, означал, что при мне оказались кое-какие предметы, которые я не собирался брать с собой. Немцы застали меня, когда я переодевался, и мне пришлось оставить брюки 1914 года в саквояже и обойтись только пиджаком 1914 года. Мой бумажник все еще покоился в кармане брюк двадцать первого века, поэтому я прибыл в новую «среду обитания» с несколькими пластиковыми карточками, а также электронным счетным устройством — своего рода арифмометром, величиной и толщиной с визитную карточку. И еще я проследовал сквозь время с газовым баллончиком, который был прикреплен к карману рубашки.
И вот я зажил в Париже среди роскоши последнего безоблачного июня в истории этого города — столицы пока еще свободной республики. Я обедал в ресторанах, где немцы были просто иностранцами. Я сидел в кафе и наблюдал, как входят и выходят впервые увиденные мною истинно свободные французы и француженки. Я занимался любовью с молодыми женщинами, которые никогда не принаряжались и не вертели задницами в надежде, что их ухватят тевтонские лапы. И в последний день июня, пока газеты все еще печатали первые сообщения о реакции на убийство Франца-Фердинанда, я отправился к бельгийской границе для встречи с таинственным Гринуэем.
Три дня спустя я увидел, как человек, вовлекший меня в это необычайное приключение, катит на своем велосипеде в сторону от центра городка. Я возвращался в наш отель после посещения железнодорожной станции и узнал его, поскольку накануне вечером определил, что это именно тот, кто мне нужен. В городке он оказался единственным anglais:[1] подходил по возрасту и объяснял, что снимает фотографии для книги о французских провинциях, которую пишет — в точности то же говорил и Гринуэй, о котором я знал.
Было уже 3 июля. Через пару-другую дней он, согласно имевшейся у меня информации, покинет отель и поселится на ферме Динаров; менее чем через тридцать дней во Франции и Германии будет объявлена мобилизация, и орды генерала фон Клюка вторгнутся на нейтральную территорию Бельгии. Воплощение шедевра прусской милитаристской морали — плана Шлиффена, что преисполняет их такой гордостью, начнется тогда, когда немецкие войска пересекут границу, которую апостолы Kultur поклялись уважать. Огромные армии под командованием фон Клюка начнут оттеснять более слабые французские и английские части, численность которых была до смешного мала, поскольку никто в Париже и Лондоне не верил, что орды по ту сторону Рейна действительно решатся нарушить свою клятву и растоптать нейтралитет Бельгии. Войска фон Клюка вторгнутся во Францию по дуге, обойдут Париж, и французская армия окажется в окружении менее чем через полтора месяца после начала военных действий.
Такой была немецкая стратегия, и фон Клюк скрупулезно следовал плану, превращая его в реальность, изуродовавшую всю мою жизнь. Каждый ужас, который омрачал мое существование, каждая секунда тех девяносто пяти лет стыда и тирании, которые последовали за капитуляцией французской армии в сентябре 1914 года, были прямым следствием беспощадности, с какой фон Клюк выполнил маневр, планировавшийся немецким генеральным штабом почти два десятилетия. Однако был момент, когда фон Клюк подумывал внести изменения в разработку Шлиффена. Фон Клюк признался в этом в своих мемуарах. Его солдаты устали. Он полагал, что французская армия истощила свои силы, безуспешно атакуя центр немецкого фронта. И он не знал, что в Париже все еще находятся несколько дивизий резерва.
Фон Клюк был уже готов завернуть дугу перед Парижем — где ему во фланг нанесли бы удар резервные силы, остающиеся в распоряжении командующего парижским сектором. И этой ошибки он избежал (как вы заметите, если внимательно прочтете его мемуары) только из-за полученной срочной радиограммы, не зашифрованной, в которой немецкое верховное командование сообщало ему о французских резервах и без экивоков приказывало и дальше действовать в строгом согласии с первоначальным планом.
Но кто послал эту радиограмму, от которой в конечном счете зависел успех плана Шлиффена? На исходе 1940-х годов небольшая группа американских академиков посвятила этому вопросу немалую часть своей научной работы. Лидеры Германской Пан-Европейской гегемонии официально ни разу этого не признали, однако свидетельства нескольких немецких штабистов указывали, что никто в главном штабе этой радиограммы не посылал.
В 1996 году, роясь в стопке старых книг у букинистов Йоханнесбурга, я наткнулся на томик, автор которого, Раймонд Франсуа Мартинель, жил в американском городе Филадельфия и писал под псевдонимом L'Exilé.[2] Назывался томик «Августовские заговоры», и на его страницах Мартинель изложил свою всеобъемлющую теорию, основанную на открытиях куда более известной писательницы Маделины Леско, исследовавшей загадочные события, имевшие место на ферме вблизи бельгийской границы. Некий англичанин по фамилии Гринуэй снял там комнату в июле 1914 года. Когда началось немецкое наступление, Гринуэй сказал дочери Динаров, что он английский агент. У него с собой было радио, и Гринуэй утверждал, что должен сообщать сведения о передвижениях немецких войск. Дочь и ее брат спрятали его, когда немцы обыскивали ферму в поисках оружия. В какой-то момент брат решил уйти из дома с дробовиком и присоединиться к своим друзьям, намеревавшимся героически обстрелять ту или иную немецкую колонну. Гринуэй испугался, что юноша привлечет внимание к ферме. Он пригрозил ему ножом, отнял дробовик и в схватке ранил юношу ножом в бедро. Рана загноилась, и несколько недель спустя юноша лишился ноги. Через много лет, услышав о спорах по поводу радиограммы, он написал мадам Леско. Когда та выбрала время поехать в его деревню, он уже умер от алкоголизма, и ей пришлось собирать историю по крупицам, расспрашивая его друзей.
По мнению Раймонда Изгнанника, история эта доказывала, что мистер Гринуэй был немецким шпионом. Каким-то образом он узнал от агентов в Париже о резервных дивизиях. И взял на себя смелость радировать приказ от имени своего начальства.
Это была увлекательная, хорошо написанная книга. Вечер, который я посвятил ей, доставил мне массу удовольствия. Однако по многим причинам поведение «шпиона» показалось мне маловразумительным. Способен ли какой бы то ни было немец так дерзко действовать через голову начальства? А потом, годы спустя, я узнал о возможности путешествий во времени…
Меня часто критиковали за опрометчивость, и, бесспорно, иногда она ставила меня в тяжелое положение. С другой стороны, меня чуть было не арестовали, потому что я решил задержаться на пятнадцать минут, чтобы еще раз тщательно проверить все приготовления. И вот теперь, увидев, как он едет куда-то на своем велосипеде, я схватил свою машину, оставленную перед входом в отель. Я уже сумел заглянуть в дверь его номера и увидел — там стоит большой кофр. Моя поездка на станцию исключила возможности, что он оставил там что-то на хранение. В течение получаса после того, как городок остался позади, я следовал за беглецом по мощеной белой дороге мимо аккуратных фермерских домиков и ухоженных полей — французская сельская местность не была изуродована ордами автомобилей, кварталами загородных резиденций и другими «благами» немецкого технического и экономического прогресса. Затем он свернул на проселок, и я остановил его в уединенном месте, где мы были наедине с ветром, который гнал рябь по пшеничным полям обочь дороги.
Когда я наставил на него револьвер, глаза его выпучились, а руки взлетели вверх с такой торопливостью, что я чуть не расхохотался. Я подумал, что он отдаст мне ключи, едва я их потребую, но вместо этого он начал мне возражать. В его кофре, настаивал он, нет ничего ценного.
Вам следует помнить, что мое нападение на сотрудника госбеза и его французского лакея было первым серьезным насильственным действием в моей жизни. Я полагал, что Гринуэй будет покорно выполнять мои инструкции, едва посмотрит в дуло револьвера. Мне и в голову не приходило, что он примется спорить со мной.
Конечно, я мог бы просто убить его. Я уже решил, что готов взойти на гильотину. Однако пока я просто хотел получить доступ к его радио.
Я было подумал оглушить его рукояткой револьвера, но тут же понял, что не знаю, куда бить и с какой силой. Вместо этого я попытался оборвать его вяканье, сказав единственные слова, которые могли убедить, что я готов спустить курок:
— Дайте мне ключи, месье. Я не хочу вас убивать, но не пытайтесь убедить меня, будто я этого не сделаю. Таким образом я вернее всего помешаю некоему генералу фон Клюку получить вашу знаменитую радиограмму. Я пожертвовал всей своей жизнью, лишь бы помешать вам послать ее. Если мне придется взойти для этого на гильотину, я согласен.
Он заткнулся, едва до него дошел смысл моих слов. Затем на его лице отразилось волнение — то волнение, которое я время от времени видел на лицах ученых, когда они натыкались на какую-нибудь новую идею.
Вяканье возобновилось, и, слушая этот поток французского в английском исполнении, я понял, что он опять забыл про револьвер. Все его мысли сосредоточились на том, что я, оказывается, тоже путешественник во времени. А это, как и мое присутствие здесь, подтверждает успех его миссии. Голос вырвался из моей груди рыком, который, подозреваю, был также воплем боли:
— ОТДАЙ МНЕ КЛЮЧИ! И нож на твоей лодыжке, о нем я тоже знаю.
На этот раз он взял себя в руки. Отдал мне нож. Отдал мне ключи. Снял галстук и позволил мне привязать кисти к раме его велосипеда. Но все это время он продолжал говорить и говорить, пытаясь убедить меня, что нам с ним следует «обменяться информацией касательно хода наших альтернативных историй», что я должен поддержать его безумное покушение на судьбу цивилизации.
Я располосовал обе шины его собственным ножом и уехал, а он все еще бормотал мне вслед. Выезжая на мощеную дорогу, я откинул голову и торжествующе рассмеялся. Кто-нибудь когда-нибудь за всю историю французского народа совершил что-нибудь сравнимое с этим? Все, что наговорил так называемый англичанин, только подтверждало верность моей гипотезы. Он действительно добрался сюда для передачи таинственной радиограммы, которая принудила генерала фон Клюка противостоять соображениям, убеждавшим, что ему следует подправить план Шлиффена. И Гринуэй предпринял подобное путешествие — каждая его фраза подтверждала это! — поскольку в истории его мира фон Клюк последовал своему инстинкту, план Шлиффена провалился, и Франция в конце концов сумела одержать победу! Я же прожил всю свою жизнь в обществе, где источником всех бед был тайный агент, самонадеянно изменивший ход истории!
Когда я вернулся в отель, в номере Гринуэя возилась горничная. Мне пришлось спрятаться в собственном, пока она не завершила уборку. Я понял, что нашел радио, когда, порывшись в кофре Гринуэя, наткнулся на металлический ящик в правом углу на самом дне. Но когда я попытался извлечь ящик из кофра, оказалось, что он приварен к днищу. Я принялся торопливо искать замок, а затем выругался, сообразив, что представляют собой четыре медных диска на левой стороне ящика. Диски выглядели кнопками, но на самом деле это было электронным приспособлением. Гринуэй обеспечил ящик электронным комбинированным замком под видом механического запора.
И снова мне удалось совладать со своей пресловутой опрометчивостью: прежде чем покинуть номер, я убедился, что коридор свободен. Невозмутимо и осторожно я прошел через кафе при отеле и тем же шагом, с той же невозмутимостью проследовал из отеля в магазин, расположенный в ста метрах. Я купил крепкий топорик с длинной рукояткой и проследил, чтобы его хорошенько упаковали, а затем вернулся в номер Гринуэя и запер за собой дверь.
На этот раз под дулом револьвера оказался я. Выяснилось, что имелся еще один нож — складной, не упомянутый в сообщении мадам Леско. Мой пленник разрезал свои путы и поймал попутный грузовик.
Я был уверен, что он меня не застрелит. Он явно предпочитал избегать действий, которые могли бы привлечь к нему серьезное внимание. По его требованию я положил топорик и вновь был вынужден выслушивать его бредни.
Вначале я предполагал, что он был немецким агентом, переправленным в прошлое немецкими заговорщиками, которые пытались исправить ошибки своих генералов. Теперь мне пришло в голову, что он действительно мог быть эгоманьяком, верящим, будто ему дозволено единолично определять судьбу всего человечества. По его словам, все XX столетие представляло собой серию непоправимых катастроф — и каждый кошмар в его перечне происходил исключительно из-за того, что немецкие варвары потерпели поражение в своей попытке завоевать Францию. В том будущем, из которого он явился, план Шлиффена действительно провалился, потому что фон Клюк отступил от данных ему инструкций. Война, утверждал Гринуэй, превратилась в «пат», и миллионы людей погибали в прямых атаках на укрепленные позиции, которые тянулись поперек всей карты Европы. А после этой была вторая война, даже еще более страшная, чем первая. Были кровавые бойни и революции, и — как прямое следствие провала плана Шлиффена и новой немецкой попытки завоевать Европу — создание супербомб, способных уничтожать целые города. И он здесь — я должен, должен ему поверить! — лишь для того, чтобы предотвратить гибель всего человечества. Ну а для этого подонки кайзера Вильгельма должны стать властителями Европы.
Даже если он и был немецким агентом, то явно не профессиональным. Говорил он так, как ученые, с которыми мне довелось встречаться. Был он щуплым, костлявым, с выпирающим животом. И держал свой револьвер, будто безобидную курительную трубку.
— Чем вы занимались в вашем времени? — спросил я.
Он словно бы растерялся — как будто не мог понять, почему я задаю личный вопрос, а потом ответил, что был физиком. Где-то под Лондоном, утверждал он. Он работал с ускорителями — понятие мне известное — и экспериментировал с некими элементарными частицами, о которых я никогда не слышал, но которые он называл «кварками». И он разработал принцип путешествия во времени самостоятельно, в одиночку, и в глубокой тайне, ибо почитал своим священным долгом спасти мир от ужасов, которые его постигнут, если план Шлиффена провалится. Он всегда интересовался историей (странное увлечение для физика) и задумал свое безумное предприятие лишь потому, что всегда видел в решении фон Клюка подправить план Шлиффена поворотный пункт европейской истории XX века.
Некоторые его фразы, касавшиеся научных вопросов, походили на те, что я слышал в разговорах в кафетерии обсерватории. Но что это меняло? Разве не могла группа немецких заговорщиков использовать в качестве агента настоящего физика? В конце-то концов они не могли предвидеть, что ему придется иметь дело с кем-то вроде меня.
Вероятно, что-то в выражении моего лица насторожило его. Он попятился и, схватив револьвер двумя руками, прицелился мне в ногу.
— Не надейтесь, что у меня не хватит духу выстрелить. Я поймал вас у себя в номере над открытым кофром. Все мои документы в полном порядке. Безусловно, я предпочел бы не привлекать к себе внимания. Но это не значит, что я откажусь от мысли обезвредить вас хотя бы на пару-другую недель.
Я поднял руки и, пятясь, вышел из номера. Вечером в коридоре раздался шум, и я услышал, как он отдает распоряжения двум дюжим парням, которые выносили его вещи из отеля.
Первое письмо было доставлено четыре дня спустя. Я был потрясен, сообразив, что принес его мне Леон Динар — молодой человек, которому через несколько недель предстояло лишиться ноги. Он явно звезд с неба не хватал, но происходившее разожгло его любопытство. А потому было нетрудно заставить его разговориться. Гринуэй приехал раньше, чем намеревался, и с той минуты не выходил из своей комнаты. Прежде он объяснял месье Динару, что хочет понаблюдать ежедневную жизнь фермы, а теперь заявил, что работает над своей книгой и его нельзя отвлекать.
Леон был не против сгонять на велосипеде в город, дабы навестить своего «друга». При всей его внушительной мускулатуре он был еще настолько юным, что отгадать пол его «друга» не составило труда. Я вручил ему чаевые, достаточные для приятного общения в местной кондитерской, и сказал, что ответ приготовлю к следующему вечеру, если он согласится съездить в город еще раз.
Само письмо оказалось повторением бредовых измышлений Гринуэя, но изложенных более логично и освеженных дополнительными подробностями. Вновь меня попотчевали СОТНЯМИ ТЫСЯЧ МОЛОДЫХ ЛЮдей, которых косили пулеметы, когда их поднимали из окопов в атаку, огромными, испепеляющими города бомбами и угрозой, которую несли бомбы.
Утверждения эти излагались с такими подробностями, что я был бы полным тупицей, если бы не понял: в определенной мере они опираются на факты. Честно говоря, имелась одна подробность настолько чудовищная, что было трудно поверить, чтобы кто-то — и уж тем более немецкий агент — мог бы ее измыслить. Во время второй войны, утверждал он, прусские автоматические куклы пошли за тираном, который довел извращенные инстинкты немецкой души до их логического завершения и использовал достижения техники современного ему общества, чтобы убивать газом и сжигать миллионы людей.
Над этой частью его письма я размышлял более часа. Мог ли какой бы то ни было немецкий агент сказать подобное о своем народе?
Но как, как я мог поверить его утверждению, будто генералы союзников столь бессмысленно транжирили людские ресурсы своих стран в массированных лобовых атаках, которые он описывал с таким смакованием? Я мог бы поверить, что так поступали немецкие генералы. Ну, и английские, вероятно, могли бы. Но генералы моей родной страны? С их традицией воинской доблести и блистательной стратегии? Мой собственный отец следил за наступлением японской армии, когда она оккупировала Китай, двигаясь под прикрытием бронированных машин и пикирующих бомбардировщиков во второй половине века. Как мог я поверить, что европейские генералы до этого не додумались? На протяжении войны, которая, предположительно, длилась несколько лет?
Но неважно. Даже если каждое его слово было истиной, какое это имеет значение? Один факт оставался неопровержимым. Даже если все его утверждения были чистой, неприкрашенной правдой — а я этому не верил, — конечно же, все французские солдаты, погибшие в битвах, о которых сообщало его письмо, предпочли бы отстоять мир, где в конце концов восторжествовали бы цивилизация и справедливость. Разве не лучше умереть, сражаясь, чем прожить век в позоре и варварстве, на которые он обрек нацию, признанную душой Европы?
Я посылал ему наихитрейшие ответы, какие только мог придумать — лишь бы он продолжал писать мне. Леон сновал между нами каждый день. Под конец я предупредил Леона, что в доме его отца поселился шпион, подосланный немцами, поскольку немцы считают, что убийство австрийского эрцгерцога скоро приведет к войне. Ну а сам я правительственный агент, получивший задание собрать неопровержимые доказательства деятельности Гринуэя.
Однажды вечером я поехал на ферму с Леоном и спрыгнул с велосипеда задолго до того, как Гринуэй мог бы заметить меня на дороге. Я подошел к дому сзади через луга и присоединился к Леону у задней двери. По словам хозяина, Гринуэй всегда открывал дверь комнаты, когда Леон возвращался из города с письмом. Вдвоем мы легко могли захватить коротышку врасплох и ворваться в его покои.
Дверь комнаты Гринуэя заскрипела, когда я еще только крался вверх по лестнице за широкой спиной Леона. «Англичанин», очевидно, высмотрел, как Леон слез с велосипеда перед домом, и, конечно, недоумевал, почему парень мешкает.
На этот раз из револьвера прицелился я. Гринуэй растерялся, одной рукой придерживая дверь, и, обогнув Леона, я бросился к нему.
Он попытался ударить меня ногой, и мы сцепились на верхней площадке. На мгновение мой взгляд уловил манящий соблазнительный кофр в комнате за открытой дверью.
Жгучая боль пронизала мою ногу. Мои пальцы на его запястьях разжались, он снова пнул меня ногой и вырвался. Дверь захлопнулась, я услышал, как щелкнул засов.
Я обернулся, все еще не в силах распрямиться от боли, и увидел, что Леон смотрит на меня с ухмылкой поперек широкой физиономии. Олуха случившееся только насмешило! Я заорал на него и тут увидел, что внизу у лестницы стоит его сестра. А позади нее — их родители, и я выпрямился, пренебрегая болью и стараясь придумать объяснение, которое удовлетворило бы умы, не затуманенные сменой трех поколений под ярмом тевтонской оккупации.
Естественно, Гринуэй теперь попытался убедить сестру Леона в том, что он английский агент, как указывалось в материалах, собранных мадам Леско. Он даже показал Эстелле радио и удостоверение личности, которое сумел подделать. Леон продолжал доставлять мне письма, но был совсем сбит с толку.
Однако Гринуэй не хуже меня знал, что я могу положить конец всем его грезам, просто швырнув несколько слов соответствующим немецким офицерам, когда орды в серых шинелях будут маршировать мимо дома Динаров. Эстелла сумела спрятать его и радио от обычного немецкого обыска в поисках ружей и дробовиков, но сумеет ли она укрыть его от обыскивающих, которых предупредили, что им следует искать английского агента и его радио? Пусть от мысли о необходимости сотрудничать с немецкими садистами у меня мурашки бегали по коже, но ведь ирония заключалась в том, что это был простейший способ обеспечить их окончательное поражение.
Но теперь его письма сосредоточились на новой идее: почему бы ему и мне не стать союзниками и не воззвать к ведущим мировым фигурам? У нас же уже есть его радио, настаивал он, как неопровержимое доказательство, что мы прибыли из иной, более передовой эпохи. И вместе мы могли бы «предсказать» события ближайших недель, что послужит еще одним доказательством. В Англии, подчеркнул он, ему удалось разбогатеть, заключая пари на исход разных спортивных состязаний, искусно используя эту всем известную английскую страсть. Его связей, возможно, мало, чтобы обеспечить нам встречу с премьер-министром, но они, несомненно, откроют доступ к «смелому политику», который в настоящее время занимает пост первого лорда адмиралтейства.
Вероятно, я сразу же отверг бы его предложение, если бы он не назвал Уинстона Черчилля. Кроме него он не нашел кандидатуры — разве что романист Г.Д.Уэллс, который следующие тридцать лет не уставал восхвалять немецких завоевателей за их «Объединение Европы»! С другой стороны, первый лорд адмиралтейства был с детских лет одним из моих любимых героев. Он единственный из всех английских политиков считал, что никакое английское правительство не может признать завоевание, опирающееся на нарушение нейтралитета Бельгии. Он один до конца жизни вступался за французский народ.
Я мог даже представить себе, что Черчилль поверит нашей истории. Его пристрастие к дерзким идеям было легендарным. И, разумеется, у меня имеется материальное доказательство, которое смутило бы любого закоренелого скептика. Политический деятель, не слишком осведомленный в технике, мог бы и не понять, чем радио Гринуэя так уж принципиально отличается от современного беспроволочного телеграфа. А вот мой калькулятор покажется чудом всякому, кто понаблюдает за тем, как он умножает одно число на другое.
И разве не будет лучше, если Черчилль прислушается к нам, так что мы и спасем Францию от поражения, и поможем ей избежать испытаний затянувшейся войны?
К этому времени я прочел уже дюжину пространных писем Гринуэя и утратил прежнюю уверенность в том, что он был орудием чудовищного плана, состряпанного какими-то тевтонскими фанатиками в будущем мире, где наступление фон Клюка завершилось заслуженным фиаско. В своих письмах он много порассказал мне о себе, причем некоторые эпизоды указывали, что он действительно тот, за кого себя выдает — одинокий человек, скорбящий о судьбе мира в уединении своего кабинета. Он даже занимался наблюдением за птицами — традиционное развлечение одинокого англичанина. Из одного его письма следовало, что он решил покинуть собственное время — видимо, в начале восьмидесятых годов его XX века, — потому что один из мировых лидеров, американский президент, если я верно его понял, вовлек страну в гонку вооружений, которая, заключил Гринуэй, «неизбежно привела бы к войне, означающей полную гибель цивилизации». Его достижения как ученого, утверждал он сам, были «посредственными». По его словам, он всегда знал, что если ему и удастся сделать важное открытие, то лишь благодаря непредвиденной случайности. Он держал свои открытия втайне и совершил это путешествие по собственной инициативе, так как поверил, что наконец-то ему представился случай оказать миру важную услугу.
Эта картина отвечала моим собственным наблюдениям за учеными. Многие из них обращались к политике, когда понимали, что им, вопреки их честолюбивым мечтаниям, никогда не стать вторым Пастером или Кюри. И многие с легкостью убеждали себя, что их обширные научные познания гарантируют глубокое понимание политических проблем.
Я расхаживал взад-вперед по своему номеру. Письма Гринуэя принимали все более и более возбужденный тон. И 27 июня — за шесть дней до того, как первые немецкие сапоги начнут попирать бельгийскую землю — я согласился встретиться с ним.
Согласно уговору я должен был сойти с велосипеда в ста ярдах от дома так, чтобы он меня увидел. Тогда, убедившись, что я не проскользну в его комнату, пока он будет отсутствовать, он выйдет из дома, мы встретимся на дороге и обсудим наши следующие шаги.
Однако, когда я слез с велосипеда, он уже поджидал меня за живой изгородью. И я вновь оказался под прицелом его револьвера.
Я предполагал такой ход событий, а потому оставил свой пиджак в отеле и приехал в одном жилете. Едва он выступил из-за изгороди, я поднял руки и начал поворачиваться так и эдак, показывая ему, что мне негде было припрятать револьвер.
— Я безоружен, — сказал я. — Поймите это. Я никакой угрозы не представляю.
Его голос звучал прерывисто и хрипло, будто он несколько дней ни с кем не разговаривал.
— Мне нужен только калькулятор, Алайн. Отдайте мне его и можете ехать.
Я пожал плечами.
— Я здесь как раз для этого.
— Я не могу оставаться тут, пока вы рыщете вокруг, и я не могу быть уверен, что вы передумали. Я по-прежнему хочу, чтобы вы присоединились ко мне позднее — после того, как я налажу нужные контакты.
Я снова пожал плечами.
— Калькулятор у меня в кармане жилета. Что я должен с ним сделать?
— Положите его на землю. Затем отступите на три шага. Напоминаю, я вооружен.
Я достал калькулятор из жилетного кармана и, положив его, попятился на три шага. Он смерил меня недоверчивым взглядом, затем шагнул вперед, не спуская глаз с моего лица.
На один лишь момент его взгляд сместился. Он наклонился к калькулятору и, видимо, подчинился желанию нажать на кнопки и убедиться в исправности приборчика.
Я все время опасался, как бы он не заметил, что одна из авторучек в нагрудном кармане моего жилета была вдвое толще, чем следовало бы, но, видимо, в обществе, откуда он явился, дезориентирующие газы еще не были открыты. Он поднял глаза, когда я шагнул к нему, но еще не был готов выстрелить. Из баллончика вырвалась струя жидкости и расплылась облаком перед его лицом. Я шагнул в сторону — на случай, если он выстрелит, — но он сел на землю и уставился на меня с тем же идиотичным выражением, которое я заметил на лице сотрудника госбеза.
Эстелла хлопотала на кухне, но на этот раз я мог пренебречь соблюдением законности. Она, в свою очередь, опустилась на пол, а я схватил топорик, который ее семья держала у задней двери.
После моего тогдашнего визита Гринуэй поставил на своей двери еще и пружинный замок, но теперь мной владела бешеная ярость. Топорик крушил дерево и металл. А затем еще несколько ударов сбили замок с кофра. Я взмахнул топориком, и он обрушился на металлический ящик и его сатанинское содержимое.
Раньше я допускал возможность, что Гринуэй купит замену своему радио, но сейчас понял: моя тревога была совершенно беспочвенной. Ему требовалась портативная, работающая на батарейках модель, которую нетрудно спрятать и которая способна посылать сильный сигнал на пятьдесят километров. Здесь и сейчас ничего подобного не существовало. Каждый удар моего топорика разбивал детали, замену которым можно будет найти только через пятьдесят лет, если не позже.
Он уже стоял во дворе, когда я выбежал наружу. Но какое теперь это имело значение? Его револьвер был засунут за мой пояс. Калькулятор остался при мне. Его радио было разбито вдребезги. Я нацелился в него газовым баллончиком; он заслонил лицо ладонями и попятился.
Я чуть не расхохотался, когда поглядел через плечо и увидел, что он преследует меня на своем велосипеде. В конце-то концов он был почти на пятнадцать лет старше. И тут я обнаружил, что он сокращает расстояние. Я ведь уже проделал путь до фермы и напрягал все силы, работая топориком. К тому же пребывал в перевозбуждении с той секунды, когда он прицелился в меня.
Я вытащил револьвер из-за пояса и, напряженно крутя педали, сумел высыпать патроны на дорогу. Затем я помахал ему револьвером и бросил оружие в пшеничное поле. Сейчас было не время стрелять в кого-то. Я мог сделать для Франции только одно — и твердо намеревался совершить это.
Я надеялся, что он остановится и попробует подобрать револьвер, но он продолжал нагонять меня. Лицо у него до того побагровело, что могло показаться, будто он обгорел на пляже. Я нагнулся над рулем, словно спуртуя на последней миле Тур де Франс, и сумел увеличить расстояние между нами на несколько метров. Затем я задохнулся, и он их отвоевал, а затем приблизился ко мне еще на метр.
В ретроспективе это была та смесь великолепия и комичности, оценить которую в полной мере способен только галльский ум. Настал один из решающих моментов европейской истории. Судьба всех мужчин и всех женщин, родившихся в XX веке, зависела от исхода происходящего — участниками были только двое запыхавшихся мужчин средних лет, отчаянно крутивших педали на проселочной дороге.
Разумеется, я мог бы отдать ему калькулятор. Я был даже способен понять, отчего у него могло зародиться подозрение, что ему не стоит мне доверять. Но, предположим, я отдал бы ему калькулятор, а затем оказалось бы, что он все-таки был путешествующим во времени немецким агентом, отправленным изменить естественный ход истории? И даже если он был одиноким эгоманьяком и действительно открылся бы мировым лидерам, вдруг ему поверили бы только немцы? Разве сам план, приведший его сюда, не доказывал, что он мрачный фанатик, который поможет прусским ордам растоптать Европу своими сапогами, если сочтет, что другого способа достижения его цели не существует?
Мимо нас прогромыхали два-три деревенских грузовика. Автомобиль коммивояжера, чихая, проследовал во встречном направлении. Я обогнул запряженную лошадью повозку, и в следующее мгновение мой обезумевший преследователь промчался мимо лошадиной головы.
Я понял, что он меня обязательно догонит и решил ехать помедленнее в надежде, что присутствие возчика принудит его держать свою ярость в узде. Но, поравнявшись со мной, он потянулся к моему плечу, и я резко свернул к обочине, вытаскивая из кармана газовый аппаратик.
Велосипед выскользнул из-под меня. Я упал на Гринуэя, и мы сплелись в клубок из рук, ног и велосипедов. Рама больно вжалась мне в спину. Он ухитрился накатиться на меня сверху, и, увидев обрушивающиеся на меня кулаки, я закрыл руками лицо и горло.
Эти кулаки забарабанили по моей груди, словно он пытался оглушить меня, остановив мое сердце. Где-то надо мной заржала лошадь.
Я почувствовал болезненное нажатие на мою грудную клетку — мне в кожу словно вонзился какой-то острый уголок — и почти улыбнулся, оценив иронию ситуации.
Я понятия не имею, где Гринуэй находится сейчас. Возможно, в эту самую минуту он сидит в какой-то комнате — в Англии? в Германии? — и беспомощно пялится на бесполезную погнутую вещицу, которую в бешенстве сам же и испортил.
Сегодня 6 августа — День Льежа, День Высшего Ужаса, день, когда надменные приспешники кайзера совершили преступление, которое сохранится в памяти каждой благородной души с этого дня и до конца времен. Лишь несколько часов назад, когда город Льеж проигнорировал немецкий ультиматум и отказался капитулировать, над ним пролетел немецкий цеппелин и убил девятерых беззащитных граждан города, бросая бомбы с воздуха. Каждый год моей жизни с раннего детства я поминал 6 августа во всех церемониях, в которых мне удавалось участвовать. Мальчиком во Франции я принадлежал к непокоренному меньшинству тех, кто собирался на тайных поминальных службах и приходил в школу в траурной одежде. В годы моего изгнания я всегда присоединялся к безмолвному шествию по улицам Йоханнесбурга, которое мои товарищи-экспатрианты организовывали для ежегодного напоминания о кошмарах, клубящихся в немецких душах. На этот раз я воздам дань уважения Девяти Мученикам, завербовавшись в армию Французской Республики. На приобретение необходимых документов ушли почти все мои оставшиеся деньги, но я уверен, никто не станет особенно придирчиво их рассматривать.
Повсюду вокруг меня доблестные молодые люди дружно поют, маршируя в направлении границы, и лица их горят воодушевлением в убеждении, что они вступают в сражение с величайшим злом, какое только знавал наш мир. Для них это просто убеждение, интуиция сознания, не помраченного черным тевтонским туманом, окутавшим мою нацию. И на этот раз вместе с ними будет маршировать некто, кто вступает в сражение, побуждаемый опытом, некто, кто своими глазами видел ужасы мира, в котором предстоит жить им и их потомкам, если они позволят победить себя.
И больше август не будет вспоминаться как месяц, когда зло одержало свою величайшую победу. И 6 августа никогда не станет днем, который человечество вынуждено вспоминать со стыдом и муками.
Примечания
1
Англичанин (фр.).
(обратно)2
Изгнанник (фр.).
(обратно)





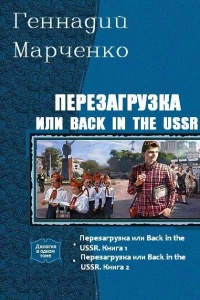
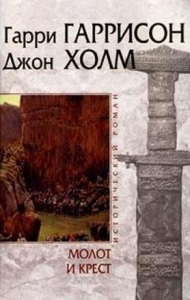

Комментарии к книге «Искупление Августа», Том Пардом
Всего 0 комментариев