Борис Штерн Второе июля четвёртого года
(Новейшие материалы к биографии Чехова)
К 50-летию со дня смерти Антона Павловича Чехова
Пособие для англичан, изучающих русский язык, и для русских, не изучавших русскую литературу.
1
Первая подробная и хорошо документированная биография Чехова на английском языке написана Дэвидом Магаршаком и широко известна в Англии. Она была оригинально переработана прекрасным английским писателем Уильямом С. Моэмом, которого в России почему-то называют Сомерсетом Моэмом (Сомерсетом звали его отца) для своего литературного эссе «Искусство рассказа» и впервые издается в изложении на русском языке с необходимыми дополнениями в свете ранее не известных и абсолютно неожиданных документов. Цитаты из книги Моэма в дальнейшем не оговариваются.
Эта биография является хроникой блистательных чеховских побед вопреки бедности, обременительным обязанностям, мрачной среде и слабому здоровью. Из этой интересной книги читатель должен знать следующие факты. Антон Павлович Чехов родился 16 января 1860 года. Его дед Егор Михайлович был крепостным, он скопил денег и выкупил себя и троих сыновей. Один из них, Павел Егорович, со временем открыл бакалейную лавку в городе Таганроге на берегу Азовского моря, женился на Евгении Яковлевне Морозовой и произвел на свет пятерых сыновей и одну дочь.
Антон был его третьим сыном. Павел Егорович, человек необразованный и глупый, был эгоистичен, тщеславен, жесток и глубоко религиозен. [Необъективная, поверхностная оценка Моэма, другие биографы Чехова не столь категоричны]. Много лет спустя Чехов вспоминал, что в пятилетнем возрасте отец приступил к его обучению — каждый день бил, сек, драл за уши, награждал подзатыльниками. Ребенок просыпался по утрам с мыслью: будут ли его и сегодня бить? Игры и забавы запрещались. Полагалось ходить в церковь два раза в день на заутреню и вечерню, целовать руки монахам, дома читать псалмы. С восьми лет Антон должен был служить в отцовской лавке с вывеской:
«ЧАЙ, САХАРЪ, КОФЕ, МЫЛО, КОЛБАСА
И ДРУГИЕ КОЛОНИАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ»
Под этим полуграмотным названием лавка и вошла в русскую литературу в одном из рассказов Чехова. Она открывалась в пять утра, даже зимой. Антон работал мальчиком на побегушках в холодной лавке, здоровье его страдало. А позже, когда он поступил в гимназию, заниматься приходилось только до обеда, а потом до позднего вечера он был обязан сидеть в лавке. Неудивительно, что в младших классах Антон учился плохо и дважды оставался на второй год. Своим одноклассникам он не очень запомнился. Так о нем и писали: никакими особенными добродетелями или способностями не отличался. По-русски это называется «ни то, ни се».
Когда Антону исполнилось шестнадцать лет, его неудачливый отец обанкротился и, опасаясь ареста и долговой тюрьмы, бежал от кредиторов в Москву, где два его старших сына, Александр и Николай, уже учились в университете. Антона оставили одного на три года в Таганроге — кончать гимназию. Он вздохнул свободно и «вдруг» обнаружил такое прилежание по всем предметам, что стал получать пятерки по бесконечно ненавистному ему греческому языку и даже давать уроки отстающим ученикам, чтобы содержать себя.
А.П.Чехов: «Разница между временем, когда меня драли, и временем, когда перестали драть, была страшная».
Через три года, получив аттестат зрелости и ежемесячную стипендию в двадцать пять рублей, Антон перебирается к родителям в Москву. Решив стать врачом, поступает на медицинский факультет. В это время Чехов — долговязый юноша чуть ли не двух метров ростом, у него круглое лицо, светло-каштановые волосы, карие глаза и полные, твердо очерченные губы. Неприятным сюрпризом для Антона явилось то, что он, оказывается, говорил на «суржике» [южнорусский диалект с сильным влиянием мягкого украинского языка]: «стуло», «ложить», «пхнуть», «Таханрох»; а в прошении о зачислении в университет слово «медицинский» написал через «ы» — «медицЫнский». [Англичанам сразу следует запомнить, что слова «ложить» в русском языке не существует. Только «класть».]
Семья Чеховых жила в полуподвальном помещении в трущобном квартале, где располагались московские публичные дома [что-то вроде нашего лондонского Ист-Энда прошлого века]. Отец нигде не работал — хотел, но не мог устроиться, старшие братья учились, перебивались случайными заработками и любили «покутить» в дешевых московских кабаках. Антону пришлось взвалить на себя обязанности главы семьи. Он привел двух знакомых студентов — они должны были жить и кормиться у его родителей. Студенты давали семье 40 рублей в месяц, еще двадцать платил третий жилец. Весь доход семьи вместе с таганрожской стипендией Антона составлял восемьдесят пять рублей и уходил на прокорм девяти человек и на квартирную плату. Вскоре переехали на другую квартиру, попросторней, но на той же грязной улице. Студенты обитали в одной комнате, жильцу выделили отдельную комнатку поменьше. Третью комнату занимал Антон с младшими братьями Иваном и Михаилом, четвертую — мать с сестрой Марией, а пятая служила столовой, гостиной, а также спальней братьям Александру и Николаю. Павел Егорович наконец-то устроился работать приказчиком на продуктовом складе [в амбаре] за тридцать рублей в месяц, обязан был там ночевать и приходил домой только по воскресеньям и праздникам, так что на какое-то время семья избавилась от этого деспотичного и неумного человека, с которым так трудно было жить.
Антон любил и умел рассказывать смешные истории. Слушатели всегда покатывались со смеху. Он решает попробовать писать небольшие юмористические рассказы, чтобы облегчить тяжелое положение семьи — он слышал, что журналы неплохо платят. Написал свой первый рассказ [«Письмо к ученому соседу»] и отослал в петербургский журнал «Стрекоза». Однажды вечером, возвращаясь из университета, купил очередной номер и увидел, что рассказ напечатали. Гонорар за него причитался в пять копеек за строчку. Строчек было 150, и гонорар составил 7 рублей 45 копеек. Первый успех обнадежил. Чехов стал слать в «Стрекозу» по рассказу ли чуть не каждую неделю, некоторые принимались, но другие возвращались с оскорбительными комментариями, например: «Не начав писать, уже исписались». Литературные нравы в те времена были не лучше современных. Чехов не очень-то обижался, а отвергнутые рассказы пристраивал в московские газеты, хотя там платили еще меньше, кассы редакций пустовали, и авторы должны были дожидаться в коридоре, пока мальчишки-газетчики принесут с улицы копеечную выручку.
Первым, кто хоть как-то помог Чехову войти в литературу, был петербургский издатель с легкомысленной фамилией Лейкин. Николай Лейкин и сам писал юморески, за свою долгую жизнь написал их тысячи, ни одна не осталась в литературе. Через много лет в конце жизни Лейкин, накачиваясь водкой в литературных салонах, бил себя кулаком в грудь и гордо кричал:
— Это Я сделал Чехова!
Над ним посмеивались, но понимали, что в чем-то старик прав. Ранние рассказы Чехова мало чем отличались от юморесок его литературных собратьев, но в них чувствовался «свежак», как говорил Лейкин. Он подрядил Чехова поставлять в свой журнал «Осколки» еженедельно по рассказу в сто строк, положив ему солидный гонорар по восьми копеек за строчку, и строго следил, чтобы не было ни одной лишней строки. Получилась жесткая, но полезная школа для молодого писателя, потому что волей-неволей приходилось вкладывать необходимое содержание в небольшой объем, т. е., писать кратко.
— Краткость — сестра таланта, — правильно говорил Лейкин молодому автору, хотя эта фраза по традиции приписывается Чехову.
«Осколки» были юмористическим журналом; когда Чехов присылал что-то мало-мальски серьезное, Лейкин сетовал, что автор не оправдывает ожидания публики, но все-таки публиковал их. На чеховские рассказы обратили внимание, он уже приобрел некоторую известность, однако навязанные рамки размеров и жанра начали его тяготить, и тогда Лейкин, человек, по-видимому, добрый и разумный, устроил Чехову договор с «Петербургской газетой» — туда он должен был каждую неделю писать рассказы более длинные и серьезные за те же восемь копеек строка. С 1880 по 1885 год Чехов написал триста рассказов!
Они писались для заработка. Такая работа в искусстве презрительно именуется халтурой. Но это слово надлежит выкинуть из лексикона литераторов. [Кстати, в русском языке слово «халтура» имеет два значения: а). «плохая работа» и б). «побочная работа»; к Чехову, конечно, это слово, если и применимо, то только во втором смысле.] По себе знаю [Моэм], что начинающий автор, открывший в себе страсть к писательству (а откуда она берется — загадка, столь же неразрешимая, как загадка пола), если о чем и мечтает, то о славе, но, уж во всяком случае, не о богатстве (хотя слава и деньги часто гуляют рядом), и он прав, потому что первые шаги обычно автору доходов не приносят. Но, становясь профессиональным писателем, то есть таким, кто писательством зарабатывает на жизнь, он не может не заботиться о деньгах, которые получает за свое искусство. Эти его заботы читателя совершенно не касаются.
Чехов писал свои бессчетные рассказы и одновременно учился на медицинском факультете. Писать он мог только по вечерам, после целого дня учебы и работы в больнице. Условия для литературных трудов были малоподходящие. От жильцов, правда, избавились. Семья переехала в квартиру получше, но, как писал Чехов Лейкину:
«Я зарабатываю неплохо, а нет ни денег, ни порядочных харчей, ни угла, где бы я мог работать. Денег у меня ни гроша. С замиранием сердца жду первого числа, когда получу из Питера рублей шестьдесят. В соседней комнате кричит детеныш приехавшего погостить родича, в другой комнате отец читает матери „Запечатленного ангела“, кто-то завел музыкальную шкатулку, и я слышу „Елену Прекрасную“. Постель моя занята приехавшим сродственником, который то и дело подходит ко мне и заводит разговоры то о медицине, то о литературе. А как же, в медицине и в литературе все разбираются! Ревет детеныш! Даю себе слово никогда не иметь детей. Французы имеют мало детей, вероятно, потому, что они рассказы пишут. Новорожденных же надо воспитывать так: обмыть, накормить и выпороть, приговаривая: „Не пиши, не пиши, не пиши!“»
В 1884 году у Чехова открылось кровохарканье. В семье был туберкулез, как видно, наследственный, и Чехов не мог, конечно, не знать этих симптомов, но из страха, что опасения оправдаются, не соглашался показываться специалисту, — такая мнительность для будущего врача непростительна. Чтобы успокоить мать, он заявил, что кровотечение вызвано лопнувшим сосудом в горле и никак не связано с чахоткой. В конце того же года он сдал экзамены и стал дипломированным врачом. Несколько месяцев спустя он наскреб немного денег и отправился в первый раз в Петербург, куда его давно и настоятельно приглашал владелец «Петербургской газеты» богатый издатель Суворин, но Чехов в шутку отговаривался, что у него нет новых брюк. В каждой шутке есть доля правды, а в этой ее было все сто процентов — Антон всегда донашивал брюки старших братьев.
До сих пор Чехов не придавал особого значения своим рассказам — он писал их для денег и, по его же собственным словам, больше одного дня на сочинение рассказа никогда не тратил, — однажды он на спор «на бутылку», сидя на подоконнике, потому что негде было сидеть, написал за пол-часа рассказ о пепельнице. Но, приехав в Петербург, Чехов, к удивлению своему, обнаружил, что он — знаменитость. Казалось, его рассказы были так несерьезны, однако тонкие ценители в Петербурге, бывшем тогда столицей и центром культурной жизни России, разглядели в них свежесть, живость, оригинальность. Чехову был оказан радушный прием. Он увидел, что к нему относятся как к одному из талантливейших писателей современности. Издатели журналов наперебой приглашали его сотрудничать и предлагали гонорары гораздо выше тех, что он получал до сих пор. Современники описывают следующий случай в редакции Суворина:
«Познакомив Чехова с сотрудниками своего издательства, Суворин строго сказал им:
— То, что пришлет нам этот молодой человек, немедленно ставить в номер, не редактируя!
— И не читая, — добавил Чехов и, выйдя из суворинской бухгалтерии, отправился в хороший магазин и впервые купил себе новые брюки.»
Один старый и уважаемый русский писатель [Дмитрий Григорович] написал Чехову восторженное письмо, призвал уважать собственный талант, оставить легкомысленные рассказы, какие он писал до сих пор, и взяться за сочинение серьезных произведений. Тот же писатель попросил тогдашних острых на язык журналистов «не обижать Чехова», на что услышал в ответ:
— Да кто же Чехова обижает, дура? [В русском языке женское «дура» по отношению к мужчине звучит не оскорбительно, а ласково-покровительственно.]
На Чехова все это произвело сильное впечатление, однако становиться профессиональным писателем он не решался. Он говорил, что медицина — его законная жена, а литература — всего лишь любовница. Чехов лукавил, все-таки он был двоеженцем. Фраза «Лучший врач среди писателей, лучший писатель среди врачей» — это о нем. В Москву он вернулся с намерением зарабатывать на жизнь врачебной деятельностью, но о том, чтобы обзавестись выгодной практикой, особенно не заботился. Многочисленные знакомые Чехова присылали ему своих знакомых-пациентов, но Чехову «неудобно» было брать с них деньги, и эти пациенты редко платили за визиты. Так он и жил — веселый и обаятельный молодой человек с заразительным смехом. Он всегда был дорогим гостем в богемном кругу своих приятелей. Он много пил — точнее, он любил выпить, — еще точнее, он умел пить, — но, кроме как на свадьбах, именинах и по праздникам, никогда не употреблял лишнего. Женщины к нему льнули, у него было несколько романов, впрочем несерьезных. Чехов не хотел жениться, боялся изменить сложившуюся жизнь [однажды, говорят, удрал чуть ли не из-под венца, совсем как литературный персонаж Гоголя], и на этом основании недоброжелатели распускали слухи о какой-то будто бы его неполноценности. Чтобы покончить с деликатной темой чеховских «любовей», откроем известные всей тогдашней Москве тайны: в разное время у него гостили певица Эберле, художница Дроздова, писательница Авилова, артистка Щепкина, бывшая невеста Эфрос, и, конечно, Лидия Мизинова, — к судьбе этой женщины мы еще вернемся. [Известны и другие чеховские подруги, некоторые из этих дам были замужем.]
Свидетельства современников о внешности Чехова удивляют, воспринимаются как не вполне достоверные. Все кажется, что Чехов — это невысокий хрупкий человек, со слабой грудью, с негромким, хрипловатым от тяжелой легочной болезни голосом. Но вот художник Коровин вспоминал:
«Он был красавец. Вся его высокая фигура, открытое лицо, широкая грудь внушали особенное к нему доверие. У него был низкий бас с густым металлом; дикция настоящая русская, с оттенком чисто великорусского наречия; интонации гибкие, даже переливающиеся в какой-то легкий распев, однако без малейшей сентиментальности и, уж конечно, без тени искусственности».
«Таханрох» и «ложить пинжак на стуло» остались в далеком прошлом.
Один чеховский биограф очень верно заметил, что люди жившие рядом с Чеховым словно бы не в силах были увидеть его во весь рост. Когда вчитываешься в мемуары, возникает впечатление, «что Чеховых было много», каждый писал о каком-то своем Антоне Павловиче Чехове. Даже внешне Чехова воспринимали по-разному: «мнительность, тихий голос» и «бас с густым металлом» как-то не вяжутся. Для одних он был стеснительным, болезненным интеллигентом в пенсне и в шляпе, для других — веселым, «своим парнем», для третьих, завистников, — подзаборным пьяницей, литературным халтурщиком, «певцом сумерек». У меня [Моэма] тоже, наверно, получается какой-то свой Чехов — такой, которого я здесь описываю. Это очень важное наблюдение: ЧЕХОВЫХ БЫЛО МНОГО. Я еще вернусь к этой теме.
Шло время, Чехов неоднократно ездил в Петербург, путешествовал по России. Каждую весну, бросая немногочисленных пациентов, он вывозил все свое семейство за город и жил там до глубокой осени. Как только в окрестностях, становилось известно, что Чехов — врач, его начинали осаждать больные, и, разумеется, при этом ничего не платили.
Для заработка он продолжал писать рассказы. Они пользовались все большим успехом и оплачивались все лучше и лучше. Бывало, что в одном номере «Осколков» выходило сразу несколько чеховских рассказов, зарисовок, сценок, фельетонов, заметок, репортажей, и, чтобы не создавалось впечатления, что журнал держится на одном авторе [а так оно и было], приходилось брать псевдонимы. Не откажем себе в удовольствии привести здесь далеко не полный список чеховских подписей: Антоша, Анче, Че, Чехонте, Макар Балдастов, Брат моего брата, Врач без пациентов, Вспыльчивый человек, Гайка N_5, Гайка N_0, 006, Грач, Дон Антонио, Дяденька, Кисляев, Ковров, Крапива, Лаэрт, Нте, Прозаический поэт, Пурселепетанов, Рувер, Рувер и Ревур, Улисс, Человек без селезенки, Хонте, Шампанский, Юный старец…въ, Зет, Архип Индейкин, Василий Спиридонов Сволачев, Известный, Захарьева, Петухов, Смирнова и так далее.
Однако жить по средствам у Чехова не получалось. В одном из писем Лейкину он писал:
«Вы спрашиваете, куда я деньги деваю… Не кучу, не франчу, долгов нет, я не трачусь даже на содержание любовницы (любовь мне достается даром), и при всем при том у меня из трехсот рублей, полученных от Вас и от Суворина перед Пасхой, осталось только сорок, из коих ровно сорок я должен отдать завтра. Черт знает, куда они деваются!».
Чехов опять переезжает на новую квартиру, теперь у него есть наконец-то отдельная комната, но чтобы платить за все, он вынужден вымаливать у Лейкина авансы.
В 1886 году у него опять кровохарканье. Он понимает, что надо ехать в Крым, куда в те годы ездили ради теплого климата русские туберкулезные больные, как в Западной Европе ездили на французскую Ривьеру и в Португалию, и мерли и там, и там, как мухи. Но у Чехова нет ни рубля на поездку. В 1889 году умер от туберкулеза его брат Николай, очень талантливый художник. Для Чехова это — горе и предостережение, но вместо того, чтобы подумать о своем здоровье, уехать в Крым, подлечиться, он, получив Пушкинскую премию, высшую литературную награду России, отправляется через всю Сибирь на край земли, на каторжный остров Сахалин, бывший тогда [впрочем, как и сейчас] для России чем-то вроде нашей Австралии 17-го века. На вопрос друзей «зачем?!», Чехов отшучивался: «Хочется вычеркнуть из жизни год или полтора». К этому решению, безусловно, привела сложная взаимосвязь разных причин — смерть брата, несчастливая любовь к Лиде Мизиновой («здоровье я прозевал так же как и вас») и, конечно, нормальная писательская неудовлетворенность собой. Но никто его так и не понял. Суворин: «Нелепая затея. Сахалин никому не нужен и ни для кого не интересен». Буренин написал по этому поводу глуповатую несмешную эпиграмму:
Талантливый писатель Чехов, На остров Сахалин уехав, Бродя меж скал, Там вдохновения искал. Простая басни сей мораль Для вдохновения не нужно ездить в даль.Путешествие через Сибирь на Сахалин, пребывание на острове и возвращение через Индийский океан в Одессу заняло 8 месяцев. Результатом поездки явилась социологическая книга «Остров Сахалин», но ничего художественного на сахалинском материале Чехов не написал. [Моэм не обратил внимание на рассказ «Гусев», а современники не могли знать, что «Островом Сахалином» началась в русской литературе «островная тема», завершившаяся «Архипелагом ГУЛАГом» и развалом Советского Союза.]
К 1892 году его собственное здоровье оказалось в таком плохом состоянии, что провести еще одну зиму в Москве было самоубийственно. На одолженные деньги Чехов покупает небольшое имение в деревне Мелихово под Москвой и переезжает туда, как обычно, всем семейством — папаша с его невыносимым характером, мамаша, сестра Мария и брат Михаил. У него подолгу живет спившийся брат Александр с семьей. В деревню Чехов привез целую телегу лекарств, и его опять начинают осаждать толпы больных. Он лечит всех, как может, и не берет ни копейки в уплату. Крестьяне считают его непрактичным человеком и то и дело пытаются «обдурить» [обмануть] подменяют кобылу на мерина той же масти, авось не заметит, темнят при определении «межи» [земельных границ], но все постепенно улаживается.
2
Свои ранние рассказы Чехов писал очень легко, писал, по его собственным словам, как птица поет. И, кажется, не придавал им особого значения. Только после первой поездки в Петербург, когда оказалось, что в нем видят многообещающего талантливого автора, он стал относиться к себе серьезнее. И тогда он занялся совершенствованием своего ремесла. Кто-то из близких застал его однажды за переписыванием рассказа Льва Толстого и спросил, что это он делает. Чехов ответил: «Правлю». Собеседник был поражен таким свободным обращением с текстом великого писателя, но Чехов объяснил, что он просто упражняется. У него возникла мысль (и, по Моэму, вполне дельная), что таким способом он проникнет в тайны письма почитаемых им писателей и выработает свою собственную манеру. Кстати, Толстой часто встречался с Чеховым, очень ценил его и даже написал к рассказу «Душечка» похвальное предисловие объемом едва ли не большим самого чеховского шедевра. Знакомство с Толстым являлось большой честью, великого старца боялись и почитали, но Чехову не пришлось искать встречи с ним, автор «Войны и мира», однажды зимним вечером прогуливаясь по Москве в валенках и в зипуне [простая крестьянская одежда] и разузнав, что в этом доме живут Чеховы, сам постучался к нему. У Чехова происходила очередная артистическая вечеринка, пьянка-гулянка, дым столбом. Двери случайно открыл сам хозяин, в подпитии, и онемел при виде знакомой по фотографиям бороды и густых бровей.
— Вы — Антон Чехов? — спросил Толстой.
Чехов не мог произнести ни слова. Сверху доносились веселые женские визги и песни.
— Ах, так у вас там девочки?!.. — потирая руки, воскликнул граф и, отодвинув хозяина, взбежал, как молодой, на второй этаж. Вечеринка была свернута, все занялись Толстым, а Чехов очень краснел и стеснялся.
«Хороший, милый человек, — говорил Толстой. — Когда я матерюсь, он краснеет, словно барышня».
Чехова называли подражателем Толстого. Лев Николаевич сам с удовольствием отвечал на эти обвинения:
«Вот в чем фокус: Чехов начинает свой рассказ, будто цепляет свой вагон к моему паровозу, идущему из Петербурга в Москву, едет зайцем до первой станции и, когда возмущенный кондуктор уже собирается его оштрафовать, Чехов пожимает плечами, предъявляет билет, и изумленный кондуктор видит, что он, кондуктор, вошел не в тот поезд, что поезд идет не в Москву, а в Таганрог, и тянет его паровоз не толстовский, а чеховский. „Хоть ты и Иванов 7-й, а дурак“.»
Труд Чехова не остался бесплодным, он научился мастерски строить рассказы. Небольшая трагическая повесть «Мужики», например, сделана так же элегантно, как флоберовская «Госпожа Бовари». Чехов стремился писать просто, ясно и емко, и, говорят, стиль, которым он писал, прекрасен. Мы, читающие его в переводе, вынуждены принимать это на веру, потому что даже при самом точном переводе из текста уходит живой аромат, авторское чувство и гармония слов.
Чехова очень занимала технология короткого рассказа, ему принадлежат несколько весьма ценных замечаний по этому поводу. Он считал, что в рассказе не должно быть ничего лишнего.
«Все, что не имеет прямого отношения к теме, следует беспощадно выбрасывать, — писал он. — Если в первой главе у Вас на стене висит ружье, в последней оно непременно должно выстрелить».
Это замечание кажется вполне справедливым, как и требование, чтобы описания природы и персонажей были краткими и по существу. Сам он владел искусством с помощью двух-трех слов дать читателю представление, скажем, о летней ночи, когда надрываются в кустах соловьи, или о холодном мерцании бескрайней степи, укутанной зимними снегами.
Это был бесценный дар. Его возражения против антропоморфизма меня [Моэма] убеждают меньше.
«Море смеялось, — читаем мы в одном из писем Чехова [о рассказе его молодого друга Алексея Пешкова-Горького]. — Вы, конечно, в восторге. А ведь это — дешевка, лубок… Море не смеется, не плачет, оно шумит, плещется, сверкает… Посмотрите у Толстого: солнце всходит, солнце заходит, птички поют… Никто не рыдает и не смеется. А ведь это и есть самое главное — простота».
Так-то оно так, но ведь мы со дня творения персонифицируем природу и для нас это настолько естественно, что нужно делать неестественные усилия, чтобы этого избежать. Чехов и сам иногда пользовался такими выражениями, например, в повести «Дуэль» читаем: «…выглянула одна звезда и робко заморгала своим одним глазом». По-моему [по Моэму] в этом нет ничего предосудительного, наоборот, мне нравится. Своему брату Александру, тоже писателю, но слабому, Чехов говорил, что ни в коем случае не следует описывать чувства, которые сам не испытывал. Это уж слишком. Едва ли нужно самому совершить убийство для того, чтобы убедительно описать чувства убийцы. В конце концов, существует такая удобная вещь, как воображение, хороший писатель умеет «влезть в шкуру» своего персонажа и пережить его ощущения. Но самое решительное требование Чехова к авторам рассказов состоит в том, чтобы отбрасывать начала и концы. Он и сам так поступал, и близкие даже говорили, что у него надо отнимать рукопись, прежде, чем он возьмется ее обкарнывать, — иначе только и останется, что герои были молоды, полюбили друг друга, женились и были несчастливы. Когда Чехову это передали, он пожал плечами и ответил:
— Но ведь так оно и бывает в действительности.
Чехов считал для себя образцом рассказы Мопассана. Если бы не то, что он сам так говорил, я [Моэм] никогда бы этому не поверил, на мой взгляд, и цели, и методы у Чехова и Мопассана совершенно различны. Мопассан стремился драматизировать повествование и ради этой цели готов был пожертвовать правдоподобием. [Моэм разбирает некоторые рассказы Мопассана и находит у них мало общего с чеховскими]. У меня создалось впечатление, что Чехов нарочито избегал всякого драматизма. Он описывал обыкновенных людей, ведущих заурядное существование.
«Люди не ездят на Северный полюс и не падают там с айсбергов, — писал он в одном из писем. — Они ездят на службу, бранятся с женами и едят щи [русское национальное блюдо из кислой капусты]».
На это с полным основанием можно возразить, что люди на Северный полюс все-таки ездят, и если не падают с айсбергов, то подвергаются многим не менее страшным опасностям, и нет никаких причин, почему бы не писать об этом хорошие рассказы. Что люди ездят на службу и едят щи, — этого явно недостаточно для искусства, и Чехов, как кажется Моэму, вовсе не то имел в виду. Для рассказа надо, чтобы они на службе прикарманивали мелочь из кассы или брали взятки, чтобы били или обманывали жен и чтобы ели щи со смыслом — то есть, чтобы это был символ семейного счастья или же, наоборот, тоски по загубленной жизни.
Многие чеховские фразы сразу сделались знаменитыми, а потом вошли в обиход русского языка, и многие уже не знают, кто первым их произнес:
«Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда» — полная профанация доказательности.
«Волга впадает в Каспийское море» — глубокомысленное изречение общеизвестных истин.
«На деревню дедушке» — письмо без адреса.
«Лошадиная фамилия» — неожиданное отпадение памяти, невозможность вспомнить обычное слово.
«В Москву, в Москву, в Москву!» — крайнее нетерпение.
«Мы еще увидим небо в алмазах» иронически-недоверчивое отношение к будущему.
«Человек в футляре» — нудный, боязливый, закомплексованный человек.
«Дама с собачкой» — одинокая интеллигентная женщина.
«Унтер Пришибеев» — тупой фараон.
«В Греции все есть» — смысл этого выражения понятен только русским.
«По капле выдавливать из себя раба» и любимая фраза большевистских унтер-пришибеевых: «В человеке все должно быть прекрасно!» — тоже чеховские. Самые обыкновенные слова «хамелеон», «злоумышленник», «попрыгунья», «хирургия», «налим», «чайка», «крыжовник», пройдя через чеховские рассказы, приобрели в русском языке как бы дополнительный, «чеховский» смысл. Таких слов очень много.
Врачебная практика, пусть и урывочная, сводила Чехова с людьми самых разных мастей — с крестьянами и фабричными рабочими, с владельцами фабрик и купцами, и со всякими крупными и мелкими чиновниками, игравшими в жизни народа столь разорительную роль, и с помещиками, скатившимися после отмены крепостного права к полной деградации. С аристократами и революционерами он, насколько можно судить, в те времена не знался, Моэм помнит только один рассказ под заглавием «Княгиня», в котором Чехов говорит об аристократии, и небольшую повесть «Рассказ неизвестного человека», где речь идет о народовольце, которому до чертиков «обрыдло» [надоело] заниматься террором. Он с беспощадной откровенностью описывал пассивность и никчемность помещиков, мерзость запустения в их хозяйствах; рисовал горькую судьбу фабричных рабочих, живущих впроголодь и работающих по двенадцать часов в сутки, для того чтобы хозяева могли покупать себе новые имения; изображал вульгарность и корыстолюбие купеческого сословия, грязь, пьянство, скотство, темноту и лень обираемых, вечно голодных крестьян и их зловонные, зараженные паразитами жилища.
Чехов умел придать тому, что описывал, удивительную живость. Ему веришь безоговорочно, как правдивому свидетелю событий. Но Чехов, конечно, не просто излагал события, он наблюдал, отбирал, домысливал, комбинировал. Кто-то из литературных критиков того времени [Розанов] удачно сказал о методе Чехова: «Неслучайный подбор случайностей». В своей удивительной объективности стоя выше частных горестей и радостей, он все знал и видел. Он мог быть добрым и щедрым, не любя, ласковым и участливым без привязанности, благодетелем, не рассчитывая на благодарность.
Старый писатель не был «дурой», он знал о чем говорил, такая бесстрастность возмущала многих современных ему авторов, вызывала резкие нападки, а некоторые попросту завидовали его славе — «никогда большим писателем не был и не будет» [Михайловский], «средний писатель, временщик» [Скабичевский], «возвеличивание Чехова до Пушкина и Гоголя — низкий обман публики» [Ежов]. Но больнее всего Чехов переживал отношение к себе друзей и знакомых. Он вырос в «обыкновенной» среде, был своим, обыкновенным человеком, как все. Когда близкие наконец-то начали догадываться, «кто он такой», многие не поверили, отвернулись от него. Некоторые узнавали себя в чеховских персонажах и обижались. Конечно, Чехов брал своих героев из жизни — где же их еще брать? — но это узнавание было слишком буквальным. Его друг, прекрасный художник Левитан узнал себя в неудачливом художнике в одном из рассказов и чуть не вызвал Чехова на дуэль. Его хорошо воспринимали как домашнего врача, интересного собеседника, публикатора смешных рассказов — это было понятно, это нравилось. Юморист, беллетрист да. Писатель? Великий русский писатель? Кто, Чехов?! Гордость русской литературы?! Не смешите! Обывателю казалось, что человек, живущий по соседству, покупающий хлеб в той же булочной, участвующий в совместных кутежах — никак не может быть писателем. Писатели — это Пушкин, Гоголь, Толстой или, на худой конец, Боборыкин с его нескончаемыми романами, или даже Лейкин, живущий где-то далеко… пусть даже в Москве или в Петербурге. Кто видел Пушкина или Гоголя? Кто знаком с Боборыкиным или с Лейкиным? Никто. Писатель невидим, писатель недоступен, а Антошка Чехов какой же он писатель?
«Таханрох» постоянно напоминал о себе. Чехов все прекрасно понимал и тяжело переносил глупые знаки внимания посторонних, зависть знакомых, охлаждение друзей. Иногда даже становился похожим на своего знаменитого Ионыча. Его изводили непрошенные визитеры.
«Мне мешают! — сердился он. — Только сяду за письменный стол — лезут всякие рыла!»
У кого-то на именинах первый тост подняли «за присутствующего среди нас классика русской литературы! Я не знал куда деться от стыда». В ресторане «Славянский базар» какой-то купец узнал Чехова, поперхнулся водкой и обрызгал свою даму. «Расстегай не дадут съесть спокойно!» Беллетрист Ежов: «Чехову платят по 40 копеек за строку! За что?!»
Чехова обвиняли в равнодушии к событиям и общественным интересам того времени. Один из тогдашних, а ныне забытых, литературных критиков [Скабичевский] сказал, что «от своей беспринципности господин Чехов умрет пьяным под забором». Чехов, кажется, обиделся, а фраза стала литературной, исторической. Русская интеллигенция требовала от писателей, чтобы они вплотную занимались социальными вопросами. Чехов же в ответ говорил: дело писателя — показывать факты, а читатели пусть сами оценивают и решают, как тут быть. Он считал, что от художника нельзя требовать рецептов разрешения социальных вопросов. Для этого есть специалисты, писал он, вот пусть они и судят общество, предсказывают судьбы капитализма, дают рецепты от пьянства. Пусть каждый занимается своим делом. Это кажется справедливым. «ЛИТЕРАТУРА ЕСТЬ ОПИСЫВАНИЕ ЛЮДЕЙ, А НЕ ИДЕЙ», — эта фраза приписывается Чехову, хотя и не подтверждена документально. При всем том, что Чехов старается быть предельно объективным и описывать жизнь как можно правдивее, невозможно, читая его рассказы, не чувствовать, что жестокость и бескультурье, о которых он пишет, коррупция, нищета бедных и равнодушие богатых неизбежно приведут в конце концов к кровавой революции.
С перерывами, уезжая и возвращаясь, Чехов прожил в Мелихове пять лет, и в целом это были счастливые годы. Он написал там лучшие свои рассказы, за которые ему уже платили по очень высокой ставке — 40 копеек за строчку, то есть почти шиллинг. Он принимал участие в местных делах, хлопотал о строительстве новой дороги, на свои деньги построил для крестьянских детей три школы. У него подолгу жил брат Александр, запойный пьяница, вместе с женой и детьми, приезжали знакомые, гостили, случалось, по нескольку дней; Чехов, правда, жаловался, что они мешают работать, но на самом деле уже не мог без всего этого жить.
— Русские писатели любят, чтобы им мешали писать, — шутил он.
Несмотря на постоянное плохое самочувствие, он был всегда бодр, дружелюбен, любил проказы и шутки. Иногда он уезжал «проветриться» в Москву или Петербург, где не обходилось без возлияний. Во время одной из таких увеселительных поездок, в 1897 году, у Чехова открылось сильнейшее горловое кровотечение, и его пришлось поместить в клинику. Несколько дней он висел между жизнью и смертью. До сих пор он отказывался верить, что болен туберкулезом, но теперь врачи сообщили ему, что у него поражены верхушки обоих легких и, если он не хочет умереть в самом ближайшем будущем, надо изменить образ жизни. Чехов вернулся в Мелихово, хотя и понимал, что оставаться там на зиму нельзя. Приходилось отказаться от врачебной деятельности. Он уехал в Европу — в Биарриц, потом в Ниццу, а оттуда перебрался в Ялту, в Крым. Доктора рекомендовали поселиться там постоянно, (с врачами ему не повезло, этот совет был крайне рискован, зимы в Ялте оказались похуже, чем в Москве), и на аванс, полученный от своего друга и издателя Суворина, Чехов строит себе в Крыму дачу. Он по-прежнему находится в самых стесненных финансовых обстоятельствах.
Невозможность заниматься лечебной практикой явилась для Чехова большим ударом. Что он был за врач, я не знаю [Моэм сам был врачом]. После окончания университетского курса Чехов проработал в клинике не более трех месяцев, и методы лечения применял не особенно тонкие. Однако, как человек со здравым смыслом и даром сочувствия, он, предоставляя свободу природе больного, полагает Моэм, приносил не меньше пользы, чем иные высокообразованные медики. Он консультировал Толстого, хотя тот недолюбливал врачей; Пешкова-Горького, Левитана. Богатый опыт давал свои плоды. Есть основания думать, что медицинская школа вообще идет писателям на пользу. Приобретается бесценное знание человеческой природы. Медик знает о человеке все самое худшее и самое лучшее. Когда человек болен и испуган, он сбрасывает маску, которую привык носить здоровый. И врач видит людей такими, как они есть на самом деле — эгоистичными, жестокими, жадными, малодушными; но в то же время — храбрыми, самоотверженными, добрыми и благородными. И, преклоняясь перед их достоинствами, он прощает им недостатки.
В Ялте Чехов скучал, однако здоровье его поначалу пошло на поправку. У меня [Моэма] не было до сих пор случая упомянуть, что помимо огромного количества рассказов Чехов написал к этому времени две или три пьесы, правда, не имевшие особенного успеха. Льву Толстому они не понравились, и при встрече с Чеховым он жарко зашептал ему на ухо:
— Вам одному скажу, не обижайтесь: вы пишете пьесы даже хуже, чем Шекспир.
Я бы затруднился придумать лучшую похвалу.
На репетициях этих пьес Чехов познакомился с красивой молодой актрисой, которую звали Ольга Леонардовна Книппер. Он полюбил ее и в 1901 году, к неудовольствию женской половины своего семейства, которое он все это время содержал, женился. [Моэм несправедлив — Мария Чехова не была содержанкой, она добровольно посвятила свою жизнь брату, не вышла замуж за полюбившего ее Левитана, вела хозяйство, исполняла обязанности секретаря. Отношения с Ольгой у нее поначалу не сложились. ] Ольга была творческой натурой; условились, что она по-прежнему будет играть в театре, и супруги бывали вместе, только когда Чехов приезжал в Москву, чтобы повидаться с ней, или же когда она бывала свободна от спектаклей и ненадолго ездила к нему в Ялту. Нормальную семейную жизнь наладить не удавалось. Даже в редкие периоды пребывания Чехова в Москве Ольга не могла уделить ему достаточно времени.
Бунин вспоминал:
«Часа в четыре, а иногда и совсем под утро возвращалась Ольга Леонардовна, пахнущая вином и духами:
— Что же ты не спишь, дуся?.. Тебе вредно. А вы тут еще, Букишончик? Ну конечно, он с вами не скучал.
Я быстро вставал и прощался».
Сохранились письма Чехова к ней, нежные и трогательные. «Здравствуйте, последняя страница мой жизни!»
Улучшение здоровья Чехова продолжалось недолго, вскоре ему стало совсем плохо. Он сильно кашлял, не мог спать. К то му же к его большому огорчению, у Ольги случился выкидыш. Настроение было паршивое. Ольга давно склоняла Чехова написать легкую комедию, этого, по ее мнению, требовала публика, и он в конце концов, главным образом, видимо, чтобы выполнить просьбу жены, приступил к работе над новой пьесой. Придумал название: «Вишневый сад» и обещал Ольге, что напишет для нее выигрышную роль.
«Пишу только по четыре строки в день, — жаловался он, — но и от этого страдаю невыносимо».
Пьесу он все же окончил, и она была поставлена в Москве в начале 1904 года. А в июне Чехов по совету лечащего врача отправляется в Германию на курорт Баденвейлер. Один молодой русский литератор так описывал свою встречу с Чеховым накануне его отъезда:
«На диване, обложенный подушками, не то в пальто, не то в халате, с пледом на ногах, сидел тоненький, как будто маленький, человек с узкими плечами, с узким бескровным лицом — до того был худ, изнурен и неузнаваем Чехов.
Никогда не поверил бы, что можно так измениться. А он протягивает слабую восковую руку, на которую страшно взглянуть, смотрит своими ласковыми, но уже не улыбающимися глазами и говорит:
— Завтра уезжаю. Прощайте. Еду умирать.
Он сказал другое, не это слово, более жесткое, чем „умирать“, которое не хотелось бы сейчас повторить.
— Умирать еду, — настоятельно говорил он.
Поклонитесь от меня товарищам вашим… Скажите им, что я их помню и некоторых очень люблю… Пожелайте им от меня счастья и успехов. Больше мы уже не встретимся».
Чехову было уже сорок четыре года. В Баденвейлере ему сделалось хуже. Вечером 1 июля, укладываясь в постель, он настоял на том, чтобы Ольга, весь день просидевшая с ним, пошла прогуляться в парк. Когда она вернулась, Чехов попросил ее спуститься в ресторан поужинать. Но она объяснила ему, что гонг еще не прозвонил. И тогда, чтобы скоротать время ожидания, он стал рассказывать жене смешную историю, описывая необычайно модный курорт, где много толстых банкиров, здоровых, любящих хорошо поесть англичан и американцев. В один прекрасный вечер в городок прибывает вагон с устрицами, и все они собираются в ресторане, предвкушая утонченный ужин, — а повар, оказывается, сбежал в этом самом вагоне, и никакого ужина не будет. Чехов описывал, какой удар, какое разочарование в жизни испытали эти избалованные люди. Один из них ушел к себе и застрелился. Рассказ получился очень смешной, и Ольга от души смеялась. После ужина она опять поднялась к нему — он спокойно спал.
Но потом ему вдруг стало совсем плохо. Был вызван врач-немец, он делал что мог, безрезультатно, Чехов умирал. Он бредил, вспоминал о каком-то японском матросе, которого видел на Сахалине. Говорил с ним о железнодорожном вагоне с замороженными устрицами. Чехов не хотел, чтобы его тело перевозили в Москву в вагоне с устрицами, но матрос настаивал. Потом он очнулся и сказал этому матросу:
— Я умираю.
Но японский матрос оказался немцем. Врач-немец ничего не понял, хотя что уж тут понимать; пришлось перевести:
— Ich sterbe.
Потом Чехов попросил бокал шампанского, чтобы забыться, облегчить страдания. Шампанского не нашлось, немец, ни на что уже не надеясь, разрешил выпить водки, такой опасной для туберкулезников, — попросту, разрешил выпить отравы. Водки тоже не было, но у хозяина отеля нашлось немного чистого медицинского спирта. Ольга заплакала и налила мужу полную рюмку. Спирт неожиданно хорошо подействовал, пульс восстановился, японский матрос исчез, Чехов уснул. Случилось чудо, в ночь с 1 на 2 июля 1904 года произошел переломный момент в смертельной болезни. Утром дела пошли на поправку, врач-немец удивленно развел руками — этих русских не поймешь, а Чехов, очнувшись, слабо пошутил:
— Что для русского здорово, для немца — смерть.
Что же случилось в эту ночь? Чудесное исцеление или природное, но редчайшее совпадение множества случайных обстоятельств — целебный воздух Баденвейлера, рюмка чистого спирта, бестолковый врач-немец, видение японского матроса? Вот что еще поразительно: в эту же ночь на второе июля четвертого года в Москве умер от туберкулеза друг Чехова, молодой, но уже очень известный русский писатель Алексей Пешков-Горький, «bourevestnik revouluthii» [предвестник революции], как оценивали его современники. У них осталось впечатление, что КТО-ТО в ту ночь стоял перед трудным выбором, разменивал, сомневался — кого оставить, кого забрать, кто здесь нужнее: предвестник революции или земский врач?.. Мистика или совпадение?.. Алексей Пешков так и остался в истории русской литературы молодым романтическим писателем, преждевременно сошедшим в могилу на самом взлете, а Чехов остался жить.
Вообще, чем вызвано столь трепетное отношение интеллигенции к личности Чехова? Безусловно, высочайшим писательским мастерством, — но не только. Я внимательно разглядывал его фотографии. В самом деле, «Чеховых было много». Вот сонный студент с одутловатым лицом, вот простой деревенский парень с голубыми глазами, вот хитрый богатырь, похожий на васнецовского Алешу Поповича, а вот замордованный пациентами земский врач. Поражает, что некоторые портреты молодого Чехова удивительно похожи на Иисуса Христа — худощавый молодой человек с высоким лбом, усами и бородкой, длинными волосами. В Чехове мы ощущаем какую-то высшую тайну, о его миссии в истории человечества ничего не говорилось, — наверное, потому, что слово «миссия» к Чехову мало подходит. Верил ли Чехов в Бога, в потусторонний мир? Кажется, нет. Не верил. Веру в Бога ему в детстве отбил религиозный отец. Но иногда сомневался. Иван Бунин вспоминал, что Чехов «много раз старательно, твердо говорил, что бессмертие, жизнь после смерти в какой бы то ни было форме — сущий вздор. Но в другом настроении еще тверже говорил противоположное:
„Ни в коем случае не можем мы исчезнуть после смерти. Бессмертие факт“.»
Смерть, жизнь, бессмертие… Чехов вроде бы допускал возможность двух противоположных решений.
День второго июля четвертого года навсегда остался в памяти Чехова. Им уже был написан «сюрреалистический» [Чехов посмеивался над литературоведческими терминами] рассказ «Черный монах», в котором главного героя преследует видение какого-то монаха, предвестника смерти. Подобным видением для самого Чехова стал японский матрос, маленький узкоглазый человек в тельняшке и в набедренной повязке, как у борцов «сумо», появлявшийся в дни обострения болезни, мучавший, пугавший его до конца жизни.
3
Кризис миновал. Осенью супруги смогли уехать в Италию, и Чехов почти безвыездно прожил на острове Капри десять лет, пока окончательно не выздоровел. Впрочем, от туберкулеза он никогда не излечился, но болезнь уже протекала в медленной, вялой форме.
— Живем дальше, — вздохнул Чехов.
Он в то время почти не писал ничего художественного — «устал, осточертело!» — [незаконченная пьеса без названия осталась в черновиках, чеховеды между собой называют ее «Платонов»], но вел дневник и впоследствии написал мемуарную книгу «Остров Капри» (явно перекликаясь с «Островом Сахалином») о российских эмигрантах, которые после русской революции 1905 года устремились зарубеж от преследования царских властей. Ольга Леонардовна не могла жить без театра, она опять вернулась в Москву на сцену, но Чехов, кажется уже не так сильно скучал, потому что на Капри в отсутствие Книппер появилась Лидия Мизинова. Любовник ее бросил, она окончательно разочаровалась в жизни, помышляла о самоубийстве, Чехов ее утешал как мог. Все-таки, эту деликатную тему нам не обойти и здесь, кажется, самое время кратко рассказать о его семейных отношениях.
Лидия Мизинова была сокурсницей и ближайшей подругой Маши Чеховой по учительским курсам, Антон познакомился с ней еще в молодости. Возникла любовь. Что между ними было — было или не было — не наше собачье дело, как говорят русские. Лидия, красивая молодая женщина, хотела стать то ли актрисой, то ли учительницей, то ли революционеркой — т. е., она сама не знала, что хотела. Серьезный роман с Чеховым в молодости не удался, Лидия (Лика) требовала к себе постоянного внимания, но Чехов всегда был поглощен работой. «Здоровье я прозевал так же, как и вас», — сказал Чехов. Она узнала себя в легкомысленной героине рассказа «Попрыгунья» [в этой же героине себя узнали сразу несколько подруг Чехова], обиделась и уехала с новым любовником в Париж. Ольга Леонардовна, наоборот, прекрасно знала, что хотела, — она проводила время в Москве, на сцене. Она не умела вести хозяйство, не умела готовить. Некоторые советские биографы осуждают Ольгу Книппер за то, что она не сумела создать для Чехова нормального семейного счастья, но, повторяю, давать оценки в таких делах не наше собачье дело. Чехов сидел на Капри один, как когда-то в Ялте, питался отвратительно. Мария Павловна жила в Мелихово, изредка приезжая хозяйничать к брату. Кстати, Мария систематически уничтожала все письма, в которых бросалась хоть малейшая тень на семью. Правильно делала, молодец! В ее короткие наезды на Капри жизнь Чехова менялась к лучшему, он полнел, веселел, опять принимался за надоевшую пьесу. Но Маша уезжала, и на Капри появлялась потрепанная жизнью старая любовь — Лидия Мизинова. Ольга Книппер все знала, ревновала, но не подавала на развод. Так и жили, не выясняя отношений, три женщины в жизни Чехова: сестра, жена и любовница.
К Чехову в гости постоянно приезжал цвет русской интеллигенции того времени: писатели Александр Куприн, Иван Бунин, Леонид Андреев, Викентий Вересаев; артисты Шаляпин и Комиссаржевская, политические деятели, нелегальные революционеры. Здесь Чехов однажды познакомился с Владимиром Ульяновым (Лениным), другом умершего Пешкова-Горького, и внес свой достойный вклад в ленинскую тему — в «лениниану», как называют этот род литературы в Советском Союзе. Нелестная запись в дневнике о личности Ленина, грядущего кровавого российского диктатора, о его горячности и нетерпимости к чужому мнению, явилась причиной того, что «Остров Капри» до сих пор не издан в Советском Союзе. Приводим эту важную запись полностью:
«Был у меня Шаляпин с очень странным маленьким человечком по фамилии Ульянов (с рекомендацией ко мне еще от живого Горького). Жутковато было читать эту рекомендательную записку, похожую на послание с того света. Покойник нахваливает Ульянова. Этот Ульянов, оказывается, младший брат известного казненного народовольца, продолжает дело брата и создал свою марксистскую партию. Я пошутил, что „я тоже марксист, потому что тоже запродался Марксу“ [Чехов в то время издавал свое собрание сочинений у скопидомного издателя Адольфа Маркса]. Он [Ульянов] умеет говорить только о политике, то и дело хочет что-то доказать, перебивает, подпрыгивает, размахивает руками, чуть не дули под нос тычет, переходит на крик… К тому же он очень маленького роста и картавит. К тому же почти лысый, а где не лысый, там рыжий. Голова его так огромна, что перевешивает, раскачивает, тянет вниз все остальное тело, — так и кажется, что он сейчас упадет и ударится головой о землю.
При разговоре с ним (если это можно назвать разговором) мне приходилось нагибаться и смотреть под ноги на его лысину, а Ульянов задирал голову и становился на цыпочки.
Я так и не понял, что он от меня хотел? Им всем [то есть, революционерам] нужны деньги на революцию, и они обхаживают тех прекраснодушных богатеев, вроде Шаляпина или Саввы Морозова, которые склонны поиграть в эти игры.
Ульянов от Шаляпина не отходит, Шаляпин ему „деньги дает на партию“. Покойный Пешков возил для Ульянова через границу прокламации в чемодане с двойным дном. Черт-те что! Чем он их так охмурил? Зовет босяков к власти? Всех людей он делит на „классы“, как в гимназии, и уверен, что управлять другими должен „рабочий класс“. Я сам босяк, у меня денег нет, но я все равно на это дело не дал бы ни гроша. Странно, фабрикант Морозов дает деньги на то, чтобы у него отобрали собственную фабрику, а разбогатевший босяк Шаляпин поет пролетариям „Марзельезы“. Экстравагантность? Нет, глупость. Они же его и ограбят. О литературе Ульянов имеет какие-то странные понятия. Льва Толстого называет „зеркалом русской революции“. Какое-то зеркало… Что-то отражает… Лужа тоже отражает. Медный чайник тоже отражает… Лев Толстой — чайник? Нет уж, господин Ульянов, но на чайник больше похожи вы!»
Чехов и Ленин друг другу не понравились. Это имело свои отдаленные последствия. Мемуарную главу об Ульянове Чехов назвал «Чайник кипит!», а в конце жизни, вернулся к этой теме, написал и передал через Илью Эренбурга [который был ликвидирован за это органами НКВД] в Париж известнейшую [на Западе] повесть «Семья Гурьяновых», где в главном герое легко угадывается Ленин. Это была последняя художественная вещь Чехова, повесть о профессиональных революционерах, тема, к которой он в молодости не знал как подступиться или просто не имел никакого желания копаться в темных душах фанатиков. «В революцию уходят по-разному», — уклончиво говорил он. Антон Павлович писал повесть очень тяжело, повторяя манеру «Рассказа неизвестного человека»; в ней описывается крушение талантливой интеллигентной семьи, которая, после неожиданной смерти отца, директора провинциальной гимназии, как видно, «человека в футляре», державшего семью в руках, ушла в революцию. Покушение на царя, казнь старшего брата, отчуждение друзей и знакомых, бытовая неустроенность, скитания на чужбине, аресты, тюрьмы, ссылки — вот содержание этой повести. Чехов часто заканчивал свои рассказы «ничем», то есть, в его концовках не происходило никакого завершающего события; в «Семье Гурьяновых» главное событие все-таки произошло, цель жизни маленького человека была достигнута, он совершил босяцкую революцию во имя счастливого будущего всего человечества ценой гражданской войны, ценой жизни 15 [пятнадцати] миллионов тех же босяков, крестьян, мещан, рабочих, купцов, буржуа, интеллигентов, аристократов, и, наконец, самой царской семьи; для кого же он ее совершал? Этого маленького человека теперь называют большим, великим, гениальным человеком, а он, полупарализованный двумя инсультами, сидит в кресле-качалке, таращит глаза, пускает слюни и мочится под себя.
Александр Куприн в своих воспоминаниях пишет:
«Думается, Чехов никому не раскрывал своего сердца вполне. Но ко всем относился благодушно, безразлично в смысле дружбы и в то же время с большим, может быть, бессознательным интересом».
И это удивительно глубокое замечание. Оно говорит о Чехове больше, чем все те факты его долгой биографии, которые я [Моэм] излагаю.
В 1910 году умер Лев Толстой. Как говорится, «The King is dead, long live the King!» [«Король умер, да здравствует король!»] Чехова никто не короновал, не назначал и не выбирал, но этого и не требовалось, он естественным образом, по праву «наследного принца» возглавил русскую литературу. Авторитет Чехова был беспрекословен. «Как хорошо, что в русской литературе есть Лев Толстой! — говорил Чехов в молодости. — При нем никакая литературная шваль не смеет поднять голову». Теперь обязанности Льва Толстого перешли на Чехова, и по авторитету и по старшинству в свои пятьдесят лет Чехов был первым. Генетическая наследственная связь Чехова с Пушкиным, Гоголем, Лермонтовым, Достоевским, Толстым ни у кого не вызывала сомнений, но Чехова почти не знали на Западе. Дело в том, что в начале века его издательские дела крайне запутались, Чехов потерял права на свои произведения, попал в литературную кабалу.
Мы уже упоминали об Адольфе Марксе. «Ничего себе сочетание имени и фамилии!» — подумает современный читатель. Да, для нас это сочетание кажется странным, с изрядной долей черного юмора, но следует помнить, что в начале века о Марксе знали мало, а имя Адольф еще не было скомпрометированно, было просто именем и не выглядело зловещим. Адольф Маркс, обрусевший немец, был известным российским издателем. Еще в 1901 году он выгодно для себя купил на корню все произведения Чехова и уселся на них, как собака на сене. Таким образом Чехов неожиданно попал в литературную крепостную зависимость, в марксистскую кабалу. Маркс волен был распоряжаться всем, что написал и напишет Чехов. Чехову советовали плюнуть и разорвать договор. Но ему было «неудобно», все-таки Маркс заплатил ему неплохие деньги, которые через два года были съедены инфляцией. Начался бойкот интеллигенцией марксова издательства даже без согласия Чехова. Маркс поздно почувствовал опасность и, хотя и отпустил раба на волю, но от банкротства это его уже не спасло. Чехова наконец-то толком перевели и прочитали на Западе. Эффект был потрясающим. Бернард Шоу написал «в русском стиле» пьесу «Дом, где разбиваются сердца», Кэтрин Мэнсфилд, почти неизвестная в России, находилась под сильнейшим влиянием Чехова, если бы не Чехов, ее рассказы оказались бы иными; я [Моэм] откровенно делал свои юношеские рассказы и пьесы «под Чехова». Моэм говорит, что Чехов открыл для него Россию лучше, чем Достоевский, и описывает, как в молодости с пылом взялся за изучение русского языка, чтобы читать Чехова в оригинале, но его усердия ненадолго хватило.
Отношение друзей и знакомых тоже изменилось, они наконец признали его. Антон жил где-то далеко, на острове Капри — вполне подходящее место для великого русского писателя. Великий писатель не может бегать в соседнюю лавку за чаем, сахаром, колбасой и бутылкой водки.
Моэм описывает, с каким интересом он читал сборник рассказов под названием «Писатели, современники Чехова» и не мог поначалу сообразить, чем же этот сборник интересен. Наконец понял. Удивительно: нельзя сказать, что рассказы Боборыкина, Лейкина, Щеглова, Потапенко и многих других написаны «хуже» чеховских. Все они были профессиональными писателями, использовали одни и те же слова русского языка. Они писали о той же российской действительности, брали те же сюжеты, описывали тех же персонажей — купцов, телеграфистов, учителей, крестьян, актеров, проституток, студентов, генералов, врачей. Почему же именно Чехов стал «Чеховым»? Моэм понял: все дело в «чуть-чуть». Чехов заканчивал рассказ там, где другие авторы писали еще одну фразу, еще один абзац, еще одну страницу. Они начинали рассказ с вводящей подготовительной фразы, пролога, вступления — Чехов вычеркивал. Это «чуть-чуть», говорит Моэм, и есть та самая решающая мера таланта, неподдающаяся анализу литературной критики.
В 1913 году, за год до войны, Чехов получил Нобелевскую премию по литературе. Он не отказался от премии, как Лев Толстой, небольшую часть оставил себе, а 80 тысяч долларов решил пустить на строительство начальных школ в подмосковных деревнях. Чехов прекрасно понимал, что «львиную долю этой суммы растащат, разграбят чиновники, но хоть что-то останется!» До этого он уже построил три школы на свои деньги, имел опыт. Его женщины (Мария, Ольга и Лидия) были очень недовольны.
Хотя Чехов имел постоянные и разнообразные связи с Россией, но экзотический Капри осточертел так, что он решил рискнуть здоровьем, вернуться. Вообще, русских трудно понять с их тоской по туберкулезной российской слякоти. В Петербург Антон Павлович приехал летом 1914 года, перед самой войной. Его встречали как национального героя. Хуже национального идола. Студенты несли его на руках к автомобилю, барышни бросали цветы ему и его женщинам — Ольге, Марии и Лике, не понимая кто из них кто для Чехова.
Вскоре началась война с Германией. Деньги лежали в швейцарском банке, и это спасло их. Теперь было не до школ. Чехов принял абсолютно неожиданное решение: основал «Фонд Чехова» и пустил деньги… на партию! Это было весьма разумно, а неожиданность состояла в том, что Чехов никогда не был практичным человеком [если не считать первый московский год, когда он привел в дом жильцов по двадцать рублей с носа], он был простой тягловой лошадью, а уж просчитать такой хитроумный финансово-политический ход вряд ли смог самостоятельно. Интересно, кто это ему присоветовал? Распорядителем «Фонда Чехова» стал его племянник Михаил Чехов, единственный в семье практичный человек, который в молодости мечтал стать артистом, но после получения дядей Антоном Нобелевской премии пошел по финансовой части, уехал в Париж, потом в Швейцарию и через каких-то десять лет артистически преумножил капитал в десятки раз, сделав дядю мультимиллионером. Большевики пытались добраться до основных капиталов «Фонда» — но «…уюшки!» — ответил им Михаил Чехов.
Итак, Чехов не успел вложить нобелевскую премию в школы, но ОТДАЛ ЕЕ НА ПАРТИЮ. Остров Сахалин и остров Капри не прошли для него даром. Чтобы спасти всех от обездоленных, надо было помочь самим обездоленным. Поразительно предвидение этого непрактичного человека: он начал скопом скупать крайних ультра-революционеров — в 1915 году в разгар войны он выделил 100 тысяч долларов — большие деньги по тем временам — на побег заграницу группы видных ссыльных-большевиков, среди которых были Свердлов, Розенфельд [Каменев], Джугашвили [Сталин] с условием прекращения ими политической деятельности. Они подписали это обязательство и вышли из игры, — кто удрал заграницу, кто растворился в российских просторах. Вмешательство в политику этого мягкого, деликатного, больного человека ничем не объяснимо. Или он к тому времени уже изменился? Программа помощи ссыльным и каторжным принесла успех, многие большевики и левые эсеры были куплены на корню, но повлияла ли эта акция на конкретное развитие политических событий? В 1915 году большевики ни на что уже не надеялись, сам Ленин безнадежно говорил, что «до революции мы уже не доживем, ее сделают наши правнуки лет через сто». Следует ли признать прямое воздействие Чехова на историю? Или его вмешательство в политику ограничилось простой заменой, равной нулю — «шило на мыло», ушли одни, пришли другие? Что было бы, если бы? Не в пример поверхностному Аверченко и злому Бунину, Чехов так мудро объяснил и высмеял Ленина, что авторитет «Ильича» был подорван даже в самой партии. Сразу же после Кронштадского восстания Ленина тихо отстранили от власти, а сильный человек Лейба Бронштейн [Троцкий], подмяв под себя более слабых соратников — Бухарина, Зиновьева и других, еще мельче — Радека, Скрябина [Молотова], оказался калифом на час — наверно, не вышел ростом, нужен был совсем-совсем маленький. Таким диктатором оказался Сергей Костриков [Киров], а рядом с ним и под ним маленькие и пузатенькие Хрущев, Жданов, Маленков… Но мы сильно забежали вперед.
Чехов вернулся в Крым в свою резиденцию, где и пребывал до конца жизни почти безвыездно…
Моэм с удовольствием вспоминает, как, будучи в сентябре 1917 года в Петрограде в качестве тайного агента «Интеледжинс Сервис», по долгу службы встретился с Александром Керенским, временным правителем России, склоняя его от имени стран Антанты держать фронт и не выходить из войны с Германией, а потом по неудержимому велению души нелегально съездил в Москву в одном вагоне с какими-то пьяными дезертирами, которые на полном ходу чуть не выбросили его из вагона, и искал встречи с Чеховым, который ненадолго приехал туда из Ялты, но не получилось, Антону Павловичу не захотелось встречаться с английским шпионом, а в октябре Моэму спешно пришлось удирать от большевиков.
В 1920-м году при неудержимом наступлении красных на Крым, французы по просьбе Врангеля [царский генерал, не путать с джинсами «Wrangler»] подвели к Ялте военный корабль, и черный барон в домике Чехова упал на колени и умолял нобелевского лауреата эвакуироваться во Францию. Чехов отказался, но попросил Врангеля забрать с собой восьмилетнего украинского хлопчика, родители которого, махновцы, погибли от рук большевиков. Врангель смахнул слезу, перекрестил Чехова, поцеловал ему руку, взял за руку хлопчика и взошел на корабль. Хлопчика звали Панас Вишневой. На корабле он попал под покровительство французского шкипера, эфиопского негра, а его необыкновенная судьба и судьба его правнука Сашка Вишневого описана Моэмом в романе «Эфиоп».
4
Чехов и советская власть — тема неисчерпаемая.
«— Да тут ад! — сказал он однажды своим гостям о советской действительности.
— А ведь вы сочинили палиндром, Антон Павлович, - заметили Ильф с Петровым.
— Не помню — что значит „палиндром“?
— Это когда фраза одинаково читается справа налево и слева направо.
Чехов удивился и повторил:
— Да тут ад…»
Антон Павлович почти 25 лет жил под советской властью, ни разу не выезжая за границу и почти не покидая Ялты — один раз посетил в Коктебеле Максимильяна Волошина, иногда общался в Феодоссии с Александром Грином, когда тот был трезв, и предпринял несколько поездок в Симферополь за какими-то совсем уже мелкими покупками — за «чаем, сахаром, мылом, спичками, колбасой, керосином и другими колониальными товарами». Хлеб и колбаса в СССР в начале 30-х годов в самом деле казались колониальными товарами. В Ялту на дачу к Чехову валом валил самый разнообразный люд, совсем как в Ясную Поляну при жизни Льва Толстого, но не все попадали к нему — на Перекопе большевики проверяли паспорта и выясняли причины приезда в Крым — не к Чехову ли? — то же повторялось в Симферополе, а в Ялте у дачи писателя торчал милицейский пост. Летом день Чехова обычно начинался в 6 утра. Он выпивал чашку кофе и до 10-ти писал «одну страницу». Это было святое время. После завтрака начиналась «совслужба» прием посетителей, разбор жалоб, ответы на письма, звонки в Москву, в Кремль. [Моэм описывает один день из жизни Чехова — что ел, что делал, кто приходил]. Зимними вечерами читал при «лампочке Ильича». [Как видно, какое-то русское электротехническое изобретение. Из писем Чехова: «От большевиков в русской культуре останутся лампочка Ильича, папиросы „Беломор“ и женский День 8 Марта, все остальное пойдет прахом»]. Чехов вполне осознал безответственный стиль советских департаментов, мог, когда надо, повысить голос или ударить кулаком по столу. Русская эмиграция, ненавидевшая всех, кто якшался с большевиками, не имела к Чехову никаких претензий, хотя с большевиками и с большевистскими лидерами он общался часто и разнообразно. Известный придворный художник Налбандян даже написал соцреалистическую картину «Киров и Чехов на ловле бычков», но даже белоэмигранты восприняли ее как откровенную липу.
[Моэм и эмигранты ошибаются… и не ошибаются. Киров приезжал на велосипеде к Чехову из соседней Ливадии, и они не раз выходили в море на рыбалку (не на такой ли вот рыбалке Чехов заступился перед Кировым за того самого Сталина, которого он спас из туруханской ссылки в 1915 году? Этого старого большевика, нажившего в Туруханске чахотку, преследовали в Евпатории энкаведисты, и Киров, кажется, что-то сделал для несчастного), но этот реальный факт совместной рыбалки с Кировым художественно выглядит фальшиво — этого не могло быть, потому что этого не могло быть никогда. Чехов очень хорошо чувствовал ложь правдивого факта. Когда Ольга Леонардовна предложила ему прочитать неплохие стихи лирического поэта Гусочкина, он отказался:
— Что это за фамилия для лирического поэта — Гусочкин?! Не буду его читать.
— Ты, несправедлив, Антоша. Был спортсмен Уточкин, был поэт Курочкин… Что же делать, если у него такая фамилия?
— Уточкин не из этой оперы, Курочкин был юмористическим поэтом, а Гусочкину псевдоним надо брать!
Так и не прочитал. ]
Иван Бунин в начале века:
«Я спрашивал Евгению Яковлевну (мать Чехова) и Марью Павловну (сестру):
— Скажите, Антон Павлович плакал когда-нибудь?
— Никогда в жизни, — твердо ответили обе.
Замечательно».
Не знаю, не знаю, что тут такого замечательного или не замечательного. В детстве Льва Толстого дразнили «Лева-рева» за то, что он то и дело плакал. Я думаю, у Бунина, как и у многих мемуаристов, произошел «перебор» профессиональной наблюдательности, когда каждому малозначащему факту придается глубокомысленное значение. Тот же Иван Бунин, автор «Окаянных дней», люто ненавидевший большевиков, обзывавший Ленина «косоглазым сифилитиком» и ревновавший Чехова к Нобелевской премии, прекрасно сказал в 1933 году в Стокгольме, переадресовав давнюю фразу Антона Павловича о Толстом ему же самому:
— Как хорошо, что жив Чехов! При нем никакая советская шваль не смеет называться русским писателем.
«Замечательно!» — скажу я [Моэм].
А швали было очень много. Большевики пытались поставить литературу на конвейер, даже называли писателей «инженерами человеческих душ», и в эти инженеры шли духовные босяки, лакеи и карьеристы вне зависимости от происхождения, вроде графа Алексея Толстого. Они в художественных образах прославляли доктрины большевизма, оболванивали полуграмотное население, грызлись между собой. Были и другие, вроде модерниста Владимира Сорокина, автора препохабнейших рассказов. Чехов его дух на версту не переносил, вот неизвестная цитата из письма Корнею Чуковскому:
«Литература — это область человеческой деятельности, которую можно представить чем-то вроде большого старого надежного стола. На этом столе можно делать ВСЕ: обедать, читать, строгать, пилить, делать уроки, писать жалобы, кляузы и предложения, играть в карты, пировать во время чумы, вкручивать лампочку Ильича, за этим столом могут сидеть и царь, и сапожник, и нищий — он и монархичен, и демократичен, и аполитичен, и анархичен одновременно; этот стол вытерпит все: на нем можно танцевать голыми, под ним (и на нем) можно спать — если спать негде. По нему можно стучать кулаком. На нем даже можно заниматься любовью, если сильно приспичило. Если какой-то школяр вырежет на ножке стола неприличное слово, он поймет и простит этого мальчишку — скажет: „Нехорошо, мальчик!“ Он все стерпит. С ним нельзя делать только одного: на этот стол нельзя […]. А Владимир Сорокин на него […]. Какой из него писатель, да еще модернист? Обыкновенный […]».
[Чехов употребил слова «срать» и «говнюк». Как видим, Антон Павлович, когда было надо, не краснел и не стеснялся в выражениях, советские публикаторы эти слова стыдливо кавычат и многоточат].
Но в литературе дела обстояли не так уж плохо. Чехов любил известных советских авторов Ильфа и Петрова. Они, конечно, каждый в отдельности не тянули на Чехова, но дополняя друг друга, вдвоем — именно вдвоем! — как-то странно напоминали молодого Антошу Чехонте — туберкулезный, очкастый, задумчивый Ильф, веселый, долговязый, хлебосольный Петров. Наверно, Чехов, глядя на них из под пенсне, вспоминал себя в молодости. Чехов ценил их юмористику в советских газетах и журналах того времени и подарил им сюжет для «Двенадцати стульев», как Пушкин Гоголю сюжет «Мертвых душ», впрочем, это уже похоже на литературную мифологию. Рассказы Зощенко и Аверченко ему не нравились.
Важнейшим из искусств для большевиков являлось кино, самое действенное зрелище для оболванивания масс, но они понимали, что в основе всех искусств, даже любимого ими «кина», конечно же лежит литература. В работе со словом у них был большой опыт, они инстинктивно понимали цену и опасность талантливо расставленных слов на бумаге. Большевикам для наведения порядка в советской литературе нужен был «литературный нарком» [народный комиссар в кожаном «пинжаке» с наганом], требовался свой живой классик, авторитет, представительская фигура — и Чехов был единственным «типичным представителем» классической русской литературы, но он не был своим, босяком. Похоже, им не хватало фигуры bourevestnika Алексея Пешкова-Горького, вот когда сказался выбор второго июля четвертого года. А Чехов… ну какой же из Чехова bourevestnik?
Вот чрезвычайно важное и парадоксальное наблюдение детского писателя Корнея Чуковского:
«Снился мне до полной осязательности Чехов. Он живет в гостинице, страшно худой, с ним какая-то пошлая женщина, знающая, что он через две-три недели умрет. Он показал мне черновик рассказа:
— Вот видите, я пишу сначала без „атмосферы“, но в нижней части листка выписываю все детали, которые нужно сказать мимоходом в придаточных предложениях, чтобы создалась атмосфера.
А та пошлячка, которая состоит при нем, говорит:
— Ты бы, Антоша, купил „кадиляк“.
И я думаю во сне: какая стерва! Ведь знает, что он умрет и машина останется ей.
Проснулся с ощущением, что мне приснилось что-то важное, но не мог вспомнить. В следующую ночь мне опять приснился этот же сон. Вот что я понял: Пешков-Горький был слабохарактерен, легко поддавался чужим влияниям, плакал на каждом пиджаке. У Чехова был железный характер, несокрушимая воля. Не потому ли Горький воспевал сильных, волевых, могучих людей, а Чехов — слабовольных, беспомощных?»
Тут опять возникает казалось бы праздный вопрос: «что было бы, если бы?» Как развивались бы события в России, если бы Чехов умер в критический день второго июля четвертого года? Без него у большевиков были бы развязаны руки? Был ли он для них сдерживающим моментом? Было ли им НЕУДОБНО ПРИ НЕМ творить свои злодеяния? Но куда уж дальше звереть? Властям он не то чтобы не помогал, он им мешал. Почему он их не боялся, что говорил ему японский матрос, похожий на Ленина? В 30-х годах за чтение и распространение новых произведений Чехова людей ссылали, сажали, расстреливали. Мы уже упоминали об Илье Эренбурге, которому повезло — он был застрелен в парижском кафе сотрудниками НКВД, и шуму было на весь мир. Но другие (Клюев, Бабель, Пильняк, Леонов, Катаев, Фадеев, Шолохов — всех не счесть) исчезали в полной безвестности в сибирских лагерях.
Что было бы, если бы? Что было бы, если бы старший брат Ульянова не был повешен, а младший — жестокость вызывает в ответ только жестокость - не ожесточился бы и не подался бы в Ленины? Из него получился бы отличный министр юстиции, генеральный прокурор или даже премьер-министр вместо Керенского. Что было бы, если бы второго июля четвертого года умер Чехов, а Пешков остался жить? Праздные ли это вопросы? Для атеистического человека ход истории предопределен законами, для человека религиозного история в руках божьих. И тот и тот согласны, что влияние человека на историю возможно: верующий — по воле божьей, атеист — в некоторых конкретных пределах; вот вопрос и тому и тому: может ли человек влиять на Бога? может ли человек изменять законы природы? Что было бы, если бы человек сделал то, а не это, если бы случилось то, а не это? Русская присказка «Если бы да кабы…» сама по себе хороша, но любомудрием не отличается.
Большевики ненавидели Чехова, но ничего не могли с ним поделать. В 20-30-х годах Чехов был очень богатым человеком, самым высокооплачиваемым писателем в мире — его книги пользовались громадным успехом у западной интеллигенции, его почитали как святого, ему платили огромные гонорары. «Фонд Чехова» составлял пол-миллиарда долларов. Он давал большевикам деньги на индустриализацию, электрификацию, здравоохранение, а завещание было составлено так, что в случае смерти Чехова, большевики не могли претендовать на эти деньги, теряли все. «Во второй раз Маркс меня не проведет».
Теперь под ногами у Чехова вертелся маленький улыбчивый Киров. После Троцкого он не спеша прибрал власть к рукам и сделался диктатором покруче Ульянова. Известно юмористическое наблюдение Антона Павловича о пришедших к власти маленьких людях:
«Среди большевиков почти нет людей высокого роста. Наверно, они эволюционировали так потому, что в целях конспирации им приходилось прятаться в чемоданах с двойным дном. И это после двухметровых Романовых! Петр, Николай 1-й и все Александры были великанами — вот только Николай Последний подвел».
За подобные разговоры (да что там разговоры — мысли! — однажды в «Правде» появилась статья, призывавшая людей «соблюдать умеренность в мыслях»!) — за подобные разговоры людей расстреливали, а Чехова не могли даже посадить на пароход и выслать заграницу, как это сделали с самим Троцким. (Конечно, случались недоразумения — какой-то ГПУшный ялтинский дурак однажды утром арестовал Лику Мизинову за политические разговоры в хлебной очереди, но к вечеру, не дожидаясь звонка Кирова из Москвы, приказал ее отпустить, а сам застрелился.) В чем тут дело? Боялись международного скандала? Большевики никогда ничего не боялись, тем более, они могли убрать Чехова без всяких скандалов, например, медленно и успешно залечить самыми обычными лекарствами — впрочем, Чехов уже не давался врачам. В чем же дело? Прямого ответа нет. Останавливало ли их то, что Чехов до революции «давал деньги на партию», а после гражданской войны чеховский фонд субсидировал их сумасбродные программы? Вряд ли, тех же Шаляпина и Савву Морозова большевики преспокойно ограбили [насчет Саввы Морозова Моэм ошибается, он покончил с собой задолго до октябрьского переворота], а без субсидий фонда большевики могли бы и обойтись, ограбив взамен несколько дополнительных миллионов тех же колхозниц, студентов и сталеваров. Может быть, просто: Бог хранил?.. Может быть Тот, Кто Выбрал Чехова второго июля четвертого года, теперь чувствовал свою ответственность за него?.. Чехова пытались ублажить, предлагали руководящие посты. Представляю: Чехов — первый секретарь Союза Писателей СССР! Помимо пионеров с барабанами, делегаций рабочих и колхозниц, они подсылали в Ялту Ролана, Уэллса, Фейхвангера, Барбюса, других западных визитеров. «Дурачки», — коротко сказал о них Чехов. Признаю, что западные писатели, к которым я [Моэм] имею честь принадлежать (в Россию я уже не рвался, большевики могли меня арестовать как английского шпиона, с них станет), хотя и не были в прямом клиническом смысле дураками, но в своих играх с большевиками вполне заслужили эту нелестную оценку. Мы не понимали что происходит, нас легко было обмануть. Значит, и правда — дурачки.
[В русском языке слово «дурачок» звучит не прямо-оскорбительно, а с ласково-сочувствующим оттенком].
Ялтинская киностудия была построена специально для обмана Чехова, как потемкинская деревня для Екатерины Великой. «Чтобы снимать тут дам с собачками», — прокомментировал он. [Непереводимый каламбур, слово «снимать» в русском языке многозначно — «снимать [создавать] кинофильм» и «снимать (подцепить) женщину»]. О художнике Налбандяне, о делегациях пионеров, сталеваров и западных писателей мы уже говорили. Ялту вздумали переименовать в Чеховск. Антон Павлович не согласился, потребовал назвать город Антоново-Чеховском, наподобие Иваново-Франковска. Большевики почесали в затылках и дали согласие. Но Чехов опять передумал и потребовал назвать Ялту Красночеховском. Большевики заподозрили, что писатель над ними издевается, но согласились и на Красночеховск. Тогда Чехов пригрозил им грандиозным скандалом, и от переименования города отказались. [Телеграммы с этими переговорами хранятся в чеховском фонде].
К концу жизни Чехов все больше стал напоминать своего знаменитого персонажа Ионыча. Характер здорово испортился — еще бы. Если что-то не нравилось, мог сорваться на крик, сердито стучал тростью. Когда Ольга напомнила ему о рассказе «Ионыч», Чехов заинтересовался, нашел в собрании сочинений и перечитал его. Он забыл об этом рассказе. Персонаж был очень похож на постаревшего Чехова.
— Неплохо написано, — сказал он.
Усмехнулся. Опять его поняли буквально. То есть, совсем не поняли. Сходство с Ионычем было, но не более того. На Ионыча скорее походил биолог Иван Павлов, второй русский нобелевский лауреат. Чехову и Павлову большевики позволяли многое — впрочем, они их и не спрашивали, а ругали в хвост и в гриву.
В 1940 году отмечалось 80-летие Чехова. Он уже был глубоким стариком, прикованным к креслу. Его старушки жили при нем, не ссорились и уже не выясняли, кто из них «сделал Чехова». Приплыло, приехало, прилетело много гостей, большевики объявили амнистию тем, за кого ходатайствовал Чехов - громадный список.
В 1941 году при захвате немцами Крыма его не решились эвакуировать из Ялты, а Черчилль, Рузвельт и Киров предупредили немецкое командование, что они собственноручно расстреляют того, кто позволит себе хоть словом обидеть Чехова. Немецкие солдаты и офицеры боялись появляться в районе чеховской дачи. Теперь вместо милиции дачу охранял пост полевой жандармерии, и это была нелегкая служба: «Как бы чего не вышло!», говоря по-чеховски. Генрих Белль, будущий знаменитый писатель, в то время молоденький солдат вермахта, такой же дурачок, как и я [Моэм] в семнадцатом году, решил навестить Чехова, поклониться своему идолу, даже перелез через забор, но был изгнан с территории дачи разгневаными старушками Ольгой, Марией и Лидией, которые так берегли покой Чехова, что тот прикрепил у входа объявление: «Осторожно, злые старушки!». После войны советская пропаганда попыталась сделать из Чехова чуть ли не командира подпольной организации, спасавшей крымских партизан и евреев, но Киров поморщился, это был сильный перебор — ведь «Фонд Чехова» спас жизнь пяти миллионам советских военнопленных, исправляя преступную политику правительства, не подписавшего конвенцию о «Красном Кресте».
Антон Павлович скончался в Ялте именно в ТОТ день — второго июля, но сорок четвертого года, вскоре после открытия второго фронта. Он до конца был в ясном житейском сознании, но вряд ли уже отчетливо понимал, что происходит в стране и в мире. И слава Богу! У постели умирающего на этот раз дежурил не глухонемой немец, а перепуганный консилиум из пяти академиков. Перед смертью опять появился прищуренный японский матрос, похожий на Ленина. Опять они спорили о железнодорожном вагоне с устрицами. Чехов после смерти хотел улететь в Москву на самолете — «никогда не летал». Матрос возражал:
«Где я вам самолет возьму?»
Выбирали гроб — свинцовый или цинковый. Академики записали:
«Больной бредит, летает во сне».
За эти «полеты» их запросто могли сослать лет на десять на строительство тоннеля с острова Сахалин в Азию под Татарским проливом.
Все было ясно.
Чехова временно похоронили в Ялте. Через пол-года, в феврале сорок пятого, Рузвельт, Черчилль и Киров перед тем как решать на Ялтинской конференции судьбу послевоенного мира, пришли с цветами, постояли у его могилы и проводили на аэродром в последний путь — тело Чехова доставили в Москву на самолете в свинцовом гробу и перезахоронили на кладбище Новодевичьего монастыря. Еще через три дня был подписан исторический Ялтинский меморандум. Все было ясно. Миссия Чехова была выполнена. Фашизм был раздавлен, а коммунизм решили тихо свернуть.
«Из Истории видно, что в древности жили дураки, ослы и мерзавцы».
А.П.Чехов.
Список литературы:
Письма Чехова
Антон Павлович Чехов, «Собрание сочинений»
Уильям Сомерсет Моэм, «Искусство рассказа»
Дэвид Магаршак, «Биография Чехова»
Лев Толстой, «Дневник»
Александр Куприн, «О Чехове»
Иван Бунин, «Чехов»
Алексей Пешков-Горький, письма
Корней Чуковский, «Дневник»
Сборник «Чехов в воспоминаниях современников»
Сборник «Писатели-современники Чехова»
Даниил Клугер, «Палиндромы»
Александр Чудаков, «Мир Чехова»
Михаил Громов, «Книга о Чехове»
Евгений Меве, «Медицина в творчестве Чехова»
Григорий Бялый, «Чехов и русский реализм»
(с) Борис Штерн, «Чехов и реалистическая фантастика»





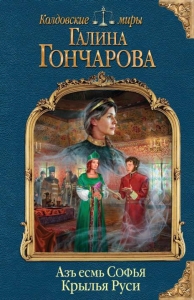


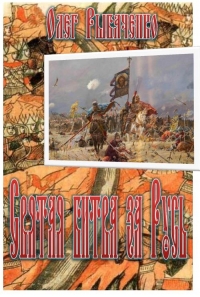


Комментарии к книге «Второе июля четвёртого года», Борис Гедальевич Штерн
Всего 0 комментариев