«Последний поезд на небо
Отправится в полночь
С полустанка, укрытого
Шапкой снегов...»
Наутилус Помпилиус.
Часть 1. Обычный город Любичи
1.
Год назад меня сбила машина. Именно в этот день. Я возвращался из корпуса на каникулы и вышел из поезда на привокзальной площади нашего городка. Там до моего дома — метров двести подъёма по улице.
Я прошёл сто, и на дорогу вылетел на велике пацан лет 10, а сверху буквально выпрыгнула новая «нива», за рулём которой болтался ошалевший от страха водила — я хорошо запомнил его глаза.
Я отскочил заранее, задолго до приближения машины. А пацан на велике увидел её, выпустил руль и шлёпнулся посреди проезжей части. И остался сидеть, раскинув ноги и открыв рот.
А дальше я не помню. Мне потом рассказали, что я бросился вперёд, буквально из-под колёс выбросил мальчишку и даже сам успел подпрыгнуть, уходя из-под удара... но решётка на крыше «нивы» врезала мне по ногам.
Я отлетел к стене, и выброшенный из-под колёс промчавшегося мимо неуправляемого автомобиля велик пацана рулём пробил мне грудную клетку и правое лёгкое.
Я две недели не приходил в себя. Первое, что помню, когда смог открыть глаза — мать того пацана. Тогда я ещё не знал, кто она. Просто увидел незнакомую женщину на коленях возле не своей кровати в не своей комнате и удивился.
Оказывается, она все эти две недели приходила в мою палату, всеми правдами и неправдами прорывалась, и по много часов стояла на коленях.
Потом она и сына привела, когда стало ясно, что я буду жить. Смешной такой мальчишка, он оказался моим тёзкой, Женькой, а на меня смотрел испуганно и восхищённо. По-моему, он так и не понял, что ему грозило, просто ему все уши прожужжали, что я герой и что я его спас...
Потом были ещё посылки от каких-то незнакомых людей, и разные посетители, и газетные номера — не только нашей газеты, но и областных, и даже центральные. И по телевидению меня снимали — это, правда, уже только по областному. И руку жали разные «важные» люди.
Но для меня всё это не имело значения. А важно было только одно. Военным лётчиком мне не быть никогда. Главврач так мне и сказал — прямо и грустно. Мне даже просто летать на самолётах — и то противопоказано.
Я мечтал стать военным лётчиком с пяти лет. И год успел отучиться в кадетском корпусе ВВС в области, после которого можно легко (если совсем повезёт — вообще без экзаменов) поступить в училище ВВС. Я старался.
Когда я понял, что мне сказали, то сперва хотел нажраться таблеток. Потом вспомнил про Маресьева, который летал без ног, даже говорил об этом с начальником корпуса, который меня навестил. Он покивал, но потом грустно сказал, что сейчас не война и никто не разрешит такого подвига.
Да и как мне летать, если при перегрузке три «же» в ушах шум и сердце останавливается? Что тут сделаешь, какие протезы придумаешь? Он мне правда сочувствовал. Все ребята сочувствовали, даже те, кого я не числил в друзьях никогда.
Я пролежал в больнице всё лето. Когда в очередной раз пришла Женькина мама, я накричал на неё и сказал, что жалею о сделанном, лучше бы её олух сын размазался по асфальту, что она дура и не следит за ребёнком...
Я сам ужаснулся, когда выкричался. Но она только сказала: «Бедный мальчик...» — и потом ни разу мне не напомнила об этом разговоре. А я даже не извинился — так было стыдно...
В конце сентября я вернулся в свою старую школу. Там тоже никто ни разу не посмеялся надо мной, наоборот — даже самые безбашенные как-то тушевались в моём присутствии. И я стал учиться. Жить как-то.
Именно «как-то», потому что мне было абсолютно всё равно — что есть, какие оценки получать, чем заниматься... Я всегда учился хорошо, мне нужны были аттестат и характеристика в корпус. И сейчас просто не получалось начать учиться плохо... Но мне было всё равно. Понимаете?
Не помню, как я прожил этот год. Никак, наверное. Я даже не стал в своей комнате убирать со стен постеры из «Военного парада» с разной авиатехникой. Всё равно...
Самое идиотское было в том, что я ничего такого не ощущал. Ни болей, ни слабости, ни недомогания... Но когда в том сентябре я упрямо залез в городском парке на «ромашку» — из-за меня пришлось останавливать аттракцион.
Я потерял сознание. И понял, что мне говорили правду. Я никогда не смогу летать.
2.
Поезд, наконец, выскочил из леса. И я увидел Любичи. Железная дорога шла по широкой размашистой дуге, а за большущим полем, сплошь поросшим бурьяном, поднимались на склон волны зелени, из которых тут и там проглядывали крыши домов.
Любичи был небольшой городок, меньше даже, чем мой родной... В Любичах жил мой дед по отцу. Анатолий Алексеевич Баруздин.
Вообще-то он тут родился — ещё до войны, хотя сам не воевал по возрасту. Был под немцами, потом уезжал надолго, а как вышел на пенсию — вернулся на родину. У нас он бывал очень редко. Ему не нравилась мать. Уж чем — не знаю, не стремился я вникать в эти дряхлые разборки.
Последний раз он к нам наезжал лет пять назад, и я его почти и не помнил, а уж быть у него не был вообще никогда. Но перед началом летних каникул мама, доведённая до отчаянья моим сонным поведением и равнодушием ко всему окружающему, силой оттащила меня к психологу.
И тот сделал вывод, что я нуждаюсь в смене обстановки. Желательно — на всё лето, чтобы подальше от места, где случилось несчастье и чтобы ничего мне не напоминало о моей мечте. Родители впали в задумчивость. У них в офисе летом самая работа.
Вечная проблема современных людей — работаем для тебя, сыночек! Но, как результат — сыночка почти не видят и куда-то с ним отправиться — вечная проблема. Мне, честно сказать, было до фонаря, что они решат. Отправят куда-нибудь — пусть, хоть к чеченцам в рабство.
Но отправили меня на белорусскую границу, в Любичи. К деду. Уж не знаю, как он проведал о наших проблемах, но прислал короткую телеграмму: «жду внука на всё лето расходах не беспокойтесь сообщите выезд». Коротко и ясно.
Выход был, если честно, идеальный. Слегка смущало предков то, что до Любичей было два дня поездом, но я временно вышел из спячки и заявил, что в пятнадцать, почти шестнадцать лет как-нибудь, да преодолею это сумасшедшее расстояние самостоятельно.
Вообще-то мне даже хотелось уехать. Именно из-за этой чуши о смене обстановки. Я не вникал во всякую там психологию, но правда желал оказаться подальше от знакомых мест.
Как обычно бывает в нервной обстановке, мы дали телеграмму о том, когда я приеду — а уже на вокзале обнаружили ,что поезд, которым предполагалось ехать, в Любичах не останавливается, пролетает аж в Белоруссию, до Бобруйска.
И в результате, приходится там садиться на пригородный и пилить обратно — и опаздывать почти на десять часов по сравнению со сроком, назначенным в телеграмме.
Мама почему-то запаниковала, но мне всё это так надоело, что я просто сказал, что возьму билет до Брянска, там сяду опять-таки на пригородный, но другой — и сойду в Любичах. Правда — почти на сутки раньше срока. И не надо давать никаких новых телеграмм, путать человека и тратить свои нервы.
Мама сделала большие глаза — ей представлялись грязные полустанки, компании с пивом и моё вынужденное ожидание во всём этом окружении. Как было хорошо — сел, поехал, вышел, встретили...
Но я резонно заметил, что раз уж скорые в Любичах не останавливаются, то всё равно придётся добираться на перекладных. Может, это её и не успокоило, но она со мной согласилась.
А мне так, если честно, даже понравилось. Я не люблю скорых поездов, а вот электрички и пригородные мне по душе. Люди едут куда-то — обычные, небогатые. Бабульки, дедки, мои ровесники. Разговаривают о своём.
Всегда можно постоять в тамбуре, понаблюдать за жизнью на станциях, которых со скорого и не замечаешь. Не хочешь — можно с кем-то разговориться. А что до компаний, то их опасность резко преувеличена. Скорей уж ментов следует опасаться.
Когда в корпусе я ездил туда-сюда на выходные и каникулы, то много раз видел, как эти «стражи порядка» трясут пацанов — просто так, нипочему, от дурной власти. Ко мне, правда, они не совались — опасались формы, и я даже один раз вступился за парнишку младше себя.
Стоял в тамбуре, они его вытащили — двое таких мордатых — и давай доставать. Паспорт где? Ах, дома? А куда едешь? Ага, едешь, а паспорт дома оставил? Карманы выворачивай. Ах, не хочешь? Ну, держи его, Вован, а я посмотрю...
Я им и указал, что они напросятся на неприятности, потому что сразу на вокзале я подниму хай. Как они на меня посмотрели... Недаром наш начальник... бывший мой начальник говорит: «Если нас оккупируют, то вся милиция в полном составе запишется в оккупационную полицию».
Но парня оставили в покое и смылись. Он даже разревелся. Я его понимаю, это не от страха, а от обиды. Оказалось, он не делал ничего, просто сидел и журнал читал. И всё!!! Уж чем он им не «показался»...
Но в этом пригородном, в который я сел на брянском вокзале ранним утром, вообще было мало народу. Он трюхал себе и трюхал, а я смотрел в окно и смотрел, пока не показался этот городок, не выглянул из зелени всеми своими крышами.
Я почему-то сразу решил, что это и есть Любичи — а проводница подтвердила мою догадку. Прохо-дя мимо, она сказала:
— У тебя ведь билет до Любичей? На выход.
И посмотрела так, словно я собирался уехать в Белоруссию по пригородному билету. Мне стало смешно. Вот маленькая власть у человека, но всё же власть — и с каким наслаждением она ею пользуется...
Я подхватил сумку и вышел в тамбур. Поезд уже замедлял ход; за окном поплыли какие-то заброшенные постройки, резкий рывок, остановка — и я соскочил из открытой заранее двери на выбитый бетон платформы.
Мда-а... Скорому тут и в самом деле останавливаться незачем. Наверное когда-то это была вполне обустроенная станция. Но от тех времён остались только полуразрушенные здания, заросшие американским клёном и бурьяном в мой рост.
Кроме меня тут сошёл ещё один человек — какой-то старик весьма ловко выскочил из последнего вагона. Его ждал ещё один такой же дед, и они, обнявшись и даже, кажется, расцеловавшись, бодро затопали совсем не в ту сторону, куда вела более-менее накатанная дорога, даже с машинными колеями.
Эти два деда двинулись по еле заметной тропинке прямо через кусты. На меня они и внимания не обратили, а вот я, постояв несколько секунд, решительно пошёл за ними.
В конце концов, минимум один тут был местный — уж он-то знает, куда идти и где короче. Пошагаю себе следом, а если что — догоню и спрошу.
Кусты оказались хоть и густыми, но неширокими — а следом за ними сразу начиналось то здоровенное поле, за которым лежал на склонах холмов городок.
Я не прогадал — оба старика шагали плечо в плечо, как неразлучные приятели-мальчишки, именно к этому полю. Тропинка была видна отчётливо, и я понял, что дошёл бы и без них — сворачивать там просто было некуда.
И я двинулся следом уже совершенно уверенно. Пока я озирался, шустрые деды ушагали метров за сто. Да я и не старался их догнать.
Поле отделялось от остального мира (я почему-то именно так и подумал) остатками изгороди — тут и там торчали столбы, на них висели ржавые фестоны колючей проволоки. Я задумался, что же тут было?
Больше всего, кстати, походило на аэродром... Додумать эту мысль я не успел — как раз прошёл между двумя столбами... и ощутил приступ дурноты. Словно опять оказался на карусели.
Я мгновенно и противно вспотел, ноги ослабели, а со зрением что-то произошло — непонятно и плавно сдвинулась перспектива, город уехал куда-то, земля пошла под ногами вниз... Когда я пришёл в норму, то стариков уже не было.
Тропинка уводила в бурьян — раньше я что-то его не заметил — закрывавший перспективу города, а столбы остались довольно далеко позади. По всему выходило, что в полубессознательном состоянии я протащился метров сто. Да ну и бог с ним. Тропинка была под ногами — я зашагал по ней.
3.
Смешно, но я запутался. Я шёл уже минут пятнадцать — и не мог выйти к окраине, казавшейся такой близкой.
Очевидно кто-то всё-таки в этих местах ходил — наверное, как и я, со станции, потому что бурьян тут и там прорезало множество перекрещивающихся и путающихся тропинок.
Временами попадались какие-то куски металла, вросшие в землю. Было жарко, тихо и солнечно, пахло сухой травой и пылью. А главное — царило вокруг абсолютное спокойствие. Такое, что даже становилось страшно.
Правда. Солнечным ясным днём мне было не по себе. Нет, это был не тяжёлый неприятный страх, а скорей жутковатый интерес — так бывает, когда происходит что-то захватывающее и опасное. Но всё равно... Я остановился и начал прислушиваться, чтобы сообразить, куда идти.
Было тихо-тихо. Только в бурьяне позванивали какие-то насекомые, да тихо гудел разогретый воздух. А ещё через минуту я ощутил запах дыма — тянуло слева.
Я сделал несколько неуверенных шагов... и увидел, что бурьянную стену прорезает ещё одна — совсем узкая — тропинка. Отстраняя рукой ломкие стебли, я шагнул по ней — и оказался на небольшой полянке.
Посреди полянки горел костёр — маленький, почти невидимый, даже не из сучьев, а всё из того же бурьяна. Возле костра на ящиках сидели двое мальчишек и девчонка.
Они, конечно, издалека услышали, как я иду и смотрели на меня, но без особого любопытства и уж тем более без опаски. Я, естественно, тоже рассматривал их.
Все трое были загорелые дочерна, пропылённые, с выгоревшими волосами. Один из мальчишек казался моим ровесником — плечистый крепыш в неопределённого цвета бортовке, обтрёпанных джинсовых шортах и разбитых кроссовках на босу ногу.
Второй, помладше — в джинсовой безрукавке и спортивных коротких штанах, вообще босиком. Девчонке, кажется, тоже было столько же лет, сколько мне. Она выглядела ничего — глазастая, высокая, стройненькая и крепкая, коротко стриженная, в камуфляжных майке и штанах и в сандалетах.
Рядом с троицей стояли прислоненные друг к другу старые велики, лежала расстёгнутая сумка. Мальчишки жарили на палочках сосиски, девчонка сидела просто так.
— Привет, — сказал я. Ребята кивнули. Девчонка показала на один из ящиков:
— Садись.
Я немного растерянно присел. Младший мальчишка нагнулся к сумке, достал оттуда пару сосисок, ловко ошкурил их, насадил на прутик и протянул мне. Молча и деловито.
Я помедлил и пристроил импровизированный шашлык над невидимым, но жарким пламенем. Мне почему-то стало спокойно и хорошо и расхотелось о чём-то спрашивать.
— Ты подожди, — вдруг сказала девчонка. — Мы ещё часок посидим и тебя довезём... Ты же со станции идёшь?
— Да, — подтвердил я. — Я думал, тут быстрее... И ещё двое каких-то стариков впереди шли, я за ними... А потом они как сквозь землю провалились. Иду, иду, а поле всё не кончается... Тут что было? Поля колхозные, что ли?
— Аэродром, — сказала девчонка, доставая из сумки хлеб. (Так, я был прав...) Она задрала штанину и ловко выдернула из пристёгнутых к ноге ножен нож, начала резать крупные ломти. — Если не знаешь, то тут лучше не ходить. Заблудишься точно, хорошо, если просто пропетляешь. Может и хуже быть.
— Могут собаки напасть, — сказал младший мальчишка. — Мутанты. Они раньше этот аэродром охраняли, это была особая секретная порода... А потом одичали, — старший мальчишка возразил:
— Про собак — это сказки.
— Не сказки, — заспорил, надувшись, младший. — Я их сам слышал и видел... почти. Вечером, когда по краю там, — он вытянул руку, — ехал, и видел.
— Видел, видел... — усмехнулся старший.
Девчонка спросила, передавая остальным — в том числе и мне — хлеб:
— Ты, наверное, на каникулы? — я кивнул и понял, что очень хочу есть. — Ты осторожней... У нас очень непростой город.
— Непростой — это как? — равнодушно спросил я, понимая, что сейчас меня начнут грузить по полной, как почти всегда грузят при первом знакомстве «чужака». — Инопланетяне в гостинице живут? Гробы на колёсиках по улицам курсируют, рейсовые?
Они промолчали. Все трое. Без обиды, просто промолчали. Я откусил от сосиски — девчонка сунула мне горчицу, налитую на лист подорожника. Я кивнул и сказал:
— Меня Женькой зовут.
Они не представились в ответ, только старший мальчишка кивнул. А девчонка после короткого молчания сказала:
— И не называйся вот так сразу кому попало.
— А то что? — уточнил я. Она пожала плечами:
— Да ничего хорошего.
— Да? — мне стало смешно и досадно. — А что ж вы первого встречного к костру пригласили? Не боитесь?
— Нет, — спокойно ответила она. — Раз ты нас нашёл, значит с тобой всё в порядке. Это такое место... в общем, сюда просто так не попадёшь. Это наше место. Особое.
Ребята явно были с заскоками. Наверное, в городе мало развлечений, вот они и придумывают себе острые ощущения... Я доел сосиску, хлеб и поднялся:
— Спасибо... Я пойду. Как мне поскорей выйти?
Они переглянулись. Старший мальчишка шевельнул щекой и отвернулся. Младший смотрел на меня испуганно. Девчонка сказала:
— Да погоди ты... Жень. Мы посидим и поедем. И ты с нами.
— Не, мне к деду нужно, — решительно сказал я. — Он хоть и не знает, что я сегодня приеду, но всё равно... Ну, какая тут дорога?
Они снова переглянулись. Девчонка посмотрела мне прямо в глаза и неохотно сказала:
— Ну ладно... Сейчас иди прямо на солнце. Там тропинка плохая, но ты всё равно иди. Минут через десять выйдешь на пустошь, там стоит мачта... Только делай, как я сказала, понял?.. Подожди, пока одиннадцать будет, часы-то есть?
И иди, куда тень от мачты указывает, там увидишь сразу и поймёшь... И выйдешь прямо на липовую аллею, а там видно крайнюю улицу... Только Жень, если что-то не так сделаешь, то проплутаешь хорошо если только до вечера. Понял?
— Спасибо, — не без сарказма сказал я, повернулся и пошёл прочь.
Нашли идиота — в игрушки играть.
4.
...В одном девчонка не соврала — тропинка «прямо на солнце» была очень плохая. Бурьян со всех сторон цеплялся за одежду и сумку, плотная трава, сплётшаяся стеблями в сеть, путалась в ногах. Другое дело — какой-то ещё тропинки там вообще не наблюдалось.
В бурьяне гнездились слепни, надоедливо слетавшиеся на мой запах. Я триста раз успел проклясть своё любопытство и сто раз успел поинтересоваться — интересно, по какой же тропинке всё-таки прошустрили тут те два старика? В то, что они шли этим путём, мне просто не верилось.
Я устал, как собака — и тут выяснилось, что и в другом девчонка не обманывала. Заросли расступились. Я вывалился на пустошь. У дальнего края виднелись утонувшие всё в том же бурьяне развалины двухэтажного здания.
На полпути к нему, точно в середине этой поляны, высилась ржавая, но неожиданно прямая мачта. Я с удивлением и интересом понял, что это не просто мачта, а причальная мачта для дирижаблей — высокая решётчатая конструкция. Такие я видел на картинках.
Но ещё интересней было, как это я ухитрился не увидеть это десятиметровое сооружение раньше. По идее, её должно было быть видно даже от станции, не говорю уж — с любого конца этого заброшенного аэродрома (а в том, что это именно аэродром, я уже не сомневался и без слов той девчонки... кстати, симпатичной, это я правильно заметил).
От мачты падала на низенькую сухую траву чёткая ажурная тень. А слева от развалин я увидел ясно тропинку — даже целую дорогу, с наезженными колеями. Она вела вправо и немного вверх, конечно к городу.
Я взглянул на часы. Было без двадцати одиннадцать. Ждать двадцать минут только потому, что скучающим местным жителям захотелось приколоться над чужаком, было смешно и глупо.
Я подкинул на плече сумку. Ещё раз взглянул на причальную мачту и зашагал с новыми силами к соблазнительной тропинке...
...Через шесть часов я понял окончательно и обречённо, что заблудился самым невероятным и позорным образом.
Это было смешно и... и страшно. Я петлял по каким-то тропкам — то узким и еле заметным, то настоящим дорогам с отчётливыми колеями, то среди бурьянных зарослей, то на широких пустошах.
Объединяло эти тропки одно: они все неизменно терялись то в том же бурьяне, то на болотистом берегу какого-то пруда с чёрной водой, к которому я выходил с разных сторон... Раз пять или шесть я натыкался на здания в различной степени разгромленности.
Три или четыре раза в полном отчаянье я начинал ломиться прямиком сквозь бурьян, ориентируясь по солнцу в надежде просто по прямой выйти хоть на какой-нибудь край аэродрома, но ветви этого чёртового кустарника были похожи по твёрдости и переплетённости на натуральную колючую проволоку, и я с трудом выбирался обратно на тропы, по которым продолжал бесцельно кружить.
Несколько раз я начинал свистеть и орать — не «спасите» пока, но громко. Ответом мне была всё та же звонкая сонная тишина.
Нет, вру. Полной тишины не было. Раза три я отчётливо слышал звук мотора — какие-то машины ездили. Однажды донёсся до меня человеческий голос, что-то доказывавший кому-то.
А ещё раз — хоть убейте! — я услышал, как работает двигатель садящегося лёгкого винтового самолёта. Я даже головой закрутил, подняв её к небу. Там, конечно, ничего не было.
В общем, около половины шестого вечера я выбрался на широкую полосу, замощённую бетонными плитами, между которыми тут и там пробились пучки травы.
Это была ВПП, и уже это хорошо, потому что до этого я больше часа шёл по тропинкам, где и козе было бы затруднительно пройти, не ободрав бока. Мне страшно хотелось пить. Хорошо ещё, что сосиски съел...
В дальнем конце этой полосы видны были какие-то металлические конструкции. Я устало зашагал к ним, уже прикидывая, что буду делать, если так и не выберусь до темноты. И почти не удивился, увидев, что это самолёты. Их было четыре. И я узнал все.
Ближе всего оказалась китообразная туша бомбардировщика Хейнкеля — сто одиннадцатого. Он был перебит в районе хвоста, и там, среди покорёженного металла, виднелся врезавшийся в землю, но ещё узнаваемый Лавочкин, Ла-5.
Это было первое, что я увидел, потому что два других самолёта от меня закрывала эта композиция. Краску и знаки различия с самолётов давным-давно слизали ветер, дождь, снег и солнце, но я страшно удивился, что эти тонны алюминия ещё целы. Ради такого богатства сюда могли приехать на тракторе, напрямик через заросли.
Когда у среднего «узника демократии» горят трубы, преград для него не существует, такие деятели несколько раз в корпусе пытались увезти МиГ-21, памятник такой, пока старшие кадеты их не подкараулили и не отходили ремнями и кусками арматуры.
Так, удивляясь, я обошёл лежащий почти отдельно хвост бомбардировщика — и увидел ещё две машины, стоявшие на сгнившей резине в полной готовности ко взлёту, с откинутыми фонарями кабин.
Характерные щучьи силуэты и тут не оставляли сомнений — детища Вилли Мессершмидта, Bf-109, типичнейшая «пара» Люфтваффе, всё ещё стерегли аэродром. Эти были вообще нетронутыми и казались только-только сошедшими с конвейера, даже ещё некрашеными.
Я остановился под крылом одного из них и медленно спустил сумку на бетон. Мне хотелось влезть в кабину, но было жутковато. Почему-то казалось, что там — останки мёртвого лётчика.
Конечно, никакого лётчика там не оказалось. Кабина была пуста. Кожа сиденья пошла трещинами, встала коробом и побелела. Придерживаясь руками за края кабины, я осторожно сел в кресло, положил руки на управление.
Тяги, конечно, не «ходили», но в целом тут тоже всё казалось совершенно неповреждённым. Я поднял глаза — прямо перед лицом остро торчало перо винта.
— От винта... — тихо скомандовал я.
Тихий треск и шорох наполнили кабину. Я в первую секунду просто не обратил на это внимания, решив, что это ветер, но потом в этих звуках пробилось всё более отчётливое:
— Ахтунг, ахтунг, дас'ст Флондерн, дас'ст Флондерн...
— Зах-ходим на атаку, на атаку заходим, ребята...
— О шшайззе, руссише штурмфогельн...
— От солнца три пары «мессеров», Сашка, возьми на себя...
— Штилле-штилле, кнабен, аллес форвертс...
Упруго качнулись стрелки приборов — щёлк, полный, ноль... Я пулей вылетел из кабины и скатился по крылу на бетон. Сидя на корточках, задрал голову.
Было тихо. Неподвижно и разлаписто высились самолёты.
— Жара... — выдохнул я. И увидел у самого края полосы торчащий из земли кран — труба, изогнутый носик, ржавый вентиль.
Вообще-то в этом не было ничего удивительного, такие штуки на аэродроме — дело привычное. Куда удивительней было, что, когда я качнул вентиль, он хоть со скрипом, но повернулся — и мне под ноги ударила тугая струя веющей холодом воды, прозрачной и чистой. Я наклонился к ней...
— Женька! Погоди, не пей!
Как бы я не хотел пить, но такой крик после шести часов одиноких блужданий... Я выпрямился и увидел катящую по полосе ту девчонку. Она была одна и явно очень спешила. Лицо девчонки было встревоженным и серьёзным, она подлетела ко мне, проскочив между двух «мессеров», и остановилась, как вкопанная.
— Погоди, не пей, — повторила она, хотя я и не собирался пить. — Я так и знала, что ты где-то тут... Заблудился?
— Ну, — кивнул я. Притворяться не имело смысла — не для своего же удовольствия я тут хожу... — Не туда свернул.
— На, попей, — она, изогнувшись, достала из багажной корзинки бутылку из-под пепси. В бутылке оказалась вода, уже согревшаяся, и я не без удивления спросил, напившись:
— А отсюда почему нельзя?
— Нельзя, — коротко ответила она. — Ничего, что тут растёт, есть нельзя... и пить ниоткуда нельзя. Ты из пруда не пил? — она встревожилась.
— Не, — я покачал головой. — А что, яд какой-нибудь?
— Садись на раму, поехали, — вместо ответа сказала она. — Стемнеет ещё не скоро, но всё равно поехали... Сумку на багажник пристегни...
— Давай я тебя повезу, — предложил я. Не хватало ещё, чтобы девчонки меня катали на раме...
— Ты не знаешь, куда, — отрезала она. — Я и то еле тебя нашла, хотела за мальчишками возвращаться... Поставил? Садись.
Мы покатили по бетону. Рядом с тем местом, где я вышел на полосу, оказалась ещё одна тропка, она вела под откос, потом — через решётчатый мостик, перекинутый над тихим ручьём, а там мы вдруг оказались в аллее из старых лип, в конце которой видны были ржавые ворота из металлических трубок.
— Ну и ну, — вырвалось у меня, — да тут же ходьбы минут десять... Я почти дошёл, выходит?
— Почти дошёл, — согласилась она, — ещё немного, и точно дошёл бы... — в голосе послышалась ирония.
— И что у вас за аэродром такой, — пожаловался я.
— Он не у нас, он сам по себе, — отрезала девчонка и после короткого молчания вдруг сказала: — Меня Лидкой зовут, Лидией... Жень, ты вот, что... Тут рядом речка хорошая, леса, и в городе и кафе есть, и дискотека... Ты на этот аэродром не ходи. Туда никто не ходит. Почти никто.
— Вы ведь ходите, — возразил я. Теперь, когда блуждания остались позади, у меня появился жгучий интерес к покинутому месту.
— Мы не в счёт, — серьёзно сказала она. — Ты ведь даже не представляешь себе, как тебе повезло, что ты на нас наткнулся...
Мы объехали металлические воротца, Лидка остановилась, и я спрыгнул на землю, подхватил свою сумку. По этой стороне улицы, на которую мы выехали, тянулась лесополоса — наверное, вдоль всё того же аэродрома — и ряд колючей проволоки перед ней.
А на той стороне начинались заборы — я так понял, задняя сторона участков, где стояли дома. Эти заборы словно отгораживали всё остальное от аэродрома.
— Вот, — сказала Лидка. — Вон там, — она махнула рукой, — переулок, по нему выйдешь на Знаменскую дорогу...
— О, мне как раз туда! — обрадовался я и положил руку на руль её велосипеда. — А ты где живёшь? Давай я тебя провожу...
— Я не домой, мне ещё с ребятами встретиться, — быстро сказала она и улыбнулась странной короткой улыбкой. — Счастливо.
— Счастливо, — немного разочарованно ответил я и удивлёно увидел, как Лидка вновь сворачивает в аллею. — Лид! — окликнул я её. — А как нам встретиться?!
— Встретимся! — отозвалась она, налегая на педали.
5.
Адрес «Знаменская дорога 22» оказался большим домом на высоком фундаменте, спрятавшимся в глубине заросшего сада за давно некрашеной металлической оградой из каких-то декоративных дуг. Я неожиданно оробел и топтался у калитки. Какая-то бабулька, шкандыбавшая мимо, ободрила меня:
— Заходи, внучок, заходи, дома Толич, уж часов пять как вернулся.
Гостя встречал... — и улыбнувшись поощрительно, двинулась дальше. Вообще улица была совершенно не городской и довольно оживлённой, мои манипуляции около двери выглядели подозрительно, и я, нажав щеколду, шагнул во двор, раздумывая несколько запоздало, есть ли у деда собака.
Собаки, кажется, не было. Не успел я пройти и половины пути до высоченного крыльца (сбоку виднелась дверь — в подвал, что ли?), как на него вышел высоченный старик, в облике которого была какая-то величественность.
Он был одет в свободную рубашку, старые брюки и сандалии, но на носки, а не просто так. И на меня смотрел, сведя густые белые брови... но не успел я открыть рта, как он сказал, взявшись рукой за перила:
— Женя?
— Да... я... — промямлил я и добавил: — Здравствуйте, дедушка Анатолий...
— Женя, да ты же только завтра должен был... — он осекся и заспешил ко мне (кстати, легко спустившись с крыльца). Я и опомниться не успел, а он обнял меня, прижал к себе, отстранил и сказал ласково: — Женя, здравствуй, внук... — от него пахло каким-то одеколоном и немного водкой. — Что же ты так — не предупредил, ничего не сообщил, я-то завтра собираюсь встречать... Ну, пойдём, скорей пойдём домой, устал, наверное...
А меня вдруг как будто стукнуло — да ведь это деда я видел на станции!!! Вот чёрт, прошёл от него в пяти шагах... Сказать? Расстроится, наверное... Да и неудобно, что не узнал — хотя, что неудобно, я же его не видел сколько...
— А у меня гость, — слегка извиняющимся тоном сказал дед, пропуская меня вперёд с прохладной веранды с почти сплошным остеклением в первую комнату.
Если честно, я не очень обратил внимание на человека, предупредительно поднявшегося мне навстречу из-за стола, потому что моё внимание привлекли предметы, развешанные по стенам. Первое, что я подумал, было ошарашенное: «А мне никто и не говорил!»
Я действительно не знал, что мой дед был лётчиком. Но густо усеивавшие стены фотографии и предметы вроде пары высоченных краг на меху сомнений не оставляли.
Я мысленно горько усмехнулся: ну как после этого говорить, что нет судьбы?! Она с самого утра меня доставала — сперва брошенный аэродром, а теперь ещё и это...
Но тут я наконец-то вспомнил о правилах хорошего тона и, поставив у ноги свою сумку, вежливо сказал стоящему возле стола подтянутому худому старику в лёгком костюме:
— Добрый вечер... Евгений.
— Мартин Киршхоф, — с гортанным акцентом, но без запинки сказал он, протягивая мне руку. — Сожалею, что моё прибытие совпало с вашим, молодой человек. Анатолий говорил мне о внуке, и я даже обсуждал с ним возможность моего отъезда, но он настоял...
— Это мой друг с войны, — дед Толя положил мне руку на плечо. — И он, конечно, никуда не поедет.
— Мне не хотелось бы стеснять... — начал немец, но я преодолел обалдение и вклинился:
— Конечно, нет. Я вряд ли часто стану бывать дома и не буду вам мешать. И вообще, я сам виноват, что приехал раньше и не дал подготовиться.
— Голодный, наверное? — спросил меня дед, и я увидел на столе изобильный разор и на три четверти пустую бутылку водки. — Ты как добирался-то вообще?.. Садись, садись, а сумку я в твою комнату отнесу...
— С поездом, — сказал я. — Да не надо... я потом сам сумку... А где руки помыть? Я на вашем старом аэродроме заблудился по настоящему...
Старики смотрели на меня — оба. Внимательно и встревожено...
...Дом у деда Толи оказался здоровенным. Как объяснил он сам, показывая мне мою комнату, выходившую окнами в сад, этот дом ему подарили за службу на Севере, когда он вышел на пенсию, и тут — не-обычно для особняка тех времён — есть все удобства.
Немец Киршхофф, ненавязчиво нас сопровождавший, сказал, глядя, как я осматриваюсь в своём новом обиталище:
— Ваш дед, Евгений, очень скромный человек. Например, он умалчивает, что дом ему подарили вместе со Звездой Героя Советского Союза. Я не знаю, за что он её получил, но это произошло в мирное время и в гражданской авиации, так что, могу предполагать, что некий экстраординарный по смелости поступок.
— Экстраординарный по болтливости фриц, — проворчал дед. — Дом-то большой, — обратился он ко мне, — а вот с тех пор, как Оля — бабушка твоя, Жень — умерла, я в нём, как в могиле...
— Не надо об этом, Анатолий! — неожиданно резко сказал немец. — И вообще — пойдём, не будем мешать молодому человеку обустраиваться... Потом вы присоединитесь к нам, Евгений? Старики болтливы, но уж как-нибудь вытерпите...
— Я бы прогуляться хотел, — вырвалось у меня. Ещё год назад я бы прилип к деду с расспросами, как банный лист и перетрогал всё, что висело на стенах в большой комнате. А сейчас...
— Конечно, — пожал плечами дед Толя. — Куда угодно и как угодно. Но давай сразу договоримся о двух вещах. Первая: если захочешь задержаться позже полуночи — предупреди сразу. И вторая... — он помолчал. — Не надо ходить на аэродром. Там интересно, я понимаю, но очень легко попасть в беду. Заблудиться, сломать ногу, вообще пропасть. Случаи бывали. Хорошо?
И старики вышли. Причём, дед даже не дождался от меня подтверждения и согласия с его условиями.
Моё обиталище мне понравилось. Правда, было видно, что в этой комнате не жили уже давно, а мебель была тяжеловесной и основательной — казалось, что сейчас она начнёт скрипуче ворчать, как это делают некоторые старики, по поводу моего внешнего вида, поведения и прочего.
(Хотя, когда я носил форму, таких проблем не возникало — наоборот, пожилые люди смотрели на меня с удовольствием!)
Я запихнул сумку в шкаф и подумал несколько секунд, не переодеться ли мне, но решил плюнуть и позвонить маме, что приехал. За весь день я ни разу не прикоснулся к мобильному.
Выяснилось, что можно было и не прикасаться. Мобильный определял только номера аварийных служб, а этот значило, что придётся идти на почту давать телеграмму...
...Было совсем не поздно, а если учесть, во сколько темнеет в начале лета — то и вообще время детское. Если честно, я собирался помотаться по городским улицам, навестить «места компактного пребывания молодёжи» и, может быть, встретить ту девчонку, Лидку.
Что она там говорила про кафе и дискотеку? Вообще-то молодёжь не жалует чужих, но рассказы об агрессивности аборигенов маленьких городков сильно преувеличены. В принципе им почти всё равно, кто прыгает рядом на танцплощадке. Конечно, уродов везде хватает. Но что же теперь — никуда не высовываться?
А вот странно. Последний год я про дискотеки и не думал. А тут вдруг понесло. Уж не из-за девчонки ли это?..
...Знаменская дорога была пуста. Вообще-то это довольно странно — как правило в таких городках и на таких улицах вечером не протолкнёшься от ребятни, а плотность бабулек на лавках просто чудовищна.
Но эта улица была пустынна. Тепла, светла, пыльна и пустынна. Не безжизненна — почти во всех домах светились огоньки, кое-где кто-то возился во дворах — но никакого оживления на ней не наблюдалось.
Я обозрел её, вставил в ухо каплю «дебильникового» наушника. Аппарат был скрыт под курткой.
Я сам не люблю, когда на улице ходят с дебильниками. Но, во-первых, тут было, как я уже сказал, пустынно, а, во-вторых, — если и есть на свете средство, чтобы надёжно отключиться от внешнего мира — так это именно плеер.
Мне же хотелось именно отключиться — и раз я ещё не добрался до дискача, где отключка происходит плавно и независимо от твоего желания, то можно воспользоваться карманной дискотекой.
Хотя вообще-то музыка на диске в сидюшнике не соответствовала общепринятым представлениям об отключке.
Я очень люблю Ричи Блэкмора, и сейчас поставил композицию «Gone Whis The Wind» из второго концерта «Blackmore's Night». Под свист ветра ударили лошадиные копыта, тревожно забил барабан и раздалась зовущая, красивая такая музыка.
В одной старой книжке герой говорит про джаз, кажется: «Когда я его слушаю — мне кажется, что я всё могу». А я, когда слушаю Блэкмора — забываю про все неприятности.
Dansing in the moonlight,
Singing in the rain!
Это, правда, из другой песни, из «Home Again», но послушайте, как здорово! Я люблю родной язык, не надо меня ни в чём таком обвинять, но это так красиво именно по-английски... «Танцуй в лунном свете, пой в дожде...»
Если бы в наше время можно было бы пускать в кабине самолёта музыку, я бы всегда брал с собой диски Блэкмора...
...Если бы я мог летать.
Я сделал звук громче.
Из калитки, к которой я подходил, выбежали двое пацанов лет по 9-12 и помчались куда-то по улице. Их вид слегка скрасил тяжеловатое впечатление от безлюдья. А я остановился у поворота в тот переулок.
И всё-таки очень странный аэродром.
На секунду мне вдруг показалось, что в спину мне глядят сотни глаз — изо всех окон напряжённо и молча смотрят люди: куда я пойду?
Смотрят — и боятся, что я сверну в переулок, и в то же время хотят этого, потому что...
А что — потому что? Я повёл плечом. Мне захотелось ещё раз посмотреть на самолёты. Все случившиеся со мной непонятности и странности, в конце концов, были объяснимы — усталость, нервное состояние организма...
А дорогу я помнил отлично, второй раз не заблужусь. В конце концов, я хорошо ориентируюсь и место мне уже знакомое.
Думал я это, уже шагая по переулку. Сейчас я обратил внимание, что он когда-то тоже был жилым — в смысле, слева и справа стояли дома. Но все они были брошены. Именно брошены.
И, что интересно — ни побитых стёкол, ни надписей на заборах. Ничего. Как будто тут и вообще не бывают люди. Я ускорял шаг. Идти по переулку было неприятно; кроме того, я понял, что не слышу городских звуков — ни машин, ни голосов, ничего.
А до этого они хоть и приглушённо, но доносились с соседних улиц. Словно я вошёл в длинный коридор и за спиной закрылись ворота. А впереди... что впереди?
Впереди была зелень вдоль аэродрома. Она казалась почти чёрной из-за теней. Неподвижных и глубоких. Они лежали в каждом кусте.
Они распластались под ними и в канаве, словно хищники, ждущие добычу. Они маленькими фестонами, похожими на летучих мышей, устроились на ржавом оскале колючей проволоке. Они ждали.
Я понял, что хочу вернуться. Больше всего на свете. И более того — надо вернуться.
На часах было половина девятого. До темноты ещё почти два часа. За час я дойду до тех самолётов и обратно. Вернусь, когда ещё будет светло, и пойду на дискотеку.
А с собой прихвачу... да хотя бы альтиметр или указатель топлива из кабины, они там легко снимаются. И разговор с Лидкой на мази. «Знаешь, откуда это? Я там был... Да только что, когда!..» Город небольшой, они наверняка тут все по вечерам сползаются на дискотеку...
С этими мыслями я дошёл до решётчатых ворот. Когда я выходил из переулка, мне почудилось, что возле них стоят два рослых человека, но потом я сморгнул и понял, что это всё те же тени. Они исчезли, как только я подошёл ближе.
Я выключил плеер. Липовая аллея уводила вдаль и казалась бесконечной, точнее — теряющейся в каком-то мареве. Мне послышались шаги; оглянувшись быстро влево-вправо, я понял, что проезд пуст. И это тоже странно, по вечерам тут бы только и играть во что угодно.
Не больше часа. Туда. И обратно. Я обошёл ворота и зашагал по аллее.
Липы молчали в безветрии. Я шёл, и мне ещё два или три раза казалось, что за мной кто-то шагает — неспешно и уверенно. Оглянувшись в очередной раз, я остановился.
Я уже дошёл до того места, где тропинка уводила к мостику через ручей. Там подъём, кусты — и взлётная полоса с самолётами. Собственно если бы не вся эта зелень, их бы отсюда было видно. Но я уже понимал, что не пойду туда. И не смогу себя заставить.
Ажурное плетение мостика казалось живым. Смешно, но это так. Хотя — совсем не смешно. Оно напоминало змей. Мне даже показалось, что прутья шевелятся. Я сморгнул. Ерунда, конечно.
За моей спиной кто-то прошёл. Волоски на шее приподнялись, как наэлектризованные. Я обернулся. Никого. Только кусты неподалёку покачивались. Туда-сюда. Туда. Сюда.
Ветки танцевали ритмичный танец. Только в одном месте. Там что-то шевелилось и пробиралось наружу, в аллею. Ветки дёргались бешено. Я услышал звук. Он был негромкий и сипловатый — словно кто-то зевнул с подвывом.
Я смелый человек. Я понимаю, что это нахальство — в пятнадцать лет так заявлять о себе, но это правда. У нас в корпусе трусов не держали, да и до этого я всю жизнь старался развивать в себе храбрость.
Я много читал про разных асов прошлого и в книжке про знаменитого немецкого пилота-штурмовика Руделя как-то прочитал, что он в детстве был трусоватым до такой степени, что его дразнили девчачьим именем «Ули».
Тогда он разозлился на весь мир и буквально принудил себя быть храбрым. У меня в таком не было необходимости, я и так никогда не боялся ни темноты, ни драк, ни каких-то животных.
Ну, не так чтобы совсем не боялся (это признак глупости), но страх никогда меня не побеждал. И уж тем более я не боялся ничего сверхъестественного. Просто потому, что в это не верил.
В корпусе мы жили в комнатах по четверо. Я делил свою с Олежкой Роминым, Денисом Бряндиным и Колькой Егерем (я сперва не поверил, что это такая фамилия, а Колька плёл, что настоящая их фамилия Эгер и они потомки какого-то венгерского воеводы, аж героя войн с турками!).
Колька был трепач — не злой и не вредный, а весёлый, родом откуда-то из-под Белгорода, а Олег и Денис — наши, из областного центра. Так вот — все трое обожали истории про разную паранормальную хрень.
Мне даже смешно было на это смотреть — чуть ли не каждый вечер трое здоровенных парней вовсю пугали друг друга. Ну, конечно, не историями про Гроб На Колёсиках и Красную Руку, а такими даже слегка научными рассказами — про вампиров, оборотней и птеродактилей. Но всё равно смешно.
Сейчас мне смешно не было. Страшно тоже не было, впрочем. Слишком уж это выходило за пределы обыденного, а значит — моего понимания. Мы боимся только того, что можем опознать.
Всё остальное оставляет простор только для фантазий, а не для настоящего страха. Я стоял и ждал. И каким-то уголком сознания понимал, что меня фактически уже нет. Было почти темно. Краем глаза я различил свои часы. Половина одиннадцатого.
Аллея съела два часа. Когда я поднял глаза от часов, шевеление прекратилось. Кусты стали просто чёрной резной стеной. Я повернулся и пошёл к выходу из аллеи.
За мной шли. Это были лёгкие и уверенные шаги. Я стиснул зубы и не оборачивался. Решётчатые ворота приближались, покачиваясь.
За мной шли. Я вспомнил, как однажды нашёл на чердаке старые журналы и долго перебирал их, сидя у слухового окна. Они были интересными, словно окошко в другой мир — журналы конца 80-х годов прошлого века.
И в одном я наткнулся на репродукцию. Красивая улыбающаяся девушка в яркой одежде, с лыжами на плече, шла по заснеженной аллее. А за ней двигался ужасающий монстр с почти человеческой усмешкой — он протягивал лапу, чтобы положить её на плечо лыжнице.
Картина называлась: «Вы ещё не видели чудовища?»
Потом я прочитал ниже, что автор этой работы повесился в своей мастерской.
Нельзя оборачиваться. Как у Гоголя в «Ночь на Ивана Купала». Как звали того парня, который убил мальчишку за клад? «Из-за плеча тянутся к цветку мохнатые лапы... Омерзительные чудища скакали кругом... Ведьма вцепилась в обезглавленный труп и пила кровь...»
У меня сжался желудок. Ещё немного. Шагов полсотни.
— Мальчик, обернись, — позвали меня. — Мальчик, не уходи.
И вдруг — истошные мужские крики, вроде бы даже не на русском. И — выстрелы. Одиночные, очереди... Хрип:
— О майнготт... хильфе, битте, битте... хэй, кнабэ... битте1...
Кто-то полз за мной, хрипя и что-то бормоча по-немецки. Я слышал, как шуршит палая прошлогодняя листва и похрустывают сучки под волокущимся телом.
Хриплый торжествующий рёв — и короткий крик. Я не выдержал. Я обернулся.
Аллея была пуста. Вдали. Но когда я опустил взгляд, то уви-дел возле самых своих ног это.
Существо сидело на корточках, потому что было очень похоже на... нет, не на человека. Больше всего оно напоминало обезьяну — орангутанга или небольшую гориллу. Оно упиралось в землю широко расставленными длинными лапами, на которых я увидел чёрные когти. Голова существа находилась на уровне моего пояса.
Оно улыбалось. Вот улыбка была бы человеческой, если бы не клыки. Длинные клыки. Собственно, у него только одни клыки и были. Много. Полная пасть... нет, рот — большой рот с чёрными резиновыми губами.
И тогда я побежал. Повернулся и побежал, ничего не видя и ничего не соображая. Да и не пытаясь соображать, потому что это всё равно не имело смысла.
Я бежал, пока сердце не начало выпрыгивать из груди, а ноги — заплетаться. Это была какая-то людная улица, магазинчики, автобусная остановка... Я согнулся пополам и упал на скамью возле входа в небольшой парк, в котором гремела диско-музыка, какой-то рэп.
— Смотри, как набрался, — услышал я голос и, распрямившись с трудом, увидел двух патрульных ментов. Они стояли возле меня и посмеивались, играя дубинками. Потом один нагнулся ко мне:
— Ну-ка... — и начал обхлопывать карманы. — Где тут у нас бутылочка? А денежки?.. Тихо-тихо-тихо...
— Там... — выдавил я, не обращая внимания на то, что он откровенно пытается меня ограбить, думая, что я пьян. — Там, в аллее... около аэродрома... я видел...
Мент отшатнулся. Его напарник сделал шаг назад. Несколько секунд они рассматривали меня остановившимися глазами. Потом молча развернулись и быстро пошли прочь не оглядываясь.
Я даже не задумался над тем, что они пытались меня ограбить — плевать! Я сидел и унимал трясучку, удивляясь, что у меня ещё вообще бьётся сердце. Потом встал, перебрался к нескольким столикам под весёлым кокакольным навесом, купил бутылочку холодной воды и залпом её высадил.
В ушах у меня стояли звуки, услышанные на той чёртовой аллее. Я потряс головой — отчаянно, стараясь прогнать их прочь и одновременно убедить себя, что всё это мне почудилось, что мне просто было плохо...
Мой блуждающий взгляд уже несколько раз скользил по вывеске над входом в старинное здание — освещённая синим неоном, она гласила:
ТЕЛЕФОН ТЕЛЕГРАФ ИНТЕРНЕТ
Это, кажется, было то, что мне нужно. Когда я встал, ноги подламывались, но в небольшом помещении, объединявшем сразу всё, где двое пацанов резались в какую-то игру по сети за единственным компьютером, а за старинной конторкой сидела немолодая и надёжная, как её конторка, женщина, я слегка пришёл в себя, если это вообще было возможно и, пристроившись за столиком, покрытым пластиком, под которым лежали образцы заполнения бланков, составил коротенький текст.
Потом перечитал его.
«Мама доехал нормально не волнуйся всё в порядке»
И вдруг я расхохотался, до смерти перепугав женщину за конторкой.
Всё в порядке! Конечно, что тут ещё сказать — всё в порядке, блин! В абсолютном! В пол! Ней! Шем!
Если исключить, что я либо окончательно сошёл с ума — либо...
Либо — что?
6.
Проснувшись, я долго не мог понять, где, собственно, нахожусь. Незнакомым было абсолютно всё — даже запахи, лившиеся из затянутого марлей, но настежь открытого окна. Дома моё окно выходило просто на улицу, хотя и окраинную, да оно там и не открывалось. В корпусе...
Ладно, это всё чушь.
Я хотел вскочить сразу, но потом остался лежать и прикрыл глаза снова. Все вчерашние приключения казались вызванными переутомлением и обилием впечатлений.
Головка вау, ротик кака, а сегодня войду в норму — и всё будет отлично. Каникулы у меня — или нет?!
А дед — отличный мужик, вчера и не подумал меня ругать, хотя я пришёл домой в пол-одиннадцатого, и они с этим немцем сидели на крыльце. Кажется, ждали меня. Я честно сказал, что пошёл, куда глаза глядяд, а на обратном пути заблудился. Но телеграмму дал.
А сейчас всё, что со мной происходило вчера — вот честное слово! — казалось сном.
Я посмотрел на свои часы, лежащие на подоконнике. Было всего восемь. Надо же... Я прислушался к себе — нет, спать больше не хотелось, точно. Ну, что? Тогда встаём?
Как раз тут моё внимание привлекли звуки, доносившиеся из сада. Я откинул одеяло, поднялся и подошёл к окну распахнул толчком лёгкую раму.
Дед Толя — в чёрных трусах и белой майке — обрабатывал кулаками подвешенную на сук яблони боксёрскую грушу. Груша коротко ухала и качалась. Дед коротко ухал и прыгал. Я заметил, что у моего родственника вовсе не старческое тело — ни животика, ни тонких ног, ни дряблости кожи...
Правое плечо занимал жутковатый шрам — лямка старинной майки его не закрывала. Я скосил глаза на свои рёбра, на свой шрам — звёздчатый и неровный. И, передёрнув плечами, поднял голову.
Герр Киршхоф расположился, положив друг на друга вытянутые ноги, в плетёном из прутьев кресле под другой яблоней. Он покуривал длинную самокрутку и держал в руке бокал с пивом, одобрительно глядя на деда.
— А помнишь... — дед атаковал грушу серией ударов — так, что даже сук заскрипел протестующе, — как мы с тобой на пруду дрались? Ты мне тогда ещё навалял... Может, попробуешь?
— Лучше вспомни, — немец выпустил неторопливое облако дыма, — как мы с тобой подрались с... о-коль-ским-ми? Я так сказал?
— Окольевскими, — поправил дед и, остановив грушу, увидел меня.
— Доброе утро, — поздоровался я первым.
— Доброе утро, Жень, — улыбнулся дед. Герр Киршхоф поприветствовал меня взмахом бокала:
— Гут морген, Евгений! — покосился на деда и добавил лукаво: — Хайль Гитлер.
— Но-но, Гитлер, — дед качнул в его сторону грушу и опять обратился ко мне. — Чего там торчишь? Мойся, брейся, одевайся и пошли завтракать...
...Дед готовил сам, как я понял, и неплохо. В принципе я бы не удивился, питайся он готовыми завтраками, обедами и ужинами из какого-нибудь супермаркета, да и не был бы против — но на столе оказался настоящий глиняный кувшин с молоком, тарелка с гренками, масло, огромная яичница с ветчиной и помидорами, и миска холодного винегрета. Герр Киршхоф к столу опоздал и, принеся две бутылки пива «Клинское», тут же открыл одну.
— Вы не пьёте пива, Евгений? — спросил он.
— Да нет, — я улыбнулся — немец мне нравился.
— Вы спортсмен?
— Я хотел стать... — я оборвал себя. — Не пью.
Немец посмотрел на меня долгим взглядом. Дед раскладывал яичницу. Герр Киршхоф сказал:
— Это, несомненно, не моё дело и вы вправе меня оборвать, Евгений. Но Анатолий рассказал мне о случившемся с вами несчастье. Это тем более прискорбно в наше время, когда всё меньшее число мальчиков выбирают профессии, достойные настоящих мужчин. Я просто хочу вам сказать: не падайте духом.
— Поручик Голицын, — добавил дед. — Чего затянул отходную? Внук у меня настоящий герой. А дело и на земле найдётся.
Я уставился в тарелку. Мне хотелось, чтобы они перестали обсуждать эту тему — так хорошо началось утро... Но герр Киршхоф ответил деду:
— Ты напрасно так говоришь. Подумай о себе. Или вспомни моего отца. Без неба...
— Ваш отец был лётчиком? — не удержался я.
— Его отец был асом Люфтваффе2, — ответил за немца дед. — И погиб в здешних местах.
— Его... сбили? — я ощутил неудобство. Герр Киршхоф смотрел в окно:
— Нет, — сказал он. — Отец погиб на земле...
...При свете летнего дня Любичи выглядел сонно и совершенно обыкновенно, прямо-таки убийственно благопристойно и скучно. Ничего более типичного себе и представить было нельзя, даже мой родной городок не сравнится... Хотя, казалось бы, уж куда типичнее!
Я никуда не спешил. Просто шагал по улицам, разглядывал дома, глазел по сторонам. Вообще это странное и интересное занятие — бродить по незнакомому городу.
Я не знаю, многим ли это нравится, или один я такой чокнутый. Но когда я так хожу, я как будто открываю что-то новое. Хотя, казалось бы, что может быть нового в улицах, окантованных зелёной каймой деревьев? Они же везде одинаковые...
А вот и не везде.
Но в любических улицах было что-то странное и тревожное. Не везде — пока я ходил по центру, всё было нормально. А потом я свернул в какой-то переулок у подножья старинной башни — то ли колокольни, то ли водокачки, то ли вообще сторожевой — и...
И на меня обрушилось уже знакомое по вчерашнему дню чувство беспокойства.
Я стоял на верху спуска — как будто в зелёную воду, улица постепенно спускалась в зелёно-чёрные заросли, а за ними я увидел поле аэродрома. Всё — от края до края. Не такое уж и большое, с отлично различимыми вдали железнодорожными путями. Заросшее сорняком, который вполне мог прятать остатки самолётов...
Вот только причальную мачту для дирижаблей не спрячешь даже за корабельными соснами. А я её не видел нигде.
Задумчивое созерцательное настроение, овладевшее мной, растаяло без следа. Я снова и снова обшаривал взглядом пространство перед собой, словно мачта могла, скажем, пригнуться — а теперь должна устать и выпрямиться снова.
Вообще-то я, если честно, собирался отправиться после прогулки на здешний пляж, про который мне говорили, и поискать там Лидку. Но теперь...
... теперь я обратил внимание на то, что и улица-то, в начале которой я стою, практически заброшена. Окна сплошь и рядом были заколочены, на крыльце многих домов проросла трава.
Но, опять-таки — нигде не было заметно следов молодёжных тусовок с их неизбежными поджогами, битьём стёкол и надписями на стенах. Создавалось ощущение, что улицу обходят стороной...
Несколько домов, впрочем, были вполне обитаемыми, а над одной из дверей я даже увидел вывеску, удивившую и заинтересовавшую меня. На чёрном ромбе с алым кантом алели звезда, молния и надпись:
КНИЖНЫЙ МАГАЗИН
«АНТИМИР»
Собственно, меня заинтересовал не столько сам магазин, сколько вопрос, какому оригинальничающему идиоту придёт в голову содержать настолько специфическое заведение, как книжный магазин, в таком безлюдном месте? Какая тут может быть прибыль?
Решительным широким шагом я пересёк улицу и вошёл в дверь, украшенную стеклянным многоцветьем витража...
...Мелодичный перезвон колокольчиков над входом заставил меня посмотреть вверх. Мне такие штуки почему-то никогда не нравились, хотя последнее время стали модными — эдакая претензия на старину. Но не могу не признаться, что именно в этом помещении такая штука была более чем уместна.
Прямо от входа вниз вели пять или шесть крутых ступенек — гранитных плит, вытертых посередине до желобов. Квадратное низкое помещение крестом посередине и вдоль трёх стен занимали деревянные прилавки, сплошняком заваленные книгами, кипами журналов и открыток.
Вдоль четвёртой шла высокая конторка, ограждённая бортиком с резными перильцами. Сами стены покрывали мрачные панели резного дуба. Хозяина в помещении не было — да и вообще никого не было.
А в следующее мгновение я сообразил, что всё это вижу совершенно отчётливо, несмотря на то, что в комнате нет ни одного окна и ни одного (по крайней мере — видимого) источника освещения.
Я переглотнул и мысленно чертыхнулся. Потом позвал:
— Хозяин, тут есть кто-нибудь?
Никто не ответил, и я, осторожно ступая, спустился в помещение. Подошёл к столам.
Я люблю читать, кажется, я уже говорил. Но в принципе я читаю то, что называется «книжным мусором» — фантастику, приключения, детские детективы, мистику...
Школьную программу терпеть не могу, как и разных нынешних «властителей дум» всяких там Борхесов-Шморхесов и Дос Пассосов.
А здесь лежали книжки... нет, книги... которых я в жизни не видел иначе, как в музеях и по телику. Толстые, но неожиданно лёгкие тома, переплетённые в кожу с вытертым золотым тиснением...
Книги, в обложках которых под накладками ощущалось дерево, а печатные буквы копировали манеру писцов от руки... И тут же — подшивки журналов вроде «Пчела», «Паук»... или даже рукописные труды, фамилии авторов которых мне ничего не говорили... Я переходил туда и сюда, листая и просматривая книги, журналы и открытки...
Оружие, военная техника и снаряжение армии Англианской Империи (для служебного пользования)...
П. винКальдс. Бестии Чёрного Леса (классификатор)...
Отчёт полковника Д.Д. Басова, начальника экспедиции Географического общества Ея Императорского Величества...
И. Робар. Dino sapiens. История наших взаимоотношений...
Ван дер Хойзен. Баллады...
— Молодого человека интересуют стихи?
Я вскинулся, чуть не уронив эти самые «баллады». На меня смотрел стоящий за конторкой невысокий старик с длинным носом, закутанный в какие-то невообразимые лохмотья.
— Нет, в общем-то, — я положил книгу. — Я из интереса зашёл... Я вряд ли что-то тут смогу купить... Тут же всё, наверное, раритеты...
— В общем-то да, — брови старика сделали неопределённое движение.
— Ничего иного не держу... А могу ли я полюбопытствовать, в чём интерес визита?
— Ваш магазин, — я подошёл ближе и облокотился на один из прилавков. — Мне кажется, это не очень-то выгодное место... Конечно, это не моё дело, но всё-таки. Какой смысл содержать...
— Посмотрите эту книгу, молодой человек, — не очень-то вежливо перебил меня старик, подавая мне большой альбом. — Сейчас мне надо заняться покупателем...
Ничего не понимая, я взял альбом — и в ту же секунду протяжно зазвенел колокольчик. Я обернулся — и окаменел.
Вошедший не был человеком.
В темноте я бы, наверное, мог спутать. Мне и так в первую секунду показалось, что в магазин вошёл моряк — белый мундир с золотым поясом, на котором висел длинный кортик, и таким же шитьём, на ру-ках — чёрные перчатки, высокая фуражка, сапоги с молочным блеском (какой они всё-таки свет отражают, где тут светильники?!) Но уже во вторую секунду я увидел, какое у вошедшего лицо.
Нет, поймите, оно тоже было человеческим — глаза, нос, уши, рот, всё на месте. Но! Вашу мать!
Большущие зелёные глаза имели золотистые вертикальные зрачки. Плотно прилегавшие к черепу уши слегка заострялись кверху. Курносый нос почти не имел переносицы.
Кивнув старику, вошедший улыбнулся — и я увидел под пухлыми губами нижние и верхние острые клыки. Узкий подбородок и выпуклые скулы, широкий лоб, а коротко остриженные волосы под фуражкой, которую он снял, отблёскивали серебром. Не сединой, нет — металлом.
Волк. Передо мной стоял человекообразный волк — именно на изменившуюся, очеловечившуюся волчью морду больше всего походило это лицо.
Наверное, я почти влез задом на прилавок, потому что посетитель скользнул по мне взглядом и, снова улыбнувшись, сказал высо-ким металлическим голосом:
— Человеческий русский мальчик интересуется историей авиации Ленниадской Империи?
— Я? — проблеял я и обнаружил, что на руке, которую он выбросил вперёд, коснувшись альбома в моих пальцах — четыре пальца. И это не уродство. Просто такая рука.
— Одна из первых моделей «Торна», — военный-волк постучал по обложке. — Я на такой уже не летал, только видел в музее... Великое время! — и он прочёл:
— Ленниатта «Торн», ленниатта, лоониатта. Кен, кен, кен, ленниатта «Торн», лоо, лоо. Астоатта «Торн», астоатта, ио, ио то... — он поощрительно улыбнулся и, перестав обращать на меня внимание, повернулся к хозяину: — Почтенный книготорговец, я бы хотел...
Но чего он хотел — я не услышал, потому что пулей вылетел наружу...
...Я приложил ко лбу пустую бутылку из-под пепси и снова перевернул страницу.
Ряды угловатых букв были мне совершенно непонятны, хотя напоминали руны. Но рисунки и фотографии — цветные — были выше всяких похвал.
И вот в чём я мог поклясться — что не знаю ни одного ле-тательного аппарата, на них изображённого. Тут были в основном дирижибли и самолёты, напоминавшие машины 20-х годов ХХ века. Иногда возле них попадались и люди. Нет. Не люди.
Я рванул себя за волосы и огляделся. Сонный бульвар уходил в сторону пляжа; по нему шли три девчонки в купальниках, с одеждой под мышкой. За деревьями поднималось большое здание — мэрия, на-верное, с государственным флагом. Перед нею Ленин указывал в светлое будущее...
На флаге, крупно изображённом на той странице, которую я открыл, крылатый волк с оскаленной пастью в фас бросался вперёд, словно собираясь выскочить с бумаги.
— Не сойду с ума, — процедил я, вставая.
Обещать себе это было легко. Гораздо труднее было выполнить обещание, когда в конце переулка за башней я оказался на окраине аэродрома.
Улица с магазинчиком исчезла.
7.
Дома никого не было. На столе стояла здоровенная миска с окрошкой, закрытая марлей, на которой лежала записка.
Женя, мы ушли гулять по местам боевой славы. Будем поздно. Поужинай всем, что на тебя смотрит, не стесняйся. И можешь заниматься, чем угодно, только не надо ходить в сторону аэродрома. Поверь, это небезопасно.
Дед Анатолий.
Я задумчиво поел, продолжая листать альбом. Потом — с ним же — пошатался по комнатам, разглядывая экспонаты дедова мини-музея. Без какого-либо неприятного чувства, кстати, отодвинулись на задний план личные проблемы, до них ли...
Включил телевизор, посмотрел какой-то детектив, уже к концу обнаружив, что не помню ни сюжета, ни героев, ничего.
За окнами начало вечереть. Я ощутил желание закрыться в своей комнату, задёрнуть шторы, включить свет и забраться под одеяло с головой. Вместо этого я открыл так толком и не разобранную со вчерашнего дня сумку, достал со дна подаренный ребятами, когда меня отчисляли, финский нож...
И, на ходу пристёгивая его изнутри к джинсам, вышел из дома...
...Улица была пустынна. Никого вообще... А ведь она просто создана для того, чтобы по ней гонять на велосипеде, например — ни машин, ни пешеходов... Я слушал свои собственные шаги и упрямо делал всё новые и новые, хотя внезапно обнаружил, что идти вперёд мне совсем не хочется.
Около решетчатых ворот я остановился и увидел, как со стороны аэродрома приближается туманная полоса. Она ползла неспешно и уверенно. Мне казалось, что я слышу шорох — вкрадчивый и сырой — с которым туман пробирается через кусты.
А потом я увидел огонь костра. Кто-то жёг его примерно в том месте, где мы с Лидкой выехали с аэродрома. Это был настоящий костёр, довольно большой, и возле него двигались тени. Я взялся рукой за холодный влажный металл ворот и расслышал, как звучит гитара.
— Привет, вот и встретились.
Я обернулся, как ужаленный. Что-то я слишком нервным тут становлюсь... И невольно улыбнулся — позади меня стояла Лидка, точь-в-точь такая, как при нашем расставании, только без велика, но с пакетом. Она, кстати, тоже улыбалась, но сказала сердито:
— Я же тебе говорила, чтобы ты не совался к аэродрому...
— Я просто гуляю, — ответил я без раздражения, словно она имела право указывать мне, где и когда гулять. — И потом — вон там кто-то костёр жжёт...
Она вздохнула и передёрнула плечами. Сказала устало:
— Женя, ты всё равно не ходи, даже если увидишь самое обычное что-нибудь... Ну, правда, так безопасней... Но сейчас, — она снова улыбнулась, — если хочешь, пошли со мной. Там наши собрались, во несу, — она подняла в руке сумку.
— Давай я потащу, — я принял у неё сумку. Тяжёлую, кстати. — А что там, опять сосиски?
— Не, полуфабрикат для шашлыка, настоящий... Пошли.
Я специально тормозил, идя по алее, чтобы подольше побыть рядом с ней. Лидка не ускоряла шагов, и я понял, что и она не против чисто моей компании.
— А ты в школе учишься?
— Конечно... А ты в каком классе?
— В одиннадцатый перешёл.
— И я... Я когда тебя увидела, то решила, что ты суворовец или кадет.
— Почему?
— У меня есть знакомые мальчишки-кадеты, они так же держатся.
— Вообще-то я был кадетом.
— Выгнали? В смысле, отчислили?
— Ушёл. Так получилось. Я хотел лётчиком стать...
— А, теперь я поняла, почему ты на аэродром пошёл.
— Вообще-то нет, я просто думал, что тут короче...
Мы дошли до того места, где за кустами горел костёр, перебрались через глубокую канаву по доске и услышали:
— Кто идёт?
Голос был без скидок серьёзный. А потом я увидел того парня, моего ровесника. Он стоял в кустах и держал в руке у бедра обрез — не муляж, не игрушку, а настоящий обрез двустволки-горизонталки, похо-жий на старинный пистолет.
— Свои, — коротко отозвалась Лидка. — Шашлык принимайте.
— А, наконец-то, я уж хотел за тобой идти, — на меня он посмотрел мельком, но не обидно, а как на старого, хотя и не близкого знакомого, против присутствия которого нет причин возражать.
Костёр горел не такой уж большой, но разложенный умело. Сбоку тлели угли — кто-то нажёг и отгрёб их в сторонку.
На неизменных ящиках тут сидели тот младший мальчишка (только теперь не босиком, а в старых вьетнамках) и ещё один пацан, тощий, смуглый, моих лет, с тёмным чубом, одетый в джинсовые шорты, майку клуба «Барселона» навыпуск и кеды на босу ногу.
— Это Женька, — кивнула на меня Лидка. — Жень, этих ты уже видел — Петька, — кивок в сторону старшего, который устраивал пакет рядом с двухлитровым пузырём «белого медведя» и таким же — колы, — и Колян, — кивок на младшего. — А это Тон, Антон.
Мальчишки тоже покивали мне. Антон рассматривал меня внимательно и даже подозрительно, но я решил не обращать внимания — в конце концов, в их компании я был новеньким. Все ребята из таких компаний в небольших городах — и в моём — похожи друг на друга.
Они мало кому доверяют, понимают, что будущего — хорошей работы, учёбы — у них никакого нет, чувствуют себя ненужными зачастую даже родителям, а опасностей ждут со всех сторон — от милиции, таких же компаний, всяких отморозков; знают, что государство про них вспомнит только когда пацанам настанет срок идти в армию, а про девчонок не вспомнит вообще.
Я бы тоже вырос таким, если бы не мечта о небе... Так что нечего возмущаться и надуваться.
Я присел на один из ящиков, возле гитары — в коричневом поцарапанном лаке, на настоящей пулемётной ленте, она стояла тут, как равноправный член компании. Кстати, кое-что необычное в окружающих меня всё-таки было, даже если исключить обрез, торчащий за поясом шортов у Петьки.
Они вели себя медлительно-спокойно, как будто сберегали силы — не было ни подтырок, ни приколов, ни шума, как обычно бывает в компаниях моих ровесников.
Лидка широко раскрыла пакет с шашлыками, начала ловко нанизывать на заточенные прутья капающие маринадом куски свинины вперемешку с крупными кольцами лука. Петька, присев, открыл пиво и протянул мне молча. Я секунду помедлил, потом сказал:
— Не, я не пью.
Мне почему-то казалось, что он будет настаивать или насмехаться, но он только кивнул и, отхлебнув сам, передал бутылку Коляну. Мелкий тоже отпил вполне привычно и вернул бутылку Петьке, даже не предложив Тону — очевидно, тощий тоже не пил.
Он как раз размещал над углями на кирпичах импровизированные шампуры, которые ему передавала Лидка. Закончив это дело, Тон кивнул мне:
— Передай гитару.
Я протянул ему инструмент. Тон пощипал струны, вздохнул. Остальные словно бы и внимания не обращали на то, что он собирается петь.
Петька ломал ветки для костра, Колян пощёлкивал по бутылке с пивом и смотрел в огонь, Лидка как раз уселась на ящик. Не рядом со мной, что печально... Но я успел только об этом подумать мельком, когда Тон запел, аккомпанируя себе «на три аккорда»:
Это было — не сон.
Наяву это было —
Я знаю.
Над обрезом земли
Поднималась,
Алела луна.
И манила меня —
К ней идти
И коснуться
Багрового края,
А под алой луной
Трав степных
Пламенела стена.
И я шёл —
Как во сне.
И ковыль
Щекотал мне колени.
Я прошёл сквозь луну
И за нею ушёл
В небеса.
Под ногой
Тонкий звон
Издавали резные ступени,
Холодили металлом...
А по небу —
Всплывали леса.
И металл прорастал
Под кроссовками
Свежей травою.
А потом —
Не кроссовка,
Сапог по траве той шагнул.
И я слился с тем миром,
Со всей этой странной
Страною,
И палаш на бедре
Тяжко перевязь
Вдруг оттянул.
Я ушёл по лесам,
Где сияли
Сапфиры-озёра,
Где в кипенье кустов
Окликали
Пришельца ручьи...
А над всем, словно шлемы
Вздымались
Гранёные горы,
Где вода, небо, воздух
Мои были —
Были ничьи.
Замок острым штыком
Протыкал
Предрассветное небо —
Ранним утром, когда
Я к излучине
Вышел речной.
Я вошёл в его залы,
Где крепко сплелись
Быль и небыль.
Я остался там жить.
Тех я помню,
Кто там был со мной...
Это было — не сон.
Наяву это было —
Я знаю...3
— Чьи это стихи? — спросил я.
— А что, понравилось? — усмехнулся Тон, не выпуская гитару и другой рукой переворачивая шампуры. — Мои стихи.
— Хорошая песня, — признал я.
— Он в газете печатался, — подал голос Колян. — Пока не напечатал... — младший хитро улыбнулся, а Петька и Лидка хором прочли:
Мэр наш славный книжки пишет,
Взял редактором жену.
В этих книжках излагают,
Денег нету почему.
— Это не шедевр, конечно, — добавила Лидка, — но Тон встал на учёт, как злостный хулиган и в газету ему путь теперь закрыт накрепко... Дай пивка, Петь...
— Не надо тебе... — проворчал Петька, но бутылку дал.
— А какие книжки? — не понял я. Лидка, булькнув пивом, пояснила: — Серию брошюр наш мэр выпустил на пару с женой. О кризисе развития родного города. Под эти брошюрки он кредит взял... в смысле, под их печать. А возвращал из горбюджета.
— Да ну его, — Тон побренчал на гитаре просто так. Я повернул шашлык, от которого уже вкусно попахивало. — Ты в гости приехал, на каникулы?
Я кивнул и вдруг сказал:
— У меня травма была... А тут от дома далеко, психолог сказал, что смена обстановки поможет мозги наладить.
— Разладились, что ли? — без насмешки спросил Петька.
— Вроде того, — кивнул я.
— Ну, тогда ты промахнулся, — заметил Тон. — С местом, в смысле.
И тут я решился.
— Это я уже и сам понял, — медленно сказал я, глядя на ребят. — Я вообще думал, что совсем чокнулся.
И я коротко, но подробно рассказал о том, что со мной случилось. Не обо всём — о магазине умолчал. Пока... Почему-то я был уверен, что смеяться надо мной не будут. И не ошибся.
Они не просто не смеялись. Они смотрели внимательно и серьёзно. Когда я понял, что они не собираются нарушать этой тишины, я сам спросил — может быть, излишне агрессивно:
— Я ни фига не понимаю, что тут происходит. А мне тут жить ещё больше двух месяцев, и мне ваш городок в целом понравился.
— А тебе и не надо ничего понимать, — нейтральным тоном сказала Лидка. — Всё очень просто, я тебе уже говорила: не суйся на аэродром, и можешь отдыхать в своё удовольствие. Так все делают. И местные, и приезжие.
— Я не все, — отрезал я. — И не вижу, что так делают в самом деле все местные. Или вы тоже не все?
— Мы ещё и не все местные, — сказала Лидка. — Проводить тебя до ворот?
— Что, пришёлся не ко двору? — я посмотрел на неё.
— Да нет, — пожала она плечами. — Просто дальше начинаются уже не разговоры, а дела, и довольно неприятные.
— Я не брезгливый. И никуда не тороплюсь. Мне тут нравится.
Они неожиданно захохотали — все четверо, но почему-то тоже необидно. Лидка, отсмеявшись первой, вдруг спросила:
— Мальчишки, расскажем ему?
— По-моему, можно, — солидно отозвался Колян.
Тон пожал плечами. Петька кивнул:
— Давай. Он, по-моему, не трус.
— Ладно, — согласилась Лидка. — Смотрите за шашлыками... Жень, это история долгая и совершенно невероятная. То, что ты сам видел, мало значит, ты всё равно можешь не поверить... Но слушай, раз хочешь...
До войны тут был аэродром. Когда его строили, старики говорили, что это очень плохое место. Что ничего строить тут нельзя. Но их никто не слушал тогда, думали, что они просто против авиации, тогда такое было, многие думали, что это от дьявола.
Только один человек, начальник аэродрома, он был просто любопытный, не то что поверил, а начал собирать разные сказки и легенды. Но его в 37-м арестовали, и всё, что он собирал, пропало. Это был прапредед Тона, — Лидка кивнула на приятеля, который трогал струны гитары и совершенно, казалось, не слушал, о чём говорят.
— Тон сумел узнать, что его прапрадед нашёл сведения о том, что тут появляются чудовища и пропадают люди. Но до войны этого не было ни разу на людской памяти. Когда началась война, сюда пришли немцы. Аэродром им достался почти целым. Ну, они тут и устроили свой, большой.
А летом сорок второго тут что-то произошло. Даже толком непонятно, что. Просто за сутки никого не осталось — люди, техника, всё-всё попропадало. И немцы даже не пытались его воссстановить, наоборот — всё обтянули колючей проволокой и до последнего тут держали охрану, и не полицию, не тыловиков, а настоящий эсэсовский батальон с техникой.
Потом пришли наши, хотели тут опять сделать аэродром, а за одну ночь несколько десятков человек и машины ремонтные пропали. Тогда его тоже под охрану взяли, и охраняли до начала шестидесятых.
Но люди уже тогда исчезать начали. Ходили ведь слухи про разные сокровища, про оружие, ну и лазили сдуру... Кто-то просто ничего не находил, другие долго-долго блуждали... и главное — как-то странно блуждали, как будто это и не те места вовсе, где аэродром строился, один даже убеждал, что море там видел!
А многие пропадали. И дети, и взрослые... А ещё были несколько человек, которые оттуда вышли совсем спятившими и рассказывали такие вещи, что их в психушку упаковывали. В семьдесят первом один такой угнал у ментов УАЗик, вооружился пистолетом каким-то, ружьём и снова туда вернулся, кричал, что надо с этим покончить. Ну и всё...
Говорят, несколько раз приезжали экспедиции, но это мы точно не знаем... А в начале девяностых аэродром... ну, как бы пополз, — Лидка зашвырнула в кусты какую-то ветку, вздохнула. — Вон там, — она указала рукой, — были пять улиц.
На Портняжной стояла гостиница, где остановились мои мама и отец со мной, они ехали в отпуск на Волгу на своей машине. И за одну ночь все улицы исчезли. Спаслись человек двадцать, в том числе — моя мама и я, только я ничего не помню...
— Как это? — ошарашено спросил я, чувствуя, как вдоль позвоночника в путешествие отправились стада мурашек. — Погодите, так не бывает... Ну ладно, начало девяностых, неразбериха... Но... это сколько же человек пропало?!
— Больше полутысячи, — подал голос Тон. — Никто и внимания не обратил. Вернее, во всяких там придурошных газетках, может, и писали, но никто не расследовал ничего. Даже тут, городские власти. После этого за полгода опустели все прилегающие улицы. Люди просто съехали, некоторые вообще из города. Да ты сам видел.
— Бред... — я потряс головой. — А что дальше?
— Мама осталась жить тут, — Лидка вздохнула. — Она немного помешалась... Работает учителем в нашей школе. Так нормальная совсем, а если об этом разговор завести, то... — она вздохнула снова. — Так вот. Мы подсчитали. С сорок второго аэродром съел больше трёх тысяч человек. Абсолютно необъяснимо.
И ещё более необъяснима его... ну, как бы, структура. Впечатление такое, что он во много раз больше, чем на карте. По площади больше...
Мы два года назад вместе собрались. Ну, вообще-то мы и раньше друг друга знали, школа-то тут одна. Но два года назад у Тона пропала на аэродроме младшая сестра. Никто даже понять не может, зачем она туда попала...
И почти сразу мать и отец Петьки. Они, вроде тебя — со станции захотели срезать. День был, они домой торопились очень. И... всё. Петька с бабкой и дедом живёт. И Колян тогда же в городе появился. Вернее, появился он раньше, мы познакомились тогда.
— А... кто у него пропал? — я посмотрел на младшего мальчишку, попрежнему смотревшего в костёр.
— Никто, — покачала головой Лидка. — Колян не помнит никого, он беспризорный. Они и сюда приехали целой компанией, человек десять.
— Восемь со мной... — поправил Колян. Лидка кивнула:
— Восемь... Они же не знали ничего. И жили почти два года на аэродроме. Просто чудо... Там зданий много, а менты носа не суют.
— Не, мы замечали, что что-то не так, — Колян поднял на нас глаза. — Нинка... это девчонка старшая... она даже говорила, что надо уходить. Там по ночам иногда очень страшно было... и непонятно. Но мы всё не торопились, уж очень здоровское место было в остальном-то... А потом... — он передёрнул плечами, и Петька положил ему руку на плечо. Лидка снова заговорила:
— А потом Колян один остался.
— Их всех утащили, — тихо сказал Колян и снова передёрнулся,— сперва маленьких... ну и я тогда тоже маленьким был, мы играли в песке... Они так кричали... я ещё долго слышал... А я убежал и всех предупредил. И потом убежать смог, когда остальных... Санёк и Владик достали самодельные копья, из арматуры, и дрались, чтобы девчонки и я смогли убежать, а смог только я, остальные запутались... И их тоже...
— Он умеет там тропинки находить, — перебила Лидка. — И места безопасные. Инстинктивно. Мы не поверили сперва, а потом оказалось, что правда. Ну и Петька взял Коляна к себе. У деда с бабкой пенсии хорошие, и они добрые.
— Да, они добрые, — серьёзно подтвердил Колян. — Они меня зовут «внучок» и никогда не ругаются. На Петьку ругаются, а на меня нет...
— Это сказка, — тихо сказал я. — Вы меня пугаете...
— А ты нас решил испугать, когда рассказал про того? — спросил Тон, и я сник. — Да ты всегда можешь и отсюда уйти, и вообще уехать...
— А вы? — спросил я. И увидел, что они все смотрят на меня. — А вы? — повторил я.
— Мы... — усмехнулся Тон.
И Лидка сказала:
— Мы... это наш город. Даже мой, хотя я не отсюда. Мы хотим отомстить... покончить с этим. Мы поклялись.
Я ещё раз обвёл их взглядом и почему-то не стал смеяться. Только спросил:
— Думаете, вы первые?
— Не первые, — снова удивила меня Лидка. — Мы нашли во время одной из вылазок... ну, как бы штаб. Старый ангар. Там в семидесятых были ребята, которые называли себя «Команда очистки». Мы тебе потом покажем их документы, бумаги, там много всякого... если хочешь. И нам это очень помогло.
У них тоже родственники... или друзья... Только у них ничего не получилось. В городской газете Тон потом нашёл статью: «Группа подростков из шести человек пропала без вести в районе старого аэродрома».
Там всякая бодяга — мол, дети, не играйте на территории, там много шахт, мины и опасные места... И, может быть, ещё были случаи.
— И вы всё равно... — начал я.
Лидка кивнула:
— Да... Мы очень осторожны. У нас сейчас есть карта — такой больше нет ни у кого. Она дикая, с выходами в ещё несколько измерений. И атлас типологии... этих. И оружие, и много чего ещё... Только мы не можем понять, с чего всё началось, а главное — зачем всё это нужно и как это уничтожить. Вот и приходится по мелочам... Информацию копим, на станции дежурим, людей безопасными дорогами проводим... Мы многих спасли.
— Например — меня, — медленно сказал я.
Лидка согласилась:
— И тебя.
— И теперь хотите пригласить меня к себе? — меня вдруг начал разбирать смех.
— Если не струсишь, — добавил Петька. А Тон вдруг сказал резко:
— Если он не струсит, то будет дурак... А судя по тому, что он не сбежал сразу, он не так уж и струсил.
— Вообще-то, — честно признался я, — я просто решил, что чокнулся. Ну и зачем я вам? У вас в городе больше нет желающих?
— Во-первых, — пояснила Лидка, — желающих нет. Мы прощупывали. Все боятся. Знаешь, что такое настоящий страх? Это не когда рассказывают друг другу страшилки и на спор ходят в «нехорошие места».
Это когда наоборот — не взрослые, а мальчишки и девчонки начинают делать вид, что страшилки рассказывать не о чём и нехороших мест не существует... в городе, где нет ни одной семьи, в которой кто-то не пропал бы на этом аэродроме.
А, во-вторых... — она повертела шашлык и начала его снимать с шампуров на широченный лист лопуха. — А во-вторых, Жень, твой дед, скорее всего, единственный человек, который смог уцелеть на аэродроме. Мы не уверены, но он, похоже, работал там в какой-то обслуге. И спасся.
— А я думал, ты меня пригласила, потому что я тебе понравился, — искренне заявил я и увидел, как Лидка смутилась. Это меня ободрило. И я спросил:
— А что такое Ленниадская Империя? — ответом мне было удивлённое молчание, и я пояснил: — Я сегодня днём по вашему городу гулял, завернул за такую башню... — я помахал рукой. — И зашёл там в такой магазин...
Мне не дали договорить. Вскочили все четверо, и Тон крикнул:
— Ты был в магазине?! В «Антимире»?!
— Д... да-а... — ошарашено ответил я.
— Где он?! — вопил Тон, брызжа слюной.
— З...за башней, я же говорю... такая... — я снова помахал рукой. Тон не дослушал:
— Ты говорил с Торговцем?!
— Я... с ним говорил... и ещё зашёл такой военный... он похож на волка... Он и сказал про империю...
— У! У! У-у!!! — завыл Тон. — Ну как же нам не везёт! Второй день тут — и... а мы!..
— Значит, это правда — что есть выходы ещё в какие-то миры, — сказал Петька и потёр висок, усмехнулся: — Ну и ну, это правда везение...
— Ничего не понимаю, — признался я.
— Мальчишки, сядьте, — распорядилась Лидка, садясь первой. — Тебе надо было сразу рассказать, Жень... Ну, да ладно, мы и это расскажем...
... — В общем, Торговец — это такой... человек. Да, наверное, человек, — Лидка прожевала кусок шашлыка. Мальчишки сидели, глядя в огонь; Колька, по-моему, дремал. — Он... это трудно объяснить.
В тех бумагах, которые мы нашли — от «Команды очистки» — написано, что есть выходы не только туда, откуда приходят эти... твари, — Лидка коротко передохнула, — но и в ещё какие-то миры. Нормальные, но не такие, как наш... А Торговец их как бы связывает. Там о нём подробно написано, но мы его ни разу не видели. А тебе сразу повезло...
— Повезло, — я передёрнул плечами, — я чуть со страху не помер опять. Он же не человек. В смысле, не Торговец этот ваш, а посетитель, этот офицер. Он больше на волка похож.
— А самое главное, — Лидка подняла палец, — этот Торговец может объяснить, как нам быть с аэродромом. Он всё знает про параллельные миры... Мы его долго искали, в такие места залезали иногда, но...
— Я же не знал, — смущённо сказал я.
Мальчишки промолчали, а Лидка отмахнулась:
— Да кто спорит... Слушай, поговори с дедом, вдруг он что-то скажет? С нами он разговаривать не стал, пообещал родне доложить, чтобы они нас на цепь посадили...
— Обязательно поговорю, — клятвенно ответил я. — Сегодня же, даже если он уже спит.
— Так ты, значит, с нами? — уточнил Петька.
Не скажу, что я ответил сразу и без раздумий. Нет, я думал довольно долго — и всё время, пока думал, разглядывал Лидку. Потом встряхнулся и кивнул:
— Будь что будет. С вами.
— Здорово! — выкрикнул Колька. — Ну, мы теперь им покажем!
Старшие засмеялись — и оборвали смех.
Угрожающий металлический звук родился где-то в глубинах аэродрома — словно кто-то включил сирену, у которой вместо ревуна — пасть какого-то чудовища. Небо мазнул алый огонь. Я увидел, как один за другим поспешно погасли огни в ближних домах, видимых отсюда.
Люди спешили сделать вид, что их нет, что они спят и ничего не слышат, ничего не знают, ничего не видели. Так было безопаснее...
...Дед Анатолий и герр Киршхофф не спали. Сидя за столом, они рассматривали мой альбом, который я на этом столе оставил. И, когда я вошёл, оба посмотрели на меня.
— Женя, откуда у тебя эта книга? — спросил дед.
Я пожал плечами, в свою очередь не сводя с них глаз, и сказал:
— Я хочу, чтобы ты мне рассказал, что ты знаешь об аэродроме... и вообще обо всём, что происходит в этом городе.
Дед отвёл глаза и ссутулился. Вздохнул — поднялись и опали широкие плечи. Немец смотрел на меня непонятно — встревоженное и одобрительно.
— Я старый дурак, — пробормотал дед. — Я идиот... Втащить собственного внука в это дело... Ты немедленно уедешь, Женя, — он повернулся ко мне.
Я дёрнул плечом:
— Я никуда не уеду. В случае чего — просто сбегу. Есть к кому.
— Эти малолетние глупцы! — дед вскочил. — Они не представляют, с чем связались!
— Они хотят защитить свой город, — сказал я. — Все боятся и делают вид, что тут ничего нет, а трое мальчишек и девчонка хотят...
— Они свернут себе шеи! — дед вцепился в край стола.
— Анатолий, — вдруг сказал немец, — не надо. Вспомни, что ты говорил. Давай расскажем. Расскажем всё.
— Он влезет в это дело! — выкрикнул дед.
— Он уже влез, — терпеливо сказал немец. — И потом... прости... Но ведь ты сам собираешься с этим покончить. Иначе, зачем ты вызвал меня и своего внука?
— На что ты намекаешь, морда немецкая?! — дед багровел. — Что я вызвал своего собственного внука, чтобы...
Герр Киршхофф встал.
— Не надо, — сказал он с расстановкой. — Мы с тобой люди другого поколения. Мы оба знаем, что общее выше личного. У меня нет внуков, иначе я тоже приехал бы не один. В какой-то мере именно мы начали это. И нам это заканчивать.
Дед хрипло дышал, плечи у него опали. Повернувшись ко мне, он указал на диван:
— Садись, Жень. Эта немецкая сволочь права. Я хотел тебя использовать... даже принести в жертву, потому что... Слушай. И запоминай, чтобы рассказать своим новым друзьям...Что-то расскажу я, что-то — Мартин. Это началось давно. Очень давно, во время войны...
Часть 2. Давным-давно была война...
1.
Над Бобруйском Мартин проснулся оттого, что ему приснились барабаны. Он ошалело открыл глаза и подскочил на ящике.
Восьмиместный пассажирский «зибель», переделанный в грузовой вариант, тяжело раскачивался в воздухе. Надсадно выли двигатели. Что-то скрипело и похрустывало в темноте, из пилотской кабины падал мерцающий полусвет, зелёный и синий.
Мартин, не помня себя, вцепился обеими руками в ящик, чувствуя, как тело покрывается гусиной кожей. Потом он поспешно ощупал ремни парашюта, застёгнутые поверх формы. Сжаться в комок, когда выпадаешь... следить, чтобы не оказаться вниз головой... досчитать до десяти, потом — рвануть кольцо...
А если они уже падают? Если, пока он будет считать, как раз и — земля? Если он вообще не успеет выпрыгнуть? Мама, мама, мамочка...
Тяжёлое раскачиванье прекратилось, и Мартин услышал негромкий голос из кабины: «Сходи посмотри, как мальчишка». Они думают, что я перепугался, понял Мартин и усилием воли заставил себя принять равнодушный и независимый вид. В темноте, впрочем, было всё равно.
— Ты как здесь, парень? — тёмная фигура опустилась на ящик рядом.
Это был штурман самолёта, Мартин не запомнил его фамилии и звания — крупный медлительный человек, уже не очень молодой и говоривший с сильным акцентом жителей побережья. Он ничуть не походил на тех лётчиков, которых Мартин привык видеть в кино и на страницах книг.
— Кажется, воздушные ямы? — голосом всё повидавшего человека спросил Мартин, чувствуя, как уходит страх. — Я спал...
— Да нет, просто нас обстреляли... — штурман тяжело присел на соседний ящик, посмотрел в квадратный иллюминатор. — Бобруйск... Уже недолго.
«Бобруйск, — вспомнил Мартин, тоже глянув в окно и не увидев там ничего, кроме тьмы. — Город в глубоком тылу группы армий «Центр», в Белорутении...» Вслух же он удивился:
— Кто же мог нас обстрелять? Тут глубокие тылы наших войск.
— Вот именно, — с непонятной интонацией отозвался штурман. — Настолько глубокие, что местное население ищет себе развлечений по своему разумению... — он повозился, ящик скрипнул, потом штурман вздохнул: — Ох, парень, клянусь, твой папаша сумасшедший, просто сумасшедший, раз тащит к себе мальчишку... Это ненормальная земля. И нас она делает ненормальными.
— Мне скоро пятнадцать! — возмутился Мартин, которому исполнилось четырнадцать пять месяцев назад. — Я камерадшафтсфюрер «гитлерюгенда», я умею стрелять, водить автомобиль, и вообще... А вы не имеете права так говорить о моём отце! Он герой Люфтваффе и Рейха!
— Убей меня бог, если я хотел сказать хоть одно плохое слово о полковнике Киршхофе, — серьёзно отозвался штурман. — Просто фронт — не место для мальчишек. Тыл фронта — тоже... — он тяжело вздохнул и встал. — Если бы мой младший вздумал выкинуть такой фортель сам, я бы отходил его так, что он месяц спал бы на животе.
Хотя, он тоже вроде тебя... и старший был такой же. А сейчас, парень, я даже не знаю, где его похоронили... и похоронили ли. От его роты под Москвой остался один человек, да и тот, как я его не расспрашивал, всё твердил только, что ему холодно... а был май, и он сидел, обложенный грелками, как старик... Врачи сказали, что это навсегда...
Он ушёл в кабину. Мартин сердито посмотрел вслед штурману и вдруг понял, что он очень-очень устал. Вроде бы только что поспал, и неплохо поспал... — Мартин посмотрел на подаренные отцом швейцарские часы со светящимися стрелками, — ... почти три часа.
А так противно, и хочется раздеться, лечь под одеяло, уснуть как следует... Неужели простыл, заболел? Мальчишка поёжился на ящике и откинулся к вибрирующей стенке салона, с которой — для облегчения — была спорота обивка. Глаза резало, щёки горели, а потом вдруг пришло дикое чувство одиночества и брошенности.
Куда он летит? Зачем? Он должен быть дома, и мама должна быть рядом, и они должны играть в лото, а потом почтальон принесёт письмо от папы, и они будут рассматривать фотографии... Мартин провёл пальцем по иллюминатору. «Как ты могла, мама?» — хотел спросить он, но язык не ворочался...
...Когда полковник Генрих Киршхоф добрался наконец до посадочной полосы, «зибель» уже разгружался. Навстречу поспешил молодой подтянутый капитан в расстёгнутой куртке, козырнул и почтительно обратился:
— Господин полковник, этим рейсом летел ваш сын...
— Да, — Киршхоф почувствовал, как сводит кожу на скулах. — Да, — повторил он. — Что с Мартином?
— Ничего, — капитан посмотрел виновато, и полковник увидел, что пилоту грузового самолёта едва исполнилось двадцать — сейчас он в точности был похож на провинившегося мальчишку. — Простите, господин полковник... боюсь, он заболел. Это моя вина. Я должен был настоять, чтобы он оделся теплее, но он отказывался, и я...
— Где Мартин? — повторил вопрос полковник, не зная, что ему испытывать — облегчение или тревогу.
— Вот он, господин полковник, — из прожекторного луча, освещавшего разгрузочную суету возле самолёта, вышел рослый немолодой обер-лейтенант. Он нёс на руках завёрнутого в куртку мальчишку, и полковник подался навстречу.
— Вы не беспокойтесь, господин полковник, не болеет он. Это с ними бывает, когда быстро растут и нахватаются нового вокруг... — обер-лейтенант передал даже не пошевелившегося Мартина на руки отцу и вдруг сказал: — Конечно, это не моё дело... но вы напрасно выписали мальчишку сюда.
— А что мне оставалось делать? — растерянно спросил полковник, вдруг сообразив, что он совершенно не понимает, как ему вести себя с сыном и что вообще делать — да нет, не вообще, а именно сейчас. Очевидно от растерянности он позволил себе откровенность.
— Моя жена... она решила, что майор тыловой службы Люфтваффе... в общем, что у неё есть более подходящая партия. Не мог же я оставить сына ей и её... — полковник дёрнул щекой и наклонил лицо к сыну. — Мартин... — нежно сказал он.
Ресницы мальчика дрогнули. Он вздохнул, открыл глаза и сонно улыбнулся:
— Папа... Я прилетел, но мне что-то нехорошо... — и закрыл глаза снова.
2.
Солнце ломилось в открытое окно с такой силой, что, казалось, оно продавливает вмятины на стенах и полу. Воздух пах сухой травой и цветами, названия которых Мартин не знал.
Он лежал на спине и недоумённо рассматривал маленькую комнатку — стол со стулом у окна, маленький сейф на поцарапанной тумбочке, непривычный коврик в центре, между двумя раскладными кроватями, на одной из которых оказался Мартин.
Вторая была пуста и аккуратно застелена грубым ворсистым одеялом. Возле обеих кроватей стояли тумбочки; на той, что около кровати Мартина, лежала его одежда. Последним предметом мебели был большой шкаф, возле которого стояли рюкзак и чемоданчик Мартина.
— Где я? — спросил вслух Мартин, слыша, как за окном в отдалении накладываются друг на друга, переплетаются и дробятся снова непривычные шумы. — Я... А! Конечно!!!
Он вскочил. От вчерашнего странного и неприятного недомогания, от самого угнетённого состояния не осталось и следа, их сменила бодрая приподнятость. Он на фронте! Ну... не совсем на фронте, но совершенно точно, что ближе к фронту не был ни один из мальчишек не то что школы — всего города!
Отцовский аэродром! Мартин сделал кувырок, прошёлся колесом и въехал пяткой в сейф. Зашипев от боли, на одной ноге допрыгал до открытого окна, стал коленкой на стул и замер.
Со второго этажа дома, где он находился, было отлично видно лётное поле. Огромное. Почти пустое, по нему лениво ползла машина, да ещё в дальнем конце крыло к крылу стояли три «хейнкеля», возле которых быстро и деловито двигались люди.
«Звено», — солидно поду-мал Мартин и поискал взглядом «мессершмидты» отцовской группы — II/JG14 — но их не было ни одного.
На столе под пустой вазой Мартин только сейчас заметил записку. На листке из блокнота отце написал несколько размашистых строк:
«Марти! Врач сказал, что у тебя небольшое нервное переутомление и что это быстро пройдёт. Я очень рад, что ты прилетел. Что-нибудь придумаем, не вешай носа. Я буду очень поздно, не старайся меня дождаться любой ценой. По аэродрому можешь ходить, только не нахальничай. Лидия знает немецкий, она придёт и накормит тебя, а на обед иди в нашу столовую, Лидия объяснит, где это. Ужин тоже приготовит она. Целую. Отец».
— Улетел на задание, — сказал Мартин и ещё раз взглянул в окно.
Вздохнул. Радость его немного померкла. Отец улетел в бой с русскими. Отец ас, он сбил сто три самолёта — польских, английский, французских, бельгийских, греческих; русских — тоже. Но вдруг...
— Никаких вдруг! — вслух отмёл опасения Мартин, вскинул подбородок, повернулся к большущему зеркалу, вделанному в дверь шкафа, отсалютовал мужественному отражению, одетому в трусы и провёл серию боксёрских ударов, завершив их нокаутирующим прямым.
— Победу нокаутом одержал Мартин Киршхоф, Германский Рейх! — прокомментировал он и высоко поднял сцепленные руки.
В момент его триумфа раздался стук в дверь — тихий и аккуратный какой-то, если можно так сказать про стук.
— Войдите, — предложил Мартин. — Ой, не входите! — закричал он в панике, когда увидел, что внутрь проникает какая-то женщина. — Подождите! Я оденусь! — он метнулся к тумбочке и, запрыгнув в шорты, затянул ремень. — Войдите.
— Можно, панич? — женщина появилась снова.
Она улыбалась, но улыбка была какая-то испуганная и заискивающая, не подходящая ей, высокой, молодой, довольно красивой и очень аккуратно одетой.
— С добрым утром вас и с приездом, панич, — она сделала книксен. Мартин невольно улыбнулся — очень смешно звучал акцент женщины, хотя говорила она без запинки и слова произносила правильно.
— Ты Лидия? — весело спросил он.
— Так... Лидия я, — она снова присела. — Господин полковник сказал, что вы спать будете... а я слышу — проснулись, ходите. Кушать хотите, панич?
Мартин с интересом рассматривал первую в жизни русскую. Она была похожа на немок, таких полно среди старших сестёр его друзей. И не была ни грязной, ни противной.
Мартин был не дурак и понимал, что про врага надо рассказывать только плохое, но всё-таки ожидал, что русские будут сильно похожи на гуннов или монголов из учебника истории.
— Хочу, — кивнул Мартин. — Очень хочу, — он и правда был голоден.
Женщина робко улыбнулась и прошла дальше в комнату, пояснив:
— Приберусь тут и подам, панич, а вы пока помойтесь... Или слить вам?
— Как... слить? — не понял Мартин.
Женщина объяснила:
— Воды-то тут нету, наш... красные, значит, когда отступали, водопровод испортили, вот умывальники в коридоре и поставили, и воду для них носят. Да там сейчас пусто, с утра всё порасплескали, а То-лька не наносил пока... Так слить вам, панич?
— Да не надо, и прибираться не надо, — поморщился Мартин. — Ты приготовь поесть, а я сам.
Лидия снова присела и вышла, а Мартин быстро заправил кровать и полез в шкаф за полотенцем. Там висела отцовская одежда, и Мартин несколько секунд боролся с желанием примерить парадный китель с шитьём и наградами, но потом подумал, что, если эта русская войдёт, он будет выглядеть, как идиот и, подхватив полотенце, мальчишка вышел наружу.
В коридоре было пусто, пахло мокрым деревом, доски пола под ногами были влажные и холодные. В конце коридора виднелся большой умывальник с открытой крышкой. Возле него какой-то мальчишка, поставив одно ведро на пол, заливал воду из другого в резервуар.
Помахивая полотенцем, Мартин подошёл вплотную и, глядя свысока, начал бесцеремонно рассматривать русского. Это был его, Мартина, ровесник, примерно такого же роста, но тощий и, как брезгливо отметил Мартин, грязный.
На мальчишке была синяя с белым безрукавая майка, тоже грязная, неопределённого цвета бесформенные брюки, подпоясанные старым ремешком, не доходившие до щиколоток и серые от пыли потрескавшиеся туфли на босу ногу.
На Мартина мальчишка не обращал внимания, а Мартин убедился, что и этот русский не очень похож на гунна. Скорей уж он напоминал приятелей Мартина по школе и «гитлерюгенду» — тоже светловолосый (только волосы отросли и висят неряшливыми космами) и сероглазый, немного веснушчатый. Он возился с вёдрами, хотя уже вылил воду, и Мартин сказал:
— Отойди, ну?
Мальчишка посмотрел непонимающе. Мартин сделал жест рукой — мол, уйди в сторону! — и парень отшагнул послушно, не глядя Мартину в глаза. Тот ощутил лёгкое презрение.
Попробовал бы им так командовать чужой человек, вражеский солдат! Он ни за что не стал бы подчиняться. Всё-таки это правда, что у русских нет ни гордости, ни достоинства... Мартин фыркнул и окатил из-под локтя русского мальчишку струёй воды:
— Помойся, тебе полезно, грязнуля.
Воды была ледяная, но Мартин специально лил её на плечи, спину, грудь, чтобы показать русскому, молча вытершемуся рукавом, что не боится холода. Впрочем, когда он отвлёкся от умывания, то вы-яснилось — зря поливался. Мальчишка подцепил пустые вёдра и ушёл.
Растеревшись полотенцем, Мартин бегом вернулся в комнату и оделся окончательно: рубашка, галстук с зажимом, ремень для шортов, гетры и бутсы. Подумав, на пояс повесил нож.
В конце концов, это его законное оружие. Пока он причёсывался, стоя перед зеркалом, вошла с подносом в руках Лидия, поставила еду на стол:
— Вы как поедите, паныч, то меня покличьте, я внизу убираюсь... Приятного вам аппетита.
— Ага... — откликнулся Мартин. — Послушай, мальчишка, который тут был, он кто?
— Да это ж Толька и есть, младший брат мой... Он тут по хозяйству работает, за паёк. А что, паныч, или нагрубил? — в голосе женщины прозвучал страх.
— Да нет, — равнодушно отозвался Мартин. — Иди, я потом позову...
3.
День был тёплый, ласковый и звонкий от солнца. Мартин, только выйдя на крыльцо, сразу понял, что сегодня всё будет хорошо и улыбнулся этому самому солнцу, ещё не добравшемуся и до половины пути к зениту.
Крыльцо общежития выводило в противоположную от поля аэродрома сторону. Слева, посреди заброшенного цветника, стоял белый постамент с торчащим штырём. Справа — большая курилка, в которой возился этот самый Толька.
Он растрёпанным веником вычищал из щелей пола окурки и мусор, перегружал их в деревянный ящик с верёвкой. Около проёма ворот (самих ворот не было) стояли двое солдат из охраны — не часовые, просто так, а часовой прохаживался вдоль решётчатого забора, зевал и грыз яблоко, прошлогоднее, наверное.
Солдаты полушуточно отдали Мартину честь, когда он подошёл к ним и объяснили, что вот эта дорожка ведёт к первому полю, эта ко второму, эта к службам, эта к складам, эта — в липовую аллею, за которой выход в город, но туда сына полковника всё равно никто не выпустит.
На территории аэродрома есть речка и пруд, в которых можно купаться — вот по этой тропинке, а так висит указатель. Мартин спросил их, слушали ли они радио. Солдаты ответили, что войска вермахта успешно наступают на Сталинград и Кавказ.
В ответ на вопрос, куда мог полететь отец, они засмеялись и ответили, что это, конечно, военная тайна — и, несмотря на смех, Мартин понял, что это — всерьёз.
Он кивнул солдатам и, выйдя наружу, неспешно отправился в сторону поля. Ему хотелось посмотреть на «хейнкели»...
...Сверху машины казались близкими, но по земле пришлось шагать в обход — на поле соваться не стоило. Впрочем, Мартин об этом не жалел. Шагалось хорошо, а вокруг было красиво, как в парке, людно, полно техники и всяких интересных вещей, которые раньше Мартин видел только в кино, на картинках, да издалека — на парадах.
В кустах располагались зенитчики. Им было жарко и скучно — кто-то спал, кто-то играл в карты, один дудел на губной гармошке. Когда Мартин подошёл вплотную к четырёхствольным автоматам, задравшим хоботки стволов в небо, на него даже никто не посмотрел.
Над зенитками была натянута маскировочная сетка, станины некоторых украшали силуэты самолётов. Мимо прошёл молодой офицер, но и он только покосился на мальчишку и ни слова не сказал.
Мартин всё-таки с удовольствием полюбовался бы на технику поближе и даже начал строить планы, как туда — на поле — проскользнуть, но потом решил, что это будет ребячеством чистой воды и отправился туда, где должен был располагаться пруд.
Тропинка в самом деле была хорошо натоптанной — очевидно, маршрут пользовался популярностью. Мартин топал по ней чуть ли не строевым шагом, распевая «Die Jugend Marschiert» звонким голосом первого запевалы отряда. Но при этом не забывал смотреть по сторонам и удивляться.
Русские проявили то ли оригинальность, то ли невероятный эстетизм, расположив аэродром в каком-то лесу или парке, Мартин толком не мог понять.
Но уже через пару минут у него начало создаваться впечатление, что никакого аэродрома и нет вообще, а гуляет он где-нибудь в пригородной зоне Бреслау, настолько всё кругом было зелено и спокойно.
Но интересно, где же этот указатель? Мартин остановился, покрутился на месте. Тропинка уводила вниз — с лёгким наклоном, но отчётливо. Скорей всего — к пруду, куда же ещё.
Может, пошутили про указатель? Чего их развешивать, если пруд тут, скорее всего, один? Ну точно, пошутили... Мартин снова ускорил шаг и через полминуты довольно сощурился — впереди и правда блеснула поверхность пруда.
К этому времени кроны деревьев сомкнулись над головой сплошным сводом, похожим на арки готического собора, солнце сквозь листву почти не пробивалось... и Мартин неожиданно ощутил некоторое беспокойство.
Он шёл минут десять, и быстро. Значит, прошёл... прошёл километр, не меньше. Неужели пруд так далеко, а сам аэродром такой большой? Или он как-то выскочил за территорию?
Но где же охрана, ограждение? Не может ведь это быть так просто... Мальчишка прислушался — ни единого звука, свидетельствующего о работе аэродрома. А уж, что самолёты слышно издалека — он знал точно.
Мартин посвистал — просто так, чтобы услышать себя. В голову неожиданно полезли рассказы, которыми развлекались после отбоя в летних лагерях некоторые парни, особенно из сельской глубинки — жутковатые выдумки о Белых Дамах, Старом Нике и обитателях древних могильных курганов4.
Мартин в эту чушь не верил, хотя, когда лежишь под одеялом и смотришь в окно, если сразу не получилось уснуть, то увидеть можно всякое...
— Да что это я, — сказал Мартин и широкими шагами спустился к воде.
Ну, во всяком случае, пруд был тот самый. Похожий на букву О, почти по всей окружности окаймлённый плотной стеной зелени — но как раз там, куда Мартина привела тропинка — с неплохим пляжем.
Правда, сейчас тут никого не было. Да и выглядел пляж вообще подзаброшенным, как будто тут и не купаются. Мартин почувствовал, что ему не очень хочется лезть в воду. Впрочем, это значило только одно: в неё непременно надо залезть. И никаких.
Укрепившись в этом решении, Мартин подошёл ближе к воде и начал раздеваться, поглядывая вокруг. Место было определённо приятным, красивым, почти курортным. И всё-таки что-то не так. Мартин не взялся бы сказать — что. Что-то.
Оставшись в трусах, он потрогал воду ногой. Среди его товарищей это считалось дурным тоном — полагалось запрыгивать в воду сразу и не подавать виду, если она холодная. Но вокруг никого не было, и, ещё раз потрогав воду (тёплую), Мартин подумал, что надо бы написать ребятам.
Им есть чему позавидовать, в конце-то концов. Он уже начал мысленно составлять «письмо с фронта», когда понял, что просто оттягивает время, потому что лезть в пруд не хочется по-прежнему. Тогда Мартин решительно вздохнул и, оттолкнувшись, врезался в воду, взмахнув руками.
Все страхи и непонятности отступили тут же. Вода и правда оказалась тёплой, Мартин доплыл до середины пруда, крутнулся через голову, поплыл обратно, недалеко от берега лёг на спину, раскинул пошире руки-ноги и замер, чуть пошевеливая ими, чтобы не затонуть.
В небе высоко-высоко плыли облака. Быстро, там дул ветер, и Мартин подумал об отце. Он где-нибудь на аэродроме подскока5, наверное. Или в воздухе. Может быть, в бою?
Мартин представил отцовский «мессершмидт» и успокоено вздохнул. У русских нет таких самолётов. И не может быть. Ни у кого нет таких самолётов, как в Германии...
Какая-то волна качнула его, и мальчишка перевернулся в воде. Вокруг было пусто... но по ногам отчётливо скользнула ещё одна волна, и Мартин понял: кто-то плавает под ним в глубине пруда. Щука? Сом? Они могут вырасти достаточно большими, чтобы напасть...
При этой мысли Мартину стало не по себе и он, стараясь двигаться быстро и равномерно, поплыл к берегу. Неужели никто из купавшихся тут ничего не заметил? Могли бы и предупредить! Шутники...
Или ему показалось? Мартин был бы рад в это поверить, но ощущал ногами, как это нечто ходит совсем близко и с трудом удерживался от вопля ужаса, выгребая к берегу со всей возможной скоростью.
Вода стала ледяной в какую-то долю секунды. Не просто ледяной — невыносимо ледяной, безумно ледяной, смертельно ледяной...
...Сердце Мартина остановилось.
4.
Солнце пекло затылок, спину и ноги. Мартин рассматривал песок возле своего носа — сухой, серо-жёлтый — и пытался начать думать. Получалось плохо. Мысли обрывались на том, что он словно бы задохнулся ставшим невероятно плотным и горячим воздухом, а потом... потом — пустота и тьма.
«Я утонул. Вода стала ледяной, и я утонул, отправился к тому, кто плавал вокруг меня... но сейчас я на берегу. Как такое может быть? Кто-то вытащил меня, мне просто повезло...»
Мартин попытался встать, но руки, на которые он опрометчиво опёрся, мягко подломились в локтях, и он снова сунулся лицом в песок. И услышал чей-то смешок, недобрый и сухой.
Мартин хотел повернуть голову и посмотреть, но даже это движение вызвало тошноту, которую пришлось пережидать с кругами в глазах и шумом в ушах. Когда это прошло,
Мартин со стоном перевалился на спину — и увидел, что на пляжике нет никого, кроме него. Одежда лежала там, где он её оставил. И всё.
От изумления Мартин даже позабыл, что с ним случилось. Он сумел сесть и позвал, морщась от привкуса воды в носу:
— Эй! Кто тут есть?!
Никто не откликался... Но не мог же ему почудиться смешок? И как он выбрался на берег? Мартин посмотрел на воду — и снова ощутил страх. Поверхность отблёскивала солнечными бликами и казалась не просто спокойной — идиллической.
Что же с ним произошло? Ощущение охватившего со всех сторон дикого холода на миг вернулось, и Мартин выбил зубами дробь, схватившись за плечи.
Надо же, а трусы-то сзади сухие... Выходит, он долго провалялся лицом вниз. И кто-то сидел рядом с ним, а ушёл вот-вот... Кто-то из солдат? Но тогда, почему такой странный смешок?
Мартин поднялся и прошёлся по пляжу. Ага, вот — следы. Тут не было ничьих следов, он ещё удивился тогда (Мартин подумал об этом так, словно пришёл на пляж очень-очень давно).
Вот это — его, гвозди и подковки на новеньких бутсах. Вот — тоже его, он босиком шёл к воде (Мартин приложил ступню — убедиться; точно его). А вот это — совсем не его. Человек выбежал из кустов к воде... вот он волок его, Мартина, из воды... вот сидел... а вот ушёл — быстро ушёл, и следы потерялись в траве. Неопределённые ботинки, но не военные и небольшие...
Мартин опять покричал и посвистел, потом стал одеваться. Подпоясываясь, снова бросил взгляд на пруд...
И окаменел, приоткрыв рот.
Посредине озера вода начинала раскручиваться водоворотом. Медленно, уверенно и неостановимо. Зрелище было настолько жутковатым, что Мартин попятился и бросился бежать обратно, по тропинке. Ему казалось, что вот-вот из водоворота появится что-то невероятно страшное...
...Он сам толком не помнил, как и по какой тропинке выскочил на окраину аэродрома. Но тут с мозгов словно пелена спала — Мартин остановился и потихоньку выругался по-солдатски (это считалось среди его друзей высшим шиком уже потому, что за это строго наказывали).
Что это он?! Это от страха. Всё же ясно, предельно ясно: и внезапный холод, и «прикосновения», и водоворот — точнее, из-за водоворота всё и ясно! Там просто есть какая-нибудь подземная протока, а отсюда — сильные течения и все эти фокусы с переменой температуры и вообще...
А он струсил... Нет, конечно, утонуть можно было запросто (а вытащил его кто-то из гражданской обслуги — наверное, пришёл искупаться, а убежал, когда увидел, что мальчишка очнулся, чтобы не обвинили — мол, хотел утопить парня!), но ничего сверхъестественного...
Ха, подумал Мартин, вот и занятие. Непременно надо заняться исследованием! Только подготовиться получше...Может, прямо сейчас? Сколько времени-то?
Он бросил взгляд на часы. Часы показывали 4.15.
Довольно долго Мартин стоял, обалдело глядя на циферблат, по которому равнодушно бежали стрелки. Вскинул голову на солнце — и заморгал. Оно действительно ушло примерно на 16-16.30. но этого не могло быть!!! Когда он очнулся на берегу, оно едва подбиралось к зениту! Потом он побежал и бежал...
Мартин сглотнул. До него дошло, что он не помнит, сколько бежал. Но не пять же часов, с отчаяньем подумал Мартин. И ощутил, что ему очень хочется есть. Как будто действительно день подходил к концу, и он не ел очень давно.
Господи, а если отец вернулся?! А если его уже ищут?! Что будет, что будет... Мысль об этом заставила Мартина выкинуть из головы всё остальное. С трудом сдерживаясь от того, чтобы побежать, мальчишка заторопился к общежитию.
Нет, отец ещё не вернулся, и беспокойство Мартина сменилось новым: где он и что с ним? Конечно, он писал, что будет очень поздно, но насколько «очень»? Походив по комнате, Мартин спросил, где столовая, и нерешительно направился туда. Обед-то давно прошёл...
Но скучавший и лениво покрикивавший на нескольких русских женщин повар охотно подогрел для мальчишки, мявшегося у окошка, суп, тушёную капусту с колбасой, налил кофе и дал хлеба — местного, чёрного, на который Мартин посматривал с подозрением и есть не стал.
— Дурачок, — буркнул повар, — он только с виду страшный. У русских хороший хлеб, если привыкнуть.
После столовой Мартин постоял на краю поля, рассматривая, как обслуживают бомбардировщики, потом вернулся в общежитие и сел писать письмо. Но сперва вообще не писалось, потом он заблудился в словах «подводный водоворот», положил карандаш и тоскливо уставился в окно, где солнце село куда-то за деревья.
Все приключения и странности отошли куда-то на задний план — осталось только беспокойство за отца. Что, если его сбили? Да, он ас. Но, что если русские напали вдесятером, а то и больше? Что, если отец погиб? Что, если он попал в плен и вот сейчас...
— Замолчи, прекрати, идиот! — процедил Мартин и ударил себя по уху. — Перестань сейчас же, девчонка!
В дверь постучали. В первую секунду Мартин радостно вскинулся, но тут же сообразил, что отцу стучать незачем, и крикнул:
— Уходи, Лидия, не надо ничего!
— И всё-таки я войду, — послышался мужской голос, и в комнату вошёл рослый человек в гражданском — настолько вопиюще гражданском, что Мартин, привыкший видеть вокруг себя форму и на взрослых и на ровесниках, озадаченно заморгал и чуть было не позабыл воспитанно подняться из-за стола.
— А — прости — где полковник Киршхоф? — осведомился человек. Ему было лет сорок, лицо — простоватое, как у мясника или торговца пивом. Отец не любил таких людей и всегда говорил, что они выскочки, не знающие ничего, кроме слов партийного гимна, да и те — по бумажке. — Ты ведь его сын?
— Да... — Мартин кивнул. — Но я сам не знаю, где отец...
— Понятно, — кивнул незнакомец. — Ещё не вернулся... Ну, что ж... — он вздохнул, пожал плечами. — Когда вернётся — передай ему, что заходил доктор Хельмитц. Запомнишь, гитлерюнге?
— Конечно, — кивнул Мартин.
— Ну вот и хорошо, — улыбнулся Хельмитц и вышел раньше, чем Мартин успел спросить, не знает ли он, когда вернётся отец.
Мартин прямо в форме прилёг на кровать и подтянул коленки к груди. Вспомнилась мама и неожиданно нахлынула страшная обида на неё. Как она могла?! А теперь, когда он остался совсем один...
Но именно в этот момент общежитие словно ожило. В коридоре послышались смех, разговоры, тут и там захлопали двери, затопали Сапоги — и, едва Мартин успел вскочить с кровати, как в распахнувшихся дверях возникла спина отца, который шумно, со смехом, прощался с людьми в коридоре, тоже смеявшимися и что-то бурно обсуждавшими.
Полковник Киршхоф обернулся, закрывая дверь — и в ту же секунду Мартин прыгнул на него:
— Папа! — вырвалось у мальчика со слезами. Ошарашенный полковник ощупью добрался до кровати и сел, в то время, как сын, продол-жая виснуть на нём, судорожно говорил: — Я думал... что ты... я так боялся... я не хочу, чтобы... папа, не бросай меня, не бросай, пожалуйста...
— Ну что ты, ты что? — растерянно спрашивал полковник, гладя сына по волосам, как будто ему было не четырнадцать, а четыре года. — Ты же не маленький... Да и не было ничего, мы даже не видели русских...
— А это? — всхлипнул Мартин, поднимая глаза на отца и держа его за распоротый левый рукав куртки. — Это же... от пули...
— Да от какой пули, — Киршхоф-старший усадил сына рядом, — проволоку зацепил...
— Как будто я не вижу...
— Слово офицера — проволоку.
— А поклянись словом офицера, что не видели русских?
Полковник замялся и встал.
— Ну... Меня никто не искал?
— Нет... ой, приходил какой-то гражданский, — Мартин встал, начал поправлять форму; ему было стыдно. — Недавно. Доктор Хельмитц.
— Он не гражданский, он из эсэс, — процедил полковник. — Держись от него подальше, Мартин.
— Да он мне и двух слов не сказал, он тебя искал, — пожал плечами мальчик. — А что эсэс нужно на аэродроме?
— Русские говорят, что тот, кто много знает, скоро стареет, — отрезал полковник. — Ты ведь не хочешь постареть раньше времени?.. — Мартин, окончательно выкинувший из головы все неприятности и сложности, замотал головой и заулыбался. — Тогда пошли ужинать, — и он подмигнул сыну: — Будет торт!..
...Мартин проснулся ночью.
Окно было плотно закрыто. Ревели невдалеке моторы — по звуку Мартин определил бомбардировщики.. Отец, сидя за столом под зажжённой лампой, повёрнутой светом подальше от сына, перебирал на столе какие-то бумаги.
Вот он сердитым движением сбил их в стопку. Положил стопку на край стола, посидел, глядя за окно. Что-то пробормотал. Поднялся, достал из сейфа несколько папок. И, опять усевшись, снова принялся за чтение. Мартин смотрел на него, пока не уснул.
5.
На пруду было полно народу. Солдаты и офицеры дурачились, загорали, играли в мяч. Мартин — с мотком прочного троса и водонепроницаемым фонариком — выглядел среди этой летней сует глупо и сам это понимал, но мало беспокоился на этот счёт.
То, что он идёт куда-то не туда, Мартин понял, когда увидел указатель, кривовато прибитый на дерево:
TEICH6
Потом выяснилось, что пруд намного больше, почти весь окаймлён широким пляжем, на котором даже какие-то кабинки сохранились, тут полно народу и вообще дорога до пруда ничуть не походит на ту, которой Мартин шёл вчера. Он спросил у кого-то, есть ли тут второй пруд. Этот кто-то не знал.
Другой кто-то — в форме зенитчика — категорично ответил, что есть только речушка, но очень узкая и обрывистые берега, поэтому там никто не купается. Тогда Мартин отправился обратно, сел под указателем и задумался так глубоко, как только мог.
Может быть, он сошёл с ума? Но в протекторе ботинок ещё утром можно было рассмотреть песок, который он нацеплял на маленьком пляжике... Может просто никто не знает про этот пруд? Но он вроде бы шёл той же самой дорогой... Вздохнув, Мартин решил поискать ответвление, которое мог прозевать.
В следующий час он нашёл полдюжины тропинок, но они либо терялись в зарослях, либо выводили к аэродрому или службам. Больше ничего.
Мартин скинул верёвку под один из кустов, туда же положил фонарик и попытался осмыслить это логически. За этот час мальчишка несколько раз встречал людей и задавал вопросы о том, нет ли тут второго пруда.
Никто про него не слышал. Оставалось признать, что он, Мартин, рехнулся от обилия впечатлений и нервных переживаний. С этими печальными мыслями Мартин вышел на дорогу.
Сперва-то ему показалось, что он каким-то образом оказался на взлётной полосе аэродрома, потому что дорог из бетонных плит не бывает. Но для полосы эта штука была слишком узкой.
Было жарко, слева и справа вставала стена сухого кустарника. А самое главное — Мартин опять не мог понять, как оказался тут. Вроде бы только что он шёл по тропинке возле края аэродрома — и...
Шум машины заставил Мартина отшатнуться в ломкий сухостой — он и сам не сообразил, почему так резко отреагировал на обычный в общем-то звук.
Из-за невидимого в кустах поворота появился транспортёр — Sd.Kfz — в котором покачивались люди в маскировочной форме, а в обе стороны и вперёд по ходу торчали пулемёты, штук шесть, не меньше. Дальше шёл легковой «хорьх», за ним — здоровенный грузовик «бюссинг» с ребристым металлическим фургоном, окрашенным в пятнистую неразбериху. И в конце — опять транспортёр и танк, «четвёрка».
Мартин во все глаза смотрел на это и почти убедил себя, что вылез за пределы аэродрома — зачем на и так надёжно охраняемой территории ездить таким конвоем?!
А самое главное — самое главное, что ни на одной машине не было нигде знакомых знаков люфтваффе или хотя бы вермахта. Опознавательные знаки вообще отсутствовали, даже номеров не было, как будто вся эта техника и не существовала на белом свете!
Странноватый караван скрылся за стеной кустарника, и Мартин вышел на дорогу. Постоял и, не в силах сдержать любопытства, почти побежал следом за машинами.
Да что ж такое?!?!?! Он опять не понял — как, когда... но вместо бетонки под ногами оказалась грунтовая тропинка, спускавшаяся к речушке, за которой — через ажурный мостик — виднелась липовая аллея.
Мартин обернулся — позади была такая же тропинка и различались рулёжные дорожки и зенитные установки аэродрома.
— Что-то со мной не то, — признался он, потирая лоб. Рассеянной походкой спустился к мостику, встал на нём — и увидел того русского мальчишку, Тольку. Он сидел на коряге, оставив на берегу ботинки, и удил рыбу. Смотрел на поплавок, но Мартин готов был поклясться, что за секунду до этого — на него, Мартина.
Мартин широкими шагами спустился на берег и встал возле небольшого жестяного ведёрка — точнее, банки из-под жира с продетой в пробитые дырочки проволочной дужкой. В ведёрке плавали с десяток плотвичек и карась в ладонь величиной.
Спина русского мальчишки была каменной. Мартин хмыкнул, занёс ногу, чтобы опрокинуть банку в реку... и увидел подошву ботинка. С рисунком в точности таким, как на берегу вчера, на песке, где он рассматривал следы своего спасителя.
Мартин медленно опустил ногу. Ещё раз посмотрел на ботинок. Точно, это был тот самый рисунок, сомнений не оставалось.
Мартин постоял молча. Ему почему-то сделалось очень неловко. Чтобы развеять это чувство, мальчишка присел на песок — в стороне от коряги — и, достав нож, начал кидать его в очерченный пальцем на песке круг.
Русский не обращал на него внимания, но это, как ни странно, больше не вызывало раздражения. Мартин подумал, что очень помог бы разговорник, который лежал у отца на столике. Во-первых, русского надо было поблагодарить, как ни крути.
А, во-вторых — это важнее! — выходит, вся эта ерунда ему, Мартину, не почудилась, раз и русский там был. И можно бы его расспросить... Мартин досадливо вздохнул. По-русски он не знал ни слова.
— Эй, — окликнул он русского. — Ты, эй! Это ты меня вытащил, да?.. Ну оглянись, я кому говорю?!
Русский медленно оглянулся. У мальчишки были недобрые глаза. Глядя на Мартина, он спросил по-немецки — не очень правильно, но без запинок:
— Чего тебе надо?
— Ты знаешь немецкий?! — обрадовался Мартин.
— Немного...
— Я хотел... — Мартин встал, сунул нож в ножны, отряхнул шорты. — Я хотел поблагодарить. За то, что ты спас меня.
— Ничего я не делал... — буркнул русский.
Мартин подошёл к его ботинкам, ткнул один ногой:
— Следы. Точно такие были на пляже. Так что, не ври.
— Не хотел я тебя спасать... — русский не отводил глаз. — Хотел дать по башке камнем — и в воду, — он встал на коряге. — Понял? Потому и следил за тобой.
На секунду Мартин растерялся. Но потом повёл плечом:
— Но ведь спас?
Русский молча отвернулся, всем своим видом давая понять, что разговор поддерживать не будет. Мартин постоял, потом присел на корягу:
— Тут много рыбы? — русский молчал. Но Мартин решил не обижаться: — Я тут всего второй день, но видел странные вещи. Например, я хотел сегодня опять сходить на тот пруд. Но не нашёл его. И никто про него не слышал. Странно, правда? — русский молчал. — И ещё я вчера почти шесть часов потерял. Не помню, где был, что делал... Сразу после пруда.
Русский обернулся. По-прежнему молча он смотрел на Мартина — и не так, как смотрят на надоедливое препятствие. В его глазах был интерес. Мартин несколько раз подбросил нож и совсем уже было собирался возобновить разговор, когда русский заговорил сам:
— Чего ты лезешь, куда не надо?
Мартин растерялся. Слышать такое от мальчишки из побеждённого народа было удивительно и оскорбительно до такой степени, что ни удивиться, ни оскорбиться Мартин не смог. Вместо этого он пробормотал:
— Что значит — куда не надо? Вчера я просто купался... и... и мне просто стало интересно...
— «Просто, просто»! — передразнил его Толька. — Дурак. Сидишь себе в общежитии и сиди. Не лезь.
— Интересно! — Мартин повёл себя так, словно спорил со своим товарищем. — Ну, ты очень интересно говоришь! Время пропадает, места целые проваливаются без следа, а ты говоришь «сиди не лезь»! А ты бы стал сидеть и не лезть?!
Русский неожиданно задумался. Потом сказал неуверенно:
— Вообще-то верно... это да...
Он говорил по-немецки не «немного». Пожалуй даже правильней, чем Мартин, по-берлински, а не с сильным баварским акцентом. Ободрённый его словами, Мартин быстро стащил бутсы, скатал бубликами гетры и, ловко пробежавшись по коряге, уселся в развилке возле русского, свесив ноги. Толька покосился на Мартина хмуро, но без злости. Покачал удочкой и спросил:
— А что там... со временем у тебя было?
— Да понимаешь... — Мартин коротко рассказал. Толька пожевал щёку. Мартин добавил: — И вот сейчас. Шёл по какой-то бетонной тропинке. А потом вдруг раз — и я уже тут. В смысле, на обычной тропинке.
Толька кивнул. Посмотрел на поплавок. И сказал нехотя:
— Знаешь... Не надо тебе так тут шляться. Место такое. Непростое место. Ты, может, думаешь, что я тебя напугать хочу? Правда, непростое... И давай иди отсюда. Тебя папочка накормит. А мне рыбу надо ловить.
Самым смешным было то, что Мартин покорно ушёл. Не обидевшись.
6.
Мартина разбудило отцовское насвистывание. Мелодия была знакомая — марш «Bomben auf Engeland». Не высовываясь из-под одеяла, Мартин поддержал отца тихим посвистываньем. Полковник Киршхофф слегка удивлённо замолчал, потом резко сдёрнул с сына одеяло.
Мартин засмеялся, потягиваясь, но тут же погрустнел — отец снова был в лётной форме. В ответ на печальный взгляд сына, задержавшийся на зашитом рукаве куртки, полковник сказал:
— Ну, что теперь... Я попросил парней из охраны, раз уж ты тут сидишь, будешь тренироваться с зенитками. Найдёшь капитана Шульхе...
— Уррррааа!!! — заорал мальчишка, становясь на колени в кровати и несолидно подпрыгивая под скрип пружин. — А ты когда вернёшься всё-таки?
— Когда собью последний русский истребитель.
— Мы их бьём-бьём, а они всё не кончаются, — заметил Мартин грустно. И, словно бы кое-что вспомнив, спросил: — Па-а... А на аэродроме пропадают люди?
— Иногда, — полковник посматривал в коридор через полуоткрытую дверь. — Если выходят в город поодиночке и задерживаются до темноты. Но тебя не тронут, даже если ты нарушишь мой приказ и высунешься. Русские вовсе не такие звери, как кое-кто любит их изображать.
— Нет, я не об этом, — Мартин сел нормально. — Тут, прямо тут, на аэродроме?
— С чего ты взял такую глупость? — полковник внимательно посмотрел на сына. — Бывают несчастные случаи, но... Иду! — крикнул он в коридор и быстро вышел. Промелькнули мимо весёлые голоса.
Мартин задумчиво смотрел в стену. Раньше отец никогда ему не врал. И поэтому Мартин сразу почувствовал ложь...
...Толька попался ему около входа — нёс обратно в здание четыре обрезка от гильз, использовавшихся, как мусорные корзины. Мартин посторонился, подумал и сел на перила крыльца. Достал личную книжку, полистал, дёрнул плечами. Что он ждёт этого русского?! Вперёд! К орудиям!..
...Опухшие от безделья зенитчики охотно возились с мальчишкой, искренне удивляясь тому, как много он знает об их оружии. Несколько пожилых солдат неодобрительно качали головами, но сам капитан Шульхе оценил знания Мартина, как высокие и предложил заходить ещё.
— Если отец разрешит — можешь как-нибудь подежурить с нами, — сказал капитан и Мартин обомлел от счастья.
Сбоку от взлётно-посадочной полосы торчала туша «хейнкеля», облепленная ремонтниками. Шульхе зевнул, кивнул в ту сторону:
— У русских отвратительная войсковая ПВО. Но летать над их городами... — капитан покачал головой. — Смотри, как его отделали.
Мартин кивнул. Хорошо, что отец истребитель. Это, наверное, очень страшно — лететь вот так и ждать, ждать, ждать огня, на который тебе нечем ответить. И даже когда начнут стрелять — всё равно надо лететь и бомбить, не сворачивать...
— Страшно! — вырвалось у мальчишки. Он смутился, но кто-то из солдат подтвердил:
— Ещё бы... Одиннадцатый три дня назад сбили над русской территорией. Тамошние бабы парней изрубили лопатами, как только те приземлились.
— Правда? — Мартин заморгал.
Капитан покосился в сторону говорившего, неохотно ответил:
— Может быть, враньё. Просто не вернулись. Всякое бывает. Кто там знает...
— Но это же война... — Мартин снова посмотрел на бомбардировщик. — Зачем они... так...
— Дикари, — ответил Шульхе.
И снова кто-то из солдат сказал:
— Если бы мне попался тот англичанин, который разбомбил мой дом, я бы придумал ему смерть пострашнее...
— Хватит болтать! — рявкнул капитан.
Мартин понял, что он тут становится явно лишним и тихо слинял.
Денёк опять был хорошим — тёплым, жарким даже. И Мартин, вернувшись к общежитию, поймал себя на том, что ищет глазами Тольку. Русского мальчишки нигде не было видно. Мартин огорчился — он хотел поговорить с ним о происходивших тут странностях.
И, едва он подумал об этом желании, ещё пару дней назад и в голову ему бы не пришедшем, как Толька появился на тропинке, ведущей к столовой. Он пёр на спине здоровенный мешок непонятно с чем и видно было, что переть ему тяжело.
В сторону Мартина он не смотрел и уронил-таки мешок наземь, когда Мартин, подскочив сбоку, предложил:
— Давай я помогу!
Толька смерил немецкого мальчишку глазами — не зло и не насмешливо, скорей просто устало-досадливо. Спросил:
— Слушай, ну чего ты ко мне цепляешься? Иди гуляй...
— Я правда помочь хочу! — Мартин толкнул мешок ногой. — Тяжело же...
— Да тебе-то что? — Толька свёл брови.
Мартин пожал плечами:
— Ну... я не знаю. Тяжело ведь.
— Тебя не Тимур зовут? — спросил Толька.
Мартин не понял:
— Какой Тимур? Я Мартин...
— Да так, никакой, — Толька взялся за горловину мешка. — Ну, давай, чего смотришь? Его на мусорку нужно оттащить...
...Мешок оказался тяжёлым — по мнению Мартина, даже для двоих. Мартин вытер пот галстуком7, потом насмешливо спросил:
— А где твой?
— Какой? — покосился на него Толька, вытиравший лицо коротким рукавом майки.
— Красный, — Мартин для утверждения своего лидирующего положения подтолкнул русского плечом. Ясно же, что главным тут должен быть именно он, Мартин. Русский промолчал, потом неожиданно сказал:
— Слушай... хочешь, я тебе кое-что покажу?..
...Они долго шли по какой-то тропинке между кустов. Справа в зелени булькала и плюхала невидимая речка, слетались отовсюду оводы. Толька сосредоточенно молчал.
Мартин молчал тоже и придерживал рукоять ножа. Ему было не по себе. Он не боялся Тольки и вообще... Дело было в чём-то другом. Настолько другом, что не выпускать рукоять ножа казалось самым разумным.
— Только тихо, — вдруг сказал русский, замедляя шаг. — И меня не обгоняй... — а ещё через два-три шага остановился и совсем почти неслышно шепнул: — Смотри...
Они стояли в камышах на берегу того самого пруда. Только с другой стороны, не там, где пляж. И ещё. Слева от пруда ничего не было. Чёрная дыра.
Вернее, это в первую секунду изумлённому Мартину так подумалось — он и правда видел чёрное пятно, метров трёх в диаметре, диким образом висевшее прямо в воздухе и не существовавшее ни слева, ни справа, ни сзади; у пятна не было никакого объёма, никакой толщины.
Но потом Мартин присмотрелся и увидел, что пятно не совсем чёрное. Вернее, оно было чёрное, но не непроглядное. В его глубине (откуда у него глубина, если у него нет даже обратной стороны?!) словно бы какие-то алые уголёчки светились. Нехорошие алые уголёчки.
Мартин сказал бы, что это глаза, но уголёчки были рассыпаны хаотично и светились по-разному — больше, меньше, сильнее, слабее... И ещё. Мартин против воли начал вглядываться — и различал всё больше.
Там была какая-то равнина — ночная равнина. И скалы на горизонте. И высокая редкая трава...
... — Стой, стой.
Мартин дико оглянулся на Тольку, удержавшего его за плечо. И посмотрел вновь в сторону чёрного пятна, к которому успел сделать не меньше трёх шагов.
— Стой, — снова сказал Толька, силой отворачивая его голову. — Хватит, не смотри. Пошли отсюда скорее.
Но Мартин был уверен — в этот краткий миг он видел у самой границы черноты и нашего мира стоящий приземистый силуэт.
Силуэт ждал...
... — Понял? — спросил Толька, доставая из тайничка свою самодельную удочку. — Я тебе это зачем показал. Чтобы ты не совался, куда не надо. Пропадёшь. Очень просто пропадёшь... Ну, бывай, фрицевская морда.
Если честно — Мартин и обидеться забыл.
7.
За окном шёл дождь — нехолодный, но уже долгий, затяжной. Погода была нелётная. Сидя за отцовским столом, Мартин просматривал свои записи...
— Йоган Кауниц, стрелок. Пр. 17 августа 1941.
— Ганс Бреммер, старший стрелок. Пр. 24 сентября 1941.
— Курт Алойзи, ефрейтор. Пр. 17 октября 1941.
— Раймар Бахем, унтер-офицер. Пр. 22 октября 1941.
— Макс фон Кроттбе, оберлейтенант. Пр. 20 декабря 1941.
— Ганс Галиези, капитан. Пр. 25 декабря 1941.
— Тур Папперман, стрелок. Пр. 31 декабря 1941.
— Стефан Шебровски, стрелок. Пр. 16 февраля 1942.
— Эдмунд Кист, оберфельдфебель. Пр. 12 марта 1942.
— Йозеф Хант, ефрейтор. Пр. 14 марта 1942.
— Ганс Брохен, унтер-офицер. Пр. 19 апреля 1942.
— Вильхельм Рат, унтер-офицер. Пр. 30 мая 1942.
— Альберт Цушауэр, оберлейтенант. Пр. 22 июня 1942.
На составление списка Мартин потратил семь дней и кучу изобретательности. Зато теперь он точно знал, что тринадцать человек пропали на аэродроме — именно на аэродроме! — без вести за какой-то год.
За это же время почти сто человек погибли при боевых действиях, не меньше этого были убиты партизанами или подпольщиками, полсотни пропали без вести за пределами аэродрома, столько же погибли при несчастных случаях.
Но всё это было объяснимо. А вот пропажа тринадцати военных на собственном аэродроме...
Мартин подпёр голову руками и задумался — глубоко-глубоко, достаточно глубоко для того, чтобы прослушать приближение отца. Полковник Киршхофф вошёл, держа в руке фуражку, и было видно, что мысли у него не слишком приятные.
Он даже как-то скользнул взглядом мимо сына, но потом подошёл ближе и,положив ладонь ему на плечо, спросил:
— Пишешь приятелям?
Мартин вздрогнул, замешкался. Но отец не стал смотреть, что написано на бумаге. Он сел на кровать и, расстёгивая китель, поинтересовался:
— Ну, как дела?
— Да так, неплохо, — Мартин задвинул листок в блокнот. — А что ты такой грустный? Из-за погоды?
— В такую погоду не летаем не только мы, но и Иваны, так что, тут нечему огорчаться... Так. Общие неприятности... — полковник посмотрел на сына и чуть сощурился: — Тебе тут скучно, должно быть, Марти?
— Нет, почему? — удивился искренне Мартин, усаживаясь удобнее.
— Ты часто говоришь с этим русским, мальчишкой?
— Да, в общем нет, — солгал Мартин. — Я же не знаю русского... — ему было неприятно врать отцу, и он вывернулся так, чтобы не говорить «он не знает немецкого». — А что? — он нахмурился в точности как отец. — Неужели эти, из гестапо...
— Что? — полковник Киршхофф поморщился. — Да нет, им совершенно нет до этого дела... Просто я хотел тебе сказать, что ничего не буду иметь против. Но никаких экскурсий по аэродрому с целью показать мощь Люфтваффе.
— Я не маленький и не дурачок, — оскорблённо ответил Мартин. — Да он даже и не намекал ни на что такое. Мы просто пару раз купались... Знаешь... — он помедлил, но решился: — Он совсем обычный.
— Конечно обычный, — полковник явно думал уже о чём-то своём, но продолжал говорить с сыном. — Почему он должен быть необычным? Война есть война, кто-то побеждает, кто-то проигрывает.
Он — человек проигравшей стороны, но и Германии тоже случалось терпеть поражения. После прошлой войны мои младшие братья выглядели ничуть не лучше — такие же оборванные и голодные.
— Дядя Рауль и дядя Генрих?! — Мартин засмеялся, отчасти обрадованный, что отец не рассердился на его слова, отчасти — потому, что с трудом мог представить себе дядюшек-парашютистов, героев Крита, такими же, как Толька.
Но отец не стал продолжать разговор...
...Дождь прекратился к полудню, вышло солнце, разогнало облака, мгновенно стало жарко, и Мартин побежал на речку. Он понимал, что Тольку можно и не звать с собой на пруд — тот не пойдёт.
А в речке вполне можно было купаться, если знать пару мест, которыми получается спуститься к берегу. Толька их знал.
Он и сейчас был уже здесь — с удочкой. Толька никогда не ходил никуда просто так — всегда или ловил рыбу, или искал грибы, или щавель, или ещё что-то. Мартин помогал из интереса.
Но сейчас, увидев немца, Толька махнул рукой, быстро разделся и прыгнул в воду. Мартин, расшвыривая свою одежду на бегу, с берега полетел следом...
... — Ты что, больше не будешь купаться?! — окликнул Мартин приятеля.
Толик медленно покачал головой — он сидел на траве, обхватив руками коленки и смотрел в небо. Одному плескаться было скучно, и Мартин почти сразу выбрался на берег и плюхнулся на живот. Трава была прохладной, а спину пекло солнце. Мартин повернул голову, устроился щекой на локте и лениво спросил
— Ты чего?
— Смотрю, — пожал плечами Толька.
Мартин перевернулся на спину и увидел в небе «мессершмидты» — две машины вели учебный бой, сплетая размашистое кружево виражей.
— Знаешь... — Толик помедлил. — Я лётчиком стану. Я давно мечтаю... До войны я в аэроклуб хотел записаться, но по возрасту не брали, я в авиамодельный кружок ходил...
— Лётчиком? — Мартин сел, удивлённо присвистнул. — Не выйдет у тебя лётчиком. Когда мы победим, то запретим вам иметь авиацию, как нам запретили в восемнадцатом.
— Вы победите? — Толька повернулся к Мартину, глаза его угрюмо блеснули. — Видел? — и он показал Мартину фигу. — Наши вас всё равно расколошматят, фриценьё надутое.
— Ах, фриценьё-о?.. — протянул Мартин, садясь прямее. — Да ваши этажерки только поля от жучков опылять годятся. Три фанерки, две картонки, парусина и резина...
— То-то ваши «хейнкели» сколько уже чинятся — лихо им картонки врезали? — Толька тоже напружинился и сощурился. — А сколько в вашей III/KG20 бомбовозов осталось? Было двадцать семь, а сейчас девятнадцать, кажется, из них пять в ремонте? А у твоего бати, сколько «мессеров» из полусотни уцелело — половина?
— Ты чего хочешь? — Мартин встал, выставил плечо, и Толька тоже поднялся. — Мы на вашем аэродроме, понял? И на вашем Кавказе, и ваш Сталинград скоро возьмём, и тогда ваш Сталин мир на любых условиях подпишет, понял? И молчи. А то ходит он тут, наши самолёты считает...
Толька побледнел до синевы на скулах и молча врезал Мартину в поддых. Тот согнулся пополам, а в следующую секунду мальчишки покатились по траве, пыхтя, сопя, ругаясь на двух языках и молотя друг друга со всей злой дури.
Через минуту Мартин оседлал оказавшегося на спине Тольку, прижал его руки коленками и начал равномерно отпускать русскому щелбаны. Злость у немца в общем-то прошла, но наглые заявления Тольки требовали наказания.
Тот сначала вырывался, пытался сбросить Мартина, но выдохся и закрыл глаза. Мартин снова занёс руку... но не щёлкнул, а сел рядом и потрогал пальцами скулу, а языком изнутри — опухающую губу.
Толька сел. Вздохнул, сказал тоскливо:
— Раньше ты бы фик со мной справился... а сейчас... Ты вон, какой откормленный, а я... С ваших паек не разъешься.
— Это... — Мартин положил руку на плечо Тольке. — Я тебе... вынесу. Консервы, ещё что-нибудь... Только... ты возьмёшь?
— Возьму... — Толька вздохнул. — А ты бы не взял?
— У врага?! Я бы лучше сдох... ой, прости, — спохватился Мартин. Но Толька не обиделся, а по-взрослому усмехнулся:
— Ты не голодал никогда, Мартин... Когда по-настоящему есть хочется, тут... А у нас же с сестрой мать больная, и двое младших, это вообще...
— Ты сильно нас ненавидишь? — тихо спросил Мартин.
Толька повёл загорелыми плечами:
— До дрожи, — коротко ответил он. — Если бы не родные, я бы, как ты говоришь, сдох, а на вас работать не стал.
— Толь... — Мартин вдруг ощутил настоящий ужас. — Толь, а почему ты скрываешь, что знаешь наш язык?! И самолёты считаешь... Ты партизан, Толь?!
— Какой я партизан... — печально ответил Толька. — Просто я не хочу, чтобы знали, а то заговаривать начнут, всё такое... А самолёты... Да я просто радуюсь, когда у вас потери, вот и всё.
— На этих самолётах летает мой отец, — сказал Мартин. — Знаешь, как я боюсь, когда он задерживается? Просто задерживается, а я уже начинаю думать, что...
— А мой отец? — спросил Толька и потрогал шишку над бровью. — Ваши его артиллерией закопали. И его, и всю его роту... Под Бобруйском. Я потом искал ходил, а там только куски, и всё... Мы вас не трогали. Я в школу ходил. А теперь ты говоришь — не смей мечтать, мы вам не позволяем. Мне, каково?
Мартин промолчал, потому что не знал, что ответить. Толька сидел и опять смотрел в небо, шевеля пальцами ног. Потом сказал неожиданно:
— Ты совсем не такой, каким я себе представлял ваших мальчишек... И вообще... многие ваши лётчики... и солдаты — они люди, как люди... Если бы я не видел сам, я бы не поверил, что они могут бомбить... убивать...
Мартин потёр переносицу, вздохнул. Спросил:
— Толька... а вот мы дрались... ты такое слово сказал... — и Мартин повторил слово из пяти букв, которым русские люди выражают наивысшую степень напряжения. — Оно, что значит?
— Ну... — Толька вытаращил глаза на Мартина и покраснел. — Это ругательство нехорошее... мат, в общем... Если бы отец услышал, что я так выругался, он бы уши мне оборвал... Это, в общем, такая женщина... ну как бы... она...
— Ясно, — Мартин хихикнул. — А это? — он произнёс заветное русское слово из трёх букв.
— Ну, это вот, — Толька показал на себе.
Мартин заржал:
— У отца... — с трудом выговорил он. — У отца летает пилот... с такой фа... фамилией! Хорошо, что он не знает русского!
Толька подхватил смех.
В течение следующих пятнадцати минут Мартин старательно изучал матерные ругательства, которыми щедро делился Толька, стараясь произносить их как можно правильней. Потом Толька, глядя в сторону, пропел:
Сидит Гитлер на заборе,
Просит кружку молока.
А солдаты отвечают:
«Кран сломался у быка!»
И, когда Мартин попросил перевести, отмахнулся:
— Да ну, это я так...
Мартин не стал настаивать. Посидел молча, потом дотянулся до своей рубашки, достал из кармана блокнот, из него — листок. И подал Тольке:
— Ты можешь радоваться, но эти люди пропали на аэродроме за последний год. Именно тут... — Толька вертел лист с непонятным лицом. Мартин требовательно сказал: — Может быть, ты мне расскажешь подробно, что тут творится?
Толька вздохнул, вернул лист. Пожал плечами:
— Я раньше сюда попасть не мог... Когда наш аэродром был. Тут такая охрана стояла... Но в городе говорили, что и тогда люди пропадали. Нет-нет, да и... — Толька сделал движение рукой. — А когда я тут у ваших начал работать, то сам много увидел... Разного. До войны тут такие легенды были...
Толька опять замялся.
— В общем, что здесь, где аэродром, место такое — нехорошее. Всегда было. С незапамятных времён. Про это все местные знают. Может, поэтому и партизаны на сам аэродром ни разу не нападали... Тут дырки есть.
— Какие... дырки? — почему-то очень испугавшись, до озноба, спросил Мартин.
Толька неопределённо пошевелил рукой:
— Ну... Это один дед так нам говорил. Дырки, как пещеры в земле. Шёл-шёл и — уххх! Только эти дырки не в земле, а в... пространстве как бы что ли. Ну, я не знаю.
Мартин осмотрелся, словно собираясь увидеть эти самые «дырки». Хотя... да ведь он же их уже видел! Самую настоящую дырку видел! Ту, чёрную, на берегу странного пруда!
— Надо сказать отцу... — пробормотал он.
Толька покачал головой:
— А он не поверит. У нас до войны даже кое-кого арестовали, чтобы слухов не распространяли... Да и вообще-то, если осторожно себя вести, то и не случится ничего.
— Ничего себе ничего! — вырвалось у Мартина, — тринадцать человек пропали! Я понимаю, тебе всё равно, но ведь это...
— Смотри, — вдруг сказал Толька и привстал. — Смотри же...
Мартин оборвал свой гневный монолог и взглянул туда, куда неотрывно смотрел русский.
Кто-то — или что-то — скатывал пространство за мостиком, как скатывают холст с нарисованной на нём картиной-пейзажем. Это происходило совсем близко от мальчишек, но они оставались неподвижны и молча смотрели, как обнажается чернота, пронизанная искрами огоньков. Огоньки ждали.
Было полное ощущение, что они разумны и хорошо понимают происходящее.Появилась вдали острая скала. Нет, понял Мартин, это не скала, это башня — неестественно высокая, тонкая, острая башня, и возле неё кружатся чёрные обрывки... нет, не обрывки — это живые существа, они летают, летают...
— Бежим! — рванул его за плечо Толька. — Бежим скорее!!!
...Мальчишки пробежали, держа подхваченную одежду в охапку, не меньше километра берегом речки, спотыкаясь, падая, вскакивая и не в силах оглянуться. Потом остановились, тяжело хрипя. Мартин выдохнул:
— Это же рядом со взлётной полосой... неужели никто не видел...
— Не рядом, — помотал головой Толька, его лицо было бронзовым от пота. — Это вообще не здесь... Мы чуть не погибли, понимаешь?! Я такого не видел раньше, про такое только рассказывали... — и он что-то добавил по-русски.
— Кто? — Мартин бросил одежду, сел на траву, потёр виски. Толька рухнул рядом, зажмурился:
— Есть тут один дед... — вроде бы нехотя ответил он. — Его тоже таскали, чтобы не болтал, да он из ума давно выжил.
— Я должен с ним поговорить, — решительно сказал Мартин.
8.
Толька появился как всегда бесшумно и неожиданно. Мартин вздрогнул, но тут же спросил:
— Принёс?
— Угу, — Толька показал плотный свёрток. — Держи, переодевайся...
Значит, как договорились. Ты немой. После контузии. Не глухой, а просто немой... Хотя и глуховатым можешь прикинуться, на случай, если кто особенно расспрашивать будет.
Держись со мной, никуда не суйся. Если пацаны поймут, что ты немец, то отлупят так, что ой, а заодно и меня... Только я обувки не нашёл.
— Ничего, — Мартин, поддёрнув мешковатые штанины коричневых шаровар, влез по щиколотку в прибрежную грязь и поболтал в ней ногами. — Замаскируюсь... Сойдёт?
— Сойдёт, — хмыкнул Толька. — Пошли.
— Погоди, — Мартин ещё раз осмотрел себя, глядясь в воду заводи, как в зеркало, — точно сойдёт?
— Точно, точно, — кивнул Толька. И спросил: — Боишься?
— Есть немного, — признался Мартин...
...Где-то подсознательно Мартин ожидал, что попадёт в жутковатое царство хижин с соломенными крышами, разбитых дорог и людей, похожих на монстров из страшного сна.
Но Любичи оказались симпатичным городком с широкими улицами, мощёными камнем, узкими тротуарами, обсаженными деревьями и каменными, вполне уютными на вид домами. А люди скорей напоминали не монстров, а просто испуганных и усталых... людей.
На улицах их было немного, а те, кто был, спешили, глядя себе под ноги. Казалось, они очень стараются просто не замечать происходящего вокруг, потому что им всё это тошно, а сделать ничего нельзя.
Более-менее оживлённо было около комендатуры, да ещё на базарчике, расползшемся с небольшой площади, по всей видимости, для него специально отведённой, на окрестные улочки. Но и тут почти ничего не продавали — меняли всё на всё, стоял страшный гвалт.
Мартин загляделся на какие-то вычурные часы... и еле удержался на ногах, когда чья-то сильная рука отшвырнула его от импровизированного прилавка. Послышался голос, бросивший по-немецки:
— Пшёл прочь!
Пожилая женщина, менявшая часы, глядела на мальчика с испуганным сочувствием, а двое молодых солдат, один из которых и отбросил Мартина, уже не обращая на него внимания, рассматривали её товар и переговаривались.
Мартин сжал кулаки, онемев на самом деле... и Толька уволок его подальше. Там Мартинам прорвало:
— Пусссссти!!! Я ему... он у меня... я... я... я... Как он!..
— Тихо, — прошептал Толька, озираясь. — Тихо, всё нормально. Пинком не проводил — и ладно, а то знаешь, как бьют? Спецом под копчик целятся, потом сесть не получается, как будто в тебя лом вбили.
Мартин перевёл дух и мрачно спросил:
— И часто так?
— Как когда, — пожал Толька плечами. — У вас на аэродроме меня ни разу не трогали. Орут иногда, но не трогают. А тут, особенно если молодые из гарнизона... или наши полицаи — то бывает... — он посмотрел на Мартина с сочувствием, но, в то же время немного злорадно: — Ну, теперь понял?
Мартин угрюмо стукнул пяткой по краю тротуара и, не ответив, перевёл разговор:
— Пошли к твоему деду.
— Рано ещё, он рыбу наверняка ловит... — Толька помедлил. — В лапту умеешь играть?
— Нет, — пожал плечами Мартин...
...В лапту играть оказалось легко и интересно — главное, бить ме-ко и бегать быстро. А что Мартын взялся неизвестно откуда и не умеет говорить — никого особо не удивляло. На краю вытоптанного пустыря сидел мальчишка лет 12 — без обеих ног. Наблюдал за игрой.
Это тоже никого не удивляло. Чудно было не понимать языка. Хотя... несколько слов — и матерных ругательств, которыми нередко сыпали игравшие, и не только — Мартин понимал. И сам немного удивился, что понимает. Удивился и обрадовался.
После игры купались. На берегу разожгли костёр, испекли картошку — по две штуки на каждого, Мартину тоже сунули, как своему, без слов. Соли не оказалось, но все ели жадно, а Мартин думал с ужасом: а если Германия проиграет войну?!
Нет, такого не может быть, но если?! Неужели тогда... Нет, лучше он умрёт. Тогда лучше умереть. Он не презирал этих мальчишек, нет. Но для себя решил: лучше умереть, чем так вот...
Над городом несколько раз пролетали самолёты с аэродрома. Мальчишки каждый раз молча провожали их взглядами, но лица у всех становились недобрые.
Мартина так и подмывало крикнуть: «Не смейте, там отец!» — но он понимал, что это будет глупо. Да и сам отец знал об этой ненависти и относился к ней спокойно.
Толька, между тем, что-то сказал мальчишкам и поманил Мартина рукой. Пришлось одеваться и идти — скорей всего, было пора к тому загадочному деду.
Близился вечер. Жара не спадала, похоже было, что ночью пойдёт дождь. Мальчишки вместе пылили по окраинной улочке, заросшей зеленью. Толька неожиданно спросил:
— Зачем тебе это надо?
— Мне интересно, — соврал Мартин. И Толька ощутил, что он соврал, и криво усмехнулся. Помолчал и добавил: — Надо скорей, а то скоро комендантский час, вернуться не успеем.
— Ладно, — сердито ответил Мартин, — я просто хочу в этом разобраться, потому что я немец и потому, что погибают наши люди. И мой отец может погибнуть.
— Он может погибнуть и в небе, — сказал Толька, и Мартин нашёл в себе силы спокойно ответить:
— В небе — это война. А тут... тут что-то странное и страшное.
— И оно просыпается, — сказал Толька.
Мартин резко обернулся к нему:
— Как?
— Этот дед говорил нам — не надо будить то, что на аэродроме, если оно проснётся — то будет плохо всем. Вроде бы так уже было в давние времена... Вон его дом.
Дом — это было сильно сказано. Вот это жилище вполне соответствовало заочным представлениям Мартина о том, как живут русские. Покосившуюся хибару, косо выглядывавшую из запущенного сада, покрывала солома. Единственное видимое окно мутно отражало солнце.
Короче, тот ещё был домик, что и говорить. Но он вполне вязался внешним видом со своим хозяином, который расставлял у стены самодельные удочки. Около его ног стояло древнее деревянное ведро, в котором что-то бурно плескалось.
— Все места знает, но никому не говорит, — прошептал Толька. — Сейчас попробуем... — он кашлянул и оглушительно проорал: — Вечер добрый, дед Никодим!!!
«Вечер» Мартин понял и, сообразив, что русский приветствует старика, быстро поклонился. Дед между тем повернулся. Он был седой, как снег, заросший волосами, как шотландская овчарка и согнутый, как рыболовный крючок. Окинув мальчишек взглядом предположительно где-то скрывавшихся среди волос глаз, дед гулко бухнул:
— Чаво?! Рыбы нету. Не ловисся. Ничаво нету.
— Да не нужна рыба!!! — рявкнул Толька.
Дед помотал головой:
— Всем нужна. Нету рыбы.
— Ёшкин кот... — буркнул Толька. — Дедушкаааа!!! Нам!!! Бы!!! По!!! Го!!! Во!!! Рить, хрен старый!
— Чаво орёшь, я не глухой, а он орёть, — равнодушно заметил дед. — Рыбки не хотите? А там поговорим. Водички натаскаете, и поговорим, ага. Ну и рыбку почистите, значить. Потом.
— Чего ему надо? — спросил Мартин.
Толька вздохнул:
— Пошли за вёдрами, — сказал он по-немецки.
— Они там, значить, снутри на лавке, — любезно объяснил, ухитряясь коверкать и этот язык, по-немецки дед...
... — Я лет семь у немецких, значить, колонистов работал. — дед Никодим сноровисто шлёпам больших карасей с боку на бок. — Эх, мучицы ба... Семь, значить, лет. И уж немца, значить, с нашим ни в жись не спутаю. Особенно ковда услышу, как он говорить. Да я плохо слышу, я и правда глуховат...
Мартин следил за дедом, разинув рот. Старик бил в котелок8 так здорово, что просто непонятно было, кого и зачем он надувает. Караси пахли обалденно.
Толька куда-то отлучился и отсутсвовал уже довольно долго. А дед разглагольствовал по-немецки с такой лёгкостью, как будто это был его родной язык. Нет, эти русские — оччень непростой народ...
— Да! — дед словно бы окаменел. — Чё спомнил-то, малой! Я тебе тут вещу дать хотел... — он порылся в кармане неопределённой формы и размера штанов и извлёк странноватую металлическую бляшку. Она тяжело оттянула ладонь протянувшего руку Мартина... Восмиугольная серая звезда с чёрной воронёной стрелкой.
— Спасибо, но это зачем? — Мартин с любопытством разглядывал странноватую вещичку.
— Чаво? — осведомился дед.
— Ну, вот, — Мартин продемонстрировал бляшку.
— Это чаво та? — изумился дед. — Старая вешш... Нашёл иде?
Мартину захотелось придушить деда на месте. Но тот вовремя отвернулся со словами:
— Ну нашёл — и ладно... А я чего хотел-то сказать... — снова зашкворчали караси. — В старое время люди много чаво знали. И куда не нать соваться — не совались... да. Был в этих местах князь. Совсем в старое, надо быть, время... В давнее... Масла вот тоже нету, на воде жарить — морока одна...
— И что князь? — Мартин сидел, как на иголках.
— Князь? — дед шлёпнул карася на глиняную тарелку. — Какой?
— Вы сказали — князь тут был, — Мартин глубоко вздохнул.
— Дышишь ты тяжко, — сочувственно сказал дед. — Бабка моя покойница травки знала всяки, она б тебе подмогнула... Был князь? Да откуда ж я знаю... Может, и был. Караси готовы вот. Второй-то где, тож шустрый?
— Я тут, — Толька возник на пороге, сел рядом. — Ну что?
— Я его убью, — процедил Мартин углом губ.
— Я и сам скоро помру, — заметил дед, — чего пули тратить... Вот днями тоже приходил. Как его... тьфу ты, господи... полицейский. Говорит — аусвайс выправляй, дед, а то капут сделаем, старый леший. Ну, погрозил и пошёл. И дорогой-то делся куда-то, посечас ищут. А куда тут деться — небось, к лешему и забрёл...
Так вот тот князь шибко смелый был и умный. А може, считал себя так. Числил. Да... Вы карасей ешьте, ешьте... И вызнал князь про дырки такие, скрозь которые можно в иные миры добраться. Уж чего он там себе думал — я не знаю. Но только он тех дырок наотворял — ужасть! И полезло через них всякое...
Князь-то, — дед укоризненно-осуждающе покачал головой, — думал сглупа, что они — эти, значить — ему служить будут. По первости и служили. А потом, как взялись сами собой руководствовать! Князь-то первым и сгинул. Уж как там дальше было — а хороши караси!
Толька тихо застонал.
— Болит чаво тоже? — участливо спросил дед. — Глядю — оба вы больные... Эх, нет моей бабки... Ну, а как сгинул — тут эти-то и вовсе распоясались, сёлами людей уволакивали. Но всё ж нашлась на них управа. Загнали их вобрат. И запечатали, вроде как. А только они-то помнят, — дед погрозил пальцем, — помнят, что тут ход был. И только и ждут, чтоб, значитца, кто им дорогу открыл... Воды-то натаскали?
9.
Отцовский «мессер» был похож с хвоста на шумовку. Дырок оказалось не меньше тридцати, сквозь хвост красиво светили последние лучи закатного солнца. Механик отца — Мартин никак не мог запомнить его имя — посвистывая, рисовал на фюзеляже ровненький красивый крест — вдобавок к тем ста с лишним, которые его уже украшали.
Отец сидел на краю аэродрома, широко расставив ноги. В левой руке он сжимал фуражку. Голова была запрокинута, глаза закрыты. Волосы шевелил ветер.
— Пап! — с коротким криком Мартин врезался в него.
— Тише, — полковник Киршхофф усадил сына рядом, прижал к себе, не спрашивая, как тот пробрался на полосу.
— Поздравляю, — сказал кто-то, Мартин смутно помнил этого офицера из штаба аэродрома. — Пе-29 — это не шутка.
— Какие уж тут шутки, — полковник открыл глаза. — Где Юлли? Что с моим ведомым?
— Солдаты видели, как он упал в районе... — офицер назвал какое-то слово. — Я соболезную.
— Чёртов дурак, — прошептал полковник Киршхофф, отстраняя сына. — Чёртов глупый мальчишка... Я же кричал ему... я кричал ему... проклятый кретин, чему их только учили... Что он упал, я видел сам! — неожиданно крикнул он. — Что с ним?!
— Полагаю, он мёртв, — слегка удивлённо ответил офицер.
— Да. Конечно, — полковник оперся на сына. — Помоги мне встать... — и вдруг пошатнулся.
— Папа!!! — закричал Мартин, стараясь удержать отца. — Помогите! Папа!..
...Мартин пересел на кровать отца только после того, как вышел последний из офицеров. Полковник Киршхофф улыбнулся.
— Ничего страшного, — сказал он и взъерошил волосы сына. — Мякоть, я и почувствовал-то только когда вылез из машины... Скоро опять буду на ногах... Ну, ты что? — Мартин прижался щекой к плечу отца.
— Ты сбил их? — спросил мальчик тихонько. — Как? — он заглянул отцу в глаза.
Полковник Киршхофф покривился:
— Грязно, как в кабацкой драке, когда бьют друг друга кружками и стульями... Юлле вместо того, чтобы поднырнуть, зашёл сверху, точно там, где у них сидит стрелок-радист. Как будто спятил... или решил, что на скорости тот промахнётся.
А тот влепил очередь точно в двигатель. Я видел этого парня за бронестеклом — молодой совсем. Юлле упал. Я зашёл снизу, распорол им брюхо, думал, что сдетонируют бомбы. Чёрта с два... В это время второй «пе» врезал мне по хвосту.
Этот юный глупец Юлле уже не мог меня прикрыть, очень торопился открыть счёт... Я отвалил в сторону, крутнулся, пошёл обратно, снова получил, но успел раскроить им кабину. «Пе» всё равно держался на курсе, а со второго мне добавили снова.
На третьем заходе я всё-таки свалил его, второй перехватили соседи, как раз подоспели... Да я всё равно был пустой, оставались какие-то два десятка патрон к пулемётам, пушки молчали...
Я уже примеривался бить по хвосту винтом, тогда бы точно не сел — мой малыш и так почти не держался на курсе, его с такой силой мотало, что я был уверен: расшибусь. Но вот сел... Я не мог не сесть, ты же меня ждал...
— Генрих, — в дверь заглянул один из лётчиков. — Генрих, извини... Его нашли.
— Что? — отец почти сел, Мартин удержал его.
— Выбросило из кабины и головой в дерево, — лётчик помолчал. — Череп вдребезги... Так там вещи, но это понятно... Ещё фотографии. Девчонка... Помнишь, он всё плёл разное про то, сколько у него было баб? — лётчик не обращал внимания на Мартина.
— Мы смеялись, а он злился, — кивнул полковник.
— Да... Так вот, там она на фотографиях. Такая же соплячка... И её письма, он всё врал, что это от сестры...
— Принеси, — кивнул Киршхофф. — Мне всё равно писать ему домой. И скажи в столовой... ну, ты знаешь, что сказать.
Лётчик кивнул и исчез. А полковник сказал сыну:
— Ты, пожалуйста... поди пока погуляй. Мне надо побыть одному. Недолго. Не обижайся, Марти. Од-но-му...
...Сон был тяжёлым и страшным. Мартин никак не мог очнуться от него, хотя это было очень нужно — очень нужно ещё и потому, что в комнате что-то происходило, что-то такое, о чём он должен был знать.
В какой-то момент сон окончательно втянул в себя мальчишку... но что-то сильно обожгло грудь, до боли — и эта боль помогла выбраться из сна — словно выкопаться из-под груды вонючих, тяжёлых тряпок.
Горел свет — закрытая абажуром настольная лампа. Отец сидел к столу боком, положив на него кулак и вытянув прямую раненую ногу. А напротив отца устроился доктор Хельмитц — в гражданском.
— ...и не беспокойтесь — мальчик не проснётся, — как раз говорил Хельмитц.
— Что с моим сыном? — тихо, но страшно спросил полковник Киршхофф.
— Ничего, он просто спит и проснётся только когда я уйду, — любезно сообщил гестаповец. — Так что, мы можем говорить спокойно.
«Чёрта с два не проснусь... — Мартин ощутил на груди саднящую боль — там, где он повесил на плетёном шнурке подаренный полуспятившим (или очень умным?) дедом медальон. — Так это он меня раз-будил?! Ин-те-рес-но-о... А какие тут секреты?»
— Я не понимаю, что вам нужно, — покачал головой тем временем полковник. — Я давно оставил это студенческое баловство — полая земля, пятая раса, Остров Туле... И удивляюсь, что...
— Не надо удивляться, — спокойно, даже как-то ласково ответил доктор. — Надо выполнять приказания Ордена. И всё. Время не играет тут роли. Вы поклялись. От этой клятвы нельзя освободиться, Киршхофф. Вы знаете это не хуже моего.
— Вы сумасшедший, Хельмитц.
— О нет. Всем известно, что тролли10 могут служить человеку.
— Какие тролли? Идёт война. Гибнут люди. Вчера я потерял ещё одного лётчика, а вы приходите сюда и рассказываете мне о троллях. Вам надо лечь в клинику.
— Вы отказываетесь выполнить приказ Ордена?
Мартин услышал, как отец тяжело вздохнул.
— Нет, я готов выполнить его. Я просто пытаюсь довести до вашего сведения, что вы играете с огнём.
— Ага, так вы всё-таки верите в то, о чём только что высказывались столь презрительно? — засмеялся доктор.
— Хорошо, — вдруг зло сказал отец. — Будем играть вашими картами. Вы говорите — тролли могут служить человеку. А вам известна плата за их службу?
— Конечно. Но на этих землях сколько угодно этой платы. Мы можем дарить им целые города. Представляете себе ужас и изумление русских, когда в никуда станут проваливаться дивизии? Это будет мощнейший удар по их духу. Необъяснимое всегда страшит. А дороги в иные миры, которые откроются перед Орденом? Мы станем повелителями не только Земли.
— Помните сказку об ученике чародея11? — спросил полковник Кирш-хофф. — Чем вы станете расплачиваться, когда будут уничтожены наши враги? И не сочтут ли обитатели этих иных миров своей законной платой — вас? Нас всех? Что вы знаете о них? Чёрт побери, вы даже не знаете, есть ли у них разум в привычном нам смысле этого слова! Может быть, вы собираетесь договариваться с пустотой, которая даже не поймёт ваших слов?
— Не беспокойтесь, — доктор Хельмитц постучал пальцами по столу. — Мы в любой момент можем закрыть выход. Безо всякой магии, чисто механическими средствами. И именно для этого нам нужны вы. Как человек, немало работавший в Анэнэрбе12. И как боевой пилот.
— Я проклинаю те дни, — тихо сказал полковник. — Что надо делать?
— Так вы согласны?.. Пока — ничего. Ждать. Мы ещё не начали выход на контакт. Мы только нащупали место, где такое возможно. Я лично извещу вас, когда возникнет необходимость — и разъясню, что вам нужно сделать.
Доктор Хельмитц ушёл, не прощаясь. Мартин видел, что отец остался сидеть за столом, глядя куда-то за окно — со злым лицом, чуть подёргивая щекой. Орден, подумал Мартин. Он кое-что знал об Ордене — обрывки слухов, окутанные жутковато-романтическим флёром.
Среди мальчишек их отряда из уст в уста передавались рассказы, что, мол, «я знаю одного парня, который знает другого парня, у которого один знакомый уехал в Зонтгофен13 — и...» — дальше либо многозначительное молчание, либо кружево сплетен и слухов о самолётах без крыльев, о подводных лодках, способных летать, об умении убивать быка толчком пальца и о странных существах, служащих Рейху.
Выходит, это не всё — слухи14...
Но почему отец недоволен? Мартин тихонько перевёл дух. Это ведь для пользы Рейха, это для славы и для победы!
Но в ту же секунду Мартин вспомнил черноту, пронизанную огоньками, вспомнил стоящую у края этой черноты фигуру — и отчётливо, тем чутьём, которое свойственно подросткам, понял: никакой «пользы» тут не будет. Не может быть.
Эти люди заблуждаются. И, возможно, что заблуждаются страшно. Отец прав.
Мартин решил поговорить с ним — прямо завтра, когда тот немного успокоится. Сейчас он может просто накричать и даже ударить. Такого лица у полковника Киршхоффа Мартин не видел ещё никогда.
Завтра, завтра — благо, отец должен остаться дома. А пока надо спать, спать... Ожог на груди саднил надоедливо, но эту боль можно было и потерпеть.
И, уже засыпая, Мартин вдруг вспомнил: там, у того старика, когда Толька вернулся с улицы — от него пахло табаком. Табачным дымом, свежим и сильным, не сигаретным. А Толька не курил.
— Зря.
Толька сказал это угрюмо и уверенно. Мальчишки сидели на коряге, с которой любил рыбачить Толька, булькали ногами и серьёзно разговаривали. Солнце стояло в зените, припекало, было тихо и тревожно. Недалёкий аэродром таял в знойном мареве, а мальчишкам временами казалось, что он исчезает...
— Зря, — повторил Толька. — Во-первых, тебя могут просто убить. Чпок, — он наставил на Тольку палец, — и всё. И кинут в пруд или ещё куда. Чтобы тайну не разболтал.
А, во-вторых, отец твой всё равно ничего не сможет сделать. Он же военный. Ему прикажут — и всё. И вообще... — Толька прищурился, — чего ты так вообще волнуешься? Это же против нас.
— Ага, — тоскливо сказал Мартин и взбил ногой пену. — Да, против вас. Сперва. А потом? Я тебе точно говорю: не удержат они этих тварей в повиновении. Ни разу не получалось... ну, если по легендам судить, раз в них правда.
Сперва — врагов, а потом — самого, кто вызвал... — он передёрнул плечами и признался: — Я и представить себе не мог, что такое случится в наше время. Я в это вообще не верил. Утром собирался поговорить, просыпаюсь — а его нет, говорят, уехал куда-то и не сказал, когда вернётся... Толька, ты знаешь что? — Мартин посмотрел на русского. — Ты лучше уходи и не приходи больше.
— С работы выгонят, — усмехнулся Толька...
...То, что он опять заблудился, Мартин понял, когда под ногами появилась грунтовая тропка и резко похолодало. Дул неприятный ветер, дул точно вдоль этой тропки, стены бурьяна по её краям оставались неподвижными. Мартин тыркнулся пару раз обратно, но так и не нашёл дороги, по которой попал сюда.
«А вдруг не выйду больше? — подумал он спокойно. — Ладно. Толька цел, он что-нибудь сделает».
Почему-то он был уверен, что русский не оставит его пропажу безнаказанной. И, ощутив эту уверенность, удивился: странно, дико — русский его друг! Две недели назад он бы в это не поверил ни за что.
Пошёл дождь из низких туч — серых, унылых. Он был мелкий, частый и холодный, и летел с ветром, мешая нормально смотреть. Сперва Мартин протирал лицо, потом плюнул и пошёл просто так.
Его форма промокла насквозь, земля под ногами стала раскисать. Часы стояли, он не сразу обратил на это внимание, но это было так.
Тропка разделилась. Около развилки стоял указатель — довольно странный, если не сказать страшный. Но Мартин так промок и замёрз, что посмотрел на него равнодушно...
ACHTUNG ! — гласил указатель, направленный сразу в две стороны. Справа были изображены туча с молнией и череп с костями, слева — какая-то странная маска, вытянутая, с миндалевидными глазами.
Впрочем, этот указатель неоспоримо свидетельствовал, что тут бывают — и нередко — немцы, свои. Мартин постоял и пошёл налево, хотя и левый значок выглядел отнюдь не дружелюбно, напоминал древнегреческую маску.
Мальчишка вынул нож и держал его в руке наготове, полный решимости в случае чего пустить оружие в ход. Ему казалось, что на свете не найдётся уже вещи, способной удивить. И всё-таки он удивился, выйдя на берег пруда — того самого пруда, с которого всё и началось.
Тут не было пустынно. В каких-то пятидесяти метрах от себя Мартин увидел грузовик, два бронетранспортёра с нацеленными пулемётами и группу людей в блестящих костюмах, напоминавших скафандры водолазов.
Они деловито возились, растягивая в трубу некую ячеистую конструкцию вроде металлической сетки, свёрнутой тугим бубликом. Три шага — и закрепляют кольями. Три шага — и закрепляют...
Наблюдая за этим, Мартин вздрогнул — медальон обжёг грудь. Мальчишка, не глядя, вытащил его и вывесил поверх рубашки и галстука.
Люди в скафандрах отошли в стороны, кто-то из них поднял руку. Сетка как бы налилась голубоватым сиянием. Мартин только теперь заметил струящиеся в траве кабели — они вели к одному из транспортёров.
А в начале этой сетки мгновенно открылся чёрный проход — тот самый, с искрами огоньков. И из этой черноты появилось странное существо.
Именно странное, не страшное. Оно было похоже на человека, но очень высокого и тонкого, с плохо различимыми, какими-то сглаженными, чертами лица. И стояло в начале тоннеля из сетки как бы в нерешительности. Кожа — или костюм — существа отливала медью.
Мартин заметил, как от второго транспортёра идёт группа людей, среди которых мальчишка узнал доктора Хельмитца — на этот раз одетого в чёрную форму. Люди остановились у конца тоннеля...
Мартин попятился. Осторожно, еле-еле, не сводя глаз с разворачивающейся перед ним сцены, завораживавшей своей необычайностью. Он ещё успел увидеть, как Хельмитц сделал приглашающий жест, а это существо ответило почти человеческим кивком — и камыши скрыли мальчишку...
...Почему-то Мартин думал, что сразу выберется. Но он не нашёл даже прежней тропинки, а какую-то новую — тоже узкую, но асфальтированную.
Мартин на миг увидел впереди башни невероятной высоты, за ними проглянуло солнце, пронеслась какая-то крылатая тень... но тут же всё это растаяло, тропинка превратилась в небольшую луговину, поросшую травой по пояс, мокрой от дождя, который усилился.
За луговиной начиналась знакомая аллея. До неё было около четверти километра.
А слева и справа — на краях этой луговины, в тени нездешних сумрачных елей, в каких-то ста метрах по бокам Мартина — стояли и смотрели в его сторону шесть существ. По три с каждой стороны. Они стояли, чуть пригнувшись, широко расставив ноги и свесив руки, похожие на огромных, массивных обезьян.
Мартин понял, что погиб. И рванулся. Побежал изо всех сил — вперёд, к аллее, не оглядываясь и не глядя по сторонам. Он не надеялся добежать и спастись, но стоять на месте было слишком страшно. Трава путалась в ногах, бег был похож на бег по глубокой воде.
Мартин знал: если он посмотрит — то упадёт сразу. Но не смотреть было до такой степени невыносимо, что мальчишка заорал:
— Вас нет, вас нет, не-е-е-ет! — и, услышав в ответ короткое ухающее дыхание: — Па-апа-а!!!
На какой-то невероятно страшный миг он почувствовал, как ноги оторвались от земли — и как что-то — что-то, из чего состоял он сам, Мартин, не тело, а что-то ещё — начало выливаться из него, как вода из расколотого графина...
Но только на миг. Медальон полыхнул коротким серебряным светом — и Мартин грудью навалился на перила мостика.
Позади не было никого. Только аэродром, над которым светило солнце — и пара садящихся на полосу «хейнкелей»...
...Отец не вернулся даже когда начало темнеть. Лётчики и сами не знали, где их полковник. И вообще, что-то такое нехорошее разливалось в воздухе. Люди мотались по коридорам и комнатам, потом начали засыпать, но ощущения покоя не возникало.
После полуночи Мартин вышел на крыльцо. На аэродроме царила тишина. Около ворот стояли оба часовых. Их вид успокоил Мартина — насколько вообще он мог успокоиться. Но ненадолго. Он стоял, глядел на огни посадочной вышки.
И увидел, как они погасли. Сразу все. Мальчишка вернулся в комнату. Он ощущал себя, как перед стартом — бежать, бежать, бежать, как только раздастся сигнал. Но вот, какой?
Чего ждать? Он открыл окно. Постоял. Прилёг на кровать и стал смотреть в потолок...
... — Кто здесь?!
Мартин проснулся от этого крика. Было ранее утро, серый полусвет вползал в комнату. Отец был в комнате. Сидел на постели, одетый в форму, хотя и расстёгнутую, держа в руке свой «маузер» HSC. А на подоконнике застыл Толька. Он был взъерошен и помят, глаза блуждали, рубашка порвана.
— Не стреляйте, — со сна Мартин не понял, что Толька говорит по-немецки не таясь. — Я пришёл вас предупредить. Из-за Мартина. Он мой друг. Спасайтесь.
— Я подозревал, что ты знаешь немецкий, — полковник Киршхоф встал и рывком втянул русского мальчишку внутрь. Толька не сопротивлялся, и Мартин, сообразивший наконец встать, увидел, что глаза русского полны запредельного ужаса. — Ваши собираются атаковать аэродром, маленький шпион? — полковник тряхнул Тольку.
— Я партизан, — сказал Толька, — разведчик, это правда... Но наши тут не при чём и вы это знаете. Спасайтесь, бегите в город. Через полчаса тут не будет никого живого. Это ваши впустили ИХ. Люди из гестапо.
Мартин увидел, как мгновенно побледнел отец.
— Я предупреждал... я говорил, — процедил он и, бросив пистолет на постель, метнулся к шкафу. — Мартин, вставай, быстро одевайся... Уведёшь его, — это он бросил уже Тольке.
— Папа, а ты?! — Мартин вскочил. — Папа, где ты был, я ждал тебя, я искал! — отец отпихнул его. Толька облизнул губы и сказал хрипло:
— Вам тоже надо бежать, вы ничего не сделаете. Охрану, наверное, уже утащили...
— Тут мои люди, — отец быстро затягивал ремни на голенищах сапог. — Я соберу их и мы выйдем вместе.
— Вы не успеете, — сказал Толька. — Я знаю. Мне рассказывали легенды. Тут их все знают. Думаете, почему наши ни разу не атаковали ваш аэродром, хотя им даже из Москвы приказывали?
— Вздор, вздор, — сердито ответил полковник. — Я не имею права бросить моих подчинённых... Уходите быстро. Мартин, пусть он доведёт тебя до комендатуры. Позже я приду.
— Постарайтесь прорваться в липовую аллею, — Толька быстро оглянулся в окно. — ОНИ ещё ни разу не выходили в город, так везде говорится. Правда, в этот раз всё по-особенному. В центре аэродрома вообще ад.
— Быстро уходите, мальчики, — прервал его полковник Киршхоф. — Мартин, не беспокойся, я приду, — повторил он.
— Пап, ты же их не видел, ОНИ... — начал отчаянно Мартин. Отец улыбнулся:
— Я знаю. А Клаус Хельмитц рассказал мне, чем тут занимались люди из гестапо. Ничего. Я приду, — он взял Мартина за подбородок твёрдыми пальцами и повторил: — Я приду. Ты меня понял?..
...В коридоре стояли несколько человек — с оружием, озираясь. Кто-то спросил: «Да что происходит?!»
Снова послышался голос отца, и Мартину стало легче: да нет, это просто дурной сон, не надо никуда бежать, зачем? Здесь отец, здесь люди с оружием, они защитят, если что... Мартин даже остановился, но Толька рванул его за руку.
Нет, снаружи было не утро. Просто светился жемчужным отсветом лежащий вокруг туман. В этом тумане вспыхивали выстрелы, слышались истошные крики, скрежет металла — и ещё звуки. Такие, о которых не хотелось даже думать.
Часовые стояли около ворот. Стояли, когда Мартин на них глядел. А потом он обернулся, чтобы посмотреть, не идёт ли отец — и, повернувшись обратно, увидел, что часовых нет. Толька часто глотал и сказал:
— Утащило. Оно их утащило. Я видел. Скорей, слышишь?
За спиной, в общежитии, разбилось окно. Послышался крик — невероятный, неестественный по громкости и отчаянью. И загремели выстрелы.
— Папа! — рванулся назад Мартин. Но Толька заорал ему в ухо:
— Бежим! Вон они!!!
Что-то надвигалось из тумана, и нервы Мартина не выдержали. Он побежал следом за Толькой. Оглянулся только раз — когда позади взорвалась граната.
На крыльце несколько приземистых, казавшихся бесформенными, фигур рвали в клочья человека. А потом общежитие вспыхнуло густым пламенем, не дававшим света и теней — и стало медленно, даже как-то величаво оседать вглубь земли. Словно в болото...
В нём уже не стреляли, но слышались урчание, бульканье и уханье — не такие, какие издаёт дом при пожаре. Живые.
Мартин бежал за Толькой, не разбирая дороги. И только через минуту крикнул ему:
— Не туда! Нам сюда, сюда! — и свернул, не понимая, но откуда-то точно зная, куда им надо бежать, чтобы спастись...
Часть 3. QUEST
1.
— Дальше всё было, как было, — Анатолий Ефимович вздохнул. Мартин Киршхоф почти точно скопировал его вздох. — Я ушёл в отряд. Оставаться тут мне было нельзя, немцы потом вели расследование, носами землю рыли... Воевал в партизанах, потом работал на заводе, потом прорвался в авиацию, правда — в гражданскую...У Мартина своя история...
— Да, — кивнул немец. — Меня допрашивали, но я был в таком состоянии, что... — он развёл руками. — Потом я обслуживал зенитки в своём городе, был ранен во время налёта американцев. Записался в фольксштурм, оборонял Бреслау против ваших. Чудом не погиб и не попал в плен. Короче, столько всего было, что эти, здешние события я вычеркнул из памяти, как страшный сон. Стал инженером, в шестьдесят...
— Шестьдесят пятом, — ворчливо подсказал Анатолий Ефимович.
— Да, в шестьдесят пятом поехал в СССР налаживать производство на одном новом заводе в Норильске.
— И долго ходил вокруг меня, приглядываясь, — усмехнулся мой дед.
— И я-то понять не мог, откуда я его знаю?! Я тогда уже не летал сам, отрядом командовал... Думаю — чего эта немчура на меня пялится?! А потом вдруг раз — и узнал...
Честно? Я слушал, открыв рот. Широко открыв. Не потому, что так уж нуждался в рассказе на тему «как всё началось» — во всяком случае, пока что я не услышал ничего, что могло бы нам помочь.
Тут дело было в другом. Мне даже трудно оказалось воспринять, что вся эта история происходила тогда с двумя стариками, сидящими передо мной. Что они были мальчишками. Что один носил форму гитлерюгенда и прилетел сюда к отцу, а второй был партизанским разведчиком.
Я просто не мог — понимаете, не мог, воображения не хватало! — представить себе то время в полном объёме. Но, когда они перешли на более поздние воспоминания, я встрепенулся и вклинился:
— Извините... подождите, я хотел спросить...
— Понятно, — буркнул дед.— Ладно. Слушай. Потом я вернулся домой. Оказалось, что ничего не кончилось. Аэродром рос. Я жил рядом с ним. И боялся. Я просто боялся. Тот, детский страх так глубоко сидел во мне, что я не желал больше иметь с этим дела.
Отвернулся и не смотрел, понимаешь, Женя? В конце концов, я столько в жизни сделал для людей, я никогда не был трусом, что считал себя вправе отдохнуть. Не участвовать. Вообще ни в чём.
Я кивнул. Герр Киршхоф что-то проворчал, потом признался:
— А я вообще заставил себя про это забыть. Перед глазами ничего не маячило, и я почти по-настоящему забыл. Люди, бывавшие на фронте, сходят с ума по-разному. Один парень — ну, старик, — он улыбнулся, — старше меня на пять лет, потерял руку в Нормандии в сорок четвёртом.
И после войны почти сорок лет ездил по тем местам — искал её, потому что она жутко болела. Был уверен, что её надо похоронить — и всё кончится. И никакие слова о фантомных болях не воспринимал.
— Нашёл? — тупо спросил я, представив эту жуткую картинку.
Немец покачал головой. Дед опять заговорил:
— Но потом я увидел... — он потёр лоб. — Этих ребят увидел. Они ведь приходили ко мне, говорили. Показывали кое-какие записи, бумаги, фотографии. Я наорал на них, разогнал. А потом подумал, что они намного смелей меня. Тогда я решил кончать с этой историей. И написал Мартину.
Тебя я не собирался трогать, клянусь, — он перекрестился, Киршхофф фыркнул. — Просто так совпало. И я решил, что это закономерность. Мы старые с Мартином. Мы можем просто не справиться. А те ребята нам теперь не поверят.
— Поверили бы, — сказал я. — Они меня просили с тобой поговорить...
— Ты их позови, — попросил дед. — Позови, надо всем вместе поговорить, что теперь. Что-нибудь придумаем...
...Мы сидели за столом в дедовом доме. Дед и герр Киршхофф — по одну сторону. Лидка, Петька, Тон и Колька — по другую. Я устроился у стены, чувствуя себя кем-то вроде дипломата. Часы показывали полтретьего ночи. Герр Киршхофф пил пиво. Петька пил пиво. Тон брякал струной на гитаре.
Колька неожиданно смущённо прятал за скатертью пыльные ноги. Лидка булькала ложечкой в стакане. Дед курил. Я держал на коленях альбом — как доказательство серьёзности происходящего. Спать не хотелось никому. Но и разговаривать толком никто не начинал — не знали, с чего начать-то?
В какой-то степени я понимал деда, почему он ещё разогнал ребят тогда. Между ними лежала пропасть. Офигенно глубокая и широкая. И я мог помочь навести через неё мосты. Только я.
Однако, едва я проникся этой гордой мыслью, как Лидка, решительно отложив ложечку, высадила чай залпом и встала. Наверное, неосознанно, как на трибуне. Но на неё посмотрели все. Причём так, словно то, что скажет она, и будет истиной в последней инстанции.
От этих взглядов — я видел! — Лидка сильно смутилась и мгновенно растеряла запал. Но она была и правда необычной девчонкой. Она на миг опустила голову и, когда подняла её, то заговорила — чуть хрипловато, каким-то мальчишеским голосом. Наверное, так ей было легче.
— Теперь вы нас, наверное, не погоните. Я хотела сказать, что всегда можно уехать, конечно. Но, по-моему, вы решили бороться. Но вы старый. А мы многого не знаем. Если мы как бы... объединим усилия, то у нас может получиться. Больше нам надеяться не на кого.
Все так боятся, что скорей сами себе перережут горло, лишь бы не соглашаться, что у нас есть в городе... то, что есть. Лишь бы просто не признаваться.
Петька смотрел на неё с обожанием. И я ощутил сильный укол недовольства и желание немедленно сделать что-то такое, от чего Лидка так же станет смотреть на меня, как он сейчас — на неё.
— Эти... твари, которые приходят с аэродрома, они смертны, — продолжала Лидка. — Их можно убить, при знании дела — даже довольно легко.
— Это бессмысленно, — подал голос Тон, трогая струны. — Мы сто раз это обсуждали, это бессмысленно.
— Бессмысленно, — согласился мой дед и выпустил клуб приятно пахнущего табачного дыма. — Дело даже не в них, а в том, что их извергает. — Мы должны что-то придумать с аэродромом.
— Это тоже не очень новая мысль, — Тон достал из-за ремня шортов толстую тетрадку в чёрном переплёте. Молча положил её на стол. Я встал, старики нагнулись — мы видели эту тетрадь впервые.
На обложке алели прорезанные лезвием до бумажной основы и раскрашенные фломастером буквы:
КОМАНДА ОЧИСТКИ.
ДНЕВНИК. ТОМ 5.
— Смотрите, — Тон открыл тетрадь, полистал её. — Вот. Читаю. Запись последняя, от 30 апреля 1973 года...
«Первое Мая на носу. Или это будет первое Первое Мая без страха в нашем городе — или... Впрочем, не стоит про это думать. Мы всё рассчитали. Почти уверены, что ворота, через которые ОНИ ползут в наш мир, найдены. Нитроглицерина нам хватит. Тряхнёт так, что ничего не останется. А после этого гори всё огнём. Сейчас мы уходим. Все вместе. Младшие тоже не захотели остаться. Ну, что ж. На случай, если у нас всё-таки не получится — прощайте, товарищи. Мы сделали всё, что могли».
Тон закрыл тетрадь.
— Вот так. Это всё.
Мы помолчали. Герр Киршхофф спросил:
— Их было много?
— Одиннадцать человек, — ответила Лидка. — У нас есть фотки.
— Мы памятник сделали, — сказал Колька и покраснел, потому что все на него посмотрели. Но продолжал: — Фотки перевели на металл и там, в одном месте, привинтили. Они же хотели всех спасти.
— У них не получилось, — Тон покачал головой. — И карта этого места, где они рассчитывали найти выход, к нам не попала. Предположительно это одно из трёх мест: взлётная полоса возле причальной мачты дирижаблей...
— Какой причальной мачты? — подал голос герр Киршхофф удивлённо. — На базе не было такой...
— Это откуда-то ещё выбросило, — пояснил Лидка.
— ...пруд N 3 и старые ангары, — невозмутимо закончил Тон. Он, кстати, тоже сидел босой, но вёл себя так, как будто делал доклад в ООН и носил безупречный костюм. — Около пруда мы нашли следы нехилого взрыва и... — он осекся.
Петька дополнил:
— Костные фрагменты, как ты говорил. Остатки одежды, ещё кое-что.
— Значит, они всё-таки взорвали нитроглицерин? — спросил я.
Тон пожал плечами:
— Взорвали, сам взорвался, на нужном месте или нет — но у них ничего не получилось. Хотя направление было правильное. Всё дело в том, чтобы закрыть выход.
— Да, — кивнул герр Киршхофф. — Доктор Хельмитц так и говорил: «Мы в любой момент можем закрыть выход».
— Вот об этом и разговор, — Лидка посмотрела на него. — Как вы думаете, он трепался... врал, или правда они могли это сделать?
— «Анэнэрбе» была очень загадочной организацией, — покачал головой немец. — Думаю, что они и правда могли. Но не успели. И это была не какая-то магия или что-то такое. Нечто чисто техническое. Но мы этого никогда не узнаем. Хотя это «нечто» скорее всего до сих пор на аэродроме.
— В том-то всё и дело, что можем узнать, — Лидка коротко усмехнулась. И в ответ на взгляды всех остальных (кажется, и свои такого не ожидали!) пояснила: — Можем. Мы с ребятами давно искали Торговца. Он может открыть дверь в любой мир.
— Чёрт побери! — дед встал, прошёлся по комнате. — Чёрт побери, так это правда — миров много?
— Бессчётное количество, — кивнула Лидка. — Но, что важнее — не только в любой мир. В любое время. Мы собирались это использовать, чтобы как-то помешать... в самый начальный момент помешать немцам. Если надо — с боем. У нас есть оружие.
— Чёрт побери! — повторил дед. А герр Киршхофф посмотрел на Лидку с уважением и сказал:
— Вы очень смелы, фроляйн. Но вы знаете, что такое — помешать спецгруппе гестапо? Это не глупые рейнджеры из глупых голливудских фильмов.
— Это уже не важно, — Лидка покачала головой. — Я только здесь подумала. Мы можем узнать, что было за средство. И использовать его уже в нашем времени, понимаете?! Найти — и использовать! В сущности, это наш единственный шанс. Я не знаю, что вы собирались делать... — она кивнула старикам, — но мы больше ни до чего не додумаемся, это совершенно ясно.
— Дело за малым, — сказал Петька. — Найти магазин. А он появляется... — и Петька издал некрасивый звук губами. Я ударил кулаком по альбому:
— Если бы я знал!!! Чёрт, чёрт, чёрт, если бы я знал!!!
— То, что он появился — обнадёживает, — вдруг сказал Тон. — Из записей ясно, что появлений бывает несколько. В разных местах, но несколько. Надо просто искать. Ни на что не отвлекаясь.
— Завтра тогда и начнём, — сказал дед решительно. А немец спохватился:
— О, а вас не хватятся дома?
Все четверо переглянулись. И Лидка сказала:
— Если и хватятся — то искать не станут. Бесполезно же.
2.
День был преотвратный. Бессолнечный, но в то же время жаркий, душный. Походишь полчаса — и в ушах начинала мерно стучать густая кровь. Я думал, что только у меня, но, пару раз встретив остальных поисковиков, понял, что и им не лучше. Казалось, что Любичи варятся в котле, прихлопнутые сверху серой крышкой.
Мы сперва хотели искать попарно, но потом разделились поодиночке, решив, что так будет быстрее, а в случае чего и вдвоём не отобьёшься. Но никакого «случая» не наблюдалось пока.
Мне пару раз казалось, что вот-вот, вот сейчас!.. Но — как будто рыбка срывалась с крючка. Я почти физически ощущал этот момент, не успевал «подсечь». Самое главное, никто из нас не знал, какие всё-таки условия нужны для того, чтобы добраться до Торговца.
Одиночество? Особый психический настрой? Температура, влажность, давление? Лично я просто-напросто шёл, куда глаза глядят, стараясь забираться в максимально заброшенные места поближе к аэродрому.
По-моему, и остальные действовали так же. По крайней мере, за четыре часа скитаний я встречал всех их не по одному разу. Мы расходились, как будто не узнавали друг друга. Наверное, это было смешно...
К полудню я замотался до такой степени, что, увидев на лавочке у ограды очередного заброшенного дома Лидку, просто подсел к ней. Лидка ела мороженое и молча передала мне оставшуюся половину стаканчика. Сказала:
— Рискуем ничего не найти.
Конечно, мне надо было поддержать её, но я до такой степени был раздражён жарой, что почти огрызнулся:
— Да конечно не найдём, что и... — и почти подавился мороженым.
Честное слово, там только что ничего не было. Старинная арка, уводившая вглубь двора и заросшая бурьяном. И вдруг я увидел дверь, украшенную стеклянным многоцветьем витража. И вывеску над ней.
На чёрном ромбе с алым кантом алели звезда, молния и надпись:
КНИЖНЫЙ МАГАЗИН
«АНТИМИР»
Кстати: так себе ощущение. Только что ничего не было — и вдруг есть. Паршивое ощущение, честное слово; начинаешь сомневаться в собственном рассудке. Я толкнул Лидку, но она уже и сама смотрела в ту сторону. Не сговариваясь, мы вскочили и кинулись к двери...
...Колокольчики отзвонили свою несложную мелодию. Запыхаввшись, словно бежали мы не двадцать метров через улицу, а марафон, мы стояли на пороге магазина. На этот раз таинственный хозяин стоял прямо посреди комнаты. Он улыбался:
— Дважды подарков я не делаю, — сообщил он. — Хороший альбом?
— Отличный, — я сошёл по выбитым ступеням. Лидка следовала за мной. — Нам нужно попасть в лето сорок второго. В Любичи. Вы можете помочь?
Он шевельнул бровями, как при первой нашей встрече. И уже без улыбки сказал:
— Время-пространство — не трасса для игры в охоту на лис. Если вы не собираетесь делать покупки, то...
И тут я увидел в руке у Лидки пистолет. Это был маленький «вальтер» — не тот, какой обычно показывают в кино, а другой, меньше калибром и легче, их часто носили лётчики.
Герр Киршхофф говорил, что у его отца был похожий, но не «вальтер», а «маузер» — тоже небольшой, не как привычные длинноствольные... о чём я вообще?! Лицо Лидки было каменным, только в прорезях этой маски горел огонь:
— Послушайте, вы, — сказала она. — У меня погиб отец. Погибли ещё сотни людей. Если вы удобно устроились в этом логове, это не значит, что вы можете на всех плевать. Если вы не согласитесь нам помочь, я вас застрелю. Можете быть уверены, что я так сделаю.
Торговец с интересом склонил голову. И спросил — почти соболезнующее:
— И ты думаешь, девочка, что до тебя никто не пытался добиться от меня услуг таким образом? Наивно. Извиняет тебя только возраст. А говорю я с вами лишь потому, что это нелегко — найти меня второй раз, если я не звал посетителя заходить.
И он посмотрел на меня. Как-то так посмотрел... В общем, я положил руку на запястье Лидки и сказал:
— Убери... — а потом обернулся к Торговцу.
Я был уверен — хоть убейте! — что при желании он легко может вышвырнуть нас обоих отсюда. Вместе с нашими угрозами и оружием. И для этого ему и с места двигаться не придётся. Но раз до сих пор не вышвырнул — значит, оставалась какая-то надежда его убедить помочь.
— Вы хотите платы? — спросил я. — Мы заплатим. Сколько нужно?
— Восемьсот миллионов долларов, — серьёзно сказал он.
Скажи он «миллиард» — и я понял бы, что это шутка. Сразу. Но такая некруглая цифра заставила меня пошатнуться. Торговец даже без намёка на улыбку сказал:
— Мне не нужны деньги. И я не туристическое бюро. И не комитет помощи.
— Тогда почему вы нас не выгоните? — вдруг спросила убравшая оружие Лидка.
Торговец с лёгким недоумением на неё посмотрел, словно это было загадкой для него самого. Пожал плечами под своим тряпьём. И сказал задумчиво:
— Не знаю... Может быть, мне просто любопытно. Приходят два человечка и, сами не зная, с чем связались, решительно требуют помочь. Я не устаю вам удивляться, люди.
— Вы не человек? — спросила Лидка.
Торговец снова повёл плечами:
— Ты можешь считать, как тебе удобнее.
— Подождите, — сказал я. — Постойте. Вы говорили, что вам любопытно. А разве вам не любопытно будет, кто победит? Помогите нам. И удовлетворите своё любопытство. Иначе ведь ничего не будет. Всё заранее просчитано. Мы погибнем. Аэродром будет расползаться. Вы же уже видели такое. А тут — новая ставка.
— Ты игрок? — спросил он.
И я ответил — сам не знаю, почему:
— Я солдат.
— Значит, ты игрок, — он вдруг улыбнулся. Не очень хорошей улыбкой, я вам скажу. — Но ты прав. Я помогу. Хотя бы ради того, чтобы посмотреть, сколько вы продержитесь. Вот.
И я понял, что мой левый нагрудный карман потяжелел. Лидка с любопытством вытянула шею. Я достал из кармана бляшку. Восьмиугольную, из серого металла. На ней белой эмалью был выложен четырёхконечный острый крест.
— Бери, — с пренебрежительно-щедрым жестом сказал Торговец. — Она поможет тебе попасть... да куда захочешь. Это легко. Только учти, — и он опять улыбнулся, нехорошо улыбнулся, — она выполнит любое твоё желание. Настоящее желание. Так что, не удивляйся.
Теперь уже я позволил себе усмехнуться — держа эту штучку на ладони и глядя Торговцу прямо в глаза. Знаем. Читали эту чушь. Вслух желаешь одного, думаешь о другом, на самом деле хочешь третьего... Психологическая заумь. Моё желание просто и ясно.
— Ну-ну, — Торговец явно понял мою усмешку. — Я вижу, что ты дума-ешь, мальчик. «Я сильный, я хорошо знаю себя, у меня всё получится!» Давай. Действуй. Едва ли я увижу тебя ещё раз. Едва ли тебя вообще хоть кто-то увидит после того, как ты уйдёшь.
— Не вам судить, — для самого себя неожиданно резко ответил я. — Если вы не человек — то не вам.
Торговец пренебрежительно отмахнулся. А следующее, что я понял — отправляться придётся мне. Именно мне. И только мне.
— А ты, как думал? — ласково ответил Торговец на мои мысли...
...Мы с Лидкой сидели на лавочке. У меня в руке была бляшка, перепачканная растаявшим мороженым.
3.
Дед и герр Киршхофф попали в больницу одновременно. Никто толком не знал, что случилось. Они, наверное, вообще погибли бы, если бы не Колька.
Это — что бы там ни было — произошло примерно в то время, когда мы с Лидкой гостили у Торговца. Колян пробегал примерно теми самыми местами, где я в первый раз обнаружил магазин Торговца. И увидел около кустов в самом её конце — почти там, где начиналась зона аэродрома — два человеческих тела.
Как я понимаю, большинство жителей этого города прошли бы мимо, ускорив шаг. Но Колян, хоть и с опаской, побежал туда и обнаружил наших стариков. Они лежали без сознания.
Оставить их Колян не мог, уйти — тоже, что делать — не знал, поэтому начал пронзительно орать. И снова счастье — на его крики отозвался Петька. Примчался с какой-то дубиной и ножом — спасать... Пока тот дежурил возле стариков, Колька пулей понёсся в больницу...
... — Ничего не могу сказать, — покачал головой пожилой врач. — Они оба в коме, причины которой непонятны... — он потёр нос и спросил: — Ты говоришь, один из них немецкий турист, а второй — Герой Советского Союза? У него есть родственники?
— Да я, я родственник!!! — заорал я. — Внук!
— Внук? — врач смерил меня взглядом. — Ты отдыхаешь тут, что ли? — я кивнул, а он прошептал что-то вроде: «Совсем люди с ума посходили...», а вслух сказал: — Вот что, мальчик. Дай телеграмму родителям и быстро уезжай. Помочь тут ничем нельзя... вернее, мы сделаем всё возможное, но от тебя это не зависит, и нечего тебе тут торчать...
— Да... ага, ладно... — я потихоньку пятился, и это было глупо. Врач посмотрел на меня, как-то грустно улыбнулся и повысил голос:
— Держите его!
Краем глаза я увидел, что сзади подходят два охранника — крепкие мужички. Очевидно, врач и в самом деле желал мне добра. Скорее всего, хотел, чтобы они проводили меня домой, а оттуда — на остановку. Но это менее всего входило в мои планы.
— Извините, — сказал я.
И с разбегу выскочил в открытое окно.
Как и во многих таких вот городках, больница в Любичах располагалась в старинном здании, и первый этаж был фактически вторым. Я не знал, куда прыгаю, но приземлился удачно.
Прыжком взял невысокий заборчик, успел увидеть, как следом за мной шарахнулись ждавшие в тени скверика ребята и полетел по улице, хотя за мной вроде бы никто не гнался...
... — Не бывает так, чтобы сразу у обоих какая-то кома, — Лидка, сидя на корточках, рылась в чём-то вроде маленького подвальчика.
Мальчишки стояли возле забранных решётками окон, держа в руках оружие. У Тона и Кольки это были самострелы, у Петьки — обрез и пистолет ТТ.
— Это всё аэродром. Первый ход за ним...
Я кивнул. Кто бы сомневался, что это аэродром. Мы и сами сейчас находились на аэродроме.
Ребята догнали меня аж возле речки. Коротко посовещавшись, мы все вместе решили, что мне домой к деду сейчас идти не стоит. И уж, тем более, не надо давать никуда телеграмму. Колька отправился за моими вещами с Петькой, а мы втроём пошли на то место, где жарили шашлык.
Место было завалено ровным слоем дохлых мышей-полёвок. Впечатление такое, что они сюда приходили и тут кончали самоубийством. Зрелище было не столько отвратительное, сколько тягостное. Я думал, у Лидки будет истерика, но она только скривилась и сказала:
— Блинннн... — так, словно у неё болел зуб.
Мы так и стояли около этого мышиного кладбища, стараясь на него не глядеть, прислушивались и довели себя ожиданием неприятностей до того, что едва не набросились на появившихся ребят. Петька присвистнул, а Колька вдруг побледнел, уронил мой рюкзак и сказал:
— Вот так вот... когда перед тем, как на нас тогда... мы тоже нашли, только там было много-много-много воробьёв...
— Беги домой, — неожиданно ласково сказал Петька, беря его за плечо. — Бабуле и деду скажешь... — но Колька замотал головой и стиснул кулаки. Подышал и сказал:
— Пошли скорей лучше. Сейчас ещё можно пройти. А без меня вы заблудитесь... пропадёте.
И мы пошли... Но теперь аэродром был не тот, что раньше, когда я тут блуждал. Тогда была просто тревога. Теперь... Ну, я не знаю, как объяснить. Мы словно бы проталкивались через какую-то бесконечную кишку — она сокращалась злобными судорогами, стараясь раздавить нас или вытолкнуть прочь.
У меня нет лучшего объяснения своим ощущениям. Я даже плохо помню, где мы шли и что было по сторонам. Что-то такое, на что смотреть не стоило. Колька вёл нас — я вспомнил, что говорила Лидка: он умеет находить тут тропки. Иногда оборачивался, я отчётливо видел его лицо — белое, всё в поту.
А потом он упал — так падают, когда долго давят на дверь изо всех сил и она вдруг распахивается. Петька бросился, поднял его. А я увидел, что мы стоим на краю зелёного пятачка, посреди которого замер металлический сарай под шиферной крышей.
Над приоткрытой дверью входа косо висела доска с остатками надписи: …ком... ...чистки
— Нам сюда, — сказала Лидка.
И пошла первой. Петька занёс Коляна. Мы с Тоном вошли последними, оглянувшись внимательно. Над сухим бурьяном неподвижно стояли пары багряных, цвета спёкшейся крови столбов. Столбы были живые, я это видел.
Солнца на небе не было. Серый полусвет лился отовсюду. Справа на горизонте поднимались маслянистые чёрные скалы, вокруг них что-то такое летало — что-то очень неприятное, скверное даже на вид. Тон запер дверь на засов.
Кольку тошнило. Лидка гладила его по спине, вытирала губы и просила потерпеть. Петька сидел рядом на корточках. Я отвёл глаза.
Ангар был большим и довольно ухоженным. Тут стояли даже столы и шкафы, даже большой сейф, тоже, как шкаф. На половине высоты шла галерея, к ней вела металлическая лесенка.
— Мы отсюда не выйдем просто так, — сказал Тон, снимая из-за спины гитару. Петька пружинисто встал:
— Будем драться здесь, пока... — он посмотрел на меня: — Ты можешь отсюда уйти?
Я пожал плечами. Что я вообще знал? Может, Торговец вообще пошутил так — и это обычная бляшка?
— Ему надо переодеться, — Лидка помогла Кольке устроиться на диванчике в углу. — И вообще.
Ну, вот так и получилось, что в своём снаряжении я участия не принимал. Просто делал то, что говорили — переоделся в камуфляж, кроссовки.
Нацепил пояс с большой фляжкой и сумкой, в которой были какие-то консервы. Даже свою финку на пояс повесил не сам. Я только идиотски думал: а дальше-то что, я же не знаю, как!
— Держи, — Петька протянул мне две замшевых потёртых кобуры. Там оказались «вальтеры» — настоящие, в смысле — как в кино. — Умеешь пользоваться? — я кивнул. — Там только по одной обойме. Зато пули специальные.
Я опять кивнул, поудобней нацепил эти кобуры на пояс. И остался стоять — честное слово, как идиот. Остальные глазели на меня и ждали, только Тон напевал:
Я
Весь
Скрученный нерв,
Глотка,
Бикфордов шнур,
Который рвётся от натиска сфер —
Тех, что я развернул!
Я поэт заходящего дня,
Слишком многого не люблю!
Если ты, Судьба, оскорбишь меня —
Я просто тебя убью!
— Ребята... — решился я. — Я не знаю, как...
И всё исчезло.
4.
Я стоял посреди степи. Ну, вообще-то это мягко сказано. У меня закружилась голова, когда я посмотрел туда-сюда. Ни единой возвышенности! Вообще ничего не разнообразило ландшафт, насколько глаз хватало.
На все триста шестьдесят градусов компасного круга не было ничего, кроме совершенно ровной поверхности, на которой волнами (а ветра не было) колыхался ковыль.
Высокий — по пояс мне — но редкий и сухой, серо-жёлтый. От него пахло тонкой пылью. При каждом движении она повисала в воздухе облачком.
И надо всем этим раскинулось такое же однообразное и бесконечное белое небо, украшенное расплывчатым и раскалённым пятном солнца где-то в углу.
В каком углу — я не мог понять, потому что стрелка компаса отправилась в весёлое путешествие по кругу — неспешно и с чувством собственного достоинства, наплевав на север, юг и прочие предрассудки.
Впрочем, несмотря на это, окружающее не напоминало логово нечисти. Хотя жарко тут было — как в пекле, если предположить, что все те твари обитают именно там.
Я посвистел — низачем, просто так. Глянул ещё и на часы — просто чтобы порадоваться. Было чему — секундная не шла, минутная шла со скоростью секундной, часовая — чуть медленней, но наоборот, ка-лендарь показывал 31 февраля.
Я посмотрел на него подольше в надежде, что он покажет ещё что-нибудь интересное, но календарь и это вполне устраивало.
— Ну что ж, — сказал я в степь, — знал, на что шёл. И зашагал вперёд, если так можно сказать.
Ковыль не мешал идти, но пыль с него скоро осела на одежде и на теле плотным слоем, который вместе с потом быстро превращался в грязь. Солнце пекло, как я теперь понял, совершенно не по-человечески, со страшной силой — мне казалось, что я ощущаю солнечные лучи, и я всерьёз забеспокоился о радиации.
В принципе, конечно, солнце-то везде должно быть одно... но что если тут разрушен озоновый слой? Хотя — как ни старайся, не спрячешься же, значит — надо просто шагать и поменьше думать о неприятностях. Их и так хватает.
У меня не получалось понять, сколько времени я иду, хотя я обычно время чувствую неплохо. Солнце перемещалось по небу — судя по его движению, я шагал уже часа три. Вокруг ничего не менялось и я не устал, только испёкся. Я бы разделся, но это значило сгореть, и серьёзно.
А вот кроссовки я снял, затолкал в них носки и привязал всё это за шнурки к поясу — ни ржавых консервных банок, ни битых бутылок тут не было, поэтому босиком шагать оказалось удобно и хоть немного попрохладнее.
Пейзаж не менялся. Даже ковыль мне примять не удавалось — пару раз оглянувшись, я увидел, что сзади точно такая же невысокая стена, и всё. Хотелось пить, я пару раз примеривался к фляжке, но запрещал себе её трогать. Мне вдруг подумалось: а что, если до воды километров двести?
И вот тогда мне стало страшно. Не до икоты или судорог — но зато этот страх оказался неотвязным и постепенно занял все мои мысли. Двести, триста? Или больше километров? Я повернул вправо — зачем, сам не знаю, я и так подлаживал шаг под отсутствие ориентиров, а тут вдруг показалось, что иду по кругу.
Ерунда, конечно... Но в степи не было ни насекомых, ни птиц, ни ящериц — ни-ко-го. Это тоже наводило на печальные мысли.
— Да ты не струсил ли, Евгений? — вслух спросил я. Немного помогло. А через секунду мне послышался... звук идущего поезда.
Я завертел головой. Ковыль ковылём, но не мог же он — даже будь он ещё выше — спрятать состав?! А между тем, поезд совершенно отчётливо просвистел где-то совсем рядом — жаркий, стучащий по стыкам рельсов, посвистывающий воздухом... вот только ковыль не шелохнулся, и воздушной волны я не ощутил.
Я достал пистолеты. Ну их к чёрту с такими шутками, знаем мы эту фигниссию. Дальше я шагал, взведя оба «вальтера» и держа их в руках. От волнения даже пить расхотелось, хотя во рту пересохло ещё больше.
Попробовал считать шаги — и сбился на полусотне. Начал снова — и опять сбился. Начать в третий раз я не успел — ковыль отступил, и я увидел железную дорогу.
Это была одна-единственная ветка. Рельсы, бетонные шпалы, подсыпка. Пять шагов с этой стороны, пять шагов с той — ковыля нет, дальше — опять серо-жёлтая стена.
Я наступил на шпалу — она была горячая — и встал посредине. Посмотрел влево-вправо. Дорога таяла в горячем колебании воздуха. Солнце сползло к горизонту как раз в одном из концов этой щели.
Странно, оно должно было в принципе сесть у меня за спиной, если только я шёл относительно прямо... Ладно, скоро начнёт темнеть.
Я поправил свою амуницию и пошёл в закат — по обсыпке с правой стороны, благо, камни не были острыми...
...Солнце садилось и никак не могло сесть. Ну, правда, это напоминало обычный летний закат — бесконечный. Вообще-то я должен был устать, но особой усталости не чувствовал и прислушивался тщательно — не идёт ли снова поезд. Поезд не шёл.
Прохладней сверху стало, но земля начала щедро отдавать жар в воздух, и мне начало казаться, что я иду по пояс в тёплой воде. Ноги гудели — не устало, а просто гудели, и я решил, что так и так пора устраиваться.
И вот именно когда я это решил — впереди появился огонь костра.
Что костра — стопроцентно, только у живого огня может быть такой свет. Я остановился и облизнул губы. Неясно было, сколько до него, до этого огонька. Ещё менее ясно — кто там около него сидит. Приятно, что тут есть другие люди, конечно... если это люди. Да и люди бывают разные.
Я прикинул в руках пистолеты. Подумал пару секунд. И пошёл на огонь.
Конечно, он оказался далеко. Так всегда бывает с огнём в темноте — а уже здорово стемнело. Долго я шёл... а может — и нет, не знаю, пока не увидел платформу.
Это была самая обычная платформа — несколько железобетонных плит, положенные на стояки, с лестницами по обеим торцам. За платформой прямо в ковыле стояли остатки какого-то дома — очевидно, его фрагменты и служили топливом. Костёр горел прямо на бетоне, а у огня, подстроив под спину солидное бревно, сидел по-турецки мальчишка моих лет.
Он был босой — пыльные берцы сушились в сторонке, широко расшнурованные. Джинсовую куртку парень подстелил под себя, майка лежала на плечах внаброс, белёсые джинсы — закатаны до колен.
И он смотрел на меня, держа правую руку на перекинутом через бревно ремне. А на ремне я сразу увидел чехол ножа — и расстёгнутую кобуру револьвера.
Мальчишка держал его за рукоятку. В русых волосах золотились искры, а выражения лица и его черт точно я не мог понять. Но зубы поблёскивали. Улыбается? Или скалится? Я остановился на грани света и темноты, напружинившись для прыжка в сторону, и сказал:
— Можем начать палить друг в друга. У меня два пистолета. Но надо ли? Не в комп гоняем.
— Я не стреляю в людей, — отозвался он. — Ты русский? — но руку не убирал.
— Русский, — я решился. Держа пистолеты опущенными, вспрыгнул на платформу и подошёл ближе.
Мальчишка и правда улыбался, не сводя с меня глаз. Чувствуя себя довольно глупо, я покрутил пистолетами и, убрав их в кобуры, увидел, как он отпустил рукоять револьвера. Глядя на меня снизу вверх, сказал:
— Это может и не помочь. Не здесь, а вообще... — и покрутил рукой.
— Смотря какие пули, — я присел на бревно и ощутил кайф, только теперь поняв, что устал-таки. — Не пойму, что это за место?
— Место, — неопределённо сказал мальчишка. Он был чем-то похож на меня — немного внешностью, но ещё больше — чем-то другим. И я неожиданно понял, чем.
Мудрёный пример, но вот. Представьте себе вестерн. Кино. Встретились где-нибудь в салуне двое «хороших» ковбоев. Они друг друга не знают вообще, и говорить им в общем-то не о чем. У каждого своё важное дело. Но каким-то чувством, подсознанием, что ли, они понимают: это настоящий парень.
И ещё не зная друг друга — начинают уважать. Через час-другой они разъедутся в стороны и больше никогда не увидятся. А пока, перебросившись парой слов, с чувством собственного достоинства ставят друг другу выпивку и сидят, многозначительно молчат под какой-нибудь рэгтайм на пианино.
Загнул, да? Но я именно так себя и ощущал. И, кажется, этот парень — тоже. Во всяком случае, он спросил:
— Есть хочешь?
— Пить, — вспомнил я и отстегнул флягу с пояса. Задумчиво посмотрел на неё. Парень засмеялся:
— Пей, тут есть настоящая вода... Вон там, за развалинами — родник.
Я благодарно кивнул и начал глотать тепловатую воду, пока не опустошил фляжку. Отдышавшись, я спросил:
— Тебя как зовут?
— В смысле — как меня зовут или как моё имя? — уточнил он.
Я хмыкнул:
— Ладно. Знаем мы эти фокусы... Я не колдун и не чародей.
— А ты в них веришь? — мальчишка начал раскладывать на бревне сухари, банку консервов, ещё что-то. Я тоже полез за припасами, потом признался:
— Раньше не верил. Теперь верю.
— Олег, — он протянул загорелую, исцарапанную руку.
— Женька, — я пожал её. — Ты тоже из России? Или... откуда?
— Из России... — протянул он, доставая раскладной нож — большой, тяжёлый. — У вас кто президент?
— Путин, — удивился я.
— А Великая Отечественная была?
— Была... Я из Александровска.
— А я из Марфинки, это деревня такая в Фирсановском районе на Тамбовщине...
— А, Фирсанов я знаю, там авиагражданка, — вспомнил я и поморщился: вот чёрт, ну и каникулы с отдыхом от воспоминаний — куда не ткни, везде авиация...
— Точно, — он взял у меня банку с паштетом, внимательно осмотрел. — Да, мы, похоже, из одной России... Ты ни разу не был в таких местах?
— Нет, — я вогнал свою финку в протянутую им банку каши — гречки с говядиной. — Есть одни люди... в общем, им надо помочь. Они из города Любичи. Ну, я и вызвался.
— Слышал что-то... или читал... — он нахмурился. — Где-то на белорусской границе.
— Угу, — я поднялся. — Схожу за водой. Твою залить?
— Пошли вместе, — он тоже встал, взял свою фляжку — большую, защитного цвета. — Тут вообще безопасно, но... — и пожал плечами.
За развалинами в самом деле бил из какого-то валуна — прямо из камня! — родник, довольно толстая струя воды крутой дугой вонзалась в яму, вырытую в земле. Вода оказалась ледяная, до боли во лбу. Олег предупредил:
— Это последний родник в этих местах... хотя — смотря, куда ты идёшь.
— Кто его знает? — я поднял голову — высоко в небе плыли огоньки. — Это самолёт?!
— Где? — Олег тоже задрал голову. — А, да. Да ты не удивляйся, тут всякое можно увидеть... Утром проснёмся, например, а тут не степь, а лес. Место такое, я ж говорил.
Мы пошли обратно, покачивая фляжками и косясь друг на друга. Я спросил:
— А ты тут что делаешь?
— Примерно то же, что и ты, — отозвался Олег. — Сейчас поедим, расскажем друг другу свои истории? Это вообще-то принято, если вот так... встречаются.
— А что, тут и ещё кто-то есть? — уточнил я.
— Есть, а как же, — и Олег в третий раз повторил: — Место такое... Только ты про это не спрашивай, я сам не очень понимаю. Знаю, как на кнопки давить, вот и всё.
— На какие кнопки? — удивился я. Олег засмеялся:
— Ну, как на пульте... Давишь, а что там внутри происходит — кто его знает...
Мы ещё наломали досок, подкинули в костёр, уселись возле него и довольно долго молча ели, не разбирая, где чьё. Потом я взглядом попросил посмотреть револьвер, Олег кивнул.
Это оказался массивный «гном», какими часто пользуются фермеры на хуторах. Пока я вертел в руках оружие, Олег откинулся на бревно, вытянул ноги и заговорил:
— В общем, мы с моей девчонкой были на экскурсии в Тамбове16...
... — Ну и ну, — я вздохнул и покачал головой.
Стемнело окончательно, над степью выкатилась огромная, со странной синевой, луна, ковыль переливался серебром. Я боялся, что похолодает, но было по-прежнему жарко. Олег лежал с закрытыми глазами, я подумал, что он засыпает, и спросил:
— А меня слушать будешь?
— Конечно, — он сел, влез в майку, обхватил руками колени и не двигался, пока я не закончил рассказ. — Мда, — оценил он. — Про такое я и не слышал... Спятить можно... — и вдруг хлопнул по бетону: — Эх, если честно — бросил бы я всё и пошёл с тобой! Просто ради интереса! Но... — и он развёл руками.
— Да ладно, — поспешил я, — у каждого своя дорога... Мне бы только знать — куда по ней идти и как не заблудиться.
— Не заблудишься, — заверил Олег с улыбкой. — Вот что. Утром возьмёшь обе фляги — и мою, в смысле. Я-то скоро приду туда, где воды достаточно. А вот ты, похоже, попадёшь в сушь. Так что, экономь.
— Спасибо, — искренне поблагодарил я. — Мне тоже жаль, что ты не можешь со мной пойти... или я с тобой. Может, как-нибудь встретимся там — ну, в нашем мире?
— А, всё может быть, — беззаботно согласился Олег. — Давай-ка спать. Подстели себе куртку, да вон ковыля побольше надёргай, а так тут холодно не бывает.
— Всё-таки странно, — сказал я, спрыгивая с платформы. — Честное слово, даже подумать сложно, что где-то люди живут и ничего обо всём этом и не знают. Даже учёные не знают!
— Или делают вид, что не знают, — подал Олег голос сверху. — В приниципе, пути сюда очень лёгкие. Но тут всё намешано — пространства, времена... Вот тебе нужно другое время, а мне — другое пространство. И в то же время — у вас угроза из другого пространства, а у меня — из другого времени, пожалуй...
Слушал «Наутилус»? «Утро Полины продолжается сто миллиардов лет...» Мне иногда кажется знаешь что? Что многие певцы, писатели, художники здесь бывают. А чтобы их сумасшедшими не сочли — выдают это за фантастику...
Я притащил охапку жёсткого, пахнущего всё той же пылью ковыля. Разбросал его покучнее, постелил куртку, почти упал сверху и спросил:
— А какая это песня? Я не слышал...
— А вот слушай... — Олег провёл рукой по воздуху — и я вдруг услышал — не очень громко, но отчётливо!!! — как поёт Бутусов:
Я знаю тех, кто дождётся, и тех, кто, не дождавшись, умрёт...
Но и с теми и с другими одинаково скучно идти.
Я люблю тебя за то, что твоё ожидание ждёт
Того, что никогда не сможет произойти...
Пальцы Полины — словно свечи в канделябрах ночей.
Слёзы Полины превратились в бесконечный ручей.
В комнате Полины на пороге нерешительно мнётся свет.
Утро Полины продолжается сто миллиардов лет...
...Когда я проснулся утром — Олега не было. Около меня стояла фляжка, придавившая записку:
Женька, пей воду экономно. Осторожней с немцами, когда дойдёшь. Если у нас всё получится — Тамбовская обл., Фирсановский р-н, с. Марофинка, а там найдёшь.
УДАЧИ!
— Ага, — сказал я, как будто он мог меня слышать. И, осмотревшись, понял, что степь и железная дорога исчезли, да и платформы больше нет. Я лежал на плоском камне, а вокруг поблёскивала от соли пот-рескавшаяся поверхность пустыни. Но на этот раз далеко-далеко впереди виднелась голубоватая гряда гор.
Я обулся, привёл себя в порядок, сделал пару глотков из своей фляжки и, соскочив на твёрдую поверхность пустыни, зашагал в сторону гор, и через пару десятков шагов громко запел другую песню «Наутилуса»:
Пой, пой вместе со мной
Страшную сказку — я буду с тобой!
Ты — я — вместе всегда
На жёлтой картинке с чёрной каймой.
И в руках моих сабля,
И в зубах моих нож.
Мы садимся в кораблик,
Отправляемся в путь —
Ну что ж, мой ангел!..
5.
Идти было нетрудно — если иметь в виду просто ходьбу, поверхность-то ровная и твёрдая, как асфальт. Но! От этой поверхности прямо через подошвы кроссовок пекло, как будто я шёл по горячей плите. Это первое.
Второе — солнце шпарило с ужасающей силой, чуть ли не хуже, чем вчера в степи. Третье — мне хотелось пить, и несколько раз делал по три-четыре глотка. Фляжка Олега оставалось на ощупь прохладной, но в моей вода начинала степливаться.
А впереди качались горы — в такт моему шагу, туда-сюда. Судя по всему, я опять обрёл способность правильно оценивать расстояния и до них было километров пятьдесят, не меньше. А что, если воды нет и там? Тогда капец. Полста кэмэ с двумя фляжками я пройду. Но не больше.
И ещё идти было скучно. Элементарно скучно. Я напевал, разговаривал вслух сам с собой, просто думал, считал шаги (на этот раз — успешно), но всё это мало помогало. Горы с тупым величием торчали во весь горизонт и практически не приближались.
Да и не был я уверен, что попал, куда нужно. Судя по всему, это вполне обычный мир, а не Что-То-Между-Чем-То-Непонятно-Где. И это мир не очень-то похож на 42-й год в Любичах.
Я останавливался, перекусывал, немного пил, отдыхал, садясь прямо на соляную корку — несколько раз. Думал о Лидке и о ребятах, про деда и герр Киршхоффа. И опять о Лидке, вспоминал её. Солнце вскарабкалось в зенит, поползло вниз.
Я шагал, отмахивая рукой, как по плацу, полностью погрузившись в ритм ходьбы. Со стороны гор подул горячий ветер, поднимавший на равнине белые столбы пыли, которые мчались, бешено крутясь, а потом рассыпались облаками, уносившимися с ветром.
Солнце спустилось к самым горам, когда я нашёл ботинок. Это выглядело почти нелепо, я рассмеялся, поняв, что вижу — сперва мне казалось, что это камень.
Но это был именно ботинок — с целым, хотя и потрескавшимся рыжим верхом, позеленевшими пистонами вокруг дырочек и кожаными окаменевшими шнурками с узелками на концах. А вот толстая подошва, надёжно подбитая гвоздями, в нескольких местах безнадёжно протёрлась.
Наверное, поэтому хозяин его и бросил. Ботинок был размера сорокового, не больше. Это наводило на мысли. Но делиться ими всё равно было не с кем, и я, постояв около этого странного предмета, зашагал дальше.
Стемнело — быстро, не как вчера. Верхушки гор ещё светились алым, а за моей спиной встала красная небольшая луна, чуть погрызенная с одного края.
Я шёл — устал, конечно, но не особо, ритм ходьбы был правильный, а пугаться тут было нечего, ровная поверхность, неплохо видимая и сейчас даже как бы светящаяся.
Когда последние отблески солнца на горах пропали, я просто остановился, и, усевшись наземь, начал закусывать. Консервы и сухари плохо лезли в горло, я, подумав, как следует напился и растёр пригоршню воды по лицу — это доставило мне едва ли не большее удовольствие, чем всё остальное.
Подложив под голову сумку, я какое-то время смотрел в небо... а потом оно начало мне сниться. По небу плыли сверкающие белёсые облака — или, может, дирижабли? — а мы с Лидкой сидели, держась за руки, на белой от соли земле, и она что-то мне говорила, что-то очень приятное. Мы начали целоваться, я проснулся рывком и сел.
Солнце ещё не встало. Тут и там над пустыней висели клочья синеватого неподвижного тумана, было достаточно прохладно. У меня ломило тело, особенно поясницу. Вот теперь хотелось есть — и опять пить.
Моя фляжка кончилась. Я долго тряс её надо ртом и в сомнении посматривал на фляжку Олега, но не тронул её, а встал и снова зашагал к горам.
На этот раз меня сопровождали два непонятно откуда взявшихся стервятника — большие и чёрные, они кругами парили надо мной, не отставая и не опережая. Это офигенно раздражало, я достал один пистолет и погрозил им. Ноль эффекта...
Солнце встало у меня за спиной и начало жарить спину и затылок. Я несколько раз оглядывался — но не из-за солнца, а потому что мне казалось: кто-то смотрит на меня холодным и липким взглядом. Именно так — холодным и липким, я не могу лучше объяснить. Самое мерзкое, что некому было смотреть и неоткуда.
Есть ли у той силы, что противостоит нам, что овладела городом Любичи, мозг и цели? Или это просто сила сорвавшегося в пробитую людьми брешь горного потока — бездушная, безразличная и не имеющая разумного приложения?
Знали ли люди из «Аннэнэрбе», что они будили? Договаривались с Дьяволом, подписывали хартию на пергаменте из человеческой кожи кровью невинного младенца — или просто ради любопытства открыли клетку, в которой жил-поживал тираннозавр, сам ничего не умеющий знать и хотеть, кроме желания жрать всё и всех?
Я чувствовал себя маленьким ребёнком, который рос на шикарном охраняемом участке за городом — и вдруг потерялся в вечернем спальном районе нищего русского города. Мир не просто стал иным — он вообще потерял всякие формы.
Но одно я знал точно — эта сила враждебна людям. И мне плевать, сознательно она убивает их — или нет. Меня в это никто не тянул — я сам в это влез, потому что... да какое это имеет значение?!
У подножия гор я различал полоску зелени — яркую и отчётливую, освещённую солнцем. Значит, там была вода. Эта мысль меня подбодрила, даже жара стала ощущаться не так, и жажда отступила. Я аж ускорил шаги, хотя это и было нелепо — до гор оставалось километров пятнадцать, часа четыре ходьбы.
Но тут была и ещё одна причина — усилилось ощущение взгляда, заставлявшее меня оборачиваться всё чаще. Я почти был готов поклясться, что меня преследуют... а что я никого не вижу — так мало ли?
Не всех можно увидеть, к сожалению... От этих мыслей сделалось и вовсе не по себе. Ну, до чего просто мне жилось ещё каких-то две недели назад...
...С километражём я ошибся — до гор оказалось все пять часов, и последние два я просто извёлся: горы, казалось, вообще забыли, что надо приближаться. С их стороны дул ветер, довольно прохладный.
Я шёл и просто так, от нечего делать, думал, где же я, собственно, оказался. Особо гостеприимным мир не выглядел. Может, ребята ошиблись? Как они там сейчас — им-то, по сравнению со мной, туговато. Я-то, если честно, пока ничего опасного не видел...
Около подножья гор росли мощные узловатые деревья с густыми кронами — убей бог, я не знал, какие, но тенистые. В эту тень я ввалился со вздохом облегчения и какое-то время просто стоял, прикрыв глаза и ловя кайф оттого, что солнце больше не поджаривает меня.
Мне очень хотелось вылить из фляжки степлившуюся воду — просто в знак протеста! — но я всё-таки здраво рассудил, что сначала мне надо бы отыскать хоть какой-то источник, чтобы не оказаться в дураках. Мало ли, что зелень — в Австралии тоже бывает, что зелени полно, а воды нет.
Это оказалась не Австралия. Я не успел сделать и десятка шагов — точнее, прыжков — с камня на камень, как передо мной оказалось лежащее в каменной чаше озеро с прозрачной водой. У противоположного края в него падал, разбивая стеклянную гладь, небольшой водопад.
— Ёоооммоойоооо... — даже застонал я, представив себе, как сейчас прыгну в эту благодать, и задёргал ремни.
Я успел сбросить как раз то, с чем расставаться не следовало — пояс с оружием. И услышал спокойный, только чуть насмешливый голос:
— Вода из этого озера может дорого стоить.
Я обернулся — медленно, не желая верить происходящему.
На валуне, с которого я только что спрыгнул, сидела девчонка — рослая, чумазая, чуть постарше меня. Длинные грязные волосы были заплетены в тугую косу, на них сидел берет цвета хаки с подложенным под него белым (серым от пыли и пота) большим полотнищем.
Рукава короткой куртки того же цвета, что и берет, с большими накладными карманами, были закатаны, руки защищали перчатки с обрезанными пальцами. Мешковатые брюки уходили в низкие гетры, а ниже я увидел тяжёлые ботинки неопределённого цвета.
Форму — а это была именно форма — стягивали ремни со снаряжением, на берете я различил — странно! — немного знакомую эмблему: двуглавый орёл — без корон — сидел на венке, обвивавшем скрещенные мечи.
Но самым неприятным было то, что девчонка непринуждённо и ловко держала нацеленный мне в башку автомат — древний и хорошо знакомый всем ППШ с барабанным магазином.
Оружие не дрожало.
— Ну? — спросила девчонка...
6.
Мясо было вкусным, как только может быть вкусным свежее мясо с огня. Держа алюминиевую миску на колене, я только что не урчал.
— Не жгись, — добродушно сказал Олег.
Этот Олег был пониже первого моего знакомого, дочерна загорелый, с тёмными от природы, но выгоревшими до цвета бронзы волосами и карими глазами, казавшимися янтарными.
Скуластый, с полопавшимися обветренными губами, он выглядел младше меня — но это пока не приглядеться. Он вольготно расположился рядом со мной, придерживая коленом ППШ, жуя травинку и не сводя с меня взгляда — вполне благожелательного, впрочем.
Три десятка пацанов и девчонок сидели и лежали на травянистых склонах небольшой котловины по соседству с озером. Несколько человек торчали на самом её верху, внимательно наблюдая за небом. Мне не пояснили, кого они опасаются, а сам я спрашивать не стал.
Они оказались моими земляками, эти парни и девушки, хотя далеко не все из них были русскими — земляками в смысле, что с моей Земли, из моего пространства-времени, если хотите, из города Липска, в двухстах километрах от моей родины, из моего, 200... года, хотя находились тут уже немало времени.
Но этот вопрос я даже не стал выяснять, чтобы сохранить мозги. Не стал я уточнять и то, с кем и за кого они воюют. Все они, так или иначе, попали из моих мест сюда и обратной дороги не знали, смирившись с тем, что дома их считают пропавшими без вести, а этот мир воспринимали уже, как свой17.
Внизу котловины четверо парней — голых по пояс, с оружием в руках — серьёзно и даже как-то истово откалывали старинный брейк в то время, как девчонка — не моя знакомая, а другая — пела полузнако-мое:
Я один!
Я — как ветер!
Я пью земную благодать...
Гаснет день —
И под вечер
Светило тоже хочет спать...
Парни синхронно прыгнули вперёд — двое слева, двое справа — и уже впятером закрутились в завораживающем движении, подхватив припев:
Я прошу — забери меня, мама,
С улиц городских обратно домой...
Я послушным и правильным стану —
Я хочу домой! А здесь я чужой...
Где ты, мой ангел-хранитель?!
Возьми, если можешь, меня к небесам...
Убежал Я из дома!
Бродил по сказочным мирам...
Ночь дрожит раненой птицей
И горит огонь усталой свечи...
Выплывают знакомые лица,
Но им не понять бесприютной тоски...
Я даже есть перестал — столько было в словах и движениях боли... Парни прыгнули назад, опять пела девчонка:
День прошёл
Незаметно...
А я на улице опять...
Над плечом
Спит мой ангел...
Я не желаю погибать!!!
— Пошли со мной, — вдруг предложил я, и Олег недоуменно покосился на меня. Я развёл руками: — Ну... я же вернусь когда-нибудь... И вы со мной...
Честно слово, он с минуту обдумывал мои слова, этот шестнадцатилетний командир. Потом положил руку мне на плечо:
— Да нет, — с неожиданно теплотой ответил он. — Ну, как мы уйдём?.. Мы сначала мечтали... да и сейчас... Но как мы уйдём? — повторил он. — На нас надеются... Мы тебе сейчас адреса соберём! — встрепенулся он. — Ты там... если вернёшься, ты напиши письма. Что живы, просто... ну, не можем вернуться. Пока. Потом, может быть.
— Напишу, честное слово, — пообещал я, недоверчиво глядя Олегу в лицо. Он засмеялся:
— Да ты что, Женька? Ты же сам такой...Ты же не удрал к себе домой, а вот — прёшься куда-то один ради чужих людей... — он потянулся и сказал: — Жаль, что мы тебе помочь не можем. Продукты дадим и патроны, у нас есть парабеллумовские... А вернуться... Ну, если не мы — то кто? Раз уж оказались в этом деле, не бросать же его на полпути? Нечестно...
— Мы, русские, идиоты, — сказал я после долгого молчания. — Ну, на кой нам это чёрт? Ведь не поблагодарит никто...
— А тут не только русские, — он махнул в сторону своих и поднялся. — Дело в том, что мы — люди, вот и всё... Ладно, пойду поминальный синодик составлять. Ты ешь, ешь, а консервы побережёшь...
Он ушёл собирать адреса. А у меня и аппетит пропал. Сколько же, оказывается, людей бродит по тропкам и тропинкам между временами и мирами... А что, если это и моя судьба?
Что, если я не смогу вернуться обратно?! Но почему-то эти мысли меня не напугали уже. Вернее — напугали, но не как раньше, не из-за того, что я могу не увидеть родных, а из-за того, что ребята будут меня ждать напрасно — и погибнут.
Олег вернулся и подал мне, присаживаясь рядом, свёрнутый листок бумаги, исписанный с обеих сторон. Я развернул бумагу. Верхний левый угол листка, захватанного пальцами, украшал логотип — Пётр I работы Церетели.
В ответ на мой недоумённый взгляд Олег пояснил со смехом, положив рядом обе наполненные фляги и потяжелевший рюкзак.
— Вот такой блокнот... Случайно у нас оказался... — он откинулся на локти и вытянул длинные ноги. Опять сорвал травинку. Я, искоса наблюдая за ним, убрал бумагу и спросил:
— Послушай... Оно того стоит?
— Послушай... Оно того стоит? — откликнулся он, и мы засмеялись. Я подумал, что надо бы рассказать ему про его тёзку, встреченного мною недавно — они бы понравились друг другу. Но Олег поднял палец:
— Вот, погоди, послушай... — и почти нетерпеливым жестом предупредил мой вопрос: «Что?»
Кружит спираль тропы.
В спину — огни вослед.
То ли фары судьбы.
То ли надежды свет.
Демона, ангела взгляд?
Истина или ложь?
Может быть, будешь свят,
Может, во тьму сойдёшь.
За тех, кто в пути!
Слышишь, парень?!
За тех, кому вечно идти,
За тех, кто навечно с нами!
Утром студит роса.
К ночи вся куртка в соли.
Огненных дней полоса.
Шаг — от любви до боли.
Путает времена
Нежить, небыль и нечисть.
Но совесть у нас одна,
Злу подкупить нас нечем.
За тех, кто в пути!
За вечность дороги, дружище!
Счастье и вера — жди! —
Может быть, нас разыщут18...
— пела девчонка — уже не та, что танцевала брейк. Я подался вперёд... и тут с верха склона раздалось:
— Дирижабли!!!
Сперва мне показалось, что воцарился хаос. Только через секунду я понял, что нет никакой паники — все бежали куда-то с явной целью, занимали места для боя. Я тоже вскочил; Олег крикнул:
— Беги туда! — и махнул рукой. — Спрячься, потом уходи! Нас не ищи, неважно — отобьёмся или нет! Скорей!
— Я с вами! — закричал я — без страха и искренне. Олег оскалился — и я понял, что он смеётся:
— Это не твоя война!
— Всё равно! — замотал я головой. Меня осенило: — Это же я их навёл, я чувствовал, меня выслеживали!
— Если и выслеживали! — Олег перехватил ППШ. — Если и выслеживали — то, как одного из нас! Беги! У тебя дело!
И я рванул за скалы. Оглянулся, пробежав полсотни метров — невыносимо было не оглянуться.
Три огромных свинцово-серых дирижабля наплывали из пустыни. Сперва мне показалось, что именно такие машины я видел на фотках в альбоме, купленном в том магазинчике... но потом я сообразил, что эти — иные.
Без надписей или эмблем, они ощетинивались пандусами — и на этих пандусах стояли ровными рядами десятки фигур в буром, похожих на расставленных на полках игрушечных солдатиков..
И на фоне этих дирижаблей Олег тоже обернулся, вскинул руку и крикнул мне весело:
— Врежь им там у себя, Женька!!! — а потом повернулся и побежал к своим, взрывая каблуками сочную траву и крича: — Приготовиться! А ну! Целься! Гляди веселей! Не бойтесь, волчата — умирать не страшно!
Я бы, наверное, всё-таки бросился назад, к ним. Но всё решилось за меня — туго загудели, обрываясь, невидимые струны, раздался пронзительный звук — и я увидел, что снова в пустыне.
7.
Это была несколько иная пустыня, хотя на горизонте опять поднимались горы. Под ногами была не соляная корка, а просто серая пыль. Жгуче светило низкое, оранжевое солнце. Небо казалось серым и низким, хотя туч не было. Дул ветер — ровный и несильный.
— М-да, — сказал я, оглядываясь (позади было то же самое), — это снова не Любичи и не сорок второй... Не-ве-зёт...
Но стоять всё равно не имело смысла. Тем более, что километрах в десяти от меня виднелось какое-то здание вроде гаража или ангара. К нему я и направился, поднимая пыль кроссовками.
Я преодолел уже почти все эти километры — страшно нудные, как и все километры на открытом месте — когда из здания вышли и двинулись к горам две человеческих фигуры. Высокий мужчина и мальчик шли рядом — неспешно и уверенно, тем шагом, который характерен для людей, намеревающихся одолеть долгий путь.
Я хотел их окликнуть, но потом передумал. Не потому, что боялся, нет. Просто... наоборот, это наверняка были хорошие люди. Со своей дорогой и своими проблемами — и мне не хотелось опять расстраиваться расставанием.
К тому времени, когда я дошёл до ангара-сарая, они превратились в две маленькие фигурки, почти терявшиеся на фоне гор. И так ни разу и не оглянулись, хотя я ещё долго смотрел им вслед...
Внутри были только пыль, взломанный люк в подвал и какая-то машина, при ближайшем рассмотрении оказавшаяся непонятно на чём работавшим электрическим насосом. Я заменил воду во фляжках и напился. Потом постоял над проломом в полу, раздумывая, спуститься — или нет. Чем-то нехорошим веяло от дыры... И я не стал туда спускаться.
Снаружи темнело, но было по-прежнему тепло, и я устроился на ночлег под внешним навесом. Где-то далеко-далеко в стороне гор загорелся огонь костра, и я смотрел на него и улыбался — меня грела мысль, что там, возле этого огня, сидят люди.
А потом... потом я неожиданно вспомнил! И вскочил, злясь на себя, что не догнал их!
Книжка! Стивен Кинг! Роланд из Гилеада и Джейк! Постоялый двор с насосом, часть первая «Тёмной башни»! Колька Егерь читал эти книжки и нам давал! Господи... так значит, Кинг и правда ничего не выдумал, если только я не сошёл с ума!19 Хорошо, что я не полез в подвал...
Я ещё долго смотрел на этот костёр, пока не уснул. Не помню, чтобы мне что-то снилось. И сам сон был спокойным и глубоким. Но, когда я проснулся, пустыни не было.
Я лежал на скамейке самого обычного городского парка. Надо мной склонялись ветви ивы, похожие на шатёр. Где-то в вышине шумел по листьям дождь.
Я не удивился и не испугался. В конце концов, это могли быть именно Любичи, а значит не пугаться следовало, а просто быть осторожным. Для начала я выпустил куртку поверх ремня с пистолетами и ножом...
...Тут была осень. Не поздняя, но осень, сыпавшая с неба не холодным, не тёплым, не сильным, не слабым дождём. Я шёл по аллеям парка и понимал всё больше и больше, что это не Любичи и, кажется, вообще не жилой город.
И аллеи, и частые скамейки, и летняя эстрада, к которой я как-то вышел, были пусты. И не слышалось ни одного живого звука. Мои часы стояли. Я начал подозревать, что это опять некое чёрт-те-где меду мирами и сердито подумал об отсутствии порядка в канцеляриях, ведающих всем этим.
Как раз когда я так подумал — парк кончился.
Длинная улица «спального района» была заштрихована дождём. Мокро поблёскивали трамвайные рельсы. Тяжело наклонились к асфальту чахлые деревца. Было пусто. И я пошёл через эту пустоту, по нескончаемой дождливой улице.
Я как-то сразу и быстро устал, больше, чем уставал до этого где бы то ни было. Заболела грудь, звук моих кроссовок по асфальту казался противным, каким-то болотным. А что если эта улица никогда не кончится? Может быть, это и есть ловушка — я обречён вечно шагать по этой сырости, сквозь ровный бесконечный дождь?
Это, пожалуй, пострашнее любого другого, что могло со мной случиться... Я поглядел на одинаковые окна одинаковых девятиэтажек. Они смотрели со слепым равнодушием. Небо — бесцветное, серое — казалось захлопнутой крышкой мусорного бака.
Усталость стала непреодолимой, и я тяжело сел на стоявшую под навесом около трамвайных путей скамейку. Хотел поесть, но понял, что не голоден.
В луже на асфальте бесконечно и непонятно почему крутился кусочек полиэтилена — то ли от кассеты, то ли от сигаретной пачки. Я тупо смотрел на него, пока не встряхнулся, услышав шум приближающегося трамвая.
Угловатый, красно-белый, вагон замедлял ход. Двери с коротким шипением открылись. В салоне никого не было, никого не было в кабине, но мне вдруг захотелось встать и войти внутрь. Там решатся все проблемы. Навсегда.
Наверное, я бы так и сделал, но двери дрогнули, захлопнулись, трамвай со звоном набрал ход и исчез в дожде.
А я заставил себя встать и опять поплёлся через морось по улице, у которой не имелось видимого конца — всё новые и новые дома, новые и новые замученные тополя, новые и новые арочные входы во дворы выплывали из мути.
Я пожалел, что со мной нет дебильника — врубить бы сейчас «Memmingem», 3-й концерт «Blackmore's Night», чтобы средневековая плясовая разогнала всё это — серость, сумрак, мокреть... Или — «Play, minstrel, play»... Я заставил себя (какое усилие для этого понадобилось!) напевать вслух:
Play, minstrel, play for me,
Play, unclefather...
И неожиданно для самого себя свернул во двор, под первую попавшуюся арку.
Двор был, как двор — те же тополя, песочница, горки-качели... Я подошёл именно к качелям. Качнул их (они заскрипели), преодолел появившееся вновь желание сесть. И остался стоять, глядя, как с неба планируют мелкие капли, ощущая, что я промок насквозь.
Двери подъездов были открыты, я, двигаясь через силу, подошёл к крайней и заглянул внутрь. Там горела лампочка, на стене было написано:
RAP FOREWER!
Я устало и тупо смотрел на эту надпись, думая, до чего будет обидно, если это окажется последним, что я увижу в своей жизни. Напротив двери лифта виднелась ещё одна надпись:
НЕ СПИ, ЗАМЁРЗНЕШЬ!
Пожалуй, не менее глупая, чем первая. Я сделал пару шагов внутрь, к лифту — и понял, что валюсь с ног. Перед глазами оказался пол из коричневого дешёвого кафеля. Я вытянул руку к лифту, перевалился на бок и закрыл глаза.
8.
Я сидел в ванне. В небольшой, но очень чистой кафельной комнатке — и кафель был не грязно-коричневый, а розовый и мраморными разводами, а вода — тёплой.
Моя одежда, обувь, снаряжение — всё отсутствовало, но с вешалки тяжело спускался махровый халат, а возле ванны стояли пушистые тапки в виде собачьих морд. Терпеть всегда не мог такие.
Так, подумал я. И что это такое? Окажись вокруг лес, горы, пустыня (чтоб ей пусто было) — я бы ощущал себя нормальнее. А в нормальной обстановке — нате вам, опять появилось беспокойство. Доигрался — вернусь домой, спать буду на полу, с пистолетом под рукой.
Если вернусь, конечно. Я вылез из ванной, стараясь не шуметь и прислушиваясь. Что там за дверью-то? Обычная квартира? Или НЕобычная квартира? Или не квартира вообще? Вроде тихо...
Я влез в халат, пихнул под ванну тапки. И всё-таки не уследил, когда и как открылась дверь и весёлый мужской голос спросил:
— Согрелся?..
...Я узнал его сразу и совершенно не удивился. Невысокий, плотный и круглолицый мужчина с чёрными усиками и насмешливыми глазами не раз встречался мне и в телепередачах, и на обложках книг с его фамилией.
А после недавнего фурора фильмов по его романам о воинах Света и Тьмы он был, пожалуй, известен даже неграмотным — и не только у нас в стране.
Другое дело, что фильмы его и большинство его книг никогда мне не нравились. И вообще у меня было сомнение, что это — он настоящий.
Но какао и оладьи с вареньем были настоящие. И квартира — двухкомнатная, через приоткрытую дверь в соседнюю комнату я видел ряды дисков, кассет и книг в шкафу, блеск экрана выключенного компьютера — тоже была вроде бы настоящая.
— Я тебя нашёл на полу внизу, около лифта, — пояснил хозяин квартиры, с удовольствием наблюдая, как я ем. А я уже заметил, что моя одежда сушится над включенной плитой, и тут же лежит оружие и снаряжение. — Как тебя сюда занесло?
Я начал допивать какао, размышляя, рассказать ему всё или нет, растягивая время, спросил:
— А вы... как вы тут оказались?
— Это место, где я работаю, — пояснил он. — Я его сам создал. И тут довольно редко бывают гости.
— Ясно, — отозвался я. — Не слишком уютное место вы создали. По-моему, с фантазией у вас всё в порядке, могли бы и постараться для себя...
Известный писатель без обиды, но досадливо поморщился:
— Ты не понял. Я его специально таким и создавал. Местом, где ничего не происходит. Мне хватает суеты и в каждодневной жизни, и в книгах, которые я пишу.
— А люди, которые сюда попадают? — поинтересовался я. — Они, как же? Похоже, ваш мир тянет из них то, чего ему не хватает — эмоции и жизнь.
— Я никого к себе не зову, — отозвался он. — Хочешь ещё какао?
— Нет, спасибо... — я посмотрел на одежду. — Она ещё не высохла?
— Нет. Может быть, расскажешь, что ты ищешь? Всё равно пока ты тут, я не смогу работать, а больше делать нечего.
Глаза у него были не только насмешливые, но и холодные. Но он был прав — что ещё делать? И он, в конце концов, спас меня — так надо же хоть так его отблагодарить. Я пожал плечами и начал рассказывать.
Очень быстро я понял, что мой рассказ ему неинтересен. Он слушал внимательно и вежливо, но не более того. Скорее уж, его интересовал я сам — и подтверждение этому я получил, как только замолчал. Он хмыкнул, потёр усики и полюбопытствовал:
— Зачем тебе это надо?
— Вы мне верите? — почти удивился я, забыв, где нахожусь.
Он поморщился:
— Верю, не верю... Верю, конечно. Ну, так зачем?
— То есть, как... — я пожал плечами, даже растерявшись. — Ну, как же...
— Да вот так, — качнул он головой. — Тебе-то это зачем? Люди совершают глупости. Ошибки. Расплачиваются за них. Каждый за свои. Но ты-то, зачем лезешь в совершенно чужую историю?
— Да какая же она чужая?! — почти завопил я. — Мой дед...
— Ты его и не знал до приезда. А он тебя обманом в это втянул, — пояснил писатель. — Нечего сказать, хорош родственничек.
— А Лидка?!.
— Таких, как она, у тебя будет куча. Да и не у тебя она, ты же сам говорил, что она больше к этому парню, Петру, льнёт.
— Но остальные — они же мои друзья!
— Друзья... — поморщился писатель. — Глупости говоришь. Не существует такого понятия — «друзья». Ну, победите вы. Разъедетесь. И всё. Случись что у тебя — думаешь, они прибегут? И не подумают.
Я задумался, вспоминая ребят. В его словах была какая-то неуловимая и скучная правда. На самом деле — кто они мне? Я их и знаю-то... Были у меня друзья в корпусе. Много я от них видел сочувствия, когда целый год загибался от серой тоски? Всего-то и навестили пару раз...
А писатель продолжал рассуждать:
— Остаётся, правда, ещё вариант... Самый вероятный. Ты хочешь чувствовать себя героем. Юным борцом со злом и тьмой. А зачем? Зачем ты, ни в чём не разобравшись толком, влез в это дело? И откуда ты знаешь, что выбрал именно ту сторону?
В жизни — не в сказках — всегда неправы обе стороны, вот в чём дело. Кровь, обман, подлость — оружие обеих сторон, а потом победители всегда обеляют себя и очерняют побеждённых, вот и вся философия.
Люди, которых ты хочешь защитить, ничтожества. Пьянь, лгуны, трусы, скрытые подонки, сластолюбцы, взяточники...
А что ты знаешь о тех, с кем борешься? Может быть, если бы ты не торопился их уничтожать, то решил бы, что они достойны жизни куда больше, чем наши соотечественники? А что у них неприятный внешний вид, так это... — и он засмеялся.
— В десять лет ещё простительно верить в Белое и Чёрное. Но в пятнадцать-то... — писатель покачал головой.
Я сидел, глядя в стол. Когда он закончил говорить, посмотрел в окно. За ним шёл дождь. Серый дождь... Серый-серый... И тогда я услышал свой собственный голос:
— Значит, предпочтительней Серое?
— Что? — переспросил он растерянно.
— Значит, предпочтительней Серое? — повторил я. — Недеяние, так это, кажется, называется? Или, по-русски — моя хата с краю, ничего не знаю?
— Ну вот, — он развёл руками, — докатились до народной мудрости... Квинтэссенции человеческой тормознутости...
— Подождите, — прервал его я. — Я у вас в гостях, и всё такое, но вы подождите, пожалуйста... Хотите, скажу, что мне не нравится в ваших книгах? Я только сейчас понял, спасибо вам... Вы не верите в добро. И не только сами не верите, но и очень злитесь, когда кто-то верит.
Потому, что в душе вам стыдно, что вы такой. Что вы разучились различать Свет и Тьму. И, чтобы не признаваться в этом даже себе, вы решили убедить остальных, что Света и Тьмы нет. Но если нет Света и Тьмы, то остаётся только серый дождь, который выпивает из людей жизнь.
Вам в таком мире, может быть, уютно, ведь он вами создан. Но мне он не по душе. Я предпочитаю верить в то, что вы называете сказочками.
И кстати, — я встал из-за стола и подошёл к одежде, — передайте ТАМ, что мы не свернём и не отступим. Что мы не собираемся разбираться в сложном внутреннем мире тех, кто служит злу. Мы их просто уничтожим... Спасибо за оладьи и какао, было очень вкусно.
Писатель больше не говорил ни слова. Он даже не смотрел, как я одеваюсь в ещё сырое, затягиваю ремни... Проверяя карманы, я нат-кнулся на сырой листок с адресами и не удержался, развернул его:
— Вот, смотрите... Я по сравнению с ними — сопливый щенок. Они не путаются в психологии. Они просто сражаются с тем, что считают злом. Ради этого они отказались от дома и близких. Скажите им, что они неправы — вряд ли они станут вас слушать.
— Спустись на лифте, — сказал он, не глядя на меня.— Не по лестнице.
Я так и сделал. А внизу — открыл дверь.
9.
Я стоял на улице, больше похожей на широкую лестницу. Слева и справа в нишах замерли статуи воинов и женщин. Светило солнце, ласково дул ветерок; мимо пробежали двое мальчишек лет по двенадцать, между ними с тугими гулкими щелчками прыгал по широким ступеням хорошо надутый футбольный мяч.
Я проводил их взглядом и опёрся спиной на стену, переводя дух. Покрутил головой, но так и не нашёл той двери, к которой доставил меня лифт из серого мира известного писателя. Наконец, более-менее придя в себя, я развернулся, сделал шаг... и полетел кувырком, запнувшись о какой-то выступ!
Ещё только лёжа, я почувствовал — что-то не то. А, поднимаясь (как ни странно — не покалечился), обнаружил, что левая подошва кроссовки на треть отодрана.
— Ну, вот и здрасьте, — огорчённо сказал я, рассматривая кроссовку. Мне показалось, что она широко и ехидно улыбается. Я сделал несколько шагов — подошва зааплодировала моей решимости.
— Мальчик...
Я быстро повернулся, мысленно поздравив себя с тем, что опять прикрыл курткой ремень. Меня окликнула девчонка примерно моих лет. Юбка до колен, какая-то клетчатая блузка, сандалии и коса. Вот коса была симпатичная — длиннющая, цвета гречишного мёда. А лицо — остренькое, так себе.
Смотрела девчонка с сочувствием. Ещё чего не хватало... Я сердито отмахнулся рукой, раздражённый всем сразу:
— Проваливай.
В глазах девчонки вспыхнули огоньки обиды. Но она показала на мою ногу:
— У тебя порвалась кроссовка? Мой дядя хороший сапожник, он может починить. Правда! И недорого...
Мысль о починке кроссовки показалась мне забавной. Кроме того, я никогда не видел раньше сапожников и мне внезапно стало любопытно... но я помотал головой:
— У меня нет денег.
Девчонка пожала плечами:
— Ладно. Я уговорю дядю. Куда ты так пойдёшь...
— А это далеко?
— Нет, тут, рядом, — она указала в сторону...
...Переулок был похож на узкую щель, прорезанную в холме и облицованную серым камнем. Шаги тут звучали раскатисто-звонко, умножаясь и прыгая между стен, как мяч: «Дзанннгггг...»
Я с интересом оглядывался по сторонам — плиты облицовки покрывала загадочная вязь резьбы: травы, листья... а вот — бегущий олень, волк в прыжке, пёс с крыльями... Это больше походило на музейный зал.
— Какой смысл тут заводить мастерскую? — спросил я и вспомнил книжный магазин — он тоже был не на бойком месте, а какая клиентура?! Девчонка молча шла впереди, перебросив косу на грудь. — Тебя как зовут?
— Нина, — отозвалась она, не поворачиваясь. — Дядя хороший мастер, его все знают. И знают, где его мастерская.
Я снова споткнулся — а когда восстановил равновесие, Нина указывала на дверь прямо в каменной стене:
— Пришли...
...Комната, в которую я вошёл, была, очевидно, когда-то частью потерны. Похоже, что переулок, которым мы шли, в древности являл собой просто фрагмент замковых укреплений на холме, крытый коридор, имевший проходы в боевую галерею-потерну с бойницами.
Позднее перекрытия коридора сняли, а потерну разбили на маленькие комнатки с полукруглыми арками и окнами в виде крестов — всё теми же бойницами. И комната, в которую мы вошли, была полна... зеркал.
Большие напольные зеркала — плиты из тяжёлого литого стекла. Овалы и прямоугольники настенных зеркал в затейливых рамах. Небольшие дамские зеркала в изящных оправах. Настольные зеркала с фигурными откидными ножками.
И из всех этих зеркал на меня смотрел — я. Прямо. Наклонно. И даже вниз головой. Это зрелище просто-напросто пугало, но Нина вошла следом за мной и слегка подтолкнула в спину:
— Да ты проходи, не бойся.
— Кто боится? — тихо спросил я. — Ну, где твой дядя, у меня време...
Громкий печальный вздох сопутствовал шевелению в углу, у столика, полускрытого потрясным трюмо в раме из стоящих рыцарей, сплетавшихся султанами шлемов. Этот столик служил единственным подтверждением тому, что хозяин всего этого зеркального беспредела — в само деле сапожник.
За столиком высилась куча тряпья, в которой я не без труда различил серо-зелёный пиджак, над засаленным воротником коего возвышался нос. Именно нос... точнее — НОС, украшенный двумя пучками волос.
Слева и справа от носа свисали изумительные сивые пряди. На узком пространстве между прядями и носом помещались полные тоски и мудрости глаза.
От изумления я несколько потерял дар речи, не вполне понимая, как это засаленное недоразумение может быть дядей Нины. Она не шедевр, конечно, однако...
— Нашему брата такие везде есть, — вновь вздохнул сапожник. — Да и то сказать — в какую только сторону не кинет бедного еврея, если ему, дай им бог здоровья, добрые люди не дают жить на родине? Я, молодой человек, жил в Польше — ви слышали за такую страну, или вы не из тамьших мест?
Что я сам скажу за Польшу? Хорошая страна, хорошие люди... Меня даже не каждый день били! — он кивнул. — Но потом пришли немци. Боже ж мой! От них можно было сбежать таки куда угодно! Чистому смех, но мне так хотелось жить, молодой человек, шо я сбежал сюда.
— Я... — я поперхнулся. — Но я же ничего не говорил...
— Нет-нет-нет! — сапожник всплеснул руками. — Но когда такой красивый молодой человек смотрит на старого Мойшу Шмуля такими добрыми глазами — шо ж, сразу ясно, ему таки хочется вежливо спросить: «Таки как тебя сюда занесло, старая зараза?!»
— Я... ничего не имел... — покраснел я.
Еврей снова вздохнул:
— Понимаю, понимаю... Так шо ж у молодого человека?
— Дядя Мойша, у него подошва оторвалась, — вмешалась Нина. — И денег нет, ты почини, ага?
— Ага, — вздохнул еврей. — Снова и опять это страшное слово. Почини подошву. Прибей каблук. Переставь голенище. Пошей головку. И денег нет, как будто я не еврей, а русский. Где ви видели, шо еврей работает бесплатно?! Чистому смех! — он снова всплеснул руками.
— Они носятся по улицам так, шо обувь на них горит синим пламенем — я вам это говорю! А кто должен спасать их бедную обувь, шоб их не пороли папы и мамы? Это делает старый еврей Шмуль. За ага. Или за копейки, которых едва хватает на чёрствый хлеб.
Да. Давайте сюда обувь, молодой человек. И садитесь с Ниной на тот топчан. Если б ви знали, какие люди садились на тот топчан, боже ж мой! Ви бы садились на него будто он сделан из чистого золота. Да.
Вздыхая и что-то бормоча себе под нос, он осмотрел поданную мной кроссовку. Я, сидя на топчане, потихоньку оглядывался. Нина присела рядом и переплетала косу, не глядя на меня, что казалось слегка обидным.
— Шо я скажу за эту обувь? — неожиданно спросил в пространство сапожник. — Шо я скажу? Я скажу, шо это не обувь. Обувь была в раньшем времени, когда я шил сапоги из мягкой шевро господам официэрам — ещё таки в Польше. Как они били меня по морде! — он зажмурился и крякнул.
— И как они платили! Генерал Зденевицкий насыпал мне полный правый сапог злотых. Он сказал: «В этих сапогах можно жениться и ложиться в гроб!» — вот так. Но, к сожалению, он уже был женат, а в гроб его не клали.
Ви слышали, молодой человек, что такое Дахау? Нет, ви того не слышали, и то ж ваше счастье! Наверное, мои сапоги носил потом какой-нибудь молодой и красивый эсэс, дай ему бог всего, шо он заслужил... Потом — уже здесь! — я шил на весь отряд Глеба Дикого!20
Ви знаете, молодой человек, кто был Глеб Дикий? Как, ви и того не знаете?! Тогда шо ж ви знаете вообще, я вам скажу?! Эти люди ценили хорошую работу. Они знали, шо сапоги и патроны — вот две важные вещи, а остальное мелочи жизни...
Но увы — у них спрашивает теперь о качестве моих сапог сам Саваоф, ах-ах-ах... — он покачал головой. — Вот, молодой человек. Носите. Носите и вспоминайте старого Мойшу, который никогда не делал плохой работы...
Кроссовка была починена великолепно. Зашнуровывая её, я с интересом спросил:
— Послушайте, а зачем вам столько зеркал? Вы их продаёте? Или собираете?
Еврей, занявшийся каким-то своим делом, вновь обратил ко мне свой нос. И печально спросил:
— Молодой человек, где у вас сердце?
— Я не хотел вас обидеть... — оторопел я, но он меня терпеливо перебил:
— Я таки спрашиваю, молодой человек, где у вас сердце?
— Здесь, — чувствуя себя крайне глупо, я коснулся левой стороны груди.
— Тогда посмотрите туда, — хозяин мастерской ткнул в трюмо. — Нет, ви посмотрите, посмотрите! Похож на вас, правда? Кто это?
— Это моё отражение, — сердито бросил я.
— Так это таки ви?
— Конечно, кто же ещё!
— Тогда скажите мне, молодой человек... — он выдержал паузу. — Скажите мне, ради бога — где у него сердце? И после как сам скажете об этом, спросите себя, почему таки мне интересны зеркала?
В слегка обалделом состоянии я вышел на улицу — и только там заметил, что эта девчонка, Нина, вышла за мной. Я задержался, кивнул ей:
— Спасибо, я бы не знаю, что без тебя делал.
Это, кстати, было правдой. Она тоже кивнула в ответ и сказала, вытянув тонкую руку:
— Иди вон туда. Свернёшь в переулок и не останавливайся, пока не дойдёшь до стены. А там попадёшь, куда надо.
Я хотел спросить, откуда она знает, куда мне надо. Но не стал.
10.
Не знаю, что там думала обо всём Нина. Может быть, я просто тормоз, а её советы были рассчитаны на нормального человека. Не знаю. Зато точно знаю, что я опять ухитрился заблудиться. Хорошо было Олегу Первому — махнул рукой по воздуху, и зазвучал «Нау».
Олега Второго это, похоже, вообще не очень колебало. Но я-то оказался в каком-то саду — именно саду, не парке. Было солнечно, жарко и тихо. Ни одной тропинки. Хорошо ещё, что деревья, как и положено деревьям в саду, росли довольно далеко друг от друга, а кусты встречались нечасто.
Но я всё же сказал несколько многообещающих слов — никому и низачем, просто ругань иногда помогает. И, присев под корявую яблоню, начал есть, вытащив кое-какие припасы.
Интересно, где я сейчас? Кстати, не исключено, что это и есть лето 42-го в Любичах! Эта простая в общем-то мысль меня встряхнула. Я быстро запил хавчик водой и прислушался. Так... Криков казнимых оккупантами не слышно, моторы не гудят, а гудят пчёлы. Предположим... Но будем осторожны.
Будем очень осторожны; почему-то мне кажется, что появление около аэродрома по-походному одетого парня с двумя «вальтерами» немцев не обрадует и где-то даже насторожит. А вступать в перестрелку — не для нас.
Мы пришли и ушли. Вот и вся задача. Ни для кого никакой головной боли, вот наш девиз. Подумав это, я сообразил, что нервничаю и усмехнулся.
Я уверился в том, что это и есть нужные мне места и времена. И даже попросил мысленно извинения у Нинки.
Больше всего мне хотелось ещё немного посидеть и отдохнуть. Но это значило, что, посидев, я решу поспать. А ребята там, тогда, сейчас, может быть, погибают... Эта мысль помогла подняться. А через полминуты я буквально уперся в двухэтажный ветхий сарай.
Он высился посреди небольшой полянки, среди высокой зелёной травы, сочной даже на вид. Чернело большое прямоугольное окно (или небольшая дверь?) под дырявой крышей, через щели в которой разбегались во все стороны тонкие верёвочные провода.
Задрав голову, я почти споткнулся о трухлявую лестницу и подумал: а что, если влезть по ней наверх — и оттуда, как орлу в горах, окинуть зорким оком окрестности: где группируется супостат?
Да, очень боюсь. Но это не страшно, если так можно выразиться. Я скинул в траву рюкзак и поднял лестницу — она пачкала руки склизкой трухой и вполне могла подломиться, когда до верха останется всего ничего. То-то хрястнусь...
Лестница встала, как надо. Я пошатал её и понял, что до меня ей пользовались нередко — на карнизе явно имелись выбоины, в которые она и вошла. Ну, тем лучше... Разговаривают двое «новых русских» у ворот рая. Один другому говорит: «А ты чисто прав был, братан — твоя тачка быстрее...»
— Куда ты лезешь? — спросил я сам себя. И полез вверх.
Лестница прогибалась и многообещающе попискивала, похрустывала и издавала ещё какие-то угрожающие звуки. Я лез и напевал:
Всё выше, и выше, и выше
Стремим мы полёт наших птиц
И в каждом пропеллере дышит
Спокойствие наших границ...
Странно, но сейчас песенка не вызывала у меня отторжения и тоски, а наоборот — помогала карабкаться:
— Вздымая ввысь свой аппарат послушный... йохарный бабайссс! — я уцепился за карниз и вскинул себя внутрь. Но оказалось, что подломилась только верхняя перекладина. — Ссссука, — с чувством сказал я. И, отряхнувшись, начал оглядываться.
Чердак был не такой уж и большой — не во весь сарай, вернее, а так — ничего, солидный и высокий. А осмотревшись подробней, я невольно улыбнулся. Когда-то — года три назад — у нас с ребятами был подобный «штаб» на чердаке одного назначенного под снос дома.
Похоже, как, наверное, похожи все мальчишеские «штабы» — в шалашах, в подвалах, на деревьях, на чердаках... Но тут давно никто не был — вокруг лежал солидный слой пыли. На стене висели мотки верёвок, фонарь, два скрещённых сигнальных флага и какая-то карта.
В углу лежала покрытая мешковиной охапка соломы. Тут же стоял перевёрнутый фанерный ящик. Возле дырявой замшелой крыши торчало большое, похожее на штурвальное, колесо. Над колесом висел самодельный телефон, старый, как из фильмов про начало ХХ века.
Постеров нет. Никаких, даже старых. Так. Похоже, что я точно на месте. Подойдя к окну я, к своему разочарованию, не увидел ничего, кроме зелени садов. Теперь ещё придётся слезать...
Просто ради интереса (и ещё чтобы отдалить этот момент) я снял трубку телефона и — тоже как видел в кино — покрутил кривую ручку. Она зажужжала. А в следующую секунду неожиданно чистый и близкий мужской голос спросил:
— У телефона. Кто это? — и, не дожидаясь моего ответа: — Сейчас иду.
Если сказать честно — я испугался и очень. Трубка прыгнула на рычаг. Я отскочил к окну, едва не свалился наружу, не сводя глаз с аппарата, оказавшегося подключённым!
Потом, по-прежнему не отрывая от него взгляда, перенёс ногу наружу, стараясь нащупать следующую, не треснувшую, ступеньку... и опять чуточку не сыграл вниз, услышав оттуда чей-то короткий свист.
Сидя на краю проёма верхом, я оглянулся. Внизу, около самой лестницы, стоял и улыбался, задрав голову, на которой чудом держалась казачья кубанка, молодой парень в полувоенном — френч, ремень, галифе, начищенные сапоги. Круглолицый, улыбка приятная.
— Ну, здравствуй, — сказал он, кладя ладонь на нижнюю ступеньку. — Что скажешь, если я поднимусь?
— Ну... это, наверное, ваш сарай, — определил я.
— Да уж наверное мой, — согласился он и ловко взлетел к окну — я еле успел посторониться — миновав треснувшую ступеньку. Одёрнул френч привычным движением. А я увидел, что он старше, чем кажется из-за круглого мальчишеского лица.
Даже очень немолодой, лет сорока, наверное. Но глаза были такие же искренние и весёлые, как улыбка. А я вам скажу, это редко бывает у взрослых.
— Я тут... позвонил... и вообще... — почему-то замямлил я, хотя это мне не слишком-то подходило. И удивился, что он не удивляется — пацан с двумя пистолетами, с ножом... А потом я выпалил: — Какой сейчас год?
Он чуть свёл брови, присел на край проёма, закусил зубами былку сена. Пожал плечами:
— Год... Вот знаешь — честное слово, не знаю, какой год... А что ты за человек такой и зачем тебе год? Раз уж это мой сарай и ты сюда невесть как проник непонятно с какой целью — то признавайся во всём.
Он говорил вроде бы строго и даже сурово, но я почему-то почувствовал, как улыбаюсь. Я присел на сено и начал говорить, только теперь обратив внимание, что часы опять дурят — значит, это снова какой-то закоулок вне времени и пространства.
Этот человек слушал внимательно, не перебивая, хотя время от времени мне казалось, что его мысли где-то очень-очень далеко — может быть, вообще он и не слышит меня. Но когда я пару раз прерывался, он кивал и спрашивал: «Так, а дальше что?»
Когда я закончил говорить, он продолжал смотреть наружу. И сказал, не поворачиваясь:
— Знаешь, прохожий человек, раньше я бы и не поверил, может быть. Шёл солдат с турецкой кампании, завернул к скупой хозяйке на постой и давай небылицы плести, чтобы суп погуще был... Но то раньше, а сейчас другое дело. И дело другое, и я другой немного...
— Вот я и не знаю, что мне делать, — признался я, не очень-то обратив внимание на его слова, если честно. — Вроде бы иду, иду, вот-вот — и опять мимо.
— Ну, на этот раз, может и не очень мимо, а почти в точку, — возразил он. — Вообще-то этот сарай раньше стоял в сороковом году. А где сороковой, там и сорок первый... — он почему-то грустно улыбнулся. — А там и до сорок второго недалеко...
— Вы мне можете помочь? — прямо спросил я, поднимаясь и подходя к нему.
Он покачал головой:
— Нет, наверное... Раньше вот это колесо крутнули бы мы с тобой, — он указал на штурвал, — и сбежались бы сюда надёжные люди. А вместе любую беду и обиду, как сухарь в чае, размочить можно. Только ведь вот ты не узнаёшь меня?
— Нет, — честно признался я.
— А ещё Женька, — укорил он. — Забегала сюда как-то девчонка, которую вот так же звали. С неё и началась история с сараем... — я улыбнулся, стараясь не дать ему понять, что не врубаюсь, о чём он. А он неожиданно признался: — Вообще-то обидно. Даже не за себя — за моих ребят немного... — он встал, прошёлся туда-сюда.
Я следил за ним глазами. А он вдруг остановился и широко улыбнулся:
— Вот что, хороший человек Женька. Скажи-ка мне, только правду. Тот, кто в сером дне живёт — во всём ли он так уж неправ был? Зачем ты делаешь то, что делаешь? Только честно отвечай, по совести, как кадет.
— Я не кадет уже... — пробормотал я.
— Ну, это ты зряшные вещи говоришь, — возразил он. — Я вообще кадетов не люблю. Но то другие кадеты были. А вот со мной было то же — попёрли меня из армии по болезни, которой я и не замечал. Уж до того мне обидно было, что и руки опустились.
А потом опять поднялись. Дело ведь можно по-разному делать. Кто стреляет, кто патроны подносит, кто патроны делает, а кто старается, чтобы стреляли, патроны подносили и патроны делали без страха и по чести.
Так, что ж ты себя-то списал, если и правда в душе не изменился вовсе? И кто тебе сказал, что мечту можно больничным штампом прихлопнуть? Так что, говори мне, как кадет — старшему по званию. А что я старший — можешь не сомневаться. Доводилось мне и полком командовать.
— Ну... а что говорить-то? — пожал я плечами.
— А то говори, что для тебя главное и о чём ты думаешь. То ли ты хочешь людям помочь. То ли девчонке понравиться. То ли просто героем стать желаешь. То ли тебе дорога через времена и миры по душе, а о цели ты и не думаешь.
А может — боишься даже, вот и стараешься подольше ходить вокруг да около, наискось да наперекосяк? Я понимаю, что это всё сразу у тебя. Но самое-то главное что? Самое?
Я открыл рот... и задумался. Он был прав, этот незнакомец. Всё сразу — вот, что мной двигало. Я хотел помочь жителям Любичей, на самом деле хотел. Но... ещё мне очень хотелось, чтобы Лидка меня поцеловала, обняла, сказала, что я герой и супер.
И отсюда мне ещё хотелось, чтобы на меня просто смотрели с восхищением, и чтобы я мог сам себе сказать: «Это всё Я сделал, это всё МОИ заслуги, я number first, я крут и мощен!» И... и дорога меня затягивала, мне нравилось идти и смотреть кругом. А последнее — я и правда боялся и не очень знал, что же мне делать, когда я дойду.
И, когда я разобрался со всем этим, то печально сказал:
— И как же мне быть? Выходит и правда — нет никакого добра? А я просто эгоист и трус...
— Тут знаешь, какое дело... — ответил этот странный человек. — Сказать, что добра нет — всё равно, что сказать, что солнышка нету, потому что на него глядеть не получается...
Кто-то глянет — и радуется, что оно такое яркое. А кто-то глянет — и ну бухтеть: «Да нету его, так, блестит там чего-то, клякса какая-то, аж глазам больно!»
— Но ведь... — начал я и вдруг, неожиданно для самого себя, всхлипнул: — Но ведь не получается... дойти! Я же говорю — как будто не пускает кто-то... а это оказывается я сам не пускаю! Я-то думаю... а что это нет никаких чудовищ, всякого такого... а зачем... если из-за меня самого не выходит... если я такой эгоист... и трус... оказывается...
Он не стал меня утешать. Вместо этого подтолкнул к штурвалу и сказал:
— Давай-ка вместе попробуем. Ты только главное думай про то, что людям помочь хочешь. Понимаешь — слава, страх, романтика, даже любовь — это всё неважно, Женька, когда люди страдают. Даже если они и не очень хорошие. И равнодушные.
Может, они потому и равнодушные, что боятся. А ты им поможешь. И вдруг всё изменится? И они тоже... А всё остальное — это не цель. Это награда... Ну?! Давай!
Его руки легли поверх моих. Я не вполне понимал, что надо делать, но честно крутнул штурвал — и...
В лицо рванул ветер. Он швырнул назад волосы и забил дыхание. Зашумело море... или деревья... или воздух загудел под крыльями самолёта.
Я увидел стремительно разворачивающуюся панораму вечернего аэродрома с машинами и людьми, окраин, полутёмных улиц — она рисовалась прямо в стене, которая словно бы растаяла, и дальше прорисовался коридор, в конце которого и открылся сорок второй год.
По бокам коридора клубилась какая-то муть, но я уже видел, что надо сделать всего пару шагов — и рванулся. Обернулся напоследок — человек в кубанке стоял у штурвала, крепко сжимая его и широко расставив ноги.
— Вы кто?! — крикнул я.
Вместо ответа он махнул рукой с улыбкой и я услышал:
— Не отступай! Даже если будет очень страшно — не отступай!
— А вы... — я медлил перед последним шагом, но не от страха уже, нет. — Вы... если надо — вы позовите! Я услышу! Мы услышим! Вы не думайте... — я не договорил, да и не мог договорить, я не знал, что ещё сказать и что я вообще имел в виду. Но он, кажется, понял и просто повернул штурвал...
11.
Я сидел в пыли около забора, через который склонялись ветви яблони. Было темно. Почти совсем. Вечер был. Надо же, не удержался на ногах. Я привстал — и почти тут же перевалился через забор.
Впереди — ну, там, куда я собирался идти — обрисовались силуэты трёх шагающих людей. Они шли как-то так... в общем, я счёл за лучшее смота-ться и с той стороны приник к заборной щели.
Через полминуты люди поравнялись с забором. Я услышал:
— ...данке, ихь хабэ кайнэ лунст21.
— Ихь вюрде герн геен22.
— Унд ихь мёхтэ мир анзеен23... — голоса удалились. Но я совершенно точно рассмотрел, что это были немцы. В форме и с оружием. С винтовками.
Я сел в густую траву и прислонился затылком к доскам, которые противно, насмешливо скрипнули. В сущности, до меня сейчас только дошло, что самое-то опасное мне ещё предстоит!!!
Это же задача для профессионала-диверсанта — пролезть куда-то на охраняемую территорию, что-то узнать... да и то — сколько их накрылось на таких заданиях? Трижды и четырежды чёрт... Может, подкараулить в городе деда — в смысле, Тольку?
Я в первую секунду увлёкся этой мыслью, но потом треснул себя по лбу и замотал головой. Кретинос недоношенный, да если он меня увидит, получится временной парадокс — и кто знает, что там дальше случится?! Всё вообще может пойти наперекосяк...
Нет, мне остаётся рассчитывать на себя. Притом, что немцы со мной церемониться не будут. Да и местные — для них я подозрительный, донесут или немцам тем же, или партизанам. И что тогда?
Со стороны аэродрома доносился рокот моторов. Чудовища чудовищами, но я-то в центре самой страшной войны, вот что правда опасно на данный момент. Я поймал себя на мысли, что совершенно уже не удивляюсь. Отвык-с.
А ещё — у меня начал рождаться план. И, похоже, осуществимый. Вот в чём был его плюс. Минус был в том, что мне не хотелось думать о своей судьбе в том случае, если план сорвётся. А ещё — в том, что меня вышвырнуло не на аэродром. Могло бы повезти...
Ждать нечего, подумал я, вставая. Надо идти.
Я себе уже достаточно хорошо представлял Любичи и, выбравшись на улицу, сориентировался без особого труда. Трудней было понять, какой сегодня день.
Если исходить из формальной логики, то меня должно было выкинуть туда, куда я больше всего хотел. Но я-то хотел просто в Любичи. И всё. Нехорошая мысль появилась: неужели опоздал?! Или ещё хуже: именно сегодня — та самая ночь?!
Как-то раз — ещё до того случая с пацаном на велосипеде, моим тёзкой — я читал в каком-то журнале, случайно попавшемся мне в каптёрке роты, статью одного критика, не запомнил фамилию.
Он нападал на тему подвига и героев в детской литературе, всячески издеваясь над книгами, авторы которых «позволяют детям совершать такие невероятные подвиги, которые не под силу и тренированному мужчине».
В какой-то степени тот автор прав, наверное. Но вот, что делать, если в данной точке пространства и времени никто, кроме тебя, этого подвига не совершит? Сослаться на то, что ты несовершеннолетний? Поздно, батенька, пить боржоми, когда почки отказали...
Значит, остаётся совершать подвиг. Может, тоже книжку напишут.
Не скажу, что Любичи был переполнен немецкими патрулями. Он вообще производил впечатление вымершего. Виселиц и трупов я тоже не заметил. Правда, тут и там белели на столбах и тумбах какие-то приказы и распоряжения — точно, как в кино. Но и всё.
Ещё пару раз я слышал впереди отчётливые шаги и прятался. Не знаю, чего они так громыхают сапогами? То ли себя подбадривают, то ли предупреждают, что надо прятаться... Во второй раз вместе с двумя немцами шагал плюгавенький мужичонка в мундире, с винтовкой — полицай...
Я наблюдал за всем этим из укромных мест с чувством некоторой отстранённости. Меня это не касалось, я не собирался ничего взрывать, поджигать — у меня было своё дело, по большей части и отношения-то к Великой Отечественной не имеющее.
Но вот, когда я увидел полицая, мне захотелось стрелять. И вообще, не хуже, как тем ребятам: остаться здесь — и... Нет, стоп, хватит.
Аэродром был обнесён наглухо колючей проволокой. Ворота в аллею напоминали ворота средневекового замка; возле них непреклонно бдили двое козлов с автоматами наперевес и торчал из какого-то укрытия, сложенного из мешков, пулемёт. Горел прожектор. Такс. Окопались, сволочи...
Я наблюдал за воротами минут десять. За это время часовые ни разу не пошевелились. Я ещё раз разгневался на свою судьбу: ну что ей стоило доставить меня за колючку?! Страха не было — так, лёгкий мандраж.
Скрываясь за кустами, я отыскал речушку — кстати, в этом времени она была шире и быстрей — и, не расставаясь ни с чем из снаряжения, вошёл в воду.
Немцы были не дураки. А может, это ещё до них сделали — но так или иначе, втекавшую на территорию аэродрома речку они тоже перегородили. Правда не колючкой, а обычной сеткой.
Мне и так плыть было нелегко, так что я почти с облегчением нырнул — и обнаружил то, на что надеялся: сетка уходила под воду на полметра. Может, чтобы рыбу не задерживать. Не знаю. Но вынырнул я уже на аэродроме.
Сперва мне это показалось глупым. Любой же так может. Но потом я подумал (бредя вдоль берега и то и дело прислушиваясь), что особой глупости тут нет. Большой отряд таким путём незаметно не проберётся, нечего и думать.
А один отчаянный диверсант — что он, будет бегать по взлётным полосам и крепить к самолётам мины?
Да и не было тут на взлётных полосах никаких самолётов, стояли они по ангарам, а какие были — возле тех суетились люди. Кстати, о светомаскировке тут тоже особо не думали. Наверное, аэродром считался глубоким тылом.
В этот именно момент, когда я рассматривал самолёты, меня начал беспокоить медальон. Совершенно определённо беспокоить: он потяжелел, да ещё как — я приглушённо охнул и встал на четвереньки.
Испугался, что цепочка перережет мне шею... но медальон стал легче — и снова налился тяжестью, едва я попытался двинуться дальше.
Он хотел, чтобы я остался на этом месте. Это было точно.
Я огляделся. Место было ничего себе — густые кусты, сыро, полно комарья. Я сквозь зубы процедил парочку ругательств, сел, привалился к самому плотному сплетению кустов, постарался оставить на воле как можно меньше незащищённого тела — и приготовился ждать чего-то неизвестного.
И уснул. Просто уснул...
...Разбудил меня сырой холод.
Всё вокруг было покрыто росой, включая меня самого. Неподалёку свистели и завывали винты. Журчала вода в речке. Двигаться казалось страшно: я понимал, что, во-первых, моментально промокну насквозь, а, во-вторых — куда я тут пойду при свете дня-то?! Может, надо ждать следующего вечера?
Пока я это обдумывал, тихонько дрожа от холода и не двигаясь с места, неподалёку прошли двое. Я чуть повернул голову: через ветви были видны неясные человеческие фигуры, они остановились сов-сем рядом. Мужской густой голос, старавшийся казаться тихим, спросил:
— Нету никого?
— Тут никогда никого не бывает, — ответил ему мальчишеский, ломающийся такой. — Можно говорить...
— Давай. Что там с этими чёрными?
— В общем, я разговор слышал. Говорили этот мордатый, который в гражданском ходит — и отец Мартина... ну, того фриценёнка. Что я слушаю — не знали, точно.
— Ну-ну?
— Да странный был разговор... — мальчишка вроде бы замялся. — Мордатый говорит: два самолёта будут стоять в ангаре N 31. Полковник ему: у нас всего тридцать ангаров. А тот: а это не ваша забота, да так высокомерно отвечает, не ваша забота, я вас туда отвезу, когда будет надо.
Полковник, я думал, ему в морду даст. Нет, только вроде так засмеялся нехорошо и спрашивает: ну и что? А мордатый ему: будут четыре бомбы. Особые, называются «Серебряный кулак». Их надо будет положить по две с краёв цели. И всё, мол. Полковник тогда: а если что-то...
Но тот ему и договорить не дал, перебил: будет и запасной самолёт, и запасные бомбы, а вы постарайтесь найти надёжного человека, запасного лётчика. И они вышли.
— Да, странноватый разговор... — задумчиво подтвердил мужчина. — Я так думаю, уж не с тем ли самым они чего химичат? А, Толь?
Я обомлел. Мой дед! В пяти шагах от меня стоял мой дед! Ай да медальон! Уж не знаю, кто его делал, но он сработал точно! Ангар номер 31 — наверное, непростой, но Колька должен найти.
По две бомбы с краёв цели — наверное, с краёв того самого прохода на берегу пруда, ребята из «команды очистки» верно решили, вот только обычной взрывчаткой там, похоже, ничего не сделаешь...
И тут я окаменел от одной-единственной мысли. От мысли, которая перечёркивала собой всю ту лёгкость, с которой я получил нужные сведения. И так, окаменевший, провалился совершенно против своей воли — ещё куда-то.
12.
Нет, я не испугался и даже не удивился — уже привык к этим закидонам. Хотя, признаться, в помещении я оказывался впервые — и не слишком приятным было это помещение.
Коридор — узкий, но высокий, до такой степени высокий, что потолок капитально тонул во тьме — освещали два ряда стоящих вдоль гладких, почти зеркальных стен чёрного камня ламп: стоящих в пяти шагах друг от друга чаш на витых ножках.
В чашах пылал огонь. Сильный, я ощущал отчётливый жар. И вот, пока я осматривался, откуда-то из этого коридора прикатился голос — громкий, но приятный и вполне вежливый:
— Проходи, проходи, не стой.
Я пошёл. Достав пистолет — один. Я шёл, и звук моих шагов подпрыгивал к потолку чёрным мячиком. А слева и справа мне чудилось движение, я несколько раз резко оборачивался — чтобы убедиться, что это идут нога в ногу со мной мои отражения.
Мне вспомнилась та зеркальная каморка, где мне чинили кроссовку. Нет, не то. Там было скорей интересно. А тут...
Коридор кончился. И я увидел хозяина этих мест.
Если честно, он соответствовал своему голосу, и это было удивительно. Внутренне я настроился на то, что увижу монстра, чудовище — что угодно. Но в небольшой квадратной комнатке за столом сидел в кресле мужчина лет 30, крепкий, плечистый, вроде бы даже в форме, хотя я не мог понять, в какой.
Лицо его — худощавое, волевое — украшали короткие усы и шрам (именно так — тоже украшал!) над левым глазом.
— Садись, — указал он ладонью на кресло перед собой. — Садись, не бойся.
«Я и не боюсь», — хотел сказать я. Но не стал врать. Вот именно сейчас я и начал бояться. И, перед тем, как сесть, отодвинул кресло в сторону.
Мужчина засмеялся, махнул рукой. На столе стояли тарелки — с картофельным пюре, отбивными, салатом. Стоял высокий графин и длинный стакан. Только что ничего этого не было — а теперь всё стояло. Та-ак...
— Спасибо, — поблагодарил я, убирая пистолет в кобуру. — Я не голоден, — есть мне очень хотелось.
— Это не отрава, — добродушно ответил он. — Незачем травить того, с кем хочешь говорить.
А как потяжелел на моей шее медальон... Потяжелел — и заледенел...
— Ну что ж, ещё раз спасибо... — я коснулся кувшина. — Вино? — хозяин кивнул. — Я не пью спиртного.
— Пожалуйста, — он шевельнул пальцами. — Кока-кола.
Да, там была кока-кола.
— А потом в желудке у меня всё это превратится в цемент? Когда мы не договоримся? — уточнил я.
— А почему ты думаешь, что мы не договоримся? — поинтересовался он. И я по какому-то наитию ответил:
— Потому что с Сатаной не договариваются.
Он не засмеялся. И поинтересовался:
— Ты христианин?
— А разве вы появились одновременно с христианством? — вопросом ответил я. Еда пахла обалденно. Он кивнул:
— Хорошо, пусть так. Хотя с тем же успехом я могу называться персонификацией электромагнитного поля вулкана Кракатау.
— Всё это — ваши шуточки? — мне было страшно, но я понимал, что, в случае чего, сделать смогу не больше, чем мышь против кота. Даже меньше — ни убежать, ни спрятаться... Может быть, именно поэтому и позволял себе шутить.
— Нет, — признался он. И я понял — не врёт. — Когда омела поселяется на дубе, то ей не стоит говорить, что дуб выращен ею. Но если дуб спилить — омела погибнет тоже... Кстати, еда всё-таки настоящая. Ну, да как хочешь, Евгений.
И, невзирая на то, что с сатаной не договариваются — хотя, можешь мне поверить, договариваются, и ещё как! — я всё-таки хочу, чтобы ты выслушал моё предложение. У тебя есть мечта. Одна-единственная настоящая мечта, неистовая и всеобъемлющая...
— Не надо! — вырвалось у меня.
— ТЫ МЕЧТАЕШЬ ЛЕТАТЬ, — невозмутимо убил он меня.
Я обвис в кресле. Обманывать себя не стоило. Он был прав. Я понял, чего я хотел всё это время. Я хотел летать. И только летать. Всё остальное не имело значения по сравнению с этим желанием. Я всё-таки нашёл в себе силы кривовато улыбнуться и спросить:
— И вы можете её исполнить, да?
— И даже не потребую за это душу, — кивнул он. — Да и что мне с ней делать? Деловые люди расплачиваются услугами.
— И какую же услугу я должен... оказать? — последнее слово мне далось с трудом. Я вспомнил свой первый полёт — с инструктором, но те минуты, когда я вёл лёгкий самолётик сам!.. Да, за эти мгновения я бы отдал и душу...
— Сначала посмотри, — он щёлкнул пальцами — и я отшатнулся; мне показалось, что вместо стола возник колодец, на краю которого я сижу. Но это был не колодец. Нет. Это был экран.
По залитой солнцем бетонной полосе шла, пересмеиваясь и переговариваясь, группа людей — со шлемами под мышкой, широко шагая тяжёлыми ботинками на мощной подошве. На чёрных комбинезонах горели многочисленные нашивки.
Они шли вдоль ряда хищных, стремительных машин футуристического вида — тоже чёрных, и на борту каждой пестрели знаки, эмблемы, гербы, которые венчал череп с костями. Ниже шла надпись TUNDERBIRDS, обвивавшая земной шар.
— «Громовые птицы», — прочитал я. И задохнулся.
Потому что в центре группы лётчиков шёл... Я. Да, я. Старше лет на 10-15, но точно я — рослый, мощный, смеющийся, мимо ряда непобедимых машин. Именно так, как я представлял себе! А изображение менялось.
Я видел себя в кабине — зеркальную маску, мои руки, движениям которых была послушна машина. Я вцепился пальцами в подлокотники кресла — самолёт пикировал. Его непревзойдённое оружие крошило на земле какую-то технику, здания, ещё что-то — превращало в пыль, в ничто, в пустоту врагов...
Спасения от меня не было, я знал это!!! От самого звука моей летящей птички рассыпались в прах дома, с них рвало крыши, выворачивало деревья из земли... Я был всесилен!
— Ну, что? — сказал хозяин. — Вот оно — твоё будущее. А взамен — да ничего взамен. Ты просто окажешься в своём корпусе. И будешь здоров.
А обо всём, что было тут — да нет, не забудешь, вспомнишь с усмешкой, как сон. И лет через десять...
Чеканный строй машин в поднебесье. Я слышал музыку марша. Я мчался со своими друзьями над покорной землёй — звук, два, три!!! Воздух пел и отставал, закипал у закрылков белой пеной. Это было упоение...
— Подумай, — (да что он меня уговаривает-то, я согласен!!!). — Вы всё равно ничего не сможете сделать. Ты принесёшь им сведения, да. Но кто поднимет самолёт в небо? А без самолёта оружие бессильно. Твой дед? Ты? Ничего не выйдет.
Ты проделал такой путь, чтобы понять — ничего не выйдет. Ты ведь об этом думал, когда перенёсся сюда, ведь так?! А здесь — здесь твоё настоящее будущее! Твоя цель! Твоя мечта! То, ради чего ты жил!
Да, он был прав. Вот она, та самая леденящая мысль. И наши предки, и викинги — все они представляли себе ад не как самое жаркое в мире, а — как самое ледяное в мире место. Холод куда страшней жара. Холод безнадёжен и обрекающ...
Я же всё равно не смогу поднять в воздух самолёт — а больше некому, так ради чего возвращаться в Любичи?!. И всё-таки... всё-таки что-то было не так. Что-то... какая-то тоненькая, почти неслышная нотка, струнка диссонанса дрожала среди победного марша и рёва непредставимой мощности турбин.
Что-то такое, что не давало мне сказать «да!», заорать «да!»... Что же, что? Я наморщил лоб — хозяин крикнул:
— Ты согласен?!
Слишком нетерпеливо. С истерической прорвавшейся ноткой.
И я — понял.
Я сел прямо.
Я посмотрел ему в глаза — и не смог поймать взгляд.
— Что — там? — спросил я. — Внизу. На земле. Покажите. Я требую показать.
Он съёжился. Нет, честное слово! Он неохотно повёл рукой...
И я увидел.
Улица горела. Рушились здания, выплёвывая в небо страшные фонтаны огня. Металл и пламя рвали в клочья и жгли всё — зелень, камень, воздух, людскую плоть. Страшный давящий вой уплотнял воздух так, что им нельзя было дышать.
Около разорванной надвое женщины ползал маленький ребёнок. Он был без ног. Он звал маму. Бежали горящие чёрные люди. И кто-то — с искажённым лицом, в слезах, открыв рот — стрелял вверх из жа-лкого пулемётика. А потом его не стало — десяток воющих длинных игл разорвал его в клочья.
А пулемёт подхватил голый по пояс юноша — и это был Колька, постарше нынешнего, но — Колька. И начал стрелять вверх — в меня. С грохотом опрокинулся стол. Я встал, и хозяин отшатнулся, вжимаясь в кресло.
— Вы не поняли, — сказал я. — Я мечтаю стать русским лётчиком. Не убийцей с чужими эмблемами на бортах. А русский лётчик сбивает врага в небе. И не за деньги. Вы ошиблись. Всего хорошего. Пусть я никогда не взлечу — но предателем не стану. Предателя не поднимут в небо даже самые мощные крылья.
— Ты не выйдешь отсюда! — закричал он. Его лицо — мужественное и располагающее — текло, как растопленный пластилин.
Я усмехнулся. И шагнул в пустоту, в которой звучал под гитару голос какой-то девчонки:
Нищий закован в латы.
Сытый он — и богатый,
Смеётся он — просто смеётся
Над бедным принцем моим...
Зачем это нужно принцу?
У принца есть шпага — и принцип.
И он защищает принцип,
Прекрасный, как небо, принцип...
А в последний момент — не смейтесь, ладно? — увидел, как навстречу косому чёрному клину в небо с горящей, растерзанной земли взлетели серебристые острые тела других самолётов.
Они мчались — стремительные, грозные, неотвратимые — и я подумал счастливо, проваливаясь куда-то: «Наши!!! Ну — держись, гады!..»
13.
Первым моим ощущением было — как гудят ноги. В них скопилась усталость, от которой даже другими частями тела двигать не хотелось, даже мозги работали со скрипом. Но я всё-таки понял, что снова в степи.
Опять пахло сухой травой, опять раскидывался над головой — точнее, надо всем надо мной, ведь я лежал — небесный купол. Меня прикрывало непонятно откуда взявшееся одеяло.
А справа от меня горел костёр, и я услышал два мужских голоса — хрипловатый сочный баритон и тенор, тоже с хрипотцой и ещё с каким-то металлическим поскрипываньем.
Голоса спорили. И, ещё не вникая в смысл спора, я подумал удивлённо, что голоса мне знакомы, знакомы очень хорошо — но в то же время ни у кого из моих знакомых таких голосов нет.
— И всё-таки знаешь, — доказывал баритон, — это не просто кризис, это коллапс песенной поэзии. Коллапс поэзии вообще.
— У поэзии настоящих сторонников всегда было немного, — возражал тенор. — Я имею в виду не тех, кто в ваше время двери в Лужниках ломал и с раскрытыми ртами Евтушенко на площадях слушал, потому, что модно. Настоящие ценители немногочисленны. Что в ваше время, что в наше, что при Владимире Красно Солнышко.
— Может быть, может быть... Но подобная профанация для масс — это всё-таки яд. Вместо того, чтобы постараться донести до людей что-то значимое — потакать вкусам даже не толпы, а стада — это не путь, это тупик...
Я осторожно повернул голову, пытаясь понять, кто там треплется «за поэзию» и чем это грозит лично мне. Около небольшого костерка сидели спинами в мою сторону двое мужиков, я видел только силуэты и грифы гитар, у того и у другого. Баритон между тем сказал со смешком:
— Итак — «весь я не умру», — отвечая на непонятную реплику тенора. — Утешение всё-таки... Что там наш подопечный?
Они обернулись разом, свет костра упал на их лица, и я сел. Зажмурил глаза. Потряс головой. Открыл глаза.
На меня смотрел растрёпанный, небритый, посвёркивающий стеклами круглых немодных очков и саркастически улыбающийся Юрий Шевчук, лидер ДДТ. И на меня же смотрел крупноголовый, довольно-таки длинноволосый, с резкими чертами лица Владимир Высоцкий.
— Господи, — сказал я и снова зажмурился...
...— Мелодии цветов, потерянных в начале...
Я помню эти ноты, похожие на сны.
Скажу вам, как Любовь с Бродягой обвенчалась,
Связали их дороги, хрустальные мосты.
«Прекрасная Любовь, нам праздновать не время!
Багровые закаты пылают над рекой!
Идём скорей туда, где ложь пустила семя
И нашим миром правит уродливой рукой!
Прекрасная Любовь, там ждут тебя живые!
Так дай себя увидеть тем, кого ведут на смерть!
Там по уши в грязи, но всё же не слепые —
Дай разум и свободу, дай чувствам не истлеть!»...
Прекрасная Любовь влетела птицей в город —
И плакал, видя чудо, очнувшийся народ!
Трон Зла не устоял — бежал разбитый ворог,
Да жаль: погиб Бродяга у городских ворот...
Шевчук пристукнул по гитаре и повторил негромко:
Трон Зла не устоял — бежал разбитый ворог,
Да жаль: погиб Бродяга у городских ворот...
Мы пили чай из одной кружки. Я обжигался, недоверчиво крутил головой, время от времени ловя себя на том, что начинаю совершенно дурацки улыбаться.
— А мы тут, как обычно, мини-фестиваль бардовской песни проводили, — сказал Шевчук. — Глядим — кто-то валяется. Подошли — а это ты. Ну, мы тогда не знали, что это ты... — он усмехнулся.
— Я, — довольно глупо кивнул я. — Вот только, кажется, я опять заблудился. А мне поскорей надо...
— Что такое «поскорей» здесь? — философски спросил Высоцкий. И ударил по струнам:
Темнота впереди: подожди!
Там стеною закаты багровые,
Встречный ветер, косые дожди
И дороги — дороги неровные!
Там чужие слова,
Там дурная молва,
Там ненужные встречи случаются,
Там сгорела, пожухла трава
И следы не читаются — в темноте!
Там проверка на прочность — бои,
И туманы, и ветры с прибоями!
Сердце путает ритмы свои
И стучит с перебоями...
Там чужие слова,
Там дурная молва,
Там ненужные встречи случаются,
Там сгорела, пожухла трава
И следы не читаются — в темноте!
Там и звуки и краски — не те,
Только мне выбирать не приходится.
Очень нужен я там — в темноте...
Ничего — распогодится!!!
Там чужие слова,
Там дурная молва,
Там ненужные встречи случаются,
Там сгорела, пожухла трава
И следы не читаются — в темноте!
— Держи! — он протянул мне гитару. — Подаришь этому своему приятелю.
— Тону, — задумчиво сказал я, принимая гитару. И коснулся струн — просто так, низачем. Я же не умел играть.
Но этого оказалось достаточно.
Часть 4. Крылья над аэродромом
1.
Я себе не раз представлял, странствуя, как мои друзья сражаются там, в ангаре, бьются из последних сил... А они — пили чай. И это было до такой степени неожиданно, что я даже обиделся.
Больше того, в первые секунды они вообще на меня внимания не обратили: я почему-то вывалился на лестницу, уводившую к верхней галерее, уже держащийся руками за перила — и тоже в первую секунду не поверил своим глазам.
А ещё я понял, что медальона на мне больше нет.
Первым что-то почуял Колька — он вскинул голову, увидел меня, растерянно озирающегося, и буквально завизжал:
— Жжжжженьньньнка-а!!!
Они ломанулись на лестницу. Я прыгнул им навстречу и заорал:
— Чай пьёте, сволочи?!
В следующую минуту никто ничего не говорил — все старались сделать мне как можно больнее, кто-то даже ущипнул, а Лидка поцеловала. По-настоящему. И на этом торжественная часть закончилась.
— Мы тебя уже полсуток ждём, — проворчал Петька. — Гитара-то откуда?
— А, да! — я снял её со спины и передал Тону: — Держи. Это тебе от Высоцкого. Без балды... — и, игнорируя его изумление, спросил: — А что снаружи?
— Да ничего, — пожала плечами Лидка. — Как ты ушёл — как отрезало. Ни ветерка, погода отличная... А ты что, так быстро управился? Или... — она прикусила губу. — Что, ничего не вышло?
— Не полсуток, а несколько суток, — сказал я. — Только я все красочные подробности — потом, ладно? Чаю налейте и пожевать что-нибудь...
— Погоди, — Тон держал гитару, — в каком смысле она от Высоцкого?
— В прямом, — я активно пробивался вниз, к столу. — А что до прочего — то всё получилось. Вот об этом сейчас и поговорим. Только я поем и попью, я больше не могу, честно-о!
— Можно есть и рассказывать, — заметила Лидка.
Колька подал голос:
— А меня всё учит, что с набитым ртом разговаривать неприлично.
Не знаю, прилично это или неприлично, но я, конечно, стал говорить с набитым ртом. И, по мере того, как я говорил, лица моих друзей становились всё более и более обречёнными и разочарованными.
— Вот так обстоят дела, — облизал чайную ложечку и откинулся на спинку старого вертящегося стула.
— Хреново, — подытожил Петька.
— Почему? — я не отказал себе в удовольствии разыграть дурачка. — Думаете, не доберёмся туда?
— Доберёмся! — энергично закивал Колька. — Я знаю это место! Дойдём, точняк!
— Можем и не добраться, — рассудительно заметила Лидка. — Но не в этом дело, Жень...
— А в чём же? — идиотничал я, мысленно переполняясь восторгом.
— Да в том, что самолёт-то у нас поднимать некому, — печально сказала Лидка. — Я чего-то такого и боялась, если честно... Даже если он там стоит в полной боевой и ждёт — что мы можем?
— Вы — ничего, — согласился я. — А я?
Они посмотрели на меня — все четверо. Я улыбнулся:
— Ну, чего уставились? Я-то, на что?
— Не, погоди, — помотал пальцем Петька. — Ты же это. Больной.
— У-ти-ё-о! — пропел я. — А то я не знаю.
— Ну и как же?.. — не понимал он.
— Левым каком через правую каку, — пояснил я. — Мне туда только дойти, а там... как-нибудь взлечу.
«Взлечу — а садиться, может быть, и не обязательно, — подумал я. — Толька мама будет плакать... Матери всегда плачут. Но есть же вещи, которые надо делать. Несмотря ни на что».
Я побоялся, что от этих мыслей размякну — и бодро встал:
— Ну что, пошли, что ли?
— Нет, погоди, — покачал головой Тон. — Завтра к полудню. Сейчас по домам пойдём. Подготовимся.
— Вам виднее, — согласился я. — Думаю, у меня дома засады нет.
— Проверим, — пообещал Петька. — Может это — с тобой переночевать?
— Если... — я хотел сказать «Лидка», но это было бы пошло и глупо, и я закончил: — ...что — покричу.
Мы дошли до аллеи безо всяких происшествий. Но я чувствовал — всё вокруг напряжено, как напряжён перед схваткой борец. И если сейчас нас выпустили — это не значит, что выпустят и завтра.
Мы постояли около ворот. Тон спросил меня:
— Ты правда видел Высоцкого? — я кивнул. — Ну что, я был в этом убеждён, — немного непонятно закончил он и ушёл первым, не оглядываясь.
Потом ушли Петька с Колькой. Вот Петька пару раз оглянулся, и это было понятно — мы-то с Лидкой всё ещё стояли вместе. Но он мог не беспокоиться — я не знал, о чём говорить. И облегчённо вздохул, когда она спросила:
— Ты правда... сможешь?
— Смогу, — твёрдо сказал я.
— Он же старый. Там все приборы другие.
— Все приборы одинаковые, только надписи на другом языке. Тогдашний истребитель — это всё равно, что нынешний спортивный само-лёт. Справлюсь.
— А там... — он показала подбородком вверх. — Если тебе станет плохо... тогда, как же...
— Можно я тебя поцелую? — спросил я.
Она закрыла глаза. Мы поцеловались. И ещё. Я нацелился на третий раз, но Лидка открыла глаза, отстранила меня и сказала:
— Бог любит троицу. Завтра прилетишь обратно за третьим.
— Договорились, — сказал я...
...Я лёг спать как обычно. В смысле — не прятался под кровать, не оставлял гореть свет, не клал под подушку нож. В доме было тихо и пусто, но не страшно.
Хотя какая-то жизнь в нём всё-таки оставалась, но это была не враждебная жизнь. Прозвенел колокольчик. Что-то сказал весёлый голос. Чьи-то шаги простучали в соседней комнате.
Я был не один — и уснул с этой мыслью.
2.
Одному дома было страшно. На самом деле страшно, это был унизительный, тошнотный страх. И самое дикое, что навалился он утром, при свете, не в ночной темноте...
Я ощутил его, едва проснулся. Мне казалось, что солнечный свет душит меня, что он насыщен пылью. В окна я видел, что улица пустынна. Нет, не так. Люди на ней появлялись довольно часто.
Но они не заговаривали друг с другом и вообще делали вид, что не замечают друг друга. Все они спешили в сторону города, и я понял, что многие перебираются к родне или просто в гостиницу. Подальше от улицы, которая сегодня погибнет.
Они чувствовали это. И спасались, как крысы с тонущего корабля. Это было гадкое сравнение, но иного не приходило на ум при виде этих молчаливых спешащих группок. Это была их улица, их город, но они даже не пытались его защитить. А завтра все будут делать вид, что ничего не случилось.
Я привёл себя в порядок — тщательно, аккуратно. Потом — просто чтобы как-то занять время — попытался позвонить в больницу, но в телефоне перебивали друг друга радиоголоса из сороковых годов, и я понял, что, в сущности, эта улица уже не принадлежит нашему времени... и миру.
И что, если я не уберусь с неё немедленно — то всё. Меня не будет. Или случится что-нибудь ещё более страшное, чем смерть. Теперь я был уверен, что такие вещи есть.
Я бы не выдержал и сбежал, продлись это страшное ожидание ещё хоть полчаса. Но как раз когда я опустил на место телефонную трубку и взглянул в окно, я увидел ребят.
Они шли посредине улицы, как в кино, но это было совсем не смешно и не по-киношному. Шли неспеша, но было видно, что это не от нерешительности, а просто потому, что спешить некуда — время ещё есть и всё решено.
Лидки с ними не было, но мой страх, беспокойство и неуверенность отхлынули разом, и я выскочил наружу, их встречать.
Всё было как-то церемонно и чинно. Мы молча поздоровались за руку. Они — все трое — были в камуфляжах, лёгких спортивных кедах-берцах, с рюкзаками. Тон — с гитарой.
Пока я провожал их в дом, появилась и Лидка — тоже молчаливая и так же одетая. Она принялась готовить завтрак, хотя мне есть не хотелось. Мы уселись в зале — сперва молча, потом Тон подыграл себе на гитаре...
Начинается
плач гитары.
Разбивается
чаша утра.
Начинается
плач гитары.
О, не жди от неё
молчанья,
не проси у неё
молчанья!
Неустанно
гитара плачет,
как вода по
каналам — плачет,
как ветра
над снегами — плачет,
не моли её
о молчанье!..24
— Спой про тополя, — попросила из кухни Лидка. Тон кивнул...
И тополя уходят...
Но след их озёрный светел.
И тополя уходят —
Но нам оставляют ветер.
И ветер отхлынет скоро,
Укутанный чёрным крепом...
Но ветер оставит эхо,
Скользящее вниз по рекам.
А мир светлячков нахлынет —
И прошлое в нём потонет,
И маленькое сердечко
Раскроется на ладони...25
Лидка поставила на стол кофейник с крепким кофе, тарелку с бутербродами, высыпала таблетки:
— Нам по три, Кольке две, — сказала она. — Это беньки26. Один раз можно. Съедим перед выходом.
— Мне нельзя, — покачал я головой.
— И мне, — сказал Колька. — Запутаюсь.
— Ясно, — Лидка убрала пять таблеток, остальные разделила на три кучки.
Молча ели бутерброды, запивали кофе. Потом ребята начали потрошить рюкзаки — и одновременно мы обвешивались поверх надетых жилетов на липучках мотками верёвок, фонариками, самодельными гранатами, ножами...
Петька сунул в петлю на поясе обрез повесил за плечо самодельный огнемёт, я оставил себе пистолеты, у остальных оказались по два арбалета, у Лидки — ещё «вальтер» и пистолет-электрошокер.
Я выложил на стол список, составленный ребятами Олега Второго. И поклялся себе, что, если вернусь, обязательно напишу по адресам. Не знаю, что — но напишу...
— Съели, — скомандовала Лидка. Они проглотили таблетки, запили остатками кофе. — Встали, — дала она другую команду. Но её мы выполнить не успели.
— Сидеть! — раздалось от двери.
Мы разом повернулись ко входу.
Там стояли двое милиционеров — молодых парней, целившихся в нас из пистолетов.
— Руки за голову! — прокричал один из них, как будто мы стояли метров за сто от него. Мы, переглядываясь, выполнили команду. Второй снял с ремня рацию:
— Да, взяли... Кто звонил — не выяснили?.. Все с оружием... Есть везти.
— Чёррррт! — прорычал Петька, пригибаясь к столу.
— Выходим по одному, — приказал первый. — Лишнее движение — стреляем. Попались, щенки, вовремя о вас сообщили...
— Вы что, рехнулись?.. — начал я. — Мы...
— Молчать! — прокричал тот же. — Ты первый!
— Иду, иду, — раздражённо ответил я.
Говоривший по рации вышел первым, я за ним, не глядя на ребят. Милиционер ждал меня около УАЗика с открытой дверцей, продолжая целиться, а другой рукой держа наручники. На улице не было никого. Солнце скрылось за низкими тучами. Тучи отсвечивали болезненно-жёлтым...
— Падай!
Я упал реньше, чем сообразил, кто кричит. Послышался короткий треск электрического разряда. Милиционер у двери сделал судорожное движение и осел в пыль. На крыльце появилась Лидка — она держала в руке разряженный шокер, стреляла прямо из сеней. Следом Тон и Петька вытащили бессознательное тело второго стража порядка. Колька бережно положил ему на живот кепи.
Мы упаковали обоих в УАЗик и захлопнули дверцу. А когда осмотрелись — то увидели, что улицу заливает белёсая муть.
Аэродром пошёл в наступление.
3.
Никогда не любил туман. Намного больше, чем темноту, дождь или снег. Туман крадёт и искажает даже привычные вещи — руки кажутся не своими, чужим — голос, коверкаются расстояния. Мы успели сомкнуться кольцом — и нас затопила волна ватной глухоты. Петька потыкал стволами обреза и хмыкнул:
— УАЗика нету... Куда идти, Коль?
— Сюда, — Колька провёл ладонью наискось сверху вниз. — Сюда надо.
Тон и Лидка молча заняли места по бокам и чуть позади от него. Я оказался в середине, Петька — за моей спиной. Непонятно было, что у нас под ногами — трава не трава, песок не песок... Но что мы не на Знаменской дороге — было совершенно точно. Я достал пистолеты.
Из мглы выступила какая-то стена... нет, это был борт бронетранспортёра. В том месте, где когда-то красовался крест, сейчас видна была вмятина с трещинами от центра. Как будто кто-то саданул туда кулаком. Вот только каким кулаком надо так бить? Мы прошли мимо — и над нами навис свод. Каменная арка.
— Не... сюда, — трудно сказал Колька. — Я сейчас, погодите.
Мы замерли. Зря замерли. Стало слышно, как шепчет туман. В этот шёпот не получалось не вслушиваться, хотя вслушиваться было нельзя, я это понимал.
— Сюда, — сказал Колька.
Но Петька не двинулся с места:
— Не слышите? — спросил он. — Зовут. Мама зовёт!
Я увидел, что у него на глазах слёзы. И растерялся. Но Лидка, не покидая своего места, сказала:
— Петь, там никого нет.
— Я знаю, — сказал он. Помотал головой с ожесточением. — Я знаю. Пошли дальше. Пошли скорей, ну?!.
«А меня? — подумал я. — Кто и когда позовёт меня?»
Не думать. Легко сказать.
Не знаю, сколько мы блуждали среди туманных струй и водоворотов. Меня никто не звал, но ребят и Лидку окликали голоса, которые слышали только они — я видел это по их лицам. Может быть, в конце концов, они бы этого не выдержали, но...
Рванулся ветер. Мы пригнулись, он коротко свистнул — и тумана не стало. Вообще не стало в обозримом окружении. Мы стояли на равнине — или, скорей, в каменной чаше. По кругу — километрах в двух от нас — высился пояс острых гор.
— Куда мы попали? — спросила Лидка. Колька сморщился, потянул воздух сквозь зубы:
— Я не знаю… я сейчас... я разберусь...
— Коль, ты разбирайся поскорей, — попросил Тон почти ласково, — потому что вон почётный караул.
Это он слабо сказал, если честно.
Я не знаю, откуда они взялись, эти существа. Не такие, которых я видел в аллее. Эти были — сплошные зубы. По крайней мере, куда бы я не смотрел, видел только зубы и не мог даже определить, к чему они прицеплены, так сказать.
— Сели! — коротко скомандовал Петька. И, когда я присел, над моей головой с длинным выдохом пронёсся хлыст пламени. Петька выдал его вкруговую — кажется, у него в баллонах был бензин, загущённый сахаром. И пояснил: — Это длиннолапые зубастики, они боятся огня.
Зубастые отпрянули. Они оказались небольшие — мне по пояс, с маленьким туловищем, скрюченными ножками и длинными когтистыми лапами, тощими, но жилистыми. А башка — и правда одни зубы... И было их столько, что стрелять — только патроны тратить.
— У меня ещё два баллона, — предупредил Петька шёпотом. Я видел снизу его потное лицо и суженные глаза.
— Сюда! — вскрикнул Колька, бросаясь очертя голову, как мне показалось, прямо в гущу этих существ. Я рванулся за ним первым... и еле удержался на краю пропасти — Тон вцепился мне в плечо и отшвырнул назад, к металлической стене, около которой мы оказались.
Колька висел в метре ниже, держась за какую-то красную железку. От его рук шёл дым. Глаза Кольки были огромными. Я ещё и сообразить ничего не успел, а Петька, упав на краю, протянулся вниз и каким-то невероятным рывком выбросил Кольку обратно.
А до меня только теперь дошло, что железка была раскалена. И что стена позади нас тоже постепенно накаляется.
Колька коротко заорал и умолк, дрожа всем телом и растопырив пальцы. Лидка занялась его руками.
Мы были на карнизе — а правее нас через эту пропасть перекидывался арочный мост. Без настила — голые балки-прутья. Я краем глаза посмотрел вниз.
Не страшно, потому что дна всё равно не видно... вот только из этой ямины поднимались по стенкам зыбкие серые силуэты. И в каждом сторожко горели два обращённых вверх огонька.
— Быстро, через мост! — скомандовал Тон. Я хотел его спросить, зачем он взял гитару. Но вопрос был глупый, что уж...
Первые из них добрались до верха одновременно с тем, как мы добежали до моста. Я увидел, как на край выбросились длинные коленчатые щупальца, появилась серая башка с длинным хоботком — и выстрелил, не задумываясь. Башка исчезла, лапы соскользнули.
Щёлкнул арбалет — Лидка стреляла на ту сторону. Я не сразу сообразил, зачем — и только потом увидел, что она крепит свой конец верёвки, привязанный к стреле. Сама стрела, хитро срикошетировав, заклинила между стоек.
Придумано было отлично — по верёвке, перебирая руками и ногами, мы гораздо быстрее оказались на той стороне. А если бы пошли, перебираясь по фермам, то эти, с неприятными хоботками, оказались бы там раньше нас.
— Кто это такие? — спросил Петька. — Ты таких видел, Женёк? У нас таких в классификаторе нету.
— Нет, — ответил я. — Я там вообще особых чудовищ не видел.
Разговаривать дальше было некогда. Следом за Колькой мы пробежали через узкое ущелье (меня доставала мысль, что стены сейчас начнут сдвигаться!) — и вбежали в день, на аэродром.
Не было ни тумана, ни раскалённых стен, ни чудовищ. Была бетонная дорога. И в конце неё — ангар. Совсем недалеко. Я узнал этот ангар. Колька вывел нас правильно, хотя сам раньше его никогда не видел.
— Бежим! — крикнул Колька. И на дорогу хлынул огонь.
Он был живой и плотный. Он забушевал сразу повсюду. Бурьян пылал. Пламенный свод сомкнулся у нас над головами. Тонкие, красивые плёнки пламени прорывались в щели между плитами.
Мы побежали. Я не знал, горю или нет, и если нет — то почему. Я вообще ничего не должен был знать, только то, что надо бежать — бежать вперёд, к ангару. И ещё — что человек может пробежать через огонь.
Может. Я добежал первым и с размаху врезался в ворота. Они отбросили меня с гулким «бумммм». Кто-то кашлял. Кто-то шумно тушил горящую одежду. Петька подошёл к воротам, пнул их, что-то пробормотал и, присев, начал минировать, аккуратно растягивая запальный шнур и цепляя гранаты.
— Осторожней, — сказал я, озираясь. — Не повреди там...
— Отстань, — огрызнулся он без злости. — Отходим! — и бросился к кустам. Мы тоже отскочили и присели.
Взрыв треснул сухо и как-то несерьёзно. Но ворота постояли и свалились внутрь — с едва ли не большим шумом, чем при взрыве.
— Отныне и впредь, — хладнокровно сообщил Петька.
— Женька, скорей взлетай! — закричал Тон. Я хотел ему сказать, что торопиться надо медленно — и вдруг понял, почему он кричал.
Нет, чудовищ по-прежнему не было. Просто от дальнего края поля катился в нашу сторону вал сворачиваемой земли. Словно какой-то великан скатывал её, как коврик.
— А вы?! — вскрикнул я, не двигаясь с места.
— Взлетай! — Лидка встала между этим валом и ангаром. Раскинула руки. Слева от неё встал Петька, рядом с ним — Колька, справа — Тон с гитарой наперевес. Смешно?
Но вал остановился. Вздыбился на высоту трёхэтажного дома. Распух. Лопнул, извергая невероятное количество дурнотных существ, выходцев из худших моих ночных кошмаров. Они стали медленно охватывать ангар кольцом.
И я бросился в ангар, уже не оглядываясь и слыша, как позади загремели выстрелы и фыркнул огнемёт Петьки. Мои друзья вступили в бой...
...Оба «мессера» были здесь. Они стояли крыло к крылу, новенькие, готовые к использованию. Под крыльями у них висели бомбы — по две пятидесятикилограммовых. И на каждой бомбе было написано причудливыми буквами: Silberfaust
— Оно, — выдохнул я. Сбросив жилет, который теперь мог только помешать, со всеми его причиндалами, махом взлетел на крыло ближнего истребителя. Рванул колпак... что такое?! Ах, да, они же откидываются...
В ангар влетела шестилапая мразь размером с лошадь, вскинула гребенчатую голову, откинулась, разглядывая меня. Следом просунулся Тон, щёлкнул арбалет, тварь рухнула и забилась, дымясь. Тон крикнул:
— Женька, давай же! Их тут тьма! До дождя не уберём...
Его что-то ударило. Что-то, похожее на хвост. И он исчез... Не смотреть. Дело. Дело. В кабине пахло мёртвой кожей, пластиком и металлом. На сиденье лежали краги. Я закинул колпак. Надёрнул перчатки.
Страшно много времени — три, пять, десять секунд — смотрел на панель управления, понимая, что тут всё не так и я никогда в этом не разберусь. Потом всё стало на свои места. Приборы сделались понятными и близкими.
Ещё секунда — прикрыть и открыть глаза. Панель ожила. Вибрация. Гул. Мои руки сами делали нужные движения. Перед носом, где только что находился винт, повис размазанный серый диск. Гашетки...
Я дал полный залп из всего оружия, и стена ангара перестала существовать.
Создан, чтоб летать, подумал я и повёл истребитель вперёд.
Я долечу. По крайней мере — долечу туда. Обязательно.
На себя! Отрыв! Я в воздухе! Но порадоваться не было времени.
Что-то царапнуло по крылу — ого, тут что, и летающие есть? Есть, а как же, вон они... ну и дрянь, это же дракон! Настоящий дракон! Та-та-та-та-та! Та-та! Так, берут их простые пули — или тут и пули не простые? Слева — ещё две! Ну, а вот вам высший пилотаж! Бочка — уууухх!
Сердце рванулось из груди. Лопнули рёбра. От страшной боли я ослеп и понял — всё. Умираю. Вот так. На взлёте. Последнее желание сбылось...
Сквозь красную пелену, уже прочно застилавшую глаза, я видел стрелку альтиметра: 800... 700... 600... «До земли — триста метров. Сейчас будет поздно!» — мелькнула строчка Высоцкого. Когда я умру — я увижу его?
А другие?
Странно: я подумал не о маме, не об отце — они оставались жить, пусть и без меня. Но погибнут ребята у ворот ангара. Умрут в больнице дед и герр Киршхофф (я точно это знал!) И кто знает, сколько ещё людей сожрёт разгневанный отпором неизвестный мир, ползущий через аэродром?
А где-то презрительно усмехнётся Торговец — он-то знал... И порадуется Хозяин, так ловко вползший мне в душу... И пыль будет оседать на чердаке с рулевым колесом... И кто знает, что ещё случится, если я сейчас умру в воздухе?!
Я должен долететь. А потом — пусть. Я сжал боль и застилавший мозг туман в кулак каким-то самому мне неведомым усилием воли. Так срывают на моторе заводские стопорные пломбы, чтобы он дал больше мощности, чем записано в проектах, позволил выиграть метры, секунды — и летел к чёрту, уже не важно.
«Мессер» мчался не в трёхстах метрах над землёй — ниже. Эти твари отстали, и я видел — пруд. Тот самый. N3.
На его берегу пульсировала, билась, как страшное сердце, воронка тьмы — проход. «Портал», — мелькнуло слово. Цель, которую так и не успел поразить полковник Киршхофф. Дверь, открытая самонадеянным мерзавцем...
Справа и слева. Бомбы должны лечь справа и слева. Точно справа и слева. Я увидел, как навстречу мне рванулись щупальца тьмы — и, нажав бомбосброс, круто ушёл в сторону и вниз, под эти разворачивающиеся вполнеба жгуты...
Я не видел, попал ли. Да это уже и не имело значения — второго шанса у меня, у нас — не было.
Потом был удар. И ещё удар. И страшная тряска, выколачивающая из меня жизнь. Хруст. Удары, удары, удары.
А ещё потом самолёт остановился. И накренился на бок.
И я понял, что остался жив.
4.
В разбитый колпак дул ветер. Он был сухой и пах гарью, но это был живой ветер, и он доносил до меня звуки города — вечернего небольшого городка: лай собак, кукареканье петуха, одинокий шум ма-шины и неожиданно очень чистый и близкий звук идущего поезда.
Если это пригородный, то из него выйдут люди и не пойдут короткой дорогой, потому что увидят, как горит полосами сухой кустарник... но это будет последний раз. Когда пожар уляжется, тут протопчут новые тропинки. Быстро протопчут...
Я подумал, что дед и герр Киршхофф вот сейчас пришли в себя. Я не надеялся на это. Я это точно знал откуда-то...
Я почувствовал, что по лицу течёт горячее и липкое — это была моя кровь из раны на лбу, под волосами. Но больно не было. Я вылез на крыло, не удержался и съехал по нему на траву. Оказывается, левое шасси «мессера» не вышло до конца, и самолёт завалился на бок. Вот почему меня так мотало...
Я сдёрнул краги и бросил их на горелую землю. Постоял и пошёл. Просто так, куда глаза глядят, понимая, что так или иначе через полчаса выйду в город. Пусть только прогорит бурьян. Он и здесь только-только сгорел, из-под моих сапог облачками выпыхивала горячая зола.
Я шёл и думал, что на свете на самом деле очень мало важных вещей. Не таких, про которые говорят, что они важные, а — важных на самом деле. И мечта — не последняя из них вещь. Пожалуй, даже первая. Может быть, даже единственная по-настоящему важная... если это настоящая мечта.
С этим я ещё не разобрался, если честно. Ещё я думал, что высплюсь и поеду в корпус. Нет, сначала навещу в больнице стариков, но потом сразу поеду в корпус. Там как раз готовятся к приёму новичков. Я ничего не буду говорить нашему начальнику.
Я только попрошу у него права на один полёт. На десять минут полёта с ним на заднем сиденье, чтобы он убедился сам и не беспокоился. Он не имеет права это разрешить... но и отказать мне он тоже не имеет права.
Не все права записаны в личных делах и санитарных книжках. И кто сказал, что мечту можно прихлопнуть больничным штампом? Жаль, я так и не понял, кто был тот круглолицый весёлый мужчина, который помог мне найти дорогу, но он сказал правильные слова...
А после этого полёта будем разговаривать. Если я буду настойчив, то восстановлюсь сразу на второй курс.
И ещё я думал обо всех, кто в пути. Теперь я знал, сколько человеческих судеб и жизней закручено неведомой силой. Они существовали не на страницах фантастики и не на экранах телевизоров — в реальности и, если мы победили, это не значит, что везде победило добро...
Но я знал теперь и то, что их — сражающихся за него — немало везде, во всех временах и пространствах.
И, может быть, не так уж и безнадёжна эта борьба, как нравится думать кое-кому — из тех, кто не способен бороться сам и готов смириться, кому проще верить, что добра не существует вовсе, что Свет и тьма — одно...
Я дошёл до провала в земле, куда со свистом и клокотаньем устремлялись остатки воды из пруда, мутной и чёрной. На поверхности всего этого крутилась какая-то фанерка. Вот и всё... Это место заболотится — и то, что осталось от Портала, будет надёжно похоронено дважды.
А потом я увидел ребят. Они сидели прямо на дымящейся земле, чёрные, грязные и усталые. Настолько усталые, что только Колян махнул мне рукой. Я пошёл к ним. Я шёл и радовался, что они живы, и это была не бурная радость, мне не хотелось прыгать, обниматься и орать разную чушь.
Просто они были живы. И это было хорошо, потому что это было правильно. Я подошёл и сел рядом в пепел. И привалился к плечу Петьки. У него было разодрано и забинтовано остатками майки всё правое плечо, ресницы и брови сгорели, губы покрывали кровавые трещины.
Колян держал на коленях обожжённые руки со слезшей кожей и чему-то улыбался. Хуже всех выглядел Тон — он лежал на подостланной куртке, голова на коленях Лидки, и был весь синий с чёрным и перебинтованный какими-то обрывками тряпок.
Но гитара Высоцкого — совершенно целая — покоилась у него под рукой, как автомат у бойца, исполнившего свой долг.
— Как он? — спросил я тихо, и Тон хрипло ответил, не открывая глаз:
— Прекрасно, неужели не видно?
— Дальше будет ещё лучше, — утешил его я. Тон вроде б засмеялся:
— Где... дальше?
— Ну вообще, — я повёл рукой по воздуху. — В жизни. А ты, как ожидал?
— Ладно, — подал голос Петька, — пусть будет ещё лучше. Нас ведь не победить. Убить... не знаю. А победить не получится. Скажи, Колян?
— А то, — авторитетно подтвердил наш младший. — Только рукам очень больно.
— Ладно, — я встал. — Пошли.
— Пошли, — согласилась Лидка, беря гитару.
И мы пошли. Я и Петька, закинув руки Тона на плечи, вели его.
Он еле переставлял ногами и западающим голосом напевал про то, что «мы будем гнуться, но, наверное, не загнёмся, не заржавеют в ножнах скрытые клинки...».
Лидка шла со стороны Петьки, и я подумал, что, кажется, мне тут всё-таки ничего не светит — это, конечно, было печально. Колян шёл впереди, расставив руки и играл сам с собой в боевого трансформера, потому что ему было всё-таки десять лет, и он уже подзабыл то, что происходило каких-то полчаса назад.
А впереди, на окраинной улице, появились два или три робких человека, рассматривавших дымящееся пожарище на месте проклятого аэродрома и наши фигуры, волокущиеся по нему. На помощь не спешили, боялись, но мне было не обидно.
С каждым шагом приближался город — город, который мы спасли, и который теперь недоверчиво смотрел на нас и прикидывал, как к нам отнестись, и не лучше ли было поступиться ещё одной своей частью, чем так радикально... как бы чего не вышло...
Я шёл и думал, что настоящей, искренней благодарности никогда не дождусь от тех, кого буду спасать и защищать. Они всю жизнь будут коситься на меня просто потому, что я живу не так, делаю не то и не убегаю, когда надо убежать, потому что мечтаю не о том и верю не в то...
Нет, они вовсе не плохие люди. Просто...
Я не знал, что — просто, и Тон был очень тяжёлый и гундел надоедливо про то, что он едет за туманом, за мечтами и ещё за какой-то хренью, совершенно неважной для нормальных, солидных людей, всегда косящихся вслед тем, кто их спасает, обороняет, кто пролетает над ними на крыльях, пока они идут по земле, бегут, торопятся, обгоняют друг друга в погоне за разной ерундой — деньгами, местом, карьерой...
И мне стало весело при мысли, что никогда-никогда я не стану нормальным и солидным. Так весело, что я засмеялся вслух и спросил:
— Кто за то, чтобы пойти в кафе-мороженое? Скинемся, Коляна с ложечки покормим, а Тон в уголке полежит.
— Больной, — сказала Лидка и засмеялась тоже.
Мы подходили к мостику через речушку. Тон сипло напевал окончательно несуразное, но почему-то очень нужное и своевременное:
Солнечный круг,
Небо вокруг —
Это рисунок мальчишки.
Нарисовал
Он на листке
И подписал в уголке:
«Пусть всегда будет солнце,
Пусть всегда будет небо,
Пусть всегда будет мама,
Пусть всегда буду я!»
К О Н Е Ц
Верещагин Олег Николаевич
«Советник» — путеводитель по хорошим книгам.
1
О боже... помогите, пожалуйста, пожалуйста... эй, мальчик... помоги... (нем.).
(обратно)2
Военно-воздушные силы гитлеровской Германии.
(обратно)3
Автор книги пожертвовал своему персонажу свои же стихи.
(обратно)4
Традиционные образы германской мифологии. Белая Дама — обличье Смерти. Старый Ник — прозвище Сатаны. В курганах, оставшихся с дохристианской эпохи, как верят некоторые немцы даже сейчас, живёт тьма всяческой нечисти.
(обратно)5
Промежуточный аэродром, на котором пилоты садятся дозаправить горючим машины и отдохнуть во время дальних перелётов.
(обратно)6
Пруд (нем.).
(обратно)7
Сверхпиитетное отношение к пионерскому галстуку было характерно только для пионерской организации СССР позднего времени — 60-80-х г.г. Изначально подобные галстуки (и скаутами, и гитлерюгендовцами, и пионерами тоже!) использовались и как банданы, и как кровоостанавливающие повязки, и для связки предметов, и ещё для множества чисто практических дел.
(обратно)8
«Бить в котелок» — немецкий аналог русского «вешать лапшу на уши».
(обратно)9
Пикирующий бомбардировщик Петлякова — мощная и хорошо вооружённая машина. Именно её можно увидеть в интересном старом фильме «Хроника пикирующего бомбардировщика».
(обратно)10
В германской мифологии — злобное сверхъестественное существо, карлик или великан, враждебное человеку и уродливое.
(обратно)11
По сюжету этой сказки мальчик, ученик чародея, вызвал злого духа, пользуясь заклинанием, случайно подсмотренным в книге хозяина. Но управлять этим чудовищем колдун-недоучка не умел и погиб страшной смертью.
(обратно)12
Загадочная и таинственная спецслужба гитлеровской Германии, именовавшаяся ещё «Орденом». Члены Анэнэрбе занимались оккультизмом, паранормальными явлениями и прочими подобными вещами, тратя на них огромные средства. В прошлом это расценивалось историками, как причуда гитлеровской верхушки, ещё раз доказывающая её сумасшествие. Но в последние годы выясняется, что работа Анэнэрбе была очень серьёзной и во многом определяла экономические и военные победы Германии в 1933-1943 годах. Архивы этой организации так и не были найдены, её руководители — бесследно исчезли.
(обратно)13
Одна из трёх «высших школ» СС, в которые отбирали подростков с целью подготовки элиты Германии.
(обратно)14
Деятельность этих школ не раскрыта полностью до сих пор.
(обратно)15
В современности — особенно дети и подростки — под словом «квест» понимают компьютерную игру. А в древности так называли то, что делали крестоносцы. Почему-то принято думать, что это были бандиты и грабители. На самом деле крестоносцами двигало желание обрести божественные сокровища (Гроб Христов, Чашу Грааля и прочие) и принести счастье всему христианскому миру. Дословно «квест» переводится с английского, как «поиск», но в данном контексте его значение шире — это странствие с риском для жизни, имеющее некую высокую цель.
(обратно)16
О том, кто такой Олег и о его приключениях читайте в повестях «Если в лесу сидеть тихо-тихо или Секрет двойного дуба» и «Прямо до самого утра или Секрет неприметного тупичка».
(обратно)17
О приключениях «спецотряда N 77 «Полночь» читайте в повести «Та сторона тени».
(обратно)18
Стихи автора книги.
(обратно)19
Я взял на себя наглость поместить на страницы повести — пусть и мельком — героев любимого мной приключенческо-философского фантастического сериала Стивена Кинга «Тёмная башня», который любят и многие герои моих книг.
(обратно)20
Каюсь — персонаж книги В.П. Крапивина «Голубятня на жёлтой поляне».
(обратно)21
...спасибо, не хочется.
(обратно)22
Я бы с удовольствием пошёл.
(обратно)23
И я хотел бы посмотреть...
(обратно)24
Стихи Гарсиа Лорки.
(обратно)25
Его же.
(обратно)26
Бензедрин — наркотический препарат, резко, но кратковременно повышающий возможности организма.
(обратно)



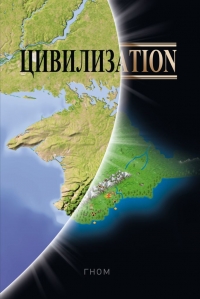
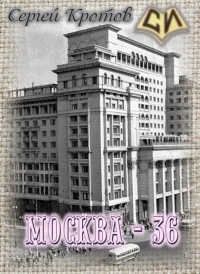

Комментарии к книге «Про тех, кто в пути», Олег Николаевич Верещагин
Всего 0 комментариев