Владимир Свержин Сын погибели
Пролог
Ход вещей — не самый удачный ход.
Рауль КапабланкаДжордж Баренс глядел на лица достопочтенных членов комиссии, пытаясь угадать, что творится в головах светочей исторической науки. Здесь, сегодня, на этой встрече без галстуков и лавров, решалась судьба операции, да что там, быть может, судьба одного из ближних миров.
— Мне представляется, — нарушил молчание серьезный молодой сотрудник отдела разработки, — что нарисованная вами перспектива грядущего апокалипсиса все же несколько… — он замялся, подыскивая нужное слово, — утрирована. Вы представили замечательно интересную информацию. Теперь мы точно знаем, что среди сопределов Альфа-круга наличествует гуманоидный мир, в котором динамично взаимодействуют три разноуровневых подвида разумных существ. Это, конечно, представляет ценнейший материал для науки, поэтому, я считаю, следует оставить там группу стационарных агентов для наблюдения и мониторинга, предоставив сопределу К17 развиваться по его собственным законам.
Баренс не спускал внимательного взгляда с коллеги, но в памяти его сейчас вставала совершенно иная картина: человечье лицо на длинной змеиной шее, с глазами, пылающими, точно два жерла пробудившегося вулкана… ангел, распластавший крыла над полем боя… неистовый Бернар Клервосский с мечом в руках…
Институтская командировка обещала быть хлопотной, но не чрезвычайной. Речь шла о некоем странном артефакте — голове, дарующей земным владыкам точные политические прогнозы, исключительно верную информацию и указания, от которых попахивало то ли серой, то ли влиянием более высокоразвитой цивилизации. Только-то и требовалось, что выяснить природу этого странного явления и по возможности раздобыть для изучения сам артефакт!
Кто бы мог подумать, что во время пребывания Баренса и его сотрудников в том сопределе как раз и случится целая вереница самых невероятных событий. Что мир станет на край погибели в схватке Армагеддона, а может, Рагнарека, где сошлись человеки земные, ангелы небесные и невиданные твари из бездны.
— Уважаемые коллеги, досточтимый лорд Джордж!
Группа экстраполяции процессов обработала предоставленные данные. Результаты неоднозначны.
После битвы на валлийских холмах данный мир едва начал приходить в равновесие, пока довольно шаткое. Сопределу К17 удастся стабилизироваться, если на смену центробежным силам придут центростремительные. Но! Беда в том, что система может стабилизироваться совсем на другом уровне, так как равновесие безнадежно нарушено из-за гибели Андая, предводителя людей-змей. Мы пока не можем знать, каков будет этот уровень, а главное, какими вспышками активности будет сопровождаться восстановление равновесия.
Мы считаем желательным наряду с отслеживанием процессов иметь возможность оперативной их корректировки.
— Но можем ли мы быть уверены, что наше вмешательство не дестабилизирует систему еще больше? Тем более что Андай, — разработчик поглядел в лежащую перед ним докладную записку, — предупреждал, что не потерпит присутствия нашей миссии в своем мире.
— Но Андай погиб, — возразил Джордж Баренс. — А последствия его гибели, как вы понимаете, могут быть непредсказуемы.
— Даже работа группы наблюдателей, — продолжал разработчик, — сопряжена теперь с немалыми опасностями. Можем ли мы в такой ситуации рисковать одной из лучших оперативных групп?
Он хотел еще что-то добавить, однако слова его были прерваны гудком установленного на председательском столе селектора.
Члены комиссии удивленно оглянулись на призывно гудящий аппарат. Всякому в институтских стенах было известно, что нарушить столь бесцеремонным образом работу комиссии допустимо только по самым безотлагательным вопросам. И все же селектор бесцеремонно требовал к себе внимания.
Джи Эр Эр, неизменно предводительствующий на «скале совета», поморщившись, нажал кнопку:
— Слушаю вас.
— Милорд, — раздался из селектора приятный женский голос. — Сэр Уолтер Камдейл разыскивает лорда Баренса.
— Это не дает основания ни вам, ни ему мешать работе комиссии, — раздраженно заметил председатель правления Института.
— Сэр Уолтер утверждает, что это очень важно, — оправдываясь, сказала диспетчер базы закрытой связи. — «Джокер-1» сообщает, что из вод озера Сноудон в Уэльсе появился некий Федюня Кочедыжник. Он шел по воде, был замечен монахами, строившими на берегу часовню, изловлен, посажен в крепость и наречен Сыном погибели.
Глава 1
— Следующим ходом королева бьет короля.
— Но это не по правилам!
— Зато по необходимости.
О. Бендер «Есть такая партия» (сборник шахматных композиций)Всю последнюю неделю Аахен жил предстоящим торжеством. Сообщение о помолвке герцога Конрада Швабского с ромейской севастой, будто бы лично им спасенной из лап разбойников, облетело всю империю с такой скоростью, что птицам в воздухе приходилось шарахаться, когда эта новость проносилась мимо. Правда, злые языки утверждали, что герцог никак не мог спасти из-за тридевяти земель несравненную племянницу василевса ромеев, поскольку все последние недели не выезжал из Аахена далее, чем на охоту в ближние леса. Но кому до этого было дело?
Толпы народа, наседая друг на друга, срезая кошельки и обрывая одежду, жались к цепочке стражников, охранявших путь молодой четы к кафедральному собору. Епископ в златотканом одеянии, опираясь на резной посох с вычурным, горящим золотом навершием, ожидал у распахнутых дверей храма, с умилением глядя, как расторопные пажи помогают спешиться герцогу и его очаровательной невесте.
За долгие годы пасторского служения ему бесчисленное множество раз доводилось связывать узами брака сыновей и дочерей человеческих. Но никогда, как ни силился он вспомнить, никогда прежде не встречал он столь прелестной нареченной. Казалось, ангел небесный спустился в мир с одной лишь целью — возвеличить всемогущество Творца пред очами смертных.
Как ни старался слуга господень отогнать от себя греховные мысли о чудесном облике юной девы, но полные небесной синевы глаза, налитые солнечным сиянием волосы и тонкие, почти детские черты лица вновь и вновь притягивали его взор.
— Конрад! — взорвалась толпа. — Никотея!
Пожалуй, второй крик был много громче первого. Еще совсем недавно и сам епископ, и настоятели крупнейших храмов Аахенского диоцеза[1] подыскивали новое имя будущей владычице Швабии, не желая смущать умы прихожан упоминанием языческой богини. Ситуация могла показаться комичной, если бы не была настолько серьезной: спасенная из лап разбойников ромейская принцесса без труда согласилась сменить веру, однако наотрез отказалась менять имя.
Выход нашелся случайно, когда Эрманн — аббат монастыря святого Эржена, — должно быть, повинуясь божьему наущению, отыскал в монастырской библиотеке древний трактат, посвященный деяниям великомученицы Никотеи. Знатная римлянка прятала в своем поместье гонимых императором Нероном христиан. Преданная завистливым родственником, она пыталась обратить кровавого императора к истине, но тиран остался глух к словам патрицианки, и та была растерзана львами вместе с братьями во Христе.
Таким образом, вопрос с именем решился сам собой, а обнаружение древней рукописи было воспринято духовенством и двором как добрый знак.
— Конрад! — летело над Аахеном.
— Никотея! — заглушало колокольный перезвон.
Племянница василевса дарила любезные улыбки славящему ее люду, кротко глядела из-под длинных ресниц на ждущего у входа в храм пастыря божьего и легко ступала по булыжной мостовой, опираясь на рыцарственную длань счастливого герцога Швабии.
— Господь моя защита, — шептала она, благосклонно кивая направо и налево, одаривая милостивым взглядом восторженных горожан. — Неужели же отныне эти дикие немытые чудовища будут моими подданными?! А этот рыжебородый мужлан — супругом и повелителем?
При одной мысли об этом Никотею едва не передернуло.
Чтобы скрыть невольную гримасу отвращения, она улыбнулась и горько пожалела об отсутствии поблизости черноокой персиянки Мафраз.
Опытная в любовных играх не менее, чем в науке составления ядов, хитроумная рабыня могла пригодиться Никотее в скором будущем. Однако же недавняя попытка верной персиянки отправить к праотцам соперницу госпожи — дочь английского короля — едва не стоила жизни им обеим. Что сталось с Мафраз, Никотее по сей день было неизвестно, но, судя по тому, что Матильда готовилась в скором времени вступить в законный брак с новым английским королем — сыном Мономаха — Мстиславом, судьба Мафраз сложилась более чем плачевно.
От преданной служанки мысли Никотеи сами собой перетекли к Гарольду III — как ныне именовали Мстислава. Он влюбился так безоглядно, что готов был променять любые царства на ее благосклонность. Но Фортуна ревнива, и принцессе пришлось бежать от страстного поклонника, чтобы едва не погибнуть от руки другого, еще более страстного и необузданного. Севасте даже показалось, что уже не выкарабкаться, но, как бы ни зла была ее судьба, смирение никогда не числилось среди достоинств или недостатков рода Комнинов. Если Господу угодно даровать для достижения цели такое неказистое орудие, как ее рыжий жених, — пусть он станет тем волшебным средством, пред которым разрушатся крепостные стены и падут ниц земные владыки.
— Аллилуйя! — вознеслось с клироса к небесам серебристое детское многоголосие, и стая голубей сорвалась с резного карниза и начала бестолково кружить над Конрадом и Никотеей, вступившими на крыльцо храма…
Это тоже было сочтено добрым предзнаменованием.
Лис появился в дверях и, скинув запыленный плащ на руки слуги, провозгласил с порога:
— Вставайте, граф, вас ждут великие дела!
— Насколько великие? — испытующе оглядывая долговязую фигуру закадычного друга, поинтересовался сотрудник Института Экспериментальной Истории, Вальдар Камдил, он же доблестный рыцарь Вальтарэ Камдель, самозваный граф Квинталамонте.
— Не то чтобы сильно великие, но довольно пухлые, — без запинки ответил его напарник. — Во всяком случае, одно дело за номером «хрен разберешь». Да, кстати, — без перехода продолжил он, — как твои ребра?
Рыцарь поморщился, вспоминая недавнюю сечу и лисовскую стрелу, отведенную от заданной траектории бесцеремонным ангельским произволом.
— Спасибо, куда лучше, чем было в первую минуту. Почему ты спрашиваешь? — насторожился Вальдар.
— Ну… — Лис поднял глаза к потолочным балкам, — будь я Господь Бог, то воспользовался бы случаем создать из пришедшего в негодность ребра хорошенькую сиделку. Но, поскольку я таким фокусам не обучен, скажу тебе как старый солдат, не знающий слов любви, кроме команды «ложись»: с целыми ребрами мечом работать куда сподручнее.
— Так! С этого места подробнее, — нахмурился Камдил. — Еще вчера мы, кажется, намеревались мирно ожидать решения институтской комиссии и ни о каких мечах речь не шла.
— Но то ж когда было! Господь за это время твердь земную от аш-два-о небесной отделил и часть получившейся влаги густо посыпал солью… может, что-то типа ухи варить собирался?
Рыцарь внимательно поглядел на боевого товарища:
— Сергей, мне кажется, или сегодня ты как-то слишком часто упоминаешь всуе имя божье?
— Ни всуе, ни в высуе, абсолютно по делу. — С губ институтского оперативника сошла, казалось, навеки припечатанная к лицу усмешка. — В общем, новости у меня безрадостные. Только что прирулил человек из пограничья… Наша, так сказать, валлийская агентура подтвердила, что мальчик лет тринадцати-четырнадцати, посреди бела дня возникший на глади вод небезызвестного тебе озера Сноудон, и впрямь носит диковинное для валлийского уха имя — Федьюня.
— Это было известно еще два дня назад, — перебил его Вальдар. — Шанс, что это не он, конечно, оставался, но…
— Не грузи мозг шансовым инструментом! Тут же самое главное в деталях!
Его собеседник кивнул, делая приятелю знак продолжать.
— Так вот, — вновь заговорил Лис, многозначительно разминая запястье, — когда этот отставший от войска лоботряс с какого-то перепугу решил прогуляться по воде, поблизости как раз совершал променад отряд святых отцов, вздумавших поставить на берегу часовню для непрестанной борьбы с кознями местных водяных. До того, как оттуда всплыла целая армия, священная экология мало кого заботила, но уж больно весомый повод объявился. И тут, понимаешь ли — нате-здрасьте: с одной стороны, крестный ход с песнями, только шо без плясок, а с другой — навстречу им, буквально северная Аврора в лице Федюни Кочедыжника. В общем, по словам гонца, веселуха случилась преизрядная, в результате чего парень наш получил жуткое погонялово Сын погибели, был схвачен и запроторен в местный зиндан.[2] Из чего, Вальдар, вытекает конструктивная идея: пока Баренс в Институте, пока Матильда донашивает траур, может, мотнемся собрать букетик для невесты на зеленых валлийских холмах? А то ведь, если долго рассусоливать будем, танго из нот протеста писать, замордуют мальчонку.
— Да, — вздохнул Камдил, задумчиво оглядывая комнату, уставленную непритязательной мебелью, двор с коновязью за распахнутым окном и висящие на стойке вычищенные доспехи. — Нехорошо получилось. — Он потянул на себя перевязь с мечом. — Но сначала я должен связаться с Базой.
— Ох, — Лис приложил руку к груди, точно закрывая ладонью скрытый под одеждой «символ веры», — замаскированное средство закрытой связи — с ней только свяжись…
Сумерки опускались на Вечный город. Короткие, почти мгновенные — когда солнце всего лишь на миг зависает над морем, точно пробуя воду краем раскаленного диска, и тут же падает в пучину, не в силах больше держаться в небе после всего увиденного за день на земной тверди.
«Не так ли ныне закатывается солнце ромейской империи?» — думал василевс Иоанн II Комнин, наблюдая закат великого светила. Он бросил взгляд на величественную колонну Юстиниана. Отсюда, из дворцового окна, была видна лишь верная ее часть — огромный блистающий всадник на золотом коне, казавшийся совсем маленьким, держал в поднятой руке увенчанное крестом яблоко мира. По давнему поверью в нем непрестанно билось сердце Ойкумены. Именно оно, а не богатство, не могущество, не даже военная сила давали Константинову граду священное право именоваться Царьградом, началом начал, альфой и омегой.
Василевс Иоанн глядел из окна, как прощальными лучами выхватывается из подступающий тьмы золотой всадник и как гаснут отблески света на царственном металле.
«Неужели и впрямь настает конец величию ромейской империи? Нет, не может такого быть. Господь хранит верных. Уж сколько раз гибель Константинополя представлялась неминуемой, и неизменно рука Провидения защищала его стены. — Иоанну вдруг захотелось сорвать с себя злато и пурпур и, облачившись в рубища, ждать, когда Отец небесный рассеет полчища недругов одним движением перста. — Но упование не есть деяние. Град святого Константина будет стоять вечно!» Всевышний даровал ему императорский венец, а стало быть, все им содеянное — проявление воли божьей на земле. Как говорят нечестивые почитатели нелепого сарацинского пророка: «На Аллаха надейся, а мула привязывай, ибо у Аллаха нет рук, кроме твоих».
При упоминании богопротивного имени василевс перекрестился и отвернулся от окна. Иоанн Аксух, крещенный мусульманин, прежде носивший имя Хасан — правая рука императора ромеев, — ожидал, когда же наконец повелитель уделит внимание его скромной особе.
— Итак, мой дорогой крестник, — от минутной слабости василевса не было и следа, — у тебя есть новости о Никотее?
— Да, мой господин. Как сообщают прибывшие из франкских земель купцы, Никотея чудесным образом спаслась из рук захвативших ее разбойников и ныне пребывает в алеманнских землях.
— Что ж, — неспешно подходя к трону, проговорил император, — эту новость трудно назвать хорошей, но все же она намного лучше, чем известие о ее гибели. В чьи же руки она попала теперь?
— Герцога Конрада Швабского, мой повелитель.
— Он намерен получить за нее выкуп?
— О нет, он собирается взять ее в жены.
— В жены? — переспросил василевс. — Вчерашний дикарь, увешанный звериными шкурами, намерен взять в жены племянницу императора ромеев? Не испросив моего соизволения?! Не дождавшись согласия ближайшего старшего родственника?
— Не думаю, что у вашей племянницы есть выбор. На стороне варвара право сильного, со всеми же прочими они не больно-то считаются. Из Аахена пишут, что объявлен день свадьбы. Что же касается дикости ее суженого, — такое прежде случалось, мой повелитель. Смею напомнить, что супруга императора Оттона…
— Не путай, — гневно перебил его Иоанн Комнин, — жену пусть варварского, но все же императора и какого-то герцога.
— Осмелюсь напомнить, — нимало не сбитый с тона резкостью государя, продолжал Хасан, — что в краях, самонадеянно именуемых франкскими или алеманнскими варварами Священной Римской империей, с недавних пор нет императора. Он умер, и в скорости предстоят выборы нового владыки Запада.
Герцог Конрад Швабский, к которому волею судеб угодила ваша несравненная племянница, дай ей Господь счастья и многих лет жизни, весьма богатый и влиятельный правитель. За ним стоит как минимум четверо князей-электоров.
— Ты хочешь сказать, что… — василевс надменно поджал губы, — что жених Никотеи вскоре может стать императром?
— Такой исход более чем вероятен, — подтвердил Иоанн Аксух. — Особенно если мы ему в этом поможем.
— Что ж, — немного помедлив, улыбнулся Иоанн Комнин, — может, и впрямь это к лучшему. Никотея славная и умная девочка — она может стать хорошей императрицей. Через нее же моя воля распространится на земли франков! Что может быть лучше?! Воистину, нам ли дерзостно осуждать промысел Господень?
— Возможно, стоит направить Конраду послание с вашим благословением?
— Я подумаю об этом.
— А что слышно от того монаха, которого ты приставил к князю Мстиславу?
— Увы, потомок Мономаха отказался принимать кесарский венец из наших рук, но сказано: «Каждый день сулит иное». Как утверждает преподобный Георгий Варнац, сам он по-прежнему пользуется доверием и уважением нового короля бриттов.
— Много ли толку нам с того уважения? — нахмурился василевс.
— В уважении всегда есть толк. Нынче, возможно, польза и невелика. Но завтра…
— Ты что-то задумал, Хасан?
— Я всегда помышляю о благе империи, о мой повелитель.
— Так говори же! Не тяни.
— Как ни тяжело сие признать, посольство, которое мы отправляли в Кияву, закончило свои труды неожиданно и неудачно. И все же игра еще не кончена. Если Господь повелевает нам сыграть теми фигурами, которые нынче расставлены на доске, то мы сыграем ими.
— Я внимательно слушаю тебя.
— Как мы помним, с момента диковинной кончины Владимира Мономаха в стране руссов-рутенов правит брат-близнец Мстислава — Святослав. Между братьями всегда было негласное состязание в соискании чести и ратной славы, но тем не менее они души друг в друге не чают.
— Что ныне большая редкость между братьями. К чему ты ведешь?
— Империи, как и прежде, необходимо земляное масло. Без него нет, увы, греческого огня, без него не обойтись при строительстве дорог, а разливные озера этого масла расположены в землях руссов. Там они никому не нужны, даже козы не пасутся в тех местах, где оно есть.
— Знаю, — раздраженно прервал его василевс.
— Несомненно, о великий, как и о том, что рутены сильные и отважные воины и готовы драться против любого врага, пускай и за клочок земли, который им самим безо всякой надобности. Однако теперь войско руссов стало куда меньше, чем прежде, ибо, слава Всевышнему, большая его часть ныне за морем.
— И что ж, теперь ты предлагаешь напасть?
— О нет, мудрейший из мудрых. К чему нам это? Я предлагаю куда лучший план. Уже много лет в землях Империи нашел себе убежище князь руссов Олег, прозванный соотечественниками Гореславичем. Владимир Мономах некогда отобрал у него земли и заставил бежать из отчего дома. Сам князь уже стар, но у него есть сын Давид, и он горит желанием вернуть отцовский престол. Как мне известно, этот доблестный воитель имеет множество сторонников среди касогов и ясов, обитающих на берегах Понта.[3] И стоит вам захотеть — их станет еще больше. Воспользовавшись ослаблением Киявы, молодой севаст наверняка рискнет испытать судьбу и нападет на сородича. Мы с легкостью предоставим ему такую возможность, и близко не упоминая вашего имени. Если набег принесет удачу — а скорее всего так и случится, — мы вступим в союз с князем Святославом и в обмен на земли Матрахи[4] поможем ему сокрушить общего недруга, коварно воспользовавшегося милосердием и гостеприимством василевса. Полагаю, Святослав не откажется уступить отдаленные от его столицы неудобья в обмен на нашу дружбу и военный союз. Тогда, по всей вероятности, и его брат, прислушиваясь к мудрым речам благочестивого Георгия Варнаца, переменит свое мнение относительно кесарского венца. О том же, что даст нам дружественная Константинополю держава в мягком подбрюшье франкских земель, полагаю, говорить не стоит.
— Ты хитер, как змей, Хасан, — покачал головой василевс. — Что ж, быть по сему.
Конрад Швабский поднял руку, и пиршественная зала огласилась криком и улюлюканьем, какие обычно бывают, когда толпа охотников гонит оленя. Никотея вздрогнула и сжала губы. Длинный стол, недавно радовавший глаз обилием яств и дорогой серебряной посудой, напоминал поле боя. Множество валявшихся под столом гостей только усиливали это сходство. Однако мрачный тевтонский дух был по-прежнему крепок, почти несокрушим, и большинство приглашенных, мужественно подпирая друг друга, все еще сидели на лавках, оглушительно выражая свою радость и живо представляя продолжение брачной церемонии.
— Пируйте! Радуйтесь! — глядя на раскрасневшиеся лица гостей, крикнул герцог Швабский, перекрывая оглушительный рев восторга. — Мы идем в опочивальню!
Графы, бароны, рыцари, аббаты и жавшиеся в конце стола городские нобли[5] свистом и криком одобрения встретили эту новость. Герцог Конрад протянул руку жене, но та оставалась сидеть неподвижно. Она чувствовала: стоит ей подняться, и от страха нелепо подкосятся колени. До сего мига она тешилась надеждой, что новоявленный супруг, по варварскому обычаю пивший исключительно неразбавленное вино, быстро захмелеет, и хотя бы на сегодняшнюю ночь неминуемая близость с ним будет отложена. Но то ли от страстного желания выпитое было герцогу нипочем, то ли для того, чтобы опьянеть, ему нужно было куда больше, счастливый муж казался абсолютно трезвым, даже не уставшим. Поймав на себе удивленный взгляд Конрада, она протянула руку и прикрыла глаза.
Почетная стража — ближайшие соратники повелителя Швабии — сомкнулась вокруг венценосной четы с факелами и обнаженными мечами в руках. Никотея знала, что по обычаю этот отряд будет оберегать сон молодых, распевая за дверью скабрезные песни.
— Госпожа, — услышала она шепот у себя над ухом, — в этой битве женщина проигрывает, если не сдается, но когда сдается — диктует условия.
Никотея бросила украдкой взгляд туда, откуда доносился тихий голос — сомнений не было, при герцогском дворе не нашлось бы другого наглеца, что осмелился бы так бесцеремонно напутствовать повелительницу на пути к брачному ложу. Йоган Гринрой, рыцарь Надкушенного Яблока, шел у ее плеча, стараясь придать лицу патетическое выражение.
С тех пор как этот первейший в Германии плут доставил спасенную им ромейскую принцессу ошалевшему от неожиданного счастья Конраду Гогенштауфену, он ходил в ближайших друзьях рыжего герцога. Да и молодая герцогиня если и могла на кого-то положиться здесь, в Аахене, то лишь на своего изворотливого спасителя.
Когда двери спальни наконец захлопнулись перед носом почетной стражи, предоставляя любопытствующим возможность убедиться в отсутствии щелей, Конрад, вмиг позабыв о всякой помпезности, сграбастал в объятия прелестную супругу и принялся осыпать поцелуями ее лицо, шепча:
— Моя, наконец-то моя!
— Твоя, — обреченно соглашалась Никотея, досадливо пытаясь отвернуть губы от поцелуя и выставляя вперед руки в попытках освободиться.
— Ну что еще? — Конрад нахмурился и разомкнул железный захват. — Теперь, когда я твой муж, что еще?!
У Никотеи быстро-быстро застучало сердце. Она видела непреклонного в своих желаниях опасного хищника, готового растерзать и сокрушить любого, кто будет стоять на пути к намеченной цели. Сейчас это был не влюбленный мужлан, последние месяцы не сводивший с нее глаз и выполнявший любую прихоть, — сейчас он был хозяином и требовал покорности.
— Погоди, Конрад! Погоди, милый, — тихо, задыхаясь от волнения, остановила его знатная ромейка. — Я хочу поговорить с тобой… о важном.
— Что сейчас может быть важнее этого. — Герцог протянул руку к ней и легко, точно ромашку, сорвал золотую, украшенную сапфирами, фибулу, стягивающую ворот ее платья.
— Погоди! — довольно резко проговорила она, пытаясь удержать распахнувшийся лиф.
— Завтра, все разговоры завтра! — Конрад отстранил ее руку и запустил пятерню под одежду.
Никотея отдернулась:
— Если бы Господь наказал меня, дав в мужья конюха, если бы в моих странствиях какой-либо разбойник силой овладел мной, я бы скорбя, но безропотно снесла это. Но Всевышний сделал моим супругом герцога Швабии, точно так же, как меня он сотворил принцессой из дома Комнинов и законной наследницей константинопольского престола. А потому, мой дорогой супруг, прежде чем ты взойдешь со мной на брачное ложе, я желаю, чтобы ты поклялся, что не будешь знать покоя и отдыха, покуда не объединишь в нашем роду венцы как Западной, так и Восточной империй.
— Но… — несколько ошарашенный услышанным, начал Гогенштауфен, — даже один из них добыть будет весьма непросто. Хотя, как тебе известно, я намерен потягаться за императорский трон.
— Доверься мне. — Никотея успокаивающе погладила нежными пальчиками щеку герцога. — Доверься и чти во мне не бессловесную наложницу, а императрицу. Ты станешь вторым в этом мире после Господа.
— Я клянусь, — обескураженно произнес Конрад Швабский.
— Я знала, милый. Знала и верила тебе, — проворковала Никотея с той же интонацией, с какой шептала подобные фразы персиянка Мафраз, рассказывая свои бесчисленные сказки. — Обними же меня, мой повелитель!
И она обвила руками шею мужа, прижимаясь к нему всем телом.
Глава 2
Всякий волен погубить свою душу, если ему нравится.
Джакомо КазановаОтряд в две дюжины всадников двигался к Корнуоллу. Среди воинов внимательный глаз легко мог распознать суровых голубоглазых варягов, темнокудрых херсонитов, русоволосых бородачей с берегов Данпра, ну и, конечно же, коренных обитателей здешних мест — бриттов. Впрочем, по мнению тех, кто видел это небольшое воинство в деле, оно отличалось не только пестротой личного состава, но и отменной боевой выучкой.
Несложно было понять чувства короля Гарольда III, когда его недавний соратник — храбрый сицилийский граф Квинталамонте — испросил разрешения отправиться на родину. Без особой радости государь бриттов отдал распоряжение предоставить Камделю со свитой один из кораблей, приписанных к портам королевства. Будь Мономашич более сведущ в местной географии, он бы удивился, отчего вдруг графу понадобилось направляться в Корнуолл вместо того, чтобы сесть на корабль прямо в Лондоне. Но Мстислав, пусть даже и принявший имя Гарольда III, еще плохо знал расположение портов собственной державы.
— …Капитан, шо паришься по поводу корабля, как та непареная репа? — увещевал друга Лис. — Кому какое дело, откуда и куда мы уходим в туманную даль? С этим мандатом я так отполирую уши первого же крупно попавшего судовладельца — в лучах полной луны они будут сверкать огнями святого Эльма!
— Огни святого Эльма предвещают бурю, — в пространство бросил его спутник.
— Вальдар, шо ты такой придирчивый, как попадья на Сорочинской ярмарке? Я тебе его уши продавать не собираюсь. Главное, чтобы на тот берег залива мы прибыли на чужестранном корабле, и чем чужестраньше — тем лучше.
— Да нет, я не о том. Что в Институте рассказывать будем?
— Ну, как водится — закатав рукава, мы выполняли спущенный приказ «сидеть и не рыпаться». Всем дружным коллективом в целях профилактики гриппа, для активизации и недопущения отправились подышать свежим воздухом, а заодно половить рыбку в мутной воде Бристольского залива. И стоило нам ступить на палубу, откуда ни возьмись, налетел ветер, который, шо того пса на поводке, притащил несчастное судно аккурат куда надо. Музеев нет, базар отстойный, вокзал — и того хуже… Так шо, как ни крути, пришлось устроить праздник со слезами на глазах.
— Ты думаешь, нам поверят? — хмыкнул граф Квинталамонте.
— Ну… Отпускные я бы на это, пожалуй, не поставил. Однако следственный эксперимент вряд ли решатся проводить.
Камдил усмехнулся, живо вообразив повторение на бис предстоящей операции:
— Ладно, уговорил. Главное — сделать все быстро и четко. А там, глядишь, и обойдется. Я с херсонитами направляюсь к местному епископу и, потрясая грамотой от Бернара Клервосского, требую передать Федюню в руки этого неистового охотника за демонами.
— Скажи уж просто — бесогона.
Вальдар неодобрительно покачал головой:
— Надеюсь, одеяние тамплиера и необычный выговор южан произведут на тамошних святош должное впечатление.
— Я в это время блокирую тюрьму и пресекаю любую попытку вывезти нашего мальчика в какое-нибудь очередное «прекрасное далеко». В случае необходимости врываюсь в крепость под видом поставки свежих заключенных, а дальше — не зевай, хохол, на то ярмарка.
— Это нежелательный вариант.
Между тем запыленный, утомленный неблизкой дорогой отряд миновал городские ворота и, пугая упитанных свиней, философически созерцающих белый свет из переполненных сточных канав, направился по центральной, относительно прямой и относительно мощенной улице к порту.
— Слушай, Вальдар. Даю голову мэра на отсечение, где-то тут, буквально в зоне досягаемости твоей верной руки, должен сыскаться постоялый двор.
— Наверняка, — подтвердил граф Квинталамонте.
— Это я к тому, шо перед отправкой в порт надо бы вкинуть чего-нибудь в топку. А то в желудке такой заунывный вой — совсем не похоже на «Правь, Британия, морями».
К счастью мэра, пребывавшего в счастливом неведении о приезде незваных гостей, его голова могла и далее украшать собою плечи. Постоялый двор оказался на месте, там, где ему и следовало находиться — у самых ворот портовых укреплений. Радушный хозяин заведения, увидев на пороге запыленных усталых вояк, в мгновение ока соорудил великую китайскую стену из глиняных кружек и бросился наполнять их хмельным элем. Арифмометр в его голове стрекотал так, что было слышно даже на конюшне. Налив всем еще по одной кружке, владелец постоялого двора предложил доблестным воинам отобедать и вздремнуть с дороги. Совсем дешево!
По беглой прикидке Лиса, зафрахтовать корабль до Сицилии обошлось бы примерно в те же деньги. Сообщение о том, что гости, едва подкрепив силы, намерены отправляться дальше, несколько разочаровало кабатчика. Казалось, если б мог, он тут же отобрал бы все прежде выпитое, но стоило ему услышать, что бойкий соратник благородного рыцаря интересуется кораблями, готовыми отплыть к противоположному берегу Бристольского залива, в глазах его вновь замаячил огонек надежды.
— Да что вы, что вы, — замахал он руками, — и не пытайтесь даже! Нынче туда никто не ходит.
— Отчего же вдруг? — поинтересовался Лис, как обычно в таких случаях ведший переговоры. — По велению Аллаха море обернулось горами? Фея Моргана превратила валлийцев в перелетных дятлов, и они упорхнули в теплые страны? Настал день, когда жители Преисподней стирают исподнее?!
— Вот-вот, именно что Преисподней! — закивал хозяин постоялого двора и, наклонившись к уху посетителя, многозначительно прошептал: — Там змеи!
— Дружище, уйми печаль! — насмешливо успокоил его Лис. — В Святой Земле мы видали таких кобр, что по сравнению с ними все местные змеи — так, мелочь шипящая, буквально шнурки для четок!
— То-то и оно, — заговорщицки продолжал магистр вертела и поварешки, — что хоть где, а таких не видали! Намедни в Суонси — это городок на том берегу — привезли странного мальчишку. Рассказывают, будто его изловили, когда он по воде ходил! Вот как я по полу!
Кабатчик для убедительности прошелся вдоль стойки.
— Ну-у… — заинтересованно наблюдая за хозяином, протянул Лис. — Он теперь бродит по Бристольскому заливу и пугает шкиперов?
— Все бы вам шутить, — обиделся трактирщик. — Прозвали этого малого Сын погибели и, по всему видать, не зря прозвали. Как приволокли его к епископу на суд, он давай его преосвященству всякую околесицу городить — пришел де нести истину… и все такое несуразное. Епископ на него, сказывают, рявкнул: «Отрекись, мол, ждут тебя муки адовы!»
— А тот?
— Уж что там Сын погибели ответил, никому не ведомо, а только вдруг путы, коими руки его были связаны, наземь упали и обратились в змей. И копья в руках у стражников тоже обратились в змей…
— Ну ничего себе! — от неожиданности присвистнул Лис.
— Ой, да что это вы в доме свистите, благородный господин! Денег же не будет!
— На вот тебе, не отвлекайся. — Лис вытащил из кошеля серебряный динарий. — Что дальше-то было?
— А что было? — Кабатчик ловко прибрал монету и развел руками. — Вроде бы змеи никого не тронули, только шипели да головами кивали, когда кто с места двинуться хотел. А мальчонка — тот взял да и ушел, куда глаза глядят, а как ушел, так змеи вновь обернулись кто копьем, кто путами. Но только все едино: плыть туда нынче боязно. Сын погибели на воле гуляет.
— Обалдеть, — подытожил Лис, поворачиваясь к графу Квинталамонте. — Ну шо, монсеньор, какие есть мысли?
— Есть, — со вздохом признался Камдил. — Безрадостные. Одна деталь настораживает.
— А конкретней?
— Представить себе не мог, что Федюня умеет свободно изъясняться на валлийском наречии.
Брат Россаль сдавленно кашлянул, пытаясь таким образом привлечь внимание настоятеля Клервосской обители. С самой заутрени аббат безмолвствовал. Он стоял на коленях и, молитвенно сложа руки перед грудью, пристально глядел на распятие, висящее на стене в его убогой келье. Казалось, что душа преподобного Бернара ныне вознеслась в горние выси и пребывает там меж ангелов у престола Господня. После внезапного и необычайного возвращения из Британии он вообще мало говорил, лишь изредка вызывал к себе одного из смиренных братьев и диктовал послание к мирянам, будь то владыки земные или же последние свинопасы. И всякий раз каждое его слово громыхало набатной бронзой и жгло каленым железом.
Вечером в скриптории монахи аккуратно переписывали текст послания, а наутро оно уже отправлялось с гонцами по городам и весям христианского мира.
— Кто прибыл, брат Россаль? — Бернар Клервосский неожиданно вышел из оцепенения и резко повернул голову к ждущему распоряжения монаху.
Брат Россаль опустил глаза. С недавних пор он чувствовал, что попросту не может выдерживать прямой взгляд настоятеля. Он был точно наполнен живым огнем — пламенем божьего гнева, испепелившим Содом и Гоморру. Едва уловив его, любой из братии начинал тут же невольно вспоминать все прегрешения от детских шалостей до сего дня.
— Посланец его святейшества ожидает в трапезной. Я велел накормить его с дороги.
— Он что же, болен?
— Нет.
— Так отчего же ты решил кормить его в этот час? До общей трапезы еще несколько часов.
— Но, ваше преподобие, он устал с дороги. Путь был неблизкий.
— Посвятивший жизнь Божьему служению да не позволит слабости взять верх над повелением Господним. Впрочем, чего другого ожидать от слуг растленного владыки Рима? — Бернар отвернулся, бросив на прощание: — Зови!
Брат Россаль, пятясь, вышел из кельи, оставляя настоятеля наедине с Творцом небесным.
— Отец мой наложил на вас тяжкое иго, — точно вослед ему прошептал Бернар. — А я увеличу иго ваше. Отец наказывал вас бичами, а я буду наказывать скорпионами.
Посланец святейшего папы был крайне раздосадован. Конечно, христианское смирение велело простить не в меру ревностному собрату приказ лишить его — доброго христианина и почитаемого в самом Риме священнослужителя — такой малости, как кусок хлеба после долгого пути. Это было неслыханно, но с чудачествами Бернара Клервосского приходилось мириться. Всякому нынче было известно, что благодать Господня пребывает с неистовым аббатом, а уж пути Всевышнего неисповедимы.
Посланец его святейшества вошел в приоткрытую братом Россалем дверь, плотно зажмурил глаза и вновь открыл их, чтобы быстрее свыкнуться с царившим в келье сумраком. Если не считать слабого огонька, жавшегося к фитилю масляной светильни, неказистое помещение было погружено во тьму. С трудом можно было различить каменное, ничем не застеленное ложе, распятие на стене да темный провал закрытого от солнечных лучей оконца.
— Прикажите подать свечей, — обернулся посланец к брату Россалю.
— Не след! — обрезал аббат Бернар. — Незачем разглядывать земную скверну.
— Но… — начал было пришедший.
— Вы прибыли от римского понтифика, мой благочестивый брат во Христе. Что велел передать его святейшество?
— Прежде всего мне велено было осведомиться о вашем здравии.
— Здравие мое, как и вся жизнь, в руке Божьей. Я не ропщу, но радуюсь, с благодарностью принимая все посылаемое мне Творцом.
— Однако же, — несколько обескураженно начал посланец…
— Dixi.[6]
В келье повисла тяжелая гнетущая пауза. Римлянин не знал, что и сказать. Ему — потомку древнего патрицианского рода — внове было пытаться разговорить спину какого-то провинциального аббата. Бернар Клервосский не соизволил даже повернуться в его сторону.
— Его святейшество, — после тягостного молчания начал визитер, — много наслышан о вашем походе в Британию. Его весьма заинтересовали рассказы о подвигах и чудесах, которые свершались в те дни. В Риме ходят слухи, будто вы лично мечом сразили некоего демона, восставшего из бездны! Святейший Папа велел изъявить вам свое настоятельное желание, чтобы произошедшее было тщательнейшим образом изложено на пергаменте и передано ему. По высочайшему повелению я буду ждать, пока вы не окончите сей труд, чтобы лично доставить его понтифику.
— Не утруждайте себя и меня пустословием. Соберите тех, от кого слышали россказни о моем походе, и запишите их речи.
— Вы отказываетесь?
— Я прошел сей путь и изъязвил чело терниями его с единой целью — исполнить волю Царя небесного. Сей государь превыше всех прочих, и лишь ему одному я служу, и лишь ему даю ответ. Остальные властители суетны и греховны в своей неизбывной суетности.
— Так вы что же, — возвысил голос посланник, — отрицаете святость и непогрешимость наместника святого Петра?
Бернар Клервосский, словно нехотя, поднялся с коленей и, наконец, повернул к незваному гостю суровое лицо. Тому вдруг показалось, что в келье стало значительно светлее — так озаряется ночная мгла вспыхнувшим пожаром.
— Когда грешник, в отчаянии бия себя руками в грудь и разрывая убогое рубище, восклицает: «Mea culpa!»,[7] Господь снисходит к раскаянию его и очищает милостью своей от всякой скверны. Когда же рожденный и погрязший во грехе, будто монарший венец, несет людским хотением дарованную непогрешимость, — да будет он посрамлен в гордыне своей! Никто как Бог!
— Но это ересь!
— Ересь?! Ересь — для ключаря святого Петра, поставленного Господом блюсти чистоту возлюбленной дочери Христовой, святой нашей матери церкви, — побираться по дворам князей мирских, коим самим пристало ждать милостивых повелений от того, кто превознесен Господом надо всеми! Ересь — для святейшего Папы становиться одним из властителей вроде прочих герцогов и принцев, ублажающих свои прихоти и позабывших страх божий! Ересь — не видеть очевидного и не делать подобающего. Вот что такое ересь! А теперь ступайте с Богом. Мне более нечего сказать ни вам, ни тому, кто вас послал.
Не заставляя себя упрашивать, ошеломленный посланец выскочил из кельи и опрометью бросился по коридору, едва не сбив брата Россаля.
— Вы прогнали его? — сдавленным голосом спросил тот, удивленно глядя на обращенного в бегство пастыря Божьего.
— Не я, но истина, — коротко ответил Бернар. — Все это пустое. Слушай же, Россаль, брат мой! Мне было видение: в Британии из вод богомерзкого озера меж пяти гор вышел отрок, невинный с виду, но змей свил гнездо в сердце его.
— Помилуй мя, Господи! — перекрестился брат Россаль.
— Вели призвать сюда Гуго де Пайена.
Длинные разноцветные вымпелы рыцарей-баннеретов весело плескались над головами руанских дворян, выехавших за городские ворота, чтобы загодя встретить щедрого на милости короля и сопроводить его в Руан — распахнутое сердце Нормандии. Людовик Толстый наблюдал с холма, как гарцуют в ожидании его появления доблестные воины — цвет здешнего рыцарства, о чью отвагу раз за разом прежде сокрушались попытки вернуть в повиновение французской короне некогда утерянное герцогство. Больше века французские короли пытались добиться этого, но каждый раз безуспешно. Теперь Нормандия была готова с почетом и покорностью встретить своего законного государя.
Людовик, довольный, улыбнулся — даже если бы он в своей жизни не сделал ничего более, имя его останется живо в потомках из-за одного лишь нынешнего дня.
— Нам пора ехать, — напомнил королю восседающий на смирном ушастом муле аббат Сугерий. — Не след заставлять подданных долго ждать.
— Я дольше ждал этого часа, — горделиво отмахнулся Людовик, но дал шпоры коню.
Трубы взвыли, и кортеж его величества медленно и торжественно тронулся вниз с холма.
— Вот и свершилось, — тихо проговорил Людовик, оборачиваясь к Сугерию. — Мой дед мечтал дожить до сего дня. — Он вдруг усмехнулся. — Интересно, что думает по этому поводу новый король бриттов?
— Можно предложить, что Гарольду III нет дела до нормандских владений его предшественников. Матильда же, дочь короля Генриха Боклерка, прости Господь душу грешника, сейчас тоже вряд ли помышляет о наследстве Вильгельма Завоевателя. Поговаривают, что события последних месяцев подорвали не только ее телесное здоровье, но, увы, и душевное. Она почти не разговаривает и соблюдает настолько суровый траур, что даже король видит ее лишь изредка. Не могу сказать, что Господь безвинно наказал это предерзкое семейство, но следует признать, что Матильда в нем — отрадное исключение.
— Оттого теперь она и жива. И пусть живет себе подальше отсюда, — подытожил услышанное Людовик. — Но как бы то ни было, надо как можно скорее послать моему дорогому троюродному брату Гарольду III высокое посольство, дабы приветствовать его восшествие на престол и убедить в нашем дружеском благорасположении и родственной любви. Следует объяснить Гарольду, что, приняв под свою руку Нормандию, мы вовсе не покушались на его владения, а лишь вернули свои. Необходимо указать, что земли эти были отторгнуты от Франции теми же преступными руками, что отобрали корону бриттов у его деда, короля Гарольда, убитого при Гастингсе. Во всем же прочем между нами не может быть ни вражды, ни разногласий, и я рад буду стать его вернейшим другом во имя процветания наших королевств и во славу Божью.
— Я составлю послание, мой король. Но, боюсь, ваше доброе намерение будет тщетным.
— Что такое? Ты полагаешь, Гарольд откажется?
— О нет, беда не в Гарольде. Я говорю о Бернаре из Клерво.
— Славься! — раздалось со всех сторон. — Славься, король!
— Нынче вечером обсудим, — кинул Людовик, улыбаясь и простирая руки к встречающим его рыцарям.
Праздник, устроенный в честь мирного вступления в Руан короля Франции, должен был запомниться каждому обитателю этой земли на годы годов его. Да и то сказать, не каждый день Нормандия открывает объятия старшей сестре — Франции. Выпитым в тот день можно было заполнить ров вокруг города, а позади него воздвигнуть частокол из костей быков, кабанов, оленей, косуль — и это, не считая мелкой живности.
Музыка за окнами давно уже перестала быть стройной, рожки то и дело взвывали, точно предвосхищая рев трубы архангела Гавриила, струны из оленьих жил скорбно оплакивали безвременную кончину лесных рогоносцев, но танцующие и не думали скорбеть. Дробный стук их деревянных башмаков по камням ратушной площади не давал заснуть даже далеким от празднества божьим тварям.
Впрочем, главному виновнику торжества в этот час было не до сна. Он слушал, нахмурившись. Аббат Сугерий никогда не заботился подсластить пилюлю для своего духовного чада.
— …Поход в Англию несказанно увеличил популярность настоятеля Клервосской обители. Тысячи людей воочию лицезрели ангела Божия, закрывавшего аббата от стрел своими крылами. Свершенное им было не под силу армиям короля Шотландии и принца Уэльса, да и тамошние бароны, которые отнюдь не новички в военном деле, не смогли достигнуть того, чего добился Бернар, едва дав себе труд высадиться на ту сторону Ла-Манша. Он почти захватил Англию!
— Но кончилось это плачевно — его армию буквально искрошили объединившиеся войска Боклерка и Гарольда.
— Какие мелочи… — пожал плечами аббат Сугерий. — Главное, что в этом сражении Бернар самолично поразил грозного демона. А его рыцари заполучили в свои руки величайшую реликвию — нетленную главу Иоанна Крестителя — священный источник Божественной истины. Вслед за тем они были чудесным образом перенесены ангелом Господним едва ли не к воротам Клерво. Что же касается истребленных королем толп — кого во Франции интересуют убитые где-то там англичане?
— Увы, это правда.
— Как я уже говорил, — продолжал Сугерий, — ныне Бернар не признает над собой власти не только королевской, но и папской. Мне доподлинно известно, что Бернар изгнал из Клерво доверенного человека, присланного к нему Гонорием II. Он не дал несчастному даже утолить голод и жажду после дальнего путешествия. Бернар проповедует верховенство Божьей власти в своем лице надо всем миром. Он хочет низвести земных владык до уровня управляющих при своей персоне. Его смирение лживо, а гордыня не знает предела.
— Но ангел Господень с ним.
— Бесконечна хитрость врага рода человеческого, и козни его — не людским чета.
— Ты видишь в проповедях Бернара происки… — король перекрестился, — не к ночи будь помянуто…
— Я не исключаю этого, — пожал плечами аббат Сугерий. — А потому считаю необходимым послать гонца в Рим — с просьбой к его святейшеству учредить высочайшую комиссию для рассмотрения праведности деяний преподобного Бернара. Пока Рим в силах еще что-то сделать.
— Ты хочешь сказать, что мы сами уже не способны противопоставить ничего этому кликуше?
— Увы, мой государь, стоит нам попытаться предпринять любую малость против него, мы получим волну мятежей во всех едва-едва замиренных нами землях королевства. К тому же кому, как не Святейшему Папе, карать и миловать пастырей христианских душ?
— Аминь, — выдохнул король и прислушался: из-за двери доносилось негромкое пререкание.
— Ну что там еще? — крикнул Людовик.
Дверь приоткрылась, и в образовавшуюся щель протиснулся начальник стражи.
— Там граф Фульк Анжуйский, — запинаясь, начал воин. — Он рвется к вашему величеству.
— Рвется? — переспросил христианнейший король.
— Именно так.
— Что ему нужно?
— Не могу сказать, мой государь. Но позвольте заметить: он не совсем одет.
— То есть как не совсем одет?
— Видите ли… — смутился бывалый воин, — прямо говоря, вовсе не одет.
Глава 3
Люди плохи не потому, что они плохи, а потому, что они — люди.
Марк АврелийОтец Гервасий, уже несколько лет возглавлявший Бюро Варваров в богатом Херсонесе, еще раз поглядел на тайнописную цифирь, слагавшуюся в текст категоричного, как обычно, императорского повеления. Мало кому могла прийти в голову мысль, что пергамент с прописанной сметой затрат на богоугодную деятельность церквей и монастырей Херсонесской фемы на самом деле ничего общего не имеет ни с закупкой свечей, ни с раздачей милостыни, ни с разведением садов и виноградников.
За годы беспорочной службы отец Гервасий легко приспособился читать шифрованное письмо, не складывая знаки кода в столбцы, а так — прямо с листа. Но сейчас он счел нужным проверить самого себя. Наморщившись, смиренный монах обреченно вздохнул и нехотя отправился во дворец архонта.
Блистательный дука Григорий Гаврас — архонт Херсонеса — не слишком жаловал представителя Бюро Варваров, однако же в силу обстоятельств был вынужден считаться с этим «оком государевым». Любой неосторожный шаг любого сановника неминуемо вызывал подозрения василевса, и без того не слишком доверявшего своей знати.
Увидев среди дворцовой колоннады сумрачного отца Гервасия, спешащего к нему, архонт невольно обеспокоился. Конечно, реши сей раб божий обвинить его в измене и взять под стражу, наверняка пришел бы сюда в сопровождении целого войска, но и сейчас хмурое выражение лица отца Гервасия не предвещало ничего хорошего.
— Мир тебе, сын мой, — приветствовал он архонта.
— И с тобой да пребудет благословение небес, — с деланным смирением ответил Григорий Гаврас.
— Я нынче получил распоряжение… — продолжал монах безо всякого перехода, — мне велено сообщить тебе…
— Ну что же ты умолк, сообщай. — Архонт сделал знак рукой, приглашая гостя в тронную залу.
— Василевс намерен отправить Симеона в земли франкской империи.
— Моего сына? — нахмурился повелитель Херсонеса. — Зачем?
— Об этом я должен говорить лично с турмархом.
— Но он болен, — отрицательно покачал головой Григорий Гаврас. — Никого не желает видеть. Все то время, которое остается у него от ратных дел, проводит в уединении, погруженный в безмолвную тоску.
Гервасий вздохнул, сочувствуя печали отца.
Не так давно отважнейший из воинов Херсонеса — славный предводитель конной рати — Симеон Гаврас отправился в Кияву, дабы сопроводить племянницу василевса, Никотею. Его путешествие было долгим, а возвращение печальным. В первые дни сын архонта походил на безумца: отказывался от еды, молчал и смотрел, будто сквозь людей, не замечая чьего бы то ни было присутствия. Со временем начал разговаривать, но по-прежнему оставался мрачен, точно душу его язвила незаживающая рана.
Прямо сказать, история, поведанная в Херсонесе пройдохой-авантюристом Анджело Майорано, доставившего скорбного духом турмарха в родные пенаты, мало удовлетворила представителя Бюро Варваров. Рассказы о чудом расступившихся водах Светлояр-озера и Владимире Мономахе, обратившемся в змея, представлялись ему досужей выдумкой, более того — наглой ложью. Но слова Майорано подтверждали воины кортежа. Отец Гервасий был склонен заподозрить сговор, но тут Симеон, выйдя из оцепенения, собственными устами повелел наградить Мултазим Иблиса, как называли Майорано на Востоке, и отпустить, вернув ему захваченный корабль.
Григорий Гаврас чуть замедлил шаг возле распахнутой перед ним двери.
— Турмарха ко мне! — скомандовал он дежурившему у входа в тронную залу офицеру стражи.
— Ты намерен говорить с ним один на один? — Архонт повернулся к идущему следом монаху.
— У меня не было повеления держать распоряжение василевса в тайне от вас, но оно не должно получить огласку за пределами этой залы.
Турмарх Херсонесской фемы Симеон Гаврас не заставил себя долго ждать. Он явился пред отцовские очи, сверкая вычищенной до блеска чешуйчатой броней, в развевающемся пурпурном плаще, с мечом у пояса.
— Ты звал меня, отец?
Архонт указал взглядом в сторону Гервасия.
Симеон равнодушно взглянул на монаха и, отведя глаза, неприязненно поджал губы.
— Да простит меня доблестный воитель, я лишь выполняю предначертанное василевсом. Распоряжение тайное и требующее немедленного исполнения.
Турмарх безмолвствовал.
— Оно касается некоей особы, вам хорошо известной, может потребовать от вас не только храбрости, но также ловкости и мудрой предусмотрительности.
Симеон Гаврас продолжал бесстрастно рассматривать отца Гервасия, точно видел его впервые в жизни.
— Известно ли тебе, что севаста Никотея жива, ныне здравствует…
— Что?! Что ты сказал, монах? — Турмарх, точно камень из баллисты, подлетел к чернецу, едва не сбив его с ног.
Отец Гервасий попятился:
— Жива, здорова и, быть может, в этот час сочетается законным браком.
— Ты лжешь! Озерная пучина сомкнулась над ее головой!
— Сие мне ведомо лишь со слов безбожного мошенника Анджело Майорано, по твоей милости ускользнувшего из моих рук. О том же, что Никотея ныне пребывает в Аахене, во дворце Конрада Швабского, я знаю доподлинно.
Пораженный этой вестью Симеон Гаврас бессмысленно жестикулировал, то открывая, то закрывая рот. Казалось, звуки всех фраз, которые он хотел произнести в единый миг, сцепились меж собой в плотный комок, и теперь турмарх был просто не в силах выдавить из себя ни единого слова.
— Я вижу, мой храбрый друг, ты рад, что она жива.
— Но кто он? — с трудом прохрипел Симеон.
— Как уже было сказано — герцог Швабии. Насколько мне известно, он не представляет собой ничего особо интересного — один из многих рыцарей, коих в Алеманнских землях великое множество.
— Я должен убить его?
— О нет, сын мой, — монах воздел персты к небесам, — сие есть тяжкий грех! Василевс желает, чтобы ты отправился в Аахен и помог Никотее стать императрицей.
Симеон закусил губу, чтобы не взреветь от ярости. Казалось, жги его сейчас раскаленным железом, боль не была бы сильнее той, что он испытывал, выслушивая эти новости.
— Ты можешь потратить на сие предприятие столько золота, сколько будет нужно. Все, кто работает в тех землях на Бюро Варваров, будут находиться под твоей рукой. Но в кратчайшие сроки Никотея должна стать императрицей. Заметь, не женой императора, а именно императрицей. Такова воля нашего повелителя — славнейшего из земных владык.
Симеон тяжело дышал, точно панцирь, привычный до такой степени, что временами турмарх просто забывал о стальной чешуе, вдруг превратился в многопудовые вериги и теснил его грудь. Ища поддержки, турмарх оглянулся на отца — тот смотрел пристально, словно ожидая от сына верного ответа.
— Я… — Симеон до хруста сжал рукоять меча, представляя, с какой радостью раскроил бы череп неведомого ему герцога Швабии. — Я готов.
— Василевс надеется на тебя и облекает высоким доверием, — с ноткой сожаления в голосе напутствовал его отец Гервасий: будь его воля, он бы ни за что не доверил столь щекотливое дело такому бесхитростному, хотя и, несомненно, храброму юнцу. Лучше бы взялся сам.
Но Симеон не уловил нотки разочарования в тоне монаха, зато явственно услышал радостный вздох своего отца.
Людовик Толстый озадаченно поглядел на верного советника. Юный Фульк Анжуйский, наследник одного из крупнейших ленов[8] королевства, был не просто кравчим августейшего монарха, он являлся важнейшей фигурой в великой «шахматной баталии». Фигурой, ценность которой могла легко поменяться в зависимости от капризов погоды или желудочных колик нынешнего герцога Анжу.
— Пусть войдет, — повелел Людовик, нахмурив и без того прорезанное тремя рядами глубоких морщин чело.
Начальник стражи молча поклонился и исчез за дверью, а через мгновение в освещенной факелами зале возник сам виновник ночного переполоха — граф Фульк Анжуйский. На разодранной в клочья нижней рубахе у плеча отчетливо проступало кровавое пятно.
— Как это понимать, граф? — оглядывая сконфуженного кравчего, гневно спросил король. — Тебя ограбили?
— Нет, мой государь, — опустил глаза юноша.
— Тогда что же?
— Мне совестно об этом говорить.
— Проклятие! — выругался Людовик. — Так не делай того, о чем потом будет совестно рассказывать!
Фульк тяжело вздохнул, не поднимая взгляда с застеленного восточным ковром пола.
— Это была честная схватка. Я убил его.
— Господи, сделай так, чтобы я ослышался! — Король сделал шаг к юноше. — Что ты сказал?
— Это была честная схватка, — повторил анжуец.
— Впервые слышу о манере вести честный бой в исподнем. Говори толком, кого ты убил, несчастный?
Юнец вздохнул поглубже, собираясь то ли с мыслями, то ли с духом, то ли с тем и другим разом, и, наконец, поднял глаза.
— Сегодня на празднестве я познакомился с одной девушкой… Очень милой девушкой… Я ей тоже понравился…
— Ну и?
Фульк искоса поглядел на аббата Сугерия, сосредоточенно перебирающего четки.
— Мы уединились тут неподалеку… Но, поверьте, ничего не было!
— Во всяком случае, от этого «не было» кого-то уже не стало, — резко оборвал его король. — Отвечай — кого?!
— Мы уединились на сеновале, и вдруг ее брат… старший брат… он напал на меня с мечом… А мой клинок лежал в стороне. А еще с ним были трое слуг… — довольно бессвязно продолжал кравчий. — Там в сене торчали вилы, я успел схватить их…
— Кого ты убил, несчастный, говори?!
— Ее брата. Но он тоже ранил меня!
— Его имя! — взревел король.
— Робер де Вальмон.
— Что?!. Ты хочешь сказать, что вознамерился совратить дочь коннетабля де Вальмона Мадлен, и тебя застукал один из ее братьев?
— Я не пытался… Мы понравились друг другу…
— Молчи, глупец! — рявкнул Людовик. — Ты не представляешь, что натворил! Виконты де Вальмон — младшая ветвь графов Д’Иври, а те через своего основателя — Рауля Д’Иври — в близком родстве с родом герцогов Нормандских. Завтра же нормандцы объявят, что я вознамерился истребить местную знать, а послезавтра мир в этих землях, ради которого мы проливали кровь столько лет, снова пойдет прахом.
— Но я же не хотел! — тихо всхлипнул Фульк. — Я оборонялся!
— Оборонялся!.. — устало передразнил Людовик Толстый. — Ладно, ты сказал, там были слуги — что с ними?
— Я их обезоружил и хорошенько отдубасил тупым концом вил.
— Ловкач! Один против четверых, — восхитился король. — Вот посмотришь, завтра слуги объявят, что ты напал на молодого Вальмона, когда тот защищал честь сестры от французского злодея-насильника. И она — обещаю! — подтвердит это.
— Не может быть! Она такая добрая!
— Может, глупец! Может, и подтвердит! — заорал король. — У Мадлен, кроме убитого тобой, еще семеро братьев, и все — старшие. Они заставят ее говорить что угодно, лишь бы спасти честь рода. И скажу более: даже если сегодня я как верховный сюзерен дарую тебе помилование, ни один из Вальмонов и их многочисленной родни не признает убийцу члена своей семьи обеленным. Они будут жаждать твоей крови.
— Что же мне делать? — обескураженно пробормотал Фульк.
— Что делать, — задумчиво глядя на графа Анжуйского, пробурчал венценосец. — Раньше следовало соображать, прежде чем по сеновалам девок щупать. Не при святом отце будь сказано. — Он покосился на аббата Сугерия.
Людовик не спускал глаз с юноши, и тот попытался сжаться под тяжелым, будто в нем был сосредоточен весь немалый вес тучного монарха, взглядом.
Что мудрить, Фульк был, несомненно, хорош собой — той редкой мужественной красотой, которая обычно выдает старинные римские корни. Он выглядел старше своих лет. Военное ремесло, которое молодому графу довелось изучать с мечом в руках, а не по трактатам, закалило его характер, добавляя правильности черт гордую стать молодого льва.
— Через несколько месяцев ты должен стать мужем наследницы герцога Буйонского. Если Господу будет угодно, в будущем этот брак принесет тебе корону Иерусалимского королевства. Ты же скачешь, как молодой жеребец, почуявший запах кобылки.
— Я был готов просить у вас руки Мадлен, — с трудом выдавил юноша.
— Молчи! Де Вальмоны — хороший род, но ты рожден для иной участи. Теперь же говорить о сватовстве к Мадлен и вовсе бессмысленно. Вероятно, в скором времени братья упекут ее в монастырь, хорошо, если еще только послушницей.
Аббат Сугерий недовольно покачал головой, но не стал прерывать речь государя.
— Сейчас надо подумать, как спасать твою голову. Где одежда?
— Все осталось там, — обреченно вздохнул Фульк. — На крики начал сбегаться люд…
— Понятно. Стало быть, и без слов Мадлен по гербу все легко узнают, кто составлял ей компанию этой ночью.
— Что мне оставалось делать?
— Сейчас это уже совершенно не важно. Я велю людям молчать о твоем появлении здесь. Тебе же следует поскорее убраться из Руана и направиться в Париж. Конечно же, братья обесчещенной девицы будут искать тебя не только в стенах города, а, вероятно, по всей Франции, но в столице легче укрыться. Когда я вернусь туда, отправишься с посольством в Рим. Надеюсь, в Италии до тебя не дотянутся, заодно испросишь себе отпущение грехов.
— Но как мне выбраться из Руана?
— Чуть свет в Париж отправляются возы с дарами Нормандии. Сейчас спрячься там — среди связок мехов. Никто не посмеет искать беглеца меж королевских подарков. А дальше потрудись сам позаботиться о собственной безопасности.
* * *
Жизнь, как полагал Федюня Кочедыжник, была презабавной штукой. По рассказам отца, когда мальчику было немногим больше месяца, на поречное займище,[9] где располагался стан его рода, наскочил отряд печенегов. Свирепые грабители совсем уж было вознамерились разорить беззащитное селение, но вдруг увидели спящего в колыбели Федюню, а рядом — преизрядных размеров аспида. Змей, свернувшийся кольцом вокруг ребенка, поднял голову и угрожающе зашипел на разбойников. Узрев в этом недобрый знак, печенеги бросили захваченное в стане добро и умчались обратно в степь.
Много позже Федюня понял, что, почитай, все соседи, да и захожие люди, не только не разумеют змеиные речи, а и боятся его друзей пуще огня. Но это мало заботило неразумного отрока, покуда судьба не занесла его в Херсонес. А там мальцу чуть и вовсе конец не пришел за такую малость, как кормление змей. И лишился бы живота, не появись бог весть откуда люди заморские, которые его из подземелья вытащили да увезли за тридевять земель. Этих-то витязей ни змеями, ни пламенем было не пронять, и оттого столь покойно у Федюни на душе сделалось, что, казалось, готов он был век с ними идти, куда прикажут. А уж тем паче, что шли они к самому что ни на есть заветному Светлояр-озеру.
Об этой земле, что под ясной озерной водой — о граде Китеже, — Федюня слышал, еще на коленях у прадеда сиживая. Сказывали, что в том краю стоит змеиного царя терем, и кто по тропе-волне к потаенному крыльцу дойдет, тому суть всякой вещи, всякого слова откроется. Оттого и мечтал Федюня до подводного града дойти, а коль повезет, то и до самого змеиного царя добраться. Да и то сказать, отчего не добраться, когда родился на свет в полуночный час на Ивана Купалу, так что всякий тайный путь точно солнцем высвеченный?! Поди, не зря Кочедыжником[10] прозвали.
Долго ли, коротко ли, где конным, где пешим, а добрался Федюня до Светлояр-озера. Да вот незадача: как воды расступились, он помнил, как в град входил — помнил. А далее точно сон дурной. Только-то и виделось — глаза огромадные, желтым пламенем горящие. Ни проснуться, ни взор отвести. А как очнулся — тропа средь вод, да только места незнакомые и люди, по всему видать, чужестранные и до жути диковинные. Хотя все, что они лопочут, понятно, но речь вроде как и незнакомая, нелюбезная. Нет, чтоб гостя к обеду пригласить — схватили, в железа заковали, повезли невесть куда.
«Насилу ушел, — подумал Федюня и тут же осекся. — Отчего же насилу?»
Привезли его в неведомый град к людям грубым да неласковым — это верно, а что ж касательно остального — так сущая безделица. Как притянули волоком на судилище, так и вздумалось отроку, что надо бы поспешать от того места подальше. Тут-то копья у стражи змеями обернулись, и путы сами собой наземь спали. Так что шел теперь Федюня по городской улице куда глаза глядят, да и сам не ведал куда.
Стражи у ворот, увидев незнакомца в чудном заморском платье, от чрезмерного усердия бросились преграждать ему путь. Глянул на них Федюня с укором, те и застыли в оторопи. Когда мимо отрок проходил, и словом не обмолвились — так и прошествовал через городские ворота. Да только за воротами, почитай, весь белый свет, а что там искать: может, к отчему дому путь-дорожку — так ведь нет отчего дома.
Закручинился было Кочедыжник, а потом хлопнул себя по лбу, точно умишко, задремавший в граде Китеже, обратно возвращался. Ведь други-то милые — дядька Лис и Камдель, витязь заморский — тоже по тракту нерукотворному под воду ушли! Может, и они нынче где-то поблизости обретаются? А может, и вся дружина княжья тут.
Федюня посторонился, пропуская мимо возы, запряженные волами.
— Подайте! — послышалось рядом. — Смилуйтесь, не дайте помереть от голода калеке убогому!
Только сейчас Федюня заметил, что по обочинам дороги сидят полдюжины нищих, протягивая руки к медленно катящимся возам.
— Здрав будь, почтенный, — поклонился Федюня ближайшему калеке, сидевшему в маленькой тележке, выставив сухие нехожалые ноги.
— Где уж там, — отмахнулся тот. — Здрав будь… Почтенный… Чего надо, малый?
— Вы тут у дороги сидите, может, слыхали — не объявлялся ли в здешних краях князь Мстислав с дружиной?
— Не знаю о таком, — покачал головой нищий. — Вот нынешний король Гарольд Английский, тот — да, объявился. Сказывают, прям из озера вышел. Да не один, а с целым войском! Врут, поди. Но складно врут.
— Ой, не врут, дяденька! — всплеснул руками Федюня. — А где ж ныне та рать?
— Так говорю же — в Лондоне. Где ж ей быть? Гарольд — всей тамошней земли король.
— А как отсель до того Лондона добраться?
— Эх, далече, малый. Ноги б ходили — ей-ей, сам отвел бы. А языком всех миль не перечтешь.
— Ну так пойдем. — Федюня протянул нищему руку, помогая встать.
Тот вознамерился было оскорбиться злой насмешкой или поведать глупому чужестранцу, как во время схватки при Фаулскирке опрокинувшаяся лошадь привалила молодого оруженосца Гарри из Суонси, навсегда лишив возможности двигаться иначе, как на этой злополучной тележке…
Он уже открыл рот для того, чтобы высказать мальцу горький упрек, но вдруг померещилось калеке, будто возле колеса тележки скользнула змеиная тень. Сам того не осознавая, схватился бедолажный за протянутую руку, и тут ноги его точно пламенем ожгло. «Куснула-таки, сволочь, — с досадой подумал он, вскакивая. — Сейчас, поди, и помру». Однако жгучая боль исчезла так же быстро, как и появилась, а он продолжал стоять.
— Пошли, — потянул за руку Федюня, словно удивляясь, почему его собеседник медлит.
Тот сделал шаг, еще один, ошарашенно глядя на собственные нижние конечности, затем подпрыгнул, выделывая замысловатое коленце, дробно отбарабанил ритм стремительной джиги по наезженному тракту.
— Йо-ха! — крикнул он, бегом устремляясь от города.
Ни слова не говоря, Федюня побежал вслед за ним.
— Ты видел? — указывая на улепетывающую невесть от кого парочку, спросил соседа один из соискателей лишнего пенни.
— Ага, — только и смог пробормотать тот.
— Слышь, а у Гарри-то ноги и впрямь неходячие.
— И то…
— А змею видел?
— Так ведь, как же…
— А ведь не было змеи! Мелькнула и пропала. Что ж такое выходит, Господи спаси?! — перекрестился первый нищий. — А ну, догоняем! Этакое не каждый день случается!
И оба «страдальца», не сговариваясь, вскочили на ноги и, позабыв о костылях, устремились вслед Федюне.
Григорий Гаврас с явным облегчением глядел, как почтенный отец Гервасий минует дворцовую стражу и покидает двор его резиденции.
— Ты правильно поступил, сынок. — Он повернулся к Симеону. — Я понимаю, как тебе сейчас тяжело, но, видно, тут уже ничего не поделаешь.
— Сие ведомо одному лишь Господу, — смиряя клокотавшее в груди буйство, выдавил турмарх. — Я не верю, что Никотея добровольно избрала себе в мужья какого-то никчемного алеманнского владетеля. Тут кроется тайна! Вероятно, севасту принудили дать согласие на брак! Я должен быть рядом с ней. Я должен ее вызволить! И если узнаю, что она в руках врагов…
— Прекрати, — оборвал его речь архонт. — Враг не стал бы брать Никотею в жены и сажать ее с собой на герцогский трон.
— И все же я не верю! — упорствовал младший Гаврас.
— Веришь или не веришь, суть дела это не меняет. Если Никотея еще и не стала герцогиней Швабской, то к твоему приезду станет ею наверняка.
Симеон шумно выдохнул, и ноздри его гневно раздулись.
— Молчи и слушай, — решительно остановил его отец. — Я понимаю твою любовь, твою безумную страсть, но до сего дня она приносила нам один только вред. Милостью небес ты вернулся в свой дом невредимым. И еще большей милостью после твоего возвращения не разгорелась война между Херсонесом и Киявой. Умерь свой пыл. Никотея не только прекраснейшая из женщин — она наша союзница. Вернейшая из наших союзников! Или ты забыл, что смерть брата по-прежнему не отомщена, и василевс, замысливший сокрушить дом Гаврасов, по-прежнему властвует в Константинополе как ни в чем не бывало? Я верю, что Господь не оставляет нас милостью своей, и именно поэтому Никотея сейчас пребывает в сердце империи франков. Я вижу, что Вседержитель в память святого нашего предка Федора Стратилата благосклонен к Гаврасам. Сказано, что кого Господь намерен покарать, он лишает разума — не этим ли можно объяснить, что тебя, а не кого-либо иного, василевс отправляет в Аахен? Не препятствуй же божьему промыслу, ибо сила человечья ничто пред могуществом Его. Отправляйся к франкам и делай то, что велит тебе василевс. Пусть Никотея станет владычицей Западного мира. Вместе нам не составит особого труда одолеть презренного Иоанна Комнина, а там… — внимательно поглядел он на сына. «Благороден, слишком благороден, — подумал архонт, — такой не станет бить кинжалом в спину. Такой бросит вызов, чем бы это ни грозило». — Там, я верю, Господь и далее будет на нашей стороне.
Симеон Гаврас нахмурился.
— Ступай, готовься в путь!
Когда турмарх вышел из тронной залы, Григорий Гаврас медленно прошествовал к резному золоченому креслу — подобию императорского трона и, водрузившись на него, ударил посохом об пол.
Брэнар, командир варяжской стражи, почти бесшумно возник перед ним.
— Мой сын отправляется в Аахен, — глядя на суровое лицо постаревшего в битвах воина, проговорил архонт.
— Мне это уже ведомо.
— Тебе знаком алеманнский язык?
— Да, — склонил голову северянин.
— Возьми человек пять надежных бойцов, ты отправляешься с Симеоном.
Варяг кивнул.
— Твоя задача — оберегать его от любого врага, от явного, тайного, а также от любого, какой только может появиться — упокой, Господи, душу его.
Глава 4
Все могут короли, но королевы хотят еще больше.
Борис КрутиерНикотея открыла глаза и, не двигаясь, перевела взгляд с темного сырого потолка на стены с закопченными полосами — воспоминанием о горевших здесь недавно факелах. Расшитые охотничьими сценами занавеси шпалер чуть плескали, вздуваясь от пола, отчего травящие вепря собаки на них казались живыми, но они не заинтересовали герцогиню. «Похоже, там сквозняк», — мелькнуло у нее в голове.
Севаста приподнялась на локте, пытаясь лучше рассмотреть, откуда тянет ветром. Конрад Швабский лежал рядом с нею, раскинувшись в блаженном изнеможении. Никотея чуть заметно усмехнулась — как учила некогда Мафраз, если желаешь чего-то добиться от мужчин, обращайся с ними так, чтобы даже несчастье с тобой они предпочитали счастью с соперницей.
Уроки знойной персиянки не прошли даром. Этой ночью Конрад впервые узнал, какой может быть женщина, и озадачился вопросом: кто же были все те, с кем он прежде встречался в постельных баталиях. Неожиданно для себя Никотея тоже почувствовала, что между нею и этим рыжим мускулистым варваром существует какая-то непонятная ей связь, но это ощущение вовсе не порадовало ее. Привязываться, а уж тем паче влюбляться она не собиралась.
Герцогиня мотнула головой, словно пытаясь отогнать непрошеный морок, и с удивлением увидела сморщенную, помпезно одетую старуху, неподвижно восседавшую на табурете в углу опочивальни.
Заметив пробуждение госпожи, та, ни слова не говоря, поднялась и хлопнула в ладоши. По этому сигналу из-за вздуваемой сквозняком занавеси появились, точно выплыли, четыре дебелые вальяжные девицы. Каждая с платьем в руках.
Старуха, кланяясь, приблизилась к супружескому ложу, чтобы помочь герцогине подняться, и на довольно сносной латыни предложила ей выбрать сегодняшний наряд.
Никотея молча ткнула в одно из них, отворачиваясь, чтобы скрыть досаду. Ей вдруг представилось, что, проснись Конрад хоть на миг до нее, в комнату наверняка бы ввалились увальни вроде тех, что вышиты на гобелене. В каком виде они могли бы ее увидеть?!
Невзирая на проповеди сестер-монахинь, воспитывавших дочь Анны Комнины на протяжении нескольких лет, Никотея не только не верила в греховность плоти, но и откровенно гордилась своей красотой. Однако не подобает демонстрировать всем и каждому то, что предназначено восхищенным взорам немногих. «Эту церемонию надо будет изменить», — подумала знатная ромейка, скрывая досаду и еще раз за сегодняшнее утро сожаления об отсутствии Мафраз.
Наскоро омывшись теплой водой из серебряного рукомойника и с помощью служанок придав себе вид гордый и величественный, Никотея вышла из опочивальни. Ночные стражи резво подскочили с лавок, на которых дремали последние часы, с усердием выражая нерушимую преданность и набирая воздух в грудь, чтобы прокричать здравицу молодым.
— Тише, он спит, — властно остановила их герцогиня, и эти слова, произнесенные на латыни, к ее радости были столь выразительны, что не нуждались в переводе.
Никотея обвела взглядом обветренные лица соратников мужа. Все как один — воинственные бородачи, мало склонные к каким бы то ни было размышлениям.
Севаста видела подобных людей в Константинополе среди наемников. Такие не боятся смерти, ибо не слишком отличают ее от жизни. Хорошо, что они есть под рукой у Конрада, прекрасно, что их много, но сейчас ей нужно было совсем другое.
— Где рыцарь Гринрой? — осведомилась она.
— Я здесь, моя госпожа. — Рыцарь Надкушенного Яблока появился на пороге. — Все выполнено.
— Что «все»?
— Все, как вы велели. Вернее, велели бы, если бы изволили подняться до того, как я исполнил то, что вы пожелали бы велеть в противном случае.
— О чем ты? — ошарашенная услышанным проговорила Никотея.
Она была большой почитательницей ораторского искусства, но с утра подобные фразы не укладывались у севасты в голове.
— По вашему невысказанному, но воспринятому мной желанию я распорядился нагреть купальню и подготовить воду для омовения.
Никотея поглядела на Гринроя почти с нежностью. Она сделала знак безмолвно ждущим дамам свиты сопровождать ее и, поблагодарив спасителя, попросила его идти рядом, указывая дорогу.
— Гринрой, мне нужна твоя помощь, — произнесла она, когда процессия наконец покинула дворец и отправилась в старые римские термы, не так давно приведенные в порядок по требованию севасты.
— Госпожа может рассчитывать на меня не менее, чем я сам.
Никотея улыбнулась. Этот ловкий пройдоха был ей по душе.
— Насколько мне ведомо, в вашей стране существует довольно странный обычай выбирать императора…
— Отчего же странный? Когда Господь распределяет волю свою на двенадцать особ, как паштет за столом, получается намного забавнее, чем ежели бы все случалось этак попросту, меж родней. Время от времени людям надо давать позабавиться, иначе их охватывает вздорное желание сетовать на судьбу и хвататься за оружие.
Никотея вспомнила, как в смертный час ее деда милейший дядя Иоанн с телохранителями захватил императорский дворец и отстранил от трона ее мать и отца. «Среди родичей это тоже бывало забавно!»
— Сейчас, когда император мертв, на его место прочат Конрада и еще кого-то. Кого же?
— Есть две кандидатуры. Первая — Лотарь Саксонский, он немолод, не слишком богат и не имеет особого влияния на ход дел в Империи. Хотя довольно хитер и себе на уме. Вторая — герцог Баварии Генрих, прозванный за храбрость Львом. Этот куда серьезнее.
— Львом? — переспросила Никотея. — Он действительно так храбр и силен?
— О да, этого у него не отнять.
Герцогиня внимательно поглядела на спутника:
— А что отнять?
— Для начала — голову, — делая задумчивое лицо, ответил Гринрой. — Хотя для этого надо уже быть императором. А пока можно лишь возблагодарить Господа за то, что, наделяя Генриха талантами, он не слишком расщедрился, отвешивая мозги в посудину над его плечами. Но толпа любит его и почитает непобедимым.
Никотея сложила губы в грустную улыбку. Что мудрить, ее Конрад также не блистал тонким разумением и познаниями в деле управления государством, но ежели выбирать следовало именно по этим качествам, то, возможно, Империя надолго бы осталась без правителя, как уж тут ни выбирай. Не сажать же на престол самого Гринроя?!
Чтобы отвлечься от этих мыслей, Никотея попыталась сосредоточиться на воображаемой фигуре Генриха Льва.
Однако в голову почему-то лезло воспоминание о Константинополе, о львятнике, в который очень давно водил ее венценосный дед Алексей Комнин. «Львы не охотятся, — вспомнилась ей брошенная тогда василевсом фраза. — Они лишь охраняют свою территорию. Добычу приносят львицы. Как ты знаешь, — говорил владыка Константинополя, — само наименование „василевс“ означает „идущий путем льва“, потому он и ведет себя, как лев. Так что накрепко запомни, моя девочка, чего следует ожидать от земных владык и о чем заботиться самой».
Из константинопольского львятника ее мысли перенеслись в знойные пустыни Ливии, где эти грозные звери обитали на воле. Сейчас в тех землях, обливаясь потом и не жалея крови, мчались в бой собратья Гринроя — такие же, как он, обладатели золотых рыцарских шпор…
«Лев охраняет территорию, — подумалось Никотее, — а Генрих Лев к тому же хочет сделать своей территорией все земли Империи. Надо придумать ему другое занятие, чтобы добиться успеха».
— Скажи, Гринрой, — обратилась она к сопровождающему, — отчего вдруг столь доблестный рыцарь, как герцог Баварский, не отправился в Святую Землю, дабы отвратить сарацинов от мысли отвоевать гроб Господень?
Гринрой удивленно поглядел на хозяйку. Он прекрасно знал, что ромеи недолюбливают воителей, принявших крест.
— Кто знает, может, о землях своих печется, а может, отчего и недосуг. У него под боком своих язычников хватает.
— Язычники? — заинтересованно переспросила Никотея.
— Да, пруссы. Совершеннейшие дикари. Живут в лесах и болотах. Никому прохода не дают.
— А разве не подобает христианскому рыцарю, принесшему обет нашей матери Церкви нести слово Божье народам, прозябающим во тьме духовной?
— Оно, конечно, так… — с сомнением подтвердил Гринрой. — Но чтоб эту тьму разогнать, не одну деревню зажечь придется.
— Стало быть, — гнула свою линию севаста, — если римский понтифик объявит крестовый поход на этих самых дикарей-пруссов и прочих северных варваров, есть немалая вероятность, что Генрих Лев примкнет к нему.
— Да, но… — Гринрой осекся, улавливая мысль герцогини. — Но тут нам понадобится верный и чрезвычайно смышленый человек, имеющий духовный сан и к тому же не менее ловко владеющий словом, нежели ваш муженек и мой господин — рыцарским копьем.
— Несомненно, ты прав. Нам очень нужен такой человек.
— У меня есть один на примете, — обнадеживающе заверил рыцарь Надкушенного Яблока. — Мой дядя Эрманн — аббат монастыря святого Стефана, неподалеку от Аахена.
— Он надежный человек?
— Да уж, вне всякого сомнения. Я вырос при этом самом монастыре. Дядя Эрманн заменил мне отца, мать, няньку — в общем, всех родственников и учителей, вместе взятых. К тому же преподобный Эрманн уже сослужил вам некоторую службу.
— Какую же?
— Именно он извлек из пыли веков неведомый даже в те самые века трактат о блаженной великомученице Никотее.
Герцогиня остановилась и пристально впилась глазами в лицо собеседника. На физиономии Гринроя в этот миг читалось столько возвышенного благолепия, что усомниться в достоинствах рекомендуемого им родича было так же неуместно, как и в подлинности названного трактата.
— Ты прав, друг мой. Столь разумный, многомудрый святой отец будет нам полезен, хотя, как мне представляется, в Рим ему удобней отправиться уже в сане викария, а в скором будущем — архиепископа Кельнского.
— Я могу передать ему это? — вкрадчиво осведомился Гринрой.
— Да, — без малейших колебаний ответила Никотея.
— А как же нынешний архиепископ?
— Это уже мое дело. А ты позаботься еще вот о чем: в ближайшее время необходимо собрать здесь как можно больше вельмож, в том числе — и в первую очередь — князей-электоров. Думаю, великий рыцарский турнир в честь нашей свадьбы с Конрадом — достойная причина для этого.
— Несомненно, моя госпожа.
— Тогда к полудню сообщи мне, что необходимо сделать, чтобы все обставить наилучшим образом.
Никотея ступила на крыльцо купальни, и склонившийся пред ней Гринрой подумал с нескрываемым удовольствием: «Наступают весьма забавные времена».
Всякий, кто впервые попадает на зеленые, радующие глаз луга Нормандии, наблюдая неспешное, глубокомысленное брожение пасущихся коров, любуясь башнями замков, гордо царящими над округой, никогда не представит, каким грозным и подчас кровавым было прошлое этой земли.
За три века до того, как обозы с подарками для короля Франции выкатили из Руана в Париж, змееголовые дракары викингов причалили к этим землям. Такое случалось и прежде. Но на этот раз они причалили не для того, чтобы, ограбив побережье, вновь устремиться в море, а чтобы остаться здесь навсегда. В те годы северные земли, точно вулкан, извергающий потоки лавы, выбрасывали из себя великое множество смельчаков, не желавших повиноваться законам набирающих силу конунгов. Где только не появлялись их утлые, но быстроходные суда с бесстрашными — воистину, железными — экипажами, готовыми сражаться до смерти, а если можно, то и после нее.
Земли Нормандии получил один из таких северных вождей — Ролло Пешеход. Король Франции, измученный набегами норманнов-викингов на свои владения, даже и на сам Париж, даровал разбойничьему атаману феод в устье Сены, герцогский титул, а заодно и руку своей дочери. Стоит ли говорить, что очень скоро все побережье было заселено воинственными искателями легкой наживы, и в медный грош не ставящими короля, да и собственного герцога почитающими не так, чтобы слишком. В оправдание незадачливого монарха возможно привести лишь то, что далеко не он один пытался обрести мир в обмен на землю.
А норманны продолжали идти и идти, захватывая все новые территории в разных концах света: Русь, Ютландия, Британия, Ирландия, Шотландия, Фризские земли, французские, а дальше пуще — южная Италия, Северная Африка и какие-то далекие края, только и оставшиеся в легендах счастливой цветущей страной Винланд. Впрочем, со временем яростный пыл завоевателей уходил в прошлое, а торговые связи между сородичами оставались. Потому-то из далекого гнезда Сокола Рюрика, из господина Великого Новгорода шли в Нормандский Гавр ладьи с черными соболями, чернобурыми лисами, белками, куницами и прочим пушным товаром. Конечно, не только из Великого Новгорода, да и из него не одни лишь меха: мед, пенька, знаменитые на всю Европу брони новгородские…
Но Фулька Анжуйского на данный момент интересовали именно меха, и по большей мере потому, что среди них он устроил себе временное убежище.
Поздний август радовал жителей Франции нежаркой, но солнечной погодой. Белые облака на горизонте временами представлялись далекими парусами, и ветер, то и дело впадавший в дрему, порою все же просыпался и вздымал их в небесную синь, надувая облачные фигуры одна диковиннее другой.
Наследнику Анжу было не до солнца и не до облаков. Он больше бы обрадовался, если б за бортами повозки внезапно ударил мороз, поскольку среди груды собольих шкурок царила неимоверная жара. Кроме того, уже пару часов Фулька терзала необходимость срочно покинуть возок и уединиться в придорожных кустах, помышляя о высоком. Небольшой запас еды и флягу с вином он прихватил с собой в дорогу, но это…
Забираясь в возок, юный граф вовсе не планировал задерживаться там надолго. Он надеялся выбраться из него вскоре после того, как кортеж покинет стены Руана. В конце концов всякий при французском дворе знал кравчего его величества, а объяснение, что делал вельможа среди королевских подарков — дело пятое. Не стражникам же с возницами о том рассказывать?! Напился и заснул — вся недолга. Но увы, надеждам Фулька Анжуйского не дано было сбыться — едва возы выкатились за городские ворота, как к говору французской стражи начало примешиваться звучное нормандское наречие.
В отличие от латинизированного языка галлов этот говор был перенасыщен данскими и свейскими корнями. В Анжу нормандцы были не редкостью, и Фульк хорошо понимал их речь, слабо доступную жителям Иль-де-Франс.[11] Изредка северяне обменивались фразами с прочими стражами, но по большей части говорили между собой.
Сейчас, корчась от нестерпимой муки, Фульк уловил слова, доносившиеся за бортами фургона…
— …Ведь кто таков по сути этот Роже Сицилийский? Так, выскочка, мародер… Он взял герцогство на копье в тот час, когда здесь, что мудрить, и сражаться было некому. Точно конокрад, похитивший коня у зазевавшегося хозяина.
— Точно-точно, конокрад! И продал его толстяку, совсем как уворованную лошадь. Для рыцарей нашей земли это несмываемый позор, — продолжал гнуть свое первый голос.
Фульк Анжуйский сцепил зубы, чтобы не выдать себя стоном. Не было сомнений, что среди дворянства Нормандии далеко не все с радостью приветствовали возвращение герцогства в материнские объятия Франции. Но здесь речь шла не просто о недовольстве.
— Если королева Мод и ее заморский жених согласились отдать толстяку наши земли, то как не вспомнить о потомстве Рауля Д’Иври, ведь он был младшим братом Ришара I Благословенного. И кому, как не его потомкам, владеть герцогским венцом.
— Да-да! Он прямой наследник Ролло Пешехода, не то что этот Отвилль, посаженный наместником в Руане.
— Ничего, пусть себе покуда сидит и задает гнусному обжоре ужины да обеды. Все, кому дорога Нормандия, в богородицын день соберутся в Канне.
— Беда только, что король не останется в гостях до того дня.
— Ну, это как сказать, — насмешливо ответил первый всадник.
Чуть не плача от унижения, Фульк Анжуйский свернулся в клубок, обхватывая руками колени и катаясь в меховой колыбели, чтобы хоть как-то унять страдания. И все же слова, доносившиеся из-за кожаного полога, застряли в его памяти, точно вбитые гвозди.
«Это мятеж! — думал он, ворочаясь с боку на бок. — Надо предупредить короля! На первой же стоянке выскочу, и будь что будет! Если не предупредить Людовика, они могут поймать его, точно щегла в силки!»
Долго ли, коротко ли, кортеж остановился на привал. Полуденное солнце жгло, заставляя всадников укрываться в тени ближайшей рощи. Фульк услышал, как спрыгивает с козел возница и распрягает лошадей, как удаляются голоса стражников.
«Кажется, самое время! — быстро выбравшись из мехового плена, он высунул нос из-за полога. — Вроде все тихо». Одним движением он соскочил наземь и…
— Ага! Есть! Попался!
Никогда нормандская речь так не раздражала молодого графа. Он схватился было за меч, но вдруг с отчаянием понял, что сейчас он просто не в силах управляться с оружием. Между тем четверо мужчин, судя по внешнему сходству, несомненно, братья, со всех ног мчались к нему с обнаженными клинками. Еще вчера вечером подобные, хотя и более тонкие, черты лица вызывали в нем сильнейший душевный трепет. Нынешние чувства были совсем иного рода.
Понимая, что в этих условиях бой невозможен, Фульк кинулся наутек — туда, где слышался гомон возниц, плеск волн и ржание коней.
— Грабят! — заорал кравчий первое, что пришло ему в голову. Ему ужасно не хотелось привлекать к себе излишнее внимание, но он понял, что все это время братья де Вальмон, разгадавшие королевский план, но не смея обыскивать возы, просто подстерегли его, точно выкуривали лису из норы. И что попадись он в их руки, расправа по суду, или же без суда, будет одинаково скорой. А потому сейчас он бежал, не чувствуя земли под ногами, и вопил как оглашенный, надеясь хоть немного задержать мстительных нормандцев.
Но те были совсем близко. Как охотники, умело загоняющие быстроногого оленя, они ловко отрезали Фульку дорогу к выпасу и теперь вытесняли его в сторону высокого обрывистого берега Сены. Граф Анжуйский уже сполна осознавал это, но иного пути не оставалось. Он пробовал метнуться вправо, влево, но тщетно. Де Вальмоны каждый раз становились у него на пути. Еще минута — и Фульк Анжуйский оказался у самой кромки берега, на краю утеса, отвесно уходящего в речную глубину.
Братья с обнаженными мечами приближались к обидчику осторожно, без суеты и спешки. Вдали виднелись возницы и стражники, с интересом наблюдающие за происходящим. Никто из них и не думал связываться с воинственными нормандцами, должно быть, принимая кравчего за пойманного на месте преступления грабителя.
Фульк отступал, держа в поле зрения каждого из де Вальмонов. Те подходили все ближе, шаг за шагом, готовые ринуться в бой. Юноша оглянулся — Сена катила свои зеленоватые волны, неся в Атлантику начавшие опадать листья.
«Помилуй меня, Господи!» — прошептал он и, резко оттолкнувшись, бросился в воду.
Федюня и его спутники шагали по изъезженному повозками тракту, по разбитым колеям, змеями ползущими с холма на холм.
— До Лондона путь неблизкий, — развлекая беседой немногословного парнишку, вещал Гарри. — Кораблем бы оно быстрее да сподручнее, но только где денег взять… И то сказать, ежели мимо Принстона морем идти, можно и вовсе жизни лишиться. Там живет чудище морское, прозываемое Кракемар — ни дать ни взять, аспид подводный, только длиннющий, вон как та сосна, — он указал на одиноко растущее дерево, — или еще длиннее. Но лицо у него, сказывают, человечье, и глазища — просто жуть! Он этими глазищами на любых храбрецов оторопь наводит. А то еще может обвить корабль и переломить, точно краюху хлеба. Так что сушей — оно спокойнее.
— Нет, дяденька, не спокойнее. Откуда же покою взяться, когда всяк на ближнего как на врага смертного глядит, и оттого в душе яд копится и душу в труху разъедает. А Кракемар — он по сути добрый, любой твари помочь готов. То, что корабли ломает, — то байки. Ну а касательно страха, то ведь если ему в душе гнездиться негде, он человека и не донимает. Не Кракемар пугает, а злодей, ядом своим уязвленный, страшится.
— Чудно ты говоришь, малый, — с недоумением поглядел на спутника Гарри. — Да и почем тебе знать. Ты небось и не бывал в тех местах.
— Верно, не бывал, однако ж, мне сие доподлинно ведомо.
Гарри покачал головой. Он хотел еще что-то добавить, но тут в беседу вмешался один из тех двух завсегдатаев дорожной обочины, который совсем недавно поспешил вслед юному чудодею.
— А скажи-ка, дружок, — нищий замялся, не зная, как и величать Федюню, — ты вот нынче чудеса творил…
— Куда ж мне чудеса-то, — с удивлением поглядел на него отрок. — Да и где в том чудо — помог встать хорошему человеку. Идти-то он сам пошел.
— Ну, коли не хочешь — не говори. А еще чего такого умеешь?
— С конями управляюсь, кольчугу чистить могу, кашу варить, на дудке играть.
Нищий удивленно поглядел на приятеля — среди перечисленных мальчонкой достоинств не было ничего, заслуживающего внимания. Они бы давно повернули обратно, когда б не чудесное исцеление, которому недавно сами были свидетелями.
— Ну, коли так, то и ладно, — вздохнул нищий, — а то б сказал, уж ежели вместе идем.
— Не заговаривай мальчонку, — оборвал его Гарри. — Что хотел — то сказал. А чего говорить не желает, нечего клещами тянуть.
— Так любопытно ж, — хмыкнул нищий.
— А мне любопытно, как скоро вы вон в той роще хворосту наберете. Потому как, того гляди, потемнеет, а еду какую-никакую приготовить след.
Разочарованные отсутствием чудес, побирушки со вздохом признали правоту собрата и отправились в лес по дрова.
Нехитрый ужин спутников Федюни никто бы не назвал обильным: презираемые всеми прочими грибы, репа, нарытые здесь же коренья, да несколько ломтей хлеба из дневного улова придорожной братии — вот, собственно, и все. Костер, сложенный неподалеку от дороги, давал немного света и чуть больше — тепла. Лучше, чем ничего.
Ни Федюне, ни его свите было не привыкать коротать ночь под открытым небом.
— Эх, — вздохнул болтливый нищий, — и почему я не лорд? Живут люди в замках, едят от пуза, всех забот — убивай, кого скажут.
— Да разве ж в чертоге золотом радость обитает? Разве ж три горла у тебя, чтобы куски в них запихивать? Живи, как живется, да радуйся малому. Когда малому не рад, а лишь великого ждешь, тщетны будут дни твои, и часы твои уйдут, как сосульки в капель. Касаемо же убиения — невелика наука ближнего губить, это и впрямь кто поспорит. Да только мертвого того весь свой век на закорках носить будешь, и сколько бы ни убил — всех потащишь, пока самого тебя они в землю не положат. Не убежишь от этакой ноши, не укроешься.
— Так ведь на том свет стоит — один другого топчет, — попробовал оправдаться его собеседник.
— Неверно это…
— Эй, доходяги, — неподалеку послышался хруст ломающейся под ногой ветки, — кто вы такие и с чего вдруг в моих землях костер жжете?
Из темноты, особо густой за пределами освещенного пламенем круга, вышел коренастый бородач с кинжалом у пояса. Его одинаково можно было принять как за лесничего, так и за разбойника, промышляющего в местных чащобах.
— Люди перехожие, — поспешил с ответом Гарри. — Идем, никому обиды не чиним, живем подаянием.
— Да уж, на купцов не похожи, — придирчиво оглядывая компанию у костра, усмехнулся незнакомец. — Однако ж, закон у нас для всех един: коль трактом этим шагаете да в лесу на ночлег становитесь — развязывайте мошну.
— Была бы мошна… — вздохнул Гарри.
— Мне-то что за дело? Хоть кресты нательные отдавайте. — Он протянул руку к Гарри и достал из-под его рубахи простое оловянное распятие. — Невелик навар, — констатировал ночной гость.
Оба нищих тут же продемонстрировали, что на них тоже не наживешься.
— Что ж за шваль-то такая?! — выругался разбойник. — А у тебя что?
Он ухватился за ворот Федюниной рубахи.
— Оставь его! — крикнул Гарри, выхватывая из костра горящую ветку.
— А ну не балуй. — Разбойник свистнул, и из темноты с разных сторон послышался ответный свист. — Желаешь, чтобы вас тут стрелами истыкали?
— Не надо, дяденька, — проговорил Федюня.
— То-то же. — Грабитель насмешливо скривил губы и запустил руку мальчонке за пазуху. — О, тут что-то есть!
Он извлек это «что-то» и уставился на него, пытаясь сообразить, из чего сделана диковинная вещица, попавшая в его руки.
Уж точно сия штуковина не напоминала крест: три сплетенных кольцом змеи, кусающие свой хвост, на шее каждой из них красовалось нечто вроде крошечного перстня с алым камешком. Невесть из чего были сделаны переплетенные змеи, уж точно не из золота. Вроде даже из обычного железа, да только отчего-то казалось, будто в железе том словно молния золоченая играет.
— Занятная штучка. — Лесной житель сжал было пятерню и тут же отдернул ее.
Ему показалось, что три тонкие иглы впились в ладонь, точно железные змейки разом куснули его.
— Да это что же. — Он осекся, чувствуя, как наливается свинцовой тяжестью подраненная рука.
Он снова попытался прикрикнуть, но горло его перехватило, и ни вдох, ни выдох не проходили сквозь него. Дернулся, хватаясь здоровой рукой за плечо странного мальца, и вдруг увидел, как на месте, где только что стоял тот, взметнулась выше деревьев человечья голова на длинной змеиной шее. Два пылающих, точно горны плавильной печи, глаза неотрывно глядели в самую душу разбойника, и он, того не желая, затосковал, что не умер вчера.
— Ступай, — услышал он негромкий шелестящий голос, — боль твоя в тебе живет и останется она с тобой, пока не избудешь ее.
— Помилуй, Кракемар! — просипел разбойник и обессиленно рухнул на колени, неотрывно глядя в сверкающие глаза. Как ни крутил он головой, как ни отворачивался — взгляд следовал за ним неотступно.
Глава 5
Ни один победитель не верит в случайность.
Фридрих НицшеТмуторокань, именовавшаяся в Константинополе Матрахой, а окрестными кочевниками — Тамар-Тарханом, с давних, еще хазарских времен служила важнейшей базой, обеспечивавшей торговые пути хазарского каганата и ромейской империи. Сюда шли караваны с Востока, везущие драгоценный шелк и пряности, но с тех пор минуло немало лет, секрет шелководства уже давно похитили из Поднебесной цареградские монахи, да и хазары большей частью были истреблены или же ушли на запад, в Полонию и Венгрию, чтобы раствориться там меж коренных народов. Земли же эти вместе с древним городом достались победителям — руссам.
На месте старого городища возвели новую крепость со стенами из обожженного кирпича и башнями в черненых шеломах. Эта цитадель зорко охраняла как побережье Эвксинского Понта, так и вход в Миотийское болото, считавшееся тоже морем.
Тмутороканское княжество не было лакомым куском при распределении уделов между родней Великого князя: ни тебе особых богатств, ни обильной охоты — степь да море. Караваны ушли в прошлое и не вернулись оттуда, зато кочевники досаждали как прежним властителям Тамар-Тархана, так и нынешним князьям Тмуторокани. Посылаемые князем разъезды и заставы держали ясов и касогов с печенегами в напряжении, но как отбить у соседей охоту к набегам, когда сие достойное истинного мужчины занятие от века почиталось здесь единственным промыслом, заслуживающим уважения.
На высоком насыпном кургане, украшенном уродливым изваянием какой-то местной жительницы, разглядывая крепость, стояли два всадника. Один из них, судя по одежде, был здешним степняком-касогом, второго же по его манере общения можно было принять за ромея, хотя и весьма бойко говорящего на языке руссов.
— …Видишь вон те кресты на колокольне? — Заморский вельможа указал пальцем на храм, возвышающийся над крепостной стеной.
— Вижу, кеназ.[12]
— Три года назад мой родич Мстислав закончил строить эту церковь Богородицы, и я клянусь, что сровняю ее с землей, как только город окажется в моих руках.
— Зачем, достославный Дауд ибн Эльги? Ведь это же дом твоего бога.
— Весь мир — дом моего бога, Тимир-Каан. А это, — он ткнул в мерцающие в лунном свете кресты, — тоже напоминание о Мстиславе. Я сокрушу его и изгоню из памяти людской, как сокрушил и изгнал моего отца Владимир Мономах. Я сокрушу этот храм и построю куда больше и выше.
Всадник, которого ромей величал Тимир-Кааном, удивленно поглядел на спутника.
— Мы не строим таких больших домов для богов, но почитаем их. И не гневим ни старых, защищавших наш род в прежние времена, ни того, чье имя принесено нам Пророком, ни каких других. К чему обижать тех, на чью силу у тебя нет аркана?
— Тебе не понять этого, — отмахнулся князь Давид. — Расскажи лучше, знаешь ли ты, где слабое место в этой крепости?
— Нет слабее места в обороне, чем сердце защитника. Если же оно сильно — и голая степь может стать неприступной твердыней.
— Оставь свои глупые рассуждения, Тимир, у меня не так много сил, чтобы долго осаждать Тмуторокань. Мне нужно знать точно, где ударить. Ты получил достаточно золота, чтоб помочь мне.
— Касоги давно не воевали с руссами, — вздохнул его собеседник. — Я действительно получил хороший бакшиш. Но ты, видно, хочешь, чтобы я за эти деньги погиб сам, а заодно погубил своих воинов? Тогда зачем нам золото?
— Я пойду в бой вместе с вами, и мои люди — тоже.
— Ты храбр, Дауд. Иначе бы и говорить с тобой не стал. Но сердце, даже если это сердце барса, не заменяет воину ума. Я помогу тебе взять крепость, конечно, если ты послушаешь меня. Но не проси меня искать смерти — она сама отыщет меня, отыщет и тебя.
Чуть свет в ворота Тмуторокани влетел гонец на взмыленной лошади.
— Из Киева от князя Святослава Владимировича, — прохрипел он, едва не падая из седла. — К князю, немедля!
Князь Глеб, правивший в Тмуторокани, не ждал нынче почты из стольного града, однако же, что означало появление такого всадника, понимал без лишних слов.
Гонец, еле идущий на подкашивающихся от усталости ногах, предстал пред ясны очи князя так быстро, как только смог.
— Касоги шли на Переяславль набегом, — коротко сообщил он. — Их отбили от Донца, многих в сече порубили, остальные ушли в степь. Там им дорогу перерезали, они сюда повернули — и полудня не перейдет, здесь будут.
— Спасибо Великому князю за упреждение, — склонил голову Глеб. — Станем в станах насмерть, не пустим супостата!
— Великий князь повелел сказать, что ежели ворота закрыть, то, пожалуй, касоги все пожгут, посады да села в округе пограбят и к себе на Белу Вежу уйдут. Их тут всего-то на полдня задержать надо — следом за касогами Тимир-Каана сам Великий князь с большой дружиной поспешает.
— Да как же их задержишь? — удивился Глеб. — У Тимир-Каана всадников без счета, а я тут сотни три, ну, с городовым ополчением — пять, в поле выведу.
— И то немало. Степняки в схватках потрепаны, бежали три дня без продыху, все как один уставшие. Увидев рать, сами в схватку не полезут.
— И что с того, — покачал головой князь Глеб, — все едино их по пять, а то и по десять воинов на одного моего выйдет.
— Великий князь Святослав передал, что ежели дружину перед Тимир-Кааном поставить, да сразу человека к нему послать, то касоги сами в драку не полезут, особо ежели им дать понять, что в поле лишь малая рать, а в стенах городских еще столько да столько же осталось.
— Ну, положим, — прикидывая шансы, кивнул Глеб.
— Так, стало быть, когда согласится Каан за выкуп уйти, тут и следует его байками кормить, покуда Великий князь с войском не подоспеют. А там мы Тимирку точно меж двумя ладонями прихлопнем.
— Как бы та муха осой не оказалась, — с сомнением ответил князь.
— А чтобы ты веру к моим словам имел, вот… — Гонец вытащил из-за пазухи массивный перстень с резной печаткой в виде Георгия, поражающего змея. — Узнаешь ли знак сей?
— Узнаю, — вздохнул Глеб. — Сей перстень Владимир носил.
Он положил руку на крестовину меча:
— Что ж, Великий князь Святослав Владимирович в роду старший, мне за отца. Отчему слову противиться грех. Эй, — он повернулся к воеводе, — вели звонить в набатный колокол!
Лис вдумчиво поглядел на хозяина припортовой корчмы:
— Ну, слава богу, значит, мы успели вовремя!
Содержатель питейного заведения недоуменно уставился на тощего верзилу с переносицей, в силу жизненных передряг приобретшей форму буквы «S». Невзирая на добротную, можно даже сказать, богатую одежду, посетитель не производил впечатления человека благопристойного и законопослушного. Но это были пустяки. Среди братии, вываливавшей в город из порта в поисках дешевого вина и женщин, праведников видеть ему не доводилось. Однако никогда прежде не встречал он людей, которые, прибыв в порт, радовались бы отсутствию фрахта, да к тому же кажется, что и новость о волшебным образом расплодившихся валлийских змеях тоже пришлась гостю по душе.
Хозяин удивился бы еще больше, когда б узнал, что широкоплечий молчаливый спутник этого кривоносого, кивающий в такт его словам, полон такого же недоумения, как и он сам.
— Лис, ты уже что-то надумал? — раздавалось на канале закрытой связи.
— Не без того, — ответил Сергей. — Я ж так понимаю, что всякие гады, будь то безногие или ногатые, не могут свернуть нас с намеченного пути.
— А конкретнее?
— А шо конкретнее? То, шо наш мальчик пошел вразнос, еще не означает, шо он пошел туда быстро. Стало быть, если мы скоренько на ту сторону залива переправимся, есть реальный шанс его догнать.
— Это верно. Тем более что скорее всего по пути найдутся и другие желающие его поймать.
— Отож, — согласился Лис. — А ежели его словят до нас, то мало ему не покажется.
— Ты что же, знаешь, где его искать?
— На этот предмет у меня есть соображения. Сам посуди: Федюня в Уэльсе человек новый, друзей-знакомых не имеет — стало быть, кого он еще будет разыскивать, очутившись на свободе? Можешь не брать дополнительную минуту на размышление. Нас!
Камдил на секунду задумался:
— Ты хочешь сказать, что он непременно узнает, куда девалась дружина Мстислава, и, узнав, отправится в Лондон?
— Че б я это хотел говорить, когда ты сам все сказал? Как же не узнать, если о том весь остров гудит?
— Угу… может, ты и прав. Оттуда в сторону Лондона ведут три дороги…
— Вот именно! Так шо есть деловое предложение: разделяем наших людей на три заставы, и вперед, аллюр три креста, перекрывать дороги. Федюню они видели — узнают. А мы возьмем с собой человека эдак четыре, и вперед на мины. Ордена потом.
— Если можно, все-таки подробнее.
— Подробнее: мне нужна группа энтузиастов с лопатами — накопать земли в ближайшем лесу. И я тебе обещаю, шо завтра утром, если Бристольский залив вдруг не покроется льдом или же, наоборот, не вскипит, мы будем на том берегу.
Лис перегнулся через стойку и, положив руку на плечо корчмаря, притянул его к себе:
— Приятель, у тебя, часом, нету среди друзей или родственников шкипера, желающего получить серьезные деньги за плевое мероприятие?
Передовые конные разъезды касогов появились у стен Тмуторокани около полудня. Это был хороший знак — обычно степняки нападали чуть свет, стремясь использовать внезапность и этим компенсировать отсутствие осадной техники. Они наступали, практически не таясь. За передовым отрядом, застилая горизонт пылевым облаком, шли тысячи всадников в длиннополых, плотно обшитых бляхами кафтанах.
Войско двигалось без обычного дикого крика, призванного вселять ужас в души противника. Даже издалека было видно, что касоги утомлены долгим переходом и едва держатся в седлах.
Князь Глеб двинулся им навстречу с хоробрыми витязями своей дружины под рев медных труб и колокольный перезвон. Стоило князю выехать за ворота, те захлопнулись, и городовое ополчение незамедлительно заняло места в крепостных башнях.
Остановившись на дальности полета стрелы от княжей дружины, касоги замерли, точно удивленные столь быстрыми и решительными действиями руссов.
Дружинники Глеба изготовились к бою, склонив копья и ожидая сигнала пустить коней вскачь. Но сигнала не было, только со стороны казалось, будто слышны грохочущие в унисон сердца, звучащие, словно боевые литавры. Через несколько минут от застывшего воинства касогов отделился всадник на резвом буланом коне и помчался в сторону руссов.
В первый миг те решили, что степняки вызывают на бой поединщика, дабы в схватке один на один решить, за кем верх, но гарцевавший на легконогом горбоносом текине[13] наездник, кажется, не имел иного оружия, кроме кинжала у пояса, меньше, чем в локоть длиной.
— Тимир-Каан желает говорить с кеназом Глебом.
Князь в цареградской вызолоченной броне с блистающим на солнце зерцалом выехал перед строем своих богатырей.
— Что ж, коль говорить хочет — отчего ж слово не молвить? Слова не стрелы, из седла не сшибают. Пусть отведет своих людей на один стадий,[14] и я отведу. А посередке и встретимся.
Гонец кивнул и, повернув коня, галопом помчал к хмурому, запыленному касожскому строю. Вскоре он вернулся, привозя в ответ согласие, но с условием взять с собою по пять телохранителей.
Глеб, продолжая тянуть время, подумав, не стал возражать, но поставил встречное условие — разбить шатер на месте беседы, а телохранителям оставаться вне шатра.
Гонец еще несколько раз преодолевал дистанцию между руссами и касогами, увозя и привозя новые требования договаривающихся сторон, пока, в конце концов, дружины не были отведены. Посреди степи в большом открытом для обзора шатре за накрытым дастарханом встретились князь Глеб и Тимир-Каан.
— Я не хочу разорять твою землю, кеназ, — отпивая кумыс из чеканной серебряной чаши, проговорил Тимир, — но мои воины утомлены и голодны. Дай мне выход[15] скотом, зерном и водою, и я не причиню вреда ни тебе, ни кому из твоих людей, не разорю твое добро и не заберу в полон люд твой.
— Ты пришел в мои земли как враг, Тимир, и грозишь мне бедами и разорами, ежели не склонюсь я пред тобой. Но тому не бывать, чтобы князья Руси пред касогами, половцами, да и кем бы то ни было, выю гнули. Стен тебе этих не одолеть, а коль решишь землю мою грабить да людей угонять, я ведь следом пойду до самого очага твоего. Или запамятовал, сколько годов ни единого набега на Русь без воздаяния не оставалось? Моей силы не хватит — из Киева подмогу к Тмуторокани призову. Да что там, всем миром навалимся — тогда, будь ты хоть байбак — в норе не укроешься.
— К чему местью пугаешь, кеназ? Касоги не страшатся гибели в бою. Умереть в постели от зимних лет жизни — что может быть хуже для воина? Когда не дашь добром выход, быть меж нами сече лютой…
Беседа шла по кругу, возвращалась в иных выражениях к угрозам, посулам и предложению Глеба, чтобы Тимир-Каан присягнул на верность и дружбу князьям Тмуторокани. В обмен он обещал щедрые дары и провизию для касожских всадников. Но в ответ получил гордый отказ.
Смеркалось, и Глеб ерзал на месте, ожидая вестей о подходе Святослава Владимировича. В уже спустившихся сумерках, при свете факелов Глеб наконец увидел то, что так надеялся увидеть — давешнего вестника, как оговорено, мчащего перед строем с длинным белым платом в руке.
— Долго мы с тобой, Тимир-Каан, речи держали, однако же толку чуть, — обрывая очередную фразу собеседника, отрезал Глеб. — Ворочайся к своим да готовься к бою, ибо другу место за моим столом, врагу же — в моей земле.
— Как скажешь, кеназ, — резко выпрямился Тимир-Каан, — передаю судьбу твою в руки Аллаха милостивого и милосердного. Я же сделал, что мог.
Он вышел из шатра и скомандовал телохранителям возвращаться.
Княжьи дружинники встречали Глеба радостными криками и стуком оружия о щиты.
— Ну что? Далеко ли Святослав? — приближаясь к гонцу, спросил властитель Тмуторокани.
— Когда желаешь, приложи ухо к земле и услышишь топот копыт нашего войска. Великий князь просит тебя ударить нынче, дабы боем связать касогов и отвлечь их на краткий миг, а уж Святослав им на плечи всею силою обрушится.
— Так тому и быть. — Глеб потянул меч из ножен и поднялся в стременах. — Други мои верные, витязи мои славные! Прольем кровь супостата, напоим землю русскую, не пожалеем живота своего!
Он махнул клинком в сторону едва виднеющихся впотьмах касожских всадников, и застоявшиеся кони понесли русичей в жаркую сечу. Вдали уже был слышен клич подмоги, мчащей во весь опор, чтобы ударить в тыл касогам, смять, повалить, рассечь на части…
Точно почуяв неминуемую гибель, степняки ринулись в разные стороны, торопясь спасти головы от скорой расплаты. Точь-в-точь на одуванчик кто-то дунул, и разлетелась шапка его по всей округе.
— Ломим! — кричал Глеб во все горло, радуясь, как стремительно, без оглядки, улепетывает еще недавно грозный враг. Но вдруг Святославова рать, мчавшаяся ему навстречу, как по команде расцвела белыми плащами и, не сбавляя хода, врезалась в его дружину, сбивая с коней витязей, опрокидывая их безо всякой пощады.
В неистовом гневе повернулся князь Тмутороканский к гонцу, крича что есть силы:
— Измена!
И тут же полупудовая булава с размаху опустилась на его шлем.
— Не узнал, родич? Я — Давид Олежич, Олега Черниговского сын, — прокричал тот, хватая ошеломленного князя и выдергивая его из седла.
В это самое время касожская рать, точно и не думала мгновения назад улепетывать в панике, развернулась и, кружа в отдалении, принялась осыпать калеными стрелами всех тех, на ком не было белых плащей.
В Тмуторокани тщетно пытались разглядеть, что происходит в поле, но вопль ужаса касогов, боевые кличи руссов доносились до крепостных стен, утверждая местных жителей в уверенности, что победа все же на их стороне. Спустя всего полчаса шум боя стих, а еще через какое-то время у ворот появился вчерашний гонец с вестью о том, что касоги наголову разбиты, но князь Глеб ранен, и что след немедля открывать ему ворота, греть воду и звать лекаря.
Очень скоро в крепость в окружении нескольких витязей вкатилась повозка, на которой с залитым кровью лицом лежал князь Глеб. За повозкой, точно за триумфальной колесницей, понурив голову, шли пленники. Городской люд встречал их криками гнева и презрения. Кто-то попробовал было даже бросить камень. Больше никто этого сделать не успел — выхватив из-под одежды длинные боевые ножи, пленники бросились рубить толпу, а вслед им в открытые ворота устремились конные всадники Тимир-Каана и Давида Олежича — как один в белых плащах…
— Ловко ты придумал, — глядя со стены на происходящую в городе бойню, усмехнулся сын изгнанного черниговского князя.
— Аллах надоумил меня, как обратить силу врагов в их слабость. Но твоя выдумка с перстнем тоже была хороша. Кстати, откуда ты взял его? Ведь не Владимир же Мономах, да проткнет шайтан его чрево раскаленным вертелом, подарил тебе знак своей власти?
Давид рассмеялся:
— Видимо, никто на Руси не знает, что император Константин Мономах велел изготовить для своего внука такой же перстень, как носил сам — Владимир очень гордился этим подарком и, как сказывают, ни разу не снял. Что же касается Константинова перстня, — князь поднял руку, любуясь при свете факела драгоценным кольцом, — после смерти императора по обычаю дворец был оставлен на разграбление варяжской стражи. Отец моей доброй матушки — дука Александр Музалон — купил этот перстень у одного из северян всего лишь за два солида. Как показало время, он с толком распорядился своими деньгами, но… — Князь Давид поглядел на беспощадную резню в Тмуторокани. — Тимир, пора прекратить побоище, иначе в моем городе не останется жителей.
* * *
Стук колотушки ночного сторожа сменился истошным криком:
— Все тихо-о-о!
— Спасибо за напоминание, — хмыкнул Лис, обводя взглядом собравшихся: хозяина постоялого двора, его родича, который был представлен в качестве владельца и шкипера некой разудалой посудины, способной без риска отойти от берега дальше, чем видит глаз. Четвертым за столом личных апартаментов корчмаря сидел рыцарь в белой тунике с нашитым красным крестом.
— Господа, — патетическим шепотом начал Сергей, — феодальное отечество в опасности. Родина-мать зовет нас, и слезы льются по ее щекам, ибо кто же, если не мы, или скажем по-другому, если не мы — то кто? «То кто?» — спрошу я и отвечу: «Некому!»
Привычный к лисовским словесным фейерверкам Камдил принял вид предельно мрачный, чтобы скрыть предательскую улыбку.
— Враг ползет по зеленым холмам Уэльса. Разогнавшись на холмах, он взберется на шотландские горы, и даже последний несский лох услышит его наглое шипение! Не дадим ему стать на ноги и вытоптать луга Британии, пожрать леса ее!
— Кому? — опасливо уточнил корчмарь.
— Тому, кому нет имени, чье дыхание — ужас, и чьи глаза — смерть! — воодушевляясь еще больше, вещал Лис.
— Ну, это он в смысле, что ежели это о змеях, то у них нет ног, — пояснил шкипер.
— Несчастный! — возопил оратор. — Не ведаешь ты, что говоришь, потому что не представляешь, каковы бывают змеи с ногами! Знаешь ли ты, что есть такое тиранозаврус рекс? — внезапно спросил и тут же ответил сам себе: — Нет, ибо Господь спас тебя от встречи с ним! Так неужели же мы такие неблагоразумные глупцы, что, защищая себя же самих, не сотворим для Господа сотую часть того, что он сделал для нас?! — выдохнул Лис, сделал короткую паузу и добавил: — Кстати, к немалой для себя выгоде.
В глазах содержателя постоялого двора и его родича засветилось явное облегчение — в душе они уже смирились с участием в предстоящем крестовом походе, о котором, как им казалось, говорит странный гость.
— Явите миру реликвию! — гордо изрек Лис, и вдумчиво молчавший Камдил достал из-под плаща средних размеров дорожный сундук. — Светоч христианского мира, буквально неугасимая лампада накаливания в сто свечей, стоящих волей Божьей без единого подсвечника — наш дорогой, бесконечно дорогой! — Бернар Клервосский, прозревая насквозь ушедшее в прошлое будущее, являет настоящее в величии своем! Помолимся, друзья мои!
Все присутствующие сложили руки перед грудью, но яростный проповедник не дал им долгой передышки:
— В этом сундуке земля из могилы святого Патрика, избавившего от змей Ирландию! Эта земля полита обильным потом святого Эржена (эта гремучая смесь посильнее, чем любая гремучая змея, полная гремучей ртути)! Враги истинной веры пытались травить его змеями, но! — Лис воздел палец. — Конечно же, вы помните, чем закончилось, — проговорил он с ликованием.
— Нет, — сознались обескураженные напором аборигены.
— Когда злобные недруги вошли, святой Эржен вещал змеям слово Божье, и те кланялись в такт его словам! Преподобный Бернар велел нам прибыть в валлийские земли, и если найдется там достаточно верных христиан более, чем праведников в Содоме, готовых не только словами, но и добровольными пожертвованиями доказать свою преданность Господу, — посыпать этой землей врата городов Уэльса. Никогда отныне змеи ни о двух, ни даже о сорока ногах не коснутся освященной земли!
— Здорово! — покачал головой шкипер. — А прибыль-то в чем?
— Глупец! — сардонически расхохотался Лис. — Неужели же ты подумал, что Господу и впрямь нужно золото? У Всевышнего нет мошны, и он не платит в трактире.
— Это верно, — грустно подтвердил корчмарь, но, поймав гневный взгляд оратора, тут же закрыл рот.
— А поскольку золото не нужно Господу, то оно не нужно и преподобному Бернару. И потому он призвал меня и сего достойного рыцаря, благословил и сказал, утирая слезу: «Дети мои, я вверяю вам эту святыню для того, чтобы вы спасли землю по ту сторону пролива от козней врага рода человеческого. Несите же ее, невзирая, но в то же время блюдя неотступно и беспорочно. И ежели люди там пожелают спастись, пусть докажут это рвением своим. Однако не вздумайте везти мне грешное золото их! Возьмите толику для богоугодных дел и на прокорм свой. Остальное раздайте тем, кто станет помогать вам в сем богоугодном деле». Ибо сказано: «Ежели мне, то и аз воздам».
— Это что же, — догадываясь, о чем идет речь, всплеснул руками корчмарь, — все золото, собранное в Уэльсе, — нам?!
— Без толики на богоугодные дела и прокорм, — напомнил Лис.
— А от нас только потребуется доставить вас на ту сторону залива, а потом забрать назад?
— Ну да.
— Мы согласны, — ответили родичи в один голос.
— Как говорил то ли Маркс дедушке Ленину, то ли дедушка Ленин еще какому-то энтузиасту: «Буржуин за триста процентов прибыли сначала удавится, а потом, не отходя от кассы, пойдет на любое преступление», — послышалась в голове Камдила речь друга. — Бедолаги, они еще не знают, сколько богоугодных дел я могу придумать и сколько фунтов местных стерлингов понадобится на прокорм всей нашей оравы.
Глава 6
Без врагов моя бы жизнь стала безрадостной, как Преисподняя.
Ричард НиксонФульк Анжуйский греб с остервенением, слыша, как совсем рядом в воду плюхаются увесистые камни. Попади такой в голову, и местные раки сегодня не остались бы без обеда.
Намокшая одежда мешала плыть, перевязь с мечом, и при ходьбе-то бившая по ногам, теперь предательски тянула ко дну.
Как только камни начали ложиться позади него, Фульк улучил момент избавиться от оружия. «Второй меч за сутки, — с тоскою подумал он. — Плохи дела». Плыть стало несколько легче, но мысль о том, что, по сути, нынешнее удачное спасение мало что меняет в его положении, не оставляла юношу. Он был в землях Нормандии один как перст, теперь еще и без оружия. Против него выступало многочисленное воинственное семейство из знатнейших в этом герцогстве, под знаменами которого ходили в бой десятки рыцарей и тысячи воинов иного звания.
Сколько ни плыви, а когда-то придется вылезти на берег — снедаемый этими безрадостными мыслями, он греб, стараясь не спорить с течением, несшим его в сторону Атлантики.
Силы были на исходе, и Фульк, распластавшись, лежал на воде, стараясь не двигаться и надеясь хоть немного сбросить усталость, когда внезапно над головой его раздалось:
— Эй, ты жив?
Фульк перевернулся со спины на живот. Неподалеку, борясь с течением у излучины реки, на веслах шла барка. Судя по виду — чья угодно, но только не французская.
— Жив! — крикнул Фульк.
— Помощь нужна?
— О да!
На борту корабля послышалась резкая то ли алеманнская, то ли данская команда, и гребцы начали табанить веслами, разворачивая суденышко поперек волны.
— Давай-давай, греби!
Кравчий Людовика Толстого устремился к корабельному борту и спустя несколько мгновений с облегчением ухватился за сброшенный канат.
«Спасен», — мелькнуло у него в голове.
А еще спустя несколько мгновений чьи-то крепкие руки втягивали его на палубу чужестранного судна.
— Откуда ж ты такой будешь? — пристально оглядывая гостя, поинтересовался капитан барки.
— Я… охотился тут неподалеку, — запинаясь, ответил Фульк, прикидывая, что делиться истинными причинами заплыва ему все же не стоит. Кто знает, что на уме у этих корабелов. — Конь понес, сорвался с кручи…
— А-а… охотился, — не спуская насмешливого взгляда с юноши, кивнул шкипер. — Так, стало быть, вас следует высадить на берег?
Тут Фульк понял, что сморозил глупость — конечно же, всякий здравомыслящий человек, сорвись он с кручи в реку, пожелал бы вернуться на берег. Королевский кравчий к таким здравомыслящим людям не относился.
— Пожалуй, нет, — вздохнул юноша. — Если вы идете в море, я был бы вам благодарен, когда б меня высадили в землях Франции, а лучше всего — в Анжу. Я щедро награжу вас. У меня с собою здесь нет ни денье, но поверьте — я богат, я весьма богат.
— Ну да, — кивнул, не меняясь в лице, капитан барки. — Кто ж спорит? А, стало быть, земли Нормандии вам не нравятся?
Он повернулся к одному из своих людей и добавил с деланной серьезностью:
— Наверное, охота плохая. А коли так, — капитан махнул рукой, и Фульк почувствовал, как чьи-то твердые, закаленные веслами и тросами, пальцы смыкаются у него на предплечьях, — самое время договориться о цене.
— Я хорошо заплачу! — пытаясь вырваться, закричал королевский кравчий, но, казалось, гостеприимный хозяин его не услышал.
— Ганс, — обратился он к помощнику, — в Монфоре узнай хорошенько, что за рыбка попалась к нам в сеть. И отчего вдруг он так невзлюбил Нормандию — может, здесь найдется кто-нибудь, желающий заплатить за эту голову больше, чем сам этот сосунок.
Фульк еще раз дернулся, но тут что-то тяжелое и твердое обрушилось ему на затылок, свет вспыхнул и померк в его глазах.
Утро, если, конечно, это было утро, встретило графа Анжуйского топотом ног над головой. Он открыл глаза, пытаясь осмотреться, и понял, что с тем же успехом мог бы держать их закрытыми. Когда б не боль в затылке да запах гнилой воды, он бы решил, что врата загробного мира уже захлопнулись за ним. Фульк попытался ощупать темя, но с горечью осознал, что руки крепко связаны.
— Эй, — крикнул он, вернее, ему показалось, что крикнул.
Звук тут же отразился от стены, расположенной не более чем в футе от его носа. Помещение, где он находился, даже самый снисходительный язык не решился бы именовать комнатушкой. Это было что-то вроде ящика, взмывавшего вверх-вниз на речной волне.
Однако слабый возглас был услышан. Из-за дощатой стены донесся лязг железа, и Фульк закрыл глаза от ударившего в них света фонаря.
— Очухался? — констатировал капитан. — Это хорошо. Ну что ж, граф Анжуйский, рад видеть ваше плавучее сиятельство на своем корабле. Не глядите, что он неказист. Все в мире изменчиво: вчера вы ходили в шелке и бархате, а нынче… Вот я сегодня — хозяин этой трухлявой барки, а завтра… — он протянул руку к Фульку, ставя его на ноги, — что будет завтра, во многом зависит от вас.
Капитанская каюта, несомненно, была лучшим помещением на судне, однако же и здесь было понятно, отчего вдруг капитан окрестил свою барку трухлявой посудиной.
— Как вы понимаете, граф, — освобождая руки пленника и подавая ему кожаную флягу с вином и кусок козьего сыра, начал шкипер, — я уже знаю, кто вы и отчего вдруг решили поплавать в Сене, не снимая одежды. Не буду от вас скрывать также, что семейство де Вальмон готово отвалить всякому, кто доставит вас живым, сотню золотых. Мертвым вы стоите вдвое дешевле, но на худой конец тоже неплохо. Как человек честный, я предлагаю вам оценить свою жизнь так, чтобы мне не хотелось оказать нормандским волкам ту маленькую услугу, которой они столь ревностно домогаются.
— Двести золотых, — понимая, к чему клонит капитан, предложил Фульк.
— Маловато. Если нормандцы узнают, что я вам помог, — хозяин каюты похлопал себя по шее, — моя голова рискует смотреть на это тело со стороны.
— Сколько же вы желаете?
— Триста, не считая, понятное дело, вознаграждения за спасение из речных вод и затрат на доставку вас прямехонько в Анжу. А ведь прошу заметить, до того мы держали путь во Фрисландию, а это совсем в другой стороне.
— Итого, — процедил Фульк.
— Но-но, граф, к чему скрипеть зубами? — явно любуясь произведенным эффектом, усмехнулся судовладелец. — Пятьсот монет, полагаю, достойный выкуп за голову столь родовитого вельможи.
— Хорошо, — коротко выдохнул анжуец, прикидывая, что стоит ему добраться до родного берега, и сей речной кровосос недолго будет поганить мир своим дыханием.
— Но тут имеется еще одна загвоздка, — как ни в чем не бывало продолжал капитан. — Я, конечно же, понимаю, что, получив свободу, вы пожелаете отнять ее у меня вместе с законным вознаграждением. И потому мне хотелось бы лишить вас столь неблагоприятной для моей особы возможности. Мы, граф, сделаем так: я отвезу вас в безопасное место вне ваших земель, и неподалеку от них вы напишете письмо к отцу с просьбой собрать золото и отвезти его туда, куда я вам скажу. Если все пройдет гладко, люди вашего отца обнаружат в указанном месте записку, где будет подробно рассказано, как вас найти. На место записки они положат золото. Поверьте, если они его не положат, я об этом узнаю. И если, положив, решат устроить засаду, я тоже узнаю об этом. Тогда, скажу честно, скрепя сердце я отдам вас де Вальмонам. Поэтому в самых убедительных выражениях попытайтесь втолковать отцу, чтобы он не делал глупостей.
— Но почему я должен верить вам? — уныло отозвался Фульк.
— Я честный человек, — убежденно ответил капитан. — Да и к тому же у вас нет иного выбора.
* * *
Никотея спешила: ей казалось, что сколько бы ни было у нее времени для того, чтобы завладеть венцами обеих империй, его чертовски мало. А успеть нужно очень и очень много. Оставив Гринроя заниматься устройством рыцарского турнира, она сейчас тщательнейшим образом изучала местные особенности той многотрудной науки, которая в ее родном Константинополе звалась «искусством жить при дворе». Имена герцогов, графов, князей, епископов укладывались в прелестной головке севасты в четкие и ясные схемы, точно легионы перед боем. За считанные недели до начала грядущего рыцарского празднества ей следовало назубок — лучше всякого герольда — знать родственные связи принцев-электоров: их отношения между собой, имена и влиятельность любовниц каждого из них, жен, духовников, вкусы и интересы. Даже в храме, когда всем казалось, что новообращенная герцогиня Швабская истово молится, она чуть слышно повторяла, шевеля губами:
— Эберхард — архиепископ Майнцский из рода фон Диц, получил диацез благодаря родству его матери с женой герцога Каринтии. Соответственно через каринтийский дом находится в родстве с австрийским, который всецело поддерживает кандидатуру моего Конрада. Стал епископом в тридцать лет, архиепископом — в тридцать семь. Имеет любовницу, а от нее — дочь и сына. Дочь необходимо сделать моей фрейлиной; сыну четырнадцать лет, растет при монастыре — надо предложить Конраду взять мальчишку себе в оруженосцы. Любит охоту, эльзасское вино, держит собачью свору…
Каждая, самая мизерная капелька информации о сильных мира сего собиралась ею и впитывалась, как впитывает скупую влагу растущий в выжженной степи цветок.
Не теряя время попусту, Никотея с мужем объезжала окрестные города, и в каждом из них молодая герцогиня улыбалась, говорила каждому, удостоенному встречи, приятные слова, походя очаровывая всех, кто ее видел и имел счастье обмолвиться словом. Она сыпала в толпы нищих медяками, беседовала с лекарями о рецептах чудодейственных снадобий, способных мертвого поднять из могилы, а заодно узнавала о недугах лиц властей предержащих, и снова улыбалась, и опять запоминала, спеша расставить фигуры на невидимой никому шахматной доске.
— Расскажи мне об архиепископе Кельнском, — обратилась севаста как-то к мужу.
— С чего бы это вдруг тебя заинтересовал старый Зигфрид? — удивленно поглядел на нее герцог Швабский, в этот самый миг намеревавшийся отправиться на охоту с дюжиной верных цоллернских дворян. — Прескучнейший, я тебе доложу, старик.
— Стыдись, Конрад, ты говоришь об архиепископе, а не о ярмарочном шуте!
— Да уж, такого шута выгнали бы из всякого балагана, — усмехнулся герцог. — Что о нем говорить — святоша! Только-то на уме поститься да молиться.
— Достойнейший человек.
— Ха, Зигги? Слышала бы ты его проповеди! Он так бичует грехи рода человеческого, что подчас мне кажется, что, услышь его черти в аду — прости мне, Господи, мои слова! — и они бы крестились все как один.
— И что же, сам он настолько безгрешен, что с полным правом может клеймить с амвона слабость детей Адамовых?
— И пуще всего — дочерей Евы!
«А вот это скверно, — крутилось в голове Никотеи. — Праведники — худшие твари, встречающиеся среди людской породы, ибо от их благости в мире происходит больше зла, нежели от ярости иного разбойника. Что-то надо сделать с этим святошей. На столь важном месте должен находиться человек, преданный мне. — Никотея поглядела в спину удаляющегося мужа. — Старый благостник на эту роль не подходит, тем более что место архиепископа я уже обещала дяде Гринроя… Ах, несчастная Мафраз, как не хватает сейчас ее тайных знаний… Впрочем…»
— Постой! — окликнула она уже ступившего на порог мужа. — Ты и впрямь находишь, что проповеди Зигфрида Кельнского способны растопить самое жестокое сердце?
— Даже вырубленное из цельного куска мрамора, — не понимая, к чему клонит жена, обернулся Конрад Швабский. — Зачем он тебе понадобился? От его постного вида все молоко в округе скисает.
— Я думаю, что для божьего дела будет куда полезнее, когда столь праведный и вдохновенный пастырь понесет крест Господень и слово божье диким варварам севера и не станет попусту расточать пыл своей души пред теми, кто и без того свято верует в Спасителя. Неужто ты забыл, мой дорогой супруг, что точно так же, как мавры, теснящие сынов Кастилии и Арагона, как сарацины в Палестине — так и пруссы, латы, жмудь и прочие дикие кровожадные племена теснят наш мир, желая его погибели. Не там ли место первейшим ревнителям воли Господней? Пусть же Зигфрид обоснует в тех землях новый престол христианской веры, а храбрейший Генрих Лев мечом своим отвратит варваров от греховной мысли сокрушить храм Божий.
— Оно-то так, — досадуя, что любимая жена отрывает его от не менее любимой охоты, поморщился Конрад, — но если Зигфрид Кельнский и согласится отправиться к пруссам — а я думаю, он согласится на такой подвиг с радостью, то как убедить нашего соперника — герцога Баварского?
Никотея одарила мужа одной из своих восхитительных нежных улыбок:
— Иди, мой славный муж и повелитель, и ни о чем не беспокойся. Я все устрою.
Крепость Солдайя[16] всегда казалась Симеону Гаврасу абсолютно нелепой — прилепившись одной частью к высокой скале над морем, другой она будто сползала к подножию гор. Длинные стены требовали множества защитников, в то время как отсутствие воды в месте ее строительства обещало скорую и мучительную гибель гарнизону в случае правильной осады. Но, вероятно, Солдайя и не строилась в расчете на серьезного противника. Набегавшие из степи кочевники не были обучены штурмовать, а уж тем паче всерьез осаждать крепости, а промышлявшие в водах Понта Эвксинского пираты не решались нападать на генуэзскую торговую факторию, прикрытую пусть даже такой нелепой, но все же крепостью.
Однако сами жители Солдайи отдавали себе отчет в том, насколько уязвима их цитадель, и без особой нужды старались не ссориться с безраздельно властвовавшим над окрестными водами Херсонесом. Просьбу архонта переправить его сына в Италию на генуэзском корабле приняли с превеликой радостью — корабль, полный товара, в Константинополе обязались пропустить без пошлин.
Конечно, генуэзцев несколько удивила затея турмарха участвовать в рыцарском турнире, объявленном герцогом Швабским в честь своего бракосочетания: прежде ромеи с презрением взирали на столь варварский способ проявления личной доблести. Но, с другой стороны, как гласила старая поговорка: «Время меняет горы», что уж говорить о людях.
В Генуе приезд заморского рыцаря вызвал радостное возбуждение. Толпы народа сбегались поглядеть на статного красавца-ромея, на суровых варягов, составлявших его эскорт, на их диковинные одежды и дорогие, блистающие золотом, доспехи. Не одна местная синьорина втайне мечтала открыть чужеземцу двери спальни, но турмарх, на западный манер носивший титул герцога Сантодоро,[17] был немногословен и почти мрачен. С вежливым безразличием он принимал восторги местных жителей, и, едва заручившись рекомендательными письмами к герцогам Пармы и Милана, Симеон оставил столицу торговой республики, вызвав сожаление у купеческой старшины и недоуменное разочарование генуэзских красоток. Если что-то и согревало их души, то лишь уверенность, что бледные пармские девицы уж точно не понравятся заморскому рыцарю.
Король Гарольд III ожидал нареченную у ворот Кентерберийского аббатства. Мономашича не слишком радовало пристрастие будущей жены к молитвенным уединениям, но умом он понимал, что пережитое за последние месяцы склонило Матильду задуматься о душе и воле Господа. Дочь неистового короля Генриха Боклерка, послушная воле отца, дала согласие на повторный брак, но, глядя на будущего мужа — почтительного заботливого мужчину, храброго воина и благородного правителя, — она признавалась себе, что ничего в этом мужчине не затрагивает ее души.
Мод не слишком скорбела о смерти первого мужа — владыки Священной Римской Империи, и возвращение в любимую с детства Британию казалось ей замечательным выходом из положения. Но то, что произошло дальше, представлялось Матильде непрекращающимся дурным сном: гибель брата, плен, смерть отца и чудом спасенная ее жизнь. В глубине души королева сознавала, что вся эта цепь невзгод — божественное наказание ее роду за бесконечные злодеяния, начиная от захвата острова. Ей мнилось, что замужество с внуком короля Гарольда, убитого ее дедом в битве при Гастингсе, искупит былые прегрешения. Она видела себя добровольной жертвой, восходящей на алтарь по воле Господа.
Матильда старалась улыбаться при виде суженого, со вниманием слушала рассказы о далекой земле его родины, но с тоской осознавала, что сердце ее выжжено, как бывает выжжен ствол дерева, расколотый молнией. «Такова воля отца, — убеждала она себя, — к тому же Гарольд сам вырвал меня из рук мерзавца Стефана и спас от яда. Он доблестный и добрый. Я должна сделать его счастливым».
— Проповедь окончена, ступайте, — услышала королева сквозь горестные думы и, получив благословение, направилась к выходу.
— Отчего ты вновь печальна? — подсаживая невесту в крытые носилки, спросил Гарольд.
Матильду резанул по ушам чужестранный выговор суженого. Благодаря урокам ученого монаха Георгия Варнаца, Гарольд с каждым днем все лучше говорил на языке ее родины, но в устах сына Гиты Английской любые, даже самые ласковые слова звучали отчего-то грубо.
— Призраки недавнего прошлого не оставляют меня, — покачала головой Матильда.
— Пустое. Ни к чему страшиться ни призраков, ни людей. Клянусь рукоятью своего меча и копьем святого Георгия, мы изгоним твои страхи так далеко, что даже северные медведи не отыщут их след.
Она с легким недоумением выслушала похвальбу будущего мужа и даже не улыбнулась.
— Ты рассказывала, моя дорогая, что Стефан Блуасский подстерегал твой корабль в тайном месте, где мерзавцы, вроде него самого, разгружают без пошлины заморский товар.
— Это действительно так, мой господин, — негромко произнесла Матильда.
— Я желаю поставить в том месте крепость и посадить в нее сильный гарнизон, чтобы впредь негодяям всякого рода и племени неповадно было творить разбой и учинять разор моему королевству. Я назову эту крепость в твою честь, душа моя. Мы отправляемся завтра же! — счастливый удачной придумкой, взмахнул кулаком Гарольд.
Дочь Генриха Боклерка вздохнула, стараясь не выдать внутреннего неудовольствия. Ей вовсе не хотелось возвращаться к истоку недавних бед, но христианское смирение придавало ей сил:
— Непременно поедем, мой государь, если будет на то воля твоя.
Федюня спал, притянувши колени к груди, почти свернувшись в клубок, чтобы не терять зыбкое тепло потрескивающего костра. Встреча с разбойниками, поразившая всех, казалось, не вызвала у него особого удивления. Более того, он поймал себя на мысли, что по-другому и быть не могло — это занимало его больше, чем несчастный лесной грабитель, едва унесший ноги.
Но даже и такие неожиданные ощущения не способны были пересилить накопившуюся усталость — он спал, и ему снилось диковинное существо: змея с ногами, шествующая по раскаленному, до белизны выжженному песку, где меж странных треугольных холмов в напряженном ожидании восседал огромный зверь с телом льва и головой человека.
В ушах Федюни слышалась речь, звуки которой представлялись ему странными, но смысл был понятен от первого до последнего слова: «Я змея, которой много лет. Я прохожу сквозь ночь и каждый день рождаюсь вновь. Я змея — граница земли, я прохожу сквозь ночь и день за днем рождаюсь вновь, обновленная и омолодившаяся». Речь двуногой змеи казалась ему странной, однако он явственно чувствовал, как тело наполняется неведомой силой, будто и вовсе нечеловеческой.
Пламя костра взметнулось, точно почувствовав эту невидимую силу. Один из нищих, дежуривший у огня, так и застыл с веткой, которую он намеревался бросить в костер.
— Ишь ты.
Он толкнул своего приятеля, прикорнувшего тут же, на голой земле.
— Что… уже? — встрепенулся тот.
— Тс-с-с, погоди ты. — Он прикрыл ладонью рот товарища. — Глянь-ка на мальца.
Второй нищий тихо приподнялся и уставился на Федюню.
— Эка!
— То-то же! Вроде и спит, а вроде тело аж волною ходит! — проговорил его приятель. — Отойдем-ка подале, сказать чего хочу.
Они чуть слышно встали и, отгоняя комаров, направились за ближайший дуб.
— Я вот что думаю, — начал первый нищий. — Оно, конечно, то хорошо, что хорошо кончается, да неизвестно, как еще все сложится. Видал, как злыдень лесной корчился? Точно ядом его жгло!
— Ага.
— А амулет на шее у мальчишки видел?
— А то!
— Как есть — штука волшебная! Из тех, что эльфы в холмах прячут.
— Неужто?
— Неужто-неужто, а как иначе? Ты же сам только что видел, как мальца во сне корежит. Эльфийские вещицы — они такие, они непростые. С ними шутить не след.
— Верно.
— Вот я думаю себе: парнишка эту штуковину наверняка отыскал где-то, а то, может, и вовсе стащил, да сдуру на себя и нацепил. А так ведь что сказать — малец себе и малец. Какой из него чудодей?
— И то верно.
— Ну а коли верно, то я вот что удумал. След нам амулет без лишнего шума у мальца снять, да скоренько домой возвращаться. На такую-то знатную вещь, ей-бо-ей, покупатель сыщется. Хорошие деньги отвалит.
— Ага!
— Так я сейчас из ветки рогульку сделаю, тихонько-тихонько шнурок, на котором амулет тот висит, из-за ворота вытяну, да придержу, а ты его развяжи, да аккуратненько другой рогулькой побрякушку сдерни. Ежели что, кто зна, может, сам собой узелок распутался.
— Дело…
— Ну так, как иначе? Одно ясно — толк с этого землетопа никакой, идет себе и идет, какая нам выгода следом волочиться? — Он протянул собрату по нищенскому цеху заготовленную рогульку. — Давай! Только ты ж осторожно!
Попрошайки снова приблизились к гаснущему без свежей охапки хвороста костру и склонились над спящим Федюней.
Первый нищий огляделся по сторонам и потянулся веткой к вороту Федюниной рубахи. Он уже коснулся одежды, когда вдруг его воровской инструмент прогнулся, будто под весом, и тотчас выпрямился. А в лоб грабителя прилетело нечто увесистое и твердое.
Потеряв равновесие, он с размаху уселся на землю и увидел перед носом крошечного человечка не более дюйма в высоту, черного как уголек, с алыми, будто догорающие искры, глазами.
— Ты что это удумал? — тихо, но очень внятно проговорил человечек, демонстративно упирая руки в боки.
— Тебе до того дела нет! — огрызнулся нищий, примериваясь, как бы половчей прихлопнуть невесть откуда взявшегося фейри.[18]
— Коли совсем дурак и жизни своей тебе не жалко, то продолжай. А нет, так глянь, как оно на самом деле есть, когда чары убрать.
Он прыгнул с ветки на плечо нищего и коснулся его виска своей крошечной ладонью, и в тот же миг оба охотника за легкой наживой увидели воочию, что на шее у мальчишки вовсе и не шнурок, а черный змей с распахнутыми, выжидательно глядящими на них яхонтами глаз.
— Только коснись этого аспида, все равно — рукой ли, веткой, — и проклянешь тот день и час, когда родился на свет.
— Неужто помру? — испуганно прошептал нищий.
— Помереть, может, сразу и не помрешь, а только боль истерзает такая, что иной раз захочешь и рук, и ног лишиться, и самой головы — только бы ее унять.
— Страх-то какой, — с ужасом прошептал нищий и поглядел на своего обескураженного собрата. — Видал, каково оно?
— Ага, — подавленно ответил тот.
— Бежать отсель надо, а то как бы с нами беды не приключилось.
— Уже приключилась, раз за Кочедыжником пошли, — хмыкнул фейри. — По его воле змеи вас на краю света найдут.
— А что делать-то? Или нет сладу с демоном?
— Отчего ж, есть слад. — Фейри ухватился за мочку уха первого нищего, подтянулся на ней и примостился в ушной раковине, как в кресле. — Я вас от беды-напасти огорожу, но с этого мига вы все от точки до точки по моему слову выполнять должны.
— Да что скажешь, тому и быть! — суетливо заверил первый.
— Не тряси головой! — приказал фейри. — Я у тебя за ухом сидеть буду и что надо говорить. Сейчас, покуда не рассвело, вставай на ноги да быстро, как только можешь, беги в Самманхэртский монастырь.
— Да я ведать не ведаю, как к нему идти.
— Не идти, а бежать. О том, куда — не беспокойся. Покуда я с тобой — с пути не собьешься. Но поспешай: он хоть и недалеко, но тебе еще вернуться надо.
— Да к чему возвращаться-то?
— Не смей перечить! — Голос фейри прозвучал резко, как хлопок бича, мозг попрошайки пронзила острая боль. — Пойдешь и вернешься.
— Тебе-то это зачем?! — взвыл сквозь зубы побирушка. — Ты ж того… из полых холмов… а то вдруг монастырь…
— Не твоего ума дело, но так и быть, скажу. Иной раз такое случается, что и малому народцу против общего врага люди божьи — союзники. А потому вставай и беги. Как откроют тебе калитку, так сразу оповести, где ныне Сын погибели гнездо свое гадючье свил. Пусть глаз с него не сводят.
— Как скажешь. — Убогий быстро поднялся на ноги и, не выбирая пути, ринулся в чащу.
И тут, не дожидаясь рассвета, будто первый лучик солнца выглянул из едва озаренного краешком луны облака и, выхватывая ярд за ярдом впереди бегущего по лесу пройдохи, неотлучным поводырем увлек его за собою к воротам еще мирно спящего аббатства.
Глава 7
От идеи так же близко до идеала, как и до идиотизма.
Эрик БернВеликий князь Святослав ходил взад-вперед по светлице княжьего терема, казавшейся ему непривычно широкой. Всего несколько месяцев назад в этой горнице стоял он, понурив голову рядом с братом Мстиславом перед грозным отцом и выслушивал повеления Владимира о походе к Светлояр-озеру. Ни отец, ни брат не вернулись из того похода, и он — новый государь всея Руси — сполна ощущал тяжесть мономашьего венца.
Счастливая весть, доставленная Святославу из-за моря, что не сгинул брат, а, разбив в жаркой сече врага, стал королем в землях, от матери завещанных, немало порадовала его. Но уж как там за морем все сладится, дело второе, а здесь править лежа на боку не приходилось.
Прознав о странной кончине Мономаха, кочевники со всех сторон, точно сговорясь, решили вновь испытать крепость киевских рубежей. Но если прежде отец призывал сыновей в заветную светелку и точнехонько рассказывал, откуда ждать беды и куда полки вести, то ныне такой подмоги не было. До сего дня вражьим набегам еще получалось давать укорот, но как знать, так ли будет впредь?
Отец Амвросий — духовник княжичей с самого их крещения — наставлял молиться и исповедоваться, поражать гордыню в сердце своем, но схватка с гордыней протекала с переменным успехом, а набеги продолжались и продолжались.
— Великий княже, — в горницу вбежал государев стольник, боярин Андрей Болховитин, — беда стряслась!
— Какая такая беда? — нахмурился Святослав.
— Гонец из Тмуторокани прибыл.
— Неужто ромеи войной пошли? — Святослав грозно подбоченился, точно готовясь без промедления двинуть рать на супостата.
— Хуже того, княже. Давид, сын Олега Гореславича, касогов привел.
— Ну, касоги не ромеи, нонче же выступим. Стены в Тмуторокани каменные, высокие, ворота крепкие, князь Глеб не зря Хоробрым зовется — до нашего приходу, чай, продержится.
Андрей Болховитин понурил голову:
— Пала Тмуторокань.
— Ты что за небывальщину плетешь?! — бросился к нему Святослав.
— Гонец сказывает — изменою злой ворог в стены вошел. Будто бы от тебя к князю Глебу человек прибыл, сказал, что ты уже с подмогой близок, и велел касогов у стен встретить. Ныне дружина княжья разбита, сам Глеб жив ли — неведомо, а Давид, стало быть, на княжем столе воссел.
— Молчи! — крикнул Святослав. — Вот уж не зря говорят: «У бесхвостого волка долгая память». Добр был в прежние годы батюшка, только то и сделал — ссадил князя Олега с Чернигова, да волю дал убираться, куда глаза глядят. А оно теперь вон как обернулось… Пришло время Гореславов корень выкорчевать! Ступай, Андрей, оповести воевод — завтра на рассвете выступаем в поход супротив волчьего последыша. И не ведать мне покоя, покуда не положу я в сыру землю злобного волчонка Давидку!
— Поспеем ли к утру, княже?
— Поспейте! — рявкнул Святослав, сжимая кулаки. — Такова моя воля!
Сонный монах, ежась от предрассветной сырости, открыл зарешеченное окошко в калитке ворот. Кто бы ни был тот, кому пришла в голову мысль будить спящую обитель столь бесцеремонным образом, он был недобрым человеком. Режим монастырской жизни и без того весьма строг, чтобы по пустякам отрывать минуты сна, оставшиеся до заутрени.
— Кто ты, сын мой, и отчего столь рьяно стучишь в ворота божьего дома?
— Мне нужно срочно видеть отца настоятеля! — объявил незваный гость.
Брат привратник с сомнением поглядел на него сквозь переплет решетки. Судя по виду — оборванец оборванцем, что такому может быть срочно нужно от преподобного аббата Кеннета?
— Ступай, сын мой, не тревожь братию, иди с миром и возвращайся с рассветом. Милостыню и еду будут раздавать после утренней трапезы, и ты сможешь получить свою долю.
— Мне не нужна милостыня! — как-то неловко дергая головой, закричал нищий. — Мне срочно нужен настоятель монастыря!
Монах сказал укоризненно:
— Стыдись, сын мой!
— Мне нечего стыдиться! — выпалил побирушка и вдруг неожиданно для самого себя перешел на латынь: — Сказано было твердейшему из учеников Спасителя нашего апостолу Петру: «И петух не прокричит, как ты трижды предашь меня». Ужели ты ждешь петушиного крика, чтобы открылась тебе бездна предательства твоего? Ступай без промедления и разбуди отца Кеннета!
Монах отшатнулся от калитки. Ему отчего-то показалось, что фигура нищего осветилась, и сам он как будто стал больше прежнего.
— Храни меня, Господи! — прошептал привратник, осеняя себя крестным знамением.
— Не заставляй меня ждать! — требовательно пророкотал оборванец, и служка, не смея ему перечить, со всех ног припустил через двор.
Спустя несколько минут он уже стоял перед аббатом на коленях, тараторя скороговоркой:
— Прости меня, отче, но он, этот неизвестный, требует аудиенции!
— Он требует? — удивленно переспросил благочестивый отец Кеннет.
— Да, ваше преподобие.
— И что же, он даже не назвал себя?
— Нет, — ответил брат привратник, — но говорил на латыни, и от него исходило сияние!
— Что за ерунда? — Аббат поднялся, тяжело опираясь на посох. — Ладно, ступай призови его. Коли он столь необычаен, пожалуй, я приму его.
Отец Кеннет жестом отослал брата-портариуса[19] и, стараясь не выдавать внутреннего неудовольствия, опустился в величественное резное кресло. Ему, младшему сыну владетеля здешних земель, некогда поступившему в монастырь новицием[20] и на склоне лет ставшему настоятелем обители, казалось по меньшей мере непристойным странное желание какого-то замухрышки видеть его в этакий неурочный час. Год за годом аббат Кеннет вел жизнь размеренную, наполненную благочестивыми трудами, молитвами и пением псалмов. Всякое нарушение раз и навсегда установленного жизненного порядка представлялось ему кощунством и заслуживало сурового порицания. Он уже приготовился начать встречу с гневной отповеди сумасбродному наглецу, но тут, оттолкнув брата привратника, в комнату ворвался всклокоченный оборванец.
— Что заставило тебя, сын мой, искать…
— Внемлите и немногословствуйте! — вдруг ни с того ни с сего выпалил нищий.
Такого начала беседы аббат даже представить не мог. От удивления он приподнялся, не зная, то ли гордо удалиться, то ли выгнать наглеца за ворота.
— Да как смеешь ты, убогий! — начал аббат.
— И спаситель в убогом рубище пришел в Иерусалим! — расширив глаза, властно, но почему-то сконфуженно проговорил странный гость.
Казалось, он сам не хотел говорить слов, будто помимо его воли слетавших с уст.
— Сын погибели ступает по вашей земле! — безапелляционным тоном объявил нищий. — Близок час Антихриста!
— Господь моя защита! — перекрестился аббат. — Ты сам-то кто?
— Что тебе в имени моем? Коли хочешь, почитай меня тенью злокозненного врага твоего, врага рода человеческого.
— Свят-свят-свят!
— Всюду, куда пойдет он, с ним буду я, и всякий его шаг смогу я увидеть и передать божьим людям. Ты же поспеши отправить гонца во Францию, в Клерво — к аббату Бернару. Когда прибудут люди от него, станет ведом им путь Сына погибели.
— Но к чему это? — попробовал было запротестовать аббат. — Отец Бернар и вправду известен ревностным служением Господу нашему, но я…
— Не совладать тебе, отец Кеннет, с демонами, стоящими в услужении Сына погибели. Сокрушат они тебя, рассеют паству твою, осквернят храм, вырвут языки у колоколов сладкозвучных. Поступай, как говорю тебе, и тем заслужишь благословение небес.
Отец Кеннет вновь опасливо поглядел на побирушку — тот выглядел странно, но грозно.
— Хорошо, — кивнул он. — Я сделаю по-твоему.
— Поторопись, — требовательно сдвинул брови пришелец и, не меняя тона, продолжил: — И помни, что сказано у святого Августина о настоятелях: «Они первые не для того, чтобы первенствовать, а для того, чтобы служить». А потому, Кеннет, поспеши, я же поспешу возвратиться, ибо там, близ Сына погибели, мое место.
Король Франции, насупившись, глядел на коренастого широкоплечего старца в старомодном блио и накидке — почти мантии — из новгородских соболей. Скуластое обветренное лицо северянина выглядело холодно жестоким. Даже многочисленные старческие морщины и седая борода не могли скрыть железной непреклонности, составляющей, должно быть, основную черту характера прибывшего к государю просителя. Впрочем, менее всего этого человека уместно было бы называть просителем.
— …Гнусный анжуец покусился на честь моей дочери и убил одного из моих сыновей. Я, виконт Жером Пьер Анри де Вальмон, коннетабль Нормандии, требую справедливого королевского суда над мерзким выродком, именуемым Фульк Анжуйский! Я требую, чтобы он кровью ответил за пролитую кровь и нанесенные мне и всему роду оскорбления. Мой государь, — едва разжимая сцепленные зубы, цедил он, — Нормандия — каждый город, каждый замок — с вниманием будет следить за этим судом! Отдавшись под руку твою, мой король, мы искали не прибыли и не покоя, как прочие земли твоего королевства. Мы — нормандцы — и без того богаты и не приемлем овечий жребий. Мы ставим честь и доблесть превыше мира и покоя. Мы искали справедливости и праведного суда, и сейчас как твои верные подданные требуем их от тебя! Яви же, государь, свою волю, и Нормандия станет вернейшим твоим вассалом. Но если жизнь анжуйского любимчика ты ставишь превыше нашей верности, то не следует удивляться и клеймить нас позором, когда в час испытаний ты не найдешь почтения к себе в герцогстве Нормандском.
Произнеся эти слова, виконт де Вальмон протянул руку назад, и один из старших сыновей вложил в нее котту, украшенную цветами Анжу.
— Эти тряпки свидетельствуют, что именно Фульк Анжуйский, а никто иной, пытался обесчестить мою дочь. А этот меч, — он протянул вторую руку, — лучшее доказательство тому, что, позабыв законы рыцарства, граф Анжуйский бежал с позором, бросив оружие. Я объявляю, что он преступник, и ему нет места среди людей чести!
— Любезный Жером, — Людовик Толстый сделал паузу и тяжело поднялся с места, — твои слова разрывают сердце, ибо нет высшего блага, чем счастье моих верных подданных. Обвинения, которые ты бросаешь графу Анжуйскому, тяжелы, и по справедливости я должен тщательнейшим образом разобрать все детали содеянного. Как гласит закон — я обязан выслушать обе стороны и без пристрастия взвесить открывшиеся факты.
— Так сделай же это, мой государь!
— Сделаю, Жером. Конечно, сделаю. Но, увы, сегодня я лишен возможности призвать к себе того, кого ты обвиняешь в убийстве сына и совращении дочери. С той ночи я не видел его и не ведаю, где он находится теперь. Фулька ищут, виконт. Ищут днем и ночью, но пока, увы, о графе Анжуйском нет никаких вестей. Быть может, он укрылся в каком-нибудь монастыре? — Людовик Толстый развел руками. — В любом случае, когда мой кравчий появится — непременно предстанет перед судом. Пока же я хочу видеть твою дочь и желаю, чтобы она под присягой рассказала обо всем, что случилось в тот вечер.
— Но, мой государь, — голос коннетабля Нормандии звучал немного обескураженно, — Мадлен — девица, и ей не пристало… — он замялся, — говорить о таких делах. Я как отец, согласно кутюмам[21] Нормандии, могу свидетельствовать от ее имени.
— Это верно, — кивнул Людовик Толстый, — но только если речь идет о ее чести. Хотя и здесь следует распорядиться о назначении трех достойных матрон, известных своей набожностью и честным поведением, дабы они, согласно обычаю, могли освидетельствовать твою дочь. Ибо ведомо: нельзя отыскать след птицы в небе, рыбы в воде и мужчины в женщине. Если подтвердится, что твоя дочь лишена девственности…
И без того красное лицо виконта де Вальмона побагровело.
— Но я желаю поговорить с ней совсем об ином, — переводя разговор на другую тему, продолжил Людовик, будто и не замечая реакции собеседника. — Если это был честный бой, то твоя дочь — единственная свидетельница произошедшего, а стало быть, ее необходимо выслушать. Быть может, даже допросить с пристрастием. Ибо любовь к брату, возможно, подтолкнет девушку уклониться от истины.
— Она не единственная видела ту схватку! — выпалил де Вальмон.
— Вот как? А кто же еще?
— С сыном были слуги.
— Сколько?
— Трое, — чуть замедлил с ответом де Вальмон.
— Зная местные обычая, могу предположить, что все они были вооружены.
— Только кинжалы и факелы, — попробовал запротестовать виконт.
— В ловких руках и это немало. — Людовик упер в собеседника тяжелый взгляд. — Но тогда выходит, что трое молодчиков во главе с твоим сыном напали на моего кравчего и хотели лишить его жизни.
— Однако честь моей дочери…
— Увы, Жером, если твоя дочь не обесчещена, доказать, что все обстояло так, как поведал мне ты, практически невозможно. Фульк Анжуйский, по твоему утверждению, был на сеновале с девицей, но если твоя дочь не предстанет пред судом, кто может сказать, что это была за девица?
— Но, мой государь…
— Погоди, Жером, ты говорил много, говорил дерзко, и я тебя слушал. Мне понятно, какие чувства горячат твою кровь. Теперь послушай и пойми, что заставляет мою кровь быть холодной. Итак, граф Анжуйский был застигнут, как ты говоришь, на месте преступления. Но в действительности никто не может подтвердить, было ли само преступление. Если предположить, что граф находился там с другой девицей, что, конечно, тоже не делает ему чести, то, выходит, судить необходимо вовсе не его. Ясное дело, сына твоего, мир праху его, не вернуть. Но трех негодяев, покусившихся на жизнь благородного дворянина, следует повесить без всякого сожаления.
— Но мой король!..
— Тише, Жером, тише. Здесь не суд. Ты пришел ко мне со своей болью, и теперь она моя не меньше, чем твоя. Но ведь суд, о котором ты меня просишь, исходит из законов людских и божеских, и я лишь объясняю тебе, с чем предстоит столкнуться на суде.
Король приблизился к старцу и положил руку на его плечо:
— Но заверяю тебя, мой дорогой де Вальмон, когда состоится этот суд, он будет справедливым, и кто бы ни был признан виновным, понесет заслуженную кару. А теперь ступай, и да вознесутся к престолу царя небесного слова мессы за упокой души твоего сына.
Виконт молча поклонился и, сделав рукою знак сыновьям, быстрым шагом покинул королевские покои.
Король проводил его долгим взглядом и, обойдя пустой трон, отдернул занавесь, расшитую золотыми лилиями.
— Я все слышал, сын мой. — Аббат Сугерий стоял у входа в королевскую молельню, перебирая тяжелые четки. — Если смотреть на вещи как подобает французу, то ты вел себя более чем достойно. Если глядеть на это глазами нормандца, — духовник короля печально воздел глаза к распятию, — справедливостью здесь будет почитаться только смерть обидчика и ничто другое. Старый де Вальмон чувствует себя глубоко униженным, но я вовсе не удивлюсь, если вдруг окажется, что не сам виконт, а кто-то более умный и менее горячий подтолкнул старого воина прийти к вам с обвинениями. Нынче же по всей Нормандии поползет слух о том, какое ужасное оскорбление нанесено одному из знатнейших родов герцогства. И о том, что ты, сын мой, попустительствуешь убийцам и совратителям. Это само по себе вредит твоему имени, но плохо еще и другое — оставаться в Руане теперь для тебя становится опасным. Гостеприимная столица может оказаться мышеловкой.
— Но убегать отсюда позорно.
— Королю следует отправиться вершить суд в землях своей державы, как это в прежние века делал Карл Великий. Это сгладит впечатление от амурной истории с Фульком Анжуйским и даст повод убраться из Нормандии.
— Что ж, так и сделаем, — вздохнул король. — Подумать только, сколько неприятностей из-за какой-то задранной юбки!..
Аббат Сугерий снова воздел очи к небу, вернее к потолку, за которым над мощной крепостной башней синело ясное сентябрьское небо Нормандии:
— Мне не пристало слушать такие речи.
— Господь простит мне это прегрешение, — отмахнулся король. — Ответь лучше, слышно ли что-нибудь о Фульке?
— Вынужден сказать, что ничего нового, мой государь, — покачал головой аббат Сугерий. — Последний раз его видели во время стоянки в полудне пути от Руана. Возницы рассказывают, будто за ним гнались четверо братьев де Вальмон. Он прыгнул от них в воду. Должно быть, несчастный утонул. — Настоятель Сен-Дени печально сложил руки перед грудью в молитвенном жесте. — На все воля Божья.
— Судя по тому, что старый Жером не оставляет желания послать Фулька на плаху, ему достоверно известно, что тот еще жив. Иначе с чего ему так хлопотать?
— Ему — нет смысла, но если за де Вальмоном и впрямь стоят умные люди, то следует помнить, что для мятежа нужна не королевская справедливость, а сам факт оскорбления, который позволит нормандским баронам позабыть о данной ими присяге. Я бы советовал королю дознаться, нет ли среди тех, кто замышляет против вас недоброе здесь — в Руане, — людей, подосланных Бернаром из Клерво. Не будем забывать, что меж ревностных послушников аббата Клервосского, поднявших оружие против короля Англии, было немалое число нормандцев.
— Это разумная, хотя и безотрадная мысль, — согласился Людовик. — Кстати, что слышно от гонца, посланного в Рим?
— По моим расчетам, он должен уже прибыть к престолу Святейшего Папы. Далее же будем уповать на мудрость ключника святого Петра и волю Господа.
Барка неспешно переваливалась с волны на волну, заставляя крошечную темницу Фулька Анжуйского прыгать вверх-вниз. Сам пленник сидел, едва не касаясь головой палубного настила, скрючившись так, что колени доставали до подбородка. За последние дни он давно привык к темноте. Когда вечерело и барка становилась на якорь, Фулька под охраной нескольких то ли моряков, то ли разбойников выводили подышать воздухом и размять затекшее тело. Затем он вновь занимал место в ящике для запасного якорного троса, а за стенкой устраивался на ночлег нелюдимый страж, готовый действовать, как сказал капитан, «по случаю».
Так повторялось снова и снова, и наступивший вечер не стал исключением. Все, что успел разобрать, совершая «вечерний променад», несчастный пленник, — это то, что судно покинуло Сену и, наконец, вышло в море. Он хотел еще подышать воздухом, полюбоваться звездами, но грубый пинок в спину заставил его пробежать несколько шагов, чтобы не упасть.
— Послушай, — анжуец попытался было начать разговор, когда заталкивающий его в ящик головорез завозился с засовом, — что ты забыл на этой дрянной лохани? Не сегодня-завтра она пойдет ко дну, и ты вместе с ней. Иди ко мне на службу и ни в чем не будешь знать отказа. Я сделаю тебя богатым — у тебя будет дом, ферма, мельница…
— Лезь, — хмуро оборвал его стражник.
— Да ты слышишь, что я тебе говорю? — попытался образумить его Фульк.
— Не разговаривай, полезай. — Детина втолкнул графа в ящик и задвинул массивный засов.
— Проклятие! — тихо выругался пленник.
Все его естество, все достоинство и доблесть, врожденные и воспитанные, закаленные в боях, бунтовали против столь унизительного положения.
— Бежать, — прошептал он, — даже если до выплаты этого чертова выкупа останется одно лишь мгновение! Бежать! И покарать! Каждого на этой чертовой посудине!
Он услышал, как баржа останавливается, с громким плеском падает в прибрежные воды якорь, и постепенно стихают голоса над головой и за стеной.
«От барки до берега совсем немного, — крутилось у него в голове, — только б вылезти отсюда, только б добраться до палубы». Он заерзал, притянул колени поближе к груди, пропуская перед собой связанные за спиной руки.
«Сейчас все, кроме вахтенных, уснут. А вахтенные… Что вахтенные? Наверняка их не больше двух. Травят себе байки да следят за горизонтом, а может, и вовсе спят. В любом случае с кинжалом я смогу заставить этих недоносков замолчать. Но где взять кинжал? И как выбраться отсюда? Пройдет совсем немного времени, и страж захрапит, облокотившись спиною на дверь. Вот тогда самое бы время… Хотя!»
На лице Фулька Анжуйского мелькнула улыбка — первая за несколько дней: «Стоит попробовать!»
Мысль, пришедшая в его голову, казалось, добавила ему сил. «Господь, кажется, на моей стороне, — думал он, с нетерпением ожидая, когда стихнут последние звуки на засыпающей барке. — Ну, вот и пора!»
Он еще раз прислушался, чтобы понять, заснул ли охранник. Храпа не было. Выгнувшись, Фульк Анжуйских поднял руки и начал мерно скрести ногтями палубу: вжик-вжик, вжик-вжик… тихое сопение за стеной смолкло, свидетельствуя о том, что стражник бдит. Вжик-вжик, вжик-вжик…
— Тише! — сдавленным шепотом проговорил Фульк. — Кажется, он еще не уснул.
И тут же сказал громче, с заученным фризским акцентом:
— Готов биться об заклад, этот дуралей уже дрыхнет. Да он не проснется, даже если с него стянут портки и воткнут свечку…
Фульк с удовлетворением отметил, что негодующий от столь лестной оценки сторож старается беззвучно отодвинуть засов.
— Да ты не волнуйся, граф, — продолжал с хрипотцой Фульк. — Сейчас я все допилю.
Дверца распахнулась, в проеме возникла разъяренная физиономия разбойника, и тут же связанные руки Фулька Анжуйского молотом опустились на затылок незадачливого аргуса.[22] Не удержав равновесия, тот упал. Стянутые узлом руки вмиг оказались у него на гортани, колено Фулька уперлось в затылок… И святой Петр, решивший было отдохнуть после тяжелого дня, со вздохом полез ставить крестик в Книге судеб.
— Вот и кинжал, — удовлетворенно сказал себе под нос граф Анжу. — Долой веревки!
Стараясь не тревожить спящих, он прокрался на палубу. Как и предполагалось, вахтенные, утомленные дневной работой, дремали, прислонясь спинами к мачте. Когда анжуец проходил мимо, один из них приоткрыл глаза, но, увидев фигуру в низко надвинутой войлочной шляпе, пробормотал: «А-а-а» и снова уснул. Фульк какое-то время постоял над спящими, думая, не стоит ли перерезать им горло, но, опасаясь крика, решил покуда сохранить жизнь.
Взяв светильню, висевшую на крюке над вахтенными, он подошел к борту, присвечивая, чтоб не зацепиться за чьи-нибудь ноги и крепления банок.[23]
«Если спуститься по якорному канату, плеска не будет».
Он ощупал трос и вдруг замер — с моря к барке приближался двухмачтовый корабль, куда больше фрисландской развалюхи.
— Эй! — замахал руками Фульк и… едва успел отскочить и укрыться за фальшбортом. Длинная, в руку, стрела, пронзив то место, где только что стоял он, воткнулась в палубу.
Должно быть, на корабле желали подойти неслышно, но, заметив фигуру со светильней, решили, что маневр обнаружен. Так это было или нет, но корабль, до того безмолвный, огласился ревом, гиканьем и свистом. Стрелы дождем посыпались на палубу, предвещая неминуемый скорый абордаж.
Фульк, сжавшись, лежал под банкой у самого фальшборта. Одна из стрел, воткнувшись в барку снаружи, пробила старую доску, и наконечник с парой дюймов навощенного древка вылез совсем рядом с головой притаившегося графа.
— Дева Мария, тебе вручаю жизнь мою, — прошептал Фульк, отодвигаясь.
Между тем на палубе слышался ревущий, как труба архангела Гавриила, капитанский голос, призывающий экипаж к обороне. Матросы, привыкшие к беспрекословному повиновению, сновали вдоль борта со щитами, луками и длинными широкими тесаками, весьма удобными для ближнего боя.
— Ставьте колья! — орал шкипер. — Растягивайте сеть!
Команды были правильными, но запоздалыми — абордажные крючья уже полетели на борт злополучной барки.
— Рубите канаты!.. — Голос капитана послышался совсем рядом.
Фульк распрямился, будто пружина вытолкнула его из-под скамьи. Он вскочил, вонзил кинжал в бок стоявшего рядом матроса, перепрыгнул через упавшее тело и бросился на капитана. Тот не был новичком — случались и нападения на корабль, случалось и отражать подобные штурмы — зажав в каждой руке по тесаку, он ждал, когда на палубу его утлого суденышка, словно яблоки с раскачиваемой ветром яблони, посыплются абордажники. Но опасность была куда ближе — кинжал Фулька устремился в горло тюремщику. Тот отпрянул в сторону, пытаясь достать клинком нежданного врага. Фульк ушел от удара и вновь атаковал. В этот миг враг штормовой волной с ревом накатил на уже залитую кровью палубу.
Что было дальше, Фульк Анжуйский помнил слабо. Он рубил, колол, уклонялся от ударов, отпрыгивал в сторону, как дикая кошка от тележного колеса, переполняясь знакомой с детских лет радостью от угара беспощадной сечи.
Когда же наконец он вновь смог осознавать происходящее вокруг, с экипажем барки было покончено. Двое крепышей, по виду ничуть не лучше тех, с кем только что довелось сражаться, держали его за руки, еще один явно уже не в первый раз спрашивал:
— Эй, кто ты такой?
— Я… из Анжу, — выдавил Фульк.
— Судя по тому, что ты сделал с капитаном этого грязного корыта, то вовсе не рад был здесь очутиться.
— Это верно, — согласился Фульк.
— Но дрался ты знатно. Учился?
— Я был оруженосцем у одного славного рыцаря, — уклончиво ответил королевский кравчий.
— Тогда понятно. Что ж, армигер,[24] коль ты такой ловкий боец, так, может, желаешь служить у меня? Я, конечно, не славный рыцарь. Но те, кто верен мне, получают хорошую долю добычи.
Фульк задумчиво огляделся: по сходням с барки на корабль победителя тащили какие-то тюки, перекатывали бочки с вином, направлявшимся из Парижа во Фрисландию. У графа не было никаких сомнений, в чьи руки он попал, но и выбора тоже особо не было. Понятное дело, становиться пиратом не входило в его планы, и все же бегство с палубы корабля представлялось делом более простым, чем из ящика под ней.
— Я согласен, — кивнул Фульк.
— Вот и отлично, — улыбнулся предводитель разбойной братии. — Стало быть, завтра разгружаемся и послезавтра выходим в море. Эй, все взяли? Зажигайте барку!
Глава 8
Ничто так не способствует светлому будущему, как темное прошлое.
Балтасар Косса, папа Иоанн XXIIIБарон ди Гуеско, капитан гвардии Его Святейшества Папы Гонория II, недовольно оглядывался по сторонам. Совсем недавно он радовался жизни в новоприобретенном имении неподалеку от Рима и считал, что с немалой выгодой вложил каждый из уплаченных золотых флоринов. Недавняя аудиенция внесла неприятную поправку в его мироощущение.
Он еще с глубокой почтительностью лобызал протянутую понтификом руку, внимательно приглядываясь к перстням, украшающим длинные пальцы, когда над головой его раздалось:
— Синьор Анджело, для дела, которое я намерен вам поручить, мне нужен человек храбрый, ловкий и немало искушенный в жизни. Одним словом, я нуждаюсь в человеке ваших дарований.
— Каждый мой день и час я к услугам Вашего Святейшества! — не задумываясь, ответил барон, продолжая разглядывать массивные перстни.
— Христианнейший король Франции просит нас прислать человека, облеченного доверием, дабы он мог рассудить спор, возникший между сынами доброй нашей матери Римско-католической церкви, столь широко известными, что само оглашение розни между этими иерархами может не лучшим образом сказаться на положении дел как во французском королевстве, так, увы, и во всем христианском мире.
— Прискорбное известие, — изображая на лице подобающую случаю печаль, ответил капитан папской гвардии.
— Верно, сын мой, очень верно. — Его Святейшество пожевал губами, подыскивая слова. — Оттого, барон, я желаю, чтоб сегодня же, взяв своих воинов — не слишком много, чтоб не привлекать особого внимания, — вы отправились в Парму, где при дворе архиепископа Пармского ныне пребывает монсеньор Гуэдальфо Бенчи — настоятель храма Санта Мария делла Фьоре. Сей достойный муж, известный праведностью, твердостью веры и трезвостью суждений, как никто иной подходит для столь щекотливой и важной миссии. Вам надлежит охранять его и выполнять его указания как мои. Помните, что хотя просьба о прибытии визитатора[25] во Францию исходит от короля Людовика, сегодня мы не знаем, на чьей стороне правда. В любом случае, каким бы ни было решение монсеньора Бенчи, я предвижу, что у него может появиться множество врагов. Вы отвечаете мне за жизнь этого достойного прелата, равно как и за то, чтобы он целый и невредимый вернулся к нам в Рим.
— Я сделаю все, на что способен человек, с благословения Вашего Святейшества и при содействии сил небесных, — поклонился барон ди Гуеско.
— В таком случае я не сомневаюсь в успехе порученного вам дела, — протягивая капитану опечатанный свиток, произнес Гонорий II. — Ступайте. Казначей выдаст денег на дорогу вам и вашим людям. Остальное получите у архиепископа Пармского.
Беседа эта не шла из головы дона Анджело, как и родовое прозвание папского легата — Бенчи. Где-то прежде он уже слышал подобное имя. Но где, когда? Кажется, ничего серьезного, иначе он наверняка помнил бы его. Но все же… Барон ди Гуеско крайне не любил таких ситуаций, они тянули его воспоминания о прошлой жизни, как тянут привязанные к шее камни ко дну сброшенную за борт жертву.
«Бенчи, Бенчи, Бенчи… Нет, слишком много на моем веку встречалось разных незначительных людишек, чтобы помнить каждого. Уж во всяком случае, ни одного святого отца с таким именем прежде знавать не доводилось. — Барон отогнал назойливую мысль, и перед его внутренним взором снова возникли длинные персты Святейшего Папы, унизанные драгоценными кольцами. — Поговаривают, что этот старый хорек варит золото. Будто бы из Иерусалима некий пленный сарацин привез ему рукопись самого царя Соломона, в которой скрыт рецепт изготовления золота из любого, самого никчемного металла. Судя по тому, как быстро разбогател этот старый хрыч, ему достоверно известен секрет философского камня, или как там они его называют. Конечно, он властитель Рима, но этот титул требует больше затрат, нежели доставляет доходов. А тут монеты льются рекой. Хорошо бы раздобыть эту рукопись, вот только как? В любом случае, чтобы добраться до нее, надо сидеть в Риме, поближе к Папе, а уж никак не таскаться между Пармой и Парижем, охраняя какого-то очередного святошу».
— Синьор, — услышал ди Гуеско, — вон тот купол — это храм святой Марии в Цветах, — окликнул капитана папской гвардии воин с простоватой крестьянской физиономией.
Дон Анджело молча кивнул и направил кавалькаду к виднеющемуся впереди храму.
* * *
Отец Гуэдальфо с утра был хмур. Служение Всевышнему, которому он посвятил последние годы жизни, заставляло его быть образцом христианского смирения и любви к ближнему, но прежняя жизнь, как пламя, скрытое под застывающей магмой, временами требовательно рвалась наружу.
В эти дни монсеньор Гуэдальфо дольше обычного склонялся пред ликом Мадонны, самозабвенно шепча слова молитвы, старательно усмиряя гордыню и гневливость.
Чаще всего такое случалось, когда ночью ему снилось море: синее, озаренное ясным солнцем, море — оно обступало со всех сторон, переворачивалось, стирая грань между водой и небом… Теперь волны медленно, изматывающе долго перекатывались у него над головой, ежесекундно грозя обрушиться всей своей ужасной массой. Монсеньору Гуэдальфо становилось тяжело дышать, он просыпался в холодном поту, захлебываясь и судорожно втягивая напоенный ароматом воздух. Последние дни море снилось ему каждую ночь, а потому он стоял перед мраморным изваянием богоматери, обращаясь к небесной покровительнице с мольбой о прекращении этой муки.
— Монсеньор, — услышал фра[26] Гуэдальфо и, оглянувшись, увидел храмового служку. — Прошу извинить, что отвлекаю вас от размышлений. Прибыл личный посланец Его Святейшества.
— Проводи его ко мне, — величественно наклонил голову настоятель.
Капитан гвардии Его Святейшества стремительным, почти танцующим шагом вошел в ризницу, склоняясь в подобающем поклоне:
— Мой господин велел передать свое благословение и справиться о здоровье вашего преподобия.
Барон ди Гуеско выпрямился и устремил взгляд на худое аскетичное лицо настоятеля.
«Где-то я уже видел его», — подумал он, глядя в темные впавшие глаза святого отца. Тот молчал, не спуская взора с пришедшего, и бескрайнее синее море перекатывало через Гуэдальфо ди Бенчи свои тяжелые ленивые волны.
Это произошло девять, без малого десять лет назад, когда король Роже Сицилийский еще не носил своего нынешнего гордого титула и был лишь герцогом. Пираты Алжира, Туниса, да, почитай, всего Магрибского побережья придерживались странного убеждения, что со смертью захвативших Сицилию Робера Гвискара и его братьев жизнь их пойдет много лучше, нежели до того. Племяннику свирепого Гвискара — молодому герцогу Роже — предстояло развеять это нелепое заблуждение. Повелитель Сицилии оказался вполне достойным своих предков, так что разбойной братии очень скоро довелось почувствовать на шее его мощную хватку.
Среди принятых им на службу капитанов был совсем юный венецианец, получивший широкую известность тем, что, попав за три года до того в плен к тунисским пиратам, принял ислам и быстро дослужился до должности командира одной из пиратских галер. Вместе с этим кораблем он и убежал на Сицилию. Звали смельчака Анджело Майорано. Вернувшись в лоно церкви, новообращенный капитан взялся показать карательной экспедиции сокровенные убежища, в которых морские разбойники прятали корабли и скрывали награбленные сокровища.
Среди принятых на борт молодых дворян, желавших блеснуть храбростью в борьбе с пиратами, был Гуэдальфо Бенчи. Достигнув Балеарских островов, галера Анджело Майорано пристала к едва заметной бухте у острова Форментера. Здесь, в высокой скале находилась огромная пещера, служившая пиратским логовом. Оставленная в ней стража с немалым изумлением увидела входящую в бухту галеру чужаков, но, зная неприступность почти отвесной скалы, принялась насмехаться над сицилийцами, пытающимися соорудить лестницы и приставить их к нависающему прямо над пучиной гранитному козырьку. Если бы пираты знали, чем занимался Анджело Майорано всего за несколько часов до этого смехотворного представления, они бы повременили веселиться.
Хохот моментально застрял у них в горле, когда с вершины скалы прямо к входу в пещеру на канатах спустились два полных воинами баркаса. Конечно, и в этом случае бой получился кровопролитным. Из темных коридоров стражей сокровищ пришлось выкуривать, бросая туда горящие мотки просмоленной пакли, однако, захваченные врасплох, они были обречены. Погруженная на галеру добыча превзошла любые ожидания. Все, собранное пиратами за годы непрестанных грабежей, перекочевало в трюм корабля Анджело Майорано.
То, что случилось дальше, Гуэдальфо Бенчи сам, пожалуй, не смог бы объяснить внятно. Он помнил, что среди его собратьев по оружию пошли недовольные разговоры о том, что сражались в пещере они, а слава и львиная доля захваченной добычи достанется какому-то безвестному венецианцу. Но это были лишь разговоры, а потому, когда однажды утром Анджело Майорано во всеуслышание заявил, что заговорщики пытаются захватить корабль, и тут же приказал рубить сицилийцев, Гуэдальфо даже меч не успел обнажить. С немногими соратниками ему удалось укрыться в кормовой надстройке. Запершись там, он пригрозил зажечь корабль, если капитан и его приспешники захотят штурмовать их.
Похоже, угроза подействовала на Майорано. Он торжественно поклялся на Библии, что, если сицилийцы сложат оружие, ни он и никто из команды не тронет их, вплоть до того мига, пока они не предстанут пред королем. Майорано обещал, что не отворит дверь надстройки и вообще запретит прикасаться к ней. Капитан был сладкоречив и убедителен, но лишь только сицилийцы открыли дверь, чтобы передать оружие бывшему пирату, внутрь помещения тучей полетели стрелы. Выжили лишь Гуэдальфо с еще одним безвестным дворянином. Соблюдая данную клятву, венецианец заставил их собственноручно выбрасывать за борт убитых товарищей. После чего Гуэдальфо с товарищем сняли двери надстройки и отправились в плавание на этом слабом подобии доисторических плотов.
Сначала несчастные пытались держаться вместе, но на третий день блуждания по волнам Средиземного моря соратник Гуэдальфо, не вынеся страданий и голода, бросился в пучину. Спустя еще два дня изможденного ди Бенчи заметили и выловили генуэзские рыбаки. Все, что он мог — это молиться Деве Марии о спасении. Оказавшись на твердой земле, молодой дворянин решил не возвращаться на Сицилию и отправился паломником в Рим, где вскоре принял постриг в одном из монастырей.
В светском, привыкшем к параду развлечений и удовольствий Риме бескомпромиссный фра Гуэдальфо пришелся не ко двору, но когда речь зашла о вопросах соблюдения канонов веры, лучшей кандидатуры на должность папского легата во Францию было не сыскать.
Монсеньор Гуэдальфо Бенчи глядел на капитана гвардии Его Святейшества и не мог произнести ни слова. События прошедших лет вновь стояли у него перед глазами.
— Как вас зовут? — наконец с трудом произнес он, не спуская тяжелого взгляда с посланца.
— Анджело ди Гуеско, барон милостью властителя земель святого Петра.
— Анджело, — повторил настоятель собора Девы Марии и ему показалось, что барон ди Гуеско напрягся.
— Его Святейшество велел передать вашему преподобию предписание. — Майорано протянул святому отцу опечатанный свиток.
Тот сломал воск и пробежал глазами витиеватые строки:
— Его Святейшество повелевает мне отправиться ко двору христианнейшего короля Людовика VI.
— Мне это известно, ваше преподобие. Я должен вас сопровождать туда.
— Да, здесь это сказано. — Настоятель исподлобья глянул на посетителя. — Но, увы, мне сейчас нездоровится. Вряд ли я могу нынче же отправиться в путь.
— Мне велено передать вам, что дело не терпит отлагательств.
— Очень жаль, — вздохнул монсеньор Гуэдальфо, отворачиваясь от капитана папской гвардии. — Я сейчас же отпишу Его Святейшеству, принесу ему свои извинения. И уверен, он снизойдет к просьбе отложить выезд на несколько дней — до моего излечения.
— Как вам будет угодно, монсеньор, — вновь поклонился Анджело Майорано. — Я готов предоставить своих воинов, чтобы отвезти письмо.
— Не утруждайтесь, у меня есть надежные люди, — стараясь придать голосу безразличную величественность, ответил Гуэдальфо Бенчи. — Располагайтесь в городе. Я велю, чтобы вам и вашему отряду предоставили хорошие покои.
— Благодарю вас, монсеньор. — Дон Анджело, продолжая кланяться, поспешно вышел за дверь и вдруг, точно обессилев, прислонился к стене, цедя сквозь зубы: — Бенчи!
Лис отодвинул плечом слугу, преграждавшего ему путь в комнату, и изрек с мрачной непреклонностью:
— Да-а… Тут вам не здесь! Десять «Отче наш» и пятнадцать отжиманий. Пол — вот, молельня — там, на входе. Приступай.
Опешивший слуга не нашелся, что и сказать, но, строго говоря, и отвечать ему было некому. Он не мог оценить, лучше незваный гость татарина или хуже, поскольку и знать ничего не знал о татарах, да и таких наглецов ему прежде встречать не доводилось.
Входить в обеденную залу главы церковного суда без доклада — неописуемо! Но это уже происходило, и замерший у приоткрытой двери служитель только и мог, что выполнять предписанную Лисом епитимью, или же подглядывать в щель двери за странным визитером, вторгшимся без спроса к Его преосвященству. Он выбрал второе.
— Ну что, — между тем, подходя вплотную к столу, поинтересовался Лис. — Кусок в горло лезет?
Судья поперхнулся. Слуги, несущие новые перемены блюд, застыли в оцепенении.
— Вижу. Лезет, но плохо, — подытожил наблюдения Лис. — Это поправимо, скоро лезть не будет. Ты пока по свободе горло промочи, а я тебе зачитаю, шо тебя ожидает, пока ты не дождался.
— Кто ты такой?! — наконец, приходя в себя, взвился с места сановный гурман.
— Понимаю твое любопытство и отвечаю: это не важно. А важно другое — горло работает нормально, а потому я констатирую пригодность испытуемого к даче свидетельских показаний. Пока свидетельских. Заканчивайте чревоугодие, следователь ждет, пройдемте к нему. Или желаете, чтобы он собственноножно навестил вас в этой скромной, — Лис обвел взглядом увешанную тяжелыми бархатными портьерами залу и роскошный стол, — не побоюсь этого слова, келье?
— Да по какому праву?!
— Да по какому угодно — хошь по церковному, хошь по кодексу Юстиниана. Разница невелика — вышак тебе ломится, сердешный.
Он достал из рукава свиток с печатью Бернара Клервосского и потряс им перед носом судьи:
— Вот и нарисовалось дно бездне твоего падения! У тебя есть право дышать, есть право говорить. Все, что ты скажешь, непременно будет обращено против тебя. Хочешь, я с примерами объясню тебе, как в Риме добиваются открытия правды? Не пробовал еще таскать каштаны из геенны огненной?!
— Я не понимаю, о чем вы говорите!
— А вот этого не надо! Это лишнее. Под умалишенного косить не стоит. Тебя извещали депешей за номером триста двадцать два дробь семнадцать. Ты отлично знаешь, что обвиняешься в попустительстве тому, кого именуют Сыном погибели.
Глава церковного суда Уэльса от неожиданности открыл рот, собираясь что-то сказать, но не зная что.
— Мне кажется, или ты уже полон раскаяния под самую завязку? — с разных сторон оглядывая церковника, поинтересовался Лис. — Уже — да — полон? Это похвально. Помощь следствию будет учтена при вынесении приговора.
— Но погодите! — запротестовал судья. — Какой приговор?! Я никому не помогал!
— Чистосердечное признание тоже делает тебе честь, — согласился Сергей, — но давайте говорить начистоту. Буквально прямо в глаза, прямо ртом. Речь идет не об абстрактном «никому», а о конкретном Сыне погибели и о следствии, которому, как ты только что признался, помогать не желаешь… — Он набрал в легкие воздуха и взревел: — Потрудись объяснить: куда, каким образом из охраняемого здания суда исчез этот злодейский преступник?!
— Демоны! Демоны. Это все демоны, — залепетал не привыкший к такому обращению судья.
— Знаю, что не солнечные зайчики, — категорично отрезал Лис. — А ты здесь что, червей для рыбной ловли разводишь? Почему не обезвредил? Где запас святой воды? Где серебряные ведра и крестообразные багры? Где, наконец, освященный песок, я тебя спрашиваю? Вы что же, «Энциклику» не читали?
— Нет, — окончательно теряясь, пролепетал судья.
— Ну, это нормально? Папа, буквально Его Святейшество, в поте лица заботится о своей вселенской пастве, пишет энциклики, опять же буллы. А в Уэльсе их не читают! Ты еще скажи, что их не получал!
— Нет…
— Фух, ты меня утомил. Ладно, об этом поведаешь следователю, хотя, боюсь, это будут твои последние слова. Я искал тут, искал, чем могу смягчить твою участь, но, похоже, ты меня понимать не хочешь. Похоже, упорствуешь и коснеешь. И я, невзирая на всю свою врожденную любовь к ближнему, ничем не смогу тебе помочь. — Лис изучающе взглянул на судью, стараясь понять, достаточно ли ясно донес мысль до перепуганного святоши.
— А-а-а… Что же?.. Вы могли бы помочь? — воспрял духом судья. — Я был бы вам безмерно благодарен.
— Освященный песок мы тебе привезли. Сбор уплатишь, и пользуйся на здоровье. С баграми, ведрами, водой, надеюсь, тоже проблем не будет… Но как же Сын погибели? Не хочешь же ты сказать, что, покинув судилище, он провалился сквозь землю?
— Нет-нет! — поспешил с ответом судья. — Пройдя через город, он направился в сторону Лондона. За ним увязались трое нищих.
— О! Твоя сознательность растет, как жар в адских котлах во время карнавала. Продолжай в том же духе. Я думаю, следователь вышнего суда, — Лис ткнул указующим перстом в сторону окна, — удовлетворится данными мне показаниями. Конечно, при условии чистосердечной финансовой поддержки означенного в энциклике предприятия.
— Ну да, ну да, конечно! — закивал судья. — Только сегодня утром мне стало известно — в город прибыл некий лесной разбойник. Он пожертвовал монастырю святого Кутберта сотню золотых и попросил аббата принять его послушником.
— Вот как? — Лис удивленно поднял брови. — Похвально. Но какое отношение этот факт имеет к рассматриваемому делу?
— Этот разбойник встречался с Сыном погибели! — преданно глядя в глаза Сергея, продекламировал судья.
— Где же?
— В полутора милях от Самманхэртской обители, в лесу.
— Значит, так, — переходя на деловой тон, начал Лис. — Сейчас быстренько пишешь распоряжение всем аббатствам, каноникам и тому подобное оказывать содействие нашей следственной группе, отсчитываешь пятьсот шиллингов и готовишь место под освященный песок — тебе его отгрузят.
— Ну шо, все слышал? — раздавалось между тем на канале закрытой связи.
— Слышал. Давай там, поторопись, а то как бы нашего Федюню местные святоши не решили, ну, скажем, собаками затравить.
— Так, может, отобедаете пока? — предложил пришедший в себя хозяин дома.
— Не хлебом единым жив человек! — Лис принял гордую позу. — С собой заверни.
Дорога медленно тянулась с холма на холм, время — изо дня в день, а Федюня со товарищи все шел к далекому Лондону. Он бы, может, шел быстрее, но всякий раз один из его спутников отправлялся в ближайшие селения, замок или монастырь за милостыней, а через несколько часов возвращался с узелком провизии, вполне достаточной, чтобы дотянуть до следующего утра.
Федюня старался убедить товарищей, что это излишне, и лес сам по себе вполне может обеспечить путников едой и питьем, но те воспротивились, и даже верный Гарри признал, что жареный бекон лучше кореньев, а пиво — ключевой воды. С неохотой Федюня вынужден был согласиться, хотя потеря времени немало огорчала его.
Сейчас, в разгар ясного дня, он сидел, глядя, как резвятся на обугленных ветвях языки пламени костра, и методично сплетал из прутьев ивы некое подобие корзины.
— Ловко у тебя выходит, — наблюдая за снующими по каркасу пальцами мальца, покачал головой один из нищих. — От отца небось ремесло перенял?
— Нет, само как-то… — не отвлекаясь, проговорил Федюня.
— А отец-мать где?
— Давно померли, — вздохнул Кочедыжник.
— А-а-а… — протянул оборванец. — А сам ты из какого народа? Я так гляжу — не из наших, не сакс, опять же. Да и на тех, — он кивнул, — норманнов не похож.
— Издалека, — ответил мальчишка. — По змеевому пути пришел.
— А это как?
— Под водами бездонными тропами потаенными из края в край без памяти и следа. Где был — там нет, а где есть — там и есть.
— Мудрено. — Побирушка как-то странно дернул головой. — А в Лондон тогда по какой нужде идешь?
— Надобно идти, вот и иду.
— И то верно, — подбрасывая хворост в костер, вмешался Гарри. — Что тебе за дело — для чего идет?
— Ну, да мало ли… — пожал плечами его спутник. — Сказывают, и король нынешний со своим воинством из дальних земель невесть как прибыли. Так, может, Федюня из оных? Может, он королю заместо сына, а мы про то и не знаем.
— Князя Мстислава, что нынче королем в тех землях, и впрямь видал. Да только куда мне… — ответил Федюня.
— Тише! — перебил его Гарри. — Где-то поблизости псы лают.
— Может, барон какой охотится? — предположил нищий.
— Может, и охотится. Как бы то ни было, лучше спрятаться. А то ведь, упаси бог, решит барон, что мы на его оленей посягаем и развесит нас, что желуди на ближайшем дубу.
Он хотел еще что-то сказать, но тут на выходе из теснины протрубил рог, и рыцарь, сопровождаемый десятком лучников и сворой псов, выехал из чащобы, демонстративно неся перед собою меч рукоятью вверх, точно крестную защиту.
С противоположной стороны ему ответил другой рог, и тут же выход из урочища и склоны холма наполнились вооруженным людом — по большей мере крестьянами с топорами, дрекольем и вилами.
— Вот ты и попался, Сын погибели! — поднимаясь в стременах, возгласил рыцарь. — Смирись! Склони колени перед крестом, и я сохраню жизнь тебе и прислужникам твоим!
Федюня услышал позади себя тихое бормотание побирушки:
— Не оставь мя… Доверился тебе…
— Не тронь мальчишку! Нет в нем зла! — Гарри с шумом выдохнул и заступил путь лендлорду.
— Ты, голытьба, учить меня вздумал?!
Гарри сцепил зубы, примеривая в кулаке поднятый с земли камень — единственное имевшееся под рукой оружие.
— Ни к чему это, — громко, с печалью в голосе произнес Федюня. — Смертью ты грозишь мне, воин, но что мне смерть от меча твоего и стрел людей твоих? Кто не дошел до конца пути своего и в пламени не сгорит. Кого же час настал — и дуновение ветра сломит. Не оттого ли, воин, пугаешь меня, что сам в душе страшишься? Так и псы твои лают, дабы напугать всякого, с кем в схватку вступить не смеют. Так ли это? — Федюня вдруг поглядел на свирепых волкодавов, окружавших всадников, и те неожиданно заскулили и попятились.
— Но лишь те, кто страшится пса, убоятся его лая. И разве, истребив его, искоренишь страх перед псом в сердце своем? Говорю я вам — не идите путем страха, ибо путь этот есть путь чудовищ разума и тернии духа. Отрешитесь от страха, как не боится вода бури, вздымающей пенные валы. Отверзните свои очи и увидите, что нет бури и нет чудовищ, коих страшились вы. Идите ко мне, псы!
Огромные ирландские волкодавы, еще мгновение назад жавшиеся к хозяйскому коню, вдруг как по команде бросились к Федюне и подобно ласковым щенкам принялись скакать вокруг, норовя лизнуть его лицо.
Толпа, стоявшая в безмолвии вокруг, начала зачарованно приближаться к гладящему псов мальчишке, бросая на ходу оружие и не произнося ни единого слова.
— Стреляйте! — выходя из оцепенения, закричал багровый от гнева рыцарь. — Стреляйте! Убейте их всех!
Лучники, привыкшие слепо повиноваться командам лорда, стали медленно поднимать луки, растерянно глядя на крестьян, спускавшихся с холмов вниз.
— Это все чары колдовские! — неистовствовал их господин.
Выросшие в схватках пограничья и охоте на разбойный люд, лучники неловко пытались нащупать колчаны, неуверенно тащили стрелы, то и дело цепляясь одной за другую.
— Да стреляйте же! — потрясал кулаками рыцарь, конь его встал на дыбы — то ли пытался сбросить седока, то ли унести его подалее от зачарованного места.
— Не сметь! — раздалось с противоположной стороны теснины.
Расталкивая конем ошеломленных воинов, к кострищу двигался всадник в белом плаще с красным лапчатым крестом.
— Именем Святейшего Папы Гонория II, с благословения преподобного Бернара Клервосского, по повелению церковного суда епархии… Я арестую…
— Не выдадим! — Толпа сомкнулась вокруг Федюни, готовая принять бой, пусть даже и одними кулаками. — Он наш!
Глава 9
Если не испытываешь желания преступить одну из заповедей, значит, с тобой что-то не так.
ТорквемадаФра Гуэдальфо огляделся и приоткрыл калитку сада.
— Ты все запомнил? — тихо спросил он.
— Да, монсеньор. Как только прибуду в Палермо, я должен найти вашего дядю Луиджи ди Бенчи — он проведет к королю. Чтобы ваш почтенный родственник опознал меня, надлежит показать ему вот этот крест.
— Все верно. Что ты скажешь государю?
— Что пират Анджело Майорано, похитивший сокровища Форментера, сейчас находится в Парме.
— Передай также, что я постараюсь задержать его дней на десять, но вряд ли мне удастся морочить ему голову дольше. Пусть Его величество поторопится, если желает узнать, куда подевалась захваченная нами добыча.
— Сделаю все, как вы велели, монсеньор.
— Ступай же, и да пребудет с тобой благословение Господне. — Фра Гуэдальфо перекрестил собеседника.
Тот, поклонившись, вышел из сада. Настоятель храма Девы Марии, какое-то время поглядев ему вслед, еще раз перекрестил его и запер калитку. Перепуганная лязгом сдвигаемого засова, вскрикнула ночная птица, и фра Гуэдальфо, не сдержавшись, погрозил кулаком в сторону росших у ограды деревьев.
Между тем гонец Его преподобия миновал сад, вскочил на оставленного у коновязи легконогого неаполитанского скакуна и, сопровождаемый новым криком переполошенной обитательницы древесной кроны, направился к городским воротам. Отдыхавшая в караулке стража с великой неохотой подчинилась требованию Его преподобия опустить мост и выпустить гонца за ворота. Это было запрещено наставлением о караульной службе, но всякий в Парме знал, что уже свыше четверти века после вероломной измены епископа Пармского личный представитель Его Святейшества имеет право отсылать посланца в Рим в любое угодное ему время.
Правда, за минувшие годы такое случалось впервые, но все в жизни бывает в первый раз. Стражники, несомненно, удивились бы и насторожились, когда б узнали, что ночной вестник отправляется не к престолу святого Петра, а в королевство Обеих Сицилий. Но об этом они не догадывались.
Пользуясь ночной тьмой, всадник мчал по дороге, не забитой, как в дневные часы, возами, стараясь как можно скорее доставить известие королю Роже. Он скакал, положив обнаженный меч поперек седла, дабы при случае незамедлительно пустить его в ход, но округа спала, точно вымершая, лишь в близкой лесной чаще, пугая недобрым предзнаменованием, ухал филин.
Всадник слегка поежился от этого крика, но вновь дал шпоры коню, спеша как можно быстрее пересечь лес. Он почти миновал опасное место и уже видел перед собой освещенную луной опушку, когда в полном молчании кто-то ухватил его сверху за плечи и, выдернув из седла, бросил наземь. В тот же миг раздался громкий свист, и перепуганная лошадь, не чувствуя больше тяжести седока, припустила в галоп.
— Этот готов, дон Анджело! — сообщил насмешливый голос с толстой, простиравшейся над лесной дорогой, дубовой ветки.
Рухнувший на спину посланец хотел было вскочить, но тут же увидел острие меча у носа.
— К чему торопиться? Ты уже приехал, — еще мгновение, и жертва исчезла с тропы.
Судя по тому, как быстро и ловко был проведен захват, чувствовалось, что подобный способ знакомства на большой дороге отнюдь не внове соратникам дона Анджело. Несколько рук умело обшарили гонца, и чей-то голос объявил:
— Хозяин, письма нет.
— Вот как? — Барон ди Гуеско показался из ночной тьмы и, подойдя вплотную к пленнику, сжал ему горло. — Ты ведь хочешь рассказать, куда и зачем отправил тебя глухой ночью достойнейший фра Гуэдальфо?
Глаза пленника вылезли из орбит, он захрипел и что есть силы пнул капитана в колено. Дон Анджело, взвыв, завалился набок. Гонец быстро опустил кованый сапог на ногу одного из негодяев, рванулся, пытаясь садануть его локтем в лицо, и тут же, захрипев, упал на землю.
— Кретин! — держась за ушибленное колено, процедил дон Анджело. — Ты что наделал?
— Но он же… — начал было его соратник, кинув взгляд на окровавленный кинжал.
— Дерьмо Вельзевула! Ты думаешь, я не заметил? Эта тварь мне нужна была живой! Погляди, может, он еще дышит.
Папский гвардеец с сомнением приложил пальцы к пульсу на горле посланца:
— Не может быть — я таким ударом многих на тот свет отправил. Безнадежно.
— Проклятие! Ты мне, что ли, теперь ответишь, какое поручение дал ему святоша? Дьволово копыто! Надо было прикончить ди Бенчи еще на галере! В который раз страдаю из-за собственного благородства!
— Хозяин, зато эта груда мяса точно не выполнит приказ монсеньора…
— Молчи, дубина! Не хватало мне твоих рассуждений! Что при нем было?
— Кошелек… Оружие… И вот этот крест.
— Кошелек и оружие — понятно. Крест… — Майорано принял из рук соратника небольшое, усеянное рубинами, золотое распятие. — Скорее всего он — опознавательный знак, на нем герб ди Бенчи. Но кому и для чего этот несчастный его вез, нам может рассказать только сам монсеньор Гуэдальфо.
Он сжал крест в кулаке.
— Суньте ему кинжал в руку да изрубите покрепче. Когда его найдут — решат, что гонец погиб в схватке с разбойниками. А теперь помогите мне встать. Нам следует до рассвета вернуться в город.
* * *
В виду берега капитан лег в дрейф и зажег сигнальные огни на клотике[27] мачты и нок-рее.[28] Спустя мгновение со скалы, прикрывавшей вход в устье реки, замахали фонарем, давая ответный сигнал. А еще через несколько минут лодка с шестью гребцами причалила к борту пиратского судна.
Один из гребцов — кряжистый, с обветренным багровым лицом — приветствовал капитана и привычно направился к кормовому веслу корабля.
— Что нового слышно? — крикнул капитан в спину лоцмана.
— Песку опять намыло, — через плечо бросил тот. — Придется левым бортом почти к самому берегу притираться.
— Повозки готовы? У нас тут хороший улов: вино из Франции, ткани…
— Ждут возы, — скупо ответил лоцман, неопределенно взмахнув рукой в сторону берега.
— Ты что-то неразговорчив нынче, — удивился капитан.
— Устье занесло, — нахмурился лоцман. — Осторожным надо быть. Очень осторожным.
— Ну, осторожным так осторожным. — Капитан отдал команду гребцам спустить весла, и корабль медленно начал входить в реку.
Невзирая на предупреждения знатока местных вод, все шло заведенным чередом: судно бросило якорь у берега, опустило сходни и начало разгрузку. Капитан удовлетворенно глядел, как приближается к месту выгрузки товара караван запряженных двуконь возов. Он потер руки, предчувствуя благополучное окончание коммерческого предприятия, но тут с берега послышалась резкая команда на незнакомом чужестранном языке.
Возы замерли на месте, покрывавшие их тенты слетели, точно сорванные бурей паруса, и в матросов, скатывающих наземь бочки, дождем посыпались стрелы. Те, кто оставался на борту, схватились было за оружие, но второй смертоносный шквал — на этот раз с вершины скалы — ударил по палубе.
— На весла! Назад! — заорал капитан и тут же осекся. Молчаливые гребцы, пришедшие вместе с лоцманом, выхватив из-под дерюжных плащей кинжалы, обступили пиратского вожака.
— Командуй сложить оружие! — на плохом нормандском приказал один из «гребцов».
Капитан хмуро покосился на окружавшие его клинки. Выбора не было. Вскоре сам хозяин корабля и те из членов его экипажа, кто на свою беду остался в живых, понуро стояли перед несколькими бородатыми всадниками в странных, но дорогих доспехах, покрытых алыми плащами.
— Знаете ли вы, злыдни, что положено за разбой? — подъезжая вплотную к пиратам, грозно поинтересовался один из всадников.
— Знаем, — послышалось в ответ, — да уж чего там…
— Ну, стало быть, и вопрос решен. Повесить негодяев.
— Да, армигер… — оглядываясь на бледного юношу, придерживающего рукой окровавленную рубаху, криво усмехнулся шкипер, — не довелось тебе вольного житья хлебнуть.
Фульк Анжуйский молча кивнул. В голове его мутилось от боли и потери крови. Две стрелы, вошедшие в дюйме друг от друга, мучительно отзывались даже при самом слабом движении.
— Эй, рыцарь, — глядя на него, крикнул капитан, — кто бы ты ни был, прошу тебя, пощади мальчишку! Он с нами не ходил — кого хошь спроси. Его только вчера в море подобрали.
— Пощади его, Гарольд, — услышал Фульк и, повернув голову, увидел восседавшую на гнедой кобылке девушку, показавшуюся ему в тот миг ангелом, сошедшим с небес.
В глазах у него помутилось, и он рухнул наземь.
Ведро холодной воды привело его в чувство. И оно было явно не первым. Фульк открыл глаза — прямо над ним раскачивались на ветвях дерева тела недавних «соратников». Он застонал, вновь смежил очи и вдруг услышал тот самый нежный спасительный голос:
— Как твое имя, юноша?
— Я Фульк, граф Анжуйский, — прошептал он и потерял сознание.
Князь Святослав хмуро смотрел на движущуюся в степи колонну.
— Поспешай, поспешай! — неслось из конца в конец ее, но криком и понуканиями мало что можно было изменить. Груженые возы, запряженные медлительными волами, тянулись к далекому морю так, будто русичам некуда было спешить.
Но великий князь прекрасно осознавал, что спешить есть куда.
«Начало сентября — отнюдь не лучшая пора, чтобы обнажать меч на соседа. До Тмуторокани путь неблизкий, пока эдаким шагом дотянешься — уже и дожди пойдут, а там дороги раскиснут, подвоз станет — как бы под мощной крепостной стеной нам самим в западню не попасть! А до весны тож откладывать дело негоже. За долгу зиму ворог укрепится так, что из тмутороканских земель ни копьем, ни дубьем не вышибешь. А стоит под стенами надолго застрять — всякого роду-племени кочевники на Русь двинут, подобно степному пожару. Вот и решай, что тут делать да как быть…»
— Поспешай! Поспешай! — разносилось над степью.
Святослав пристально, не мигая, глядел на всадников старшей дружины, молодцевато носившихся взад-вперед мимо колонны, стремясь явить перед другими свою удаль и владение конем.
«Штурмовать стены Тмуторокани — дело нелегкое. Лесов в тех землях негусто, да и те, что есть, по большей части для костра лишь пригодны. Ни осадную башню из тех деревьев не соорудишь, ни камнемет. А с собою везти прилады осадные за тридевять земель — и вовсе к самой зиме поспеем. Так что измыслить надо, как онука Гореславичева из стен в чисто поле выманить, иначе получится головой, да в капкан медвежий: по одну руку Давид, по другую — касоги, числом несметные…»
— Надежа Великий князь, — боярин Андрей Болховитин вывел Святослава из раздумий, — посланник из Царьграда прибыл. Говорит — от самого василевса к тебе приветное слово имеет.
— Слово? — Мономашич удивленно поднял брови. — Что ж, коли столько верст с ним проделал, зови, выслушаю, с какими делами василевс на Русь гонца шлет.
Святослав нехотя спешился: принимать верхом чужеземного посла — недобрый знак. Таким образом лишь ворога, слагающего оружие, встречать достойно. «И послу цареградскому верхом являться не след, ежели только владыка ромеев, — князь сдвинул брови, — войною на нас идти не удумал. Однако ж ныне меж Русью и Царьградом вроде как причин для брани нет…»
Посланец явился пешим, в сопровождении проводника-херсонита и нескольких знатных цареградских воинов в плащах с широкой патрицианской каймой.
— Мое имя Ксаверий Амбидекс, — гордо представился ромей, обводя присутствующих тем надменным взглядом, которым имперские патрикии жаловали всякого чужака — от последнего водоноса до короля франков. — Мой государь, Великий созидатель и хранитель веры христианской, славному кесарю Киявы богатые дары шлет, а с ними — родственное приветствие и пожелания здравия и всяких благ.
С этими словами посол склонил голову и протянул Святославу опечатанный красным воском свиток. Святослав ловко развернул императорское послание и углубился в чтение.
— Здесь твой господин глаголет, — отвлекаясь от написанного, обратился к послу князь, — что готов заедино с нами выступить против Матрахи, которую у нас именуют Тмутороканью. Отчего василевсу заблагорассудилось помогать нам, да еще так скоро? Я, кажется, к нему за подмогой не посылал.
— Мудрость Иоанна Комнина безгранична, и мысль его прозревает сквозь дни и годы быстрее стрелы огненной.
— Красива речь, да только колокольный звон — и тот разумнее. О чем слова твои, посол?
— Моего василевса крайне огорчила и встревожила злокозненная вылазка севаста Давида. Тебе, кесарь, лучше всякого известно, что и сам Давид, и отец его долгие годы жили в Константинополе, пользуясь нашим христианским милосердием. Что было между вашими отцами — меж ними и осталось: Империя дала приют беглецу, но не более того. Должно быть, также достославному кесарю ведомо, что мать Давида происходит из знатного рода Музалонов — одного из первейших в ромейских землях. Как прознал император, Давид через богатства родни своей улестил золотом касожского властителя Тимир-Каана, дабы тот помог ему овладеть Матрахой. Сие весьма огорчительно для василевса, ибо если Музолоны пожелали укрепиться на северном берегу Понта вне земель Империи, то, стало быть, имеют замысел скрытно набрать силы для иного деяния. Мудрейший из мудрых Иоанн Комнин полагает, что таким деянием может стать попытка захватить его трон. — Посол прямо глянул в глаза Великого князя. — Однако же это еще не все. Традиционно почитая отца твоего своим родичем и почтенным собратом, василевс желает крепчайшей дружбы и с тобою, кесарь Святослав. А потому всякая причина розни, какая может возникнуть меж твоей и моей державами, для василевса несносна. Любая обида тебе есть также ему обида. Так что если вдруг Святослав почтет, будто не Музолоны, а сам василевс Давида на злодеяние толкнул, то предложение оружною рукой поддержать руссов есть лучшее о непричастности к тому доказательство. Стоит ли говорить тебе, кесарь, что лишь птица с посланием долетит до Константинополя, и наши дромоны в немалом числе устремятся к Матрахе — с воинством и боевыми машинами.
— Что ж, — Святослав забрал бороду в кулак, — предложение дельное. А что за то хочет Иоанн?
— Как я сказал уже, первейшее, что желательно моему государю, — это тесная дружба меж Константинополем и Киявой.
— О том я уже слышал, — заторопил Великий князь. — Далее-то что?
— В знак дружбы и доверия меж нашими державами василевс предлагает дозволить поставить в Матрахе свой гарнизон, дабы не дать кочевому сброду впредь безнаказанно нападать на земли руссов и тревожить Херсонесскую фему.
— Ведомое ли дело?! Ежели там стоять будет ромейский гарнизон, будет ли Тмуторокань землей руссов?
— Матраха — край неплодородный, лесов там нет, торговлишка убогая. К чему василевсу такие владения? Только защитой от общего врага можно объяснить желание прийти на помощь сородичу. Если кесарь опасается пускать ромеев в крепостные стены, что можно понять, памятуя о тех негораздах, кои имели место в прежние годы меж руссами и ромеями, то дозволь в стороне от Матрахи иную крепость нам заложить, чтобы своевременная помощь тебе, кесарь, и всем потомкам твоим могла прийти незамедлительно.
Святослав молча внимал речам патрикия. Невзирая на высокий ромейский титул, которым тот именовал князя, заметить легкую пренебрежительность в голосе было несложно. Но… «Десятки огненосных дромонов, тысячи обученных солдат со сведущим военачальником, боевые машины, продовольствие. О такой помощи сейчас можно только мечтать! И все же подозрительно. Очень подозрительно. Бросать этакий флот да войско, чтоб только помочь соседу отвоевать Тмуторокань?.. Вроде как не друг, не брат. Впрочем, и с братьями в Константинополе расправа недолгая. Отчего ж тогда? Ох, чует мое сердце, задумали что-то ромеи. Да вот только что? Пойди пойми…»
— Я обдумаю слова твои, посол, — гордо объявил Святослав, — и вскоре дам тебе ответ. Пока же хошь в Киев езжай, хошь при войске оставайся. Правда, тут дворцов да теремов нет…
— На то она и война, что о довольстве только поминать. Я останусь с вами, достойный кесарь, — вновь склонил голову посланник. — Ромеи умеют переносить лишения и трудности не хуже руссов. Но поспешите с ответом, если желаете до зимы войти в Матраху.
Король Богемии Отакар числился самым мудрым среди прочих имперских князей. Годы его уже перевалили за шестой десяток, но монарх еще сохранил телесную крепость, а убеленная сединами голова, резкие мужественные черты лица поневоле внушали почтение к богемцу как на совете, так и в военном лагере. Сейчас он с умилением глядел на юную супругу герцога Швабского, как смотрит лев на резвящегося у самых его лап котенка. Впрочем, назвать котенком герцогиню можно было лишь условно. При всей своей прелести юная девица демонстрировала природный ум и немалую восприимчивость, то же, с каким вниманием чужестранная красавица слушала речи Отакара, и вовсе льстило старому королю.
— …Ответьте мне, государь, как произошло так, что большая часть некогда великой империи теперь занята войнами внутри своих провинций? И это в часы, когда враги, откровенные враги христианской веры окружают нас со всех сторон! Еще там, в Константинополе, я читала, будто бы один из императоров не так давно захватил Рим и едва не пленил самого Папу. И будто бы Папа, дабы защитить себя, призвал на помощь богомерзкого Робера Гвискара, с коим прежде вел войну и трижды отлучал от Церкви. В этой летописи также говорилось, что на помощь римскому понтифику Робер Гвискар привел войско сицилийских почитателей Магомета. Может ли быть такое?! Ведь кто есть император, как не управитель земель, врученных ему святейшим престолом? Вера есть столп, коим держится Империя.
— Это так, милая девочка, — согласился седовласый король, — но в жизни натура человеческая всегда возобладает над верой в божественное Провидение.
— Но это путь к погибели! — со слезою в голосе воскликнула Никотея. — Бросьте взгляд за горизонт — туда, где простираются земли Восточной Римской Империи. Все, что сохранено по сей день, невзирая на удары множества врагов и внутренние распри, сохранено только силою веры! Не так ли, мой славный герой?
— Пожалуй, ты права, девочка, — несколько смущаясь от столь лестного обращения, вздохнул Отакар. — Что может быть лучше, нежели одна вера, одна Империя, один народ? Ну да, все это лишь мечты. А ныне — сколько князей, столько и народов. Про веру же — мне ли тебе рассказывать?
— О нет, не мне. — Никотея глубоко вздохнула, демонстрируя на прелестном личике подобие глубокой печали. — Конечно же, я знаю, что христианская вера расколота, точно мечом разрублена, надвое. Но меня не оставляет мысль, быть может, дерзкая… — Она замялась, испытующе глядя на короля. — Но вы же не выдадите меня?
— Я все же надеюсь, что ничего особо крамольного в твоей милой головке нет. Но будь осторожна — враг рода человеческого всегда ходит поблизости, аки лев рыкающий…
— Ища кого пожрать, — закончила его мысль Никотея. — О нет, ничего такого. Я просто хорошо помню, с чего началась распря, приведшая к прискорбному распаду единой христианской церкви. В этой истории тоже не обошлось без Робера Гвискара и его проклятых братьев. Тогда, помнится, они только начали прибирать к рукам земли Южной Италии, в том числе и принадлежавшие ромеям.
— Ну да, в Ломбардии, я помню.
— Святейший Папа тогда заключил союз с патриархом Константинопольским. Вернее, с императором… — чуть помедлила она, — против нормандских разбойников, сменивших лесные дороги на герцогские дворцы. Но в решающий час мои соплеменники не поспели к битве, и Его Святейшество был вынужден сражаться против Отвиллей в одиночку. Его войско было разбито, сам он попал в плен. Именно оттуда, из плена, горечью и обидой были продиктованы послания патриарху Константинопольскому, Михаилу Керуларию, в конце концов приведшие к взаимному отлучению. Быть может, Папа и был прав, видя в нерасторопности ромейских войск личную неприязнь патриарха, но уж и Михаил Керуларий давно был отставлен от дел и почил в бозе, и злополучные братья Отвилли, все как один, наконец, упокоились в земле, и Святейший Папа обрел последний приют в базилике святого Петра, а Церковь, прежде единая, так и осталась расколота ударом меча. И ежели жива она еще, — а крестовые походы недвусмысленно свидетельствуют, что жива, — то не вопиет ли она о единстве?
— Все так, девочка. — Отакар едва удержался, чтобы не погладить Никотею по блистающим золотистым волосам. — Да вот только как же всего этого достичь?
— Мудрый король, которого я была бы рада величать своим наставником в делах правления, помнится, сказал не так давно: «Единая Империя, единая вера, единый народ». Быть может, молодость моя еще диктует говорить наивно, но разве не хотел Карл Великий в венце могущества своей власти вновь объединить Империю, как в благословенные годы цезарей? Разве не желал он жениться на императрице Ирине, и только смерть ее, устроенная шайкой оголтелых заговорщиков, не дала сбыться этому грандиозному замыслу. Не о том ли сказано: «Жившие благочестиво и разумно удивлялись божьему суду. Как попустил он, чтобы свинопас[29] лишил престола ту, которая подвизалась за истинную веру?»
— Все верно, — вздохнул Отакар. — Увы, нечасто Господь дает людям второй шанс.
— Но, мой почтеннейший наставник, разве сегодня не такой день? Разве у Конрада нет всего, чтобы стать славнейшим императором, в котором мир увидит нового Карла Великого и нового Оттона? Разве я не обладаю всеми правами на константинопольский трон в силу происхождения? Благодаря вашей мудрости и опыту, разве не сможем мы свершить то, о чем более трех веков мечтает каждый разумный человек, верующий в Бога и не желающий, подобно зверю, пожирать ближнего своего? Вразумите меня, если это не так.
Отакар Богемский согласно кивнул.
— Что же мешает нам воплотить сей восхитительный замысел?
— Ну-у…
Король замялся, раздумывая, с чего начать длинный список помех, однако Никотея не собиралась останавливаться, дожидаясь его ответа.
— Кто те злодеи, которые явно и тайно вдребезги разбили империю Карла Великого, кто изрезал багрянец мантии, дабы нашить себе колпаков поярче? Не французы ли? Они ни во что не ставят Империю, их король просто выскочка, ничего более. Сейчас он вступил в открытый союз с племянником злокозненного Робера Гвискара — королем Обеих Сицилий, злобным пауком притаившимся среди мусульман и иудеев в Палермо. Совсем не просто так он передал французскому толстяку цветущую Нормандию. Из его логова по дорогам Европы изольется скверна, потоки скверны, которые сметут все, что свято истинно верующим, дабы установить на земле единое царство Антихриста!
— Свят-свят-свят! — перекрестился король.
— О, простите! — Никотея закрыла руками лицо. — Я не могу говорить об этом без рыданий. — И тут же из-за сомкнутых рук послышались всхлипы, и плечики герцогини Швабской задергались.
— М-м-милая девочка… Я покуда оставлю вас и позову служанок, — растерянно сказал Отакар.
— О да, прошу вас, — сквозь слезы выдохнула Никотея.
Как и большинство отважных, уверенных в себе мужчин, король Отакар не выносил женских слез. Они выбивали из седла, заставляя чувствовать вину там, где ее не было и не могло быть. Отакар выскочил за двери залы так, будто ему на спину плеснули кипятком, и бедняга пытался убежать от боли. А спустя мгновение за шпалерами в покоях герцогини открылась дверь, и в комнате показался глумливо усмехающийся Гринрой:
— Моя герцогиня желает отмыть пальцы от лука?
— Конечно же, — опуская ладони, улыбнулась в ответ Никотея. — Он еще больший дуралей, чем я думала. Только и хватило ума твердить: «Девочка, девочка…» Но, как бы то ни было, уверена, что этот отдаст голос за Конрада.
— Полагаю, что так. Вы были прекрасны, госпожа! Я сам чуть не плакал, — оскалился Гринрой. — И это было очень кстати, поскольку смеяться хотелось ничуть не меньше, чем плакать.
— Что ж, вот и прекрасно. — Никотея смерила его долгим взглядом. — Смех был бы тут весьма неуместен.
— Еще бы! Это даже мне понятно. А вот не могу сообразить, обрадует ли ваше высочество известие, только что доставленное мне верным человеком из Бергамо.
— Смотря какое известие.
— Добрый знакомец сообщает, что на турнир, который мой господин устраивает в вашу честь, едет некий дивный рыцарь из ромейских земель.
— Вот даже как? — напряглась Никотея.
— Да. Он знатный вельможа и, возможно, прежде вам приходилось встречаться. В Генуе его величали герцог Сантодоро, но бергамец также списал его имя из ратушной книги Милана. — Гринрой достал из рукава небольшой кусок пергамента и медленно прочел непривычно звучащие слова: — Симеон Гаврас.
Глава 10
Ожидая неожиданного, рискуешь не дождаться ожидаемого.
Робер ГвискарФра Гуэдальфо Бенчи обвел взглядом паству, внимавшую его словам, и с чувством произнес заключительное:
— Ступайте! Проповедь окончена.
Прихожане засуетились и, как обычно, начали толкаться, спеша подойти к причастию.
— Ваше преподобие! — взволнованно обратился к настоятелю собора незнакомец. Вот, — он раскрыл ладонь, показывая усыпанный рубинами крест с эмалевым гербом, — вам просили передать.
У фра Гуэдальфо на мгновение перехватило дыхание, он кивнул и жестом указал прихожанину на дверь, ведущую в его личные покои.
Выходящих их церкви прихожан он принимал и благословлял, точно не замечая, следуя заученному ритуалу и все пытаясь вспомнить, доводилось ли прежде видеть странного посетителя. Едва покончив с делом, священник устремился в свои апартаменты, где, немного смущаясь, сложив руки на коленях, дожидался его поселянин.
— Слушаю тебя, сын мой.
— Ваше преподобие, этот крест дал мне один человек. Он не назвал себя, но велел идти к вам… — Посетитель развел руками.
— Что еще велел тебе этот человек? — вглядываясь в простодушное лицо незнакомца, спросил фра Гуэдальфо.
— Он вручил мне целых три золотых, — поделился радостью крестьянин, — и сказал поспешить сюда.
— Ты уже здесь, говори же!
— Этот синьор был ранен лесными разбойниками. Тяжело ранен. Те впотьмах решили, что он мертв, и бросили у дороги. Но он жив, хотя и потерял много крови. Он добрался до моей сторожки — я, видите ли, лесник. Он молит вас прибыть к нему, ибо должен сказать нечто важное. Я даже хотел доставить его сюда на тележке, но синьор так слаб… Дорога убьет его.
Лицо настоятеля собора Девы Марии побледнело.
— Что ж, если ты говоришь правду, то получишь еще пять золотых. Подожди меня во дворе, я распоряжусь.
— О, вы так добры! — Лесник начал кланяться, прижимая руки к груди.
— Ступай же, — скомандовал фра Гуэдальфо тоном, больше подобающим воину, нежели святому отцу.
Стоило гонцу дурных вестей, пятясь, выйти, настоятель прошелся нервным пружинистым шагом из угла в угол комнаты.
— Монсеньору что-либо угодно? — поинтересовался неслышно вошедший викарий.[30]
— Да. Угодно. Я велел присмотреть за людьми барона ди Гуеско и за ним самим.
— Мы исполнили ваше указание. Гвардейцы Его Святейшества заняли гостиницу «Петух на бочке», что у городской стены, изгнав из нее всех иных постояльцев. Мне грустно сие признавать, но воины святого престола, выставив у ворот гостиницы караул, пируют там, не прерываясь даже на молитву, со вчерашнего вечера. Нельзя сказать что-либо еще, ибо никому не дозволено входить даже во двор гостиницы.
— Пируют, — задумчиво повторил фра Гуэдальфо, — что ж, может, это и к лучшему.
Викарий посмотрел на него удивленно, но промолчал.
— Я сейчас отправлюсь по делам — здесь, недалеко. Мне для сопровождения нужно пять-шесть солдат. Распорядитесь. Да поскорее.
— Непременно. Прикажете запрячь ваш экипаж?
— Да, — подтвердил фра Гуэдальфо. — К вечеру я уже надеюсь вернуться, пока же верю, что вы управитесь без меня.
— С божьей помощью, — склонил голову викарий, искренне надеясь, что Господь предоставит ему шанс отличиться.
Небольшая кавалькада двигалась медленно, поскольку скакунам монастырской стражи приходилось плестись следом за лохматым мулом, кажется, шедшим еще медленнее и величавее от столь лестного соседства. Фра Гуэдальфо немилосердно трясло на ухабах, так что он с невольной тоской вспоминал о тех временах, когда, как эти всадники, гарцевал в седле андалузского жеребца.
— Вот тут как раз дорога в горку пойдет, — пояснял несколько утративший робость лесник. — Аккурат перед ней от дороги тропка вправо уходит — по ней нам идти. Там уже совсем недалеко, скоро на месте будем. Только, извольте понять, возок этот по тропке не пройдет. Когда желаете — садитесь на моего длинноухого, он смирный… А я в поводу его возьму и пешочком…
Фра Гуэдальфо согласно кивнул, радуясь возможности сменить транспорт. Как и обещал лесник, тропинка была не только узка, но и извилиста, будто протоптана лесными разбойниками нарочно для того, чтобы сподручнее уносить ноги. После очередного поворота лесник вздохнул, остановился и произнес:
— Вот мы и у цели.
— Да, но… — только и успел сказать настоятель.
Громко крикнула лесная птица, и на всадников кортежа с окрестных деревьев посыпались стрелы. Фра Гуэдальфо попытался было соскочить с мула, и тут же тугая ременная петля обхватила его руки, притянув их к телу.
— А ну не дергайся, падре, — прикрикнул лесник, теряя недавнее селянское простодушие.
— Ты будешь гореть в аду! — возвысил голос настоятель.
— Кто знает, может, и буду, — хмыкнул провожатый, затягивая узел. — Но только не из-за тебя. А тут уж поленом больше, поленом меньше…
— Дон Гуэдальфо, — раздался за спиной сицилийца почти ласковый голос, — прошу извинить, но я вынужден прервать вашу богословскую беседу.
Монсеньор Бенчи заскрипел зубами. Пирующий в гостинице барон ди Гуэско, подбоченясь, стоял рядом с ним, удовлетворенно глядя на пленника.
— В другой раз я бы сказал, что не рад видеть ваше преподобие. Но сейчас счастье мое почти безгранично.
— Мерзкий убийца, — процедил разъяренный прелат.
— Это правда, монсеньор, — вздохнул Анджело Майорано. — Хотя многие находят меня весьма привлекательным. Но что ж делать, ваше преподобие? Таков мир, не я создал его, и вам — служителю Господа — должно быть виднее, почему он таков. Я лишь пытаюсь выжить. Вы, как я вижу, тоже. Тогда, в море, у вас это неплохо вышло, ну и ко мне небеса благоволили. Подчас, возможно, и незаслуженно. Но сердце мое преисполнено благодарности — видели б, какую часовню я построил в Гуеско!
Гуэдальфо Бенчи метнул на пирата ненавидящий взгляд, и дон Анджело продолжил, довольный полученным результатом:
— Если вы будете делать то, что я скажу, вам представится превосходный шанс увидеть эту часовню. Да и не только ее. Если же нет, одному Господу известно, зачем он решил лишить вас жизни моими руками.
— Сарацинский пес, — прошипел настоятель.
— Ругань — оружие слабых. Впрочем, даже не оружие, а одна видимость его. Вы лишь думаете, что поражаете цель. Однако сарацинский пес я или нет — не важно. Вы знаете, я всегда держу слово, а потому сами решайте: будете послушны и живы, или же непокорны и мертвы. Третьего не дано!
Мысли Гуэдальфо ди Бенчи в это мгновение были совсем не благостны, будто расточились в дым последние годы служения Господу. Он вновь чувствовал себя воином, попавшим в руки коварного врага, и никакое ответное коварство не являлось предосудительным.
«Здесь и сейчас третьего и впрямь не дано, — думал он, — но все же обстоятельствам свойственно меняться… Кто знает, быть может, еще повезет обернуть все к лучшему. Большая часть людей Майорано по-прежнему в Парме, значит, он будет возвращаться туда, и удастся бежать, или хотя бы передать весточку…»
— Велик Господь дарящий, велик Господь, посылающий испытания верным сынам своим. Всевышнему известно, что каждый мой вздох, каждый час посвящен ему. И если на то воля Божья…
— А если без красивостей?
— Я повинуюсь.
— Эй, — прикрикнул барон ди Гуеско, — экипаж готов?
— Готов! — донеслось с дороги.
— Убираемся отсюда.
Остановившись у опушки леса, Анджело Майорано послал одного из людей в город за отрядом и, велев подать заготовленные вино и сладости, пересел в экипаж фра Гуэдальфо.
— Нам следует многое обсудить, святой отец. — Он опустил полог, создавая видимость уединения. — Угощайтесь и выслушайте меня со всем доступным вашему преподобию вниманием.
Не дождавшись ответа, дон Анджело печально вздохнул и, освободив руки Гуэдальфо, продолжил:
— Если смотреть здраво, то именно вы повинны в произошедших смертях. Никто из убитых той ночью или же сейчас не был моим врагом. Их смерть не принесла мне ни радости, ни прибыли, и от этого у меня на душе скверно. Очень скверно… Единственная, по сути, выгода — возможность говорить с вами вот так — mano a mano.[31] Но ведь, строго говоря, мне-то предписывалось указом Святейшего Папы сопровождать вас. И я намерен был сделать это, покуда вы, монсеньор, не пожелали, забыв о необходимости прощать должникам вашим, вспомнить о тех досадных недоразумениях меж нами, которые имели место много лет назад. И каких лет!.. Все изменилось. Вы стали прелатом, я — бароном. Я честно служу Его Святейшеству. Зачем надо было посылать человека к королю Обеих Сицилий? Зачем настоятелю храма Девы Марии понадобилось будить Анджело Майорано в бароне ди Гуеско? Как и тогда, когда вы, Гуэдальфо, вознамерились захватить груженный сокровищами корабль, так и сейчас — ваша низость привела к смертям невинных. Мне странно поучать в таких вопросах пастыря душ человеческих, но ведь это правда!
— Но вы не привели корабль в Палермо!
— Увы, он попал в шторм. Говорят, что нереиды — дочери морского короля, очень трепетно относятся к сокровищам… Едва прознав о том, что на корабле есть золото и драгоценности, они требуют себе долю. В нашем случае доля оказалась велика — сундуки пришлось выкинуть за борт, чтобы облегчить судно… Мы наскочили на мель, других вариантов спастись не было.
— Это ложь!
— Если б это была ложь, вряд ли я стал носиться по морям в поисках лучшей доли. Это правда. Но возвращаться с пустым кораблем и без вас к Роже д’Отвиллю было все равно что самому засунуть голову в петлю. Однако с тех пор я искупил свою вину перед ним — спас родственника короля — графа Квинталамонте! Я уверен, он может подтвердить это.
— Граф Квинталамонте убит два года назад в Святой Земле.
— Да нет же, этой весной я видел его в Херсонесе!
— Он убит, мне это доподлинно известно.
— Неужто самозванец? — скривился Анджело Майорано, со всей ясностью осознавая, что на этот раз мошенник обманул мошенника.
— Ладно, — процедил он, — пусть даже так. Я хочу говорить с вами о другом: нынче же мы отправляемся во Францию, как того желает Его Святейшество. Если вы вздумаете опять…
— Э-э-э… — послышалось откуда-то со стороны, — да это же экипаж фра Гуэдальфо!
— Ступайте, ступайте, — донесся в ответ крик одного из людей Майорано. — Он под охраной папской гвардии!
— А где же тогда наши люди?
— А нам какое дело? Капитан имеет приказ сопровождать святого отца, а вы проваливайте!
— Ну нет! Еще чего! Пусть сам преподобный Гуэдальфо прикажет нам…
— Ну, ты наглец!
— Монсеньор Бенчи, — прошептал Майорано, — вы же понимаете, что от вас требуется? И прошу вас, не делайте глупостей, если не хотите новых жертв.
Настоятель собора Девы Марии приподнял бархатный полог. Против восьми всадников папской гвардии на опушке красовалось без малого два десятка городских стражников. Святой отец был добрым христианином, но вместе с тем искушен в военном деле, а потому перевес сил сумел оценить моментально.
— Рубите их! — крикнул он и попытался выпрыгнуть из экипажа.
Анджело Майорано был столь же ревностным христианином, сколь и мусульманином, однако мало кто в Европе мог похвалиться таким же, как у него, богатым опытом скоротечных схваток. Он резко дернул пленника за сутану, и тот влетел обратно в повозку.
— Ты что вытворяешь, гаденыш! Прикажи им бросить оружие, или я убью тебя!
— Рубите! — исступленно хрипел Гуэдальфо Бенчи, силясь отбросить от себя противника.
— Недоносок! — нащупав подвернувшееся под руку яблоко, Анджело попытался затолкать его в рот старого врага. Тот извивался, не желая упускать, быть может, последний шанс.
Пол экипажа был мокрым и липким от пролившегося вина. Поскользнувшись, Майорано на миг ослабил захват. В ту же секунду пальцы настоятеля сомкнулись на горлышке тяжелой глиняной фляги, и он с размаху ударил, целя в голову пирата. Тот не успел понять, что произошло, но отреагировал мгновенно — небольшой разворот, фляга, едва зацепив ухо, скользнула по плечу, и короткий тычок костяшками пальцев в гортань в ответ. Гуэдальфо Бенчи дернулся, захрипел и обмяк, глаза его закатились в невидящем взгляде.
— Проклятие! — выругался ди Гуеско, хватаясь за меч, и тут же услышал поблизости топот копыт. Вызванный из Пармы отряд папской гвардии спешил исполнить приказ командира.
Ди Гуеско выскочил из экипажа, обнажая клинок:
— Убивайте! Никто не должен уйти!
По сути, эти слова были излишни: увидев собратьев, ведущих бой с превосходящими силами пармцев, гвардейцы без разговоров ввязались в схватку. Очень скоро все было кончено.
— Кто способен держаться на коне, в седла! — цедил сквозь зубы капитан папской гвардии. — Кто не может, молите Господа об отпущении грехов. Забирайте тела наших, сбросим их в реку…
— А этого? — спросил давешний лесник, исполнявший роль возницы.
— Этого… Покуда будут думать, что настоятель жив, мы легко отделаемся от погони. Пусть в возке поваляется, падаль. Всех проверили? Живых нет? Уходим!
Рыцарь в белом плаще с алым крестом медленно двинул коня на толпу:
— А ну, расступись!
Его спутники, обнажая мечи, тронулись следом. Такой незамысловатый прием чаще всего действовал безотказно: увидев непреклонно и мрачно надвигающихся всадников, крестьяне спешно бросались врассыпную. Но на этот раз случилось иначе: часть обычно мирных поселян действительно разбежалась по склонам холмов, но лишь затем, чтоб поднять недавно брошенное оружие, другие же сомкнулись вокруг Федюни, готовые рвать врага, подобно оскалившимся ирландским волкодавам.
— Отдайте мальчишку нам, и никто не пострадает! — продолжая наступать на окруживших Федюню крестьян, громогласно потребовал рыцарь и тут же вскинул щит — стрела, пущенная с противоположной стороны ложбины, ударила в него, едва не пробив. Стрелял не селянин, стрелял один из ратников лендлорда.
— Да как ты смеешь! — завопил тот, и этот крик будто взорвал обстановку тягостного ожидания.
Лучники бросились на своего господина, крестьяне — на рыцаря с алым крестом и его соратников.
— Ты что-нибудь понимаешь? — гремело в этот миг на канале закрытой связи. — Федюня-то, Федюня чего молчит? Вот черт, и рубить же ж не положено!
Какое-то время Камдил еще пытался отбиться, густо раздавая вокруг удары витой плетью, но многолюдная толпа, зверея от боли, с рычанием и стоном свалила боевого коня и, выдернув рыцаря из седла, потянула его к деревьям, растущим по склонам.
— Держись, Вальдар, я иду! — послышался на канале связи отчаянный крик Лиса. — Вот же ж дружаня, блин! Он что, не признал тебя, что ли?
— Оставьте их! — раздался среди воплей яростной толпы голос Федюни Кочедыжника. Слова эти были произнесены негромко, но отчего-то среди шума каждый услышал их и даже не подумал воспротивиться.
Не слишком охотно, но без промедления селяне опустили занесенные над головами поверженных наземь варягов камдиловского отряда колья и вилы.
— Ступайте, — глядя на грозных северян, с которыми некогда проделал путь от самого Херсонеса и до Светлояр-озера, с грустью произнес Федюня.
Варяги, некогда служившие в особливой гвардии Иоанна Комнина, исподлобья поглядели на диковинного мальца — каждому из них немало довелось повидать мир, но такое им было в новинку. И все же, усвоенное с детских лет правило держало их здесь получше железной цепи: викинг считался опозоренным, если выходил живым из боя, в котором пал его предводитель.
— Ступайте, — повторил Федюня без нажима, но как-то очень властно. — Никто не причинит витязю нашему вреда. Идите туда, где на дороге ждет меня ваша застава. Мы еще свидимся.
— Шо за презентация сарафанного радио? Про заставы-то он откуда знает? — высказался Лис на канале закрытой связи. — Я фигею без баяна…
— Иди ко мне без страха, славный фряжский витязь, и ты, разлюбезный дядька Лис. Почто от меня по кущерям прячешься? Приди ко мне как к другу!
— Обалдеть! — От ствола одного из деревьев отделилась часть зелени, и худощавый верзила с ростовым луком в руке, весь увешанный торчащими в стороны ветвями, начал спускаться в ложбину. — Капитан, я не знаю, что здесь происходит, но это праздник идиотизма и сдается, шо мы тут главные шуты. Герои-освободители, ешкин кот!
— Джентльмены, я рад вас приветствовать! Как у нас обстоят дела? — вдруг послышался голос Джорджа Баренса.
— Да вот как раз с Федюней разбираемся, — отозвался Лис. — Вернее, он с нами.
— Вы уже нашли его? Прекрасно! Возвращайтесь скорее, необходимо срочно отправиться к вашей подруге Никотее, пока она не наделала в Европе глобальных дел.
— Щас… — радостно согласился Сергей. — Если из нас тут Федюня обглоданных тел не наделает, то непременно будем.
Ворота Самманхэртской обители сотрясались от ударов.
— Аббат, где аббат?! Где отец Кеннет? — неслось из-за ограды.
Брат-привратник с недоумением приоткрыл зарешеченное окошко — лицо одного из почтеннейших лордов округи было пунцовым, точно он заснул на палящем солнце.
— Давай скорей пошевеливайся! — увидев за калиткой потенциальную жертву, проорал рыцарь так, что испуганный привратник отпрянул от ворот. — Открывай немедля! — не унимался разошедшийся прихожанин, самозабвенно продолжая дубасить кулаками дверь.
— Я доложу, — осторожно пообещал монастырский служка, но это было излишне — переполошенный шумом отец Кеннет, опираясь на аббатский посох, спустился во двор.
— Что произошло, сын мой? — Он коснулся перстами руки брата портариуса, и тот расторопно начал поворачивать ворот зубчатого засова. — Войди в эти стены, но прежде сложи оружие, ибо здесь дом Божий!
— Не время мне слагать оружие! И дому Божьему следует вооружиться, — с порога отрезал лендлорд, нервно дергая тесный ворот рубахи. — Беда, преподобный отче! — Он рухнул на колени. — Демоны бездны восстали на истинно верующих!
— Говори толком, что произошло?
— Я долго следовал за Сыном погибели, не трогая его, как вы и велели, покуда не застал его в урочище Старой Гвен. Мы окружили его со всех сторон, бальи[32] прислал мне своих ополченцев. Нас было больше трех сотен, но тут… — Лорд выдохнул, удерживая клокотавший гнев, смешанный с рвущимися наружу всхлипами. — Это невероятно — от меня убежали псы! Мои псы!
— Я не понимаю тебя, сын мой. Ты говоришь, что вы окружили их, хотя я просил лишь наблюдать и ограждать добрых христиан от встреч с этим исчадием ада. Ты же сообщаешь мне то о восставших демонах, то об убежавших псах…
— Святой отец! Эти волкодавы выросли на моей псарне, я знаю их со щенячьих зубов! И они перебежали к нему! К этому проклятому Сыну погибели!
— И что же?
— За псами пошли грязные смерды, а за ними — мои лучники! Меня самого чуть не убили, я едва унес ноги! Я, который никогда не показывал спину даже в самых жарких битвах! А того, ну, о котором вы говорили — рыцарь, посланный Бернаром из Клерво…
— Стало быть, он все же догнал вас?
— Ну да, — досадуя, что его перебивают, кивнул лендлорд, — он появился в самый решающий миг, когда мы почти схватили проклятого мальчишку. Но только все впустую: его и его людей толпа просто свалила наземь. Должно быть, их затоптали. Последнее, что я видел, как рыцаря волокли к дереву. Он и его люди уже мертвы, спаси Господь души их…
— И упокой с праведниками в Царствии твоем, — перекрестился аббат.
— Но хуже всего, что теперь все, кто был со мной в урочище Старой Гвен, идут вместе с Сыном погибели. Их больше трех сотен, все они вооружены и притом смотрят на проклятого змееныша, как на какого-то пророка! И с ним — мои псы! — с горечью завершил рассказ потрясенный рыцарь.
— Значит, даже могущество Бернара Клервосского не способно защитить верных от Сына погибели. Сказано в Книге Чисел: «И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых». Великая беда нависла над цветущим Уэльсом. — Он жестом поднял рыцаря с колен. — Мне ведомо, что люди преподобного Бернара привезли некую священную землю, порог которой не может преступить это порождение тьмы. Она в Суонси. Поспеши же, землю следует доставить сюда, дабы уберечь страну от нашествия гадов! Сказано в Откровении: «И низвержен был дракон, древний змей…» Быть же по тому, поторопись!
Огромный златотканый шатер, разбитый посреди степи для ночного пиршества, был подарен великому князю Святославу любящим другом — василевсом Иоанном Комнином. Серебряные чеканные блюда и золотые, украшенные самоцветными каменьями чаши для омовения рук преподнесены им же. Драгоценные вина с Хиоса, персидские сладости, заморские специи и франкские сыры указывали на то неизменное доброжелательство, которое испытывал повелитель ромеев к своему дальнему, но во Христе близкому родичу.
Ксаверий Амбидекс казался сказочным чародеем: он хлопал в ладоши, и темные, будто вылепленные из безлунной ночи рабы выносили очередные подарки. Он вкушал яства и без счета отсыпал серебряные динарии слугам. Тонкие станом, округлые бедрами высокогрудые невольницы, извиваясь, танцевали под томную, опаляющую жаром музыку, радуя видом своим и вводя в соблазн.
— По зрелом разумении, — развалясь на восточной кошме, вымолвил князь Святослав, — представляется мне, что ежели преславный василевс ни в самой Матрахе, но вблизи от нее крепость поставит и порт при ней, да через тот порт торговлю со степняками вести начнет, то нам от того только выгода будет. Токмо условия для торга непременное — с каждых десяти монет одна в мою казну, да полмонеты — в Тмуторокань.
Ксаверий Амбидекс согласно наклонил голову — в инструкциях, данных ему василевсом, и вдвое большая сумма считалась вполне приемлемой.
— Вот и ладушки. — Великий князь поднял чару, подставляя ее под тугую струю алого вина. — Здрав будь!
— Vale![33]
Пиршество длилось до глубокой ночи. Когда же Всевышний наконец умудрил Мономашича отправляться ко сну, подняться с кошмы оказалось делом непростым. Коварное хиосское вино, веселя рассудок, каменной глыбой упало в ноги. Слуги князя и посла тут же кинулись помогать повелителю руссов, и когда доведенный до постели Святослав уже собрался отойти ко сну, вдруг заметил заткнутый в кушак пергаментный свиток. Он поглядел усталым взором на греческие письмена и, скривившись, крикнул постельничего.
— А ну-ка, сходи да приведи ко мне старца Амвросия! Невмоготу сейчас ромейские словеса одно к одному складывать.
Амвросий, духовный отец князей Мономашичей, милостью небес прожил долгий век, и трудно было найти то, чего премудрый старец не знал и не мог растолковать. Должно быть, предчувствуя скорую кончину, он почти оставил сон и, казалось, непрерывно бодрствовал, предаваясь молитве, чтению или коротая время за летописанием. Среди прочих языков, известных Амвросию, был и ромейский, а вернее — русский, поскольку родом отец Амвросий был из Филиппополя и молодые годы провел в свите константинопольского патриарха.
— Глянь-ка, — Великий князь протянул подметное письмо тяжело, но гордо шествующему старцу, — что в сей цидуле написано?
Монах развернул пергамент и начал читать вслух тихим и твердым голосом:
— Не верь, князь, василевсу, его золотом Тимирка осыпан, все словеса его — ложь и все дары его точатся ядом…
— Отравить, что ли, меня желают? — нахмурился Святослав. — Так ведь со мною вровень пили да ели.
— Матраха западней для тебя станет, не к добру люди василевса придут. Гибели твоей взыскует Комнин. Отправь гонца в Херсонес к архонту Григорию, а лучше сам туда ступай, когда хочешь врага злобного упредить.
— Ишь ты, — поразился Великий князь, — утром о том помыслю, утро вечера мудренее. Благодарствую, отче. Ступай, да помолись обо мне.
— Не премину, — ответил старец, глядя на без сил рухнувшего на перину Великого князя и незаметно пряча свиток в рукав. — Не премину…
Глава 11
Когда б не манера создавать себе проблемы, человечество до сих пор тупо любовалось бы оградой райского сада.
Аль КапонеАнджело Майорано с размаху опустил секиру на узловатый ствол вяза, затем выдернул и ударил вновь, пытаясь хоть как-то выплеснуть клокотавшую ярость:
— Чертов святоша! Дьяволово копыто ему в глотку! Это из-за него, из-за него все неприятности! Еще вчера я был вельможей, а сегодня? Какие-то гнусные ублюдки хотят загнать меня, как оленя, и украсить моей головой стену! Ну, нет! Не выйдет!
Притихшие соратники, не один год ходившие с бароном и сражавшиеся под его командованием как на море, так и на суше, прекрасно знали, что в такие минуты от него лучше держаться подальше. Не терявший хладнокровия в бою пират, прозванный сарацинами Мултазим Иблис — «мытарь дьявола», — редко впадал в буйство, но горе было тому, кто оказывался под рукой в этот миг. Сейчас жертвой его гнева стал ни в чем не повинный вяз, раскинувший мощные ветви на склоне холма.
Спутникам Майорано показалось, что их предводитель вдруг остановил коня, посмотрел на дерево, помнившее еще легионы Цезаря, и с рычанием, схватившись за боевой топор, бросился в атаку. Никто и представить себе не мог, что в это мгновение Анджело Майорано воочию увидел раскачивающееся на ветвях собственное тело, а заодно и всех его лихих гвардейцев, подвешенных за шею.
— Ну, нет! Не бывать этому! Вот тебе! — самозабвенно кричал он. — Вот, получай! Это тебе за мой замок! Это — за часовню! Это — за шандал из чистого золота! Это — за философский камень! Это — за капитанство! Подлый Бенчи, все из-за тебя, паскудная свинья!
Он в изнеможении опустился в высокую, усеянную щепой траву у корней дерева.
— Что с вами, синьор Анджело? — наконец осмелился спросить простецкого вида детина, недавно выдававший себя за лесника.
Майорано сидел, прикрыв глаза, слушая, как литаврами на дромоне стучит его сердце, подавая сигнал гнать что есть мочи.
Лесник подошел чуть ближе, опасаясь, что его не слышат:
— Что с вами, синьор?
— Теобальд, — приоткрыл глаза барон, — кажется, мы здорово влипли.
— Я ходил под вашим знаменем семь лет, капитан. И всякий раз, когда мы здорово влипали, вы находили, как извернуться и уйти, да еще и с хорошей добычей.
Ди Гуеско смерил «лесника» долгим благодарным взглядом:
— Значит, так, — он поднялся, опираясь на секиру, — путей у нас немного, и каждый из них хорошо известен. Из Пармы наверняка уже выслали погоню, а заодно и гонцов к соседям. Уверен, они ждут, что мы отправимся или на юг — под крыло Его Святейшества, либо же через Пьемонт и Савойю во Францию. Если мы и впрямь сунемся туда — прощай голова! Но пока нас обложат, словно волка флажками, остается еще один путь — в Империю.
— Но туда просто так не пройти. Необходимо пробираться по горным тропам, где сложно отыскать укрытие — особенно, не зная местности. К тому же придется двигаться мимо Бергамо, а в городе обязательно поинтересуются, куда это направляется отряд папской гвардии. Да и… этот мертвец…
— К черту Папу, к черту его гвардию! И Бенчи — тоже к черту! Будь он трижды проклят, акулий выродок! Забудьте о том, что вы были на службе Его Святейшества. В Империи всегда найдется великое множество князей и герцогов, которые не жалуют Папу и рады будут принять на службу таких парней, как мы. Главное сейчас — оказаться по ту сторону границы.
— Но как? — вразнобой послышалось из застывшей в ожидании вожака колонны.
— Когда я был совсем мальчишкой, мои земляки, — улыбаясь воспоминаниям, начал Майорано, — решили раздобыть для себя мощи евангелиста Марка. Они направились в Александрию, где тот претерпел мученическую смерть, похитили его останки, а чтобы обойти мытарей-сарацин, поверх мощей святого нагрузили сала. Магометане погнушались досматривать сундук с мощами. И с тех пор, как все вы знаете, святой Марк является небесным покровителем Венеции. Теобальд, мне нужен гроб…
— Вы что же, намерены предать земле тело святого отца?
— В пекло святого отца! Обойдется без гроба. Не перебивай. Гроб нужен мне, а еще — гнилое мясо и дохлая кошка.
Толпа странников в серых от пыли плащах с надвинутыми на глаза капюшонами, опираясь на длинные посохи, с воем и стенаниями приблизилась к восьмиугольной каменной башне. Нижняя часть ее живо напоминала о могуществе императорского Рима, в то время как верхняя являлась непреложным доказательством мощи Священной Римской Империи германского народа. Посреди скорбной толпы медленно катила запряженная двуконь повозка с черным, недвусмысленного вида ящиком.
Начальник пограничной стражи и трое его людей заступили дорогу процессии, опасливо поглядывая на гроб.
— Кто такие?
Возница приподнял украшенный свинцовыми образками и морскими раковинами капюшон и уставился на стражника отсутствующим взглядом.
— Я спрашиваю, кто такие?! — повысил голос начальник стражи.
— Божьи люди, — со слезой проговорил возница.
— Откуда, куда?
— Из Святой Земли, из самого Иерусалима. Мы везем тело просветленного учителя нашего — преподобного отца Марка, скончавшегося от мучительной болезни в тех самых землях, где Спаситель принял смерть и воскрес к вящей славе Господней.
Страж границы недовольно поморщился, но, памятуя о долге и предписаниях, подошел вплотную к гробу.
— Снимите крышку!
— Быть может, вам, славный воин, не стоит глядеть на это? — всхлипнул Теобальд. — Эта болезнь… О, как это было ужасно! Он умирал, корчась, в течение двух недель, и ни слова жалобы не сорвалось с его уст, лишь благодарил Всевышнего, что претерпевает муки…
— Ну, полно! Открой крышку!
— Быть может, не стоит… Эта болезнь… Она может быть заразна… Это было так страшно — он весь был покрыт язвами, струпьями, кожа слезала с него клочьями…
Начальник стражи поглядел на возчика без прежнего энтузиазма:
— Хорошо, приоткрой гроб.
— Как скажете, господин, как скажете…
Теобальд отложил кнут и взялся за крышку.
— Куда вы везете его? — в спину ему спросил смотритель.
— В Санкт-Галлен. Мы хотели схоронить его там, в Святой Земле, но преподобный сказал, что, поскольку смерть его так ужасна, он не желает своим, с позволения сказать, гниющим трупом осквернять великую святыню христианского мира. — Возница приподнял крышку гроба, и из щели вырвался настолько зловонный смрад, что начальник стражи невольно отшатнулся, однако увидел сквозь нее лежащего человека в облачении, вернее, даже не человека, а гниющий остов, кишащий червями.
— Закрывай! Проваливайте немедленно! — крестясь, крикнул он.
— Благодарю тебя, храбрый воин, — едва сдерживая рыдания, пробормотал Теобальд, взбираясь на козлы. — Бог наградит тебя за доброту! Какая ужасная смерть для столь праведного человека, — вздохнул он.
Толпа со стоном и плачем двинулась вперед. Страж границы, качая головой, глядел, как сотрясаются плечи его недавнего собеседника и как удаляется по горной дороге скорбная повозка.
— Черт, черт, черт! — донеслось из гроба. — Проклятие! А ну сдвиньте крышку, иначе я и впрямь сдохну тут!
Заплаканный Теобальд перестал сотрясаться от беззвучного хохота и бросился выполнять приказ командира, но вдруг…
— Погодите, дон Анджело! Нас догоняют какие-то всадники.
— Этого еще не хватало, — ответили из гроба. — Кто такие?
— Не разберу. Похоже, имперцы. Впереди рыцарь, у него на котте двуглавый орел, но не такой, какой принят по ту сторону Альп.
— С дороги, с дороги! — раздался резкий окрик, по которому всякий, кто хоть раз слышал, мог опознать северянина. — Освободите путь герцогу Сантодоро!
— Зачем так, Брэнар, — возразил на звучном ромейском наречии первому голосу второй, как будто смутно знакомый Майорано.
— Эй, — знатный ромей подъехал ближе к катафалку, — судя по тому, как много вас и какой дальний путь вы проделали, тот, кто лежит в этом гробу, был весьма достойным человеком.
— О да, монсеньор, — начал Теобальд, — воистину, святой жизни. Немало чудес он сотворил в прежние годы.
— Прискорбно, — вздохнул его собеседник. — Всегда печально видеть, как умирают лучшие из лучших…
Майорано услышал звон монет.
— Вот, держи. Увы, это все, что я могу сделать для вас. Не в моих силах оживлять мертвых, но долг христианина позаботиться о живых. Вы, должно быть, давно не ели…
— Господь видит доброту вашу, — скороговоркой затараторил Теобальд.
— Воля Аллаха, — прошептал барон ди Гуеско, — да ведь это же Гаврас! Святая Дева, он-то здесь откуда? Как бы то ни было, Всевышний определенно на моей стороне, раз уж послал сюда старого знакомца.
Майорано притянул колени к груди, уперся ногами в крышку гроба и отбросил ее.
— Богородица Дева и святой Федор Стратилат! — в ужасе выдохнул Симеон Гаврас, с трудом удерживая норовистого коня.
— К черту! Маскарад окончен! Разбирайте оружие! — заорал ди Гуеско, радуясь возможности снова вдохнуть чистый воздух и отодрать с лица гнусные нашлепки из червивого мяса. — Симеон! Друг мой! Ты оживил меня!
Городок Шварцфельд понемногу приходил в себя. Когда близ него вдруг появился вооруженный отряд под неведомым знаменем, горожане подумали, что какой-то очередной разбойничий барон решил пощупать мошну у местных торговцев. Но пока снаряжалось ополчение и запирались ворота, ошибка стала уже ясна и высокий гость Шварцфельда, герцог Сантодоро с эскортом, были достойно приняты в городской ратуше и размещены с максимальным почетом.
Анджело Майорано, шокировавший горожан своим запахом, теперь отмытый в купальне и умащенный ромейскими благовониями, восседал за столом перед герцогом, попивая вино и жалуясь на тяжелую долю:
— После того как мы расстались с вами, я решил навсегда распрощаться с прежней жизнью и поступил на службу Его Святейшества. Вы же знаете, я честный малый. К тому же Господь не обидел меня отвагой, да и в военном деле я кое-что смыслю, так что Папа Гонорий начал отличать меня среди других командиров, сделал бароном и капитаном своей гвардии. Но, увы, злая судьба… Как говорят у нас в Италии: «Если вы увидели, что ручей потек вспять, то, значит, где-то кто-то ответил добром на добро…»
— Что же случилось?
— О, не спрашивайте, друг мой, не спрашивайте! Это ужасная тайна, из-за которой я чуть не лишился жизни… Да и теперь, — Майорано оглянулся, будто выискивая притаившихся врагов, — лучше, чтобы здесь не называли мое имя.
Он сделал паузу.
— Но вы, герцог, вы имели полную возможность убедиться в моей преданности, когда я доставил вас от Светлояр-озера к самому Херсонесу.
— Рассказывайте и ничего не бойтесь!
— Я узнал страшное, — переходя на шепот и приближаясь к Симеону Гаврасу, сообщил барон ди Гуеско. — Святейший Папа, глава Католической церкви — чернокнижник! До меня и прежде доходили слухи, что он больше любит изящную словесность, чем Святое Писание, что раздает епископские шапки стихотворцам и ораторам, нимало не беспокоясь об их благочестии. Тогда я думал, что это лишь злые языки, наветы и козни завистников… Но как-то мне воочию довелось увидеть лабораторию, в которой понтифик с какими-то темными личностями варил золото и вызывал демонов. И я узрел книгу, полную диковинных значков, которую читали все они, исполняя ритуал-заклинание. Ужас обуял меня, когда я узнал все это, и не смог удержать стон, коим выдал себя. А на другой день Гонорий II велел мне отправляться в Парму — якобы для того, чтобы охранять по дороге во Францию почтенного святого отца. То была ловушка — Гуэдальфо Бенчи, которого все считали святошей, на самом деле был главой сицилийских пиратов! Ему приказали лишить меня жизни, но в самый последний миг я сумел разгадать его замысел. Мы сражались в честном бою, прелат был повержен, я же — вынужден скрываться. Вот она, злая судьба! Вот они — несчастья, преследующие благородного человека по пятам, точно псы — Актеона …[34] — Он смахнул слезу. — Теперь я здесь, в Империи, хотя ума не приложу, куда податься далее.
— Я направляюсь ко двору герцога Швабского.
— Вы думаете, ему понадобятся отважные воины? — не замедлил с вопросом Майорано.
— Быть может, — предположил Симеон Гаврас, прикидывая, что уж ему-то отважные воины точно пригодятся. — Я еду туда на турнир в честь бракосочетания герцога…
— Да, турниры здесь часто случаются, местные храбрецы любят вышибать друг друга из седла. В честь свадьбы, в память святых и бог весть еще ради чего.
— Но в этом случае речь идет о свадьбе герцога Конрада Швабского и Никотеи.
— Вот оно что! — На лице Майорано обозначилась задумчивость. — Значит, вот как. — Он вдруг усмехнулся. — Что ж, если ваша светлость подождет до завтрашнего дня, пока мои парни перегонят сюда коней с той стороны границы, я буду рад присоединиться к вам и, как водится, служить верой и правдой.
Лис поглядел на валлийцев, недоверчиво взиравших в сторону чужаков, на спасенного некогда в херсонесской тюрьме мальчишку, и со вздохом развел руками:
— Капитан, ну ты это видел?
Капитан видел это и был ошеломлен не менее напарника: обезумевшая от восторга толпа, подхватив Федюню на руки, несла его впереди себя, точно переходящее знамя. Каждому не терпелось прикоснуться к несомненной святости диковинного мальчишки, и потому всякий норовил подержать его за руку, подставить ему плечи… Звуки протеста и просьбы Федюни тонули в общем гомоне.
— Теоретически, — смеривая взглядом нескольких вояк, оставшихся охранять «пленников», сказал Камдил по-русски, — уйти отсюда не составит никакого труда.
— И шо оно нам даст? — в тон ему спросил Лис.
— В том-то вся и беда.
— Если валлийский ускаканец, соорудивший здесь мышеловку, успел разнести по округе весть о том, как нас тут заровняли под асфальт, миф о терминаторах святого Бернара растворится, шо тот «Нескафе-классик» — в смысле, без остатка и с отвратительным вкусом. Но тащиться в обозе, будто маркитанская фура, — несерьезно как-то.
— Ясное дело — несерьезно. Да и времени нет. Если руководство настаивает на переброске в Империю, значит, прелестная Никотея развила такую бурную деятельность в лучшем византийском духе, что плоды ее трудов грозят, созрев, проломить не одну коронованную голову.
— А я-то думал, для чего ж дужки на короне сверху прилепили… А это шоб плоды Никотейских происков на голову не падали! Но мы ж тоже не Ньютоны…
— Ньютоны не Ньютоны, а раз Институт настаивает на нашей переброске, значит, основания для этого более чем веские.
— Так шо ж, — Лис с обидой поглядел на торжественное шествие аборигенов, несущих в качестве живого знамени мальчишку, жестикулирующего и безуспешноно пытающегося что-то втолковать окружающим, — уйти, не сказав Федюне ни «здравствуй», ни «прощай»? Устроили, понимаешь ли, забег под девизом «Для бешеной собаки семь верст не крюк», зашугали местных попов, образцово-показательно отгребли в торец и, утершись, пошли спасать Империю от юной топ-модели?
— Лис, я этого не говорил, — остановил напарника Вальдар. — Но справедливости ради должен заметить, что Империю, вероятно, спасать придется. Хотя мне самому пока непонятно от чего.
— Зато ясно от кого. Во девка развернулась! А ты-то хорош! «Небесное создание»… Буквально ангел во плоти! Не все, что с неба — от бога. Радуйся, что страусы не летают.
— Сережа, это к делу не относится. — Камдил состроил недовольную физиономию. — Сейчас мы рассматриваем один-единственный вопрос: задерживаемся тут, чтобы выяснить, какая муха укусила нашего мальчика, или же обижаемся донельзя и отправляемся выполнять институтское задание?
Между тем шествие продолжалось, и среди нестройных криков вдруг послышался чей-то сильный голос, распевно выводивший древнюю балладу.
— Слушай, а че это он там поет? — вдруг напрягся Лис, временами ревниво относившийся к возможным конкурентам менестрельного цеха. — Про какого-то поросенка…[35]
Вальдар прислушался к словам:
Почему ты думал о сне? Слушай водяных птиц в брачный сезон! Владыка из-за моря придет в понедельник, Да возрадуются валлийцы его замыслу!— Час от часу не легче. — Лицо рыцаря помрачнело. — Это пророчество Мирддина, который здесь, в Уэльсе, почитается не менее, чем Мерлин во всем остальном цивилизованном мире. Похоже, нашего Федюню всерьез принимают за обещанного владыку, пришедшего из-за моря.
— Он, конечно, заморыш, не без того, однако попрошу учесть, шо за время службы у нас он все-таки слегка отъелся, и его теловычитание приняло легкую видимость телосложения. Но при всем при том, какой из него властитель?
— Лис, не до шуток. Для всех этих людей — он обещанный пророчеством властитель из-за моря! Это Уэльс, здесь пророчества обязаны сбываться, здесь сказать кому-нибудь, что не существует эльфов, фей и прочих изысков фантазии Творца Предвечного — все равно что расписаться в собственном невежестве. И не просто расписаться, а поставить большую круглую печать…
— Лучше треугольную, как на больничном. Не, я все понимаю, но прикидываю — получается, шо Федюня из Сноудона вынырнул никак не в понедельник, а так в среду-четверг.
— Это ты уже никому не объяснишь. Если завтра сей марш протеста сам по себе не увянет, то послезавтра в Уэльсе найдется добрая сотня очевидцев, которые, как ты говоришь, бия себя пяткой в грудь, расскажут в деталях, что Федюня ходил по воде, и именно в понедельник.
— Ага, и вода закипала у него под ногами.
— Не подсказывай!
— Да это я так, к слову… Меня тут вдруг заинтересовало: ежели Андай обладал даром предвидения, узрел за тысячу верст нашего мальчика и так все устроил, что мы вместе с ним приперлись к этому Светлояр-озеру, то не был ли поход задуман только для того, чтобы заполучить Кочедыжника Федора Батьковича в Китежскую школу младших командиров, или как там она называется… Так сказать, подготовка кадрового резерва.
— Если убрать турусы на колесах, — задумчиво сказал Камдил, — ты предполагаешь, что Федюня — новое вместилище Андая?
— Ну-у-у… Что-то типа того. А шо тебя, собственно, так смущает? Обычные змеи время от времени меняют шкуру, а Андай — необычная змея, он вот голову поменял. Учитывая невозможные возможности волновой генетики, ничего нереального тут нет.
— Очень занятная версия. Пока что все имеющиеся данные в нее укладываются, как рука в перчатку. Например, странное поведение мальчишки… В нем, должно быть, сейчас борются два начала — собственное, человеческое, и Андая. Опять же Мстислав…
— Шо уже — шо? Уже Великий князь тебе недостаточно велик? С ним-то что не так?
— С ним все так, но вот какая незадача, пойми меня правильно… Я говорю это вовсе не потому, что я англичанин, а он — русский князь. Его английские корни мне известны, возможно, лучше, чем прочим. Но не понимаю, зачем Андаю было устраивать воцарение Мстислава в Англии. Вернее, до этого момента не понимал…
— И шо, упав с коня, наткнулся на мысль?
— Есть предположение. Поправь, если что-то покажется тебе нелогичным. Англия — остров, вернее, группа островов, и довольно сильно изолирована от всей прочей Европы.
— Очень верное наблюдение.
— Король Британии — самая могущественная фигура на острове.
— Это смотря какой король.
— Гарольд III.
— Скорее «да», чем «нет». Но пока еще скорее «нет», чем «да».
— Среди прочих королевств на Британских островах Уэльс населен людьми с наиболее, пожалуй, развитым мифологизированным сознанием.
— Тебе виднее…
— Поверь на слово, — усмехнулся Камдил. — Так вот, Мстислав, во втором поколении пользующийся услугами Андая, становится королем Британии, которая, как мы уже сказали, изолирована от остальной Европы. Таким образом, он больше настроен на сотрудничество с потомками Ангуса[36] и, насколько я могу понять, определенно чувствует вину за гибель Андая.
— Перед кем?
— Перед собой, перед отцом, который теперь обитает в Китеже.
— Может, и так. Дальше что?
— Дальше появляется Федюня, которому Мстислав, как ни крути, свой. Причем является к королевскому двору не сам, а во главе бушующей толпы, видящей в нем обещанного древним пророчеством властителя из-за моря, спасителя и избавителя.
— Ага, запал ввернут в гранату, осталось только дернуть за кольцо.
— Именно так. Усилиями короля Гарольда III с подачи Федюни Кочедыжника Англия может стать великолепным плацдармом для создания новой, — Камдил замялся, — возможно, религии. Но я бы сказал — концепции мироустройства.
— Концепция… Не путать с контрацепцией. Эк ты завернул! Хорошо бы узнать, что по этому поводу сам Федюня думает.
— Это верно. Значит, делаем так: как только брожение народных масс устанет бродить и расположится на привал, мы берем нашего мальчика и задаем ему напрямик все накопившиеся вопросы.
— А эти? — Лис кивнул на бредущих рядом стражей.
— А что эти? Придется обездвижить. Без особого членовредительства, однако надежно.
А между тем над толпой неслось:
Разве вы не видите порывов ветра и дождя? Разве вы не видите, как сталкиваются дубы? Разве вы не видите, как море кидается на землю? Разве вы не видите истины в его трудах? Разве вы не видите солнце, как оно спешит по небу? Разве вы не видите звезды, как они падают? Разве вы не поверите в Бога, доверчивые люди? Разве вы не видите мир в опасности? О, ради тебя, Господи, да не набросится море на сушу! Что осталось нам такого, из-за чего мы останемся здесь? Некуда бежать от мельницы страха, Негде переждать. Томительное ожидание! Нет ни совета, ни ключа, ни пути Изгнать из наших душ смятение страха.[37]— Знать бы еще, куда они идут, — наблюдая за движением вооруженного сброда, вздохнул Лис.
— Думаю, скоро выясним.
Плененный рыцарь оказался прав — не прошло и получаса, и на очередном открывшемся взору холме путники увидели громоздкую четырехугольную башню, окруженную шестиярдовой зубчатой стеной. У подножия холма виднелось большое селение, должно быть, мнившее себя городом.
— Капитан, ты у нас спец, — приглядываясь к развевающемуся над замком флагу, сказал Лис, — я шо-то не разберу: там нарисован какой-то обрубок мужика в шарфике — что это за валлийский геральдический прикол?
— В шарфике? — Камдил напрягся и стал вглядываться в плещущее на ветру полотнище. — Ну да, я должен был догадаться…
— О чем, Капитан? Шо не слава богу?
— Я сам пока толком не пойму, к чему это все, но только там не мужик, а мальчик, и на шее у него не шарф, а змея. Это замок кого-то из семейства Варвин. Есть в Уэльсе такой древний род. По легенде, мать прародителя его заснула в саду и проснулась от того, что по ней ползла змея. Девушка, конечно, всполошилась, вступила в неравный, но успешный поединок, а через некоторое время у нее родился сын с очень характерным родимым пятном на шее — будто змеиный след. И стал он в Уэльсе известным героем, и множество семейств ведут от него свой род.
— И опять мальчик, и опять змея, — закончил Лис. — Хитро, — он приподнял уголок губ, усмехаясь старой легенде, — непонятно, что сия аллегория означает, но меня сейчас другое интересует: рупь за сто даю — эти офедюнившие энтузиасты собираются штурмовать замок.
Глава 12
Прощай старых врагов — сосредоточься на новых.
Не допускай, чтобы новые становились старыми.
Миямото МусасиГарри ликовал. С тех пор как у городских ворот маленький Спаситель поднял его с колен, он знал, что теперь должен посвятить ему жизнь. Гарри хорошо помнил день, когда он стал жалким калекой. Он помнил, как в сражении при Фаулскирке, испугавшись натиска англичан, развернул коня и пустил его вскачь, пытаясь спастись от неминуемой, как ему казалось, гибели. Конь, ощутив состояние хозяина, понес очертя голову и рухнул, перепрыгивая каменную изгородь. Между тем валлийцы оказались на высоте, и поле битвы осталось за ними.
Гарри нашли, придавленного бьющимся раненым конем. Он был жив, но нижняя часть тела утратила подвижность, и деревянная тележка с колесами стала наказанием ему за трусость. Долгие годы Гарри молил о чуде и чудо произошло. Теперь он знал, что нет того подвига, того деяния, которое не под силу ему совершить ради этого необычайного мальчишки со странным протяжным именем Федюня.
Гарри повернулся к ближайшему лучнику из свиты бежавшего лендлорда:
— Ты хорошо знаешь этот замок?
— Как свои пять пальцев, сэр. Это же замок моего господина. Бывшего господина, — поправился лучник.
— Сколько воинов осталось в его стенах?
— Не больше дюжины, сэр. Да и то многие наверняка сейчас отправились ночевать к женам под бок. — Лучник ткнул пальцем в видневшиеся над палисадом дома селения.
— Кто еще в замке?
— Челядь и старая тетка хозяина. — Лучник виновато посмотрел на Гарри, но тот сделал вид, что не заметил оговорки. Он кликнул к себе одного из ополченцев, по виду самого крепкого.
— Отбери людей, пользующихся в селении наибольшим уважением. Возвращайтесь по домам, соберите народ и скажите, что прибыл тот, о ком было речено Мирддином. Пусть склонятся перед ним и обретут благодать, как обрел ее я. — Гарри хлопнул себя по ногам.
— А как же бальи и его люди? — с опаской спросил верзила.
— Бальи связать и притащить сюда. Его людей тоже. И пусть все знают, что дерзнувший не признать Спасителя, станет врагом его. И моим. — Гарри многозначительно положил руку на эфес отнятого у лендлорда меча. — И если Он — милосердие, то я — правосудие.
Верзила молча кивнул, не желая связываться с воплощенным правосудием.
— Теперь, — Гарри повернулся к лучнику, — ты. Ступай к замку, скажи, что я велю им открыть ворота!
— Но… старая госпожа… — вояка замялся. — Она ни за что не позволит сделать этого.
— Мне дела нет до старой госпожи! Пусть себе позволяет или не позволяет, что ей вздумается. Объясни своим приятелям по ту сторону ворот, что я казню всю их родню, какую найду в селении. А потом, когда я войду в стены, — и их самих. Пусть немедля откроют ворота. Уже смеркается, а Федюня должен ночевать в замке. Здесь будет его столица — не о том ли говорит этот флаг? — Он указал на алое полотнище, трепетавшее над башней.
— Я сделаю все, как вы велите! — повинуясь командному тону апостола нового пророка, склонил голову лучник и поспешно бросился к узкой насыпи, ведущей от городского палисада к надвратной башне.
— Что ты им приказал? — приблизился к Гарри Кочедыжник, наконец обретший твердую почву под ногами.
— Я велел им позаботиться о ночлеге и провианте. Вон нас сколько! Ни о чем не беспокойся, я все сделаю в лучшем виде.
— Но к чему? Мы пришли домой к этим людям, как добрые гости к радушным хозяевам. Нам следует с почтением просить их уделить нам толику от хлебов своих, а затем смиренно проститься с щедрыми хозяевами и идти своей дорогой.
— Но как же все эти люди? Они поверили тебе, вступились, презрев гибель и кары. Если ты уйдешь, оставив их, их всех перебьют.
— Но я не хотел этого! — Федюня жалобно поглядел на соратника. — Я лишь пытался втолковать, что им следует бороться не со мной, а с собственным страхом.
— Они преодолели страх и теперь будут идти с тобой до конца, даже если ты поведешь их на штурм самого Лондона, а не этого замка.
— Я не хочу ничего штурмовать! — В глазах Кочедыжника блеснули слезинки. — Я хочу поговорить со своими друзьями!
— Для меня всегда честь говорить с тобой!
— Нет, ты не понял. С тем рыцарем и его собратом.
— Которые пытались схватить тебя? — нахмурился Гарри.
— Напротив, они лишь хотели спасти меня. Это мои друзья.
— Какие странные друзья! Хорошо. Сейчас они в обозе, там. — Он махнул рукой в неопределенную даль. — Но как только мы разместимся на ночлег и я смогу обеспечить твою безопасность, приведу их.
Старец Амвросий не хотел отправляться в поход на Тмуторокань. Годы брали свое, и подчас ему казалось, что только закаленный жизненными испытаниями дух заставляет еще двигаться дряхлое тело. Но воля Святослава была непреклонна.
Вернувшись из похода к Светлояр-озеру уже Великим князем, Мономашич, казалось, растерял по дороге прежнюю бесшабашную удаль, ему больше не с кем было состязаться ни в доблести, ни в радушии. Брат теперь сидел на троне за тридевять земель, отец и вовсе обитал в водах священного озера в зачарованном граде Китеже. Иногда он являлся Святославу во снах, беседуя о жизни и давая советы, но всякий раз Святослав не ведал, то ли впрямь отец и с того — иного — света заботится о нем, или же то демоново смущение, злое коварство, и враг рода человеческого видом мудрого Владимира Мономаха терзает душу его.
В такие часы Святослав просыпался в холодной испарине и до рассвета стоял на коленях у образов, шепча молитву. И только речи благочинного старца Амвросия приносили покой и ясность духа. Стоит ли удивляться, что опричь статных молодцов кованой рати Святослав пожелал взять в поход древнего годами старца.
Амвросий, никогда не имевший собственных детей, молодых княжичей-близнецов Мстислава и Святослава любил, как любил бы сыновей. Но то, что некогда услышал он от василевса Алексея Комнина, батюшки нынешнего повелителя ромеев, за многие годы не стерлось в его памяти. Подозвав к себе монаха-чернеца, император негромко сказал: «Русь — спящий лев. Ежели очнется она ото сна, то не чудь с мерью, не степные волки— печенеги для нее добычей станут, а земли ромейские. А уж при Мономахе и сынах его пробуждения всякий час ждать можно. Посему от слова твоего зависеть будет — ждать ли нам нового Аскольда и Олега под стенами Константинополя, или жить спокойно, если только возможно ожидать покоя, обитая в кругу воинственных и завистливых варваров».
Все эти годы Амвросию удавалось смирять гордыню потомков императора Константина Мономаха и даже в часы их небывалого могущества внушать мысли о мире и любви к братьям во Христе. Теперь сотворенное им за долгие годы грозило рухнуть, похоронив среди руин его самого, и возлюбленное духовное чадо, и, быть может, ромейскую империю.
Не к добру пришла василевсу мысль дергать за усы спящего льва. Кто бы ни говорил сегодня правду: неизвестный херсонит с его подметным письмом или же посол ромейский — все едино. Проснется лев — не сегодня, так завтра пожелает на Царьград прыгнуть.
Амвросий достал из рукава и вновь развернул пергамент. Тот, кто писал его, уж никак не друг василевсу Иоанну. И Великого князя руссов желает он использовать как богатырскую палицу, сокрушая то, что своими руками поразить не в силах. Как Бог свят — в Херсонесе гнездо измены свито. Но только предположение сие есть игра ума, ничего более. У самых что ни на есть ступеней трона враг таиться может.
А что, коли вдруг сам Ксаверий Амбидекс среди заговорщиков? Язык его одни речи произносит, а рука совсем о другом говорит. Если не он сам, так кто-то из его свиты.
Проще всего на херсонитов думать, которые от Понта до княжего шатра посла сопровождали, а ну как нет? Что будет, если Амбидексу о письме тайном сообщить? Если прав неведомый радетель интересов русских, и ромеи Святославу впрямь недоброе замыслили, то смерть за плечом у князя стоит.
«Негоже так, негоже, куда ни кинь — либо Константинову граду разор да смута, либо чаду любезному гибель неминучая. Негоже, — думал про себя Амвросий, призывая силы небесные сжалиться и дать ясность розмыслу его. — Как из такого-то силка выбраться? А может, еще образуется все? — мелькнула у Амвросия слабая надежда. — Поутру Святослав проснется и не вспомнит, было ли послание, упреждающее о коварстве ромейском. Вон он как пьян был, а коварства вдруг никакого и нет, и все от точки до точки… как о том Ксаверий Амбидекс докладывал». Старец на мгновение задумался и с грустью подытожил: «Хорошо бы так, да вряд ли. Во всяком случае, оповещать посла не стоит покуда. И след разобраться во всем самому. Надо обернуть дело так, чтобы Святославу и ромеям с божьей помощью выгода и радость небесная была».
Амвросий затеплил свечу у образа Богородицы, висевшем аккурат у изголовья его простой, покрытой дерюгой лежанки.
«Дева пречистая, святая родительница Спасителя человецей, услышь меня, многогрешного! Не за себя молю, за сына во Христе, за дом родной. Дай мудрости и сил душевных, дабы обрести мир и человецем спасение!»
Бернар Клервосский стоял на коленях перед изваянием Девы Марии. Скорбная Матерь божья с печалью взирала на сына, только что снятого с креста. Бернару казалось, что он воочию зрит запекшуюся кровь на челе, истерзанном терниями венка, на руках, ногах и в боку спасителя. Голова его покоилась на коленях матери, будто сын, утомившись от долгого тяжелого пути, уснул и, проснувшись, вскоре опять вернется в мир.
Бернар вглядывался в мраморное изваяние, вышедшее из-под резца умелых ромейских мастеров два века тому назад, и ему настолько ясно представлялось, как белый камень окрашивается живою кровью, что невольно хотелось прикоснуться к нему, дабы убедиться, что это лишь плод воображения.
— Так и апостол Фома, не веря в раны сына божия, вложил персты в них, чтобы удостовериться, что они явь, — под нос себе пробормотал настоятель Клервосской обители. — Но вера наша крепка и неизменна, и нет тьмы, коя бы поглотила свет, открытый мне.
Прошептав это, Бернар повернулся к молчаливо ожидавшему распоряжений брату Россалю:
— Прибыл ли доблестный Гуго де Пайен?
— Да, отец мой, он уже давно здесь и только ждет позволения войти.
— Ступай и скажи, что я приму его.
Бернар вновь отвернулся, чтобы скрыть невольную торжествующую улыбку. Со времени своего чудесного возвращения из Британии, со времени сокрушения и попрания короля Генриха Боклерка уверенность в божественной сущности предначертанного ему пути стала непоколебимой. Отныне всякий день, всякий час служил воплощению Господнего замысла, и в этом великом деянии Гуго де Пайен был его руками: сильными и умелыми его — Бернара — руками.
Сегодня настоятель Клервосской обители знал, что родич привез хорошие новости. Об этом сообщил гонец, посланный предводителем Христова воинства еще вчера. Что именно хотел поведать де Пайен, посланцу не было известно, но и без того аббат чувствовал, что близится нечто великое, и этот день решит многое.
— Благослови меня, отче. — Рыцарь с алым лапчатым крестом на белом плаще преклонил колено пред настоятелем.
Бернар осенил его крестным знамением и, подняв, обнял по-братски:
— Я рад видеть тебя, дорогой кузен! Что ты желал сообщить мне?
— Я только что от графа Шампанского. Тибо велел кланяться тебе и принять знак его глубочайшего почтения.
— Что за знак?
— Этот перстень. — Де Пайен с волнением протянул настоятелю священную регалию. — Знак его графской власти. Его сиятельство отдает их вам, признавая свою покорность.
— А что же король Людовик?
— Тибо сказал, что не следует принимать от слуги то, что принадлежит хозяину. Если вам будет благоугодно вернуть ему сию регалию, он готов принести оммаж[38] Господу нашему Спасителю и через вас держать эти земли от него. Граф также передал, что признает Людовика только держателем Сен-Вексена — земель святого Мартина. Все же прочие его владения, покуда не будут они признаны тобой по воле Господа нашего, не более чем земли, удерживаемые силой меча.
— Что ж, он говорит мудро, и мудрость подвигает его поступать верно. Передай графу, что я принимаю его подношение и возвращаю с благословением знак власти как достойнейшему и первейшему среди равных. В новом мире, где не будет государей, зарящихся на дом, пастбище и виноградник соседа, где все будет единым владением Божьим, граф Шампанский воссядет по правую руку от Священного трона.
— Я передам это наискорейшим образом. Однако новости мои на том не исчерпываются.
— Что еще?
— Верный человек, принявший крест и вставший под наши знамена еще в Святой Земле, намедни прибыл от герцога Лотаря Саксонского.
— Я слышал об этом алеманнском владетеле. Рассказывают, что сей добрый христианин имеет дух, равно смиренный и доблестный. Но что же поведал ваш собрат?
— Слава о ваших деяниях, отец мой, уже достигла земель Саксонии, и Лотарь, детально и пристально изучив все услышанное, признал божественную сущность ваших начинаний. Он также готов склониться пред вами и отдать себя Господу, став верным и преданным вассалом его.
— Это радостная весть.
— Но и сие еще не все, — продолжил де Пайен. — Некоторые из князей-электоров видят Лотаря новым императором и готовы поддержать его на выборах, которые должны вскоре пройти. Он же, в свою очередь, говорит, что, буде и впрямь станет светским владыкой Запада, желает, чтобы во главе первоапостольной Римской церкви стоял воистину божий человек — вы, мой кузен, а не ложный светоч христианского мира, раздающий епископские и кардинальские шапки каким-то сладкоголосым трубадурам. Он просит вас поддержать его нынче и дает слово чести, что первейшим делом по воцарению его станет восстановление славы и могущества матери нашей Церкви и утверждение ваше на престоле святого Петра.
— Да будет так, — тихо произнес Бернар, — и да свершится по тому.
Он подошел к изваянию и прикоснулся пальцами к перстам Спасителя:
— В руки твои передаю, Господи, себя. Дай сил мне свершить замысел твой. — Бернар повернулся к рыцарю. — Я вижу в том благое предзнаменование. Как стало мне ведомо из откровения, ниспосланного ангелом небесным, далеко на западе, там, где одержали мы победу над врагом рода человеческого, явился из вод мальчишка, обликом почти дитя. Однако же в душе его свил гнездо змий, алкающий жертвы человечьей. И лишь те спасутся от пламени, изрыгаемого пастью змия того, кто истинно уверует и придет под руку мою. Прочим же суждены тлен, мрак и забвение, ибо Сын погибели ступает по земле, и никакая сила, кроме силы Божьей, — Бернар грозно воздел десницу, — не отвратит его!
Стражники, охранявшие пленников, завидев приближающегося Гарри, прекратили досужие беседы и схватились за оружие, демонстрируя рвение. По сути, никто не назначал вчерашнего побирушку командиром Федюниного войска, как, впрочем, и ополченцев не делал воинами. Но все же ни у кого и мысли не возникало отрицать присвоенные Гарри полномочия.
Шестеро поселян, оставленных им для охраны рыцаря и его спутника, должно быть, представлялись ему вполне убедительным конвоем. Это нелепое убеждение могло бы стать и вовсе фатальным, учитывая близость суровых, не привыкших к сантиментам, варягов, шедших за повстанцами, точно волк по кровавому следу. Но давно замеченные остроглазым Лисом, они получили команду ждать и не нападать без приказа, а потому скрипя зубами наблюдали, как шестеро растяп стерегут едва ли не лучших бойцов Европы.
Гарри подошел к месту стоянки и вперил в незваных гостей тяжелый, пронизывающий взгляд:
— Кто вы?
— Рыцарь, — едва посмотрев на вооруженного нищего, ответил Камдил.
— А ты? — обратился Гарри к Лису.
— Артист больших и малых императорских театров, — оскалился Лис. — Мое имя слишком известно, чтобы его называть.
Гарри недовольно поджал губы. Худшие его сомнения явно имели под собой основания: «Кто бы ни были эти двое, они не могли быть истинными друзьями Федюни. Конечно, можно понять — Федюня слишком мал и слишком добр, чтобы разбираться в людях. Скорее всего некогда эти вздорные гордецы чем-то помогли мальчишке. Так и ему самому совсем недавно, проезжая мимо, походя бросали истертый медяк. Мальчишка, наверное, всерьез думает, что этот с крестом и этот — с кривым носом — ему друзья. Как же! Сегодня такие подают милостыню, а завтра готовы обломать палку о твой хребет… Я своими глазами видел, как они собирались схватить, а быть может, и умертвить Спасителя».
Гарри вновь недобро поглядел на пленников. Его бы воля — раскачивались бы они над землей еще там, в лесу! Гарри казалось, что от его презрительного взора собеседники должны смешаться, сжаться, опасаясь за свои жизни, но не тут-то было. Его просто едва замечали!
«А вдруг Федюня пожелает этого рыцаря поставить во главе отряда? — мелькнула у крестьянского вожака недобрая мысль, от которой он чуть не поперхнулся. — Ну нет, не бывать этому!»
— Федюня изъявил желание повидаться с вами, — стараясь говорить как можно высокомернее, начал самозваный апостол. — Он полагает, что вы друзья. Но меня вам не провести — я каждого из вас вижу на ярд вглубь! Он пришел дать нам новую счастливую жизнь здесь — на земле, а не после смерти, как врут святоши. И я не позволю помешать ему!
— Что за ерунда? — нахмурился рыцарь.
— Дружаня, с чего ты решил, что у тебя получится? — расплылся в улыбке кривоносый.
— В память о том добре, которое некогда вы сделали Федюне, я готов освободить вас. Ступайте на все четыре стороны, но больше никогда не приближайтесь к Спасителю!
— Не по твоей воле мы сюда пришли и уж, конечно же, не по твоей воле уйдем, — отрезал Камдил.
— Вот как? — Гарри набычился и оглянулся на ждущих приказа стражников. — А вы, идите к стенам, я отпускаю их! А вы двое — забирайте коней, оружие и проваливайте. Но теперь, если приблизитесь к Федюне, ко мне или даже к лагерю — я велю стрелять по вам как по врагу, идущему в атаку. И даст бог, валлийские стрелы по-прежнему не будут знать промаха!
— Очень страшно! — улыбнулся Лис. — Сейчас прозеваюсь и начну дрожать мелкой дрожью.
— Эй, вы слышали приказ?! — Гарри вновь повернулся к стражникам. — Пусть каждый в отряде узнает о нем. Если кто-то, увидев этих двоих, попытается вспомнить о милосердии, я лично раскрою ему голову.
Со стороны замка послышались крики и звук рога.
— Прощайте и молите бога, чтобы нам больше не встретиться!
Высокая, довольно узкая насыпь драконьим хвостом тянулась от холма, на котором высился замок, до лежащего в низине поселка. По гребню ее была проложена дорога. Тележка, запряженная парой лошадей, едва-едва могла проехать по ней, да и то очень неспешно. У замковой стены, вернее, в нескольких ярдах от нее, насыпь заканчивалась, срываясь в глубокий ров. Если приближался свой, из башни опускали мост, миновав который, путник еще несколько десятков ярдов двигался мимо стены до самых ворот.
Сейчас мост был поднят, за ним корчились шестеро человек.
— Что произошло? — подбегая к лучникам, столпившимся у насыпи, спросил Гарри.
— Как и было велено, — ответил ему командир ополченцев, — люди пошли к замку требовать сдачи. Старая госпожа приказала челяди пропустить их, вывернуть на головы несчастных чан с кипятком, а затем бросать камни.
— Ах так?! — Гарри побагровел. — Снимите ворота у вашего городка и тащите их сюда! Они заменят нам мост. Несите все щиты, какие только есть в общине! И двери — они нам сегодня пригодятся здесь… И подожгите дом.
— Какой? — бледнея, спросил ополченец.
— Все равно какой. Лучше, если он будет принадлежать кому-то из старухиной челяди. Главное — чтобы им было видно, как он горит.
— Но если пламя вдруг перекинется…
— Сделайте так, чтоб не перекинулось. И быстро! — Гарри поглядел на замковые стены: не то чтобы те были хорошо укреплены, но штурмовать даже несколькими сотнями столь неумелых вояк их можно было до второго пришествия.
«Впрочем, — Гарри усмехнулся сам себе, — вот оно, кажется, и настало. В замке старая леди, немного лучников и вооруженный сброд — тоже не ахти какой гарнизон. Сейчас не надо лезть на стены и выбивать тараном ворота. Нужно заставить обороняющихся содрогнуться от ужаса».
— Лучники! — скомандовал он. — Стреляйте во все, что движется на стене! Даром стрел не тратьте, но и не медлите! Никто не должен высунуться безнаказанно!
— Да, сэр!
— Горит, горит! — послышалось внизу. — Дом горит!
— Замечательно… Эй, — закричал Гарри, — вы видите, чей это дом? Угадайте, те, кто жил в нем, вышли или так и остались внутри?
За каменным парапетом послышался чей-то вскрик, ропот, перебранка, глухие удары, и спустя несколько мгновений тяжелый мост начал опускаться, соединяя насыпь с замковым холмом.
— Так-то лучше…
Еще несколько минут, и окованные железом ворота отворились.
— Мы с вами, — кричали, потрясая луками, толпящиеся под арочным сводом люди в кожаных дублетах.
— Приятель, — Гарри нашел взглядом одного из собратьев по нищенскому цеху, — сообщи Федюне, что замок наш. Я пойду вперед — проверю, чтобы не было засады. Если все тихо, то жду его здесь.
Снизу донеслись радостные крики, среди которых возглас чуда оказался самым громким.
— Что такое? — обернулся Гарри.
— Дом погас, — ответили ему оттуда.
— Сам?
— Нет, из общинного колодца вырвалась струя воды и окатила дом с такой силой, что сбила пламя!
— Федюня… — с нежностью пробормотал военачальник.
Во дворе замка на коленях стояли семеро защитников, сложив перед собой луки, колчаны, короткие широкие мечи. За ними — крепко связанные люди совсем уже невоенного вида, с недвусмысленными следами рукоприкладства на лицах. Среди пленников особо выделялась пожилая костистая леди с лицом холодно-суровым и взглядом, поднятым к небу — должно быть, в поисках справедливости.
— Это старая госпожа, — пояснил Гарри командир лучников.
— Встаньте! — приказал Гарри. — Тем из вас, кто пожелает служить пресветлому Спасителю Федюне, я оставлю жизнь, верну оружие и назову братом. Ко всем же прочим я не буду знать пощады!
Защитники замка, вскочив с колен, радостно схватились за оставленное снаряжение.
— Вы уже видели могущество Федюни — знайте, что может он карать и миловать! Сейчас вы будете приведены к клятве, и горе тому, кто посмеет нарушить ее. Теперь ты. — Победитель не спеша подошел к пожилой леди. — Желаешь ли сохранить жизнь?
— Мерзкая тварь! — процедила тетка хозяина замка. — Я желаю сохранить жизнь до того светлого мига, когда смогу добраться до меча, секиры или другого оружия, чтобы раскроить твою разбойничью голову! А заодно и голову твоего Федьюни.
— У тебя не будет такой возможности. — Гарри положил руку на эфес меча.
— Нет, нет, остановись! — зазвенел в воротах мальчишеский голос.
Глава 13
Женщина — слабое и беззащитное существо, от которого невозможно спастись.
АдамНикотея обвела замковый двор недовольным взглядом. Стража на боевых галереях, заметив молодую хозяйку, радостно приветствовала ее — такую юную и такую очаровательную.
— Гринрой, — она повернулась к бывшему оруженосцу герцога Швабского, — скажи, отчего здесь при резиденциях даже герцогов и королей не принято разбивать сады?
— Это просто, ваша светлость. Мы, алеманны, народ суровый и воинственный, осады наших замков бывают столь же часто, сколь в других местах — празднества. Скажу больше — для многих это и есть празднества… Садовые деревья попросту не успевают вырасти, так что приходится довольствоваться огородами, ибо для осажденных овощи полезнее фруктов.
— Но сад — не только плоды. Это тень, красота и место отдохновения души.
— У нас полагают, что церковь — место отдохновения души.
Никотея недоуменно посмотрела на язвительную физиономию собеседника.
— И все же я велю разбить здесь сад. А если Господь будет милостив и Конрад увенчается императорской короной, то сады должны будут цвести по всех резиденциях!
— Вряд ли это понравится здешнему люду.
Глаза Никотеи вспыхнули.
— Это должно ему понравиться! Поскольку разбивать сады придется и ухаживать за ними тоже, что бы местные жители о том ни думали. А согласись, Йоган, куда приятнее делать то, что нравится, чем то, что не нравится.
— Очень верно подмечено, моя госпожа. — Рыцарь Надкушенного Яблока приподнял брови. — Должно быть, кони просто обожают плети, шпоры… Жаль, они ничего не могут рассказать о том.
— Ты что же, решил мне перечить? — Никотея подняла на собеседника удивленный взгляд.
— Вовсе нет, просто я загнал коня, спеша к вам с докладом, и теперь вот думаю, насколько счастлив был мой конек мчать без остановки несколько часов кряду.
Герцогиня внимательно посмотрела на Гринроя — далеко не всегда можно было понять, когда он серьезен, а когда откровенно морочит голову.
— Произошло что-то важное?
— В мире то и дело происходит что-то важное. Один только вопрос — для кого? Мой дядя — славный богослов и благочестивый слуга вашего высочества говорил: «Мир наш — лишь слезинка на щеке Господней».
— Гринрой, я сделала твоего родственника викарием архиепископа Кельнского и отправила его в Рим совсем не для того, чтобы он оттачивал свой ум в изящной словесности, хотя и поговаривают, что Папа Гонорий неравнодушен к поэтам и ораторам. Но будущему архиепископу следует помнить о своей далекой родине, а уж тем паче о тех, чью руку он держит. Если, конечно, желает достичь славы и успеха.
— Поверьте, моя герцогиня, дядя не забывает об этом ни на миг, да и как можно не думать об успехе, глядя на Его Святейшество… Плох тот аббат, который не желает стать кардиналом. Я и спешил к вам с новостями.
— Ну же, я слушаю.
— Есть хорошие новости, есть — не очень хорошие.
— Начни с плохих. Капля дегтя может испортить бочку меда, но даже малая радость дорога нам в часы печали.
— Хорошо. Как сообщает благочестивый Эрманн, ваш супруг и мой господин в день, когда соберутся на великой курии[39] славнейшие и знатнейшие князья-электоры, столкнется с опасным заговором.
— Очень интересно. И кто заговорщики?
— В первую очередь — герцог Лотарь Саксонский. Дядя пишет, что люди герцога прощупывали возможность поддержки святым престолом кандидатуры саксонца. По сути, все это лишь краешек хитрой игры тех, кто не желает воцарения Гогенштауфенов: мне от надежного человека известно — Лотарь не сегодня-завтра выдаст дочь за Генриха Льва. Они тянут до выборов государя, чтобы никто не догадался об их союзе. После смерти императора Генриха вашему мужу — как его ближайшему родственнику — досталось большинство земель покойного. Многие из них государь и его венценосный папаша, да не затупятся вилы, которыми черти тычут его в бок, попросту откусили у соседей. Понятное дело, прежние хозяева желают вернуть себе утерянные владения и, как мне представляется, не без основания полагают, что если Конрад сядет на трон, то получат они хвост от дохлой клячи, а не замки и угодья. Недовольных много, большинство из них видят своим предводителем Генриха Льва, о котором мы прежде уже говорили. Но Генрих яростен и жесток, этим он пугает многих колеблющихся. Не считаться с этим — значит, потерять голоса, а Лотарь представляется им куда более приемлемой фигурой. Можно подумать: что Лев загоняет добычу для своего будущего тестя. Но следует помнить, если на трон сядет герцог Саксонский, править будет герцог Баварский.
— Действительно, плохая новость.
— Но это еще не все, — обнадежил Гринрой. — Лотарь не нашел особой поддержки в Риме. Мой дядя обставил дело так, что саксонские послы выглядели грубыми мужланами, а Папа Гонорий очень этого не любит.
— Вот и прекрасно, — улыбнулась Никотея.
— Однако и это не все. Как пишет преподобный Эрманн, Лотарь велел своим людям, если те не достигнут успеха в Риме, найти возможность наладить отношения с Бернаром, аббатом Клерво. Вы сами могли убедиться, что имя этого святоши в христианском мире порою значит куда больше, чем имя Папы — оно в мгновение ока породило армию взбесившейся голытьбы, опустошившую Южную Англию и вторгшуюся в Уэльс.
— Я помню. Эта война погубила короля Генриха Боклерка и едва не стоила жизни мне самой.
— Именно так, моя госпожа, именно так, — поклонился Гринрой, небезосновательно полагая, что воспоминания о недавних временах пребывания в Англии заставят герцогиню еще раз вспомнить и о его заслугах. — Увы, дяде неведомо, что посланцы Лотаря намерены обещать Бернару Клервосскому. Мы можем предположить, что в обмен на поддержку французу будет оказана не меньшая помощь в овладении Римом.
— Не меньшая?
— Король Людовик, поговаривают, уже предлагал Бернару епископский посох, но тщетно.
— Если все обстоит так, как ты говоришь, это скверно. Но как на поле боя не может быть, чтобы все отряды и военачальники были равны по силе и храбрости, так и здесь следует найти слабейшего, обрушиться на него всей мощью и сокрушить весь строй.
— И кто же будет этим несчастным?
— Ты что-то говорил о дочери Лотаря, которую он намерен выдать за Генриха Льва.
— Адельгейда.[40] В наших краях она считается очень милой и прелестной девушкой.
— Тогда, должно быть, здесь и находится слабое звено цепи. Разузнай мне о ней как можно больше!
— Непременно, моя госпожа.
— Это все новости?
— Ну, если вам не угодно слышать приятные вести, то все.
Никотея с укором поглядела на почтительного насмешника:
— Рассказывай, я жду.
— По дороге сюда я обогнал у городских ворот отряд под знаменем с необычным двуглавым орлом: у него между шеями нечто вроде оплывшего косого креста.
— Гаврас, — коротко произнесла Никотея.
— Вот и он так сказал. Еще он просил сообщить, что как только приведет себя в порядок с дороги, будет рад лично приветствовать вас. А один из сопровождавших его вельмож вызвался тут же доставить его послание и дары вашей светлости и моему господину.
— Где же он?
— Ожидает, когда вы соблаговолите уделить ему несколько минут. Это некий синьор Анджело Майорано, барон ди Гуеско.
— Анджело Майорано и дары — что за нелепость?! Если он еще там, где ты оставил, веди его скорей сюда!
— О! — глядя на реакцию герцогини, усмехнулся Гринрой. — Судя по вашему взгляду, это достойный человек. Правда, не совсем понятно, чего достойный. Но это другой вопрос.
Король Людовик не скрывал досады: еще несколько дней назад казалось, что мечта всей его жизни — объединить франкские земли, дать им покой, мир и порядок — близка, как никогда. Присоединение Нормандии вырывало зубы у всевозможных мелкотравчатых баронов, которые за ломоть со стола Боклерка готовы были не покладая рук воевать со своим законным сюзереном. Вчера один за другим шли они на поклон к христианнейшему королю; сейчас же все грозило обрушиться, как стены песочной крепости, что возводят мальчишки на речном берегу.
В Нормандии могущественный род Вальмонов без удержу сеет злую смуту среди и без того нестойких дворян, в Бретани только и ждут случая примкнуть к мятежным нормандцам, герцог Аквитании делает вид, что запамятовал, будто во Франции есть король. Намедни вот гонец из Шампани привез настораживающее сообщение о том, что граф Тибо в разговорах с приближенными вещает о некой Великой империи Святого духа, которая объединит христианский мир, сотрет границы королевств и сделает юдоль земной печали подобием райских кущей…
Верный человек сообщал королю, что будто бы владетель Шампани готов был принести вассальную присягу Бернару из Клерво. Это уже было изменой — прямой и неприкрытой изменой. Действовать следовало быстро и решительно: войти в Шампань, захватить укрепленные замки, вырубить цветущие виноградники, заставить Тибо смиренно, на коленях, просить о милости… Но делать этого не хотелось. Людовик, задыхаясь, поднялся из-за стола, заваленного пергаментами, и почувствовал почти непреодолимую тяжесть во всем теле.
«Я становлюсь грузен даже сам для себя, — с тоскою подумал он. — Духу становится не под силу таскать этакую гору плоти». Король со всей неотвратимостью понял, что слишком устал, чтобы мчать в Шампань, громить войска и захватывать замки. Что при одной мысли о необходимости влезть в седло у него начинают болеть ноги, ломит поясницу и дрожат руки, словно он самолично употребил все молодое вино, полученное на тамошних виноградниках. «Это старость, — с холодным равнодушием вдруг осознал Людовик. — Как рано она пришла… Теперь все, кого я гонял и давил столько лет, соберутся и разорвут меня, как стая шакалов. Следует уступить трон сыну, но молодой Людовик слишком юн, чтобы править. Может, сделать его соправителем, как это водится в ромейских землях?»
Король еще раз оглянулся на пергаменты, ровным слоем застилавшие широкую столешницу. «Как там было в поэме… „Жил на свете один рыцарь, который был настолько сведущ в грамоте, что мог читать книги…“ Мысль сама по себе неплохая. Покуда я жив, младший Людовик может кое-чему научиться. Но опыт ромеев учит, что соправители порою не намерены дожидаться, когда тот, кто их возвысил, естественным образом отправится на встречу с Господом. Как же все-таки быстро подступила старость… Как быстро… Людовик — худосочный мальчишка. Какой из него правитель? Надо им заняться всерьез, в первую очередь — женить. У герцога Аквитании есть красавица-дочь. Она, правда, совсем мала, но какое это имеет значение? Главное — заручиться поддержкой аквитанцев, тогда и с прочими справиться будет куда легче. Прелестная Элеонора — любимое чадо своего отца и, как сказывают, самая богатая наследница не только во Франции, но и, пожалуй, во всей Европе. Она будет хорошей женой моему сыну. Надо отправиться в Аквитанию. Но прежде необходимо привести к покорности Нормандию. И Шампань, — подсказал он сам себе, — а там, как знать… будет ли еще время?»
Аббат Сугерий вошел в кабинет Людовика Толстого неслышно, без доклада, впрочем, как и обычно. Король с завистью поглядел на духовного отца: тот был старше короля, но, казалось, годы обтекают его, точно вода Сены — каменное сердце Парижа, остров Ситэ, — унося все лишнее и не причиняя вреда несокрушимому кораблю острова.[41] Шаг Сугерия по-прежнему был энергичен, глаза смотрели молодо и властно.
— Вы уже слышали новость о Тибо Шампанском, сын мой? — с порога спросил он.
— Да, — опираясь на стол, кивнул Людовик. — С этим надо покончить, иначе не пройдет и года, как все — от владетельных герцогов до последнего шателена, засевшего в полуразвалившейся башне, — присягнут на верность Господу своими землями. На деле кто из них станет всерьез слушать какого-то выскочку из Клерво, пусть даже он утверждает, что его устами говорит сам Господь?
— Если станут, в чем лично у меня сомнений нет, это гибель Франции, а за ней — и прочего христианского миропорядка. Но как мне сообщили, Папа Гонорий благосклонно выслушал нашу просьбу, и посланный им визитатор должен наконец укротить выжившего из ума аббата.
Людовик с почтительным удивлением поглядел на духовного отца. В эту минуту настоятель Сен-Дени был куда больше королем, чем он сам.
— У меня есть еще новости, — продолжал Сугерий, — и они, увы, так же нерадостны. Старый герцог Анжу при смерти. Он и прежде был слаб здоровьем, раны и тяготы дальних походов совсем подкосили его. Теперь же, когда он узнал об исчезновении сына, его разбил удар.
— Н-да, — вздохнул государь, — нет того дуба, который не могла бы расколоть молния. Знать бы, где этот чертов мальчишка! Жив он хоть или нет.
Доктор критически осмотрел лежащего перед ним юношу — тот был очень молод и весьма хорош собой, но сейчас метался в бреду, не приходя в сознание. Как подсказывал лекарю долгий опыт, недалек был день, когда этому красавчику суждено отойти в мир иной. Сами по себе раны его пациента казались не слишком опасными, хотя и малоприятными. Но то ли наконечники стрел по валлийскому обычаю перед выстрелом были воткнуты в землю, то ли цирюльник, вырезавший их, не потрудился прокалить инструмент — плечо юноши опухло, и жар свидетельствовал о нешуточном воспалении. Свои мысли лекарь не высказывал вслух — ему, лицу духовному, негоже было сомневаться в милости Божьей. Рассказывали, что по ту сторону Английского канала Пречистая Дева, смилостивилась над одноногим калекой и в ответ на искренние молитвы вырастила несчастному другую ногу.
— Под какой звездой родился бедный юноша? — глядя на добрую королеву Матильду, поинтересовался эскулап.
— Я ничего не знаю об этом.
— Прескверно. Это очень затрудняет лечение. Конечно, я сделаю все, что в человеческих силах, но извольте понять — если ход светил неминуемо сулит гибель несчастному, то все мое искусство не в силах изменить божественной воли небес. Ибо в звездной азбуке Господь являет свой замысел. Эти письмена — великая книга, открытая для истинно верующих, — лекарь воздел указующий перст. — Пока же могу сказать одно — рану следует обработать вином, смешанным с уксусом, и ежели она продолжит нарывать, то вскрыть ее, дабы выпустить гной. Войди стрелы чуть в стороне, можно было бы попросту отнять руку…
Матильда в белом одеянии послушницы внимала речам ученого лекаря, внутренне ужасаясь судьбе, уготованной юному пленнику. «Как жаль, — думалось ей, — что мой спаситель Андреа Сальваторе — личный медик Роже Сицилийского — пожелал так скоро покинуть нас. Вот настоящий лекарь! Воистину, Божья милость простирается над Солернской школой куда сильнее, нежели над всякой иной!»
Предложение отрезать руку Фульку Анжуйскому заставило ее вздрогнуть от невольной жалости: «Он так молод, так хорош собой…»
— Впрочем, в нашем случае даже это не поможет. Остается лишь уповать на чудо, а лучше пригласить священника, дабы бедняга мог исповедаться напоследок, — последователь святого Галена[42] развел руками. — Dixi.
«Андреа Сальваторе никогда бы так не поступил. Он бегал, ругался, поминал всуе имя божье, колотил палкой тех, кто подворачивался под руку, но я воочию узрела, как врата чистилища захлопнулись в тот миг, когда нога моя уже была занесена над его порогом. Он спас и меня, и эту персиянку с нелепым именем Мафраз. А уж ей-то наверняка не могли помочь ни святые, ни утешения души Божьим словом…» — Матильда вспомнила черноокую девушку с волосами цвета восточной ночи, с тонким станом, высокой грудью и округлыми бедрами. Стыдливость, казалось, не была присуща этой жаркой, как самум, дочери Персии. Все то, что любая христианская девушка считала должным скрыть от чужих взглядов, сознавая греховность плоти и пагубность ее искушений, у Мафраз было подчеркнуто, и, пожалуй, не будь в Британии дождей и холодных ветров, все одеяние ее свелось бы к полупрозрачной шелковой накидке и шальварам.
Однако, как выяснилось, не только полным бесстыдством оказалась славна Мафраз — едва поднявшись на ноги, она стала не щадя себя помогать доктору Сальваторе, у которого после сражения короля Гарольда с армией Бернара Клервосского появилось много работы.
Познания Мафраз в травяных настойках и отварах поразили самого доктора Андреа. Он вел с ней долгие беседы на греческом и, уезжая, хотел забрать с собой, и увез бы, когда б Мстислав не воспротивился освобождению злодейской отравительницы. Немалого труда стоило Матильде сохранить ей жизнь и поселить с относительными удобствами в башне Тауэра.
— Мафраз, — почти беззвучно прошептала королева, — если кто-то и в силах излечить бедного мальчика, то именно она.
Матильда тихо, стараясь не потревожить заснувшего от маковой настойки графа Анжу, вышла за дверь, где ожидал, угрюмо щурясь, ее суженый.
— Как там анжуец?
— Очень плох.
— Ну, стало быть, судьба его такая. — Король Гарольд III махнул рукой. — Что уж тут скажешь. Кому суждено быть повешенным, не утонет.
При этих словах Матильда вспомнила короткое судилище на берегу и качающиеся на ветвях тела пиратов. Воспоминание это вызвало у нее приступ дурноты. Королева сдержалась из последних сил.
— Он борется, — негромко, но с нажимом возразила она. — Кто сражается, тот не побежден. Ему следует помочь.
— Так уж коли ученый лекарь его излечить не в силах, то кто ж тогда?
— Персиянка Мафраз.
— Да чур тебя, она ж злодейка и душегубка!
— И все же — только она.
Гарольд III упер в нареченную тяжелый взгляд:
— Хорошо. Будь по-твоему. Но когда уж не вылечит она его, не сносить ей головы.
— А если вылечит графа Анжуйского?
— Твоя забава — ты и решай, — отрезал Мономашич.
— Если вылечит, я дарую ей свободу.
Гарольд недоуменно окинул взором дочь яростного Генриха Боклерка и пожал плечами.
Тронная зала герцогского дворца, казалось, по самому устройству, по самому замыслу не могла быть светлой: толстые стены, прорезанные узкими окнами-бойницами, зимой не пробирал мороз, но и согреть их огнем горевшего камина было невозможно.
Замершие в ожидании команды стражники время от времени морщились от постоянных сквозняков, но стояли, не шелохнувшись, подобно статуям, своим видом демонстрируя входящим грозную мощь хозяина замка.
Никотея сидела на троне — одном из двух — более низком, предназначенном для государыни, кутаясь в подбитую горностаем алую накидку. Уже несколько дней она ждала прибытия старого знакомца и дальнего родича и все не могла представить, что скажет ему.
Появление дерзкого мерзавца Анджело Майорано в качестве глашатая славного дуки Феодоро окончательно выбило ее из колеи. «Конечно, — думала она, — и тот и другой остались на берегу Светлояр-озера. Если Майорано не соврал насчет корабля, изъятого Бюро варваров, то путь в Херсонес они, вероятно, проделали вместе. И все-таки, что может быть общего между благороднейшим Симеоном Гаврасом и отвратительным разбойником Анджело Майорано?» Этого Никотея, как ни силилась, не могла взять в толк.
Майорано вошел в залу с подчеркнутой учтивостью, отрекомендовался неведомо откуда взятым титулом, преподнес дары, улыбаясь столь радостно, что мнилось, будто именно он устроил посольство в далекую Алеманнию только для того, чтобы увидеть прекрасную севасту. Его улыбки не могли обмануть Никотею. Она внимала посланцу с холодным достоинством и только однажды, и то невольно, удостоила вчерашнего пирата пристальным взглядом.
Описывая несказанную красоту Никотеи, еще более расцветшую с тех пор, как севаста превратилась в герцогиню Швабскую, Майорано начал, восхищенно закатив глаза:
— …или, как говорят у вас на родине… — остальная часть фразы прозвучала по-ромейски, — сударыня, есть то, что я должен сказать вам по секрету. И как можно скорее. Поверьте, это очень важно.
Закончив фразу, он по-сарацински причмокнул губами и сложил ладони перед грудью, выражая свое восхищение. Никотея едва взглянула на него, но и этого хватило, чтобы они поняли друг друга.
«Он мерзавец, опаснейший убийца, но может быть полезен… как мерзавец».
«Она достаточно умна, чтобы понимать, что меня лучше держать при себе или сразу казнить. Но казнить не получится — добряк Гаврас непременно возьмет меня под защиту. А значит, следует как можно скорее доказать свою необходимость коварной девчонке. Можно биться об заклад, что севаста отнюдь не собирается довольствоваться выпавшей ей участью — наверняка она желает видеть мужа императором. А если так, то ей понравится мысль стравить Папу с королем Франции и под шумок заручиться поддержкой Его Святейшества… Даже не поддержкой. При хорошем повороте событий его можно прибрать к рукам, приручить, точно собаку».
Прелестная ромейка выслушала предложения Майорано в гордом молчании и чуть заметно кивнула, отпуская посланца восвояси. Просьба пирата об организации тайной встречи не шла у нее из головы. Теперь, обдумывая, кого и кому нынче желает продать новоявленный барон ди Гуеско, Никотея с нетерпением ожидала прихода Гавраса.
Он вошел, блистая вызолоченной константинопольской броней, покрытой длинным пурпурным, с золотой каймой, плащом, и заговорил с Никотеей на языке родины с тем неподражаемым родным произношением, которого никогда не освоить самому усердному чужестранцу. У герцогини от его голоса сладко заныло сердце. Только сейчас она вдруг ощутила, как соскучилась по сладкозвучному языку Родины.
Никотея не вслушивалась в слова традиционного приветствия, и без того с малолетства зная все, что посланец василевса должен произнести в подобном случае. Она смотрела на Гавраса, признаваясь себе, что тот, пожалуй, был единственным мужчиной, нравившимся ей когда-либо. Впрочем, его она тоже не любила, да и вообще часто думала, способна ли испытывать то чувство, о котором так сладостно рассказывала верная Мафраз. Но вид Симеона Гавраса — всегда прямого, точно кипарис, с горящим взглядом и движениями, полными силы и энергии, — неизменно радовал ее. Порой Никотея удивлялась его прямодушию, недоумевая, как среди ромеев мог вырасти знатный вельможа, столь мало подходящий к роли царедворца.
— …и потому ваш августейший дядя, славнейший василевс ромеев, Иоанн Комнин шлет свои поздравления и изъявления родственной любви и преданности…
Никотея не сводила с Гавраса глаз. По лицу Симеона было ясно видно, что он желает говорить о чем-то более серьезном, но вид замерших у стен грозных стражей заставляет его утаивать главное.
— Говори свободно, — точно отвечая на приветствие, сказала герцогиня. — Кроме нас с тобой никто в этом зале не говорит по-ромейски.
На губах херсонита появилась невольная улыбка:
— Василевс послал меня, желая помочь.
— В чем?
— Он полагает, что ромейской севасте, племяннице василевса пристало быть женой императора, а не герцога алеманнов. И потому он велел мне отправиться сюда, дабы всем, что только возможно, помочь тебе…
— Чем?
— Золотом, булатом, советом…
Никотея едва сдержалась, чтоб не рассмеяться: ее многомудрый родственник, похоже, желал свить веревку, на которой его должны были повести за триумфальной колесницей императорской четы правителей Запада и Востока.
— Я почту за честь воспользоваться помощью блистательного Иоанна Комнина, — мягко склоняя голову, произнесла герцогиня. — Но я хочу спросить тебя не как посланца василевса, не как наследника Херсонеса и Феодоро, а как родственника и друга, с которым мы прошли бок о бок столько русских верст: неужели же ты приехал сюда только по велению моего дяди? И только затем, чтобы помочь мне стать императрицей? — Она устремила на Гавраса пристальный взгляд, в других случаях казавшийся ласковым и нежным. Но теперь херсониту почудилось, что взгляд Никотеи, точно кожаный аркан, которым стремительные аланы ловят диких коней, не отпускает и держит его, не давая отвести глаза и требуя прямого ответа.
Симеон Гаврас еще раз посмотрел на стражу: «Сейчас или никогда… Сейчас!»
— Я прошел через моря, леса и горы, поминутно рискуя жизнью, моля Господа приблизить миг встречи, чтобы вновь увидеть тебя. Я просил его, как никогда и ни о чем не смел просить, зная, что встреча убьет меня. Ибо быть рядом с тобой и знать, что ты — жена другого, для меня несносно. Лучше погибнуть в морской пучине, нежели жить, каждый день говоря себе, что ты принадлежишь какому-то полудикому варвару!
— Это не так. Я не принадлежу никому, уж во всяком случае, никому из людей. Конрад стал моим супругом, потому что в чужом краю мне нужны были защита и опора. Если б я укрылась от дикого зверя за дверью охотничьего домика, разве стала бы принадлежать двери? Дядя прислал мне помощь — очень любезно с его стороны. Однако, то ли по глупости, то ли желая разорвать мне сердце, он послал сюда именно тебя, — сказала Никотея с благосклонной улыбкой, будто отвечая на обычный вопрос. — Не скрою, мне проще было бы говорить, если бы на твоем месте стоял любой другой из вельмож константинопольского двора. С тобой я скорее хотела бы сидеть вот так, как я сижу сейчас — на троне. Но не в Аахене, а в граде святого Константина. Все мы лишь игрушки слепца по имени Случай, и потому, как ни горестно, я вынуждена обнажить меч, который прислал Иоанн Комнин.
— Приказывай, — еле сдерживаясь от накативших чувств, тихо сказал Гаврас. — Я исполню все.
— Ты должен жениться.
— Жениться?
— Да.
— На ком же? Да и зачем?
— На очаровательной девушке. Во всяком случае, здесь она считается очаровательной. Ее зовут Адельгейда — единственная дочь герцога Саксонского.
— Но…
— …и невеста герцога Баварии Генриха Льва.
Глава 14
В чужестранных землях держите глаза и уши открытыми, если не хотите их лишиться.
Джеймс КукКрик ужаса с замковой стены заставил Камдила и Лиса отвлечься от составления плана изъятия юного «мессии» из вражеского лагеря. Крик сменился воплем боли, а затем душераздирающими стонами.
— Шо они там вытворяют? — Лис приподнял ветку орешника, растущего у самой опушки леса, осторожно разглядывая из-под листьев отбитый у хозяев замок.
Между зубцами парапета на стене стоял несчастный со связанными руками. Затем толчок, новый отчаянный возглас и, как почудилось Сергею, далекий раскат хохота.
— Вот сволочи, — под нос процедил Вальдар, занимая позицию рядом с напарником.
— Как ветеран пугачевского движения ветерану пугачевского движения должен заметить, шо ваш местный бунт не менее бессмысленный и беспощадный, чем наш.
— Что поделаешь. Если покопаться в корнях древа европейской демократии, легко увидеть, каким навозом его удобряли все прошедшие века. Одно радует: судя по тому, что расправа из стадии хладнокровной мести переходит в разряд шоу, Федюнины головорезы уже добрались до винного погреба. Это весьма облегчает наш план. С наступлением сумерек в замок можно будет войти и выйти без особых проблем. Вы четверо, — он повернулся к ожидавшим приказа варягам, — ждете нас здесь. Если что, мы даем сигнал — устроите тарарам, чтобы в замке было не до нас. А мы с тобой…
— Все как всегда: прыгаем, взрываем, исчезаем, — усмехнулся Лис.
— Вроде того, — подытожил Камдил.
— Можно пару наших мальчиков сейчас послать в замок — мол, прониклись, решили верой и правдой…
— Не стоит, — покачал головой Камдил, — наверняка их сейчас не подпустят к Федюне, а с пьяных глаз могут и убить.
— Ну, это еще бабушка надвое сказала, кто кого, — возразил Сергей. — И когда говорила, сильно кашляла.
— И все-таки риск неоправданно высок.
Между тем стоны боли раздавались из глубины рва без умолку и на разные лады. Расстояние от боевой галереи до места падения было не столь велико, чтоб убиться, но поломать руки, ноги, а то и позвоночник — легче легкого.
Пожалуй, кроме институтских оперативников и, может быть, родичей тех, кому выпала печальная участь испытать себя на поприще экстремального воздухоплавания, эти крики не вызвали никакой реакции. Из укрытия было видно, как снуют вверх-вниз по насыпи груженные мешками повстанцы: от замка к селению мешки были больше, от селения к замку — гораздо меньше, но тоже в немалом количестве.
— Шо за народ, — глядя, как один из храбрецов-лучников пытается отбиться от дородной молодухи с тремя ребятишками, досадливо сплюнул Лис. — Как там было:
Анархист в сенях стащил Полушубок теткин. Ах, тому ль его учил Господин Кропоткин?Пока Лис комментировал увиденное, сражение разыгралось не на шутку. Немало подвыпивший вояка месил кулаком воздух, иногда попадая по кому-нибудь. В конце концов, ему удалось отмахаться. Прихватив добычу, он поспешил к воротам, но тут земное притяжение подействовало на него с неумолимой силой — лучник с разгона брякнулся на колени, постоял так, раскачиваясь, а затем, примостив награбленное поудобнее, завалился на бок.
— О, градус в крови растет, температура полного отмораживания мозгов, — со злым удовлетворением констатировал Лис.
— Тогда на исходные позиции. — Камдил указал в сторону палисада, окружавшего поселок. — Как начнет темнеть, там наверняка отыщется парочка добрых людей, желающих отдать нам свою одежду.
— Беркуты мои остроклювые, — Сергей повернулся к варягам, — я понимаю, что вам охота перекрошить этот гадючник в новогоднее оливье, но отложим удовольствие до следующего раза. Надеюсь, все все поняли? Если до полуночи не вернемся, начинайте крушить. Сигнал нашего возвращения — вот такая вот трель, — Лис поднес к губам пальцы и издал странно-переливчатый свист, — как услышите, готовьте коней. Все, с богом.
Лис поправил короткие мечи, составлявшие его основной арсенал ближнего боя, проверил, хорошо ли выходят стрелы из колчана, и, поудобнее взяв лук, заторопился вслед напарнику.
Они прошли уже более пятидесяти ярдов вдоль опушки, когда между кустов увидели юношу, идущего к ним навстречу.
— Это что еще такое? — Лис удивленно поглядел на собрата по оружию.
Всякий, кто знал Сергея, мог поручиться, что удивить его — задача не из простых. Однако неведомому юноше удалось не только это — он смог поразить и воображение обычно хладнокровного Камдила.
Златокудрый красавец в белоснежном, буквально светящемся одеянии двигался им навстречу, недвусмысленно игнорируя необходимость касаться земли. Деревья поднимали ветви пред ним, и кусты будто сторонились, чтоб не мешать его размеренному шагу.
— Куда идете вы, чужаки? — спросил он голосом одновременно ласковым и надменным.
— Вперед, — настороженно глядя на «первого встречного», отозвался Камдил.
— Ответствуйте без утайки, не гневите злокозненной ложью, ибо ведомы мне пути людских помыслов и нити судеб в деснице моей. — Он поднял руку и, чтобы окончательно и бесповоротно отбить у оперативников сомнения в своей похвальбе, расправил широкие крыла.
— Гламурненько. — Лис потянулся за стрелой.
— Несчастный! Или забыл, какой цели достигла твоя стрела, пущенная не в меня даже, но в того, кто был осенен знамением моим?
При этих словах у Вальдара заныло между лопаток.
— Внемлите мне, чужаки, ибо только милость моя побуждает говорить с вами. Когда отринете ее, гнев мой сотрет след имен ваших в памяти живущих.
— Не слабо, — не спуская глаз с ширококрылого вещателя, пробормотал Сергей.
— Чем обязаны? — начал Камдил, но слова его были заглушены речью ангела.
— Кого желаете спасти вы, несчастные? Мальчишку безродного или злокозненного врага рода человеческого, принявшего его облик? Зачем пришли вы из мест, коим нет названия меж сущих в этом мире? Знаю я, что польстились вы не на злато, не на власть, не греховные помыслы сбили вас с пути истинного — но хитрые речи брата моего, Андая. Оттого и пожелал я прежде говорить с вами. Помните: когда не склоните гордую выю пред ликом моим, то не сносить вам головы.
— А конкретней? — прервал его Камдил.
— Да ты че, Капитан? — остановил Вальдара Лис. — Пусть себе тарахтит — видишь, как его от этого прет? У нас в церкви поп вот точно так же…
Стоящее до того спокойно дерево-столеток вдруг рухнуло, едва не задавив оперативников.
— Убедительно, — разглядывая покачивающиеся примятые ветви, криво усмехнулся Камдил.
— Ведомо ли вам, — сдвинув брови к переносице, говорил ангел, — что тот, кому вы тщитесь помочь, лишь мнится человеком, на деле же он — змей-искуситель, обольститель сынов Адамовых?
— Ты уже говорил об этом, к чему повторяться?
— Чтобы лучше уразумели, какой обманный свет указывает вам дорогу. Чем прельщает вас речь Андаева? Тем ли, что обучил он знаниям и умениям живущих меж небом и землей? Но в какую бездну влекут эти знания и умения? Как зерна в борозду, силой того знания сеют человеки смерть вокруг себя, и все, что взошло под солнцем, что сотворено руками по воле Андаевой, таит дыхание смерти.
— Так уж и все? — усомнился Лис.
— Молчите, ибо в молчании смирение. Откройте душу для слов моих — в них свет истины.
— А нельзя как-нибудь попроще? — перебил Лис. — А то свет какой-то рассеянный.
Ангел на мгновение умолк, пораженный его дерзостью.
— Уважаемый, простите, не знаю, как вас зовут… Насколько я понимаю, вы желаете просветить нас по поводу бренности знаний, опасности навыков и тошнотворности человеческой жизни, — вступил Камдил. — Сказать честно, мы уже в курсе. Вероятно, — рыцарь критически посмотрел на ангела, — в противовес попытке человека освоить этот мир самостоятельно вы собираетесь приобщить людей к страху божьему, то есть заставить мир ждать чуда в каждом индивидуальном случае. Должно быть, упование на вашу милость дает вам чувство востребованности и внутренней правоты, но, по-хорошему, все это чушь.
— Не гневи меня, — возмутился наконец пришедший в себя ангел.
— Почему? Вы можете нас убить? Эка невидаль. Любой, кто пускает стрелы с тех башен, может сделать это не хуже вашего. А в загробном мире, — поверьте, я знаю, о чем говорю, — вовсе не так мрачно, как о том думают доверившиеся вам простаки. Так что давайте без красивостей и спецэффектов. Что вам нужно?
Ангел сложил крылья, пригасил сияние и начал с досадой в голосе:
— Андай, как и я, бессмертен. В вашем понимании. То, что Бернар Клервосский снес ему голову, не означает ровным счетом ничего. Мой братец так же легко меняет свой вид, как прочие змеи старую кожу. Он всегда обновляется, хотя при желании способен вернуться в отсеченную голову и начать разговаривать как ни в чем не бывало…
— Милое свойство. И весьма полезное, — хмыкнул Лис.
— Не перебивайте меня, — повысил голос ангел. — Вы сказали правильно — знания, которыми Андай потчует людей, пагубны, ибо души их грязны и несовершенны. Но как дети падки на сладости и способны забыть об истинно важном, так и дети Адама поглощают внешние знания, не заботясь о том, что находится внутри каждого… — он поглядел на Лиса, — я говорю о душе, а не о желудке.
— Уж и подумать нельзя, — усмехнулся Лис.
— Вы сами прекрасно знаете, к чему это может привести. Вы странствуете по мирам, точно рыцари Креста, не жалеющие своей жизни для отвоевания Святой Земли, и свершаете подвиги, желая спасти тех, кто вас об этом не просил. Вы поступаете так, будто лучше прочих знаете, что кому пойдет на пользу, а что нет. Мы делаем то же в нашем мире. Нашем, — подчеркнул ангел. — Это существенное отличие. А потому я хочу договориться с вами. Покуда в душе мальчишки ипостась Андая борется с его собственной, вы уведете его.
— Куда? — удивился Камдил.
— В свой мир. Конечно, Андай найдет способ вернуться, но нескоро. За это время мы успеем многое.
— Да уж, представляю, — скривился Лис.
— Не представляешь, но это и ни к чему. Запомните: вы уводите мальчишку, и, покуда не соберетесь обмануть меня, волос не упадет с вашей головы.
— А если нет? — решил уточнить Камдил.
Ангел надменно поднял брови и растаял в воздухе, а со стороны поваленного дерева тихо, шорохом листвы, донеслись слова:
— Помните о нитях судеб…
Весь день Федюня носился как угорелый, не зная отдыха и покоя. И в прежние годы ему доводилось видеть, как ведут себя захватчики в землях, взятых на копье, но тут иное дело: для многих опоенных дармовым вином мародеров городок был родным, да и никогда прежде бесчинства не устраивались его — Федюниным — именем.
Федюня что есть сил бегал между замком и селением, стараясь оградить от разбоя мирных жителей. Потеряв надежду самолично пресечь грабежи и насилие, он бросился к Гарри — единственному не потерявшему головы в пьяной вакханалии.
— Мой повелитель, — склонился перед ним вожак повстанцев, — твои слова мудры. Они истинны, как солнечный свет. Но будь же и снисходителен, как солнце, которому каждый день приходится взирать на человеческие мерзости. Эти люди по-своему добры и, главное, преданы тебе душой и телом…
— Но так же нельзя! Погляди, что они делают!
— Они всего лишь люди и еще не постигли всей глубины благости твоей. Их, как, впрочем, и отцов их, и дедов, грабили сотни лет. Теперь они возвращают отнятое — потому что сызмальства мечтали об этом. Ты дал им возможность испытать счастье от исполнения заветной мечты, и в благодарность за это счастье они пойдут за тобой до конца.
— Ужасно, мерзко…
— Ты, как всегда, прав. Но по сути, что тут происходит такого, чего не было прежде? Одним суждено умереть в постели, другим — болтаться на виселице, третьим — подавиться костью. Никто заранее не ведает, как преставится. А касательно грабежей — завтра первые же гулящие девки ограбят наших парней с неменьшей свирепостью. К чему тебе обращать внимание на житейские дела? Будь выше, как солнце выше той грязи, которую осушает своими лучами.
К Гарри подошел, слегка покачиваясь, командир лучников.
— Баллиста, что на донжоне, в полном порядке, — запинаясь, сказал он. — Хорошо бы пристрелять.
— Ступай в церковь да скажи этим чертовым клирикам, что если они не выдадут припрятанные серебряные дарохранительницы и светильники, я прикажу баллисту пристреливать по ним.
— Будет сделано, — мотнул головой лучник.
— Гарри, как ты можешь?! — поразился Кочедыжник.
— Тебе не о чем волноваться, — заверил предводитель мятежников. — Для чего, рассуди, святошам золото и серебро? Христос с учениками ходил по землям Палестины в убогом рубище и стоптанных сандалиях. Неужели эти толстомордые кликуши лучше его? А нам все это понадобится, ибо мир слова твоего не придет к людям без звона монет. Завтра же поутру я сам разберусь со всем, а нынче мы используем священное право — право победителя. Но если помешать этому — ты вмиг станешь таким же врагом, как местный лендлорд и его зловредная тетка.
Федюня махнул рукой и бросился вниз по насыпи, стараясь обогнать летящий ему в спину крик:
— Такова она — жизнь!
Он бежал, не чуя под собой ног, когда нос к носу столкнулся с мутноглазым верзилой, волокущим за шиворот престарелого священника.
— Нет! Не смей! — бросился на вояку Кочедыжник.
— Он золото где-то припрятал и молчит, скотина. Я ему — скажи, а он молчит.
Детина тряхнул седовласого причетника так, что у того тонзура, казалось, поднялась дыбом.
— Вот вздерну его, будет знать!
— Не смей! — завопил Федюня, вцепляясь в руку повстанца.
— Э, э, ты чего?
Мальчишка увидел, как взлетает над его головой тяжеленный кулак, закрыл глаза… и тут же почувствовал, что противника будто ветром сдуло.
— Федюня, дружок, ты цел? — раздался над его головой заботливо-насмешливый голос Лиса. — Не запылился?
— Да я!.. — Сбитый с ног верзила попытался вернуться в вертикальное положение.
— Лежи молча. Живее будешь, — из-за спины Кочедыжника холодно посоветовал Камдил.
Сбитый с ног вояка, подобно многим валлийцам, оказался завзятым упрямцем, к тому же не робкого десятка. Услышав назидательный тон незваного советчика, он вскочил, выхватывая из ножен длинный кинжал. И вновь рухнул наземь — с ярдовой стрелой между лопаток.
— Не фига себе раскладец! — выдохнул Лис, и в тот же миг стрелы вокруг посыпались густым дождем.
Те из мятежников, кого это «стихийное бедствие» застало вне стен замка, падали, как скошенные колосья.
— Отступаем! — скомандовал пришедший в себя от шока Федюня, хотя иного варианта спасения, похоже, не было: из леса к деревянному палисаду стремительно приближались одоспешенные всадники, лучники в буйволовых куртках шли за ними.
Повстанцы, оказавшиеся внизу, бросали оружие в надежде заслужить хоть какое-то снисхождение. Но улепетывавшей в замок троице повезло — стрелы как будто сторонились их. Наконец, запыхавшиеся беглецы влетели в калитку тяжелых дубовых ворот, и та немедленно была заперта на кованые засовы.
— Гарри сказал, что вы сбежали, — переводя дыхание, пролепетал Кочедыжник.
— Как же, сбежишь тут, — Лис положил на его плечо руку, — ничего, даст бог, прорвемся.
— Какое счастье — ты жив! — к воротам размашистым шагом несся Гарри. — Вы? — Он обвел негодующим взглядом недавних пленников. — Я же предупреждал вас!
— Мы как раз тоже хотели предупредить, — не задумываясь, парировал Лис.
— Чужаков мне здесь не надо, — хмуро буркнул Гарри. — Мы будем драться…
— Это мои друзья, — попробовал вступиться Федюня.
— Либо они будут выполнять приказы, либо чтоб я их тут не видел, — отрезал вожак мятежников.
— Сэр, — крикнули с донжона, — мы окружены!
— Тоже мне новость. — Гарри положил руку на эфес меча. — Лучники — на стену! Баллисту развернуть в сторону моста!
— Сэр, они что-то рассыпают вокруг замка!
— Что они рассыпают?
— Похоже на землю!
— Землю? — Камдил с Лисом переглянулись.
— Но… — Наблюдатель, вещавший с донжона, вдруг осекся. — Она горит! — завопил он. — Земля горит! Пламя идет к замку!!!
Ахалтекинские кобылицы мчались галопом, вздымая пыль и прибивая к земле горькую полынь.
— Посол, в знак дружбы прими в дар от меня этот табун.
Тонконогие лошади — буланые, гнедые — завораживали взор Ксаверия Амбидекса. Он прекрасно знал, сколько может стоить каждая из таких кобылиц в Константинополе.
— Поразмыслил я над твоими словами, — заложив пальцы за кушак, весомо продолжил Святослав, — выгоды взвесил и убытки… Дружба с василевсом мне весьма лестна. И когда порешим мы вовек отныне врагами не быть, то рад я буду принимать гостей цареградских[43] на брегах Русского моря.
Ксаверий Амбидекс сдержанно улыбнулся, стараясь упрятать поглубже обуревающую его радость. Он и прежде невысоко ставил умственные способности кесаря рутенов, ныне ж и вовсе убедился, что все, на что тот способен — это мчать на коне с мечом в руках впереди таких же, как он сам, грозных, но скудоумных вояк.
— Но хотелось бы мне взять в толк, — следя за бегом лошадей, словно между прочим продолжал Святослав, — как же могущественный мой родич, василевс Иоанн, намерен из Константинова града столь отдаленные земли в узде держать?
— У василевса имеются и более отдаленные земли…
— Может, оно и так, но о прочих владениях пусть иные заботятся. Мое дело — о дединах и отчинах печься, потому и спрашиваю. Ежели, скажем, в той крепости, что я дозволю рядом с Тьмутороканью поставить, вдруг злодеи лихие поселятся, на море озоровать начнут да лодии мои перехватывать — кто за то ответ держать будет?
— Сила василевса воистину безмерна, — гордо ответил Амбидекс. — Он не позволит дерзким пиратам нарушать морскую торговлю.
— Оно-то и так, да только ему и в своих землях не всегда удается порядок держать, а уж за морем — и подавно. Вон, немногие дни тому назад племянница самого василевса, преславная Никотея, чуть от рук пирата фряжского не погибла.
Посол сделал вид, что рассматривает проносившуюся мимо буланую лошадь.
— Вот я и думаю, — не смущаясь молчанием собеседника, гнул свою линию Святослав, — как же мне тогда быть? Войной идти — так ведь по уговору крепость та не ворожья, а друга моего, василевса ромейского. За море корабль слать — когда ж он дойдет, да и дойдет ли…
— И какие же мысли посетили светлую голову достославного Мономашича?
— Пусть ответчиком за ту крепость станет архонт Херсонеса — ему и ходу до места всего ничего, и мне, ежели что, с ним сноситься куда сподручнее.
Ксаверий Амбидекс уставился на Великого князя, на миг позабыв о драгоценном табуне. То, что как бы между прочим сейчас предлагал Святослав, превращало дипломатическую победу в полную нелепость. Посол досконально помнил указания Иоанна Аксуха, чье слово порою стоило больше, чем слово василевса, ибо едва ли не все, что говорил Иоанн Комнин, прежде было продумано его верным логофетом дрома.[44]«Контроль над озерами мидийского масла[45] нужен именно Константинополю. Если недалекому варвару, Святославу, еще можно внушить, что василевс собирается заниматься торговлей в этом глухом углу, то уж Гаврасам такое втолковать не удастся. А передать в руки архонта Херсонеса бесценный ингредиент всесокрушающего греческого огня…»
Ксаверий вызвал в памяти лицо архонта, принимавшего его в своем дворце несколько дней назад: «Да еще после того, как совсем недавно при очень странных обстоятельствах был убит младший сын железного Гавраса… Как бы потом не встречать под стенами вечного города этих самых руссов во главе с херсонитами. И может быть, уже с сифонофорными кораблями.[46] Вот и думай теперь, стоит ли воспротивиться княжескому хотению или же, наоборот, поддержать Гавраса, а там глядишь… Кто бы ни был императором — верные и знающие слуги ему всегда пригодятся».
— Труды, коими ты желаешь облечь архонта Херсонеса, велики и многообразны. Ни я, ни ты не в силах угадать, может ли Григорий Гаврас принять под руку свою еще и новую крепость, в отдалении от тех, что уже стоят под ним. Ведь тебе, славнейший Мономашич, лучше моего известно — земли близ Матрахи населены воинственными касогами и ясами.
— И славно, — расплылся в улыбке Святослав. — Я отпишу в Херсонес и попрошу архонта с войском прибыть к Тмуторокани. Ведь такова же воля друга моего — славнейшего василевса Иоанна?
— Но… — Амбидекс попробовал вставить слово, а Святослав уже искал взглядом старца Амвросия.
— Составь-ка мне, отче, цидулу о том, что здесь было сказано, да принеси в шатер, я ее собственноручно припечатаю.
Очи Мафраз, черные и жаркие, как июльская полночь Хорасана, блеснули радостным всполохом, точно далекая молния осветила сумеречный горизонт.
— Он открыл глаза — значит, будет жить, — прошептала персиянка и добавила, уже про себя: «Если будет на то воля Аллаха».
Гололицый клирик с выбритой макушкой внимательно следил за действиями пленницы. Ему, лекарю, известному своим благочестием, было крайне неприятно повеление королевы Матильды предоставить раненого графа Анжуйского не воле Божьей, а коварной магометанке. Тем более отравительнице, еще недавно желавшей отправить к праотцам самое государыню. Он бы с радостью объявил все действия Мафраз колдовством и дьявольскими кознями, но слово королевы, к тому же повторенное грозным сыном Гиты, не оставляло святому отцу выбора. Сейчас он мог лишь присматривать за тем, чтобы этот суккуб в человеческом облике, это обольстительное порождение бездны не околдовало несчастного юношу.
К удивлению клирика, персиянка совершенно не возражала против чтения молитв и осенения крестом принесенных ею трав. Но когда ученый лекарь решил погрузить в святую воду сушеные коренья, формой своей напоминавшие ему змея-искусителя, Мафраз решительно воспротивилась. Дело дошло до крика. Казалось, еще немного, и персидская ведьма превратится в дикую кошку и располосует ему лицо острыми когтями. В этом споре королева тоже встала на сторону хитрой ведьмы, чем повергла клирика в оторопь и глубокое недоумение. Он готов был поставить на кон свой авторитет ученого лекаря, заявляя, что злодейка Мафраз околдовала Матильду, возможно, короля и, уж конечно же, сейчас околдовывает графа Анжуйского. Однако как? Клирик глядел во все глаза и никак не мог узреть тех явных признаков колдовства, кои ему были ведомы.
— Не знает границ коварство врага рода человеческого, — бормотал он себе под нос. — Великий грех спасать бренную плоть бесовскими чарами, губя бессмертную душу.
Фульк Анжуйский открыл глаза и попробовал изогнуть в улыбке пересохшие губы. От девушки, склонившейся над ним, будто веяло страстью.
— Пить, — едва смог выговорить он.
Мафраз не поняла, что сказал предоставленный ее заботам красавчик, мускулистым телом напоминавший ей горного барса из предгорий Гиндукуша. Но она прекрасно знала свое дело. Она взяла со стола кубок с подогретым вином и сыпнула туда немного истертого в порошок субстрата.
— Что это? — хмурясь, спросил монах.
— Две драхмы корня аргимонии, — на довольно внятной латыни произнесла Мафраз. — К ране следует сейчас приложить растертый корень папоротника, а вот это выпить.
— Ты помнишь, что произойдет с тобой, если он умрет?
— Помню, — сверкнув глазами, коротко ответила Мафраз. — Эти снадобья помогут успокоить боль, которая мучает юношу. — Девушка поднесла кубок к губам Фулька, и тот начал пить жадно, как будто не пробовал в жизни ничего приятнее.
Мафраз поставила кубок и занялась новым лекарством.
— А это что? — снова встрял святой отец.
— Я уже говорила вам: это растение, именуемое у ромеев буглосса, а у вас — бычий язык.
«А у нас — порождением кошки», — подумала Мафраз, но не стала произносить вслух.
— Смешав смолотую траву с медом и хлебом, мы выпустили гной из его ран, а теперь отвар бычьего языка уймет лихорадку.
Дверь комнаты отворилась. В дворцовые покои, отведенные под импровизированный госпиталь, вошла королева в сопровождении придворных дам.
— Как он? — игнорируя присутствие священника, поинтересовалась Матильда у врачевательницы.
— Самое опасное позади, — склонилась в поклоне черноокая Мафраз. — Сознание вернулось к нему. Если будет на то воля… — она чуть замялась, — Господа, через несколько дней граф сможет встать. Сильный организм быстро идет на поправку.
— Когда это случится, ты получишь свободу.
— Я непрестанно молю о том Отца небесного, — заверила персиянка.
— Если желаешь, останься при мне. Никто не посмеет обидеть тебя.
— Мне лестны ваши слова, и я с радостью приму ваше предложение, но мое самое заветное желание — увидеть госпожу.
Глава 15
Остерегайся во тьме черного козла и худую свинью, да приятелей их неразлучных: волкопса и петуха задиристого. То ли к удаче они путь укажут, то ли в беду заведут.
Из наставлений пилигримамПламя с трубным ревом ползло вверх по холму.
— Интересно мне понять, отчего оно гудит, — поморщился Камдил.
— Бытовая алхимия. — Лис поглядел на высоченные огненные языки, приближающиеся к стенам. — С чего бы оно гореть вздумало? Экая хренотень получается…
Рыцарь утер пот со лба.
— Становится жарко. Послушай, но ведь они твою землю вокруг замка рассыпали — я сундук узнал.
— Я тоже узнал, — с нескрываемой досадой подтвердил его напарник. — И шо с того? Земля — обычней не бывает, не чета нашим черноземам. Откуда бы такой пламень страсти и дым отечества? — Он прикрыл лицо мокрой тряпкой. — Капитан, будут какие-нибудь деловые предложения по пожарно-аграрному вопросу?
— Есть одна мыслишка, — ответил Камдил, разглядывая склоны холма, — не то чтобы сильный ход, но по крайней мере хоть какой-то способ выбраться отсюда.
— Ну давай, блесни гением.
— Там, во дворе замка, множество бочек. Если набрать воды из колодца…
— Ты шо, хочешь залить пламя?
Камдил отрицательно покачал головой:
— Вряд ли это получится. Но если полить водой бочку, посадить внутрь мокрого человека, да скатить ее вниз по склону, то сквозь пламя можно проскочить довольно безболезненно.
Лис с сомнением поглядел на друга:
— Может, проскочим, а может, и нет. Шо-то я от такой игры в князя Гвидона не в восторге. Тем более даже если мы и прорвемся сквозь огонь, как пить дать, нам даже вылезти не удастся. В этих же бочках нас засмолят и отправят по морю по океану в царство славного Салтана. Так шо, дальше кипи мозгами. — Он вновь засмотрелся сквозь узкую щель в башне донжона на ползущую стену огня. — Слушай, мы с тобой — два унылых материалиста!
— Ты это к чему?
— Мы верим курсу физики, а не своим глазам.
— То есть?
— Скажи, куда летела стрела в тот момент, когда мы с Федюней здоровкались?
Камдил на мгновение задумался:
— В меня.
— А воткнулась в того убогого, который вдруг перекрыл линию выстрела. И потом, когда мы к воротам улепетывали, в нас тоже все никак попасть не могли. И это — валлийские-то лучники, никогда косорукостью не страдавшие.
— Хочешь сказать — все это обещанная нашим лесным знакомцем неуязвимость?
— Да к гадалке не ходить! Давай просто возьмем Федюню, он же ж тоже по Андаю — шо танк, откроем ворота и пойдем сквозь пламя, как по бульвару. Ты ж понимаешь, что огня из той земли не может быть — это навь, — он закашлялся и попытался рукою отогнать вползающий через бойницы дым, — хотя и очень убедительная.
— Наш лесной знакомец еще очень настоятельно просил его не обманывать. И не забывать о нитях судеб. Как бы эта навь не оказалась чересчур явной. А если…
Камдил улыбнулся собственной мысли.
— Федюня! — окликнул он мальчишку, не сводившего глаз с пламени. — Скажи, ты думаешь отсюда спасаться?
— К чему? Я говорю о жизни в согласии, об искоренении страха в себе, а они моим именем грабят и убивают. С того дня, как вышел я из вод озера, чувствую силу небывалую, а уж то, что знаю и умею, и высказать не могу. Но только все не к добру. К чему так жить?
— Федь, ты че, дымом обдышался? Так вроде конопля по склону не растет. Если ты тут сейчас поляжешь, народ такое насочиняет, шо ты будешь в гробу крутиться, как каплун на вертеле. Напортачил и все? Обидели мышку — написали в норку? Разруливать надо!
— Федюня, — перебил друга рыцарь, — когда твои люди брали этот замок, ты каким-то образом поднял воду из колодца и погасил горящий дом.
— Да, — кротко ответил мальчик, — там могли погибнуть люди…
— Здесь они тоже могут погибнуть, — заверил Лис.
— Погоди, — оборвал его Камдил, — ты можешь повторить это?
— Могу, — безучастно отозвался Кочедыжник. — А еще я чую вблизи подземный ход.
— Не, ну это нормально? — возмутился Лис.
— Сергей, не мешай… Ты уверен, что в замке есть подзем— ный ход?
— Конечно.
— Ты сможешь найти его и открыть?
— Да.
— Тогда мы поступим вот как…
Бернар Клервосский шел через монастырский двор. Шел, пожалуй, чересчур быстро. Вовсе не так, как подобало шествовать божьему пастырю, надежде христианского мира. Брат Россаль едва поспевал за ним. Попытка сохранять благочинность при ходьбе, напоминавшей бег, немало смущала его, но выбора не было.
— Эти люди стоят на коленях перед воротами обители и говорят, что не уйдут до той поры, покуда ваше преподобие не примет их.
— Но кто они? Откуда прибыли?
— Судя по гербам на коттах — это нормандские рыцари.
— Они сказали, что им нужно?
— Нет. Они требуют…
— Требуют? — переспросил Бернар.
— Во что бы то ни стало они желают видеть вас, — поправился брат Россаль.
— Что ж, кто бы ни были эти нормандцы, чего бы ни желали они, Господь моя защита. Только он, отвративший от меня злобу и стрелы врагов, истинно велик, и ему я поручаю жизнь свою. И пребудет воля его, яко на небеси, и на земле.
Аббат подошел к монастырским воротам, ударил посохом оземь, требуя открыть их.
— И да спасет меня Всевышний от гнева нормандцев, — прошептал он чуть слышно полузабытые слова древней молитвы.
Несколько десятков рыцарей, склонив головы, коленопреклоненно стояли перед монастырем в полном молчании. Чуть дальше виднелись оруженосцы, державшие под уздцы боевых коней. Завидев Бернара, они также начали опускаться на колени.
— Мир вам! — возгласил Бернар. — Кто вы? Зачем проехали столько лье от Нормандии до Клервосской обители?
Один из рыцарей — немолодой, убеленный сединами, с лицом суровым и обветренным — поднял на Бернара по-детски ясные голубые глаза:
— Милости твоей просим, отче.
— Встань с колен, сын мой, — глядя на воинственного старца, произнес Бернар. — Говори ясно: кто ты и какой милости взыскуешь?
— Мое имя Жером де Вальмон. Мой род восходит к герцогам Нормандским, и сам я — как и мой отец, как и его отец — коннетабль Нормандии. Все эти люди — цвет нормандского рыцарства, каждый из них собирает под свои знамена вассалов и арьервассалов,[47] каждый ведет свой род еще со времен Карла Простоватого.
— Все мы пред Богом дети Адамовы, все родимся без порфиры и, уходя, обращаемся в прах. Ни к чему славословие твое.
— Прости, мудрый отче, — потупился краснолицый рыцарь. — Проделали мы дальний путь, пришли сюда, чтобы приникнуть к источнику святости твоей.
— И это пустое. Один лишь Бог свят.
— Пришли мы, преподобный отец Бернар, дабы отрешил ты нас от клятвы верности, данной лживому и коварному правителю, бесчиннику и клятвопреступнику, именуемому королем Людовиком Французским. Справедливого просим суда над тем, кто посылает убийц и растлителей на детей наших. Пред тобою на коленях стоим, как не стояли ни пред кем, ибо закон Божий превыше закона людского. Молим тебя — отреши нас от клятвы и прими под длань свою. — Он вытащил из ножен меч и, положив его поверх тяжелого плаща, дабы не касаться пальцами освященного булата, протянул Бернару рукоятью вперед.
Со всех сторон послышался шорох клинков, оставляющих ножны, и спустя мгновение на Бернара было наставлено великое множество рукоятей боевых мечей.
— Не желаем иного сюзерена, нежели Отец предвечный. Именем Господним, святыми мощами, заключенными в рукоятях мечей наших, честным именем и светлыми клинками клянемся до последнего мгновения верой и правдой, оружием и советом, без измены и лукавства служить тебе как вождю нашему, как предводителю Божьего воинства. Со всеми землями, со всеми замками, со всеми людьми и добром нашим идем под руку твою! Прими же нас, отче.
Бернар молча глядел на сурового старца и соратников его, согласно кивающих в такт словам. На глаза его невольно накатили слезы умиления. Он несколько раз глубоко вздохнул, чтоб не дать им волю, приблизился к виконту де Вальмону, принял меч из его рук и, воздев его наподобие креста, провозгласил с торжеством и ликованием:
— Освобождаю вас от клятвы нечестивцу! Принимаю вас под руку свою! И да наречетесь вы Рыцарями Христовыми!
Князь Давид пристально глядел на морские волны, раз за разом накатывающие на каменистый берег. Долгожданная победа не радовала: жители Тмуторокани, хорошо усвоившие донельзя наглядный урок падения города, не спешили изъявить новому повелителю смиренное покорство. Опасаясь расправ, они прятались по домам и выходили лишь тогда, когда на то была совсем уж крайняя нужда. Время от времени князь с дружинниками проносился галопом по бесприютно-пустым улицам, лишь изредка встречая не успевших спрятаться за каменными заборами горожан. Только ветер нес по вросшей в землю мостовой сор и опадающие листья. Князь скрипел зубами, глядя, как с натугой склоняются пред ним захваченные врасплох жители, слушая, как из-за каждой изгороди доносится цедимое сквозь зубы: «Гореславич».
«Наверняка Святослав с войском уже на подходе. Если они объявятся в ближайшие дни, пока не подоспела обещанная подмога из Империи, мне несдобровать. Крепость сильная, но того и гляди горожане учинят измену. Когда Святослав подойдет, у каждой двери часового не поставишь, дружина слишком мала, чтобы удерживать все башни и стены, не уследишь — ворота откроют или укажут Мономашичу, где хлипкая сторожа. Только бы ромеи подоспели! Без них не устоять».
На лестнице, ведущей на верхний этаж крепостной башни, послышались шаги.
— Кто там? — Князь Давид поглядел на старшего из дежуривших у лаза богатырей.
— Тимирка пожаловал, — густым басом отозвался княжий гридень.[48]
Предводитель касожской рати показался на боевой галерее и, раздвинув плечом княжьих телохранителей, подошел к Давиду:
— Прощаться пришел.
— Как прощаться?
— Что такое спрашиваешь, кеназ? Будто не знаешь, как прощаются. К себе иду.
Давид взглянул на собеседника недобро, но тут же отвел взгляд:
— Ты, Каан, точно волк — добычу ухватил и наутек.
— Спасибо на добром слове, кеназ. Волк — зверь умный. Знаешь, как у нас о нем говорят? Когда-то Аллах решил устроить состязание — какое из созданных им существ самое наипервейшее. И какую бы задачу он ни назначал, выходило, что человек лишь второй: волк и храбрее, и сообразительнее, и сильнее. Тогда Всевышний в последний раз собрался испытать тварей, коими населил Землю, устремив на них свой грозный взор. Волк не отвел взгляда, а человек отвел. Аллаха возмутило такое непочтение со стороны волка, и он назначил наипервейшим человека, но только волку этот выбор нипочем — он все равно знает, что первейший. Так что еще раз спасибо тебе, кеназ, на добром слове. Только почему же «наутек»? Твои сородичи, Дауд, хорошо заплатили мне, чтоб я помог взять крепость и одолеть врага. Я сделал это, и добыча, которую получил, по праву моя добыча. Теперь же мне пора домой, тем паче мои нукеры в степи видели передовые отряды великого князя Святослава. У меня с ним войны нет — к чему зря враждовать?
— И ты оставишь меня без помощи сейчас, когда она мне так нужна?
Тимир посмотрел на князя насмешливо, почти с презрением:
— Я в своих делах уповаю на волю Аллаха и вот этот меч. Отчего бы и тебе не попросить у вашего бога помощи да позаботиться об остроте своего клинка?
На лестнице вновь послышался топот, на этот раз быстрый — точно кто-то очень спешил опечалить или же обрадовать князя известием.
Вбежавший — один из воинов береговой стражи, — оказавшись пред мрачным ликом Давида Олежича, рухнул на колени:
— Беда, князь!
— Что случилось? — побледнел владыка Тмуторокани.
Страж побережья вытащил из-за пазухи несколько обломков с отчетливой резьбой и выложил на камень перед господином.
— Это вынесло на берег после вчерашнего шторма. Там много еще разного, и все — с ромейских кораблей.
Не чувствуя под собой ног, князь сделал несколько шагов и остановился лишь тогда, когда меж зубцами башни на него, маня, точно песнь сирены, взглянула морская пучина.
— Господь не мог допустить, чтоб они все пошли на дно, — прохрипел он.
— Вот видишь, и ты вспомнил о Господе, — расплылся в улыбке касожский витязь.
— Тимир, — князь с жаром повернулся к нему и заговорил, почти умоляя, — ты же был мне братом в недавнем бою! Прошу тебя, останься!
— Мне нет дела до ваших распрей, — по-волчьи оскалился Каан.
— Я дам тебе втрое больше, чем ты получил до того!
— Ты обещаешь это, князь?
— Обещаю!
— Хорошо. Но помни, Дауд, княжье слово — не козий катыш.
Герцог Швабский поднял руку в толстой кожаной перчатке и, повинуясь раз и навсегда установленному порядку, его сокольничий подал мощную остроклювую птицу в изукрашенном каменьями глухом клобучке. Та моментально сжала перчатку длинными, чуть изогнутыми когтями. Рука герцога слегка опустилась под тяжестью хищника.
— Каков красавец? — Конрад повернулся к знатному гостю.
Не то чтобы герцогу нравился этот мрачноватый ромей, прибывший с поздравлениями василевса на рыцарский турнир, объявленный в честь женитьбы повелителя Швабии на племяннице константинопольского василевса, однако он был родичем Никотеи. И, стало быть, ссориться как с ним, так и с Иоанном Комнином, было бы непростительной глупостью.
Большая охота, которую устраивал для съехавшихся гостей Конрад Швабский, была задумана не столько для того, чтобы проредить дичь вокруг Аахена, а скорее чтобы сплотить вероятных союзников.
— Таких птиц, — продолжал герцог, — у нас именуют золотыми орлами. А вот эта — видите, уже полностью линялая — и вовсе считается королевской птицей. За нее можно получить столько же золота, сколько она весит.
— Да, — по-готски сказал Симеон Гаврас, — беркут.
Он поглядел на оперение:
— Бархын,[49] у нас таких много.
При всем сходстве германского и готского языков различия были существенны, но Конрад понял, о чем говорит его гость, и отвернулся, чтобы скрыть досаду.
— Таких, как здесь, нет, — бросил он. — Сами увидите.
Он сдернул клобучок с головы птицы и подбросил ее вверх.
— Давай, Фульгор!
Могучая птица, широко расправив крылья, легко взмыла в небо.
— Такого у вас, поди, не увидишь, — глядя за полетом орла, похвалился Конрад. — Фульгору утки, зайцы и прочая мелюзга — так, не добыча — развлечение, чтоб не затосковать.
— Что ж он, косулю берет? — проявил вежливый интерес Симеон Гаврас.
— Косулю… Бери выше! — Герцог Швабский хлестнул коня. — За ним!
Ромей украдкой оглянулся через плечо: кавалькада всадников вслед за хозяином охоты выпускала в небо ловчих птиц.
— Вам просили передать, — услышал он за спиной голос Майорано, — чтоб вы скакали вперед. Примерно милю. Затем развернулись вправо и до расколотого молнией дуба. Увидите, там будет полянка.
— Но вдруг кто…
— Не беспокойтесь, я позабочусь о том, чтоб «вдруг кто» там не появился.
Никотея обвела взглядом поляну. Лес вокруг стоял непроходимой стеной, но, должно быть, молния, ударившая в дуб, выжгла около него довольно широкий круг, назначенный теперь местом тайной встречи.
Она подманила своего чеглока[50] и приняла из рук Анджело Майорано утку со свежими следами когтей: у местного браконьера она обошлась в одну серебряную монету.
— Я рад приветствовать вас, преславная севаста!
— Ты уже имел эту радость, — насмешливо заметила Никотея.
— Я хочу сделать вам предложение или же, если хотите, подарок.
— От твоих подарков, как от даров Вельзевула, сильно пахнет серой.
— Достойная севаста, если б я не знал, насколько привычен вам этот запах, то никогда б не решился говорить о том, о чем собираюсь сказать теперь.
— Ладно, — Никотея внимательно посмотрела на разбойника, — оставим упражнения в риторике. Что ты хотел сообщить?
— Пусть сначала ваше высочество пообещает молчать.
— Если я буду молчать, то твои новости не будут стоить и обрезанного гроттена.[51] Но я обещаю, что не стану попусту открывать свою тайну.
Майорано глянул на нее с невольным почтением.
— Хорошо, я положусь на ваше слово. — Он выдержал паузу и заговорил вновь: — Вы, как я вижу, намерены возвести на императорский трон своего мужа…
— Это не секрет. Что дальше?
— В Риме не слишком жалуют Конрада Швабского.
— Откуда это известно?
— Совсем недавно я возглавлял один из отрядов личной гвардии понтифика. В окружении Папы много говорят о выборах нового императора. Там считают, что Штауфены чересчур самостоятельны и потому опасны. Рим хочет найти себе более покладистого императора. Старый герцог Лотарь многим больше по душе.
— Я предполагала это. Хотя мне известно, что и его не больно жалуют.
— Верно, но выборы императора должны состояться, и кто-то сядет на трон. При дворе Его Святейшества считают, что из прочих равных Лотарь — самый сговорчивый, а потому и самый удобный. Но я знаю, как изменить ситуацию.
— Как же? — Никотея впервые проявила интерес к речам Майорано.
— Вам, должно быть, ведомо, что Бернар — аббат Клервосской обители, тот самый, что недавно свирепствовал в Британии, — собирает новые, куда более внушительные силы.
— Я что-то слышала об этом, но что мне за дело? Покуда он — заноза в седалище короля Франции, я считаю его человеком отчасти полезным.
— Ходят слухи, что и Лотарь думает о нем, как о человеке, стоящем пристального внимания и даже почтения.
— Это только слухи или есть факты?
— У меня нет прямых доказательств, но я хотел говорить о другом.
— Так говори же.
— Не так давно, — нимало не смущаясь резкостью тона герцогини, начал барон ди Гуеско, — Его Святейшество отправил меня и моих людей сопровождать во Францию папского легата.
— Исходя из того, что ты не в Париже, а здесь, тебе это не удалось…
— Увы, моя госпожа, увы. Легат погиб. Нелепая случайность. Но Господу, право слово, видней, когда и кого призывать на суд.
— Предположим… Но мне-то какое до этого дело?
— Легат должен был отправляться во Францию, чтобы решить спор о правомочности действий Бернара Клервосского. Письмо с просьбой прислать личного представителя Его Святейшества было подписано аббатом Сугерием, а стало быть, королем Людовиком. Вот я и думаю, что бы произошло, если бы папский легат вдруг принял сторону Бернара? А там, слово за слово, объявил об отлучении Франции.
— В этом случае Риму наверняка понадобится поддержка Империи — вряд ли Людовик смирится с такой участью.
— Но в Империи все еще нет императора. И потому, моя госпожа, первый, кто предложит Папе военную помощь, и станет императором.
— Но ведь легат мертв!
— Какая мелочь! Вот папская грамота, повелевающая мне сопровождать посланца Его Святейшества в Париж. Кто он — там не сказано. Надеюсь, у достославной севасты найдется ловкий человек, чтобы выполнить волю понтифика?
Симеон Гаврас не слишком жаловал охоту. Конечно же, она была ему не внове, и прежде доводилось спускать на птичью стаю быстрокрылого кречета или же мчать за косулями с преподнесенными в дар его отцу гепардами, но охота всегда оставалась лишь увеселением аристократов, не более. А здесь Симеон наблюдал в окружающих его дворянах какую-то мрачную свирепость, будто от количества добытой сегодня дичи зависело, удастся пережить лютую зиму или нет. Это варварство раздражало ромея, он глядел на пылающее диким азартом лицо Конрада Швабского, и его передергивало от осознания того, что небесная, восхитительная Никотея досталась полузверю.
— Ага! Давай-давай! — кричал во все горло герцог Швабский. — Возьми его!
Словно повинуясь приказу, беркут сложил крылья и камнем рухнул вниз. Герцог оглушительно засвистел, махнул рукой и пришпорил коня. Симеон нехотя последовал за ним. На прогалине, заросшей молодым подлеском, должно быть, после недавнего пожара, разгоралась нешуточная борьба.
Клокочущий боевым неистовством, Фульгор вцепился когтями в крестец матерого волка. Тот, почувствовав хватку, молниеносно развернул голову назад и ощерился, спеша вцепиться в обидчика. Беркут тут же освободил левую лапу и с силой ударил волка по голове, намертво стиснув когтями обе его челюсти. Еще миг, и он резко повернул голову свирепого хищника, прижимая ее к телу. Серый взвыл и попытался высвободиться, крутясь на месте.
Симеон понял, что будь волк чуть менее силен и ловок, когти золотого орла попросту сломали бы ему хребет. Однако неудача первого натиска не обескуражила беркута. Правая его лапа вдруг отпустила волчий крестец и впилась в грудную клетку жертвы длинными, острыми как бритва когтями. Несколько секунд, и волк рухнул на землю с разорванными в клочья сердцем и легкими.
— Молодец, Фульгор! Молодец! Хорошая моя птичка… — Позабыв о гостях, герцог спрыгнул наземь и бросился к торжествующему победу беркуту — тот, расправив крылья, пританцовывал на поверженном враге, будто утаптывая его.
«Самое время тихо исчезнуть, — подумал Гаврас, — можно об заклад биться, что муж Никотеи и не вспомнит, когда видел меня рядом с собой последний раз». Он развернул коня, стараясь выбрать кратчайшую дорогу к расколотому молнией дубу, упомянутому Майорано. «Скорей, скорей, — торопил он себя, — она наверняка там и уже заждалась».
Заповедный лес, не чищенный с тех пор, когда тевтонская ярость сокрушила римские легионы, бросал коню под ноги то поваленный ствол, то забытые отступающими ледниками валуны. Но Симеон был прирожденным наездником, а годы, проведенные в погонях за половцами и печенегами, научили реагировать на препятствия еще до того, как глаз зафиксирует их. Гаврас, пригибаясь к конской холке, мчал так быстро, как только мог.
В какой-то миг нечто темное и крупное мелькнуло средь листвы по правую руку от него — Симеон натянул поводья, поднимая коня на дыбы. И очень вовремя: пожилой осанистый рыцарь вылетел навстречу ему из кустарника на тонконогом мекленбуржце. Молодой норовистый конь, неожиданно для себя увидев рядом иного всадника, с перепугу заржал и тоже взвился в свечу. Не удержавшись в седле, рыцарь разбросал в стороны руки, точно пытаясь схватиться за воздух, и рухнул наземь.
— Святая Дева! — Симеон тут же спрыгнул с седла и бросился на помощь упавшему.
Судя по выражению лица, тот был крайне раздосадован произошедшим и, увидев подбегающего юношу, попытался быстро встать, но резкий треск материи сообщил присутствующим об очередной неприятности. Длинная, компонованная золотыми и черными поясами, котта с зеленой перевязью-рутой уныло обвисла на одном плече рыцаря. Вторая ее часть осталась под сапогом ромея.
Пожилой воин с силой выдернул свое гербовое одеяние из-под ноги чужестранного невежи и заговорил, стремительно бледнея той льдистой бледностью, которую дает скрываемая в душе ярость:
— Кто бы ты ни был, незнакомец, ты посмел оскорбить меня. И пусть лета лишают меня возможности самолично вызвать тебя на бой, не сомневайся — всегда найдутся желающие бросить тебе вызов, чтобы защитить мою честь!
— Отец, что случилось? — рядом с Гаврасом и его скрипящим зубами собеседником послышался встревоженный девичий голос. Вслед за этим, раздвигая ветви, из кустарника выехала миловидная голубоглазая девушка на такой же тонконогой кобылке.
— Ничего, Адельгейда. — Осанистый рыцарь повернулся в сторону дочери, стараясь как-то закрепить на плече порванную котту. — Я жив и здоров.
Высокое, мятущееся, будто живое, пламя с хищным ревом ползло вверх по склону, все ближе и ближе подступая к стенам замка. Хозяин древнего, помнящего времена короля Артура, укрепления, глядел, как огонь пожирает его отчий дом, со смешанным чувством — ему было невыносимо горько от потери родного очага, но рыцарский долг требовал отдать не только дом, а и саму жизнь во имя служения господину куда более высокому, нежели все земные владыки. Мысль о том, что в пламени очищающего костра растает в дым Сын погибели с окружающей его сворой грязных изменников, придавала лендлорду сил для великой мести. Ему хотелось верить, что за утрату Господь воздаст сторицей, хотя в то же мгновение рыцарь осознавал, что с Всевышнего не потребуешь возвращения долга. Лендлорд гнал мысль о Господнем воздаянии, вспоминая то о волкодавах, то о заточенной в башне престарелой тетке.
— Быть может, пламя Божьего гнева пощадит невиновных? — пробормотал он себе под нос, наблюдая огонь, подбиравшийся уже к основанию замковых стен. И тут…
Струя воды, вырвавшись откуда-то из крепости, водопадом обрушилась в бушующее пламя, пробивая в нем своеобразную просеку. И тотчас же по этой импровизированной тропе в клубах дыма вниз по склону покатились бочки: одна, вторая, десятая…
— Святой Давид! Все туда, — заорал лендлорд, — все к проходу! Они пытаются вырваться!
Гарри змеей выскользнул из лаза, прополз еще несколько шагов, приподнял голову и осмотрелся.
— Все тихо. — Он сделал знак соратникам, и те один за другим стали покидать спасительный подземный ход.
Когда на поверхности собралась уже немалая часть повстанцев, вслед за ними вылез Федюня со своими странными друзьями. Он тут же припустил к опушке леса, спеша увидеть происходящее в замке. На ползущий по стене огонь упала струя воды, и вниз по склону холма покатились заготовленные на галерее бочки.
— Не беспокойся, — заверил Федюню Гарри, — парни успеют скрыться. Сейчас мы ударим по лорду и его прихвостням, пока они не очухались.
— Зачем? — удивился Федюня.
— Да как же ты не поймешь, — нахмурился предводитель мятежников. — Если сейчас этого не сделать, те грязные ублюдки объявят себя победителями!
— И что с того?
— Начатое тобой дело должно побеждать! Всегда!
— Но я не начинал его. Я шел в Лондон, чтобы встретиться с друзьями. Ты обещался меня проводить. Они, как видишь, тоже искали меня и нашли.
— Нет, — отрицая сказанное, покачал головой Гарри, — все не так. Я почитаю тебя как Спасителя, но доброта твоя, прости, граничит с глупостью. Слово твое разбудило сердца, а дело твое подняло бурю. Надежда, которую вселил ты в этих убогих, сделала их людьми! А ты говоришь о каких-то друзьях, о Лондоне… Мы должны идти и победить!
— Кому должны?
— Отцу предвечному! Твоему великому жребию!
— Я ничего не знаю о том жребии, — устало вздохнул Федюня. — И не хочу его нести. Я ухожу отсюда. Идем со мной.
— А они? — Гарри кивнул в сторону замерших в ожидании приказа мятежников.
— Если, как ты говоришь, свобода родилась в их сердцах, то никто, кроме них самих, не в силах убить ее. С оружием или без — пусть несут ее. К чему им водительство мое? Я ухожу.
Глаза Гарри метнули злой огонь.
— Это все твои друзья! Это их наущения! Если б не твоя защита…
Взгляды Федюни и первейшего из его «апостолов» сошлись в короткой, но страстной дуэли.
— Что ж, — пробормотал Гарри, — ступай. Уходи скорее. Я скажу людям, что такова воля пославшего тебя. Я поведу их в бой твоим именем, ибо отныне оно превыше тебя самого.
— Не надо!
— Это будет так! — отрезал Гарри. — И никак иначе. Эй, парни, — он обернулся к своему воинству, — Спаситель вывел нас из пламени и сохранил жизни, которые теперь никто не сможет именовать никчемными. Но мир велик, и Он более не может быть при нас, точно нянька при малом дитяти. Пойдем же, обрушимся на гонителей наших, и пусть память о Спасителе, посланном людям Всевышним, превратится в меч, сокрушающий врагов подобно клинку архангела Михаила.
Гул одобрения был ему ответом.
— А мы, того, с ним, — послышался из толпы голос недавнего побирушки. — Так ведь?
— Ага, — согласился второй нищий.
— Как хотите, — насупился Гарри. — Вперед! Во славу Спасителя! Руби их!
Глава 16
Мудр тот, кто знает не многое, а нужное.
ЭсхилЛюдовик Толстый, не отрываясь, смотрел на вассала. Гийом — могущественный герцог цветущей Аквитании — принимал сюзерена с демонстративным почтением и той необычайной радостью, которую, по замыслу Карла Великого, обязан испытывать держатель земель при личном приезде своего повелителя.
Людовик с досадой ловил себя на мысли, что невольно любуется высоким, статным, хотя и немолодым, красавцем, слывущим первейшим трубадуром Южной Франции и признанным любимцем женщин. Праздники, которые вот уже неделю устраивал в честь приезда короля герцог Аквитании, дышали неподдельным весельем и тем задором, какой редко встречался на северном берегу Луары. Вино лилось рекой, звон струн не смолкал ни днем, ни ночью. Плясуны и жонглеры сменяли друг друга… Людовик прилагал все больше сил, чтобы подавить пожирающее его тайное недовольство. Он невольно подсчитывал, во сколько обходится Гийому Аквитанскому королевский визит, и понимал с неуемной тоской, что на золото, выброшенное вот так на ветер за одни только сутки, он — король Франции — мог бы целый год содержать тысячи брабантских наемников. Герцога же огромные траты, похоже, вовсе не заботили. Гийом был неизменно предупредителен и ласков с королем, что бесило Людовика более всего прочего.
Государь со всей отчетливостью понимал, что ему не в чем, при всем желании не в чем упрекнуть первейшего из своих вассалов. Но даже пожелай он предпринять что-либо против Аквитании, ничего, кроме недоуменной улыбки у окружающих, это скорее всего не вызвало бы.
Его родной Иль де Франс, обглоданный войнами, как мозговая кость бродячими псами, смотрелся небольшим пятном рядом с владениями аквитанских герцогов. Да и происхождением своим Гийом не уступал королю…
Перед началом путешествия в Аквитанию Людовик, как водится, затеял беседу с аббатом Сугерием о землях юга Франции и их правителе. Речь королевского советника текла плавной рекой вплоть до того момента, когда вопрос коснулся родословной герцогского рода. Тут Сугерий скороговоркой перечислил ближайших родственников Гийома и начал рассказывать о любви герцога ко всему прекрасному, будь то кони, украшения или же возлюбленные. Людовик остановил его и потребовал более подробного изложения.
Услышанное озадачило короля, словно в родном, знакомом с детства замке он узрел среди двора новую башню.
В незапамятные времена, когда дед Карла Великого герцог Карл Мартелл сокрушил наступающих сарацин в битве при Пуатье, большая часть Франции ликовала. Но не вся: арабы откатились к Пиренеям и укрепились там, полные решимости не пустить дальше грозного молотобойца.[52] Но Карл Мартелл и не думал штурмовать горные крепости, он пошел на хитрость. Пообещал местной еврейской общине, что в обмен на помощь в борьбе с арабами он позволит основать им в Южной Франции вассальное королевство. И в одно прекрасное утро множество сарацин попросту не проснулись. Остальные бежали в страхе.
Карл Мартелл сдержал слово, и в 768 году было провозглашено королевство Септимания. Государем его стал Теодерик из рода Меровингов. По матери он происходил из семейства Нарбоннской общины, ведущего свой род непосредственно от царя Давида. Ко всему этому он был женат на внучке Карла Мартелла, Альде.
При Карле Великом наследный принц Септимании, Бернард, занимал пост майордома и был зятем императора. В приданое он получил от Карла Великого титул герцога Аквитании, а вместе с ним и богатейшие земли от Эндра до Пиренеев. Таким образом, в жилах герцогов Аквитании текла кровь Меровингов, Каролингов, Давидидов… Ему, Людовику — потомку ничем особо не примечательного графа Гуго Капета, — о подобном происхождении можно было только мечтать.
Хуже этого, как, поморщившись, сообщил благочестивый аббат Сугерий, что по слухам, очень похожим на правду, и первый король Франции рожден не от Людовика Благочестивого, как значилось в официальном родословии, а от принца Бернарда Септиманского.
Пожелай только Гийом заполучить королевский венец — вмиг бы нашлись сотни, тысячи баронов, жаждущих обнажить меч для скорейшего достижения этой воистину справедливой цели. Но герцог Аквитании не желал присоединять к своим владениям Париж. Людовик догадывался, что в душе сей трубадур на троне ни в грош не ставит ни самого короля, ни королевскую власть, и это тоже бесило его несказанно.
— …Фортуна переменчива, мой государь. Земные богатства, власть, слава имеют куда меньше значения, нежели им принято уделять. Как писал мой отец:
Не знаю, под какой звездой рожден: Не добрый я, не злой. Не всех любимец, не изгой, но все в зачатке; я феей озарен ночной в глухом распадке.Людовик с трудом скрыл досаду — уж меньше всего герцогу Аквитании пристало говорить о тайном подарке феи. И без того сказочные богатства его вызывали у окружающих неприкрытую зависть. Людовик обдумывал, что ответить, когда на тянущуюся вдоль речного берега колоннаду, по которой не спеша гуляли король со своим первейшим вассалом, вбежала девчушка лет пяти-шести, с длинными золотистыми локонами, обрамлявшими удивительно гармоничное прелестное личико.
— Папа, папа! Эгре говорит, что поедет с тобой на охоту, а я нет! — Девочка припала к руке герцога. В этот момент она увидела, что отец не один, и, не забыв поцеловать его руку, присела в церемонном поклоне.
— Добрый день, Элеонора, — глядя на очаровательного ребенка, сказал король.
— Я не Элеонора! Я — Алиенора! — живо возразила кроха. — Мое имя происходит от латинского alien, что означает «иной».
Людовик Толстый огорченно вздохнул, вспоминая оставленного в Париже сына. Тот был немногим старше маленькой красотки, но, по утверждению наставников, успехи его в латыни, греческом, да и всех прочих науках оставляли желать лучшего.
— А еще Эгре сказал, — без запинки тараторила Алиенора, обращаясь то ли к отцу, то ли к его гостю, — что сын короля Франции — мой будущий муж.
Король удивленно поглядел на хозяина дома, погладил по голове не по возрасту смышленую собеседницу и ответил, вымученно улыбаясь:
— Может быть, очень может быть.
— А он умный?
— Да… — утвердительно кивнул государь.
— А он Вергилия читал? А моего деда — графа Пуату? А Серкамона?
Людовик Толстый прикусил губу и молча кивнул. Досада сменилась глухой обидой. Он закрыл глаза, представляя своего несмышленого долговязого сына, только и знающего, что читать молитвы. Увы, Людовик-младший мало подходил этой не в меру разумной малышке, но владения от Эндра до Нижних Пиренеев…
«Бог даст, и мальчик станет хорошим королем».
— Иди, Алиенора, иди, — догадываясь о причине молчаливости гостя, Гийом Аквитанский подтолкнул дочь к выходу. — Скажи брату, что я возьму на охоту вас обоих.
Часом позже король Франции, задыхаясь от гнева и излишней тучности, ходил взад-вперед по отведенным ему дворцовым покоям.
— Это невыносимо! Я должен возвращаться в Париж. Я чувствую себя деревенщиной, приехавшим в столицу к богатым родичам! Что ж, пусть он знатнее меня и не считает каждую монету, но я — король! И я незамедлительно желаю отправиться туда, где это ни у кого не вызывает сомнений.
— Но следует окончить разговор о брачном союзе, — урезонивал его аббат Сугерий.
— Мне этот договор — кость в горле! — выходя из себя, закричал Людовик, но тут же смолк, осознавая глупость брошенных в ярости слов. — Что слышно из Парижа?
Аббат Сугерий тяжело вздохнул:
— Увы, новости не радуют.
— Очередной мятеж? Кто на этот раз?
— Нет, мятежа нет, — успокоил короля советник. — Но верный человек, состоящий при аббате Клерво, сообщил, что несколько десятков нормандских баронов под предводительством старого де Вальмона обратились к Бернару с просьбой отрешить их от вассальной клятвы французской короне и принять под знамена Божьего воинства.
— Они намерены нашить крест и отбыть в Святую Землю? — недоверчиво спросил Людовик.
— Относительно их желания стать крестоносцами мне ничего не ведомо. Весьма похоже, что их «Святая Земля» находится здесь — во Франции.
— Проклятые ублюдки! — сквозь зубы прорычал король.
— Но это еще не все, — перебил его Сугерий. — И, вероятно, не самое худшее.
— Куда уж хуже…
— Как мне доложили из Парижа, барон де Белькур, которому вы поручили надзирать за воспитанием наследника…
— Что с ним?
— Жив-здоров. Но он также ездил с молодым Людовиком в Шампань. Причем ездил скрытно, известив всех при дворе, что направляется с принцем на моления в Сент-Вексен.
— Они что, тоже были у Бернара?! — побагровел Людовик.
— Этого я пока не знаю. Но в ближайшее время буду знать.
— Так поторопитесь! Проклятие! Гнойный прыщ этот Бернар… — Король сжал кулаки. — Если вдруг выяснится, что де Белькур с наследником ездили в Клерво, — он замолчал, обдумывая, что должно прозвучать, — если выяснится, что они были в Клерво, — повторил король, — де Белькура — в подземелье! До конца его дней! А Бернар… — Монарх закусил губу. — Дьявольщина, где этот чертов легат?!
Анджело Майорано прислушался:
— Кто-то скачет. Должно быть, ваш херсонесский обожатель.
— А если не он? — Никотея оглянулась, раздумывая, сможет ли быстро укрыться среди обвисших ветвей расколотого дуба.
— Не волнуйтесь, блистательная севаста, мои люди хорошо знают дело. Если это не он, то сюда не доедет.
— Они что же, убьют его?
— Зачем же? — Майорано невольно удивился будничному тону, каким были произнесены слова о смерти ближнего. — Конь может упасть, всадник — зацепиться за ветку… да мало ли что.
В кустарнике вскрикнула испуганная птица.
— Все хорошо, моя герцогиня, это Гаврас. Я удаляюсь, но буду здесь неподалеку. Крикните, если понадоблюсь.
Властитель Сантодоро наметом вылетел на полянку и, соскочив с коня, с извинениями бросился к Никотее.
— Постойте, Симеон, — перебила его герцогиня Швабская, — у нас мало времени. Я хотела подробнее рассказать о той услуге, которую вам следует оказать мне, а заодно и всей нашей Империи.
— Я весь внимание, моя госпожа!
— Вам, конечно же, известно, что мой супруг Конрад — один из основных претендентов на престол короля Германии и вместе с тем императора Священной Римской Империи.
— Да, известно, — подтвердил Гаврас.
— Однако на севере — в Саксонии и Баварии — сегодня рождается мощный союз, способный разрушить все наши планы. Во главе его стоит герцог Лотарь Саксонский. До поры до времени он отмалчивался, но теперь заявил о своих притязаниях открыто. И еще: совсем недавно предполагалось, что основным соперником Конраду будет герцог Баварии, Генрих по прозвищу Лев.
— Прости, но все эти имена мне ни о чем не говорят. Хотя прозвище… Вполне достойное прозвище.
— Оставь, пустое мужское чванство… Лев, зубр… Да хоть шакал! Немного ума, немного гонора и желания во что бы то ни стало наделать пакостей соседу. Тебе не важно досконально знать, что это за люди. Главное — пойми, как они пытаются помешать мне. Так вот, запомни: Генрих Лев — правитель богатый и сильный. Он умелый воин, не знающий пощады, своим порою свирепым нравом держит в повиновении вассалов. Но окружающие его не жалуют и откровенно боятся. Именно поэтому многие князья-электоры не проголосуют за него.
— Но это же хорошо!
— Хорошо, — согласилась Никотея. — И все же не очень хорошо.
— Что ты этим хочешь сказать?
— По сути, Конрад оказался ближайшим родственником покойного императора Генриха, и все личные владения того перешли в руки моего супруга. Немалые земли и немалые возможности. Но здесь-то и кроется подвох: многие из этих земель, богатые замки и угодья император Генрих попросту отнял у соседей, и те почитают столь неприкрытое злодейство со стороны государя подлежащим суду. В свою очередь, Конрад, получив наследство, не намерен возвращать отнятое прежним хозяевам. Более того, ряд князей считает, что Конрад будет продолжать дело прежних императоров, поэтому они не захотят голосовать за него. Кандидатом на трон остается Лотарь. Уже сейчас этот матерый волк тихо и почти незаметно ищет поддержку как в Риме, так и во Франции — у знаменитого Бернара из Клерво.
— Я что-то слышал о нем, — задумчиво поглядел на севасту молодой херсонит.
— Уверена, что еще не раз услышишь, — скривилась прелестная севаста и продолжила: — Старый хитрец понимает, что те, кто боится Генриха Льва или опасается Конрада, проголосуют именно за него — Лотаря. Чтобы быть уверенным в победе, он заключил союз с Генрихом Львом — отдает за баварца дочь Адельгейду, и можно не сомневаться, кто станет императором вслед за ним. А я и… — она невольно замялась, — мой супруг… Всякому зрячему понятно, что новый государь и те, кто пойдет за ним, накинутся на Швабский дом, как волки на поверженного оленя, спеша разорвать его.
Симеон Гаврас не отрываясь глядел на даму своих грез. Это было их первое тайное свидание — и что же? Перед ним стояла не та нежная и восхитительная девушка, некогда спасенная им неподалеку от Херсонеса от разбойников-сицилийцев. Перед ним была настоящая императрица. Настоящая Феодора, заявившая когда-то перед лицом грозящей гибели, что порфира — лучший саван. Гаврас понимал, что без памяти влюблен в нее, и в то же время к этому чувству примешивалось новое, еще не до конца понятное ощущение внутреннего трепета.
— Так вот, — не останавливаясь, чеканила Никотея, — насколько я могу видеть, единственное слабое звено в той цепи, что куют нам Лотарь и его союзники, это Адельгейда. Если она не выйдет за Генриха Льва — союзу не бывать. А если к тому же разрыв помолвки станет причиной для распри между Саксонией и Баварией, то можно не сомневаться, что императорский венец попадет в наши руки.
Она сделала упор на слове «наши» и выразительно посмотрела на Гавраса.
— Ты понимаешь, что я хочу сказать?
— Но твой муж, — едва смог выдохнуть ошеломленный херсонит.
— Здесь он — моя защита. Здесь он мне нужен, — ничуть не смущаясь, пояснила севаста. — Но я не собираюсь надолго тут задерживаться. Шаг за шагом мы будем двигаться к объединению великой Империи. Сначала — корона варваров, затем — корона ромеев. Я уже немало сделала для этого, теперь очередь за тобой. Познакомься с Лотарем, он сейчас здесь, на охоте: очаруй его, засыпь безантами[53] и драгоценностями, покори сердце Адельгейды. Пока мы вместе, мир будет лежать у наших ног…
— Похоже, я уже познакомился с герцогом Саксонии.
— Вот даже как?
— Это такой пожилой рыцарь в котте из желтых и черных полос с чем-то вроде зеленой короны, положенной наискось?
— Да, это он.
— Менее получаса тому назад наши кони едва не столкнулись, и герцог Лотарь рухнул наземь.
— Надеюсь, он сломал шею? — скороговоркой выпалила Никотея и осеклась, понимая, что сказала лишнее.
— Вовсе нет, — удивленно глядя на красавицу, ответил Симеон Гаврас. — Ушибся, но цел. К сожалению, он считает, что я намеренно оскорбил его, и обещает на грядущем рыцарском турнире выставить против меня поединщика для защиты своей чести.
— Это неудачно. Совсем неудачно, — нахмурилась герцогиня Швабская. — Впрочем, — она оглядела ладную широкоплечую фигуру ромейского турмарха, — я не удивлюсь, если выяснится, что своим защитником Лотарь выберет как раз Генриха Льва. Симеон, милый! Я верю, что ты сможешь его победить!
Среди деревьев неподалеку вновь раздался крик вспугнутой птицы. Затем еще один.
— Охота приближается сюда. Нас не должны видеть вдвоем. — Она порывисто обняла остолбеневшего ромея и поцеловала его в губы. — Это залог моей любви, — прошептала она, — а теперь уезжай. Уезжай быстрей!
Симеон в мгновение ока взвился в седло и дал шпоры скакуну.
— А мне, — подходя к своей лошадке, тихо проговорила Никотея, — надо заняться делом. Итак, с этим все более или менее понятно. Теперь остается решить, кого же отправить во Францию. Впрочем, я, кажется, знаю ответ и на этот вопрос.
* * *
Чайки над головой архонта Херсонеса кружили так густо, что и самого неба не было видно. Григорий Гаврас взмахнул руками — чайки пикировали то на него, то в море, простиравшееся вокруг. Волны накатывали на огрызок скалы, каким-то чудом оказавшийся под ногами знатного ромея. Он махал руками, птицы били крыльями, волны расшибали пенные головы о камень…
Григорий Гаврас вдруг напрягся и сжал в кулаке рукоять меча — та выступила будто бы сквозь беснующихся чаек, и в тот же миг птицы, море и камень исчезли. Осталась лишь смятая постель и меч в изголовье.
Привычка, усвоенная давным-давно, в годы жизни почетным заложником в Константинополе, заставляла его чутко вслушиваться в шаги, приближающиеся ночью к опочивальне, и всегда держать оружие под рукой.
— Кто там в такую рань? — приподнимаясь на локте, крикнул архонт.
— Прибыл гонец от смотрителя порта, — отозвался начальник охраны.
— Есть новости? — Гаврас поглядел в окно — солнце едва румянило небосклон. Кто же это в такую рань, в самом деле?
Он встал с ложа, и слуга с легким шелковым одеянием в руках, приученный к ежедневному распорядку повелителя, быстро возник в спальне. Гонец, присланный смотрителем порта, вбежал в покои архонта и склонился перед владыкой.
— Говори, — прикрывая зевоту, позволил Гаврас.
— Корабли входят в гавань, — сообщил гонец. — Семь огненосных дромонов с воинами на борту.
— Как? — повелителю Херсонеса показалось, что он ослышался. Хотел бы ослышаться.
«Семь кораблей… на каждом может быть до сотни воинов. Для чего василевсу вдруг посылать сюда такой отряд? Он что же, задумал воевать здесь? Но тогда почему я об этом ничего не знаю? А что, если людям императора, скажем, Ксаверию Амбидексу, удалось перехватить послание к Великому князю руссов… Если планы открыты, и Комнин решил, недолго думая, сместить меня, а то и убить… Почему нет, очень вероятно».
Он устремил взгляд на ждущего ответа гонца.
— Кораблям дать причалить, а ворот покуда не открывать. Скажете — таков приказ архонта, а сам я сплю и будить меня нельзя. Передай смотрителю порта, чтоб ко мне допустил лишь командующего эскадрой и не больше трех людей свиты. Все понял?
— Да, — покривил душой гонец.
— Тогда ступай.
Григорий Гаврас подошел к окну, перекрестился на высившуюся вдали колокольню.
«Так все же… Что бы могло значить появление этой эскадры?»
— Славнейший архонт велит подавать воду для омовения? — негромко спросил его замерший в ожидании слуга.
— Подавай, — отрешенно кивнул Гаврас, — да позови начальника стражи.
Он поглядел вслед удаляющемуся слуге и задал себе вопрос: «Это уже конец или еще нет? Что там было во сне с чайками: ловил я их или, наоборот, разгонял? Первое — к удаче, а если нет? Тогда сон предвещает несчастье. Проклятие, никак не вспомнить!»
Начальник стражи вошел в опочивальню легким, почти летящим шагом и с изяществом настоящего ромейского аристократа склонился перед архонтом.
— Я жду плохих вестей из столицы, — медленно, точно выдавливая из себя произносимые слова, сказал Гаврас и вздохнул, невольно пожалев, что отпустил с сыном в Аахен верного Брэнара. Коренастый молчаливый северянин не умел так изящно ходить, но ни в его верности, ни в силе удара ни у кого не было сомнений. А выбора нет, придется довериться этому… плясуну. — Очень может быть, что мне грозит опасность.
— Мы будем с вами до конца, — заверил начальник стражи.
— Постой. — Архонт жестом остановил его. — Я хочу, чтоб ты понял: если она грозит мне, то грозит и всем, кто рядом со мной, не в меньшей степени. Я полагаюсь на твою преданность и сумею вознаградить ее. Сделай так: собери воинов в полном вооружении во дворце, часть из них пусть стоит на постах. Другая — ждет сигнала в комнатах, примыкающих к зале. Кроме того, пошли еще нескольких — верных и желательно неприметных — к портовым воротам. Если прибывшие войдут в город числом больше четырех, пусть кто-нибудь мчится сюда с докладом. Если же нет — пусть следят за вошедшими: вдруг кто из них пожелает отлучиться, допустим, к отцу Гервасию, — тогда не стоит беспокоить его преподобие ранним визитом, доставьте этого человека сюда.
— Я все понял, — склонил голову начальник стражи.
— Иди, — отправил его Григорий Гаврас. — Будем надеяться, — добавил он после того, как воин покинул опочивальню, — что не все понял…
Григорий Гаврас восседал на золоченом троне, который хотя и уступал размерами и пышностью автократорскому, но не вызывал ни в ком сомнений в своем предназначении. Застывшая по обе стороны трона стража настороженно глядела на вошедших, ожидая лишь сигнала, чтобы наброситься на них и разорвать в клочья. Отлучившийся на мгновение начальник стражи приблизился к властителю и прошептал тому на ухо:
— Никто из них не ходил к Гервасию и ни с кем не общался.
Архонт кивнул и через силу улыбнулся гостям.
— Василевс Иоанн, — приближаясь на отведенное расстояние, заговорил старший, со знаками отличия наварха,[54] — шлет привет своему верному и доблестному архонту, Григорию Гаврасу.
— Я рад принимать вас в Херсонесе. Прошу извинить меры, предпринятые мной. Я вынужден был запретить воинам и матросам сходить на берег — мы здесь опасаемся чумы и должны удостовериться, что на борту нет больных.
— Больных нет, но есть раненые.
— Вы побывали в бою? — удивился архонт.
— Увы, нет. Раненые появились без сражения. Повелением василевса Иоанна мы шли в Матраху, однако буря, разразившаяся совсем близко от цели пути, разметала корабли. Из тридцати уцелело семь. Быть может, где-то остались еще, но мы потеряли их из виду, а сами еле добрались сюда — корабли едва держатся на плаву.
— Горестное известие, — вздохнул архонт, скрывая предательскую улыбку. Сердце его стучало радостно.
«Они шли в Матраху. Значит, все пока обошлось».
— Я рад тому, что вы благополучно достигли Херсонеса. Будьте моими гостями. Даст Бог — излечим раненых, отремонтируем корабли и дадим отдых вам и вашим людям. — Архонт поднялся с трона и хлопнул в ладоши. — Подавайте завтрак мне и моим друзьям!
То, что архонт именовал завтраком, скорее являлось ранним обедом, плавно переходящим в ужин и снова в завтрак. Когда количество съеденного и выпитого достигло критической точки — восприятия стоящей на столе еды уже в качестве украшения зала, — опьяневший наварх туманно поглядел в чашу, наполненную вином, и провозгласил:
— За добрейшего хозяина, в чьем доме наша злая судьба по мановению ока превратилась в добрую! Как жаль, что нам вскорости придется уходить…
— Оставайтесь. — Григорий Гаврас похлопал гостя по плечу. — Стояла Матраха без вас сотни лет и еще постоит.
— Э-э, нет, — погрозил пальцем наварх, — тут все не так, спешить надо.
— В этих краях не принято спешить.
— А нам — надо! — набычился флотоводец.
Он придвинулся вплотную к хозяину и зашептал:
— Мы должны прийти в Матраху до того, как под ее стены доберутся руссы. Тогда, — он запнулся, — т-с-с… Тогда надо ждать сигнала. Если наш посол при их кесаре даст сигнал, мы схватим севаста, что сидит нынче в Матрахе, и выдадим его Мономашичу. А если сигнал не поступит, мы должны держать стены, покуда дожди не заставят его… — он снова запнулся, — рутенов… быть посговорчивее. Конечно, если б не буря, нас было бы много больше, но и семьсот воинов тоже немало.
Глаза архонта сверкнули, но его гость, углубленный в созерцание напитка цвета патрицианской каймы, не заметил этого блеска.
— Ясно, — украдкой выплескивая свое вино под стол, ответил Гаврас, якобы запинаясь, — тогда и впрямь надо спешить. Я сам поведу войско к Матрахе!
И он со звоном поставил чашу на серебряное блюдо.
Глава 17
Женщины делятся на два вида: с кем хорошо, но без них еще лучше, и тех, с кем плохо, но без которых еще хуже.
Джакомо КазановаПобирушка чуть приоткрыл глаза и огляделся. Он сызмальства привык осматриваться, чуть приподняв ресницы и не показывая виду, что бодрствование сменило глубокий сон. Заря еще не занялась. На сеновале, где расположились он и его собрат по нищенскому цеху, больше не было ни души. Рыцарь, Федюня и их приятель с переломанным носом ночевали в доме, под крышей. Молчаливые варяги, меняясь, сторожили всю ночь. Можно было спорить на что угодно: старая, римских времен, ферма, давшая приют путникам, никогда не видела таких гостей.
Хозяин с многочисленным семейством, заметив подъезжающий к воротам небольшой отряд, схватился было за вилы, но, трезво оценив обстановку, вовремя передумал. Когда же щедрый рыцарь, заговорив о ночлеге, бросил ему золотой, крестьянина будто подменили. Он с домочадцами перебрался в стоящую поодаль кухню, уступив гостям жилое помещение, заодно, на всякий случай, взяв под контроль хранившиеся там продукты.
Вчерашние нищие коротали ночь на сеновале, глядя, как светлеет горизонт, и очертания предметов обретают привычную четкость.
— Эй. — Побирушка толкнул сопящего в обе дырки соседа.
— А? — коротко отозвался тот.
— Тихо, не галди. Мне самое время исчезнуть, чтобы поутру вернуться, как господа просыпаться начнут.
— Ага.
— Ну что «ага»? Ты видал, какие звери на воротах стоят?
— Это да.
— Вот и я говорю — с ними не пошуткуешь. Можно попробовать незаметно выскользнуть, но вдруг учуют — не сносить головы!
— И чего?
— «Чего»… А того. Идти надо напрямую. Мол, сюда поблизости, в лесок, ягод-грибов набрать…
— Хитро.
— Это я и без тебя знаю. Так, стало быть, я сейчас корзинку раздобуду и вместе пойдем. А дальше: ты хоть разбейся, а ягод-грибов набери, а я — в монастырь. Уразумел?
— Угу.
— Тогда покуда глаза протри да солому из головы выбери. А я за лукошком и обратно. — Побирушка скользнул вниз по сеновалу. — Слышь, не спи!
— Не-а, — раздалось сверху, но того, к кому были обращены слова, ответ не интересовал.
Нищий бросился к дому, туда, где в первом нежилом этаже хранилась всевозможная необходимая в хозяйстве утварь. Но едва проник он в каморку под лестницей, как та неожиданно осветилась, заставив вчерашнего попрошайку испуганно прижаться к стене.
— Не губи, — прошептал он, — я ж…
Он начал мелко креститься:
— Я ж все как надо… Как ты сказал.
— Не ходи никуда, — послышался негромкий, но оттого не менее требовательный голос.
— А как же ж…
— Не спрашивай. Делай, что я говорю. Куда бы Сын погибели отныне ни пошел — иди за ним. В пламя пойдет — иди за ним. Да всегда кинжал держи наготове.
— Зачем кинжал? — обмирая, спросил побирушка.
— Чтобы вонзить его, — жестко ответил звучавший из сияния голос.
— Да не смогу я…
— Сможешь. Я удар направлю и силу дам.
— Да не по мне это! И грех какой!
— В этой смерти нет греха, как убил бы ты змею, что грозит матери, породившей тебя. Жди знака!
Сияние вмиг исчезло, оставляя перепуганного голодранца в кромешной тьме, моментально спустившейся после яркого света.
Нищий постоял несколько минут, прижавшись спиной к стене, не в силах отдышаться и унять дрожь в теле.
— Господи! И зачем я только увязался за этим проклятым мальчишкой! — и незаметно выскользнул из каморки.
— А корзина где? — поражая искусством риторики, поинтересовался его приятель, сонно глядя на вернувшегося товарища.
Бледный побирушка дернул щекой и буркнул, пряча глаза:
— Без грибов обойдутся.
Порт был полон народу. Невзирая на запрет церковного суда Уэльса, толпы зевак подбирались поближе к пирсу, чтобы самолично увидеть Сына погибели и героев, его схвативших. Городские стражники отгоняли чересчур любопытных от корабля, но те лезли на деревья, крыши домов, выходили на лодках в море. Еще бы: Сын погибели, чье имя последние дни держало в страхе всю округу, был изловлен и в сопровождении мрачных, как сторожевые псы, северян привезен сюда — именно к тому месту, где не так давно вершил свои бесчинства.
Из уст в уста пересказывались многочисленные истории о чудесах и злодеяниях вышедшего из озерной глуби посланца тьмы. Рассказы эти были один другого страшней и не имели ничего общего с реальностью. Но об одном случае шептались, пожалуй, чаще других.
Речь шла о чудодейственной земле, присланной самим Бернаром из Клерво, — именно с ее помощью удалось схватить злокозненного Сына погибели, ибо вдруг пыль обратилась в пламя, и то пожрало воинство демонов, овладевших бренной людской плотью. Ни стены, ни хладное железо не могли остановить всеочищающий святой огонь.
— Да, Капитан, — задумчиво глядя на снующих вдоль пирса матросов, сокрушался Лис, — похоже, с рассказкой о страшной силе местного суглинка я перестарался. Но кто ж знал, что легенды о местной почве вовсе не беспочвенны?
— Выходит, что сработали мы на руку этому бесноватому аббату. Теперь целый Уэльс будет шуметь о том, какой он весь из себя святой чудотворец и могущественный повелитель темных сил — здесь такие байки любят, — ответил Камдил.
— Ну а шо было делать? — Сергей оперся кулаками о планшир.[55] — Слава богу, хоть Федюню вывезли.
Матросы на берегу бойко сбрасывали швартовые с причальных тумб. Другие — на корабле — уже готовились убрать сходни.
— Ладно, глядишь, шумиха уляжется, — без особой уверенности продолжил оперативник. — Как ни крути, а все уже позади.
— Стойте, стойте! — раздалось с берега. — А ну, пропустите!
При этих словах городская стража начала древками копий раздвигать толпу у причала.
— Это еще что за новости? — насторожился рыцарь в белой тунике с алым крестом.
— Это такое… — вглядываясь в спешащего к кораблю толстяка, сказал Лис, — именуется «Глава церковного суда». И такое оно… Изрядных размеров.
Между тем судья с неожиданной для его впечатляющих объемов резвостью взбежал на палубу и бросился к «посланцам Бернара Клервосского»:
— Как хорошо, что я вас застал!
— Кто-то не заполнил таможенную декларацию? Или в порту недопоставка русалок для кортежа?
— Хуже! Много хуже, — не вслушиваясь в слова долговязого ревизора, залепетал судья. — Это Сын погибели! Это его козни!
— Дайте угадаю! У вас прорвало канализацию?
Судья, похоже, опешил. Но тут же, придя в себя, замотал головой:
— Мне неведомо как, но Сын погибели вывел из пламени свое воинство. Оно обрушилось на тех, кто осаждал замок, и несчастные сложили головы.
Судья всхлипнул:
— Сейчас они идут сюда! Имя им — легион! Через пару дней разбойники будут под стенами города! Я уверен — злодеи хотят освободить проклятого мальчишку. Прошу вас, останьтесь! Если мы объявим Сына погибели заложником, мятежники не решатся идти на штурм.
— Каким заложником?! — возмутился Лис. — Да там Бернар нас уже заждался. Мы еще в субботу должны были вернуться, а сегодня уже третье. Или седьмое? — Он повернулся к Камдилу.
— То, что вы просите, невозможно! — отчеканил Камдил. — Мы выполнили свою миссию, вы — делайте свое дело.
— Вот-вот. Слушайте, что говорит этот осанистый медбрат божий, этот активист Красного Креста и железный кулак эволюции.
— Чем дальше Сын погибели будет от этих берегов, — объяснил Вальдар судье, — тем меньше смысла его людям штурмовать ваши стены. В остальном же вручите себя попечению Господнему.
— Точно, — подытожил Лис. — И не забудьте привязывать верблюда. Иначе, — он развел руками, — сами виноваты.
Смиренно потупив взор, Никотея выслушивала список «Кредо» и «Отче наш», которые ей следовало прочесть, дабы загладить прегрешения, упомянутые на исповеди. Самый придирчивый духовник не смог бы упрекнуть новую католичку в пренебрежении молитвами. Никотея и впрямь шептала их много и неистово, правда, окружающие не догадывались, о чем думает прекрасная богомолка в тот момент, когда никто не донимает ее пустой болтовней.
— Ступай с миром, дочь моя, и впредь не греши, — увещевающе произнес святой отец, отпуская герцогиню Швабскую из исповедальни.
Та вышла и, не поднимая глаз, направилась к дверям храма, заставив глядевшего ей вслед священника невольно вздохнуть, любуясь грацией высокородной прихожанки.
Эскорт ее высочества ждал появления Никотея.
— Гринрой! — властно позвала герцогиня. — Следуй рядом, остальные пусть едут чуть поодаль.
— Как прикажете, моя госпожа. — Рыцарь Надкушенно— го Яблока придержал стремя хозяйки, помогая ей усесться в седло.
— Есть ли новости? — поинтересовалась севаста.
— Как сообщают из Кельна, нанятая вами толпа плакальщиков из балтийского Поможжа так рыдала у стен дома архиепископа, что тот, опасаясь наводнения, был вынужден самолично выйти к несчастным и полдня выслушивать их вдохновенные стенания.
— И каков результат?
— Как и предполагалось, терзания несчастных христиан, утесняемых полчищами диких язычников, настолько впечатлили Его преосвященство, что он, потрясая своим посохом, точно копьем, поклялся не знать отдыха, покуда вблизи границ христианских земель творятся такие бесчинства.
— Он объявил крестовый поход?
— Конечно. Объявил и послал своему викарию — моему дяде — в Рим письмо с требованием добиться от Папы Гонория благословения этого богоугодного предприятия.
— Вот и прекрасно. Сообщи дяде, что нас это вполне устраивает. Более того, надо предпринять все возможное, чтобы Его Святейшество назначил главою христианской церкви всех балтских земель именно нашего дорогого архиепископа — он засиделся в Кельне.
— Считайте, что уже сделано, — улыбнулся Гринрой.
— Что, кстати, сообщает преподобный Эрманн?
— Пока ничего серьезного. Пишет, что понтифик — милейший человек, большой любитель риторики и поэзии.
— Это и так все знают.
— Но мой дядя и сам, между нами говоря, слагает недурные песенки. Может, слышали? — Он начал напевать. — Твое лицо нежнее розы, когда б еще и аромат…
Никотея закатила глаза:
— Гринрой, мне ни к чему вирши твоего дяди!
— Странно, а Его Святейшеству понравились… Папа Гонорий каждый день призывает к себе дядю. И ваш покорный слуга с выражением читает ему…
— Стихи?
— Иногда стихи. Но в основном корреспонденцию, приходящую к Его Святейшеству. Дядюшка пишет, что не исключает варианта провала нашего замысла добыть ему шапку архиепископа Кельнского, ибо Папа Гонорий намерен оставить дядю при себе.
— Это хорошая новость. Очень хорошая.
— Моя госпожа, что я слышу? Впервые мне доводится наблюдать, как срыв ваших планов становится хорошей новостью!
— Только у мертвых не меняются планы. — Никотея повернула лицо к своему наперснику.
— И то верно, — вздохнул Гринрой. — Вот я, к примеру, и думать не думал, что стану рыцарем. А теперь — изволь, готовься к турниру.
— Ты боишься?
— Нет. Но видит Бог, мне невдомек, что за удовольствие под гул толпы вышибить кого-либо из седла. А уж тем паче самому шлепнуться на землю на всем конском скаку. Как хотите, но эта забава не для меня. Я пускаю в ход оружие, только когда не хватает слов. А здесь?.. — Гринрой развел руками.
— Раз так, — Никотея устремила на паладина чуть насмешливый взгляд, — пожалуй, я смогу освободить тебя от печальной необходимости вылетать из седла на потеху толпе. Раз уж слова нравятся тебе больше рыцарского меча, ты будешь сражаться этим оружием.
— Да? В самом деле?
— Я никогда не обещаю попусту.
— И… — Гринрой вопросительно взглянул на Никотею, ожидая подвоха, — что я должен сделать?
— Отправиться во Францию.
— Во Францию?
— Ну да. Ко двору короля Людовика.
— Зачем?
— В качестве папского легата.
— Кого?! — Глаза Гринроя вылезли на лоб.
— Не останавливайся и не привлекай внимания. Ты поедешь в качестве папского легата…
— А, понимаю, вашему высочеству хочется меня обезглавить. Но почему во Франции, а не здесь?
— Ерунда. Я как раз очень рассчитываю на твою голову: я видела, как ты изображал в Англии то купеческого слугу, то неотесанного мужлана-наемника. У тебя дар, большой дар. Ты сможешь сыграть легата, быть может, лучше, чем настоящий легат… А учитывая детство при монастыре…
— Хорошо, предположим… — польщенный высокой оценкой актерских дарований, согласился Гринрой. — Но зачем?
— Короля Франции донимает аббат Бернар из Клерво, он ищет на Бернара управу у понтифика. Я хочу, чтоб твой дядя в ближайшее время предоставил Его Святейшеству отчеты, которые вынудят Папу Гонория наложить интердикт[56] на французское королевство.
— И я… — Гринрой ошарашенно вытаращился на герцогиню.
— Именно так, мой славный рыцарь, именно так.
Тяжелая и величественная башня Тауэра возвышалась над Лондоном, надменно глядя через реку на болотистый низкий берег. Когда-то, покорив эти земли, Вильгельм Завоеватель велел построить эту цитадель залогом своей власти. Чтобы затруднить подходы к ней, он отдал приказ не трогать непролазные топи, занимавшие десятки миль в округе, нимало не смущаясь болотной сыростью, которой тянуло с Темзы даже в самую жаркую погоду.
В отличие от сурового нормандца жена его сына — Эдит Матильда — никак не могла приспособиться к царившей вокруг атмосфере военного лагеря. Ей, внучке князя руссов, с детства слышавшей рассказы доброй матушки о роскошных садах вокруг теремов, невдомек было, отчего вдруг повелительнице Британии выпало жить в мрачном каменном мешке. И улучив момент, она уговорила мужа найти близ крепости место посуше и насадить там сад.
Уходу за своим любимым детищем королева Мод посвящала все свободное время. Годы, проведенные в стенах монастыря, приучили ее к тщательности и скрупулезности; сад рос на диво хорошо, привлекая своей небывалой роскошью лордов со всей Британии. Правда, даже сад не смог уберечь любимую жену свирепого короля: сырость и несносный нрав мужа рано свели ее в могилу. Но и сам Генрих Боклерк, и его дочь, Матильда, любили проводить время, гуляя меж аккуратных, как на подбор, яблонь, груш и зарослей сирени. Сейчас яблоки уже опадали, сад желтел, но все еще радовал взор.
Садовник с двумя мальчишками-подручными, увидев приближающуюся королеву, оставил тяжелую корзину, полную ароматных плодов, и поспешно склонился перед государыней. Но та лишь кивнула, не прерывая беседы с гостем.
Высокий, худощавый юноша, почтительно следовавший рядом с Матильдой, что-то оживленно ей говорил на непонятном садовнику наречии, слышанном им от приезжающих из-за моря господ.
— …Но вы же не станете отрицать, мадам, что король Людовик как властитель Франции и помазанник Божий осуществляет то, что ему предначертано от века. Нормандия никогда не была самостоятельной державой.
— Да, — мягко улыбаясь, согласилась Матильда, — не была. Король Франции, предок нынешнего короля, вручил моему предку земли Нормандии, дабы защитить себя с его помощью от ярости викингов. И мой предок сумел его защитить. Мой дед, мой прадед, дед моего деда — все они были честными вассалами королей Франции. Что же теперь? Не опасаясь более набегов с севера, Людовик Толстый решил отобрать наши владения? Да, мой отец воевал против него. Но если завтра король пожелает отнять Анжу у твоего рода, неужели ты будешь безропотно покоряться и склонять шею? — Она с интересом поглядела на собеседника.
Тот вспыхнул и потянулся рукой к поясу — туда, где в прежние времена висел меч.
— Я, — он замялся, чувствуя, что отчего-то краснеет под взглядом хозяйки этого чудесного сада, — я не ведаю, — пробормотал он, не сводя с королевы восхищенных глаз.
Ни Анжу, ни Нормандия не интересовали его в этот миг. Фульк вспоминал берег моря, терзающую его боль и чудесное лицо, возникшее, словно из тумана его сознания. Таким ликом могла обладать лишь фея, и вот теперь он шел рядом с этой волшебной феей по волшебному саду, пытаясь осознать и принять факт, что перед ним — земная женщина. И это совершеннейшее творение Господне награждает его своим вниманием.
— Вот видишь, — продолжала Матильда, — я уверена, и ты бы не отдал без боя свои земли.
— Пожалуй, — ответил Фульк, не особо думая, что говорит, лишь бы доставить удовольствие спасительнице.
— Я крайне раздосадована тем, как поступил король Людовик. Разве так ведет себя сюзерен по отношению к вассалу? Ведь по сути он стал скупщиком краденого, приобретающим за несколько монет добытое разбойником с большой дороги, выкупив Нормандию у подлого захватчика, Роже Сицилийского.
Граф Анжуйский вспыхнул было снова, желая сказать что-то резкое в защиту своего государя, но прикусил язык, понимая, что любое противоречие разрушит очарование прогулки.
— Господь мне свидетель — всякий может подтвердить, я не люблю войну и никогда не хотела кровопролития. Но король Франции своим низким коварством толкает меня на этот шаг. Я была бы очень благодарна вам, граф, если б по возвращении во Францию вы стали моим заступником перед своим господином. Вам, конечно же, известно — хоть Гарольд III больше ромей, нежели нормандец, его военная слава бежит куда дальше, чем летят стрелы руссов. И точно так же, как некогда мой дед, пришедший сюда из-за моря, завоевал Англию, Гарольд может перейти Английский пролив в обратную сторону и сокрушить престол графов Иль-де-Франса. Мне достоверно известно, что многие бароны Нормандии с радостью поддержат дочь своего герцога и ее мужа.
У Фулька Анжуйского стучало в висках, он чувствовал, что земля вот-вот уйдет у него из-под ног. Душа его рвалась на части: с одной стороны, он понимал, что должен как можно скорее спешить к королю и, если это возможно, предотвратить зреющую бурю, но в то же время сознание, что придется расстаться с королевой его грез, лишало сил и делало ноги ватными.
Матильда остановилась, стараясь разглядеть на лице собеседника впечатление, произведенное ее последними словами. В темных, распахнутых глазах Фулька читались смятение и боль.
— Тебе плохо, мой мальчик. — Она встревоженно прикоснулась рукой к его лбу.
— Да, — выдавил из себя анжуец, чувствуя прилив крови к щекам.
Матильда невольно улыбнулась — еще никто и никогда не глядел на нее так. Она даже объяснить не могла как. Покойный супруг, император Генрих, постоянно смотрел куда-то вдаль, лишь изредка с удивлением замечая ее. От Конрада — герцога Швабского и наперсника ее детских игр — так и веяло страстью, но Матильду он только желал. А любил корону. Король Гарольд, которому отец вручил свою дочь как награду, был грубовато-нежен, но чересчур суров. Матильда опасалась встречаться с ним глазами, подсознательно ощущая, что, не меняясь в лице, ее суженый может снести голову неугодному и, вернув меч в ножны, как ни в чем не бывало продолжать беседу.
Этот юноша глядел на королеву так, будто в мире не существовало более ничего, достойного внимания. Она почувствовала себя неловко оттого, что завела с гостем беседу о своих законных притязаниях на Нормандию, о войне…
— Ты, должно быть, беспокоишься о близких? — чтобы как-то сгладить впечатление, спросила Матильда. — Можешь не волноваться: сюда, в Лондон, недавно приходил корабль из Нормандии — я велела передать Людовику и герцогу Анжу, что небо по-прежнему хранит тебя и, благодарение Господу, вскоре ты будешь совсем здоров.
— Корабль из Нормандии? — сконфуженно переспросил Фульк.
— Да, мой дальний родич — виконт де Вальмон — прислал вино для королевского стола. Род де Вальмонов уже в четвертом поколении имеет привилегию поставлять ко двору вина из Шампани, Бургундии и с берегов Луары. — Она заметила, что лицо юноши начало бледнеть. — Что-то не так, мой друг?
— О нет, — сдерживая волнение, проговорил юноша. — Я благодарен вам за заботу.
Он порывисто схватил руку Матильды и, опускаясь на колено, как перед священнослужителем, припал к ней губами. Сердце колотилось, словно стремясь вырваться наружу. Анжуйцу казалось, что Матильда оскорбится, разгневанно вырвется и уйдет прочь, но теперь, когда дарованное ему Господом убежище так нелепо было открыто, медлить долее казалось невозможным. Кто знает, не поджидают ли прямо возле выхода из сада присланные де Вальмоном убийцы?
На удивление Фулька, рука королевы не двинулась под его губами. Он поцеловал ее еще раз, затем еще, почувствовал, как вторая ладонь Матильды ложится на его волосы…
— Ну что ты, встань, — прошептала взволнованная женщина, закусывая губу. — Встань, нас могут увидеть!
Ночь застала корабль в гавани. Корабельный плотник с парой свободных от вахты матросов ладил избитые вчерашним штормом борта, покачивая головой и с опаской глядя на кормовую часть, где располагался знатный рыцарь, его свита и диковинный арестант.
Совсем недавно, когда судно отчаливало от берегов Уэльса, плотник смотрел на странного мальчишку со смешанным чувством испуга и жалости — ему никак не представлялось, что щуплый парнишка способен наделать столько шума, заставить величать себя не абы как, а Сыном погибели. Так продолжалось до прошлой ночи. Море, устав смирно нести на спине большие и малые корабли, взъярилось не на шутку и начало перебрасывать их суденышко, как детвора — набитый тряпками мяч. Ни искусство капитана, ни расторопность матросов, ни даже молитва святому Николаю, казалось, были не в силах спасти терпящих бедствие из зияющей пасти морской пучины.
Но произошедшее дальше заставило позабыть страх перед бездной. В какой-то миг корабль вздрогнул, точно сел на мель. Экипаж уже приготовился распрощаться с жизнью, но не тут-то было — повинуясь неведомой силе, судно вдруг понеслось без руля и ветрил поперек волны так, будто волокла его чья-то сильная рука. Однако плотник был готов поклясться, что не рука: во вспышке молнии он ясно видел, как в развале меж волн мелькнуло нечто, до жути напоминающее огромную змеиную голову — мелькнуло и исчезло в пенных валах. Не он один заметил чудовищную длинную шею, извивающуюся в воде. Но поутру, когда шторм стих, рыцарь с алым крестом на тунике потребовал от экипажа хранить молчание, заверяя, что никакого чудовища не было, а были лишь рожденные страхом призраки.
Как бы удивился сейчас плотник, узнав, что творится в голове самого крестоносца.
— Дядюшка Джордж, это не течение, да и откуда здесь течение? Это был змей. Причем не какой-нибудь гигантский угорь, а вполне разумное существо.
— Ты хочешь сказать, что вас спасал кто-либо из ближайших родственников Андая?
— Вероятнее всего. И, возможно, не один. Мне показалось, что корабль поддерживают с обеих сторон.
— То есть, получается, род Андая не просто воспринимает как должное переселение души своего предводителя в безвестного мальчишку, а возлагает на него какую-то миссию.
— Да, — согласился Камдил. — Причем что это за миссия, Федюня и сам скорее всего понятия не имеет. А уж какая нам в ней отводится роль — не знает и подавно.
— Прекрасно, — вздохнул Баренс. — Ангелы требуют вывести реинкарнацию Андая из этого мира, Андай со своим даром предвидения делает какую-то непонятную ставку на вас в своей игре, а еще — нам так, между делом, надо остановить прелестную Никотею, которая, судя по поступающим из Империи сведениям, уже начала играть в ромейские шахматы.
— Есть что-то конкретное? — поинтересовался Камдил.
— Да. Крестовый поход на балтийских славян.
— Зачем?
— Пока точно не знаю. Предположительно — чтобы сплотить коалицию сторонников мужа и под знаменем крестового похода собрать в своих руках достаточную для захвата власти силу.
— Милая девочка, нечего сказать.
— Само очарование, — вспоминая лучезарную севасту, подтвердил лорд Баренс. — А потому, мой дорогой племянник, желательно, чтоб вы как можно раньше оказались рядом с этой затейницей.
— Интересно, что по этому поводу думает Федюня. У меня сильное предчувствие, что если это противоречит его планам, то вряд ли удастся до нее добраться.
— И все же попробуйте.
— Куда ж мы денемся. Сейчас только бойцов своих на борт примем. Спасибо, кстати, что позаботились направить их сюда.
— Да ну, пустое. В Лондоне им все равно делать нечего.
— О, вон и они!
К стоящему у пирса кораблю двигался небольшой отряд. Во главе его шел помощник капитана, посланный в город за «пассажирами».
— Вот и славно, все в сборе, — автоматически считая воинов, подытожил Камдил. — Хотя нет. Даже не так — на одного больше.
— Эй, ты, — рыцарь с алым крестом на белой тунике нахмурился и подошел к сходням, — кого ты там еще прихватил?
— Монсеньор, — замялся помощник капитана, — я не хотел. Женщина на корабле — к несчастью. Но она сказала, что вы будете рады ее видеть.
Невысокая фигурка в темном дорожном плаще с капюшоном ловко обогнула замершего на сходнях моряка, как огибает змея сухую ветку, и, легко взбежав на палубу, опустилась на колени перед рыцарем. Глухой капюшон отлетел назад, освобождая волну антрацитно-черных волос.
Камдил едва сдержал себя, чтоб не отшатнуться:
— Мафраз?!
Глава 18
Когда король остается голым, с подданных снимают семь шкур.
Михаил БакунинПолк «Скола» церемониальным маршем проходил мимо императорского дворца. Уже шесть веков всадники этого полка — старейшего среди ромейской гвардии — открывали парад, приуроченный ко дню рождения государей. За ними шли чуть более молодые полки: «Эскубити», «Вилга» и совсем «юный» полк «Икантой», чья история насчитывала всего около двух веков.
Закрытые чешуйчатой броней, белые кони сменялись вороными, гнедыми, затем серыми. Сентябрьское, чуть подуставшее солнце разливало сияние, отражаясь в надраенных пластинах стальных панцирей кавалеристов. Радостно хлопали флюгерки на пиках. Все дышало величием и мощью, лишь только лица всадников, вернее, даже не лица, а глухие кольчужные бармицы с отверстиями для глаз, добавляли праздничной картине толику мрачности. Но всякому, кто видел в этот миг торжественное шествие полков тагматы,[57] представлялось невероятным существование хоть какой-то силы в мире, способной если не сокрушить, то хотя бы поколебать этакую мощь.
Банда за бандой[58] проходили закованные в железо всадники перед балконом императорского дворца, салютую василевсу и его сыну.
— Отец, — глядя, как полк сменяет полк, тихо произнес севаст Мануил, — позволь задать тебе вопрос, давно терзающий меня.
— Задавай, — поднимая руку в императорском приветствии, разрешил Иоанн Комнин.
— Сила армии нашей непоколебима. Нигде, ни в одной стране мира, нет войска, столь обученного и столь прекрасно вооруженного, как наше. Отчего же, несмотря на всю эту мощь, держава по-прежнему обливается кровью, сражаясь против великого множества племен и народов?
— Потому же, почему нищие и голодные бросаются на уставленный яствами стол, враги желают прийти в земли Империи. Вначале мы давали им объедки со стола, чтобы унять их голод и тем смирить дикую злобу, но, как видишь, все эти варварские народы больше не желают удовлетворяться малым и хотят отнять все. А у нас, с грустью вынужден признать, от долгих и чрезмерно усердных трапез, народ, и в первую очередь знатнейшие его люди, те, кому надлежит вести всех прочих за собою, отяжелели и сделались изнеженными. Богатство лишило их силы и доблести. Слава Отцу небесному, не всех, но многих. Чересчур многих. У нас еще хватает знаний и умений, чтобы сокрушить врага, хотя, как ты знаешь, и это не всегда удается. Но самое ужасное — у нас нет прежней воли, чтобы удержать достигнутое и воспользоваться плодами своих побед. Граждане слишком высоко ценят уют и спокойствие, чтобы рисковать головой, в то время как для варваров жизнь — лишь долгая подготовка к доблестной смерти.
— Стало быть, варвары сильнее нас?
— Все в руке господней, — покачал головой василевс. — Ты сам знаешь, империя ромеев и сердце ее — град святого нашего пращура Константина — любимое детище Творца небесного. Мы есть светоч христианского мира, его альфа и омега. Пресвятая Троица не допустит гибели Империи, но Господь посылает испытания тем, кого любит, дабы закалить их веру. Мы должны с честью выдержать эти испытания. Нет смысла роптать, ибо Всевышний возлагает на нас не более, чем мы в силах вынести.
— Но тогда, отец мой, — не унимался наследник престола, — отчего же нам не объединить силы с империей Запада? Они, как и мы, алчут победы христианского оружия над полчищами магометан и язычников. Они, как и мы, птенцы великих римских орлов.
— Лишь по имени, сын мой, лишь по имени. Дикие варвары Запада захватили дворцы, которых не строили, приняли веру, которая, по сути, и теперь остается для них чуждой. Римский епископ — не более чем выскочка, объявивший себя наследником апостола Петра и ключарем Царства Божия. Оттого, что дикарь напяливает тогу, он не становится патрикием, и в ярости тевтона нет ни капли доблести ромея.
— Но они взяли Иерусалим! Они освободили гроб Господень и каждодневно ведут непримиримую войну с теми, кого и мы зовем врагами.
— Да, это правда. И пусть ведут. Военное счастье на их стороне, — согласился Иоанн Комнин. — Однако не стоит забывать, что твой дед предлагал этим разбойникам, нацепившим знак креста на свои плащи, объединить силы и действовать сообща ради спасения христианской веры. Они клялись ему в преданности, но забыли о своей клятве так быстро, как только смогли. Почитай, что пишет об этом твоя несносная тетка, Анна. Невзирая на свой мерзкий нрав, она очень верно изобразила события тех дней.
— Но дед Алексей хотел, чтобы рыцари Запада, принявшие крест, служили ему, а не делу освобождения святынь христианского мира.
— Его желание было мудро и вело к общей пользе. Это наша война, на наших землях. Магометане захватили их, но от этого земли не перестали быть нашими. И тут, бряцая оружием, пришли какие-то дикари-франки, — Иоанн Комнин усмехнулся, — и, провозглашая всякую чушь, начали искать не пользы общему делу, но собственной никчемной славы. Если бы они послушали твоего деда и моего отца, сарацины давно бы уже были принуждены уползти туда, откуда выползли. А так… Большая часть этих крестоносцев погибла от жары, голода и жажды. Мой отец знал, как сделать дело наилучшим образом. Если бы западные варвары вместо того, чтобы захватывать земли, по закону принадлежавшие нашей империи, как и говорили, шли к Иерусалиму, они бы имели вдосталь еды, питья и проводников…
— Отец! Но как бы то ни было, Иерусалим взяли не ромеи, а крестоносцы.
— Смотри. — Император указал на проходившие мимо ряды всадников полка «Хатиера базилик». — Ты видишь это войско? Оно, быть может, не столь прекрасно, как остальные полки тагматы, однако же не зря носит гордое наименование моих боевых товарищей. В этом полку разномастные лошади, но во всей Империи нет более ловких наездников, чем эти. Ты знаешь, кто они: хазары, огузы из столь далеких земель, что даже имя их ни о чем не говорит большинству жителей Константинополя. Но нет славнее и храбрее наездников «Хатиеры». Рыцари Запада, вероятно, столь же храбры и не менее искусны в военном деле, но только верная служба Империи способна вырвать дикарей из варварского состояния и даровать им все блага римского мира. Мой отец и твой дед в безмерной милости своей хотел подарить свет истины погрязшим во тьме франкам. Хотел, ибо сами эти дикари говорили о том, что ищут свет. Но они на деле взыскуют лишь тот свет, который исходит от злата. Сокровища и земли Востока, похищенные сельджуками у нас, привлекают крестоносцев, как магнит железную стружку. Они говорят о едином христианском мире, но что известно им о едином мире, если даже в своих землях они готовы перерезать друг другу глотку из-за владений, которые можно накрыть военным плащом.
— Но, отец…
— Все, Мануил. Я не хочу больше об этом говорить. — Василевс нахмурился. — Тем более в свой день рождения. И помни, мой дорогой наследник: когда императоры Рима — того самого Рима, где сидит самозваный глава всех христиан, — начали уподобляться варварам, Империя пала в прах. И забывать об этом — значит добиваться повторения урока.
Он хотел еще что-то добавить, но тут на галерею дворца быстрой походкой вошел великий доместик Иоанн Аксух.
— Мой государь, — крещеный магрибинец склонил голову.
— У тебя встревоженное лицо, Хасан, — глядя на своего крестника, заметил василевс. — Похоже, ты пришел сообщить не о ликовании наших фем?[59]
— Увы. Это так, о величайший. В Константинополь пришел корабль.
— Что за корабль? И чем он так замечателен, что его приход тревожит мудрейшего из моих помощников?
— Я лишь вернейший, мой государь. И потому спешно прибыл сюда, несмотря на праздник. Позволь сообщить мне правду, не дожидаясь удобного часа.
— Говори, я не буду гневаться.
— Это наш корабль — один из тех, которые ты посылал с войском к Матрахе.
— Почему он вернулся? — помрачнел Иоанн Комнин.
Великий доместик, сдерживая эмоции, начал доклад:
— Буря разметала эскадру. Спасшиеся не в состоянии точно сказать, сколько кораблей погибло, но своими глазами они видели, как многие дромоны переламывались и шли на дно. Вероятнее всего, наши люди не смогут оказаться в Матрахе к тому часу, когда туда прибудет Святослав. Чтобы собрать новое войско и отправить его, уйдет не меньше пяти недель. К тому моменту Понт будет штормить еще более, чем теперь.
Император вяло махнул рукой, отвечая на крики приветствия товарищей по оружию и забывая о всадниках, идущих маршем у самого балкона, повернулся к Иоанну Аксуху:
— Если мы не можем добиться, чтобы наш враг стал нашим союзником, если мы не в силах гарантировать его верности, нам остается лишь одно — уничтожить врага.
* * *
Симеон Гаврас бросил взгляд на лежащее перед ним ожерелье из крупных голубых камней в тяжелой золотой оправе и недоумевающе посмотрел на ювелира.
— Я же просил тебя принести мне что-нибудь такое, что будет не зазорно надеть герцогине.
Содержатель крупнейшей в Аахене ювелирной лавки, родители которого много лет назад бежали из Ломбардии после захвата ее норманнами, как и большинство беглых ломбардцев, почитал себя подданным императора ромеев и потому, увидев грамоту с печатью Комнинов, склонился в нижайшем поклоне, предоставляя в распоряжение знатного вельможи весь свой товар.
— Ну да, — ответил он, недоумевающе глядя на Симеона Гавраса, — я и доставил такие украшения.
— Ты, должно быть, не понял меня или же не почитаешь василевса? Что это? Разве это огранка? Разве это сапфиры? А золото — где ты видел такие грубые узоры?
— Не извольте гневаться, мой господин, — развел руками ювелир. — Здесь такие узоры повсюду, и смею вас заверить, как свидетельствует мой богатый опыт, всякая дама — будь то герцогиня, или даже королева Богемии — почтет за честь надеть это богатое ожерелье.
Он замолчал, что-то обдумывая:
— Ну, может, за исключением добрейшей герцогини Швабской. Она воистину понимает толк и в золоте, и в каменьях. И то сказать, с момента своего прибытия в Аахен она трижды заезжала в мою лавку и трижды мы много говорили о красоте, тайных свойствах камней и металлов, но, увы, еще ни разу она не почтила меня покупкой. Хотя, как известно, ее муж — наш храбрый герцог Конрад — совсем не скуп.
— Может, она просто не нашла в твоей лавке чего-либо, заслуживающего внимания?
— О нет, там есть ряд вещиц очень тонкой работы, которыми я могу гордиться.
— Почему же ты принес эту цепь?
— Если вы желаете сделать подарок госпоже Никотее, то…
— Какая разница. — Голос Симеона прозвучал неожиданно резко, почти злобно.
Не зная, чем вызвано раздражение аристократа, ювелир поспешил сменить тему:
— Я заверяю вас — всякая здешняя красавица будет счастлива получить такой подарок. Вот, ежели хотите, давайте так: отошлите это украшение, или же передайте его сами, и когда ваша дама вдруг откажется принять его, то я готов выплатить столько вашей милости, сколько эта цепь стоит.
— Хорошо, — усмехнулся Гаврас, — идет. Подай мне перо, чернила и пергамент.
Ювелир не заставил себя долго ждать, и спустя минуту Симеон выводил:
Достопочтенная герцогиня!
К моему несчастью, наша первая встреча произошла при обстоятельствах, заставляющих меня с болью в сердце вспоминать тот сладостный миг, когда я увидел вас впервые. Злая судьба коварно столкнула меня с вашим отцом, к коему в сердце я всегда был расположен и, невзирая на случившееся, расположен и поныне. Нижайше прошу вас принять мой скромный дар, чтобы этой малостью хоть немного загладить тот испуг, который причинила вам наша первая встреча.
Был, пребываю и остаюсь искренне преданный вашей светлости
Симеон Гаврас, герцог де Сантодоро.— Песок, — скомандовал ромей и, подождав, когда высохнут чернила, опечатал свиток черным воском. — Пошли слугу к Адельгейде Саксонской, но помни о нашем пари.
Он бросил на стол несколько золотых монет.
— Мой господин, я всегда к вашим услугам.
— И вот еще. Видишь, слуги держат коня?
— Да, о блистательный дука. Прекрасный неаполитанский жеребец.
— Прекрасный… Пожалуй, всего твоего золота не хватит, чтобы купить такого.
— Быть может, — согласился ювелир. — Но к чему мне такой конь?
— Тебе — ни к чему. Пусть его также отведут ко двору Лотаря Саксонского, и пусть твой слуга передаст, что я больше не смогу сесть на этого коня, ибо он был причиной нашего столь неудачного знакомства.
— Вы хотите отдать такого коня?! — поразился золотых дел мастер.
— Я не хочу отдать коня, я отдаю его, — отрезал Гаврас.
— Почему же вам не отправить коня с кем-то из своих людей?
— Мужлан! Это будет воспринято как признание мною вины и страх перед возмездием. Я же хочу лишь загладить неловкость. А теперь пошевеливайся. Ты знаешь, где меня искать?
— Да, мой господин.
— Тогда жду тебя с сообщением.
— Помчу, будто к ногам моим приделаны крылья.
Симеон Гаврас молча кивнул и жестом велел слуге подвести другого скакуна.
Время пожирало жизнь час за часом с тупой методичностью, как старый мерин — овес из сумы. Симеон Гаврас ходил по комнате, явственно чувствуя, как не хватает ему воздуха. От мощных каменных стен тянуло сыростью. Он вспоминал дворец отца, откуда было видно море, и даже в самое ненастье, когда ветер беспощадно обрушивал вспененные яростные волны на скалы, из окон дворца мир представлялся куда более совершенным, нежели сквозь узкие бойницы этого многобашенного чудовища.
Симеон Гаврас ходил по комнате, пытаясь унять волнение. Недавний разговор с Никотеей впивался в его сознание злее, чем аланские стрелы в живую плоть.
«Разве может быть она столь безжалостной? Разве такое возможно? Совсем недавно я видел ее хрупкой, беззащитной — там, у нас в Херсонесе. И потом, в Киеве, и по дороге к этому проклятому колдовскому озеру. Что же изменилось с той поры? Или впрямь она жестока и бессердечна, как все Комнины? Она говорит, что любит меня, и без всякого сожаления приносит в жертву своего мужа и дядю-василевса. Как знать, не стану ли я третьим в этом списке? Неужели был прав отец, утверждая, что только власть, только достижение поставленной цели имеет значение, а все остальное — прах и пустая болтовня? Нет, не может быть. Конечно же, я ее неправильно понял. Муж… А что муж? Она никогда его не любила. А дядя упек ее мать в монастырь, да и Никотею держал там несколько лет. Нет, она не злодейка, она лишь пытается спастись, и я для нее сейчас — соломинка, за которую хватается утопающий. Разве я могу подвести любимую? Даже если предположения, на горе мне, верны, разве это убивает любовь?»
Гаврас сжал ладонями виски.
«Нет, я точно чего-то не понимаю и чего-то не знаю. Я должен делать так, как велит она. Я представить не могу, каких терзаний стоят Никотее решения, о которых она мне поведала».
В дверь тихо постучали, и слуга, с порога определив настроение господина, коротко известил:
— К вам гость.
— Кто, ювелир?
— Нет, монсеньор. Барон ди Гуеско.
Анджело Майорано уже входил в комнату, не дожидаясь разрешения.
— А, это ты… — Гаврас измученно поглядел на соратника.
Тот изогнулся в поклоне.
— Хорошо, что ты пришел. Мне надо посоветоваться.
— Это и впрямь очень удачно, потому что, когда я уеду, вам, мой друг, будет сложно завязать со мной беседу.
— Ты уезжаешь? Куда же?
— Во Францию. Исполнять порученное Его Святейшеством.
— Но ты ведь говорил… — удивляясь, поднял брови Гаврас.
— Говорил, — подтвердил Майорано. — Как обычно — чистую правду. Но дело в том, что когда в подобные игры начинает играть ваша милая родственница, обстоятельства порою меняются очень быстро, а слова «правда» и «ложь» перестают что-либо значить.
— Ты хочешь сказать — Никотея посылает тебя во Францию?
— Должно быть, небу угодно, чтобы я все-таки посетил этот край. А прелестная севаста по мере сил способствует воле небес… Когда б я был ваятелем, как те древние, я бы почел за честь наградить ее чертами языческую Венеру. Надели меня Господь талантом управляться с рифмами, как с мечом, — мучил бы окружающих стихами, повествуя о ее красе. Если бы владел кистью более, чем нужно для покраски корабельного борта, — непременно бы придал ее черты Мадонне… Но я всего лишь грубый вояка. И как вояка говорю вам, мой герцог: только в делах постельных к этой женщине следует держаться поближе. Во всех остальных будьте от нее подальше.
— Ты лжешь! — сжал кулаки Симеон Гаврас.
— Для чего мне это? Искать с вами ссоры — какой в том резон? Мы проделали немало миль вместе — и по морю, и на суше, и, хоть сложно в это поверить, я питаю к вам добрые чувства. Поэтому повторю: коль уж вы не умеете, подобно мне, кланяться и улыбаться, пряча за спиной кинжал, держитесь от нее подальше. Из всех мной виденных ядовитых змей эта — самая опасная.
— Да как… — разгневанно начал Гаврас, но тут в дверь опять постучали.
— Мой господин, прибыл ювелир.
Симеон осекся на полуслове.
— Что ж, хоть и грустно расставаться, но мне пора. Не поминайте лихом. И если ничем не могу помочь, то уж ни в коем случае не хочу мешать. — Майорано откланялся и поспешил удалиться, оставив Гавраса в гневе и растерянности.
Вошедший ювелир с тревогой покосился на побагровевшего вельможу, сжимающего и разжимающего кулаки.
— Вы разве уже знаете? — опасливо спросил он.
— О чем?
— Лотарь Саксонский не принял вашего коня. Он заявил, что его мекленбургские скакуны, хоть это грех так говорить, не хуже вашего дженета. И очень скоро на турнире вы в этом убедитесь.
— Вот как, — вспыхнул Симеон Гаврас, перекатывая желваки на скулах. — Тем хуже для него. Уходи!
— Но это не все, — скороговоркой продолжил ювелир. — Госпожа Адельгейда с благодарностью приняла ожерелье, как я и говорил.
— Оставь меня! Бедная Адельгейда…
Хор кузнечиков стих, и в степи чуть слышно разнесся топот копыт.
— Возвращаются, — тихо произнес один из витязей ночной сторожи.
— Может, и так, — пробасил второй и, сложив руки, ухнул по-птичьи.
В ответ ему послышалось такое же уханье, а вслед за тем — досадливо басовитое воронье карканье.
— Не к добру ворон кричит, — покачал головой первый витязь. — Дурной знак.
Его собрат по оружию прислушался:
— Кажись, идет кто-то. Походка шаркающая, будто старик.
— Может, то мрец? Я слыхал, в этих краях разбойнички спокон веку озоруют. Сам посуди — за то время скольких в степи без чинного погребения бросили воронью на поклев. А мрец теперь ходит да ищет горячей крови испить. С лица он вроде как человек, а ежели со спины глянуть — то все тело настежь разверсто.
— Тьфу ты! — перекрестился второй. — Чур тебя! Нагово— ришь с три короба всяких небывальщин. Эй, кто идет?
— Мир вам, дети мои, — донеслось из тьмы.
— Мрец, — усмехнулся окликавший. — Это же старец Амвросий из Выдубицкого монастыря! Не спится ему, видать, князюшку ждет.
Страж наклонился к яме, в которой неярко горел укрытый от чужих взоров костер, и достал горящую сухую ветку, освещая дорогу духовнику Великого князя.
— Возвращаются, — обнадежил он святого отца. — Уж конский топот слышен.
Очень скоро из тьмы проявились очертания лошадиных морд, и всадники споро осадили коней у костра.
— Ну, слава богу, — пробормотал старец. — Вижу, что все живы.
— Живы, живы, отче, — прозвучал из тьмы голос Великого князя, — и с уловом. — Он ткнул пальцем в пленника, связанного по рукам и ногам.
Тот лежал поперек седла, голова его уныло свешивалась, будто чуя, что недолго ей осталось держаться на плечах.
— Тащите-ка этого вахлака ко мне в шатер — сам потолковать хочу.
Соратники Великого князя без промедления сдернули пленника с седла, подхватили его под мышки и, не особо чинясь, волоком потащили в лагерь.
— Пошто не спишь, отче? — Святослав обнял стоящего перед ним старца. — В твоих летах беречься надо.
— Это тебе, княже, беречь себя надо. Отчего, скажи, сокол мой ясный, самолично в дозор поскакал? Или перевелись мужи ловкие да хоробрые в воинстве твоем?
— Да ну, отче, пустое. Да и сам посуди: как же я дружину на смерть пошлю, когда по клетям да погребам хорониться стану.
— Все одно — не было нонче тебе нужды под самые крепостные стены Тмуторокани ходить. А когда б ненароком стрелой попотчевали?
— Поди, на том пиру для меня еще чаша не приготовлена.
— То одному Господу ведомо, — оборвал похвальбу старец Амвросий, — и не тебе о том судить.
— Ну так, и не тебе ж. Ты, пожалуй, тоже не Господь. Я в молитву твою верую не меньше, чем в панцирь цареградский. А коль ты пред Отцом небесным за меня слово замолвишь, да я броню крепкую надену — к чему ж тогда от беды шарахаться?
— Несусветицу говоришь. Молодечества с лишком, а ума — чуть.
— Отчего несусветицу? Вот мы нынче у самой Тмуторокани поиск вели, и такая жирная рыбина в сети пришла, что и не нарадуюсь.
— То-то и гляжу, что не нарадуешься.
— Так ведь сам посуди, — не унимался Святослав, — мы полночь идем берегом, тихонько, чтоб на стенах стражу не всполошить. И вдруг, чу — а на бережку вроде как дозор, смотрят в море, не отрываясь, будто ждут кого-то. Ну, мы так умишком пораскинули: от стен городских далече, кричи — не докричишься. Стало быть, и рухнули им кречетом на темечко.
— Да уж, видел добычу вашу, — укоризненно вздохнул Амвросий. — Ты не лютуй — он хоть и ворог, а все душа христианская.
— Это точно, — криво усмехнулся Великий князь. — Еще и нашего племени. Я этого голубя сизокрылого там, прям на месте, за грудки тряхнул, он и заверещал. Мол, не губи, все скажу.
— Что ж поведал тебе сей несчастный?
— А то, что выехал он со товарищи не карасей ловить и не луну смотреть. В Тмуторокани ожидают подмогу из Царьграда. В немалой силе, сказывал, прийти должны. Вроде как штормом их потрепало. Вот, значит, нашего гостя сам-друг и послали: чтоб когда увидит вдали огни корабельные — на берегу костер поярче разложить. Так-то, святой отец. Посол мне тут только что не в любови клянется, а хозяин его ворогу моему подмогу шлет. Выходит, правду неведомый херсонит сказывал. Выходит, измену лютую други заморские мне уготовили.
Амвросий поспешил отвернуться, точно вглядываясь во тьму. Чуть в стороне еле слышно переговаривались витязи сторожи, вдали, хорошо видные с кургана, мерцали костры лагеря…
— Не суди поспешно, — кусая губы, проговорил он. — Может, все и не так, как видится. Может, то марево.
— Может, и марево. А только мне кажется, что нет. Вот сейчас пойду да расспрошу гостя званого, что да как. Ему, поди, немало известно.
— Иди с богом. — Старец осенил духовного сына крестом. — Господь да пребудет с тобой, и да защитит он тебя от лютости и коварства людского.
Амвросий повернулся спиной к Великому князю и двинулся к витязям сторожи.
— Давай я тебя проведу, отче? Чай, до шатров путь неблизкий.
— Сам доберусь, сын мой. А нонче мне поразмыслить нужно.
Согбенный годами старец глядел с кургана на едва светлеющую на горизонте степь, вознося к небу греховные моления о даровании ему скорой кончины:
«Господи всеблагий, — шептал он, — зачем ты длишь без меры дни мои? Для чего терзаешь душу мою испытанием верности? Куда бы ни ступил я — влево ли, вправо, — все едино: иду путем Иуды Искариотского… Зачем шлешь ты неразрешимый выбор — отечество мне предать или же чадо духовное? Господи милосердный, ради сына вочеловеченного, принявшего мученическую смерть за людское племя, отврати от меня гнев свой, забери жизнь мою! Ибо нет сил влачить дни ее, и тяжек жребий мой».
Далекая зарница полыхнула на горизонте, на какое-то мгновение выхватывая из темноты вершину кургана. Витязи заставы сидели у костра, оглядывая безлюдную степь. Близ них, сложенные колодцем, лежали просмоленные вязанки хвороста. Достаточно было одного касания факела, чтоб они вспыхнули ярким пламенем, загодя упреждая отдыхающее войско, откуда следует ждать атаки. Но врага не было. Хворост лежал темной руиной и, точно окаменевший житель этой странной башни, рядом торчал языческий идол с пустыми каменными вмятинами глаз.
Старец Амвросий перекрестился. Ему вдруг показалось, что древний божок вдруг хищно ощерился.
— Спаси и помилуй, — прошептал монах. — Экое наваждение.
Он собрался вновь перекреститься, но остановил пальцы у лба.
— Ан нет, то не наваждение, а знак — дурная примета. Не след Святославу к Тмуторакани идти. Пусть домой возвращается или воеводу заместо себя в бой шлет. Кто в храбрости его усомнится?! Такого Фомы неверующего во всей Руси не сыскать. А ноне ему не в сече рубиться, а для державы себя поберечь след. О том знак мне. Так и есть — о том!
Он начал спускаться с кургана, продумывая слова, которыми станет увещевать Великого князя.
— Лишь бы послушал! Лишь бы не взыграло ретивое. Лишь бы… — Он тихо охнул и осел, теряя сознание.
Глава 19
Сила, лишенная разума, гибнет сама собой.
Октавиан АвгустМафраз не любила морские путешествия — они напоминали ей исключительно грустные события. Перед глазами ее вставали то картины невольничьего рынка в Александрии, куда она была доставлена на корабле магрибских пиратов, то схватка с сельджуками посреди Эвксинского Понта, то гибель императорского дромона неподалеку от берегов Херсонеса.
Последнее видение преследовало ее неотлучно. Это был один из тех немногих случаев, когда Мафраз — не та девочка из Исфахана, дочь премудрого лекаря Абу Закира, — а совсем другая Мафраз, купившая себе лучшую долю, обольстив в Константинополе старика-вельможу: так вот, то был редкий случай, когда она испугалась за свою жизнь. Уже спустя день персиянка сама не могла сказать почему: видела смерть часто, не единожды доводилось и самой дарить ее, да и обманывать безглазую случалось не раз. Но в час, когда корабль с посольством василевса Иоанна неумолимо тянуло на скалы, и они с маленькой севастой спасались на столешнице, перед глазами Мафраз вдруг как наяву встал опутанный виноградом двор с журчащим фонтаном, и мудрый Абу Закир Исфахани, толкующий ей «Канон врачебной науки» божественного Абу Али аль-Хусейна ибн-Абдаллаха ибн-Сины.
Ее отец был лекарем в четвертом поколении. Предок его слыл любимым учеником ибн-Сины, которого европейцы — наиболее образованные из них — звали Авиценной. У отца не было других детей, и он возлагал все надежды на Мафраз. Но очередной набег огузов положил конец не только мечтам старого Абу Закира, но и самой его жизни. Ее же ожидал невольничий рынок и участь, зная о которой, отец бы своими руками приготовил Мафраз яд. Как бы то ни было, Мафраз научилась выходить победительницей из сотен уготованных ей жизнью битв. Она получала удовольствие от побед и от того, что даже бесправной невольницей порою значила в сильнейшей империи мира больше, чем любой сановный вельможа.
А в тот миг, когда море кидало из стороны в сторону импровизированный плот с беззащитными девушками, она поняла, что если волны сомкнутся над нею, то истинное учение величайшего из целителей — учение о жизни и смерти, о единстве мира, преподанное ей мудрым Абу Закиром Исфахани, — погибнет вместе с ней. Тогда она молилась так истово, как не молилась никогда прежде. Ей неведомо было, в какой стороне находится Мекка и куда направлять моления. Но, как и самому ибн-Сине, взбадривавшем себя в годы ночных бдений запретной для мусульманина чашей вина, ей было известно: наставления о том, что подобает и не подобает, лишь шелуха, путы для неразумных.
Небо пощадило Мафраз и ее госпожу. Пощадило для того, чтобы позже забросить на далекий, сырой, неуютный остров, вновь поставить на край гибели. Оно словно бы говорило дочери Абу Закира: «У тебя было время измениться — ты не воспользовалась им».
Сокрушенная отчаянием, Мафраз уже не надеялась на милость Аллаха, но милосердие его воистину не знало границ. Как иначе объяснить, что некоторые труды Авиценны были известны целителю, вернувшему ее и добрую королеву Матильду с того света? Чувство горечи жило теперь в Мафраз, но горечи не от яда, влитого ей в глотку, а от сознания никчемности десяти лет своей жизни.
А в стенах Тауэра Мафраз овладела непонятная ей самой, но тем не менее настоятельная потребность увидеть бывшую хозяйку — ту, которую она последние годы втайне считала подругой и наперсницей. До Лондона доходили известия, что Никотея спаслась и прекрасно чувствует себя в землях Империи. Если бы Мафраз спросили, чего ждет она от предстоящей встречи, то вряд ли она смогла бы объяснить это. В первые дни, когда Мафраз только пришла в себя, ей хотелось преподнести бывшей хозяйке такой же кубок с вином, какой Мафраз наполнила для доброй королевы Матильды. Затем, когда одиночество стало невыносимым, она почувствовала острую потребность высказать Никотее все, что накипело в душе, унизить ее, смешать с грязью и упиваться ее болью. Мафраз готова была добраться до Рима, до святейшего владыки гяурских душ, наместника пророка Иссы, чтобы встать перед ним и во всеуслышание объявить, что его новая духовная дочь — подлая отравительница. Злые мысли неотлучно крутились в голове Мафраз, душа изнывала, требуя мести.
Она молила Аллаха милостивого и милосердного свершить чудо. И он внял ее молитвам. Когда, заручившись охранной грамотой королевы, Мафраз направилась в порт, чтобы сесть на корабль, увозящий с проклятого острова, судьба вновь подбросила ей нежданную удачу. На улице Мафраз нос к носу столкнулась с херсонитом — одним из тех, кто сопровождал ее и хозяйку с окраины ромейских земель до Киявы и далее, к чародейскому озеру.
Каково было ее удивление, когда выяснилось, что храбрый граф Квинталамонте вот-вот должен быть здесь, чтобы забрать свой отряд. И что направляются они как раз в гости к ее бывшей госпоже — на рыцарский турнир в честь свадьбы прелестной севасты Никотеи и могущественного герцога Швабского.
«Что ж, — думала Мафраз, вспоминая, как округлились глаза заморского графа, когда он увидел перед собой ее — призрак недавнего прошлого. — Турнир в честь свадьбы — очень хорошее время, чтобы умереть!» — заключила она, глядя, как волна накрывает волну, пряча в пучине все то, что еще миг назад было на поверхности.
— Всякое время хорошо, чтобы умереть, — услышала персиянка рядом с собой. — И всякое время пригодно, чтобы жить.
— О чем ты говоришь? — Мафраз обернулась, негодуя, что кто-то подслушивает ее мысли.
— Ты грезишь об убийстве, дочь мудреца. Ты, сотворенная нести жизнь, пустила смерть в сердце свое.
Мафраз гневно вспыхнула. Рядом с ней стоял тоненький мальчишка — диковатый паж графа Квинталамонте, из прихоти взятый им на службу. В прежние дни ей много раз случалось видеть этого задумчивого юнца и порой даже передавать через него распоряжения Никотеи. Тот всегда был молчалив и странен. На каждой стоянке он первым делом норовил плеснуть молока в глиняную плошку и, нашептав что-то, оставить в стороне — для змей.
Поначалу Мафраз даже опасалась Федюню с его ползучими друзьями, но со временем убедилась, что он безвреден, как лесной ужик, и только посмеивалась над ним.
И вот теперь мальчик заговорил с ней. Заговорил дерзко, во всеуслышание, произнося ее потаенные мысли.
— Шайтан баласы, — пробормотала она, — уходи! Тебе нельзя стоять рядом с женщиной.
— В мире нет места, о котором можно сказать «то мое» и «это мое». Весь мир — дорога живущих в нем. Куда б ты ни ступил, благодари землю, дающую превыше заслуг твоих, благодари небо за то, что приняло оно тебя как гостя под шатром своим.
Мафраз удивленно поглядела на Федюню. Тот смотрел пристально и печально, и от его взгляда на пылкую восточную красавицу, казалось, нападает оторопь.
— Ты призываешь смерть на голову той, что делила с тобою кров и хлеб. Ты объявляешь себя верховным судьей и мечом провидения. Но в тот миг, когда говоришь в душе: «Я судья!», себя первую зовешь ты на суд. Как ни юли, как ни бейся, не укрыться тебе от ока своего. И прежде чем отымешь чужую жизнь, свою испепелишь.
— Уходи, — с трудом шевеля губами, прошелестела Мафраз.
— Далеко ли я буду или близко, разве от того что-то изменится? То, что живет в тебе, убьет тебя, когда ты прикажешь ему убивать. — Федюня развернулся и неслышно — не так неслышно, чтоб подкрасться, а так, чтоб не потревожить, — пошел вдоль борта, глядя на волны и чаек, срезающих пену острыми ножами крыльев.
Мафраз закрыла лицо руками, чувствуя, как слезы подступают к глазам, — она и думать забыла, что умеет плакать — солнце Александрии, висевшее над безумным и бездушным невольничьим рынком, навсегда иссушило ее слезы. И вот теперь непролитые за ушедшие годы, они жгли и рвались наружу, требуя выхода.
— Мы умираем в полном сознании и с собой уносим лишь одно: сознание того, что мы ничего не узнали, — прошептала она. Слова эти, произнесенные на смертном одре великим ибн-Синой, деду передал прадед, услышавший скорбное признание учителя в последний час жизни. — Что делаю я, о Аллах? Или прав мальчишка, и сама я для себя — высший суд и казнь?
Мафраз склонилась над бортом. Слезы ее на лету смешивались с солеными брызгами, нестойкими осколками вечных, смывающих прошлое волн.
Князь Давид прикрыл ладонью огонек свечи. Лик Господа с ясной иконы ромейского письма глядел на него хмуро, будто Отец небесный не был рад молитве повелителя Тмуторокани. Князь закрепил свечу и коснулся соединенными перстами чела:
— Не суди меня, Господи! Коли и содеял я недоброе, так ведь не от злобы душевной. Ужель и далее пристало мне сносить притеснения и ковы, чинимые Мономашичами роду моему? Не суди меня, Господи, за кровь, пролитую в стенах града сего. Не так ли Иисус Навин, для коего ты остановил солнце в зените, хитростью людскою и волею твоей сокрушил неприступные стены Иерихонские и уничтожил всех живущих там? Прости мне грех, ибо каюсь я и сердце изъязвлено винами моими.
— Княже, — послышалось негромко от дверей часовни.
— Ну? — обернулся, сдвигая брови, князь Давид.
— Слава Господу, они идут!
— Кто идет?
— Ромеи. От Корчева.[60] В немалом числе.
— Благодарю тебя, святый Боже! — радостно выдохнул Гореславич и ринулся вон из храма, моментально позабыв о суровом лике Творца небесного и его тяжелом взоре.
Вид со стены грел сердце хозяина Тмуторокани: по вымощенной дороге к воротам ровным строем двигалась закованная в доспехи полутурма[61] катафрактариев.[62] За ними маршировала пехота, забросив за спину щиты и положив на плечи копья. Вокруг колонны роем слепней вились аланские всадники, готовые обрушить тучу стрел на любого, кто будет объявлен врагом Империи.
— Господь на моей стороне. — Давид потер руки и радостно хлопнул по плечу стоявшего рядом витязя. — Я знал, что он не оставит меня без подмоги, ибо справедливость должна восторжествовать!
Он заспешил вниз по каменной лестнице, чтоб в воротах с распростертыми объятиями встретить обещанную помощь.
«Их там больше двух тысяч, — крутилось у него в голове, — сильное войско. Таким-то числом нам ничего не стоит удержать стены, этак, седмицы три-четыре. А там — либо сам Великий князь обратно потечет, опасаясь осенних ливней да распутицы, либо здесь его непогода прижмет… Как бы то ни было, придется ему уйти несолоно хлебавши, а перед тем, дабы хвост ему не подпалили, вынужден будет за мною эти земли признать. А уж на другой год пусть хоть щит свой грызет, а ходить ему сюда несростно получится. Я озабочусь, чтоб и крепости тут, и флот ромейский стояли».
Он глядел, как привратная стража споро отворяет створки ворот, как под знаменем с двуглавым орлом въезжает в Матраху крепкий плечистый всадник немолодых лет на тонконогом горском жеребце.
«Да ведь это же сам Григорий Гаврас!» — сообразил Гореславич, кланяясь в пояс.
— Здрав будь, княже! — заученной фразой приветствовал его херсонит, и подбежавшие слуги приняли поводья коня, помогая умудренному годами стратигу[63] спешиться. — Василевс, да продлит Господь дни его, шлет тебе, верному союзнику Империи, подмогу. — Он положил тяжелую руку на плечо князя Давида. — Здесь не все: буря разметала эскадру, посланную тебе в помощь, но большинству кораблей удалось спастись. Я велел дать людям отдых на день, и завтра они будут здесь.
— Слава богу! — порываясь обнять архонта, воскликнул Давид. — Ты воскрешаешь меня, точно феникса из пламени!
Он с восторгом смотрел на входящие в город войска.
— Я знал, я верил!..
— Так, стало быть, принимай гостей, — начал было Гаврас и вдруг осекся, упершись взглядом в трех воинов в мохнатых шапках и волчьих шкурах поверх доспехов, — а это кто ж такие? Не касоги ли?
— Касоги, — подтвердил Давид. — Тимир-Каан при мне состоит на службе.
— У нас с касогами испокон веку дружбы нет. Уж сколько годов мы их от своих рубежей гоняем.
— Эти верные, как есть верные! Я за них своей головой поручиться могу!
— А я не могу, — отрезал Гаврас. — А как мне единым строем против Мономашича стоять, когда всякий час за ними присмотр надо иметь? Не стал бы злой друг лютым ворогом… Того и жди — в спину ударят.
Давид Гореславич замялся, осознавая, что не ровен час, и суровый потомок Федора Стратилата, выросший и возмужавший среди кровавых сеч, прикажет развернуть войско назад и уйдет с ним обратно в Херсонес, оставляя ему, князю, исхитряться укусить себя за локоть.
— Не серчай, досточтимый архонт. Поди, устал с дороги… Что нам тут в воротах о делах судачить, идем во дворец мой. Отдохнешь, там и поговорим обо всем.
* * *
Григорий Гаврас ликовал. Все шло именно так, как он и задумал. Конечно, ему хорошо было известно, кто взял для князя Давида Тмуторокань — верные лазутчики доносили, что Тимир-Каан и его конники в немалом числе так и остались в крепости в ожидании богатого выхода.
О том, что выросший среди константинопольской роскоши князь Давид не силен в ратном деле, он также хорошо знал. А значит, как предписывала военная наука, противника следовало рассечь на части и разбить поодиночке, что архонт сейчас и делал с обычной методичностью.
Еще до того как двинуться к Матрахе, Григорий Гаврас послал к Святославу надежных людей с тайным поручением. Официально гонцы мчались не к Великому князю, а ромейскому послу при нем — Ксаверию Амбидексу, и повод для этого был подходящий — передать посланцу василевса, что большая часть эскадры пошла на дно, а потому во исполнение императорского приказа Гаврас сам с частью фемной армии направился на подмогу в Матраху.
Сообщив эту новость, гонцам надлежало тщательнейшим образом вызнать, какой сигнал намерен подать Амбидекс ромейскому гарнизону в крепости. И если императорский посол собирался погубить Святослава, то им нужно было позаботиться, чтобы Ксаверий Амбидекс больше никогда и никому не отдавал никаких приказов. Вслед за этим гонцы должны сказать Святославу о подготовленном против него заговоре и об ожидающем его в степи обозе с доспехами и амуницией из арсенала Херсонеса. Можно не сомневаться, что, увидев приближающихся ромеев, тмутороканский князь поспешит открыть ворота, как это случилось сегодня.
И вот тогда уже, когда Великий князь Святослав будет обязан Гаврасу и жизнью, и победой, имея за спиной огромную Русь, можно будет обрушиться на Константинополь и заставить коварного императора ответить за смерть младшего сына — юного Алексея.
А если Симеон с Никотеей привлекут на свою сторону франкских варваров, легко догадаться, какой будет следующая династия ромейских императоров!
Но сейчас в стенах Матрахи его главная задача — лишить князя Давида единственной реальной силы — касогов Тимир-Каана.
— …Так что же, князь, ты пообещал Тимирке втрое больше заплаченного ему, дабы он снова помог тебе?
— Это и впрямь так, — со вздохом подтвердил Давид. — А что мне было делать? Море выкинуло на берег обломки ромейских кораблей — я не знал, спасся ли кто-нибудь. А удерживать город силами одной моей дружины — пустая затея.
— Где же ты намерен брать столько золота?
— Сам того не ведаю, — развел руками князь. — Но только мне довелось наблюдать Тимир-Каана в бою, и я знаю, что он стоит всего того, что должно быть уплачено. Каждого обола.
— Эх, князь, князь… — Григорий Гаврас поднял заздравный кубок, — сразу видно, как неопытен ты в здешних нравах. Мне, как никому другому, известно, чего стоит Тимир и его волчья стая. Но ты сам по доброй воле собственной рукой прикармливаешь лютого зверя. Если ты дашь ему выход сегодня, он придет и завтра, и послезавтра, и будет приходить опять и опять, потому что ты не сможешь ему отказать. А когда не окажется, чем платить, Тимирка сожрет тебя, как эту грушу. — Гаврас впился зубами в сочный плод.
— Что же мне делать? — обреченно спросил Гореславич. — Касогам не объяснить, что раз уж ты с войском успел подойти к городу, то они могут отправляться восвояси без обещанного выкупа — непременно схватятся за оружие. А резня в стенах города весьма на руку нашим врагам.
— В этом ты прав, князь. Молод, но неглуп. Воспрепятствовать бунту может только одно: ни Тимир-Каан, ни кто из его людей не должны выйти из Матрахи с оружием в руках. А лучше — не должны выйти из нее вообще. Поверь, я долгие годы живу здесь и знаю, сколько хлопот приносят эти коварнейшие из потомков Каина.
— Как же мне поступить?
— Просить совета у старшего — признак ранней мудрости, — похвалил Гаврас. — Устрой пир в честь прихода наших войск, в честь посланного господом спасения, пригласи туда Тимира и знатнейших из дружины его. Он не пьет вина — поставь на стол кумыс или же ракию. Угости его самого и людей его так, чтобы не могли они встать с места, а затем напади и убей. Мои же люди позаботятся о прочих касожских воинах. Главное — для них тоже нужно выставить хорошее угощение.
— Убить? — ошарашенно переспросил князь Давид.
— Как пожелаешь. Можешь подождать, пока Тимирка сам убьет тебя. Поверь — это не займет много времени.
Тимир-Каан не любил городов. Терпеть их не мог. Окруженные стенами, они казались ему западней, которая вот-вот должна захлопнуться. Ему, степняку, выросшему под шлемом, нужен был простор, где всегда есть возможность развернуть коня и, быстрым маневром сбив с толку врага, разгромить его, разорвать в клочья. Там, в степи, он был в своей стихии. Здесь — тревога не оставляла его ни на минуту.
Когда нынче он увидел приближающееся к Тмуторокани ромейское войско, Тимиру показалось, что он физически слышит над головой свист аркана. Сама мысль о том, что очень скоро придется сражаться бок о бок с Григорием Гаврасом, представлялась дикой и нелепой — все равно что с волком охотиться на ягнят: не то, что не будет добычи, но только воспользоваться ею вряд ли сумеешь.
Издали Тимир-Каан следил, как беседует кеназ Давид с архонтом Херсонеса, как уходят они в княжьи хоромы, чтобы говорить о том, что не положено слышать другим.
«Теперь я ему не нужен, — думал степняк. — Если молокосос сам этого не понимает — Гаврас ему разъяснит. Надо ударить первому. Если еще можно ударить сейчас. Или же…»
Возле стоящего в раздумьях Тимир-Каана остановился один из новиков[64] князя Давида:
— Мой господин ищет тебя. Нынче он устраивает пир и желает видеть на нем знатнейших из рода твоего.
Тимир-Каан мотнул головой, то ли соглашаясь, то ли отгоняя назойливую муху.
«Пир?!» — Ему не раз доводилось слышать, какими блюдами ромеи потчуют тех, с кем хотят распрощаться навсегда. Порою даже владыки Константинополя не приходили в себя после дружеских возлияний. А уж что говорить о нем? Как бы не стало пиршество ему погребальной тризной.
— Передай своему господину, что я непременно приду в его дворец. — Тимир-Каан развернулся спиной к гонцу и, сопровождаемый пятеркой верных нукеров, зашагал к городским воротам, где от башни до башни стояла касожская рать.
«Много новых лиц, — про себя отмечал он, ступая по мощенной каменьями улице. — И все как один не спускают с меня глаз. Отчего плащи их оттопыриваются кинжалами?.. Из-за ограды постоялого двора слышится звон доспехов… Для ромейского войска места еще поди сыщи. Но здесь, совсем рядом от моих людей…»
Тимир-Каан снова пожалел, что находится в городских стенах и что не увел вовремя своих людей обратно к отрогам кавказских гор.
«Если Давид с Гаврасом хотят моей смерти, то возможность для этого — лучше не придумаешь. В тесноте городских улиц тяжелая ромейская пехота куда сильнее спешенных наездников. Аланы же пускают стрелы не хуже касогов…» Думая так, Тимир-Каан подошел к воротам постоялого двора и тут же наткнулся на сумрачную и явно готовую к бою стражу.
— Мы желаем войти, — подбоченившись, сказал Тимир-Каан.
— Не велено пускать.
— Да знаешь ли ты, кто я?
Стражник окинул настойчивого гостя подозрительным взглядом и подозвал офицера.
— Я Тимир-Каан, побратим князя Давида, — гордо объявил предводитель касогов.
— Что же вам нужно здесь? — Рослый воин, по виду центурион, внимательно посмотрел на собеседника, но даже не подумал сдвинуться с места.
— Проклятие! Я и мои люди желаем ракии! — заглядывая через плечо ромея во двор, гневно закричал Тимир-Каан.
— Вам ее принесут, — не меняясь в лице, ответил центурион.
«Ромеи не становятся лагерем, — сделал вывод Тимир-Каан, — они ждут приказа. — Он вспомнил и о наблюдателях, следивших за каждым его шагом. — Что-то надо делать и очень быстро! Пытаться сейчас поднять людей бесполезно — едва они успеют схватиться за оружие, их тут же превратят в кровавую кашу. А значит, выход должен быть другой. Но какой? Эти, с кинжалами, следят неотлучно. Вероятно, им приказано нападать только в случае крайней необходимости, иначе давно бы набросились, а не стали звать на пир. Пытаются усыпить бдительность. — Тимир-Каан погладил длинный ус. — Дадим почувствовать, что обман удался, и обманем сами».
— Я хочу ракии! Слышишь, ты, длинноносый! Принеси мне ракии!
Центурион чуть заметно дернул уголком губ, повернул голову к одному из стражников и распорядился поскорее доставить варвару чан с пьянящим напитком.
«Надеюсь, у них нет под рукой сонного зелья. — Тимир-Каан выхватил из рук солдата вместительную братину и, зачерпнув браги, задвигал кадыком, изображая, как жгучая струя вливается в его горло. — А теперь, пошатываясь, к конюшне».
— Пейте! Давид, мой брат, угощает всех! — Он протянул чашу ближайшему нукеру и, словно в опьянении, рухнул ему на плечо. — Когда отойдем, затейте между собой драку. К конюшням я должен подойти один — отрежьте путь всем остальным.
Касожская стража у коновязи была несказанно удивлена, увидев, а вернее, еще раньше, услышав своего командира. Тот шел, валясь из стороны в сторону и горланя нечто маловнятное на грубом наречии огузов.
Один из стражников бросился к Тимир-Каану, чтобы поддержать его, но начальник обвел его взглядом, моментально превратившимся из мутного в ясный, и заорал немузыкально на тот же песенный мотив:
— …И ночью все готовы были пролить гяуров злую кровь, — затем, не давая опомниться, оттолкнул незваного помощника, дошел до сеновала и рухнул в него как подкошенный.
Несколько минут Тимир-Каан пролежал без движения, вслушиваясь. Хитрость удалась на славу. Когда один из его нукеров вроде бы случайно уронил плеть и наклонился за ней, другой — не менее случайно — рухнул ему на спину. А спустя несколько секунд над улицей Тамар-Тархана слышались свист бичей и яростная брань. Пройти мимо было просто невозможно, не рискуя головой.
Тимир-Каан был уверен, что теперь, когда соглядатаи попытаются отыскать его в конюшне, стража и близко не подпустит их. Скоро о том, что Темир напился и уснул на сеновале, будет известно Давиду и ромеям, а это даст время нанести ответный удар. Совсем немного времени. Поэтому надо спешить.
Убедившись, что все тихо, Тимир-Каан змеей переполз под стену и нырнул в сено: «Велик Аллах, надоумивший меня загодя приготовить тайный ход в крепость. Сегодня он послужит выходом».
Князь Святослав удивленно рассматривал пленника, доставленного передовой сторожей.
— Как звать тебя?
— Тимир-Каан.
— Какой Тимир-Каан? Уж не сын ли Килич-Оглана, владыки касожского?
— Он самый.
Великий князь задумался: дорогая одежда пленного была измазана землей так, будто тот полз на брюхе. Булатный меч, украшенный золотой насечкой, кинжал с каменьями — за такие табун отдашь. Обычного лазутчика эдак не наряжают, а если б и нарядили — что за блажь по грязи волочить?
— А что грозный Тимирхан делал в степи в таком виде?
— Искал тебя.
— Вот, сыскал, — усмехнулся Святослав. — Чего надобно?
— Желаю тебе Тамар-Тархан отдать.
— Ой ли? С чего бы вдруг?
— Оттого, что не люблю, когда мне нож в спину всадить пытаются.
— Кто на такое-то осмелился?
— Много смельчаков — ромейское войско стоит в стенах Тамар-Тархана. А ромеи подговорили Давидку меня убить и людей моих жизни лишить. Мне это не по нраву, вот я к тебе и пришел.
— Ишь ты. — Великий князь сгреб бороду в кулак. — А что ты хочешь за свою помощь?
— Отпустишь людей моих и меня с добычей беспрепятственно, на том и сойдемся.
Святослав задумчиво опустил глаза, вспоминая мощные стены Тмуторокани… под такими долго стоять можно, а изменники-ромеи уже там. Значит, подмоги от них ждать нечего. Ксаверий-то соловьем заливался, а вон каким скорпионом вылез.
— Положим, отпущу я тебя. Да только как же ты мне крепость отдашь?
— Тем путем, которым я вышел, и войти можно. Все то время, пока мы в крепости стояли, мои люди под стеною лаз рыли. Может, еще когда-никогда в Тамар-Тархан войти надо будет — отчего ж загодя не подготовиться?
— Это что ж ты, и лошадь по тому лазу протянул?
— Мои разъезды вокруг города в дозоре — там лошадь и взял. А заодно и людей упредил, чтоб по сигналу готовы были выступить. Сам понимаешь — в городе им сражаться несподручно, но отвага касогов тебе известна.
— Да уж, не внове.
— Ежели решишь со мной идти, стоит лишь гонца с тамгой этой послать, — Тимир-Каан вытащил из-за пазухи серебряную бляху с витиеватыми восточными письменами, — и мои люди в единый миг ворота захватят. А уж там, кеназ, не зевай.
Святослав задумался: «Небывалое дело, чтоб так, на хапок, твердыню этакую взять. А с другой стороны если глянуть — может, и правда? Касоги для ромеев — варвары, что с ними чиниться… Вдруг Тимирхан не врет, так и впрямь дело разом решить можно. Знать бы только, что он на самом деле Тимирхан. Тамга вроде бы всамделишная. Никакой хан такую, буде жив, не отдаст. А если все же хитрость? Эх, когда б Амвросий так не оплошал, было бы у кого совета испросить».
Мысли о старике-учителе, найденном его всадниками обеспамятовавшим в степи, настроили князя на мрачный лад.
«Экая незадача. Как же наверняка-то вызнать?»
— Княже, — доложил один из воевод, стоявший у входа в шатер, — там херсониты какие-то к тебе просятся.
— Вдругорядь пусть придут. Занят я сейчас.
«И все же: засада или удача? А, была не была… Господь не выдаст, свинья не съест!»
— Слушай меня, Тимирхан. Ежели правду сказал, как победим супостата — дам тебе в земли родные воротиться со всею добычей, а еще и от себя добавлю. Но коли нет — разорю страну твою, огнем и мечом пройду, детям и внукам своим заповедаю камня на камне не оставить. А тебя, сокол, конями порву. — Он взял булатный меч с золотой насечкой и протянул его Тимир-Каану. — Рядом пойдешь.
— Ты правильно решил, кеназ. Уже смеркается, пора ударить. Мои люди охраняют округу, они подпустят тебя близко к стенам.
— Выступаем, — оборвал его Святослав. — И да поможет нам Бог.
Глава 20
Судьба ничего не дает навечно.
Карл I АнглийскийКороль хмуро смотрел на съежившегося под его тяжелым взглядом мальчишку. Его тощая угловатая фигура вызывала в Людовике смешанные чувства. Он помнил, что должен любить его, как отец сына, но всякий раз, когда, завидев короля, принц испуганно жался к стене, а тот втайне сожалел, что не может вселить в этого задохлика собственную душу.
Не так давно верный аббат Сугерий поведал духовному сыну о ереси, именуемой метемпсихозом, — проповедовавшей возможность перерождения. Людовика не покидала мысль, как было бы хорошо, когда б эта ересь вдруг оказалась правдой. Но, оставаясь верным католиком, государь безжалостно гнал от себя обольстительную мысль и теперь глядел на тщедушного наследника, понимая, что именно ему предстоит продолжить дело его жизни.
— Рассказывай, где вы были, — взглядом сгибая плечи мальчика, потребовал король.
— Мы ездили в монастырь, — пролепетал юный престолонаследник. — Там было хорошо, благостно…
— Какой монастырь?
— Я не знаю, де Белькур не говорил об этом. Он лишь заверил, что настоятель аббатства — воистину святой человек. И это правда, отец.
— Правда? — Людовик наклонился вперед в кресле, впиваясь ногтями в подлокотник с такой силой, что резные львы чуть не взвыли от боли. — Отчего ты так решил?
— Когда он говорил со мной…
— О чем говорил?!
Принц смешался, недосказав фразы:
— Он поведал мне, как суетно мирское бытие и что лишь власть духовная, власть, движимая перстом Божьим, в силах направлять мятущиеся души людские к верной цели. Только тот, кто поставлен волею Царя небесного, обретает право вести народы, подвластные ему.
— Каналья, — буркнул Людовик. — И ты что же, поверил ему?
— Отец, как можно не поверить такому человеку? Свет исходил от него, совсем иной свет, нежели от лампады или факела. Аббат, как бы изнутри, от самого сердца, был охвачен сиянием.
Король поморщился.
— Ты говоришь ерунду. Охвачен был сиянием, или тебе это почудилось, суть дела это не меняет. Ты — наследник престола, и в свой срок должен стать христианнейшим королем Франции. За ту непременную поддержку, которую оказывали мы святейшему престолу в Риме, Господь вручил нам державу. Такой порядок жизни освящен временем и Папскими эдиктами. И не какому-то там аббату изменить это! Это гордыня! Смертный грех, которому нет прощения! Что еще говорил аббат?!
Наследник престола с испугом поглядел на отца и, молитвенно сцепив руки, хрустнул пальцами. Людовика отчего-то взбесил этот звук.
— Прекрати немедленно! — заорал он. Принц слега попятился. — Ты растешь никчемным увальнем, — кричал, вскочив с трона, король. — Ты робок, как девица! Ты неуч! Тебе пристало быть служкой в церкви, а не королем Франции! Вот — посмотри на эти руки! Думаешь, я держу ими скипетр? Я держу ими за горло непокорных баронов, держу меч, чтобы карать ослушников и защищать верных! А ты своими жалкими пальцами способен только издавать противный хруст! Тебе не укротить такого строптивого коня, как Франция.
— Отец, я буду хорошим королем! Я даю тебе слово! Господь не оставит меня!
— Господь сам знает, как ему поступать! Молись и полагайся на себя, на свой ум и силу, на мудрость советника, а остальное — не твое дело! Господь…
В тронный зал, тихо перебирая четки, вошел аббат Сугерий.
— Что я слышу, сын мой? Зачем поминаешь ты Господа всуе?
— Прости, отче, — Людовик Толстый склонил голову, и багровый цвет на его щеках вновь стал уступать место землисто-серому, — я говорил в запале.
Он повернулся к сыну:
— Иди. Хотя нет, скажи: заставлял ли тебя этот богопротивный святоша присягать себе или делать нечто подобное?
— Нет, не заставлял…
— Ну, слава Богу! Твое счастье.
— …но я сам, проникшись благоуханным сиянием, исходившим от него, и святостью речей этого великого человека, целовал персты его и клялся вечно следовать каждому слову его.
— Ступай прочь, недоумок! — снова багровея, взрычал Людовик. — И не появляйся на глаза мои, пока не позову!
Мальчик опрометью бросился из зала.
— Ты слышал? — оборачиваясь к Сугерию, неистовствовал король. — Слышал? Он целовал персты «этого святого человека»!
— Я лишь отчасти был свидетелем вашей беседы, — мягко проговорил аббат Сугерий. — И мне горько сознавать, что ты дал волю гневу, ибо не подобает христианскому монарху кричать и топать ногами, будто пьяному торговцу на ярмарке.
— Я согрешил, отец мой, — удрученно потупил взгляд Людовик Толстый, — но сам посуди: этот Бернар везде. Ему внемлет паства, ему присягают бароны, он отрешает от клятвы верности, словно римский понтифик. Ответь мне, Сугерий, где же, наконец, папский легат?
— Без сомнения, он где-то близко. Вести, пришедшие из Рима, свидетельствуют, что Его Святейшество уже направил к нам верного и мудрого человека.
— Направил, — продолжая хмуриться, повторил король. — И что же, этот верный и мудрый человек идет пешком?
Аббат Сугерий воздел руки к небу, демонстрируя, что только отцу небесному известен способ передвижения вышеозначенного легата.
— Какие новости? — с шумом выдыхая, чтобы успокоиться, спросил король.
— Я бы сказал, довольно странные. Прибыл гонец от виконта де Вальмона.
— Что нужно этому мятежнику?
— Он утверждает, что мы упрятали Фулька Анжуйского в Британии, и обещает прислать нам его тело для погребения. Из головы же коннетабль Нормандии рассчитывает изготовить себе кубок.
— Вот еще один добрый христианин, — гневно фыркнул король. — Духовное чадо осиянного божественным светом преподобного Бернара. — Он скривился в недоброй усмешке. — Если злобный боров не выжил из ума и впрямь что-то выведал, то его несостоявшийся зятек очутился в Англии. Хотел бы я знать, каким чертом его туда занесло?
— Не богохульствуй, сын мой, — одернул его Сугерий.
— Хорошо-хорошо… Но все же, мне очень интересно, с чего бы вдруг юному графу Анжу вздумалось плыть в Англию и что он там делает?
— Об этом де Вальмон умалчивает, — пожал плечами настоятель Сен-Дени.
— Де Вальмон, — процедил король, — пора уже вскрыть этот нарыв. Но прежде следует положить конец бесчинствам клервосского выскочки. Покуда он на воле, такие де вальмоны плодятся, точно черви после дождя.
— Что же ты намерен делать, сын мой?
— Послать надежный отряд.
— В Клерво?!
— К нему.
— Людовик, ты — христианнейший король Франции. В день, когда чело твое помазали миррой, принесенной с небес божественной голубкой, ты присягал защищать церковь и блюсти ее интересы!
— Я и желаю защитить церковь и блюсти ее интересы! — непреклонно проговорил государь. — Я не буду штурмовать стены Клерво, а лишь велю перекрыть доступ туда для всякого рода гостей. В первую очередь — моим вассалам и арьервассалам. Такова моя воля, и вплоть до того часа, когда папский легат вынесет свой приговор, без моего позволения никто не войдет и не выйдет из обители! Это решено. Да, вот еще, — король сжал руки и хрустнул пальцами, — де Белькура обезглавить. Завтра же — на площади перед Консьержери. В назидание остальным.
— Людовик?!
— Я не любил своего венценосного собрата Генриха Боклерка. Я всегда считал, что король Англии и как король, и как герцог Нормандии оскорбляет чувство высшей справедливости, присущее всякому доброму христианину. Но мне слишком хорошо известно, как армия бродяг во главе с Бернаром Клервосским вступила в Лондон и как сам Герних Боклерк сложил голову — храбрую и умную голову, — затоптанный толпой бесноватых фанатиков. Я не желаю быть следующим.
* * *
Неровная линия деревьев на горизонте светлела, и ранние птицы начинали щебетать, радуясь приходу нового дня. Заутреня уже окончилась, и аббат Бернар с монастырской стены глядел на ведущую к воротам дорогу. В стороне, почти у самой кромки леса виднелись несколько всадников, над которыми реяло усыпанное золотыми лилиями лазоревое полотнище баньеры.[65]
— И дали мне в пищу желчь. И в жажде моей напоили меня уксусом, — шептал аббат, и слова псалма звучали гневным призывом, обращенным к Отцу небесному. — Да будет трапеза их сетью им, и мирное пиршество их — западнею. Да помрачатся глаза их, чтоб им не видеть, и чресла их расслабь навсегда. Излей на них ярость твою, и пламень гнева твоего да обымет их.
— По-прежнему стоят? — Брат Россаль приблизился к настоятелю и склонил голову для благословения.
— Стоят. Скоро должны меняться.
Точно повинуясь его приказу, из леса выехали с десяток всадников и, что-то кратко обсудив с бывшими в карауле, заняли их место.
— И так пятый день, — заметил брат Россаль. — Вчера кто-то пытался сюда пробраться, спрятавшись в воз с сеном — сено истыкали копьями, беднягу ранили, вытащили на свет божий и куда-то уволокли. Быть может, повесили.
Бернар неотступно следил за горизонтом. Казалось, он не слушал брата келаря, но тот нимало не смущался подобным невниманием.
Вдалеке показался воз, груженный снедью, и выставленный из леса патруль начал тщательно осматривать корзины с капустными головами и мешки с луком. Когда процедура осмотра была закончена, один из всадников довольно грубо спихнул возницу с козел, занял его место и, стегнув кнутом лошадей, направил возок к воротам.
— Виданное ли дело — в христианской стране держать в осаде монастырь?
— «И составили против него заговор слуги его, и умертвили его в доме его», — произнес нараспев Бернар. — Вторая книга Паралипоменона, глава тридцать третья, стих двадцать четвертый. «Поднявший руку на Господа где найдет спасение от гнева Божия?»
Между тем воз подъехал к воротам, те отворились, и монахи споро начали разгружать доставленную в монастырь провизию. Вот уже пятый день каждое утро процедура эта повторялась вновь и вновь. Волею короля никто без его личного соизволения не смел входить в аббатство, и ни один монах — будь то сам настоятель или же последний новиций — не смел выходить из него.
— Преподобный отче, — позвал негромко из монастырского двора один из клириков.
Бернар степенно повернулся.
— Что тебе, сын мой?
— У нас гость.
— Гость? — удивленно переспросил настоятель.
— Да, и он жаждет увидеться с вами. Мы омыли его, но…
Аббат стал медленно спускаться:
— Следуй за мной, Россаль, брат мой. Хорошо бы узнать, кого это Господь посылает к нам в такой час.
«Посланный отцом небесным» гость встречал Бернара Клервосского в одних подштанниках, дрожа от холода и пританцовывая, чтоб хоть как-то согреться. Мокрая одежда валялась рядом, а над чашей вина, поднесенной ему одним из монастырских братьев, поднимался гвоздичный аромат.
— Как звать тебя, сын мой? — обратился к неизвестному взволнованный аббат.
— Жак д’Авеню, — клацая зубами от холода, проговорил юноша столь худощавый, что, казалось, мог бы спрятаться в тени копья. — Я — человек графа Тибо Шампанского.
Глаза Бернара радостно вспыхнули.
— Как же ты пробрался сюда?
— По сточной канаве. Правда, здесь в стене была решетка, и пришлось долго выковыривать один из железных прутьев, чтобы пролезть. Но что ж делать. — Юноша вновь прильнул к чаше с горячим вином.
— Принесите ему одежду, — скомандовал настоятель.
— Уже послали, — сообщил монах. — Сейчас будет.
— Мой господин велел передать, — отрываясь от согревающего напитка, вновь заговорил посланец, — что крайне разгневан злодеянием, на которое решился король. Тем паче что люди толстяка своевольничают не в Иль-де-Франс, а в нашей Шампани. Граф Тибо разослал гонцов к верным людям, и скоро вся Франция вспыхнет, дабы покарать слугу Антихриста и лишить его не только короны, но и самой головы. Вам стоит лишь приказать, и храбрый Гуго де Пайен с его рыцарями и мечами проложит торный путь в Клерво. И нет силы, которая бы устояла пред силою воинов Христовых.
Бернар почти с нежностью поглядел на юношу, переставшего вдруг дрожать и гордо расправившего плечи на последних словах.
— Согрейся, отдохни. Вечером пойдешь назад. Я выскажу свою волю.
Ветер сонно ворочался в обвисших парусах, едва напоминая о себе. Убедившись, что изменения погоды не предвидится, капитан без особой, впрочем, надежды поскреб мачту, послюнявил указательный палец и, не дождавшись усиления ветра, приказал идти на веслах. Море едва плескалось за бортом. Казалось странным, что еще совсем недавно оно поднимало валы, перехлестывающие через корабль.
Федюня Кочедыжник стоял на палубе, созерцая безграничный простор, открывавшийся его взору. Можно было решить, что вид этой соленой вечно движущейся пустыни приковывает его внимание. Но выросшего у берегов Понта мальчишку трудно было удивить морскими пейзажами.
— О чем задумался, приятель? — Лис подошел к Федюне и положил руку ему на плечо.
— Гарри взял город, — не спуская глаз с еле заметной ряби, со вздохом ответил Кочедыжник.
— Откуда ты знаешь?
— Вижу. Сам не пойму как, но вижу. Прежде такого не было, а сейчас вдруг — раз! И точно не посреди окияна, а вот — совсем рядом, лицом к лицу. Все своими очами вижу, а сказать ничего не могу. Растолкуй, дядька Лис, в чем моя вина? Разве я кому что дурное сделал? Разве бранил кого? Или старшего не почтил? Почто казнь такую претерпеваю?
— Что ты, Федь?
— Я Гарри с земли поднял. Он ходить не мог. Разве дурно, что помог ему? А он нынче город взял, объявил себя принцем, начертал на щите знак с тремя змеями — навроде этого. — Он вытащил из-за пазухи амулет. — И моим именем храмы жжет. Разве я когда мог о том помыслить?
— Да-а… Ситуация хреновая. Но, видишь, ты сам дал ему основания считать тебя если не богом, то его посланцем. Тут уж, как говорится, назвался груздем — лечись дальше. Гарри, может, и рад навьючить золота на осла и тихо-тихо куда-нибудь отвалить, да не получится уже: на него глядят, как на твоего апостола.
— К чему это все? — Федюня утер слезинку, покатившуюся по щеке. — Никогда, ни единым словом не призывал убивать и крушить! Теперь, выходит, я в ответе за содеянное? Как обратить время вспять?
— Ну, ты загнул. Этого никто не знает.
— Нешто и в ваших землях не ведают?
— Каких таких «наших»?
— Тех самых, откуда вы с графом прибыли.
— Это здесь неподалеку… — пустился в объяснения Лис. — Вон там, — он указал на горизонт, — Франция, а за ней…
— Я о других землях. Тех, что за линией заката.
Сергей удивленно воззрился на собеседника:
— С этого места подробнее.
— Я о тех землях речь веду, в кои велено вам меня забрать. Я знаю, что вы такого не мыслите, но тот, кто приказывал вам сие, ничего не забывает.
— Постой, постой. Шо ты несешь?
Федюня вздохнул.
— Гарри предал меня по неразумию своему. Ты же силишься в глаза мне лгать. Я ведь коли вижу — то и знаю. Велено вам увести меня из мира живых, да и бросить меж мирами. А я так смотрю, что, может, оно и к лучшему. Такое нынче со мной происходит, что даже и жить противно. — Он ненадолго замолк. — Вот ответь, дядька Лис, почто вам дома не сиделось? Зачем вы пришли незваные и нежданные, аки тать в ночи? — Федюня посмотрел на старого друга взглядом, полным невыразимой печали. — Неужто верите, что в силах помешать крови литься, дереву сохнуть и роду человеческому в этом мире и в сонме иных миров истреблять друг друга?
— Непростой вопрос, — посерьезнев, сказал Лис.
— А у меня нынче простых и нет. Тут и о себе ничего в толк не возьму, а уж что вокруг деется — так и вовсе темно. Ступаю, как посредь леса в новолуние. И за что ни возьмусь — все тернии. Я к вам шел, мне никуда боле не надо было. А оно нынче как выходит: и вам я ни к чему, только обуза. И дело ваше, как монета в воздухе — может, так упадет, может — эдак.
— Федюнь, братишка, ты ничего не понимаешь, тут все очень сложно.
— Не понимаю, — согласился отрок, — сам о том сказал. А что сложно… Я вон Гарри на ноги поднял, а он этой ногой ближнему на горло стать норовит. И вы — вроде как добро содеять пытаетесь, а только у добра того клыки да когти. Ровно как у зла. Кому помогать да что делать: помогать ли вовсе, или впрямь — уйти за предел мира и там найти для души отдохновение?
— Эк тебя переплющило-то, — покачал головой Лис. — Но там, где время пройдет, там и мы пройдем.
— Не ведаешь ты, куда путь держишь. Не ведаешь, идти ли. А все едино: ступаешь шаг за шагом, не зная ответы на те вопросы, что задаешь себе неслышным голосом. Так и я пойду с вами, дабы отыскать то, что заменит мне ответ.
— Ну, ты загнул, — поразился Сергей. — С такими речами из тебя здоровский вышел бы замполит, жаль, у вас звери такой породы не водятся.
Кочедыжник поглядел на друга, и в глазах его дальними отблесками пожара высвечивало нечто странное, чтобы не сказать страшное. Лис встряхнулся, отгоняя наваждение.
— Пожалуй, стоит кораблю идти быстрее, — вдруг безо всякой связи с тем, что говорилось ранее, точно вскользь, бросил Федюня и запахнулся в плащ, спеша укрыться от резкого порыва ветра.
Барон ди Гуеско поглядел с холма на ласковую, залитую солнцем ранней осени равнину. Сколько видел глаз, та была засажена виноградниками; среди аккуратных рядов подвязанной лозы, собирая в плетеные корзины тяжелые грозди, неспешно двигались монахи в подобранном одеянии.
Капитан папской гвардии пренебрежительно хмыкнул:
— Мне кажется, эти святоши всерьез думают, что когда-то их кислое пойло сравнится с итальянскими винами. Наивные простаки… Как считаете, падре?
— Истина зависит от того, сын мой, — на лице Йогана Гринроя сложилась высокопарная мина, — вкушу ли я от даров винной бочки прежде, чем изреку ее, или же после того. Ибо если до — то я думаю, что думаю, а если после — то лишь думаю, что думаю.
— Чего-чего? — Майорано уставился на спутника.
— Сразу видно, что риторика для вас — наука о снаряжении рыцарей, — Гринрой воздел к небу палец, — между тем как слово, бывшее прежде всего, существует ныне и впредь. И слово это сокрушает воинства и созидает царства.
— Что ж, — Майорано указал вдаль, где двигался довольно крупный отряд вооруженных всадников, — похоже, вам представится завидная возможность продемонстрировать силу всесокрушающих речей.
— Отчего вдруг? Разве мы не в землях христианнейшего короля Франции? Разве имя Святейшего Папы не оберегает нас от всяких бед?
— Как знать. — Старый пират пожал плечами. — Всадники, как один, вооружены, но лилий на вымпелах я не вижу. Очень может быть, друзья короля не входят в число их друзей… В любом случае вам стоит переодеться, дабы предстать во всей красе пред этой шайкой. Вдруг легат Папы Римского вызовет у них почтение.
— Ох, — Гринрой закатил глаза, — что есть эта повозка, как не инструмент воспитания истинно христианского смирения? И что есть эта дорога, как не след от бича Господнего?
— Согласен с вашим преподобием. — Лицо Майорано расплылось в улыбке. — Но что поделать — настоятелю собора Девы Марии не к лицу гарцевать на коне, а осла мы не захватили.
— Как же, — пробормотал Гринрой, спешиваясь, — один осел есть. И сейчас он к своему большому неудовольствию полезет в повозку.
Ругаясь себе под нос, Гринрой занял место за тяжелыми бархатными занавесями и, моля небеса дать пинка этим чертовым рыцарям, чтоб они убирались куда подальше, начал гримасничать перед полированным серебряным зеркалом, придавая себе вид, полный возвышенного достоинства.
Дорога под гору, как обычно, была не слишком приятной. Возница придерживал четверку коней, но те порывались идти вскачь, и поэтому каждый миг казалось, что возок еще чуть-чуть и перевернется в кювет.
— Эй, вы кто такие? — спросил незнакомый хриплый бас.
— Ты разве не видишь, — заговорил ди Гуеско. — На всех попонах, на всех плащах изображены ключи Святейшего Папы. Или ты знаешь еще кого-нибудь с подобной эмблемой? С дороги, деревенщина — это кортеж папского легата!
— Да по мне хоть святого Петра! Вы находитесь в землях преславного графа Тибо Шампанского, и он приказал докладывать обо всех вооруженных людях, передвигающихся по его дорогам.
— Ну, так ступай докладывай и не мешай нам делать свое дело! Иначе завтра же Его Преподобие объявит вашему королю, что его вассалы посмели задерживать личного посланца наместника святого Петра!
— Э, нет… Что там он кому будет говорить — не моего ума дело, а только вы отсюда никуда не поедете без разрешения моего господина.
— Что?! — взревел Майорано.
Гринрой услышал характерный звук мечей, покидающих ножны.
— Эдак нас тут всех порубят, — пробормотал он и дернул занавесь. — Остановитесь, дети мои! Еще никто из проливших кровь не сумел влить ее обратно. К чему в очередной раз пробовать? — Гринрой замолчал, желая убедиться в произведенном эффекте.
Отряд шампанцев в два раза превосходил его эскорт и настроен был довольно хмуро, однако, вопреки воинственной риторике и угрожающим жестам, нападать на легата представлялось им делом скверным.
— Вложите оружие в ножны, ибо хоть и сказал Спаситель: «Не мир я принес вам, но меч», но ведь вы же не Спаситель, а потому пусть его меч будет единственным, блистающим под Господними небесами. Я призван нести слово Божье, как голубь, выпущенный Ноем, призван носить в клюве оливковую ветвь — ибо слово мое так же благо для вас, как та ветвь для Ноя. Хватайтесь за этот спасительный прутик, и он вытащит вас из геенны огненной!
— О чем это он? — Обладатель слышанного уже хриплого баса повернулся к стоявшему рядом всаднику.
— А бог его знает…
— Ты прав, сын мой. Богу ведомы мои слова и ведомо деяние всякого живущего на этом свете. Удерживая меня от спасения душ человеческих, препятствуя мне в том, вы упорно стучитесь рукоятями мечей в скрипучие врата адской бездны! А знаете ли, отчего скрипят они? Оттого, что враг рода человеческого всякий день смазывает их слезами грешников! Берегитесь! Ибо скрип тех врат скоро достигнет вашего слуха, и даже адское пламя не осушит слезы на ваших очах!
Люди графа Шампанского по одному начали возвращать оружие в ножны.
— Эй, — командир пограничной стражи вновь обернулся к соседу, — давай-ка скачи к графу: пусть его сиятельство лично посмотрит, что за птица угодила к нам в силки. Вы того, ваше преподобие, — он обратился к Гринрою, заметно теряя гонор, — чуток погодите. Пропускать вас, не пропускать — не моего ума дело.
Глава 21
Война — область недостоверного.
Карл фон КлаузевицДолгий, рвущий душу вой похоронил тишину Тмуторокани. Таким воем матерый вожак оповещает стаю, что жертва для охоты найдена, загонщикам и засаде следует занять места в предвкушении кровавого пиршества.
Едва заслышав сигнал, касоги — спящие, полусонные, занятые будничными делами — разом вдруг схватились за оружие. Мгновение назад бдительные надзиратели могли поклясться, что дикие степняки ни о чем не подозревают. Доносившийся с конюшни молодецкий храп звучал музыкой для князя Давида и его союзников, но сверкнувшие в единый миг мечи осветили крепость сумеречной зарницей. Стража у ворот чуть замешкалась опустить засов в привратницкой, и спустя мгновение там уже не было никого, кто бы смог совершить это несложное действие.
Свежая кровь окрашивала бахилы касогов в бурый цвет, но их не интересовали такие мелочи. Еще несколько секунд, и городские ворота распахнулись. Войско русичей с гулом и ревом ворвалось в стены столь необходимой ромеям Матрахи. Так врывается морская вода в пробитый скалой корабельный борт.
— Круши! — неслось над древним городом.
Однако и без того никто не помышлял о мире. Гридни Давида, ромеи и херсониты, пойманные врасплох, вяло отбиваясь, пятились к цитадели — княжескому дворцу. В лицо им смотрели копья и мечи объединенной рати, в спину летели камни и дротики местных жителей.
— Руби их, никого не выпускай! — командовал Святослав, подавая яркий пример того, как следует выполнять приказ.
У самых ворот цитадели горстка наиболее ловких и удачливых защитников городских стен колотила чем ни попадя в дубовые створки, умоляя пустить их внутрь. Но из цитадели не было слышно ни звука — никто и не думал отворять ворота.
— Руби! Круши! — неслось над городом… и вой. Торжествующий волчий вой.
Отчаявшись найти спасение, обреченные защитники Тмуторокани падали на колени, бросая наземь оружие, умоляя о милости беспощадного врага.
— Не брать полон! — грозно ревел Святослав.
И тут распахнулись ворота цитадели. Первое, что увидел Великий князь, — всадника в блистающих чешуйчатых доспехах с чеканным зерцалом, мчащего на белом коне. Пурпурный шелковый плащ, развевающийся у него за спиной, не оставлял сомнений в том, что пред Великим князем ромейский полководец.
— Ага-а! — оскалясь, заорал Мономашич и с размаху метнул палицу в машущего ему руками врага. — В полон не берем! — Он склонился к луке седла, поудобнее сжимая топорище секиры, и в этот миг острый, словно шпиговальная игла, дротик ударил его в горло и, пробив бармицу шлема, вышел насквозь с противоположной стороны.
Свет померк во взоре Великого князя. Выпустив оружие, он обвис на конском боку, пытаясь ухватиться хоть за что-нибудь скрюченными пальцами.
— Моя, — прохрипел он, но его никто не слышал.
Не слышал он и того, как ворвавшийся в крепость Тимир-Каан, перерубив занесенную для броска руку начальника личной стражи Григория Гавраса со вторым дротиком, командует поднять его на копья, а затем бросить в огонь. Не видел, как бросают к ногам княжьего аргамака связанного Давида, как сдаются русичам гордые херсониты. Не слышал и не мог слышать, как шепчет, изнемогая от боли в проломленной грудной клетке, Григорий Гаврас: «Какая нелепость!»
* * *
Граф Тибо Шампанский удовлетворенно оглядел поле недавней схватки: несколько десятков распластанных тел радовали взгляд своей неподвижностью. Чуть в стороне, в тени деревьев, жалась кучка пленников, окруженная пешими латниками, разгоряченными только что завершившимся боем.
— Господь на нашей стороне! — Властитель Шампани улыбнулся и утер пот со лба. — Ну-ка, — он повернулся к оруженосцу, — скачи узнай, не требуется ли подмога людям де Пайена.
— Мессир, — оруженосец указал на дальний конец поля, недавно служившего ареной битвы войска Тибо Шампанского с королевским отрядом, — там скачет всадник с алой лентой на пике.
— Да, я вижу. — Граф прикрыл ладонью глаза от солнца. — Значит, и там наша победа — путь в аббатство свободен! Господь и Бернар! — закричал он, и три сотни рыцарей ответили ему слитным хором мощных восторженных голосов.
Через полчаса ликующий победитель стоял на коленях у ворот Клерво, склонив голову перед посланником Божьей справедливости для благословения. Недавний дождь, прибивший дорожную пыль, оставил после себя лужи, но граф, счастливый величием момента, не замечал ничего.
— Пусть все, кто следует за мной, — воздев руки, вещал преподобный Бернар, — нашьют на одеяние свое алые кресты наподобие этих.
Он указал на рыцарей Гуго де Пайена, стоявших за его спиной.
— Пробил час избавления от скверны! Пусть же слово Божье станет броней для вас, и лик Господень — вашим знаменем! Пусть мечи ваши, обращенные против нечисти, наполнятся силой креста Господнего. И помните: сам Отец небесный ведет нас устами святителя Иоанна. — Он сделал знак, и Гуго де Пайен поднял для всеобщего обозрения серебряный реликварий в виде человеческой головы. — Здесь хранится то, чему имя — Предвечная Мудрость, и прозвание которому — Спасение! Здесь хранится высочайший дар, оставленный человеку волею Господа нашего, знамение извечной милости его. Восстаньте и воспряньте, рыцари Божии! И да не будет на этой земле кого-либо, носящего оружие, кроме отмеченных печатью воинства Христова! Слово Истины следует перед вами, но если козни врага рода человеческого заставляют неразумных посягнуть на Истину…
— Смерть! — взревело войско. — Так хочет Бог!
— Во славу Господа да поразят клинки ваши диавола, овладевшего помыслами и телами смертных! И да спасется душа их, и да вернется прах к праху!
Гул одобрения был ответом ему, и звон оружия недвусмысленно говорил о пылком желании новых крестоносцев немедленно идти спасать души, обращая в прах бренную плоть.
На пустошь у монастырских стен вылетел одоспешенный всадник на взмыленном коне.
— Ваше сиятельство, — наездник осадил коня, — у Шантелера задержан эскорт папского легата.
— Кого?
— Легата Его Святейшества, — повторил гонец.
— Так ведите его сюда.
— Он отказывается. Говорит, что следует в Париж — к королю.
— В таком случае мое приглашение будет еще более настоятельным!
— Но его сопровождает немалый отряд папской гвардии. Они хорошо вооружены и, похоже, не собираются повиноваться.
— Никаких других вооруженных людей, кроме отмеченных знаком вот такого креста, — Тибо Шампанский указал на свой плащ, — не должно быть в моих владениях. Если они попробуют воспротивиться, пусть остаются в этой земле навечно! — для убедительности он топнул, точно прощупывая место для возможной могилы. — Мчись обратно и передай, что я не буду против, если сам легат и его свита развернутся и отправятся восвояси. Я также даю слово чести именем великого Учителя — преподобного Бернара, что не причиню ни малейшего вреда посланцу Его Святейшества, покуда он будет находиться в гостях — иного выбора нет. Спеши и передай мои слова, а мы последуем за тобой.
* * *
Людовик трясущимися от ярости пальцами расстегнул золотую фибулу и отбросил плащ в сторону. Короля Франции корчило от злобы. Воин, стоящий перед ним с опущенной головой, должно быть, прикидывал сейчас, каков шанс выйти из дворца живым: как ни крути, шанс получался минимальным.
— Мы не ожидали нападения, — оправдывался вояка. — Кто ж знал, что граф Шампанский вздумает восстать…
— Вы увидели перед собой несколько сотен рыцарей в доспехах и с оружием. Над ними развевалось знамя Шампани. Что же вы, интересно, подумали? Они, по-вашему, собрались на охоту с боевыми копьями? А доспехи их спасают от рогов оленей? Что вы подумали?
— Я посылал… — с испугом в голосе начал горе-вояка, — но моего человека убили, едва он приблизился к строю мятежников.
— Остолопы, Господи, какие остолопы! Где же отыскать разумных подданных вместо этих дармоедов?
— Они ударили так неожиданно… Мы едва схватились за оружие. Строй был разорван, большая часть солдат погибла в первые минуты боя… Лишь немногим удалось спастись бегством… Теперь граф Тибо стоит у ворот Клерво и в его армию собираются все новые и новые сторонники аббата Бернара. Все они нашивают красные кресты на плащи, и пока я добрался до Парижа, видел множество вооруженных людей, шествующих в сторону Шампани с такими крестами!
— Проклятие! — Король вскочил с трона и с неожиданной для себя резвостью побежал к неудачливому военачальнику. — Ты прозевал врага! Из-за тебя я лишился десятков превосходных солдат! Тебя следовало бы запереть в крепость! Но сейчас каждый меч на счету…
— Я благодарен, мой король!
— Ты пойдешь, и когда я скажу умереть — умрешь!
— Всегда верный слуга вашего величества!
Людовик Толстый уже не слушал собеседника.
— Каков подлец! — яростно взревел он, пиная ногой маленькую табуреточку, на которой во время собраний тронного совета сидел наследник престола. — Этот кликуша, возомнивший себя мессией, осмелился поднять оружие против меня? Ну, так от меча и погибнет!
— Мой государь, — попытался вставить слово замерший перед ним рыцарь.
— Ну, что еще?
— Я уже подъезжал к Парижу, когда меня нагнал отряд.
— Какой отряд?
— Отряд папской гвардии.
— Папской гвардии? — переспросил король. — Наконец-то этот чертов легат соблаговолил добраться до Парижа.
— Мой государь, там не было папского легата.
— Как — не было? Куда ж он, дьяволово отродье, подевался?
— Полагаю, что командир этих гвардейцев сможет лучше ответить на ваши вопросы.
— Так пусть он идет сюда! Да поскорее! У меня нет времени дожидаться!..
Оставшись один, король сжал виски, в которых гулко стучала спешащая к голове кровь.
— Шампань вспыхнула, — пробормотал он, натужно дыша. — Нормандия полыхнет со дня на день. Можно ли надеяться на Бургундию — неведомо. Лотарингия? Хорошо, что трон Империи пуст — нет сомнений, дворяне Лотарингии примкнули бы к моим врагам. Золото императора им ценнее, чем слова любых златоустов. Откуда ждать подмоги? Нужно слать гонца в Аквитанию и заключать брачный союз, нужно объяснить, что безумие клервосского пустосвята заразно и грозит не только Парижу, но и цветущим землям трубадура на троне, что Бернар не пощадит никого. Но успеет ли Гийом прийти на помощь? Господи, за что ты покинул меня?! Сколько лет я насаждал мир и покой во Франции, сколько лет трудился не покладая рук, дабы агнец здесь мог возлечь рядом со львом, не опасаясь быть пожранным! Чем же я заслужил гнев твой, Господи?
— Монсеньор, — услышал Людовик.
Человек, ждавший его повеления войти, не поражал ни красотой, ни богатством наряда, но было в его облике нечто странное, предупреждающее о близкой опасности. Так опасна мирно греющаяся на камне змея.
— Кто ты? — Король решительно шагнул в сторону гостя.
— Барон ди Гуеско, капитан гвардии Его Святейшества.
— Где легат? — Людовик продолжал быстро идти на собеседника. Обычно этот прием действовал безотказно: стремительно надвигавшаяся массивная туша монарха заставляла посетителя смешаться и отступить. Но итальянец был не таков. Он стоял, не меняясь в лице, точно не замечая королевского маневра.
— В плену, ваше христианнейшее величество.
— Тогда почему ты здесь?
— Чтобы сообщить вам, что граф Тибо Шампанский со своими людьми настойчиво пожелал пригласить в гости посланника Святейшего Папы, угрожая в противном случае уничтожить всех, включая Его Преподобие. А также слуг, кучеров, а может, даже и коней. Моей задачей было во что бы то ни стало сохранить жизнь принципала, а не демонстрировать свою доблесть. Легат в плену, но жив. Или был бы свободен, но мертв.
— Да, ты прав. — Король, остановившийся в шаге от Майорано, сжал кулаки, затем разжал и положил руку на плечо барона ди Гуеско. — Их там много?
— Мятежников? Я насчитал более трехсот рыцарей и, судя по всему, к ним прибывают новые подкрепления.
— Проклятие! Мы должны их разгромить…
За спиной Анджело Майорано грохнули об пол, опускаясь, древки копий стражи. Он мягко повернулся, освобождая плечо и кладя руку на эфес кинжала, но опасения были излишни — в тронную залу, покачиваясь на негнущихся ногах, медленно вошел аббат Сугерий.
— Что? Что произошло? — позабыв о госте, Людовик обратился к своему духовному отцу.
— Папский легат… — через силу прохрипел Сугерий.
— Да, я знаю, они захватили его. Этот выродок Тибо Шампанский.
— Захватили? — На бледном лице аббата Сен-Дени выступила испарина.
— Да, этот барон… Как тебя?
— Ди Гуеско.
— Барон ди Гуеско только что сообщил.
— Это многое объясняет. Должно быть, они пытали его.
— Кого? Барона?
— Легата. Государь, мужайтесь — Франция под интердиктом.
Торговый город Антверпен состоял из огромного и беспорядочного скопища домов вокруг ярмарки. Глядя на то, как расположены жилища вдоль дорог, именуемых здесь улицами, можно было предположить, что вечером, когда закрывались лавки, подгулявшие в трактирах купцы шли куда глаза глядят, в поисках, где бы преклонить голову. Если за день было выпито много, таковое быстро отыскивалось на ближайшем пустыре, а проснувшись, купец решал ставить там дом и затем строил новый трактир — поближе к дому. Его посетители находили, в свою очередь, новые пустыри. Так город разрастался, но весьма случайным образом.
Суетливая толпа целый день перемещалась по рыночным площадям, толкаясь, гомоня, переругиваясь, порою довольно активно пуская в ход кулаки и палки. И это имело одно крупное достоинство: в Антверпене можно было купить все, что вообще можно купить. Именно таким серьезным делом сейчас и занимался Лис, как водится, принявший на себя обязанность снарядить отряд к недолгому путешествию в Аахен.
Обреченный на вынужденное безделье Камдил присматривал за мальчишкой, размышляя, что же дальше надлежит с ним делать. Как ни противно, ни одна сколько-нибудь путная мысль не шла в голову, предпочитая витать невесть где.
В этот момент, возможно, чтобы прекратить бестолковые метания, по закрытой связи на Вальдара обрушился командный голос Джорджа Баренса.
— Чем вы заняты, друзья мои? — Речь стационарного агента, как всегда, была изысканно вежлива, но что-то в ее звучании заставляло внутренне напрячься, разве что не вытянуться в струнку.
— Все по плану, — не замедлил с ответом граф Квинталамонте, — готовимся к отправке на турнир. Лис пошел закупить лошадей и продовольствие.
— Вам следует поторопиться.
— Новые вводные?
— Можно сказать и так. Хотя, дорогой племянник, я думал, тебе уже известно.
— О чем речь?
— О Франции, мой дорогой, о чем же еще?
— Кто-то умер?
— Вероятно, да. И скорее всего это не последняя жертва. Произошло два события, как-то связанных друг с другом. Первое: Бернар Клервосский взбунтовал против короля Шампань и Нормандию.
— Уже весело. А второе?
— Второе — еще похлеще. Легат Его Святейшества наложил интердикт на христианнейшего короля.
— Погодите, дядюшка, я чего-то не понимаю. Насколько можно судить, самовольство Бернара Клервосского далеко не на руку святому престолу.
— Ты все уловил верно: неистовый аббат действует так, будто именно он — живой наместник бога на земле, а остальные — Папа, или, тем паче, король — так… Досадное неудобство на его пути. А тут вдруг понтифик, словно склоняясь перед ничтожным аббатом, решает подыграть ему… Это очень странно.
— Да уж, конечно, — подтвердил Камдил.
— Больше всего, — продолжал Баренс, — настораживает как раз эта нелогичность действий. И потому я очень хочу знать — нет ли внутренней связи между претензиями Никотеи на императорский престол и нынешними беспорядками во Франции.
— Какая же тут связь?
— А вот посуди сам. Никотея — девочка незаурядная. И по происхождению, и по образованию вряд ли найдется кто в Европе, кто может поспорить с ней на равных. Она выросла среди хитросплетений интриг константинопольского двора. Можно предположить, что севаста решила добыть императорский трон для своего мужа — это самое простое и логичное действие с ее стороны. Для чего, как я уже говорил прежде, она обратилась к витающему в облаках Папе Римскому с предложением начать крестовый поход против язычников-пруссов. Идея нашла поддержку. И в руках Конрада Швабского сейчас концентрируются немалые воинские силы. Другой вопрос — куда их вести? Но об этом позже… Представим на минуту, что Никотея успешно провернула операцию по захвату престола Западной Римской империи. Неужели же такая энергичная девушка, как она, будет почивать на лаврах?
— Вероятно, нет, — припоминая ясноглазую спутницу, подтвердил Камдил.
— И мне так кажется. Никотея — дочь Анны Комнины, а та, как мы помним, пыталась отнять трон у своего брата, Иоанна. По доброте душевной император ограничился заключением ее в монастырь, но вряд ли Никотея простила дяде даже это, более чем мягкое, наказание. Зная Никотею, я допускаю, что, получив в руки Западно-Римскую империю, она пожелает вернуть себе и трон ромеев.
— А при чем здесь Франция?
— А при том, мой друг, что Франция — самый опасный соперник Империи в отношениях с Римом. Тут Никотея, если, конечно, мои предположения верны, одним залпом убивает всех имеющихся в округе зайцев. Первым шагом она предлагает Ватикану военную помощь в наведении порядка во Франции, вторым — свалив на бедную Мафраз попытку убийства королевы Матильды, она скорее всего обратится к Англии с предложением союза против Людовика Толстого. Англия получит обратно Нормандию, быть может, Бретань. Не суть важно. Куда важнее другое: подмяв под себя Францию, под знаменем спасения веры Никотея наверняка решит взять под свою опеку небезызвестного нам Бернара Клервосского. Я не удивлюсь, если при активной поддержке Никотеи именно он станет очередным понтификом. Нынешнего Гонория II просто выбросят с Палатинского холма, как никчемную рухлядь. Папа, обвиненный в чернокнижии, недолго задержится на престоле святого Петра. Таким образом, через несколько лет на месте нынешней Европы возникнет агрессивная теократичесая империя, в которой всякое инакомыслие станет подавляться жесточайшим образом.
— То есть, дорогой дядюшка, ты хочешь сказать, что европейской цивилизации попросту негде будет зародиться?
— Это, пожалуй, чересчур однозначное утверждение. Я бы не настаивал, что все так фатально, но шанс кардинально изменить вектор развития Европы, несомненно, есть. Мы рискуем получить себе этакий исламский Восток, но только на западе.
— Нет Спасителя кроме Спасителя, и святой Бернар — пророк его?
— Что-то наподобие того.
— Малоприятная перспектива.
— Вот именно. Поэтому, Вальдар, я настоятельно прошу тебя как можно быстрее оказаться рядом с нашей очаровательной подругой и для начала выяснить, как далеко заходят ее планы.
— Ну шо, Капитан, — Лис ввалился в гостиничный номер, как обычно, не слишком заботясь о правилах хорошего тона, — мух гипнотизируешь?
Лицо его выражало радостное возбуждение, случавшееся с ним при всякой успешно провернутой афере. Можно было не сомневаться, что кому-то сегодняшний выход институтского менестреля на рынок стоил значительных убытков.
— Все зашибись! Как говорится: кони пьяные, хлопцы запряженные.
— А если по делу? — поморщился Камдил.
— А по делу — кони трезвые, хлопцы грузят обоз. Да, кстати, на тему обоза — ты Мафраз не видел?
— Нет. Я полагал, она в своей комнате.
— Да? Шо ж, тогда поздравляю. Ты не угадал ни одной буквы. В комнате нет ни Мафраз, ни даже следа ее стройного копытца.
Император ромеев слушал докладчика вполуха, пытаясь собраться с мыслями. Те разбредались, будто овцы на выпасе. Иоанн невольно ловил себя на странном ощущении — ему не хотелось ни вслушиваться в слова новостей, ни управлять Империей — самой древней и славной державой в подлунном мире.
— …Симеон Гаврас из Аахена шлет вам нижайший поклон, а также привет от вашей несравненной племянницы, Никотеи. И тайное известие.
— Что в нем?
— Симеон рассказывает о планах Никотеи добыть корону для своего мужа, для каковой цели самому Гаврасу следует рассорить герцогов Саксонии и Баварии и, вероятно, жениться на дочери первого.
— Саксония… Бавария… — пренебрежительно кинул Иоанн Комнин. — Надеюсь, хоть девица недурна собой, иначе жаль Симеона — красавец, храбрец… Но я доволен Никотеей. Я знал, что именно так она и поступит — в ее жилах течет императорская кровь. И уж конечно, Никотея не пожелает быть какой-то там варварской герцогиней — только первейшей! Все мы — Комнины — таковы. Одна беда: Григорий Гаврас опечалится. Он-то небось подыскивал сыну более достойную партию…
При упоминании имени архонта Херсонеса докладчик будто поперхнулся.
— Что это значит? — раздраженно поглядел на него василевс.
— Григорий Гаврас… — неуверенно, запинаясь, начал слуга.
— Да, я знаю: Григорий Гаврас — архонт Херсонеса. Что с ним?
— Сегодня пришло… Да, сегодня утром.
— Ну, говори!
— Послание от стратига касогов Тимир-Каана.
— И что он пишет? — нахмурился Иоанн.
— Он сообщает, что, как было договорено, честно ходил с севастом Давидом к русским на штурм Матрахи и помог ему взять крепость. Он пишет, что не лукавил и никогда не требовал чего-то большего, нежели было обусловлено в договоре. Но севаст Давид и пришедший к нему на помощь с ромейским войском архонт Гаврас замыслили завлечь в засаду и уничтожить его самого и всех его людей. Причиной тому — желание завладеть справедливой добычей Тимир-Каана. Спасаясь, он был вынужден искать союза с рутенами и открыл ворота города кесарю Святославу из рода Мономаха. Тимир-Каан пишет, что никогда не питал вражды к преславному василевсу ромеев и полагает, что лишь алчность и коварство архонта Херсонеса и севаста Матрахи — причина заговора против него. Он же, взяв в полон раненого архонта и многих других ромеев, а иных обменяв у рутенов, дабы не было между ним и Константинополем никакой вражды впредь, спешит возвратить без выкупа солнцеликому василевсу его людей и просит учинить суд над заговорщиками.
— Заговорщики… Гаврас… Что за вздор?! — Мысли Иоанна путались. — За кем осталась Матраха?
Глава 22
И создал Бог женщину. Существо получилось злобное, но забавное.
Из «Апокрифов»Симеон Гаврас недовольно отбросил перо. Ему было сыро и неуютно, поэтические строки не лезли в голову.
Вдыхая ароматы роз Я вспоминаю облик нежный. Я полон тра-та-та-та грез…Что можно вставить вместо «тра-та-та-та»? Вдохновенных? Я полон вдохновенных грез… Какая нелепая чушь эти «вдохновенные грезы»! Впрочем, девушкам подобная дребедень обычно нравится. А что дальше? Что же должно быть дальше! Например, о коже… белоснежной…
Симеон страдальчески поглядел на исчерканный лист, будто надеясь, что слова, подобно катафрактариям его турмы, заслышав голос командира, сами построятся в ровные блистательные ряды поэтических строк.
Но чуда не произошло. Гаврас вновь потянулся за пером, опустил его в чернильницу, несколько раз потыкал, очевидно, надеясь загарпунить вдохновение, да так и бросил. Пальцы турмарха сошлись в замок на затылке.
«Боже мой, какой ужас, — подумал он. — Адельгейда — милая, прелестная девушка… Она жила, не ведая горя, с отцом, собиралась выйти замуж за какого-то местного вельможу — все в ее жизни было просто и ясно. И тут появляюсь я, и мне предстоит разбить вдребезги этот уютный мир — для чего? Для того, чтобы дикий варвар, словно добычу своего беркута, заполучивший любовь всей моей жизни, напялил на голову императорскую корону? Какая несправедливость…» — Гаврас взял со стола неоконченную оду и поднес к свече. Пламя оказалось благодарным читателем, и скоро лишь пепел напоминал герцогу Сантодоро о терзаниях неразродившейся музы.
Он отряхнул пальцы и окликнул дремлющего у двери Брэнара:
— Я желаю проехаться, осмотреть здешние окрестности. Ты поедешь со мной.
— Как прикажете, мой господин, — негромко произнес старый воин. — Желаете взять еще людей или отправимся вдвоем?
— Хватит и нас двоих, — раздраженно ответил Симеон.
За городскими воротами он пустил коня в галоп и мчался так сломя голову, пока не почувствовал, что скакун начинает уставать.
— Куда мы едем, мой господин? — поинтересовался державшийся чуть позади Брэнар.
— Никуда. Я хочу согнать злость. Просто согнать злость.
— Чем вызван ваш гнев?
— Сложно объяснить. Я должен поступить так, как поступать не должен.
— Я этого и впрямь не пойму. Если не должны — не поступайте.
— Вот именно! Не поступать так, как я должен поступить, велит мне честь, и благородство, и… — Гаврас замялся, умалчивая слово «любовь», — и многое другое. Но есть интересы Империи. Ради них я должен пожертвовать тем, что для меня свято. Клянусь тебе, мой верный Брэнар, если бы сейчас из кустов выскочила шайка разбойников, я с радостью дал бы ей себя убить, чем испытывать эту муку.
— Разбойников следовало бы изрубить в куски только за то, что они разбойники, — пожал плечами Брэнар. — Если вы поясните мне, о чем идет речь, быть может, я смогу помочь советом.
— Я должен жениться на Адельгейде, дочери герцога Саксонского.
— Адельгейда. — Брэнар задумался. — Да, очень красивая девушка.
— Красивая, ну и что с того? Я люблю другую.
— Да и любите, кто ж вас неволит? Но если для Империи необходимо, чтоб вы женились на этой милашке, то скажу — василевс явно благоволит к вам.
— Благоволит… Что ты понимаешь!
— Да уж что-то понимаю… А ежели вам ни к чему мой совет, то приказывайте.
— Когда б я знал, что приказывать, — усмехнулся Гаврас. — Я ее не люблю, она не любит меня, а отец ее и вовсе желает моей смерти.
— Можно убить отца или похитить ее саму.
— То есть как — похитить?
— Легче всего у храма, — прикидывая в уме варианты, предложил Брэнар, — но при желании можно и из замка.
— Ну что ты, так нельзя!
— Почему же? Только прикажите…
— Ни за что! Но в одном ты прав — я должен с ней встретиться и поговорить с глазу на глаз.
— Так, стало быть, похитим ее, а потом вернем.
— Ты неисправим, Брэнар. Если мы похитим ее, то опозорим на всю жизнь.
— Как по мне, это бредни, — отмахнулся северянин. — Женщину нельзя опозорить вниманием мужчины, даже таким настойчивым.
— Молчи, ты мне здесь не помощник! Однако я знаю, кто будет полезен в этой ситуации.
Как и многие другие жители Империи, аахенский ювелир не любил афишировать свои ромейские корни. Его даже величали здесь на итальянский манер — «ломбардец» — ламборджино. Правда, те, кому приходилось сталкиваться с его хитростью, изворотливостью и безмерной алчностью, иногда прибавляли малопочтительное — Дьявол. Но в целом, Ламборджино Диаболо был человеком незлобным и благодушным. Его не слишком радовало громкое прозвище. И уж конечно, он не умел, как ему приписывала молва, варить золото из свинца — поэтому при виде состоятельного клиента, такого, как Симеон Гаврас, лицо его всегда излучало счастье.
— Скажи-ка, — усевшись на предложенный стул с резной спинкой, поинтересовался херсонит, — вхож ли ты к госпоже Адельгейде Саксонской?
— Монсеньор, — демонстрируя на лице огорчение, вздохнул Ламборджино, — я могу войти в замок герцога Саксонского, это не составит труда. Повидаться с доньей Адельгейдой куда сложней, а уж без свидетелей — так и вовсе невозможно. При ней всегда ходит толпа дам и служанок. А если она выезжает из замка — эскорт из десятка рыцарей. Пусть ваша светлость изволит написать записку, я могу спрятать ее в ларец с драгоценностями. Однако это очень опасно — нельзя точно сказать, кто обнаружит послание.
— Нет, послание — это лишнее, — покачал головой Гаврас.
— Монсеньор простит мою глупость? Но тогда мне невдомек, к чему…
— Лучше ответь мне, — не обращая внимания на разливающегося соловьем ювелира, продолжил Гаврас, — знаешь ли ты в замке какого-нибудь ловкого малого, который за вознаграждение согласился бы в нужный момент открыть калитку в воротах или сбросить лестницу со стены.
— Пожалуй, знаю, — задумался старый пройдоха.
— А есть ли в замке сад?
— О нет, сада нет. Здешние варвары не разводят садов в замках.
— Это хуже.
— Но там, где земли саксонского палаццо спускаются к реке, есть нечто вроде рощи. Насколько мне известно, каждый вечер — если только хорошая погода — Адельгейда гуляет среди деревьев в окружении свиты.
— Как раз то, что нужно. — Гаврас скрестил руки на груди. — В таком случае мне нужны украшения.
— Какие, монсеньор?
— Браслеты, кольца, фибулы, серьги — все, что найдется в твоей лавке. Пусть даже самого варварского и нелепого вкуса — главное, чтобы было много.
— Но позвольте узнать зачем?
— Затем, что они мне нужны. У тебя есть какие-то возражения на этот счет?
— О нет, монсеньор! Сколько угодно и когда угодно! По самой выгодной цене!
Сентябрь уже перевалил за середину, и ночи были довольно прохладны. От реки веяло сыростью. Симеон Гаврас старался поплотнее запахнуть плащ, чтобы укрыться от пронизывающего ветра. Для прятавшегося рядом Брэнара, как для любого северянина, подобное было в порядке вещей. Он смотрел на господина с удивлением и легкой укоризной, безропотно ожидая урочного часа.
Процессия Адельгейды Саксонской показалась, когда почти стемнело. Яркая луна золотила начавшие увядать листья и необычные плоды на ветвях.
— Ты все хорошо развесил? — прошептал Симеон.
— Да уж если глаз нет, то лбом наткнутся.
Герцог Сантодоро поднял большой палец.
— О, поглядите, моя госпожа, браслет!
— А вот кольцо! — послышался новый голос.
— Адельгейда, глянь — ожерелье из янтаря! Серебряный аграф!
Стройная, почти величественная процессия точно растворилась. По роще, весело сообщая друг другу о находках, метались служанки и благородные дамы, обнаруживая новые и новые украшения, шелковые ленты и засахаренные фрукты. Сама юная герцогиня, под стать окружению, бегала от дерева к дереву, радостно щебеча. Она и охнуть не успела, когда широкая, твердая, как деревянная лопата, рука Брэнара закрыла ей рот, а заодно и пол-лица. Со стороны могло показаться, что Брэнар лишь чуть дернул плечом, но Адельгейда будто вдруг исчезла с того места, где стояла секунду назад.
Глаза ее расширились от ужаса, она не знала, на что решиться: укусить обидчика, пустить в ход ногти или завизжать… Но тут, высветленное бесстыдно подглядывающей луной, пред ней возникло лицо взволнованного ромея. Он быстро заговорил, жестикулируя. Адельгейда с перепугу не могла разобрать слов, лишь смотрела на красивого необычайной для этих мест утонченной красотой принца, не сразу заметив, что больше ничто не мешает ей отвечать.
Адельгейда уловила в его речи слова, сходные по звучанию с латынью, которую ей вдалбливали давно, но довольно безуспешно. Вероятно, ромей извинялся за причиненные неудобства, на что-то сетовал… Она покачала головой, объясняя, что не понимает его. Затем положила руки ему на плечи и произнесла то ли вопросительно, то ли утверждающе:
— Amore.
Герцог Конрад Швабский недовольно оглядел комнату, переделанную Никотеей для частных приемов. Раньше в ней отдыхали стражники, дежурившие у покоев господина и госпожи, а теперь им была оставлена маленькая каморка, где едва можно было развернуться. То же, что Никотея именовала «кабинес», больше не напоминало герцогу о ратных забавах: ни составленных у стены копий, ни развешанных щитов, ни шлемов, разложенных вдоль длинной скамьи — шпалеры, полупрозрачные занавеси, в общем, нечто эфемерное, едва ли заслуживающее уважения.
— Радость моя, — буркнул герцог, — мне сообщили, будто ты пригласила сюда некоего рыцаря, прибывшего утром в Аахен.
— Да, это правда, — почтительно склонила голову Никотея.
— Почему же ты сама не сказала мне об этом?
— Мой дорогой, не унижай себя подозрениями. Не к лицу тебе — храбрейшему из воинов — выказывать малодушие перед женщиной.
— Малодушие? В чем же ты видишь малодушие? — Конрад поджал губы.
— Счастье жизни моей! Вероятно, я выбрала не то слово, но скажи, как еще назвать то незримое сражение, в котором ты по собственной воле каждый миг проигрываешь ничему, призраку?
— Любимая! Рыцарь, которого ты пригласила, — не призрак!
— Это большая для нас удача.
— Я тебя не понимаю. Где тут удача?
— Отрада глаз моих, удача уже в том, что родич короля Обеих Сицилий граф Вальтарио де ла Квинталамонте прибыл на турнир, который ты, с присущей тебе мудростью и дальновидностью, пожелал устроить. Я в восхищении от размаха твоих деяний — ты собрал князей в Аахен, устроил им отменную охоту, ты веселишь их души пирами, услаждаешь слух песнями миннезингеров, радуешь глаз танцами плясуний и игрой жонглеров. Твои сторонники благодарны и преданны тебе. Те, кто доселе колебался, привлечены твоей щедростью и благородством… Но ведь есть еще враги. Даже молния Господня не способна заставить их отринуть ненависть и склониться пред истиной. Но когда ты занят делами великими, позволь и мне, в меру сил, заняться тем малым, что доступно моему разумению.
— Конечно, я позволяю тебе, любимая. Но при чем тут граф?
— Я знаю графа Квинталамонте уже давно и видела его в бою. Поверь мне, немного в Европе найдется рыцарей, способных противостоять ему.
— С удовольствием преломлю копья в схватке с ним…
Глаза Никотеи удивленно расширились:
— Конрад, очи сердца моего, величие короля, а уж тем паче императора не измеряется количеством сломанных на турнире копий. Как учил Спаситель: «Оставим кесарю кесарево». Насколько я помню, герцог Баварии Генрих, прозванный Львом, по сей день не терпел поражений на турнирах. Во многом его популярность зиждется на славе непобедимого воина.
— И ты полагаешь, что этот граф способен одолеть Генриха Льва?
— Я буду чрезвычайно удивлена, если произойдет иначе.
Герцог Швабский передернул плечами:
— Не знаю. Слабо в это верится, но надеюсь, ты знаешь, о чем говоришь.
— Благодарю тебя, мой государь. Ты в который раз являешь мне образец прозорливости, — склонила голову Никотея. — Не тревожься, ступай к князьям, пусть они видят тебя веселым. Я же сделаю то, что ты велишь, наилучшим образом.
— Ты самая замечательная жена на свете. — Конрад подтвердил свои слова жарким поцелуем и, придерживая меч, размашистым шагом покинул кабинес.
Никотея поглядела ему вслед, вздохнула, утерла губы уголком платка и хлопнула в ладони, призывая служанку:
— Зови графа Квинталамонте.
Фульк Анжуйский сомкнул руки за спиной королевы и нежно притянул ее к себе. Та не сопротивлялась, Фульк ощущал легкую дрожь в ее теле, но не мог понять — страх ли это или скрываемое возбуждение.
— Не надо, милый, не надо, — шептала Матильда, не делая попыток вырваться, — нас могут увидеть.
С неуемной страстью юности Фульк продолжал осыпать поцелуями ее лицо, стараясь заглушить этот слабый протест.
— Ну что же ты, — повторяла изнемогавшая королева, — вокруг слуги.
Слова увещевания мало что значили для анжуйца — за мгновение счастья он готов был самолично перебить всех имеющихся в замке слуг вкупе со сторожей.
— Я люблю тебя, моя королева, — шептал он. — Люблю больше жизни!
— Остановись, — Матильда уперла ладони в грудь юноши, — сюда идут.
Фульк прислушался: из коридора и впрямь доносились голоса и тяжелые шаги множества ног. Пока шаги были довольно далеко, но коридор не имел иных дверей, кроме этой.
— Тебе следует спрятаться, — скороговоркой произнесла королева.
Фульк огляделся — личные покои Матильды не располагали к игре в прятки. Все здесь было более чем скромно, казалось, будто находишься не в апартаментах повелительницы Британии, а на провинциальном постоялом дворе. Единственным местом, пригодным для укрытия, была крошечная молельня, примыкавшая к покоям государыни.
Граф Анжуйский в три шага оказался в святилище, моля Всевышнего не судить его чересчур жестоко.
Звуки из коридора доносились все ближе. Вдруг звон шпор и топот стих, и в комнату вошел осанистый старец с жезлом — мажордом, хорошо помнивший еще неистового отца доброй королевы Матильды.
— Моя госпожа, — поклонившись, объявил он, — бароны Нормандии пришли сюда, дабы изъявить вам покорность и призвать к оружию.
Королева подошла к высокому стулу, повернутому лицом к молельне, и величественно опустилась на сиденье:
— Зови.
Делегация нормандской знати ввалилась в королевские покои, едва мажордом открыл двери, собираясь огласить волю Матильды.
Увидев суровую женщину на троне, они поспешили склониться, ожидая дозволения молвить слово.
— Я приветствую вас, — начала она. — Что привело столь доблестных воинов так далеко от родных земель?
— Моя королева, — старший из баронов поднял глаза на Матильду, — мы пришли к тебе — внучке великого Гийома Завоевателя, ибо признавали, признаем и впредь намерены признавать в тебе законную повелительницу Нормандских земель.
— Неужели меня обманули? Неужели бароны и рыцари Нормандии не присягали королю Людовику как своему законному сюзерену?
— Любая клятва, вырванная из горла силою оружия, не почитается данной — это ведомо каждому. И я, и все, кто остался верен роду герцогов Нормандских, будем рады воздеть алое знамя с леопардами вместо лазурного с лилиями. Приди же в земли предков твоих, помоги нам вывести французский дух из нормандской земли, владей нами по праву и закону! Владей нами по Божьей воле, ибо соизволение небес, пришедшее на землю через уста пресветлого Бернара из Клерво, указало на тебя, как на агнца в очах Господних.
— Агнца было велено принести в жертву вместо человека, — напомнила Матильда. — Я не желаю служить искупительной жертвой.
— О нет! — стушевался барон. — Не жертвой, но вестницей победы ступишь ты на землю родной Нормандии! Только чистым пред Богом Господь дарует победу!
Матильда невольно усмехнулась при упоминании о чистоте пред Богом.
— Ваши слова лестны для меня. — Она встала, обращаясь ко всем баронам. — Я не могу сегодня ничего обещать. Как известно вам, войско нынче в руках моего нареченного, короля Гарольда. Но я буду ходатайствовать перед ним, чтобы родовые земли Нормандского дома были возвращены туда, откуда их столь дерзко исторгли.
Шум одобрения был ей ответом.
— Теперь ступайте. — Матильда взмахнула рукой, жестом отпуская посольство. — А ты, — повернулась она к мажордому, — позаботься о том, чтоб моих людей разместили наилучшим образом.
Вельможа поклонился и распахнул дверь, давая знак баронам следовать за ним.
— Ну, слава богу, наконец-то они ушли! — Матильда бросилась к ажурным дверям молельни.
Фульк Анжуйский вышел ей навстречу с прямой спиной и таким выражением лица, будто в домовой часовне его поджидали неупокоенные духи Генриха Боклерка, а заодно и самого Вильгельма Завоевателя.
— О господи, какая глупая игра — быть королевой. — Матильда обвила шею юноши.
— Постой, — отстранился Фульк, — но ведь это же война!
— Конечно. Я должна была ее начать, ибо нельзя поощрять злодея, который пытается захватить твои земли — это очевидно. Я рада, что мои бароны столь быстро уразумели, чью руку им следует держать.
— Матильда, любимая! Я готов держать твои руки целую вечность, но ведь это война! Я — вассал короля Франции, и обязан быть там, рядом с ним! Честь рода требует! Ведь доблесть и верность — первейшие добродетели истинного рыцаря. Сердце мое разорвется на части и кровь слезами выльется из глаз. Но я вынужден буду сражаться против тебя, любимая моя!
— Нет, что ты, молчи! — Матильда ладонью закрыла юноше рот. — Ты — мой пленник! Я тебя никуда не отпущу! Во всяком случае, пока не окончится эта глупая война.
— Ты станешь меня удерживать? — прищурился Фульк.
— Конечно. Тише, опять кто-то идет. — Она отпрянула в сторону.
На этот раз шаги были одиночные, но дочь Генриха Боклерка готова была поклясться, что гулкий топот десятков баронских ног ей куда приятнее, нежели этот мерный шаг.
Король Гарольд вошел в апартаменты Матильды, широко распахнув дверь, даже не задумываясь о докладе. Лицо его было сумрачно, и перекатывающиеся на скулах бугры желваков недвусмысленно говорили, что настроение Мономашича ниже среднего.
Кивком головы он приветствовал Матильду, затем, увидев застывшего Фулька, протянул:
— А, Анжу, и ты здесь?
— Граф желает нас покинуть. Он рвется домой. Ему не терпится сложить голову, сражаясь против нас.
— Не терпится? — Мстислав говорил невпопад, точно не вслушиваясь в речь собеседницы. — Что ж, дело хорошее. Пусть складывает. Ты ступай отсель пока, — бросил он Фульку, — потом с тобой потолкуем.
Матильда обмерла. Этот заморский медведь пугал ее своей непредсказуемостью. Она не могла понять, что таится за его словами: равнодушие или же скрытый умысел?
— Мы позже договорим, — многозначительно глядя на Фулька, произнесла королева.
Тот опустил голову в поклоне и вышел.
— Мне тут, Мотря, сон дурной приснился, — оставшись наедине с нареченной, поведал наследник Боклерка. — Ночью, в самую полночь. Как преклонил голову, так словно и провалился. И привиделось мне, будто гощу я у батюшки в подводном тереме. А батюшка все плачет да убивается, и слезы льет великие. И уж столько тех слез, что всю округу залило, венцы колоколен едва виднеются. Я батюшку утешить пытаюсь, а никак не выходит. Да и того пуще. Чувствую — уже сам захлебываться начинаю. Поплыл я, погреб, вдруг глазом кинул: в небе белого сокола коршун черный, и вороны остроклювые терзают, на куски рвут. А мне-то ему и помочь нечем. Ни лука, ни стрел. Все в терему осталось. Я как уразумел, что оружия при мне нет, так враз и прокинулся. Чую — дурное сулит такой сон. А об чем — сказать не могу.
— Мне тоже неведомо, — выдавила Матильда. — Да и недосуг нынче о том мне размышлять. Во лбу и в затылке будто огнем горит. Не обессудь уж, мой господин, нынче я тебе не в помощь.
Мстислав задумчиво поглядел на красавицу:
— А и ладно. Пойду Георгия Варнаца спрошу. Может, он знает.
— Мудрость твоя безгранична, — скороговоркой ответила королева. — А сейчас прости, я желаю отдохнуть от тяжких дум.
Король нахмурился, покачал головой и направился к двери. Выждав, пока он уйдет, Матильда вскочила со стула и бросилась в коридор.
— Моя повелительница, — медлительный мажордом шествовал навстречу ей, торжественно неся перед собой жезл как знак высокого сана. — Бароны размещены и ждут вашего приказа.
— Где! — крикнула Матильда.
— Где размещены?
— Где граф Анжуйский?
— Я видел его у ворот…
— Скорее! — вскричала королева, и в ее тоне было что-то похожее на тон неистового отца. — Верните его!
— Верный слуга моей госпожи, — испуганный мажордом повернулся и зашагал в обратном направлении.
— Верните его! — тихо и жалобно произнесла Матильда. — Прошу вас, верните!
Дон Вальтарио склонился перед блистательной Никотеей, и она лучезарной улыбкой ответила на его приветствие.
«Просто замечательно, — делая шаг навстречу рыцарю, подумала севаста. — Я как-то забыла, что он носит этот нелепый плащ со знаком крестоносцев бесноватого аббата Бернара. Как раз то, что нужно!»
— Друг мой, — произнесла она столь нежно, что сердце доблестного рыцаря поневоле забилось часто-часто, — ты не представляешь, как я рада тебя видеть. Воистину, судьба и впрямь благосклонна ко мне, коль возвращает то, что дорого мне.
— Я смущен вашей речью, прекрасная герцогиня.
— Отчего же? Мои слова правдивы и не таят подвоха. В тот злополучный день, когда вероломная Мафраз попыталась отравить милую королеву Матильду, в тот ужасный день, когда я была вынуждена бежать, чтобы спастись от скорого и беззаконного суда, более всего я жалела о том, что расстаюсь с такими преданными друзьями, как ты и Симеон Гаврас. Теперь же судьба вернула мне и Симеона, и тебя.
— Симеон Гаврас здесь?!
— Да, он недавно приехал на турнир. И… — голос Никотеи вдруг обрел тревожные нотки, — похоже, здесь ему угрожает большая опасность. Он сам засунул руку в осиное гнездо.
— Неужели? Уж конечно, он не мог поступить бесчестно.
— О нет! О бесчестье речи не идет! Нелепая случайность. Но теперь на турнире Симеона ждет поединок с герцогом Баварии Генрихом Львом. А это воистину непобедимый воин.
— Прямо сказать, и Симеон весьма неплох.
— Глупец, кто усомнится в этом. Но вот беда: наш милый друг Симеон всерьез и, как мне кажется, не безнадежно влюблен в невесту герцога — прелестную Адель. А зная благородную душу его, рискую предположить, что он скорее даст убить себя в схватке на боевом оружии, нежели позволит толпе зевак судачить, что поразил суженого возлюбленной своей, только б обладать ею. Прямо сказать, я очень тревожусь за него, — Никотея вздохнула, — однако неизменна моя надежда и вера в доброту Господню. Всевышний найдет способ избавить благороднейшего из своих мужей от столь нелепой и глупой погибели.
— Я столь же верую в милость небес.
Никотея улыбнулась суровому рыцарю, понимая, что пущенные ею стрелы попали в цель.
— Но я хотела посоветоваться совсем о другом, — подходя очень близко к графу Квинталамонте и давая ему возможность вдыхать аромат пряных благовоний, проворковала ромейка. — Вы, как я понимаю, теперь из Британии?
— Да.
— По прошествии времени, я думаю, всем уже стало достоверно известно, что негодяйка Мафраз входила в тайную секту убийц-ассасинов. Я бы хотела восстановить прежние добрые отношения с кесарем Мстиславом, или, как его нынче именуют, королем Гарольдом. Я всегда питала к нему родственную любовь и рада буду с сестринской любовью приветствовать королеву Матильду, дабы не осталось между нами никаких недомолвок и злобы. И клянусь святым крестом, — Никотея будто невзначай положила свои тонкие пальчики на алый крест, нашитый поверх белой орденской котты графа Квинталамонте, — если Господу будет угодно сделать меня императрицей, я с радостью помогу Гарольду и Матильде вернуть земли Нормандии, отторгнутые коварством злобного обжоры Людовика Французского. Я прошу тебя, Вальтарио, как старого преданного друга: сразу после турнира возвращайся в Британию. Убеди короля Гарольда, убеди мудрого отца Георгия, что наш союз станет залогом мира и процветания как Империи, так и Британии!
— Я не премину сделать это.
— Вот и прекрасно. — Никотея снова улыбнулась так обворожительно, что граф едва удержал глубокий вдох. — А теперь прошу тебя — иди и хорошо отдохни перед турниром. На ристалище будет немало достойных соперников. Особо же — Генрих Лев.
Она, придерживая Камдила под локоть, подвела к самой двери, открыла ее и удивленно воззрилась на место, где должен был стоять свирепый цербер ее стражи.
— Прошу извинить, милый граф, у меня дела. — Герцогиня Швабская наградила «старого друга» еще одной улыбкой и, дождавшись, когда он уйдет, хлопнула в ладоши. — Стража! — Затем, чуть помедлив, крикнула погромче: — Эй, стража!
Громоздкого вида часовой появился из-за поворота. Как показалось Никотее — из небольшого чуланчика, где обычно хранились свечи. Он бежал к госпоже, на ходу поправляя сбившуюся набок одежду.
— Где тебя носит, негодник? — строго произнесла герцогиня.
— Прошу извинить, моя госпожа, — изображая полнейшее раскаяние, пробасил верзила. — Брюхо подвело, совсем невмоготу было!
— Брюхо подвело? — Никотея втянула воздух. Ноздри ее затрепетали. — Тогда почему, бездельник, от тебя пахнет мускусом?
Глава 23
Плечи, лишенные головы, не нуждаются в эполетах.
Наполеон БонапартРев на городской площади становился все громче, и Гарри уже не мог перекричать ликующую толпу.
— Бочку, бочку катите! — проорал кто-то, и этот вопль был подхвачен десятком голосов.
Тотчас ворота ратуши широко распахнулись, и охваченные порывом горожане выкатили из винного погреба огромную бочку, ждавшую вино нового урожая. С дружным выдохом исполнители народной воли поставили бочку, и Гарри, ухватившись за ее кромку, подтянулся, чтоб перебраться из седла на импровизированную трибуну.
— Слушайте меня, добрые люди! Слушайте, что буду говорить я — Гарри ап Эдинвейн, потомок славного Эдинвейна, сына Брадвена! Настал час, который предвещали наши пращуры! Настал день и настал час, избавитель пришел к нам из-за моря, пришел по воде без корабля! Ступил в страну нашу, не затронув ничьей земли! Не желает он ничего, кроме Истины и Спасения — для вас, для каждого! И знамя, что развевается нынче здесь, — Гарри указал на алое полотнище с тремя сплетенными в кольца змеями, — предвестило свободу нашу! Поднимитесь с колен, как силою милосердного Спасителя встал я! Возьмитесь за оружие, ибо тот, кто не держит меч, не удержит и волю! Сколько лет, сколько десятилетий вас, отцов и дедов ваших стали звать агнцами, а попросту — баранами, и покориться, подставить шею под нож? Вы уверовали в это, уверовали настолько, что позволяете безропотно стричь себя и подавать на блюде себя самих и детей ваших! Вот они. — Гарри ткнул пальцем в десяток связанных монахов чуть поодаль бочки. — Они — ваши загонщики! А эти, — его палец метнулся в другую сторону, где, едва держась на ногах, стояла горстка израненных рыцарей, — мясники на бойне. Плащи их красны от вашей крови, и богатства их — от продажи ваших шкур!
— Смерть! Смерть им! — взревела толпа.
— Они умрут, — обнадежил Гарри, — но и все мы умрем в свой час. В том ли суть жизни, чтобы кичиться числом дней, проведенных в этой юдоли печали? Стоит ли заботиться, больше или меньше раз солнце и луна осветили бренные тела наши? Дни гонителей сочтены, они умрут, и воздастся им по их вере. В чистилище они будут ждать Страшного суда, сетуя и плача, ибо несть числа прегрешениям их! Тем же, кто уверует в Спасителя, пришедшего в этот мир из вод озера Сноудон, суждена другая участь. Дух их будет пребывать всегда среди живущих! Как змея меняет кожу свою, оставаясь собой, и человек станет менять тело свое, точно ветхую одежду — сбрасывая изношенную плоть и облекаясь в новую. Вы станете жить вечно, идя путем Добра, Истины и Света, предначертанным Спасителем! Ибо сам он — лучший пример словам моим! Обезглавленный в недавней сече у пяти холмов Великий змей — породитель мудрости, даритель познания добра и зла — возродился в кротком юноше, имя которому Дар Божий, титул которому — Спаситель!
Толпа, завороженная словами оратора, снова возбужденно зашумела. Недавняя сеча, произошедшая в землях Уэльса между объединенными воинствами королей Генриха Боклерка и Гарольда Заморского с неистовой вооруженной толпой аббата Бернара из Клерво, отгремела совсем недавно и была всем достопамятна. О ней шептались и рассказывали диковинные вещи. Говорили, будто в гуще боя сам аббат прорвался к шатру Верховного повелителя, которому служили оба короля, и узрел воочию, что владыкою владык был огромный змей с человечьим лицом. Не убоявшись чудовища, Бернар отсек ему голову и тут же сам исчез, как не бывало. Воинство его — огромное, но лишенное вождя — разом вдруг утратило силу, точно парус на сломанной мачте, и лишь немногим удалось спастись бегством с места побоища. Эти-то счастливчики и поведали о невиданном чуде, которому были свидетелями.
Обрастая деталями и подробностями, слухи росли и ширились. Ясно было одно — те, кто сражался на змеевой стороне, победили. Теперь же из слов Гарри следовало, что сам король королей — сильный над сильными мира сего, — презрев смерть, возвратился не грозным мстителем, а кротким юношей, чтобы нести спасение уверовавшим. Все это поражало воображение, заставляло содрогнуться, но принять сплетенных змей символом веры…
Для подавляющей части стоявших на площади в этом крылось нечто большее, чем просто святотатство: крушение мира, смещение верха и низа, добра и зла — всего того, чему учили сызмальства. Однако много находилось и таких, кто без промедления заорал во все горло: «Верую!» — в основном молодые крепкие парни. Огонь речей Гарри рождал ответный пламень в их очах, и оттого крик на площади становился все неистовее. Постепенно к нему присоединялись новые голоса, и скоро рев одобрения несся отовсюду, куда только достигал взор.
— Этим мясникам — головы с плеч! — Гарри кивнул в сторону пленных рыцарей. — А этим… — он посмотрел на монахов, — с ними разговор другой будет. Всю жизнь, укрывшись за стенами обители, они и подобные им мироеды жировали, убеждая нас, что бормотания и завывания в храмах спасают от каких-то невзгод и предвещают жизнь вечную. Но в одной только песне любого из бардов смысла и святости больше, чем во всех псалмах монастырской братии. Пусть же теперь их всеблагой бог поможет смиренным клирикам честно потрудиться во благо каждого из нас — они расплатятся за хлеб, что мы им давали!
— Пусть! — заорала толпа. — Пусть расплатятся!
— Отныне их жребий — выгребные ямы и сточные канавы! А если не пожелают в поте лица добывать хлеб свой, эти же канавы станут их домом и последней обителью!
В жмущихся к стене монахов полетели гнилые овощи, грязь, камни и куски навоза.
— Слава принцу Гарри! — крикнули в толпе, тысячи голосов подхватили славицу, и ветер разнес ее по всему Уэльсу.
— Этого ко мне! — благосклонно принимая данный народом титул, показал предводитель мятежников и ловко спрыгнул в седло. — Вот этого старика — аббата Кеннета.
Настоятель Самманхэртской обители аббат Кеннет был человеком не робкого десятка. Ему — сыну и внуку рыцарей, выросшему на рассказах о доблести предков не менее, чем на проповеди смирения, — не впервой было встречать опасности на своем пути. Всякий раз вера в слово Божье помогала ему одолевать козни лукавого. Но теперь испытание представлялось отцу Кеннету последним из выпавших на его долю. Когда мятежники со змеиной троицей на знамени ворвались в монастырь, настоятель еще питал надежду остановить их святостью места и знаком креста, но тем было все нипочем.
Подобно варварам Атиллы, которого великий Григорий Турский именовал бичом Божьим, врывались они под своды храма и в кельи братии, хватая, что попадет под руку, и убивая осмелившихся хотя бы возвысить голос, а уж тем паче — оказать сопротивление. Аббат Кеннет и сам не надеялся пережить тот ужасный день, но Господь сулил ему иное. Предводитель мятежников сохранил пленникам жизнь лишь затем, чтоб у ворот крепости они держали щиты над головами орудовавших тараном разбойников.
Помещение, куда доставили отца Кеннета, было ему хорошо известно. В прежние времена здесь находились личные покои главы епархиального суда, но теперь голова несчастного, насаженная на пику, торчала у входа, недвусмысленно свидетельствуя, что хозяину жилище уже не понадобится. Настоятель с грустью подумал, что рядом есть место для еще одной пики, но промолчал, читая про себя боговдохновенные слова молитвы «Ave Maria gratia plena».
Новый Атилла ждал его, сидя за пиршественным столом, на котором вместо серебряных блюд и чеканных кубков стояла глиняная миска с похлебкой да кружка эля.
— Ешь, пей, — то ли приглашая, то ли командуя, жестко произнес Гарри.
— Если настал мой смертный час, я предпочту немного подождать и вкушать пищу, обещанную праведникам в царствии Божием, нежели брать кусок со стола твоего.
— Гордец, — глядя из-под насупленных бровей, криво ухмыльнулся Гарри. — Твой смертный час не настал и, верно, еще не скоро настанет.
— Все в руке Господней.
— Может, и так. Да только ты ведь не заглядывал в его ладонь.
— Верно. Но и ты тоже.
Мятежник громко захохотал.
— Гордец! — вновь повторил он. — Но смельчак. Ешь и пей — я приглашаю тебя. Преломи со мной хлеб.
— Ты убиваешь людей моих и зовешь преломить хлеб с тобой?
— Да, я убиваю их. Впрочем, не вы ли твердите, что и волос не упадет с головы без воли Божьей? Стало быть, я исполняю его волю.
— Не богохульствуй.
— Это хорошая отговорка, когда не знаешь, что ответить. Но оставим пустые споры. Я призвал тебя сюда не затем, что решил накормить, и не потому, что не с кем поговорить. Я помню тебя, отец Кеннет. Помню с тех пор, когда Господь послал мне испытание за малодушие и, лишив возможности ходить, дал время хорошенько подумать, прежде чем узреть Спасителя.
— Я тоже помню тебя, Гарри. Помню с тех пор, когда ты просил милостыню здесь неподалеку — у ворот святого Кутберта. И был жалок, и не смел помыслить называться потомком одного из древнейших родов в Уэльсе.
— Не будем спорить о моей родословной. Ты о ней знаешь вряд ли больше, чем я. А я знаю немного. Кому известно, может, славный Эдинвейн и впрямь мой предок? Уж точно я потомок Адама, как и он. И, значит, мы с ним в родстве. В этом мире имена рождают имена, и пока новые герои не станут вести свой род от меня, будет лучше, если я стану вести его, ну, скажем, от того же Эдинвейна. Почему бы нет?
— Это самозванство и гордыня.
— Ты всегда бросал мне пенни, когда проезжал мимо. Так что будем считать, что загодя внес хороший выкуп за свою жизнь. Я помню твою доброту, отец Кеннет, и не стану платить за нее злом. Более того, и здесь, и в округе многие судачат об уме твоем столь же, сколь о доброте. То, что ты сказал о происхождении моем, — глупо. Но памятуя, чем вызваны эти речи, я не намерен карать тебя за них. Ибо не для того я призвал сюда, чтобы карать.
— Тогда для чего же?
— Я хочу предложить тебе состоять при мне.
— При тебе — побивающем мирных клириков и лишающем жизни благородных воинов, вся вина которых в том, что обнажили мечи они за правое дело?
— Ну да, при мне. Когда я стану принцем Уэльса — а я стану принцем Уэльса, — мне понадобится свой лорд-канцлер, как у британцев. И это должен быть разумный человек, знающий и почтенный.
— Отчего же ты не найдешь такого среди соратников и друзей своих?
— Поскольку я знаю, что ты неглуп, то, полагаю, тебе нравится злить меня. Если б таковые среди них были, я бы не звал тебя.
— Но я враг твой.
— Опираться можно лишь на то, что сопротивляется. Я знаю, что ты не веруешь в Спасителя из Сноудона. Но ты добр, честен и многоучен. Я знаю, ты никогда не полюбишь меня, как следует вассалу любить сюзерена, но и не ударишь в спину. Что же касается веры, надеюсь, со временем ты уразумеешь, что я прав. И то, что превыше мудрости земной, откроется тебе во всем невероятном великолепии!
— Не откроется, Гарри, сын Неведомого. К тому же у тебя не будет времени. Предрекаю, что голова твоя скатится с плахи чуть позже того часа, когда узнаешь, как иуды, пригревшиеся на груди твоего «Великого змея», предадут его. Впрочем, и без того он скоро предстанет пред благочестивейшим отцом Бернаром, дабы получить свое.
— Иуды? Бернар? Ты о чем говоришь, несчастный?
— О том, что ждет тебя, Гарри. Можешь казнить меня, как и прочих, — не отступлюсь я от слова своего. И то скажу тебе: даже если паче чаяния раздобудешь ты кознями Сына погибели древний венец Уэльса, голове твоей не удержать его. Ибо не дано грабителю и убийце править державой.
— Так ты говоришь «нет»? — Гарри поднялся из-за стола и в упор поглядел на отца Кеннета.
Отец Кеннет улыбнулся краешками губ, стараясь, чтобы это движение осталось незамеченным собеседником.
— Я скажу тебе «да», если поклянешься ты не убивать более людей Божьих. И даже над врагом своим не чинить расправы бессудно. Если воля твоя остановит грабителей и насильников, если восстановишь ты мир и благочиние — тогда лишь я отвечу тебе «да».
— Да, хорошо, — как-то невпопад ответил Гарри. — А сейчас иди, мне надо подумать о твоих словах.
Если мы выпьем больше, чем надо, В канаве отыщем последний приют…разносилось под сводами корчмы,
лишь только откроют ворота ада — дохнем на чертей, и они помрут.Хозяин с укоризной поглядел на упившихся посетителей — по виду чужестранцев. На предстоящий рыцарский турнир собралось немало иноземных гостей, кого тут только не было — даже ромеи с родины доброй госпожи Никотеи сочли долгом сразиться во славу прекрасной герцогини Швабской. Эти были не ромеи. Хозяин корчмы, повидавший много приезжих в своем заведении, затруднился бы ответить, из каких мест прибыли не в меру шумные гости. Но песня их ему не нравилась. Он смотрел на горлопанов, пытаясь определить род занятий:
«Одежда небогатая, но добротная. Лица какие-то… Будто топором рубленные. На слуг не похожи, заносчивости во взоре нет — той самой, которая в один миг превращается в угодливость. На оруженосцев — тем паче не похожи. Приказчики? Тоже вроде не то. Может, какие ремесленники?..»
— Эй, — обрывая непонятную песню на полуслове, крикнул один из посетителей и поманил толстуху с кувшином в руках.
Та не поняла ни слова из всего, что произносилось дальше, но, увидев на столе пустые кружки, тут же наполнила их пивом.
— Что за дурацкая страна, — обращаясь к собутыльнику, возмутился певец, — я твержу им, что хочу вина. Не все же господам хлестать эту самую… Ну, как ее… мальвазию. Я хочу попробовать вино!
— Ага, — кивнул его визави и одним глотком переполовинил содержимое кружки.
— Дурачье, тупицы! — продолжал его приятель. — Ничегошеньки не разумеют. — Он поглядел на сотоварища помутневшим взором. — Вот скажи, что мы тут делаем? Какого дьявола рогатого мы сюда забрались?
— Ну, так это…
— Что ты мне твердишь: «Это, это»! Тащимся, как шлюхи обозные, за Сыном погибели. А к чему? Зачем? Кто скажет?
Его собеседник не проявил ни малейшего желания быть тем, кто что-то скажет, и снова уткнул усы в пиво.
— И я все думаю — как же деру дать? Прихватить барахлишко, да только нас и видели.
— Эт того… — с сомнением высказался его напарник.
— Да без тебя знаю, что опасно. Не знал бы — уж давно убег. Вот мне где все это. — Говоривший ткнул пальцами себе в район гортани. — Видеть их всех не могу! Будь проклят час, когда я бросил родную лачугу, ворота святого Кутберта, милый сердцу Уэльс! Только и осталось это гнусное пойло! — Он с ожесточением схватил кружку и выплеснул ее содержимое на пол. — Тьфу, дрянь!
Пропойца с грохотом поставил пустой сосуд на столешницу и замер с открытым ртом — перед ним стояла девица писаной красы, в полупрозрачном наряде и с кувшином чеканного серебра в руках.
— Эт-то что? — просипел он.
— Мальвазия. Как ты и желал. — Прелестница наклонила сосуд, и винная струя начала жадно заполнять кружку. — Хочешь ли еще чего-то? Я могу дать тебе все. — Она призывно качнула округлым бедром.
— Оно бы, в общем, неплохо, — так и не придя в себя, расплылся в ухмылке валлиец, поднося к губам пиршественную чашу.
— А могу все отнять, — как ни в чем не бывало сказала красавица.
В ту же секунду вино, до краев налитое в кружку, вспыхнуло, опаляя лицо забулдыги.
— Ты, видно, забыл, несчастный, что тебе велено? Убежать вздумал?! Забыл, что и сама жизнь твоя в моих руках?
— Я, я готов! Все что скажешь, повелитель!
— Отведите мальчишку в Клервосскую обитель к аббату Бернару.
— Но как? Ведь рыцарь и его люди…
— Не моя забота. Говорил же — пока будешь послушен воле моей, никакое оружие не страшно тебе. Так что не заставляй меня ждать, ибо не вино превращу я в пламень. Огнем станет кровь в жилах твоих.
— Всеблагий боже, — прошептал недавний дебошир.
— Я рад, что ты понял, — прозвучало ему в ответ, и прелестное личико девицы вдруг обратилось в красную от возмущения рожу хозяина таверны. — Эй, вы оба! Ты и ты, — он ткнул пальцем в осоловелые физиономии посетителей, — платите деньги и убирайтесь вон! Здесь приличное заведение! Я не позволю всякой швали мыть здесь пол моим пивом! Уразумели? — Он для убедительности потряс перед валлийцами увесистой дубинкой. — Если не хотите закусить вот этим, гоните монету и проваливайте!
— Да-да, — еще не в силах отойти от ужаса, протрезвевший валлиец положил несколько медяков на столешницу. — Уже идем.
Он подхватил молчаливого перебравшего друга и потащил его на улицу.
— Ты видел? Видел? — шептал он по дороге.
— Хозяина?
— Ангела!
— Не-а.
— Проклятие! Надо что-то делать! Ангел повелел бог его знает как доставить этого чертова мальчишку в Клерво — к аббату Бернару.
— Ишь ты…
— Да что «ишь ты», что?! Это ж не кошелек, не гребень, чтоб его утащить! Он живой, и чудодей к тому же! А вокруг — рыцарь с его отрядом. Какие там рожи — одна другой страшнее!
— И то, — согласился его приятель.
— Хорошо тебе говорить, — простонал горестный побирушка. — А мне ангел сказал, что ежели не сделаю я, как он велит, то кровь в жилах в пламень обратит! Может, и в твоих тоже.
— Ну, тогда чего?
— Чего-чего? Сам думаю, чего… Обмануть как-то надо. Чтоб не силком он за нами пошел, а как бы впереди нас.
— Да-а-а, — почесал в затылке немногословный собрат.
— Это все, на что ты способен? — возмутился первый. — Всегда я за тебя думай! — Он замер на месте. — Слушай, а если перед турниром взять да рыцарю нашему на седле подпруги того… подрезать? Он на всем ходу шмякнется, все к нему побегут, а мы тут стрекача и зададим. И мальчишка тоже.
Второй остановился и смерил говорившего долгим удивленным взглядом.
— Да ладно, не говори ничего. Сам понимаю. Ерунда получается. И не побегут все, и мальчишка за нами не увяжется, да и, чего мудрить, стоит лишь нам в бега пуститься, как тут же искать начнут. Раз дали деру — значит, виновны… Хорошо тебе глазами хлопать. А я тут — мозгами шевели. Славно бы случилось, ежели бы рыцаря и людей его в подземелье упекли, а мы б вроде мальчишку от расправы спасли.
— Рыцарь того… — молчун с сомнением покачал головой, — того…
— «Того», «сего»… Советчик выискался. А впрочем, ты, наверное, прав. Рыцарь же оттого и рыцарь, что свои правила блюдет. Так зачем же нам тогда ему подпруги резать? Лучше кому из его врагов, да так, чтоб познатнее… Тогда им наверняка всем не поздоровится. А для верности хорошо б кинжал с гербом рядом оставить. И как начнут крестоносца нашего с людьми его хватать да тащить, так мы мальчишку и спасем. Ну, как тебе?
— Эт да-а-а! — восхищенно причмокнул второй побирушка.
— Вот так-то, — подытоживая, щелкнул пальцами его товарищ.
Стражник приоткрыл дверь каморки и тихо окликнул:
— Ты здесь?
— Здесь, о светоч души моей, — услышал он нежный шепот из темноты.
— Ну, слава богу, сменился, — рассказывал хранитель покоев герцогини. — Ох и нагорело мне! Думал, точно брюхо сведет. Она у нас хоть и добрая, но порой суровая — просто мороз по коже!
— Даже такой храбрец, как ты, страшится ее? — спросили в ответ.
Слова эти произнесены были на языке, который затруднительно было опознать. Ближе всего он походил на наречие гельветских италиков, из которых происходил стражник. Но речь звучала необычно. Если б не ласковый голос, суровый страж вряд ли понял бы, что сказала девушка.
— Ну да, я смельчак — это всем известно, — уловив знакомый корень, заулыбался он. — Других сюда не берут. Мы тут знаешь какие: о-го-го!
— Сила и мужественность так и веют от тебя, мой прекрасный орел, — подтвердила гостья. — Я поняла это, как только увидела тебя.
— Ну так, ясное дело! — Стражник принял горделивую позу, не смущаясь тем, что в сумерках чулана его почти не видно. — А сама откуда?
— Из Гранады, о повелитель сердца моего. Я прослышала, что здесь будет великое состязание первейших воинов подлунного мира, и пожелала лично увидеть это небывалое событие. Отец не хотел отпускать меня, и я сбежала тайком. Мой путь был долог, но теперь я знаю, что проделала его не напрасно. Ибо, лишь раз увидев тебя, я сразу поняла, что ты — моя судьба. И пусть мне, как ослушнице, нет дороги назад, я сожалею только об одном — что нет более причин смотреть, как состязаются первейшие из доблестных воинов всего света — точно известно мне, что никому не одолеть моего благородного избранника.
Стражник хвастливо расправил плечи:
— Да я и биться не буду — мы герцогиню охраняем. А то б да, показал!
— О, какое горе! — всплеснула руками красавица. — Истинное геройство принуждено оставаться скрытым от взоров. Но поверь, о повелитель, ласки мои станут тебе венком победителя! Поцелуи опьянят слаще, чем самое дорогое вино! Никто не сравнится со мной в искусстве любви — и все это безраздельно станет принадлежать тебе, моему доблестному владыке.
— Так, это… Стало быть, того… Ты хочешь остаться со мной? — поражаясь то ли удаче, то ли стремительному напору девицы, выдавил стражник.
— Да! Скажи, что ты желаешь меня или же убей, ибо нет мне жизни без тебя! Заколи меня своим длинным кинжалом! Не бойся — кто станет искать здесь бедную Мафраз за тридевять земель от родного дома? Да и к чему мне жизнь, если тот, кому я отдала свою любовь до последней капли, отвергает ее? О горе мне, горе!
— Ну, ты чего? Не плачь! Я ж спросил только… Вот диковина-то: вроде у ворот недавно увиделись…
— Чтобы понять, что цветок — это цветок, ни к чему ходить к гадалке. Для того чтобы ощущать аромат его, незачем ждать вечность. Никому, кроме избранника, уготованного мне Всевышним, не отдала бы я нежность, живущую в сердце моем.
— Так и быть по тому. — Вояка притянул к себе Мафраз и стал ее жадно целовать. — Я буду звать тебя Марта. Поживешь пока у меня. Жилье не абы какое, но мне много-то не надо… Обживемся. Ты вот только веру нашу прими.
— Как скажешь, мой повелитель.
— Это хорошо, что ты послушная такая. Всегда меня слушай, я глупого не скажу.
— Ты мудрейший из мудрых, о рубин сердца моего!
— Экие ж чудеса порой случатся на свете! — Стражник приподнял юбку и с удовольствием ощупал пышные, но упругие ягодицы «невесты».
Та сладострастно застонала.
— До чего ж ты ладная! Я на кухне знаю кой-кого — там, значит, тебя и пристрою.
— Разумней твоих слов только дела твои, — на ухо ликующему верзиле нежно прошептала Мафраз.
Глава 24
Нет способа надежно овладеть городом иначе, как подвергнув его разрушению.
Николо МакиавеллиГостевая келья скупо освещалась огарком свечи, но даже так было видно, что смотреть не на что.
«Какого черта, — мысленно возмущался „папский легат“, стараясь приспособить дощатый топчан вместо лестницы и добраться до узкого, как бойница, окна. — Неужели Отец небесный, обитающий в бескрайних лазурных высях, в самом деле радуется тому, что верные слуги его забиваются в норы, которые и для мышей не слишком-то просторны? Вот в давние времена храмы были — загляденье! Их, правда, сейчас и не найти, но в детстве, в монастыре дяди Эрманна, я читал замечательный трактат с искусно нарисованными базиликами, украшенными прекрасными статуями. Колонны, утопающие в плюще и винограднике, жертвенный огонь… Вот как надо жить! Тогда молиться — одно удовольствие. Не то что здесь».
Гринрой наконец умудрился забраться на топчан и при свете полной луны начал осматривать видимую часть окрестного пейзажа.
«Да, долго здесь оставаться неразумно… Ко всему прочему, ночи довольно холодные — из окна дует так, что будь двери парусами, монастырь наверняка бы унесло в туманную даль. — Рыцарь Надкушенного Яблока поежился. — Надо отсюда исчезнуть, и как можно быстрее. Этот Бернар явно не в себе. Как только его всерьез принимают? А ходит ведь, благословляет… И толпы оголтелых идиотов тут же готовы бежать, крушить кого попало и где попало…»
Первая встреча с настоятелем Клервосской обители не шла у него из головы. Едва завидев тощую, выпрямленную, как портняжный метр, фигуру аббата, Гринрой бросился к нему и заключил в объятия, прежде чем тот успел открыть рот:
— Приветствую тебя, почтеннейший брат мой! Как благостно небо, направившее сюда стопы моего коня!
— Что? — переспросил Бернар.
— Ну, то есть, конечно, мои стопы, но поскольку конь — мое имущество и все это время он влек меня к вожделенной цели, то и мои стопы вместе со всем остальным увлек тоже. К тебе, брат мой! К тебе, о котором я слышал столько всего, что все это — ничто. Ибо что бы это ни было, не есть то, что есть. Ибо то, что есть — превыше слова, превыше всех слов, исключая, конечно, слово, которое было в начале, ибо никто, как Бог. Но если Он есть альфа и омега, то все прочие буквы алфавита начертаны золотом на скрижалях вечности в повести о деяниях твоих.
Бернар Клервосский ошарашенно выслушивал звучную латынь Гринроя, пытаясь вырваться из крепких объятий рыцаря Надкушенного Яблока. Не тут-то было… Йоган Гринрой редко пользовался силой для успешного завершения дел, но среди многих дарований, отпущенных на его долю Всевышним, и ее хватало с лишком.
— Брат мой, — попробовал было вклиниться в легатскую трескотню опешивший аббат Клерво.
— Джованни. Зови меня просто — Джованни. Так зовет меня Папа — мой добрый славный Папа Гонорий II. Правда, родители окрестили меня Гуэдальфо, но что с того? Его Святейшество тоже не явился в мир сразу Гонорием и сразу вторым. Вот недавно, утром. Я еще в постели… Э-э… В молельне, а он присылает своего капитана… Вы, кстати, знаете барона ди Гуеско? Нет? Очень жаль, он мечтает с вами познакомиться. Так вот, этот самый барон, который также и капитан, говорит мне: «Папа обезумел!» Ну, в смысле — Папа обезумел от горя. Надо спешить, чтобы спасти его и весь христианский мир. Да, я вижу по твоему доброму, но мудрому лицу, брат мой, — тебя очень гнетет то, что полное безумие не подобает понтифику. Впрочем, худое безумие ему тоже не к лицу. Но Папа-то, Гонорий, всегда лицеприятен пред ликом Господа, и я устремился к нему. И вот я здесь. Франция в опасности! Если бы слезы, пролитые добрыми христианами в сих пределах, собрать воедино и вылить в Луару, до самых отрогов Альп плескалось бы море. Святой престол не может потерять христианнейшее королевство в пучине слез и громе воплей! И ты, как утес, как остров, торчишь… Ну, в смысле, возвышаешься над бездной греха, над Тартаром, в который рушится милая сердцу нашего великого понтифика Франция. Он призвал меня и сказал: «Погляди на этот утес! На этот остров! На эту кручу и высь! Вот тот камень, на котором воздвигнем мы храм веры! Вот чем спасется христианнейшее королевство! И пусть враги ропщут и клевещут, но мы-то знаем! Нам там, — Гринрой кивнул в сторону, где, по его прикидкам, должен находиться Ватикан, — между прочим, открыты пути грядущего. И всякий, кто усомнится, будет гореть в геенне огненной и на Страшном суде окажется в конце очереди!
Столь неожиданный образ потряс аббата и заставил его задуматься. Тщетные усилия!.. Гринрой отлично понимал — всякая попытка настоятеля Клерво осмыслить весь тот бред, который скороговоркой вываливался на его голову, — и голова самого «легата» очень скоро может расстаться с телом.
— Ты пришел в мои объятия, — с надрывом продолжал посланец Его Святейшества. — И Франция спасена! Я верую в это! Верую! Верую! Аллилуйя! А-ли-лу-йа! — Последние слова неожиданно радостно подхватили все свидетели необычайной встречи. — Предлагаю объявить интердикт, — стремительно перешел к делу ободренный всеобщей поддержкой Гринрой. — Пока не одумаются, не приползут, как император Генрих в Каноссу.
Бернар хотел что-то вставить, но гул радостных голосов заглушил его неуверенную попытку.
— Только тебе и тем, кого пошлешь ты, я разрешаю вести службу. Остальные же у-у-у! — Гринрой потряс кулаком. — В Каноссу!.. Ладно, я вижу, ты согласен. Где тут свеча и книга — приступим, помолясь. Ибо есть время разбрасывать камни, есть время собирать их. Но если уж собрали мы достаточное количество, то что нам мешает отстроить храм? За дело, дети мои! С нами Бог и небесная рать!
Совместный молебен был отслужен в Клервосской обители. Сославшись на почтение к хозяину и усталость, Гринрой на первый случай отказался читать проповедь. Но день сменил день, и теперь папскому легату уже нечем было крыть — желающие послушать его вдохновенную речь собирались в Клевро со всей округи.
— Пора уносить отсюда ноги, — разглядывая сквозь оконце чуть освещенные лесные кроны, бормотал под нос Гринрой.
— Брат мой, — в дверь тихо постучали.
— Час от часу не легче, — скривился легат. — Принесла нелегкая Бернара. Не спится же ему! — Он спрыгнул на пол и тут же рухнул на колени перед висевшим на стене распятием.
Не дождавшись ответа, настоятель приоткрыл незапертую дверь.
— Отрадно видеть мне человека праведной жизни, — узрев истово молящегося Гринроя, сообщил Бернар.
Но посланник даже ухом не повел.
— Преподобный брат мой, — еще раз окликнул аббат.
— А? Кто? Что? Кто здесь? А, Бернар, мой брат! Становись, помолимся вместе! — Гринрой приглашающим жестом указал Бернару на пол. — Преклони же колени. — Он поймал удивленный взгляд аббата, обращенный к перевернутому топчану. — Вижу, такая малость удивляет тебя, — не давая прозвучать вопросу, начал рыцарь Надкушенного Яблока, — пусть же не смутит она твое разумение. К моему глубочайшему убеждению, даже самая простая лежанка — непозволительная роскошь для столь закоренелого грешника, как я. Только пол, только вот эти голые камни, — Гринрой похлопал по гранитным плитам, — ничего другого. Лишь зимой, в самые лютые морозы, я с разрешения доброго нашего Папы Гонория бросаю поверх этого старую мешковину.
— Вот поистине образчик святой жизни! — восхитился Бернар.
— Что моя святость по сравнению с твоей? Так, звук… Но, — Гринрой ткнул указательным пальцем в потолок, — но покуда я уединенно размышлял в тишине кельи, Господь надоумил меня — доумил, пока не надоумил. Я не могу дольше задерживаться во Франции! Я должен спешить в Империю, в Аахен. Туда, откуда Карл Великий нес мир племенам и народам на острие своего меча. Лишь настанет рассвет, я покину тебя, брат мой. Со скорбью в сердце и слезами на глазах я сделаю то, что должен — во славу Божью!
— Как? Не дождавшись утренней мессы?
— О! — застонал Гринрой. — Ты разрываешь мне сердце! Если нужно тебе разорванное сердце — вынь его из моей груди! Но вложи туда хоть уголек, чтоб я смог исполнить предначертанное, ибо не я держу путь от человека к человеку, но путь держит меня. Все мы одинокие путники! Так восславим же Господа, ибо он есть хлеб наш и посох наш в том пути! Милосердие его — плащ для страждущего, а слова Евангелия — надежнейшая звезда путеводная! Я должен пойти, и я пойду!
— Но куда, брат мой?
— Я же сказал — в Империю. Ты, верно, хотел спросить — зачем? Отвечу тебе. Чтобы призвать императора на помощь тебе.
— Но ведь император мертв.
— Конечно. Император мертв — да здравствует новый император!
— Я бы почел верным узреть на троне владыки человецей христианского мира герцога Лотаря Саксонского. Это преданнейший и славнейший князь, достойный венца.
— Бернар, Бернар, — Гринрой покачал головой, — воистину сказано: «Имеющий глаза да узрит». Ведомо мне, что Лотарь сносился с тобой и присягал на верность. Но что с того? Он дряхл, в его дому распря. Если он не помрет от кинжала или яда, то уж точно окочурится, узнав о чести, которую ты ему уготовил. Побереги его старую умную голову, пусть на ней не будет короны, но зато он сможет моргать без посторонней помощи. К тому же Лотарь уже верен тебе, таким будет и далее. Мне представляется, что Папа сделает выбор в пользу Конрада Швабского.
— По слухам, он — дерзновенный еретик.
— Слухи врут. Он настолько чист и светел, что даже ромейская принцесса, едва узрев его, поспешила распрощаться с константинопольским патриархом и обратилась в истинную веру. — Гринрой сделал паузу, точно задумываясь. — Все. Решено. Не утром, сейчас я еду к Конраду! Если мечи его наведут порядок в милой Франции — он будет императором! Аминь.
Людовик Толстый исподлобья глядел на ждущее приказа войско. Многоцветье гербовых щитов и вымпелов, реявших над шлемами рыцарей, очень радовало глаз, однако порождало мрачные раздумья. Как ни велико казалось число храбрецов, поспешивших во всеоружии на зов короля, остановить угрозу, идущую и с востока, и с запада, сил было недостаточно.
— Сугерий, — король подозвал аббата Сен-Дени, восседающего рядом на длинноухом мохнатом испанском муле, — как я и говорил, главный враг находится в Клерво. Мы должны сровнять с землей это чертово аббатство и вздернуть возмутителя спокойствия на первом же суку. Время переговоров и хитрых шагов прошло. Я оставлю тебя в Париже — ты возглавишь его оборону. Уверен, как полторы сотни лет назад, так и сегодня норманны придут штурмовать столицу. Доблесть защитников, твоя мудрость и Божье попечение — словно милость святой Женевьевы в те далекие времена — спасут его. Я верю в это. Ты должен будешь продержаться, пока я не вернусь, разгромив шампанцев, и ударю в тыл изменникам-нормандцам.
— Возлюбленный сын мой, — перебирая четки, вздохнул аббат Сугерий, — стены Парижа нынче, увы, немногим лучше, чем в те горестные для всякого француза годы, но доблесть горожан не сравнима с той, что была прежде. Эти лавочники поспешат сдаться, если враг, став у ворот, пообещает ограничиться выкупом и не грабить их погреба.
— У нас нет иного пути, Сугерий. Ты должен призвать Господа на помощь и с именем Божьим на устах удержать столицу. Сам видишь, я не могу оставить тебе войско. Здесь вполне хватит, чтоб сокрушить шампанцев, но если я разожму железный кулак, мятежники легко переломают мне пальцы.
— И все же, Людовик, восторжествуешь ли ты над врагом, если он ударит тебя в самое сердце?
Король нахмурился и упрямо поглядел на святого отца. Тот говорил правду, но признавать верность его слов королю не хотелось.
— Быть может, капитан ди Гуеско рассудит наш спор? — нашелся он. — Быть может, часть боговдохновенной мудрости Святейшего Папы, как луч, испускаемый солнцем, осветила его искусный в военном деле разум?
— Не мое дело советовать королю, — гарцевавший неподалеку офицер папской гвардии поднял брови, — но если бы меня спросили: «Дон Анджело, как бы ты действовал в такой ситуации?» Я бы ответил, что только дурак в подобном деле идет туда, где его ждут во всеоружии.
— Что же это означает? — Король дернул щекой.
— Мятежники уверены, что вы ударите в Клерво. Скорее всего ни святоши Бернара, ни моего легата, ни графа Шампанского в обители нет. Лично я на их месте устроил бы там ловушку, и когда вы направитесь к аббатству, отрезал бы вам дорогу назад.
Король промолчал. Он и сам опасался такого поворота событий, но надеялся, что стремительность нападения не позволит шампанцам действовать продуманно.
— Вы позволите мне умолкнуть? — видя, как меняется выражение лица монарха, спросил Майорано.
— Нет, говори! Я желаю, чтоб ты сказал все, что сочтешь нужным.
— Как прикажете, монсеньор. Так вот, я бы ударил по Нормандии.
— Почему же?
— Потому что они только и ждут, когда вы отвернетесь, чтобы атаковать вас с тыла. Раз они готовы воткнуть нож в спину, значит, вряд ли готовы к каким-либо иным маневрам. Я слышал, будто французы ожидают помощи из Аквитании?
— Если, невзирая на интердикт, Господь на нашей стороне, то мы дождемся ее, — мягко ответил аббат Сугерий.
— Кто знает, — сжал губы король.
— Полагаю, никто не знает. Уж, во всяком случае, надеюсь, что нормандцы осведомлены об этом не больше вашего.
— Может, и так. Но что с того? — уже явно заинтересованный, заторопил Людовик.
— Какую крепость или замок вы сочли бы удобными для соединения с войском герцога Аквитанского?
— Монтурлен, — после короткой задумчивости ответил король.
— Вот и пошлите отряд осаждать или брать на копье этот самый Монте… — ди Гуеско щелкнул пальцами, — не важно. Кстати, также не важно, возьмут они замок или просто будут топтаться возле него. Главное — чтобы вся округа знала, что со дня на день там ожидается подход аквитанцев, а вы остались в Париже, дабы защитить столицу.
— Ну и что это нам даст?
— Возможно, аквитанцы и впрямь придут. И это значительно облегчит вашу задачу. Но, вероятнее, нормандцы пожелают разгромить ваш отряд до прихода помощи, а потому бросятся туда. В этот момент самое время поразить их в сердце, сровнять с землей столицу, сжечь как можно больше замков… Во всяком случае, Роже д’Отвилль, не так давно уступивший вам это герцогство, сделал бы именно так. В свое время мне пришлось служить ему, и поверьте, он бы не остановился, пока не превратил логово врага в пепел.
— Разумно, — усмехнулся Людовик. — Клянусь плащом святого Мартина — весьма разумно. Но что же делать с шампанцами и этим бесноватым аббатом?
— Если монсеньор пожелает, я обещаю, что шампанцы не сунутся в ваши земли, покуда вы станете громить мятежников Нормандии.
— Вот даже как? — поразился король. — Это было бы очень любезно. Я готов послать с вами отряд графа Блуа. Это один из моих лучших военачальников.
— О нет, монсеньор! Никаких графов. Я дал обет никогда не сражаться под знаменами сеньоров, обладающих титулом выше моего. Даже если такие действия приводили к победе, для меня они заканчивались печально.
— Ладно, тогда бери кого хочешь.
— Благодарю вас, монсеньор. Смею надеяться, вы не пожалеете об этом. Мне понадобятся несколько десятков рыцарей, из самых захудалых, а также все те, кто ожидает казни в тюрьмах Иль-де-Франс.
Рыцарь недовольно поглядел на отца:
— Батюшка, но ведь это мой долг как вассала — по зову сюзерена прибыть под его знамена, как только объявит он о своем желании начать войну.
— Какая может быть война?! — Старый барон ходил из угла в угол, меряя замковую комнату шагами. — Уже осень: скоро пойдут дожди, развезет дороги.
— Когда ты был в Святой Земле, разве жар пустыни, песок и камень могли остановить тебя?
— Не сравнивай! — оборвал его отец. — Тогда у нас была священная цель. А здесь… Мне не нравится то, что говорит этот аббат, и я не ведаю, почему ты должен проливать кровь ради его нелепых речей.
— Они полны благочестия…
— Ерунда, — барон подошел к сыну, — никакое благочестие не отменяет покорности королю.
Рыцарь вздохнул:
— И все же, отец, мне представляется, что ты просто опасаешься разбойников, которые повадились безобразить в округе.
— Хорошо, что не сказал «боишься», — хмыкнул барон. — Твои слова — вздор! Тоже сказанул, «безобразят»… Безобразить — это украсть корову у виллана или завалить девку в придорожных кустах. На худой конец ограбить купца, следующего на ярмарку. Ты слышал, что было в Жануа? А в Клери? А в Бонфонтене?
— Слышал, отец. Сначала загорается деревня, жители ее толпой бегут к воротам замка, погоняемые разбойниками. Как только гарнизон замка пытается оказать помощь несчастным, в открытые вороты врывается сильный отряд, который убивает там всех.
— Вот именно — всех. Шампань только и говорит об этом.
— Я оставлю тебе достаточно людей. А кроме того, отец мой, ты же опытный воин и хорошо можешь отличить ложную опасность от настоящей. Если она и впрямь серьезна, не открывай ворота.
— Тогда мы останемся без крестьян, без скота…
— Это лучше, чем без головы.
— Ненамного.
Их разговор был прерван появлением дворецкого.
— У ворот отряд. Они требуют хозяина замка.
— Требуют? — подбоченился старый барон.
— Отряд в такое время? — удивился сын.
— Командир утверждает, что послан графом Тибо Шампанским.
— Если это так, — рыцарь подошел к слуге, — при нем должны быть соответствующие грамоты. Пусть он передаст их на конце своего копья, а я решу — открывать ворота или нет. Пока же лучники займут место у бойниц. И позови мне капеллана.
— Повинуюсь, мой господин. — Слуга удалился с поклоном, а через несколько минут капеллан разбирал неровные, явно наскоро писанные строки: «Оказать высочайшее почтение сопровождаемой особе, не пытаясь выяснить, кто он и куда следует».
— И все-таки интересно, — рыцарь взял пергамент из рук замкового священника, — кого это перевозят с такой охраной?
— Здесь об этом ничего не сказано, — капеллан развел руками, — но, идучи сюда, увидел я со стены возок среди всадников. Мне почудилось, что занавесь в нем отодвинулась, а внутри как будто мелькнуло одеяние духовной особы.
— Уж не сам ли аббат Клерво? — усмехнулся барон.
— Об этом я не могу знать, — тихо произнес священник, — и вам, мой господин, исходя из послания, скрепленного печатью графа Шампанского, тоже знать не след.
— Это моя земля и мой замок, и мне здесь определять, что следует и что не следует, — прорычал барон. — Ладно, откройте ворота! Мы обязаны предоставить людям графа кров и стол. Но пока они будут въезжать, лучники пусть не зевают — если вдруг окажется, что это ряженые, убивать всех! Даже самого аббата Клерво, будь он там.
Анджело Майорано поглядел, как закрываются за последним из всадников ворота замка.
— Ты уверен, что там, в повозке, именно он? — Барон ди Гуеско повернулся к человеку в крестьянском одеянии, с физиономией простодушной, но не без доли лукавства.
— Это так же верно, капитан, как и то, что меня зовут Теобальдо. Мошенник высунул нос из-за полога, а уж этот нос я узнаю из сотни!
— Точно, — скривился Майорано. — Он всегда чует, откуда ветер дует. Интересно, что задумал этот плут? Отчего его перевозят с эдаким эскортом и, черт возьми, куда его перевозят?!
— Увы, сего его нос мне не поведал.
Барон ди Гуеско похлопал соратника по плечу.
— Ладно. Надеюсь, у него еще остались части тела, отвечающие за внятную речь. Вскоре он сам расскажет нам, что и как.
— Боюсь, сейчас уже вариант с поджогом не пройдет. Мы проделали его столько раз, что самый тупой рыцарь вряд ли попадется на удочку.
— Мой славный Теобальдо, — лицо Майорано оскалилось в улыбке, — я обещал толстяку, что шампанцам будет не до помощи разным аббатам, значит, так оно и случится. Знаешь ли, почему я столько лет командую тобой, а не наоборот?
— Отчего, монсеньор?
— Потому что ты мыслишь, как тот самый тупой рыцарь. Все в округе знают, что происходит после того, как загонщики гонят стадо двуногих скотов к замку. Должно быть, это немало раздражает здешних хозяев. И уж конечно, они желают поквитаться с наглыми разбойниками.
— Полагаю, да.
— На этот раз, как они наверняка считают, в замке собран хороший отряд, чтобы знатно проучить нас. На самом деле всякий рыцарь думает, что у него достойный отряд, а когда этих олухов собирается много, представления о собственном достоинстве вырастают до небес. Мы подожжем деревню, а лучше — две. И как обычно, погоним вилланов. Когда же эти храбрецы, запершиеся в замке, пересчитав разбойников, бросятся, чтобы отрезать нам уши, загонщики вскочат на лошадей и вместе с ложной засадой устремятся во-о-он к тому лесу. — Майорано указал на дальнюю рощу. — Там их будет ждать весь отряд. Почти весь.
— Но, капитан, если даже ловушка захлопнется, ворота замка будут заперты. И уж конечно, хозяин, узнав об избиении своих людей, не пожелает их открыть. Не осаждать же цитадель…
— Упаси бог. Помнится, у нас было несколько домушников…
— Истинно так. Но крепость — не лавка менялы.
— Я знаю. И все равно полагаю, для них не составит труда взобраться по веревке в довольно крупное отверстие, чтобы затем открыть ворота замка изнутри.
— А где это отверстие, капитан?
— Там же, где обычно. — Майорано кивнул на одну из замковых башен, нависавших надо рвом. — Пока мы наблюдаем за этим чертовым поместьем, оттуда уже трижды выпадало некое вещество, недвусмысленно свидетельствующее о наличии в полу стрельницы характерного отверстия круглой формы.
Ров под срамным чуланом смердел неимоверно: многие поколения жителей замка приложили к этому немалые усилия.
— Вот же ж гнилое место, — пробормотал один из неизвест— ных, сидящий под навесным чуланом в глубине пересохшего рва.
— А ты думал, тебе ворота откроют? — поудобнее устраиваясь на вязанке хвороста, злобно процедил другой. — Заткни нос и жди.
— Да сколько ждать?
— Сколько понадобится, — буркнул старший.
Его напарник — длинный, тощий и весь какой-то разболтанный, точно гнущийся под ветром, — хмуро сплюнул, не смея пререкаться с притаившимся рядом громилой.
— Тс-с-с, — шикнул тот. — Кажись, появился.
Легкий отсвет огня блеснул вверху на мгновение, показывая проделанные над головой их отверстия. И в тот же миг стрела длиною в ярд устремилась туда, таща за собой веревку. Короткий вскрик и шум падающего тела вызвали на лице стрелка довольную ухмылку:
— Есть. Заякорился. Давай лезь.
Его товарищ, неуловимо напоминающий ящерицу, набрал воздух в легкие и привычно, как ни в чем не бывало пополз вверх по веревке. Спустя пару минут сломанный дощатый настил полетел вниз, и вместо первого, довольно тонкого шнура из срамного чулана свесился прочный канат. Стрелок крикнул ночной птицей. В ров скользнуло еще несколько теней.
Анджело Майорано довольно потер руки:
— Все идет замечательно, Теобальдо, поджигай.
Они вошли в замок, переступая через распластанные на земле трупы. Вдалеке догорал бой, но барона ди Гуеско его исход, похоже, мало интересовал.
— Вы нашли его? — обратился он к верзиле, отирающем кровь с длинного кинжала.
— Нет, дон Анджело.
— Как это нет?
— Легата нет ни среди живых, ни среди мертвых.
— Ты соображаешь, что говоришь?
— Мы нашли слугу его преподобия, — начал оправдываться головорез. — Он говорит, что хозяина ночью вдруг призвал к себе аббат, и он уехал…
— Что за бред? Как он мог уехать? Разве что вознестись, как Илья-пророк. Где этот слуга?
— Я проведу вас, монсеньор, — дурно пахнущий убийца согнулся в поклоне.
— Сам найду. Укажи, куда идти.
— Туда, монсеньор.
Барон ди Гуеско быстро зашагал в указанную сторону.
— А я говорю, что не знаю, где мой господин! — слышалось из-за двери.
Майорано остановился, и губы его скривила улыбка — доносившийся голос, несомненно, принадлежал Гринрою.
Анджело распахнул дверь:
— Оставьте его! Это действительно не фра Гуэдальфо Бенчи. И запомните — каждый из вас видел, как его преподобие в сопровождении нескольких всадников отбыл ночью из замка.
Глаза разбойников, держащих на острие ножа связанного рыцаря Надкушенного Яблока, удивленно расширились.
— Как скажете, монсеньор, — опомнившись, закивали они, — так и было.
— И поскольку сей достойный слуга не врет, папского легата, вне всякого сомнения, призвал к себе аббат Бернар. Хотелось бы знать, что сделал этот бесноватый с несчастным пастырем овец Господних?
Глава 25
Опираясь на то, что имеешь, добивайся того, что хочешь.
Александр ФарнезеКак бы долго ни длилось ожидание, наступает час, когда оно заканчивается. Подготовка к грандиозному рыцарскому турниру, посвященному свадьбе герцога Конрада Швабского и восхитительной ромейской севасты Никотеи Комнины, шла несколько месяцев. Изо дня в день плотники возводили огромное ристалище, способное вместить тысячи зрителей с отдельными ложами для высокородных князей-электоров, дворян и дам их свиты. Вокруг ристалища, точно грибы после дождя, вырастали павильоны для трапез, уединенные домики, утопающие в зелени, для желающих отдохнуть и пообщаться без свидетелей. Чего здесь только не было: из далекой страны Катай по Великому шелковому пути в Аахен были доставлены диковинные огненные стрелы, которые, взмывая в полночное небо, расцвечивают его невероятными огнями, гроздьями волшебных цветов и чудесными летающими змеями. Пока что это диво дивное хранилось в стенах специально выстроенной крепостицы с четырьмя башнями, рвом и подвесным мостом. И многочисленные зеваки сбегались поглазеть на хозяев огненных стрел: на их желтоватую кожу, узкие раскосые щелочки глаз, на наряды необычайно яркие и столь же нелепые. Не меньший интерес публики вызывал и огромный зверинец, расположенный тут же, под открытым небом.
Первоначально Никотея желала по древнему обычаю устроить бои храбрецов с заморскими свирепыми хищниками. Однако церковь воспротивилась любимому зрелищу древних римлян и объявила его бесовским наущеньем — должно быть, лозунг «Христиан — ко львам!» до сих пор был жив в воспоминаниях клира. Милая, послушная дочь церкви — блистательная герцогиня Швабская — тут же отказалась от своего первоначального намерения, покаялась, щедро одарила ближние монастыри, чем заслужила нежную и трепетную любовь со стороны местных иерархов церкви. Никого даже не смутило, что в округе не имелось ни одного самого завалящего бестиамаха[66] — в конце концов, к чему такие крайности? Теперь на огромной расчищенной пустоши возле Аахена, за высокими деревянными решетками царственно возлежали косматые львы в окружении верных львиц, нервно бегали тонконогие гепарды, строго взирали с ветвей сухих деревьев черные как ночь пантеры… Даже гиппопотам и слон нашли здесь себе приют, и мерзко хохочущие гиены, и нелепый зверь камелопард, чья шея длинна, точно змеиная, а тонкие длинные ноги кажутся слабыми подпорками для пятнистого тела. Но, как говорили знатоки, удар такой ноги перебивает спину льву. И мрачный подслеповатый родич единорога, готовый атаковать любого, кто станет на его пути. Все были здесь. Толпы восхищенных зевак порой целыми днями простаивали у огороженных вольеров.
Честный люд стекался на турнир: все, имеющие возможность путешествовать — кто в соседний город, а кто и за тридевять земель, — спешили в Аахен, чтобы не пропустить великое событие. Ибо раз в жизни увидев такое, можно до самой смерти не дождаться повторения.
Жонглеры, миннезингеры, шуты — каждый блистал своим искусством, и каждому находились и награда от их высочеств, и монета, и рукоплескания зрителей.
Правда, в первый день праздничной недели жители Аахена решили порадовать милую герцогиню увеселением, принятым на ее родине, и устроили на свежесжатом поле скачки квадриг. Неумелые возницы никак не могли совладать с упряжками, до конца поля с грехом пополам добралась только одна колесница. Оценив увиденное, гости и жители Аахена с полным основанием решили, что забава дурацкая и ромеи ничегошеньки не понимают в увеселениях. Исключив, конечно, из числа восточных недоумков свою добрую герцогиню.
Турнир шел своим чередом — лучники и арбалетчики порадовали толпу меткостью стрел, суровые лесники с легкостью метали длинные, в два локтя, топоры. Всадники на скаку бросали палицы в подвешенный на крестовине щит, и толпа разражалась радостными криками всякий раз, когда кто-либо из состязавшихся проявлял особенную ловкость.
Никотея восседала рядом с Конрадом Швабским в высоком кресле с подлокотниками и прямой спинкой, на которой был искусно вырезан двуглавый орел Комнинов. Откинуться поудобнее на этом импровизированном троне было невозможно, и за день даже привычная к гордой осанке спина сильно уставала. Но севаста казалась высеченной из мрамора. Величественный ее вид привлекал немало восторженных, а порой и обожающих взоров.
Крики, прославляющие вельможную чету, разносились едва ли не через каждые пять минут, и герцог с герцогиней неизменно отвечали на приветствия улыбками и милостивыми кивками.
Когда в обитой бархатом и увешанной персидскими коврами ложе появился лакей ее высочества, Никотея как раз вручала победный венок из золотых дубовых ветвей ловкому наезднику, с неизменным успехом собиравшему копьем расставленные у земли кольца.
— Гринрой вернулся, моя госпожа, — склоняясь у трона, прошептал слуга.
— Что значит «вернулся»? — едва шевеля губами, спросила севаста.
— Он утверждает, что все успешно закончил.
— Так быстро? Экий ловкач! Пусть ждет, я скоро приду. — Никотея положила свою тоненькую ручку на широкую пятерню Конрада Швабского. — Милый, в ознаменование воинской сноровки, выказанной сейчас перед нами, стоило бы, пожалуй, выкатить побольше пива для зрителей и участников. Им следует хорошо отдохнуть перед началом боев.
— Ты как всегда права, моя дорогая, — согласился герцог Швабский и щелкнул пальцами, подзывая виночерпия.
Гринрой ожидал госпожу в огромном шатре, уставленном накрытыми столами. Он сидел, с хрустом надкусывая яблоко и распространяя вокруг себя такой едкий запах пота, что Никотея была вынуждена прикрыться надушенным рукавом. Увидев герцогиню, рыцарь быстро вскочил с широкой лавки, на которой до того устроился в очень фривольной позе.
— Моя герцогиня, — рыцарь преклонил колено, — я привез вам трепет Франции. Ворота ее замков распахнуты, как глаза зевак, впервые узревших вас. Вас ожидают, как ангела с небес, дабы положить конец распрям и умолить благочестивого Папу Гонория снять интердикт со злосчастных владений короля Людовика.
— Ты обернулся куда быстрее, чем я полагала, — похвалила Никотея. — Но где дон Анджело?
— Барон ди Гуеско с отрядом мчит с докладом к Его Святейшеству, спеша поведать благочестивому понтифику о том, что Бернар принудил легата объявить интердикт, а затем злодейски умертвил его, а тело дел неизвестно куда… Может, даже съел. Этот добрый малый — барон ди Гуеско — умеет быть убедительным. Готов биться об заклад, что Святейший Папа не замедлит снять интердикт, и тут уж задача моего дяди — чтобы высочайший эдикт попал именно в ваши руки, а не в чьи другие. Зная преподобного Эрманна, можно не сомневаться, что в скором времени только от вас будет зависеть судьба французского королевства.
— Прекрасно, — мило улыбнулась Никотея, — вы сделали все, что было можно, и даже несколько более того. Поверьте, я не забуду этой услуги.
— Моя госпожа, хорошо бы вспомнить о ней немедленно — я порядком издержался в дороге. Да и то сказать: ношение сутаны настолько возвысило мой дух, что мне все время кажется, будто я пощусь уже не меньше двух недель. Позвольте же мне вернуться на путь истинный — путь смиренного и ревностного служения вам и моему славному герцогу.
— Мошенник, — усмехнулась Никотея, — на вот, держи, — она стянула с пальца массивный перстень с яркоцветным рубином. — За эту милую вещицу Ламборджини отвалит тебе не менее пятидесяти золотых. А если посмеет рассказывать, как он неслыханно обеднел, или говорить, что камень нехорош, или золото не слишком чистое, — скажи, что я сама к нему приеду, дабы выслушать претензии. Но прежде чем отправляться к ювелиру, тебе следует закончить начатое. Ты сделаешь вот что. — Она склонилась к уху бывшего легата…
— Для меня это высокая честь! — Гринрой сжал перстень и, кланяясь, поспешил к выходу, прихватив по пути еще одно яблоко.
— Все идет отлично, — тихо проговорила Никотея, — но времени совсем мало. Действовать надо прямо сейчас. Незамедлительно.
Конский топот в который раз сотряс ристалище. Послышалось ржание, удар, треск ломаемых копий, грохот падающего тела и восхищенный рев трибун.
— А наш-то, лихой! Уже шестого валит!
— Ага, — кивнул в ответ другой.
Рыцарь в белой котте с алым крестом, торжествующе подняв руки, возвращался к своему шатру. Зрители восторженными криками приветствовали его триумфальный проезд. Каждому было ясно, что рыцарь воинства Бернара Клервосского — один из несомненных фаворитов турнира.
— Как думаешь, — обратился первый нищий к своему молчаливому спутнику, — кому он теперь вызов кинет?
Вопрошаемый из-под руки поглядел на выставленные эмблемы защитников поля и ткнул заскорузлым пальцем в одну из них, выложенную серебряными и лазурными ромбами.
— И я так думаю, — согласился первый. — Этот не хуже нашего. Уже девятерых из седла выбил. Сразу видать, не зря к шлему своему льва приделал. Значит, давай так: пробираемся к шатру, я отвлекаю на себя оруженосцев и пажей, а ты вот этим ножичком подпругу — чик! Только смотри, чтоб хоть на одном волоске, но она держалась. Тут важно, чтобы этот с львиной головой на коня взгромоздился и в поле выехал, но чтоб упал он не после сшибки, а до нее. Уразумел?
— Ага.
— Вот и молодец. А дальше — отойдешь от коновязи и ножик этот на землю бросишь, будто случайно выпал. Тут вот герб имеется… Руку на отсечение даю — нашего лорда! Я эту вещицу утром у рыцаря в оружейном тюке нашел, пока он умывался да руками-ногами размахивал.
Говоривший протянул собрату кинжал, на пяте которого красовался выгравированный герб с огрызающимся леопардовым львом.
— Давай ты пока туда к шатру пробирайся, а я на всяк случай вызнаю, что у сэра рыцаря на уме.
Народ, восседавший на струганых скамьях трибун, привстал и, замирая, следил, как шагом проезжает рыцарь в белой котте с алым крестом, как приближается он к шатрам защитников и с вызовом наносит удар по щиту, стоящему меж двух одетых в львиные шкуры пажей Генриха Баварского. Взрыв радостного возбуждения заглушил и чуть слышные слова молитвы, которую шептала в этот миг севаста Никотея, и торопливые понукания первого нищего:
— Давай, давай скорее! Пока тот, со львом, снаряжается.
Оба валлийца со всех ног припустили с ристалища туда, где в стороне от арены высились шатры доблестных рыцарей, принявших вызов защитников поля.
Федюня, с интересом глядевший на искусных наездников, лучников и борцов, радостно внимавший миннезингерам и жонглерам, отчего-то наотрез отказался смотреть на то, как забивается гвоздь программы — на схватки конных рыцарей. И как ни объяснял ему дядька Лис, что это всего лишь учебные бои, Федюня Кочедыжник, которому случалось наблюдать и вполне реальные сражения, пожелал остаться в шатре.
Нищие попутчики Сына погибели и не надеялись, что им выпадет такая удача, но увидели в этом отказе явную благосклонность небес к их замыслу и теперь спешили, не чуя ног, воспользоваться отдаленностью «объекта охоты» от стражи ристалища. Миновав скучавших у шатра херсонитов, они ворвались под матерчатый купол и бросились к мальцу, вычерчивавшему на земле прутиком знак трех переплетенных спиралей.
— Уходить надо! — запричитал говорливый. — Там недоброе случилось! Идем-идем, по дороге объясним… Рыцаря нашего схватили, он будто бы противнику до сшибки подпругу… того… подрезал. Да скорей же! Бросай все — не ровен час всех, кто с ним, в темницу кинут! Они там драку устроили, за мечи схватились! Давай же!..
Нищий осекся — Федюня глядел на него большими, чуть печальными глазами, не проявляя никакого намерения куда-то идти, а уж тем более бежать.
— Ну, что же ты? — недоумевающе спросил он.
— Ничего этого не было, — не сводя с «верных последователей» взгляда, тихо промолвил Федюня.
— Чего не было?
— Да ничего. И рыцарь подпругу не резал, и супротивник его с коня не падал, и ратники наши за мечи не хватались. Слышите, — он поднял указательный палец, — как ликуют? Это дядька Вальтарий немчину из седла выбил.
Первый нищий зыркнул на своего молчаливого друга.
— Пустое, — с мягким укором сказал Кочедыжник, — он подпругу резал. Вот этим, — он достал из-за голенища сапога кинжал. — Это я упряжь обратно срастил.
— Ты что же, следил? — Первый нищий привычно схватился за висевший на поясе нож, но отпустил рукоять. — Не следил… Даже из шатра не выходил. Ведь так?
— Так, — подтвердил Федюня.
— Неужто все наперед знал?
— Знал. Как не знать?
— И с какого часа?
— Да, почитай, с того самого, когда вы в лесу с меня, спящего, амулет снять хотели.
Глаза побирушки испуганно расширились. Его товарищ, не нарушая молчания, рухнул на колени, демонстрируя покорность судьбе и готовность к справедливой расплате.
— С первого дня знал?! — нервно сглотнул голодранец. — Отчего ж не покарал сразу-то? Отчего поил-кормил, от напасти берег?
— Что толку мне от смерти вашей? Что толку вам от жизни такой? — пожал плечами Сын погибели. — Разве сладок был вам хлеб в эти дни? Разве мягка была постель ваша? Страх вертелом раскаленным терзал вам души. Я говорю — избавьтесь от страха, ибо с ним ни живы вы, ни мертвы. Против меня ополчась, облеклись вы броней незримой, да только к чему тот доспех, когда души ваши трепещут всякий час и всякий день?
Первый нищий, не сводя удивленно-испуганного взгляда с сидящего на корточках Федюни, тоже преклонил колени.
— Пустое это все. — Кочедыжник махнул прутиком крест-накрест, точно перечеркивая вину изменников. — Ступайте, да не убоитесь вы жизни земной, ибо не придет вам ничто иное, покуда ее не проживете от первого вздоха до последнего.
— Так что, идти? Мы свободны? — вдруг спросил молчаливый.
— Лишь утратив страх, обретете свободу в сердце своем, — вновь повторил Сын погибели и вернулся к рисованию спиралей.
— Пойдем. — Молчун потряс за плечо своего товарища, замершего коленопреклоненно.
— Нет, — резко мотнул головой первый нищий, — не пойдем. Я тут останусь. Отныне и до последнего часа. Когда б ни настал этот последний час.
— Настал последний час, — неожиданным эхом отозвался купол шатра.
Говоривший схватился за ухо и, взвыв от боли, упал наземь. Крошечное темное существо чуть больше горошины скатилось с него на землю и, обернувшись вихрем, заполнило сиянием весь шатер.
— Настал ваш последний час, — громыхнуло снова под сводом, и широкие мощные крылья распластались за спиной нового гостя. — Дважды предали вы хозяев своих и не укрыться вам от обещанной кары! Сказано было, что заставлю я кровь в ваших жилах обратиться в пламень, и быть по тому!
— Да будет так, — сквозь сцепленные от боли зубы простонал первый нищий.
Его собрат рухнул на пол и начал извиваться, силясь унять сжигавший изнутри пламень.
— Огонь да будет холодным! — поднимаясь на ноги, властно сказал Сын погибели. — И станете вы жить, не ведая страха, рождаясь и умирая, пока не избудете предначертание свое!
Повинуясь его словам, тела нищих вдруг удлинились, одежда распалась в прах. И спустя мгновение две крупные змеи с шипением подняли головы у ног Федюни.
— Ты мешаешь мне, Андай, брат мой! — пророкотал ангел. — Ты стоишь на пути справедливости, ибо что может быть справедливее воздаяния за преступление? Лишь страх пред воздаянием удерживает этих двуногих тварей от того, чтобы не обратиться в стаю хищников, пожирающих друг друга! Ты, Андай, холодный змеебог, лишаешь их страха и, стало быть, обращаешь в хаос Срединный мир! Заливаешь его кровью, ибо сила, лишенная страха, есть сила, несущая смерть!
— Ты лишен страха, брат мой Антанаил, тебе неведомо, что такое бояться наступления завтрашнего дня и молить за ближнего, который дороже тебе себя самого. Ты не знаешь, что есть страх знать истину и радость упиваться ложью, лишь бы сохранить в неприкосновенности покой свой. Ты — сила, тебе неведом страх, Антанаил. Никогда, ни в малой степени. Значит, ты смертен?
— Узнаю змеиный след твоих речей, Андай! Ты все юлишь, крутишь, сбиваешь с толку… Яд твой дарит облегчение от боли, а затем — и облегчение от жизни. Я ли смерть или же ты?
— Пожар! Пожар!!! — донеслось из-за стен шатра. — Там внутри горит!
— Мы договорим, Андай. — Ангел вдруг сложил крылья и, повернувшись на месте, словно ввинтился в землю. — Оставляю тебе этих гадов. Они есть суть деяния твоего.
Ворвавшиеся в шатер херсониты от неожиданности уронили наземь ведра с водой: среди палатки как ни в чем не бывало сидел Федюня Кочедыжник и рисовал прутиком замысловатые спирали на сухом песке. Два огромных питона лежали рядомё водрузив головы на колени мальчика.
— А что горело? — наконец смог выдавить из себя один из воинов.
— Ничего, — спокойно ответил Федюня. — Не вернулся ли еще славный витязь наш с поля ратного?
— В шатре отдыхает, — не спуская глаз с лежащих питонов, ответил херсонит. — Он самого Генриха Льва из седла выбил! Шутка ли!
— Передай ему, что завтра поутру нам следует отбыть во франкские земли к аббату Бернару из Клерво.
— Но к чему же?
— Ибо так должно быть, и так будет.
Над шатром, где совсем недавно развевалась баньера с белыми и голубыми ромбами Баварии, теперь красовалось белое знамя с алым, расширяющимся к концу лопастей крестом. Победив одного из защитников поля, доблестный Вальтарэ Камдель, граф Квинталамонте, рыцарь Священного воинства бернарианцев, занял опустевший шатер непобедимого прежде Генриха Льва.
Толпа, бурно реагировавшая на яростную схватку двух славных рыцарей, невольно притихла, когда победа, неизменно сопутствовавшая герцогу Баварии, вдруг оставила его. Причем оставила лежащим на земле без чувств. Небывалое свершилось. И простой люд, и знатные бароны понимали это, с нетерпением ожидая, что будет дальше.
Быстроногие оруженосцы герцога поспешили на ристалище помочь господину подняться. Никогда славнейший из рыцарей Империи не ощущал спиною землю ратного поля. Получить удар в шлем, потерять стремя — это еще куда ни шло. Но такое!
Генрих Лев очнулся от удара оземь и некоторое время лежал неподвижно, собираясь с силами. Сквозь узкие смотровые щели виднелось синее, в белых облаках небо, напоминающее герб его родной Баварии. Он тихо зарычал от боли и досады и согнул колени, пытаясь встать. Публика на трибунах радостно вскрикнула, приветствуя своего любимца. Голова кружилась, но Генрих поднялся на ноги до того, как к нему подбежали оруженосцы, что снова было встречено восхищенным ревом трибун.
— Мой господин, — оруженосец, подставив плечи под руку герцога, помог ему вновь залезть в седло коня, — прикажете развернуть перину для отдыха?
— К черту перину! К черту отдых! Воды. Сменить шлем. Новое копье!
— Но ваше падение…
— Заткнись и делай, что я тебе говорю!
— Неужели вы снова хотите сразиться с рыцарем Бернара Клервосского? Говорят, сам Господь направляет удары его воинства! Они непобедимы!
— Ты вздумал мне перечить? Я непременно брошу вызов этому крестоносцу, будь в его копье хоть сам дьявол, но чуть позже. А сейчас, благодарение Всевышнему, я имею прекрасную возможность вызвать на бой выскочку-херсонита! Этого мерзкого Сантодоро, оскорбившего моего друга Лотаря и, по слухам, похитившего у меня любовь его дочери!
— Это лишь слухи… Они могут быть лживы. К тому же есть еще завтрашний день. Если вы так желаете…
— Воду, новый шлем и копье!
Когда Генрих Лев снова выехал на ристалище, публика просто взвыла от восторга и начала скандировать его имя. Ни у кого сомнений не было, что крестоносцу, по нелепой случайности захватившему его шатер, недолго греться в лучах славы. Но не тут-то было. Проехав мимо своей недавней «резиденции», герцог Баварии приблизился к щиту, на котором расправил крылья двуглавый орел, очень похожий на того, что украшал трон блистательной Никотеи, и с силой ударил острием копья туда, где должно было находиться сердце ни в чем не повинной птицы.
Публика вновь огласила округу ревом. Гость из далекого Херсонеса — родич очаровательной герцогини Швабской — уже несколько раз успел порадовать толпу как храбростью, так и мастерским владением оружием. Предстоящий бой сулил превосходное зрелище.
Надеждам зрителей было суждено оправдаться с лихвой: трижды Симеон Гаврас и герцог Баварский съезжались посреди ристалища, и трижды обломки копий разлетались в стороны под восхищенный гул счастливчиков, купивших себе места на трибунах. Герцог Конрад Швабский нервно стучал кулаками по подлокотникам и прикусывал губу, мечтая в этот миг оказаться в доспехах на ратном поле, а не здесь — на резном троне. Тонкие пальчики Никотеи чуть заметно коснулись его щеки, и она прошептала на ухо досадующему супругу:
— Я выходила замуж за герцога, который мечтал стать императором всех христиан, а не за рыцаря, желающего одерживать победы на ристалище.
Конрад метнул было на нее негодующий взгляд, но тут же страдальчески закрыл глаза, чтобы не видеть битвы.
Трижды кони уносили Симеона Гавраса и герцога Баварского к исходным рубежам. Ни доблесть, ни удача не даровали победы кому-либо из них. Посланные гербовым королем Швабии герольды осведомились у поединщиков, не желают ли они закончить бой, признав ничейный результат.
— Нет, — отрезал Симеон Гаврас.
— Нет! — взрычал Генрих Лев. — Я хочу продолжить схватку на том оружии, которое предпочтет херсонит.
Толпы зевак, окружавшие ристалище снаружи, рыдали, осознавая, что подобного боя им, быть может, не доведется увидеть никогда. Рыцари вновь съехались и начали осыпать друг друга градом ударов. Их тяжелые полутораручные мечи крутились мельничными крыльями, ища лазейку в защите противника.
В какой-то миг Симеон Гаврас улучил момент и, атакуя, умудрился опрокинуть коня баварца своим более крупным и тяжелым скакуном. Кому другому это грозило большими неприятностями: приваленный конем рыцарь — легкая мишень, но не тут-то было. Каким-то чудом Генрих Лев соскочил наземь за долю секунды до падения. Его положение продолжало оставаться критическим, но под крики неистового восторга публики Симеон Гаврас остановил скакуна и тоже спрыгнул наземь, не желая пользоваться честно завоеванным преимуществом.
И вновь посыпались удары. Сидящие на трибунах и особенно в ложах готовы были поклясться, что нет на свете воина, способного выдержать, а тем более парировать яростную атаку Генриха Льва. В какой-то миг разъяренный герцог Баварский взмахнул мечом, желая раскроить упорного противника на две половины, но тут…
Симеон Гаврас вдруг ослабил клинок, пропуская ритершверт[67] соперника мимо себя и, оказавшись вплотную к Генриху, всунул яблоко рукояти меж его кольчужными рукавицами и с силой дернул вперед и вниз. Баварец крутанулся на месте, пытаясь удержать равновесие, но мощный удар по шлему опрокинул его.
Кузнецы, сковавшие защиту «львиной» головы, по праву могли гордиться делом рук своих — шлем смягчил удар, но все же клинок разрубил и его, и подшлемник, и оставил довольно серьезную ссадину на макушке герцога. Кровь обильно залила ристалище, а баварец снова пытался встать. Симеон Гаврас повернул меч острием вниз и занес его над противником.
Белый платок, вылетев из руки Никотеи, опустился на поле неподалеку от Генриха Льва.
— Герольд! — скомандовала герцогиня Швабская. — Я беру его под защиту!
Глава 26
Пока не попадешь в историю — не попадешь в историю.
КсенофонтГонец быстро спрыгнул с коня и бросился в ноги полководцу:
— Милорд принц, Бристоль наш!
— Замечательно. — Гарри поднял с колен воина, доставившего ему радостную весть, и впечатал ему в ладонь золотую монету. — На вот. Заслужил!
Сделав это, он повернулся к стоящему рядом человеку в духовном одеянии, но без наперсного креста, и сказал насмешливо:
— Ну что ж, преподобный Кеннет, вы проиграли спор. Ни стены, ни копья не остановят Истину, время которой настало. Теперь у нас есть столица. Отсюда — из Бристоля — мы завоюем весь Уэльс. И будь на то воля Спасителя, то и всю Британию. Вместе с Шотландией. Весь остров станет единой крепостью истинной веры!
Аббат Кеннет укоризненно покачал головой:
— Ты богохульствуешь, призывая на помощь Спасителя и Всевышнего. Сын погибели — лжепророк, и учение его — ложное золото.
— Ты опять за свое? — нахмурился предводитель мятежников. — Когда наконец уймешься? Я не просил и не прошу тебя принять нашу веру, но к чему ты хулишь то, о чем не ведаешь?
— Ты, видно, запамятовал, Гарри. Я пошел с тобой затем, чтобы унять кровожадность змеева пламени, выпущенного тобой из душ таких же нищих, каким был ты. Но я ни на миг не отрекался от своего истинного служения — служения Господу — Триединому Спасителю человецей, распятому и снова воскрешенному. И потому всякое слово и деяние мое направлено к одному лишь — восстановлению христианского мира и покоя в отчих землях.
— Проклятие! Ты решил испортить мне день такой славной победы? Клянусь своими золотыми шпорами — тебе это не удастся!
— Твои золотые шпоры — тщета и тлен, — неумолимо продолжил аббат Кеннет.
— Мой конь ближе знаком со шпорами. Он не стал бы разбрасываться такими словами. — Гарри скривил губы.
— Шипы терний лишь напомнят мне об участи истинного Спасителя, и нет мученического венца, которого бы не снес верующий во славу Божью.
— Что ты болтаешь? Противно слушать! Ты не раз уже видел — повинуясь данному тебе слову, я не истребляю тех, кто верует подобно тебе, а лишь удваиваю налоги им, дабы возложить тяжесть войны более на их плечи, чем на плечи моих сторонников. И что же? Сотни и тысячи вчерашних прихожан спешат признать себя моими единоверцами, чтобы сохранить мошну. А ты мне твердишь о терниях…
— Они вероотступники, — не меняясь в лице, вздохнул аббат. — Душам их суждено гореть в аду. Впрочем, как и твоей, Гарри. И помни, изменив праведной вере за жалкие сребреники, твою ложную они бросят даром. Так что, стоит ли хвалиться победой?
— Стоит, чертов святоша! Стоит, очень даже стоит! Мой жребий — это дело! А слово… Не бойся, слово придет! Спаситель понес его за море, но оно вернется сюда, я уверен в этом! Вернется и сокрушит твои словеса. Как змей Моисеевой веры, пришедший по его зову, пожрал священных гадов египетских жрецов.
— И тогда, и поныне племя аспидово пожирало друг друга. Веришь ли сам ты словам о возвращении Сына погибели? Измена и коварство следуют за ним, как страх и ужас шли, сопровождая языческого бога Марса. Эти спутники неминуемо приведут его к бесславному концу.
Гарри заскрипел зубами, осознавая, что упомянутые собеседником измена и коварство действительно вполне могут привести Спасителя к концу. Славному или бесславному — какая уж тут разница…
— Господь на моей стороне, — досадливо буркнул полководец, давая шпоры коню. — Самое время осмотреть будущую столицу.
Гнедой жеребец, почуяв непреклонную волю хозяина, рванулся в галоп. Ветер развевал длинные волосы принца нищих, остужая раскрасневшееся от ярости лицо.
«Кеннет прав, — думал Гарри, — эти иуды убьют мальчишку. Конечно же, он Спаситель, но ведь совсем ребенок. Как же я, глупец, просмотрел-то? Что теперь делать? Сколько бы я здесь ни побеждал, сколько ни сокрушал рыцарских отрядов, Его слово и вправду превыше моих побед. И Его гибель обратит во прах деяния мои!»
Толпа у распахнутых ворот криком и звоном оружия приветствовала неистового апостола. Стоящие на коленях пленники ожидали своей участи, надеясь на лучшее.
С той поры, как аббат Кеннет стал ближним советником и канцлером принца-змееносца, сдавшиеся на милость победителя обрели шанс на спасение. Лишь те, кто упорно не желал сложить оружие, попадали под беспощадную расправу. Теперь многие замки попросту открывали ворота, спеша присягнуть завоевателю, чтобы избежать разграбленияё а то и полного разрушения.
— Мой принц, — один из соратников Гарри, некогда командовавший отрядом лучников у всеми забытого барона, присоединился к въезжающему в город предводителю воинства новой веры, — в лагерь только что прибыли высокие послы.
— Вот ведь новость! — удивился Гарри. — Что им нужно?
— Я не могу сказать, но верительные грамоты, привезенные ими, адресованы принцу Гарри ап Эдинвейну.
— Даже так? Занятно! А ну-ка, зови их!
— Куда?
— Да откуда я знаю! Найди самый роскошный дом в Бристоле и веди их туда. И поторопи аббата Кеннета — я желаю, чтобы этот святоша тоже присутствовал на приеме официальных послов.
Не успели помилованные защитники Бристоля отряхнуть придорожную грязь с колен, не успели победители отполировать запятнанные кровью мечи, а под сводами замка, служившего некогда королевской резиденцией, звучали медоточивые речи гвинеддского вельможи:
— Мой государь, славный и могущественный Гриффидд ап Кинан, шлет привет и поздравления своему доблестному собрату, принцу Гарри ап Эдинвейну с великой победой и возвращением на земли его благородных и доблестных предков.
— Я тоже приветствую принца Гвиннеда, — важно склонил голову Гарри. — Однако уверен, не только желание приветствовать меня заставило вас проделать столь долгий путь.
— Мой господин прослышал о величии замысла твоего. И хотя сам он не разделяет твоей веры, но полагает, что можно решить миром проживание твоих единоверцев в землях Гвиннеда, а христиан — в тех провинциях, что находятся под твоей рукой.
— Быть может, — согласился Гарри.
— Он также предлагает справедливый раздел земель Уэльса. Те земли, которые ныне взяты твоим мечом, останутся за тобой. Те же, что состоят во власти Гриффидда, сохранятся при нем. Все прочие валлийские территории мой повелитель готов разделить между тобой и им к взаимному удовлетворению по нерушимому договору на вечные времена. На том он целовал крест и клялся в братской дружбе во имя Отца, Сына и Святого духа.
— Гриффидд Мудрый недаром получил свое прозвание. Он правил Севером еще в те годы, когда отец мой был молод. И потому хорошо знает жизнь и умеет отличить козлищ от овец. Я верю, что в словах его нет лукавства. Но мне все же следует подумать, прежде чем дать ответ. Ступайте, вас напоят, накормят и разместят как почетных гостей. — Гарри сделал повелительный жест, отпуская высокое посольство. — Ты слышал? — забывая о достойном принца величии, крикнул Гарри, срываясь с импровизированного трона и бросаясь к аббату Кеннету. — Слышал? Они именуют меня принцем и готовы признать за мной весь Южный Уэльс, а вместе с ним еще и половину Западного!
— Прискорбно, но это правда, — опустил глаза его канцлер. — Что ж, ликуй. Время собирать камни пока не пришло.
— Заткнись и слушай! Мне нет дела до твоих камней! Сегодня же ты вступишь в переговоры. Ты будешь торговаться за каждую болотную кочку, за каждую метлу на лесной ферме. После разгрома под Бристолем враги попритихли и нескоро поднимут головы. Мне нужен месяц: армия должна отдохнуть, а жители — свыкнуться с мыслью, что мы пришли навсегда, и им ничего не угрожает. Но мне нужен месяц, — повторил он. — Я уеду, меня не будет. Не спрашивай куда — не твое дело. И никто не должен знать об этом. Для всех — я заперся во дворце и никого не принимаю. Я повелю, чтобы тебя слушали, как меня, а ты сам придумай, чем я занят. Ясно? Если попытаешься изменить мне — найду даже под землей и придумаю что-нибудь такое ужасное, что мученический венец покажется тебе пастушьей шляпой. Вдобавок я прихвачу с собой здешних монахов. Если замыслишь недоброе — они пойдут на корм рыбам. Ты хорошо меня понял?
— Я понял тебя, принц Гарри, — тяжело вздохнул канцлер. — Иди, я не предам и буду торговаться за каждый куст, за каждую ветку и листик на этом кусте. И да закончится, наконец, долготерпение Господне, да ниспошлет он гибель на пути твоем!
Рыцарь чести, выбранный прекрасными дамами суда Любви и Красоты, возложил белый плат Никотеи на голову Генриха Льва.
— Да будет признан сей рыцарь непобежденным, да будет прославлена доблесть герцога ди Сантодоро!
Объявленное решение вызвало ликование трибун и шквал неконтролируемого обожания у тех, кто еще несколько минут назад с подозрением взирал на ромейскую севасту. Никотея сделала знак гербовому королю, тот скомандовал герольдам, и тут же по четырем сторонам ристалища взвыли трубы, силясь заглушить одобрительный крик толпы. Когда все утихло, герцогиня Швабская поднялась с места и заговорила. Публика, сызмальства привыкшая к луженым глоткам персевантов,[68] невольно привстала с мест, прислушиваясь к спокойному негромкому голосу заморской красавицы. Странное дело — она не кричала, но всякое слово, четко и властно произносимое ею, достигало слуха каждого, у кого имелся слух.
— Есть ли здесь кто-нибудь, кто хотя бы на миг может усомниться в храбрости и воинском искусстве герцога Баварии? Есть ли здесь такие?
— Нет! — взвыли трибуны.
— Есть ли кто-нибудь, кто приписывает сегодняшнее поражение этого великого воина его слабости или же неумению владеть оружием?
— Нет!
— Есть ли кто-нибудь, полагающий, что своею доблестью Генрих Лев уступает более счастливым противникам?
— Нет! Нет! Нет!
— Так не усомнимся же мы в том, что лишь злая судьба была причиной столь плачевного случая. — Никотея указала на герцога, накрытого белым платком. Она не видела его лица, но готова была поклясться, что слышит зубовный скрежет. Взятый под защиту рыцарь был вынужден молча внимать речам спасительницы. — И не поставим мы в упрек доблестнейшему Генриху Льву это несчастное поражение!
— Не-е-е-ет!!! — неистовствовала толпа.
— Вальдар, мальчик мой, ты посмотри, как эта юная девица ловко держит зал, — послышался на канале связи голос Джорджа Баренса.
— Эта юная девица много чего ловко держит. И в первую очередь, как мне представляется, она держит за горло своего мужа, а с ним — всю имперскую знать.
— Похоже, ты прав. Мы и впрямь ее очень сильно недооценили. В свое оправдание должен сказать, что я тщательнейшим образом изучил все источники по нашей истории, а также по истории ближних сопределов. Ни в одном не упоминается Никотея Комнина. Возможно, где-то она не родилась, где-то умерла во младенчестве, где-то окончила свои дни в монастыре или же попросту стала тихой благонравной женой вельможи. Ну, скажем, того же Симеона Гавраса.
— Вот так вот… Одна ночь любви, и такие последствия.
— И я верю… Да нет же — я знаю, что славный воитель и великий полководец Генрих Лев еще не раз докажет, что нет в Империи героя, способного потягаться с ним мужеством и славой. Как бы ни было горько сейчас видеть отважнейшего из отважных в столь плачевном состоянии, мы все помним, что настоящий бой, бой во славу Отечества, во славу Господа нашего — превыше любой победы на любом турнире! То, что я скажу сейчас, написано кровью в моем сердце.
Трибуны притихли, ожидая сокровенного.
— Всякому известно, что язычники-пруссы уже много лет разоряют наши земли и терзают сердца всех истинно верующих, принося жертвы проклятым идолам. Всякому известно, что последние месяцы мы готовили крестовый поход в земли язычников — Зигфрид, архиепископ Кельнский, призвал нас к нему, и было бы преступлением не откликнуться на этот зов! Стоит ли говорить, как мечтала я увидеть во главе похода своего мужа? Но сейчас я утверждаю: нет рыцаря и полководца более достойного возглавить наше войско у балтского предела, нежели Генрих Лев! — Она простерла руку к вставшему на колено рыцарю. — Есть ли здесь кто-нибудь, кто сочтет, что он недостоин этой чести?
— Не-е-ет! Не-е-ет! Слава Генриху! Слава Льву! Слава Никотее! Многие лета герцогине Швабской!
— Вуаля. Что и требовалось доказать: под ликующий гул толпы ангельское создание устранило опаснейшего конкурента, а никто этого даже не понял, — резюмировал Баренс.
— Генрих Лев понял, — ответил Камдил.
— Ну, у него-то теперь и выхода нет. После того как Никотея спасла его от гибели, после того как она устроила такое шоу, он уже не сможет сказать, что желает потягаться за имперский трон вместо завидной чести рыскать по лесам и болотам в поисках диких воинственных пруссов.
— Это верно, — согласился Камдил. — Однако на самом деле она устранила не одного, а двух конкурентов. Без поддержки баварца Лотарь Саксонский тоже не рискнет противостоять мужу Никотеи.
— Ай да юная прелестница! Как ловко она разыграла этот гамбит! Что можно сказать… Ты не зря проделал этот путь и не зря помог ей сегодня разделаться с конкурентом. Теперь она тебе доверяет, если вообще, конечно, доверяет кому-либо. А значит, у тебя довольно неплохая позиция, чтобы в нужный момент остановить нашу очаровательную подругу.
Завершив свою речь, Никотея предоставила оруженосцам герцога Баварии делать свое дело. Она с удовлетворением отметила, как один из юношей аккуратно сложил окровавленный платок и засунул под кожаный нагрудник. Севаста постаралась запомнить его лицо: обуянный страстью человек в свите опасного и скорее всего непримиримого врага — всегда полезная фигура. Пока же она величаво поднялась в свою ложу, давая возможность оруженосцам доставить обескураженного Льва в его шатер.
— Милая, зачем ты сделала это? — недоуменно спросил Конрад Швабский, едва только его супруга опустилась на соседний трон. — Теперь Генрих значительно усилится — собранное войско пойдет за ним, а мы останемся ни с чем!
— Молчи, дорогой мой, — проворковала Никотея. — Молчи и смотри, что будет дальше. Не спрашивай, куда летит богиня победы, когда она летит над тобой!
Ждать пришлось недолго. Едва улеглись страсти по поводу спасения Генриха Льва и единодушного избрания его главой крестового похода, на ристалище на взмыленном коне вылетел всадник. Он пронесся до середины турнирного поля, осадил коня аккурат против ложи хозяев турнира и заорал благим матом:
— Близится конец света! Ужас объемлет земли, и поступь Антихриста сотрясает божьи храмы! Вести из Рима! — Всадник ловко достал свиток из-под алой котты, на которой было изображено надкушенное золотое яблоко. — Послание от Его Святейшества! Оно писано слезами благочестивейшего Папы Гонория и скреплено кровью христианской! Рыдайте, люди: «Истинно, истинно говорю вам: наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышавши, оживут». В землях франков случилось недоброе: отверзлись врата адские и исторгли зверей погибели! Король франкский сокрушает обители христианские, противник же его — некий Бернар из Клерво — и вовсе похитил и умертвил папского легата, и втоптал в грязь благочинный сан милосердного служителя Божия. Имя одному Коркодел, другому же — Левиафан! Стенает Франция, отлученная от матери нашей первоапостольной Римской католической церкви, от груди ее, от млека животворящего! Как язва, разъедающая плоть, появившись раз, поражает все тело, так и звери бездны, ступив на земную твердь, останутся ли в границах земель франкских? Святейший Папа, блаженнейший и благочестивейший Гонорий II, шлет послание императору, коий есть острейший меч в руке апостола Петра. Но увы, увы, нам грешным! Терзайтесь и плачьте, ибо нет в земле нашей императора…
— Ты слышишь, слышишь? — взорвался Баренс на канале связи.
— Ну, конечно, слышу!
— Вот это мастерство! Снимаю шляпу! Публика заведена, сейчас они быстренько разовьют эту тему и сделают Конрада императором. Готов держать пари… да теперь уж ни к чему. Хотя давай-ка послушаем, что скажет Отакар Богемский — старейшина князей-электоров.
Взгляды присутствующих обратились к одной из лож — как раз напротив той, где восседали Конрад и Никотея. Осанистый седобородый вельможа, уже много лет правивший Богемией, поднялся со своего места и заговорил голосом зычным и резким:
— Сегодня необычный день! День, когда перст Господень указывает нам путь столь же ясно, сколь лучи солнца указывают, что настало утро. Каждый из вас знает, что не здесь и не сейчас должны были собраться знатнейшие из князей Империи, чтобы решить, кто займет опустевший трон императора. Но человечье разумение ничто пред Божьим промыслом. И, стало быть, мы должны представить ответ пред Богом и людьми именно здесь и сейчас. Судьба не оставляет нам выбора. Скажу прямо: я долго сомневался, кому отдать свой голос — храбрейшему ли Генриху Льву или же доблестному Конраду Швабскому, ближайшему родичу покойного императора. Но сегодняшний день все расставил на места, и мне доподлинно ясно, что не человечьим хотением, а божьим соизволением герцог Конрад должен взойти на трон. Герцог Конрад должен повести войско Империи для спасения христианства, дабы подавить, выжечь язву, разъедающую некогда общее наше Отечество. И да станет оно единым вновь и возродится, аки феникс из пепла, Великая Римская Империя! Pax romanum![69]
— Шах и мат, — прокомментировал Джордж Баренс.
— Я… поддерживаю герцога Конрада, — поднялся следующий по старшинству Лотарь Саксонский. Лицо его было бледно, даже издалека слышалось, как тяжело ему даются произносимые слова.
— Еще бы, — усмехнулся лорд Джордж, — по нашим данным, он присягал на верность Бернару. Сейчас ему высказаться против — все равно что напроситься на отлучение от Церкви. Тем более если его несостоявшийся зять отправится сражаться с пруссами…
— Отправится, — Камдил облокотился на ограждение ристалища, — но теперь с куда меньшим войском, чем рассчитывал. Вероятно, только с баварцами, ну, может, еще с саксонцами.
— Монсеньор, — рядом с графом Квинталамонте остановился запыхавшийся херсонит, — там Федюня…
— Что с ним?
— О, не беспокойтесь, он жив и здоров. Но у него на коленях спят две огромные змеи, и еще он говорит, что нам следует незамедлительно идти к Бернару Клервосскому.
Матильда рыдала. Рыдала и не могла унять слезы — бегство любимого казалось заслуженной карой за грехи: за поругание траура, за попрание отцовской воли, за невенчанную любовь, за обман, который окружал нечестивую ее страсть с самого начала. Но чем сильнее гнала прочь обуревавшие ее чувства, тем сильнее болело сердце, грозя разорваться на части от тоски.
Королева уединилась в молельне и не покидала своих покоев, вознося молитвы Святой Деве, прося заступничества. Но каждый раз, когда начинала она «Ave Maria», мысли возвращались к греховным мирским вопросам: как могла стража у ворот пропустить пленника, куда помчался он, где скрывается? Ответы находились тут же. Уже не первый день Фульк Анжуйский свободно разъезжал по Лондону и его окрестностям, и никому бы в голову не пришло останавливать высокородного гостя короля и королевы. Ответы находились сразу, но вопросы в голове Матильды звучали вновь и вновь.
— Моя королева, — мажордом ее величества вошел в покои Матильды, — к вам направляется государь.
— Для чего он хочет видеть меня? — спросила Матильда, стараясь наскоро промокнуть слезы на щеках.
— Он мне не сказал. Лишь повелел сообщить, что незамедлительно прибудет. А вот, кстати, и он, — заслышав характерные шаги в коридоре, мажордом открыл двери и согнул спину в поклоне.
Трижды глубоко вздохнув, чтобы восстановить дыхание, королева вышла навстречу суженому.
— Рада видеть вас, мой государь. — Она склонила голову, надеясь, что такое положение не даст рассмотреть ее заплаканные глаза.
— И я рад, Мотря, — пробасил Мстислав. — За советом к тебе пришел. Из земель, что от нас к закату лежат, гонец прибыл. Говорят, князь у них объявился, коий многие города на копье взял и многие воинства в прах развеял. А на знамени того князя не крест ваш, не хиро ромейское,[70] не лик святой, а самое что ни на есть кубло змеиное.
— Да, я слышала о том, — коротко ответила Матильда.
— Вот я себе и думаю: змей — он змею рознь. Сам я, как всякому доподлинно ведомо, змееборец, но ведь и то сказать, от нашего Светлояр-озера до вашего студеного Сновидона мы и сами змеиным путем пришли. Послал я туда нынче лазутчиков — разузнать что к чему. А к тебе пришел спросить: как в прежние-то времена с теми землями предки наши поступали? Бились или мирились? Или же иначе как?
— Чаще бились, — ответила Матильда, не удержав предательского всхлипа.
Король Гарольд замолчал и пристально уставился на будущую супругу.
— Пошто слезы льешь? Или по батюшке убиваешься?
— По батюшке, — краснея, выдавила Матильда.
Мстислав оглядел ее с одной стороны, затем с другой, будто не видал ранее:
— Ужо тебе, Мотря, не к лицу врать-то. Не отца ты сейчас поминаешь.
— Не отца, — еще ниже склонила голову королева.
— Тогда кого же?
Дочь Генриха Боклерка молчала.
— Что ж молчишь? Ответствуй.
Матильда чувствовала, как падает вниз сердце и сплетаются в комок все невысказанные слова, перехватывает дыхание, и слезы вновь заливают щеки.
— Ладно, не говори, и без того знаю. О молодце заморском убиваешься. Так ведь?
Матильда кивнула.
— А он, ишь, сокол залетный, крылья расправил и упорхнул.
Матильда почти без чувств рухнула на колени.
— Встань, встань. Не пристало, — подхватил ее Мстислав. — Разве ж непонятно… Я вон хоть и не стар, да в летах. А тот, недовешенный — юн да пригож. Встань… Корить тебя не буду. Но уж совратителю, не обессудь, кол острый. — Король собрался хлопнуть в ладоши, чтоб позвать мажордома.
— Не губи! — Матильда схватила его за руки, не давая свести. — Не губи, мой повелитель!
Мстислав помрачнел:
— Что, уж так не люб? — наконец выдавил он. — Чем же я тебе нехорош? Может, обидел когда? Злата ли не дарил, мехов ли? Может, когда прогневил?
— Боюсь я тебя, — тихо вымолвила Матильда. — Боюсь, как батюшку своего боялась. Ежели хочешь — голову мне руби. Я одна во всем виновна…
— Так, значит. — Гарольд высвободил руки и прошелся по комнате, выискивая, что бы сокрушить могучим ударом. — Значит, так…
Матильда стояла перед ним, замерев от ужаса, ожидая расплаты и благодаря небеса за то, что они подарили ей немного счастья перед гибелью.
— Вот как… — невпопад бросил Мстислав. — Ну, значит, и быть по тому. Сядь, Мотря, и выслушай волю мою. Сказывал ли тебе — сон мне дурной был. Поведал я тот сон мудрому Георгию, мниху[71] ромейскому. Растолковал он его, и когда правду сказал, то приключилось с братцем моим родным, от меня неотличным, беда великая. Пал он от измены черной в отчих землях. А потому надо мне собираться в Киев-град, дабы самолично вызнать, что да как. Ты же здесь — в дому — хозяйкой останешься. Дружину я тебе отряжу немалую, советников путных… Правь тут пока именем моим. А ежели не вернусь через один год, один месяц, одну неделю и один день, то почитай себя свободной от слова, мне данного. И коли так, то и живи, как знаешь.
Матильда удивленно подняла на могучего, сходного с лесным медведем, витязя заплаканные глаза. Тот глядел на нее печально и, как показалось королеве, сам едва сдерживал непрошеные слезы.
— Быть по сему, — кратко бросил он и, не дожидаясь ответа, вышел из покоев королевы.
Глава 27
В бою не успеешь оглянуться, и оглядываться уже нечем.
Йохим МюратСтража у покоев Его Святейшества отсалютовала, увидев перед собой храброго капитана ди Гуеско. Дежуривший у дверей секретарь папского камерария,[72] приветственно кивнув барону, приоткрыл дверь, спеша доложить Папе Гонорию II о прибытии капитана его гвардейцев.
Свои разносят сплетни по всей стране клеветники, Умей хранить молчанье наветам вопреки. Немногословный рыцарь дамами всегда любим. Он человек надежный. Куда спокойней с ним! Пока язык болтает, не надейся на успех! Внакладе пустомеля: болтунам — и смех, и грех,[73]слышалось из глубины кабинета наследника апостола Петра.
— Прервись, Эрманн. — Голос за дверью звучал властно, хотя и негромко. — Пусть он войдет.
Анджело Майорано набрал в грудь воздуха, выпустил его сквозь сомкнутые губы и рывком, едва не задев стражника, открыл дверь.
— Ваше Святейшество, — Мултазим Иблис ворвался в папские покои и рухнул на колени, звеня кольчугой, — о милосердии умоляю! Виновен, mea culpa! Это мой грех!
— Что случилось, Анджело? — Понтифик удивленно поднял брови. Прежде ему никогда не доводилось лицезреть своего бравого капитана в столь неловком и неопрятном виде: доспех покрыт пылью, как древний фолиант, гербовая котта висит клочьями, щетина на щеках минимум неделю не встречалась с бритвой.
— Ужасное, ужасное горе! Дон Гуэдальфо Бенчи, этот святой человек… Его больше нет с нами! — Майорано опустил голову, точно подставляя шею под удар меча.
— До меня доходили какие-то странные нелепые слухи, будто ты и твои люди умертвили его близ Пармы.
— Это подлый навет! Я спас его от коварных убийц, иначе, осмелюсь спросить, был бы я сейчас здесь? Решился бы я предстать пред тем, кому дана власть над ключами Царствия небесного и врат Преисподней? Я спас его, но, увы, увы… недолго мне суждено было радоваться.
— Я не поверил слухам и решил дождаться твоего прибытия, мой храбрый Анджело. Когда б не вернулся, тебя бы отыскали и в гареме султана Египта. Но я знал — ты честный рыцарь, и вижу, что не обманулся. Говори же, что произошло.
— Не смею, — всхлипнул старый пират, исподтишка разглядывая драгоценные камни в перстнях, унизывавших пальцы Гонория II.
«Черти б его разорвали! — крутилось у него в голове. — Готов поспорить, Его Святейшество варит золото и превращает булыжники в этакие сокровища. Но где же он хранит свой дьяволов гримуарий? Эх, остаться бы с Папой наедине! Хоть не на день, хоть на полдня!
— Отчего же? Если нет на тебе греха — ты ни в чем не виновен. Если же грех невольный — я прощаю его.
— Ваше Святейшество, не мне судить о том, грешен ли я. Господь свидетель — я делал, что мог, но, увы, спасти преподобнейшего фра Гуэдальфо оказалось выше человеческих сил.
— Говори толком! — потребовал слуга слуг Господних.
— Близ Пармы нам удалось уйти от коварных убийц, посланных вашими тайными врагами. Мы, сделав изрядный крюк, добрались до Франции, но там нас ждала новая беда. — Майорано тяжело вздохнул. — Имя ей — волк в овечьей шкуре — аббат Бернар из Клерво!
— Что? — нахмурился понтифик. — Что на этот раз позволил себе этот гнусный выскочка?! Один раз он уже изгнал моего посланца, в самых мерзких выражениях изъявив непочтение к Риму. Во имя Господнего милосердия я не стал карать его, объявив лишь свое недовольство, а теперь этот негодяй поднял руку на моего легата?
— Попав в земли Франции, мы очень скоро угодили в западню, о которой и гадать не могли. Граф Тибо Шампанский — цепной пес нечестивого аббата, возомнившего себя пророком, — остановил нас и потребовал от преподобного фра Гуэдальфо следовать за ним в Клерво. Мы готовы были драться, покуда кровь хотя бы каплей оставалась в жилах, но благороднейший, добрейший фра Гуэдальфо запретил нам: он еще верил, что слово истины поможет одному служителю Господа понять другого. Мы были вынуждены повиноваться… Лишив коней, а заодно с тем — оружия, нас выпроводили прочь из земель графа Шампанского.
— Да как он смеет! — Понтифик грохнул кулаком о вызолоченный подлокотник. — Разоружать моих людей, моих гвардейцев?! Отлучаю! Отлучаю от церкви его и всю Шампань!
— Это не все, Ваше Святейшество. Не теряя времени, я бросился на поиски короля Людовика, и небо было так благосклонно, что очень скоро нашел его, но было уже поздно. Мне неведомо, каким ужасающим пыткам Бернар Клервосский и его мерзкие ублюдки подвергли столь благородного и великодушного человека, каким был фра Гуэдальфо Бенчи, но только вскоре после моего прибытия к христианнейшему королю Франции стало известно, что на владения его наложен интердикт.
Бледность залила аристократическое лицо Папы Гонория, и его тонкий античный нос стал похож на ястребиный клюв.
— Мятеж… Подавить! Я наложу такую епитимью! — Он с хрустом сжал пальцы. — Кровавыми слезами оплачут негодяи день, когда они появились на свет.
— Король был добр и выделил мне сильный отряд, чтобы я смог отыскать фра Гуэдальфо и освободить его. Должно быть, узнав об этом, сам Бернар или же его подручные коварно умертвили настоятеля Санта Мария делла Фьоре и скрыли тело его. Мне удалось отыскать лишь слугу его преподобия — он и поведал, что люди графа Шампанского ночью куда-то увезли легата. Мы преследовали их и даже нагнали, но было поздно. Слишком поздно, — обреченно вздохнул Анджело Майорано, расстегивая поясную суму. — Вот это мы нашли среди вещей убитого.
Он положил к ногам Папы наперсный крест и перстень настоятеля храма.
— Я не смог уберечь его и достоин кары.
— Ты достоин награды как верный и храбрый воин, — после недолгой паузы заговорил понтифик. — Так же, как враги твои достойны геенны огненной.
«Хорошее сравнение, — предательская улыбка чуть не искривила губы барона ди Гуеско. — Ах, как играет свет в рубине на его указующем персте! Проклятие, этот указующий перст был бы хорош и без рубина!»
— Но довольно о мертвых, — продолжал Гонорий II. — Всевышний упокоит великомученика среди праведников своих, и ангелы в царствии небесном воспоют ему осанну. Мы же покуда на земле и займемся делами земными. Во-первых, следует незамедлительно отменить интердикт.
— Если мне будет позволено сказать — это весьма уместно. Король Людовик ныне сражается с мятежниками как в Шампани, так и в Нормандии. И стоит ему ударить по одним, как он тут же оборачивается спиной к другим. Интердикт же лишает его возможности опереться на рыцарство и простой люд даже в собственных землях.
— Молчи, Анджело! Я знаю, что такое интердикт, — оборвал его ключник святого Петра. — Эрманн, ты говорил, что герцог Конрад Швабский был бы предпочтительнее на императорском троне, нежели иные претенденты?
— Я и продолжаю это утверждать, Ваше Святейшество. Герцог не по возрасту мудр. Храбростью он не уступает пылкому яростному Генриху Льву, и куда моложе, а стало быть, энергичнее и выносливее старого Лотаря Саксонского. К тому же его благочестие известно всякому, кто живет в землях Империи.
— Так вот, подготовь ему письмо. Если он силой оружия поддержит короля Франции, я признаю его права на императорский трон и сочту уместными его притязания. Подготовь энциклику,[74] в которой я снимаю интердикт с Франции и отлучаю от Церкви еретика и братоубийцу Бернара и всех, кто посмеет следовать за ним.
— Сегодня же все будет готово, Ваше Святейшество.
— Уверен, ты прекрасно справишься.
— Дозвольте мне лично доставить ваше послание королю Франции, — расправил плечи барон ди Гуеско. — Я обещал государю, что на коленях буду умолять вас спасти его королевство, и мне было бы весьма лестно, если б Ваше Святейшество позволили засвидетельствовать мою честность по отношению к христианнейшему королю Людовику.
— Ты настоящий рыцарь, дон Анджело. Такой, каким подобает быть истинному сыну церкви, опоясанному мечом. Но ты устал, измотан…
— Даже если я умру через мгновение после того, как вручу ваше послание Людовику Французскому, нет для меня большей награды, чем эта.
Гонорий II восхищенно причмокнул и улыбнулся:
— Я рад, что мне служат такие ревностные воины. Ступай, отдохни пока. Я предоставлю ту награду, о которой просишь, и сверх того награжу от себя. — Папа Римский осенил капитана гвардии крестным знамением и, благословив, протянул руку для поцелуя.
Майорано едва зубами не впился в вожделенный перстень и лишь усилием воли заставил себя чуть прикоснуться губами к изнеженным перстам. Сделав это, он поднялся и направился было к двери.
— Приди вечером за письмом королю. Я лично отпишу ему. И… — Понтифик чуть помедлил, задумавшись. — Возьми. Вот тебе за верную службу. — Он снял с пальца перстень с рубином.
— О, не знаю, как благодарить вас, — склонился Мултазим Иблис.
«Быть может, сейчас он сохранил себе жизнь», — мелькнуло в голове пирата.
Выйдя из папского кабинета, Майорано остановился, примеривая кольцо. Оно налезало лишь на мизинец. Внутренний огонь, пылавший в рубине, завораживал, не позволяя оторвать глаз.
От этой доброй вести прошла печаль моя, Вернулся мой любимый в родимые края,послышалось из приоткрытой двери.
— Оставь, Эрманн, не до того, — раздраженно бросил Гонорий II. — Займись лучше энцикликой и посланием герцогу Швабскому!
— Всенепременнейше, Ваше Святейшество! — «Крестный отец» Никотеи, поклонившись, вышел из кабинета и направился по коридору в свои покои.
— Ваше преосвященство, — Анджело Майорано поравнялся с ним и склонился перед святым отцом, — быть может, желаете на словах передать что-нибудь своему племяннику?
Задумчивые меланхоличные волы медленно влекли огромную повозку по старой римской дороге. Сейчас дорога уже не выдерживала требований, предъявлявшихся некогда к этим кровеносным сосудам Европы: экипаж невесты уж точно не разъехался бы здесь с катафалком.
По сути, то, что теперь посреди императорского войска катилось по Франции, представляло собой павильон на колесах — внутри него был накрыт стол, на колоннах, поддерживавших расшитый звездами купол, висели клетки с певчими дроздами. Завершали интерьер «выездной резиденции» лежавшие повсюду восточные ковры.
Стража, со всех сторон окружавшая экипаж, страдальчески отводила носы от аппетитных запахов, тянувшихся шлейфом за повозкой. За обеденным столом в павильоне удобно расположились восхитительная императрица Никотея и ее доблестный товарищ по дальним странствиям Вальтарэ Камдель.
— …Теперь же, друг мой, настало время покончить с варварским наследием, которое погрузило во мрак земли Империи на много столетий. Единый бог, единый первосвященник и единый император — вот основа мироустройства, дающая покой и благополучие всем подданным без изъятия. Как сказано в послании апостола Павла: «Ни иудея, ни эллина». Королевства, герцогства, княжества — все эти куски бывшей великой Империи лишь ослабляют ее некогда могучее тело. Расчлененный исполин не встанет на ноги. А кому, как не вам, прославившему свое имя в крестовом походе, знать, насколько велика угроза, нависшая не только над землями ромеев, но и над всей Европой.
Не пришло ли время прекратить споры о том, исходит ли Дух святой от Отца небесного, или же от Отца и Сына, когда из самих христианских земель может скоро изойти дух?! Лишь в единении наша сила. — Никотея сделала знак виночерпию, и тот наполнил кубок рыцаря. — Сейчас от вас зависит, станете ли вы мне верным помощником и своими очами увидите рассвет новой Великой Империи, или же, подобно земляному червю, будете копаться в своей привычной грязи. Но вам будет хуже, чем ему, ибо вы знаете, что свет возможен.
— Я не раз доказывал свое искреннее расположение к вам, государыня, — отпивая вино, произнес Камдил.
— Верю, что еще не раз докажете. Наш друг, Мстислав, а тем паче его духовник, брат Георгий, прислушиваются к вашим речам. Убедите их быть со мной в союзе, и ни вы, ни они не пожалеете об этом. Нормандия — законное приданое его жены. К ней я готова прибавить всю Бретань.
— Забирай. Государство не обеднеет, — вмешался Лис на канале связи. — Тем более что государство соседское. Так шо и обеднеет — невелика забота.
— Сергей, погоди. Видишь, девушка предлагает нам проект объединенной Европы.
— Я бы сказал — объеденной Европы.
— Прекрати свои шутки, — остановил Лиса Джордж Баренс. — Сами посудите: если Никотее удастся подмять под себя европейские королевства — а с ее задатками, возможностями Священной Римской Империи, военным рвением Конрада и поддержкой Ватикана это вполне может произойти, — то глобальный железный кулак, так сказать, франков ударит по воротам Константинополя.
— Там чертовски крепкие ворота. И стены в три ряда, шоб всякие энтузиасты со щитами и гвоздями не шарились.
— Я говорю очень серьезно, Сергей! Не исключено, Иоанну Комнину небо поможет сохранить трон и отбить этот натиск. Но какой ценой? И те, и другие будут ослаблены настолько, что вряд ли смогут отразить новый удар — а он непременно придет. Смяв измочаленную ромейскую империю, в Европу ринутся волны сарацинов — ответом на крестовый поход станет нашествие полумесяца. Есть другой вариант: коварством, подкупом или же каким иным способом Никотее удастся устранить дядю от власти и привести ромеев к покорности. Тогда уж туго придется мусульманскому миру. Возрожденная Римская Империя, объединившая Запад и Восток, попросту сотрет его с лица земли. И вся античная культура, сформировавшаяся в тех землях еще со времен Александра Македонского, пойдет псу под хвост. Если вспомнить, какое влияние, вернувшись с крестоносцами, она оказала на Европу…
— Ясно, ясно. То о ней лучше сразу забыть.
— Я прошу тебя, Сергей, не перебивай меня. Но, в целом, ты прав. То, что не снесет бронированный кулак христиан, уничтожит ответный пожар газавата, — подытожил Баренс. — В любом случае, при всей своей несомненной прогрессивности, идеи Никотеи, как говорится, слишком опередили время. Даже если вдруг ей все удастся с блеском и ничего из вышесказанного не произойдет, — новый «мировой порядок» не сможет поддерживать себя сам. Без такого харизматичного лидера, как наша прелестная севаста, он развалится с грохотом, едва только ее не станет. Башня на песке и без цемента! Так было и после смерти Александра Македонского, и после Карла Великого. Тогда последует новый откат в варварство и новые кровавые усобицы. Конечно, есть вариант, что Никотея увязнет в мелких дрязгах: спорах, переговорах, согласовании границ… Но, честно говоря, наблюдая ее манеру действовать, в это верится с трудом.
— Мне тоже, — согласился Камдил. — Можно попробовать использовать Мстислава, чтоб остановить нашу очаровательную подругу. Думаю, со времени отравления королевы Матильды, его нежное отношение к Никотее слегка подувяло.
— Я бы не ставил на это, — отверг идею стационарный агент. — Во-первых, вблизи чары Никотеи могут выветрить из Мономашича грустное воспоминание. А во-вторых, Мстислав нынче собирается вернуться на Русь.
— Отчего вдруг?
— Горек хлеб эмигранта, — сокрушенно вставил Лис, — и соленый пот монарших трудов не делает его слаще.
— Ничего смешного. При штурме Тмуторокани погиб Великий князь Святослав.
— А что же будет с английским престолом?
— До возвращения его займет Матильда, а вернется король Гарольд или нет, похоже, ему и самому неизвестно.
— Государыня, — склонил голову рыцарь, — должен сказать, что еще после нашего первого разговора я послал человека в Британию, дабы он поведал королю о вашем дружестве к нему. Однако вести, доставленные мне сегодня, неутешительны. Гарольд, или уж лучше его теперь снова назвать Мстиславом, возвращается в отчие земли.
— Зачем? — насторожилась императрица.
— Там погиб его брат, Святослав.
— Значит, он снова станет во главе руссов? Это очень хорошо. А кто займет английский трон?
— Покуда ваша недавняя знакомая Матильда, дочь Генриха Боклерка.
— Ма-ти-льда, — по слогам произнесла государыня, и на лицо ее набежала легкая тень задумчивости. — Когда б не Мафраз… — Она не окончила фразу. — И все ж, полагаю, мы с ней найдем общий язык.
Никотея на некоторое время замолчала, просчитывая ситуацию и со вкусом поглощая выложенные перед ней куски жаркого.
— Отведайте, граф, очень вкусно! Раз уж мы вспомнили мою злополучную служанку, должна сказать, что давно не пробовала столь прекрасных, изысканных приправ, как нынче. Одна Мафраз знала в этом толк. Правда, нынче я бы поостереглась брать еду из ее рук.
Камдил чуть заметно скосил глаза, будто высматривая, не появится ли вдруг рядом с повозкой дерзкая физиономия персиянки.
— Спасибо, я нынче пощусь.
Никотея с удивлением взглянула на рыцаря. Наконец молчаливое вкушение хлеба насущного наскучило ей, и она снова обратилась к своему гостю:
— А скажите, мессир Вальтарэ, давно ли вам доводилось видеть своего родственника — короля Сицилийского?
— Давно, — честно сознался Камдил.
— Я всегда восхищалась им, всегда мечтала познакомиться. В его деяниях есть истинный размах. Думаю, вы бы могли меня ему представить?
— Вероятно, моя госпожа. Но, увы, скоро я должен буду оставить вас. Хотя, господь свидетель, как трудно покинуть такое приятное общество.
— Покинуть меня? Что заставляет вас?
— Мой долг крестоносца. Я и так слишком много времени пробыл вне Святой Земли. Обеты, данные в Иерусалиме, требуют, чтобы я вернулся как можно скорее.
— Обеты? — поразилась Никотея. — А как же Англия? Вы же обещали… — Ее ресницы обиженно затрепетали.
— Прошу извинить, я вынужден… Это превыше меня.
— Мой дорогой племянник, куда это ты собрался? — возмутился лорд Баренс.
— К Бернару Клервосскому. С Федюней.
— Да ты что, мой дорогой, ума лишился? Федюня с его паранормальными способностями, конечно, очень интересен, но сейчас есть проблемы поважнее. Тем более что там опасно — против Бернара ополчилась едва ли не вся Европа. И, кстати, не забывай, что во многом этот внутренний «крестовый поход» инспирирован как раз Никотеей. Ее нельзя оставлять без присмотра!
— И тем не менее, дядя, я чувствую, ключ к решению проблемы находится именно там.
— Ты говоришь ерунду! Как встреча Федюни Кочедыжника и Бернара Клервосского может сорвать планы Никотеи?
— Пока не знаю. Но может.
— Ты не в силах привести ни одного внятного довода!
— Зато есть куча невнятных. — Лис сделал многозначительную паузу. — Как ни напрягай межушное пространство, не объяснишь. Но век статуи Свободы не видать — идти надо.
— Отдохнуть вам надо, — возмутился Баренс. — Вы всю Систему, всю здешнюю цивилизацию под удар ставите. Это что, непонятно?
— Понятно. Непонятно другое. Мы ее ставим под удар, если идем или если остаемся?
— Вы — опытные оперативники, у вас отменное чутье, но то, о чем вы говорите, — нонсенс! Вся ответственность за результат «похода» ляжет на вас, — отрезал раздосадованный Джордж Баренс, отключая связь.
— А было по-другому?
— Когда вы желаете ехать? — огорченно спросила императрица, и в тоне ее слышалось плохо скрытое недовольство.
— Как можно скорее.
— Тогда не смею вас задерживать. — Никотея вежливо улыбнулась, давая понять, что аудиенция окончена. — Гринрой, — позвала она, когда Вальтарэ Камдель отъехал на достаточное расстояние, — мы недооценили господина рыцаря. Он лжет и что-то скрывает. Проследи, куда направятся он и его люди. И помни: никто из них не должен достичь Бернара Клервосского. Ах да, — императрица остановила собравшегося было уходить рыцаря Надкушенного Яблока, — возьми этот золотой и передай тому, кто готовил нынешнюю трапезу. Она была отменна.
Ворота замка Монтурлен отворились медленно, точно этот процесс каким-то образом причинял боль цитадели. Командир гарнизона вышел первым, за ним оруженосец, держа белый флаг на древке пики без наконечника. Двое рыцарей: один — с лилиями короля Франции, другой — облаченный в цвета Анжу, стали на пути коменданта, держа упряжное ярмо. Пройдя под ним, комендант расстегнул широкий рыцарский пояс и бросил его на обочину дороги вместе с мечом. Отныне его некогда гордое имя не упоминалось больше в числе рыцарей. Единственное, что оставалось, — это жизнь, подаренная милостью французского монарха.
За комендантом и его оруженосцем последовали другие защитники Монтурлена. Скорбь и отчаяние были в их лицах, но ни капли сострадания не видели они в глазах победителей.
— Воистину, мой дорогой Сугерий, Господь — наилучший полководец. Простого капитана гвардии Его Святейшества он умудрил в военном деле куда более, чем всех моих военачальников. Уж не знаю, хорош ли он в честном рыцарском бою, но, как видишь, его хитрый план оказался верным.
— Господь ясно дает понять, на чьей он стороне, — отозвался аббат Сугерий.
— Это, конечно, так. Но, признаться, до сего дня я все никак не мог поверить, что каверза, предложенная ди Гуеско, сработает. — Людовик Толстый оглушительно расхохотался, и те, кто бросал оружие к его ногам, невольно вздрогнули, предчувствуя недоброе.
План Анджело Майорано действительно оказался весьма неплох. К тому моменту, когда отряд французов подошел к Монтурлену, вся округа только и говорила, что о войске герцога Аквитании, спешащем сюда же для соединения с армией короля Франции. Толпы крестьян, срываясь с насиженных мест, бросились под защиту крепостных стен, надеясь отсидеться в каменной цитадели. Но у самых ворот ждал неприятный сюрприз — летучие отряды французов останавливали беженцев, отбирали скот, зерно и остальные припасы и отпускали. До смерти испуганные землепашцы спешили в городские стены, увеличивая и без того немалое число едоков и паникеров. Когда Монтурлен наконец был взят в полную осаду, в нем оказался переизбыток и тех, и других.
Слухи о подходе аквитанцев быстро докатились и до коннетабля де Вальмона, который легко выяснил, что Людовик Толстый с основными силами стоит на месте без движения и явно ожидает, когда герцог Аквитании обрушится на фланг общего врага. Де Вальмон отправил нескольких гонцов к графу Тибо Шампанскому, прося его отвлечь на себя короля, и вскоре получил сообщение, что граф незамедлительно придет на помощь.
Сообщение не было подлогом, но пообещать это Тибо Шампанскому оказалось легче, чем сделать. Неожиданная, точно эпидемия чумы, напасть охватила графство от северных границ до южных. По всей его земле горели замки, деревни, обрушивались мосты, полыхали виноградники — все указывало на целенаправленные действия бандитских шаек, стремительно нападавших и еще более стремительно уносивших ноги при первой же опасности. Шампанские бароны со своими отрядами разъехались по замкам, надеясь защитить свои угодья, а если повезет, то поймать и вздернуть разбойников. И в том, и в другом успех их был невелик. Как ни силился Тибо Шампанский собрать вассалов под знамена, атаковать Людовика Толстого ему попросту было не с кем.
Успокоенный обещанием союзника, коннетабль де Вальмон ринулся на помощь Монтурлену, полагая успеть до прихода аквитанцев и не дать врагам соединиться. Именно этого и ожидал Людовик Толстый. Его удар по растянувшимся на узких проселочных дорогах рыцарским колоннам, обозам и уныло шагающим пешим отрядам был сокрушителен, как удар молота. Никогда прежде Франция не видела такой неправильной войны.
Остатки нормандцев во главе с де Вальмоном бежали к морю, оставив Монтурлен без подмоги. К чести коменданта, он стойко выдерживал осаду и даже сделал попытку вырваться из кольца. Быть может, ему бы и повезло: запертые в крепости силы едва ли не вдвое превосходили осаждавших французов. Но судьбе было угодно распорядиться по-другому.
В то утро, когда нормандцы, открыв ворота, атаковали позиции французов, со смотровой башни донжона раздался крик: «Они идут!» Скоро с крепостных стен уже было видно, как в клубах пыли к Монтурлену движется рыцарская кавалерия и, увы, совсем не с той стороны, откуда ожидался подход коннетабля де Вальмона. Крик «Аквитания!» повис над полем боя.
Как выяснилось чуть позже, это была не Аквитания, а рыцари Анжу. Людовик в достаточно красочных выражениях описал герцогу Анжуйскому, какую травлю виконт де Вальмон и его сыновья устроили юному Фульку, и триста рыцарей Анжу — втрое больше, чем тот должен был выставить согласно вассальной присяге, — спешили на соединение с французами к стенам Монтурлена. Теперь для защитников цитадели все было кончено — шансов вырваться из западни не оставалось, да и вырываться, по сути, было некуда. Потому, едва узнав о приближении Людовика Толстого, комендант выслал ему навстречу парламентера, предлагая сдать крепость.
Почетную капитуляцию и выход с оружием король отверг, предоставляя осажденным лишь милость победителя. Милость, но отнюдь не милосердие. И теперь они проходили, склонив голову, под ярмом и бросали свое оружие к ногам торжествующего монарха.
— Правильно говорили древние: «Так проходит слава земная», — ликуя, заметил Людовик Толстый. — Все они могли верно служить мне, но восстали. Восстали против Бога, вручившего мне корону! И теперь слава и честь их повергнуты в прах.
— Все в руке Господней, — напомнил Сугерий. — Без корон и доспехов приходим мы в этот мир и уходим из него, оставив живым всю тщетность земного бытия. Милосердие приличествует христианнейшему королю.
— Оставь, Сугерий. Тем более что, как мы помним, христианнейший король поныне находится под интердиктом.
— Я послал в Рим надежного человека, и, надеюсь, он скоро будет уже там. Уверен, Его Святейшество не допустит столь вопиющего попрания справедливости и божеских законов.
— Я тоже на это надеюсь. Однако до той поры, пока твой человек достигнет Рима, получит аудиенцию, убедит Папу снять интердикт и вернется в Париж, я намерен без всяческого христианского милосердия отрубить голову шампанскому изменнику, а дальше, если пожелаешь, со всей кротостью передать в твои руки предтечу антихристова — Бернара из Клерво.
— Эти речи полны злобы и гордыни, — скорбно ответил аббат Сугерий. — Тебе надлежит каяться. Но в одном ты прав — нынче самое время ударить по Тибо Шампанскому. Когда мы направлялись сюда, в лагерь прибыл гонец из Аквитании…
— Ну же, ну же. — Король расплылся в насмешливой улыбке.
— Герцог сообщает, что наконец собрал войско и выступил на помощь вашему величеству.
— Хитрец. Он думает, я поверю… — Король махнул рукой. — Ну да ладно. Конечно же, он ждал до последнего, наблюдая, чья возьмет. Теперь, когда он убедился, что удача на моей стороне, то, конечно, поспешил присоединиться к победителю. Хорошо… Если ему так угодно, пусть со своими людьми первый вступит в Шампань.
— Ваше величество! — крикнул один из королевских драбантов,[75] удерживая чуть в стороне кучку бедно одетых крестьян. — Здесь какие-то рыбаки с побережья доставили вам дары: свежих угрей, треску, камбалу…
— Позже. Рыбаки? Позже, — отмахнулся король.
— Я так и сказал, но тут один требует встречи с вами.
— Это что-то новенькое — рыбак требует встречи с королем. А ну, веди его сюда.
Послушный воле хозяина, драбант бесцеремонно ухватил за плечо какого-то бородача и потащил его за собой. Когда до Людовика осталось несколько шагов, рыбарь вдруг ловко вывернулся из захвата и стремительно бросился к восседавшему на коне государю.
— Стой! — Телохранитель обнажил меч, но в тот же миг рыболов сдернул широкополую войлочную шляпу, а вместе с ней — седоватые лохмы.
— Мой государь! Это же я!
— Фульк?! — воскликнул Людовик. — Сугерий, погляди, это же Фульк Анжуйский! Ах, шельмец!
— Прошу простить меня, мой король! — вслед за париком срывая накладную бороду и усы, заговорил граф Анжу. — Я явился к вам так быстро, как только смог. Но поскольку мой путь лежал через земли, — Фульк замялся, — врага… Я был вынужден одолжить вот эти украшения в английском бродячем театре.
— Ай да ловкач, — рассмеялся король.
— У меня плохие новости! Королева Матильда намерена оказать военную помощь мятежникам-нормандцам! Ее войска либо уже высадились во Франции, либо высадятся со дня на день!
— Проклятие! — Брови короля сдвинулись. — Как не ко времени! Теперь де Вальмон опять воспрянет. Мало загнать лису в нору, надо ее оттуда выкурить, а затем содрать шкуру. Что думаешь об этом, Сугерий? — обернулся он к аббату.
— Признаться честно, я еще не размышлял о том… Сейчас меня заботит иное.
— Что еще может тебя заботить? — возмутился Людовик.
Сугерий молча указал на дальний холм. С него, торопя коней, спускались несколько всадников, над которыми вился по ветру длинный вымпел Парижа.
— Это гонцы. Что-то произошло.
— Произошло… мне испортили победу! — хмуро буркнул король.
Считанные минуты спустя парижане, едва держась на ногах, предстали пред монаршим взором.
— Ваше величество, — хриплым голосом заговорил старший, — к столице движется войско.
— Чье?
— Императора.
— Какого императора?
— Священной Римской Империи.
— Но у них еще нет императора!
— Уже есть.
Людовик по-детски беспомощно взглянул на советника:
— Сугерий, если это Лотарь Саксонский, то мы здорово влипли.
Глава 28
Люди не могли бы жить в обществе, если бы не водили друг друга за нос.
ЛарошфукоСтранники в грубых серых плащах с капюшонами брели по разбитой колесами и копытами дороге, опираясь на толстые, увесистые палки, годившиеся, чтобы отгонять бродячих собак и противостоять мелкому разбойному люду. Для обороны от невидимых полчищ бесов капюшоны их были расшиты оловянными и свинцовыми образками и заморскими раковинами-гребешками — недвусмысленным знаком паломника. Судя по изможденному виду путников, шли они уже далеко не первый день, чаще всего отдыхая под открытым небом, изредка — на сеновалах. Казалось, они бредут куда глаза глядят, но это только казалось, и все же дорога порою озадачивала их сюрпризами.
— Развилка, — произнес один из них, указывая посохом на массивный, вырезанный из песчаника крест.
Распятие было незамысловатым, но стояло прямо, и в нише — самом сердце креста — тлел огарок свечи.
— Мой принц! Он говорит, что здесь развилка, — перевел слова товарища второй пилигрим.
— Сам вижу, — отмахнулся тот. — Куда дальше идти?
Вопрос принца в нищенском одеянии был немедленно переадресован обратно.
— Я в этих местах прежде не бывал, — сознался проводник. — Надо дождаться, когда пройдет кто-нибудь или проедет.
— Долго здесь можно ждать? — выслушав ответ, нетерпеливо спросил иноземец.
Он критически осмотрел дорогу, будто та могла сознаться — ведет ли она к Лангру, где после взятия французами Клерво скрывался преподобный Бернар, или же в какое иное место.
— Это ж кто скажет? — Его спутник развел руками. — Времена сейчас такие, что без особой нужды мало кто ездит. Чу, — он напряженно прислушался, — кажется, всадники. Вам бы скрыться от греха подальше. Не ровен час начнут вопросы задавать, а оно ж… сами понимаете.
Принц-пилигрим бросил взгляд по сторонам. Одна дорога забирала довольно круто вверх — на покрытый лесом высокий холм. Меж деревьев здесь виднелись желтоватые угрюмые валуны — родные братья стоявшего на развилке креста. Вторая дорога шла в объезд холма, но, судя по всему, не соединялась с первой, а тянулась вдоль кромки леса — к угадывающейся по еле слышному рокоту воды переправе.
— Там будет надежнее, — скомандовал он спутникам, тыкая посохом в сторону каменной россыпи. — Смотрите не оплошайте!
Принц и несколько его соратников спрятались меж камней, трое пилигримов остались стоять на распутье. Всадники показались спустя пять минут. Впереди мчал рыцарь на вороном мохноногом коне, стоившем целое состояние. На белом плаще рыцаря красовался нашитый алый крест.
— То, что надо, — бросил один путник другому, — такие плащи у личной гвардии Бернара.
— Милостыню, милостыню! — завопил другой. — Подайте хлебушка бедным пилигримам! Подайте монетку!
— Лис, — обернулся рыцарь к спутнику, — дай им какую-нибудь мелочь.
— Может, их еще усыновить? — возмутился тот. — В благословенной Франции таких землетопов скоро будет половина населения — на всех мелочи не напасешься.
— Да ладно тебе. — Рыцарь остановил коня. — Куда путь держите?
— В Сантьяго-ди-Кампостелло, — поспешил с ответом проводник. — Да вот, кажется, сбились…
— По-над лесом ступайте, — раздавая по медному денье, посоветовал Лис. — Если снова не собьетесь, где-то через недельку добредете до Нарбонна — там вам дальше объяснят.
— Спасибо, добрый человек, — закивали пилигримы.
— Но, пошел! — Вальтарэ Камдель хлестнул ладонью по крупу вороного жеребца, и тот рванул с места.
Вслед за ним устремились Лис и весь отряд, окружавший добротный, хотя и не роскошный дорожный возок.
— Вы видели? Видели? — выскочил из-за камня Гарри.
Спрятавшиеся меж валунов иностранцы скатились с холма.
— Видели? — кричал Гарри. — Это же они! Не будь я Гарри ап Эдинвейн, если в возке у них не Федюня! Они везут его к Бернару! К этой дьяволовой отрыжке!
— Тс-с-с, еще отряд, — перебил его проводник. — Прячьтесь!
Острый слух не обманул пилигрима.
— Милостыню! — вновь завопил он, увидев полсотни воинов, приближающихся к ним.
— Держи. — Командир отряда бросил нищим монету, и один из них, поймав вожделенный кругляш, с удивлением стал разглядывать незнакомый герб. — Здесь недавно проскакали всадники. Куда они поехали?
— Туда, — проводник указал на холм.
— Отлично! Мы их догоняем! — крикнул командир, делая знак продолжать движение.
— А это еще кто? — удивленно воззрившись вслед неизвестным воинам, спросил Гарри, когда те скрылись из виду.
— Не знаю, — ответил проводник, — но монеты не наши.
Валлиец схватил деньги:
— Да, это имперские. Я такие уже видел. Эх! Коней бы раздобыть, — продолжил он. — Без коней нам этих стервецов не догнать.
Пилигримы поднялись на вершину холма, когда за их спинами снова послышался топот.
— Да что ж это такое? — возмутился Гарри.
— Опять всадники, — прислушавшись, сказал проводник. — Еще больше, чем прежде!
— Куда же их всех несет-то?
Пилигрим молча развел руками.
— Спаситель человецей, посланник Божий, дай нам силы защитить тебя! Пошли нам управу против воинства бесовского. Прячемся, — без перехода скомандовал принц, — они уже близко!
— Милостыню, милостыню, — в третий раз прозвучало над дорогой.
— Получите! Здесь проезжали два отряда совсем недавно?..
* * *
Никогда прежде замок Консьержери не принимал столь высоких гостей. Король Франции нередко останавливался здесь, когда судьба заносила его в собственную столицу, но теперь кроме него замок с почетом принимал императора Священной Римской Империи Конрада с супругой, короля Богемии, герцога Саксонии и других властителей со всех концов Европы.
Когда делегация, прибывшая вслед за парижскими гонцами, сообщила Людовику Толстому о желании его августейшего собрата начать переговоры, у него в первый миг отлегло от сердца. Если противник хочет говорить, значит, он опасается драться. Конечно, момент для переговоров королю представлялся весьма неудачным: с одной стороны, того и гляди, мог нагрянуть коннетабль де Вальмон с англичанами, с другой — пришедший в себя граф Тибо с бесноватым святошей. Но выбора не оставалось. Армия, приведенная императором, превосходила числом и королевскую, и уж подавно нормандцев с шампанцами. Игнорировать такую силу не представлялось возможным.
Встреча была назначена в Консьержери.
Людовик Толстый целыми днями вел беседы с аббатом Сугерием, стараясь обезопасить себя от любых возможных неожиданностей, но первая же из них едва не поставила короля в тупик: среди прочих кресел-тронов, предназначавшихся участникам переговоров, император Конрад потребовал установить трон для его супруги. Людовик Толстый удивленно посмотрел на гостя — женщине присутствовать на переговорах?! Причем не на скамеечке, немой слушательницей за спинами мужчин-переговорщиков, а среди них, как равная с равными? Это было неслыханно.
— Нет, нет и нет! — объявил Людовик и отправился к герцогу Аквитании — поведать союзнику о столь вопиющем условии молодого императора.
Первое, что услышал король на подходе к покоям герцога, был звонкий перестук тимбра.[76]
«Неужели он танцует? В такой час? — возмутился государь. Ему хотелось придумать иное объяснение, но раздававшиеся из-за дверей звуки виолы и радостный смех не оставляли сомнений, что сын менестреля ни в чем не отстает от своего прославленного и, на счастье, покойного отца. — Непостижимо! Судьба французских земель висит на волоске, а он пляшет!»
— Нет, не так! — донесся из залы голос Гийома Аквитанского, убивший последнюю надежду короля, что неуместное веселье не связано с особой союзника. — Руку держи выше. Ногу на землю ставь четче, причем не пятку, а носок!
— А после этого поклон или поворот? — послышался вопрос, и обомлевший от неожиданности король, отпихнув салютующую охрану, распахнул дверь.
Представшая взору картина окончательно лишила его дара речи: посреди залы в окружении нескольких музыкантов герцог Аквитанский учил какому-то страстному танцу грациозную Никотею Комнину. Яркие темные глаза Гийома пылали, обворожительное, почти детское лицо императрицы раскраснелось от быстрого движения, а ошеломленный король так и стоял на пороге, пытаясь осознать увиденное. «Похоже, надеяться на поддержку Аквитании в переговорах с Империей было бы крайне неосмотрительно», — подумал он.
— Ваше величество, — Никотея вдруг разом изменилась, точно по волшебству превращаясь из легконогой девчонки в высокородную царственную особу, — я счастлива видеть вас. Прошу извинить, друг мой. — Она повернулась к Гийому Аквитанскому. — Я всегда мечтала попросить совета у государя столь опытного в делах правления и столь умудренного жизнью, каким является король Людовик. Если вашему величеству только будет угодно, — нежно проворковала Никотея.
— Угодно, — буркнул монарх, вдруг ощутив непонятный укол в области сердца.
«Порой небо посылает ангелов на землю, и те принимают человеческий облик. В Библии много раз упоминаются такие случаи, — вспомнил король. — Быть может, она и не ангел, но обликом — воистину небесное создание. И уж его-то Господь точно дарует избранным дщерям своим, чтобы напомнить о своем всемогуществе. В сущности, что изменится от того, что юная племянница властителя ромеев будет присутствовать меж нас на переговорах? В их землях так принято, и женщины порой даже самолично восседали там на троне. А и то сказать — на такое милое личико глядеть куда приятнее, чем на рыжую физиономию ее мужа».
— О чем же хотела спросить прелестная гостья? — стараясь не уступать южанам в куртуазности, осведомился Людовик.
— Людовик, друг мой… Позвольте со всем почтением именовать вас другом?
Польщенный монарх кивнул.
— Руке Господней было угодно вознести меня на престол, выше которого нет среди земных правителей. Конечно, мой любезный супруг — могущественный император — единовластно управляет всем и вся. Но я как верная жена обязана помочь ему любовью и добрым советом.
— Да, это так, — согласился король.
— Именно поэтому я давно мечтала о беседе с вами.
— Отчего именно со мной? Неужели в Империи не нашлось людей мудрых и сведущих?
— У нас говорят: «Мудрости не бывает много», — улыбнулась Никотея. — Мне представляется, что положение, в котором ныне пребывает Европа, а вкупе с ней и ромейские земли, очень напоминает французское. Как по капле можно узнать вкус моря, так, разобравшись с болями и нуждами вашего королевства, можно найти спасение от бед всех прочих европейских стран.
— И в чем вы, мадам, видите главную боль Франции?
— В том, что ее нет. Нет Франции, — пояснила она свою мысль. — Есть Шампань, Нормандия, другие земли, в которых должно бы почитать короля, но помнят об этом далеко не все и — точно — не всегда. Разве не так?
Король поджал губы и вынужденно согласился.
— Я много думала об этом, мой друг. Вначале мне казалось, что основная беда ваша — эта язва христианского мира, кликуша и пустосвят, Бернар из Клерво. Но, по сути, будь Шампань и Нормандия частями единой Франции, разве дошло бы дело до открытой войны?
— Конечно, нет.
— И тогда я спросила себя: почему же такой мудрый и храбрый король, как Людовик, не объединит железной рукой франкские земли некогда могучей империи Карла Великого?
— Всю свою жизнь, уж, во всяком случае, с того дня, как стал королем Франции, я занят именно этим.
— О да, я понимаю! Мятежных баронов и графов, не желающих признавать верховную власть, так много, а сил, — она вздохнула, — их всегда не хватает. И я снова подумала: а что сделал бы Карл Великий, окажись в подобных обстоятельствах?
— И каков ответ? — заинтересованно спросил Людовик.
— Я подумала и тут же посмеялась над своей глупостью, друг мой. Ведь он же и оказался в такой ситуации и сотворил Империю. Можно ли найти решение более мудрое?! Надо признать, — Никотея печально взглянула на собеседника, — таких великих людей, каким был император Карл, земля рождает нечасто. И даже ему не удалось величайшее из задуманных деяний — объединить Восточную и Западную империи, как это было прежде. Но именно сие — наше священное знамя, на котором начертано рукой Предвечного: «Сим победишь!» Еще будучи герцогиней, — Никотея взяла короля под руку и пошла с ним по дворцовой галерее, — я размышляла, кто же из ныне живущих монархов мог бы стать новым Карлом Великим? Должна признаться, хоть это и не делает мне чести как преданной супруге, что не видела короля, более мудрого и достойного, нежели вы.
— Я? — удивленно переспросил Людовик Толстый, невольно ощущая, что отчаянно глупеет.
— Вам столько довелось пережить за эти годы, так многого достичь.
— Да, это так…
— И вот это мне представляется вопиющей несправедливостью — из-за нечестивца, возомнившего себя пророком, все ваши завоевания грозят пойти прахом. Святейший Папа, опасаясь, что язва христианского мира, именуемая Бернар из Клерво, разрастется и даст новые язвы в прочих землях, благословил моего супруга на императорском троне и вручил ему меч для поражения врагов нашей веры. Я знаю, мой друг, что вы добрый христианин. Интердикт, наложенный стараниями коварных прислужников Велиала, есть страшное преступление, название которому трудно сыскать. Мой супруг уже написал об этом Его Святейшеству, и со дня на день мы ожидаем ответа из Рима. — Она пылко ухватила короля за руки. — Я верю, мой друг, что скоро это недоразумение разрешится!
Людовик Толстый недоуменно глядел на ромейку, пытаясь совладать с участившимся сердцебиением.
«Похоже, она говорит правду. Черт возьми, кто бы мог подумать — я числил ее, а заодно и Конрада, своими врагами, а она такого высокого мнения обо мне! Да что там мнения… Если император написал в Рим… — Людовик поймал себя на слове. Прежде он никогда не именовал императором короля алеманнов. Уж, во всяком случае, в мыслях. — Девочка права, — согласился он, — единая могущественная Империя была бы куда предпочтительнее нынешних ее огрызков. И в ней чиновники, посаженные на местах верховной властью, не посмели бы своевольничать. Не то что своекорыстные вассалы. Правда, что мудрить, в такой стране лучше всего быть императором… Но злая судьба есть злая судьба. И коли это уже так, лучше быть первейшим из палладинов, чем потерять то, что есть, бесконечно сражаясь с императором и мятежниками».
— Мы с мужем так молоды, так нуждаемся в мудром совете человека знающего и опытного, человека высокой чести — настоящего палладина, — точно подслушав мысли Людовика, завершила Никотея.
— И ты, и твой муж всегда можете рассчитывать на меня! — Людовик растроганно утер слезинку. — Я благодарен Всевышнему, что дожил до новых времен, и клянусь своим венцом, клянусь мощами святого Дионисия и святого Ремигия — крестителя Франции, что, покуда жив, я буду вам верным другом и соратником!
— О! Как я счастлива и рада слышать это! — Никотея сделала безуспешную попытку обхватить мощный торс монарха и, не преуспев в этом, чмокнула его в щеку.
Королю показалось, что он краснеет — таких ощущений он не испытывал лет двадцать. Между тем императрица любезно кивнула стоявшему в одной из ниш галереи рыцарю в алом сюрко с изображением золотого надкушенного яблока, и тот, ответив на поклон, немедленно поспешил к лестнице, ведущей во двор замка.
— Я обещаю вам, мой добрый друг, что и в нас с мужем вы будете знать вернейших друзей. Прямо сейчас мы готовы помочь вам наказать ваших… да что я говорю — наших! — общих врагов.
«А я-то, старый дуралей, еще возмущался, ставить ли этому ангелу во плоти трон в переговорной зале. Вот уж, воистину, кого Господь хочет наказать, он лишает разума».
— С кого же вы предполагаете начать? — предвкушая наивность рассуждений юной императрицы, спросил Людовик.
— Я бы заключила мир с королевой Матильдой, предложив ей заново присягнуть вам в вассальной преданности — за Нормандию. Сейчас она не сможет сделать этого, поскольку обручена с королем Гарольдом Заморским, а тот недавно отбыл к себе на родину. Без его дозволения Матильда не принесет клятву.
— Пожалуй, — согласился король.
— Но и в этом случае, если королева согласится на предложенные условия, мятеж в этих землях сам по себе быстро сойдет на нет. Без поддержки Англии тамошние бароны долго не протянут. Правда, в Нормандии найдется множество дворян, желающих иметь над собой не герцогиню, а герцога.
— Так и есть…
— В этом случае пообещайте ей, что готовы признать герцогом Нормандии — на условии составленной нами вассальной клятвы — ее сына или мужа. Если он вернется. Хотя я в этом очень сомневаюсь.
— Осмелюсь узнать почему?
— Он унаследовал трон своего брата. А должна заметить, Русь много больше и благодатней, нежели Англия.
— Гонец из Рима, — раздался крик из двора замка.
— О господи, я не ослышался? — Людовик Толстый бросился к бойнице, прорезанной в каменной толще, с легкостью, не предполагавшейся в его объемистом теле. — Неужели дождались?
— Быстрее, быстрее, с дороги! — кричал всадник, спешиваясь у крыльца.
— Ба! Да это же барон ди Гуеско! — радостно потирая руки, воскликнул король.
Через пару минут запыхавшийся Анджело Майорано стоял перед Людовиком и Никотеей.
— Послание Его Святейшества, — задыхаясь, объявил капитан. — Я должен передать его императору. Но… — Он поглядел на Никотею.
Та молча протянула руку и, приняв опечатанный пергамент, взломала красный воск.
— Господи, славен Всевышний в сиянии мудрости предвечной! Мой друг, интердикт с Франции снят!
Людовик внезапно почувствовал, что вот-вот лишится сознания от счастья.
— Я… Я сейчас покину вас. Мне… аббат Сугерий… Франция… Я не забуду… — Он никак не мог подобрать слова и потому сделал то, что хотел с самого начала, едва увидев императрицу — сграбастал ее в объятия и щедро поцеловал в губы.
Глаза Никотеи испуганно расширились, она так и осталась стоять как вкопанная, когда венценосный толстяк, нимало не смущаясь посторонних взглядов, побежал по галерее, крича во все горло:
— Снят! Интердикт снят!
Консьержери наполнялся ликованием, и вопль, созвучный королевскому, уже был слышен далеко за Сеной.
— Ваше величество, — к Людовику Толстому подбежал Фульк Анжуйский, уже не напоминающий заскорузлого рыбаря, — позвольте, я отправлюсь в Сен-Дени оповестить преподобного аббата Сугерия!
— Да, конечно! — воскликнул король, но тут же поменял решение. — Нет, стой! Ты сейчас же едешь в Англию.
— Зачем, мой король?
— Затем, что мне как можно скорее нужен сын.
— Но у вас есть сын!..
— Молчи, дурак! Сын твой и Матильды Английской.
Уже неделю Лангр был в осаде. Все те, кто осмелился поднять оружие по зову преподобного Бернара, все те, кто не покинул графа Шампанского после ужасного разгрома при Труа, находились сейчас в стенах крепости, уповая лишь на свою храбрость да волю Божью. Ждать подмоги было неоткуда, да и надеяться, что объединенная армия императора, короля Франции и герцога Аквитании отчего-то вдруг снимет осаду, не приходилось. День за днем лучники пускали стрелы в подступающего к стенам крепости противника. Ополченцы лили вар, бросали камни. Немногочисленные рыцари — оруженосцы и сержанты Тибо Шампанского и Гуго де Пайена — стояли в наиболее опасных местах, готовые с мечами в руках отразить вражеский штурм.
Вылазки осаждавших происходили ежедневно, но словно бы нехотя. Ни один из полководцев союзной армии еще не ввел в бой свои основные силы. Каждый новый день приносил защитникам очередные жертвы, в то время как по ту сторону полузасыпанного рва и разбитого палисада все прибывали и прибывали войска. И снова люди короля Людовика гнали шампанских крестьян с вязанками фашинника заваливать ров, снова били по башням и куртинам из катапульт, аркбаллист[77] и требюше.[78]
Особенно защитникам досаждали требюше, или «чертовы ложки», как окрестили их горожане. Пущенные осадными машинами огромные валуны, подчас до трехсот фунтов весом, раз за разом разбивали зубчатые парапеты стен и проламывали башни.
Чуть сгущались осенние сумерки, атакующие придвигали к стенам «котов» — крытые деревянные галереи, обтянутые сырыми бычьими кожами, — и под прикрытием их долбили таранами мощную кладку. И снова вниз летели камни и факелы, падали на крепостных галереях сраженные стрелами защитники, а утомленные работой осаждающие без суеты откатывались прочь. За ночь проломы перекрывались деревянными щитами, и величественные еще недавно стены Лангра превратились в заплатанное рубище нищего.
А войска императора, короля Франции и герцога Аквитании все прибывали и прибывали.
Отрешенная мрачность на лицах защитников, казалось, запечатлелась в них навек — ни удивления, ни улыбки в крепости не было видно уже давно. Все понимали, что падение цитадели — дело времени, и союзники, явно получая удовольствие от процесса, медленно затягивают удавку на шее обреченных.
— Лангр не удержать, — на восемнадцатый день осады констатировал Тибо Шампанский. — Люди измотаны. Если бы враг шел на штурм, можно было бы ожидать, что близкая опасность пробудит храбрость в тех, в ком она жива. Но все эти… — Граф сделал широкий жест рукой в сторону крепостных стен. — Они не ищут чести и славы! Они медленно разрушают город. Жители устали, забыли о сне, не в силах больше заделывать дыры и тушить пожары. Не сегодня-завтра начнут бунтовать, а чтобы заставить их держаться, нам нужна хоть какая-то победа.
— Ты предлагаешь совершить вылазку? — устремляя на собрата по оружию тяжелый взгляд, спросил Гуго де Пайен.
— Да, ночную вылазку. Чтобы сжечь эти чертовы требюше! Это придаст сил защитникам.
— Может быть, — согласился предводитель крестоносного воинства. — Но есть два вопроса. Первый: что будет после того, как радость защитников вновь угаснет? Долго ли мы собираемся удерживать крепость?
— Иной у нас не осталось, — скорбно напомнил граф Шампанский.
— Да, это верно. Но тут кроется второй вопрос: что, если противник только и ждет, когда ты неосторожно откроешь ворота? Что, если тебя намеренно выманивают из крепости, зная твою горячность? Что, если враг как раз и желает вовлечь нас в бестолковую схватку, а тем временем ворваться в беззащитный город. Сил для полевого сражения нет — мы не можем и удерживать стены, и всерьез думать о том, чтобы ударить по вражескому лагерю.
— Я каждую ночь слежу за ними. Выставив луну сторожить, они упиваются допьяна и горланят нечестивые песни.
— Горланят, — подтвердил Гуго де Пайен. — Я тоже хожу полюбоваться шатрами неприятеля с боевой галереи. Но вот какая странность — среди осаждающих я видел гербы многих весьма опытных и умелых рыцарей. Каждый из них знает, сколь пагубны бесчинства и беспечность на войне. И наверняка каждый из них не помедлил бы пресечь сие непотребство, когда бы…
— Что «когда бы»? — нетерпеливо воскликнул Тибо.
— Когда бы враг не старался убедить нас, что он легкая добыча. Вчера на закате, уже после начала завывания этих пропойных менестрелей, я выцелил из аркбаллисты одну из вражеских катапульт и пустил в нее огненную стрелу.
— Надеюсь, удачно?
— Да, она вспыхнула. И тут же, как из-под земли, рядом с ней появились люди с водой и песком и сбили пламень. Скабрезные песни, надо сказать, при этом не прерывались ни на миг. Тибо, друг, поверь моему опыту — нас ждут. Выманивают, как мышь из норы кусочком сыра. Кроме того, даже при абсолютной нашей удаче, построить новые требюше — два, от силы три дня. У нас же каждый воин — настоящий воин — на вес золота!
— Ты можешь предложить что-либо лучше?
— Лучше — нет. Другое — да. Мы ударим на рассвете, когда эти крикуны наконец устанут. Ударим всеми силами, какие только имеются в наличии.
— А как же город?
— Засада, увидев, что мы клюнули на приманку, незамедлительно ворвется в открытые ворота. Все прочие, или большая их часть, сосредоточатся у требюше и катапульт, но они устанут после бессонной ночи и вряд ли смогут быстро реагировать — это даст нам шанс выиграть немного времени, и мы ударим через лагерь.
— Ты, видимо, хотел сказать — удерем через лагерь?
— Я хотел сказать — прорвемся через лагерь. Даже это будет стоить немалых жертв, но так есть хоть какой-то шанс.
— Но ты забыл, мой славный де Пайен, что нам некуда прорываться.
— Ерунда! — сжал кулаки крестоносец. — Мы уйдем в Бургундию, в Гельвецию. Если действовать решительно и быстро, нас никто не успеет остановить. А в горах мы соберем новое войско.
— Вряд ли мы соберем войско в горах. Там и жителей-то немного. А уж тех, кому господь предначертал носить оружие, так и вовсе…
— И все же другого выхода нет!
Тибо взглянул на отрешенно молчавшего Бернара:
— Не уверен… Рассудите нас, святой отец. Быть может, от наших глаз сокрыто то, что открыто вам.
— Я скажу вам, — тихо промолвил Бернар Клервосский. — Скажу… Но чуть позже. — Он повернулся и, устало пошатываясь от недельного недосыпания, побрел к молельне.
В храме царил полумрак, сгущающиеся вечерние сумерки приглушали последние солнечные лучи, лившиеся в окна. Среди огарков свечей на алтаре стояла нетленная святыня — дарохранительница с усекновенной главой. Серебряный лик, взиравший на посетителей, дышал покоем и мудростью.
Бернар преклонил колени, невольно придерживаясь, чтоб не упасть.
— За что оставил ты меня, Господи? За что караешь меня и вернейших дома Твоего? Отнял ты десницу свою от чела моего, и сухая земля воспылала огнем под стопами моими. Воинства всех царей земных — щепоть праха в перстах Твоих, но ведь не сравниться мне с могуществом Твоим, и ничто человечье хотенье пред волей Твоей. Коль суждено мне принять венец мученический, дай знак, что путь мой верен, и не ропща приму я любую муку! Спаси уверовавших, жизни кладущих во имя Твое! Дай силы рукам их, храбрости — сердцам и покой — душам. Не за себя прошу, Господи! Смилуйся надо мной, грешным!
— О милости умоляешь? — раздалось из полумрака, и над алтарем тысячи светящихся пылинок сложились в фигуру Антанаила. — Что ж прежде-то не уповал на милость мою? Что ж прежде не вопрошал, каков путь твой — в те часы, когда владыки земные стояли пред тобой коленопреклоненно? Иль вздумал ты, что возвысился над ними? Гордыня свила змеиное гнездо в сердце твоем. Понадеялся ты на стены крепкие, на мечи булатные, понадеялся на власть и силу. Но где же Божий промысел? Где служение имени Творца предвечного? Его изгнал ты из души своей — изгнал и сам не заметил того. Что же нынче просишь о милости?
— Мой грех! — распластался крестом на полу преподобный Бернар. — Казни меня! Испепели молнией небесной! Сожги пламенем адским! Об одном молю — спаси пошедших за мною, ибо я лишь плоть от плоти человеческой, ты же — дух от духа Господнего! Не за мной, но за тобой шли они!
— Знаю я, что праведен ты, Бернар, что не желал иной власти на земле, кроме власти Господа. И коли неверно истолковал волю мою, то не из каверзы, а по скудоумию. Сей день и дни до сего дня — урок тебе. Ныне же явлю я тебе и всем истинно верным силу мою, дабы посрамить ковы земные и восславить имя Божье. Иди и скажи: пусть вложат мечи в ножны, пусть молятся, пусть слова молений их рождаются в душе, как дитя рождается в чреве матери. Те, в ком сильна вера, спасутся.
Сияние исчезло, и тьма окончательно заполнила часовню.
То, что произошло дальше, было записано у аббата Сугерия в дневнике такими словами: «И лишь погасло дневное светило, и колокола зазвонили к всенощной, раздалось над Лангром стройное пение, точно сонмы ангелов во облацех согласно восславили имя Божье. И яркий свет залил город, и воздух наполнился ароматом роз и лилий. Затем же вдруг все исчезло, будто привиделось. А вскоре, еще не успели мы опомниться, врата Лангра отворились, и жители города, в смущении разводя руками, объявили, что ни Бернара, ни присных его чудесным образом в городе не стало. Неведомо — воля то Божья, или же дьявольские козни, ибо так хитер и могущественен враг рода человеческого, что иной раз непросто разгадать каверзы его».
Сжатое ячменное поле, представшее взорам Гарри и его спутников, сейчас мало напоминало мирные крестьянские угодья. То здесь, то там по всей ширине его лежали трупы воинов, судя по доспехам — из тех самых отрядов, которые недавно промчались мимо пилигримов.
— О-ля-ля, — прищелкнул языком проводник, — а вот, кстати, и кони. — Он указал на породистых скакунов, понуро бродивших рядом с убитыми.
— Не только. — Гарри наклонился и, разжав пальцы одного из мертвецов, вытащил меч. — Теперь это тоже может пригодиться. Хорошо бы понять, что здесь произошло, — оглядевшись, бросил он. — Ни крестоносца, ни его дружка с перебитой носопыркой, ни, слава богу, Федюни тут нет. Но гнались точно за ними.
— Мой принц, — крикнул переводчик, — один жив, поспешите! У него кишки вывернуты — скоро помрет!
Гарри бросился к лежащему в кустах воину.
— Пилигрим… — чуть приоткрыв глаза, прошептал тот, — на поясе кошель — забери, помолись за меня.
— Что здесь было? С кем вы сражались?
— Ступай к герцогу Саксонскому, скажи… — Он замолчал и закрыл глаза.
— Что сказать? Не умирай! Что сказать?
— Скажи — мы славно дрались. Люди императрицы все остались здесь. Наших… и тех… тоже немало. — Воин сжал губы, удерживая стон. — Остальные ушли с графом. Они дойдут до Бернара.
— А где мальчишка? Мальчишка где? С ними был мальчишка! — кричал Гарри, не обращая внимания на то, что умирающий не понимает его наречия.
— Мой принц, это бесполезно — он мертв.
Глава 29
— Правда ли, что на зло надо отвечать добром?
— А чем же ты будешь отвечать на добро? Нет, на зло надо отвечать по справедливости.
КонфуцийНикотея знаком отпустила стражу, желая побыть наедине с доблестным родственником. Это нарушало веками заведенную традицию, по которой дама не могла оставаться без сопровождения ни с кем из мужчин, кроме отца, мужа или родного брата. Степень родства между императрицей и герцогом Сантодоро была куда более отдаленной, но уж как-то так само получилось, что перечить юной очаровательной хозяйке Империи никому из окружающих и в голову не приходило. Стража удалилась, покорная жесту госпожи, и Никотея заговорила, на всякий случай по-ромейски:
— Мой дорогой Симеон! Трудно найти слова, чтобы высказать мою благодарность тебе за помощь! За то, что твоя доблесть и воинское искусство вознесли имя нашего отечества столь высоко, что теперь никто не осмеливается распускать нелепые слухи об изнеженных и слабых воинах державы святого Константина. Воистину, кто, как не ты, заслуживаешь воссесть на трон, связующий в единое целое Европу и Азию? И я верю, мой милый друг, что тебе уготована эта судьба.
— Но Иоанн…
— Иоанн смертен, и Мануил смертен. Твой брат Алексей был совсем юн, моложе кузена Мануила, но злая доля не пощадила его…
При упоминании о младшем брате глаза Симеона Гавраса вспыхнули, а рука легла на эфес меча.
— Возвращайся к отцу, — любуясь произведенным эффектом, продолжала Никотея. — Передай, что все сказанное мною прежде остается в силе, как верно и всегда будет верно то, что я говорила тебе. Поезжай, испроси у отца дозволения на брак с Адельгейдой Саксонской. Но лишь об одном заклинаю тебя — не торопись со свадьбой. — Она порывисто схватила руки Симеона и прижала их к своей груди. — Прошу тебя, не торопись!
— Да… Конечно, — пролепетал герцог Сантодоро, боясь открыть рот, чтобы сердце, прыгающее в грудной клетке, как бешеная мартышка, ненароком не выскочило наружу.
— Ступай, милый, — нежно прошептала Никотея, простояв так пару минут. — Казначей передаст дары для твоего отца. Скажи — как только будет возможность, я сама не премину навестить его.
Симеон Гаврас низко поклонился и, пятясь, чтобы подольше лицезреть императрицу, вышел из приемной залы.
— Вразуми меня, Господи, — горько вздохнула Никотея. — Ну почему этот мир не создан для таких, как он? — Она хлопнула в ладоши, призывая стражу.
— Барон ди Гуеско прибыл по вашему распоряжению, — доложил караульный начальник.
— Он весьма точен. Зовите его.
Анджело Майорано быстрым шагом вошел в залу и чуть поклонился императрице. Она сделала вид, что не заметила этого вопиющего нарушения этикета — от любого другого барона Империи требовалось бы изъявление куда большего почтения, но Майорано… Никотея поймала себя на мысли, что ей нравится глумливая ухмылка Мултазим Иблиса, искривлявшая его губы всякий раз, когда он не был озабочен новым коварным планом и притворством.
— Вы желали видеть меня, государыня?
— Хотела узнать, достаточно ли тебя наградил король Людовик.
— У меня нет оснований жаловаться на его скупость. Король распорядился высыпать овес из лошадиной торбы и доверху засыпать ее золотом.
— От себя я прибавлю столько же, — пообещала Никотея. — Однако, мой славный барон, у меня к тебе будет одна небольшая просьба.
— И тоже на две торбы золотом?
— Кто знает, кто знает… Возможно, две торбы покажутся тебе мелочью и черной неблагодарностью.
— Это столь опасно?
— Не опаснее того, что тебе уже приходилось неоднократно предпринимать.
Брови Майорано заинтересованно приподнялись:
— Я нынче собирался вернуться к Его Святейшеству, но, похоже, в дороге меня свалил ужасный недуг. Остается выяснить, моя госпожа, надолго ли.
— Сегодня в Херсонес отбывает мой дорогой родственник, Симеон Гаврас. Я была бы весьма благодарна, если бы ты отплыл вместе с ним и растолковал моему дяде, архонту, что в скорейшем времени я планирую сокрушить дядю Иоанна, и дяде Григорию следует быть готовым выступить с нами.
— Он об этом знает?
— Знает. Но я не доверюсь с этим Симеону.
— Затея и впрямь щекотливая. К тому же море начинает штормить…
— Это говорит мне капитан «Шершня» Анджело Майорано?
— Это говорит барон ди Гуеско. — Старый пират отвесил насмешливый поклон. — Я так свыкся со своей короной, пусть и не столь массивной, как ваша, что начал чертовски дорожить частью тела, на которую ее надевают.
— Мне представляется, что твою голову более украсит графская корона, например, графа Лигурии?
— Но в Лигурии нет графства. — Майорано искоса поглядел на собеседницу.
— Но ведь и ты еще не вернулся с приятными новостями.
— Тоже верно, — согласился Мултазим Иблис. — Итак, договорились. Я передаю архонту сигнал к восстанию, получаю его согласие и возвращаюсь к вам графом Лигурии.
— Не совсем. После Херсонеса следует найти короля Гарольда, вновь ставшего Великим князем Мстиславом, и передать ему изъявления моей искренней привязанности и предложение выступить разом против коварных убийц его брата Святослава.
Майорано скривился, вспоминая, должно быть, неприятные подробности своего пребывания на Руси.
— Думаю, граф Лигурии будет с почтением и щедростью принят при императорском дворе, — с убедительной многозначительностью произнесла Никотея.
— Лестно это слышать.
— Ты должен при случае рассказать Великому князю, что моя служанка Мафраз была подослана Иоанном Комнином, который желал сделать Мстислава послушной игрушкой в своих руках. Она собиралась устранить дочь короля бриттов, дабы та не стояла на пути Мстислава к английскому трону. Но я об этом тогда совершенно ничего не знала! Мафраз хотела, чтобы я стала женой Мстислава, и Мстислав хотел того же… Да разве я была против? — Она потупилась. — Впрочем, — Никотея остановилась, понимая, что зашла в своей откровенности чересчур далеко, — я отпишу ему.
— Моя государыня, вам, конечно, видней, но я бы не стал ничего писать: буквы — коварные друзья.
— Пожалуй, ты прав. — Никотея на минуту задумалась. — Ты расскажешь все на словах. А чтобы добавить веры речам, я дам тебе золотую гривну — дар Мстислава. Помнишь ее? — Никотея мило улыбнулась.
— Уж как забыть, ваше величество… Сегодня прямо день воспоминаний. Кстати, в Херсонесе у меня и поныне остался неоплаченный должок…
Дверь кельи распахнулась.
— Батюшка добрый, отец Амвросий, — на пороге стоял запыхавшийся молодой послушник, — приехал! Господин наш приехал! Свершилось чудо дивное!
Отец Амвросий с трудом открыл глаза. Жизнь оставляла его, и он понимал это со всей неотвратимостью. Пожалуй, и до этого часа он не надеялся дожить, но, видать, костлявая, разомлев на позднем осеннем солнышке, прохаживалась где-то по желтым и багряным опавшим листьям и не торопилась лишний раз махнуть косой.
«А может быть, то знак мне? — подумал старец. — Может, для того Господь продлил терзания мои, чтобы покаялся я, повинился пред сыном духовным, в каком лукавстве минули годы мои?»
— Зови, — половиной рта прошептал Амвросий.
Вторая половина тела больше не слушалась его, он ощущал ее, как неподъемную гирю, наподобие той, которую вешали каторжным галерным рабам.
Отрок опрометью бросился за Великим князем. Тот вошел как есть: в кольчуге, боевом поясе, запыленном плаще, только что без меча и шелома. Лицо его, прежде дышавшее молодецкой удалью, теперь осунулось и было исполнено мрачной решимости.
— Огня! — потребовал Мстислав, и убогая келья старца наполнилась светом массивных факелов. — Благослави, отче! — Великий князь преклонил колени пред ложем старика.
Тот сделал слабую попытку поднять руку, но пальцы лишь едва шевельнулись.
— Господь да пребудет с тобой, — прошептал он.
— Сие мне ныне более всего потребно, — горестно вздохнул повелитель Руси. — Не чаял я в дому такое застать. Брат голову сложил. Ты — отец мой во Христе… — Он снова вздохнул и не стал продолжать скорбную речь, боясь не удержать слезы.
— Помираю я, — чуть слышно произнес Амвросий. — Совсем уж скоро помру.
— Ну, ты-то раньше времени себя не хорони. — Мстислав стиснул пудовые кулаки, будто надеясь отогнать ими хворь. — Я велю во всех церквях и соборах киевских за здравие твое молиться, в колокола бить, бесов пугать… Да что там Киев — по всей Руси велю!
— Пустое это, не молись за грешника.
— Да коли ты грешник, кто ж тогда свят?
— Великий грешник, — подтвердил старец. — Пред отцом твоим, братом, пред тобою.
— В чем же провина-то твоя? Истового праведника!
— Слушай, что скажу. Более говорить не буду — сил не достанет. Я много по миру ходил, да не по своей воле.
— По чьей же?
— Молчи… Бюро Варваров — слышал такое?
— Что?! — взревел Мономашич.
— И сюда я той волей прибыл, — не обращая внимания на княжий гнев, продолжал Амвросий, — еще при Алексее Комнине. С тех пор при вас соглядатаем состоял. Да все в Царьград докладывал.
Зубовный скрежет Мстислава был ему ответом.
— С братом твоим, когда в поход он пошел, — Амвросий сделал паузу, с трудом переводя дух, — я идти не хотел. Святослав принудил.
— Говори, — жестко потребовал Мстислав.
— Херсониты брата упредить пытались, что Тмуторокань — западня.
— Ты не дал?
— Не так, все не так. Ни вас с братом предать не мог, ни отечества своего. Хочешь — сейчас казни, знаю, вина на мне.
— Что уж тебя казнить, — голосом, холодным, как сталь смертной косы, сказал Мстислав. — Господь тебя наказал… Бог судья. Я измену злую прощаю, но сородичам твоим отныне и впредь не спущу. С тем ухожу. Боле не свидимся.
Он вышел, хлопнув дверью, и последнее, что донеслось до Амвросия, было:
— Разошли-ка всем княжьим столам грамотки, пусть ведают — большому походу быть.
* * *
Иоанн Комнин провел указательным пальцем по углублению в известняке. Если присмотреться, то из полустертых временем разнородных выбоин выстраивалась горделивая надпись «Никотея нашего Богом возлюбленного Константина торжествует». По обе стороны надписи виднелись греческие кресты, придавая очевидную двусмысленность упоминанию в восславлении богини Ники.
«Сколько веков тому назад выбили эти строки? Семь? Восемь? Подумать страшно. А ведь слава Константина жива и по сей день. Доныне величие созданного им города, величие ромейской империи застит свет варварам, будь то Запада или Востока. Надо подновить надпись», — подумал василевс и тронул коня.
Как было заведено раз и навсегда, императору полагалось хотя бы дважды в год объезжать городские стены и самолично давать распоряжения обо всем, что касалось их нерушимости. Иоанн Комнин высоко чтил древний обычай и превращал каждый объезд в настоящую церемонию.
— Пусть камнерезы восстановят надпись! — приказал он Иоанну Аксуху.
— Будет сделано, о величайший.
«Величайший… — про себя усмехнулся василевс. — Интересно было бы взглянуть: если я повелю сделать рядом на стене подобное восхваление, вспомнят через восемьсот лет, что был такой Иоанн II Комнин? Что правил он в меру отпущенных Господом сил, сражался всю свою жизнь, что-то сделал, чего-то не успел… Хоть одним глазком бы глянуть… Но пустое… Никому не суждено знать участи своей в веках. Главное, чтобы Вечному городу стоять, возвеличиваясь над миром».
— Исправьте зубцы между Пятыми военными и Харисейскими воротами, — не оборачиваясь, кинул он, — совестно глядеть!
— Так ведь землетрясение было, — отозвался один из царедворцев.
— Землетрясения, град, ураганы и прочие беды земные — в руке Господней. Не мне и уж тем паче не вам отменять их. А зубцы на крепостных стенах — дело человечьих рук. И потому я требую, чтоб камни стояли ровно и твердо!
Кавалькада всадников подъехала туда, где тройная зубчатая цепь городских стен примыкала к воде. Синие волны бухты Золотой Рог лениво плескались о берег, о борта стоявших у причала кораблей.
— Сегодня на море тихо, — заметил василевс. — Надол— го ли?..
— Вряд ли, — с сомнением проговорил Иоанн Аксух, — в этом году и так Господь милостивый и милосердный дольше обычного держит на привязи яростные ветры. Но, быть может, это и к лучшему.
— Что держит или что скоро отпустит? — Василевс с недоумением взглянул на собеседника.
— Что скоро отпустит. Смотрите на корабли у пирса — лишь на каждом третьем сифонофоре есть заряды. Какая бы опасность ни пришла с моря, нам нечем ее отражать. Остается только уповать на провидение.
— Ты лукавишь, Хасан, — поморщился Иоанн Комнин. — Кажется, у вас говорят, что красное яблоко притягивает к себе палку. А уж золотое — так и подавно. Здесь ничего не утаишь — в городе слишком много чужих глаз и ушей, а стало быть, скоро надо ожидать врага. У нас есть только зимние месяцы, чтобы подготовиться к нашествию… Как полагаешь, с кем придется биться на этот раз?
— Сельджуки всегда с жадностью взирали на богатства Константинополя, — довольно уклончиво начал крещеный магометанин, — вероятно, теперь захотят поквитаться за смерть кесаря Святослава рутены…
— Скорее всего ты прав, — зябко поежился василевс, должно быть, вспоминая рассказы о холодных скифских зимах. — Пока небу угодно хоть как-то сохранять покой на море, надлежит призвать сюда Григория Гавраса, дабы разобраться, что произошло в Матрахе. Я не верю Тимир-Каану — он лжив, как все варвары. Задуманное нами с такой тщательностью — рухнуло. Следует понять, что приключилось: ошибка, злой умысел, или попросту Господь был, увы, не на нашей стороне… Да, — он принял решение, — приготовь немедленно письмо Григорию Гаврасу. Ему необходимо прибыть сюда до начала штормов.
— Но это очень опасно. К тому же неведомо, оправился ли архонт от раны…
— Мы должны разобраться, должны учесть ошибки. В любом случае нам придется посылать войска в Херсонес, чтобы отвратить Мстислава от мысли напасть на Константинополь, — точно не слыша его, говорил василевс.
— Но оставить сейчас Херсонес без архонта…
— Ты смеешь мне перечить, Хасан?! — гневно оборвал его император. — А что, если Тимир-Каан не врет? Что, если Григорий Гаврас решил предать нас? Я должен знать это до того, как он откроет ворота Херсонеса рутенам!.. Конечно, лучше, если б на месте отца в феме остался Симеон Гаврас, но он при дворе императора Конрада.
— Он здесь, мой повелитель.
— Как здесь?
— Прибыл сегодня утром.
— И ты молчал?! Вот долгожданный гость!
— Турмарх ожидает во Влахернском дворце. Он утомился с дороги. Я счел уместным дать ему передохнуть, и когда мы вернемся…
— Так возвращаемся скорей! Хасан, неужели ты не понимаешь своей умной головой, что в создавшемся положении Никотея и ее муж Конрад, быть может, наши единственные союзники.
— Я бы не стал утверждать этого.
— Чушь, — отмахнулся василевс. — Я знаю Никотею, как никто. Где бы она ни жила, как бы ни величался ее трон — град Святого Константина всегда будет первым в ее сердце. — Он дал шпоры коню. — Впрочем, тебе, иноземцу, не понять!
Тучи опускались все ниже над Эвксинским Понтом, грозя вот-вот полностью затянуть небо.
— Скоро зима настанет, — глядя на волнующееся море, Григорий Гаврас полной грудью вдохнул едкий соленый воздух и тут же болезненно сжал зубы — удар палицы Великого князя Святослава не прошел даром. Проломив пластины зерцала и вмяв поддоспешник, шипастая полупудовая булава сокрушила три ребра. И будь архонтова броня чуть слабее, то, пожалуй, и не выжил бы повелитель Херсонеса в роковой день штурма Тмуторокани. Теперь угроза для жизни миновала, но всякий раз попытка глубоко вздохнуть отзывалась резкой болью.
Но самое худшее — не боль и даже не позор нелепого поражения. Казалось, теперь что-то сломалось в душе архонта. Он бродил по дворцовой колоннаде, будто не зная, куда идти, кивал встречным, не замечая их, и почти не занимался делами, словно ожидая чего-то фатального. Скажи ему сейчас, что поутру наступает конец света, он и тогда, вероятно, лишь кивнул бы в ответ, не придав значения новости.
Придворные гадали, чего он ждет: мести руссов, вызова на императорский суд или же весточки от сына, но так и не пришли к единому мнению. Из касожского плена вернулся не железный архонт, а лишь тень его.
Григорий Гаврас, не отрываясь, разглядывал, как вдалеке высокие белогривые волны грудью налетают на торчащие из воды каменные глыбы и, взвившись, опадают бесчисленным множеством крошечных брызг.
«Чайка ходит по песку, моряку сулит тоску, — вспомнился ему детский стишок. — Если чайка села в воду — жди хорошую погоду…» Сегодня чайки сулили тоску. Так же, как и вчера, и позавчера.
— В гавань входит корабль, — доложил неслышно подошедший слуга.
— Надо же… — не отрывая взгляда от горизонта, сказал Гаврас. — Я уж думал, в этом году кораблей не будет… Чей?
— Генуэзский.
— Генуэзский? — Архонт заметно оживился.
— На пирсе люди из Бюро Варваров. Как только корабль причалит, они выяснят, есть ли новости о вашем сыне.
— Ну да, конечно. — Григорий Гаврас украдкой поглядел в стоящую чуть в стороне полированную серебряную пластину-зеркало.
Увиденное не радовало: повелитель Херсонеса казался себе осунувшимся и как-то вдруг разом состарившимся.
— Нет, так нельзя. — Он встряхнул головой и от резкого движения вновь схватился за грудь. — Проклятие…
— Стой, стой, куда! — раздалось из дворцовой залы. — А ну, стой!
— Ступидо! Кретино! Фра дьяболо! — неслось в ответ.
Голос показался архонту довольно знакомым.
— Эй, — позвал Гаврас, — что там такое? Что происходит?
Слуга кинулся бегом в залу и сразу вернулся.
— Ну, что там? — заторопил его повелитель, видя удивлен— ную физиономию лакея.
— Там Мултазим Иблис, — растерянно доложил слуга, — весь мокрый! С головы до ног!
— Мултазим Иблис? Анджело Майорано? Господь вседержитель! Он-то что здесь делает?! — В голосе архонта послышались уже позабытые властные нотки. — Зови!
Отборная брань между тем продолжалась, и, опережая волю архонта, на дворцовой галерее появился барон ди Гуеско, с рычанием волокущий на себе трех вцепившихся стражников.
— Отпустите его! — скомандовал Гаврас.
— Благословенна будь Пресвятая Дева и святой Эрженн, пред коими падут все засовы! Я наконец дошел! Велите своим псам убраться отсюда.
— Староват я, чтобы оставаться с тобой наедине, — подозрительно глядя на гостя, усмехнулся хозяин дворца.
— Воля ваша. Пусть остаются. А еще лучше — позовите шакалов из Бюро Варваров. Чтобы попасть сюда, не встретившись с ними, я бросился в бушующее море…
— Идите, но будьте начеку, — перебил его Гаврас, обращаясь к страже. — А ты говори.
— Я рисковал утонуть, тут меня чуть было не подняли на копья…
— Опусти рассказ о странствиях, — потребовал архонт.
— Весь рассказ? И ту его часть, где повествуется, как василевс Иоанн велел задержать у себя вашего сына?
— Повтори, что ты сказал! — Гаврас с неожиданной быстротой подскочил к мокрому до нитки пирату.
— Мы вышли из Генуи вместе. Севаста Никотея… О нет, госпожа императрица велела передать вам заверения в родственной любви и преданности общему вашему делу…
— Об этом позже! Что с Симеоном?
— Когда мы пришли в Константинополь, турмарх отправился во дворец василевса — доложить о выполнении порученного ему дела. Однако из дворца уже не вернулся. Люди Иоанна ворвались на корабль и забрали его вещи — даже старые ремешки для сандалий. В столице на борт взошел другой человек… Ничем не примечательный и очень молчаливый, — Майорано сделал паузу, — пока трезвый.
— Ты напоил его? Что он сказал? Ну же!
— Да, напоил, — подтвердил ди Гуеско. — Скучно было плыть вдвоем, но словно в одиночку…
— Что ж ты тянешь? Тебе нужно золото? Я дам тебе золото!
Дон Анджело покачал головой:
— Мне хорошо платят. Я здесь не за этим. Так вот, мой неприметный спутник рассказал, что и самого турмарха, и его людей император велел взять под стражу. А теперь он желает, чтобы и вы присоединились к герцогу Сантодоро в заключении.
— Что ты говоришь?!
— Я лишь повторяю. Этот человечек вез послание, в котором Иоанн Комнин требует вашего прибытия в Константинополь. На подходе к гавани я, рискуя жизнью, бросился в воду, спеша упредить вас. У меня нет сомнений — очень скоро вслед за мной придут люди из Бюро Варваров.
Яростный огонь сверкал в глазах Григория Гавраса.
— Доспехи, меч! — крикнул он.
— Будет лучше, — посоветовал Майорано, — если до поры до времени в Константинополе не узнают о ваших планах. Начался сезон штормов… Вряд ли найдется капитан, желающий идти через бушующее море ради скорейшего исполнения приказа василевса, — если, конечно, в своем уме. Впрочем, — он поглядел на волны, — может, император и собирается попросту утопить вас… якобы случайно. Как бы то ни было, все-таки лучше, если вы явитесь в Константинополь с вооруженным отрядом — под видом исполнения распоряжения василевса. Никотея тоже планирует нанести подобный визит дяде. Это куда практичнее, чем осаждать Вечный город, войска ей пригодятся в других местах — в ромейской империи и сарацинских землях много крепостей.
— Девочка, как всегда, сообразительна, — злобно усмехнулся Гаврас. — А как же Симеон?
— Его держат заложником, и покуда ему ничего не угрожает. А дальше все будет зависеть от стремительности вашей атаки и, конечно, от храбрости.
На дворцовой галерее показался давешний слуга:
— К вам отец Гервасий с солдатами.
— Много солдат?
— Четверо.
— Хорошо, — чуть помедлив, кивнул архонт, — пусть войдет. Но вели страже не отходить далеко.
Слуга поклонился и исчез.
— А ты покуда скройся за колонной, — распорядился Гаврас, глядя на ди Гуеско.
Отец Гервасий предстал пред архонтом, как обычно, потупив очи долу и перебирая четки узловатыми пальцами.
— Что привело тебя сюда, почтеннейший отче? — вновь принимая отрешенный вид, спросил повелитель Херсонеса.
— В порт прибыл корабль…
— Да, я знаю. Генуэзский.
— На нем приплыл человек с указом василевса.
— На генуэзском корабле? Согласись, это странно. Он мог и вовсе не заходить в Херсонес, а сразу идти в Солдайю.
— Это не моего ума дело, — парировал монах. — Человек доставил императорский указ. Вот он. — Отец Гервасий достал из-за пазухи опечатанный деревянный тубус.
— Может быть, ты знаешь, что в нем? — ломая печать, спросил архонт.
— Дословно нет, — шелестя четками, заверил глава местного Бюро Варваров, — но гонец передал на словах, что василевс желает видеть вас в Константинополе. И как можно скорее.
— Ты же знаешь, Гервасий, мой недуг пока не позволяет отправляться в столь дальнее путешествие.
— Такова воля императора.
— К тому же море… Ты погляди на эти волны. В ближайшую неделю погода не улучшится.
— Такова воля императора, — заученно повторил Гервасий, и взгляд его стал оловянным, ничего не выражающим, точно лик василевса на монете.
— Да пойми же, я вовсе не собираюсь перечить государю, но неужели ты думаешь, что мудрейший Иоанн Комнин решил пустить меня на дно?
— Такова воля императора, — с нажимом произнес отец Гервасий. — И еще, — ледяным тоном добавил он. — Когда судно входило в гавань, с его борта прыгнул какой-то негодяй, доплыл до берега и скрылся. Его ищут повсюду, но… — монах указал на лужу в том месте, где недавно стоял капитан папской гвардии. От лужи в обе стороны шли следы, — у меня есть основания полагать, что этот негодяй скрывается здесь.
— Отчего же скрывается? — Майорано одним прыжком очутился рядом с отцом Гервасием. — Я здесь!
В его руке мелькнул кинжал. Удар, резкий поворот, глаза монаха расширились от ужаса, рот открылся в последнем крике, но крика не прозвучало. Захрипев, глава Бюро Варваров рухнул на камень, заливая мрамор кровью.
— Я же говорил, крысиное отродье, что не прощаю врагов. Не следует ловить «Шершня»! Сдохни, падаль!
— Убивайте! Убивайте их! — уже не таясь, кричал Гаврас. — И да пребудет с нами святой Федор Стратилат!
Послушная архонту стража кинулась исполнять приказ.
— Прекрасно! — любуясь расправой, пробормотал Мултазим Иблис. — Здесь все сложилось как нельзя лучше. Теперь обсохнуть, переодеться и к Мстиславу.
Глава 30
Религиозный фанатизм — одно из лучших изобретений дьявола.
«Серп инквизиторов». ВведениеМолочно-белая взвесь затягивала ущелье непроницаемым туманом. Солнечный луч, уткнувшись в гранитную толщу, отступал, потеряв надежду осветить бегущую меж отвесных скал реку. Вдалеке слышался грохот — должно быть, за пару миль от входа в теснину вниз срывался водопад, но об этом оставалось лишь догадываться.
Всадники ехали шагом, постоянно оглядываясь и держа руки на оружии.
— Есть авторитетное мнение, — словно между прочим заметил Лис, — шо где-то тут Конан Дойл пытался замочить Шерлока Холмса.
— В этом месте легко замочить что угодно — туман как губка. Его можно держать в руках и выжимать воду. — Камдил выставил руку перед собой, проверяя, видны ли пальцы.
Всадники и охраняемый ими возок скрылись в тумане, будто и не были.
— Куда ехать? — поинтересовался Лис. — Земли не видно. Не ровен час — обрыв… Сверзимся в воду, и никакой Конан Дойл о нас даже строчки не напишет. Федюнь, — прикрикнул Лис, оборачиваясь, — ты хоть ответь толком: куда мы едем?
— Уже приехали, — прозвучал неподалеку спокойный мальчишеский голос. — Дальше пути нет.
— Это шо еще за новости? — возмутился Сергей. — Приехали за туманом, а где ж тогда запах тайги?
— Да ты сам, коли хочешь, копьем потыкай, — предложил Федюня, и заинтересованный Лис тут же последовал его совету.
Чуть впереди, за лошадиной мордой, наконечник копья уперся в преграду. Она не поддавалась, как дерево под острым железом, не издавала стука, словно при ударе о камень — была незрима и нерушима. Не веря своим ощущениям, Лис спешился и подошел к туманному пределу.
— Как я не люблю все эти чары, — со вздохом сказал он, ощупывая твердый воздух перед собой. — Капитан, дальнейшие перспективы туманны и бесперспективны. Федюнь, растолкуй наконец, какого рожна мы сюда поперлись.
— Путь нам тут проложен, — без особых эмоций пояснил Сын погибели.
— Кто ж так пролагает? Хорош путь — встряли, как пьяный в угол. Или ты знаешь, где в этой загородке дверка?
— Нет, — подходя поближе к Лису, сознался мальчик, — да и не время еще.
— Новая песня… Мессир, вы слышите? Мы сюда тащились по долинам и по взгорьям, как та дивизия вперед, кучу народу положили, сами чуть дуба не врезали, а получилось не вперед, а в зад — фейсконтроль не пропускает.
— Какой тут фейсконтроль? — послышалось из тумана. — Ничегошеньки не видно.
— Зато слышно, — напрягся Сергей. — Кажется, сюда кто-то скачет.
— Определенно скачет, — подтвердил Камдил.
— Ну шо, граф, занимаем очередь к кассе или готовимся к бою?
— Проклятие! Здесь ничего не разберешь, — сказали вдалеке.
— Хоть глаз коли, — ответил другой голос.
— И выколю! — рявкнул первый. — Спешивайтесь и ведите коней в поводу. Рыцарю с его людьми не видать ни зги, так же как и нам. Если они прошли, то мы тоже сможем… Давайте, давайте пошевеливайтесь, они совсем близко!
— Но принц, здесь же своих от чужих не отличишь!
— Принц? — раздалось в голове Камдила. — Капитан, хай меня ранят! Судя по выговору — это явно принц Уэльский. Шо здесь делает наследник вашего престола?
— Прежде всего наследнику еще не присвоен этот титул. Но голос знакомый.
— Я тебе напомню. Это тот мордоворот со взглядом шестидюймовки «Авроры», с которым мы устраивали противопожарный забег из замка.
— Господи, он-то что здесь делает?
— А хрен его знает. Давай спросим.
— Он явно не один.
— Мы тоже.
— Эй, Гарри, — крикнул Лис. — Сдавайся, ты окружен!
— Ну уж нет! — яростным ревом ответил туман.
— Верните мечи в ножны, — властно потребовал Федюня. — Срок настал. Подойди ко мне, Гарри, я ждал тебя.
Это сообщение обескуражило вождя мятежников, но он со звоном вернул клинок в ножны и пошел на голос.
— Было трудно сделать выбор? — буднично, словно между делом, спросил Федюня. — За морем остались те, кто шел за тобой…
— Трудно, — понимая о чем речь, подтвердил Гарри. — Почему все остановились?
— Стена. Невидимая. Ни зверю лютому, ни птице небесной, ни рыбе, в водах обитающей, не пройти сквозь тот предел, — нараспев произнес отрок, кажется, что-то цитируя. — Ни огню небес, ни пламени бездны, ни человечьему хотенью не сокрушить его.
— Тогда что мы здесь делаем? — удивился валлиец.
— Ждем.
— Чего?
— Пока свершится.
— Что свершится?
— Не знаю. То, ради чего он привел нас сюда. — Федюня достал из-за пазухи медальон, и туман вдруг заметно поредел, будто на груди мальчишки блеснуло небольшое солнце.
— Капитан, тебе это ничего не напоминает? — Лис потянул руку к медальону. — Ну-ка, дай глянуть.
— Не трогай! — предостерегающе крикнул Федюня. — В нем смерть!
— Ешкин дрын! — Сергей отдернул пальцы.
— Не надо. — Камдил подъехал ближе. — Напоминает… Такая же эмблема была в башне Фауста. Я тогда подумал, что это его герб.
— Странная эмблема.
— Ничего странного. Геральдическая шарада. Змея, кусающая свой хвост, — символ вечности и совершенства, как, впрочем, любой круг. То, что они переплетены между собой, указывает на их триединство — так сказать, тройная проекция на одно и то же. Далее — перстни с рубином на шее каждой змеи. Это символ тайны, священной тайны. Буквально тайны крови, тайны жизни. Прибавь сюда то, что сама по себе змея — символ мудрости и обновления.
— Прибавил, — отозвался Лис. — Но извини, Капитан, куркулятор дома оставил. Скажи лучше сразу ответ.
— Три вещи, необходимые для всего, что живо: рождение в круге Аннуна, рост в круге Абреда и полнота в круге Гвинвид, ничто не существует вне этих трех вещей, кроме Бога, — опередил Камдила Гарри.
— Ибо все эти круги — и есть Бог, — завершил фразу Камдил.
— Насчет бреда это вы, конечно, хорошо загнули, но что-то я не понял — это вроде наши Навь, Явь и Правь?
— Примерно, но не идентично, — подтвердил Вальдар. — Знаменитая триада бардов: Абред — круг, где смерть сильнее жизни — наш мир, он же Явь. Гвинвид — круг, где жизнь сильнее смерти и все существующее рождено жизнью. Но он — не мир богов. Как и Аннун — не мир мертвых. Аннун — место перерождения.
— Мудрено, но круто.
— Смотрите, смотрите, — вдруг закричал Гарри, указывая вперед.
По ту сторону незримого предела на видневшемся сквозь туман гранитном выступе, свившись, лежали две змеи.
— Это шо еще за эмблема новобрачных?
— Погоди, — остановил Лиса напарник. — Федюня, это твои змеи?
— Да, — коротко сказал тот.
— Но как они там очутились?
— Проползли.
— А как же «не зверю лютому, ни птице»? — возмутился Лис. — Ну, типа редкий страус добежит до середины Днепра…
— Они не звери, не птицы и не рыбы. Они даже не гады ползучие, ибо можно изменить вид, но неизменна суть.
— То есть… — Лис настороженно ощупал воздух перед собой. Невидимая стена оставалась на месте. — Они туда-сюда могут, а мы никак?
— Никак.
— Почему?
— Потому что три дают одно.
— Убедительно, — хмыкнул Лис.
Гарри смотрел на Спасителя и сердце его колотилось, как бьет в минуты пожара тяжелый колокольный язык в набатный колокол.
«Три воедино, — думал он. — Три круга… Вот незадача».
В какой-то момент Гарри осознал, что вполне ясно видит, кого скрывают змеиные личины по ту сторону барьера: «И они дошли. Значит, не предали. Или соврал Кеннет? Нет, не соврал. Предали, но переродились — родились в Аннуне».
Голова его кружилась от напряжения. «Родились в Аннуне для того, чтобы открыть проход. Зачем его открывать? Зачем мы здесь? Зачем открывать этот чертов проход? Ну! Кто ответит, зачем? Федюня — здесь, вот он. Надо брать его в охапку и возвращаться в Уэльс. Хотя свита при нем большая. Неудачно мы с ними столкнулись, нос к носу: начни рубиться — кто еще живой выйдет. Нет, не о том я. Пришел Спаситель в эти горы не потому, что хотел, а потому, что вел его знак высшей мудрости, Божьего промысла. Тогда как же хватать? Все верно — догнал я его, когда должен был догнать. Он ждал меня. Но почему именно здесь? Или…»
Гарри ап Эдинвейн стиснул зубы, невольно прикусывая язык.
«Не может быть. Нет. Не может быть, должно быть какое-то другое объяснение».
Он вновь поглядел на бывших собратьев по нищенскому цеху, свернувшихся кольцами по ту сторону завесы.
«Третий — я? Нет, как же так? И нельзя — я принц! Тысячи людей ждут моего возвращения!» — в его памяти утопленниками всплыли неприятные воспоминания: поле битвы, стены лучников, отряды всадников, замершие друг напротив друга в ожидании приказа, загремела труба, пугая воронье; громыхнули воинские кличи… И тут, ощутив предательскую слабость, он поворотил коня. И погнал, не ведая, что творит, а только желая спастись, избежать ужасного. Конь рухнул, перескакивая через каменную изгородь, и в ближайшие годы Гарри пришлось оплакивать свое малодушие, волоча на убогой тележке одеревеневшие ноги.
«Я пришел сюда, чтоб переродиться в Аннуне, — четко и без эмоций понял Гарри. — Это моя судьба. Я должен пройти этим путем».
Он шагнул к преграде, сложил перед собой руки, точно раздвигая ее…
Все стоявшие рядом отпрянули в стороны от неожиданности: огромный черный змей с легкостью преодолел прозрачную стену, и спустя мгновение третье кольцо замкнуло круги бардовской триады.
— Теперь можно идти, — сдавленным голосом проговорил Федюня. — Туман сейчас рассеется. Ненадолго.
Он повернулся к спутникам:
— Возвращайтесь. Только те, кому надлежит оставаться со мной до конца, пойдут дальше.
По рядам воинов прокатился тихий гул.
— Вы и вы, — обратился Федюня к людям Гарри и тем, кто следовал с ним еще от Херсонеса, — возвращайтесь домой. Вы честно исполнили свой долг и ни в чем не будете знать недостатка до последнего вашего часа. Вы, — Сын погибели устремил пристальный взгляд на всадников, примкнувших к отряду после недавней стычки на лесной дороге, — тоже исполнили свой долг. Ваши мечи помогли нам в тяжелый час, и потому тоже уходите с миром. Скажите тому, кто послал вас, что он зря беспокоится. Принявший его присягу на верность не взыщет с него, не призовет к ответу. Вашему хозяину незачем пятнать имя свое убийством невиновного.
— Капитан, о чем это он?
— Насколько я могу понять, Лотарь Саксонский присягнул Бернару, надеясь, что тот поможет ему стать императором. Теперь, когда аббата Клерво со всех амвонов отлучили от Церкви, Лотарь решил, что будет лучше, если о присяге не узнают. А поскольку нашей подруге Никотее зачем-то вздумалось нас прикончить, Лотарь Саксонский пустил охотника на охотника, справедливо полагая, что рыцарь в такой тунике, как моя, скорее всего приведет его к Бернару.
— Да, Капитан… Я уж не знаю, кто тут большие монстры. Лотарь, Никотея и иже с ними, или вот эти. — Лис кивнул на каменный уступ, где, повторяя эмблему Федюниного медальона, сплелись в единое целое грозные аспиды. — Капитан, ты это видишь?
— Что? — Камдил развернулся и поглядел туда, куда указывал Лис.
Камень был пуст, змеи исчезли.
— Рожденные в Аннуне будут жить здесь вечно, — сказал Федюня. — Нам пора идти.
Крошечное плато, точно ласточкино гнездо, прилепившееся к отвесным скалам, нависало над шумящим в глубине ущелья потоком. Белая дымка заволакивала стремительно мчащуюся внизу Аару, а небольшой водопад, холодный, блестящий на солнце, сбрасывал воду с горной кручи прямо в рокочущие где-то внизу волны. Много веков назад, быть может, во времена Нерона, а может, и Диоклетиана, горстка христиан, гонимых и отверженных, нашла здесь убежище от злобных язычников, жаждущих предать смерти адептов истинной веры. Лучшего убежища нельзя было и придумать: обнаружить плато мог лишь тот, кто точно знал, что и где искать. Среди скал то по осыпи над рекой, а порою и по узкому гранитному карнизу, к тайному месту вела извилистая тропка. Со стороны казалось, что она скрывается в струях водопада, но тот лишь заслонял ее.
Трудно сказать, что произошло с обитателями укромной христианской общины. Спустились они вниз, когда перестали свирепствовать императорские ищейки, или умерли в свой час, и время сровняло их могилы… Но их небольшая молельня, крестом смотревшая в небеса, по-прежнему, как и века назад, возносилась над скалами четырьмя башенками. Сюда, в древний храм, принес Бернар священнейшую реликвию, равной которой нельзя было найти в христианском мире. Да только ли в христианском? Кто и где во всех концах земли мог сказать, что посредством этого совершенного воплощения милости Господней Всевышний слышит, как своими ушами, всякое моление и отвечает на него устами Предтечи.
Бернар смиренно убирал церковь, бережно стирая с позабытых когда-то ликов следы векового запустения. В ушах его до сих пор звучали слова ангела, в длани своей перенесшего его с вернейшими из верных в эту уединенную обитель: «Пастырем стад моих поставил я тебя, Бернар. Воинов твоих назначил стражами при них. Ты решил, будто не пастырь, но властитель стад — за то по делам и награда. Призови смирение в сердце, отринь иную волю, кроме моей. И придут владыки земные не к властителю сильному, но доброму пастырю. Умягчатся сердца их, и прозрение отверзнет очи, тьмой занавешенные».
Бернар с удовольствием поглядел на грубое, но тщательно отмытое изваяние святого. У ног его был установлен древний бронзовый котел. В первый день, когда Бернар, Гуго де Пайен, Тибо Шампанский и еще восемь рыцарей с алыми крестами пришли в этот храм, валявшийся в пыли котел немало удивил их: что бы делать ему в церкви. Котел перевернули и хотели вынести во двор, но он оказался неподъемным — десятерым сильным мужчинам не удалось сдвинуть его с места. Каково же было удивление рыцарей и самого Бернара, когда вдруг сам собою котел наполнился ароматной похлебкой.
— Чудо, — осеняя себя крестным знамением, прошептал Бернар, прославляя душой и словом промысел Господний.
С тех пор котел наполнялся доверху каждый день.
Бернар поглядел на него. Под взглядом начищенная бронза моментально начала гудеть, окутываясь ароматным паром.
«Вот и обед», — подумал Бернар и выглянул в окно во двор, где под руководством де Пайена вновь отстраивался общинный дом.
Рыцари, сняв котты и доспехи, таскали увесистые камни, обтесывали их найденным здесь же инструментом и клали встык. Только одного человека в белой тунике с алым крестом увидел в этот миг пастырь стад Господних — тот поднимался по тропе под водопадом так, будто каждый день ходил по ней взад-вперед. Шел, поддерживая левой рукой меч у пояса. Если бы вдруг водопад сейчас изменил свое течение, Бернар поразился бы менее — не так давно бывший аббат Клерво своими глазами видел, как в битве на холмах Уэльса падал этот рыцарь, смертельно раненный стрелой… И все же он поднимался по тропе как ни в чем не бывало.
— Вальтарэ Камдель, — удивленно прошептал Бернар, надеясь словами отогнать морок, но безуспешно — из-под струй появились еще двое.
У Бернара кольнуло сердце, и взор неожиданно обрел дивную глубину.
— Сын погибели, — понял аббат, наблюдая, как клубится и извивается вокруг тоненького мальчишки невидимый простому глазу живой вихрь. — Помилуй мя, Господи, защити и сохрани!
Гуго де Пайен налег на лом, поддевая до половины вросший в землю валун. На нем хорошо виднелась полоска выдолбленного паза, куда некогда вставляли другой такой же тяжеленный камень.
— Привет ударникам феодального труда! — разнеслось над плато.
От неожиданности де Пайен чуть было не выронил лом. Он поднял глаза, и увесистая железная палка все же выпала из его рук.
— Вальтарэ Камдель? Лис? — Он мотнул головой, будто предполагая, что невесть откуда взявшиеся гости — плод его разгулявшегося под действием горного воздуха воображения. — Откуда вы здесь?
— Так, по тропке дошли, — не давая Камдилу ответить, вставил Сергей. — Гуляли, смотрели, не летит ли мистер Холмс, а тут вы…
Де Пайен расплылся в улыбке. Этого бойкого на язык южанина он знал еще со Святой Земли. Как и водится среди менестрелей, тот был порой болтлив, порой нес откровенную чушь, порой орал дурным голосом чрезвычайно странные песни. Но вместе с тем во всей Палестине не сыскалось бы соратника более верного, нежели он, и более ловкого в стрельбе из лука.
— Эгей, — де Пайен окликнул собратьев, — глядите, какие гости!
— Стойте! — Плато содрогнулось от пронзительно крика. — Стойте! Это морок, адское наваждение! Гуго, ты же помнишь — Камдель погиб в Британии!
Бернар выскочил из храма и бросился навстречу нежданным «прихожанам».
— Да, я помню, — неуверенно подтвердил один из рыцарей.
— И я, — объявил другой. — Убили… Стрелою в спину.
— Я жив, можете попробовать.
— Настоящий рыцарь никогда не погибнет от стрелы в спину! — заорал Лис. — Это я вам как менестрель заявляю!
— Не прикасайтесь к нему! — продолжал кричать Бернар. — Они — демоны, прибывшие искушать нас! Осеним себя крестным знамением, призовем Господа, и расточатся козни Велиаловы!
Камдил молча последовал призыву бывшего аббата, за ним Лис. Козни расточаться не желали, но зато в головах оперативников зазвучал голос Джорджа Баренса.
— Что, развлекаетесь? Горный туризм? А у нас, между прочим…
— Неужели шведы Кемь взяли?
— Не до шуток, Сергей! Никотея побывала у короля Сицилии, уж не знаю, о чем они там беседовали — может, о трудах Аристотеля, может, о повадках тутового шелкопряда, — но Роже II в игре. Выстраивается неплохая ось: Империя—Франция—Сицилия… Я уверен, что Папа тоже не останется в стороне. Скорее всего наша подруга уже пообещала королю Арагона, Леона и Кастилии помощь в борьбе с сарацинами. Так что драка ожидается грандиозная. А вы тут…
— А мы тут тоже делом заняты, — сказал Камдил.
— Я вижу, — недовольно отозвался Баренс, созерцая глазами оперативников обстановку на горном плато. — Вы хоть узнали, чего ради отправились, как говорит Лис, за семь верст киселя хлебать?
— Вот как раз сейчас, я думаю, и узнаем.
— Слушайте меня! — властно крикнул Вальтарэ Камдель. — Я живой, и любой желающий может удостовериться в этом! Я пришел сюда не просто так. Как было написано в Уставе — написано вами, преподобный Бернар! — всякий полноправный член рыцарского братства имеет право требовать созыва Капитула. Я требую! Я заявляю, что нет ни демонов бездны, ни горних ангелов!
— Ты не можешь требовать! Ты мертв! Дети мои, опомнитесь, хитры дьявольские козни, но это лишь козни! Демон пребывает меж восставших из адской бездны! Имя ему — Сын погибели! И пусть вас не смутит отроческая личина, да наполнятся мечи ваши божественной силой!
— Стоять! — рявкнул Камдил. — Я требую созыва Капитула — ему решать, кто прав! Я жив, никто не докажет обратного! И я желаю говорить с вами!
Он схватил де Пайена за руку:
— Гуго, я жив или не жив?
Вконец обалдевший де Пайен обернулся к духовнику:
— Бернар, мы должны…
— А я не должен. — Тибо Шампанский с киркой в руках бросился на Федюню.
Еще секунда, и земля ушла из-под ног графа — она вздыбилась волной, и, точно пронзив гранит, над плато черной свечой вырос огромный змей и, обвив Тибо кольцами, поднял его в воздух. Два других змея замерли у ног Федюни, леденящими душу взглядами отбивая у всякого охоту приближаться.
— Оставь его, Гарри, — тихо попросил Федюня. — Никто не умрет в Аннуне.
Тибо Шампанский рухнул наземь и, корчась от боли, попытался встать на ноги.
— Зачем призываешь к оружию, Бернар? Разве не ждал ты с нетерпением этой встречи? Разве не жаждал самолично искоренить меня? — незнакомым чужим голосом заговорил Федюня. — Не их оружию бороться со мной.
Бернар из Клерво стоял ни жив ни мертв, глядя, как невидимыми огненными змеями извиваются вокруг мальчишки вихри странной, неведомой силы.
— На тебя, Господи, уповаю! Да не посрамлюсь вовек! — гордо произнес он, выпрямляясь.
Когда-то в юные годы он, как и родич его, де Пайен, готовился стать рыцарем, но иная стезя позвала для иной схватки. И вот пришло время его битвы.
— Не приближайтесь! — глухо проговорил Бернар, поворачиваясь к рыцарям. — Покуда я жив — не приближайтесь!
Не сказав больше ни слова, он осенил себя крестом и зашагал в молельню.
— Капитан, — Лис наклонился к напарнику, — а разве… Федюня может войти на освященную землю?
— Я — уже там, — все тем же незнакомым голосом, смеясь, ответил Кочедыжник. — Он сам внес меня.
Молельня — четыре башни, стоящие крестом, — изнутри была залита сиянием, но Бернар не осознавал его. Внезапно стены потеряли для него реальность и отчетливость. Бернар не смог бы сейчас поручиться, что находится в том самом храме, который недавно приводил в порядок: не было ни статуи, ни чудесного котла, ни даже окон. Всепоглощающее сияние, алтарь с водруженной на него серебряной дарохранительницей и тоненькая фигурка мальчишки в нескольких шагах от алтаря.
— …О чем ты хотел говорить со мной, Сын погибели? — медленно, с натугой, но стараясь произносить слова как можно тверже, спросил он.
— С тобой ли? Что ты есть? Да и есть ли ты? О чем говорить с тем, кто источил себя по капле, стараясь угодить неведомому? Где ты, Бернар? Тебя нет, ты лишь тень от прежнего, избравшего стезю веры.
— Ты лжешь, демон! Я пастырь стад Господних!
— У Господа нет стад. Когда бы он желал собирать в стада всех созданных по образу и подобию его, разве стал бы вдыхать жизнь в них духом своим? Разве человек — баран, разве он мясо и руно? Твои старания, Бернар, умерщвляют в человеке Божеское. Я не желаю говорить с тобой. Я пришел, дабы встретиться с тем, чьими устами — неистовыми и безумными — говоришь ты в этом мире.
— Неистовыми и безумными?! — пророкотало в храме эхо, и, казалось, даже волны Аары замедлили свой бег. — Ложь твоя сотрясает небеса, Андай! Я здесь! И ты будешь держать ответ за прельщение, коим побуждаешь роптать глупцов на свой человеческий удел!
Бернар внезапно почувствовал, как ноги его отделились от пола, и он словно отлетел в сторону.
— Слава тебе, Господи всеблагий! — прошептал он. — Благодарю тебя, что не оставил в час испытания!
— Я стану ответствовать перед тобой, Антанаил? За что? За то, что не пожелал видеть рабом брата своего? За то, что даю ему смелость и силу жить? За то, что в мудрости своей он начинает понимать, что Господь его — Бог любящий, а не карающий?
— Кто любит — тот и карает! Послушание приличествует неразумному, дабы вразумился он! Когда же упорствует глупец в неразумии своем, то кара есть величайшее милосердие. Ибо, наказывая в малом, избегаешь худшего.
— В малом? Ты говоришь — в малом, Антанаил? Твое послушание испепеляет!
— Нет, это твое знание иссушает душу, делая неразумного подобным Богу — мечтами он возносит себя на трон Предвечного, и нет искры Божьей ни в нем, ни вне его, ибо где нечему гореть, ничего не горит.
— Ты говоришь о божественном, Антанаил? Здесь и сейчас, в этом месте, ты говоришь о божественном? Когда бы человек стоял передо мной, или хотя бы тень человека, вроде Бернара, я бы спросил, созвучно ли дыхание твое вести Божьей. Но совесть — не твое чувство, да и знаешь ли ты что-либо о чувствах? Посмотри сюда — на этот сосуд из серебра, на лик, украшающий его. Ты узнаешь его черты? Это — моя голова, Антанаил. Моя! Истовый клирик отсек ее из смирения и послушания, не искушаемый знанием, ибо к чему знание там, где есть вера? Отсек — и назвал величайшей святыней в мире, который желал построить ты. Не забавно ли это?
— Забавно. И потому ты вселился в мальчишку, как иной сел бы на коня.
— Я здесь, перед тобой, Антанаил!
Федюня упал на колени, чувствуя приступ невероятной слабости.
— И пришел сказать тебе о своей победе.
Кочедыжник тихо застонал, пытаясь отползти. Прямо над ним, сгущаясь туманным ликом, появилось нечто змеевидное, заполняющее кольцами своими почти всю молельню.
— Сейчас, когда силою твоего коварства, Антанаил, моя глава вещает истину Божью, тебе больше не осталось места в этом мире. Ты лишний!
Федюня почувствовал жжение на груди и, ойкнув от боли, сорвал раскалившийся амулет с тремя перевитыми змеями. То, что происходило вокруг, оглушило его, казалось невероятным. Он не мог понять, где находится и что происходит.
— Ступай прочь, Антанаил, оставь этот мир!
— Не тебе решать, кто здесь лишний!
— Мне! — удивляясь самому себе, крикнул Федюня и из последних сил швырнул амулет, метя в серебряную дарохранительницу.
Яркая вспышка ударила его по глазам так, что даже через ладонь, которой он пробовал закрыться, было видно, как цветком распустился блестящий сосуд дарохранительницы, и с оглушительным грохотом исчезло в нем все то, что миг назад заполняло молельню — и громадный змей, и грозный ангел.
Федюня убрал руки от лица и огляделся. В нескольких шагах от него лежал человек в поношенном балахоне, чуть поодаль исходил ароматным паром бронзовый котел, на алтаре стояла дарохранительница… Федюня на четвереньках подполз к лежащему:
— Вам плохо, дедушка?
Бернар открыл глаза и увидел над собой мальчишечье лицо:
— Я не дедушка.
— Седой весь, — покачал головой малец. — Стало быть, дедушка.
— Плохо, — тихо сознался Бернар.
— Не бойтесь, я вас не оставлю. Сейчас передохну, трав наберу…
Неожиданный грохот заставил сидевших вокруг древнего храма вскочить на ноги.
— Капитан, — забывая о правилах, воскликнул Лис, — шоб я сдох — это было похоже на ядерный взрыв!
— Точно, — пробормотал Камдил, — только в обратном порядке. Не распад, а синтез.
Он сорвался с места и бросился в молельню. Прочие рыцари устремились за ним. Молельня была пуста. Лишь посредине ее около распластанного тела Бернара сидел Федюня Кочедыжник, не замечая вбежавших людей.
— Ты погоди, я тут поудобнее чего-нибудь намощу…
— Ни-че-го не понимаю, — для убедительности помотав головой, объявил Лис.
— Смотри. — Камдил указал на серебряную дарохранительницу. — Лицо…
Отчеканенная физиономия непрерывно меняла выражение, ее то и дело искажали непонятные гримасы.
— О как! — Лис обошел загадочный предмет. — Маманя дорогая! Вальдар, у него лицо со всех сторон!
— То есть как?
— То есть так! Даже сверху!
— Сережа, осторожней! Это Бафомет! Настоящий Бафомет, а не его двуликое изображение!
— Зашибительский прибамбас! Они что там, оба поместились?!
— Оба! Воплощенные единство и борьба противоположностей.
— Шо-то мне это напоминает. Старый вопрос: начнется ли очередная мировая война? Ответ: война не начнется, но будет такая яростная борьба за мир, что камня на камень не останется. Это два в одном от тяжких мыслей не бабахнет?
— Может. Но это уже вопрос к спецам.
Гуго де Пайен и его собратья, не обращая внимания на собратьев по оружию, склонились над Бернаром.
— Да вы не волнуйтесь, — послышалось из круга, — он не помрет, я его излечу.
Мраморная балюстрада дворца была залита весенним солнцем.
— Ваше величество, — монах-василианин склонился перед императрицей, — когда цезари былых времен могли бы видеть нынче благословенную Никотею в могуществе и блеске славы, когда бы могли знать они мудрость замыслов ваших, никто из них не усомнился бы именовать вас Цезарем и Августом — равным среди великих мужей.
— Я рада встрече с тобой, отец Георгий. Рада, что именно ты привез мне вести из Британии. Глубина разумения твоего мне давно ведома, и я бы желала держать тебя подле себя. Пока же скажи, что велела передать моя венценосная родственница, королева Матильда?
— Те условия, которые были предложены вами и королем Людовиком Французским, во многом справедливы и полезны. Но королева Матильда не может дать окончательный ответ без решения мужа.
— Ну конечно! Я не ожидала иного. Разве слабой хрупкой женщине одной управлять державой? — Никотея чуть помедлила. — А скажите, отец Георгий, правду ли говорят, что посланец короля Франции, граф Фульк Анжуйский, в большом почете у ее величества?
— Чистая правда.
Императрица задумчиво кивнула:
— Прошу извинить меня, святой отец, если я в твоем присутствии займусь еще кое-какими делами. Муж пропадает в войсках, и я вынуждена в меру сил помогать ему. Но я прошу тебя остаться — отдохни, друг мой, откушай с дороги. — Она хлопнула в ладоши.
Четверо смуглых мускулистых невольников вынесли низкий стол и расшитые подушки. Затем четыре невольницы с занавешенными лицами, но одетые так, что Георгию Варнацу пришлось прикрыть глаза, дабы не вводить себя в искус, уставили стол яствами, фруктами и кувшинами с вином.
Одна из невольниц наполнила до краев кубок и придвинула его посланцу английской королевы, да так и осталась ожидать новых распоряжений.
— Барон ди Гуеско ждет приема, — напомнил стоящий позади установленного на балюстраде переносного трона рыцарь Надкушенного Яблока.
— Скорее зовите его!
Анджело Майорано выглядел уставшим, но весьма удовлетворенным:
— Ваше величество, я счастлив…
— Оставим этикет. Я жду новостей!
— Ваше величество, я добрался сюда через Дакию, Фракию, через горы, через леса, полные опасностей, добирался, чтобы опередить первый корабль…
— Граф, я помню о своем обещании. По твоему лицу я вижу, что у меня есть основание его исполнить. Говори.
— Херсонес восстал. Русь поддержала его. Я намекнул Великому князю Мстиславу, что вы знаете, для чего василевсу Иоанну так нужна Матраха. А также о том, что вам, как члену императорской семьи, наверняка известен секрет греческого огня.
— Увы, нет. Но это и не важно. Не пройдет и недели, как я узнаю его — как только первый корабль сможет войти в бухту Золотого Рога… Прекрасная новость, дон Анджело! — Никотея хлопнула в ладоши. — Это следует отметить!
Вино густой струей полилось в принесенные кубки, и легко одетая невольница, не забывая кланяться, подала их всем, находившимся на балюстраде.
— За Нику, приносящую славные победы! — возгласил Анджело Майорано.
Никотея прикоснулась губами к краю серебряного кубка и сделала несколько жадных глотков.
— Моя госпожа… — услышала она совсем рядом.
Невольница, разносившая вино, сорвала паранджу и устремила на императрицу пронзительный, точно раскаленный, взгляд черных, как адская бездна, глаз.
— Мафраз… — прошептала Никотея, схватилась за горло, пытаясь восстановить куда-то исчезнувшее дыхание. — Ты?
«Яд! В вине яд», — стучало в висках. Дыхание не восстанавливалось, сердце рвалось из груди, будто страшась дольше оставаться в ней, и ясный весенний полдень вдруг потемнел.
— Отравили! Императрицу отравили! — услышала она, но уже как-то со стороны, точно и не ушами.
Повелительница Европы лежала на белом мраморе без движения. Возле нее валялся кубок, алая лужа растекалась по камню.
— Хватайте ее! — закричал Гринрой, вырывая меч из ножен.
Мафраз стояла на месте, не думая сопротивляться.
— Там нет яда, — торжествующе произнесла она, и глаза ее сияли. — Можете убить меня.
— Погодите! — властно остановил стражей монах-василианин и щедро отпил из кубка. — Это то же вино! У каждого из нас такое! — Он подошел к винной луже, обмакнул в нее рукав и выдавил несколько капель себе в рот. — Здесь, в вине, нет яда. Она сама убила себя. Яд был в ней.
Он наклонился над мертвым телом:
— Покойся с миром.
— Проклятие! А как же моя Лигурия? — раздался над его головой голос Анджело Майорано. — Проклятие!!! — завопил Мултазим Иблис и бросился вон из дворца, инстинктивно нащупывая на груди массивную золотую гривну.
— Теперь все будет по-другому. Трудно, медленно, но по-другому, — глядя ему вслед, пробормотал Георгий Варнац. — У этого мира есть своя надежда.
Эпилог
Поворот судьбы проскочить нельзя.
Борис КрутиерНизкий свод пещеры невольно порождал мысли о разверстой пасти, и острые сталактиты только усугубляли это сходство.
— Оставайтесь тут, — приказал спутникам Гуго де Пайен, — дальше мы пойдем одни.
Рыцари в белых плащах с алыми крестами в молчании склонили головы, провожая достойного собрата и его оруженосца в путь, если не последний, то очень долгий. Мечи со слитным шелестом покинули ножны, образуя стальной коридор к провалу в каменной толще. Лица рыцарей Горного Храма были сумрачны, но исполнены гордого величия от ощущения причастности к тайне и неповторимости момента.
Идти приходилось согнувшись, чтобы не цеплять макушкой предательски таившийся в темноте камень: впереди де Пайен с факелом, за ним — Вальтарэ Камдель и его оруженосец-менестрель по прозвищу Лис. Они несли сундук — небольшой, но, судя по всему, увесистый. Семь кованых замков висели на нем, и еще пять тайных запоров были скрыты от глаз. На каждом из замков красовалась гербовая печать с тамплиерским крестом.
— Здесь это тайное убежище, — останавливая де Пайена, сказал Камдель.
Он провел рукой около стены, и та словно провалилась вниз.
— Да уж, никогда не найти, — восхитился глава рыцарского братства.
— И все же, когда мы войдем, вход в пещеру следует надежно завалить камнями.
— Признаюсь, Вальтарэ, мне страшно подумать, на что вы себя обрекаете. Ведь если рожденные в Аннуне будут жить вечно, то вы останетесь здесь навсегда, понимаешь? Сколько бы лет ни прошло, вы будете в этой пещере!
— Это наш долг, Гуго! Этот мир слишком юн, чтобы понять величие неоднозначности. Когда он сам придет к Знанию, ни стены, ни замки не удержат истины, время которой пришло. Мы вернемся в мир, когда настанет срок. Вы же будете жить в нем, дабы сеять незримые семена того опыта, который обошелся всем нам столь дорогой ценой, и, конечно же, оберегать тех, кто остался в Аннуне.
— Да будет так. — Де Пайен обнял уходящих.
Те ступили в освещенную неведомо откуда идущим светом комнату, и каменная стена вновь скрыла хранителей священного дара от прочего мира.
С тяжелым сердцем возвращался Гуго де Пайен, пока наконец не выбрался из пещеры к свету и теплу.
— Заваливайте, — скомандовал он. — Хорошенько заваливайте!
— Недурственная была идея установить камеру перехода в такой драконьей норе, — пытаясь отыскать хоть что-нибудь живое в окуляр перископа, констатировал Лис. — Ну что, официальные лица были достаточно грустными?
— Глупая шутка, Сергей. Ты знаешь, я чувствую себя Индианой Джонсом, похитившим реликвию тамплиеров.
— Ну, ты даешь! Это еще та реликвия! Оставлять ее здесь без присмотра точно нельзя!
— Знаю, все знаю, но чувствую… Ладно, активизируй пульт. Возвращаемся.
Примечания
1
Диоцез — область правления епископа епархии.
(обратно)2
Зиндан — подземелье, тюрьма в странах Востока.
(обратно)3
Понт — Черное море.
(обратно)4
Матраха, Тмуторокань — Тамань.
(обратно)5
Нобль — представитель городского патрициата.
(обратно)6
Dixi — «сказал» (лат.), разговор окончен.
(обратно)7
Mea culpa — «моя вина» (лат.).
(обратно)8
Лен — феодальное владение.
(обратно)9
Займище — заливные луга.
(обратно)10
Кочедыжник — цветок папоротника (др. слав.).
(обратно)11
Иль-де-Франс — область Франции вокруг Парижа.
(обратно)12
Кеназ — князь (тюркск.).
(обратно)13
Текин — конь ахалтекинской породы.
(обратно)14
Стадий — расстояние, проходимое человеком спокойным шагом за время восхода солнца, то есть в течение 2 минут. Приблизительно 178 м.
(обратно)15
Выход — дань.
(обратно)16
Ныне Судак.
(обратно)17
Сантодоро — генуэзское наименование княжества Феодоро со столицей в Мангупе.
(обратно)18
Фейри — общее название для всех волшебных существ Британии.
(обратно)19
Портариус — привратник.
(обратно)20
Новиций — звание послушника до принятия им монашеских обетов.
(обратно)21
Кутюмы — местные законы.
(обратно)22
Аргус — в греч. мифологии стоглазый страж Зевсовых стад.
(обратно)23
Банки — скамьи гребцов.
(обратно)24
Армигер — оруженосец.
(обратно)25
Визитатор — церковный ревизор.
(обратно)26
Фра — брат, обращение к итальянским священнослужителям.
(обратно)27
Клотик — верхушка мачты.
(обратно)28
Нок-рея — конец реи.
(обратно)29
Свинопас — император Никифор I в юности был свинопасом.
(обратно)30
Викарий — помощник, заместитель священнослужителя высокого ранга.
(обратно)31
Mano a mano — один на один (ит.).
(обратно)32
Бальи — королевский чиновник, осуществляющий в основном судебные полномочия на территории бальяжа (адм. единица Англии).
(обратно)33
Vale — «Будь здоров!» (лат.).
(обратно)34
Миф о несчастном охотнике Актеоне. Юношу, увидевшего купающуюся богиню Артемиду (Диану), она в гневе превратила в оленя, которого растерзали собственные псы.
(обратно)35
Поэма ирландского отшельника Мирддина, в которой он обращается к своему ручному кабану.
(обратно)36
Подробнее см. книгу В. Свержина «Лицо отмщения».
(обратно)37
Плач по Лльюэлину ап Гриффиду, последнему валлийскому королю.
(обратно)38
Оммаж — клятва феодальной верности.
(обратно)39
Курия — совет.
(обратно)40
Адельгейда — автору известно, что дочь Лотаря Саксонского звали Гертрудой.
(обратно)41
Остров Ситэ — остров на Сене, исторический центр Парижа, имеющий форму корабля. Корабль изображен на гербе Парижа.
(обратно)42
Святой Гален — основатель современной медицины. Причислен к лику святых за многочисленные исцеления.
(обратно)43
Гостей цареградских — купцов из Византии.
(обратно)44
Логофет дрома — управляющий ведомством почты и внешних сношений в Византии.
(обратно)45
Мидийское масло — нефть.
(обратно)46
Сифонофорные корабли — огнеметные корабли.
(обратно)47
Арьервассал — вассал вассала.
(обратно)48
Гридень — дружинник.
(обратно)49
Бархын — взрослый беркут, примерно до 15 лет.
(обратно)50
Чеглок — маленький сокол.
(обратно)51
Гроттен — мелкая монета.
(обратно)52
Мартелл — молот.
(обратно)53
Безант — византийская монета.
(обратно)54
Наварх — командующий флотом Византии.
(обратно)55
Планшир — планка, закрепленная на фальшборте для его упрочения.
(обратно)56
Интердикт — временное отлучение от Церкви.
(обратно)57
Тагмата — общее название полков Константинопольской конной гвардии.
(обратно)58
Банда (бандон) — кавалерийское подразделение византийской гвардии из 300 всадников.
(обратно)59
Фема — область, административная единица Византии.
(обратно)60
Корчев — нынешняя Керчь.
(обратно)61
Турма — подразделение фемной (областной) кавалерии состоит из нескольких банд.
(обратно)62
Катафрактарии — тяжелая броненосная конница.
(обратно)63
Стратиг — командующий вооруженными силами фемы.
(обратно)64
Новик — юноша-оруженосец у руссов.
(обратно)65
Баньера — длинный рыцарский вымпел.
(обратно)66
Бестиамах — звероборец.
(обратно)67
Ритершверт — полутораручный рыцарский меч.
(обратно)68
Персевант — помощник герольда, оглашавший на турнире гербы, титулы и имена бойцов.
(обратно)69
Pax romanum — римский мир.
(обратно)70
Хиро ромейское — знак соединенных букв «Х» и «Р».
(обратно)71
Мних — монах.
(обратно)72
Камерарий — начальник канцелярии.
(обратно)73
Стихи Мейнлоха фон Сефелингена.
(обратно)74
Энциклика — обращение Папы Римского к верующим.
(обратно)75
Драбант — телохранитель.
(обратно)76
Тимбр — музыкальный инструмент. Две тарелки (или полусферы) из медных или других сплавов, использовался для ритмического сопровождения танца.
(обратно)77
Аркбаллиста — метательное орудие, предназначенное для стрельбы тяжелыми стрелами.
(обратно)78
Требюше — усовершенствованная катапульта, использующая в качестве движущей силы груз-противовес, а не отдачу.
(обратно)

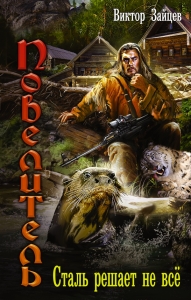





Комментарии к книге «Сын погибели», Владимир Свержин
Всего 0 комментариев