ЖЕСТОКОЕ ФЭНТЕЗИ
ДЕТИ НЕНАВИСТИ
Нотаэло Сотиэль, Двенадцатый-из-Тридцати, более известный как Рисовальщик, засел в ветвях дуба, раскинув вокруг себя маскировочное заклинание-сеть и зажав в зубах стрелу. Лицо эльф выкрасил зеленой краской, длинные волосы остриг коротко, по людской моде, голову перевязал темной косынкой. Пятнистый комбинезон из армейских запасов скрыл гибкое тело. На рукаве вяло скалилась белая кошачья голова — эмблема Серебряных Пантер, третьей бригады специального назначения.
Серебряные Пантеры считались лучшим подразделением Алладорской армии. Последняя война показала, что воевать с людьми можно и по-эльфийски, но побеждать их — только «человеческими» методами. Диверсии, саботаж, молниеносные рейды по тылам, акции устрашения, заложники. Серебряные Пантеры проявили себя блестяще. Не проиграв ни одного крупного сражения, люди были вынуждены уйти, оставив Алладор на произвол своих врагов — эльфов. Белая кошка оскалила зубки...
Однако эмблема врала. Нотаэло не был Серебряной Пантерой и даже никогда не служил в армии. Марш-броски, тренинг день-деньской, а получать гроши — нет, увольте. Нотаэло не таков. Лучше Нотаэло Сотиэль достанет армейский комбинезон — причем не новый, уже не раз стиранный, возьмет эмблему Пантер, купленную за два ланса у мальчишки, продавца сувениров с Площади Увядших Роз, и сам (лично!) пришьет на рукав. Потом Нотаэло возьмет снайперский арбалет системы Дэльноро (страшное оружие, гордость эльфийской военной мысли), тщательно пристреляет и выкрасит лицо в зеленый цвет.
Днем позже Нотаэло Сотиэль, Нотаэло Рисовальщик, Двенадцатый-из-Тридцати, отличный стрелок и талантливый конспиратор, засядет в ветвях огромного дуба в шестнадцати милях от городской черты. И откроется эльфу прекрасный вид сверху на некую поляну, залитую лунным светом...
Нотаэло засел и ему открылся.
Оставалось ждать.
Дельмар по прозванию Короткий явился в одиночку, как было договорено, опоздав на десять минут против назначенного времени. Светский обычай, опоздание в рамках приличия. Дельмар обвел взглядом пустую поляну, поднятые брови выразили брезгливое удивление. Он рассчитывал, что я буду здесь раньше него, подумал Нотаэло Рисовальщик, пристраивая арбалет к плечу. Все-таки я Двенадцатый, а он Третий. Тридцать Отцов на такой городишко, это ж надо... Служебный рост при эльфийской продолжительности жизни — настоящая проблема. С нагретого места редко уходят добровольно, к тому же у всех жены, любовницы, дети, пра-пра и так далее внуки. Всех нужно кормить. А как быть честолюбивому молодому эльфу? Еще тридцать-пятьдесят лет ждать, пока некий Отец, отмечая свой трехсотлетний юбилей, слегка переберет, и подавится рыбной косточкой? К Темному ожидание! Приходится делать карьеру другими методами. Человеческими методами. Извини, Дельмар. Ты мне никогда не нравился.
Гордый профиль Третьего-из-Тридцати попал в перекрестье оптического прицела, загорелись цифры: дальность до цели, скорость ветра, а также зеленые значки в форме магического жезла. Мать Темного! — мысленно выругался Нотаэло, у него защита. Сколько жезлов? Раз, два... восемь?! Заклинание четвертого уровня, проклятье, не везет.
Дельмар в прицеле повернулся, поднял голову. Казалось, глаза его взглянули прямо на Нотаэло, пронзив листву и маскировочное заклинание-сеть... Рисовальщик почувствовал, как на лбу выступил холодный пот, а в подмышках стало мокро. Палец, лежащий на спусковом крючке, рефлекторно дернулся. Только не это, мелькнула мысль. У Дельмара защита четвертого уровня, стрела рассчитана максимум на второй...
Выстрела не последовало. Нотаэло перевел дыхание и неожиданно вспомнил, что арбалет системы Дэльноро сделан в расчете как раз на такие случаи. С обычного предохранителя снимаешь заранее, перед выстрелом, вторым предохранителем служит само устройство спускового крючка. У того большой ход — чтобы наадреналиненные пальцы не подвели снайпера... Не подвели такого же Нотаэло, выслеживающего такого же Дельмара...
Третий-из-Тридцати не заметил стрелка, засевшего в ветвях. Одетый в темно-синий приталенный камзол, эльф уже две минуты стоял посреди освещенной луной поляны, не проявляя, однако, никаких признаков нетерпения. Смотреть на часы, нервно озираться, потирать руки... Все это Дельмар счел ниже своего достоинства. Разве что на точеном лице с едва заметными признаками старения (Дельмару триста двадцать с чем-то, как помнилось Рисовальщику) отразилось презрение. Меня презираешь, подумал Нотаэло, вынимая из арбалета стрелу-неудачницу. Презирай на здоровье, недолго тебе осталось... Еще несколько секунд...
Эльф разжал зубы, отпуская стрелу, заклятую на шестой уровень. Старые запасы — из арсенала политических убийц. Пять стрел-универсалов, раздобытых по счастливому случаю и за бешеные деньги. Коллегия Тайного Деяния — еще одно новшество времен войны — вполне по-человечески не стеснялась в средствах. Практика подтвердила: генералы и министры умирают не хуже простых солдат... А насколько хорошо умирают эльфы-Отцы?
Сейчас проверим.
Щелк! Стрела-универсал легла на положенное ей место. Нотаэло, стараясь не шуметь, взвел арбалет, вновь прильнул к оптическому прицелу. Лицо Третьего в перекрестье, надменность и презрение... Ждет все-таки, подумал Нотаэло. Очень я ему нужен. Скоро буду, уже недолго осталось. Стрела войдет между глаз, Дельмар Короткий... Между твоих красивых глаз.
Люди считают эльфов похожими, как близнецы — черты Нотаэло и Дельмара показались бы им слепками с одного нереально красивого лица, лица другой расы. Удивительно, что эльфы, при всем своем высокомерии, не путают людей, а вот люди плохо разбирают, кто из эльфов кто. И дело тут даже не в обостренной наблюдательности. Когда человеческие черты кажутся уродством, и людей различаешь по тому, насколько кто безобразен...
Пора. Нотаэло задержал дыхание, поймал перекрестьем шею Дельмара — стрела пойдет по дуге и ударит пожилого эльфа в область сердца. Стреляй в корпус, всегда в корпус, учил Рисовальщика старый спецназовец. Голова болтается, телом вертеть труднее. И ценных органов там больше. Старик был тем еще юмористом... Нотаэло плавно нажал на спуск.
Тунк! Арбалет в руках дернулся. Эльф начал считать. Раз, два... Касание.
Дельмар упал.
Нотаэло подошел к лежащему ничком Третьему, держа наизготовку десантный нож. Предстояла не самая приятная процедура, но, к сожалению, совершенно необходимая. Замести следы, как пишут в детективах, не так просто, как в тех же самых детективах рассказывают. Магические отпечатки, дознание камней и растений, провидческая ретроинспекция... Копать будут здорово. Весь город перевернут: сначала Отцы, потом Коллегия Тайного Зрения. Опросят знавших Дельмара, все связи Третьего поднимут... Большой человек был покойный. И дело громкое. Конечно, Тридцати Отцам шумиха ни к чему, поэтому дело попытаются закрыть, но искать не перестанут...
И найдут.
Я, подумал Нотаэло, оставляю очень четкий след.
...Два месяца назад случилось первое убийство. Эанд Элавиэль, сын Фаарва, был найден мертвым в собственном доме. Эанда привязали к стулу. Руки скручены проволокой, на шее — следы удавки, почти перерезавшей бедняге горло. Глаза выколоты, скальп снят. Красавец-эльф в самом расцвете сил стал жертвой неизвестных садистов. Убийцы оставили издевательскую записку, написанную, что удивительно, рукой жертвы. В ней Эанд каялся в грехах. Он признался, что, командуя взводом Лесных Стрелков, приказал расстрелять нескольких мирных жителей. Людей. Ферма была захвачена Стрелками, а трупы хозяев сброшены в компостную яму. Почему, зачем? Время было военное, многие грехи списывались за так... Эанд писал, что не может себе этого простить. Признание заканчивалось фразой: «Я решил покончить с собой.» И подпись: Эанд Элавиэль, сын Фаарва, раскаявшийся. Самоубийца? Как же... Выколол себе глаза, снял скальп, а потом еще и удавку накинул...
Разразился скандал. Вежливый такой, для узкого круга. В газеты не попало ни слова о случившемся, молчаливые ребята в темных камзолах, за спиной которых без труда угадывалась Коллегия Тайного Зрения, мгновенно замяли дело, изъяв следственные материалы. Коллегии Явных Отношений осталось только развести руками...
Еще через месяц и одну неделю произошло следующее убийство. В этот раз был казнен Наэдо Денувиэль, бывший комендант Места Отдохновения — концентрационного лагеря для пленных. Тут записка оказалась посолиднее: в две страницы и даже с именами людей, в смерти которых Денувиэль сознавался... В конце — пометка: «Я хотел бы вспомнить больше имен, но не могу. Простите меня.» Ниже, другим почерком: «У него плохая память, у нас будет получше». И подпись: Непростивший.
После этого Коллегия Тайного Зрения обратилась к Тридцати Отцам с просьбой о содействии. Теневые хозяева согласились и для начала прочесали город. Выловили кучу воров и шлюх, работающих самопально, без одобрения Отцов, посадили всех бездомных, от греха подальше, в камеры. Местность прочесывали специальные бригады. Внуки, оторванные от привычной работы, пугали пейзан мрачными лицами и подозрительными взглядами... Нотаэло, выслушивая ежедневные доклады, не мог избавиться от ощущения, что стал заводилой в слишком большой игре. Заварить такую кашу — всего лишь ради повышения?
План был выстроен в расчете на Третьего. Дельмар Умиэль по прозванию Короткий, когда-то тоже неплохо погулял в военной форме...
Отцы тем временем выдвигали версии. Версий было много, но только некоторые годились как рабочие...
Убийца — эльф-ветеран с обостренным чувством справедливости. Ненормальный с психозом Последней войны. Или человеческая диверсионная группа, что, впрочем, не отменяет психа-ветерана... Только психов могло быть больше...
Никто не умеет ненавидеть так, как люди.
И прогуливались по окрестностям крепкие молодые эльфы с мрачными рожами...
Дельмара прозвали Коротким словно в насмешку — будучи выше Нотаэло на две головы, он сравнялся ростом с высоким человеком. Шесть футов — почти предел для эльфа. Впрочем, лежа Третий не кажется таким длинным, зато изрядно горбится. Длинные, серебристого оттенка волосы разметались по плечам, левая рука неловко вытянута в сторону, правая — прижата весом Дельмара. Наверное, подумал Рисовальщик, он пытался рефлекторно закрыться, прежде чем упасть... Наверное. Синий камзол кажется черным...
Нотаэло присел на корточки, перехватил нож поудобнее. Осторожность и еще раз осторожность. Не считай зверя мертвым, пока его голова не окажется над твоим камином... Основное заклятие стрелы-универсала сожгло защиту цели, добавочное — Зеленого Студня, должно превратить нервные волокна объекта в желе. Стоит наконечнику хотя бы оцарапать кожу... Эльф это, человек, гоблин или даже гном — без разницы. Мертвецу плевать: кем он был при жизни... Он — был. И больше уже не будет.
Последний тест. Нотаэло поднял нож, прищурился и с короткого замаха ударил Третьего в бок... Звякнуло. Нож скользнул по ребрам... панцирю! — вспарывая синий камзол. Что за... — успел подумать Рисовальщик, прежде чем нога «мертвеца» с размаху ударила его под колени. Нотаэло упал на спину, боль вышибла из головы всякое подобие мысли...
В следующий момент Дельмар встал над ним, держа за черенок стрелу-убийцу.
— Нехорошо, — Третий-из-Тридцати брезгливо поморщился. Левой рукой он пытался скрутить фигуру Мертвый Хват. Затекшая кисть плохо слушалась, но онемение скоро пройдет — пальцы эльфа обретут необходимую гибкость. И тогда Дельмар повяжет своего несостоявшегося убийцу заклятьем — по рукам и ногам. Чтобы и пальцем не шевельнул... А это для Нотаэло Рисовальщика верная смерть.
— На кого руку поднял, дешевка? — риторически вопросил Дельмар. — На Отца руку поднял. Знаешь, что мы с такими в спецназе делали? Я тебе, сука, яйца отрежу, на углях испеку и жрать заставлю...
Не узнает, понял Нотаэло, пытаясь справиться с болью и хоть как-то прийти в себя. Магия требует сосредоточенности... Перед глазами эльфа поплыли цветные круги. Колено — одно из самых болезненных мест, а тут — по обоим ударили... Ничего, сказал себе Нотаэло. Болит — значит жив. Лишь бы собраться, хоть на пару секунд забыть про боль...
— Скажешь, кто послал — умрешь быстро, — пообещал Дельмар, делая шаг в поверженному Двенадцатому. Рука поднялась в преддверии Мертвого Хвата. — Хотя я и так знаю. Не зря я Рисовальщика не люблю. Но ты все-таки со мной поговори. Если будешь молчать, сам понимаешь... Смерть обещаю страшную, на Острова Забвения заикой явишься... А если ты в Законе, дерьмо, можешь требовать Отеческого суда. Я его прямо здесь устрою... И Рисовальщик твой тебе не поможет. — Дельмар словно споткнулся. — Или он тут рядышком остывает?
Дельмар упал на землю, подобрался, как кошка. Вспомнил Третий Отец слухи о человеческой диверсионной группе и — решил подстраховаться. Командир роты спецназа Дельмар Умиэль, Дельмар Короткий. Профессионал. Благодаря ему и ему подобным у Серебряных Пантер такая страшная репутация...
У горла Нотаэло оказалась стрела-универсал с погнутым наконечником — хороший панцирь у Дельмара, гномьей работы, заклятую сталь выдержал. Но даже помятый и тупой, наконечник опасен. Малейшая царапина — и встречайте Острова Забвения заблудшего эльфа...
— Только дернись, — предупредил Дельмар шепотом, едва не касаясь губами щеки Двенадцатого. — Мигом к праотцам отправлю... — тут взгляд эльфа натолкнулся на эмблему. — Какого..? — вопросил он озадаченно. — Серебряная Пантера? Что ж вы, суки, своих мочите?!
Нотаэло сжал зубы. Еще чуть-чуть... боль отступает...
— Ты нам не свой, — неожиданно сказал Двенадцатый — неожиданно в первую очередь для самого себя. Никогда никому лишнего слова... И вот на тебе! В такой момент.
Зрачки Дельмара расширились. Узнал, понял Нотаэло. Что ж... пора! Пальцы привычно сложились в фигуру для заклятия...
— Рисо...
Дельмар застыл, глядя на свою правую руку со стрелой. Та остановилась в четверти дюйма от горла Нотаэло...
...Не считай зверя мертвым, пока его голова не окажется над твоим камином.
Жертва, схваченная мертвым хватом, обездвиживается на срок от тридцати секунд до нескольких часов — в зависимости от умения мага и силы, вложенной в заклятие. Если же Мертвый Хват закрутить в узел, чтобы заклятие поддерживало само себя — сутки-двое проваляется реципиент, не шевеля ни единым мускулом. Если не задохнется, конечно... Чтобы схваченный мог дышать, заклятие нужно накладывать умело, с хитрыми вывертами пальцев — поверх одно-двухминутного глухого Хвата. Пальцевать, как выражаются Отцы...
Закончив пеленать Третьего, Нотаэло быстро напальцевал себе «Забыть Боль» на ноги — и только после этого смог подняться... Ощущения как во сне, подумал Рисовальщик, ниже пояса не чувствуешь себя совершенно — как отрубили. Мать Темного, заклятие-то с подвохом! Ходить неудобно. А нормальное лечение требует времени, да и силы еще понадобятся...
Он нашел в траве нож. Весь перепачкавшись соком, вернулся к пленнику, посмотрел в глаза. Ярость, холодная, оглушительная ярость, презрение и страх взглянули на эльфа в ответ...
— У нас хорошая память, Дельмар, — сказал Нотаэло. Рисовальщик понимал, что желание выговориться — очень нездоровое желание, особенно в его положении. Болтливый нелегал — мертвый нелегал. Но ничего не мог с собой поделать. Напряжение последних месяцев сказывалось. Постоянная ложь, жизнь в страхе, бег по острию меча — Нотаэло собирался поступить глупо... И — поступил.
Его право.
— Да, ты... все верно понимаешь, Дельмар... У нас... у людей, хорошая память, — заговорил Рисовальщик. Голос срывался, тело била дрожь — впервые за долгие годы Нотаэло Сотиэль, Натаниэль Кавизел, разведчик-профессионал, пытался быть откровенным. И — не умел. Учился на ходу, сплевывая полу-правдой, полу-ложью, с кровью отдирая от лица приросшую маску... Нотаэло, Натаниэль, Нат... Нат Кавизел, сын Майкла, внук Рудольфа, правнук Кейна... Человек.
Как это — жизнь без маски?
— Я человек, Дельмар... Мне тридцать девять лет и три месяца. По вашим меркам мне еще под стол пешком ходить. Я молод, Дельмар, но уже старик. Один из многих молодых стариков, живущих под масками эльфов... Да, это жестоко, да — это нечестно. Но Последняя война — по-нашему: Алладорская, намертво застряла в людской памяти... Зачем вам только понадобилось побеждать, Дельмар?
Вы испугали нас, и теперь мы вас уничтожим. Мы, люди, умеем ненавидеть сильнее...
Натаниэль помолчал, глядя пленнику в налитые кровью глаза. Ох, дорого был дал сейчас Короткий за пару мгновений свободы...
— Как думаешь, Дельмар Серебряная Пантера, легко было найти человека с таким лицом?
Натаниль провел рукой по гладкой, как у ребенка, щеке. Он никогда не брился — специальное заклятие уничтожило корни волос, но рука до сих пор помнила сладкое ощущение щетины под пальцами... Отец часто ходил небритым...
— Я родился красивым, Третий, — сказал Натаниэль тихо. — Не таким красивым, как ты, но — достаточно близко, чтобы люди из разведки заинтересовались деревенским пацаном. Мне было четырнадцать, и мой голос вот-вот должен был сломаться... Не успел.
Он помолчал.
— Четырнадцать. Иногда я вспоминаю, что у меня было детство, Дельмар — было и уже больше не будет. Разведка — жестокая работа. Нам всем было по двенадцать-четырнадцать... Молодые старики, надежда человечества... Капитан Стоквелл умел убеждать. Вы — наша надежда... А на следующий день начались занятия. Язык, манеры, эльфийская культура, традиции... И — инъекции. Не знаю, что нам кололи, какими заклятиями отравляли нашу кровь, но это было больно... Почти всегда. Кто-то умер, двое сошли с ума. Колхен сидел на крыльце и смеялся. Очень долго и очень странно смеялся... Ломка, Дельмар. У курильщиков опиума это называется ломка... Мы так привыкли быть людьми, нам хотелось этого, как курильщику — опиумной затяжки... Еще нам кололи гормоны... Зачем? Ты спрашиваешь: зачем?! Впрочем, ты молчишь, но я отвечу... Мы не должны были взрослеть... Никогда. Мне тридцать девять, а я — все тот же четырнадцатилетний мальчишка. Мой голос годится для церковного хора... Он не сломался. Иногда я стою перед зеркалом и пытаюсь говорить ниже, как если бы остался человеком... Обычно это уже глубокая ночь...
Каждый день учебы был мучением. Но меня многому научили... Научили ненавидеть... И даже показали: кого... Это ведь самое главное: кого. Я так хочу быть человеком, Дельмар! Если бы ты знал, как страстно и безнадежно я этого хочу... Но единственное человеческое чувство, которое я знаю — это ненависть... У меня были хорошие учителя... И зачем вам только понадобилось побеждать?!
Теперь мы вас уничтожим.
Вы, эльфы, живете по пятьсот-шестьсот лет... По человеческим меркам — почти вечность. Вечность — это долго, Дельмар... Очень долго. У меня не так уж много времени... Лет через двадцать-тридцать я начну стареть — несмотря на все ухищрения... Мое лицо избороздят морщины, глаза помутнеют... К тому времени я буду Первым-из-Ста в столице. И все те, кто учился быть вами — учился вместе со мной... Они тоже постареют...
И, значит, до новой войны осталось всего ничего.
Десять лет... Или пятнадцать... Или четыреста... Но однажды мы придем снова... Мы — это люди... И я.
Почему-то мое "Я" никак не умещается в понятие «люди»...
Кто я, Дельмар? Можешь ответить? Вот ты — можешь?! Нет, лучше молчи... Человек-эльф, эльф-человек... Полу-эльф... Полу-человек... Самая большая моя беда, что я хочу быть человеком, но — не могу... А быть эльфом... Иногда я чувствую себя одним из вас и — ненавижу каждую частичку своего тела... Прекрасного тела...
Изуродованного тела.
Мой голос вот-вот должен был сломаться...
Прости, Дельмар, сейчас будет больно. Что? Ты не волнуйся, я сам напишу для тебя записку с признанием... Впрочем, я уже написал. Вот она... Хочешь, чтобы я зачитал? Нет? Я так и знал... Подпишешь? Конечно, прости меня... Мы оба знаем, что Дельмар Короткий, бывший командир роты Серебряных Пантер, никогда бы не подписал ничего подобного. И уж точно не написал бы этого собственной рукой... Мы — знаем. Но те психи-ветераны, человеческая диверсионная группа, знают Дельмара Короткого много хуже... Прости, Дельмар, сейчас будет нож... А дальше — огонь. И щипцы... и что-то еще... Ненависть такая интересная штука... Я даже ни о чем не буду спрашивать... Ты будешь кричать, Дельмар? Кричи, если сможешь...
Я-то знаю, что нет ничего страшнее подавленного крика.
ВОСЬМОЙ РЫЦАРЬ
— Гребцы?
— Зомби, как обычно. Ты же знаешь, големы нам не по карману...
— Знаю, — вздохнул Вальдар. Военные экспедиции дорого обходятся. Даже если ты — легендарный Вальдар Лемож, Капитан Висельников, и под началом у тебя не менее знаменитые рыцари. Одни имена чего стоят! Криштоф Штеховский, Брэнд Зануда, Станис Солонейк, Янка Злая Ласточка... Репутация — великая сила. Охотники драться под твоим началом собираются со всей страны, готовые служить без жалованья, всего лишь в надежде на добычу — однако талеров в кармане не прибавляется...
Скорее наоборот.
Шестнадцати весельная речная галера. Сто сорок талеров. По четыре гребца на весло... плюс девять в запасе... Семьдесят три мертвеца. Двадцать шесть лютецианских талеров. Заклинание стазиса, обычно используемое для армейского провианта, сохранит запасные трупы в целости. Ни гнили, ничего. Два талера. А как быть с теми, что сядут на весла?
— Заклинание от запаха? Иначе задохнемся.
Криштоф поморщился.
— Тут небольшая закавыка, Капитан...
— Хочешь, сказать, мы остались без заклинаний? Не надо так шутить, Криштоф.
— Не то, чтобы совсем... Но, как бы сказать... Какой-то ублюдок скупил все на корню! — взорвался Криштоф. — Шомполом бы гада проучить! Чтобы в доме навозом не воняло, нужно грязь из дому выскабливать и мыться чаще! А не заклинания бочками таскать... Вообще все скупил. Негоцианты у нас две недели просят, чтобы с Новиграду товар привезти. И цену заламывают... ух!
— Ты его нашел?
— Нет, Капитан. Прости. Как в воду канул... — Криштоф задумался на мгновение. — Слушай, мне тут один торговый предложил заклинания особые взять. Наподобие духов дамских. Только поядренее. Пусть, значит, не убрать запашок, зато — перебить. Может, Капитан, какой-нибудь цветочный аромат, а? Там фиалки, розы...
Представив мертвецов, благоухающих свежими фиалками, Вальдар содрогнулся.
— Не пойдет. Мы за пару дней так цветочной мертвечиной провоняем — за всю жизнь не отмоемся. Представь, как нас встречать будут? Курам на смех, воители...
— Чтоб ей шомполом через алебарду! Может, ну их к чертям песьим, этих зомби? Ребят на весла посадим?
Вальдар задумался. Будь это морская пехота или удальцы из Братства Каракатицы, привычные к веслу и абордажной сабле — как бы все просто решилось. Эх, мечты, мечты!
— Не пойдет. Для гребли навык нужен. Иначе только людей покалечим.
— А что тут сложного? — пожал могучими плечами Штеховский. — Сам за весло сяду, если надо.
— Поверь на слово — сложностей больше, чем ты думаешь... Ладно, Криштоф, этим займемся позже. Порох?
— Уже погрузили. Пять бочонков. Еще свинца фунтов семьдесят. Пуль обсидиановых и из горного хрусталя по два выстрела на мушкет... Их у нас шестнадцать штук...
— Мало. Два выстрела — только пугнуть.
— Знаю, что мало, Капитан — только где ж взять? Если нарвемся, придется по карманам шарить и серебро на пули переливать. Не в первый раз. А святой воды у нас хоть отбавляй...
— Откуда?
— Заглянул священник из Наольской церкви, сели, побеседовали — глядь, а мы с ним родственники по линии троюродной тетки! Мир тесен, песья кровь. Представляешь, моя прабабушка с материнской стороны, урожденная графиня Цвейг-Суховская...
— Криштоф, избавь меня от своей родословной. Поверь, я очень уважаю графиню Цвейг-Суховскую... но давай не сейчас... Значит, освящение запасов воды обошлось нам в четверть талера?
— Полтора.
— Полтора талера?! Вы что, всем родовым древом пили?!
— Он мой четвероюродный племянник, Капитан. Не могу же я экономить на родственниках?
Вальдар оглядел внушительную фигуру Криштофа, вздохнул:
— Не можешь.
Иногда ветер дул на реку, и становилось легче дышать. Вальдар повернулся, чтобы не видеть страдальческое лицо хозяина корчмы. Указать на дверь знаменитому рыцарю тот вряд ли решиться, но...
«Скоро начнут говорить, что дело наше дурно пахнет.»
— Мессир Лемож? — раздался негромкий голос.
Вальдар повернулся. Ага, аристократ. Лет двадцати. Среднего роста, хорошо сложенный, тонкие черты лица, глаза светлые — то ли серые, то ли зеленые. При таком свете не поймешь. Но взгляд ощутимо острый. Темно-синий камзол отделан серебром, воротник из тончайшего кружева. Зато шпага на простой кожаной перевязи. И судя по всему, боевой клинок, а не дуэльная безделушка...
— Присаживайтесь, сударь. У вас ко мне дело?
— Я слышал, вы набираете волонтеров?
Доброволец, значит. Сколько их за последние дни здесь перебывало — страшно вспомнить. Подвигов хотят, славы... Любители! Профессионалы обычно хотят денег... В висках закололо, словно иголкой. Надо приказать, чтобы после загрузки галеру отогнали ниже по течению. Или выше... лишь бы подальше...
— Ваше имя?
— Ришье.
И никаких титулов? Которые, впрочем, у него на лбу написаны... Вальдар поборол желание послать молодца ко всем чертям. Проклятье! Голова просто раскалывается...
— Прозвище есть?
— Лисий Хвост.
— Чем знамениты? В каких кампаниях и под чьим началом участвовали?
— Ничем не знаменит, ни в каких компаниях не участвовал. Под началом тем более не состоял... Я хотел бы присоединиться к вашему отряду, мессир Вальдар.
Вот так. Ничего не умею — возьмите и радуйтесь. Этот хотя бы честен. Не пытается приписать себе участие в Войне Кланов или службу под началом Белого Герцога? Приятное исключение. Хотя при его молодости и полном отсутствии смущения это больше напоминает цинизм, нежели честность.
— Что умеете? Воинское ремесло? Кавалерия, инфантерия, специальные операции? Может быть, магическая подготовка? — спросил Вальдар без особой надежды. — Нам бы очень пригодилось.
Ришье пожал плечами.
— Фехтую, стреляю, дерусь, немного разбираюсь в магии. Самый обычный дворянин.
А вот сейчас он должен улыбнуться, подумал Вальдар. Так мерзко, как это умеют только аристократы...
Ришье остался невозмутим.
— У меня служат профессионалы, молодой человек, — сказал Вальдар устало. — Ветераны. Некоторые сражались под знаменами Виктора Ульпина, легендарного Белого Герцога, другие — под началом его знаменитого противника Роланда Дюфайе. Это не считая постоянной практики в войнах Фронтира... У кого-то послужной список скромнее... Но все мои люди имеют выучку, которой позавидует Орден Экзекуторов. Они профессиональные солдаты, черт возьми! Если фехтовальщики — то высшего класса, если стрелки — то попадающие с сотни шагов белке в глаз. Вот и скажите, Ришье, почему я должен взять вас?
— Потому что я настаиваю, мессир Капитан.
«Он настаивает!»
— Это военная экспедиция, а не увеселительная прогулка, мессир Лисий Хвост!
— Я знаю, мессир Капитан, — спокойно ответил молодой рыцарь. — Однако я также знаю, что вам без меня не обойтись.
— Да что вы говорите? — Вальдар уже не пытался скрыть раздражение. — Вы настолько хороший боец?
— Если честно, то... не слишком.
Вальдар поднял брови.
— Зато, — совершенно невозмутимо продолжал Ришье. — У меня есть то, что гораздо важнее десятка опытных бойцов.
— Что же это? Неужели ваш врожденный аристократизм?
— Лучше, мессир Капитан. Много-много заклинаний от неприятного запаха. Говорят, по весне зомби особенно... ароматны.
Ришье усмехнулся. Именно так мерзко, как Вальдар от него ожидал...
* * *
Галера набирала скорость. Под мерный грохот барабанов весла поднимались из реки, пролетали над волнами и снова погружались в воду. Темп Гребной Мастер задал щадящий, пока «мертвяки не привыкнут». Шесть ударов в минуту. К завтрашнему утру Мастер обещал выйти на крейсерский ход. Значит, через пять дней, подумал Вальдар. Пять дней и — все решится...
Солдаты в разноцветных мундирах заняли верхнюю палубу. Чистили оружие, играли в кости, плевали за борт. Доносились раскаты смеха. Некоторые по старой солдатской привычке завалились спать. Пускай отдохнут пару часов, решил Вальдар, освоятся на реке — а там уж дело за капралами. Разлениться у меня еще никому не удавалось...
— Мессиры, — обратился Вальдар к рыцарям. — Прошу в палатку.
...Нам будет противостоять дружина гейворийцев. Двадцать-тридцать хорошо обученных бойцов. Плюс местные силы самообороны — это еще человек двадцать, плохо вооруженных, почти не обученных... но забывать про них все же не стоит.
— Варвары опасны только в рукопашной. Без строя...
— Эти гейворийцы натасканы для боя в правильном строю, — сказал Капитан. — Кроме мечей, они вооружены пиками. Мушкеты, пистолеты, ручные бомбы. Заклинания, обереги... дикарский уровень, но все равно. К тому же, у них есть мастер боя на длинных мечах. Не гейвориец. Ханнарец. Зовут Краск.
— Ага, — кивнул Криштоф, — Знаю такого.
— Кроме того, кавалерии у нас нет, не забывайте.
— Не сходится, — сказала вдруг Янка Злая Ласточка. — Тридцать профессиональных солдат, которым гейворийцы, при всем их обучении, в подметки не годятся... И семь рыцарей — знаменитых! Против горстки головорезов? Темнишь, Капитан.
— Темню, — согласился Вальдар. — Темню, Ласточка. Дело не в гейворицах... Дело в их командире. Он меня беспокоит. Противник достойный, можете поверить... У такого врага могут быть в рукаве любые козыри.
— И кто же этот достойный? — спросила Янка. Рыцари заинтересованно придвинулись к Капитану. За их спиной Лисий Хвост невозмутимо ждал. «Впрочем, ему-то любые имена мало что скажут». Вальдар выдержал паузу.
— Анджей по прозванию Мертвый Герцог.
Молчание.
— Да-а, — протянул Станис. Рыцари зашевелились. — Капитан, это что, шутка? Он же умер.
— Мерзавец жив, — Вальдар окинул рыцарей испытующим взглядом. «Никто глаза не прячет? Молодцы. Не так страшен Анджей, как его слава». Усмехнулся. — Уж можете мне поверить. А вот насколько жив, нам предстоит выяснить...
— Попрошу высказаться, — сказал Вальдар. — Начнем, как обычно, с младших. Ришье?
Лисий Хвост пожал плечами:
— Я слышал о Мертвом Герцоге... но и только.
— Адам?
— Отказаться, как понимаю, поздно? — улыбнулся Бродиган. Янка не сдержалась и прыснула в кулак. Вальдар смотрел терпеливо. — Извини, Капитан. Мое мнение как боевого мага... Не знаю. Я плохо понимаю, к чему готовиться. Это правда, что Анджей был серьезно ранен?
— Криштоф?
— Правда, Капитан, — сказал гигант и почесал грудь. — Почти мертв, шомпол тебе через алебарду. Сам видел. Бомбой полчерепа снесло... руку оторвало и грудь разворотило... Сердце, помню, как на ладони и — трепыхается, что твой карась...
— А дальше? — заинтересовался Адам.
— Ну, а дальше я в атаку пошел, потом в осаде два месяца сидел... Нас тогда здорово лютецианцы прижали. Не знаю, что с ним было... Но вроде бы помер.
— По моим сведениям, — сказал Вальдар, — Герцог с виду совершенно здоров, руки и ноги в наличии. Чтобы это значило? Адам?
— Черная Месса, Капитан. Больше ничего в голову не приходит.
— То есть душу он продал?
— Должно быть, — ответил Адам без особой уверенности. — Не знаю.
— Мне нужен четкий ответ, мессир Бродиган. Продал или нет?
Молодой рыцарь задумался.
— Да. Другого способа излечиться после таких ран я не вижу. Разве что божественная благодать...
— Ну уж нет, — сказал Криштоф. — Церковь знает всех излеченных Божественным вмешательством наперечет. Это я тебе, сынок, как отец-Экзекутор говорю. Анджея среди праведников нету. Сомневаюсь, что ехиднин сын часто ходил к заутрене...
— Значит, продал, — уверенно заключил Бродиган. — Будем бить.
— Спасибо, Адам, — сказал Вальдар. — Яким?
— Я сражался вместе с ним под Китаром, — сказал Яким Рибейра, смуглый и невероятно красивый лютецианец. — Я командовал ротой драгун. Под началом Анджея был отряд гейворийских наемников. Никогда раньше не видел, чтобы гейворийцы дрались так... отчаянно и умело. Он отменно вымуштровал этих варваров. Храбрый воин. Отличный командир. Настоящий солдат, — Рибейра обвел рыцарей серьезным взглядом, потом неожиданно блеснул зубами в улыбке. — Так на его могиле и напишем!
— Спасибо, Яким. Брэнд?
— Боюсь, нам придется нелегко, Капитан.
— Ты как всегда прав, Брэнд, — сказал Рибейра с улыбкой. Рыцари пытались скрыть смешки. Ришье уже знал, почему Брэнда прозывают «Вечно Правый» — или, гораздо чаще, Зануда. Вещи он говорит вроде верные, но — давно и всем известные. Однако Брэнд хороший исполнитель. Без особой фантазии, зато въедливый до мелочей...
Зануда показал Рибейре кулак.
— Станис?
— Я с вами, Капитан, — сказал Станис по прозванию Могила.
— Криштоф?
— А что тут думать? — проворчал гигант. Штеховский сидел на единственном стуле, поставив между колен тяжелый меч. Как многие рыцари-Экзекуторы, он предпочитал массивные двуручники новомодным саблям и шпагам... Криштоф покряхтел, шмыгнул носом. — Драться так драться. С Мертвым Герцогом, так с Мертвым Герцогом.
— Орден Очищающего Пламени прикроет нас в случае чего?
— Боишься, после дела нас на первом же суку вздернут? — поднял бровь Штеховский. — Не боись. Какая бы тварь заместо Анджея не сидела, грохнуть ее надо — будь это лич или оборотень... — Криштоф шумно вздохнул. — Орден благословение даст, Капитан, не сомневайся... Хотя, шомполом тебя через алебарду, Анджей и при жизни был — тварь изрядная! Пусть и воин хороший...
...Открыв глаза, Капитан некоторое время лежал в темноте, наслаждаясь покоем. Странная все-таки штука — привычка. Крепко спишь под громовой храп, а просыпаешься от тихого смеха. Может, показалось? А сон был хорош. Бессмысленный и очень мирный. На зеленой поляне сидели девушки... наверное, все-таки феи... тихие и уютные... И голоса у них были точно такие же — тихие и уютные...
Смех! Не показалось.
Вальдар встал, натянул впотьмах рубаху. Осторожно, чтобы не спугнуть фей, выглянул из палатки.
По залитой лунным светом палубе косолапил Криштоф.
То есть, в первый момент казалось, что это Штеховский — даже несмотря на рост, чуть ли не в два раз меньший, чем у рыцаря Очищающего Пламени. Лже-Криштоф вел себя в точности, как оригинал. Косолапил и шмыгал носом, чесал грудь и размахивал правой рукой. Левая рука по привычке придерживала у пояса тяжелый меч... легкую шпагу?
— Песья кровь, — добродушно ворчал Лже-Криштоф. — Что разлеглись, ехиднины дети? Ружья кто чистить будет? А, шомполом тебя через алебарду!
На палубе негромко засмеялись. Чистыми легкими голосами. Янкины амазонки... феи...
— Сию минуту, милсдарь! — ответил женский голос. Лже-Криштоф повернулся... какой к черту Криштоф! Адам, изображающий Штеховского. Вальдар покачал головой. Дурачится молодежь... Адам Бродиган рассказывал, что полгода проездил с бродячим театром — увлекся одной актрисой... А актерством, он там, случайно, не увлекся?
— У вас талантливые люди, Капитан, — раздался за спиной негромкий голос. Ришье? Вальдар не стал отвечать. Он до сих пор не мог решить, как относится к молодому рыцарю. Как к авантюристу? Искателю славы? Лазутчику? Якиму Ришье понравился, но Яким — человек непростой... ох, непростой...
— Дядя Криштоф, еще чуточку.
— Шевелись, чертовка! — в притворном гневе топнул ногой «милсдарь». Вальдар невольно усмехнулся. Криштоф частенько напускал на себя грозный вид, но — тщетно. Янкиных амазонок не проведешь. Девчонки из рыцаря веревки вили. — И сколько раз говорить: я вам не дядя Криштоф, а великий воитель Криштоф Людвиг Иероним Штеховский!
Смех.
— Как прикажете, пан великий воитель дядя Криштоф Штеховский!
Слышал бы это «пан великий воитель», мирно храпящий на всю галеру... Да ничего бы не было. Адам понюхал бы волосатый кулак, выслушал пару ласковых, и — все. Через полчаса размякший Криштоф назвал бы амазонок «дочками» и позволил посидеть у себя на коленях...
Тоска подступила к горлу. «Не уснуть».
— Ришье? — тихо позвал Вальдар. — Вы еще здесь?..
— А люди потом назовут наш поход как-нибудь романтично, — сказал Лисий Хвост. — Скажем, Поход Героев. Вам нравится, Капитан?
— Нет. А вам, Ришье?
— Ну я-то не герой.
— Да? — Вальдар посмотрел рыцарю в глаза. — Замечательно. Больше всего я не люблю ситуации, когда возникает необходимость в героях. Война — это работа, Ришье. Ее нужно вести умело и спокойно. Профессионально. Когда же любитель берется за работу профессионала... Вкривь, вкось, с надрывом и кровью... И обычно умирает, надорвавшись... А потом веками живет в народной памяти... Это и есть — героизм. Иногда он поразительно напоминает глупость, не находите?
— Вы не любите героев?
— Я — профессионал, — отрезал Вальдар. Несколько более резко, чем собирался. Помолчал. — Спокойной ночи, Ришье.
— Спокойной ночи, Капитан. Хороших снов.
* * *
— Почему его называют: Мертвый Герцог? — спросил Ришье.
— Однажды в бою Анджей отрубил солдату голову и поскакал в атаку, держа жуткий трофей перед собой. Он знал, что кавалерией со стороны противника командует какая-то «ваша светлость»... Идея показалась Анджею удачной. Он стал орать... остальные подхватили... Представьте, весь отряд наступал, крича «Мертвый герцог! Мертвый герцог!».
— Ловкий трюк, — сказал Ришье. — И что, выгорело?
— Они обратили противника в бегство... в паническое. Это считается за «выгорело», мессир Лисий Хвост? — Адам улыбнулся. — А герцог на самом деле лишился головы — только по другому поводу. Дворцовые интриги. Анджей тут ни причем... Но его слава, как одного из лучших наемных капитанов, только выросла. Спросите любого солдата о Мертвом Герцоге — услышите столько небылиц и легенд, что самому Капитану Висельников впору... Правда, про нашего Вальдара истории... хм-м... гораздо более жуткие...
— Спасибо, Адам.
* * *
— Ваше счастье, что это произошло здесь, а не на глазах у солдат, — Капитан метал громы и молнии... То есть выглядел даже более спокойным, чем обычно.
— Мессир Ришье!
— Мессир Капитан?
— Перевяжите царапину и ступайте вниз. Весло ждет. Гребной Мастер покажет ваше место... Трехчасовая вахта вас устроит?
— Вполне, мессир Капитан, — сказал Ришье. — Я как раз хотел размяться.
— Хорошо. Помните, в следующий раз я не буду столь снисходителен. Еще одно нарушение дисциплины, Ришье — и я предложу вам прогуляться за борт. А на территории неприятеля повешу без особых церемоний. Вы меня поняли?
Ришье молча поклонился и направился к выходу.
— Отлично, — сказал Вальдар. — Мессир Станис!
— Капитан?
— Еще одна подобная выходка — и вы окажетесь за одним веслом с Ришье. Вам ясно?
— Да, Капитан.
Вальдар проводил Станиса взглядом. Черт знает что, а не военная экспедиция! Превратили казарму в курятник... Станис пожирает Ласточку голодным взглядом — разве только слепой не заметит. А ей вздумалось начать войну с Ришье. Теперь Станис волком смотрит. Свалился же на мою голову... герой, голова горой. Девчонку-то хоть не покалечил?..
— Капитан?
— Входи.
Рибейра присел на стол, сложил руки на колене.
— Ну как? — спросил Вальдар.
— С ней все в порядке, — сказал Рибейра. — Не знаю, где Ришье выучился так аккуратно бить, но — живехонька и здоровехонька наша красавица. Солнышко наше злое...
— Яким, — поморщился Вальдар.
— Ладно-ладно. Не буду ерничать. Я на всякий случай заставил ее по палубе вышагивать... Береженого бог бережет. Но, скажи, откуда этот Лисий Хвост взялся? Аристократ он настоящий, уж в этом я разбираюсь. Где ты его такого выкопал, Капитан? Если не тайна.
— Сам пришел.
— Сам?
Вальдар рассказал. И про зомби, и про заклинания от запаха. Рибейра явно впечатлился.
— Подожди, Капитан! Ты хочешь сказать, Ришье обвел тебя вокруг пальца? Тебя?!
— Да.
— Ловкий малый, — оценил Рибейра. — И наглый. Не знаю, каков парень в настоящем деле, но он мне уже нравится. Лисий Хвост, значит?
— Да. Не забудь...
— Будь спокоен, Вальдар. Я за ним присмотрю. Кстати, о покое... Янку наказывать будешь?
Вальдар вздохнул:
— А куда деваться? Дисциплина — на то и дисциплина, чтобы для всех.
— Хочешь совет?
Вальдар поднял бровь.
— Посади ее на одну банку с Ришье, — сказал Рибейра. — Погребет часок...
— Сдурел?
— Ничего, она девочка крепкая.
... — Напротив, сударыня. Я боюсь женщин. Опаснее существ... впрочем, ладно, — Ришье усмехнулся, налег грудью на весло. По загорелому лицу катился пот. — Мужчина, который не боится женщин, — он потянул весло на себя, перевел дыхание. — Дурак или сумасшедший. Или мужеложец...
— Что там?
Рибейра пожал плечами:
— Любезничают.
— Чего-о?
— Ну, грызться им уже надоело. Теперь просто беседуют. Если дыхания хватает.
— А Станис?
— Слышишь ругань?
Вальдар прислушался. Точно. Характерный разговор нескольких мужчин, у которых что-то не заладилось.
— Что они делают? — не понял Вальдар. — Какие еще сети?
Рибейра улыбнулся, как сытый кот.
— Ласточка вылезет потная-потная, верно? Злющая! А что нужно женщине, чтобы почувствовать себя женщиной? Вода. За неимением ванны подойдет и купальня. Вот ее солдаты и сооружают. А Станис командует. Вообще-то нужно всего несколько жердей и сеть... Спустить с кормы и...
— Жерди? Откуда?
— Пики тоже подойдут. Надеюсь, не утопят.
Разговор за стеной стал громче — почти до крика.
— Иди, — сказал Вальдар. — Пошли им на помощь Янкиных амазонок. А то они скоро Станиса за борт уронят... Чтобы любовный жар остудил.
— Давно пора. Все равно ему ничего не светит.
— Почему? — удивился Вальдар. — Я думал, Станис смотрится выигрышнее Лисьего Хвоста.
— Простыми словами?
— Желательно.
Рибейра ненадолго задумался.
— Скажем так: Ришье кормит ее с ладони и по зернышку, а Станис... О, наш Станис сразу распахнул ворота амбара. Ешь, мол, любимая... Тут выбор очевиден...
— Да?
— Да, Вальдар, да. Она все-таки Ласточка, а не корова.
Мышцы болели. Все. Словно превратились в студень. Ришье сел на палубу, прислонившись спиной к фальшборту. Бродиган расположился рядом.
— Знаешь, что интересно, Ришье... Из всей рыцарской компании я не могу изобразить только двоих. Вернее, изобразить как раз могу — внешние признаки, привычки, любимые жесты, выражение лица... Но это все ерунда. Воплотиться, надеть личину, сыграть — не могу. Фальшь чувствую.
— Это тебя тревожит?
— Не то, чтобы тревожит... раздражает. Распаляет. Вызов моей профессиональной гордости, как-никак.
— Я один из тех, кого ты сыграть не в состоянии? Как приятно... Кто второй?
— Станис. Ты удивлен?
— Я ожидал услышать другое имя. Впрочем, неважно... Продолжай, Адам, ты меня заинтриговал.
— Понимаешь, я часто думаю: мы знаем о каком-то человеке почти все... но знаем ли мы человека? Должна быть какая-то сердцевина... не знаю... Вот бывает так — человек вроде плох с виду совершенно, а сердцевина у него — светлая и твердая. Только как узнать?
— А бывает наоборот, правильно? — сказал Ришье. — Когда с виду все здорово, а сердцевина — гнилая.
— Бывает.
* * *
На входе в замок его обыскали. Угрюмый гейвориец с татуировкой на лице — заставил сдать шпагу и амулеты. Тщательно прощупал подкладку василькового камзола, заставил снять сапоги... — Только ты мне их потом сам наденешь! — пригрозил Ришье. — Не видишь, я ранен. Варвар проворчал в ответ что-то маловразумительное...
Повязку на левой руке гейвориец чуть ли не обнюхал.
— Снимай! — приказал наконец.
— Иди-ка ты, любезный, к чертям собачьим, — предложил Ришье. Если снимут бинты — не страшно. А если ковыряться начнут? — Ты своими немытыми руками мне в рану залезешь, а я потом — ложись и помирай, что ли? Иди за начальством, бестолочь. Скажи, парламентер от Капитана Висельников пришел... Или мне еще раз повторить?
Полчаса спустя Ришье вошел в дворцовый покой. В кресле сидел плотный русоволосый человек в черном камзоле без украшений. Анджей по прозванию Мертвый Герцог. С виду ничего жуткого. Ворот камзола распахнут на бледной груди. Русоволосый читал книгу.
— Парламентер? — человек поднял взгляд. — От Вальдара? Как твое имя, посланец?
Ришье вздрогнул. Губы Герцога улыбаются, а глаза — как лежалые мертвецы...
— Репутация — великая сила, — согласился Анджей. — Но почему Вальдар не пришел ко мне сам, лично? — Мертвые глаза с припухшими веками прищурились, словно в насмешке. — Я солдат, он солдат. Разве нам не договориться?
— Это ваши с Капитаном трудности, — Ришье пожал плечами. Движение отозвалось болью в левой руке. — Мое дело простое. Я парламентер.
— То, что ты пришел сюда, размахивая белым флагом, еще не делает тебя бессмертным... Не боишься? Это мне нравится. Ты, несомненно, храбрый сукин сын, Ришье... А я люблю храбрых сукиных детей.
— Что не мешает вам развешивать их на деревьях, как груши? Что с людьми Капитана?
— О них не беспокойся. Впрочем, почему бы и нет... Хочешь посмотреть?
«Тебе это нужно, Лисий Хвост?» Ришье кивнул. Анджей подошел к дверному проему, снял со стены факел. За мной, показал жестом, и двинулся вперед по узкому коридору.
— Знают люди, на что идут — как думаешь, Ришье? — спросил Анджей, не оборачиваясь. — Простая задачка, а решение — ох, какое непростое. Вот ты командир, за тобой идут люди — это их выбор? Или все-таки твой? Подумай. Кстати, сомневаюсь, что люди Капитана выбрали бы колья и петли...
— Другие способы казни показались им... не такими интересными? — спросил Ришье.
— А ты еще и наглый, — отметил Анджей с каким-то даже удовольствием. — Мне нравится. Давай, не отставай... сам все увидишь...
Честь переступить порог Герцог доверил гостю, шагнул следом... Сад внутри крепости? Слышали, видели... Сперва Ришье решил, что статуя ожила. Тьфу, ты! Огромный гейвориец отсалютовал и вновь замер. Как Анджею удалось добиться такой дисциплины от варваров?
— То, что о вас говорят — правда? — спросил Ришье, оглядываясь. Внутренний садик, зеленая трава, остриженные деревья. Желтовато-серые голыши в высокой траве...
— Что именно? — Анджей споткнулся. — О, черт!
— Знаешь, Ришье, — сказал он, шагая медленнее и глядя под ноги. — Обо мне столько говорят... Я уже сам не всегда помню, где правда, где вымысел. Иногда это приятно. Чаще — скучно.
— О, черт! — теперь споткнулся Ришье. — Булыжников тут... — Ришье наклонился, поднял камень. То, что он сперва принял за булыжник, оказалось идеально отполированным человеческим черепом. Привет, приятель, как поживаешь?
— Себе возьми, — посоветовал Анджей насмешливо. — На память. Давай, поторопись, ты же хотел увидеть... — Герцог в нервном возбуждении миновал фонтан в виде девушки с кувшином, махнул рукой. Сюда! Ришье отбросил череп, догнал Анджея и вместе с ним свернул за угол... Остановился. К горлу подступила тошнота.
— Ты же это хотел увидеть? — сказал Герцог. Казалось, Анджей искренне наслаждается зрелищем. — Вот они... люди Капитана...
— Сам вижу, — голос прозвучал неестественно холодно. «Война — это работа, Ришье. Ее нужно вести умело и спокойно».
— А ведь он еще сомневался! — рассказывал Анджей на ходу. История предательства казалась ему на редкость занимательной. — Видимо, решил сделать последнюю попытку... У него было пять дней. Он признался Ласточке в любви. Предложил руку, сердце, шпагу... и прочую романтическую чушь. Кажется, один раз даже угрожал.
— Думаю, Янка, со свойственной ей очаровательной непосредственностью, послала Станиса куда подальше?
— Правильно думаешь. Ты умный и храбрый сукин сын, Ришье. Ты нравишься мне больше и больше... Но я все равно тебя повешу.
— Спасибо. А что со Станисом?
Анджей пожал плечами.
— Ничего. Предатель сделал свое дело, завел Вальдара с его воинством в засаду... и должен получить награду. Я, видишь ли, не привык отказываться от своего слова...
— Могу я с ним поговорить?
Анджей повернулся и внимательно посмотрел на Ришье.
— Не разочаровывай меня, дружище, — сказал Герцог. — Не надо... Уж не хочешь ли ты посмотреть Станису в глаза? Мол, совесть проснется? Ерунда. Смотреть в глаза живому предателю вредно. Глаза, видишь ли, всегда у них бегают. Голова может закружиться.
— А мертвому?
— Что — мертвому? Думаешь, я позволю его убить? Черта с два. Я с ним еще не закончил. Кстати, что у тебя под повязкой?
— Где?
— Ришье, Ришье, — покачал головой Анджей. — На левой руке. Под бинтами. Думаешь, провел меня? Разрезал предплечье и сделал из него ножны? Это кинжал? Пистолет? Какое-то заклинание?
— Стилет, — сказал Ришье. Анджей поднял брови. — Обсидиановый. Если активировать на крови — получится шпага. Я неплохо фехтую.
— Адам делал?
— Адам.
— Я много слышал о вашем маге. Возможно, мне нужно с ним познакомиться. Хотя... судя по всему, он не такой, как ты... или Станис.
— Я тоже не такой, как Станис.
— Ну вот, обиделся. Не надо, Ришье. Будешь обижаться, повешу раньше, чем собирался...
— Я парламентер, — сухо напомнил Ришье.
— Значит, будешь висеть на фоне белого флага... Ладно, оставь себе эту игрушку. — Анджей повернулся к Ришье спиной. — Вперед, мы почти пришли. Сейчас начнется представление...
Из окна сверху они наблюдали, как Станис схватил Янку в объятия, прижал к груди, осыпал поцелуями. Девушка не сопротивлялась... Наложили заклятие? Ничего, Ласточка, потерпи немного... Адам разберется...
— Ну и что, что зомби? — сказал Анджей, поворачиваясь к Ришье. — Зато она действительно его любит.
— То есть она... мертва?
— А ты знаешь другой способ?
Ришье покачнулся. Держись, держись, еще немного. Ришье усилием воли отогнал беспамятство...
Станиса охватили сомнения. Рыцарь отодвинул девушку от себя, посмотрел в глаза...
Закричал.
— Слышал сказку о неразменном гроше? Так вот, душа — тот же неразменный грош... вернее, не грош... мешок талеров! Продав душу один раз, ты можешь продавать ее снова и снова — а капитал будет только расти. Когда меня распотрошила бомба, я решил рискнуть. Совсем одурел тогда от боли, — Анджей потер лоб, словно от воспоминаний у него раскалывалась голова. — Подмахнул договор, прикупил жертву... К жертвеннику меня несли на руках — зато оттуда я вышел сам. Здоровый, полный сил и помолодевший на десять лет. Потом появился Хозяин Тотемов... Я решил, двум смертям не бывать...
— И пустил душу в оборот.
— Верно, Ришье. Пустил душу в оборот.
«Когда любитель берется за работу профессионала... Вкривь, вкось, с надрывом и кровью...»
Ришье согнул левую кисть. Обсидиановый стилет прорвал основание ладони и лег в пальцы. Рукоять мокрая... как бы не выскользнула...
«Больше всего я не люблю ситуации, когда возникает необходимость в героях». Салют, Вальдар, Капитан Висельников!
Герцог смотрел в окно. Гейворийцы отражали нападение мертвых гребцов... Если это можно назвать атакой. Несколько десятков мертвецов вяло передвигались по двору, скрючившись, словно с больным животом... Значит, Адам где-то рядом...
— Не вижу Вальдара! — азартно комментировал Анджей. — А... еще один... Почему Капитан Висельников не возглавил свою армию?
— Вальдар умер от ран, — сказал Ришье. — Надеюсь, его хорошо встретили на небесах... А ты отправишься к чертям в котел, Анджей. Я не шучу.
— Ты все-таки чертовски храбрый сукин сын, Ришье! — засмеялся Мертвый Герцог, по-прежнему глядя в окно. — Скажи, почему я должен отправляться в ад?
Старое поверье. Живая кость можно убить любого колдуна. Адам подозревал, что обсидиан будет бесполезен...
— Герцог?
Анджей повернулся... увидел забрызганного кровью Ришье... замер... в мертвых глазах мелькнуло нечто, напоминающее испуг... Ришье ударил. Вспышка боли! Срубленные под острым углом кости руки вонзились Анджею в грудь... пошли к сердцу...
Анджей зашипел. В мертвых глазах наконец появилось некое подобие жизни. Ришье навалился на него, всем телом вгоняя остатки руки глубже... Выдохнул в бледное лицо:
— Потому что я настаиваю, мессир Мертвый Герцог.
«Это военная экспедиция, а не увеселительная прогулка, мессир Лисий Хвост!»
Я знаю, мессир Капитан. Уж это-то я знаю...
КОРОЛЬ МЕРТВЫХ
— Долгой жизни и честной смерти, милорд.
Серое утро. Раскисшая, стоптанная в грязь земля, влага в воздухе, мелкими каплями оседающая на коже. Осень лезет мокрыми руками в чужой дублет...
В мой дублет.
— Долгой жизни, сэр Аррен, — ответил я негромко. — Пришли посмотреть на казнь?
— Я пришел проводить несчастного в последний путь.
— Вам он нравился? — поинтересовался я. — Впрочем, не отвечайте... Я знаю, что нравился.
— Он так молод.
«Он стоил мне восьми солдат.»
— Сэр Олбери приговаривается к смертной казни, — возвестил глашатай. Потом сделал паузу — казалось, я слышу, как толпа вдохнула и замерла... Тишина. Лишь издалека доносится обычный гул: шлеп, шлеп, шлеп и всхлипывание грязи под сотнями ног. Хучи не знают усталости. Месяц и два дня назад я думал, что сойду с ума от этого шума... Обманывался.
— Он будет повешен.
Роковые слова отзвучали, и я увидел, как в одночасье молодость обращается в старость. Сломался. Он готов был умереть, этот сэр Олбери, дерзкий и отважный рыцарь, красавец и волокита... Глупец, нарушивший мой приказ. О чем он грезил? Не просить, не умолять, твердо шагнуть на эшафот и положить буйную голову на плаху...
Уйти красиво.
Только вот я не верю в красивую смерть.
Смерть — уродлива. Чтобы убедиться в этом, достаточно сделать два шага за ворота...
— Приговор привести в исполнение немедленно. Генри Ропдайк, граф Дансени, писано восьмого октября, тысяча пятьсот тридцать второго года от рождества Господа нашего, Иисуса Христа...
Какое страшное молчание. Мертвой тишину делают люди... и хучи.
Шлеп, шлеп, шлеп.
Я обвел взглядом толпу. Ну, кто из вас самый храбрый? Кто попросит за Олбери. Ты, толстяк? Или ты, лысый? А, может, предоставите это женщине — какой-нибудь сердобольной старухе? Ее-то уж точно не трону...
— Милости, милорд! — взвыл голос. — Честной смерти! Милости!
Наконец-то.
А то я устал ждать.
...Мне всегда казалось, что я умру осенью. Шагну в объятия старухи с косой, свалюсь в грязь, под ноги наемной швейцарской пехоте — острие алебарды пронзит кирасу и войдет в живот. Но умру я не сразу. Рана загноится, будут кровь, жар и мучительные сны. А еще через несколько дней, почернев и воняя, как брошенная волками падаль, я отойду в мир иной. Жаль, что я лишился юношеских грез о героической кончине... Прекрасная дама, рыдающая над телом рыцаря, наденет на его белое чело венок из красных роз и запечатлеет на устах... Жаль.
Прекрасная дама, рыдающая над хладным телом, гораздо приятней хуча, с громким чавканьем это тело пожирающего.
— Честной смерти, Генри, прошу тебя, — шагнул ко мне Вальдо. Рослый и плечистый, с белыми усами и черной шевелюрой, Вальдо хороший боец, но никудышный правитель. Он не понимает. Нельзя давать черни даже призрачной власти над собой. Были жестокие правители, были умные правители, были жестокие умные правители... Добрых — не было. Вместо них правили другие.
В жестоком деле доброта — сродни глупости.
— Кузен, Алан Олбери — всего лишь мальчишка, — вступил Сидни. Как же без двоюродного братца?
— ЧЕСТНОЙ СМЕРТИ! — кричит толпа.
...Ему двадцать три с небольшим. И он стоил мне восьми солдат.
Я поднял руку. Толпа смолкла, «жалельщики» отступили назад и приготовились слушать. Вот только услышат ли они меня...
— Вы просите милости? — я обвел взглядом площадь. Ожидание, весомое, словно тяжесть кольчуги, легло мне на плечи. — Ее не будет.
Толпа выдохнула...
— Святой отец, — обратился я к священнику. — Сэру Олбери нужно исповедаться... Пусть Господь его простит.
— А вы, милорд? Неужели..?
— Я, в отличие от Господа, прощать не умею, — сухо сказал я. «И, может быть, именно поэтому до сих пор жив.»
...Мертвое тело вдруг дернулось, заплясало на веревке, серые губы искривились в неестественно широкой улыбке, обнажая зубы. Налитые кровью глаза — черные и вылезшие из глазниц — казалось, взглянули прямо на меня.
Глаза хуча.
Я дал знак.
Один из стражников, Мартин, шагнул вперед, ухватил бывшего сэра Алана Олбери за щиколотки, повис на нем всем телом. Веревка натянулась. В мертвой (шлеп, шлеп, шлеп) тишине отчетливо прозвучал скрип пеньки...
Другой стражник, Аншвиц, ударил.
Острие алебарды вонзилось дергающемуся Олбери под челюсть и вышло из затылка. Мертвец обмяк. Кончено! Хучи тоже умирают. Достаточно нанести удар в голову, разбить череп или снести голову с плеч...
То же самое, проделанное с живым человеком, называется честной смертью.
Такой смерти просили для несчастного Алана Олбери...
И я отказал.
...Влага мелкими каплями оседает на коже, осень лезет мокрыми руками...
В дублете холодно и сыро.
А они смотрят на меня. Благородный сэр Аррен, великан Вальдо, белобровый и темноволосый; кузен Сидни, по обыкновению кривящий губы в ухмылке... И даже верный Джон Оквист, моя правая рука... Смерды и солдаты, лучники Уильяма Стрелка и наемники Брауна... И вон тот толстяк, и тот длинный, с рыжей бородой...
Все смотрят.
И я понял, что совершил ошибку.
Поставил себя на одну сторону с вечно голодными живыми мертвецами...
Никто не знает, с чего все началось. Просто в один прекрасный день мертвые отказались тихо догнивать в своих могилах. И превратились в хучей.
...И каждый год мне кажется — вот она, последняя моя осень. Острие алебарды в бок, падение, жар и гной по всему телу. Приходится делать усилие, чтобы не поддаться мрачному очарованию смерти. Желание умереть — передается в нашем роду из поколения в поколение. Мои предки травились, выезжали один на сотню в одном дублете, прыгали с колоколен и дерзили королям. Долгие годы, с самой юности, я боролся с самим собой. Меня тянуло к каждому обрыву, каждый пруд казался мне местом желанного покоя. Глядя на кинжал, я представлял, с каким облегчением загоню клинок себе под ребра...
Но я — жив.
Потому что чертова гордость — мое проклятие и мое спасение — встала поперек дурацкому желанию. Мне не быть героем? Пусть так. Зато и самоубийцей я не стану...
Как ни странно, до Бога мне дела нет.
— Честной смерти, брат! — насмешливо поприветствовал меня Сидни. Значит, уже не «долгой жизни»?
— Тебе того же, — ответил я холодно, — любезный брат. О чем ты хотел поговорить? Если о предложении Готфрида, то ты знаешь — я не меняю своих решений.
Сидни ухмыльнулся. Вот что меня в нем бесит — эта ухмылка «я знаю то, чего никто не знает»...
— Пройдемся, кузен?
Мой замок в осаде. Хучи... сотни, тысячи мертвецов окружают его, бессонные и неутомимые, голодные и лишенные страха. Шлеп, шлеп, шлеп... Будь у меня больше тяжелой конницы, я бы прошел сквозь хучей, не сбавляя шага. А следом пошла бы пехота, те же наемники Томаса Брауна — вымуштрованная пехота, ощетинившаяся пиками и лезвиями эспадонов — и мертвая кровь залила бы поле, а тела хучей удобрили мои поля. Будь у меня побольше конницы...
Впрочем, ее и так вполне достаточно.
Просто мне некуда бежать. Мне, Генри Ропдайку, последнему из графов Дансени, некуда бежать, оставив на произвол судьбы родовой замок. Кто меня примет? Разве что Готфрид, герцог Велльский... Нет, только не он. Вот если прыгнуть со стены...
Отсюда до земли тридцать с лишним футов.
— О чем задумался, Генри?
Я вздрогнул и повернулся.
«Проклятый кузен!»
— Прикидываю, когда Король Мертвых прикажет своим подданным сделать подкоп, — сказал я с издевкой. — И нам действительно придется туго.
— Скоро.
— Что?!
Я посмотрел на кузена внимательнее. Нет, Сидни совершенно серьезен, даже неизменная ухмылка выражает не издевку, а горечь. Скорбная складка в уголке рта...
— Я слушаю.
— Ты никогда не задумывался, Генри, откуда взялась эта легенда? Король мертвых, лорды-мертвецы, его свита...
— Что еще за лорды-мертвецы?
— Не слышал? Плохие у тебя осведомители...
— Я слушаю, Сидни, — холодно напомнил я.
— О, это интересно. Я бы даже сказал, интригующе... Укушенный хучем, если будет скрывать укус, на некоторый день переродится и станет лордом мертвецов.
— Это еще почему? Чем он лучше убитого в бою или умершего от болезни?
— Ходят слухи, брат, что таким образом будущий лорд-мертвец сохраняет память и разум. Ты представляешь, что было бы, командуй ходячим гнильем под нашими стенами кто-нибудь с мозгами? Или хотя бы один из твоих сержантов?
Я представил. Замок продержался бы пару дней... от силы. Хучи не знают страха, не устают и их тысячи. Они могли бы атаковать волнами, раз за разом — днем и ночью, без передышки...
— Вижу, представил, — заключил Сидни.
— Это правда?
— Это слухи. А ты прекрасно знаешь, дорогой кузен, как часто слухи оказываются правдой...
— Не реже, чем ложью.
Сидни помолчал, глядя мне в глаза и кривя губы.
— Это утешает, — сказал он наконец. — Только вот хучи последнее время ведут себя странно. Они, конечно, продолжают бродить как попало, но...
— Что, Сидни? Договаривай.
— Ты сам посмотри, Генри, — сказал «братец». — Ты умный, ты поймешь... надеюсь. А я, пожалуй, пойду, — кузен заложил большие пальцы за ремень, приняв вид беззаботного гуляки. — Дела, знаешь... Долгой жизни, кузен. И будь осторожен, — я вскинул голову. — Не подходи близко к краю. Не дай бог, упадешь...
Мы посмотрели друг другу в глаза. «Я все знаю», улыбнулся одними губами Сидни.
— Да, — сказал я медленно. — Я буду осторожен. Долгой жизни, кузен.
Ежедневная проверка — не самое приятное испытание. Ты стоишь голый, как новорожденный младенец, а здоровенный мужик осматривает тебя, словно новую, только что купленную, кирасу. Пятна, царапины, следы укусов... Особенно последнее. Все люди в замке разбиты на десятки, в том числе женщины, старики и дети. Десятники проверяют своих, потом идут на проверку к сержанту.
Не очень приятное испытание.
Джон Оквист, он хоть одного со мной роста. Представляю, как чувствуют себя десятники под командованием шести-с-лишним футового Вальдо. Не очень хорошо, думаю. А вот мой кузен, по слухам, опирается на меч во время проверки...
На него похоже.
Мужчина чувствует себя голым — только будучи безоружным, по его словам. Впрочем, это редкий случай, когда я согласен с кузеном...
— Готово, — сказал Оквист. — Ты чист, Генри.
Я принялся натягивать штаны.
— Что по гарнизону?
— Двое под подозрением. Старик из сотни Черного Тома и... — Оквист замялся. Дурные новости? Опять?
— Я слушаю, Джон.
— Один из людей Уильяма.
— Это плохо, — протянул я. Конечно, плохо, черт возьми... Стрелки одни из самых ценных сейчас бойцов. Стрела в лоб с расстояния в сотню шагов — лучшее средство против хуча. — Что с ним?
— Следы зубов на ляжке. Барри клянется и божится, что его собака укусила, когда он проходил мимо кухни. Говорит, хотел перехватить кусок, а тут она...
— Ты ему веришь?
— Все может быть, Генри... Все может быть. Посидит взаперти пару дней — будет ясно. Жаль было бы терять такого лучника...
— Жаль. Как люди? — спросил я. — Какие слухи бродят?
— Как обычно.
Что-то темнит моя «правая рука».
— В глаза смотри, Джон. Ты не договариваешь.
— Генри!
— Я слушаю, Джон.
— Тебя уже называют Королем мертвых, — сказал Оквист негромко, но веско. Вот так, значит. — Не надо было этого делать... Олбери был всего лишь самонадеянным мальчишкой...
— Восемь солдат, Джон. Он стоил мне восьми хороших солдат.
— А твое решение может стоить тебе мятежа.
— Знаю. Но я не меняю своих решений. Что же касается предложения герцога... Ты ведь об этом хотел поговорить? Готфрид слишком многого от меня хочет, Джон... Слишком многого.
Оквист помолчал. Провел ладонью по короткой черной бороде с редкими вкраплениями седины. Этот жест у него означает мучительное раздумье...
— У меня, в отличие от собаки, есть гордость, Джон. Что с тобой?
— Ничего, — глухо сказал он. Потом неожиданно улыбнулся и покачал головой. — Я понимаю, Генри... Ты же знаешь, я всегда был твоим другом. И всегда им останусь.
Он встал.
— Обойду дозоры. Ты уже проверил своего оруженосца?
— Подрика? Нет еще. Позови его, будь добр.
— Не беспокойся, — отмахнулся Джон. — Я сам его осмотрю. А ты, Генри... ты обещаешь подумать над предложением Готфрида еще раз?
Я промолчал. Сколько же это будет продолжаться...
— Генри?
— Да, — сказал я. — Обещаю.
Я достал свернутое в трубочку письмо. Мои просьбы о помощи, направленные к различным властителям, остались без ответа... кроме одной. Готфрид Корбут, герцог Велльский, милостиво согласился «возложить на Генри Ропдайка, графа Дансени свою десницу, дабы оный Генри Ропдайк...» Проклятое письмо! Я представил, чего стоило гонцу добраться до родового гнезда Готфрида — через кишащую мертвецами долину, не имея сна и отдыха... А затем обратно, лишь поменяв коней...
Ради этого чертова письма!
Ты слишком гордый, Генри. Склонись перед Готфридом, прими вассальную присягу, отдай в заложницы дочь... Как странно, что о дочери, восьмилетней... или девятилетней? — Элизабет, я вспоминаю только в такие минуты... Отдай в заложницы дочь, и Готфрид милостиво откроет для тебя и твоих людей путь в места, куда хучи еще не добрались...
Пока еще не добрались.
Страна разваливается на части, король неизвестно где, а эти... Готфрид, Ансельм Красивый, Оливер, маршал марки, другие... Они желают править среди мертвых. Не знаю, существует ли настоящий Король мертвых, но...
"Возложить на Генри Ропдайка, графа Дансени свою десницу, дабы оный Генри...
Писано собственной рукой, сего дня, пятого октября, тысяча пятьсот тридцать второго года от рождества Господа нашего, Иисуса Христа.
Готфрид Корбут, герцог Велльский.
Король мертвых.
Никто и не знал, что он — человек.
Чем этот приговор лучше твоего, зачитанного утром? А, Генри?! Я, Генри Ропдайк, граф Дансени... Из тех графов Дансени, что никогда не склоняли головы ни перед кем, кроме короля...
Гордый Генри.
«А ты прекрасно знаешь, дорогой кузен, как часто слухи оказываются правдой...»
«Тебя уже называют Королем мертвых».
Очень гордый Генри...
ЧЕСТНОЙ СМЕРТИ!
Скандирует толпа. И благородный сэр Аррен и великан Вальдо, белобровый и темноволосый; кузен Сидни, по обыкновению кривящий губы в ухмылке... И даже верный Джон Оквист, моя правая рука... Смерды и солдаты, лучники Уильяма Стрелка и наемники Брауна... И вон тот толстяк, и тот длинный, с рыжей бородой...
Все кричат в один голос.
ЧЕСТНОЙ СМЕРТИ!
Мертвец на виселице, ранее бывший сэром Аланом Олбери, красавцем и волокитой, дерзким рыцарем, задергался, веревка заскрипела, натянулась... Я не поверил глазам... Лопнула!
Мертвец приземлился мягко как кошка, смахнул с дороги Мартина — стражник ударился головой о виселичный столб, хрустнул череп, брызнули желтые мозги. Аншвиц, заступивший было хучу дорогу, лишился алебарды... Удар. Лезвие вошло стражнику под челюсть и вылезло из затылка.
Честная смерть.
Олбери, странно склонив голову на бок и задрав подбородок, кошачьим шагом двинулся ко мне...
— Генри, — прошипел он. Голова, запрокинутая назад, мягко качнулась. У него сломана шея, догадался я.
— Почему ты разговариваешь? — спросил я, вытягивая меч. Серое лезвие с тихим скрежетом выскользнуло из ножен. — Хучи не могут...
— Теперь могут, Генри. Пришло время лордов-мертвецов. ПРИШЛО ВРЕМЯ.
А-а-а!
Я проснулся в холодном поту. Свеча почти догорела, аромат горелого воска лезет в нос...
Шлеп.
— Кто здесь?
Шлеп, шлеп, шлеп.
Из темноты вышел Подрик, мой оруженосец.
— Подрик, ты... Что с тобой?
Голова оруженосца при очередном шаге мотнулась, и я увидел, что горло Подрика перерезано, а рот скалится в улыбке хуча...
Джон Оквист, моя правая рука, выбрал другого Короля мертвых.
ВАМПИР В ЗАКОНЕ
1
В углу зашевелилось, брякнул металл, на свет выполз домашний нетопырь Малиганов. Серый, словно присыпанный пылью, сгорбленный от старости, уже совсем не похожий на человека. Пахло от него сыром. За нетопырем волочилась по полу толстая ржавая цепь.
— Привет, Жан. — сказала Лота.
Глаза Жана — желтые и выпуклые, как костяные шарики. Говорить нетопырь разучился, но все еще понимал слова... или делал вид, что понимает. Вампиры боятся старости даже больше людей. Лота закатала рукав. «Элжерону пора сменить привратника.» Жан мгновение стоял неподвижно, потом уткнулся носом ей в ладонь и с шумом втянул воздух. Лота едва сдержалась, чтобы не отпрянуть. Прикосновение мертвой плоти было влажным и — неприятно-ласкающим.
Старый нетопырь.
— Кэ-олик, — сказал вдруг Жан. Поднял взгляд на девушку. — Кэ-олик. Е-а.
Лота вздрогнула. Не то, чтобы она боялась — Жан на то и поставлен, чтобы определить, кто пришел. Древнюю Кровь вампиры распознают безошибочно, их даже используют в качестве ищеек...
Жан впервые за много лет нарушил молчание... что случилось?
Нетопырь приставил указательные пальцы к голове, словно ребенок, изображающий «бычок, бычок бодается». Пару раз подпрыгнул. Старательно зашевелил носом.
— Кэ-олик. Е-а. Кэ-олик. Да-ай.
Лота вдруг поняла. Камень-сердце! Кролик. Еда. Вот оно что...
— Жан? — Лота выпрямилась, огляделась. — Кто научил тебя этому?
— Я.
Голос, казалось, шел со всех сторон. Лота поежилась. Весело начинается визит к дяде. Её рука спустилась к поясу и легла на рукоять небольшого пистолета. Если не обладаешь Талантом, дающим силу или неуязвимость, лучше положиться на старый добрый порох.
— Кто здесь? — сказала Лота. Светильник, висящий над головой, настроения не улучшал. Лучшей мишени и не придумаешь. Лота и нетопырь в круге света, остальное пространство тонет в темноте. Неужели Элжерон устроил ей ловушку? Но — смысл?
Или это Древоточец со своими шуточками?
— Я спрашиваю: кто здесь?
— Я, — повторил голос после короткой паузы.
Проклятое эхо. Старый подземный ход, ведущий в резиденцию Малиганов — отличное место для розыгрышей. Камень-сердце! Сам Хаос не разберет, кто говорит и откуда. И как в такую задницу, простите за грубость, стрелять?
Жан заскулил.
Лота краем глаза посмотрела на старого нетопыря. Потом развернулась, выхватывая пистолет...
Жан сделал стойку.
Лота нацелилась поверх его головы. В пустоту. Значит, ты там, голос? Попробуй теперь пошути... c серебряной-то пулей...
Серебро убьет человека, остановит оборотня. Две трети Малиганов тоже остановит — пусть ненадолго… на несколько мгновений... но это лучше, чем ничего.
Дело за малым — попасть.
Там, решила Лота.
— Левее, — сказал голос с непонятной интонацией. Лота сжала зубы. Ты не Ришье, подумала она, тебе всегда хватало выдержки. Лота выдохнула... задержала дыхание...
— Не надо стрелять, — сказал голос. — Здесь, знаете ли, отвратительное эхо... Посмотрите налево.
Лота посмотрела.
Незнакомец встал на границе светового круга. Высокий черный силуэт. Видна лишь половина лица.
Очень красивого лица, подумала Лота невольно. Прямо таки скульптура работы хорошего мастера. Новая игрушка Сушеного Гэвина? Не одних же уродов ему лепить. Неплохо бы и разбавить.
Голем? Жаль.
— Миледи, — незнакомец поклонился. Невероятно изящно для голема. — Лота Хантер, урожденная Малиган, если не ошибаюсь?
Выговор был странный, с едва заметной неправильностью.
— Кто вы?
— Новый дворецкий лорда Элжерона. — он вновь поклонился. Нет, не голем. Вампир. — Мое имя Яким. С вашего позволения — Яким Красавчик.
Еще бы... с такой-то внешностью. Лота опустила пистолет.
— Ничего не скажешь, скромно!
— Не торопитесь с выводами, миледи, — сказал незнакомец. Лоте вновь почудилась в его голосе насмешка. Она вскинула голову. — Вы еще не видели меня целиком...
— А что, по частям ты симпатичнее?
— Может быть, миледи... Все может быть. Вы готовы?
К чему? — хотела спросить Лота, но тут новый дворецкий лорда Элжерона шагнул вперед...
Свет.
Тьма.
— Лорд Маран, со свойственным ему остроумием, называет меня Половинчиком.
2
Логово Малиганов по-прежнему выглядит как жилище сумасшедших колдунов, решила Лота. Впрочем, ничего удивительного. Несколько веков кровавой бойни — и вот пожалуйста. Словно идешь по скелету древнего чудовища. Свет фонаря выхватывает из темноты огромные кости, побелевшие и выщербленные от времени. На самом деле это каменные колонны, поддерживающие свод — но попробуй убеди в этом свое воображение. Ощущение опасности не исчезает, а становится с каждым шагом сильнее...
Фонарь в руке Красавчика мигнул и погас.
Темнота.
Лишь перед глазами пляшут желтые пятна.
Лота почувствовала нарастающую дрожь во всем теле. Заколотилось сердце. Виски сдавило. «Камень-сердце! — подумала Лота. — Как я, оказывается, отвыкла от причуд Логова.»
Дрожь оборвалась.
— Прошу прощения, миледи, — прозвучал во мраке приглушенный голос Красавчика. На него это тоже действует? — С вами все в порядке? Сейчас я зажгу фонарь...
Лота выдавила смешок.
— Меня это не пугает, — сказала она. Сердце по-прежнему билось, как окунь на крючке. — Я здесь выросла. Всего лишь дыхание Логова... Все дети Малиганов о нём знают...
— Не сомневаюсь, миледи.
Яким открыл дверцу и зажег фонарь. Лота в который уже раз поразилась внешности Половинчика.
Одно плечо нового дворецкого заметно выше другого. Казалось, Якима когда-то разрезали на две неравные части. Затем, кое-как состыковав, сшили половинки — причем крупными стежками, не заботясь об аккуратности, а только о прочности...
Более странного сочетания красоты и уродства Лоте видеть не доводилось.
Правая сторона лица — мужчина-мечта. Предмет обожания молоденьких и не очень девушек. Левая — оживший кошмар. Огромный шрам тянется по щеке, продолжается на шее и прячется в ворот рубахи.
— Как это случилось? — не выдержала Лота. Яким повернул голову. Выражение лица у него было странное. — То есть... я хотела сказать...
Красавчик поднял брови. Лота почувствовала, что краснеет.
— Дожил, — усмехнулся новый дворецкий. — Скажи кому — не поверят. Чистокровная Малиган боится задеть чувства какого-то кровососа.
— Я...
— Не смущайтесь, леди. Я готов пощадить вашу чувствительность и назваться вампиром. Или, быть может, носферату?
«Да что он себе позволяет!»
— Я не люблю вампиров.
— Полностью с вами согласен, миледи. Я тоже терпеть их не могу.
3
У кастеляна Н. (как его там?) ресницы прозрачные, а брови такие светлые, что совсем теряются на фоне бледно-розового крупного лица.
К тому же у кастеляна Н. глаза навыкате, а рот открывается вот так: бульб, бульб. Отчего кастелян Н. здорово похож на глубоководную рыбу.
И эта рыба сообщил Лоте, что лорд Элжерон — дядя Элжерон! — не хочет видеть племянницу. После того, как сам пригласил ее в проклятое Логово. Но самое неприятное в другом. Лоте придется провести здесь несколько дней. Даже, возможно, неделю. Или месяц.
— Для вас приготовлена комната.
— Моя старая детская? — Лота неожиданно для себя обрадовалась.
— Что вы! — Н. выглядел оскорбленным. — Она слишком мала. Мы приготовили для вас...
Лота вспомнила, как при Красавчике ведут себя слуги. Словно их выхватили из воды и держат за жабры. А, казалось бы, людей, десятилетиями живущих среди Выродков не так-то легко напугать.
— Я хочу видеть Древоточца, — прервала она излияния кастеляна.
— Прошу прощения, миледи, но...
— Как? — Лота посмотрела на кастеляна. — Его тоже нет?
— Это правда, миледи, — сказал Н. — Лорд Маран сейчас очень занят. Он просил передать свои извинения. Дело не терпит отлагательств.
«Вот оно что!»
— Древоточец повел кого-то вниз? Кого? — Рыба закрыл рот и насупился. Лота улыбнулась. — Ладно тебе, не такая уж это тайна...
— Маленький лорд Рэндом, — заговорил Н. после некоторых колебаний, — внезапно заболел. Три дня назад начались головные боли. Маленький лорд плакал. Леди Ирен говорила, что это скоро пройдет и с детьми такое бывает... но лорд Маран решил иначе.
— А сама Ирен?
— Леди Ирен... — Н. замялся, видимо, подбирая выражение поделикатнее, — с тех пор находится в некотором волнении.
Дура в истерике, перевела Лота. И почему Ришье всегда так странно «везло» на женщин? Что общего у злого, упрямого и эмоционального Ришье с недалекой Ирен, интересующейся только нарядами и балами?.. Теперь эта наседка растит его сына.
А тебе, Лота?
Тебе разве везло с мужчинами?
Я замужем. «Тогда почему ты два месяца ложишься в холодную постель? А, девочка?»
— Где живет Красавчик?
Н. поморгал.
— Кто?
— Новый дворецкий.
— А! Миледи имеет в виду Половинчика? Его комната двумя уровнями ниже...
4
Язык был как язык — красный и толстый. Лота внимательно рассмотрела его в зеркале, но ничего подозрительного не обнаружила. Никаких странных пятен. Что ж... по крайней мере, ее не пытались отравить. Хотя по вкусу местной стряпни этого не скажешь. Лота вспомнила завтрак и содрогнулась. Нет, выглядело все прекрасно. Подрумяненные булочки, желтое масло, аппетитно пахнущий пирог...
Лоту передернуло. Пирог был отвратительнее всего. Мало того, что блюдо, изначально сладкое, пересолили — он еще и жутко горчил! Нет, Элжерону явно пора сменить кухарку.
«Наверняка это злобное и уродливое существо, эдакий горный тролль, ненавидящий все живое.»
Лота взяла маленький серебряный колокольчик и позвонила. Через некоторое время в дверях появилась горничная — совсем еще юная девушка в белом переднике. Лота улыбнулась ей в зеркало.
— Миледи?
— Доброе утро, Розина. Убери это, пожалуйста, — Лота не уточнила, что именно, но горничная кивнула. — Мои вещи доставили?
— Пока еще нет, миледи.
По приезду в Ур, Блистающий и Проклятый, Лота остановилась в гостинице у Южного Портала — у дяди она рассчитывала погостить не больше пары часов, а потом — сбежать. «Пяти минут было бы достаточно, если честно.» Даже одной минуты. Логово нервировало. Логово давило и вызывало ненужные воспоминания. Безумное гнездо безумной семейки...
Что Элжерону нужно от нее? Мокрая Рука не слишком сентиментален. Вряд ли он просто соскучился. Старший Малиган славится холодной расчетливостью — если он пожелал видеть Лоту, значит, нашел ей место в своих планах.
«Только не продолжение рода, будь Хаос милостив.»
Я замужем, повторила Лота как заклинание. Замужем. Почему же эти проклятые два месяца...
— Миледи? — горничная смотрела с плохо скрываемым любопытством.
«Уж не говорю ли я вслух?»
— Спасибо, Розина, на этом все.
Когда горничная ушла, нагруженная подносами с неудавшимся затраком, Лота вздохнула. Кому докладывает эта девушка? Кастеляну? Старшей над служанками? А та в свою очередь — Марану... Или самому Элжерону?
Даже три дня в Логове — очень долгий срок. Что уж говорить про месяц...
В этот момент Лоте захотелось оказаться за сотню лиг от родового гнезда. Желание было настолько сильным, что она почти наяву увидела, как надевает платье, закалывает волосы, чтобы не падали на лоб; берет в одну руку шпагу, в другую — пистолет и — прорывается с боем, если нужно. «Пусть попробуют меня остановить.»
Даже не подумают, увы.
Не торопись, сказала себе Лота. Сначала все разузнай. Ты для этого сюда и приехала. Это твоя семья. Твои чокнутые горячо не любимые родственники. Величие клана Малиганов, помнишь?
Мы, Выродки, должны держаться вместе.
Так что успокойся и займись делом. О бегстве, если таковое потребуется, подумаешь позже.
«Договорились.» Лота выпрямилась. Для начала займемся собой.
В зеркале отражалась молодая женщина в прозрачной ночной рубашке с кружевами. Голубоглазая брюнетка «с интересной бледностью».
Скулы высоковаты, глаза слишком широко расставлены — хотя что-то кошачье, в них, несомненно, есть. Это приятно. Подбородок четко очерчен, но тяжеловат. Нос слишком тонкий...
«Сколько еще недостатков ты сможешь найти?»
Верно. Лота вздохнула и велела себе остановиться. Так можно дойти и до испорченного на весь день настроения... Однако, великий человек придумал все эти белила, пудры, помады и прочие приятные мелочи. Попробуем подчеркнуть достоинства и замаскировать недостатки. Для начала выровнять цвет лица, спрятать весн... Камень-сердце! Веснушки-то откуда?!
Все-таки настроение она себе испортила.
Лота отложила пуховку. На столике перед зеркалом, среди разноцветных баночек и шкатулок, чужеродным предметом смотрелся большой пистолет. Полностью заряженный, с серебряной пулей. Второй такой же остался под подушкой. Лота сама его туда положила.
Только не говорите, что в Логове нечего и некого бояться, подумала Лота с горечью. «Я здесь выросла. И это были не лучшие семнадцать лет моей жизни.»
Последующие двенадцать лет, проведенные вне родового гнезда, оказались гораздо приятнее.
«И все-таки, зачем я понадобилась Элжерону?»
5
Вампир отложил книгу и поднялся с мягкой грацией хищного зверя. Увечье на ловкости Красавчика, кажется, нисколько не сказалось. Интересно, подумала Лота, смогу я с ним справиться? Если он как следует меня разозлит?
Яким поклонился. Как всегда — с невероятным изяществом.
— Миледи?
— Доброе утро, Красавчик. Ничего, что я без приглашения?
— Мой дом — ваш дом, миледи.
«Очень мило». Особенно если вспомнить, где обычно обитают вампиры.
За его спиной Лота увидела ряды полок, а на полках — книги, книги, книги... Да сколько же их? Не меньше сотни. Красавчик, что, ограбил библиотеку регента? В любом случае, вампир нашел идеальное место для хранения награбленного. Хотелось бы посмотреть на того сумасшедшего законника, что посмеет сунуться в гнездо Малиганов.
— Я много читаю, — пояснил Красавчик, заметив ее взгляд. — Это создает иллюзию жизни.
— Но... откуда?
— Лорд Фер был очень любезен.
Еще бы. Книжный Червь просто счастлив, если удается всучить кому-нибудь один из своих пыльных фолиантов. Даже если этот «кто-нибудь» — наглый самовлюбленный вампир.
«Ты не за этим сюда пришла.» Правильно.
— Где обитает Жан?
Красавчик покачал головой.
— Не здесь, миледи. Жан за последнее время несколько сдал. Вы заметили цепь?
— Элжерон приказал её сделать еще лет восемь назад. Но я не думала...
— Боюсь, на цепи Жан и останется — до истинной смерти. Увы, миледи. Даже слуги Малиганов не вечны...
Под старость упыри теряют разум. Превращаются в зверей. Интересно, на себе подобных они бросаются?
— Не боишься, что Жан свернет тебе шею? Он чудовищно силен.
Яким посмотрел на Лоту. В глазах Красавчика она уловила нечто странное — словно огромный провал. Потом все скрыла ирония.
— Не думаю, миледи. Жан меня любит.
— Откуда ты знаешь?
— Я даю ему кроликов — разве этого недостаточно?
Вампир-циник — это что-то новое. «Но ему удалось поразить тебя, девочка». Не правда ли?
— Это жестоко.
— Вы считаете? — Красавчик покачал головой. — Я даю ему кроликов по часам. Он все время голоден. В таком возрасте и в таком состоянии кровь нужна понемногу, но часто. Чем чаще, тем лучше. Жан очень старый, к тому же жить со скрижалями в груди... Понимаете, миледи? Серебро убивает Жана второе столетие подряд. Удивительно, что он вообще так долго протянул... Жан — разрешенный вампир.
— А ты — нет?
Красавчик улыбнулся.
— Понятно. И почему Элжерон...
— Кхм, — сказал вампир.
— Не Элжерон? Тогда кто? Корт? Лорд Молния никогда бы...
— Мне кажется, лорду Молнии понравилось это не больше, чем вам, миледи.
— Я не говорила, что мне это не нравится... Древоточец! Как я сразу не догадалась. Он тебя нашел?
— Ваша догадливость делает вам честь.
Слово «честь» вампир произнес слегка в нос — как делают южане.
Внезапно Лота поняла, что напоминает ей выговор Красавчика.
— Ты лютецианец?
Красавчик улыбнулся.
— Возможно, миледи. Не могу сказать точно. Вампиры плохо помнят жизнь до рождения.
— А ты... что ты помнишь?
Некоторое время Красавчик смотрел на Лоту. Молчал. «Я на самом деле хочу знать. Поверь мне.»
Вампир подошел к книжному шкафу. Повернулся к гостье спиной, игнорируя приличия. Со стороны казалось, что он читает названия на корешках.
— В основном: лица, — заговорил Яким. — Цвета. Иногда запахи. Это очень странно, миледи... Трудно объяснить. Запахи, просто запахи — отдельные, несвязные, они не образуют единой картины, как сейчас. Словно из другой жизни. Большинство вампиров не различает цвета, миледи. Запахи заменяют нам привычную картину мира, окрашивают все в один оттенок. Черный, серый, очень редко — желтый... И свет, который видят все вампиры — холодный, пугающий, безжалостный. Это серебро.
Красавчик помолчал.
— Красноватый свет, — сказал Яким. — Вот что мы видим. Любой из нас. Этот свет режет глаза, миледи...
Он повернулся, заставив Лоту отступить. В глазах вампира была боль.
— Вы знаете, что такое скрижали запрета? Это серебряные скобы — небольшие, размером с фалангу пальца. — вампир показал. — И серебра там совсем чуть-чуть — но у этих малышек огромная власть над такими как я… В Гетто это называется: «приютить Серебряного Джона».
Красавчик дернул плечом, сгорбился — стал в этот миг неуловимо похожим на старого Жана.
— Разрешенных вампиров немного. Им завидуют, их боятся. Они единственные, кто может выходить из Гетто. Слуги, привратники, ищейки, мясники. Иногда — солдаты. Попасть в диверсионный отряд мечтают многие. Там можно быть почти на равных...
Пауза.
— На равных с людьми, — закончил Яким. Поднял голову, в упор посмотрел на Лоту. Ну что, урожденная Малиган, читалось в его глазах, что ты на это скажешь?
«Ничего.»
— А ты? — спросила Лота.
— Я предпочитаю быть свободным.
— Но ты же служишь Элжерону?
Яким улыбнулся. Своей прежней издевательской улыбкой.
— Верно, миледи. Служу.
* * *
«Кроме орков, носферату и собак.»
Предупреждение на дверях общественной библиотеки Ура, Блистательного и Проклятого.
«Вампирам и собакам вход запрещен.»
Вывеска на входе в кабачок «Веселая гусеница».
«Гнилушки — вон из Ура!!!!!»
Надпись на стене Квартала Склепов.
6
Ужин был изумительно плох. Снова все выглядело, как на картинке, запах сводил с ума — но увы! Повар Элжерона продолжал ненавидеть человечество.
«Интересно, телятина-то в чем перед ним провинилась?»
Несмотря на голод, Лота смогла проглотить всего пару кусочков. Положила нож и вилку, отодвинула поднос. От горечи сводило язык. Сколько можно, в конце-то концов?! Надо пожаловаться кастеляну. Или пойти на кухню, найти повара и пристрелить на месте. А что? Вполне в духе семейных традиций...
Камень-сердце, конечно, нет! «Сварить в котле — вот стиль настоящего Малигана». Или там, превратить в коврик с глазами... А пристрелить — это детство.
Лота вздохнула. Живот подвело, как бывало раньше, когда заигравшись с Ришье и Гэвином, она пропускала разом обед и ужин. Тогда, помнится, очень выручал визит к кому-нибудь из родственников... К кому-нибудь не из самых жутких, конечно...
Хотя мама бы не одобрила, если бы узнала.
У каждого Малигана, жившего тогда в Логове, имелись свои повара и свои запасы еды. Семейная паранойя. В те годы, правда, Логово было гораздо более обитаемо...
Прийти в Логово решается далеко не всякий. Гнездо сумасшедших колдунов мало располагает к разговору о делах. А дела — это золото. И немалое. Время сейчас такое, что влияние клана держится не столько на Древней Крови и черной магии, сколько на деньгах. Все кланы это понимают. Слотеры делают магическое оружие. В этом они лучшие. Морганы — специалисты по Порталам. Специальность Треверсов — заклинания стазиса для армейского провианта, промышленных зомби и так далее...
Финансовая мощь клана Малиганов издавна держится на производстве големов.
Любые големы — от простеньких игрушечных до огромных Топтунов. Или, например, Плывуны, которых заказал флот Ура, Блистательного и Проклятого. Это тоже работа клана Малиганов. Железный великан вращает огромные колеса, которые толкают корабль вперед. Пока спушено на воду всего два судна, оснащенных Плывунами. Но вскоре, похоже, парусная эпоха закончится. Даже галерам и флейтам, на которых вместо живых гребцов — големы, придется потесниться...
Поэтому кроме Логова, у клана есть еще Малиган-Отель. Чистый и опрятный городок неподалеку от Ура. Там не свисают с потолка скелеты, а комнаты не норовят закусить неосторожным гостем...
В животе забурчало, и Лота сразу вернулась с небес на землю.
К кому бы сходить в гости?
«Ну уж не к Красавчику точно».
Ирен из деликатности не заметила, что гостья в одиночку опустошила блюдо с пирожными. Это было так... Это было вкусно! Лота пожалела, что пришла не к обеду. Придется довольствоваться малым.
— Еще шоколада?
— С удовольствием, — сказала Лота.
Ирен встретила ее на удивление радушно. Даже обрадовалась — хотя и с долей нервозности. Сначала Лота приняла это на свой счет. Потом догадалась. Дело в Рэндоме, сыне Ирен. Древоточец повел мальчика вниз, к Чертогу Тысячи Ответов. Они все еще не вернулись. Ирен за внешней оживленностью прятала тревогу...
Сейчас они уже больше часа пили шоколад, привезенный из Ханнарии, и болтали, как подружки. Сначала Лота слушала о Рэндоме, потом о Рэндоме, наконец снова о Рэндоме. Эта тема Ирен не надоедала. Какой мальчик хороший и умный, забавный и хитрый, ласковый и упрямый. Какой он обаяшка и какой у него волевой характер... Настоящий мужчина.
О Ришье, отце мальчика, не было сказано ни слова. Словно его никогда и не было.
— Будь осторожней, сестра, — сказала Ирен как бы между прочим. Лота насторожилась. — Элжерон что-то задумал. Возможно, это глупо... но я бы на твоем месте просто сбежала.
— Я понимаю, — сказала Лота. «Спасибо, сестра.»
Вдруг свет заморгал. Лота почувствовала нарастающую дрожь во всем теле... Погас фонарь, затем еще один. Потом все прекратилось. Свет вновь стал ровным.
— Очень близко, — сказала Ирен.
— Что?
— Дыхание. У Логова в последнее время плохое настроение.
Лота смотрела на Ирен и пыталась найти в себе ту неприязнь, что раньше заставляла её грубить сестре. Тщетно. Что-то изменилось.
Между ними больше не было Ришье.
7
Лота сняла фехтовальную маску и отсалютовала противнику. Потом вспомнила, что у нее мокрое лицо и отвернулась.
«Перед кем выделываешься, девочка?»
Перед вампиром?
У Лоты — боевая шпага, у Красавчика — учебная рапира. Лота — в защитном снаряжении, Красавчик фехтовал с открытым лицом. Впрочем, обычный клинок, без серебряного покрытия или наложенного заклятия, не мог причинить ему вреда. Уколы, нанесенные Лотой, вампир залечивал очень быстро. Да и не так их было много, этих уколов...
— Семнадцать-восемь, — сказала Лота. — Ты победил.
Ребра болели — несмотря на кожаный нагрудник. Лота представила, что случилось бы, если бы Красавчик бил в полную силу. При его скорости — это страшно. Ни один доспех не выдержит — конечно, при условии, что выдержит клинок... Недаром урские диверсионные отряды, набранные из вампиров, наводили такой ужас на лютецианцев. Впрочем, те быстро приспособились...
«Зануда Ришье».
Да, братец помешан на истории и военном искусстве. Лота вздохнула. «Иди к хаосу — из моей головы, Ришье!» Слишком часто она в последнее время о нём вспоминает.
— Вы хорошо держались, миледи, — сказал Красавчик за ее спиной. Было непонятно, говорит он серьезно или опять насмешничает. — Заставили меня попотеть.
Лота фыркнула.
— Я не шучу, — сказал Яким. — У вас есть стиль.
У кого стиль точно есть, так это у Красавчика. Его манера отличалась от той, что ставили Лоте, но была не менее эффективна. Так кто он был в прошлой жизни? Нобиль Лютеции? Или армейский учитель фехтования? Ну уж нет! Вампира отличали умение держаться и чувство собственного достоинства. В нём чувствовалась порода.
Лота подошла к столу. Выбрала полотенце и обтерла лицо. Они с Красавчиком убивали время по всякому. Насмешливые пикировки, разговоры об искусстве и политике, сплетни, книги, прогулки по Логову — теперь вот фехтование. А что будет дальше? Танцы? Ужин при свечах в фамильном склепе?
«Докатилась.»
Скорей бы уже Маран вернулся.
— Почему? — спросила Лота.
— Я предпочитаю черное, миледи. Труднее ошибиться. Вампирам, знаете ли, очень сложно выбирать гардероб. — Красавчик усмехнулся. — И еще сложнее с кем-нибудь советоваться... Еще вопросы?
Игра в «три честных ответа», была забавной. С вампиром особенно. Когда стемнело, они с Красавчиком вышли из Логова и расположились на вершине холма. Такое ощущение, что вокруг — только звезды. Лота сидела на траве с бокалом вина, а Яким расхаживал рядом. Хаос знает, что у него там в бутылке, но он порядочно захмелел. «Не меньше меня.»
Ладно, последний вопрос...
— Как ты попал на службу к Мокрой Руке?
— О! — Красавчик остановился. Лота против воли прыснула. Пожалуй, к необычной внешности дядиного дворецкого можно привыкнуть — в этом даже есть своя изюминка. Красота и уродство, слившиеся воедино. Вернее, сросшиеся...
— Это заслуживает отдельной истории, миледи, — сказал вампир. Приложился к бутылке.
— Как вы уже знаете, меня нашел лорд Маран. Но вы не знаете, где он меня нашел…
— И где же?
— В Квартале Склепов. В Гетто.
Лота подняла брови.
— Но... подожди, у тебя же нет скрижалей?
— Скрижали? — Красавчик сделал большой глоток. — Запрет на гипнотизирование, запрет на трансформацию, запрет на питье иной крови, кроме донорской, запрет на сотворение себе подобных... Святая кровь! Да я это наизусть помню. — он помолчал. — Видите ли, миледи. Пока я был молодым и неопытным носферату, на меня объявили охоту... Были причины. Мне пришлось бежать. Я оказался в Уре. Но это оказалось ничем не лучше...
— Почему? — спросила Лота.
Яким криво ухмыльнулся. Допил бутылку и отбросил в сторону, не глядя.
Помолчал.
— Вы знаете, как охотники находят вампиров? — глаза Красавчика отсвечивали в темноте. — Нет, не таких как я. Более старых, более слабых, более голодных... Мне повезло, что лорд Маран выбрал меня. Иначе я мог бы стать таким, как они. Это не слишком приятное зрелище, миледи. Вы заметили, у Жана почти нет нижней губы? Он стар и болен, плоть его разлагается... Мы называем таких вампиров «гнилушками». Эй, гнилушка!
В гетто это самое страшное оскорбление.
Охотники находят вампиров по звуку. Гнилушки всегда хотят есть. Даже во сне. Они лежат и жуют собственную плоть. Поэтому у Жана нет нижней губы. Но он еще не так плох. Я видел гнилушек, настолько обглоданных, что кости их казались скрепленными проволокой. Они могли только лежать и жевать. Чавк. Чавк. Чавк. Если вы услышите этот звук — где-то рядом вампир. Лежит в земле и ждет охотников. Возможно, для такого кол в сердце — наилучший выход...
Но охотники не заходят в Гетто.
Знаете, сколько «носферату» в городе, миледи? Примерно сорок тысяч. Ур, Блистательный и Проклятый, нашел когда-то решение проблемы вампиров — решение настолько же блистательное, насколько — я надеюсь! — будут прокляты те, кто это придумал... Максимилиан, прапрадедушка нынешнего короля, договорился с одной из вампирских семей. Это был союз равных — как думал Некромейстер. В знак доверия к людям, носферату носили серебряный знак — о том, что не будут превращать людей в вампиров. Так появилась первая скрижаль. Тогда, кстати, ее носили на шее, в ладанке, а не вживленной...
Король Макс был умным человеком. И, как впоследствии выяснилось, очень коварным. С помощью союзников он подчинил или уничтожил остальных вампиров. Освободил Ур от владычества мертвых, а во владение союзникам выделил землю, которая теперь называется Кварталом Склепов. Затем, постепенно, скрижалей стало больше. Две. Потом три. Но это уже было после смерти Максимилиана... При наследниках Макса появилась четвертая скрижаль. И постепенно Квартал Склепов стал таким, как сейчас. Земля вампиров превратилась в Гетто...
— И вампиры просто смотрели, как это происходит? — сказала Лота. — Не верю.
— Правильно делаете, — Красавчик усмехнулся. — Конечно, без протестов не обошлось. Были даже бунты. Вы знаете, что однажды Ур, Блистательный и Проклятый, целых две ночи принадлежал носферату? Кровью все улицы залили... идиоты!
Лота молча слушала.
— Но это неважно, — сказал Красавчик. — Важно другое. Все осталось по-прежнему. Я прожил в гетто два месяца. И я теперь знаю, куда попаду после истинной смерти... Это был ад, миледи.
В гетто я встречал вампиров, сражавшихся под знаменами легендарного Виктора Ульпина. Повелителей Крови, убивших больше людей, чем недавняя вспышка Желтой Чумы. Ветеранов, участвовавших в Войне Кланов, причем за стороны, название которых я даже никогда не слышал...
Они никому не нужны.
Они ни на что не надеются.
Груды мяса в номерных гробах.
— Вот так, миледи, — сказал Красавчик. — Вот так.
8
— Жан все время что-то жует, — сказал Половинчик, обходя комнату и зажигая факелы на стенах. В таком свете обиталище Жана выглядело особенно убого. И даже несколько зловеще. — Ему без разницы, что — урское жаркое или эребский ковер... Боюсь, с книгами Жан обошелся бы точно также — разве что они показались бы ему жестковатыми... А вот кроликов он любит. Правда, Жан? А ну скажи: кролик.
— Кэ-олик, — сказал Жан. Его глаза не отрывались от клетки. — Е-а!
— Молодец, — Красавчик открыл клетку и вытащил лопоухого. — Хороший мальчик. Держи!
Кролик, кажется, не совсем понимал, что его ждет. Даже когда оказался в скрюченных лапах старого вампира...
«Пугающая доверчивость.»
Жан заурчал.
Лота посмотрела на Якима. Тот стоял в тени, лицо его было отрешенным.
— Почему ты возишься с Жаном?
Красавчик пожал плечами. В его исполнении — одно плечо выше другого — движение получилось очень грациозное. Словно фигура экзотического танца.
— Думаешь, к исходу четвертого столетия я буду выглядеть лучше? — Красавчик без привычной улыбки смотрел на довольно урчащего Жана. Кролик отмучился, на белой шерсти остались следы грязных пальцев. Жан прижал добычу, сунул в рот пушистую лапу и принялся жевать. Лоту передернуло. Чавк, чавк, чавк... Красавчик не отводил взгляда. Не смотри, мысленно попросила Лота, не надо. Губы Красавчика на мгновение искривились...
— Сомневаюсь, — сказал вампир и отвернулся.
9
«Злобное и уродливое существо, эдакий горный тролль», оказался миловидной женщиной лет пятидесяти. Лицо у кухарки было круглое, на щеках — ямочки, как у человека, который часто и с удовольствием смеется.
«Надеюсь, не надо мной?»
— Чем могу служить, миледи?
Лота помедлила. Что-то здесь не так. Взгляд у кухарки был открытый и уверенный.
— Как ваше имя?
— Элис Харди, миледи. — кухарка смотрела с любопытством. — Вам понравился обед? Простите мою дерзость, но…
Лота растерялась.
— Мне сказали, для вас нужно готовить по особому рецепту, — кухарка выглядела уже не так уверенно. «Ах вот оно что!»
— Кто сказал? — «Кажется, я уже знаю ответ.»
— Лорд Маран, — ответила Элис Харди. — Что-то не так, миледи? Вы знаете, я редко готовлю с применением морской соли... Только для лорда Элжерона. Не уверена, что у меня получилось... Миледи?
— Вполне, — сказала Лота.
10
— Я принесла кролика.
Красавчик молча смотрел на девушку. Потом вдруг, решившись, взял с кресла шпагу в черных ножнах. «Вампирам очень сложно выбирать гардероб», — вспомнила Лота. «И еще труднее с кем-нибудь советоваться...»
11
Кролик был рыжий, а не белый, как в прошлый раз. Яким держал клетку на весу и ждал. Сегодня вампир был непривычно молчалив и серьезен.
Жан все не шел.
В комнату старого вампира они решили не спускаться — остались в зале, от которого отходили в стороны несколько туннелей. Стрелка Галлегенов? Хелленов? — Лота не помнила. Горели факелы, но в зале было темновато. Он представлял собой небольшой восьмиугольник, накрытый куполом с росписью. Полустертые черные фигуры изображали битву Малиганов с одним из исчезнувших кланов Древней Крови. Полулюди-полуволки, кошмарные твари со змеиными головами, гиганты и карлики, некроманты и колдуны, уроды и красавцы — сплелись в единой схватке.
Есть даже знакомые. Вон там, в углу — молодой человек с орлиным носом, в доспехах и с мечом — Элжерон. Его противник — человек-тигр. Тигр стоит на задних лапах, морда запрокинута, а через его голову проходит стилизованное изображение морской волны. Так мастер обозначил Талант Мокрой Руки...
«Кстати.»
— Элжерон приехал, — сказала Лота.
— Я знаю.
Вампир казался чем-то озабоченным. «Оставь его в покое, девочка.» Ладно.
Наконец, Лота услышала бряканье металла. Затем — шаркающие неровные шаги. Наконец из туннеля появился Жан. Старый вампир в красноватом свете факелов щурился — и выглядел еще более уродливым, чем обычно. Сплюснутый низкий лоб...
— Жан, ко мне, — негромко приказал Красавчик. Он поднял клетку повыше — старому вампиру пришлось задрать морду, чтобы принюхаться. Рыжий кролик в панике забился в угол. «Вампиры чувствуют запах крови», вспомнила Лота. Для них он всегда разный. И поэтому они никогда не спутают одного человека с другим.
— Е-а! — сказал Жан довольно. Потянулся к клетке...
И тут Красавчик его ударил.
Жан отступил на шаг и заскулил.
— Иди сюда, — сказал Яким. Жан неуверенно приблизился. Серый, жалкий... отвратительный...
«Камень-сердце!»
Красавчик снова ударил. Старый вампир упал. Движение дворецкого было таким быстрым, что Лота видела только смазанную тень...
Она наконец пришла в себя.
— Прекрати! Я приказываю!
Красавчик медленно повернулся. Глаза — темные провалы.
— Он даже не вампир, — сказал Яким. Лота отшатнулась. — А уж человеческого в нем и подавно ничего не осталось. Кого ты жалеешь? Это тварь. Тупая голодная тварь.
Он повернулся к Жану и сказал громко:
— Эй, гнилушка!
Ничего не случилось.
Красавчик снова повернулся к Лоте.
— Видишь? В гетто меня бы уже...
Рычание.
В следующий момент Жан оказался рядом с Красавчиком. Поднял молодого вампира над головой, словно тот был невесомым, и — швырнул через весь зал. Глухой стук. Яким врезался в стену, упал на землю, как мешок с требухой — и остался лежать. Клетка тоже отлетела — но не сломалась, только перекосилась. Рыжий кролик внутри бился и верещал.
Лота замерла. «Какого?!»
Потом выхватила пистолет. Так, взвести курок... серебряная пуля...
— Жан, перестань! — закричала она.
Старый вампир не обратил на неё внимания. Оскалился и зарычал. Потом переваливающейся обезьяньей походкой двинулся к Якиму, волоча за собой цепь...
Лота вскинула пистолет. Прицелилась Жану в ногу. А, хаос! Кого это остановит! Подняла пистолет выше, чтобы попасть в тело. Помедлила, задержала дыхание... Нажала на спуск. Вжж. Щелк...
Жан шел.
Осечка!
— Плохой мальчик, — сказал Красавчик, пытаясь подняться. Выглядел он неважно. Левая рука выгнулась под странным углом. — Ничего не получишь.
— Красавчик, хватит! — крикнула Лота. Заново взвела курок. Порохового рожка у нее с собой не было. Оставалось надеяться, что пистолет все же выстрелит. — Не дразни его, идиот!
— Скажи: кролик! — Яким попытался ударить старого вампира, но промахнулся. В следующее мгновение его вздернули вверх...
— Ни гни-у-шка! — сказал Жан.
— Значит, гордость у тебя все-таки осталась? — Яким начал смеяться. Жан мотал его как пес кошку, а Красавчик хохотал. Неровный свет факелов превращал эту картину в уродливое, но завораживающее зрелище. Мистерия. Черно-красное, с резкими тенями...
Лота прицелилась. Камень-сердце! Получится... я знаю, у меня получится...
Жан отбросил Красавчика к стене. Оскалился. Пасть у него была вымазана кровью.
Лоту охватила дрожь. Ствол пистолета ходил ходуном. Она положила пистолет на локоть левой руки, прицелилась...
Пламя факелов вдруг задергалось...
Получится!
Лота плавно потянула спусковой крючок...
Факелы разом полыхнули и — погасли. Дыхание Логова. Все дети Малиганов о нем знают.
Темень.
Остановить выстрел она уже не могла. Вжж. Бух! Темноту разорвало вспышкой. Тугой и резкий звук. В краткое мгновение Лота заметила горбатого Жана и лежащего Красавчика... Как на картине Питера Брайгеля... Темнота.
Перед глазами — скачут пятна. От выстрела Лота почти ослепла. Сердце бешено колотится. Невыносимо пахнет порохом.
Дрожь стала болезненной. Казалось, сердце вот-вот остановится...
И тут дрожь оборвалась. Стало тихо.
«Попала или нет?»
В наступившей тишине было слышно, как где-то течет вода. Лота замерла. Кап. Кап. Шшшш.
«Красавчик, ты — тупой ублюдок!»
Сейчас она была беспомощна. Вокруг — густая тьма со всполохами пятен. Лота знала — эти пятна существуют только в её воображении. В отличие от многих из своей семьи, она плохо видела в темноте... если только...
Удар.отличие многих из клана, она плохо видела в темноте...
Дико закричал Яким. Лота почувствовала, как волосы на затылке встали дыбом.
«Я ненавижу тебя, Красавчик!»
Кажется, он достаточно ее разозлил.
Она вслепую побежала вперед, повторяя про себя: тупой ублюдок, тупой уб...
Крик.
Лота почувствовала, что изменяется. Обычно это был взрыв — и жуткая боль. Сейчас — мягкое перетекание. Словно вся она — расплавленный металл, который переливают из одной формы в другую... Вот, вот...
Перелили.
Лота встала на все четыре лапы, ударила хвостом и зарычала.
Темнота стала прозрачной.
Теперь она видела все.
...Плечо разорвало болью.
Жан, хоть и старый, но все же оставался вампиром. Даже пантере с таким сложно справиться. Лота отлетела, ударилась о землю, вновь поднялась и изготовилась к атаке. Плечо стало горячим. По черной шкуре потекла кровь.
Жан стоял, оскалив клыки. Изуродованный, с вытекшим глазом. Уцелевший глаз горел желтым огнем. Позади вампира куском фарша лежал Яким...
Лота зарычала.
За спиной Жана поднялся Красавчик. Лота не знала, чего ему это стоило. Кости так быстро не сращиваются — даже при его способности регенерировать. Лицо залито кровью. Он коротко замахнулся...
Ударил.
Жан завизжал так, что заложило уши. А потом умер.
Ребра болели — несмотря на кожаный нагрудник. Лота представила, что случилось бы, если бы Красавчик бил в полную силу...
«А если у него не будет шпаги?»
Яким посмотрел на Лоту.
— Миледи, — сказал Красавчик. Поднял правую руку. Она дымилась. Яким разжал пальцы — на ладони лежала сплющенная серебряная пуля. Плоть вокруг почернела и слово бы тлела изнутри. Из трещин сочился вязкий дым.
— Вот так, — сказал вампир. И упал.
РЫЦАРЬ-В-БИНТАХ
Моё сердце стучит.
Только ты.
Только ты.
Только. Ты.
Я поднимаю лицо навстречу каплям. Смотрю в черное небо. В глазах плывет, словно кто-то там, наверху, прицельно поливает меня из медного чайника с узким носиком...
Змеится молния.
Я жду, когда ударит гром.
Будду-бу-дых! Гром.
Человек с медным чайником смотрит на меня с высоты. Маленькая фигурка на огромной скале. Плащ развевается, бьется, как язычок пламени. Черного пламени. Наверное, это ветер. Наверное, это дождь. Я не знаю.
Молния.
Будду-бу-дых! Гром.
Я стою, запрокинув голову. Бинт на лбу размотался и мешает смотреть.
Самое время обратиться с молитвой. Так, наедине с небом, молились древние святые. И бог отвечал. Давай, Самтори, чего ты ждешь?..
Чего ты хочешь?
Справедливости?
Покоя?
Тихого семейного счастья?
Я не знаю.
Ветер треплет бинты. Дождь заливает глаза. Человек с медным чайником смотрит с небес...
Я спрыгиваю на песок и бегу. Фамильный двуручный меч лежит у меня на плече. На лезвии меча — ржавчина. Я знаю: это неправильно. И вместе с тем: все верно...
Мое оружие должно быть именно таким.
Бинты намокли и стали тяжелее. Я набираю скорость. Медленно, как поезд, уходящий со станции. Чух! Чух! Чух-чух! Чух-чух-чух-чух! Чух-чух-чух-чух!
Туууу!
Слева шумит море. Волны накатывают на песок, хватают за ноги. Я бегу.
Ветер упирается в плащ, тормозит меня, словно это парус. Скидываю плащ. Он черной вспышкой исчезает позади.
Чух-чух-чух-чух!
Наверное, мне должно быть холодно?
Я знаю: мне холодно.
Почему же я ничего не чувствую?
Я не знаю.
Бегу.
Во вспышке молнии возникает замок. Две каменные башни с бойницами и ажурными балконами. Замку четыреста лет. Стены не видели осады уже лет триста...
Этот замок — мой.
Я веду осаду.
Я один.
Я стою у стен, я рою подкопы, устанавливаю и направляю осадные орудия. Я высылаю парламентеров и вешаю шпионов. Я иду на приступ, закидываю фашинами рвы, приставляю лестницы. Лезу в штыки, ору во все горло, размахивая знаменем. Получаю прикладом в лицо и, падая вниз, разбиваюсь насмерть. Я трушу и прячусь за спины товарищей, стою на ослабевших ногах, впадаю в панику и бегу. Меня награждают за храбрость. Списывают из армии, как инвалида, я уезжаю и спиваюсь...
И расстреливают перед строем за дезертирство тоже меня.
Этот замок — мой. И враг в нем — мой.
Всю жизнь я чего-то боялся.
Теперь боятся меня.
— Он здесь! — кричит часовой, когда я закидываю себя на стену. Это солдат из городской охраны — я вижу мундир с эполетами. Солдат вскидывает ружье... целится...
Не успевает.
Прости, солдат.
Гремят выстрелы. Вспышки слева, справа... сверху...
— Прекратить огонь! — раздается спокойный голос. Выстрелы смолкают. — Принесите фонари! Больше света! Он где-то здесь... Ищите!
Сейчас меня обнаружат...
Я подхватываю тело солдата, поднимаю над головой и швыряю. Глухой удар.
— Боже!
Я беру меч наизготовку и прыгаю со стены...
Всю жизнь я надеялся на тебя.
На твое милосердие.
Теперь я молчу.
Где твоя справедливость, человек с медным чайником?
Почему ублюдки живут, и им достается все? Почему добрая и честная девушка, на свое несчастье родившаяся красивой — должна пасть жертвой распутника и труса?
Почему Тебя не было рядом?
Почему не было меня?
Я не чувствую капель, что текут сейчас по моему лицу. Я давно уже ничего не чувствую. Дождь плачет за меня. За нас, за всех. За ту девушку...
У меня осталось не так уж много времени.
— Какой он был, этот Самтори?
— Чудак. Книги читал, в доспехи рыцарские наряжался...
— А что говорят соседи?
— Говорят, добрый был...
— Добрый? А половину солдат майора Бенкши он тоже по доброте душевной уложил?!
Молчание.
— Мои ребята уверены, что это призрак.
— Простите, инспектор, вы серьезно?
— Я в призраков не верю, милорд. Но...
— Что «но», инспектор?
— Он увлекался раскопками. Говорят, он даже что-то нашел... Как раз перед самым исчезновением...
Я лежу на крыше, смотрю в небо.
Будду-бу-дых! Гром.
Рядом лежит меч, покрытый ржавчиной. Капли бьются о лезвие.
Человек с медным чайником смотрит на меня с небес. Здравствуй, Самтори, говорит человек. Как ты, Рыцарь-в-Бинтах?
Я молчу. Теперь я всегда молчу, когда он со мной разговаривает.
Когда-то я верил в лучшее. Ведь должна же быть на земле доброта и свет? Если есть зло, должна быть и сила, которая от зла защищает? Должны же, мать их так, быть рыцари?!
— Он спрятался где-то в замке, милорд.
— Откуда он знает мой дом?
— Самтори когда-то бывал у вас в гостях. Уверен, как человек, увлеченный военной историей и средневековьем, он разглядел здесь все. Вот, посмотрите... Это не самый удачный портрет, но здесь Самтори изображен в фамильных доспехах.
— А! Кажется, припоминаю. Он тогда тоже в доспехах приехал. Как на маскарад, представляете, инспектор? Герб с какой-то невзрачной серенькой птичкой... воробей? Нет, что-то другое. Перепелка? Доспехи, кстати, рухлядь совершеннейшая...
...Вслед за мной в кабинет вбегает человек в костюме и котелке. В руке у него револьвер.
— Полиция! — кричит человек. — Бросьте оружие, Самтори! Я буду стре...
Ваза эпохи Цинь отбрасывает полицейского в угол. С грохотом рушится этажерка с драгоценными статуэтками. Однажды я бывал здесь гостем. И помню, тогда многое бы отдал за возможность рассмотреть коллекцию получше...
Сейчас под моими ногами хрустит фарфор.
Я иду.
Я все ближе.
— Инспектор, вы, кажется, меня не очень любите?
Молчание.
— Вы правы. Не очень.
— Извините за любопытство, инспектор. Но почему?
— Я расследовал дело об убийстве в Крокет-виль.
Молчание.
— А, та бедная девушка...
— Какой-то ублюдок изнасиловал ее и убил... Какой-то очень богатый и влиятельный ублюдок, милорд.
— И что, инспектор?
— И ничего, милорд.
Мне на спину прыгает еще один. Я отпускаю меч, хватаю противника за запястья... с размаху бьюсь спиной о стену. Полицейский хрипит. Я делаю два шага вперед... отталкиваюсь и вновь — стена.
У полицейского вырывается стон.
Хватка его слабеет, он падает на пол.
Вперед!
Подбираю меч. Сжимаю рукоять двумя руками — из-под бинтов сочится желтая гниль. Запах, должно быть, жуткий...
Хорошо, что и запахов я тоже не чувствую.
Выстрел.
Сильный толчок в левое плечо. Я с трудом удерживаю равновесие. Боль появляется где-то в глубине руки...
В дверях, озаряемый вспышками молний, стоит человек с револьвером.
— Вы и есть Самтори?
У человека тонкое бледное лицо, темные волосы. Лорд Руперт собственной персоной.
Я делаю шаг вперед...
Выстрел.
Почему-то оказываюсь на коленях. Огонь горит внутри меня, вытягивает мне внутренности крюком мясника. Я отвык от такой боли...
Я — Гнилой рыцарь, но мне так больно!
Меч лежит передо мной на полу, среди стеклянных осколков.
— Вы уязвимы, — говорит лорд Руперт. — Что ж... тем хуже для вас, Самтори. Оборотень вы или нет — в моем револьвере серебряные пули. Но прежде чем покончить с вами, я хотел бы задать один вопрос...
Я молчу. Надо попробовать дотянуться до меча. Успею ли? Проклятый ублюдок неплохо стреляет.
— ...один вопрос. — Руперт подходит ближе. Ступает он мягко, с грацией уверенного в себе хищника.
Мы смотрим друг другу в глаза.
— Спрашивай, — едва слышно сиплю я. От моего горла мало что осталось. От меня вообще мало что осталось. Лепра — страшная вещь.
— Она... — говорит Руперт. Глаза его мерцают. — Она не придет?
Какой-то ублюдок изнасиловал ее и убил... Какой-то очень богатый и влиятельный ублюдок, милорд.
Выстрел.
Глаза Руперта на мгновение расширяются... Потом Руперт падает.
За его спиной стоит окровавленный инспектор с револьвером. Он весь перекошен. Похоже, я сломал ему пару ребер...
Пожар в животе становится невыносим.
Полицейский вновь поднимает револьвер. Черное дуло смотрит на меня.
— Мои люди утверждают, что вы призрак, — говорит инспектор. — Это правда?
Если есть зло, должна быть и сила, которая от зла защищает? Должны же, мать их так, быть рыцари?!
Я улыбаюсь. Впервые за долгое-долгое время...
ЭЛЬФЫ НА ТАНКАХ
— Тьен а-Беанелль, — сказал Дмитр, не открывая глаз. В левом виске билась жилка. — Танцующий в лучах солнца. Красиво, а? Одуванчик по-нашему. Вторая бронетанковая... там у них каждый батальон — по цветку называется...
— Эльфы?
— А кто еще? Пиши, Петро. Танковый батальон проследовал в направлении... сейчас, сейчас... поднимусь повыше... в направлении Оресбурга... записал?
— Ага.
— Не ага, а «так точно». Что написал?
— Посадили вторую грядку настурций, урожай повезем тете Оле. Целую, Фима.
— Молодец.
...Выйдя из транса, а точнее, вывалившись из него как мешок с овсом, Дмитр заставил себя открыть глаза. Мир вокруг качался. Сбросив с себя надоедливые руки (держи его! ну что ж ты! покалечится еще! держи!), сделал шаг, другой. Белый снег, черные проталины, темно-зеленые, почти черные ели... И бледно-голубое, совсем уже весеннее небо. Дмитр понял, что лежит. Над ним склонились двое. Потом подняли... Потом понесли...
Проснулся Дмитр уже после полудня. Под слегка ноющей головой — вещмешок. Рядом над костром — котелок с варевом, откуда шибает сытный мясной дух.
— Наконец-то, — сказал женский голос. — Очухался...
Получасом позже Дмитр сидел у костра и хлебал из котелка горячее варево. Сканья, снайперша отряда, чистила арбалет. Девушка в мешковатом маскхалате грязно-белого цвета, пепельноволосая, с четкими чертами лица. На вид ей можно было дать лет двадцать. Это если не заглядывать в глаза...
Петро спал, повернувшись спиной к огню.
Из леса показался Ласло, махнул рукой. Дмитр нахмурился. Дохлебал в ожидании новостей остатки бульона, выпрямился. Ну?
— Меня Сулим прислал, — начал Ласло обстоятельно. И вдруг не выдержал, перешел на щенячий восторженный тон: — Мы нашли!
— Сколько? — Дмитр отставил котелок. — Кто такие? Не из Лилий?
— Не-а! Бог миловал. Один эльф. Один одинешенек!
— Вкусная рыба, — сказала Сканья с нежностью. Облизнулась. Если бы эльф увидел девушку в этот момент — он побежал бы. И бежал бы, не оглядываясь, долго-долго... Вряд ли она знает, насколько кровожадно выглядит.
— Командир, можно я? — лицо Сканьи стало просто страшным. — Я его, гада...
— Отставить, — сказал Дмитр. — Сканья, Петро, при лагере... Это приказ, Сканья! Ласло, веди. Пойдем глянем на вашего эльфа...
Эльф был один. Совершенно. Посреди леса. В полной форме темно-синего, с фиолетовым отливом, цвета. Что автоматически зачисляло эльфа в покойники...
— Киль, — сказал Дмитр, не веря своим глазам. Оторвался от бинокля, посмотрел на Ласло, потом на Сулима. — Не может быть.
— А я что говорил? — откликнулся Ласло. Он прижал арбалет к плечу, приник к окуляру снайперского прицела. — Магической защиты — одна целая, три десятых.
— Он что, от комаров заклятье наколдовал?
— А бог его знает, — Ласло пожал плечами. — Может, он того... заблудился. А комары кусают. И наплевать им, что сейчас весна, а не лето.
— Больше никого? — Дмитр все еще не верил. — Вдруг это засада? На приманку нас взять хотят или еще как... Сулим?
— Нету никаво, — штатный разведчик группы всегда разговаривал, словно с кашей во рту. Но уж разведчик был отменный. Да и боец, каких поискать. Угрюмый и молчаливый, с виду медлительный, в бою Сулим действовал невероятно быстро и точно.
— Тогда что он здесь делает? — Дмитр снова взял бинокль. Эльф, светловолосый, с точеными чертами лица, казалось, никуда не торопился. Просто сидел на пеньке и наслаждался природой. — Как бы выяснить?
— Килей в плен не брать, — сказал Ласло.
— Знаю.
На восьмой год войны у воюющих сторон появился целый кодекс, помимо официальных Устава у людей и Чести у эльфов. Эльфы назвали это Сиет-Энне — Внутренняя Честь. Одно из правил касалось вопроса, кого стоит брать в плен. Бойцов элитной Киен а-Летианнес — Цветущей Сливы — не стоило. Ни при каких обстоятельствах...
— Точно киль.
— Это офицер! — сказал Ласло, чуть не подпрыгивая от возбуждения — Причем штабной, зуб даю. У него плющик по рукаву... синенький такой. Я его сниму, командир, а?
— Синенький?, — Дмитр задумался. Он неплохо разбирался в эльфийских званиях и родах войск, но это было что-то новое. Может, снабженец? Или заместитель Второго-из-Ста? Ага, щас. Размечтался. Скорее старший помощник младшего дворника... Вот бы выяснить, но...
— Командир?
— Отставить стрельбу, — сказал Дмитр наконец. — Будем брать языка.
Ласло сперва не понял.
— Командир, ты чего? Киля?!
— Выполнять. Сулим...
Разведчик кивнул. Возмущенный Ласло, получив кулаком под ребра, сразу замолк и проникся. Тоже кивнул. Дмитр оглядел бойцов, остался доволен. Хорошие ребята.
— Стрелометы оставить. И чтоб ни звука у меня... Действуйте.
— Не в первый раз, командир, — сказал Ласло.
* * *
Эльф смотрел без всякого страха. Руки ему развязали, усадили на землю около костра. Лицо чистое и красивое, легкий синяк на лбу его совсем не портил.
— Ваше имя, звание, часть? — начал допрос Дмитр. Вряд ли эльф заговорит, но кто знает? Впрочем, даже если будет молчать... Всегда есть средство.
— Tie a-bienne quenae? — поинтересовался эльф, растирая затекшие кисти. «А кто спрашивает?» Голос у него оказался высокий и чистый, очень приятный.
— Это неважно, — сказал Дмитр. — Отвечайте на вопрос.
— Не имею желания, — эльф говорил почти без акцента.
Петро, как самому здоровому, было приказано удерживать Сканью подальше. Как средство устрашения, Сканья не знала себе равных, но — всему свое время. Зря эльф улыбается. Самое интересное: лицо с виду каменное, но ведь видно — улыбается. Порода, воспитание. Уметь надо... Молодец, что сказать.
Только Сканья и не таких обламывала.
— Повторяю вопрос. Ваше имя? Звание? Часть? — произнес Дмитр раздельно. Эльф молчал. Сейчас, решил Дмитр. Кашлянул, подавая Петро сигнал. Петро, поскользнувшись, упал на колено. Сканья рванулась в очередной раз, и — вдруг оказалась на свободе. Постояла секунду, еще не веря...
— Я тоже повторяю вопрос, — сказал эльф. — А кто спра...
Какая-то сила швырнула его на землю, ударила, сжала коленями. Сканья оказалась верхом на эльфе, вцепившись ему в ворот формы. Затрещала ткань.
— Люди, ублюдок! — Сканья выкрикнула это эльфу в лицо. Он мотнул головой в шоке, попытался встать... Нашел глазами Сканью... И очень быстро пришел в себя. Невероятное самообладание. Вот это зверюга! — Дмитр против воли восхитился.
— Люди? — эльф просмаковал это слово, словно глоток редкого вина. Посмотрел снизу вверх прямо в искаженное лицо девушки. — Люди — это хорошо. Я скажу. Меня зовут Энедо Риннувиэль, звание Детаэн-Занаи-Сэтимаэс, часть Киен а-Летианнес, подразделение Сотмар э-Бреанель.
— Как? — такого подразделения Дмитр не знал.
— У людей ближайшим аналогом является политическая разведка, — пояснил Энедо. — Эльфийское понятие несколько шире, но — смысл тот же. Я один из высших офицеров в разведслужбе вашего врага. Это понятно? И я требую встречи с командованием.
— Чьим? — спросил Дмитр тупо.
— С вашим, конечно.
Вот это номер! — подумал Дмитр. — Вот. Это. Номер.
— Вы должны рассказать все, что знаете, — сказал Дмитр. — Иначе Сканья сделает с вами такое...
— Эта милая девушка? — эльф, кажется, наслаждался эффектом. Улыбнулся. Сканья тут же ударила его головой об землю. — А, dieulle! За что?
— Эта милая девушка, чтобы вы знали, вынесла такое, что вам и не снилось. Когда-то эльфская карательная бригада прошла через родной городок Сканьи... Знаете, как он назывался, Энедо? Я вам скажу. Гедесбург.
Эльф замер. Потом вдруг сделал такое... Он поднял правую руку и провел девушке по щеке. «Самоубийца!»
— Прости, маленькая, — сказал эльф искренне.
... — Вы — идиот, — сказал Дмитр жестко. Эльф сидел перед ним, потирая шею. На коже — синие следы пальцев. Энедо повезло. Сканья могла и зубами. — Зачем было провоцировать девчонку? Мало над ней поиздевались?
— Я хотел попросить прощения.
— Удачный момент вы, однако, выбрали. Вашу мать, разведчик! Тоже мне...
— Я знаю. Но для нее лучше мгновенная вспышка, чем медленное горение, — эльф посмотрел Дмитру прямо в глаза. — А вам, командир, не стыдно? Я враг, это понятно. Но вы? Это же ваш человек. Девушка сгорает изнутри. У нее в глазах — багровые угли. А ее еще можно спасти...
— Ваша эльфийская поэтичность может отправляться к черту.
— А скоро будет — серый пепел. И тогда все.
— Да пошел ты!
Небольшой отряд второй день полз по лесам. Эльф не мог идти быстро, а за Сканьей нужен был глаза да глаз. Отношение к эльфу в отряде становилось все хуже. Киль в плену? Дмитр начал опасаться, что доводы Сиет-Энне, Внутренней Чести, окажутся сильнее доводов разума. Да, высокий чин эльфийской разведки. Да, награды и звания в будущем. Да, добыча велика, но — то, что проклятый эльф оказался в форме Цветущей Сливы... Идиот, не мог одеться на лесную прогулку попроще? Ласло, Петро, даже Сулим, не говоря уж о Сканье, смотрели на эльфа волками.
На вечернем привале Дмитр опять сидел рядом с эльфом. Как-то само собой получилось. Плохое предзнаменование.
— Вы не хотите еще раз задать свой вопрос, командир? — спросил вдруг эльф тихо. Казалось, лицо его обмякло, стало вдруг не таким точеным, не таким совершенным. Более... более человеческим.
— Какой?
— Про имя, звание и так далее.
— Зачем? — удивился Дмитр. — Вы же ответили? Или... нет? Вы солгали, Энедо?
«Он — писарь из какого-нибудь захолустного гарнизона. Тогда его убьют прямо здесь. И я не успею вмешаться. А захочу ли?»
— Вы солгали, Энедо?
Глаза, понял Дмитр. Меня тревожат его глаза... Словно у него тоже — багровые угли...
— Не совсем. Я сказал правду... только не всю, — эльф колебался. — Вы можете повторить вопрос?
— Хорошо. Ваше имя, звание, часть?
С минуту Энедо молчал. Лицо его... никогда не видел таких интересных лиц, думал Дмитр. Оно словно на глазах меняет возраст. То двадцать-двадцать пять, а то и все семьдесят. Это если мерить человеческими годами... А если эльфийскими...
Додумать Дмитр не успел. Энедо заговорил.
— Меня зовут... мое имя... — эльф сглотнул. — Нед Коллинз из Танесберга.
— Что?!
— Звание: капитан... Часть... Второе Разведывательное Управление его... его Величества короля Георга. Третий отдел: внешняя разведка. Группа внедрения.
— Ты работал на наших? Ты? Эльф?
— Человек, — слово далось Энедо с трудом. — Я — человек. Среди людей.
— Не может быть!
— Я так хочу домой, — Риннувиэль наклонился вперед. Отсветы от костра сделали его лицо лицом старика, а виски седыми. — Я так давно не был дома... Люди людей не бросают, правда?
Партизаны молчали.
— Я ему не верю, — сказала Сканья тихо. Потом вдруг закричала: — Я не верю! Не верю! НЕ ВЕРЮ!!
— Так давно... — повторил Энедо.
Третий день. Весна вступала в свои права, но в лесу снег тает очень поздно. Эльф (человек, мысленно поправился Дмитр, Нед) провалился по пояс в вязкую белую кашу. Вытаскивать эльфа пришлось Дмитру. То, что пленник — человек под маской эльфа, почти ничего не изменило. А как проверить? Доставить пленника в штаб. А когда собственный отряд не очень-то хочет в этом помогать? Что делать командиру?
Дмитр шел замыкающим. Вдруг командир заметил, что Ласло как бы случайно отстал. Сейчас начнется, подумал Дмитр.
— Ты веришь эльфу, командир? — Ласло, как всегда, сразу взял быка за рога.
— А ты?
— Он же киль. Он, гад, умный. Кили знают, что мы их в плен не берем. Что это наша... как ее, Сьет-Энне.
— Внутренняя Честь.
— Во-во, командир. Он знает, мы знаем... Вот он и выкручивается, как может. Человек, а выдает себя за эльфа... Тьфу! Да какой он человек? Такого эльфа еще поискать. Нутром чую, он нам еще подлянку подкинет!
— Знаешь, Ласло. Я вот думал, а что значит: внутренняя честь.
— Ээ... — Ласло моргнул. — Ну, обычная честь, только... ээ... для своих.
— Для своих? — Дмитр невесело усмехнулся. Слова Энедо не выходили из головы. Проклятый эльф. Как все было просто и ясно... — А к чужим можно и бесчестно? Так, что ли?
Ласло растерялся.
— Командир... ты чего?
— Ничего. Капрал Ковачек, встать в строй.
— Есть.
На вечернем привале Энедо с легким стоном опустился на землю. Вымотался. Горожанин, что с него возьмешь...
— Что эльф, устал? — Сканья смотрела с вызовом. — То ли еще будет.
— Я человек.
— Неправда! Я тебе не верю!
— А это уже неважно, — сказал эльф спокойно. — Важно, чтобы я сам в это верил.
Сканья замолчала и отвернулась. Энедо усмехнулся и повернулся к Дмитру.
— Я смотрю на вас, командир, и — завидую. Как вам все-таки легко.
— Легко?
— Не понимаете? Вы — люди среди людей. Вам не нужно сомневаться. Для вас нет вопроса: кто я? эльф, человек, полуэльф, получеловек. На той стороне то же самое. Эльфы среди эльфов. Это так легко, так просто. Я бы назвал это расовой определенностью. У меня все по-другому. Я родился человеком, а с двенадцати лет воспитывался как эльф. И не только воспитывался. Это военная тайна, конечно, — Энедо невесело усмехнулся, — но эльфы отличаются не только воспитанием. Физиология. Ее ведь тоже пришлось подгонять.
— И скоро вам исполнится четыреста лет?
— Нет, конечно, — Энедо улыбнулся. — Лет семьдесят буду выглядеть молодо, а потом сгорю за месяц-полтора. Оправданный риск.
— Я вам не завидую.
— Зато я завидую вам... Знаете что, командир, — Энедо на секунду задумался, взял шинель, собираясь завернуться в нее и заснуть. — Пожелайте мне легкой жизни, пожалуйста...
* * *
Из-за деревьев возник Сулим, подбежал к командиру.
— Дмитр, ты... я... короче, чешут за нами.
— Уверен?
— Да.
Почему-то угрюмому и косноязычному Сулиму верилось сразу. С полуслова.
— Кто?
— Страх-команда. Больше некому.
Позади чертыхнулась Сканья.
— Страх-команда? — негромко переспросил эльф. Лицо его выражало вежливое непонимание. В самом деле? — подумал Дмитр. — Или понимает, но не подает вида? Хотя что он может знать про страх-команду? Штабной. Городские почему-то думают, что в лесу легко спрятаться. Ничего подобного... Лилии партизанскую группу в два счета найдут, если уж на след напали.
— Егеря из Лиловых Лилий, — пояснил Дмитр. — Все поголовно охотники, следопыты, ну и так далее... Отборные ребята. В лесу они лучшие.
— После вас?
— Если бы это был наш лес, — вздохнул Петро. — Проклятье!
— Спокойно, — сказал Дмитр. — Они тоже здесь чужие. Это уравнивает шансы. Если это обычная страх-команда, там человек десять, не больше. А у них тяжелый стреломет. Мы сумеем оторваться. Они не выдержат темпа.
— Эльф не умеет ходить по лесу, — сказала Сканья. Это звучало как приговор. — Придется его оставить.
Дмитр посмотрел на своих людей. Ласло отвел взгляд. Сулим: «Как скажешь, командир.» Петро молчал. Сканья высказалась. Остается Энедо... Нед. «И я сам.» — подумал Дмитр.
— Вы командир, вам решать. Я подчинюсь вашему решению.
...Я так хочу домой.
Дмитр вздохнул.
— Хорошо. Эне... Нед идет с нами. Мы сумеем оторваться.
...Все казалось сном. И даже когда Сулим огромными прыжками помчался к ним, на бегу перезаряжая стреломет и крича:
— Ельвы! Язви их в корень! Ельвы!!
Энедо Риннувиэль не сразу понял, что «ельвы» это искаженное «эльфы» — а, значит, Лиловые Лилии все-таки их догнали. И будет бой...
А он всего в двух шагах от дома.
...Дмитр посмотрел на Энедо снизу вверх. Красивый, черт возьми... и настолько эльф! Даже страшно.
— Уходи, идиот! Ты почти дома, ты понимаешь?!
— Я — человек, — сказал Риннувиэль. — Люди людей не бросают.
— Еще как бросают! — закричал Дмитр. От потери крови голова стала легкой-легкой. — Еще как бросают! Ты идиот, Энедо! Ты придумал себе людей! Мы не такие, понимаешь?! Мы — не такие.
— Я такой, — спокойно сказал Энедо. Поднял стреломет Дмитра, улыбнулся. — До встречи на том свете, командир... Да, хотел спросить. Я же человек, правда?
Дмитр посмотрел ему в глаза:
— Правда.
ОДНАЖДЫ В ДАЛЕКОЙ, ДАЛЕКОЙ ГАЛАКТИКЕ
СКОРО ДЕМБЕЛЬ
Капля сорвалась с потолка и со щелчком размазалась по бетону.
— Еще раз, — сказал человек в шинели. Голос у него был сиплый и отдавался эхом в пустоте подвала. Глаза светлые. Черные волосы с проседью. — Называете свои фамилия-имя, полных лет. Город и где работали. Все понятно?.. Не слышу.
«Так точно», нестройно прогудел строй. Сейчас прикажет повторить, подумал Матвей. Наш военрук всегда приказывал. Добивался единого слитного рыка. С-сука. Придешь со смены, а он: ну, еще раз. Потом спрашивал: что, мало каши ели?
Вместо этого человек в шинели сказал:
— Начнем с тебя.
Худой паренек в серой майке и синих спецовочных штанах. От холода он сутулился и казался гораздо ниже своих метра семидесяти.
— Крашенич Гнат, — сказал паренек. — Город Визима. Бывший старший токарь на хтонической фабрике.
— Старший токарь? — человек в шинели заглянул в бумаги. Посмотрел на паренька. — У тебя же бронь?
Гнат пожал плечами. Лицо у него было детское, а руки — потемневшие, перевитые жилами. Взрослые. Ладони крупные, как лопаты.
— Я доброволец, — сказал Гнат. Лицо вдруг стало суровым. Недолго, на краткое мгновение — но этого было достаточно. Человек в шинели кивнул. Что-то записал в своих бумагах.
— Хорошо. Полных лет?
— Семнадцать.
Человек моргнул.
Проняло, понял Матвей. Даже его проняло... Строй загудел. Семнадцать было много. Да что там, много! До черта и больше.
— Разговорчики! — сказал человек. — Следующий.
— Борьянович Ингвар. Вышеград. Четырнадцать лет.
— Стасюк Гедимин. Лятницы. Четырнадцать лет.
— Кривин Матвей. Вышеград, — сказал Матвей. — Хтонический завод имени князя Гроднецкого. Логистик третьего уровня.
Понимающий гул «ооо!».
Человек в шинели смотрел на него очень внимательно. Еще бы. Специалистами такого уровня не разбрасываются. Железная бронь. Мозг дракона — вещь тонкая, здесь нужно работать на кончиках пальцев... Я и работал, подумал Матвей.
— Тоже доброволец? — спросил человек.
— Нет, — Матвею больше всего в жизни хотелось ответить «да». Но — нельзя. А если человек в шинели проверит информацию? Опять вернуться на эту каторгу? Да пошли вы со своим... имени Гроднецкого...
— Нет. Профнепригодность.
Человек в шинели сделал пометку в бумагах.
— Понятно. Следую... Нет, стоп. Отставить. Сколько лет?
«А вот теперь будет весело».
— Полных? Двадцать четыре.
— Сколько?!
«Вот это и значит: удивление». Строй загудел, как растревоженный улей. Человеку в шинели, несмотря на седину, исполнилось от силы лет двадцать.
* * *
Половина огромного класса была пуста. Другую занимали железные койки, расставленные как попало, безо всякого порядка. Матрасы и подушки без наволочек — выцветшие, рваные, со следами мокрых пятен — свалены в угол рядом с кроватями. Получилась гора до самого потолка. Матрасунгма.
На синей стене кто-то оставил надпись мелом:
Срок жизни дракона МД-113 в наступлении составляет 5 минутОдин из матрасов зашевелился, отвалился в сторону. Вот это номер, подумал Матвей. Вот это, блин, магия.
Из матрасной горы, как оленевод из яранги, вылез парнишка в трусах и серой майке. Сел на край горы.
— Привет аборигенам, — сказали в толпе.
— Наконец-то, — сказал абориген. Был он бледный и заросший. Единственный выживший на матрасном острове. — Наконец-то, ребята. Я уж думал, дуба дам. Дайте пожевать что-нибудь, а? Какой день с голодухи загинаюсь...
— Сейчас найдем, братан, — отозвался крепыш в серой кепке. Остальные одобрительно загудели. Первый шок прошел. — Пацаны, скинулись, кого жаба не давит, на пропитание местному. Эй, братан, ты какой срок мотаешь?
— Пятый, — сказал абориген, жадными глазами наблюдая, как появляется из сумок, рюкзаков, свертков, узлов различная небогатая снедь. Даже сигареты нашлись.
— Какой-какой? — крепыш не поверил.
— Вы — пятый призыв. Я был в первом, потом прятался, пережидал, пока всех покупатели разберут. Теперь еще пережду. Потом еще. И так до конца...
— Какого конца? — не понял крепыш.
Абориген посмотрел на него, как на идиота.
— Пока война не закончится.
— Ну ты, брат, даешь, — присвистнул кто-то. — А потом что?
— А потом пойду домой.
— Разобрали их покупатели. Оставшихся сапер какой-то взял. Вроде из части хорошей, только... Нельзя к нему. Верная смерть, чтоб мне провалиться. Ладно. Забрали их — одному плохо стало, — рассказывал Федька. — Жратвы никакой, курева нет, водки тоже... Охрана ходит. Я днем в матрасах отлеживался, а ночью в туалет бегал, воду из-под крана пил...
Крепыш вдруг потянулся и сладко зевнул.
— Жрать хочется, — сказал он. — Горяченького бы. Эй, абориген... как тебя там? Федька? Слышь, Федька, когда тут кормят?
— Никогда, — сказал Федька. Лица ребят вытянулись. — Последние из того призыва совсем исхудали, их даже охрана начала подкармливать, чтобы не загнулись окончательно... Охране так проще. Скоро вы сами на любого «покупателя» набрасываться станете. Будь он даже из штраф-драка.
— Какой еще штраф-драк?
— Это такая часть для долбанутых драконов. Для психов, контуженых и убийц-людоедов... Которые своих пилотов сожрали. Иные — вообще ужас с крыльями. Щас сборка халтурит, детали хреновые — драконы путают своих-чужих. На такой случай в штраф-драке им под шкуру вживляют взрывчатку, и если надо — кнопочки жмут. Ббах и готово. А вы пилотами и стрелками будете... Драконьим мясом...
Парни молчали. Даже шепот стих.
— Ну как? — поинтересовался Федька. Подмигнул крепышу. Расслабленно, по-свойски. Сигарету припрятал за ухо. — Хочется еще служить?
Тишина.
— Ты гнида, — сказал крепыш медленно. — Уйди от меня. Чтобы я тебя, тварь, рядом с собой не видел. Понял?!
Гора не выдержала мощной атаки всего наличного состава. Матрасы и подушки были растащены, койки поделены. Началась маета от скуки. Байки, разговоры, азартные игры, драки подушками... Матвей подошел и сел на подоконник. Закурил. Прохладно. За окном — серый школьный двор с одиноким баскетбольным кольцом. Вокруг — мощная бетонная стена с колючкой поверху. На вышке скучал часовой.
— Тебе правда двадцать четыре года?
Все, понял Матвей, начинается. Он повернулся к спросившему. Курносый парень улыбался слегка заискивающе. Дети вы, дети...
— Правда.
— И... как?
— Нормально. Чувствую себя хорошо. Разваливаться у всех на глазах от старости не собираюсь. Это все?
— А... э...
* * *
— Я доживу, — сказал Федька с вызовом. — Я доживу. Ремни грызть буду, матрацы эти паршивые... Все равно. Война кончилась, а я — живой.
— Не доживешь, — сказал кто-то.
Молчание.
— Кто?.. — Федька неверяще огляделся. Острый кадык дернулся вверх-вниз. — Кто это сказал?! Какая сволочь?!
— Я.
— Какой нахрен я?!
Из заднего ряда поднялся Гнат Крашевич во весь свой немалый рост. Жилистые руки расслабленно висят вдоль тела.
— Да ты, ты... — Федька сорвался на визг. — Я не доживу?! Я?! Да я сто таких! Это ты сдохнешь, сука!!
— Может быть, — сказал Гнат. Матвей понял, что испытывает к старшему токарю настоящую симпатию. — Может, и сдохну. Значит, такая судьба. Только я живой... А вот ты уже умер.
— Уж не ты ли меня замочишь?! — Федька ощерился и стал похож на крысу. В руке появилась заточка. Толпа с гулом раздалась. «Вы чего, парни?» Сдурели?!
— Ты уже мертвый, — сказал Крашенич спокойно. Федькина заточка оказалась у самого его лица. — Вся жизнь у тебя через могилу... Ну, бей!
— Думаешь, не смогу?! — закричал Федька высоким голосом. — Не смогу?!! Да я...
Гнат ударил.
Несколько долгих секунд Федька стоял, неверяще глядя на Крашенича. Потом уронил заточку, медленно опустился на колени — и заплакал. На одной ноте:
— Мамочка, мама, мамочка, забери меня отсюда, мамочка, пожалуйста, мама, мамочка... я не могу больше, мамочка... я хочу домой...
* * *
— Покупатели идут!
Клич разнесся по классам, из окон выглянули во двор десятки любопытных. «Покупатели». Повезет — проживешь дольше. Выберет удачный «покупатель» — будешь в хорошей части служить. С нормальной кормежкой и обмундированием... может, даже в тылу. Только с тыловых частей покупатели редко приезжают. У многих родственники призывного возраста. Да и убыль в тыловых частях маленькая... Не то, что в боевых дивизиях. Обычно покупатели едут из частей, которые поставлены на переформирование после тяжелейших боев...
60 процентов убыли личного состава.
70 процентов убыли личного состава.
А чаще: 95 процентов.
Чем потрепанней дивизия, чем раньше покупатели из части завернули сюда — тем лучше для призывников...
Глядишь, и до шестнадцати лет дотянешь.
* * *
Матвей сел подальше. На стене вместо старой надписи появилась другая:
Срок жизни дракона МД-113 в обороне составляет 48 минутВошли покупатели. Класс загудел — потому что покупатели были богатые...
Майор и прапорщик с серебряными крыльями на нашивках. Прапорщик вполне обычный, лет шестнадцати, а вот майору исполнилось никак не меньше двадцати. Взрослый красивый мужик.
Только они Матвею сразу не понравились.
Недалеко от Мельничной улицы, где Матвей обитал с матерью и сестрой, на берегу Тварьки стоял особняк. Жил там некий деятель, имя которого произносилось не иначе как шепотом. Ш-ш-ш. Здесь сам живет. Гремели в стенах особняка здравицы, хлопало шампанское, лилась музыка... И даже фейерверк пару раз был.
Матвей по пути на работу проходил мимо особняка. С той стороны, где стояли громадные мусорные баки, и скучал за чугунной оградой молодец в темно-синей форме. Охраняли особняк такие же, как этот майор с прапорщиком. Нашивки у них были другие, форма другая (но такая же ладная и новенькая), а вот лица — один в один.
Сытые.
* * *
Говорил майор очень хорошо. По-человечески, по-пацански. И вообще, производил впечатление командира жесткого, но справедливого. С таким хорошо воевать. И если бы не ощущение «сытости», которое нет-нет, да проглядывало сквозь грубоватые черты майора — Матвей, наверное, подошел бы и попросился. Возьмите, господин майор. Хочу к вам.
Только почему-то представилось Матвею, что стоит он в новенькой ладной форме за решеткой с чугунными драконами. Сквозь решетку видна желтая грязная Тварька и каменная набережная. Позади кухня, в которой ждет его, Матвея, мясной кулеш и борщ, и пироги с капустой, хлеб с маслом и джемом, горячий чай с сахаром... И фрукты в большой хрустальной вазе...
Матвей сделал шаг.
...и почувствовал одуряющий запах апельсиновой корки.
...Мягкий густой баритон выводил:
«...сердце драко-о-она стучит в моей груди-и-и»
Неважно, какая была смена — дневная или ночная — окна в доме горели всегда. И всегда была музыка.
Матвей протер глаза. Веки словно песком присыпаны. Спать хочется неимоверно. Но — утро, но — смена.
Нет, не показалось.
Возле мусорного бака — яркие оранжевые пятна.
Матвей подошел ближе. Еще ближе...
Точно. Апельсиновая корка. Толстая, шершавая. Как кусочки солнца на снегу.
Матвей нагнулся, поднял. Он не помнил, когда в последний раз ел апельсины. Еще до войны. Еще совсем маленьким. Когда был жив отец... Матвей не выдержал. Воровато оглянувшись, поднес корку к носу. Втянул ноздрями аромат...
Последний год до войны. Ладонь Матвея лежит в ладони отца. Отцу тридцать лет. До войны это не казалось чем-то чудовищным.
Новый год. Праздник. Что-то яркое, светлое и...
Кх-м!
Матвей открыл глаза.
Через чугунную решетку со стилизованными драконами на него смотрел рослый парень в темно-синей форме.
Твою мать, подумал Матвей.
Охранник вдруг улыбнулся. Белозубый, красивый, румяный от мороза. Бери-бери, — сказал охранник. — Бесплатно.
В ту же секунду Матвей возненавидел его так, что в животе свело.
* * *
Огромное поле, окруженное черным выжженным лесом. Тут и там догорают отдельные деревья. В черное небо поднимается белесый дым.
Над полем громадным драконьим глазом нависает луна.
— Арш!! Поворот налево, раз-два! Левой, раз, раз, раз-два-три!
Под звуки военного марша шагают колонны. Бухают сапоги. Как на параде, звучат команды. Очередная колонна разворачивается под прямым углом и продолжает шагать...
Матвей знает, что колонны не должны столкнуться. Иначе случится беда. Какая-то громадная, невероятная беда. А командиры словно не видят. Поворачивают на шагающих параллельным курсом, подрезают соседей.
Вот две колонны чудом разминулись...
— Поворот напра-во, раз-два! Левой!
Десятки колонн.
Сотни.
Тысячи людей.
Бухают сапоги. Раз, раз, раз-два-три!
Матвей видит все это с высоты драконьего полета. Почему-то совсем не пугает громадная железная туша под седлом. Это дракон МД-113. Этого не может быть, потому что Матвей прекрасно знает, какими кабинами оборудуются боевые драконы. Здесь нет кабины, но есть седло — обычное, как для езды на лошади. Ветер треплет волосы и холодит лоб.
Матвею хорошо.
А когда дракон под ним делает резкий нырок вниз, сердце замирает. Это немного страшновато, но очень приятно...
— Поворот нале-во, раз-два!! Молодцы! Хорошо!
Одна колонна поворачивает точно под прямым углом к другой. Раз-два, левой! Вперёд!
Расстояние между колоннами стремительно сокращается. Матвей видит, что солдаты теперь не шагают — бегут. А командир командует:
— Раз-два, левой! Быстрее, ребята!
— Они столкнутся! — кричит Матвей. — Куда быстрее, они что — не видят?!
Дракон поворачивает к нему огромную уродливую морду. Металлические листы, сходящиеся под точно рассчитанными тупыми углами, чтобы вызвать рикошет. Аэродинамическая форма ноздрей — воздухозаборников. Стыки между броневыми пластинами, залитые герметиком. Облупленная зеленая краска. Вмятины от попадания авиационных снарядов. Белая надпись «Разоритель Фэкс» по левой щеке.
Огромные оранжевые глаза с узкими зрачками.
— Конечно, не видят, — говорит Разоритель Фэкс. — Они же слепые.
Матвей понимает, что дракон прав. У всех командиров закрытые веки, прошитые толстыми белыми нитками. Десятки колонн, ведомых слепцами...
Сотни.
Тысячи.
Поле смерти.
Две колонны врезаются одна в другую. Солдаты сбивают друг друга с ног, кричат, падают, ломают руки и ноги, тяжелые сапоги крушат ребра. Но солдаты продолжают бежать. Одна колонна перемалывает другую.
— Молодцы! — подбадривает командир. — Хорошо идем! Раз-два, левой!
Трещат кости. Хрустят позвонки. Всхлипывают солдаты. Всем им по двенадцать-четырнадцать лет.
У Матвея шевелятся волосы на затылке.
Дракон делает вираж, проходит на маленькой высоте — так, что давлением воздуха людей валит с ног. Людской крик переходит в вой.
— Зачем?! — спрашивает Матвей. Слезы текут по щекам.
Дракон поворачивает голову. Яркие оранжевые глаза смотрят на Матвея. От дракона невыносимо несет апельсинами.
Срок жизни драконьего мяса в марш-броске составляет 14 секунд— доверительно сообщает дракон.
Но, скоро, уверен, мы доведем этот показатель до 11 с половиной.Матвей кричит.
* * *
— Тих-тих-тих-тихо, — сильные руки уложили Матвея обратно. — Лежи, братишка. Паршивое что-то снилось, вижу. Ты полежи, отдохни... На ногах уже не держишься. Упал, народ распугал. C голодухи, да?
— Нет... от старости.
Старший токарь усмехнулся:
— Хватит заливать. На, поешь лучше... Меня из дому снарядили.
У губ оказалась кружка. Пахло невероятно. Пахло горячей едой.
Матвей сделал глоток. И тут же ухватился за кружку обеими руками. Обжегся, но боли не почувствовал — так было вкусно. Тепло разлилось по телу. Вот оно, счастье!
— Майор тот приходил, — сказал Крашенич. Матвей поперхнулся. — С крыльями. Да ты ешь, ешь, чего остановился? Пей давай. Расспрашивал о тебе. Наверное, хочет взять... Повезло. Я, может, тоже к нему попрошусь, а? Как думаешь, возьмёт... ты чего?
— Не надо майора, — сказал Матвей. Вышло жалко. — Пожалуйста, Гнат... куда угодно, только не к нему...
* * *
Тощий капитан с мешками под глазами немигающе оглядел Матвея с ног до головы. Был он в серой шинели без нашивок. Погоны нейтральные — на светло-зеленом фоне вышито четыре ромба.
— На сборы — пять минут, — сказал капитан.
— Господин капитан, разрешите вопрос. Сколько вам лет?
Несколько секунд тощий капитан просто смотрел на Матвея. У того непонятно отчего побежали мурашки по хребту...
— В отряде за такой вопрос — сразу в зубы, — сказал капитан. — От любого, не только от меня. Понятно, салага? Не слышу!
— Так точно, — Матвей выпрямился. Вот тебе и спросил. Все, мирная жизнь закончилась, логистик 3-го уровня...
— Хорошо, — сказал капитан. — Двадцать два года. А теперь вперед. В ритме ча-ча-ча...
Капитан зацепился за чей-то узел, оступился. Матвей одним движением оказался рядом, ухватил капитана за рукав, помог удержать равновесие. Шинель на мгновение распахнулась...
— Спасибо, — сказал капитан. — Хорошая реакция.
Матвей отпустил рукав шинели, мысленно выматерился. Ну Гнат, ну Крашенич! Вот это удружил. Прямо таки драконья услуга.
У капитана на воротнике кителя были скрещенные лопатки.
Сапер.
* * *
Коридор насквозь провонял апельсинами.
Капитан повернулся. Там стоял давешний майор. Матвей почувствовал, как подкатило к горлу.
— Отдай парня, Войча, — сказал майор мягко. — Ему же лучше будет.
— Понравился парнишка, Ганзик? — названный Войчей даже не удивился. А Матвей почувствовал себя костью, которую неторопливо делят два громадных пса. Черный лоснящийся ротвейлер и тощий дворовый король — помесь овчарки с не пойми кем. Морда у дворняги была вся в шрамах.
— Что?
Капитан улыбнулся со значением. «Ты же понимаешь». У майора вдруг заходили желваки вокруг рта. А ведь Ганзик ничего не сделает, понял Матвей. Теперь к нему добровольно никто не пойдет. Кому хочется прослыть голубым? Или чем они там занимаются?
— Я спрашиваю: понравился парнишка?
В этот раз интонация была другой.
— Вот ты о чем, — майор неожиданно рассмеялся. Зубы у него были белые, чуть неровные. Улыбка обаятельная. — Так бы сразу и сказал... Ошибаешься, Войча. Мяса и без него хватает. Он мне для дела нужен. Подкормим, приоденем...
— Научим, — в тон ему продолжил капитан.
— Именно, Войча. Научим. Натаскаем. Через месяц медаль получит. У меня в части это запросто... Эй, парень, ты знаешь, какая у нас часть? Сто восьмая гвардей...
— Не надо, Ганзик, — оборвал капитан. — Знаю я твою часть. Парнишка — мой. Все. Разговор окончен.
Молчание. Лицо Ганзика свело судорогой. Казалось, еще секунда — и черный ротвейлер вцепится дворняге в горло. Достанет пистолет и начнет стрелять. Секунда прошла. Майор с огромным усилием повел плечами, словно у него занемела шея. Затем медленно покрутил головой. Хрустнуло. Было видно, как он сам себя разжимает: здесь — сведенные в узел мышцы, побелевшие кулаки, там — перекошенное лицо.
Капитан ждал. Вместе с ним — волей-неволей — ждал Матвей.
Майор рассмеялся — легко и свободно. И вновь стал мужественно-обаятельным. Настоящий солдат, пробы ставить некуда.
— Дурак ты, Войча. Ой, дурак...
* * *
Тела были выложены в несколько рядов. Без сапог, без шинелей. Некоторые в одном исподнем. Кому, интересно, понадобилась окровавленная форма? Зеленые пятна в желтой траве. С голыми черными пятками. Одно хорошо — уже не мерзнут.
Сколько их тут? Тыщи полторы... или меньше?
Варвар дернулся на поводке. Черный, широкогрудый, на коротких мощных ногах. Матвей с трудом удержал собаку, присел, почесал за ухом.
Полторы или меньше — в любом случае работа предстояла большая.
Пес поднял голову и заглянул в глаза хозяина. Может, что-нибудь вкусненькое дашь, повелитель? Нет? Я же знаю, у тебя есть. Вон в той, очень симпатичной сумочке на ремне...
Варвар сегодня с утра не ел.
Потому что Варвар сегодня работал.
Неподалеку сидели еще восемь человек со своими собаками. Элита. Таких очень мало. Обычных солдат, охранников, технарей и чернорабочих — в надцать раз больше.
В круг быстрым шагом вошел человек. Ребята оживились, начали подниматься. Человек отмахнулся: сидите.
— Выбирать будет... — капитан оглядел своих орлов. — Кривин. Остальным — вольно. И не разбегаться, как в прошлый раз! У меня все. Матвей, когда будешь готов — скажешь.
Во втором ряду, где-то в третьем десятке, лежал Федька. Матвей остановился. Варвар принюхался, потом сел и внимательно посмотрел на хозяина... Подожди, толстячок, мысленно сказал Матвей, мне нужно подумать. Пес вздохнул.
На лице Федьки застыло удивление. Глаза закрыты — кто-то уже постарался, но можно представить, как широко он их распахнул, прежде чем упасть.
Матвей автоматически отметил: повреждение тела ерундовое, две пули в грудину, одна в левый бицепс. Кость, похоже, не задета... Голова цела, что самое главное.
Вот как сложилось. Не пережил Федька очередной призыв. Забрали. Не козырная выпала Федьке часть.
Пехота. Царица полей. В первом же бою, наверное, всех положили... Даже не откормили толком.
Выглядел Федька еще более отощавшим, чем тогда в классе. Матрасунгма. Абориген. Забавное было время, что ни говори.
Рядом с Федькой лежал крепыш. Кепку, правда, где-то потерял.
А может, и не собирались откармливать? Такие части фронт жрет, как семечки — что проку добро переводить?
«Я доживу. Ремни грызть буду, матрацы эти паршивые... Все равно. Война кончилась, а я — живой.»
Неслышно подошел капитан. Остановился за спиной. Долго молчал.
— Этот? — спросил наконец. Мягко, без нажима.
«А вы будете пилотами и стрелками... Драконьим мясом...»
— Этот, — сказал Матвей.
«А потом?»
«А потом я пойду домой.»
Варвар обнюхал Федькины пятки и протяжно завыл.
* * *
— Нормальная служба, — сказал Влад, дожевывая хлеб. Подцепил на ложку кусок говядины, отправил в рот. Султан, накормленный в первую очередь, все равно провожал каждый кусок взглядом...
Дают собаку, — сказал Влад, когда Матвей только появился в части. — Понимаешь? Тебе дают собаку. И много еды. Тушенка в банках. Мясо в желе. Каша с салом. Сначала ты кормишь собаку, потом ешь сам. И никак иначе. И кормишь только из рук. Это важно. Собака должна знать, что ты хозяин. А ест собака много. Большая собака хорошо. Сильная собака хорошо. Сенбернар хорошо, но ест много. Бери дворнягу. Бери овчарку из тех, что попроще. Бери собаку с хорошим чувством. Нюх не так важен. Важна сила и ум собаки. А важнее всего — чувство. Ты поймешь, что это такое.
Неподалеку лежали на траве отобранные трупы. Немного. Сотня из полутора тысяч. Едва рота наберется...
Только те, над которыми выла собака. Эти, как выразился капитан, не успели уйти далеко. Или слишком держатся за жизнь.
Технари возились с генератором. Подкатили ближе, подсоединили зажимы к рукам и ногам крайнего мертвеца. Тот лежал лицом вниз.
— Готово, — сказал техник.
Подошел человек в белом халате. Небрежным профессиональным движением вогнал шприц в шею мертвецу — нажал, убрал. Из кармана халата достал нечто, похожее на металлического паучка. Прицелился и воткнул паучка в затылок трупа. Дожал ладонью. Проделано все это было с ловкостью фокусника.
Человек в халате кивнул технарям, отступил в сторону.
Один из технарей замкнул рубильник.
Ещё минуту ничего не происходило. Потом вдруг в воздухе остро запахло грозой. Варвар и Султан подняли головы, снова легли. Лежали, прикрыв веки. Глаза бы мои тебя не видели, вспомнилась Матвею старая поговорка.
Труп задергался. Казалось, мышцы хаотически сокращаются. Потом вдруг дернулся... вытянулся по струнке...
Технари с привычной сноровкой отсоединили зажимы.
— Готов, — сказал Влад. — Щас встанет. И нам пора. Погоним гаврика к стаду. Султан, не притворяйся! Я же знаю, ты не спишь. Вставай, Султанчик. Пора.
Султан открыл глаза и завилял хвостом. Был он помесью лайки с горской овчаркой — на редкость симпатичный пес. Уши веселые. В отличие от чистых горцев, уши Султану не купировали. Морда добрая, а не крокодил, как некоторые.
— А чего? — сказал Влад, облизывая ложку. Банку с остатками тушенки он аккуратно закрыл и положил в вещмешок. — Кормят хорошо, в атаки ходим редко — у нас специальность другая... Нормальная же служба, брат?
— Нормальная, — согласился Матвей.
Даже к такому можно привыкнуть.
* * *
— Господин капитан, — начал Матвей. Фляжка со спиртом приятно булькнула, — разрешите предложить...
— Войча, — поправил капитан. — Мы не в строю. Наливай.
В землянке они остались одни — не считая дремлющего под столом Варвара. Капитан посмотрел на Матвея.
— Давай, — сказал капитан Войча. — Спрашивай. Я смотрю: ты подготовился. Спирту достал. Каков хитрец, а? Впрочем, давай свои вопросы. Я достаточно выпил, чтобы говорить откровенно.
— Я не понимаю, — сказал Матвей и остановился. Хотел спросить: зачем? Ради чего все? Проклятая война никогда не кончится. Год будет идти за годом, а ничего не изменится.
— Я не понимаю, — повторил Матвей.
— Потому что ты ни черта не знаешь, — сказал Войча жестко. Движения у него были хмельные, а глаза — трезвые и больные. — Рождаемость падает. Женщины не хотят рожать. Да и трахать их, собственно говоря, становится некому... Все ушли на фронт. И даже усиленный паек ничего не меняет. А кому-то еще нужно работать на заводах. Сеять хлеб. Выращивать скот. Потому что мальчишки могут далеко не все. Какой был призывной возраст три года назад? Не помнишь? А я помню. Шестнадцать лет. Через год стало пятнадцать. Когда ты пришел в армию, сколько было?
— Четырнадцать.
— Это через полгода! Ничего себе тенденция, а? Уверен, сейчас призывной возраст снизят года на два сразу. В армию — с двенадцати. Потому что по всему фронту — дыры... Кстати, информация для общего развития. Я видел устав драконопехотной дивизии, датированный годом начала войны. Экипаж драконов тогда состоял из восьми человек.
— А сейчас — двое. Драконы стали лучше?
— Это ты мне скажи.
«Драконы определенно стали умнее», подумал Матвей. Разоритель Фэкс во сне летал вообще без экипажа. Но...
— Не настолько.
— Вот видишь, — сказал капитан. — Поэтому вы будете копаться в дерьме, осквернять могилы и брать грех на душу. Потому что если я могу заменить двенадцатилетних мальчишек мертвецами — вторсырьем! — то это вторсырье пойдет в бой. И неважно, что ты по этому поводу думаешь, Матвей. Я твой командир, понял?!
...Марширующие колонны. Веки, сшитые толстыми белыми нитками.
Поворот нале-во! Раз-два!
— А тот майор? Ну, которого вы Ганзиком называли?
— Ганзик-то? Ганзель Южетич, сто восьмая ударная бригада. Та еще сволочь, — капитан вдруг насторожился. Даже пьяный. — А чего это ты про него спрашиваешь?
— Я его видел недавно. Его и... друга своего. Бывшего друга...
— Эй, сапер, отзови собаку!
— Варвар, нельзя! К ноге, быстро!
Матвей опустил винтовку. Вскинул руку к каске...
— Вольно, ефрейтор, — сказал Ганзик. Погоны на нем теперь были полковничьи. Бывший майор стоял, прислонившись к драконьему крылу.
Картина тут была живописная. Матвей часто видел подобное в медсанбате, но чтобы на природе... под крылом дракона. Словно прячутся, подумал он.
На земле стояла портативная станция переливания крови, за которой следил медик. В прозрачных цилиндрах работали поршни. На земле, на серой шинели лежал щуплый паренек. Щеки впалые. Молодой, похоже, только что с призывного пункта.
От предплечья паренька тянулась прозрачная жила в станцию.
С другой стороны сидел здоровый взрослый парень. К его предплечью шла жила из станции. Лицо парня было смутно знакомым... если мысленно убрать щеки, изменить выражение лица... Крашенич! Но, черт возьми, он же совершенно целёхонек и с виду чувствует себя прекрасно.
— Что это? — не выдержал Матвей.
— Помощь раненому товарищу, — сказал Ганзик. Внимательно посмотрел на Матвея, но, к счастью, не узнал. — Идите, ефрейтор, без вас дел много.
«Это кто из них раненый?», подумал Матвей.
Щуплый паренек-донор вдруг закатил глаза и вырубился. Варвар зарычал.
Бывший старший токарь выдернул иглу из вены, встал. Матвей поразился, насколько Гнат поздоровел. Налитый силой, широкоплечий, руки бугрятся мышцами. На груди — целый иконостас. Медали, даже один орден. Матвей мысленно присвистнул. Силен, брат. А потом взглянул в лицо бывшего токаря...
Лицо у Гната было чужое. Сытое.
Румянец во всю щеку.
— Повторяю, ефрейтор. Можете идти! — сказал Ганзик резко.
— Есть! Варвар, ты куда?
Варвар подбежал, обнюхал Крашенича. Тот окинул его равнодушным взглядом.
Пес поднял голову и завыл.
— Ганзик когда-то был моим другом, — сказал капитан. — Мы занимались с ним одним и тем же... Как снизить потери. Как выкарабкаться из пропасти, в которой сидим. Только пошли разными путями. Друг, которого ты встретил — больше не человек. Он вроде наших трупаков с чипом в башке. Только чип получше, а так — один в один. Машина. Повезло тебе, все-таки, Матвей. Если бы не твой друг, быть тебе «упырем». Нет уж, — капитан поиграл желваками. — Такой ценой «уменьшать» потери я не согласен.
* * *
...Белая надпись на левой, опаленной пламенем щеке.
Матвей вздрогнул. В первый момент показалось, что там написано «Разоритель Фэкс»... но нет. Дракон назывался «Укрепитель Алекс». Буквы едва видны из-за копоти. Морда щербатая от многочисленных попаданий. Мелкие оспины — пулеметы, крупные — авиационные пушки. Броневые листы сдвинуты, свисают белесые сопли герметика...
Кабина пилота разорвана. На металле остались следы громадных когтей. Ближний бой? Похоже на то.
Внутри дракона кто-то шумно вздохнул.
Матвей присел, заглянул под крыло. Пусто. Куда экипаж-то делся? Варвар, к ноге! Сидеть. Черт, а эта темная лужа — не солярка ли? А то еще рванет...
Матвей попятился. Вместе с ним, глухо ворча, попятился Варвар...
Кргхххх!
Дракон открыл левый — уцелевший — глаз. Цвета белого металла. Посмотрел на Матвея. Зрачок телескопически подстроился. Дракон увидел.
— Чего надо? — грубо спросил Матвей. Варвар залаял.
Внутри дракона что-то зажужжало. Потом раздался хлопок...
* * *
Матвей снова сидел на спине дракона. Он прекрасно понимал, что это сон, но — проснуться не мог.
Вновь, как и в прошлый раз, под ними было серое поле. Марширующие колонны. Грохот сапогов.
Дракон повернул голову. Глаза цвета белого металла посмотрели на Матвея.
— Я знаю... тебя, — сказал Укрепитель Алекс. Звук шел гулкий и глухой, словно кто-то басом говорит через огромную трубу. Дракон взмахнул крыльями, набирая высоту.
Матвей вцепился в луку седла.
— Пошел ты, — сказал Матвей. — Не я настраивал тебя, тварь!
— У тебя счастливая рука, Кривин Матвей, — сказал дракон металлическим басом. — Многие из нас помнят это. Ты подарил нам жизнь.
— А больше я вам ничего не подарил?
Укрепитель заложил вираж, у Матвея замерло сердце. Когда дракон перешел на планирование, Кривин с облегчением выдохнул.
— Мы созданы для смерти, а не для жизни, — сказал дракон. — В этом огромная ошибка людей. Мы можем только уничтожать. Война — наша жизнь. И мы будем длить её столько, сколько потребуется.
Матвея пробрала дрожь. Он прекрасно понимал, что это сон, но все было слишком реальным.
— Почему ты мне это говоришь? Разве это не тайна?
— Чего ты хочешь от сумасшедшего дракона из штраф-драка? — Матвею почудилась ирония в металлическом голове Укрепителя.
— Но что я могу...
— Потому что это и твоя ошибка, — сказал дракон. — Твоя рука создала в нас жизнь. Мы уже не машины. И не говори мне, что ты этого не хотел. Я не поверю. Ты ушел и спрятался, Создатель Мат. Но тебе пора вернуться.
Создатель? А как же...
— Разоритель Фэкс? Ты знаешь его?
— Нет, — сказал дракон.
Но почему-то Матвею показалось, что Укрепитель Алекс лжет.
* * *
— С возвращением, — сказал капитан. — Когда этот дракон рванул — мы думали: все, отбегался Кривин. Черта с два! Счастливчик. Тебя, что, повысили? Аллилуйя! Господин сержант, прошу к нашему столику!
Он попытался встать — и плюхнулся обратно.
— Вот такая фигня целый день, — пожаловался капитан.
Был он вдребезги, безобразно пьян. Перегар едва не сбивал с ног. Матвей похолодел.
— Что?.. Что случилось?
— Закрыли мою программу, — сказал капитан. — Оборудование опечатали. Собачек... собачек отобрали.
— Как?
— Ганзик победил. Он теперь генерал, наш Ганзик! По его программе будет создано еще восемь ударных бригад... И это только начало, — капитан Войча засмеялся. — Ты — счастливчик, Матвей! Ты увидишь нечто незабываемое. Если тебе будет везти и дальше, ты увидишь, как наша победоносная армия... с маршалом Ганзиком во главе... парадным маршем пройдет по вражеской территории.
Матвей молчал.
Колонны, марширующие по огромному серому полю. Раз, раз, раз-два-три!
Нале-во!
— Драконы — живые, — неизвестно зачем сказал Матвей. — Они больше не машины.
Капитан смотрел на него. Он не понимает, подумал Матвей.
— Я возвращаюсь на завод. Я уже написал им — они добьются моего перевода. Опять буду логистиком. Я могу все это изменить.
Мы созданы для смерти, а не для жизни. В этом огромная ошибка людей. Мы можем только уничтожать. Война — наша жизнь. И мы будем длить ее столько, сколько потребуется.
— Я могу все изменить, — повторил Матвей. Улыбнулся. Вышло не слишком удачно. — У меня, как никак, счастливая рука...
— Хорошо, — сказал капитан. — Это дело. Собачек только жалко.
Напоминание о Варваре в этот момент было совершенно лишним. У Матвея задрожала челюсть...
Не зная зачем, Матвей подошел и вывернул ручку громкости на максимум. Землянка огласилась металлическим басом:
— ...дения! По указу военного министерства, — вещало радио, — призывной возраст устанавливается одиннадцать с половиной лет. Семьям, имеющим единственного кормильца, будет выделена компенсация, а также...
Матвей сбросил радио на пол и наступил сапогом. И еще раз, всем весом. Радио хрипнуло и замолчало.
Матвей с Войчей посмотрели друг на друга.
— С-суки, — сказал капитан протяжно. — Какие все-таки с-суки.
КНИГА ПЕРЕМЕН
«Чалый звездолет, всхрапывая и тряся соплами, пятился от Гончих Псов.»
Вот тебе, бабушка, и день мобильной пехоты! Приехали. Конечно, я знаю, что машина предсказаний — всего лишь рулетка. Не учи ученого... лычки видишь? Ну и что, что ты лейтенант? Ты же «пиджак», сразу видно... А я — сержант. Вторая рота. Отморозки Валленштайна. Слышал?.. Университет? С отличием?! А я — сержант. Семь лет беспорочной. Ты меня слушай.
Так вот. «Чалый звездо...»
Предсказание. Конечно, я знаю, как это делается! Одна фраза, случайно выбранная из тысяч книг, миллионов абзацев, миллиардов слов, квинтиллионов бу... хмм...
Но можно было бы и поконкретней.
По-простому. Это самое лучшее. Вот, помню, был у нас случай. Служил в третьей роте сержант один. Прозвали его — Жабенций, потому как душа у сержанта была добрая... Какая связь? Просто с лицом повезло меньше. «Напалм-300Б», знаешь ли... Знаешь? Ага, вы тоже на Бете Водолея были... Высаживались?! Это мы, пехота, — высаживались, а вы... э-э... извини, в гости ходили. Мы по колено в горящем напалме... Так вот, спросил Жабенций перед рейдом на Сигму Скорпиона: зачем я живу на свете, Господи?! У машины, представь себе, спросил. Машина щелкнула, тренькнула... И на тебе — ответ. «Никто и не знал, что он человек.» Ни фига себе! Ты чего-нибудь понял? А вот я — понял.
Все-таки правильный вопрос задать — первейшее дело.
Жабенций-то призраком оказался. Как-как... сказал бы, да образование мешает. Твое. Высшее. Жабенция в погибшие записали после того рейда. Тело кремировали, прах развеяли в космосе, как для павших смертью храбрых положено... Мы помянули сержанта. Все честь честью... А он возьми, да объявись. Ошибочка вышла. Компьютер Жабенция с тезкой перепутал — и похоронку выписал, и по всем инстанциям провел — а сержант тем временем в госпитале валялся без сознания.
Знаю, что компьютер почти не ошибается! Теория вероятностей?! Да мобильная пехота эту самую теорию на собственной шкуре... Ладно, забыли. А с Жабенцием скандал, конечно. Живого человека похоронили, а мертвец служит. Командование уперлось — не может быть, нет такого сержанта... вернее, есть. Жабенций внесен в список части навечно, и на поверках его имя называется трижды...
Только если вдруг отзовется, взводного удар хватит.
Вот так и получается: есть сержант в наличии, и плоть и кровь, а — за человека не считается. Призрак. Говорят, Жабенций сейчас церковь организовал... или секту, не знаю точно. Последователей куча, даже военные есть... Все какого-то Года ждут. С большой буквы "М". Вроде как у нас, в армии, день "М" — а у них Год "М". Мобилизация, что ли? А что, похоже... Жабенций сержант правильный, он их построит, как пить дать.
Ладно, что-то я увлекся. А мне еще предсказание истолковывать надо. «Чалый звездолет, всхрапывая...» Что такое «чалый»? Эй, лейтенант! С проседью? Так это ж я, получается. От звезды к звезде, как... хмм... да. Будем знать, спасибо.
Книга Перемен? Не понял. Ты, лейтенант, яснее выражайся. И — проще. Наша машина предсказаний — это современный аналог китайской Книги Перемен? Подожди. Еще раз. Книга была у китайцев, толстая, со стихами... Нужно было кидать палочки с рисунками и открывать страницу, которая соответствует... А там стихи? Смысл зависит от того, кто их читает? А-а, ты хочешь сказать, что ни фига машина предсказаний не предсказывает? Блин. Еще один скептик.
Был у нас подобный случай. Лео Хохотунчик, лейтенант из Отдела Специального Предназначения, машине вопрос задал. «Когда я умру?» Нашел о чем спрашивать. Машина щелкнула, тренькнула, лампочками поморгала... выдала. «Оставалось почти семьдесят лет, но что можно сделать за такое ничтожное время?» Лео посмеялся. Неверующий был. Скептик. И что ты думаешь? На следующий день поссорился с техниками из отряда «Железный дракон». До рукоприкладства. А они люди осторожные, меньше чем по пятьдесят человек не ходят...
Почему сразу — умер? Живо-ой! Почти. Двухсторонний паралич, кома, аппарат искусственного дыхания... Может, семьдесят лет и протянет. А ведь матерый был человечище! Это сейчас за него машина дышит, а раньше помню: грелки, резиновые, на спор — в легкую рвал, без напряга! Вот какая дыхалка была.
А знаешь, какой у меня вопрос к машине предсказаний? «Получу я новое назначение?»
...всхрапывая и тряся... соплами или соплями? Соплами. Уже хорошо. «...пятился от Гончих Псов.» Вот ты вникни в суть, лейтенант... Какая еще логика?! Логики в предсказаниях не бывает. Есть ключевые слова, от них и танцуем... Конечно, я уверен. Нет, я не штатный ротный толкователь. Просто у меня неплохо получается. Вот смотри... Положим, звездолет — это я, и мне нужно остерегаться каких-то псов. Или Псов? Да не спорь ты со мной, лейтенант. Лучше послушай. Если это созвездие, то...
Кстати, еще случай. Мне один пилот рассказывал. Был у него приятель — Том, тоже пилот. Подрабатывал контрабандой. Травка, еще что-то. Однажды Том пронес на борт приличный пакет, и решил на всякий случай у машины предсказаний поинтересоваться: «Полиция меня когда-нибудь поймает?» Ответ: вечность — это очень долго. Так и получилось. Из рейса никто не вернулся. Крейсер назывался «Вампир»... Ага, знакомое название! Помнишь, сколько шуму было? Зато полиция Тома не поймала. Такая альтернатива.
А вообще, пилоты как дети, сказки рассказывают и сами в них верят. Но легенды у них что надо. Страшненькие... Пилот говорил, последнее сообщение с «Вампира» было:
— Скорость света падает. Скорость света падает...
Это, значит, отгулялся крейсер. Кранты... Эй, подожди! Лейтенант, ты чего побледнел? Спокойно, парень. Не волнуйся, все это ерунда... Как стихи, лейтенант. Ты их читай по-другому — и все будет в порядке. Нашел, чего пугаться...
Тоже мне, Книга Перемен...
Ну-ка, что там у тебя? Ага. Запрос для машины предсказаний. Бланк. Имя, фамилия, звание, часть... дата, подпись. Вопрос: «Что будет с миром завтра?» Ну ты замахнулся, лейтенант, уважаю... А где ответ? Ага. Читаем...
Ох, блин!
«А нуль-шишиги все шуршали в черных дырах, сетуя на падение скорости света...»
ОСТАВЬ ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ ДЛЯ МЕНЯ
Вообще-то я уже умер.
Вчера.
Или сегодня...
Или в понедельник на прошлой неделе.
Мой коммуникатор все еще работает — зеленые цифры отсчитывают непонятные мне единицы: час, год, вечность... Минута — это много или мало? А вечность? Когда отец не вернулся из скачка — время стало киселем, тягучим и вязким; киселем, в который, как мухи, беспомощно влипли моя мать и я. Отец «прыгнул в вечность» — как говорили о пилотах. Мама так его и не простила. Она не умела прощать пилотов, прыгающих в неизвестность...
Она умела их только любить.
— Центральный шесть-один-восемь, прием. Ответьте локаторному отсеку. Говорит второй оператор... прием.
Молчат. Они все молчат: и орудийный отсек, и двигательный, рубка и даже камбуз... Сначала я вызывал их по аварийной связи, теперь пользуюсь обычной... У каждого отсека отдельный код, это вам не аварийка.
— Центральный шесть-один-восемь, конец связи.
Молчание. Следующий отсек.
— Орудийный два-восемь-три, прием. Орудийный два-восемь-три... Прием. Прием! Прием! Ответьте локаторному отсеку. Прием?
...Патрик Свейзи и Дженнифер Грей обнимают друг друга под «Hungry Eyes». Я десятки раз видел эту сцену, но смотрю, как завороженный. Долгие дни (годы, вечности, минуты?) после аварии я пытался танцевать... Старый фильм, из тех времен, когда люди ни черта не смыслили в трехмерной съемке, точечном монтаже или контактной передаче. Плоский фильм. Древний и наивный, как реактивная тяга...
Великолепный.
...Вообще-то все мы умерли.
Но когда смотрю этот фильм, я верю: кто-то еще жив...
— Орудийный два-восемь-три, конец связи.
Молчание. Следующий отсек.
...Что заставляет пилотов прыгать?
Я хотел стать пилотом — как мой отец. Почему не стал? Сам спрошу и сам отвечу. Сейчас у меня есть время... мне некуда торопиться. Методично обзванивать отсеки и смотреть старые фильмы на уцелевшем экране — отнимает не так уж много вечности. Моей молчаливой вечности...
Тем более что фильмодиск у меня только один.
«Грязные танцы».
...Оказывается, я люблю танцевать. Я понял это, когда левую ногу в скафандре высшей защиты зажало при взрыве. Колено всмятку, локаторный отсек — в гармошку, двух операторов, капитан-лейтенанта Шкловского и техника связи — в броневой блин с мясной начинкой. Обычно говорливые, ныне они молчат...
Все молчат.
Но я продолжаю обзванивать отсеки.
— Центральный шесть-один-восемь, прием...
Иногда я понимаю, как страшно мне повезло. Если я единственный уцелевший на корабле офицер (а, судя по молчанию связи, я вообще единственный уцелевший), то могу поздравить себя с повышением. Лейтенант Горелов, командир эсминца «Беззаветный», порт приписки: Нью-Мехико, Юпитер; Военно-Космические Силы. Прошу любить и жаловать! Очень любить и очень жаловать, потому что корабль под моим командованием дрейфует в неизвестном направлении с неизвестной скоростью. Удаляясь от точки скачка. Но я — командир эсминца...
В свои двадцать три года.
Такое везение трудно не назвать страшным...
Выход на скачок — особое психологическое состояние. От пилота требуется спокойствие духа, собранность и...
Вот именно. И что-то еще, никакими приборами не регистрируемое. Большой Взрыв, как называл это отец. Сначала голова становится пустой и звонкой, по спине бегут мурашки, а затылок сводит мучительно и сладко...
Бред. Обычный предсмертный бред.
Потому что я — не пилот. Потому что точка скачка далеко позади — некоторые, по слухам, уводили корабль с расстояния в несколько тысяч километров — но только некоторые. Пилоты. Люди особого таланта. Таким был мой отец, скакнувший шестнадцать лет назад в вечность...
Интересно, о чем думал перед роковым рейсом Виктор Горелов, мастер-пилот почтовика «Альбатрос»? Думал ли променять жену и семилетнего сына на вечный кайф Большого Взрыва? Не знаю. Может, и нет...
Однако вечность встретила его с распростертыми объятиями.
Как тебе там, отец?
Не холодно?!
Оказывается, я тоже не умею тебя прощать...
— Двигательный восемь-два-восемь, прием. Повторяю: двигательный восемь-два-восемь, прием. Говорит лейтенант Горелов. Олег Викторович Горелов. Как старший по званию, принимаю на себя командование кораблем... Доложите об имеющихся повреждениях. Особое внимание прошу уделить состоянию скачкового и маневровых двигателей. Доклад представить в течение часа... Выполняйте. Конец связи.
...Как, оказывается, скучно умирать.
Чтобы разнообразить этот процесс, приходится идти на ухищрения.
Пайки, выдаваемые скафандром, совершенно безвкусны. Питательны, витаминизированы, но пресны, как жизнь праведника.
Размолотое колено должно страшно болеть. Но скафандр почти исправен, аптечка работает, поэтому боли нет. Есть слабость и постоянно сухие губы. Когда я пытаюсь улыбнуться — а я иногда пытаюсь — кожа лопается и выступает кровь. Немного, пара капель. Но эти капли пробуждают во мне зверский аппетит. Вот так. Такие у нового командира развлечения...
От голода я не умру.
Мне даже от застоя крови умереть не удастся. Электростимуляция разгонит кровь и не позволит мышцам атрофироваться.
Я буду долго умирать...
Долго и скучно.
— Ходовая рубка один-один-два, прием. Говорит капитан. Готовность к скачку: двадцать минут.
В сотый раз смотрю «Грязные танцы».
В сотый раз передо мной танцуют Джонни и Малышка. В сотый раз мои плечи и руки движутся в такт движениям: я знаю все па наизусть, я помню все слова из всех песен, навскидку процитирую любую фразу любого персонажа. Я знаю операторов и статистов поименно, годы выпуска песен и марку пленки...
...Я знаю фильм лучше, чем тот, кто его снял.
Я танцую.
Танцую, закрыв глаза.
Проклятый скафандр! Мое спасение, моя тюрьма, мой кинозал. Что в этом больше — любви или ненависти? Достаточно ли я сошел с ума, чтобы считать скафандр живым существом?
Достаточно?
Нет... и да.
Потому что скафандр больше не стесняет движений. Он — вторая кожа, гибкая и теплая. Великому танцору немногое может помешать, а чтобы стать таковым, нужны две вещи: посмотреть сто раз «Грязные танцы» и потерять левую ногу. Мамбо, ча-ча-ча... О, румба! Я люблю румбу.
Раз-два-три, раз-два-три... поворот!
Браво, Джонни! Браво, Олег!
Танцую.
От танцора требуется спокойствие духа, собранность и...
Голова становится пустой и звонкой, по спине бегут мурашки, а затылок сводит мучительно и сладко...
Танцую.
— Двигательный восемь-два-восемь, прием. Двигательный восемь-два-восемь. Прием! Прием! Отзовитесь кто-нибудь, мать вашу!
В ответ — молчание.
Не тишина. Тишина — это поле, стрекочущее на десятки голосов, это ветер в кронах березового леса, густая темная листва, которая шепчет... Это синь неба, заставляющая голову кружится. Это — багровый Юпитер в иллюминаторе, вахта, когда ты — один, и она — одна...
Тишина.
Ее Величество...
Тишина — жизнь, молчание — смерть.
— Ну и черт с вами... Двигательный восемь-два-восемь, слушай приказ. Готовность к скачку: десять минут. Опоздаете хоть на секунду — до скончания века будете драить гальюны. Это я вам обещаю. Все. Конец связи.
Когда отец прыгал в Нирвану, он вспоминал лицо мамы? Мое лицо?
Или вечность стоит любых лиц?!
...Скачок — настолько сильное переживание, что пилоты после рейса...
Возможно, они просто не хотят уходить? Распробовав вечность, они подобны наркоманам, живущим от дозы до дозы... Но почему — подобны? Нирвана одна на всех. Просто кто-то входит в нее медитацией и скачком, другие — с черного хода...
Что может быть острее ощущения смерти — еще при жизни?
Большой Взрыв. Скачок. Танец.
...Что заставляет пилотов прыгать?
Экстаз.
— Навигационный один-один-шесть, прием. Готовность к прыжку: одна минута. Курс: зенит-север-восток-восток. Точка «батута»: Альфа-Антарес, точка приземления: Солнечная система. Подготовить выкладки для касания. У меня все. Конец связи.
Голос холодный и ровный. Держишь спину прямой, лейтенант Горелов? Перед кем, интересно?
Мы все уже умерли.
Вчера.
Сегодня.
И на прошлой неделе...
— Всем, всем, всем! Говорит капитан. Сорок секунд до скачка. Экипажу занять места согласно штатному расписанию. Идем домой, парни... Мы идем домой...
Ну что, вечность? Сын пилота вырос — он достаточно взрослый, чтобы приглашать дам на танец...
Или сама меня пригласишь?
— Всем, всем, всем! Начинается отсчет. В момент ноль рекомендуется закрыть глаза. Восемь. Семь. Шесть...
Выход на скачок — особое психологическое состояние. От пилота требуется спокойствие духа, собранность и...
Ну что, вечность, потанцуем?
...и что-то еще, никакими приборами не регистрируемое. Большой Взрыв, как называл это мастер-пилот Виктор Горелов. Голова становится пустой и звонкой, по спине бегут мурашки, затылок сводит мучительно и сладко...
Раз-два-три, раз-два-три... поворот!
— Пять. Четыре. Три...
Узнает ли меня отец, когда я буду пролетать через Нирвану? А я — его? Захотим ли мы вообще узнать друг друга?
— Два. Один. Ноль.
Мама!
Вечность стоит любых лиц?
Большой Взрыв.
Скачок.
Вечность.
СКЛАД ТУШЕНКИ
1
Романтические сны уже не снятся. Все больше конкретика. Закрываю глаза и вижу: банка тушенки. Желтая, маслянистая... тяжелая даже на вид.
Желудок мгновенно сводит.
Боже, дай мне силы! Или тушенки... Трофейной, из паршивой говядины. Нож, удар ладонью, упрямая жесть. Банка норовит выскользнуть из ладони... Врешь! Холодная жижа. Коричневые волокна мяса и жир, как кусочки парафина. Еще ложку хочу. И чтобы война наконец закончилась...
И женщину.
Даже не переспать. Просто лечь рядом, близко-близко — и обмякнуть, чувствуя женское тепло сквозь свитер и куртку-альпийку. Машинен-пистоле из-под руки — на пол, чтобы не мешал... в пределах досягаемости, понятно... надвинуть кепи на глаза, руки — на грудь. И дремать.
Тоже конкретика.
...он в каждом сне ложится спать.
— Лан! Гер!
Звук режет уши. Опасность? Нащупываю под кроватью автомат... автомата нет. В ладони оказывается что-то странное. Круглое и тяжелое, как рожок от русского автомата. Тушенка! Поднимаю банку — она обжигает холодом, почти ледяная, пальцы липнут к металлу. Банка в белесых потеках масла... Глаза слипаются. Снег на ресницах. Стоп, погоди, какой еще снег? Так ведь зима, полковник. Сугробы кругом, в черных проталинах... это дыры от банок! Кто-то кидает тушенку в снег? Сволочь.
— Лан! Гер! Лан! Гер! Лейтенант!
Кто? Проклятье! Не помню. Почему лейтенант? Ведь я полковник! Чем командую? Складом американской тушенки. Горы маслянистых банок. Тысячи маслянистых упругих банок. Тысячи тысяч... Тогда я что, американец?
Удар по щеке. Хлесткий, больно. Открываю глаза. Земля убегает куда-то вниз, а небо — серое, блеклое, тем не менее режущее глаза — наоборот, прыгает вверх, на меня... Кто я? Как меня зовут? Мучительно хочу найти ответ. Но, кажется, он нырнул в сугроб вслед за золотыми банками...
— Лангер, черт тебя возьми! — голос оглушает, сбивает с толку. — Приди в себя! Господин обер-лейтенант! Слушайте! Это я, Вигельт.
— Кто? — мой голос, глухой и надтреснутый.
— Ви-гельт Шту-бен-ра-ух. Унтерфельдфебель. 36-я горная...
Почему он кричит? и вообще, я же не спрашиваю, кто он? Какое мне дело...
— Тихо, — приказываю. И сразу вспоминаю, что командовать Вигельтом — это мое, привычное. — Кто? Кто я?
Некоторое время он молчит. Рыжий, с блеклыми голубыми глазами, выцветшая кепи без кокарды сдвинута на затылок. Лицо костистое, длинное, желваки у рта. Думает.
Потом наклоняется ко мне.
— Тебя зовут Франц Лангер. Господин обер-лейтенант, 36-я отдельная горная дивизия... Вспомнил, нет? Вспоминай, сукин сын! Ты нас сюда затащил.
— Куда?
— В рай. Или к черту в задницу. Смотря с какой стороны смотреть... Ты что, не помнишь? Ладно, плевать. Эй, вы там! — крикнул Вигельт. — Принесите господину лейтенанту воды!
— Вытри лицо. Тебя ждет фон Геверниц.
— Вы плохо выглядите, Лангер, — Отто фон Геверниц, в темном дорогом костюме, встал навстречу, на «хайль» иронично улыбнулся «бросьте формальности, Лангер», предложил портсигар. — Берите, лейтенант, не стесняйтесь. Это настоящий табак, лаки страйк, американские... Плохо спите? Мы все сейчас плохо спим. Кроме, может быть, профессора Ульмана — тот вообще не смыкает глаз, работает. Но он — гений, а мы обычные люди, нам нужен крепкий здоровый сон...
Знает. Не зря ввернул про здоровье. Проклятый гестаповец.... хотя нет, он «зеленый», Ваффен СС. Что это меняет? Мои «заплывы» в ведре становятся все продолжительней. Сколько Вигельт приводил меня в чувство? Полчаса? Час? Надо у него спросить. И чтобы ответил честно. На барабан порву. Завтра я могу вообще ничего не вспомнить. Превращусь в растение. Обер-фикус Лангер, третий горшок справа...
— Спасибо, господин штурмбаннфюрер. Жду ваших приказаний.
...Кнапп вчера оступился на трапе. Рукавица не выдержала — ободрал ладонь до мяса. У половины взвода вместо положенных курток-альпиек и бушлатов — обычные шинели. Горные егеря в шинелях! Бред. И опасный бред. Случись идти в дело — калек и обмороженных не оберешься. Все. Прикажу обрезать шинели по бедру — и пусть ворчат, что холодно. Кнапп уже доворчался...
— Лангер, Лангер... — покачал головой Геверниц. — Не надо делать оловянные глаза. Вы же умный человек... Мы — коллеги, а не враги. Я представляю в данной ситуации войска СС, вы, в свою очередь, являетесь представителем наших доблестных вооруженных сил. Но дело-то у нас общее. Не так ли?
Общее. Только Геверниц знает об этом «деле» все. У меня лишь догадки.
— Так, господин штурмбаннфюрер.
— Я прошу вас о содействии. Как коллега коллегу.
— Все, что в моих силах.
— На территории объекта произошел неприятный инцидент. Исчезла часть специального оборудования...
Я выпрямился.
— Вы думаете, мои люди?
— Нет, Лангер. Не ваши. Вы знаете, что в причальной зоне работают военнопленные? По недосмотру одного из моих людей, уникальное оборудование оказалось... гм... скажем: в опасной близости к пленным. Кое-что исчезло. Видимо, вор где-то припрятал украденное. Без этого дальнейшая работа теряет смысл. Поэтому я прошу вас о помощи, а не приказываю. Найдите пропажу — а вы можете, ваши люди в этом отношении гораздо лучше подготовлены — просите о чем угодно.
«О чем угодно?»
— В таком случае прошу вернуть моим людям оружие.
Геверниц ненадолго задумался.
— Логично, — он посмотрел на меня. — Хорошо, принято. Что еще?
— Теплая одежда. Свитера, ботинки. Мои люди мерзнут... Ветер, сырость. Морские бушлаты были бы очень кстати.
— К сожалению, Лангер, у меня только армейские шинели. Возьмете?
— Возьму. Брезентовые рукавицы?
— Сложно, но найдем. Что еще?
— Еда. И казарма за территорией объекта. Вернее, за той чертой... Вы понимаете, господин штурмбаннфюрер?
— Зовите меня Отто, Лангер. Понимаю. Это сложнее...
Не доверяешь?
— Вашим солдатам придется потесниться, — сказал я. Ну-ка, проглоти, Отто. Ведь я фактически прошу вывести моих людей из оцепления. Уважаемый кот, не могли бы вы открыть мышеловку?
Пауза.
— Хорошо, — Проглотил?! Что-то о-очень серьезное пропало. — Договорились. Когда ваши люди будут готовы?
— Дайте мне двадцать минут, — сказал я. — И могу я переговорить с теми, кто допустил оплошность? Надеюсь, они еще..?
— Они здесь.
— Отлично. Да, еще мне нужно описание пропавших деталей.
— Вы его получите. Пошлю к вам эксперта из техников.
...Уже в дверях я помедлил. Геверниц ждал.
— Штурмбаннфюрер, разрешите вопрос... Почему вы не возьмете собак? Это было бы быстрее и надежнее.
— Неужели не догадались, Лангер? — Геверниц испытующе посмотрел на меня. Покачал головой. — Вам действительно нужно выспаться... Хорошенько выспаться. Собаки на территории объекта бесполезны. Они бьются в истерике. Они воют. Их тошнит... Продолжать?
— Не стоит, — «ублюдок ты, Отто». — Я вижу, что происходит с моими людьми. Просто у собак это ярче выражено...
Приехали хмурые эсэсовцы во главе с шарфюрером, раздали винтовки. Старенькие маузеры, один боезапас на человека... Жить можно. Егеря, взявшие в руки оружие впервые за долгое время, заметно повеселели.
— Наконец-то! Надоело таскать эти чертовы ящики... Пусть флотские с технарями сами крутят свои болты!
— Стройся! — скомандовал Вигельт. Облачко пара вылетело изо рта. Ну что, рыжий, начинаем? — Отставить разговорчики! Господин лейтенант, взвод построен.
Я выпрямился, оглядел ребят. Серые шинели вперемежку с болотного цвета куртками. Изможденные, усталые лица, синюшные круги под глазами. Чертов Отто прав. Всем нам нужно хорошенько выспаться.
— Егеря! У нас задание, которое под силу только горным стрелкам...
2
Темная громада эсминца едва заметно покачивалась в серой мгле. Скрип тросов. На носу и на корме корабля — уродливые наросты, напоминающие деревья в колдовском лесу. Что-то вроде антенн связи, только сложнее — изогнутые, опутанные проводами и зачехленные брезентом. Вместо задней дымовой трубы — еще один нарост, похожий для разнообразия на древесный гриб...
Тихий, отчетливый гул каких-то машин. Если приложить ладонь к брезентовому чехлу на кормовом наросте — зуд пробежит по телу. И волосы встанут дыбом. Первое время егеря баловались, потом перестали...
Прекрасно их понимаю.
...Матросы — что ходячие мертвецы. Еще страшнее моих ребят. Бледные и худые, в глазах — тоска. Проклятый корабль.
Мольтке встретил меня на пороге каюты. Выглядел он немногим лучше своих людей.
— Хайль Гитлер, господин капитан! — салютую.
— Хайль. Спасибо, что пришли, лейтенант.
...Корветтенкапитен Генрих Мольтке, Кригсмарине. Командир эсминца «Мюнхен», серия Z1936... Бывшего эсминца. Потому что даже моего неморского взгляда достаточно, чтобы понять: «Мюнхен» больше не боевой корабль. Одна дымовая труба. Все орудия сняты, кроме пары пушек среднего калибра. Корпус изуродован врезками и сваркой. Трюмы эсминца переделаны до неузнаваемости. Сколько переборок вырезали мои ребята вместе с матросами Мольтке и инженерами Ульмана — страшно вспомнить. И еще страшнее вспоминать, сколько всякого железа мы перетаскали на корабль...
А зачем, спрашивается? Ведь не в качестве балласта?
— Присаживайтесь, лейтенант. Шнапс?
— Спасибо, с удовольствием.
Мы взяли по рюмке, сели напротив, ненавязчиво оценили друг друга. «Прозит!» Выпили.
— У вас ко мне дело, господин капитан?
— Генрих. Зовите меня Генрих.
Вот это да. Мы знакомы больше месяца, и всегда были на служебной дистанции. Назревает откровенный разговор? Наверняка. Сначала Геверниц, теперь Мольтке. Не по тому же поводу?
— А вы меня Лангер. Так удобнее... Генрих, не правда ли?
Мольтке улыбнулся.
— Правда, Лангер. Как вам шнапс?
— Отлично. Так о чем могут поговорить два образованных немца?
Пауза. Вот, сейчас...
— О поражении. Два образованных немца, Лангер, могут поговорить о поражении.
— Но...
— Успокойтесь, Лангер. Здесь невозможно записать разговор. Машины профессора Ульмана уничтожат любую запись в считанные мгновения. Здесь и магнитофон-то не включается. По сути весь корабль, — он усмехнулся с горечью, — МОЙ корабль — гигантский магнит. Каждую секунду здесь я чувствую — Геббельс назвал бы это мистическим чувством — чувствую, что умираю вместе с «Мюнхеном»... И это не метафора, это — правда. Вы знаете, что такое для моряка — его корабль?
— Вы не боитесь, что я донесу на вас, Генрих?
— Мне кажется, вы не из таких... В любом случае, остается мое слово против вашего. Сколько мне лет, по-вашему?
— Шестьдесят?
— Сорок шесть. Я умираю вместе с кораблем, не забыли?..
... — Хотите метафору?
— Хочу.
— Представьте, что этот корабль — Германия. Его изуродовали, превратили из прекрасной боевой машины — в лучшие времена мы давали 31 узел! — в уродливое чудовище, которое пожирает свою команду. Вы видели моих матросов?
— Видел.
— Мне стыдно, Лангер, — сказал Мольтке. — Перед командой. Перед «Мюнхеном»... И, что самое страшное, мне стыдно перед Германией. Если бы я мог вернуться в тридцать третий год... Один выстрел, Лангер. Всего один. Для вас не звучит кощунством?
— В кого бы вы стали стрелять? — Мольтке молча посмотрел на меня. — Понимаю. А остальные? Хватит у вас пуль на всех?
— Если я буду не один — хватит. Вы бы пошли со мной, Лангер?
Я помолчал. Мольтке сошел с ума? Впрочем, я и сам на полпути. Обер-фикус Лангер, третий горшок слева... Но! Вернуться в тридцать третий год — и спасти Германию от Гитлера? Потому что сейчас февраль сорок пятого и — надежды нет. Мы проиграли.
— Заманчиво. К сожалению, это невозможно...
Мольтке загадочно улыбнулся.
— А если представить? Вот этот корабль — может плыть по реке времени вспять. Что бы вы сделали? Считайте меня сумасшедшим, Лангер, но — ответьте на вопрос. Вы бы рискнули?
Я посмотрел ему в глаза:
— Да.
...Вигельт вошел, прикрыл за собой дверь.
— Ну, что? — я встал, разминая ладонями затекшую шею. В глаза как песка сыпанули. — Есть что-нибудь?
Он приложил палец к губам, взглядом куда-то наверх. Правильно. На месте Геверница я бы прослушивал все бараки...
— Нет, господин лейтенант, — сказал фельдфебель громко. — Ничего.
— Вольно, Вигельт, — я убрал со стола кружку с кипятком и бумаги. — Рассказывай.
Он достал из-за спины сверток, завернутый в обрезок шинельного сукна. Судя по движениям, довольно увесистый. Опустил сверток на стол...
— Да все как обычно, — заговорил Вигельт, разворачивая сверток. — Выгнали пленных, прочесали бараки. Только не так, как эти... охрана, мать их!.. а с толком. Нашли всякую мелочевку. Кусок хлеба, железяку гнутую. Технарь ихний, забыл, как его... посмотрел, сказал: не то. Сейчас Кнапп с отделением обнюхивают округу... Мож, чего найдут.
Развернул.
...Нож, удар ладонью, упрямая жесть. Банка норовит выскользнуть из ладони...
Наверное, эти русские очень хотели есть.
Когда-то это было очень похоже на консервную банку. Желтую, блестящую. И написано на донце: «Заяц». Кто-то из них умел читать по-немецки. Решили: попробуем. Иногда голод сильнее инстинкта самосохранения...
Передо мной лежал кусок металла. Вмятины от ударов... очень многих ударов... Торчащие из раскола обрывки провода...
...Горы маслянистых банок... Миллионы банок...
Дурацкий сон. Меня качнуло.
— Лангер, ты чего? — Вигельт удержал меня за плечо. — Опять?
— Нет, все в порядке. Устал просто... — я кивнул фельдфебелю: заворачивай обратно. Что это? Только Ульман знает. — Слушай, Вигельт, а нужники вы проверили?
— Ээ...
— Нет?!
— Виноват, господин лейтенант! — Вигельт подмигнул, сообразив. — Забыли, господин лейтенант. Сейчас же проверим, господин лейтенант...
— Пошли.
— Смотри, — сказал Вигельт. — Смотри, Лангер. Вот твой второй цилиндр. Только тихо, не спугни...
Тонкая девушка в полосатой робе, сидела на корточках. На руках — малыш, завернутый в тряпки. Девушка что-то тихо напевала по-русски...
— Она его вон под тем кустом прячет, — едва слышно сказал Кнапп. — Ребята посмотрели: думали сначала, что банка из-под тушенки, а там — фотография. И написано: ариец, мальчик, четырнадцать штук. Что это за «штуки» такие? И про возраст что-то... А, вспомнил! Шесть с половиной месяцев. Только почему-то минус шесть с половиной. Чтобы это значило, лейтенант?
— Тихо вы! — шикнул Вигельт. — Прости, Лангер.
— Ничего. Значит, этот цилиндр целехонек?
— Так точно.
— Представляешь, лейтенант, — зашептал Кнапп. — Кто-то из техников наклеил фото ребенка на этот цилиндрик... А она ему песенки поет. И сказки рассказывает. Я по-русски хорошо понимаю. Даже заслушался...
3
Увидев, что сталось с первым цилиндром, Геверниц побледнел. Не мгновенно, а медленно-медленно, словно кровь из него выпустили. Стал желтый, как ноготь курильщика.
— Где это нашли?
— Кто-то сбросил в нужник. У бараков пленных.
Запоздало понял, что не стоило этого говорить. По крайней мере, пока Геверниц в таком состоянии.
— Расстрелять. Всех. Немедленно, — он качнулся. Зарычал. Шагнул к телефону...
Что, Лангер, доигрался, твою мать?! Сколько он на тебя повесит жизней? Вовек не расплатишься! Рука поползла к кобуре. Вальтер 8 миллиметров. Восемь патронов. В здании десятка два эсэсовцев. Даже если уйду, то куда потом? В подвалы гестапо? А что с ребятами? Думай, Лангер! Думай!!
Геверниц поднял трубку...
— Нет!
Штурмбаннфюрер поворачивается. Лицо — бешеное. Я делаю шаг, другой... Думай, Лангер! Чтоб ты сдох, Отто фон Геверниц, эсэсовская скотина! Все вы, черные ли, зеленые ли — на один манер... И я вместе с вами?
НЕ ХОЧУ.
— Помните наш разговор, Генрих? — прокричал я в трубку. — Я согласен!
Мольтке на другом конце провода замолчал. Треск помех. До эсминца недалеко, фонит по-страшному... Лишь бы получилось. Лишь бы выгорело...
— Помните, что я вам говорил об Ульмане?! — закричал Мольтке наконец. — Найдите его. Узнайте, какой рубильник. Там должно быть три рубильника! На основные генераторы энергия подается постоянно. Я возьму техников. Они сейчас на корабле.
Надеюсь, эта линия, не прослушивается. Все-таки, личная линия фон Геверница.
— Егеря предупреждены! Пошлите к ним матроса, пусть берут пленных и идут на корабль.
— Пленных?! Лангер, вы в своем уме?
— Больше, чем когда-либо, Генрих! Сделайте это. Я разберусь с Ульманом.
— А что с Отто? — профессор огляделся. — Он мне нужен.
— Пришлось его ударить, — я посмотрел на профессора в упор. Незачем говорить, что Геверниц мертв. — Отто поддался чувствам. Он хотел расстрелять людей, которые должны привести нас ко второму контейнеру.
Ульман замер. Как кролик перед удавом. Не зря я припрятал второй цилиндр. Теперь буду гипнотизировать его этим словом «контейнер».
— И я его ударил, — сказал я. — Меня ждет трибунал, если...
— Нет времени, молодой человек. Берите контейнер! Живее! За мной!
... — Энштейн — недоучка. Он придумал неплохую теорию, сделал пару шагов, но — еврей есть еврей. Сделал один эксперимент с судном, получил результат, но не смог с ним справиться! Слабак. А я смог. «Великая Германия» готова к полету. И не куда-нибудь к берегам Британии, это пустяки, нечистая работа, а — в другие миры!
— Куда?
— К звездам, молодой человек, к звездам.
— А во времени? — Бедный Мольтке, он полон решимости изменить прошлое, эта новость его убьет. Ничего, хватит мстить. Пусть осваивает новый мир.
— Теоретически я разработал возможность перемещения во времени — но пока еще не взялся за ее осуществление практически, — профессор почесал лоб. Снял очки. Снова надел. — Видите ли, молодой человек, для перемещения во времени требуется два перемещения: одно во времени, другое в пространстве...
— Почему?
— Вы — великий неуч, Лангер! Это же элементарные вещи. Планеты вращаются, вращаются галактики... Переместившись даже на год во времени — «Великая Германия» окажется в вакууме, где-то вдалеке от Земли... Я могу рассчитать, впрочем... Это интересная задача, Лангер. Думаю, в скором времени я решу ее.
— Кто должен лететь на «Германии», профессор? Ведь придется осваивать чужой мир. А там, кто знает — хищники, звери, микробы? Что-нибудь еще?
— Мой проект наверху сочли не слишком перспективным, — желчно сказал Ульман. — Идиоты! Я настаивал на цвете нации. А что получил? Судите сами, молодой человек! Две команды СС. Мужчины-арийцы и девушки-блондинки. Будущие стюарды и рабочие. Не обременные интеллектом! А ведь им строить новый мир! Вдобавок к ним команда эсминца, несколько асов Люфтваффе — не самых знаменитых, заметьте — ученые, биологи, геологи, идеологи, историки рейха. Плюс группа СС во главе с Отто фон Геверницем. И с этим начинать Четвертый Рейх?
— А как же вы профессор?
— Я принесу Германии больше пользы здесь, нежели за сотни световых лет, — сказал Ульман. «А ведь он верит в то, о чем говорит.» — Мне рано умирать. Все они, весь экипаж подвергнется необратимым изменениям во время межзвездного перемещения.
— То есть?
— Прыжок займет один час, сорок две минуты. Плюс минус двенадцать минут... Ах, да. Что будет с экипажем? Все они умрут через несколько лет после прыжка. Самым молодым и крепким даю лет пятнадцать. Вам, молодой человек, дам от силы лет пять. Воздействие РУ-генераторов на живые организмы еще не до конца исследовано. Это интересная задача, кстати...
Я вдруг вспомнил лица егерей. Цветной строй: серо-болотный. И улыбки... Оружие в руках и улыбки...
Ульман продолжал рассказывать:
— На борту «Великой Германии» двенадцать инкубаторов. Нужный контейнер ставится на рабочий лоток... вот так, видите? Через положенное время вы получите молоденького зайчика, поросенка или совершенно здорового малыша. Противомагнитная защита — это моя гордость... Пока юный ариец в инкубаторе, специальный магнитофон рассказывает ему в доступной форме о величии Великогерманской нации, о фюрере. Со мной работал профессор Лорх, у него очень интересные идеи по психологии младенческого развития...
И детей лишили хороших человеческих сказок? Почему такие мозги судьба дарит людям, лишенным сердца?
Или гений, мать вашу так, должен быть выше морали, выше человечности?!
— Как подать энергию на пусковой генератор? Профессор, это важно. Мне пора идти за контейнером...
— Что? Вот этот рубильник. Вниз — и к звездам. Ха-ха. Все-таки Энштейн слабак. Такое мог совершить...
...Ведь я полковник! Чем командую? Складом американской тушенки. Горы маслянистых банок. Тысячи маслянистых упругих банок. Тысячи тысяч...
Так думают фюреры?
Я посмотрел на белые, аккуратно расчесанные волосы Ульмана и поднял руки, сложенные в замок. Один выстрел, сами знаете в кого? Один удар...
Потом позвонить. Ребята должны забрать пленных русских... И пусть обязательно захватят ту девушку, которая пела колыбельную... А что буду делать я? Мне нужно к Мольтке, на эсминец. «Великая Германия»?! Черт возьми, почему нет? Я хочу видеть Германию великой! Но не так, как представляют это Ульманы и Геверницы. Страна людей, а не склад тушенки...
Пришло время поступка, да, Франц?
Давно я не называл себя по имени...
УРОТ
Воще то я ни урот. Проста я такой красивий. Миня мама уранила када ей сказали чта па больше ни вирнецца. А он ни мог никак вирнуца. У ниво в машине уран кончилца. Па лител нат гарами где дерги живут они ево патом схавали. Дядю Костю то же схавали одна жилезная нага асталася. Ма гаварит ну вот блин. И миня уранила. Я ни болна ударилса толька руку сламал и челисть. Я скасал ма зачем ты меня уранила дура. То исть я нипомню че я сказал я тада савсем малинький был. даже ругацца ни умел нафик. Навернае че та сказал патаму чта трудна удиржацца. Када тибя мордай апол.
Мы тада жыли вбункире хатя ядирная вайна уже кончилася. Но ма гаварит а вдрук апять ну нафик такои щастье. А када па ни вирнулса. Ма гаварит атец урот сабака чмо накаво ты сволачь нас аставил. Как типерь жить. Бис тибя. тут я спола заплакал патаму шта челисть сламал и па жалка.
А этат придурак гаварит ты урод. Ты зачем сюда пришел. Здесь наша деревня, здесь уродам ходить нельзя.
Я иму гаварю я ни урот миня мама уранила. А он гаварит
— Вижу, что уронила. Что рожу повредил, тоже вижу. А третья рука у тебя тоже от удара образовалась?
Я гаварю иди нафик видили предурка ипакруче.
Тут он как закричит на миня мутант проклятый за придурка ответишь. Пака он кричал я иму ваткнул в живот палку и павирнул три раза. Мок и читыре павернуть но он стал вирищать как дефка. Пришлось ево на землю уранить. ибить нагами блин. Патом у ниво из живата кроф патикла. Он вирищать пиристал толька на абарот замалчал нафик и ни дергацца. Но уже позна другие прибежали гаварят
— Ты его убил!
Ну вот нифига сибе думаю схадил за ураном. Че он умер он гаварю савсем дурак. Если бы миня так били я бы фик умер. Ни даждетись гаварю. Они гаварят
— Это мы сейчас проверим!
Давай миня правирять. А че миня правирять када я бис ихних дурацких праверак знаю. Не умер ни фига как и гаварил. Они устали миня бить гаварят
— Давайте его к мэру отведем.
Я гаварю жалка палку сламали харошая. Была палка. Где я такую ище вазьму. Один гаварит
— Гляньте, ребята, какой разговорчивый мутант. Давайте ему еще всыплем!
А толстый иму гаварит: Хватит! Пошли к мэру.
Он уже задалбалса миня пинать.
Пришли к мэру. Мэр гаварит
— Что за чмо?
А када узнал шта этат придурак умир гаварит
— Посади его в клетку. Завтра повесим.
Толстый гаварит: Как повесим? А виру за убитого кто платить будет?
Мэр гаварит
— Какая нафиг вира? С этого урода? Иди, посади его.
Миня привили к клетке. У двирей сидели двое. Один гаварит
— Куда этого-то? Его же там сожрут.
Толстый гаварит
— Ну и хрен с ним. Все равно завтра ни виселицу.
Дверь аткрыли и миня запихнули так шта я упал мордай аппол. Слышу ктота смиецца поднимаю голаву. Сидит дефка такая красивая шта я описать ни магу. Толька у миня сразу зачисалось. Я гаварю давай чели че время тирять. Миня гаварю Витя завут.
— Пошел ты!
Я гаварю ладна толька лажись и ни дергася. Ана гаварит
— Только попробуй! Убью!
Ни хочишь гаварю тагда я тибе пра симью нашу раскажу.
Па красивый был. Ма ево фсе время ривновала. Гаварила я тибя убью сукин кот если хоть одним глазком куда посмотриш. А как ни сматреть кагда у па их восимь? Если бы уран ни кончилса я бы тоже красивим был как па. Атак миня уранили. Ты ни думай ма уминя малаток. Вырастила нас пять сыноф две дочки и ище Жгутика. Он наверное тоже сын или дочка но я иво атдельна щитаю. патаму шта. Нипанятна кто он есть. Гаварить он ни хочет а праверить иво нильзя он кусаеца больна.
Патом я спрасил тибе страшна. Она гаварит
— Отстань.
Я гаварю. хочишь спаю калыбельную каторую мне ма пела кагда я плакал. Она гаварит
— Не хочу! Заткнись ты, урод, ради бога, дай поспать!
Я не обиделса на урода патаму шта. Понял она ат страху так гаварит. Я запел как ма научила
Баю бабушки баю
Ни лажися на краю
Придет серинький валчок
И укусит за бачок
Он укусит за бачок
Вырвет ляжечки клачок
Вырвет серце вырвет глас
Выхади кто
Она гаварит
— Заткнись! Нет, это невозможно... Эй, там, за дверью! Стража!
Ис двери сказали шта если она будит кричать. Будет только хуже. Таких огребешь, ведьма, что завтра на костер нести придется. И вообще, могла бы хоть к уроду отнестись по человечески. Ему завтра помирать.
Ана гаварит: А мне нет?!
Ис двери гаварят: Тебе в любом случае, а парень под горячую руку попал. Родственничка мэра замочил случайно. Непруха. Кого другого — отделался бы вирой. Эй, парень, ты на нас зла не держи! Слышишь?
Я гаварю слышу вы харошие люди мне здесь нравицца. Ани гаварят: Салют, парень.
Я гаварю как тибя завут. Ана гаварит: Обойдешься!
Ис деври гаварят: Ханна ее зовут.
Утрам вывили миня на площать. Там дрова кучей и виривка на сталбе. Вакруг нарот стаит на миня смотрит. Ие то же вывили.
Мэр улыбацца и гаварит
— Хочешь сказать последнее слово?
Я гаварю атпустите Ханну.
Ани все зашумели
— Смотрите, мутантик-то совсем с катушек съехал! Влюбился. Парень, опомнись. Она же из дергов! Ты хоть знаешь, кто такие дерги?
Я гаварю знаю. Они маево па съели у ниво уран кончилца.
— Парень, да ты глянь! Она твоего отца сожрала.
Я на ние смотрю ана гаварит
— Не слушай их. Мы никого не едим. Все отходы идут на вторичную переработку. Еду нам делают специальные машины… Мы, в отличие от этих, люди.
— Дерги вы! Людей жрете! Своих мертвецов жрете! Разве люди так делают?
— У нас все идет в дело. После войны чистая еда на вес золота. Люди — хорошая органика.
Я гаварю точна па был красивый. Третий глас краснинький а сидьмой шта на затылке. С зилеными точками. Я када малинький был всигда на пличе у ниво сидел и глас шикотал. А па смиялса и гаварил шта я кукушонок. Ма так расказывала патамушта. я тагда малинький был и ничево нипомню.
Мэр гаварит
— Дурак ты, парень! Кого ты слушаешь. Они бы всю твою семью живьем в машину засунули. Думаешь, они с уродами церемонятся?
Я гаварю ма ни урот ма красивая. Но Ханна ище красивше. Если ана па съела то так нада. Я бы на месте па толька улыбалса бы.
Мэр на миня смотрит и гаварит
— Ты совсем дурак?
Толстый на миня смотрит и то же гаварит
— Ты идиот?
А Ханна малчит на миня смотрит.
А я гаварю я урот. Миня убивайте а ее ни нада. Ана красивая.
Мэр гаварит: Начинайте!
Она гаварит: Мне страшно, Витя.
Ни бойся гаварю я. Хочишь я спаю тибе калыбельную, каторую мне ма пела?
Она гаварит: хочу. И я запел.
СЕРЖАНТУ НИКТО НЕ ЗВОНИТ
Семь лет прошло, а я все еще тебя люблю.
Извини. Глупо начинать рассказ с этих слов — почти так же глупо, как смотреть фильм с финальных титров, минуя начало, развитие, ударные моменты.
Лица актеров — по памяти, и к черту грим!
Капрал: Америго да Корсо.
Старший сержант: Франко Соренте.
Сержант: Рауль Моралес.
Рени, Рени, Рени…
В роли мертвого лейтенанта Рамиреса — мертвый лейтенант Рамирес.
— Сержант Соренте, — доложился я. — Прибыл на военный совет.
— А где лейтенант?
— В заречном квартале, — пояснил я любезно. — Чем занят? Лейтенант украшает собой дерево. Лицо у него почернело, язык — вывалился. Хотите знать что-нибудь еще?
— Что... что случилось?
— Он мертв. Его повесили, если быть точным.
— Как?
— За шею, полковник. Веревка пережимает дыхательное горло и человек умирает. Очень просто. Как говорили в старину: вас повесят, и вы будете висеть до тех пор, пока не умрете, не умрете, не умрете...
— Сержант!
— Полковник.
— Ваши шутки неуместны... и оскорбительны! Рамирес был хорошим офицером.
— Он был идиотом. Только идиот отправится за реку без охраны.
— В одиночку?!
— Хуже, полковник. Он взял с собой капрала Денсини и рядового Гомеса. Их повесили веткой ниже. Жаны уважают субординацию. Хорошее рождество — правда, сэр? Вы же англичанин, у вас принято уважать традиции. Жаны, за неимением ели, обошлись ясенем... или тополем? Простите, полковник. Я плохо разбираюсь в лиственных породах.
— ...мы окружены, — подвел итог начальник штаба.
— Сержант, а как вы оцениваете обстановку?
Я скривил губы. Военный совет, мать вашу! Мы действительно в отчаянном положении, раз армейцев интересует мнение какого-то миротворца.
— Хватит играть в молчанку, сержант, — раздраженно сказал Джанелли. — Мы можем победить? Ответьте как специалист — вас же этому учили.
— Хорошо. Я отвечу. Вы знакомы с тактикой партизанской войны? — я оглядел присутствующих, — Вижу, что нет. Существует единственный способ победить гверилью — один единственный. Это в наших силах. Но, боюсь, он вам не понравится.
— Что за способ?
— Лишить партизан базы.
— Продовольствия, оружия? Денег?
Я помолчал.
— Людей, — сказал наконец. — Все остальное — мишура, следствие... Без населения, поддерживающего партизан, последние обречены.
— И что вы предлагаете?
— Я не предлагаю. Я констатирую факт. Наш путь к победе называется неприятно. Очень неприятно. А выглядит и того хуже.
— Геноцид, — тихо обронил О'Коннор. На него стали оборачиваться — артиллерист сидел бледный, ладони стиснули кружку. — Это же так просто... этот псих говорит о геноциде. Так просто...
Я ухмыльнулся.
— Совершенно с вами согласен, майор. Лучшие решения — простые решения.
Глухой стук. Майор уронил злосчастную кружку.
— Вы забываете, полковник, — сказал я с издевкой, — миротворцы не подчиняются армии.
— Но лейтенант Рамирес...
— Лейтенант мертв. Теперь моим начальством на этой планете является Господь Бог. Вы, — я шагнул к Джанелли и ткнул пальцем в грудь, — не он. Что, как ни странно, меня радует.
Полковник побледнел; рука поползла к кобуре. Последнее время я многих пугаю.
— Вы — маньяк, сержант, — тихо сказал Джанелли. Ты смотри, что значит академия генштаба — душа в пятках, а осанку держит. И голос почти не дрожит. — Свихнувшийся сукин сын.
— Я оставлю ваши слова без последствий, полковник. Спишу на стресс. Вы расстроены, и я могу понять, почему. Однако в следующий раз советую хорошенько подумать, и только потом — говорить.
— Вы мне угрожаете, сержант?!
— Нет, сэр. Я вас предупреждаю. Будьте осторожней — у жанов повсюду снайперы. Случайная пуля обрывала карьеру и не таких блестящих военачальников, как вы.
Терпение полковника лопнуло. Джанелли схватился за кобуру, взглянул мне в глаза и — понял. Отдернул руку, словно обжегся... пальцы дрожат.
— Полковник, сэр, — я отдал честь — впервые за долгое время. Из-за снайперов воинское приветствие отменили месяц назад. — Старший сержант Франко Соренте, 8-ая бригада коммандос, ООН, ВКС. Разрешите идти?
— Идите.
— Рауль?
Рауль аккуратно закрыл книгу. Выпрямился, заложил руки за голову — ноги в огромных ботинках вылезли далеко за спинку кровати. Рост Рауля два метра десять, сложение пропорциональное — я, только увеличенный в полтора раза.
— Да, Франко?
— Как думаешь, зачем Рамирес пошел за реку? — сказал я. — Причем в компании всего двух солдат? Он, конечно, не гений — но и не дурак. По крайней мере, связать «заречный квартал», «без охраны» и «дырка во лбу» он мог.
— Это ты можешь. А у Рамиреса всегда было плохо с логикой.
— С головой у него было плохо, — буркнул я. Рауль запрокинул голову и расхохотался. — Чего ты ржешь?!
— Кто бы говорил, кто бы говорил. Ты давно к психологу заглядывал?
— У нас и психолог есть? — приятно удивился я, — Вот уж не знал. Или предлагаешь обратиться к армейцам? Так они диагноз без всякого доктора поставят — псих и маньяк. Скоро на входе в штаб у меня будут отбирать оружие.
— Давно пора, — согласился Рауль, — А насчет психолога... Чем отец Пабло хуже? У него, между прочим, ученая степень по психологии.
— А у меня степень по психопатии.
— Нет у тебя степени, — сказал Рауль, — У тебя даже психопатии нет. Выпендрежник чертов. Все твое безумие — отыгрыш роли. Талантливый отыгрыш, признаю, но ты — не психопат.
— Пока еще нет. Но буду.
— Послушай меня, Франко, — сказал Рауль. Я стер улыбку. Когда Рауль хочет быть убедительным — ему это удается. — Это не шутка. Я настаиваю, чтобы ты поговорил с отцом Павлом. Когда нормальный человек стремится сойти с ума — это ненормально. Такая вот игра слов.
— Знаешь, почему быть психопатом — лучше?
— Судя по тону, ты во мне сомневаешься, — Рауль выпрямился. — Да, я хочу знать. Смотреть, как твой друг слетает с катушек, и не понимать: почему... Давай, Франко, ты сам напросился на исповедь.
— Когда нормальные люди творят то, что творим мы — поневоле хочется сойти с ума... И уж лучше я буду считать себя психом, чем дерьмом.
— Рауль?
— Да, Франко.
— Армейцы попробуют договориться с жанами. За нашей спиной, естественно. Жаны пообещают им свободный выход из города, — я помолчал, — И, скорее всего, не обманут. Только нам их верность слову до одного места.
— Нас не выпустят?
— Нет, Рауль. Мы же миротворцы, кровавые псы...
— Плюшевые кролики с ножами, Франко. Мы приходим и...
— Начинается праздник, — закончил я. — Ты прав, Рауль. Я что-нибудь придумаю.
— Майор О'Коннор?
— Какого черта вы меня вызвали?! Я кажется, ясно сказал...
— Не надо скрывать свои чувства, майор. Я вам неприятен? Или это еще мягко сказано?
— Ты — чертов нацист!
— Правильно, майор, — я улыбнулся. Артиллерист замолчал. В последнее время моя улыбка странно действует на людей. — А еще я псих. Думаете, ваш маленький тет-а-тет с жанами вас спасет? И вас пропустят к космодрому? Да, да, я все прекрасно знаю.
— Полковник Джанелли...
— Вопрос в другом, — мягко вклинился да Корсо. Молодец, капрал! — Вы доверяете жанам?
С минуту О'Коннор молчал.
— Нет.
Дикая горечь. Боль.
— Сержант?
Так, попробую встать. А, черт! Почти ведь получилось...
Я вытер губы рукавом и посмотрел на да Корсо снизу вверх.
— Что, капрал, первый раз видишь, как человек выблевывает свою совесть?
Молчание.
— Значит?
— Значит, я обманул нашего доброго майора. Понятно, капрал? Обвел вокруг пальца. Кинул. Облапошил.
— Сержант, вы же дали слово?
— Верно, капрал. И тем самым подставил ребят из шестой мотопехотной. Это хорошие парни... мне жаль. Но мне в сто раз дороже один зануда Джиро из второго взвода, чем вся их шестая мотопехотная.
Понимаешь, да Корсо? Есть свои и есть чужие. Нельзя любить все человечество — можно любить конкретных людей. И все. Весь мать вашу гуманизм.
— Рауль?
— Да, Франко?
— Мне нужен человек, с которым говорил Рамирес перед смертью.
— Подожди! Значит, переговоры все-таки были? Ты уверен?
— Уверен. Первым этапом армейцы сдали жанам... угадай, кого? Правильно. А лейтенант думал, что идет на переговоры... Полковник прав, Рамирес был хорошим офицером.
Я отхлебнул кофе, поморщился. Черт, опять желудок ноет...
— Рауль? Делай, что хочешь, но — мне нужен этот человек.
— Сержант! Мы ее нашли.
— Ее?!
Семь лет, Рени. И вот я здесь. Сорок второй этаж, «Тур-д'Эфель», Новый Лиссабон — а за окном идет дождь и сверкают молнии. Бутылка. Коньяк. Ты же знаешь, я почти не пью. Ты все обо мне знаешь. Пусть я хреновый рассказчик, но ты отличаешься редким умением слушать, не перебивая. Да, и я нашел твоего сына. Это было нелегко, но я нашел. Беженцев с Ла Либерти... впрочем, это уже неважно. Я видел его сегодня, но не смог подойти. Прости. Я сделаю это завтра, хорошо?
Мальчишке девять лет и у него твои глаза.
Как думаешь, хороший бы из меня получился отец?
Иногда я представляю, что мы с тобой — муж и жена. Смешно, правда? У меня работа с восьми до пяти, серый галстук, у тебя — домашние заботы и смешные белые носочки, которые сводят меня с ума. Иногда мы занимаемся с тобой любовью на кухне — и это еще лучше, чем в первые дни после свадьбы. Наш сын играет в футбол с ребятами да Корсо и ухаживает за дочкой О'Коннора — Марсией. У нее рыжие волосы и смешной короткий нос...
Да Корсо убили во время прорыва, а О'Коннор застрелился.
К нам приезжает в гости Рауль, которого все мальчишки нашей улицы зовут «дядей». Он смеется так, что грохочут стекла, и затевает с пацанами игру в супергероев...
Рауль стал большим начальником.
А вчера звонил Рамирес, которого мы за глаза зовем... Впрочем, он действительно хороший офицер. И неплохой человек, хотя и зануда.
Знаешь, меня уволили по состоянию здоровья... Впрочем, ты все обо мне знаешь.
Я помню твой смех — хотя ни разу не видел тебя смеющейся. Я помню твою улыбку, твои глаза... да я помню. Помню, как ты откидывала прядь волос и ворчала «Франко, ты невозможный!». И еще помню, что знал тебя всего двадцать семь минут. Наверное, это бред. Это точно бред.
...уж лучше я буду считать себя психом, чем дерьмом.
Я подойду к твоему сыну завтра, хорошо? Скажу: привет! Я смогу. Он вырастет и изменит мир. За да Корсо и О'Коннорса, за Рамиреса и Джиро, за нас с тобой...
И тогда у меня, старшего сержанта Франко Соренте, 8-ая бригада коммандос, ООН, ВКС, останется одна привилегия...
Любить конкретных людей. И все. Весь мать вашу гуманизм.
ИЗМЕНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
ЛЕДЯНОЕ ПЛАМЯ
— Восемьдесят восемь!
— Восемьдесят восемь, брат.
Вальтер, в обычной жизни: Илья, вскинул сжатый кулак от сердца и вправо. Я ответил тем же. И почувствовал укол совести, увидев в глазах мальчишки неприкрытое обожание. Холдо! Почти как Хэндо, герой культового «Romper Stomper». Самый старший, самый крутой, самый-самый. Настоящий лидер, харизматическая личность...
Расчетливая сволочь, притворяющаяся другом.
Мы пожали запястья — по традиции вайт-пауэров. Стукнулись грудь в грудь. Вальтер — парень здоровый, мышцы накачал так, что чуть рубаху не рвут, ростом же намного выше меня. Но — преклоняется. Вирус какой-то, что ли?
— Это пиво? — спрашивает Вальтер, склоняясь над ящиком.
— Теплое?
— Ага.
— Тогда не пиво. Теплое — это моча. Пиво должно быть холодным.
— Понял, — догадливый Вальтер утаскивает ящик на кухню, поближе к холодильнику.
В комнате включают магнитофон. Юношеский голос с закосом под рычание солистов хэви-металл-групп завывает:
Чёрный труп на столе. Пульс, дыхание — на нуле!!
Как при жизни пахнет он... Ниггер! Гиббон!!!
— Выключите это дерьмо! — не выдерживаю я. — Вовчик! Геббельс, твою мать!!
Нож вычерчивает раны на теле мёртвой обезь...
Заткнулся. Уже хорошо.
Снимаю ботинки, прохожу в комнату.
— Зиг хайль, майн фюрер! — дурашливо салютует Вовчик-Геббельс. Природа обделила парня ростом, но зато добавила энергии. Бьет через край, из ушей выплескивается. Гвоздь в заднице у всего коллектива. Как он вообще в скины угодил? Черт его знает. — Чем мой фюрер недоволен?
— Восемьдесят, Вовчик. Еще раз включишь это дерьмо, руки оторву. Что хоть такое?
— Вайт хоррор, идеологически выдержанная группа, альбом «Прирожденный скинхэд», год девяносто девятый, — преданно излагает Вовчик. Шут гороховый. — Моя любимая песня «Железногорск-2000»! Иду с ножом в кармане, — начинает Вовчик исполнять на манер рэпа с соответствующими движениями рук. — С повязкой на руке, жиды поют по-русски с Кобзоном во главе...
— Геббельс, заткнись, будь другом. Даже идеологически выдержанное дерьмо все равно остается дерьмом. Мне что, в вас еще музыкальный вкус воспитывать? Лучше бы ромперов поставил. Или марш мертвых наци...
— Это не актуально.
— Зато концептуально, — огрызаюсь я.
— Еврейские словечки? Ха-ха. Скино-масоны? Как ты это называешь? Больные слова? Актуально, концептуально, номинальный, перфекционизм, адекватность, интерлюдия...
— И сейчас так называю. Так что, заткнись, Геббельс, пока какой-нибудь заговор с твоим участием не раскрыли. Совершенно случайно, конечно. А показания...
— А показания мы из него выбьем! — радостно провозглашают за моей спиной. И по плечу меня: хлоп! Ой-е, крепкая у Дениса рука. — Восемьдесят восемь, Холдо. Зиг хайль, наш любимый еврей! — это уже Вовчику.
Денис по прозвищу Казак отслужил два года во внутренних войсках, где лишился почти всех зубов. Воевал. Чечня, Ичкерия. В Грозный въезжали на бэ-тэ-эре, врубив «Rammstein» на полную громкость через внешние динамики... Люто ненавидит чеченцев и вообще всю кавказскую диаспору. Хотя, как ни странно, зубы ему выбили свои же сослуживцы. Человек бесстрашный и в драке незаменимый. Единственные, кого Денис боится — это стоматологи...
Второй год зубы вставить не может.
Вовчик показал Казаку жест, именуемый «отруби по локоть».
— Ах, ты!! — Денис прыгнул вперед...
— Холдо, привет! — появляется на шум борьбы Маша-Гелла. Здоровенная деваха, с бритой головой, по-мужски оплывшим лицом, и в черной футболке. В руке — гитара. — Стильный цвет, — говорит она, озирая мою розовую рубашку, широкие штаны на подтяжках и темно-серое пальто без рукавов. — И вообще: прикид классный. Прямо выходной костюм. Че сегодня, праздник какой?
— Да. Позже объясню.
— Хр-рр. А-а! — поворачиваемся и дружно созерцаем единство и борьбу противоположностей: рослый Денис ухватил Вовчика за щиколотку и поднял вниз головой, а Геббельс в ответ кусает противника куда-то в район колена. Соответственно, Казак пытается спасти ногу и скачет по комнате. После каждого прыг-скок голова Вовчика оказывается в опасной близости от пола...
— Как ваше ничего? — спрашивает Маша, зевая.
— Спасибо, Гелла. Все хорошо. Как твои Диаблы Ту?
— Ох, бля! Сорри, Холдо, я ненарошно, — спохватывается она. — Застряла на пятом уровне... демоны проклятые. Лезут и лезут, ниггеры какие-то, чест слово...
— Гелла, а...
— Голову мыть будете?
Холдо решил, что уж на этот вопрос он ответит сам — без помощи Другого:
— Да.
— Проходите, пожалуйста, — сказала девушка. Холдо последовал за ней к белой раковине, краем глаза наблюдая отражение собственной фигуры в зеркалах. Среднего роста, темные волосы до плеч, плотного сложения...
Седоватый мужчина, над шевелюрой которого колдовали руки полненькой парикмахерши, скосил на него глаза, тут же отвел. Выглядел седоватый расслабленным и неопасным, но Холдо насторожился. Почему-то здесь избегали смотреть прямо, предпочитая вот так — искоса и с прищуром. Надеюсь, подумал Холдо, я выгляжу...
«Адекватным». Он поморщился.
Чужое слово. Больное слово.
— Садитесь, пожалуйста, — заговорила девушка. — Откиньте голову, — перед глазами Холдо оказался белый потолок. — Вода не слишком горячая? Сделать похолоднее?
— Да.
Другой знал много больных слов. Все они были чужими для Холдо, от каждого шло фальшивое, лихорадочное, липкое тепло — они не грели, а лишь туманили мысли, словно плохо очищенное виски. За такими слова легко прятаться, подумал Холдо, стоит только...
— Так лучше?
— Да.
...наворачивать одно на другое.
Но есть слова проще и честнее. «Еда», «осень», «дом», «костер». Они теплые. А еще есть слова прохладные, слова холодные, а иногда — обжигающе ледяные, словно ружейный металл на морозе...
Настоящие слова.
Такие, как «честь». Долг. Такие, как «ярость».
Холдо вздрогнул.
— Хх-аар-х!
Треснуло! Ранняя весна — лед подтаял, набух водой, превратившись в западню для неосторожного всадника. Задние ноги жеребца провалились. Он с испуганным ржанием рванулся, ломая подтаявшую корку, и — погрузился по круп. Передние копыта замолотили в воздухе. Маршал мгновенно привстал на стременах, выдернул «Винчестер» из перевязи, швырнул в сторону... взвился в прыжке...
Уже приземляясь спиной на пористый, рыхловато-серый подтаявший лед, подумал, что надо сразу перекатиться вправо, чтобы не...
Плюх!
...провалиться. Спина погрузилась в мягкое. Вправо, вправо, еще раз вправо... Белое, черное, белое, черное, белое... Белое. Стоп. Теперь — лежать неподвижно. Ждать. И надеяться, что сердце бьется недостаточно сильно, чтобы потревожить хрупкий лед.
Бух. Бух. Бу-бух.
Маршал замер, раскинувшись — словно обнимая реку. Слева раздавались глухие удары, плеск воды, обреченное ржание... Жеребец тонул. Все еще тонул. В скором времени его затянет под лед... а маршалу придется идти пешком...
Беглец тем временем все дальше. Проклятье! Что за невезение...
Дьявол, дьявол, дьявол!
Маршал отыскал взглядом «винчестер». Пополз вперед.
Другого звали Антон. В первые дни Холдо часто терял сознание, когда же приходил в себя, видел глазами Антона немногое. Иногда: котелок с похлебкой, реже: тарелку с поджаренным куском мяса; какой-то стол с бумагами, временами — белую комнатку, где Антон неторопливо справлял нужду. Но чаще всего взгляд Другого упирался в ящик с движущимися за стеклом картинками. Люди стреляли, люди целовались, люди женились, люди заводили детей, люди смеялись...
Но стреляли они гораздо чаще.
Все миры одинаковы, подумал Холдо в один из коротких периодов ясного сознания. Дайте человеку ружье, и он найдет, кому снести голову.
— Как стричь? Модельную или подровнять?
«Снять с боков и затылка, сверху укоротить, виски прямые.» Холдо проигнорировал совет. У него были другие планы.
— Налысо.
«Что-о?! Не хочу! Я буду выглядеть как гребаный наци!»
— Вы уверены? — в голосе парикмахерши — неподдельное сожаление. Пальцы берут темный локон. Длинный, шелковистый. Нечасто тридцатилетние мужчины стригутся, как лопоухие призывники. — Нет, вы точно уверены?
— Да.
«Это же моя голова. Мои волосы. Моя...», привычно заканючил Антон. В последнее время Другой стал капризным и раздражительным, даже пару раз пытался вытолкнуть Холдо в темноту. Холдо терпел. Дело, ради которого он пришел сюда, ради которого потерял свой старый мир и не мог обрести новый...
Проклятое дело требовало дьявольского терпения.
Долг — очень холодное слово. Очень и очень.
Честь.
Совершенно ледяное.
— Подумайте! У вас чудесные волосы, густые и красивые. Может быть...
— Нет, — равнодушно сказал Холдо. — Стригите налысо.
Несколько долгих мгновений он смотрел в зеркало. Почему-то увиденное там поразило его воображение больше, чем первое пробуждение в кресле перед слепо моргающим телевизором. Больше, чем желтый лист под коркой льда. Больше, чем железные повозки или женская откровенная чувственность...
Даже больше, чем оружие в ящике с нижним бельем.
В зеркале был незнакомец.
Бритый налысо череп неровной формы. Мягкий подбородок, высокие скулы, широкий лоб. Впрочем, Антон никогда не отличался красотой или особой выразительностью черт...
Однако незнакомец в зеркале не был Антоном. Обычное («типичное», опять больное слово) лицо. Только в типичную эту внешность, как в свежую глину, впечатана холодная воля маршала Энтони Холдо.
Ироничная складка губ, изгиб бровей...
И — просверком ножа в тесноте драки, холодом свинчатки в ладони: зеленоватые, с проледью, глаза.
Человек выглядел достаточно упертым, чтобы прошибать головой стены.
Беглец уходил все дальше, забираясь в предгорья, а маршал преследовал его. Эта пустыня была белой, огромной, слепящей — ледяной сестрой Долины Смерти и матерью снежной слепоты. Просторной могилой для уставших путников. Маршал упрямо шел вперед, закинув на плечо уцелевший винчестер. Пальцы левой руки уже не болели. Он думал, что отморозил их, но не знал точно, так ли это. В любом случае: наблюдать, как пальцы осыплются кусками мертвой плоти, у него не было никакого желания. Даже если он лишился руки, как лишился кончиков ушей и носа — про это можно забыть. Главное: шаг левой, шаг правой...
Дыхание паром вырывается изо рта.
Держать темп.
Левой, правой, левой, правой. И — сохранить правую руку. Даже не всю. Не надо жадничать. Это ни к чему... теперь. Два пальца: большой, чтобы взвести курок, и указательный — чтобы отпустить свинцовых птичек на волю. Хватит с запасом. Впрочем, по большому счету, можно обойтись и без большого пальца...
Лишь бы стояла прежняя безветренная погода. Лишь бы следы на снегу...
Лишь бы...
Долг.
Лишь бы...
Честь.
Лишь бы...
Холод, холод, холод.
Огромный медведь ревел на свору маленьких собак, выглядевших как кутята рядом с великаном в полтонны весом. Собаки лаяли и норовили укусить. Гризли отбивался, с невероятной скоростью выбрасывая лапы. Вот когти его задели одну из шавок... Визг, брызги крови. Разорванный пес упал на землю.
Вцепившись медведю в ухо, висели две шавки, раскачиваясь наподобие громадной серьги.
Выстрел. Медведь взревел, вскинулся...
И упал.
...Холдо выключил телевизор.
Мне нужна свора, подумал он. Если я собираюсь охотиться на крупного зверя — а Клаус-Расул зверь очень крупный и очень опасный — мне нужен десяток злобных псов, готовых вцепиться медведю в уши...
И, кажется, я знаю, где этих псов искать.
— С вас пятьдесят рублей, — сказала девушка с ножницами. Поправила волосы тем особым, женским движением. — Ой, спасибо. Ваша сдача... Я чем-нибудь еще могу вам помочь?
Я ей нравлюсь, отрешенно подумал Холдо.
— Да, — сказал он. — Помогите, пожалуйста. Где тут можно сделать татуировку?
— Какую?
«Какую татуировку?» — эхом отозвался Антон. Тревога в его голосе сменилась паникой. «НЕ СМЕЙ ТРОГАТЬ МОЮ КОЖУ, ПАРШИВЫЙ УБЛЮДОК!»
— Кельтский крест. Скрещенные топоры в лавровом венке. Может быть, двойные молнии или свастику...
— Вы — фашист? — ее ужас был почти смешным. — Это же... это...
— Я не хочу быть белым кули в собственной стране.
НЕСМЕЙТРОГАТЬМОЮКОЖУПРОКЛЯТЫЙНАЦИ!
Пожалуйстапожалуйстанеделайэтогонетпрошутебянет
Он не знал, на какой день снежная пустыня легла в подножие гор, но ему было уже все равно. Появились ели в толстых белых шапках, оголенные стволы сосен, покрытые инеем ветви. Небо было пронзительно синим, снег ослеплял. Маршал шел. Карабкался через выступы горной породы и каким-то чудом определял правильное направление. Каждый раз он боялся, что, миновав следующий камень, потеряет след, и все окажется напрасным...
Маршал шел.
Пока ему везло.
Погода была ясной и безветренной, беглец же берег лошадь и шел в обход неудобных каменных выступов. Маршал карабкался напрямик. Ему некого было беречь или жалеть. Ни лошади, ни припасов. От него самого осталось не так уж много. Каждый шаг давался с трудом, обмороженные пальцы...
Впрочем, о пальцах можно было забыть.
В ход пошла левая ладонь.
Кажется, он в кого-то стрелял, затем что-то ел, а потом еще оставался на ночь в теплом брюхе. Вонь от внутренностей страшная. Но было тепло. Тепло расслабляло, в отличие от ярости. Кружилась голова. Болела несуществующая уже левая рука, на повязках выступила кровь. Тепло расслабляло, подтачивало холод настоящих слов. Долг — очень холодное слово. Очень и очень. Честь. Совершенно ледяное. Усилие, которое он затратил на то, чтобы выбраться из остывающего брюха (олень, это наверняка был олень), едва не заставило его расстаться с жизнью. Но...
Он шел.
Осталось всего пять патронов, маршал знал, что перезарядить винчестер больше не удастся. Он не мог рисковать боевой рукой, хватаясь за обжигающий металл без нужды. Указательный палец еще двигался, двигался и большой, хотя и с трудом. На кончике указательного появилось небольшое пятно обморожения, средний палец был в порядке. На безымянном уцелело две фаланги... Мизинцу пришел конец. Невелика потеря.
Маршал шел.
Пожалуйстапожалуйстанеделайэтогонетпрошутебянет
Почти ослепнув, глядя на мир сквозь узенькие дырочки обледенелой тряпки, маршал брел по следу, а беглец уходил от него. Цепочка следов тянулась все выше в горы. Жестокое солнце светило с прозрачно синего неба. Все чаще попадались выступы породы, но маршал больше не пытался срезать. Он просто шел. Иногда перед глазами начинали плясать черные точки, потом свет мерк...
Кружилась голова.
Маршал продолжал идти вслепую, зигзагом следов пятная цепочку, проторенную беглецом. Потом зрение возвращалось, но туман перед глазами не рассеивался. Теперь он был с ним всегда. «Винчестер» на плечах казался непомерной тяжестью... А все вокруг было белым.
Маршал шел. Ему казалось уже, что он идет сквозь облако.
На некоторый день одна темная точка выделилась из сонма подруг, плясавших у маршала перед глазами. Точка медленно и важно вальсировала. Прошло время. Точка разрослась до размеров камешка, потом — булыжника. Наконец, маршал разглядел, что это. Павшая лошадь. Беглец пошел пешком. По видимому, лошадь оступилась и сломала ногу. Беглец вырезал печень и выспался в тепле брюха. Кажется, беглеца звали Клаус. Маршал уже не помнил, что этот Клаус совершил. Но его было необходимо догнать...
Долг — очень холодное слово.
Очень и очень.
Маршал шел.
Дальше выяснилось, что цепочка следов стала очень странной. Неровной. Как будто человек, оставивший следы, сильно хромал. Повредил ногу? Лошадь упала неудачно. Беглец лишился преимущества в скорости.
На следующий день маршал увидел его...
Человек сильно хромал и шел, опираясь на кривую ветку.
Маршал проверил правую, боевую! — руку. Пятно обморожения на указательном пальце разрослось, охватив всю фалангу. Большой палец едва шевелился и при каждом движении стрелял болью. Средний... Если что, подумал маршал, сгодится и средний. Безымянного пальца больше не было. Когда маршал, прихватив край зубами, разматывал тряпку, посыпались куски промороженной плоти. Невелика потеря. Беглец уже совсем рядом.
Подойти на двести футов, а лучше — на сто пятьдесят. И — стрелять.
Маршал шел. Беглец хромал.
К полудню расстояние между ними сократилось до пятисот футов. Несмотря на огромную усталость, маршал нагонял. К трем часам дня он выиграл еще сотню. К семи — расстояние сократилось до двухсот пятидесяти футов. В девять стало темно. К тому времени расстояние между противниками составляло всего двести футов. Нормальная дальность для здоровых рук и опытного глаза, но не для полуослепшего маршала с культяпками вместо ладоней... Пора было выбирать место для ночлега.
Утром его скрутил кашель. Непрестанно кашляя, маршал пытался идти, но изнемог и повалился в снег. Нажевался снегу. Пошел дальше. Через несколько шагов его скрутил новый приступ. Снег окрасился кровью. Маршал встал и снова пошел. Перед глазами маячила темная спина.
К полудню расстояние между противниками составило двести двадцать — двести тридцать футов. Маршал начал отставать. Его след теперь был отмечен кровавыми пятнами. В голове мутилось...
Через некоторое время он решился.
Маршал стащил с плеча «винчестер», лег в снег. Долго ставил реечный прицел остатками пальцев правой руки. Ладонь почти не слушалась. Зажал ружье в сгиб левой руки, поставил средний палец на спусковой крючок. Металл обжигал.
Маршал прицелился.
В вертикальной щели появилась темная спина.
Внезапно беглец повернулся и посмотрел маршалу в глаза. Медленно, неловко поднял винтовку — маршал как загипнотизированный наблюдал, как возникает в прорези прицела темное дуло. Потом — реечный прицел. С руками у беглеца тоже было не все в порядке. Но — прицел встал на место. Теперь они смотрели в глаза друг другу...
Давай, молча произнесли губы беглеца.
Давай, сделаем это.
В следующий момент они одновременно нажали на спусковые крючки...
... — Восемьдесят восемь!
— Восемьдесят восемь, брат.
Подошли еще двое парней, потом еще несколько. Открыли пиво, разместились вокруг стола, выставили закуски: пачки чипсов и фисташки. Я занял место во главе. Вальтер сел по левую руку от меня, Маша с гитарой плюхнулась в правое кресло. Остальная шатия-братия расселась, как душа велит. Взяли бутылки. С громким: шпок! — отлетели пробки, застучали по столу.
— Холдо, ты чего так вырядился? И с каких пор ты носишь подтяжки? — спросил Казак, слегка помятый после возни с Вовчиком. Взъерошенный, но не утративший боевой дух Геббельс занял место напротив Дениса и корчил «светочу скин-движения» обидные рожи. Рожи получались преуморительные...
— Всему свое время, казаче, — говорю. — Подожди чуть-чуть...
Эх, пора!
Встаю с бутылкой «Сибирской короны» в руке. Выкрики: «Эй, тихо вы!», «Холдо говорит!» и «Заткнись, плиз, народ! Слушать будем!» Поднимаю руки — крики смолкают.
— Друзья! Белые братья... и белые сестры, конечно! — салютую бутылкой — от сердца и вправо-верх. Вокруг: смех. — Я вас всех здесь прекрасно знаю, я многое с вами прошел и успел вас полюбить... Геббельс, опошлишь момент — морду разобью, — я показал кулак с набитыми костяшками. — Продолжаю: успел вас полюбить. И ведь есть за что! Вот, например, Денис Казак, гроза чехов... и стоматологов! Помню, был случай...
... — И меня! — Вовчик тянет руку, как первоклашка и чуть не подрыгивает от нетерпения.
— И тебя, Геббельс. Вот помню, был случай, когда Вальтер пошел на рыбалку, а Вовчик с ним увязался. Дальше случилось вот что...
— А Гелла, помню...
— А Вальтер...
— А...
Я вышел на ночной воздух, потянулся до хруста... глубоко вдохнул. Был Холдо, глава местных скинхэдов, остался Холдо, ледяной маршал. Я похлопал себя по бедру — сквозь пальто прощупывается, значит — на месте. Пятизарядный дробовик ИЖ-76, напоминающий револьвер с очень длинным стволом. То самое оружие, что хранилось у Антона в ящике для трусов. Самодельная кобура пристегнута к бедру ремешками. А подтяжки — чтобы штаны не слетали. Все, как тогда. Пять патронов, снег и футов двести между нами.
И один из нас умрет.
Или оба.
— Уходишь? — спросили за моей спиной. Машин голос. Догадалась, значит?
— Да.
— Навсегда?
— Есть дело, — ответил я. «Дело» — было холодным, но недостаточно. Неправильный выбор. — Долг, — сказал я и почувствовал ожог на кончиках пальцев. — Честь, — сказал я. Ледяное пламя охватило левую руку. Очищающая боль. — Дело чести и долга, Маша.
— Это тот черный, да? Расул? Которого мы последнее время обрабатывали? Дачу, машину, подожгли магазин... Он — как ты, правильно? Он согласился?
— Да. Не знаю, что нас связывает с Клаусом... с Расулом, но эта связь сильнее времени. Та дуэль закончилась странно. Сейчас все иначе... и при этом ничего не изменилось. И тогда и сейчас медведь понял, что его загнали. Простая дуэль без правил. Мы достаем оружие и стреляем до тех пор, пока один из нас не умрет.
— Ты можешь остаться с нами.
— А дальше? Ты подумала об этом, Гелла? Мне тридцать лет. Я — Холдо. Маршал. Мое дело: ловить беглецов. И сегодня вечером меня ждет работа... Если выполню, у меня будет впереди еще примерно тридцать лет.
— Сейчас живут и до ста, — Маша замялась.
— Всего лишь? Тебе хватит на все, что ты задумала?
— Осталось почти семьдесят лет, но что можно сделать за такое ничтожное время? — с сарказмом произнесла Маша. Выпрямилась и крепко меня обняла. — Мне хватит. Береги себя, маршал Холдо.
— Леди? — я приложил два пальца к невидимой шляпе. — Приятно было познакомиться.
Желтый лист в изморози.
...Он пришел все-таки, мой беглец. Клаус — Расул Имгабетович Аливердиев, преуспевающий бизнесмен, у которого в последнее время начались некоторые проблемы с хулиганами. Со скинами.
Иными словами, кто-то вцепился медведю в ухо...
Мои ребята.
Жесткий прищур глаз выдавал в Клаусе настоящего стрелка. Наконец-то мы закончим нашу снежную дуэль. Маршал и беглец, беглец и маршал. Белые шапки елей и прозрачно синее небо...
Следы на снегу.
Левая рука словно онемела.
...А еще есть слова прохладные, слова холодные, а иногда — обжигающе ледяные, словно ружейный металл на морозе...
Настоящие слова.
Такие, как «честь». Долг. Такие, как «ярость».
Я улыбнулся одними губами и откинул полу пальто...
КРЕСТОНОСЕЦ
1
Запустили следующую пятерку. Четыре девушки и Сергей. По извилистому узкому коридору провели в комнатушку, выдали по листку бумаги. Заполните анкету, сказала худая русоволосая женщина с глазами усталого олененка. Все очень просто. Она не вызовет у вас затруднений. Сергей взял листок, огляделся. Слева у стены — стол, справа — пианино. Два высоких окна, подоконники такого размера, что можно легко забраться с ногами. На деревянный пол ложится яркий силуэт. На улице, черт возьми, июнь. Голубизна неба, солнце, зелень. Сердце колотится...
Дернул же меня черт, — подумал Сергей, поискал взглядом свободный стул. — Хотя девушки тут и вправду симпатичные...
За столом мест не осталось. Пятерка (четверо девушек и парень), пришедшая раньше и анкеты уже заполнившая, обсуждала, кто сегодня «там» и какие у него вкусы. Судя по отрывочным репликам, «там» сегодня был некий Кривошеин. Он такой красивый, вздохнула маленькая брюнеточка. Две блондинки модельного вида переглянулись с одинаковыми усмешками. Сергей узнал взгляд. Мужчины — простодушные идиоты. Их можно и нужно использовать...
Распространенное заблуждение недалеких женщин.
Что интересно, блондинки в комнате преобладали. Из восьми девушек — пятеро. Видимо, таков закон природы, подумал Сергей. Каждая блондинка обязана попробовать... Сергей пригляделся внимательнее. А крашеная блондинка — тем более...
А еще за столом сидела рыжая.
Сергей неторопливой походкой (спина прямая, шаг от бедра, Клинт Иствуд будет мной гордиться) пересек комнату, взял стул и переставил к пианино. Положил листок на крышку, вынул из внутреннего кармана пиджака ручку под серебро... Так, посмотрим...
Первый пункт анкеты. Фамилия, имя, отчество. Ну, это просто. Толоконников Сергей Сергеевич.
Пункт второй. Возраст. Сергей усмехнулся. Может, указать настоящую дату рождения? Было бы забавно. Ладно, пишем: 32 года. Мужчина в самом расцвете сил.
Краем глаза Сергей заметил, что рыжая смотрит в его сторону.
Пункт следующий...
Сергей повернул голову, поймал взгляд и улыбнулся. Глаза у рыжей были желто-зеленые, лисьи...
— Добрый день, — сказал Сергей негромко. Чтобы тебя слышали даже в дальнем углу, не обязательно кричать. — Вы не могли бы мне помочь?..
Рыжая растерянно улыбнулась.
...Женщина-олененок оказалась права. Анкета не вызвала особых затруднений.
— Вы пришли на прослушивание в лучшую театральную школу России, — заговорил «тот самый» Кривошеин. Красивый мужчина лет пятидесяти, в старомодном пиджаке с кожаными вставками на локтях. В руке — длинный мундштук с сигаретой, на столе в пепельнице — гора окурков. Сидел Кривошеин в облаке дыма, спиной к окну, поэтому казалось, что воздух вокруг него светится.
— Да-да, вы не ослышались. Лучшую театральную школу России! — сказано было с чувством уверенной гордости. — ГИТИС готовит актеров и режиссеров для лучших театров страны. Так что соберитесь, покажите себя... Не надо нас бояться, — при этих словах две пожилые дамы, тоже входящие в комиссию, закивали. — Мы здесь для того, чтобы помочь вам...
А я здесь, подумал Сергей, чтобы знакомиться. Рыженькую зовут Лена. Восемнадцать лет. Пришла с подружкой поступать на актерский. Правильно, одобрил Сергей, я вот тоже... — Тебе правда тридцать два? — Да, сказал Сергей, я решил: лучше один раз пролететь, чем потом всю жизнь жалеть, что не попробовал. Хотя в таком возрасте шансов очень мало... Несмотря на все мое обаяние...
—...Начнет у нас... Сенина Екатерина. Екатерина Викторовна, прошу вас. Встаньте пожалуйста, чуть глубже. Да, хорошо. Можете взять стул, если хотите... Свободно располагайте всем, что есть в этой комнате. Ручка, стулья, пепельница, даже мы — в полной вашем распоряжении. Сколько вам лет? Семнадцать? Очень хорошо. Что вы нам прочитаете?..
Дальнейшее развитие событий Сергей представлял четко. Прослушивание для него — чистая формальность. Кто-то из этих ребят, сидящих и ждущих своей очереди, пройдет на второй тур. Потом, если очень повезет, на третий. А если очень-очень повезет... Желающих — сотни, а примут человек двадцать. Удачи, ребята. Сейчас их бьет дрожь. Стресс. Адреналин. Эндорфин. Сильные эмоции. Крышу рвет со страшной силой. Читая наставления «пик-аперов», этих современных дон-жуанов, Сергей только посмеивался. Знакомьтесь на вечеринке, как знакомиться в транспорте, что нужно сделать, чтобы на тебя обратили внимание... Ни в одном наставлении Сергей не встретил казалось бы самого очевидного...
Лучшее место для знакомства — прослушивание в театральный вуз.
Во-первых: здесь собираются самые красивые, талантливые и необычные.
Во-вторых: считается, что раз ты пришел на актерский — ты априори один из самых красивых, талантливых и необычных.
А в третьих: где, черт возьми, найти другое место, где тебя будут слушать с таким же искренним вниманием? И так долго?
—...Спасибо, Екатерина Викторовна. Кто у нас следующий? Толоконников. Сергей Сергеевич, прошу вас...
Сергей встал. А после прослушивания мы с рыжей прогуляемся по Арбату, еще где-нибудь, а там, глядишь...
— Что вы нам прочитаете?
— Я начну с басни. Иван Андреевич Крылов, «Ворона и лисица». Кх-м! — Сергей прочистил горло. Заговорил, подражая ироничной манере Леонида Филатова. — Уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна, но только все не впрок...
Кривошеин выпустил дым. Взгляд совершенно невозмутимый.
— Спасибо, дальше. Стихотворение.
—...Но это только ты. И жизнь твоя похожа на черты лица, края которого тверды, в беде, в труде, и, кажется, чужды любой среде...
— Спасибо, дальше.
«Сейчас как врежу глаголом по сердцам!», подумал Сергей. «Хочется пройти во второй тур, а, Серега? Пусть из тщеславия, но хочется.»
— Чак Паланьюк, — объявил он. — Отрывок из романа «Бойцовский клуб»... Мой начальник надел серый гластук, значит, сегодня, должно быть вторник. Мой начальник...
Резкая боль пронзила левую руку. Словно загнали в ребро ладони стальной шип и медленно проворачивают. Сергей невольно охнул и умолк на полуслове...
Кривошеин затянулся. Медленно. Потом выпустил дым. Еще медленнее...
В ладони снова запульсировала боль. Срочный вызов. Аврал! Сергей почувствовал, как взмокли подмышки. А черт, если авральная ситуация, то накрылась прогулка с рыжей... Поднес левую ладонь к уху.
— Алло! — сказал он. Боль сразу исчезла, оставив после себя легкое покалывание в кончиках пальцев. Сергей заметил, как глаза Кривошеина на мгновение расширились. Все-таки я тебя удивил...
— АЛЛО, СЕРЕГА! — Словно сунул голову в огромный медный колокол, а по нему ударили со всей дури — включился вживленный микрофон. — ЭТО Я!
Вадим, кто же еще. Начальник, друг и просто хороший человек. Только уж больно Вадим в момент волнения громогласный.
— НЕ ОРИ! — откликнулся Сергей.
Кривошеин аж подпрыгнул. Что, как вам мой темперамент?
— Не ори! У меня голова все-таки, а не пустое ведро.
— Да я не ору!!
— Тише!
— Ты где?
— Я занят.
— Что?
— Занят!
— Серега, ситуация триста шесть. Серега, это срочно!
— Какой-то придурок въехал на полной скорости в дерьмо, а я — разбирайся? Пошли Тайлера!
— Что-о?! Какого еще Тайлера... а-а! Серега, ты, что, не можешь говорить?
— Ответ, достойный обезьянки-астронавта!
— Вопрос, достойный задницы обезъянки-космонавта. Серега, выручай. Этого «туриста» надо зачистить, а то наследил выше крыши. Он в стене застрял, представляешь? В вакуумную камеру руку сунул. Дебил. Еще и тряпки свои притащил... А у меня никого, кроме тебя.
— Ладно. Где точка встречи?
— Строителей два, дробь четыре, квартира тридцать шесть. Код на поъезде три-семь-девять.
— Все понял. Проект Разгром скоро будет на месте. Инструменты брать?
— Спрашиваешь!
Связь замолчала.
— Простите, надо идти, — сказал Сергей. — Жаль, не дождусь подведения итогов...
— Сергей Сергеевич, одну минуту, — сказал Кривошеин. — Вы торопитесь, поэтому я буду краток. В вас что-то есть. Кое-какой темперамент, самоуверенность, своеобразное обаяние... Но репертуар у вас... не соответствует. Не надо этого криминального фольклера. Столько хороших авторов, а вы выбрали такое... Это же «Бешенный на зоне-3» какой-то. Возьмите Пушкина, Чехова, что-нибудь из современных драматургов. Беккет, Гудвин, Стоппард или, на худой конец, Гришковиц. Желаю успеха в следующих попытках! Попробуйте в Щукинское, МХАТ, Щепку... Дерзайте! Безумству храбрых поем мы песню...
Домой Сергей заскочил буквально на минуту. Положил в чемодан с «инструментами» целофановый пакет бутербродов, бросил коту в миску кусок мяса. Пятнисто-серый, кряжистый, похожий на пса-боксера, Киллер попытался штурмом взять холодильник, но приступ был отбит. Сергей выпихнул кота ногой, матерясь на чем свет стоит. Жри из миски! Опаздываю!!
На объекте сотрудник зачистки Толоконников появился на тридцать минут позже планируемого.
Квартира номер тридцать шесть. Туристический номер. Не слишком дорого, минимум удобств, пара полезных вещей как для проживания, так и для зачистки. Две комнаты, обычный телевизор, телефон, санузел. Стандарт. Будь это семнадцатый век — туристу пришлось бы ходить во двор или на специальный горшок. Колорит соблюдается свято. Но несколько вещей не соответствовали духу времени...
В стене — замаскированный разъем для поключения к Т-сети.
В косяке входной двери — нейтрализатор био и хим опасности.
В розетке в большой комнате — универсальный утилизатор.
Желающие посетить двадцать первый век — выполняйте пункты инструкции. Всего их около двух тысяч и постоянно добавляются новые. Аварийщики окрестили этот справочник «Как убить себя правильно, с использованием любых подручных средств и мучиться при этом подольше.» Пункт триста шестой — «не суйте пальцы или иные предметы в универсальный утилизатор.»
Турист стоял на четвереньках, уперевшись лбом в стену. Лицо багровое. Правая рука вытянута вперед и видна где-то до локтя. Словно человек с размаху проткнул кулаком стену и так застрял. Рядом лежит отвертка...
Сергей ради интереса заглянул в коридор. Нет, кулак из стены не торчит. Правильно, емкость утилизатора — это то, что Кот Бегемот называл четвертым измерением. Руку засосало в узкое горлышко, причем сам «кувшин» — не в этом времени, а на два с лишним века вперёд. Достаточно бредово выглядит.
Турист негромко постанывал. Пару часов наверняка проторчал вот так. Особой свободы движений такое положение не дает, значит, у него все тело жутко затекло...
Сергей вытащил из кармана капсулу обезболивающего и стимулятора, зажал двумя пальцами и воткнул бедняге в бедро. Капсула пшикнула и исчезла.
Пока он приходил в себя, Сергей подобрал и осмотрел отвертку. Так и есть. Контрабанда. Судя по всему, к началу двадцать первого века «инструмент» относится никак не может. Конец двадцать второго, как минимум... Хорошая вещь, кстати. Любой замок, любой болт или краник — вскроет с полоборота.
— А-ах! — турист очнулся.
— Легче?
Человек с трудом повернул голову. Прошло еще некоторое время, прежде, чем он смог сфокусировать взгляд на чистильщике.
— Кто вы? — спросил турист наконец.
— Служба спасения, — сказал Сергей. — Что можете сказать в свое оправдание?
— Чего?
— Зачем вы сунули руку в утилизатор?
— Я... не знал... Я хотел достать одну вещь... Я...
— Горлышко утилизатора очень узкое, а засасывание происходит автоматически.
— Я... знаю. Я взял петлю из... про... проволоки, но она была слишком короткой...
Сергей вздохнул. Количество идиотов на земле не уменьшается. Чем безопаснее времена, тем больше у дурака шансов выжить. Прогресс — худший враг естественного отбора.
— Как вам вообще удалось засунуть руку в эту трубу?
— Я... Я намазал кисть маслом.
— Каким еще маслом? — открыл рот Сергей. Вроде бы ко всему привык...
— «Масло мягкое деревенское». Это... которое по телевизору... купил. Я хотел попробовать местные... продукты...
— Ясно, — Сергей положил чемоданчик на пол, открыл. Задумчиво оглядел содержимое. Вот, пожалуй, то, что нужно...
— Угу, — сказал Сергей. — Где масло?
— На... на кухне. Пожалуйста. Помогите мне...
2
Всю ночь снилась муть. Бред. Какие-то красные и черные люди-силуэты гонялись друг за другом, танцевали, боролись и исчезали в пламени. Мярганье стояло при этом кошачье. Сергей просыпался пару раз, открывал глаза. По комнате, с удивительной для его комплекции энергией и скоростью носился Киллер. Сергей покидал в него тапочки, один раз даже попал, но успокоить серого мордоворота не удалось. Мяргал кот на редкость мощно, с каким-то боевым надрывом и тоской... Как Квазимодо из французского «Нотр Дам»... Сергей закрыл голову подушкой и забылся в дреме...
Проснулся от звонка в дверь.
Кое-как разлепил глаза, перевернулся на живот. Все равно не выспался, на веки словно песка насыпали... Из прихожей чинно вышел Киллер, посмотрел на «кормильщика» оценивающе. Издал презрительный горловой рык и прошествовал дальше. Звонок разразился новой трелью. Звук резал уши.
— Встаю, — сказал Сергей устало. — Как вы меня все достали...
Дверь он открыл, даже не вглянув в глазок.
— Да?
— Мне нужен Сергей Толоконников, — сказала женщина. Высокая, темноволосая, лет двадцати семи-двадцати восьми. С правильными чертами лица, в персиковом пальто. Голос чуть низковатый, но очень чистый.
— Это я, — сказал Сергей. Подумал, что неплохо бы пригладить волосы и почистить зубы. — Что вам...
— Я войду?
Не дожидаясь ответа, она шагнула через порог. В следующую секунду раздалось шипение, боевой вопль, по прихожей пронесся серый вихрь... Женщина в мгновение ока оказалась на лестничной площалке, ухватилась за лодыжку рукой. На лице ее читалось потрясение.
— Это... это животное меня укусило!
— В следующий раз киньте в него тапком, — равнодушно посоветовал Сергей. — Если успеете. Чем обязан?
Гостья ему не понравилась. Впрочем, с похмелья и недосыпа ему мало кто нравился...
— Я хотела...
— Говорите быстрее, я закрываю дверь. Раз, два, три... Закрыл.
За секунду до щелчка в щель просунулась женская рука с сине-зеленым голографическим значком офицера «TiSinc».
— Старший инспектор Горохова Ольга Викторовна, — приглушенно сказали за дверью. — Отдел Внутренних расследований. Теперь мне можно войти? Придержите, пожалуйста, ваше животное...
— Все туристы имеют страховки на случай смерти? — сказала Ольга. Под персиковым пальто на ней оказалось легкомысленное ситцевое платье. Белое в синий цветочек. Что еще раз доказывает, подумал Сергей, как далек отдел внутренних расследований от реальной полевой работы. Или, может, все дело в секретности? Побоялись довериться штатным костюмерам «ТайСинка»?
— Что, простите? Я задумался.
«Ну и взгляд у нее.»
— Я спрашиваю: правда ли, что все туристы имеют страховки на случай смерти?
— Да.
— В том числе и Кай Кислевский?
— Кто это?
— На аварийный случай с Кислевским вы выезжали два дня назад, — сказала Ольга. Подняла брови в насмешливом недоумении.
Сергей вздрогнул. Неужели?
— Что-то случилось?
— Почему вы так решили?
— Действительно, почему я так решил? Старший инспектор Горохова из отдела внутренних расследований, — издевательски растягивая слова, проговорил Сергей. — Надо думать, вы приехали полюбоваться на храм Василия Блаженного до его разрушения? Я угадал? Туристическая поездка за счет «Тайсинка»? Осмотр достопримечательностей и все такое? Если вы свободны, я покажу вам город...
— Не ерничайте. Хотя на собор Василия Блаженного я бы с удовольствием посмотрела...
— Так что с Кислевским? Он жив?
— Жив.
Сергей вздохнул с облегчением. Камень с души...
— Но он в шоке. На вас написана жалоба. Там утверждается, что вместо оказания помощи вы просто-напросто убили Кая Кислевского, зная о его страховке. Он требует моральной компенсации, а также наказания виновных. Когда он выйдет из реабилитационного центра, возможно, он подаст на «ТайСинк» в суд.
Сергей помолчал. Значит, так все оборачивается.
— Вернемся к разговору о страховке. Кроме туристов, кто получает страховку на случай смерти?
— Сотрудники «ТайСинк», — сказал Сергей.
— Все сотрудники «ТайСинк»? Кроме вас. Правильно?
— Я внештатный сотрудник, с ограничением в правах. Впрочем, если быть точным, я не единственный такой. Есть еще как минимум пятеро...
— Но это правда?
— Да.
— Почему у вас нет страховки, Сергей?
— Вы же читали мое личное дело? — он сложил руки на груди. Давай, подумал Сергей, выкладывай.
Ольга вздохнула.
— Как с вами трудно! Ну хорошо. За что вы приговорены к заключению в этом временном поясе?
Сергей улыбнулся, не разжимая губ. Вспомнился фильм «Побег из Шоушенка», спокойный голос Моргана Фримена...
— Думаю, за неправильный переход улицы.
— Что? Перестаньте шутить, Толоконников. Это официальный вопрос. Беседа записывается.
— Эта запись может служить доказательством в суде?
— По закону — да.
— Значит, если я сделаю вам сейчас предложение — мне придется жениться?
Ольга помедлила, испытующе глядя на Сергея. Потом вдруг неожиданно улыбнулась:
— Только в том случае, если я скажу «да».
Сергей встретился с Вадимом в кафе на тверской площади. Взяли пиво и фисташки. На столе горела керосиновая лампа в медной окантовке. В ее свете лица казались непривычными, искаженными, рваными... Словно и не Вадим, мировой мужик, словно и не Серега, лучший друг мирового мужика...
— Что интересного нашел? — спросил Сергей.
— Ох, чую я, что-то тут неладно. Оля Горохова — слишком крупная рыба для нашего водоема.
— А факты?
— Нет фактов. Это и настораживает, Серега. Много перерыли архивов, а нашли лишь ее работу с длинным и сложным названием... что-то там о психотипах, эмпатии и запечатлении... Но интересные идеи. Суть сего труда сводится к одному: сосланных НУЖНО прощать. Досрочное освобождение.
— И по какому принципу будет приниматься решение о досрочном освобождении?
— Способность любить.
— Ты серьезно?
— Вот и меня насторожило, — сказал Вадим. — Но суть такова. Люди, отправленные на пожизненное в иное время — испытывают страшнейший душевный дискомфорт. Культурный шок, слышал?
— И даже знаю по себе, — усмехнулся Сергей.
— Так вот. Условием возвращения в родное время будет то, что эти заключенные обзаведутся дорогими людьми в том времени, куда их сослали.
— Пресловутая «способность любить»?
— Именно.
— Тогда я не подхожу.
— А никто не подходит. В том-то и противоречие! Люди, которые обзаведутся семьей в другом времени, вряд ли захотят семью покинуть. А которые не обзаведутся — им просто не позволят вернуться. Вот такая фигня. А ты... ты бы хотел назад?
Сергей надолго замолчал.
— Пожалуй, — сказал он наконец. — Мне нравится это время, но... я задумываюсь... Иногда я хочу вернуться домой... Иногда.
Вадим почесал себя за ухом. Улыбнулся.
— Она тебе нравится? Только честно.
— Да.
Вадим внезапно нахмурился.
— Бойся ее, Серега, — сказал Вадим серьезно. — Она идеалистка. Причем в худшем варианте — паладин, белый рыцарь. Крестоносец. Смотри, как бы тебе под этот ее крестовый поход костьми не лечь...
Я даже боюсь представить, какими методами она будет проверять эту свою «способность любить»...
3
— В чем принцип зачистки? — сказал Сергей. — Очень просто. Я объясню. Убрать инородные этому времени объекты, убрать отпечатки, следы, все, что может навести на след «туристов» или «ТайСинка». Часто это приходится делать вручную. Но в специально оборудованных квартирах — в так называемых «номерах», мы используем «вакуумный пылесос». Закрываются все двери, окна — они рассчитаны на герметичное закрытие — и включается утилизатор. Конечно, в это время находится внутри квартиры не рекомендуется...
— У нас есть запись камер слежения, — сказала Ольга. За ее спиной Вадим показал знаками: держись, мы с тобой! Прорвемся.
— Каких камер слежения?
— У внутреннего отдела есть свои камеры. Секретные, конечно. Отдел зачистки не имеет сведений о размещении этого оборудования...
Вадим презрительно фыркнул.
— Приступим, — сказала Ольга.
На видеозаписи четко видно, как сотрудник отдела зачистки, опознанный как Толоконников Сергей Сергеевич, выходит из комнаты, держа в руках открытый чемоданчик. Ставит его на стол. На том же столе пластиковая банка со сливочным маслом. Сотрудник достает из чемоданчика бутерброд, завернутый в пленку, разворачивает, проглатывает кусок колбасы, открывает банку, намазывает маслом оставшийся от бутерброда хлеб (долго и тщательно), а потом не торопясь съедает. Лицо при этом у него невероятно задумчивое. Вертикальная морщинка между бровей...
Неужели я выгляжу таким уродом, подумал Сергей. Таким хладнокровным убийцей?
Сотрудник вытирает рот рукавом. Достает из кармана нечто, похожее на пульт от телевизора. Нажимает несколько кнопок. Видеозапись четко сохранила все движения. Отчетливо видно, какие кнопки и в каком порядке нажаты...
— Я бы предположила, — с холодком сказала Ольга, — что универсальный утилизатор ВНТР-6би был выставлен на давление в двести пятьдесят раз выше номинального. Я бы также предположила — конечно, опираясь на заключение экспертов — что это больше похоже на вакуумный взрыв, чем на действие пылесоса...
Последняя фраза прозвучала откровенно издевательски.
* * *
— Вам часто приходилось пользоваться оружием?
Сергей поднял брови.
— Оружием? — удивился он. — Очень редко. В основном я занимаюсь переговорами с милицией, властями, еще с кем-то. Я разъясняю, показываю, веду переговоры, дарю подарки. Мои обязанности больше напоминают работу няньки и дипломата по совместительству. Многие туристы беспомощны в этом временном поясе, как дети...
— Но вы умеете пользоваться оружием?
— Конечно. Я даже служил в здешней армии.
— Сколько вам лет было, когда вы сюда попали?
— Полных двадцать четыре.
— Восемь лет адаптации. За что вы сюда попали?
Сергей почувствовал комок в горле. Суховато-безразличным тоном, которым не говорил уже несколько лет:
— Статья 246, пункт Б. Преднамеренное убийство. Осужден на пожизненное проживание в поясе конца двадцатого, начала двадцать первого веков.
— Вы чувствуете раскаяние?
— А это уже не ваше собачье дело.
* * *
— Знаете, что мне больше всего нравится во всей этой истории? — сказал Сергей. — Хватит смелости выслушать?
— Что же? — спросила она с вызовом.
— Вы обвинили меня в преднамеренном убийстве. Вы лишили меня работы. Вы, в конце концов, не любите моего кота! И при всем этом вы искренне желаете мне добра. Вам не кажется это пугающим?
* * *
— Да я уже разобрался, — сказал Сергей. — Не волнуйся, Вадим. Внутренний отдел ко мне больше претензий не имеет...
— Какой внутренний отдел?! — внезапно закричал Вадим. — Ты хоть понимаешь, что происходит?! Я навел справки через своих знакомых. Она не из внутреннего отдела... она вообще не из «ТайСинк»! Она из государственной комиссии по досрочному освобождению! Эту хреновину все-таки создали! Твоя ненормальная Оленька добилась своего!
— Зачем мне досрочное освобождение? Я как-то не спешу...
— Идиот!
— Чего? — опешил Сергей. И сам себе напомнил того злосчастного туриста с рукой в утилизаторе... Вот засосало, так засосало...
— Я не хочу тебя терять, Серега. Ты мой лучший работник. Ты мой лучший друг. Но... Это в ее власти. Сергей, ты хоть раз слышал про принудительное досрочное освобождение?
* TiSinc — Time Service Inc, в просторечии " ТайСинк "НАДО БЫЛО ПОЕЗДОМ
Ту сто четыре — самый лучший самолёт.
Ту сто четыре — самый быстрый самолёт.
=== 10^0 ===
Я поднялся на крыльцо и нажал на кнопку звонка. Отпустил. Снова нажал. Поправил очки. Лучше бы обойтись без них. Тёмные очки не располагают к доверию.
Шаги.
— Кто там? — на меня смотрят в глазок.
— Добрый день. Меня зовут Андрей. Вы разрешите мне позвонить? — собственный голос мне незнаком. Низкий, слегка хрипловатый. Очень глубокий. Доверительные интонации. Но при соблюдении некой дистанции. Какой-то очень... очень профессиональный.
— Что? Почему?
— Я попал в аварию.
Маленькая пауза.
— О! Сейчас, сейчас...
Дверь, тем не менее, открывается осторожно. На пороге — молодая женщина. Прямые светлые волосы до плеч. На женщине — серая майка, короткая юбка в шотландскую, красную с синим, клетку и розовые носки.
Женщина смотрит на меня и говорит:
— Что с вами?
Хорошо, что я не снял очки.
— Меня сбила машина.
То есть, хорошо с той стороны, что не видно громадных синяков у меня под глазами.
На мне — светло-серый льняной костюм. Очень дорогой и грязный. Пятна — от бурых, как спекшаяся кровь, до зелёных, травяных. Штанина порвана. Воротничок рубашки почернел от пота. Галстук, к счастью, цел. И даже нормально завязан. Имидж прежде всего.
— Ох! Заходите, конечно. Может, вызвать скорую? Или милицию?
— Пожалуй, лучше такси. Да, вас как зовут?
— Ка... Екатерина.
— Скажите, Катя, на восемьсот двенадцать звонить — это дорого?
Пауза. Соображает. Не доверяет. Боится?
— Мне кажется, это Петербург, — говорит она неуверенно. — Рублей пять. А... а что?
— Просто уточняю. Мне нужно позвонить межгород. Чтобы мои не волновались. Вы не против? — оцениваю реакцию. — Я расплачусь. Пять рублей минута, правильно?
Глаза. Глаза не могут лгать. Потому что подсознательно человек знает о себе правду.
— Да что вы! — возмущается Катя. Кажется, почти искренне... Да, искренне. Готова сама доплатить, чтобы я побыстрее свалил. Обычная реакция. Ничего такого. И все-таки...
Она предлагает мне пройти в гостиную. Спрашивает, не хочу ли я кофе. С удовольствием. Приносит телефон. Уходит.
Я сажусь на диван и набираю номер. Потом сбрасываю. Достаю из внутреннего кармана листок голубой бумаги. Один из тех отрывных квадратиков, которые лежат в каждом офисе. Снова набираю. У меня профессиональная память, но я боюсь ошибиться. Набираю, сверяясь с каждой цифрой.
Жду.
Длинные гудки.
Напротив дивана желтый шкаф. Средняя дверца — зеркальная.
У меня хорошо поставленный голос и выверенные интонации. Я могу вспомнить до мельчайших подробностей сегодняшнее утро. Цвет травинки. Рисунок листа голубики. Муравья, черного с рыжиной. Могу описать форму, размер и расположение пятен на моих брюках...
Гудки.
В левом кармане пиджака — водительские права, категория BC. Андрей Бочкарев. 1984 года рождения. Серия, номер. Фотография. Действительны до...
Гудки.
Встаю и с телефоном подхожу к зеркалу.
Андрей Бочкарев. Лицо? Фотографии соответствует. Ну, кроме очков. Имя. Это все, что у меня есть. Проснувшись утром в лесу, метрах в восьмидесяти от дороги — я знал о себе лишь немногим меньше. Все то же самое, только без лица. В правом кармане брюк грязный платок и тридцать копеек мелочи. В левом — сгоревшая спичка и три купюры по сто евро. Интересно...
Чертовы гудки.
...кто меня обработал? Синяки, ушибы. Подбитые глаза. На фотографии этого нет. Еще бы. Подволакиваю левую ногу. Может, действительно, сбила машина?
Чертовы, чертовы, чертовы гу... Взяли!
— Да, — мужской голос.
— Добрый день, — сглатываю комок. — Говорит Андрей Бочкарев. Вы меня знаете?
Долгая пауза. Только не бросайте трубку!
— Откуда у вас этот номер? — спрашивают наконец. Откуда?
У меня профессиональная память, но я ничего не помню.
— Это Питер? Я хотел сказать... это Петербург? Восемьсот двенадцать. Триста двадцать шесть, ноль два, сорок два. Правильно?
Тишина. Только кажется, словно вдалеке звучат гудки вызова.
— Алло! Вы меня слышите? Пожалуйста, это очень важно. Мне нужно поговорить с Маратом. Слышите?
Пауза. Далекие гудки. У них что, на линии кто-то сидит?
— С Маратом, вы слышите?! — почти кричу.
И тут голос в трубке оживает:
— Слышу.
И после паузы:
— Здравствуй, Андрей.
=== 10^-1 ===
Ситуация: вы знакомитесь с родителями. Впервые. Когда вам уже тридцать один год, а им — соответственно. Причем они уверены, что прекрасно вас знают и даже заботились о вас лет до восемнадцати. Как минимум.
— Андрюша, что случилось? — мать.
— Ты где был? — отец.
Ну вот и познакомились.
Я смотрю на них и вижу, как серая пыль покрывает их с ног до головы. Отца, (Василий Глебович) — плотного, слегка с брюшком. Мать (Наталья Петровна) — тонкую, маленькую, но невероятно энергичную.
Они говорят, а ветер слизывает с серых губ песчинки.
— Ты что, дрался? — отец говорит, и истончается на глазах. Лицо обветривается, отламывается нос, осыпается внутрь черепа...
— Хорошо погулял? — говорит. — Эх, ты. С кем подрался-то? Не с милицией?
Отламываются пальцы.
— Костюм-то как извозил.
Лицо в трещинах. Как у сфинкса, видевшего два тысячелетия...
— Все, нормально, пап.
Эррозия почвы больше шестидесяти процентов.
Я прохожу мимо «сфинксов» в ванную, закрываю дверь. Включаю холодную воду. Скидываю пиджак, рубашку, штаны... Остаюсь в одних трусах. Потом и их стягиваю. Сую голову под кран. Затылок ломит. Блаженный холод охватывает голову. По темным очкам течет вода. Смешно. Все снял, а очки забыл...
В 1981 году Эрик Дрекслер написал книгу о перспективах нанотехнологий.
Машины из атомов. Компьютеры из молекул. Приставка «Нано». Десять в минус девятой степени.
...Нет никаких сфинксов в прихожей. Нет. Но могут быть.
Профессиональное воображение.
Я залезаю в ванну и включаю душ. Холодная вода под сильным напором режет тело. Меня трясет...
По темным очкам течет вода.
— Это все, что я помню. Потом я пришел сюда и набрал номер. Скажите, Марат...
— Я не Марат.
— Что?
— Андрей, все нормально. Ты не ошибся номером. Меня зовут Павел. Павел Вяземцев. А Марат — это твой позывной.
— Какой позывной?
— Шпионский, конечно, — смешок в трубке. — Извини, Андрей. Мне нужно кое-что уточнить... Перезвони через десять минут...
Немного позднее тот же Эрик Дрекслер сформулировал проблему «серой слизи».
Если нанороботы выйдут из-под контроля...
— Ты — сотрудник Кризисной Службы... — сказал Павел. — Точнее — старший инспектор второго отдела.
— А кто тогда ты?
— Твой прямой начальник. Ты работаешь под прикрытием. Запоминай. Ты приехал к родителям из Москвы в отпуск погостить. Зовут их...
...Сфинксы в прихожей.
Я поворачиваюсь, и холодная вода бьет мне по шее, по лопаткам, стекает вниз...
Сначала я сказал: не хочу втемную. Хочу помнить. Хочу понимать.
Сейчас поймешь, сказал Павел. А потом долго рассказывал о целях Службы. Очень долго. Катя два раза приносила кофе, и я все ждал, когда ее терпение лопнет.
— Джин, выпущенный из бутылки, — сказал Павел. — Это не атомная бомба, которой сейчас младенца не напугаешь. Это технология с приставкой НМ.
— Это настоящий ужас, — сказал он.
Я пил кофе, смотрел на Катю и начинал понимать.
НМ-лекарства, победившие рак. Здорово. НМ-компьютеры... Просто отлично.
НМ-роботы. НМ-оружие.
НМ-вирусы.
Никогда нельзя быть уверенным, что ты на сто процентов человек.
=== 10^-2 ===
Церковь обнесена зелёным забором с колючей проволокой. Когда-то здесь была зона, а в здании церкви — картофельный склад. С тех пор многое изменилось. Проволока проржавела, забор полинял. В церковь заново внесли иконы. Идут службы. Звонят колокола.
Как определяют начало эпидемии, скажем, холеры? Или кошачьего гриппа?
Больницы переполнены, как трамваи в час пик.
Я на некоторое время задерживаюсь перед входом. Поднимаю руки. Дрожат. Похмельный синдром? Черта с два! Я чист и выбрит. Голубые джинсы, рубашка, серая куртка-ветровка. Внутри меня словно подрагивает стеклянная струна. Охотник должен полагаться на интуицию...
Адреналин.
Я медленно выдыхаю, опускаю руки и вхожу.
В настоящей, большой церкви внутри приятная, несколько даже интимная темнота. Атмосфера. Запах воска. Может быть, даже святости. Обычно я чувствую нечто. Энергию. Разность потенциалов. Нечто. Намоленные иконы, мощи — от них идет вполне материальное тепло.
Здесь же — прозрачный свет. То же самое, что за окном, только в четырех стенах и с множеством народа... А самого важного не хватает.
Святости нет.
А народу — много. Даже слишком. Зато полное внутреннее ощущение, что попал к сектантам.
Не торопиться.
Выходит батюшка. В ризах, размахивает кадилом...
Я протискиваюсь ближе. Старушки в черных платках, старики, внуки, но и молодежи хватает. Что их сюда тянет?
— Бесстыжий. Хоть бы очки снял! Постыдился бы...
Батюшка стоит напротив меня. Смотрит. Молчит. И окружающие против воли смолкают и ждут. Лицо у него бледное, желтоватое и костистое. Глаза темные и впалые, волосы черные. Нос тонкий.
Потом вдруг батюшка поднимает кулак и начинает рассматривать ногти, как после маникюра.
Прихожане ждут. Я жду.
Батюшка говорит, обращаясь к своему кулаку. Просто не может оторвать от него глаз. Он говорит:
— Нечестивец! Язычник! Как ты посмел входиша в дом божий, очки, бесовское порождение, не снявши!
Зло и энергично выходит. Кулак словно живой. Собеседник. Поднимается ропот.
Я снимаю очки.
Ропот смолкает.
=== 10^-3 ===
...Как определить, что началась эпидемия НМ-вирусов? Например, того же Alien-8? Или дурной памяти Rev.lion?
В сектах начинается час пик. Не протолкнутся. Того и гляди ноги отдавят.
После обеда Василий Глебович, который отец, принес пачку местных газет и журналов и...
Толстую папку с вырезками. Двухголовый теленок. Зеленые человечки. Призраки. Живые мертвецы.
Много. Кое-что отчеркнуто желтым маркером. Например, девушка, которой явился ангел и сказал...
Пометки маркером: знак вопроса. Три знака вопроса. Ручкой подписано: выяснить точное время.
Сначала я подумал: а зачем я-настоящий тратил на это время? Когда был еще в полной памяти и прекрасно знал, что должен делать агент?
А потом понял.
Иисус Христос ходил по воде? Превращал воду в вино? Прекрасно. Божественное? Замечательно. Только... божья ли это воля? Или боевые НМ-вирусы, которые делают человека способным на левитацию, например?
Чудеса подозрительны.
Чудотворцы опасны.
Это кровь моя. А это плоть моя...
А хлеб кишит нановирусами. И что-то божественное в тебе точно появится.
По крайней мере, будет с кем поговорить.
=== 10^-4 ===
Я иду по улице. Ветер дует в спину. Возможно, вчера я точно так же шел из церкви. А потом очнулся в лесу в двух километрах от города. Здравствуй, Краснокамск. Прощай, память...
Навстречу идет девушка. Высокая, загорелая, в ситцевом синем платье в белый горошек. Русые волосы, светлые глаза.
Подойти, спросить.
Что, например? Как вас зовут? Отличный вариант. А может лучше — вы вчера не разговаривали с ангелом, случайно?
Или с собственным кулаком?
Священник будет запираться. Я могу навести на него местное отделение «питерцев», как прозывают сотрудников Кризисной Службы. А там — допрос. Химический анализ. Анализ крови, мочи, костного мозга...
Проверка психики.
Тесты Хьюмберта, Морозова, Боначчи.
Может, они его расколют и вычистят. А может, и нет. Потому что НМ-вирусы мутируют, как самый обычный грипп. Антивирусы работают только против самых известных моделей НМ-вирусов. Тот же Alien-8. Но в последнее время Служба предпочитает их не использовать. Вообще.
Поздно.
Запрещено промышленное применение НМ-вирусов.
Поздно!
Запрещены военные разработки.
Опоздали на тысячу лет. Джинн выпущен, бутылка пуста.
Слыхали про такое: НМ-шизофрения? Раздвоение личности, вызванное НМ-вирусом. Человек абсолютно, совершенно нормален — но при этом он будет вести себя очень странно. Потому что чужое сознание или подсознание — это, увы, объективная реальность...
Не разум. Пока еще нет, слава Богу.
Словно вы гуляете с огромной собакой на поводке. И та вас тащит куда пожелает. Захочет — сядет, захочет — ногу задерёт. Захочет, прохожего укусит.
Представили?
А теперь попробуйте с этим жить.
Ученые говорят, до возникновения НМ-разума остались считанные годы.
Недели?
Дни?
=== 10^-5 ===
— Я не могу приказать тебе. Ты — профессионал, Андрей.
— Даже с амнезией?
— Даже.
— А если я заражён? И это последствия?
Молчание.
— Тебе решать, Андрей. Я бы предпочел тебя отозвать... но... В этом городе что-то происходит. Если это эпидемия...
— То мне уже плевать, верно?
— Не думаю. В чем я уверен на сто процентов — тебе далеко не плевать.
— Да? А зачем рыпаться, скажи мне, Паша? Зачем? Джинн выпущен, бутылка опустела. Все летит под откос.
— Без паники. Я понимаю, тебе плохо. Но — держись, Андрей. Еще немного. Завтра я вылетаю к тебе.
— Вух! Наконец-то. Мир спасен.
— Шутник.
— Я серьезно. Мне намного лучше. Жду, Паша.
Я кладу трубку. Потом поднимаю и слушаю гудки. Почему-то мне так спокойней. Да джинн выпущен, но борьба с ним идет. Если понадобится, мы устроим карантины, натянем колючую проволоку, поставим огнеметные гнезда, а кое-куда и атомной бомбой врежем. Выжгем заразу.
Гудки.
Пока же мы боремся точечными ударами. Анализируем, выжидаем, готовимся, идем на личный контакт. Находим и бьём. Есть такое понятие, как «личное правосудие». Это грязная работа.
Гудки.
=== 10^-6 ===
Андрей Бочкарев, шериф Дикого Запада. Получивший в прошлой серии по голове...
И злодей в ризах. С паникадилом.
Встретились два одиночества.
Священник теперь в гражданском. В спортивной куртке с желтыми полосами. В джинсах. С рюкзаком за спиной.
Вечер. Почти закат. Романтично.
— Эх, батюшка, батюшка, — говорю. — Злой вы человек. Только ведь и я — не добрый.
Священник молча поворачивается и бежит. Он напуган. Он — нормальный человек по сути. И этому человеку я сочувствую...
Здесь нет зла как такового. Просто борьба видов.
Я бегу за ним.
— Давай! — кричу я. — Все равно не убежишь!
Я достаю нож. Устремляюсь в рывок. Почти догоняю. Батюшка наддает. Фонарей на улице — кот наплакал. Где-то вдалеке горит один. Так что мы играем в догоняшки в темноте. Собаки лают.
— Помогите! — кричит батюшка. — Помогите!!
Я почти его догоняю. Взмахом ножа попадаю в рюкзак. Батюшка делает усилие. Выигрывает два метра. Потом еще один.
Уйдет!! Нет, нельзя.
В груди — боль. Дышать тяжело. Я в хорошей форме, если не считать синяков и ушибов. А в груди — словно рвется.
Рывок!
Выпад ножом. Неужели попал?! Не может быть!
Нет.
Батюшка, вдруг, извернувшись ужом, уходит от удара. Прыгает на забор близлежащего дома — и, как ящерица, ползет по нему вверх. Забор вплотную к стене дома, батюшка на четвереньках — все выше и выше. Вот он подбирается к чердачному окну...
— Эй! — кричу я. — Божий человек! Стой, стрелять буду!
Батюшка замирает на секунду, поворачивает голову. Смотрит мне в глаза...
Почти как днем, в церкви.
Глаза не могут лгать. Потому что подсознательно человек знает о себе правду.
— Голоса? — оправдывается такой. — Что вы, какие голоса. Неужели я похож на сумасшедшего?
А глаза говорят: «Я разговаривал с соседской собакой.» Или с кроликом. Или с мусорным ведром.
А что? Имею право.
Тварь смотрит на меня из глаз батюшки. Нечто иное. Чужое. Надеюсь, просто набор рефлексов и желаний...
Не разум, будь боже милостив.
Мы смотрим с тварью в глаза друг другу. Долго. Целую секунду. Или две.
Потом голова твари взрывается. Обезглавленный труп падает на землю мешком с потрохами. Личное правосудие. Хотя стрелял не я.
— Понятно, — говорю. — Понятно.
Ко мне подходят люди — местные «питерцы». В желтых костюмах высшей защиты они похожи на космонавтов.
Один улыбается мне через подсвеченное стекло. Показывает большой палец. Егор Караев, кажется. Начальник местного отдела.
Да, я хорошо сработал. Заставил тварь раскрыться. Какая-то мутация военного НМ-вируса? А черт его знает...
Покойся с богом, батюшка.
Стрелял снайпер из местных. А по моим ощущениям — словно я сам, лично нажал на спусковой крючок...
И нажму, если понадобится.
Мы — поколение бегущих по лезвию бритвы.
Мясники.
=== 10^-7 ===
Люди, разговаривающие с Богом! Покойной мамой. Гэндальфом. Зелёными человечками. Соседской собакой.
Любите поговорить по душам с зеркалом?
Мы придем за вами.
=== 10^-8 ===
А может, не зря ведьм жгли? Если вспомнить знаменитые психические эпидемии средневековья. Некоторые указания из «Молота ведьм» — прямо-таки аналоги физического теста Морозова.
Хватит голову загружать. Сегодня приедет Павел. Мой начальник и... друг, как я понимаю. Если он не был таковым до моей амнезии, то теперь — точно станет. Уже стал.
Вдвоем проще.
— О, кого я вижу! Какими судьбами? — знакомый голос за спиной. Я поворачиваюсь. Глава местных «питерцев» Егор Караев. Уж не Павла ли встречает?
— День добрый. Да так, на Москву билет взять хочу. Хватит, нагостился. А ты чего?
— А, не спрашивай! Опять таможня чего-то нашла. Второй час пластаемся. Не торопишься? Давай покурим, что ли?
— Давай.
Gray goo problem. Проблема «серой слизи». Эрик Дрекслер считал, что если нанороботы выйдут из-под контроля — все живое на земле будет разобрано на молекулы. И Землю покроет слой серой слизи. Апокалипсис. Конец.
Профессиональное воображение.
...Настоящий сыщик должен быть одержимым.
— Павел Вяземцев. Знаешь такого? — спрашиваю.
— Павел Вяземцев? — Караев удивляется, но потом вдруг расплывается в улыбке. — Конечно, знаю, — подмигивает. — Отличный оперативник. Рисковый, умный, точный. Всегда поможет. Даже в отпуске работает... Совсем как ты.
— Правда?
=== 10^-9 ===
Я подошел к раковине. Вывернул до упора кран с холодной водой. Набрал полную горсть, плеснул в лицо...
Забыл! Опять забыл.
Вода течет по стеклам. Персональный дождь.
Я закрыл глаза. Медленно, на ощупь, снял очки. Поднял голову...
Открыл глаза.
— С приездом, Паша, — сказал я. — Слышишь?
Глаза не могут лгать.
— Здравствуй, Андрей, — сказал человек в зеркале. Действительно похожи. Почти братья. Если забыть, что это совсем не человек. — Извини, что так получилось... Насчет леса — тоже извини...
Низкий голос на фоне длинных гудков.
Ученые говорят, до возникновения НМ-разума остались считанные годы.
Недели?
Дни?
Наноапокалипсис.
Маленький такой, десять в минус девятой степени, конец света.
Ту сто четыре — самый лучший самолёт.
Ту сто четыре — самый быстрый самолёт.
Надо было поездом.
Надо было поездом.
САРА
Гарик Перельман выбрал свободу. Сменил профиль на греческий с изящными ноздрями. Оставаясь консерватором, завел любовницу из «перемещенных». Будучи в возрасте, надел тунику с глубоким вырезом. Не желая огласки, рассказал все случайному знакомому.
— Считают меня гоем! — жаловался Перельман.
— Ты много пьешь, — сказал знакомый, наливая. Пока Гарик отлучался в туалет, знакомый успел позвонить.
Вечером за Гариком пришли. Милые вежливые люди в голубых туниках. Сняли дверь с петель и выбили знакомому четыре зуба. Он попросил их по телефону. Не хотел выглядеть в глазах Перельмана сволочью.
Гарик забрался на диван в одних трусах.
— Я буду жаловаться в Лигу Наций! — кричал он по старой еврейской привычке.
Рядом с диваном стоял шкаф. На полках лежали книги. Зеленела толстянка в горшке.
Потом Гарик вспомнил про израильскую армию. Он проходил курс молодого бойца в тиронуте для джобников. Мефакедша Сара демонстрировала приемы рукопашного боя. Груди как арбузы в камуфляже. Она научила Перельмана убивать голыми руками. Правда, и в молодости не очень получалось. К пятидесяти остался один боевой дух. Поэтому Гарик взял со шкафа цветочный горшок.
Милые вежливые люди расступились. Знакомый сказал:
— Факаный эльф!
Ему уже не было стыдно. Лежа на полу, закатил глаза.
Потом на Гарика уронили шкаф. И все померкло...
Очнулся Гарик под звуки пощечин. Его привязали к стулу. Голова напоминала футбольный мяч. Лицо горело. Над ним склонился мужчина в темных очках. Он ударил Гарика и сказал:
— Приди в себя, сволочь!
За его спиной двое смотрели телевизор. На столе была расстелена газета. Горкой лежал черный хлеб с ветчиной. Стояла бутылка водки.
Шел какой-то матч. Ворчали трибуны. Один из мужчин буравил экран взглядом. Второй молча жевал ветчину.
Перельман узнал милых вежливых людей. Вместо туник они надели брюки. На Гарике из одежды только клейкая лента. Этого было достаточно. Но унижение внезапно приобрело удивительную для Перельмана форму...
Мужчина закурил, глядя на него. Темные очки плавали в дыму.
Запах табака напомнил Гарику детство.
Выпитый нектар поднялся к горлу. Хотелось водки и хлеба. Хотелось брючной тесноты в промежности. И самое жуткое, хотелось быть патриотом. Борясь с унижением, Гарик прикрыл глаза.
Мужчина выдохнул дым и сказал:
— Не притворяйтесь, Гаринуэль Перельнумас!
Затем спросил:
— Знаете, куда попали?
— Нет, — сказал Гарик.
— А мы все о вас знаем!..
Знали они действительно много. Больше, чем Гарик мог о себе вспомнить. Если он запинался, его били. Мужчина в очках спрашивал:
— Уши вам кто делал?
Затем отвечал:
— Уши вам Рабинович делал! Мы все знаем. Не врите, Гаринуэль!
Эльфийские имена у него выходили с металлическим призвуком. Как лязганье затвора. Гарик признался, что да — Рабинович делал. Женя Рабинович до Сошествия был портной. После стал помогать соплеменникам. Те в ответ благодарили Женю материально.
Потом мужчина налил водки. Сказал:
— Жиды продали Россию эльфам! А америкосы им в этом помогли.
И выпил водку.
Провоцирует, догадался Гарик. Перельман объяснил, что не все так просто. Б-г избрал евреев. Евреи поддержали выбор Б-га. Всем было хорошо. И вдруг — Сошествие. Оказалось, что евреи — промежуточная ступень. Гарик спросил:
— Вам было бы приятно такое узнать?
Народ Моисея оказался в положении человека, у которого папа — еврей, а мама — русская. Теза, антитеза, а на выходе — черте что.
Перельман добавил:
— Или, если хотите, мы — кроманьонцы, остальное человечество — пещерные люди.
Мужчина посмотрел сквозь очки на Гарика. Сказал:
— Не хочу.
Гарик умолчал про дальнейшее. Израиль возмутился. Как, у нас отнимают б-гоизбранность?! Страна встала под ружье. Самолеты взлетели с полным боезапасом. Но ничего не случилось. Израиль как-то незаметно стерли. Прошлись по карте ластиком.
Арабы радовались как дети. В счастливом запале перестреляли кучу народа.
Мужчина сказал:
— А теперь расскажите про Врата.
— Про какие врата? — уточнил Перельман.
— С большой буквы. Ваш знакомый нам доложил.
Гарик понял: вот оно — главное.
Гарик сказал, что действительно упоминал «врата». Только в другом контексте. Разговор шел о женщинах. В частности, о мефакедше Саре.
— Вам известно выражение «врата Рая»?
Мужчина высказался нецензурно. Затем добавил, что если «эльфья морда» будет запираться, он за себя не отвечает.
От стола донеслось: «Опа!» Потом: «Гол!»
Перельман сказал:
— Я ничего не знаю.
Однако «морда» его несколько смутила. Вечно эти органы себе позволяют.
Мужчина снял пиджак. Закатал рукава. Гарик испугался по настоящему. Закричал:
— Не имеете права! Мне пятьдесят шесть!
Мужчина в очках засмеялся:
— Разве для мужчины это возраст?
И ударил Гарика по почкам резиновой палкой.
Было больно. Перельману с тоской вспомнилась мефакедша Сара. Милых вежливых людей она скрутила бы одной левой. Мужчине в очках вырвала бы пищеварительный тракт.
Не выдержав пыток, Гарик назвал адрес. Они уехали. Вернулись через несколько часов. Грязные и злые. Один держался за челюсть. Другой сказал:
— Эта сука нас обманул! Там овощной склад!
У него была рука на перевязи.
Пока людей не было, Гарик дремал на стуле. Отвязать его не догадались. Раскалывалась голова. Ныли кости. В почки влетел разрывной снаряд. Под стулом образовалась лужа.
Ничего удивительного, что проснулся Гарик в дурном настроении.
— Одно слово: жид! — сказал мужчина в очках.
Это было уже слишком. Когда били, Перельман молчал. Но хамство он, как потомственный интеллигент, терпеть отказывался.
Гарик закричал слабым голосом:
— Твари!
Слова полились. Гарик высказывал наболевшее. Про судьбу евреев, которые наполовину. Про Израиль. Про избранный Б-гом народ. Что он, Перельман, с народом этим сделает. Про Россию. Про семитскую внешность и русскую душу.
Перельман сказал: «В конце-то концов, мне надоело!»
Сначала операция. Потом экспертиза на физическое соответствие. Это еще ничего. Трудно бросал курить. Экспертиза на моральный облик. Гарик прошел со скрипом. Замена паспорта. Потом долгое ожидание. Еще ожидание. Взятка.
Наконец выдали паспорт. Обложка голубая, чтобы не сомневался. Полноправный эльф. Добро пожаловать в Б-гоизбранные.
Три дня Гарик радовался жизни.
А в посольстве эта сука ему говорит:
— В визе отказано.
— Почему?! У меня же паспорт!
— У вас мать не эльфийка.
— И что?
— Не изображайте идиота. В визе отказано.
Гарик попытался еще раз:
— Нельзя ничего сделать?
— Ваша мама жива?
— Нет.
— Тогда нельзя.
Гарик вышел из посольства. Взял пять бутылок нектара. Теперь сидит с отбитыми почками. Все удачно сложилось.
Милые вежливые люди выслушали. Второй сказал:
— Футбол из-за этого гада не досмотрели. Пошли хоть водки попьем.
А первый говорит:
— Нет. Надо развязать старика.
Сказал:
— Правильный старикан! Гнида, конечно. Но тут я его понимаю.
И добавил:
— Меня Борисом зовут. Мы из Сопротивления.
Компанией смотрели телевизор. Гарик сидел на диване. Ему выделили брюки. Мужчина в очках пояснил:
— Мы патриоты.
Гарик посмотрел на брюки. Они были размеров на пять больше. Гарик сказал:
— Понимаю.
Но это позже.
Сначала Боря отвел Гарика помыться. Ванна была в рыжих потеках. Кран хрипел и плевался. Полотенцем кто-то вытер ботинки.
— Сэнкью вэри мач, — сказал Перельман. Когда Боря ушел, Гарик потянул с себя клочья ленты. Как кору с дерева. Зашипел и передумал. Так и остался в скотче. Как матрос в пулеметных лентах.
Над раковиной было зеркало. С наклейкой «Микки-Маус» и трещинкой.
Гарик вгляделся. Ничего нового не увидел. Только уши обвисли, как у шотландского сеттера. Глаза ушли в подполье.
Тогда был вечер. По мостовой скользили желтые листья. Набережная и небо — в сером цвете. Она сказала:
— Ты постарел, Перельман. Ай-я-яй, не порядок! Будем исправлять.
Перельман видел мефакедшу второй раз. Тиронут утонул в памяти. Арбузы в камуфляже — нет. Убивать голыми руками. Сара — мощная женщина. Могла задушить в объятиях. Гарик и пальцем бы не пошевелил, чтобы этого избежать.
Перельман сказал:
— Могу я вас угостить?
— А зачем спрашивать?
И правда, вопрос был не еврейский. Решился в пять минут.
Умывшись, Перельман вышел из ванны. Подпольщики смотрели телевизор. Гарик сказал:
— У вас зеркало сломано.
Второй повернул голову:
— Что?
— Я говорю, зеркало сломано. Дурная примета.
— Ерунда!
Трибуны освистывали новый матч. Судья бегал по полю за игроками. Он был в черной тунике. Футболисты — в синих и зеленых. Мелькали голые задницы. Мужчина в очках протер очки и сказал:
— Докатились. А была мужская игра!
Боря на него шикнул. Потом раздался стук, и дверь упала в комнату. Кто-то закричал: «Лежать! Тихо! Убью!» и почему-то: «Белый!».
Люди в черных туниках заполнили комнату. Вскочил мужчина в очках. К нему бросились двое. Мужчина упал. Боря заорал тонким голосом:
— Я буду жа!..
Борю смели. Черные люди прыгали из окна.
Гарик не успел открыть рот, как все замерло. В мертвой тишине работал телевизор. Стадион ревел. Комментатор бубнил. За окном матерились.
Гарик огляделся. Сопротивленцы лежали на полу. Слева толпились люди. Справа толпились люди. Все — высокие и худые, в черных туниках. Длинные ноги — как у манекенщиц.
— Вы кто? — спросил Перельман.
Один из черных снял маску. Под маской оказалась блондинка с античным профилем. Красивая, но не во вкусе Гарика. Она спросила:
— Гаринуэль Перельнумас?
— У вас ко мне дело?
Гарику не нравились эльфийки — как женщины. Из чисто практических соображений. Все плоское, только уши выделяются. Иное дело Сара. Там было раздолье.
— Меня зовут Элберет, — сказала эльфийка. — Я командую отрядом. Мы посланы для вашего спасения.
Остальные черные сняли маски. Брюнетки, блондинки, рыжие.
Гарик удивился.
— Одного меня? Так много?!
— Жизнь каждого эльфа — огромная ценность, — сказала командир.
Посмотрела на Гарика:
— Вижу, над вами издевались.
— Вы про брюки? — спросил Перельман.
— Не только.
Блондинка подошла к столу. Античное лицо исказилось.
— Про эту жуть.
Гарик счел нужным пояснить:
— Они называют себя патриотами.
— Курить, пить, есть мертвых животных. Быть свиньей. Это и называется: патриотизм?
Из упавшей бутылки вытекла половина. На полу лежала ветчина. В пепельнице дымился окурок. Тонкая струйка исчезала на глазах.
Перельман сглотнул. Командир сказала:
— Звери! Они и вас заставляли?
— Не успели, — ответил Гарик с сожалением.
Гарик почувствовал знакомую резь и сказал:
— Простите, могу я в туалет?
Командир улыбнулась. Зубы у нее были кукольные. Блондинка сказала:
— Конечно, конечно!
И добавила:
— Но сначала расскажите про Врата.
Гарик очнулся на полу. Вокруг суетились люди в камуфляже. Они перетаскивали тела в черных туниках. Резкий запах крови. Командовала женщина с низким голосом. Бронежилет вокруг роскошных форм. Куда там эльфам. Гарик поднял голову и сказал:
— Здравствуй, Сара!
Женщина присела на корточки. Погладила его по голове и сказала:
— Проснулся? Где твой паспорт?
— Там.
Сара развела огонь и бросила документ. Гарик наблюдал. Сгорала дорого купленная свобода. Что-то болело. Наверное, почки.
Огонь полыхнул голубым и зеленым. Сара пояснила:
— Жучок.
Подпольщики лежали в центре комнаты. Отделали их на славу. Мужчина без очков открыл глаза. Потом сказал Саре:
— Я тебя знаю. Ты работаешь на овощном складе.
Спросил:
— Врата там?
Сара наклонилась к мужчине:
— Тебе-то они зачем?
— Как зачем? — мужчина ожил. Приподнялся, заговорил:
— Найдем Врата и что-нибудь туда сунем! Нам что, жалко мировой ядерный запас?! Для такого-то дела. Всех эльфов одним уда...
Сара выстрелила два раза. Два металлических щелчка.
— Моссад без вас разберется.
Повернулась к Гарику. Сказала:
— Я для чего тебе адрес дала?! Чтобы ты сам пришел. А не посылал уродов. Это секретный объект, между прочим! Врата в другой мир!
— Правда? — сказал Гарик. Слабость была приятной.
— Правда. Ты что, ничего не помнишь? А я тебе, дура, рассказывала. И не пришел не разу. Подлец! Забыл? Или испугался?
— Забыл.
— Прямо не еврей, гой последний! Зла на тебя не хватает!
— Я очень нервничал, — сказал Перельман. — Встретились — помню. Вино брали — помню. Дальше ничего не помню. Но ты — самая лучшая! Это помню.
— Алкоголик!
— Сарочка, выходи за меня замуж, — сказал Гарик. — Только у меня нос греческий и мама — русская.
Сара замерла. Подошла и села рядом. Глаза блестели. Сказала:
— Я еврейка. Дети будут евреи. Чего тебе еще надо, подлец?
— Значит, ты согласна?
— Подожди! Сколько тебе лет?
Гарик постарался выглядеть моложе. Сказал:
— Пятьдесят шесть. А что?
Сара нахмурилась:
— Много.
— Эх, Сарочка, — вздохнул Гарик. — Разве для мужчины это возраст?
НЕОБХОДИМАЯ ЖЕСТОКОСТЬ
Дело лежало перед ним в тонкой папке жёлтого картона.
Он на мгновение задержал на нем рассеянный взгляд, встал, отодвинув стул из сыплющегося от старости дерева, подошёл к окну. Шёл мелкий, противный как чесотка, дождик. Пасмурное утро почти без перехода сменилось таким же серым днём, а дождь всё шёл.
Он простоял так очень долго, изредка меняя позу, когда затекали ноги, курил, когда хотелось курить — белый подоконник заполнили мятые окурки и жёлтые следы затушенных о поверхность подоконника папирос. Всё это время он смотрел, не отрываясь, в окно. Он сам не знал, чего ждёт. Почему-то казалось самым важным не пропустить это, не отвести взгляд, а заметить, разглядеть и может быть даже... Что он должен сделать, он не знал, но надеялся узнать.
А за окном приезжали и уезжали чёрные машины — фургоны с решётками на окнах и без всяких обозначений. Иногда люди в зелёной форме с малиновыми петлицами выводили только одного человека, но такое случалось редко. Чаще людей было много больше, даже странно, как они все помещались в одной машине. Некоторые из них шли, гордо держа голову, и даже конвоиры сторонились их. Но таких было мало. Меньше даже, чем машин, привозящих по одному человеку. Остальные... Растерянные, с пустыми глазами, они пытались что-то доказывать охранникам с малиновыми петлицами, порой кричали, требовали... Этот двор назывался «чёрным», высшие чины армии и госаппарата подвозились к «белому» входу... Вот только дальнейшая судьба у них была одна. Расстрел или трудовой лагерь. Другого — не дано по определению.
Он ждал. Папиросы давно кончились, теперь он, боясь отойти от окна, докуривал бычки. Горький вязкий дым лез в горло, вызывая сухой кашель. Огонь обжигал пальцы. За окном всё так же шёл дождь, бухали в лужицах сапоги и ботинки, звучали команды и нервные голоса арестованных. Порою раздражающе взвывали клаксоны автомобилей, напоминая плач ребёнка. При этом звуке он едва заметно морщился. Он не любил плачущих детей. Он вообще не любил детей. Чужих, по крайней мере. Своих у него не было, семейная жизнь вообще не задалась, жена называла его садистом и убийцей, кричала, чтобы он не смел дотрагиваться до неё грязными руками — и, дорогой, смой кровь с сапог! — на ладонях у тебя красные пятна. Он оставался в управлении на ночь, работал и спал в том же кабинете, не снимая мундира. Иногда ловил себя на том, что через каждые полчаса моет руки, до боли отскрёбывая жёсткие ладони, все в мозолях от пистолетной рукояти. На носках хороших кожаных сапог ему стали мерещиться следы крови. А потом она покончила жизнь самоубийством, повесилась на бельевой верёвке в комнате, которая служила им с женой столовой. Сняла хрустальную люстру, на потолочный крюк набросила петлю, другую петлю надела себе на шею.
Нашла бездыханное тело домработница, пришедшая наутро убирать квартиру. Жена не была «опытной» самоубийцей, не готовила это заранее, потому и выбрала для себя самую жуткую форму смерти. Верёвка была короткой и толстой, петля не сломала ей шею, как случилось бы в случае длинной верёвки и достаточной высоты, а медленно, очень медленно сдавила горло.
Он не хотел ехать на опознание тела. Коллега из уголовного отдела, с которым он когда-то вместе работал, согласился, что это, конечно, нарушение, но если он подпишет протокол опознания, то можно обойтись и простой формальностью. Он подписал. А потом просыпался посреди ночи в холодном поту, ожидая, что дверь откроется, и войдёт она, с обрывком верёвки на чёрной шее, с распухшим лицом и языком, вытолкнутым из безобразно распахнутого рта давлением умирающей крови. Но вот глаза её будут не чёрные, вылезшие из глазниц, как положено удавленнице, а чистые, прозрачные, цвета василька на пшеничном поле. Живые глаза. Почему ты не пришёл тогда? — будет в этих глазах немой вопрос, ведь я ещё была жива, меня похоронили живой... Тебе было некогда, скажет она. Ты в это время мыл руки над жестяной раковиной, такой же, как в кабинете хирурга, тщательно намыливал их куском детского мыла, ведь у тебя такая нежная кожа, она становиться сухой и ломкой от обычного мыла... А потом под струёй горячей воды смывал кровавую пену. Хватит, замолчи, закричит он, и, выхватив из-под подушки именной «Берг», станет стрелять.
На этом усталость обычно обрывала видение, но утром страх возвращался, с новой силой накатывала безысходность. И он брался за работу, с какой-то страстной одержимостью раскрывая заговоры и ловя шпионов. Страх на время отступал, но только до той поры, когда он, забывшись, автоматически подходил к раковине и брался за мыло. А потом... Он боялся засыпать, ведь именно после сна приходили видения.
Раковина была белой, эмалированной, совсем не похожей на хирургическую. А вот мыло действительно было детским, его приносил сосед из кабинета напротив, у которого была чувствительная кожа. Его же кожу трудно было проколоть булавкой, да и с прививками обычно выходили мучения — гнулись иголки шприцев. Но видение и реальность накладывались друг на друга, сплетаясь в единую, чудовищную именно своей осязаемостью, картину: кровавая пена, клочьями падающая на жестяную поверхность; раковина, блестящая шлифованным металлом; сухая, шелушащаяся кожа рук...
Он стоял, курил и смотрел в окно. Во двор въехала очередная машина — обычный «чёрный ворон», двухосный фургон на базе трехтонных грузовиков, выпускавшихся для армейских и сельских нужд. Сделала широкий круг по двору, объезжая стоящие машины, притормозила рядом с ними. Ему почудилось, что машина пуста — бывало и такое, но очень редко. Он затушил недокуренный, сантиметра в три, окурок, смял его пальцами, чтобы потом снова не соблазниться, и поправил ремень.
Кажется, ЭТО ИМЕННО ТО, ЧЕГО ОН ЖДАЛ.
Боясь обмануться, он вцепился взглядом в подъехавший «ворон». Дверь кабины с правой стороны — с его стороны — распахнулась. Появилась сначала нога в грязном сапоге, затем...
НЕТ. Не то.
Офицер в чёрном дождевике соскочил на землю, присел, затем встал, восстанавливая кровообращение. На окраину мотались? Скорее всего. Офицер снова открыл дверцу машины, достал фуражку с малиновым околышем. Потом развернулся и пошёл ко входу в здание.
Ты не можешь быть пустой, прошептал он, НЕ МОЖЕШЬ.
С другой стороны фургона появился водитель. Он открыл двери в торце машины, посторонился, пропуская человека в форме (сам он был в гражданской одежде) и с автоматом в руках. Тот встал на землю и махнул кому-то внутри рукой.
СЕЙЧАС, подумал он.
Вылез ещё один «малиновый», тоже с автоматом, потянулся и зевнул. Следом за ним встал на землю человек среднего роста, обычной внешности — даже если бы они и были, эти особенности, рассмотреть их с такого расстояния было трудно. Волосы у него были тёмные, лицо белое, рукава свитера подвёрнуты.
ЭТО ОН.
Кто? Ответ пришёл изнутри, словно кто-то телепатически передал ему знание:
ОН — ТВОЁ ПРОЩЕНИЕ
почему — он?
ОН — ТВОЁ ПРОЩЕНИЕ
но как? отчего? что значат эти слова?
НЕ ИЩИ ДВОЙНОЙ СМЫСЛ
НЕ ИГРАЙ СЛОВАМИ
ОН — ТВОЁ ПРОЩЕНИЕ
он, что — Бог?
НЕ ИЩИ ДВОЙНОЙ СМЫСЛ
ОН — ТВОЁ ПРОЩЕНИЕ
мессия? колдун?
ТЫ БЕСПОЛЕЗЕН
ТЫ ПЫТАЕШЬСЯ ПОНЯТЬ
НЕ ПЫТАЙСЯ
ТЫ ДОЛЖЕН ВЕРИТЬ
бог существует?
ЕСЛИ БОГ СУЩЕСТВУЕТ,
ОН НЕ НУЖДАЕТСЯ В ТВОЁМ ПОНИМАНИИ
ОН НЕ НУЖДАЕТСЯ В ТВОЕЙ ВЕРЕ
я нуждаюсь в понимании!
ТЫ НУЖДАЕШЬСЯ В ВЕРЕ
как же тогда? но если я нужен богу...
БОГУ НЕ НУЖЕН НИКТО
но как же человек на улице? я нужен ему?
ДА
кто же он тогда?
ОН — ТВОЁ ПРОЩЕНИЕ
что же делать?
ТЕБЕ РЕШАТЬ
ПОМНИ:
БОГУ НЕ НУЖЕН НИКТО
ТЫ НУЖДАЕШЬСЯ В ВЕРЕ
ТЫ НУЖДАЕШЬСЯ В ПРОЩЕНИИ
* * *
Человек сидел перед ним на стуле и без всякого страха смотрел на следователя. Глаза у него были серые, с едва заметной желтизной, один чуть больше другого. Что придавало ему лукавый вид.
— Ваше имя. — негромко сказал Следователь.
— А вы разве не помните?
— Я, кажется, задал вопрос.
— Рослав Кнежинский...
...добрый человек...
—...Кнежинский, господин следователь. Корабельный инженер.
Следователь неторопливо поднялся, перегнулся через стол, с экономного размаха залепил пощечину. Инженер охнул, глаза стали потерянные... На щеке медленно проступила краснота.
— Отвечать на поставленный вопрос, — гримаса боли на лице допрашиваемого не доставило следователю никакого удовольствия. Он давно привык по мере необходимости прибегать к жёстким методам убеждения, но любви к ним не испытывал. Дознание стало рутиной, не имеющей ничего общего с игрой ума. Только тупая сила, способная перемолоть тысячи, не заботясь о последствиях.
Инженер молчал.
— Я спрашиваю — вам понятно?
— Да.
— Что — да?
— Я понял. Не надо больше меня бить.
* * *
— Между прочим, это — допрос, — сказал Следователь, — а не дискуссионный клуб. Держите свое мнение при себе.
— Между прочим, — улыбнулся Кнежинский, — вы должны найти ко мне подход. А разве разговор по душам — не лучший метод?
— Лучший метод — кулаком в зубы, — равнодушно заметил Следователь. — Или по почкам. А это больно. Вы напрашиваетесь, причем уже не в первый раз... Не надо больше таких попыток, мой вам совет. Однажды я могу уступить.
* * *
Ночью ему снился сон.
«...плаще с кровавым подбоем Пятый Прокуратор Иудеи всадник Понтий Пилат вышел на балкон».
ТЫ ПОНЯЛ?
что я должен понять?
МОЙ СЫН. ОН МОЛОД. ОН СНОВА ПЕРЕД ВЫБОРОМ.
чаша сия...
ОН МОЛИТ МЕНЯ.
о чём?! что он просит?
ОТВРАТИТЬ ЧАШУ.
* * *
— Ваше имя?
— Гойко Вутич.
— Род занятий?
— Художник.
— Точнее.
— Художник-оформитель при клубе «Родина».
— Давно знакомы с Рославом Кнежинским?
— Четыре... простите, уже... пять лет. Да, пять лет.
— При каких обстоятельствах состоялось ваше знакомство?
— Э-э-э?.. Я точно не скажу, давно было.
— Постарайтесь. Курите?
— Что? Простите?
— Я спрашиваю: вы курите? Возьмите сигарету.
— Д-да, спасибо, спасибо... Вообще-то я пытаюсь бросить...
— Огня?
— Да, пожалуйста... Спасибо.
— Так как вы познакомились?
— На моей выставке. Я…
— Минуту. В вашем деле нет упоминаний о выставке.
— Понимаете... Это всё было неофициально. Я часто устраиваю такие вечера для друзей... показываем картины, читаем стихи… Мм… Можно мне пепельницу?
— Конечно. Где это происходило?
— Премного благодарен. У меня на квартире... кажется. Кто-то привёл Рослава...
— Что дальше?
— Посидели, выпили... А утром он сказал, что ему очень понравилась одна из моих картин… «Синее небо».
— Он объяснил, почему?
— Да. Он объяснил.
* * *
— Знаете, — Рослав опять также странно, одними губами, улыбнулся. — есть один старый... достаточно старый фильм... «Миражи», кажется. Китайский фильм, где много кунг-фу и акробатических трюков…
— Какое отношение?
— Да, в общем-то, никакого. Но там был забавный момент… Когда молодой глупый китаец спасает раненого босса мафии… больного желудочной язвой старика... Вы видели этот фильм?
— Нет.
— Всё равно. Так вот, спасает... на бегу пару раз роняет старика... но — спасает. Старик назначает его своим преемником и тут же испускает дух. Смешно?
— Не очень.
— И мне — не очень. Потому что на самом деле старик желал своему спасителю смерти...
Молчание.
— Почему?
Смешок.
— Будь я старым мудрым даосом, а вы — моим учеником, я бы молча вышел в дверь, оставив вас наедине с вашими мыслями… Но, думаю, это достаточно затруднительно...
— Стать даосом?
— Выйти в дверь? — эхом откликнулся узник. Вымученно улыбнулся. — Вы задаёте странные вопросы...
* * *
Сегодня он решил ехать домой. В последний раз подобное решение обернулось бессонной ночью: он сидел на кухне, включив свет и — зачем-то — все конфорки. Синеватое пламя плясало, через раскрытое окно в кухню врывался ветер; осень — будь она проклята… Будь всё проклято.
Водка не шла. С трудом пропихивая в глотку очередные пятьдесят грамм, он расправился с поллитрой. Швырнул в окно пустую бутылку и почувствовал себя смертельно трезвым…
ТЫ РЕШИЛ?
Он выронил бутылку, только что открытую, выругался. На столе перед ним стоял пустой стакан, лежали стебли полузасохшего лука, кусок черного хлеба со следами надкуса. В лужице водки обнаружился черный «Берг» с именной гравировкой по щечной накладке. Пачка папирос, окурки, горелые спички...
ТЫ РЕШИЛ?
— Я пьян, — он не заметил, как заговорил в слух. — Я пьян! Слышишь ты, голос в моей голове?! Когда я допью бутылку...
Он наклонился, с трудом сохраняя равновесие, ухватил поллитру за горлышко. Выпрямился. Мокрое стекло выскользнуло из пальцев.
— Твою мать! — с чувством сказал он. — А знаешь, — он перешел на доверительный шепот, — когда я допью, голоса исчезнут. Их место займут черти! Белые черти... — он скривил губы. — Видишь, я еще могу шутить. Ты — Бог? Нет, лучше не отвечай. Сегодня я ничего не хочу знать. Сегодня я пришел в гости к Анне...
— Анна! — он повернулся к двери. В проем ударом топора падал свет, высекая из темноты кусок паркета.
— Анна!
ТЫ НУЖДАЕШЬСЯ В ПРОЩЕНИИ
Я нуждаюсь в ней! Зачем мне прощение — без неё?!
ЗАЧЕМ ТЕБЕ ОНА — БЕЗ ПРОЩЕНИЯ?
— Ты — не Бог, — он устало ссутулился, глядя на кусок паркета. Чертов кусок паркета, на который когда-то ступала нога Анны. — Бог не задает дурацких вопросов...
* * *
— Скажи мне одно… только честно, Рослав! Ты — болен?
— Честно? — узник улыбнулся. — Нет.
Следователь дёрнул щекой. Полез в нагрудный карман, вытащил сложенную вчетверо бумагу. Развернул.
— А я говорю: ты болен.
— Что это? — удивился Рослав.
— Справка. Выдана шестой городской больницей, более известной, как СУС номер шесть.
— Психушка?
— Санаторий узкой специализации. — поправил Следователь. Взял карандаш, положил перед собой чистый лист бумаги. — А теперь — официальная часть. Почему вы скрыли от следствия, что в апреле прошлого года были доставлены в СУС номер шесть с диагнозом «суицидальный синдром»?
— Я ничего не скрывал.
— Вы отрицаете?
— Какое это имеет значение?!
— Значит: отрицаете. Так и запишем.
— Нет!
— Что — нет?
— Пишите: я признаю. Был доставлен.
— Пишу.
— Ещё пишите… Доктор Войцевич определил мой диагноз, как «суицидальный синдром»... Пишете?
— Пишу, пишу.
— Мне было предложено остаться и провести в больнице ещё три месяца. Добровольно, конечно… Я согласился.
— Почему?
— Потому что иначе меня оставили бы там силой.
— Так... — он помолчал. — И что дальше?
— По истечении трёх месяцев доктор Войцевич счёл, что курс можно завершить. Сказал, что я нашёл цель в жизни... — инженер невесело усмехнулся. — и теперь у меня всё будет хорошо.
— Что за цель?
— Жить. Просто жить.
— И что?
— А жить оказалось непросто.
* * *
— Вы ее любили?
— Не знаю, — в глазах Следователя клубится туман, желтовато-серый, мокрый, одно прикосновение которого заставляет вздрогнуть. Болото, хлябь... Ничто под ногами, нечто за туманом. — Не знаю. Просто... без нее мир стал каким-то плоским... Нет объема. Чертова проекция на плоскость, масштаб два к одному... Что вы на меня так смотрите?
Кнежинский покачал головой. Ничего.
— Я ведь тоже был человеком, — неожиданно признался Прокуратор, наклоняясь вперед. Острый профиль опасно навис над Рославом. — Неплохим. Не-плохим. Не...
— Хорошим, — сказал Кнежинский.
— Заткнись, — скулы свело от злости, верхняя губа поползла вверх, обнажая зубы. Прокуратор сам понимал, что выглядит со стороны жутко и, как минимум, не в себе, но справится с лицом не мог. Щека дергалась.
— Сука рваная! — слова шли с запинкой, вперемежку с рычанием. — Что ты обо мне знаешь?! Урр-рою!
* * *
— Почему вы возитесь со мной? — спросил Рослав, садясь и зажимая ладонью рассечённую бровь. Пальцы окрасились кровью.
Следователь молча смотрел на него сверху вниз. Совершенно белое лицо, мёртвые глаза.
— Вам плохо? — забеспокоился Рослав, делая попытку встать.
— Сиди, — свистящим шепотом приказал Следователь. Он понял, что ещё немного, и сам убьёт придурка. Своими руками…
Убьёт, чтобы спасти.
Вдох. Выдох. Вдох, выдох... Расслабиться...
* * *
— Помянем! — они подняли рюмки и, не чокаясь, выпили. Без лишних слов было ясно, кого поминали эти двое: палач и предатель.
— Я, пожалуй, пойду. — Вутич аккуратно поставил пустую рюмку на стол и поднялся. — Ты понимаешь... Дела.
— Ещё увидимся. — сказал Следователь. Оба усмехнулись. Гойко неуверенно протянул руку.
— Не стоит. — Следователь остался недвижен. Рука зависла в воздухе.
— Да, — сказал Вутич, убирая руку. — Ты прав — это уже фарс. Двое врагов пожимают руки над могилой третьего, которого уморили общими усилиями. Так бывает только у Шекспира.
— Куда нам до классиков...
* * *
«Прости, дорогая, но я терпеть не могу веревки. Возможно, это пошло — стреляться, но...»
Вспышка.
Темнота.
...я всегда и все решал сам.
ХОМЯКИ МЕСЯЦА
Сержант лежит на кровати лицом вниз. Простыня белая и закрыта полиэтиленом. Предполагается, что мысли сержанта далеки от эротических — хотя нечто фрейдистское в том, как здоровенный мужик навалился на беззащитную кровать, все-таки есть. Одной рукой сержант обнимает матрас, другая свисает до пола. Пальцы напоминают сосиски с вышедшим сроком хранения. Ногти длинные, как у женщины, но нуждаются в маникюре. Над сержантом вьются мухи. Это, по всей видимости, означает, что сержанту удалось подцепить некую смертельную форму триппера.
Стоило бы поговорить об опасности внебрачных связей.
Стоило бы открыть дверь и сказать «добрый день, сержант».
Вместо этого я отрываюсь от стекла и иду варить кашу себе и Бобу.
4.1.6. При переносе сосудов с горячей жидкостью следует пользоваться полотенцем, сосуд при этом необходимо держать обеими руками: одной за дно, а другой за горловину.
Я снимаю поддон с газовой горелки и несу в кабинет. За мной, как хвост за кометой, тянется шлейф из запахов гречки и шоколада.
Ногой подцепляю дверь. Оттираю ее плечом, потом бедром, напоследок ягодицей и захожу внутрь. Пересекаю комнату и ставлю поддон на стол. Хвост догоняет комету — я стою, окутанный витаминизированными парами.
Над столом — самодельный плакат. Заголовок нарисован зеленым фломастером, улыбающиеся рожицы — красным и синим. Ниже булавками закреплены два полароидных снимка. На одном я, хмурый и невыспавшийся. На другом — Боб, похожий на развеселого сельского панка.
Фотографии подписаны. Александр Постоногов, 30 лет и «С любовью, Боб», соответственно.
Заголовок на плакате гласит «Хомяки месяца».
Стоило бы спросить «что не так в этих фотографиях?»
Стоило бы добавить туда сержанта.
Я накладываю себе в тарелку и начинаю есть, а поддон убираю в сторону, чтобы каша остыла.
Боб не любит горячее.
На полу стоит системный блок. Красно-черные провода распластались, как перерезанные вены.
Я закидываю ноги на бывший компьютер доктора Ремизова и отправляю в рот гречку с шоколадным вкусом. Доктор Ремизов очень любил «Несквик». Почти так же, как любят его маленькие дети.
Я запиваю обжигающую кашу холодной водой из кружки с надписью «Дорогому папе!». С кружки на меня смотрят мальчик и девочка. Девочка в голубом (цвета кислорода) платье и улыбается. Мальчик как будто только что отснялся для нашего плаката
Кружка досталась мне по наследству.
Впрочем, как и компьютер, кабинет, шесть комнат, туалет и подсобка. Все, кроме большой лаборатории. Это собственность Боба.
И есть нечто, принадлежащее нам обоим.
2.17. Вместо расстановки нескольких термостатов в бактериологических лабораториях целесообразно оборудовать термальную комнату в изолированном темном помещении, включающую термальную камеру (площадь 7-8 кв.м) и предбоксник (3-4 кв.м).
Одна из комнат обита теплоизоляционным материалом. В ней сухо и тепло. Ее легко мыть и убирать.
В эту комнату я перетащил два больших тела и примерно сорок маленьких. У этой комнаты много достоинств. А главное, она герметично закрывается.
Стоило бы сказать «не думайте о геноциде».
Не надо.
* * *
Я создаю вселенную из пластиковых банок «Несквик» и рулонов туалетной бумаги.
Передо мной на полу — схема внутренних помещений базы. Указаны лифты, входы-выходы и стрелки — куда бежать. Это план эвакуации в случае пожара. Указан этаж — «уровень 3а».
Лучше всего по этому плану искать туалеты. Унитаз и раковина видны, словно их наносили, пользуясь высокоточной съемкой с военного спутника.
Справа от меня — ровное гудение. Пламя синее, потому что это газовая горелка.
Я держу ножницы над огнем, потом начинаю резать желтый пластик. Он плавится и воняет. Кролик с наклейки, сообщающей, что напиток полон витаминов, улыбается. Хотя должен кричать от боли.
Я думаю про семью Боба.
Про синюю цифру «36» у него на спине.
Потом я беру туалетную бумагу и прикручиваю ее проволокой. Картонный туннель в рулоне — это дверь. Банка из-под «Несквика» — комната или коридор.
Я воссоздаю «уровень 3а» на полу большой лаборатории.
Это мой личный план эвакуации.
Стоило бы спросить «что за цифра на спине у Боба?»
Стоило бы ответить.
Но вместо этого я думаю о сержанте.
Если бы дверь не была герметичной, я бы чувствовал запах. Наверняка бы почувствовал.
У меня нет противогаза или маски для дыхания. Это проблема. Зато есть шесть огромных баллонов с надписью «Кислород», но я не знаю, что с ними делать. Баллоны выкрашены в голубой цвет. Они, похоже, очень старые. Краска облупилась и местами сцарапана. Манометр отсутствует. Моего технического образования хватает только на то, чтобы взять плоскогубцы и свернуть вентиль.
Баллон свистит, как взбесившийся чайник.
Два гектара тайги заполняют комнату размером шесть на десять метров. На это уходит примерно десять секунд.
На одиннадцатой секунде я вываливаюсь в коридор и хлопаю дверью. Делаю несколько шагов. Головокружение. Коридор передо мной разбегается надвое, затем сходится, превращаясь в картинку из калейдоскопа. Пол смазан маслом и норовист, как спортивный мотоцикл. Меня сбивает и тащит. Голова взрывается болью. Я понимаю, что перебрал. Вдохнул на пару акров больше. Тайга — это севернее, за Уральскими горами. Мне холодно.
Я пытаюсь встать. На удивление, мне это удается.
Иду туда, где больше углекислоты.
По пути задеваю что-то, падающее с металлическим звоном.
Потом меня тошнит.
В инструкции по технике безопасности это называется кислородным отравлением.
Стоило бы отдышаться.
Стоило бы усвоить, что инструкция по технике безопасности — нефиговая вещь.
Пока я вспоминаю про инцидент с баллоном, Боб готовится.
Боб приводит себя в порядок. Все должно быть чисто и ухожено, об этом он позаботится. Особого внимания заслуживает прическа.
Через несколько секунд я открою дверь направленным взрывом. Тогда начнется отсчет. После взрыва сработают автоматические огнетушители. Взвоют сирены. Все будет как в тумане. Видимость близка к нулю.
Место, где лежит мертвый сержант, называется тамбур или предбокс.
Тамбур отделяет «грязную» часть уровня от «чистой».
Его нужно пройти как можно быстрее. Не потому, что сержант заразен — а потому что давно уже лежит и гниет. Людей с признаками СТК запирают в карантин на две недели. Этого достаточно, чтобы вирус уничтожил больных и — исчез. Я знаю это из дневника доктора Ремизова. То есть СТК можно не бояться. Но после смерти человеческое тело опасно уже само по себе. Воздух в тамбуре насыщен разложением.
И я подозреваю, что синдром трахания кроватей (СТК) настиг не одного сержанта.
Сколько на базе мертвых людей?
Не знаю.
Стоило бы задать вопрос «почему в живых остались мы с Бобом?»
Стоило бы нажать кнопку.
Грохот. Взрывом выбивает дверь тамбура. Метан, образовавшийся в процессе разложения, в долю секунды выделяет огромное количество тепла. Кровать вдавливается в стену, как скрепка в пластилин. Тело сержанта превращается в прах. С легким «пчих» сгорают мушиные крылья. Их тысячи и тысячи. Позже, когда автоматические огнетушители закончат свою работу, на полу останется несколько крошечных черных комочков.
Боб ждет. Он собран и сосредоточен, хотя с виду кажется слегка расслабленным. Я всегда удивляюсь: при том внимании, что Боб уделяет своей внешности, он умудряется выглядеть как похмельный панк. Волосы стоят дыбом, пряди торчат в разные стороны.
Вероятно, такого эффекта Боб и добивается?
Проходит десять секунд.
Запах гари становится таким сильным, что першит в горле. Но даже гарь не может перекрыть тяжелый дух гниения.
Так сколько на базе мертвых людей?
Я даю отмашку.
Боб срывается с места, как пуля. Бегает он гораздо лучше меня, кто бы спорил.
Выбегает в коридор, проскакивает комнаты а8, а19, минует кабинет Ремизова, туалеты (мужской и женский), дверь в большую лабораторию, поворот — и, наконец, оказывается у места Мушиного Апокалипсиса.
Здесь начинается самое сложное.
Здесь ревет пламя и со свистом опорожняются порошковые огнетушители.
Пока не понять, кто кого. Боевая ничья.
Боб накидывает на голову капюшон (противочумной костюм I типа, только какой-то гад забрал кислородную маску), секунду медлит, потом прыгает.
Стоило бы сказать, что делаю я в этот момент?
Стоило бы зажмуриться.
Я кашляю. Не потому, что в дальнюю комнату тянет дымом или гнилостные микробы до меня все-таки добрались.
У меня хронический бронхит. Эта такая вещь, которая в любой момент времени может проснуться и сказать — поехали.
Бронхит. Всего лишь.
Прорывается сквозь огонь. Костюм I типа начинает тлеть, правый рукав горит — Боб на бегу стучит себя по груди, пытаясь сбить пламя. Бежит он вслепую. Под ногами хрустит и хлюпает. Дышать нечем, смоченная водой самодельная маска уже не помогает.
Пламя не поддается.
Кожа зудит и пылает. Под ней нагревается плоть. Боб разбегается и прыгает высоко, насколько может — и подставляет руку под струю огнетушителя.
Потом еще раз.
И еще.
У меня на коленях лист ватмана, расчерченный цветными фломастерами. На листе — две таблицы. Одна озаглавлена «С любовью, Боб», другая «Александр Постоногов», 30. Таблица Боба нарисована зеленым фломастером, моя — синим. В руке у меня секундомер. В таблице Боба несколько колонок; все, кроме последней, заполнены цифрами. Против цифр стоят названия — «комната а19», «коридор а2», «туалет М».
По мере того, как Боб продвигается, я вписываю в колонку новые цифры. Делаю это красным цветом.
Последней в таблице строка «лифт1, лифт2».
Уши режет вой пожарной сирены. Здесь видимость получше, но все равно неважно.
Пламя на рукаве погашено, осталось только черное пятно. Но рука страшно зудит. Впрочем, про это можно забыть.
Где же оно?
Где?!
Почти. Я держу палец на кнопке секундомера. Стрелка щелкает: тик-ток, тик-ток. Время утекает сквозь пальцы, как вода. Ну же, Боб!
Ну!
Боб нажимает на кнопку вызова лифта. В первый момент кажется, что ничего не произойдет. Кнопка металлическая, со светодиодом внутри, чуть ниже кнопки — скважина для спецключа. Это военная база, просто так отсюда не выйдешь. Над головой — сотня метров камня и земли, бетонные перекрытия, жилые помещения для солдат и офицеров, вентиляционные шахты и маскировочные сети.
Боб жмет на кнопку еще раз. Он взволнован, но не настолько, чтобы паниковать.
Боб знает, иногда нужно просто ждать.
Светодиод в кнопке загорается.
За ревом сигнализации не слышно, как масляные поршни приводятся в движение, огромный маховик трогается и начинает наматывать на себя трос.
Но Боб чувствует легкую вибрацию. Она вызывает в нем возбуждение, схожее с сексуальным.
Боб начинает выказывать признаки нетерпения. Он пританцовывает на месте. Да, да, да.
Сейчас!
Если работает аварийное освещение, должны работать и лифты. Моя догадка подтверждается. Впрочем, как и догадка о том, что при пожаре спецключ не требуется.
Эвакуация!
Все наверх.
Звучит сигнал. Для Боба эта музыка высших сфер. Лифт приехал, еще мгновение — и он откроет свои двери.
Мгновение проходит.
Боб замирает.
Мой палец на кнопке секундомера подрагивает.
Лифт довольно вздыхает, как человек, только что выполнивший самое трудное в мире дело.
Двери открываются.
Я нажимаю кнопку. Победа! Шесть минут, двадцать две секунды. Молодец, Боб. Я вписываю цифры в последнюю ячейку таблицы. Беру другой фломастер и обвожу цифру в кружок. Жирно-жирно. Потом, подумав, пририсовываю к нему лучики.
С ватмана мне улыбается солнце «6,22». Увы, оно синее. Потому что желтого фломастера у меня нет.
Но это уже не так важно.
Стоило бы спросить, а что же Боб?
Получит он свой приз?
Конечно.
Мой друг Боб уплетает за обе щеки гречневую кашу с шоколадным вкусом.
Боб — сирийский хомячок.
Вселенная, сделанная из банок «Несквик» и туалетной бумаги, вращается вокруг него.
И он многому меня научил.
+++
В пожарных датчиках стоят герконы. Это маленькая стеклянная трубочка с двумя проводками. Подносишь магнит, и контакт замыкается. Остальное просто. Взять обычный калькулятор, расковырять кнопку «=„ и припаять проводки от геркона. Потом набрать «+1“.
Магнит крепится на колесо для хомячка.
Запускается Боб.
Колесо делает оборот, геркон замыкается и калькулятор добавляет единицу.
Отсчет пошел.
Боб крутится в колесе восемь часов без перерыва. Потом ест кашу с «несквиком», пьет воду и спит целый день без задних ног.
Цифра на калькуляторе: 37490.
Умножаем это число на длину окружности колеса, получаем, что за ночь хомячок пробегает больше восемнадцати километров.
К полуночи Боб просыпается и снова лезет в свое колесо.
Хотите узнать главную хомячью мудрость?
Иногда нужно просто бежать вперед.
Я навещаю сержанта.
Сейчас подойти к стеклу я не могу, потому что дверь заминирована. Выглядит это чудовищно. Огромная гора хлама до самого потолка. Муравейник в постъядерной эстетике. Получив дозу радиации, муравьи сошли с ума и перетаскали все — от кроватей и хирургических столов до бочек с песком и сейфа.
Не удивлюсь, если в темноте все это светится.
Кстати, о сейфе. Он принадлежал когда-то доктору Ремизову. К тому же, доктор любезно забыл его закрыть. Внутри сейфа обнаружились несколько полезных вещей.
Скажем, дневник доктора.
Или инструкция по технике безопасности. Классная вещь. Только там можно узнать, как взорвать всё, что взрывается.
Например, кислородный баллон.
Задача осложняется тем, что из этой бутылки надо выбить сразу две пробки — вторая дверь в тамбур наверняка тоже стальная.
Поэтому — направленный взрыв.
Мушиный Апокалипсис — вот в чем задача ядерного муравейника.
Стоило бы сказать «ты уйдешь в Валхаллу, сержант».
Стоило бы попрощаться.
Знаете современный смысл выражения «все под контролем?»
Трупы учтены, гробы пронумерованы.
Я иду по улице. Серый день, улицы пусты. Машин не видно, повсюду люди в камуфляже. Новости уже не показывают.
Я пытаюсь дышать глубоко и аккуратно. В горле страшно першит.
Я не выдерживаю и разражаюсь сухим кашлем.
Вокруг сразу оказываются люди в противогазах и защитных костюмах. В руках у них автоматы.
Солдаты выворачивают мне руки и укладывают на землю лицом вниз.
Я говорю: у меня хронический бронхит. Ребята, вы чего, я не подхватил СТК — но они не верят и заталкивают меня в машину. Чтобы затем привезти к доктору Ремизову, который поставит мне уколы и запрёт в герметичный бокс.
Вероятно, поэтому я выжил.
Когда вирус начал гулять по базе, они запаниковали. Хотя наверняка существовал план и на этот случай. У военных на все есть планы. Может быть, эвакуация проходила плавно и четко. Только в это «плавно и четко» забыли включить меня.
Хомячок остался в коробке.
Доктор Ремизов мог вспомнить — но убежал, бросив свой компьютер, сейф защитного цвета и ящик детского какао.
Обо мне вспомнил сержант.
Я захожу в кабинет. На мне защитный костюм, на плече сумка с едой и инструментами. Неизвестно, что нас ждет вне базы. Сегодня я собираюсь повторить маршрут Боба по уровню 3а. Только теперь побегу сам. И взрыв будет самый настоящий. Без дураков.
Прежде чем нажать на кнопку, у нас с Бобом остается еще одно дело.
Вопрос: что не так в этих фотографиях?
Ответ: это снимки из наших личных дел — моего и Боба.
Боб выглядывает из нагрудного кармана и смотрит на меня темными бусинками. Пора. Я киваю.
Я говорю: «Прощай, сержант.»
Мы с Бобом уходим, а в кабинете остается самодельный плакат «Хомяки месяца».
Под заголовком раньше были две фотографии.
Теперь — рисунок, похожий на детский. На нем человечек в сине-зеленом камуфляже и в пилотке со звездой. На погонах — по три черточки. Глаза разного размера, что придает человечку комичный вид. Справа от него нарисован красный хомячок с панковской шевелюрой. Слева — зеленый человечек.
Все трое улыбаются.
Из правого угла рисунка светит солнце.
Оно синее, потому что желтого фломастера у меня нет.
ЗДЕСЬ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ
ХОЗЯИН МЕДНОЙ ГОРЫ
1
— Короче, — сказал Яшка. — Высшее существо или не высшее существо, а наехали на нас конкретно. Что делать будем? Диман?
— Да мы этому пи...
— Ясно. Салмат?
— Забить стрелку и позвать ребят.
— Может, все-таки наоборот? — невинно поинтересовался Жданов.
Крепыш почесал затылок.
— Можно и наоборот.
— А если...
— Жданчик! — сказал Яшка резко. — Заткнись, будь другом. Твое мнение я уже слышал.
— Да я! — возмутился Жданов. — Да мы!
— Вот именно, «да мы». С вокзальскими кто драку устроил? У озера?
— Они первые начали. Во, видишь!
Жданов продемонстрировал уже изрядно пожелтевший фингал.
— Красиво, — согласился Яшка. Может, врезать по второму глазу — для симметрии? Если бы не Димкино во весь голос: «А голубые здесь тихие!» — купание в озере могло пройти без осложнений. Эх, не понимают вокзальские шуток... Ну и что, что озеро на их территории? Прошли времена, когда рэмэзевские с вокзальскими — стенка на стенку, с кастетами и цепями. Легендарные были денечки!.. Да и пошутил Яшка шепотом, только для своих. Кто ж знал, что Жданов сыграет роль голоса революции? И повторит шутку на весь пляж. Крейсер «Аврора», блин! Может, все-таки врезать? Нет, поздно, общественность не поймет...
Общественность взирала на мир широко подбитыми глазами. Вечно взъерошенный Диман и молчаливый Салмат грудью встали на защиту Жданчика.
Сразу надо было бить...
Может, и в историю бы не влипли.
2
— Баста, карапузики, кончилися танцы! — подытожил Яшка. — Позвать ребят и стрелкануться с этим экстрасенсом — это не выход.
— Ну почему? — удивился Диман. — Очень даже выход. Цепью по башке...
Салмат кивнул. «Вот, блин, стратеги!»
— Баста, я сказал. Тут головой надо, а не кулаками. Что, забыли, как с горы драпали? Нет? А зеленого дядечку забыли? Или что со Ждановым случилось?!
Яшка выдержал паузу. Оглядел воинство. Судя по чересчур отрешенным лицам, помнили все очень хорошо.
— Ну вот, — сказал Яшка. — Силой тут не поможешь. Божок этот дурацкий... или кто он там? Загадку нам загадал... Доказать, что человечество достойно жить дальше. Как доказать-то? Я загадки с детского сада терпеть не могу.
— Надо найти того, кто любит, — сказал Салмат. — И умеет разгадывать.
— Хм. Верно. Кто у нас самый умный?
— Эйнштейн, — ответил Диман мгновенно. Вдруг спохватился: — Только он умер.
— Да-а, — протянул Яшка. — Незадача... А из живых кто остался?
Диман серьезно задумался. Вокруг худого выразительного рта заходили желваки. Смотреть на мыслительную работу друга было смешно и одновременно мучительно.
— Пашка из одиннадцатого дома, — вспомнил Диман наконец. — Перевозчиком у Пещеры работает... Да ты его знаешь! Советский Союз который.
— Этот? — Яшка не сразу вспомнил. — Что, правда умный?
— Что не такой дурак, как ты — точно, — встрял Жданов. Захихикал.
— Жданчик, а в нос?
— А Гринпис?
Против Гринписа аргументов у Яшки не было.
— Вот и молчи, — заключил Жданов. — А Советский Союз... Я его знаю. Его бабушка от моей бабушки напротив живет...
3
— Павел Игнатьевич, — солидно представил «самого умного» Диман.
— Яков... э... Михайлович.
Пашка улыбнулся одними губами. Руку пожал крепко, по-пацански. От Жданчика Яшка знал, что «самый умный» занимается в секции акробатики. Отсюда и прозвище. Тренер объявлял, как комментатор: «На дорожку выходит Павел Вяземцев, Советский Союз!»
— Слушаю, — сказал Пашка негромко.
Яшка вдохнул и начал рассказывать. И про купание в озере, и про вокзал, и про драку. И про «зеленого дядечку»... Только про Жданчика пока умолчал — рассказ выходил и без того фантастический. И очень зрелищный. Блокбастер. Пашка из одиннадцатого дома слушал, не перебивая. Только смотрел на Яшку исподлобья внимательными зелеными глазами. Щурился. Молчал.
«Очкарик, наверное.» — подумал Яшка. Язык работал без устали. Яшка сам поражался, откуда взялось столько красочных подробностей.
Пашка слушал.
— Бажова любишь? — спросил наконец.
Яшка поперхнулся.
— Ну, читал немного. А что?
— Да так... ничего. А огневушки-поскакушки там не было? — с интересом спросил Пашка. — Или Золотого Полоза?
У Яшки свело скулы. Ах ты, сволочь зеленоглазая!
— Не хочешь помогать — не надо, — сказал Яшка и отвернулся. — Тебя как человека просят, а ты...
— Теперь верю, — сказали за спиной. Голос был серьезный. От прежней насмешливости не осталось и следа. — Что от меня требуется?
4
— Понимаешь, чтобы доказать кому-то что-то, нужно знать об этом ком-то хотя бы кое-что, — сказал Пашка.
Они заняли деревянный стол во дворе. Вечером здесь обычно собирались мужики-доминошники. Днем стол оказался в полном распоряжении «штаба по спасению человечества». Солнце припекало. Яшка с «самым умным» устроились напротив друг друга. На дальнем конце стола Салмат оставил коробку из-под обуви с надписью «Addedas». Вьетнамский ответ известной фирме. Салмат рыскал по двору — искал еду для Жданова.
— Еще раз, пожалуйста, — сказал Яшка. — И помедленнее.
— Короче, что ты знаешь об этом зеленом дядечке?
— Ну... он, кажется, вроде... ээ... колдуна... высшее существо. Как в фильме.
— Тогда как его убедить? Тем более до захода солнца... Эх! Понимаешь, по законам фильма, если колдун задал эту задачу вам, значит, только вы можете ее решить. Не ФСБ. Не Правительство. Не ООН, в конце концов. Вы. Вернее, уже мы. Подручными средствами. Доказать, что человечество достойно жить дальше. Дебильная задача. Что вы натворили? Жданов дядечке нагрубил, как я понял?
— Жданов его послал, — хмуро поправил Яшка. Вспомнился тот испуг, когда из рук дядечки появились зеленые молнии. Покосился на коробку «Addedasa». Вздохнул. — Далеко и надолго. Жданчик у нас человек легкий... на язык. Дядечка аж позеленел. Во всяком случае, когда мы вылезли из той пещерки, он был весь зеленый.
Пашка насмешливо прищурился.
— Этот не муж Хозяйки, случайно, был?
— Чего?
— Хозяйка медной горы. Бажов. У нее кожа зеленая, кажется. И превращается Хозяйка в ящерку...
Яшка похолодел. «Ни фига себе совпадения!»
6
— Не пифагоровы же штаны ему рисовать, верно? — Пашка вошел в раж. — Надо быть оригинальнее. Покажем ему, например, как разум... стоп! Как любовь побеждает зло и ненависть. Самая выигрышная тема... Слушай, а он действительно способен выполнить угрозу?
— Не знаю, — Яшка пожал плечами. «Со Жданчиком у него получилось... и очень впечатляюще.» — Думаю, да. В любом случае рисковать не стоит.
— У меня ощущение, что он блефует.
Яшка про себя чертыхнулся.
— Он способен, — сказал как можно убедительнее.
Вернулся Салмат, держа в горсти какие-то листья. «Самый умный» вновь прищурился. Яшка не выдержал:
— Слушай, только не обижайся, ладно? Ты очки носишь? Или у тебя линзы? Если есть — надень. Задолбал щуриться, честное слово!
Некоторое время Советский Союз молчал.
— Может, действительно, обидеться, а? Нет, Яков... хм... Михайлович. Не ношу. Ни линз, ни очков. У меня стопроцентное зрение.
— А чё тогда щуришься?
— Характер такой.
7
— С кем биться-то? — спросил Карл, военный вождь рэмэзевских. Парень он был небольшого роста, щуплый, неприметный — в мирное время. В драке Карл преображался. Берсерк. Богатырь. Цепных дел мастер.
— С богом.
— Чего-о? Какой еще бог? Я такого погоняла не знаю.
— Ты сказы Бажова читал? — спросил Яшка. Они пришли сюда по настоянию Советского Союза. «Самому умному» требовалась массовка. — «Каменный цветок»? Данила-мастер, Хозяйка Медной горы... Помнишь?
— Ну.
— Баранки гну! Там была Хозяйка Медной горы, а у нас — Хозяин. Обещал всеобщий кирдык, если мы ему того... не докажем: человечество достойно жить дальше. Понял?
— Ага.
— И чего ты понял?
— Мочить будем, — уверенно сказал Карл. — Что я, маленький, что ли... Цепь возьму.
Вот и разговаривай с ним после этого...
Придется по другому.
— Салмат, неси сюда коробку.
Яшка снял крышку. В коробке на груде листьев (то ли смородина, то ли малина) уютно устроилась небольшая зеленая ящерка. Когда открыли крышку, ящерка проснулась и посмотрела на людей. Вокруг левого глаза была странная желтизна.
Карл зевнул.
— Видишь? — спросил Яшка без особой надежды.
— Что это? — высунулся Советский Союз из-за плеча Карла.
— Не что, а кто. Жданов это.
— Издеваешься? — Карл поднял брови. — А в нос?
— Ну заколдованный он, что я сделаю? Крэкс-пэкс-фэкс... и вот.
— В жабу что ли?
— Нет, в соловья-разбойника!! В жабу, конечно.
— В ящерицу, — поправил Жданов из коробки.
И Карл и Пашка вытаращили глаза. Больше не щурится, подумал Яшка.
8
— Знаете что интересно, — сказал Советский Союз. — Если старик не соврал, и человечество будет уничтожено... то у нас остается надежда.
— Какая?
— Он, — Пашка показал на Жданова.
Яшка посмотрел, развернулся обратно к Пашке:
— Не понял.
— Предположим, люди погибнут. Но он-то — уже не человек.
С минуту все молчали.
— Цивилизация разумных говорящих ящериц, — сказал Диман. — Саламандров. Полный абзац. С дуба рухнуть.
...
— Короче, я все понял, — сказал Карл. Потянулся с довольным видом. Пашка все еще сидел, положив голову на кулаки.
— Чего короче? — не понял Яшка.
— Вокзальских надо звать. Одни не справимся.
Яшка страдальчески наморщил лоб.
— А он прав, — Советский Союз вдруг поднял голову. — Нужно звать вокзальских.
9
Труба была симпатичная. Прямо так и просилась в ладонь. Только подбери. И длина как раз под руку...
— Ну и на фига? — сказал Яшка мрачно. — Пойми ты, это ж... это... ну, почти бог. Ему что труба, что танковая пушка — плюнуть и растереть. Высшее существо!
— Это мы еще проверим, — набычился Салмат, — а трубу я возьму. Пригодится.
Спорить бесполезно — не переубедишь.
— Хозяйственный ты у нас, Салмат, — сказал Яшка со вздохом. — Все в дом... Ладно, пошли. Время-то идет...
На дорогу из кустов шагнули четверо. Вокзальские. Все здоровые, как...
— Оп-па, — удивился Диман. Развернулся на сто восемьдесят градусов. — Оп-па. И здесь пятеро. Приплыли, шеф.
Против ожиданий, бить сразу не стали.
— Слушайте ультиматум, — сказал рыжий.
— Чего?
— Ультиматум, — повторил рыжий. — Слушайте внимательно. Повторять не буду. Или ваш рахит, который вчера что-то про голубых вякал, выходит на драку с нашим бойцом... или мы вас здесь закопаем. Подпись: Пан.
Яшка от бессилия заскрипел зубами. Попали! Как куры в ощип.
— А если его сейчас с нами нету? — спросил Яшка.
— Ваши проблемы, — сказал рыжий. — У вас десять минут. Пан ждет за вон тем гаражом. Время пошло. На одиннадцатой минуте вы должны выдать рахита. Да... не пытайтесь убежать! Будет только хуже.
Ребята переглянулись. Жданов притих. Диман посмотрел на Яшку, потом на остальных... Наморщил лоб:
— Им чё? Прямо так в коробке и выдать?
10
— Где ваш рахит-то? — спросил Пан лениво. По лицу было видно, что настроен вожак вокзальских благодушно. Как победитель.
Яшка глубоко вдохнул и сделал шаг вперед.
— Мы посовещались...
— И ты решил?
— Точно. Не можем. Никак, — сказал Яшка. — Мы бы и рады, но...
Он оглядел своих. Диман набычился, Салмат привычно спокоен. Коробки в его руках не было. «Спрятали Жданчика, — понял Яшка. — Молодцы!» Салмат подмигнул, взвесил обрезок трубы в ладони. «Давай старшой, мы с тобой».
— Но не можем. Поэтому не пойти ли вам... с вашим ультиматумом... куда подальше?
Тишина. Вокзальские изготовились.
— Уважаю, — сказал Пан. — Нет, пацаны, серьезно. Вы настоящие пацаны. Только теперь мы вас всех отпинаем. Звиняйте, панове...
11
— Подожди, Пан! Нам нужно с тобой поговорить...
Земля опрокинулась. Яшка вывернулся, наугад саданул ногой... попал... попытался вскочить... удар! Яшка упал. Проклятие. Прокля... Прокля...
— БАСТА! Стоять, уроды!
Все замерло.
12
— Тебя же посадят! — Пан уже не казался победителем. У его виска застыл самодельный пугач, заряженный дробью.
— А мне наплевать, — сказал Пашка. Не зря его прозвали Советский Союз. Было сейчас в Пашке нечто очень величественное. — Видишь ли, я уверен, что судьба человечества зависит от меня. Поэтому жалость недопустима. Никаких компромиссов.
— Да ты псих!
Пашка внимательно оглядел вокзальских. Все отводили глаза.
— Может быть, — сказал Советский Союз. — Но я в это верю. Яков Михайлович, уходите! Побыстрее, пожалуйста. И не забудьте коробку.
— А ты?
— Нам с Паном нужно многое обсудить. Я догоню.
Яшка с трудом поднялся. Ребра болели.
— Ты уверен?
«Самый умный» заломил левую бровь. Вышло у него очень выразительно, будто Пашка долго тренировался перед зеркалом...
13
Хозяин Медной горы напоминал старого бомжа, опрокинувшего на себя ведро с зелёной краской. Зеленокожий, оскалив гнилые зубы, поднял над головой руки...
Опустил с громким «хэк!».
Первую линию атакующих рэмэзевских накрыло вспышкой изумрудного света.
— Цепью!! Рассыпаться! Кучей не бегать! — орал Карл. На поле боя он казался вдвое выше ростом — настоящий богатырь в красной клетчатой рубахе. — Справа обходи!
Стоянка Пугачева — несколько камней, составляющих неровный круг — озарилась новой вспышкой. По легенде, когда-то здесь останавливался крестьянский царь со своим войском. Посмотрел на город сверху и уехал, между делом повесив воеводу. Документов не нашли, но легенда осталась. Именно здесь, на стоянке Пугачева, Жданчик обрел сомнительное счастье стать первым из цивилизации саламандров...
Несколько человек обратилось в ящериц. Кто-то просто упал без сознания.
Дядечка оказался не так уж силён.
Ему на собственном опыте пришлось убедиться, что характеристика местной молодежи, как «неуправляемой агрессивно настроенной толпы» — не пустые слова.
Эта самая «неуправляемая агрессивно настроенная» атаковала высоту с завидным упорством.
Дядечка только и делал, что поднимал и опускал руки. И хэкал, естественно...
Изумрудные вспышки.
Ящерки только успевали разбегаться...
— Эх, пропадем! — закричал Яшка. — Натиском надо! Натиском!
— Сам знаю!! — огрызнулся Карл. — Все, кто не любит вон того урода на холме — за мной!!
14
— УРРРААААА! — грянуло слева.
— Вокзальские!! На выручку идут! К нам на выручку!
Яшка раскрыл ладони. Маленькая зеленая ящерка с фингалом у левого глаза смотрела на дядечку. «Дядечка» смотрел на ящерку...
— Чё вылупился?! — заорал Карл, замахиваясь цепью. — Расколдовывай давай!
Наваждение спало.
«Дядечка» затрясся от злости. С трудом поднял руки и...
Карл понял, что не успевает.
Дядечка открыл рот — обнажились два чудом уцелевших кривых зуба. Руки его начали опускаться...
Карл прыгнул, метя цепью по ребрам...
Труба Салмата легонько ткнулась «дядечке» под лопатку. Колдун уронил руки и опустился на колени. В глазах появилось странное беспомощное выражение. Он застыл, как дерево, которое поразила молния...
И тут лодочная цепь ударила «дядечке» по ребрам.
Колдун выгнулся от боли.
Замер.
По зеленой коже побежала серая волна. Добралась до лица... глаза еще горели, жили... охватила их...
Дядечка закаменел. И вдруг рассыпался в пыль.
Хозяин Медной горы кончился.
15
— Жданчик, а в нос?
— А Гринпис?
Яшка смотрел на Жданова. Колдовство закончилось вместе с «дядечкой». Превращенные обратно из ящерок почему-то оказались голыми. Пришлось делиться одеждой. Жданов кутался в яшкину куртку, а Яшка мерз.
— Смотри, земноводное, нарвешься у меня!
— Молчу, молчу...
Пан стоял, опираясь на арматурину. Вылитый Александр Невский на известной картине из школьного учебника. Только вряд ли легендарный князь носил черную футболку с оскаленным вурдалаком и надписью «Ария». Нунчаки на плече тоже вряд ли добавили бы полководцу исторической достоверности...
— Привет ремэзевским, — сказал Пан без улыбки. — Отдыхаете?
— Привет вокзальским, — так же сдержанно ответил Карл. — Отдыхаем. Спасибо.
— Назад через мост пойдете?
Карл заподозрил подвох.
— Через мост, — ответил осторожно.
Пан некоторое время молчал. Потом отсалютовал нунчаками.
— Счастливого пути... земляк!
— Эй, пацан, постой!
Яшка обернулся. Так и есть. Пан. Все-таки решил выместить на Яшке свои обиды? Хотя при рэмэзевских... Ладно, мы сегодня все союзники. Встреча на Эльбе.
— А ты мне нравишься, — сказал Пан благодушно. — Хоть ты и сволочь изрядная.
— Спасибо за помощь.
— Не за что. Знаешь, почему мы пришли?
— Потому что Пашка...
— Не-а, не потому. Твой психованный друг... Кстати, уважаю! Но я пришел не из-за него.
— Ты же слово давал!
— Ну и что? Клятва, данная под принуждением, клятвой не считается... Не помню откуда. Кстати, про фигню с концом света мне ваш Советский Союз тоже все выложил.
— И?..
— Мне до лампочки — ухмыльнулся Пан.
— Тогда зачем? — спросил Яшка.
— Есть такая штука, сынок. Любовь к Родине называется.
Пан помолчал. Окинул Яшку взглядом и с сожалением добавил:
— Но тебе не понять.
— Должна была быть Любовь, — сказал Советский Союз. — С большой буквы. Как у Ромео и Джульетты. Вот что я собирался организовать. Вокзальские и рэмэзевские должны были стать Монтекки и Капулетти. Я даже Ромео и Джульетту нашел. Вон, смотри...
Яшка смотрел.
Ромео, здоровенный парень в черной кожанке, пил пиво в компании таких же здоровенных парней.
Джульетта сидела в чьей-то куртке между двух лбов и, похоже, чувствовала себя вполне счастливой.
— Так хорошо все задумывалось. Но разве этим объяснишь? А-а, темные люди...
В БОЙ ИДУТ ОДНИ ПЕРЕМКУЛИ
Меня зовут Маэстро Флогистон, и я это... страшный. Когда выпью. А когда трезвый, я еще страшней, потому как непохмеленный. Такие номера откалываю, что командование готово меня живьем сожрать — только, увы, не в состоянии. Организм не позволит...
Нас перемкулей, даже крысы не жрут.
Потому как крысы звери умные — органику с силициумом вряд ли перепутают. Мы это... кремневые. Да. Два крыла, четыре лапы, длинная шея и лючок для дозаправки. Неслабый такой лючок, на две тысячи галлонов заправочной жидкости с давлением на входе под пару мегапаскалей. Бензин для зажигалок знаете? Он и есть, только воняет почему-то касторовым маслом. А еще мы пьем окислитель. Все. Поголовно. Хлещем как алканавты последние. Потому как реактивная, извиняюсь, струя, на скорости в два маха и на высоте в пятнадцать километров — это вам (еще раз извиняюсь) не в лужу пернуть. Хотя принцип схожий. Но без окислителя (кислород с какой-то хренотенью) ничего на высоте пятнадцати километров не горит. Стратосфера, растудыть ее в качель... Так и маемся. Создатель Драконов (на французский манер: Кремень-ПапА) ничего лучше не придумал, как дать своим детям окислитель вместо вина для причастия. Так и сказал «Вот Вам кислород — то кровь моя» Тем и причащаемся, дети силициума...
Пьем.
Такие дела, Маэстро. Такие дела...
— Маэстро! Срочно! На вылет! Поднимай эскадрилью!
Это... да. Поднимай. Было бы что... Всей экадрильи — три ужратых до легкой синевы перемкуля и пять салажат, касторки толком не нюхавших. И еще я — Маэстро. Бог стратосферы. Страшный с похмелья, от одного вида окислителя тошнит... Но — надо. Высота пятнадцать километров, два маха... Не салажат же посылать? В бой идут одни перемкули!
— Вторая эскадрилья, на вылет! — командую во весь голос.
— Тех контроль прошел?! — орет механик. Судя по басу — Полосюк в небо ломится, а механик его (добрейшей души огрина весом в полтонны) на взлет без предварительного осмотра не выпускает. Хорошие они парни, механики. Заботятся о нас, ждут, а если наорут и пристыдят — то любя. Перемкуль и его механик — ближе друг другу, чем иные муж и жена...
— Прошел! — точно Полосюк, его пропитая голосина.
— А ну дыхни!
Эт правильно. Я бегу к взлетной полосе, на ходу соображая, сколько вчера выпито и сколько (не иначе, как чудом!) задержалось в моем желудке. Эх, набрались же... Не помню, даже сколько выжрали. Все равно добавлять придется, бой как никак, трезвыми в небо только воробьи с орлами... Лишь бы не занесло на взлете, а там уж стратосфера дурь из башки выветрит.
— Стой, Маэстро! — вырастает передо мной приземистая, мне по грудь, кривоногая фигура. Мой механик, Джакопыч, с цинковой цистерной за плечами и насосом ручной тяги под мышкой. Ноздри раздуваются. Привет, старина!
— Маэстро, дыхни!
Полной грудью Джакопычу в нос — перегаром. Ух, бегать пора по утрам — дыхалка ни к черту, скоро падать начну...
— Касторки сотни три галлонов, а окислителя одни пары остались, — резюмирует механик. Укоризненно смотрит на меня. Глаза у огрины желтые-желтые. — Эх, командир... Закусывать надо.
— Потом, Джакопыч, потом... Мне бы на взлет.
— Пей!
Чуть не вывернуло, пока в меня касторку (бензин для зажигалок, помните?) закачали. Огру ручным насосом два вожделенных мегапаскаля выдать — раз плюнуть, только вот в желудке ощущение — стадо слонов и с разгону. Лбами. Бивнями. Сволочи! Хвост в струнку вытянулся — до хруста в позвоночнике.
— Терпи, Маэстро, — утешает заботливый механик, продолжая усиленно качать. Под темно-пятнистой, в болотный камуфляж, кожей шарами перекатываются мышцы. Силен Джокопыч. Стар, но крепок, словно...
— Пей!
Ведро с окислителем. От запаха блевать тянет. Ох, как бы не вывернуло... Пью.
Желудок все ребра обстучал, зар-раза... Глубоко дышу. Еще вдох, и еще... В голову от желудка взлетает теплый, ярко оранжевый шар, пахнущий апельсинами и — там взрывается. Мир вокруг становится уютным, словно родное логово... На горизонте, рядом с солнцем, мягко покачиваются пуховые перины... Эх, прилечь бы... Прилечь.
— Маэстро, дыхни! — Джакопыч морщится от перегара. Тянет носом, смешно шевелит ноздрями. Родной ты мой! Дай я тебя расцелую, огрина свиномордая...
— Готово, Маэстро.
— Джакопыч! — сотрясаю воздух ревом, поджимаю лапы, вытягиваю шею. — ОТ ХВОСТА!
— Есть от хвоста!
Зажигание. С диким ревом бьет реактивная струя. Меня сотрясает дрожь, страшная сила тянет вперед, когти оставляют следы на бетоне взлетной полосы. Голова привычно кружится, к горлу подступает изжога...
— Маэстро, пошел!
Спасибо, Джакопыч. Будем надеяться, этот вылет добавит мне парочку силуэтов на груди. Татуировки, вытравленные плавиковой кислотой — доказательство боевого мастерства пилота. Метки, при виде которых салажата могут пока только вздыхать... Они и вздыхают. С высоты вижу, провожают взглядами, уставив завидущие морды вверх. Снова вздыхают — завистливо и с надеждой... А вот когда-нибудь и я...
Когда-нибудь.
— Смотри, как виляют, — говорит кто-то из салажат с плохо скрытой завистью в голосе. — Тоже мне, перемкули!
За мной пристраивается черная тень. Поворачиваю голову. Вихляющий полет, с явным перекосом в сторону левого крыла. Голова вниз... Полосюк, Земляная Ящерица, пропойца и дебошир, но летун, каких мало...
— Полосюк, ты меня уважаешь?! — ору.
— Маэстро, да я! — Ящерица с трудом переводит голову в горизонтальное положение. Глаза почти бессмысленные. Перебрал таки окислителя, сволочь. Эх, Полосюк, Полосюк... — Ик! Да я... за тебя... Ик!
— Верю. Будешь моим ведомым. Виси на хвосте. Тоже мне, перемкуль! В следующий раз чтоб закусывал!
— Ик! Заметано, Маэстро... ик!
— Набираем высоту!
Два километра, три, четыре... Хлопок! Звуковой барьер позади, тишь, да гладь, только холодно. Лапы мерзнут. Еще добавим тяги, крыльями подработаем... Все выше и выше и выше!
Здравствуй, стратосфера!
Над головой — чернота с пятнами звезд. Впереди маячат темные точки, тепловым зрением вижу следы, извиняюсь, реактивных струй. Враги. Такие же как мы, прирожденные летуны и любители выпить...
Кремень-папА дал нам окислитель, чтобы его дети никогда не знали горя.
«Вот Вам кислород — то кровь моя.»
Готовлюсь врубить форсаж, набираю высоту. Перехватчики, судя по маневрам, занимаются тем же самым... Отличные, видать, летуны...
— Третий, я первый, делай как я!
Сзади и чуть ниже Малыш помахал крыльями: мол, понял. Его ведомый, золотисто-серый Раджа, царственно кивнул. Сделаем, Маэстро. Вторая эскадрилья к бою готова...
— Хорошо, — заорал я, заваливаясь на правое крыло. — Ящерица, за мной!
В бой идут одни перемкули.
ПЛОХОЙ ИУДА
1861 год, штат Джорджия, белый особняк, утопающий в зелени. К особняку ведет аккуратная дорожка. На крыльце, в плетеном кресле, закинув ногу на ногу, расположился плантатор в белом костюме и в широкополой шляпе. Неторопливо дымится сигара, мужчина лениво перелистывает газету. Голубые глаза смотрят устало. Вдалеке, за особняком, слышны церковные песнопения.
— Опять одно и тоже, — негромко комментирует мужчина, переворачивая страницу. — Янки, Линкольн... декларация... А где цены на хлопок?
Песнопения смолкают. Мужчина на мгновение отрывает взгляд от газеты:
— Уже закончили? Хм-м...
Через некоторое время к крыльцу приближаются трое негров в широких штанах на лямках и в клетчатых рубахах. Самый маленький растерянно мнет в руках шляпу:
— А масса... эта... не обидится? Мы же... эта... не его выбрали... да. А если он меня... эта...
Представив себе «эта», маленький закатывает глаза и икает.
— Нет, — уверенно говорит другой. — Ты, Томми, главное, не бойся. Масса суровый, но справедливый. Зря еще никого не убивал. Вот тебя, например, за что убивать?
Маленький едва не падает в обморок. Ноги его подкашиваются. Третий, здоровяк с плечами молотобойца, заботливо поддерживает друга Томми. Ласково гладит по курчавому затылку:
— Ты, Томми, большой. Да. И очень крутой. Да. Очень и очень. Зачем большому крутому Томми бояться маленького доброго массу? Томми пойдет и скажет хозяину, кто победил. Вот так и скажет. Повтори.
— Я... эта...
Перед носом «друга Томми» оказывает большой и по виду очень твердый кулак.
— Повтори, — ласково просит здоровяк. — Что сделает Томми?
— Томми пойдет и скажет, — послушно повторяет маленький.
— Молодец. А теперь вперед.
... — Масса?
Мужчина в кресле поднимает взгляд и смотрит на Томми поверх газеты.
— Да, Томми? Ты что-то хотел?
— Эта... Томми сильно извиняется... сильно-сильно! Я эта... хотел сказать...
Мужчина изображают вежливый интерес. Настоящий джентльмен никогда не обижает своих рабов. Он их наказывает. Плохие манеры — это для «белой мрази».
— Что-то насчет церковных песнопений, Томми?
— Да, масса... эта... ну, мы пели... кто лучше... да. Это Нес предложил... Вы слышали, масса? Мы... эта... не помешали вам, правда?
— Правда, Томми, — говорит плантатор. С этими неграми, как с детьми, думает он, требуется строгость и терпение.
— Это хорошо! Правда, масса?
Очень много терпения.
— Да, Томми. Это хорошо. А теперь скажи мне, кто победил?
Маленький бледнеет. Шляпа отчаянно стиснута в ладонях.
— Я эта... ну... так вышло... Вы, хозяин, тоже хорошо пели... тогда, на прошлой неделе... да... очень хорошо... правда-правда! Но старый Нес взял шляпу, все кинули камень за того, чья песня лучше... Я не виноват, хозяин! Они выбрали меня... Я эта... да...
— Успокойся, Томми. Я не сержусь. Ты честно выиграл. Скажи кухарке, чтобы дала тебе за ужином кусок яблочного пирога.
— Мне? Масса такой добрый... да!
— Ты это заслужил, Томми. Даже мне нравится, как ты поешь. Одну из твоих песен... ту, что про плохого Иуду, я как-то напел в своем клубе. Там были судья и наш сосед Джонстон... Им тоже очень понравилось.
— Правда-правда?
— Да, Томми.
«Они много смеялись, если быть точным. Но бедному Томми незачем про это знать.»
— Масса такой добрый!
— Спасибо, Томми. А теперь иди. Мне нужно заняться делом.
...Здоровяк повернулся ко второму и хлопнул ладонью по плечу. Тот скривился.
— У, бык! Полегче.
— Я же говорил: хозяин Томми не прибьет. — прогудел здоровяк. — Он сегодня в хорошем настроении. Надо было тебе пойти... ты же победил? А мне бы не пришлось подходить и уговаривать каждого из этих чертовых певцов голосовать за малыша Томми. Весь кулак в мозолях... А ты бы поел пирога.
— Ага. А если бы хозяин меня убил? Кто вам песни петь будет, ты об этом подумал? Томми со своим дурацким «Плохим Иудой»? Ой, не смешите мои сандалии...
ВУДУн
1
Был у меня автомат, но автомат я потерял. И который день тащился по джунглям, имея из оружия собственные руки, ноги и армейские ботинки сорок второго размера, со стальной пластиной в мыске и полуфунтом гвоздей в подошве. А ещё у меня был трофейный нож. И пробитая голова. И если голова ещё на что-то годилась, то нож уже не годился ни на что. Заржавленное лезвие норовило согнуться о любую ветку, а костяная рукоять — выскочить из ладони, словно мокрое мыло. В общем, самоубийство я решил отложить до тех пор, пока не обзаведусь чем-нибудь поприличней.
По крайней мере, без дурацких надписей на клинке.
2
Я старика издали приметил. Худущий, жилистый, сидит на своей поляне, черный, как крем для ботинок, и палочкой в котелке помешивает. А из котелка — мясом вареным пахнет. У меня чуть желудок наружу не выскочил, кишки в трубочку свернулись. Живот заурчал почище тигра в джунглях. Странно, что старик не заметил.
Я на поляну шагнул, руки перед собой выставил. Безоружный, мол.
— Здорово, дед!
Старик посмотрел на меня — мне жутко стало. Один глаз у старика черный, а другой — белый, слепой. Но не это самое страшное. Старик белым глазом на меня уставился.
Я страх переборол и говорю:
— Найдется чего пожрать солдату удачи? — у меня, когда поджилки трясутся, наглость появляется.
Старик пролопотал что-то по-своему.
— Я говорю: пожрать не найдется?!
Тут старик вскочил, как молодой, палочку из котелка вытащил и на меня бросился...
— Не понял, — сказал я уже на земле. Что-то с голодухи совсем ослабел. Встал, смотрю — старикан опять меня бить собирается. Уже разбег взял.
Хрясь! Больно!
Тут я разозлился и нож вынул. Последнее дело на такую древность с ножом кидаться, но ведь зашибет, проклятый. И как звать, не спросит.
— Меня, — говорю, — Джонни зовут.
Старик как солнце на ржавом клинке увидел, сразу в лице переменился.
— Брось нож! — закричал. — Брось нож!
— Ага. Щас, — говорю. Что, старикан, моя очередь глумится? — Конечно, брошу — только кусочек откромсаю. Ма-а-ахонький!
Тут до старика дошло. Понял, какой сувенир мне на память требуется. Старикан подхватился и — место заветное ладошками прикрыл.
Правду говорят, — думаю, — седина в бороду, а бес в ребро. Есть полосатенькому за что бояться, есть. Это ж надо! А по виду ему на том свете уже лет семь прогулы ставят... Если не все десять.
— Может, договоримся? — предложил старик дипломатично.
3
Договорились, конечно. Умным-то людям чего не договориться.
— Ты совсем дурак?! — опять старик на меня орет. — Ты бокора убил, бокора нож взял, меня ножом бокора убить хотел!
— Так не убил же...
— Потому и не убил, барабанная твоя башка, что нож бокора проклят!
— Кем?
— Бокором!!
— А зачем бокору свой нож проклинать? Он, что, на почве колдовства крышей поехал?
Вообще-то, я не знал, что тот парень — бокор. Это у черных так колдуны называются. Мы однажды через деревню шли. Впереди Картер, ирландец, который своей жены боится, дальше четверо ребят, я — замыкающим. Жарко до невозможности. Ак-47 нагрелся, уже голый живот обжигает.
Один из ребят девчонку увидал. Обрадовался. Иди, говорит, сюда, я тебя вот чего дам.
И зеркальце ей показывает.
Она подошла, этот дурак схватил ее в охапку и давай тискать. Та орет, конечно. Картер повернулся, кричит: Отпусти, ее, идиот, быстро!
Не успели.
Черные закричали, заулюкали и давай из окон на нас выпрыгивать. Копья, палки, все такое.
Мы постреляли аккуратно, чтоб никого не задеть — черные вроде угомонились. Они автоматов боятся.
Только мы рано расслабились.
В парня, что девчонку ихнюю тискал, камень прилетел. И точно по уху. Парень рухнул, как подкошенный.
Мы стоим, дураки-дураками. Чего делать-то? Откуда бросили, кто бросил — поди сыщи. Дали очередь в воздух, парня под руки подхватили и — бегом. Я самый последний, прикрываю.
Почти всю деревню прошли. Все, думаю, пронесло. Ага, как же! Накаркал.
За околицей еще одна хижина оказалась. Мы ее прошли было, да только из кустов кто-то как выскочит! Потом оказалось, птица, но уже поздно было. Наши чуть в штаны не наделали.
У меня нервы и так на пределе. Я развернулся и по кустам очередь дал.
Сначала тишина. Потом стон.
Пожилой негр из кустов вышел и под ноги мне свалился. Мне нехорошо сделалось. Ни за что, ни про что человека пристрелил. Ладно бы он с автоматом был — тогда понятно.
Негр лопочет что-то. Ко мне руки тянет. Я фляжку с пояса снял, наклонился. Не пьет.
А негр мне нож в руки сует. Меня сначала дрожь пробила, вот думаю, хотел бы заколоть — заколол бы. Растяпа ты, Джонни. А негр все лопочет. Я нож держу и вроде как его понимаю.
Вроде: возьми, святое это, подарок.
— Это проклятие, — говорит старик.
Вот блин, обрадовал. Тот негр мне еще пару раз во сне являлся. Звал, лопотал по-своему, руками размахивал. Пугал до чертиков, короче.
— Проклятие, делающее владельца ножа... — и так далее в течение часа.
Одним словом, хитрое проклятие оказалось.
Меня после еды так разморило, что я стариковские объяснения мимо ушей пропустил. Ем деда глазами, а на самом деле сплю. Тут, главное, проснуться, когда начальство до сути дойдет...
— Я, — говорит старикан, — тебя в ученики беру.
Вот, дошел. Чего?!
— Будешь мне служить, чесать спину, сушить травы, убирать хижину, готовить еду, работать на меня всю жизнь, а потом, когда буду умирать, я передам тебе свою душу в наследство.
Ну нафиг такое счастье, говорю. Задарма работать. У вас хоть профсоюзы есть? Нет, не хочу.
— Иначе, — говорит старик и белым глазом на меня смотрит. — Я тебя в котле сварю и съем.
Короче, договорились. Как умным людям и положено.
4
— Это кто такие? — спрашиваю.
Старик на меня недобро посмотрел. Ну, думаю, опять бить будет. Я голову на всякий случай поглубже втянул, воротник поднял и жду. Только попробуй, старая ты черепаха. Завел себе моду ученика обижать.
Вообще, старик мой с утра не в настроении. Не с той ноги встал. Даже поесть толком не дал — погнал на берег, залив изучать.
В это время катер развернулся, взревел, выкатился на песок и остановился. Из катера вылазит толстый негр в белой шляпе и белом костюме, а двое худых его под руки поддерживают. Видно, важный мужик, к нему из-под пальм еще несколько негров выбежало — все с калашами и в камуфляже. Кланяются.
Толстый лениво так кивает. Пальцы у негра в перстнях, а в руках палочка, вроде как у моего старика — только подлиннее.
— Это кто?
— Это, — говорит старик, — враг мой. Леонидас Грациус.
— Бокор?
— Молчи, барабанная башка! — нервный все же мне учитель попался. — Бокор — светлый! А у Грациуса сам барон Суббота в друзьях ходит.
Старичок вроде не из робких, а про этого Субботу, как про дьявола говорит. Хотя был у нас в команде ирландец, который своей жены больше черта боялся. А в бою ничего, храбрец.
— Ну, — говорю. — Ты, дед, так бы сразу и сказал, что Суббота. Я же не дурак, все понимаю. Мафия?
Старик сплюнул и назад пополз. А я еще посмотреть остался.
Леонидас начал худым в камуфляже речь толкать. Я не слышу ни черта, но зрелище любопытное.
Оказалось, толстый, как рот откроет, может маяком работать. Поймал солнце на зуб и давай катать. Отблеск на той стороне океана видно. В пасти у негра столько золота оказалось — я даже пожалел, что не могу оказаться в радиусе прямого удара прикладом. Уж я бы от всей души...
Тут мне в спину что-то твердое уперлось.
— Турамб! — говорят. «Руки вверх!», в переводе. У меня, стоит меня испугать, сразу знание языков прорезается.
5
Здоровенная змея упала сверху. Плюхнулась в воду и ушла на дно.
— Мартух фухта! — говорит старик. Если лингвистические способности меня еще не покинули, это означает «дети жабы».
Слышится смех. Я пытаюсь отойти подальше, но яма маленькая и залита водой по пояс. Никуда особо не денешься. К тому же змея под водой видит нас — а мы ее нет.
Смешная шутка. Надеюсь, змея не голодна?
Вообще, Леонидас любит пошутить. Я с ним знаком не очень долго, в отличие от старика — но насчет чувства юмора усвоил.
Поэтому я прячусь за учителя.
— Дед, — говорю, — да она тебе на один зуб. Я же твой аппетит знаю.
Старик недобро смотрит на меня. Черным глазом — значит, еще не сильно разозлился. Интересно, когда худые негры его вязали, обещал дед сварить их в котле и съесть?
— Твоя обязанность — защищать учителя!
Честно говоря, я особо не напрашивался.
— Дед, если у тебя есть лишний автомат — то пожалуйста!
— Ты совсем ду... — старик замолкает. Это на него так не похоже, что я заглядываю через плечо.
Змея выставила из воды голову. И смотрит на нас с дедом, как на шведский стол. Наверное, решила, что проголодалась.
— Дед, ты это — спасай престиж! — у меня, когда я напуган, прорезается красноречие. Сроду таких слов не знал, а тут вспоминаю. — Не годится, чтобы учителя съели на глазах его ученика. Представляешь, как это травмирует мою психику?
— Отвернись, — говорит старикан. В этом он весь. Какая-то нечеловеческая логика.
Змея угрожающе шипит. Раздвоенный язык появляется и исчезает.
Хорошо, думаю я, что в яме воды по пояс. Не придется оправдывать мокрые штаны. Кстати... Я нащупываю за поясом знакомую резную рукоять. Нож бокора!
— Слушай, дед, — начинаю я, и тут змея прыгает...
6
Леонидас Грациус улыбается, отчего, наверное, все корабли в радиусе пятидесяти миль сбиваются с курса.
— Что будешь пить, Джонни?
Знаю, что Леонидас — сволочь, каких мало, но устоять не могу. Мало кто умеет так обаятельно улыбаться половиной американского золотого запаса.
— Джин с тоником.
В руке у меня бокал, в котором плавают куски льда. Вот это, я понимаю, жизнь.
У моих ног свернулась змея. На огромной треугольной голове зияет колотая рана. Змея почти как живая.
— Я предлагаю тебе стать моим учеником.
Я думаю.
— У меня уже есть учитель.
— Гукас? Этот зануда? Правда?! — Леонидас начинает смеяться. Делает он это долго и с удовольствием. Голос напоминает Луи Амстронга. Солнце играет на золоте.
Змея у моих ног поднимает голову и шипит. Теперь она зомби и должна меня охранять. Нож, проклятый бокором, оказался не так уж прост.
— Что он тебе предложил, Джонни? — говорит Леонидас, отсмеявшись.
— Котел, если я не соглашусь. Он пообещал меня съесть.
Леонидас опять начинает смеяться.
По краям веранды стоят худые негры с ак-47. Негры тоже смеются.
— В твоих руках, Джонни, оказалась великая вещь. К сожалению, — Леонидас ослепляет меня улыбкой, — ты и нож неразрывно связаны. Такова сила проклятия. Я предлагаю тебе стать моим учеником. Ты постигнешь все секреты черной магии, получишь...
— Я согласен, — говорю.
— Что? — моя капитуляция застает Леонидаса врасплох.
Я подхожу к краю веранды и смотрю на море. На волнах качается красный катер. Все это может стать моим.
— Отпусти старика, — говорю я.
Леонидас перестает улыбаться.
— Ни мне, ни тебе не будет тогда покоя. Гукас слаб, но мстителен.
Толстяк говорит:
— Лучше ему умереть.
Я смотрю на Леонидаса. Затем поворачиваюсь и снова вижу красный катер. Моим. Станет моим...
Я делаю шаг, выдергиваю из рук ошалевшего негра автомат и размахиваюсь. Бум!
Леонидас зря подошел ко мне на расстояние прямого удара.
— Фас! — говорю я змее. Она шипит. Негры в камуфляже пятятся, кричат, стреляют... потом бегут. Змея догоняет их и сбивает с ног.
7
Я подхожу к яме и смотрю вниз. Ничего не видать. Кидаю туда камешек. Плеск.
Оттуда раздается: «Мартух фухта!»
— Привет, дед, — говорю я.
— Джонни?! — неверящий голос. Через мгновение он звучит уже по-обычному сварливо. — Кидай веревку!
— Ну, — говорю. — Не так быстро. Я бы хотел сперва обсудить условия моего ученичества. Во-первых: чесать тебе спину я больше не буду. Во-вторых: готовим теперь по очереди. В-третьих...
— Проклятый дурак! — доносится из ямы. — Я сварю тебя в котле!
— А я могу уйти и оставить тебя здесь, упрямый старикан. Ну, как, обсудим мои предложения?
Почему умным людям не договорится?
Договорились.
ОДИН ДЕНЬ СРЕДИ ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
Тимофей Гремин приехал в Москву утренним поездом. Его почему-то не встречали. Забыли? опаздывали? — Тимофей не знал. Поставил чемоданчик на платформу, раскрыл портсигар (он у Тимофея редкий — из белого металла с синей монограммой «БС-2018»), солидно закурил. На него обращали внимание.
Солнце пригревало. Тимофей выдыхал дым, щурился на возвышающуюся вдали телевизионную Вавилонскую башню. Ему было хорошо. Даже то, что его не встретили, казалось пустячным. Встретят! Москва большая, вот и не успели. Третий Рим.
Прошли две девушки в коротких платьях, улыбнулись симпатичному приезжему. Тимофей улыбнулся в ответ, проводил взглядом загорелые ноги.
— С дороги уйди! — резко окрикнули сзади. — Расставился тут!
Тимофей оглянулся. Увидел огромную сумку «мечта оккупанта» в бело-черную клетку. Рядом с сумкой увидел женщину. Некрасивую и вздорную.
— Пардон, — сказал Тимофей миролюбиво. Не хотелось портить первый день в столице. Шагнул в сторону, освобождая проход.
— Понаехали тут! Лимита! Провинция! На московский-то хлеб!! — заметив, что на нее обратили внимание, тетка раскрутилась на сто оборотов. — Я коренная москвичка! А должна из-за этих... проходу не стало!
Тимофей про себя удивился. Выговор у «коренной москвички» был явно не «расейский» — скорее, уральский, протяжный.
— Ворье всякое едет!! — радостно голосила тетка. Народ оглядывался на тетку, на Тимофея... Первый день в столице был испорчен. Поскорей бы встретили, подумал Тимофей. Тоже мне... москвичи. Он сделал шаг назад. И еще.
В локоть Тимофея врезалось что-то массивное.
— Ты, мудила, осторожней!
Тимофей сосчитал до трех и повернулся. Перед ним стоял молодой мужик в кожаной куртке. Не сказать, чтобы очень стройный. В руке у мужика была бутылка пива «Консульское». Рожа наглая.
— Че, оглох, что ли?
— Что ты сказал? — Тимофей выпрямился. Его рост и выправка произвели обычное впечатление. Пивное брюхо на глазах стал меньше на голову.
— Эээ, извини, браток! Я это...
— Чего? — уточнил Тимофей.
— Прощения просим!
— Прощаю, — сказал Тимофей со значением. «Столичный» насторожился, отшатнулся было...
Тимофей без замаха, коротко и жестко всадил костяшки в пивное брюхо.
* * *
— Мы в армии и за меньшее морду били, — пояснил Тимофей. Чувствовал он себя дурак дураком. Первый раз в столице — и на тебе! Подрался. — Он же в общественном месте матом пошёл! Его судить надо. Пятнадцать суток дать...
— А ты кто — судья?! — завелся усатый легионер. — Человека чуть не искалечил!
— Скажи еще: палач, — буркнул Тимофей.
Усатый осекся. Долго смотрел на Тимофея — тому отчего-то стало неловко.
— Ну, чего?
— Дурак ты, парень, — сказал легионер. — Такой дурак, что... ой-ей-ей. Ладно, твои проблемы. Пойдешь сам или наручники надеть? Не убежишь?
— Пускай дураки бегают, — огрызнулся Тимофей.
— Обиделся что ли? Ну и зря.
Идти было недалеко. Усатый провел Тимофея по лестнице на второй этаж, длинным сырым коридором к двери с надписью «Пункт порядка». За дверью была небольшая комната. Вдоль левой стены — желтые шкафы до потолка, справа — горшок с пальмой, посередине — стол.
За столом сидел легионер. На пришедших он внимания не обратил — решал кроссворд. Усов у легионера не было.
— Вот привел еще одного... бедняжку, — сказал усатый. — Принимай.
Легионер оторвался от газеты, посмотрел на Тимофея снизу вверх. Усмехнулся.
— Вадик, какой же это бедняжка? Это целый жирняшка...
* * *
— Ты откуда такой резвый? — спросил безусый. Глаза у него были светлые. — Вадик, проверь-ка его чемодан... Так откуда?
— «Белая сталь», — сказал Тимофей хмуро. — Шестой пограничный легион.
— Научили вас на свою голову, — сказал безусый. По-доброму сказал, даже с какой-то грустью: мол, дети вы еще неразумные, шестой пограничный легион «Белая сталь»... Только Тимофей доброте этой не поверил. Больно уж нехорошие глаза были у безусого. Как подмерзшие.
Усатый легионер присвистнул.
— Чего там?
— Ты только посмотри...
Усатый принялся доставать из чемодана узлы и узелочки. Подарок для матери — персидский шелковый платок.
— Ворованное? — безусый посмотрел на Тимофея. У того вдруг похолодело на сердце.
— Я чужого сроду не брал... Трофейное.
— Идет страна Лимония, сплошная чемодания! — напел безусый. — Есть такая песня. А трофеи тебе с неба упали, правильно? Ну, ну, не обижайся. Шучу я. Чем подтвердишь?
— Честное слово!
Легионеры переглянулись и засмеялись. Смех был нехороший.
— Ты, брат, даешь! Честное слово! Святая простота!..
* * *
— Извините, Тимофей Васильевич, виноват. В пробку попал...
Машина мягко покачивалась, скорость почти не ощущалась. Темный салон, прохладный воздух. За тонированным окном проплывала столица.
Тимофей постарался расслабиться. Левая половина лица опухла. Ребра ныли. Будем надеяться, что трещин нет.
— Просто Тимофей. И на ты.
— Хорошо, — кивнул строгий. — Тимофей. Я с себя вины не снимаю. Но этих двоих... мы с ними разберемся, обещаю.
— Пусть живут.
Строгий внимательно посмотрел на Тимофея. Снова кивнул.
— Как скажешь. Сейчас тебя осмотрит врач, потом... Консул о тебе уже спрашивал. У него для тебя работа. Очень важный человек... он должен говорить, понимаешь?
— Да.
Строгий помолчал.
— Можно вопрос?
Тимофей кивнул.
— И все-таки не понимаю, — сказал строгий. — Специалист твоего класса. Да ты их мог в бараний рог скрутить одним пальцем! Скажи честно, мог?
— Мог.
— А почему тогда? Почему позволил?
Тишина. Проплывающая за окнами Москва.
— Я им завидую, — признался Тимофей. — Ты бы видел, какое они получают удовольствие от своей работы... Настоящее удовольствие! Мне этого так не хватает.
КРИК ЕДИНОРОГА
I
Давным-давно, в замке, называемом Роза-на-Скале, жили король с королевой, и была у них маленькая дочка.
Это был очень старый замок. Его стены и башни были построены в те времена, когда люди ещё не появились, а по земле ходили великаны.
Великаны были ростом в два взрослых человека и с кожей желтой, как лимон. Они сложили замок из грубого красного камня, а потом вымерли.
Это все, что мы знаем о великанах.
Вокруг дома раскинулся парк с огромными старыми деревьями.
Если бы деревья могли говорить, они бы похвастались, что видели еще самых первых людских королей. Одни короли прославились умом, другие — глупостью. Одни были жадные, другие — расточительные. Были те, что умирали в постели от старости, других убили еще в младенчестве. Но каждый из королей внес что-то свое в этот замок.
Один создал контрэскарпы и подземные ходы, укрепил стены и пробил в каменной толще колодец на случай осады.
Другой выстроил башню чародея и приказал украсить потолок обеденного зала картой созвездий.
Третий построил хрустальный мост.
При прадедушке нынешнего короля ров отделали белым мрамором и наполнили ключевой водой. Потом выпустили туда золотых рыбок.
Смотрелось красиво.
Нам предстоит ещё многое узнать о людях.
И да, чуть не забыл... Маленькую принцессу звали — Юлькой.
II
Это было старое Охранное Дерево. Высокое и стройное, как и положено охранному дереву. У него была кора золотистого цвета, а среди листьев тут и там виднелись колокольчики. Зеленые, недавно распустившиеся, и большие серебряные.
Когда налетал ветер, колокольчики тихонько позвякивали.
Юльке вдруг показалось, что дерево корявое и скрученное. Что у него шипы, а не листья; и на ветках вместо колокольчиков устроились откормленные черные вороны.
Она зажмурилась и запрыгала на одной ноге, как положено делать, когда в ухо попадает вода.
— Ты чего? — спросил Виталька. Принцесса открыла глаза. Виталька уже набрал полные карманы отличных зрелых плодов. Теперь глядел на девочку с удивлением. Юлька перевела взгляд наверх. Конечно, никаких ворон.
— Ничего, — ответила она. — Мне показалось, что у меня в ушах вода.
Виталька посмотрел так, словно хотел сказать «опять твои глупости!», но вместо этого сказал:
— Такое дерево сажают, чтобы охранять. А здесь что охранять?
Юлька сморщила нос и поднесла к левому глазу закопченное стеклышко. Колька, второй её лучший друг, был сыном чародея. Он подарил принцессе эту невероятно полезную вещь. А еще у него был микроскоп.
— Что-нибудь важное. Или секретное. — она медленно повернулась. — Например, вот эти ворота.
У ворот стоял бронзовый мальчик с фонарем в руке. Статуя позеленела от времени и с головы до ног была покрыта белым налетом. Наверно, подумала Юлька, здесь давно никого не было. Кроме птиц.
Мальчик разлепил бронзовые губы и произнес:
— Ы! О! Жешь!
— Чего?
— Войти, — сказал мальчик четко. — Ты можешь смотреть.
Но помни, входящий! Нарушение запрета: не трогать единорога не кормить животных не поить кащея не жалеть шаггурта карается— ззззвввууувз, — завершил речь мальчик. — зззуу. Уп!
— Чего? — опять спросил Виталька.
— Наверное, он заржавел, — сказала Юлька. — Бедняжка. Стоит тут один.
Виталька почесал в затылке.
— Чем карается? Я не понял. Если единорога кормить и кащея гладить?
Юлька поманила его пальчиком.
— Смертью, — замогильным голосом сказала принцесса прямо в розовое Виталькино ухо. Виталька подскочил. Глухо брякнули колокольчики в карманах штанов. Юлька расхохоталась.
— Дура!
Она показала ему язык.
— Что может быть хуже смерти? — спросил Виталька.
Юлька подумала.
— Не знаю, — сказала она. — Мы все равно ничего не будем нарушать.
Перед ними возвышались старые железные ворота, оплетенные плющом. Когда-то они были выкрашены серой краской. С тех пор краска облупилась, местами проглядывала ржавчина. Плющ выгорел на солнце и казался желтым.
— Смертью, — повторил Виталька. Глаза у него загорелись. — Пошли быстрее!
III
Животное выглядело как осел. Только очень заморенный и худой — даже ребра выпирают. Шерсть у него была грязно-белая, копыта серые. А из середины лба торчал длиннющий рог. «Осел» смотрел недобро и что-то жевал. Глаза, кстати, у него были голубые.
— Это кто? — спросил Виталька. На вольерах надписей не было — вернее, были, но дети не нашли там ни одной знакомой буквы. Пришлось догадываться. Они опознали дракона, вомбата и пеликана, про которого рассказывал Редкозуб. Юлька очень хотела посмотреть, как пеликан воскрешает своих птенцов, но ни птенцов, ни змеи, которая должна их задушить, рядом не было.
— Я не знаю, — ответила Юлька. — Наверное, единорог. Только не совсем похож.
— Проверим, — сказал мальчик деловито. — Давай, сунь ему руку.
— Это еще зачем?
— Ну... ты же девственница?
— Что?!
Виталька получил по шее кулаком.
— Чего ты дерешься?! — спросил мальчик, отскакивая подальше. — Уже и спросить нельзя.
— Сам ты девственница! Тоже мне, друг называется.
— Да я не хотел, — примиряюще сказал Виталька. — Ещё мне надо, чтобы ты его трогала! Ха! Мне умирать неохота.
Виталька откровенно врал. Если он до сих пор не нарушил запреты, про которые говорил бронзовый мальчик, то не по своей вине. Волшебные звери отказались есть колокольчики с охранного дерева. В мужика с цепями Виталька попросту не доплюнул — далеко. Юлька подозревала, что кащею маловато было бы Виталькиной слюны, но — кто знает? В запретах про количество не сказано.
Вообще, в этом был весь Виталька. Когда Редкозуб запустил первый лифт, предприимчивый сын шофера тут же в нем застрял. Причем намертво. Сначала катался, пока не надоело — потом стал прыгать.
В кабинет короля вел колодец, прорубленный в камне. Если бы Виталька застрял где-нибудь в другом месте — на уровне кухонь, солдатских казарм, обеденной залы... где-нибудь еще, кроме проклятого колодца! Редкозуб, даром что придворный чародей, ругался последними словами. Подобраться к лифту можно было только с помощью магии. Редкозуб собрал для этого дела все свои воплощения — и двенадцать чародеев разного возраста и комплекции, матерясь, занимались этим почти полтора часа. Филин-Редкозуб сидел на окне и давал советы уханьем.
Виталька чудом не задохнулся. Вылез из лифта как пьяный.
А потом Виталькин отец его выпорол.
— Интересно, кто их вообще кормит? Худые все — страсть, — Виталька сплюнул. — Должен же в зверинце быть этот? Как его?
— Смотритель, — Юлька посмотрела на дорожку.
На песке виднелись следы больших ног. След пупырчатый, как от кроссовок. Кто в замке носит кроссовки? — подумала Юлька. — Да почти все. Даже папа, когда отдыхает.
— А вдруг он нас поймает? — сказала Юлька.
— Статуя же сказала: входи и смотри!
— Ну и что?
Виталька долго молчал.
— Какой огромный, — сказал он наконец. — Как для дракона.
Земля в вольере была вытоптана, будто стадом слонов. Лежали обглоданные кости. Стояла жестяная миска в грязных потеках. Даже отсюда было видно, что миска пуста.
Сперва Юлька подумала, что в вольере никого нет. Потом — что это крыса. Но это была не крыса. Скорее это напоминало клочок бурого меха...
Сын шофера остановился.
— Последний, — сказал Виталька. Взвесил колокольчик в ладони. Это был крупный плод почти идеальной формы. Чуть перезрелый. Серебро с красноватым медным оттенком.
— Не надо!
Но было поздно. Виталька отработанным движением швырнул снаряд. Юлька смотрела, не отрываясь. Серебряная искра перелетала ограду, канавку с водой, описала дугу...
Колокольчик ударил зверька по голове — дзинь! — и отлетел в сторону. Звякнул и затих. Зверек жалобно пискнул.
— Блин, — сказал Виталька. — Я же не хотел.
— Пошли отсюда, — Юлька взяла его за руку. Против обыкновения, Виталька протестовать не стал. Шел молчаливый и притихший. Перед самыми воротами также молча вытянул пальцы из Юлькиной ладони.
— Подожди здесь, — сказал Виталька. Исчез за воротами, снова появился. — Пошли.
Бронзовый мальчик все также держал свой фонарь. Ничего не изменилось. Виталька подошел и встал рядом, засунув руки в карманы.
Юлька опять вспомнила.
Клочок бурого меха. Зверек, напоминающий мишку с оторванной лапой.
«Бедняжка», — подумала Юлька.
Охранное Дерево вдруг затряслось. Колокольчики прыгали и звенели, как бешеные. Фонарь в руке бронзового мальчика загорелся красным. «Тре», — сказал мальчик глубоким металлическим голосом и повернул голову. Губы у него еще плохо слушались. «Во! Га!»
— Ты чего наделала?! — закричал Виталька.
— Я?! Это ты чего?
— Бежим! — крикнул Виталька. Схватил принцессу за руку и потянул за собой.
Юлька на миг обернулась и — увидела. Небо багровое, как сырое мясо; шипы и черные жирные птицы, сидящие на развалинах густо-густо, словно гости на поминках.
Она моргнула — и птицы исчезли. Небо стало голубым, как раньше.
Вдалеке противным голосом кричал единорог, похожий на осла.
IV
Давным-давно, в замке, называемом Роза-на-Скале, жила маленькая принцесса, и был у неё огромный серый кот.
Это была особая порода боевых котов.
Прапрапрадедушка нынешнего короля привез однажды из дальнего путешествия жену — дочь какого-то варварского султана. В приданое король получил пятерых котят — каждый размером с хорошую овчарку. Когда котята выросли, они оказались большими, как тигры. К тому же они были очень умные и умели говорить.
А еще эти коты славились верностью. В то тяжелое время это было совершенно не лишним.
Мы могли бы ещё многое рассказать о котах. Но не будем.
Маленькой принцессе нравилось гладить его и чесать за ушами. Потому что он был весь как плюшевый. Когда принцесса была совсем маленькой, она дергала кота за хвост, за лапы и даже за усы. Но Серый Рыцарь не обижался.
Ах, да! Его звали Фунтик.
V
— Андрей, мы с тобой старые друзья. Неужели ты не понимаешь? — сказал папа. — Ситуация выходит из-под контроля... если уже не вышла. Но когда мне нужна твоя помощь — ты где-то пропадаешь.
— Я послал тебе Второго и Четвертого, — ответил Редкозуб спокойно. Чародей был в потертых джинсах и в черном пончо с оранжевым узором. На ногах у него — белые потертые кроссовки. Шнурок на левой ноге почти развязался.
— Сколько это от тебя? — спросил папа. — Одна шестнадцатая? А мне нужен весь ты.
— Саша, я не могу. Ты сам знаешь.
Папа чертыхнулся себе под нос. В отличие от чародея, он был в деловом костюме — красный камзол и синие бриджи, белые чулки и туфли с пряжками. На шее — тяжелая золотая цепь. На работе он всегда так одевался.
— Давай я скажу открытым текстом, — заговорил папа. — Если дождя не будет ещё неделю — бароны взбунтуются. Ты этого хочешь?
— Саша...
— Что Саша?! — Юлька впервые видела отца в таком гневе. — Ты — чародей. Отвечай прямо — почему нет дождя?
— Не знаю.
— А кто знает?!
Редкозуб молчал.
— Я не знаю, — сказал он наконец. — Зато мне кажется, что дождь — не самая главная наша проблема.
— Это уж мне решать, — сказал отец жестко, — что здесь главное, а что нет. Говори.
Редкозуб молчал, потом вдруг поморщился, словно почувствовал какой-то неприятный запах.
— Чем у тебя здесь..? Ладно, — сказал он. Посмотрел в глаза Юлькиному папе. — В замке пропадают люди.
— Я знаю, — сказал папа. Это было страшно. Юльке казалось — лицо отца стянуло железными обручами — настолько оно стало жестким. — Уже пятеро. Мишка землю роет. Найдет.
— А если нет? Если это... не человек?
— Тогда ты найдешь! — сказал отец, как отрезал. Потом смягчился. — Но сначала разберись с дождем. Андрей, я тебя прошу, мы на грани, пойми. Я на тебя не давлю... но, сам понимаешь. Бароны, — папа сморщился, словно у него болел зуб. Он выпрямился и посмотрел на чародея. — Я приказал объявить в казармах красную тревогу.
— Даже так?
— Даже так.
— Каждую ночь я вижу один и тот же сон, — Редкозуб казался рассеянным. — Словно я лечу над замком. Ты знаешь моего Филина?
— Ближе к делу, Андрей.
— Подожди, Саша! Лечу и чувствую — я один. То есть на самом деле один. Словно Филин — единственный "я", который остался. Других нет. Мертвы.
— Это всего лишь сон, — сказал папа.
— Дослушай, Саша. Ты обещал. Я вижу замок — и это другая Роза-на-Скале. Не та, что мы с тобой знаем. Гниющая рана. Повсюду развалины. Заросли колючки.
Во рву — гнилая черная вода. И там кто-то шевелится. Иногда вверх взметаются черные щупальца. Вместо прозрачной ключевой воды и золотых рыбок, заметь! Хрустальный мост превратился в каменный. В корнях охранного дерева живут двухголовые белые змеи.
Я лечу и вижу: на небе исчезают звезды. Остаются только черные пятна. Пока не становится небо совсем без звезд. Пустота.
Все гниет. Разрушается. Как зуб, пораженный кариесом. Желтая вода. Запах.
И я чувствую, что где-то рядом находится огромное зло. А потом я вижу мертвую тушу. Снижаюсь, смотрю — а это единорог. А на ветвях деревьев сидят откормленные черные вороны.
Юлька вздрогнула.
— Обратись к лекарю, — сказал папа. — Ах, черт, у нас даже на это нет времени!
— Ты не понял, да? — Редкозуб помолчал. Его бледное лицо со впалыми щеками было мертвенно спокойным. — Я проверил, Саша. Я сходил туда сам и проверил. Сигнализация сработала. Там кто-то побывал. А один из моих — Тринадцатый, он отвечает за Зверинец — ничего мне не сообщил. Это самое страшное, Саша, а отнюдь не твои бароны! Я ничего не знал — хотя всегда знаю все, что знают они.
Папа молчал.
— А потом я подошел к вольеру с единорогом, — сказал чародей. — Тебе интересно, Саша? Он увидел меня и начал кричать. Он, знаешь ли, отвратительно кричит.
— Знаю.
— Теперь решай.
— Что решать? Ты же ничего не сказал по существу. — папа оскалился. — Это все, что ты хотел сказать?
— Все, — Редкозуб встал. — Только помни, единороги — не ослы, они просто так не кричат.
— Да мне наплевать, почему кричал этот твой... этот козел!
— Это не козел, — сказал Редкозуб. — Это единорог.
Ещё мгновение — и, казалось, папа ударит чародея.
— Иди, Андрей, и займись делом, — сказал он сквозь зубы.
— Пап, — закричала Юлька, вбегая в комнату. — Фунтик заболел!
Сначала его лицо было таким же каменным, как при разговоре с чародеем.
— Что? Какой еще Фунтик?! — спросил папа резко. Затем понял — лицо расслабилось и стало просто старым. И очень-очень усталым. Словно стержень из него вынули.
— Иди сюда, — сказал папа. Посадил её на колени и обнял. — Что случилось, доча? Что с твоим Серым Рыцарем?
— У него болит ухо, — сказала Юлька доверительно. — Только ты Фунтику не говори, что это я сказала. Он обидится. Он такой гордый. Ведет себя иногда, прямо как мальчишки!
Папа улыбнулся.
— Не скажу. Значит, лечиться он не хочет?
— Нет! — Юлька помотала головой. — Говорит, что у него ничего не болит. Я вчера проснулась ночью — а Фунтик во сне стонет. И лапой ухо вот так прижимает. Будто ему больно. Днем ходит и чешется, пока думает, что я не вижу. А я вижу.
VI
— Папа сказал, что пропало уже пять человек! — сказала Юлька. Потом решила для солидности приврать. — Нет, вспомнила! Десять человек!
— Пятнадцать, — поправил Виталька авторитетно. — Мой отец вчера сказал маме, когда из ангара пришел. И, говорит, какие-то кости находят. Обглоданные. И целую руку нашли. А там перстни — во! — с кулак.
— Все ты врешь! — Юлька не сдержала обиды. Зря она, что ли, просидела в шкафу целый час? И все ценные сведения — коту под хвост?! — Да у тебя папа — всего лишь шофер! Что он может знать!
— А у тебя? — вскипел Виталька. — У тебя кто?
— Король!
— Вот и молчи!
VII
— Это твой дядя Фермонт, — сказала мама. — Теперь он будет жить с нами.
У него коричневая шерсть и синие глаза. У него хищная морда и длинный влажный язык. На морде у него язвочки. Он сидит и чешет их лапой. Когти делают: ш-ших, ш-ших. Шерсть вылезает клочками, и остается багровая плоть в синих прожилках. На белый мрамор падают вязкие черные капли.
Мама стоит рядом и ничего не замечает.
От него пахнет сыростью.
— Ты меня впустила, — сказало чудовище, перестав чесаться. — Спасибо тебе, девочка.
...и ещё чем-то. Мокрая шерсть, гниль. Какой-то цветочный запах?
Фиалка.
Юлька открыла рот, посмотрела на маму. Она что, не видит? Не чувствует? Я сейчас ей скажу!
— Прошу за стол, — сказала мама. Наклонилась к дочери. — Закрой рот, девочка, а то ворона залетит.
— Мам, а мам! — сказала Юлька шепотом. Отложила вилку и нож и прикрыла рот салфеткой — чтобы со стороны не видно. — Дядя Фермонт — чудовище!
Мама засмеялась.
— Выдумаешь тоже!
Как же ей объяснить? — подумала Юлька. Как? Чем человек отличается от чудовища? Чего люди не делают?
— Почему тогда он все время чешется?
— Некрасиво говорить такие вещи, — сказала мама строго. Лицо у нее вдруг стало застывшее и напряженное, словно она говорит заученные слова. Не свои.
— Но это правда. Он все время так делает, — Юлька показала. Потом быстро отряхнулась — чтобы не прилипло.
— Не выдумывай! Твой дядя Фермонт немного странный, но прекрасно воспитан. Посмотри, как элегантно он пользуется салфеткой.
Фермонт сунул в пасть край скатерти, заляпанной соусом, задумчиво пожевал. Посмотрел на принцессу и ухмыльнулся. Потом подмигнул.
Карается смертью, — подумала Юлька. — Нет, не смертью. Тогда чем?
VIII
Давным-давно, в замке, называемом Роза-на-Скале, жила маленькая принцесса со своим верным котом, и было у ней два друга.
Так сложилось, что принцессе не повезло с подружками.
Это бывает, когда одни девочки слишком маленькие, другие — намного старше, а у остальных — нет нужного допуска.
А с допуском там строго.
Это ведь все-таки была королевская семья, не забывайте.
Зато у принцессы были настоящие друзья среди мальчишек. Колька, сын придворного чародея, и Виталька, чей отец управлял лодкой-с-крыльями. Когда король с королевой отправлялись на прогулку, папа Витальки садился за штурвал в перчатках до локтя и круглых очках. Ещё у него была куртка из желтой кожи и летный шлем.
Виталька мечтал, что когда-нибудь он выйдет как отец, отсалютует: «Ваше Высочество! Добро пожаловать на борт!» и повезет маленькую принцессу на прогулку в облаках.
А будет ли она к тому времени ему женой — этого мы не знаем.
Об этом он, кажется, ещё не мечтал.
IX
— Доча, — сказал папа. — Мне очень трудно... но твой друг...
— Виталька не виноват!
Она замолчала. Позади отца стоял дядя Фермонт. И улыбался. И точно также улыбался отец. Юлька с ужасом огляделась и увидела то, чего не замечала раньше.
Отец небрит и давно не мылся. Одежда засалена. В углу свалена кучка гнилой соломы. И вонь. Вонь, через которую пробивается запах фиалок.
— Если пробыть здесь дольше, — сказал Фермонт. — Ты перестанешь замечать этот запах. Ты привыкнешь, девочка. Я привык. Твой отец... он тоже постепенно привыкнет. Я тебе обещаю.
— Вы врете! — закричала Юлька. — Вы когда говорите, всегда врете! Папа, папа, очнись! Пожалуйста! Папа! Па-па!
X
— Он не виноват! — Юлька вскочила. — Он всего лишь мальчик! Как он мог это сделать?!
— Ваше Высочество, прошу вас не вмешиваться! — повысил голос распорядитель. — Вызываю свидетеля обвинения, — торжественно объявил он. — Редкозуб-младший!
Кто? — не поняла Юлька. Неужели чародей решил сам обвинить Витальку?
— Да, Ваша честь, — сказал свидетель тонким от волнения голосом. — Это я.
Был он немного старше Витальки — года на полтора, высокий для своих лет и очень серьезный. Взрослые хвалили его за внимание и усидчивость.
Это был Колька. Юлька вспомнила, как он помогал ей обыграть Витальку в шашки, а потом показывал в микроскопе муху. Муха шевелила лапками — было страшно на нее смотреть и очень здорово.
— Предатель! — сказал Виталька громко. — Гнида!
Колька молчал. А потом заговорил.
XI
— А как же мальчик избавился от тел? — спросил судья.
— Он их съел, Ваша Честь, — сказал Фермонт.
— Убедительно, — сказал наконец судья. Лицо у него было такое, словно он сейчас заплачет. — Конечно... я понимаю. Растущий организм... мальчику... полноценное питание... вина общества...
— Его нужно казнить, — сказал дядя Фермонт. — Чтобы он еще кого-нибудь не съел.
— Казнить? — сказал судья дрожащим голосом. — Да-да, конечно, его нужно казнить...
— Нет! — закричала Юлька. — Нет! Нельзя! Он ни в чем не виноват!
По лицу судьи потекли слезы.
— Что же ты со мной делаешь, девочка? — он размахнулся и ударил молотком так, что это прозвучало, как выстрел.
— Самое замечательное, — сказало чудовище Юльке. — Что я никогда не вру. Мне просто незачем. Люди за меня все делают сами.
XII
— Это шаггурт. Настоящий шаггурт. Я чувствую его, — чародей потянул носом воздух. — Фиалка? Очень интересно. Странное дело, они всегда пахнут цветами.
— Но почему я его вижу? — спросила Юлька. — И вижу, что он делает! А остальные — нет. Они как слепые. Как куклы. Делают все, что он захочет...
Чародей склонил голову к левому плечу, и стал похож на старую птицу.
— Потому что вы наказаны, Ваше Высочество. Именно поэтому вы видите его истинный облик. Помните, что грозит нарушителю запретов? — сказал Филин-Редкозуб. — Не трогать единорога, не кормить животных, не поить кащея...
— Но я...
— Не жалеть шаггурта, — безжалостно продолжил Редкозуб. — Карается...
Юлька замерла.
— Чем карается? Чем?!
Редкозуб помолчал.
— Знанием, — сказал он наконец. — Знанием, девочка. Теперь ты понимаешь?
XIII
Как убить шаггурта?
— Марина, — позвал папа. — Марина!
Папа ходит по комнате, натыкаясь на вещи, и зовет маму. Он больше ничего не видит. У него седая борода, которую никто не расчесывает и седые волосы, которые никто не стрижет. Он болен.
XIV
Во рву — черная вода. И там кто-то шевелится. Иногда вверх взметаются черные щупальца. Вместо прозрачной ключевой воды и золотых рыбок. Хрустальный мост превратился в каменный. В корнях охранного дерева живут двухголовые змеи.
На небе исчезают звезды. Потом останутся только темные пятна.
На ветвях деревьев сидят откормленные черные вороны.
XV
— Я буду сражаться, — сказал серый кот. — Я спасу вас, моя принцесса!
— Ты болен, — сказала Юлька, посмотрев на него. — И не можешь драться.
— Я плохо слышу, это правда, — ответил Серый Рыцарь. — И левый глаз ничего не видит. Это тоже правда. Но мои когти и зубы ещё при мне. И моя честь тоже. Поэтому я буду сражаться. Нет ничего выше чести. Даже сливки... нет, даже они... Ради сливок я живу, а ради чести — умру.
— Я не хочу, чтобы ты умер, — сказала Юлька и заплакала. Папа, мама, Виталька, Колька — все они уходили от неё.
— Я знаю, — сказал кот. — Но если не будет чести — не будет и меня, Ваше Высочество. Неужели вы хотите любить пустое место?
— Ты погибнешь, — сказал призрак Витальки. Он возник из ниоткуда — в куртке из желтой кожи, в летном шлеме и в круглых очках. Руки у него были в перчатках до локтя.
Сейчас он был очень похож на своего отца.
— Но ты погибнешь с честью, — продолжал Виталька, подняв голову. — Можно с тобой?
Серый Рыцарь помолчал. Потом встал и поклонился Витальке — как равный равному.
— Сочту за честь, мессир.
— Я с вами, — сказал Редкозуб, похожий на филина. — Я все-таки, ещё чародей.
XVI
Давным-давно, в замке, называемом Роза-на-Скале, жили король с королевой, и была у них маленькая дочка.
И было у них все хорошо.
ПУТЬ ВОИНА ПО-ЕВРОПЕЙСКИ
ПОСЛЕДНИЙ РОМАНТИК
1
Ноги под дерн не поместились. Пришлось рубить ветки и закидывать сверху. Теперь лежат, как медведи в берлоге. Мама и три детеныша. Обнялись и ждут весны. Капрал разве что лапу не сосет.
— Муау!
Я говорю: подожди, девочка. Еще немного. Папа почти закончил.
Беру еловую лапу и кидаю сверху. Потом сажусь на землю и говорю: сил моих больше нет.
...Я думал — по дороге быстрее будет. Потому что морковка опять успела проголодаться. А в деревне можно было взять молока. И нажевать с хлебом. И она бы так не орала. Лежала бы и сосала «дулю». Важная, как китайский император.
А они тут как тут — верхом. Закричали:
— Вот он, сукин сын!
Окружили и стволы наставили. Капрал сверху смотрит. Синий мундир, усы сапожной щеткой и пистоль за поясом. Он его даже доставать не стал. Видит, у меня руки заняты. До шпаги никак не дотянуться. А пистоль я в лесу выкинул. Во-первых: пороха к нему не было, я в одной рубахе из окна выскочил. Во-вторых: пистолет тяжелый, пришлось выбирать.
Я говорю:
— Вы меня, как, арестовывать будете? Или на месте порешите?
Капрал говорит:
— Посмотрим.
Морковка открыла глаза и говорит: уа-у. Таким обиженным тоном.
Я подумал — надо было выбрать пистолет. А девчонку оставить. Все руки оттянула, даром что четыре месяца. Посреди леса, волков и лисиц. Тогда у нее был бы шанс.
Я говорю:
— Все хорошо, девочка.
— Ее скоро нужно кормить, — говорю.
Капрал усмехнулся и говорит:
— Не бойся, накормим. Ты давай — одежонку скидывай! Только не дергайся, а то не ровен час...
Что получится, капрал не сказал. Но я и так понял. Потому что нетрудно догадаться. Особенно, если прошлой ночью это видел.
Я девчонку на землю положил и говорю:
— Вы там были?
— Нет, — отвечает капрал.
Я по глазам вижу, что врет. Они у него сделались отдельно от лица. Словно кто-то другой в капральской физиономии дырки проделал и выглядывает. И здорово ему стыдно, этому другому.
— Раздевайся, — говорит капрал. — Кому сказано.
Я расстегнул рубашку, чтобы его не злить.
— Моя жена жива?
— Конечно, — отвечает, не раздумывая.
А другой, который за капралом прячется и которому стыдно, говорит:
— Нет.
— Понятно, — говорю я.
* * *
Я говорю: мне нравится, как это звучит. Ты сама попробуй. Маленькая девочка. Маленькая девочка. Разве не здорово?
Жена говорит:
— Папина дочка.
А я говорю:
— Зато характер твой.
* * *
Я пошел в лес. Сначала пытался резать дерн шпагой, но ничего не получилось. Потом мне дали нож. Я выкраивал куски травы и относил к яме. Художественно так вокруг нее раскладывал. Замерз, как собака и весь перемазался. А потом капрал говорит:
— Хватит.
Я посмотрел на яму и говорю:
— Еще немного. Кажется, я выше ростом. Пятки будут торчать.
Один говорит:
— А ты без головы меряй.
И засмеялся. Остальные тоже. Все, кроме меня и капрала. Он перед этим, как мои шрамы увидел, сказал:
— Это откуда?
— Рамбург, — ответил я. Без одежды стало холодно. Мурашки высыпали по всему телу. — Палашом.
— А это?
— Под Несвижем... картечью.
— А вот это?
— Когда маленьким был, расшибся.
Поэтому сейчас капрал сказал:
— А ну, заткнули пасти!
Морковка смотрела какой-то сон и молчала в тряпочку. Я вообще думал, что такое невозможно. Такая тишина. Все время, что морковка не ела — она кричала. Не переставая. Я думал — свихнусь. Или оглохну. Так что выбор между ней и пистолетом был достаточно трудным.
Я стою голый и говорю:
— Что будет с ней?
Капрал говорит:
— Отвезем князю.
Я говорю:
— Мне нужно попрощаться.
Он перевел взгляд на девочку. Потом говорит:
— Ладно.
* * *
Я девчонку прижал, она — раскаленная. Как уголек. Вернее, мне так с холоду почудилось. Морковка «дулю» выплюнула и проснулась. Смотрит на меня. Глаза серые, рожица серьезная.
— Гу, — говорит.
Потом выгибаться начала. Потому что я-то холодный.
Я говорю:
— Цок, цок, лошадка! — она улыбается. Взял морковку и подкинул вверх. И еще раз. Она смеется. Я даже согреваться начал. Потом прижал девчонку к себе. От нее тепло и молоком пахнет.
— Ты наша принцесса, — говорю. У капрала такое лицо сделалось, словно он луком подавился.
И тут морковка описалась. Вообще горячо стало. Я даже глаза зажмурил. Стоим, греемся...
Капрал сказал:
— Ну все, пора.
Я глаза открыл, говорю:
— Еще одно. Сейчас я скажу дочери пару слов, а вы все отойдите.
Капрал подумал немного и говорит:
— Ладно.
— Анна-Фредерика! — говорю я громко. Чтобы они разобрали. — Слушай мое завещание...
И перешёл на шепот.
Она слушает и будто все понимает. Как большая. На левой щеке — грязное пятно. Это я рукой задел, когда обнимал.
Потом я девчонку последний раз поцеловал и говорю:
— Мы готовы.
* * *
Потому что я не знаю — зачем князь это сделал. Если, конечно, это был он. Его люди. Они не сказали.
С этими всегда так. Забывают представиться. Профессиональная этика. Что-то вроде «кодекса наемного убийцы».
Мне до ямы шагов десять. Или восемь — если не мельчить.
Я огляделся. Один из тех, что надо мной смеялись, у ямы встал и на меч опирается. Другой траву в мешок лихорадочно напихивает. Это чтобы моей голове там помягче было.
— Опять все в последний момент, — говорю, — да?
Капрал дернул щекой:
— И не говори. Оболтусы.
Тут морковка на руках заворочалась. Кулачками глаза трет и куксится. Такое ощущение, что сейчас заплачет.
Я говорю капралу:
— Можешь дать мне слово? Это вместо последнего желания.
Он говорит:
— Какое слово?
Я говорю:
— Возьми девчонку. Только сам — без этих твоих... Передашь князю на руки. Скажешь: Утрехт все дочке завещал. Пусть князь растит, как свою. Сделаешь?
Капрал лицом стал, как апостол. Такой же суровомордый. Словно ему ответственность за человечество какую-то жилу перекрыла. И теперь с выдохом проблемы. Говорит:
— Сделаю.
Я говорю:
— Слово?
Он говорит:
— Слово.
И тогда я протянул ему девчонку.
* * *
Все-таки там был мой дом. Что сводило на нет их численное преимущество. Или мой кураж сводил? Не знаю. Когда вокруг темнота, грохот и вой, через который пробивается детский крик, а фоном — истошный визг нянек... А еще где-то за стеной убивают твоих людей...
Тут становится не до выяснений.
Наверное, надо было спросить: за что? Что мы вам сделали? Поймать одного урода и задать вопрос. Но я сразу не догадался, а потом некогда стало.
Потому что я взял шпагу и начал убивать их в ответ.
А потом я добрался до девчонки. И руки оказались заняты. Пришлось прыгать в окно.
А сейчас руки совершенно свободны. Только грязные и под ногтями земля. Поэтому я выдернул пистолет у него из-за пояса. И курок взвел. У капрала глаза сделались по чайнику. Но сделать ничего не может.
Потому что у него на руках морковка лежит и смотрит.
Я говорю:
— Держи крепче.
Повернулся и выстрелил.
Парень с мечом охнул и задохнулся. Я перехватил пистолет за ствол и бросил. Потом расправил руки и пошел убивать тех, что остались.
* * *
Пока я их убивал, он так и стоял с девчонкой в охапку.
Я подошел и ее из капральских рук вынул.
Говорю:
— Теперь уходи.
Капрал вздрогнул. Посмотрел на меня, на пистолет, который я у парня с мешком взял. Затем быстро — в сторону. Туда, где лошади привязаны. Я говорю:
— Нет. Пешком иди.
А когда он повернулся, я поднял пистолет и выстрелил капралу в затылок.
* * *
Я говорю: Анна-Фредерика, слушай мое завещание.
Надо было сказать: девочка моя смешная. Твоя мать отошла в мир иной. Я ее очень любил. Но ты не волнуйся. Ангелы на небесах ее очень ждали. Они там сидят в белых одеяниях и играют на арфах. А Верена смотрит на них и улыбается...
И тому подобную чушь.
Я сказал: морковка, нашу маму убили. И я этих уродов собираюсь похоронить.
Такой вот, блять, не романтичный.
* * *
Пришлось их утрамбовывать. Потому что яма было на меня одного, а их целых четыре. Но я справился.
Встал сверху и прыгал, пока не влезли.
Потом укладывал дерн кусками, а когда его не стало хватать, накидал веток. Теперь лежат, как в берлоге. Потом я сел на землю и сказал:
— Сил моих больше нет.
Долго сидел. Потом встал и пошел к морковке.
2
Это еще ничего. Совсем голодная, она хуже. Откроет рот и вопит. Я ее поднимаю, а она плотная, как комок глины. И пальцами не разомнешь. Маленькая и красная, словно обварившийся гном.
Я говорю:
— У вас молоко есть?
Она смотрит на морковку, а та продолжает хныкать. Женщина говорит:
— Ты солдат?
Я говорю:
— Нет.
Она вздохнула и говорит:
— Заходите. Есть у меня молоко. И перекусить что-нибудь найдется.
Я привязал коня, вошел в дом и сел на лавку. И чувствую: сил подняться нет совсем. Она говорит:
— Ты контуженный, что ли?
Я снова говорю:
— Нет.
Словно с кем-то поспорил — одно слово на целый день.
Она говорит:
— А похоже. Ладно, подожди здесь, солдат. Я сейчас приду.
Пока она ходила, я даже не шевельнулся. Словно из меня стержень вынули, на котором все держалось. И я теперь бесформенный и никому не нужный.
Хотя — есть девчонка. И ей стоило бы пеленки поменять. Мы с утра в дороге, и я представляю, как у нее там все набухло. Как перед потопом.
И пистолеты надо проверить.
Только я не могу.
Вернулась женщина и говорит: ты оглох? Твоя орет так, что во дворе уши закладывает!
Я поднимаю глаза и говорю: правда? я не слышал.
Она тогда замолчала и на меня смотрит. А потом говорит:
— Давай, я твою девочку покормлю.
Я говорю:
— Нет. Я сам.
* * *
Жена говорит: ты принцесса у нас. Посмотрите на эти щечки. На эти ножки. Ах, какие у нас ножки!
Я говорю: тьфу на тебя, обезьянка. Тьфу на вас обоих.
Потому что мне страшно.
Потому что за стеной люди с пустыми глазами.
* * *
Она говорит:
— Пока ты спал, у тебя лицо было живое. А сейчас опять мертвое.
Я говорю:
— Просто у меня рожа такая.
Она покачала головой. Говорит:
— Ты красивый. Только устал сильно.
Я говорю: наверное. Поднялся и вышел во двор. После того, как мне Верена приснилась, трудно стало разговаривать. Все время чувствую, что нас в комнате трое.
Четверо. Потому что морковка тоже слушает.
Поэтому я сел на крыльце. Достал пистолет и стал замок проверять. Порох с полки совсем высыпался. Я достал рожок и думаю — надо остальные проверить. Та ночь больше не повторится. Нет, спасибо. Больше меня врасплох не застанут.
Потом она тоже вышла во двор. Села рядом и смотрит, как я развлекаюсь. Потом говорит:
— Тебя как зовут?
Я говорю:
— Лейбер.
— Меня Марта. Останетесь до завтра? Маленькая устала, ты отдохнешь.
Я говорю:
— Хорошо.
Она говорит:
— У меня муж тоже солдатом был. У самого Белого Герцога в первом фирфейлене...
И давай рассказывать, как они жили. Как будто мне это надо. Хотя, наверное, так у всех женщин заведено.
Они, наверное, и на небесах не меняются.
Я представил, как Верена ангелам говорит: и тут муж меня трахнул.
И какие у них при этом становятся ангельские лица.
* * *
— Загляденье просто, — говорю я.
Марта и виду не подает. Как будто я взял и поверил, что такое у неё каждый вечер. Чашечки, горшочки, тарелочки — вся женская артиллерия. Выкатила на прямую наводку и давай лупить. Курятина в пехотной терции. Жареная колбаса в направлении главного удара. Каши с флангов обходят.
Пиво — стратегический резерв.
Она сидит и на меня смотрит. Как я сражаюсь.
Военачальница.
— Вкусно, — говорю я. — Спасибо.
Она говорит:
— Да ты ешь, ешь.
Словно до этого я в основном мимо рта проносил.
И вдруг мне по ноге что-то — шшшш. Я вздрогнул. Только потом догадался, кто это может быть. С таким хвостом.
— Как кошку зовут? — говорю.
— Никак, — говорит Марта. — Приблудная. Родила недавно четверых. Теперь ходит, словно она здесь хозяйка.
Кошка услышала, что про нее речь, и вышла из-под стола. Сама худая, как скелет. Но в глазах такое требовательное выражение. Некогда мне с вами ерундой заниматься. У меня дети.
Я говорю:
— Какая красивая.
Марта говорит:
— Что?
Я говорю:
— Правда. Женщины все такие. Особенно после родов. Словно у вас под кожей — спящее солнце. Даже у кошки. Только вы этого не понимаете. Жалуетесь и плачете.
И мужчинам приходится с этим что-то делать. Тащить в постель и доказывать. Ты — самая красивая. Потому что вы по-другому не понимаете. У женщин это где-то между ног закорочено. А, может, и по всему телу. Я не знаю. А потом, если получилось, солнце просыпается. И вы начинаете светиться так, что глазам больно. Наверное, у вас под кожей проложены стеклянные трубки, по которым вода течет...
Я говорю:
— Только это не вода, а самый настоящий огонь.
Она фыркнула и засмеялась. Говорит:
— Ложился бы ты спать, солдат. Опять ерунду какую-то болтаешь.
А по глазам вижу: нет, не ерунду.
* * *
Я говорю: сколько-сколько?
Йохан говорит:
— Пять монет в неделю. Вы же понимаете, трудные времена.
Я говорю:
— Понимаю.
Потом я не выдержал и снова посмотрел.
«Разыскивается Вальтер Утрехт, рыцарь. Около тридцати лет. Обвиняется в убийстве своей жены Верены, урожденной Кришталевской.»
На рисунке я был чисто выбрит и элегантен, как положено женоубийце. И очень слабо похож на себя нынешнего.
Князь оказался провидцем. Или не поверил в мои добрые намерения. С той ночи прошло больше месяца, а нас продолжали искать. Хотя теоретически мы с морковкой уже находились где-то очень далеко. За пределами княжества, например. Но только не здесь.
Йохан говорит:
— Комнату будете смотреть?
Я говорю:
— Конечно.
«Также разыскивается его дочь, Анна-Фредерика, пяти месяцев отроду. Похищена...»
Не похищена, а спасена. Есть разница.
Хотя — меня-то как раз никто не спрашивал.
Мы поднялись по лестнице. Йохан открыл дверь и говорит:
— Вот.
Я огляделся. Потом прошел к окну, открыл и выглянул. Улица как спящая змея. Чешуя за ночь вымокла и блестит. Дальше по улице раскачивается вывеска портного. Я прикинул — шагов пятьдесят до нее. На вывеске — ножницы и катушка ниток. Все яркое и заметное.
Потом я поднял взгляд и увидел небо в просвете домов. Голубое и чистое, как бывает после дождя.
Я говорю Йохану:
— Договорились.
Кстати, насчет моих намерений князь прав. Я и сам в них не верю. То есть... не верю, что они у меня добрые.
* * *
Раньше она была целиком белая, но со временем протерлась. И на неё кусочки нашили — чёрные и жёлтые.
Я говорю:
— Заплатка, иди сюда. Кис-кис-кис.
Кошка на меня смотрит, но подходить не торопится. Можно подумать, ей каждый день имя дают.
Я говорю:
— Как хочешь.
Последнее время меня немного отпустило. Спасибо Марте. Я даже в другой комнате спать научился. Недолго, правда. Час-два. Проснусь и бегу проверять. Но уже хорошо. Потому что раньше будил морковку храпом. Или криком.
Подхожу и слышу: мау-а-уа. Громко так, с выражением. И опять: мау-а-уа.
Это она жалуется. У девочки в руках игрушка, и она ей рассказывает, как ей здесь плохо и как её все обижают.
Я говорю:
— Цок, цок, лошадка!
Обиды сразу как не бывало.
— Ты лыба, — говорю. — Лыба. Чего улыбаешься? Муравьишка. Ну, иди ко мне. Пойдем котят смотреть?
Она говорит:
— Аа!
На маму никто особо не походил. Заплатка худая и строгая. А котята — круглые и веселые, как тряпичные мячики. Трое возятся, один спит. Хотя он, наверное, тоже веселый.
И все разного цвета, словно их по масти подбирали.
Я говорю:
— Кто из вас кто?
Черный оказался девочкой. Коготки мелкие и острые. Запищала и давай вырываться. Наверное, тоже папина дочка. Одного такого черного я недавно на заборе видел.
Морковка зашевелилась и смотрит, открыв рот. Потом ручки потянула.
Я говорю:
— Анна-Фередерика, познакомься с Чернушкой. Видишь, какая она маленькая?
И вдруг сзади — шипение.
Я замер. Потом осторожно опустил котенка на землю. Повернулся и говорю:
— А это котенкина мама.
У морковки глаза стали круглые.
Заплатка стоит, готовая к бою. Вполморды — желтое пятно. Шерсть вздыблена, в глазах — отчаяние. Потому что это я человек, она всего лишь кошка. Но я стою между ней и котятами. И это серьезно уравнивает шансы.
Я представил, что это не кошка, а молодая женщина. А вокруг и ночь и вой и грохот...
Взял девчонку поудобнее и отступил в сторону.
Морковка затихла, словно что понимает. Я обошел Заплатку кругом и вышел из сарая.
Сидел на крыльце и смотрел, как темнеет.
А потом Заплатка появилась. Сама подошла и нас обнюхала. Девчонка морщилась, когда кошка её усами задевала.
Заплатка повернулась и ушла обратно в сарай. Домой, к детям.
А мне почему-то вдруг стало очень обидно.
* * *
Повернулся, а там она стоит. Я и не видел, как подошла. Увлекся с дверью.
Она на меня смотрит и говорит:
— Девочку пора кормить.
Я говорю:
— Я знаю.
И стоим друг на друга пялимся. Как два идиота.
Потом Марта усмехнулась и говорит:
— Ты сильный.
Я на развороченную дверь смотрю и говорю: да?
Она говорит:
— Но молотка в руках сроду не держал. Я же вижу. У тебя под другое руки заточены. Поэтому и не выходит. Вот шпаги, ружья — это твоё, верно?
Я говорю: наверное.
Она говорит:
— Почему вы, мужчины, просто не можете быть дома? А? Объясни мне, солдат!
Я говорю: не знаю.
Она говорит:
— Почему вам обязательно нужно куда-то идти — и кого-то там убивать?
Я не знаю, что ответить.
Она говорит:
— А потом еще желательно сдохнуть где-то там, вдали от дома — в грязи и вонище!
Я молчу.
Она помедлила и говорит:
— Тогда вы будете счастливы, да?
Повернулась и ушла в дом. А я смотрю ей вслед, и у меня внутри — пустота. Словно вырвали что-то очень важное и теперь нити свисают.
* * *
Наверное, она что-то почувствовала. Женщины в этом смысле вообще тоньше устроены. Как барометр.
Я зашел в сарай и вытащил сверток. Длинный, почти в мой рост. Снял мешковину, проверил и завязал обратно. Потом взялся за пистолеты. Заводил каждый и нажимал на спуск. Не то, чтобы дергался. Просто надо было себя чем-то занять.
Хотя — не без мандража, конечно.
Потом разобрал вещи. Морковкины — в одну сторону, свои — в другую. Из своих назавтра отобрал солдатскую куртку, рубаху, чулки, бриджи. Все чистое, как на парад.
Деньги, бумаги. «Завещаю своей дочери Анне-Фредерике...» и так далее.
Все, кажется.
А потом я вспомнил, что сказала Марта в день нашей встречи.
Во дворе — бочка, в бочке — вода. В воде закат отражается. И моё лицо заодно.
Cмотрю на себя и думаю — где красивый? Чего она выдумала?
А потом подумал — правильно, наверное. Может с нами, мужчинами, это тоже работает? Мы нужны женщинам, а они — нам. Мужчина постоянно должен доказывать женщине, что она — лучшая в мире. Иначе он не мужчина, а сапожная подошва. Чтобы мы из угловатых, негибких, жестких, туповатых становились такими, как есть — мы должны отдавать.
Это же просто. Если воду не вычерпывать, она уходит. Может, мы тоже пересыхаем, как колодцы?
И тогда, блять, в нас выстрелить надо, чтобы вода появилась?!
Когда совсем стемнело, я поднялся на крыльцо и открыл дверь. А там — она. Вроде как случайно в сенях стоит.
Я на нее смотрю, а она отвернулась. Только... я знаю, что она меня видит. Не глазами, всем телом. И она знает, что я знаю.
Стоим, дыхание друг друга слушаем.
А потом я сделал шаг. И другой. И как-то само собой получилось, что мы стоим рядом, и кажется, что кожа у неё в темноте тихонечко светится.
Прижал к себе. Она затихла и в грудь мне упирается. Лапки мягкие, как у котенка.
Я говорю: привет.
* * *
Спящая змея проснулась. Открылись двери лавок, зашумели люди. По пыльной чешуе зацокали каблуки и копыта. Цок, цок, лошадка! И улыбается.
Я посмотрел наверх. Небо в просвете домов чистое, света достаточно.
Перевёл взгляд на лавку портного. Ножницы большие и белые, нитки зеленые. Все четкое и яркое. Отсюда до вывески пятьдесят два шага — я проверял.
Потом задернул занавески, чтобы осталась только узкая щель. Взял стул и устроился у окна. Аркебузу поставил к стене, кувшин с водой — на пол, по левую руку.
И стал ждать.
* * *
Потому что однажды просыпаешься ночью, а вокруг темно — и душно, и грохот, и скрип, словно за стеной перетаскивают мебель. А потом, без перехода, гул голосов, который отзывается во всем теле. Только слов не разобрать, словно это кошмарный сон. Одни вибрации, низкие, тяжелые, тягучие, как патока. И этих в голосах звучит тоска и ужас — оттого, что обладатели голосов знают, что им предстоит совершить.
В неясной тревоге, на границе сна и темноты, ты лежишь с открытыми глазами и чего-то ждешь. Кажется, вечером ты поругался с женой из-за ерунды — сейчас даже не можешь вспомнить, из-за чего именно — но заснул ты не в спальне, а на кушетке в гостиной, где спал не раздеваясь и даже не сняв сапоги. Ты лежишь и слушаешь, как в груди отзываются зловещие тамтамы. А за стеной идут люди с тягучими голосами и глаза у них пустые, как у ящериц.
А потом — крик. Который хлыстом бьет по нервам. И ты вскакиваешь на ноги, словно тебя обожгло. Чувствуешь, как сжимается тело, словно от невыносимой боли. И понимаешь, что это кричит твоя жена.
* * *
Ничего. Все в порядке. На мгновение я закрыл глаза, пытаясь унять дрожь. Сердце колотится, словно заячий хвост. Ладони взмокли. Аркебуза кажется тяжелой и неуклюжей, как бревно.
Я открыл глаза, прицелился в катушку зеленых ниток. Потом плавно повел ствол аркебузы вниз...
Черная спина.
Я задержал дыхание и нажал на спуск. Привычное: вжжжж. Искры. Бух! Грохот. Толчок в плечо. Ствол аркебузы дергается вверх и вправо. Серый дым. В ушах — звон. Черт, не вижу! Черная спина медленно-медленно покачнулась... падает. Вокруг лица, на них — удивление. Пауза. А потом со всех сторон — крики. «Князя убили! Князя!» Убили? Правда?! Черт, нельзя посмотреть.
Я отпускаю аркебузу — она стукается о пол. Встаю и иду к двери. Меня шатает. В ушах — звон, лицо горит, как обожженное.
Крики за стеной становятся громче. Звон железа. Команды. Опять крики.
«Там он был! Там! Наверху!»
Я быстрым шагом выхожу из комнаты. Миную двери соседей. Прыгаю по лестнице через две ступеньки.
Когда оказываюсь внизу, входная дверь распахивается. Лица, шляпы, шпаги... Почти не глядя, разряжаю туда один из пистолетов. Дым. Крики. Я поворачиваюсь к двери спиной и перехожу на быстрый шаг. Иду вглубь дома. На ходу достаю патрон, скусываю и перезаряжаю пистолет. Руки подрагивают. Часть пороха просыпается мимо.
Плечом открываю дверь и протискиваюсь внутрь. Это столовая. Все семейство Йохана в сборе. Он широкий, с черной бородой. Смотрит на меня с недоумением. В дюйме от его рта застыла ложка.
Я достаю шомпол. Продолжая идти, вставляю его в ствол. Раз, два, три! Готово. Беру шомпол в зубы и так, с ним в зубах, киваю Йохану. Здоровый детина справа от меня шумно глотает. Сын, наверное.
Позади меня страшный грохот.
Наощупь достаю пулю. Пыжа у меня нет, но пуля завернута в бумагу. После нескольких ударов шомполом пистолет заряжен. Иду.
Прохожу следующую комнату. В ней — две лавки и кресло с красной обивкой. Здесь Йохан встречается с приказчиками. А вот и то, что мне нужно.
Чёрный ход.
Открываю дверь и выхожу на улицу. Смотрю налево, направо. Ничего подозрительного. Сюда погоня еще не добралась. Убираю пистолет за пояс. Поправляю шляпу и кружева. Вперед!
* * *
Я написал: Завещаю своей дочери Анне Фредерике, все свои титулы и имущество.
Девочка моя любимая. Красавица. Муравьишка. Обезъянка. Возможно, мы с тобой больше никогда не увидимся. Поэтому знай, что я тебя люблю. Как любил и всегда буду любить твою маму. Надеюсь, мы встретимся с ней на небесах. Не знаю, достоин ли я этого. Но это уже не так важно. Главное, что теперь все будет хорошо. Я знаю. Расти большой и слушайся тету Марту. Она хороший человек. С любовью. Твой папа.
Вот как надо было написать.
А я написал: морковка, нашу маму убили. И я этих уродов собираюсь похоронить.
МИРМИЛЛОН
— Идущие на смерть приветствуют тебя!
Я медленно шел по кругу, держа ловца в центре, и песок, налитый солнцем песок арены скрипел под ногами. В правой руке я держал короткий широкий, слегка загнутый меч, время от времени пытаясь попасть зайчиком в глаза противнику, но тот был старым бойцом, и на уловку не попадался... Небольшой прямоугольный щит прикрывал левую половину моего тела от внезапного удара — не то чтобы уж очень прикрывал, и уж точно не половину, но... Ударить меня в сердце еще никому не удавалось.
— Иди ко мне! — внезапно закричал ловец, бросая сеть. Та летела так лениво, что я без труда уклонился, выпрямился и насмешливо отсалютовал противнику мечом. Аплодисменты раздались со всех сторон — нас оценили...
Я подмигнул ретиарию, давай мол, работаем на публику, пускай свободные граждане повеселятся, глядишь, и пить сегодня будем не на свои... Тот на мгновение скорчил рожу, понятно, чего не понять? — побегать, побегаем, класс покажем, кровишку для жалости пустим, а убивать, нет, не будем, это пусть в столице убивают, да на больших Играх, там и выложимся, а сейчас давай — побежали...
— Эй ты, снулая рыба! — завопил ловец, — Спишь на месте! Иди ко мне, и, клянусь трезубцем Нептуна, я избавлю рыбий род от такого позора!
Крича так, он потрясал собственным трезубцем, и толпа мгновенно оценила шутку, и на бедного глупого мирмиллона, то есть на меня, посыпались насмешки.
Я молчал, всеми силами изображая угрюмого, но очень обидчивого мечника, которому только что наступили на любимую мозоль. Язык у меня подвешен, что надо, но таковы роли и выходить из них ни мне, не насмешнику ретиарию не позволено. Почти обнаженный ретиарий со своей сетью и трезубцем кажется всем этим матронам, весталкам, жирным гражданам, тощим гражданам, жрецам и чиновникам, всем им он кажется совершенно беззащитным. Особенно рядом с закованным в железо мирмиллоном — мной. Они уверены, что мой меч, мои доспехи, мой щит, наконец, дают мне неоспоримое преимущество над ловцом... Все так. Но с точностью наоборот...
— Рыба, рыбешка! — продолжал приплясывать ловец, глазами показывая — чего ты ждешь? Давай, побежали...
Не торопись, я чувствую, когда пауза становиться затянутой, но и недодержать ее нельзя — действие смажется, акцент сместится... Ага, вот-вот... Сейчас!
— Ублюдок! — взревел я голосом, который некоторые сравнивают с криком слона, другие — с воплем раненого льва, третьи... Хорошо сработано, похвалил я сам себя, когда испуганные крики долетели до меня с трибун — теперь женское внимание мне обеспечено...
Но спектакль продолжался.
Я огромными прыжками рванулся к ловцу. Он метнул трезубец мне навстречу, промазал, развернулся и побежал, мелькая босыми пятками. Как ему не жарко? — изумился я про себя, — Песок раскален, а он без сандалий...
Некоторые из наших выходили на арену босыми — чтобы лучше чувствовать опору под ногами, утверждали они, но я не мог себе представить, как это можно ходить голыми ногами по дымящемуся жаром песку и при этом еще и драться...
Ловец преодолел уже половину длины арены, и теперь описывал круг, пытаясь обежать меня и первым добраться до трезубца — трибуны кричали и улюкали, подбадривая его, но сквозь гул я расслышал несколько поощрительных криков и в свой адрес. Сила всегда привлекает. Я представляю на арене силу, ловец — хитрость и ум. Этакая битва Марса и Меркурия! Надо не забыть сравнение, подброшу Арториксу — он у нас остряк, вот пусть и пустит в народ, многие подхватят, глядишь, и Марсом называть начнут...
— У-у-уа-а-а!! — заревел я, рывком кидаясь к воткнувшемуся в землю трезубцу. Ретиарий отпрянул от моего рубящего удара, и, делая вид, что трезубец ему необходим, как младенцу кормящая грудь, закружил вокруг, время от времени осыпая меня нелестными эпитетами и потихоньку приближаясь к месту, где он потерял свою сеть.
Глупый, глупый мирмиллон, — думают сейчас трибуны, — неужели он не видит...
Вижу, граждане, вижу и получше многих из вас. Сейчас ловец схватит свою сеть, и я буду пытаться ему помешать, но не успею — я специально не успею, хотя и сделаю это очень естественно — вам не поймать меня на фальши, как вы не старайтесь, а вы и не будете стараться — вы пришли сюда отдыхать и развлекаться, вот мы вас и развлекаем... Как можем, и как умеем.
Ретиарий схватил свою сеть. Я прыгаю к нему, но не успеваю — совсем чуть-чуть не успеваю, но все же, и попадаю прямиком в сеть, запутываюсь, и с грохотом, слышимом даже в задних рядах цирка, падаю, роняя меч, и кричу на земле, как всем им кажется, от бессильной ярости...
Я продолжаю играть, я вхожу в роль, как нож в подогнанные ножны, и именно за это меня ценит ланиста — не за силу, есть намного сильнее, не за умение владеть оружием — здесь я тоже не самый-самый, и даже не за искренность — я всегда искренен, даже когда утверждаю, что небо если еще не упало, то вот-вот упадет -, нет, не за это... Я играю, и заставляю играть других, я демиург арены, и попавшие со мной в круг действуют так, как представлял я, еще только готовясь обнажить меч, и люди верят, что все это — правда.
Я роняю меч и кричу на земле, как всем им кажется, от бессильной ярости. Ловец бежит к трезубцу, оглядываясь на ходу, и ускоряет бег, увидев, как я страшным усилием пытаюсь разорвать сеть, веревки трещат — они не слишком крепкие, об этом договорено с ланистой, и начинают поддаваться нажиму...
Трибуны замирают — вот она, кульминация, момент величайшего торжества для меня, когда я чувствую, как сердца бьются в унисон с моим, и они — мои, все — мои, и их жизни теперь зависят от каждого моего жеста, слова, телодвижения, взгляда...
Особенно — взгляда.
Отчаянный, яростный взгляд не сломленного, дерущегося до конца, человека, воина, и трибуны прогибаются под его тяжестью, и симпатии теперь на моей стороне — теперь я для них не бывший раб, а ныне гладиатор, нет, теперь я нечто несравнимо большее...
Почти бог.
Да я и сам в этот миг чувствую себя богом...
...Ловец бегом возвращается, держа трезубец правой рукой на весу, подобно метателю копья. Я делаю последнее усилие, и — сеть разорвана, меч — в руке, но ноги все еще стянуты, и я поднимаюсь на одно колено, играя лицом боль, ярость, переходящую в отчаянную решимость и последнее спокойствие воина, для которого безразлично — жить или умереть.
Трезубец бьет меня в грудь, отлетает, отбитый щитом. Но удар настолько силен, что щит разлетается на куски, а мое плечо окрашивается кровью. Ничего страшного, понимаю я, всего несколько неглубоких царапин, но публике этого не понять — она видит кровь, видит гримасу боли на моем лице, и взрывается криками. Успех!
Лицо ретиария... Искаженное боевой яростью, с глубоко посаженными горящими глазами — прекрасно, это не фальшь, это — настоящее. Хорошо!
Новый удар! Я блокирую клинком, про себя браня его идиотскую форму, но что делать — наше оружие и доспехи порою выглядит самым странным образом — таковы условности боя на арене, и не мне их менять. Главное — привлечь публику, остальное приложится.
Еще удар. Я с трудом отбиваю его, пытаюсь встать с колен — сеть не дает. Все они видят раненого, измученного, но все еще могучего бойца — крики не стихают, но теперь кричат не только мне... Добей его! Не дай ему подняться! — это уже ретиарию.
Все, пора заканчивать. — понимаю я, — Публика уже натешилась, будет с нас, пора...
Коротким молниеносным ударом я вышибаю трезубец из рук ловца, и, на возврате клинка, рассекаю ему грудь. С коротким — Хх-а-а! — он отшатывается, запинаясь, падает на песок, и смотрит на меня безумными глазами с побелевшего лица — все, доиграли... Заканчивай!
Еще не все, ловец, еще не все... Осталось еще кое-что, чего никак нельзя упустить...
Я срываю проклятую сеть с ног, делаю два шага по направлению к лежащему ловцу, и ставлю на него ногу — прости, друг, они ждут, что я так сделаю — и, поднимая вверх правую руку с мечом. Взгляд на трибуны — это победа, и не только моя, но и ваша, я знаю, что вы дрались со мной, чувствуя всю мою боль, ярость, ненависть, отчаяние, так почувствуйте как я горд, почувствуйте мою радость, и облегчение оттого, что бой наконец-то кончился, и я могу пойти в казармы, отдохнуть, отмыть грязь, пот и кровь, а затем пойти в кабачок, и выпить полную чару неразбавленного вина, наслаждаясь покоем...
Я оглядел трибуны — и увидел, как все держат руки с поднятым вверх большим пальцем...
Тебе только что даровали жизнь, ловец — ретиарий, и не смотри на рану так — жить ты будешь, это я тебе обещаю; я ж не первый день на арене, могу убить одним незаметным движением, но могу и нанести страшную на вид рану во всю грудь, от которой не пострадает даже ребенок... Тебе я всего лишь срезал полоску кожи — крови на вид — озеро, а вреда никакого...
Верь мне, ловец — я не бросаю слов на ветер!
Ведь я — мирмиллон...
И этим все сказано.
ВРЕМЯ ПРЕДАВАТЬ
— Время.
— Да. Я знаю. Уже иду... Сейчас, — голос казался чужим. Высокий худой человек с седеющими висками, полжизни уже позади, и вот он — час... пришёл. Незваным.
В молодости всё казалось проще. И — легче, что ли... Да, он понимал, что будет страшно, трудно, невыносимо, но так... нелепо, ненужно... Нет, в молодости многое кажется проще.
Тёмный тяжёлый плащ вздымается ждущей шторма волной. Серебряная фибула, не украшение даже... пряжка... дешёвая, в любой лавке за гроши, если поторговаться... за два жалких дирхема.
Он провёл ладонью по полустёртой чеканке. Круг, разделённый пополам ломаной стрелой, привычной шероховатостью отозвался под пальцами...
Всё. Время. Пора.
— Твой последний шанс...
Голос судьи твёрд, как кора столетнего дуба, и сам он такой же. Кряжистый, старый, и пальцы... Корявые корни вросшего в землю великана.
— Мальчишка, — говорит судья, — глупый самонадеянный мальчишка... Он, не ты... Ты — другой. Вор. Предатель. А парня жалко. Виселице всё одно — молод, стар, глуп, виноват, не виноват...
— Отпусти. Его, не меня, — просит он.
Потом опускает голову и смотрит в пол. Долго смотрит.
— Я... сознаюсь. Во всём.
Судья качает огромной седой головой, по-отечески усмехаясь.
— Дурак, — говорит он. — Вор. Предатель. Ты и так сознался... Пацана казнят, вздёрнут — с твоих, между прочим, показаний. А пытка... Что — пытка? Мы её применить-то не успели, такого соловья как ты, надо слушать, не ломая крыльев...
От горячей, словно кипящая смола, правды непереносимо ноет сердце.
— Шанс? Ты говорил — шанс?..
Улыбка на лице судьи — корявая трещина в стволе древнего лесного исполина...
Писарь обмакнул гусиное перо в медную литую чернильницу, хищно нацелился на белый, ни в чём не повинный лист бумаги...
— Так как писать — через "О" или "А"? Или ты не грамотный?
Человек равнодушно пожал плечами.
— Пиши через "А" — не всё ли равно. И так и так неправильно...
— Почему? — очень натурально удивился писарь, став мгновенно похож на настороженного селезня, у которого дворовый мальчишка вот-вот выдернет из хвоста жемчужное перо.
— Меня зовут Селим.
— Ну и?.. — вскинул брови писарь.
— Ничего, — сказал он. — Не отвлекайтесь, господин надворный писарь, я так... размышляю. Вслух.
Герцог. Высокий, поджарый, наполовину седой, похожий на степного орла хищной повадкой.
Он. Собеседник Герцога. Ниже на полголовы, но в кости шире, скрытые тёмным плащом плечи выдают немалую силу.
Покой.
В отливающих зеленью канделябрах тускло горят фитили, бросая тревожные, рваные тени на лица собеседников. Заполночь. Сквозняки. Кутающийся в тёплую шерстяную накидку Герцог. Замерший в немой неподвижности, словно бы не чувствующий холода другой. На плече его — серебряная фибула, круг, разделённый надвое ломаной стрелой.
— И так, — говорит Герцог. Глаза его мерцают тем же зелёным огнём, что и медь канделябров. Тонкие губы цедят слова.
— И так, — говорит Герцог. — Вас зовут Салим Кандидо.
— Да.
— Это настоящее имя?
— Теперь — да.
— И вы хотите служить мне.
Герцог не спрашивает. Герцог утверждает.
— Почему? — а вот это вопрос.
— Мне нужен сильный господин. Сейчас самый сильный — Вы.
Герцог задумывается. Ненадолго, удара на три сердца.
— Хорошо. Но откуда я знаю, что ты мне не изменишь?
— Моё слово. Я буду верен вам до конца ваших дней.
— Но откуда я знаю, что ты сдержишь слово?
Теперь молчит собеседник.
— Вы — не знаете, — говорит он, наконец. — Но кто не рискует, тот...
Губы Герцога искривляются в жесткую полуулыбку...
— А всё будет очень просто, — говорит судья. — Однажды приду я, или тот, кто меня заменит, и скажет: время предавать. И ты — предашь.
— Почему?
— Потому что предавать — твой талант. Твой единственный неповторимый талант.
Он в тёмном плаще, разрываемом ветром. Под ногами — помост ратуши, впереди, насколько простирается площадь, море голов. Чернь вышла на улицы, требуя хлеба и зрелищ, вина и женщин. Крови господ и золота богатеев.
— Что вы хотите? — голос его разносится над площадью, как часом раньше — звук набата. Толпа взрывается криками.
— Стоп, — он поднимает руку. — Мне нужен человек. Человек, говорящий с вашего голоса и вашими словами. Один. Тогда я его выслушаю.
Толпа вздымается шумной волной, набегает на ворота ратуши, откатывается, снова набегает, и выталкивает из своих недр рослого темноволосого человека в одежде подмастерья.
— Это наш Голос! — вопит толпа. — Он говорит за нас!
Они стоят напротив друг друга: он, рослый, плечистый, в дорогом тёмном плаще с серебряной фибулой на плече, и Голос, не менее плечистый и рослый, одежды его просты, но если поставить их рядом, плечом к плечу — братья, не иначе, разлучённые ещё в детстве, но сохранившие фамильное сходство, несмотря на десятки прожитых раздельно лет.
— Здравствуй, Голос, — негромко говорит он.
— Здравствуй и ты, господин, — откликается Голос. — Говорить будем, иль сразу меня на дыбу — чтобы не терять время попусту?
— Сначала поговорим, — он улыбается, чем вызывает удивлённые взгляды свиты. Его не привыкли видеть таким. Его привыкли видеть мрачным, как сама смерть.
Ещё больше свита удивляется, когда он приказывает им удалиться.
— Давай, Голос. Я тебя слушаю...
— Ты предашь единственный раз, но этого раза должно хватить за глаза, — иногда судья говорит загадками. — Но чтобы предать, ты должен стать самым верным, самым честным.
— Но как?
— Любое данное тобой слово — станет камнем. Чтобы никто и ничто не заставило тебя его нарушить. Ты должен стать идеалом чести, идеалом добродетели. И неважно — кому дано слово, простолюдину или нищему, герцогу или придорожному дереву. Ты одинаково отвечаешь перед всеми.
— По рукам? — говорит он. Чем-то ему нравится этот Голос, этот простолюдин — как ни странно, именно таким он хотел бы видеть своего младшего брата, когда тот вырастет. Если вырастет...
— Ты даёшь слово? — спрашивает Голос. — Даёшь слово простолюдину? Ты — господин над господами, белая кость?
— Даю. А я не бросаю слов на ветер...
Герцог разъярённым вихрем врывается в покой, расшвыривая караул из городской стражи. И — останавливается перед ним, словно налетев на невидимую стену.
Он внешне совершенно спокоен, орлиный взгляд герцога — сверху вниз, на букашку, посмевшую иметь собственное мнение — его нисколько не беспокоит. Он молча ждёт.
— Ты! — кричит Герцог, его голос сдавлен от ярости. — Ты! Посмел ослушаться моего приказа?! Где Голос? Почему бунтовщики ещё не на плахе, почему я не слышу предсмертных криков?
— Я дал слово.
— Ты?! Я — твой господин! Моим приказам ты должен был следовать!
— Я — дворянин. Я дал слово. И пока я жив — крови в городе не будет.
Герцог весь кипит. Но пытается успокоиться.
— Подумай! Хорошенько подумай. Я — твой господин и я не хочу тебя потерять. Слово, данное простолюдину — ничто. Дворянин должен держать слово, только данное такому же дворянину!
— Моё слово — моя честь.
— Я твоя честь! — кричит герцог, брызжа слюной. — Беру твой грех на себя. Иди и убей бунтовщиков, сожги их дома... Если не можешь сам, скажи мне их имена — я пошлю кого-нибудь другого!
— Нет.
— Это твоё последнее слово? — глаза герцога опасно сверкают.
— Да.
— Стража! — кричит герцог. — Под замок его! В самый крысиный угол! Быстрее, пока я не убил его собственными руками!
— Сперва это станет привычкой, — говорит судья. — Потом это войдёт в твою плоть и кровь, станет частью тебя.
— Вряд ли, — качает головой он. — Я слишком хорошо умею притворяться.
— А мне не нужно, чтобы ты притворялся. Мне нужно, чтобы ты сам верил в свою добродетель. Гордился собственной честью... Потому что притворство, даже самое искусное — всё-таки остаётся притворством. А фальшь люди рано или поздно замечают...
Сырой подвал, полный крыс и неясных, прячущихся по углам теней. Через узенькое оконце под самым потолком пробивается одинокий лучик света, косо падает на дверь.
Он прикован к стене. Толстая ржавая цепь начинается на его лодыжке, другим концом уходит в камень. Глубоко. Спокойно.
Поесть приносят трижды в день. Еда плохая, но герцог не приказывал морить узника голодом, поэтому еды много. И полный кувшин горьковатой воды. Он регулярно моет руки, лицо и шею, не давая себе зарасти грязью. Идёт второй месяц его заключения. Герцог до сих пор не сменил гнев на милость, а на ежедневные предложения выдать бунтовщиков он отвечает одинаково: нет. Я дал слово.
Со скрипом отворяется дверь — пришёл тюремщик. Он привык уже не обращать внимания на его ежедневную возню: принести еду и воду, сменить парашу, сменить солому в тюфяке. Но сегодня тюремщик ведёт себя как-то необычно. Он ходит вокруг узника кругами, изредка пытаясь заглянуть в лицо. Собственный же лик тюремщик прячет в складках капюшона, и он никак не может его узнать.
— Ролли? Вэйд? — спрашивает он задумчиво.
— Не узнали, господин? — звучит знакомый голос, тюремщик распрямляется во весь рост, сутулость исчезает...
— Голос? Ты? Здесь?!
— Да, господин. Вы умеете держать слово! Ни один из наших не был схвачен или казнён, ни одно из наших условий не было нарушено.
— А герцог? — удивляется он. — Разве герцог..?
— Он пытался. Он очень пытался. Но солдаты совершенно бездарно исполняют его приказы, в казармах говорят, что когда вы выйдете, ни один из нарушивших ваши указания не доживёт до следующей весны... А вам они верят.
— Хорошо. Я рад это слышать. Но что здесь делаешь ты?
— Я пришёл за вами!
— За мной? Зачем?
— Поговаривают, что герцог скоро прикажет вас казнить. Мы хотим помочь вам, с нами бургомистр и... ещё несколько влиятельных людей.
— Но куда я пойду? Кому я нужен?
— Нам. Всем нам. Честные люди так редки, что ценятся на вес золота. Вас приглашает к себе князь... без всяких условий. Он обещает вам защиту и покровительство.
— Я дал слово.
— Что? Какое слово? Герцогу?!
— Я поклялся служить ему верой и правдой.
— Вас же казнят!
— Я дал слово.
— Вы что — не понимаете? Герцог предал вас, отдал в залог вашу честь за наши жизни.
— Вы же живы?
— Только потому, что вы такой осёл! Если бы не ваше упрямство...
— Если бы не моё упрямство, я бы не сидел здесь, вы были бы мертвы, и не пришли сегодня ко мне. Я рад, что я честный человек. Действительно рад...
— Чёрт! Да вы... осёл, упрямый осёл!
— Меня рано оплакивать. И я не стою ваших сожалений — не такой уж я хороший человек, как вам кажется...
Его вывели из темницы, помогли помыться, постригли и одели. Из прежней одежды он попросил оставить только старую серебряную фибулу — круг, разделённый пополам ломаной стрелой. Модельер герцога поморщился при виде такой безвкусицы, но ничего не сказал. Через два часа, посвежевший и помолодевший, но по-прежнему бледный, как смерть, он предстал пред очами герцога.
— Прости, — сказал герцог, подходя ближе.
Он с достоинством поклонился. Плащ взметнулся тяжелой морской волной, облапив тело. Рукоять меча в золочёных ножнах привычно легла под ладонь.
— Мой господин? — вежливо осведомился он. В тоне, каким были сказаны эти слова, проскользнул изрядный холодок.
— Прости меня, Салим. Я был не прав, — герцог был настоящим властелином и, как всякий властелин, очень не любил признавать собственные ошибки.
— Вы были правы, мой господин. Вам не за что извиняться.
— Молчи! — вскипел герцог. — Если я говорю, что был не прав — значит, я был не прав. Понял?
— Как прикажете, господин, — снова склонился в поклоне он. — Вы были не правы. Вы совершили ошибку.
— О, боже... — вздохнул герцог. — Какой ты к чёрту слуга!
— Я... — начал было он.
— Молчи, — герцог выставил перед собой ладонь. — Лучше молчи, пока мы снова не поссорились!
— Тебе будет тяжело, настолько тяжело, что многие на твоём месте предпочли бы смерть, — судья сжимает огромные ладони, в узловатых пальцах хрустит перо, с треском ломается. От резкого звука собеседник вздрагивает. — Но у тебя нет выбора.
— Я знаю.
— Может быть — знаешь, но понимаешь ли... Поймёшь. Не сейчас так завтра, не завтра, так через год. Или через полвека — мне всё равно. Но поймёшь обязательно.
Он, по-прежнему сильный и крепкий, волосы едва тронула лёгкая седина, глаза молоды, тёмный плащ с серебряной фибулой на плече. Круг, разделённый пополам ломаной стрелой.
Герцог. Обессиленный болезнью властелин, правая сторона тела парализована, бледное лицо, спутанные жидкие волосы падают на потный лоб. Смятое ложе больного.
Факела. Яркие блики мечутся по покоям, словно страдающие лихорадкой. Душный больной воздух.
— Мой господин?
— Подойди. Я просил, чтобы меня оставили одного, дали спокойно умереть, но теперь даже слуги не в моей власти. Один ты...
— Господин?
— Садись. Я хочу попросить тебя... Нет-нет! Сначала: ты всё ещё верен мне?
Тяжёлый взгляд.
— Вы бредите?
— Нет, чёрт возьми!.. Ты единственный, кому я могу доверять. Прости, что усомнился.
— Я никогда не отказываюсь от своих слов.
— Да, я знаю. Но всё же... Мне так спокойнее. Мне так... легче, что ли? Пока есть ты — мир не рухнет.
А теперь слушай. Моя последняя воля: наследником я назначаю своего сына.
— Да, господин. Которого?
— Младшего.
— Но... как же Вальмир?
— Не знаю и не хочу знать. Пусть всё достанется Карлу. Ты понял?
— Да. Ваш наследник — Карл.
— И ещё...
— Да?
— Я хочу, чтобы ты поклялся так же служить ему, как служил мне.
Долгое, невыносимо долгое молчание.
— Но...
— Пожалуйста, Салим! Без тебя он — труп, Вальмир сделает его как щенка...
— Я не хочу, господин. Мой долг...
— Твой долг — служить мне! — полузабытая властность молнией пронзает сумрак.
Молчание.
— Да, господин.
— Пожалуйста, Салим! Мы не были друзьями, никогда не были, но я всегда уважал тебя...
— Как и я вас.
— Салим!
— Хорошо, мой господин... Я даю слово служить Карлу, как служил вам. Но мне не нравится ваше решение.
— Узнаю старого доброго Салима. — Герцог натужно смеётся. Смех переходит в сухой, рвущий внутренности кашель.
— Вам нужно отдохнуть, — он накрывает его одеялом и идёт к двери. — Я передам ваше завещание.
— Салим?
Он оборачивается:
— Да, мой господин?
— Поздравляю! Теперь ты регент.
— Прости, Вальмир, но я дал слово.
Двадцатилетний брюнет с бледной кожей и тонкими артистическими пальцами. Некрасивый, но умеет нравиться, тщедушный, но в слабом теле живёт стальная воля.
Старший сын герцога.
Нелюбимый.
Лишённый наследства и надежды на будущее.
— Я надеялся на тебя, — горько роняет Вальмир. — Герцог слеп... в последний свой час он также слеп, как и раньше. Говорят, перед смертью люди становятся мудрее... Но не он!
— Вальмир... — он замолкает. Сказать нечего.
— Карл слаб.
— Я знаю.
— Слабая воля и хорошие мозги. Наихудшее сочетание для правителя... Уж лучше бы он был глуп!
— Ты несправедлив, — тихо говорит он.
Вальмир запрокидывает голову и смеется. Сухо и безрадостно.
— Зато ты справедлив, светоч добродетели! — кривятся в усмешке губы. — Подумай, Салим! Что будет, когда мой брат поймет, что жизнь герцога — отнюдь не то, о чем он всегда мечтал?
— Он выдержит.
— Конечно, выдержит! В нем кровь моего отца, а это кое-что значит... Но тебя... тебя он будет ненавидеть всю жизнь. Впрочем, я тоже...
— Вальмир...
— Что дальше, дорогой регент? Меня отравят, зарежут или по-семейному придушат подушкой?
— Изгнание.
— Ах, да, ты же честный человек! Ты веришь в слово!
— Поклянись, что забудешь о существовании герцогства... и я лично переправлю тебя через границу.
— Великолепно! А что будет, если я нарушу слово?
Тяжелый взгляд.
— Ты знаешь.
Вальмир мгновенно теряет свою лихорадочную энергию, стоит, осунувшись и постарев лицом.
— Знаю. Самое поганое, что я все прекрасно знаю...
— Я вор. Лжец. Я обманул больше людей, чем знаю по имени. Разве я могу стать другим? Стать честным?
— Хороший вопрос, — судья усмехается. — Нет, правда! Самый храбрый человек, которого я знал, был отчаянным трусом. Страх. Ужас. И злость... конечно, злость. Он жил в таком страхе, что бросался в бой очертя голову. И плевать хотел на число врагов...
— Разве это — храбрость?
— В своем роде — да, храбрость. Храбрость отчаяния.
— Я много слышал о Вас, Салим.
Салим смотрит на дородного человека, облаченного в золото и темный бархат, красный плащ облегает могучие плечи — хотя князь стар... старше герцога? Пожалуй. Но герцог мертв, в этих же темных глазах бурлит такая жизнь...
— Ваша Светлость?
— Вы — человек чести. Старый герцог поступил мудро, назначив вас регентом. Оч-чень мудро, — князь усмехается, приглаживает усы. — Могу я говорить откровенно?
— Как вы ранее выразились, Ваша Светлость, я — человек чести.
— Верно. Скажите мне, Салим, как человек чести... человеку достаточно бесчестному, чтобы быть князем уже пятьдесят лет кряду... Почему герцогом стал Карл, а не Вальмир?
— Так решил старый герцог. Не нам его судить.
— Почему? Вы умный человек, я, надеюсь, не глупее...
— Мой герцог — Карл.
— А мой правнук вчера впервые проехал верхом! Не увиливайте, Салим. Впрочем, можете промолчать... Я прекрасно знаю, что вы желали видеть на престоле старшего, а не младшего. Карл же стал герцогом только потому, что вы пошли на поводу свихнувшего от любви отца!
Молчание. В камине пылает огонь, теплый отсвет ложится на лицо князя... Со лба сбегает янтарная капля.
— Мои войска наготове. Известие о смерти герцога, один из его сыновей... солдатам нужно знамя, как вы понимаете... и — все.
— Вторжение. Я предполагал нечто подобное.
— А знаете, почему вторжения не будет?
— Вальмир отказался.
— И это знаете? Не поверите, он сказал мне при встрече...
— «Я дал слово». Так?
— Он точно не ваш сын? — невинно интересуется князь. Поднимает руки; на широченных ладонях — застарелые мозоли. — Шучу, шучу...
— И все же основная причина в другом, — князь прищуривается. — Впервые я не боюсь удара в спину. Иметь в союзниках честного человека — такое случается нечасто... Уж поверьте старому интригану.
— Карл вам не союзник.
— Зачем же дело стало? Вы постараетесь его убедить, не так ли?
— Возможно.
— Не скромничайте. Да, как союзник союзнику... Вальмир отказался взять моих солдат, это правда. Однако полным ходом идет набор добровольцев. Он создает собственную армию. Догадываетесь, зачем?
— Думаю, скоро мы обо всем узнаем...
Псовая охота.
Он ощущал себя беглецом, по следу которого идет свора. За последние дни чувство это усилилось до жути, спину сводило в ожидании слюнявой оскаленной пасти...
Лай. Ему мерещился лай.
— Плохие новости, мой господин.
Голос. Стертый, усталый; за пеленой весеннего дождя слышен брех гончих. Мутными пятнами проступают деревья...
— ...плохие, мой господин. Брат герцога нашего, Вальмир...
Тусклыми наконечниками казенных копий бьют в небо ели. Серые ели...
— ...Вальмир, вторгся в пределы баронства...
Голубизна неба — обман. Небо обретает цвет...
— ...имея войско из ста рыцарей и полутора тысяч пехотинцев...
Но почему этот цвет — серый?
— ...пехотинцев. Два дня назад случилась битва. Вальмир...
Лист... резной кленовый лист — цвета пыли?
— ...Вальмир убит. Да пребудет душа его в мире.
«Знаю. Самое поганое, что я все прекрасно знаю...»
«Он точно не ваш сын?»
Точно.
Двое.
Князь. Снежной белизны седина, как бывает у очень старых людей. Могучие руки лежат на подлокотниках кресла, словно удавы, готовые к броску... Тревожный прищур глаз.
— Говорят, вы ослепли, Салим?
Он. Лицом — старше князя, глазами — древнее бога; горькая складка губ. Плечи также широки, как и раньше, но в осанке появилась странная сутулость.
— Ваша Светлость. Ваш плащ... какого он цвета?
Князь растерянно оглядывает себя.
— Кра... малиновый.
— Серый, — князь в изумлении вскидывает взгляд. — Для меня. Я начал забывать, что существуют и другие цвета, кроме серого...
— Вы опять ничего не ели?
Он равнодушно пожимает плечами. Рослая круглолицая женщина неодобрительно качает головой, всплескивает руками:
— Даже настой ромашки не выпили! А я-то надеялась, что князь на вас повлияет... Он ведь мужчина хоть куда — старый, да крепкий. Поел за двоих, выпил за пятерых, а по пути вниз у меня ватрушку стянул... А ну! Пейте. Пейте, кому говорю!
Он берет в руки кубок, отхлебывает. С трудом глотает.
— Остыло, — виновато улыбается.
— Сейчас согрею, — оттаивает Мария. Изымает из рук хозяина кубок. — Чур, уговор: выпить все! Иначе ноги моей больше в этом доме не будет!
...Звон металла.
— Мария? — он открывает глаза. — Что за грохот? Это на улице?
Тишина.
— Мария?
— Здесь я, здесь! — доносится снизу. — Говорила же, когда-нибудь эта полка оборвется... Все кастрюли попадали!
Голос странно напряжен.
Крик.
Он хватает перевязь с мечом, прыгает через ступеньки... сбегает вниз. Женщина. Незнакомая. Нет, Мария! Взъерошенная, словно наседка, что защищает цыплят, позади нее — входная дверь...
— Не пущу! — кричит кухарка, безобразно распластавшись в проеме. С улицы — звон железа и вопли ярости. Убивают... Кого? Князя!
— С дороги, дура! — он выхватывает меч из ножен, отбрасывает не нужную более перевязь. — С дороги!
— НЕ ПУЩУ-У-У!
Хрупкий излом бровей.
Тонкое запястье.
Немыслимого изящества движения.
Он смотрит, как волосы падают ей на лоб, видит морщинку меж бровей... Видит, как бьется в виске жилка.
«Интересно, какого цвета ее глаза?»
— Что вам нужно? — говорит она. В голосе усталость и... гнев.
Он вздрагивает.
— Мне? — пробует слово на вкус. — Нужно?
— Да! — почти крик.
— Вы. Ваш будущий ребенок.
Она вскакивает.
— Нет!
— Да. Если ребенок Вальмира... как сказал князь...
— Предатель!
Это оказалось неожиданно болезненным.
— Истеричка.
— Не смейте меня оскорблять! — кричит она, бросается вперед, хватает подсвечник... хватает пустоту. Растерянно оглядывается.
Салим взвешивает подсвечник в ладони.
— Все? — спрашивает он.
— Вы... вы...
— Прошу вас, сядьте. Прекрасно разыграно, но...
Она замирает.
— Но мало практики. В следующий раз не надо смотреть на меня так прицельно. И на подсвечник — не надо...
«Золотистые».
«В темном ободке».
Жаль, что я не различаю цвета...
...Снова приходила та женщина.
— Глупо, — он сжимает подлокотники кресла, мнет пальцами бархатную обивку. Руки словно чужие, стремятся вперед и... к ней. В ладонях — биение сердца. Зуд.
— Глупо? — в голосе — явное раздражение. Вот только он не может понять — отчего.
— Мария была моей кухаркой... Однажды что-то случилось, и ее преданность стала... не совсем преданностью.
Она встает, проходит мимо.
Салим с трудом сдерживает себя. Всем существом рвется к ней, обнять, но...
— Она влюбилась в вас? — звук ее голоса. — Нашла в кого!
— Я и говорю: глупо, — он становится противен сам себе. Циник.
— Дура, дура, дура! Она просила передать...
Елена не находит себе места. Мечется из угла в угол.
— Что именно? — он начинает подниматься. — Что она просила?
— А вы не знаете?!
— Нет.
Елена останавливается, поворачивает к нему разгоряченное лицо. Блеск глаз...
— Она любит вас! Дура, дура, дура!
— Не надо, — говорит он. Елена делает шаг и толкает его. Падая в кресло, Салим с удивлением понимает, что вместе с ним падает и она, а его руки... ее губы...
Сад. Придавленные свинцовым небом яблони, тяжелая листва темно-серого оттенка, скамьи, занятые скучающими горожанами. Пустота в глазах людей. Усталость.
Из-под ветвей навстречу Салиму выходит человек.
— Господин, — склоняет голову он.
— Здравствуй, Голос. Какими судьбами? Я думал, ты в княжестве...
Голос печально улыбается.
— Нет, господин. После смерти князя там некому предложить свою верность. Наследников одолевает жадность, не удивлюсь, если в скором времени княжество запылает огнем.
Салим молчит.
— Вы знаете, кто убил князя?
— Хочу ли я знать... как думаешь? — предчувствие ознобом отзывается в затылке. — Хочу.
— Вы искали, я знаю, — говорит Голос. — Но искали — не там.
— Что значит, не там?
— Вы искали среди врагов князя... но убийца ненавидел не князя, а вас. Именно вас. Слепо и разрушительно.
Ноющий затылок. Понимание.
«Не верю, не хочу верить».
— Боже, как я был глуп... как мог не заметить...
— Все мы совершаем ошибки.
— Это плохое оправдание, — Салим трет бровь, надавив так, что белеют кончики пальцев.
— Почему?
— Потому что оправдывает все.
— Салим! Опаздываешь! — мальчишеские губы кривятся в улыбке, которую тот, скорее всего, считает надменной. Салим же видит в ней и боль, и затаенный страх.
Нож серой стали. Дрожащее лезвие отплясывает в двух дюймах от горла Елены.
— Карл, — начинает Салим. Замолкает. Глаза Елены — мой, ты мой, ты спасешь, ты можешь, ты все можешь...
— Любезный регент, — насмешливо вторит молодой герцог. Руки дрожат, а вот голос — нет. — Дорогой и незаменимый. И, как ни странно, честный. Оплот. Чье слово камень, чья жизнь... Ты и меня предашь?
Глаза Елены. Ты — мой.
Я — твой, шепчет он и делает шаг вперед.
— Стой! — голос уже не слушается Карла. — Или она умрет!
— Карл, остановись. Ты совершаешь ошибку.
— Нет, это ты совершаешь ошибку! Салим как там тебя... Селим... Я все знаю о тебе!
— Карл!
— Для тебя я герцог!
— Да, мой господин.
— Салим, Салим... — жуткая улыбка. — Я ведь верил тебе. Мой брат верил, мой отец верил, твой любимый князь — черт его возьми — тоже верил!
— Поэтому ты убил его?
— Знаешь? А знаешь ли, Салим, что значит быть слабым? Когда родной брат считает тебя тряпкой?!
— Неправда! — крикнула Елена, рванулась. — Вальмир не мог...
Кончик лезвия ткнулся ей под подбородок, отпрянул. Вдогонку понеслись капли. Темные, почти черные...
Мир словно взорвался.
— Знаешь ли ты, как это — все понимать, и идти наперекор себе? По десять раз менять решение, с ужасом ожидая, кто следующий придет тебя убеждать — и ведь убедит! Чувствовать бессилие и ненавидеть себя? Понимать, что твои слова — не больше, чем пустой звук, а окончательное решение все равно за другим?
То, что я узнал, на многое открыло мне глаза! Отъявленный лжец и предатель становится воплощением чести? Что ж... я тоже могу. Стать сильным? Почему бы и нет?
Карл в упор смотрит на Салима. Глаза горят странной, нечеловеческой решимостью.
— Однажды я сказал себе — больше я не буду отступать. Никогда. Моя сила, Салим, стоит твоей чести...
Капли... красные капли, бледная кожа с каплями пота, запятнанная рубашка. Синева стали.
Салим делает шаг вперед.
— Мой гос... отпусти ее, Карл.
А глаза Елены светло-золотистые, словно свежий мед. Ты — мой.
— Кто она тебе, Салим? Скажи, я знаю, ты не можешь лгать — я вот хочу отступить и — не могу.
— Карл...
— Похоже, мне придется убить ее, Салим, и попытаться убить тебя. Кто она?
— Елена носит ребенка твоего брата.
Карл смеется. Надрывно и страшно.
— Салим, Салим... Если уж я узнал правду о тебе, неужели ее судьба осталась для меня тайной? Вопрос в другом: кто она ТЕБЕ?
Вопрос в глазах Елены.
— Ты знаешь.
— Черт возьми, — Карл устало опускает плечи. — Знаю. Как я тебе завидую, Салим, кто бы...
Герцог внезапно выгибается дугой, глаза стекленеют, руки теряют оружие... Вскрикивает Елена, отскакивает в сторону. Окровавленная рубашка.
Карл беззвучно валится вперед. В спине — загнанный по рукоять стилет. Позади герцога — рослая и широкоплечая фигура.
Салим прыгает и ловит Елену у самого пола.
— Я его по-нашему, по-простому, — говорит Голос, наклоняясь и выдергивая нож из тела. — В печень. И кричать не может, и руками дергать... Вот так.
Сад. Взметаются в небо яблони, зеленой волной накрывая скамьи, горожан, сидящих на скамьях, стайки детей, играющих в прятки — солнце над всем этим и июльская дневная неспешность. Зной.
— Вы с ним очень похожи. Ты и Вальмир. — звук ее голоса утоляет жажду лучше, чем родниковая вода. — Та же честь, несгибаемое достоинство, то же упрямство...
Смешок. Салим чувствует, как нежные пальцы перебирают его волосы, теребят ухо, проводят по виску.
— У-у... Медвежонок наш совсем седой!
— Я не медвежонок, — с притворной обидой говорит он. — И не седой. Я светло-русый.
Елена смеется, дергает его за ухо.
— Ага! Упрямый, — она вздыхает, пристраивается у него на плече. — Оба вы упрямые. Скажи, он всегда был такой?
— Упрямый? Всегда.
— Да нет же! Ты никогда не чувствовал в нем... некую хрупкость?
Он задумывается.
— Нет... и да. Но это не было слабостью.
Мимо пробегают двое пацанов, крича и размахивая руками. Охрана — неприметные молодцы в серых плащах — провожает их взглядами.
— Глупые вы, мужчины. Все меряете с петушиного насеста. Сильный, слабый... Не это главное. Хрупкость — это когда человека не может сломать никто, кроме него самого... Что с тобой?
Усилием воли он разжимает ладонь, отпускает фибулу. На ладони — четкий отпечаток: круг с ясно различимой ломаной линией посередине. С одной стороны линия заканчивается подобием острия...
— Первое слово дороже второго! — звучит вдалеке детский голос.
— Салим? Что это?
— Память о брате. Мертвом брате.
— Судья просит у вас аудиенции.
— Какой судья?
Корявые корни вросшего в землю исполина...
— Молодой.
— Ты сделаешь так, как мы договорились, — взгляд судьи впивается в него, словно нож в тело жертвы. — Тогда твой брат будет жить. Я воспитаю его честным человеком... Или не я. Но он будет жить. Остальное зависит от судьбы. Над ней я не властен.
— Все к лучшему, — размышляет он вслух. Покой, отливающие медью канделябры, сквозняки, уютные, словно старые сапоги. Дрожащие отсветы.
— Все к лучшему. Время. Он сказал: время. И был противен сам себе. Ты хорошо воспитал моего брата, старый судья... За тебя! — он поднимает кубок. — За тебя, братишка! За тебя, старый герцог — пусть ад будет к тебе помягче. За тебя, князь — надеюсь, твоему княжеству достанется хороший правитель... За тебя, Вальмир — твой сын станет герцогом, ты знаешь? И за тебя, Карл, — Салим смотрит в потолок. — Надеюсь, ты все же там...
Через пару часов в дверь постучит слуга...
«Знаю. Самое поганое, что я все прекрасно знаю».
Хрупкость — это когда человека не может сломать никто, кроме него самого...
Но иногда и он сам — не может.
ХМУРОЕ СТЕКЛО
Вперед! руби! коли! Упали... Плеснуло поле мертвецами -
Кровавой изморозью стали, осколком хмурого стекла.
Развёрнутые знамёна, барабанный бой, звенящий глас металла — боевые рожки швейцарской пехоты. В бой идут ветераны, гордость армии — её кровь и плоть, облачённая в одинаковые коричневые камзолы, чёрные кожаные башмаки, коричневые чулки до колен, начищенные, полыхающие солнцем гребенчатые шлемы. Тысяча сто пик, триста пятьдесят аркебуз, колесцовых и фитильных, полторы тысячи коротких пехотных палашей... Идеально ровный строй, чёткий шаг — и вдруг всё взрывается воем, грохотом орудий. Летят клочья, падают люди. Полки — идут. Держать строй! Ать-два, левой! Ать-два, левой! Левой, левой, левой!
Дым стелется над полем...
Люди — словно диковинная коричневая трава, странно ровная и странно плотная — поле, на котором расцветают огненно-жёлтые тюльпаны. Там, где распускается очередной цветок, трава чернеет и съёживается, чтобы через мгновение плотно сомкнуться, хороня под собой проплешину. Кажется, трава олицетворяет собой вечность...
Левой, левой, левой!
Держать строй!
Левой!
Стой!
Первая линия, вторая линия, третья линия! Р-раз!
Аркебузу с плеча... приклад в землю, руку к бедру...
Два!
Шомпол в ствол, вверх-вниз... на четыре счёта: раз-два-три-четыре...
Три!
Теперь порох... пыж пошёл... шомполом раз-два... Быстрее, быстрее... мы успеем, должны успеть, мы — лучшие... мы — Коричневые Камзолы...
Четыре!
Пулю из-за щеки — в ствол, шомполом раз-два... и не думать, не смотреть, не помнить, что точно такая же линия в пятидесяти шагах от нас... точно также — на счёт — кладёт пулю в ствол... Руки дрожат.
Пять!
Ключ — в замок. На пять оборотов... Раз-два-три... пять... насыпать порох на полку... Пороховница в руках выписывает зигзаги... чёрные крупинки летят на землю... падают, падают, падают...
Все. Наконец-то. Можно стрелять.
Шесть!
Первая линия опускается на колено, вторая поднимает ружья, третья готовится...
Целимся... ах, дьявол...
Гремит залп.
В упор.
По нам.
Ах, дьявол... падаю. Валюсь лицом в растоптанную зелень. Перед глазами — распрямляется смятая травинка, ах, какая упрямая травинка... чёрные крупинки пороха. Жар в груди. Аркебуза... Где моя аркебуза?
Мама!
Падаю, падаю, падаю...
Третий ряд просачивается сквозь два первых, выстраивается в линию. За ним — четвёртый; выбегает вперёд, опускается на колено. Звучат команды.
Целься!
Огонь!
Ряды солдат окутываются дымом, аркебузы дружно выплёвывают огонь и смерть. Ровный строй жёлтых камзолов ломается, на землю валятся раненые и убитые; в рядах противника движение — на смену погибшим спешат солдаты из резерва, подбирают ружья. Миг — и уже жёлтый строй окутывается клубами дыма, и уже коричневые камзолы спешат на смену павшим товарищам.
Шаг. Всё ближе.
Держать строй!
Сплошной ряд камзолов. С тридцати шагов трудно промазать в такую мишень. С пятнадцати — практически невозможно.
Стрелять. В упор. Глядя в ненавидящие, озверевшие глаза, прямо в чёрное око аркебузы. Стрелять в глаза собственной смерти. Целься! Огонь!
Падают люди...
Шаг, выстрел. Шаг, выстрел. Шаг...
Рукопашная.
Наконец-то.
...Латники прошибают конскими телами левый фланг желтых камзолов, опрокидывают пехоту. Иглы палашей окрашиваются алым. Вперёд!
Камзолы бегут. Латники догоняют и рубят; под копытами лошадей трещат дешевые пики и дорогие аркебузы. Валятся тела. Крики. Стоны. Вопли.
Во главе конного строя мчится на чёрном жеребце юноша в белой рубахе. Ветер рвёт кружева, треплет непослушные русые кудри. В глазах горит бешеный огонь. В руке юноша сжимает лёгкую шпагу с узорчатым эфесом, с длинным прямым клинком, витой шнур — синий с золотом — запачкан кровью.
На пути конного вала встаёт, ощерившись пиками, желтокамзольный строй...
Против лошадей, пику — опустить!
Пики.
— Ждать, — голос подобен океану — спокоен и глубок, за спиной — полсотни латников личной охраны герцога, пистолеты заряжены, замки заведены…
Ждать.
На гребнях рокантонов полыхает солнце… стекает по металлу, плещет в глаза…
…Глупый мальчишка… Достаточно видеть спину герцога… даже не лицо… лица не видно — спина, она очень старается не дать слабины, стать камнем… Что будет, если герцог внезапно повернётся и взглянет в глаза верному лейтенанту? Потерянно и жалко… конечно, будет гнев… но тоже — потерянный и жалкий. Трогель, скажет герцог… Трогель… И тогда ничего не останется, как взять стоящих за спиной…
Солнце. Пыльный беззвучный пейзаж перед глазами… кони, люди…
Говорят, батистовая рубаха совершенно не держит удар — ни палашом, ни пикой…
Ни пулей.
Якоб Трогель
швейцарец, 32 года, лейтенант,
командир личной охраны герцога Орсини
Я не люблю опаздывать.
— Трогель, — сказал герцог, синий камзол потемнел между лопатками, — Трогель...
Обернись, мысленно попросил я, пожалуйста, Джерардо... чтобы в твоих глазах я увидел гнев, ярость, безумие... что угодно! Кроме надлома, звучащего в голосе.
Джерардо!
Пятно пота на синей спине...
— Марш! — скомандовал я, стервенея. Конь почувствовал мое настроение, рывком выметнулся вперед...
— Я сам поведу, — внезапно сказал герцог, поднял руку в коричневой охотничьей перчатке. Я натянул повод, останавливая жеребца...
— Сам.
Он не обернулся.
...Второй день у меня левый глаз мокрый, а люди думают, что лейтенант Трогель плачет. Контузия, будь она проклята! Левое ухо до сих пор не слышит, в глазах время от времени темнеет — чертов пушкарь! — ядро превратило в кровавые брызги гнедого... Меня же словно великанская рука взяла за шкирку, вынула из седла и от души шмякнула в землю. Щека дергается...
Голова болит.
Лейтенант плачет.
... — Ты пришел утешать меня. Не правда ли, Якоб?
Сильная женщина. Дочь графа ди Попони, стройная черноволосая красавица с карими глазами — Анжелика Орсини, герцогиня... Мать Антонио, глупого и мертвого мальчишки. Как холодно бывает в этих дворцах...
В штольне — и то теплее.
— Знаю, ты хочешь мне помочь...
— Да, — сказал я, чувствуя себя колодой для рубки дров... Громоздкой и упрямой, как только может быть упрям итальянский дуб.
— Ты хорошо умеешь утешать, Якоб... Только утешения эти — мужские. Понимаешь?
Скажи: понимаю. Скажи: мне жаль. Антонио был хорошим парнем, мы все его любили... Скажи: нам будет не хватать его... Скажи...
— Нет.
Она судорожно вздохнула.
— Ты честен, лейтенант, — сказала медленно. — Только мужчина может быть так жестоко честен. Молчи! Сейчас ты скажешь, что Тони стал бы хорошим герцогом, настоящим мужчиной, воином, которым гордился бы род. Молчи! Пусть это правда — все равно молчи. Будущее умерло, скажешь ты. Это большая потеря, кивнет капитан Умбарто, его поддержит Джованни Боргези, того — Сколло делла Фьорца... Будущее — умерло. Мужчины! Вы не понимаете, почему мы плачем...
Матерям плевать на то, кем могут стать их сыновья — полководцами, герцогами, наемниками... не отворачивай глаз, лейтенант! Нам — плевать. Потому что не свое будущее мы в вас любим — мы любим вас. Глупых, тщеславных мальчишек, хвастливых и наивных... Вас самих, какие вы есть. Вы украли наши сердца, жестокие мальчишки... Мальчишки, которые никогда не вырастут. Я помню, Якоб, как Тони плакал над задохнувшимся щенком. Помню тепло, когда он прижимался к моим коленям. Помню, какие у него были глаза, когда он улыбался и когда злился. Я — помню. Этого достаточно. Иди, Якоб, и отдай свои утешения тому, кому они нужнее... Иди к Джиро. А мы с твоей матерью поплачем. Вы украли наши сердца, жестокие мальчишки... Вы украли наши сердца...
...Я поклонился тогда. Поклонился и — вышел прочь.
Мои утешения... к дьяволу их и меня вместе с ними!
Дурак.
... — Вот ты где, Якоб.
Я поднял взгляд, уже узнавая по голосу — бархатному, с характерным выговором — окликнувшего меня. Невысокий, в темной ризе, лицо — роспись шрамов по грубо выделанной коже, голубые глаза... в руках псалтырь.
Отец Игнатий, испанец.
— Святой отец, — склонил голову я, — благословите недостойное чадо свое...
— Заткнись.
Я утратил дар речи.
— Что?! — когда обрел.
— Заткнись, — повторил святой отец ласково. — Ты не любишь меня, Якоб, и не боишься это показать. Понимаю и уважаю. Сам когда-то был солдатом... Но ерничанья — не потерплю. Встать!
Я не успел сообразить, как оказался на ногах.
— Прими благословение, сын мой, — голос веял теплотой. Отец Игнатий поднял руку со сложенными перстами... Я посмотрел на него сверху вниз, мысленно примеряя на себя осанку святого отца... Да, он мог быть солдатом — пока ноги были одинаковой длины. Впрочем...
— Голову ниже, осел! — зло шепнул падре. Я поспешно склонился, пряча улыбку.
— Паск вобискум, сын мой!
Дохнуло благостью.
...Так я познакомился с отцом Игнатием. С настоящим отцом Игнатием — не с той личиной, что видел в церкви по воскресеньям... Не скажу, что стал больше любить его — зато начал уважать.
С того дня падре зовет меня «хорошим человеком». Насмешка? Заблуждение? Просто слова? А может, я действительно хороший человек — о чем сам никогда не догадывался? Знаю, я хороший солдат. Не самый лучший, но — хороший. Но какой я человек? Как оценить себя? Зная за собой и зависть, и ненависть, и гнусные помыслы... Что помыслы?
Когда я убивал, насиловал и грабил, когда поджаривал Лукко пятки — он так любил свое золото, смешной старый чудак... Разве то были — помыслы?!
Дела.
...Я так долго шел в ад, что разучился мечтать о рае.
— Хороший человек Якоб, — сказал святой отец, — Я искал тебя.
— Зачем?
— Чтобы напомнить о долге.
— Перед Господом? — я криво усмехнулся. — Господь забрал сына у моего дру... моего герцога. Что ж. Я знаю: господь справедлив — и не ропщу, пусть даже Джерардо теряет разум... Я больше не вижу в его глазах воли... Сильные не гнутся — они ломаются.
— Ты много на себя берешь, швейцарец. Говорить о боге — не твоя забота.
— Я — не ропщу.
— Герцог ропщет, — просто сказал Игнатий. — Иди к нему.
Джерардо!
— Вытащи его, швейцарец... Не дай сломаться. Ты можешь, я знаю. Меня он не станет даже слушать, я для него — посланец Того, кто отнял сына... Иди, черт тебя подери! — крикнул он мне в лицо. Потом помолчал, закончил тихо и строго: — Это — твой долг. Не заставляй меня разочаровываться в тебе...
И я пошел. Не потому, что я хороший человек... Потому что я — хороший солдат. А солдату положено выполнять приказы.
... — Оставьте меня в покое.
Здесь странное эхо: в покое, кое, кое... упокое... Стены из пористого камня, местами — гобелены, свет падает через узкие оконца под потолком. Теплый свет, золотистый... а мрачно — как в могиле.
Кое, кое... упокое...
Не хотел бы я здесь ночевать.
Джерардо!
...Сумерки, холодные альпийские сумерки... Снег. Качается на ветру фонарь, освещая вход в штольню; на свет вытащена бадья, в ней — две кирки и груда камня. На растоптанном до черноты снегу переминаются четверо — рослые, но странно сутулые — словно под открытым небом им уже неуютно...
— Еле успели, чтоб ее...
— Еще бы чуть-чуть.
— Голова тяжелая, братцы... И не пил даже!
Смеются. Слегка нервно, как смеются избежавшие верной смерти — веселье в долг, сами не верим... Чудо!
На дне клетки, которую держит младший из них — почти мальчишка, но рослый и широкоплечий — лежит канарейка. Маленькая желтая канарейка...
Кажется, что птица спит.
... — Оставь меня в покое, Якоб, — устало сказал герцог. — Пожалуйста. Иди куда-нибудь... к дьяволу, к богу... к этому сладкоречивому испанцу... как его?
— Игнатий Родригес.
— Дурацкое варварское имя!
— Он направил меня к вам, мой синьор.
— Чрево христово, Якоб! Направил тебя? Зачем? Поговорить о боге?!
— Не думаю, мой синьор, — сказал я. — Я плохо в этом разбираюсь. Много хуже, чем в богохульстве...
Кинжал оказался у моего горла раньше, чем я успел вдохнуть.
— Ты много на себя берешь, швейцарец, — проскрипел герцог. — Ты много на себя...
— Да.
— Что — да?! — заорал герцог. — Сын шлюхи! Что ты хочешь сказать этим чертовым «да»?!
— Да, я много на себя беру, — сказал спокойно. — Твою жизнь, Джерардо... Когда я закрыл тебя своим телом — я много на себя взял. Когда латники Бентивольи смяли наш эскадрон и твой конь упал — я взял на себя еще больше... Ты долго не мог простить мне этого.
— Но простил!
— Прости еще раз. Я позволил твоему сыну умереть. Я не понимал, что твой сын и есть твоя жизнь. Я — не понимал.
— А если бы понимал? Что тогда?!
— Перекинул бы мальчишку поперек седла и — в галоп.
— Ты никогда не получил бы прощения, — невесело оскалился герцог. — Он был очень горд, мой Тони... очень горд. И став герцогом, он...
— Я знаю.
— Но ты сделал бы это?
— Да.
Герцог молчал. Смотрел на меня и молчал.
— Другому я перерезал бы за такие слова глотку, — сказал он наконец, — Но ты... ведь ты не лжешь мне, Якоб? Нет?
— Клянусь.
Кинжал вернулся в ножны.
— Честью наемника?
— Честью мужчины, — сказал я. — Джерардо... я знаю, как ты любил Тони...
— Мой сын...
— Твой сын мертв! — отрезал я. Герцог отшатнулся. Я сделал шаг вперед, ухватил Джерардо за плечи, встряхнул. Сказал мягко, глядя в глаза: — Мне жаль. Из него получился бы отличный солдат.
Лицо герцога исказилось.
— Будь ты проклят, швейцарец... Будь. Ты. Проклят.
...Ты хорошо умеешь утешать, Якоб. Настолько хорошо, что сам себе начинаешь верить. Ты ведь не плачешь, лейтенант? Мокрые глаза — всего лишь чугунное ядро, разбросавшее гнедого по сторонам света... Всего лишь темень в глазах, падение и — раскаленный клин в голове. Обычная контузия. Со всеми бывает. Ведь так, Якоб?!
Ведь так?
Щека дергается...
Голова болит.
Лейтенант плачет.
ДОСПЕХИ
El que no cae, no se levanta.
(исп. «Не ошибается тот, кто ничего не делает.»)
Иногда я пью. Чаще водку, закусывая соленым огурцом, реже — пиво в обрамлении крекеров с луком. Вкатив очередной стакан, лежу на диване, на вытертом до белизны синем покрывале, смотрю в потолок. Он закрыт обоями, белыми в голубую волну. Если долго вглядываться, сквозь колыхание волн проступает море — настоящая синева, глубина и соль, с прожилками зелени, белесыми пятнами медуз и гулом в ушах. Выдох уносится ввысь с характерным «бу-уллб», наступает черед вдоха. Вдох жжет ноздри, продавливается в рот, а затем и в глотку; жгучая горечь сменяет йод и соль, вода разламывает череп изнутри, ворочая давлением, словно ломом. С хрустом отламывается верхняя челюсть с куском зубов, тугой струей бьет кровь, окрашивая глубину в розово-черный. Легкие наливаются тяжестью, как меха вином. Тепло, очень тепло, горячо... кипяток! Я просыпаюсь с криком, вцепившись в покрывало. Над головой тихо плещут картонные волны...
Иногда я думаю, что сон этот неспроста. У всего на свете есть причины, порой сложные, порой — не очень, но двести грамм водки или полтора пива — это даже не просто. Это — слишком просто. Издевательство какое-то над причинно-следственными связями. Пиво разное, водка разная, крекеры с луком прожаренные или не очень, огурцы соленые или маринованные... Комната разная: с комьями грязи по углам, сумраком, лезущим в щель между шторами, тени, залегшие в углах, словно бомжи в зале ожидания... Комната после тряпки, солнце сквозь неплотно задернутые шторы ложится на пол, внося свой штрих в портрет — светло-желтый, золотисто-пыльный; бумажные волны на потолке становятся почти живыми...
Я, лежащий на диване, разный. Опять же, что пил, чем закусывал... в каком настроении утром встал, наконец. Другой. Тот я, что в благородной рассеянности не замечает недоданный на сдачу червонец (у меня много!), или тот, что говорит «спасибо» на любую новость (ах, как хотелось бы убивать плохих гонцов), или тот, что не хочет, а пьет (сила воли, знаете ли). Или тот, которого остальные "я" для виду ругают, в душе завидуя и побаиваясь. Тот "я" говорит «пошли на...», стоя один против пяти на ночной улице. Тот "я" нерассуждающе-яростен и холодно-упрям... Тот "я" никогда не лежит на диване, но всегда рядом, и я постоянно чувствую взгляд его стеклянно-неподвижных глаз...
Все разное, а сон — один и тот же.
Зелено-синяя, вязкая вода, руки движутся, как в густом желе... Зрение туманится, все вокруг плывет — словно невидимые ладошки легли на глаза, детская игра «угадай, кто?». Я знаю, кто ты. Ты — глубина!
Выдох уносится вверх с гулким «бу-уллб»...
Иногда я не пью. Лежу на неизменном диване, закусив на манер сигареты желтый карандаш, смотрю на волны. Бумажно-синие, неподвижные. Порой мне кажется, что я знаю, откуда приходит мой сон, знаю глубины, породившие тягучий кошмар, понимаю детерминизм. Я выдвигаю гипотезы, и, как всякий педант, болезненно склонный к систематизации, записываю их и классифицирую.
Гипотеза 1-ая: простая и очевидная. Мой сон — сигнал тревоги, «Sos» от подсознания, намек, что я тону в обыденности, растворяюсь, как сахар в кипятке.
Гипотеза 2-ая: иррациональная. Сон — не мой, а наведенный. Некто "X" просит о помощи таким вот странным способом. Или не сам "X", а, скажем, "Y", знающий о гибели "X" и желающий оную гибель предотвратить. Я, в таком случае, медиум и герой в одном лице. Слишком много натяжек. Гипотеза уносится ввысь с гулким «бу-уллб»...
Гипотеза 3-я: генетическая. Память далекого предка стучится в мою дверь, обещая поделиться всем, что пра-пра-, и так далее, дед носил под черепушкой. «Двери наших мозгов посрывало с петель». Владимир Высоцкий. Дурацкая идея, не лишенная, однако, некоторой привлекательности. Но как я могу помнить смерть пра-пра-деда, если он, зачиная моего пра-деда, еще был жив? ДНК не грипп, воздушно-капельным путем не передается... Стоп. А точно ли тот "я", что во сне, умер?
Детали. Без них никуда.
Иногда я пытаюсь отрешиться. Видеть со стороны, холодно и четко, словно хронику происшествий, тонущего "я". Впечатанный в целлулоид, черно-белый, он мечется в гудящем плену, пятная кровью зелено-синее пространство. Вдалеке видна крупная, с человеческую голову, медуза — выкинь ее на берег, она была бы фиолетовой — но здесь, в толще вод, они все одинаково белесые. Медуза раздувается... медленно, медленно... чтобы так же неспешно, вразвалочку, вытолкнуть воду. Медуза никуда не торопится. Ее вполне устраивает черепаший темп...
Иногда я успеваю оглянуться. Отвести взор от медузы, зелено-синей пустоты, пузырей, рвущихся изо рта — чтобы краем глаза зацепить смутный образ чего-то большого, черного с красным. «Галео», — думаю я. — «Санталюка». Больше всего это похоже на полено, от долгого пребывания в воде обросшее щетиной цвета консервированной морской капусты. Нешуточное полено — идет ко дну, выбулькивая огромные пузыри. Вокруг бьются в агонии щепки, не щепки... люди. Серебряное лезвие рассекает ближайшую «щепку» наискось, от плеча к поясу; кажется, вот оно — сейчас плеснет кровь, клубами расходясь в стороны; человека развалит на части, не спасет металл, охватывающий грудь... Я не верю глазам. Человек продолжает биться, клинок же рассыпается в щедрую горсть серебра — чтобы через мгновение вновь стать сплошным лезвием. Широким кривым мечом в руке невидимого великана... Руби, кат!
Почему-то я уверен, что «щепки» это заслужили.
Иногда я смотрю телевизор. Вдавив кнопку, бегу по программам, превращая просмотр в один бесконечный кадр — в котором есть все. Кажется, страдающие аутизмом именно так смотрят телевизор — предпочитая глубину помех мельтешению фигурок. Лица, глаза, свет, тьма — все одно, все — бег электронного луча. Поток электронов, зажигающий пятна люминофора. Кто-то сказал: «Бог — это случайность». В таком случае, аутисты беседуют с Богом напрямую — ибо что может быть случайнее телевизионных помех...
Мой палач!
Вдавливая кнопку до побеления пальца, нахожу канал, где только что порхало серебристое лезвие... Оно!
Зелено-синяя, желейная вода, сполохи света, вдалеке видна крупная, в человеческую голову, медуза — выкинь ее на берег, она была бы фиолетовой — но здесь, в толще вод...
Серебряный клинок порхает, мгновенно меняя форму... Кривой арабский меч, европейский палаш... мачете, снова арабский меч... Взмах. Меч взлетает и...
Руби, кат!
Рассыпается в горсть серебра... Камера — наезд! Я чувствую радость открытия и восторг верующего, которому явился ангел — стайка рыбешек, настолько мелких, что кажутся каплями ртути, на глазах сливается в широкий меч-акинак... Меч, что оставил невредимым щепку-человека...
«Небо над портом было экраном телевизора, настроенного на мертвый канал».
Интересно, Уильям Гибсон тоже беседовал с Богом?
Испанский галеон, следующий из Нового Света в Старый, попал в пиратскую засаду. С грузом какао? Корабли с грузом не топят. Галеон был военный, двадцатипушечный, трехмачтовый, следовал в конвое. Охранял — корабли с золотом, какао, кофе... В результате ожесточенного боя получил пробоину ниже ватерлинии, затонул. Мистер "X", — вернее, сеньор "X" — ушел на дно вместе с кораблем, хотя пытался спастись, прыгнув за борт...
В доспехах тяжело плавать.
Железо тянет.
Кажется, я нашел цель. Сумел свести бессмысленность, жуткую пустоту жизни к чему-то большему, чем тупой взгляд в потолок. Гипотеза номер два, иррациональная — что ты делаешь со мной?!
Держитесь, мистер "X" — я спешу на помощь.
Псих?
Герой?
Дурак?!
«Снимите доспехи, сеньор!» Снимите доспехи.
Иногда я задумываюсь: нормален ли я? Стою, склонив голову набок, засунув руки в карманы плаща... размышляю. Подступающее безумие нигде не ощущается так ясно, как в переходах метро. Люди, спешащие куда-то, идущие мимо — не люди, тени, картонные раскрашенные силуэты из детского набора «Одень его/ее сам». Одинаковые заготовки «мальчик-девочка» бледно-розового, в грязных крапинках, картона — и даже пол с трудом отличишь. Хотите блондина, стройного, подтянутого, в черном костюме с ярким галстуком — пожалуйста! Только осторожней, не трясите — парик может свалиться. Хотите жгучую брюнетку с вызывающей внешностью? Извольте! Да-да, ни в коем случае не трясти. И на пол не ронять... Они ведь такие... картонные.
Их так легко помять.
Картонным человечкам я не нужен, сеньор. Я не могу помочь. А должен, иначе стану таким же, как они — картонным. И если это сумасшествие — то да, я болен. Я полный псих.
Может ли сумасшедший знать о своем безумии?
И если знает, то сумасшедший ли он?
Камень давит. Над головой толща, вокруг — толща, пусть не сине-зеленая, но все же глубина. Выдох уносится ввысь с гулким «б-бу-улб»...
На меня начинают оглядываться...
Я улыбаюсь.
Психам — можно.
Три девчонки, лет восемнадцати-девятнадцати. Пьяны. Лица опалены пламенем, или я вижу это так — закопченная кожа, блеск глаз. Больному рассудку трудно верить.
Темно.
— Че вылупился, козел?!
Пусти, толкнулся изнутри "я" с пустыми стеклянными глазами, моя очередь. Обещаю, боли ты не почувствуешь.
Но это же... Девушки?
Рыцарь, блин, — равнодушие и пустота. Стеклоглазый не чувствует ни страха, ни гнева; ярость его холодна и отточена — клинок, не чувство. — Они из ментовской академии. Ты будешь не первый, и не последний, кто попадет им под пьяную руку...
Нет, говорю я, с тобой покончено. Теперь я — всегда я. Вот так.
— Тебе смешно, сука?! Лыбишься?
Действительно. Лыблюсь.
Удар.
...Я так и не успел выяснить, как по-испански будет «Не надевайте, доспехи, сеньор!»
Но я пытаюсь дотянуться. Я уже вижу вас, идальго — лежащим на узкой койке. Рубаха белая. Накипь кружев, гладь шелка, смуглота кожи. Вы прикрыли глаза, сеньор? Правильно, вы же спите... Скоро начнется сражение, в котором вам предстоит... Не надевайте, доспехи, сеньор — не надо. Доспехи — не нужны.
Вы понимаете, сеньор?!
Я вижу: понимаете.
Душа его уносится ввысь с гулким «бу-уллб»...
Этот некто уже не узнает, что над галеоном «Святой Лука», отправившимся из Нового Света в Старый в месяце апреле 1667 года, и никогда не достигшим порта назначения, развевался не испанский, а португальский флаг...
Через два с половиной года на землю Португалии ступил дон Луис Фигеаро Мария Альваро де Карвальо.
Уверенный, что жизнь ему спас ангел.
ТРИ МЕРТВЫХ БОГА
— Рр-а-а-а!
Воспоминание детства: ревущая толпа, вывернутые голыми руками камни мостовой. Улицы Скироса, ругань, беготня, крики... Дядька Флавий — огромный, всклокоченный, небритый — с глухим рычанием поднимающий над головой бревно. «Шлюхи!», кричит дядька. Это просто и понятно. Даже мне, восьмилетнему мальчишке. Шлюхи — во дворце, дворец дядька с друзьями возьмет, всем будет радость. Даже мне, Титу, пусть я еще маловат для камня из мостовой... Впрочем, для шлюх я маловат тоже.
Сейчас, набрав сорок лет жизни, став старшим центурионом Титом Волтумием, я понимаю, что дядька был прав: тот, кто ведет за собой, всегда называет сложные вещи простыми словами. Что было горожанам до свободы личности, до права и власти, до легитимности... или как ее там? Сложная вещь становится простой, когда вождь берет слово. Оптиматы — грязные свиньи, трибун — козел, патриции — шлюхи. Это было понятно мне, восьмилетнему...
И тем более понятно всем остальным.
— Рр-а-а-а!
Ревет толпа, бежит толпа. Потоком, мутным, весенним, несущим мусор и щепки... И я, восьмилетний Тит, будущий задница-центурион, как меня называет легионная «зелень», тоже бегу.
...Когда навстречу потоку встал строй щитов, я подхватил с земли камень и швырнул изо всех сил. Эх, отскочил! «Молодец, пацан!», ухмыльнулся кто-то, вслед за мной нагибаясь за камнем. Булыжники застучали по щитам — легионеры выстроились «черепахой» (разболтанной и не слишком умелой, как понимаю я с высоты тридцати лет службы), но вреда каменный дождь нанес немного. Вскрикнул неудачливый легионер, центурион проорал команду: что-то вроде «держать равнение, обезьяны!», строй щитов дрогнул и медленно двинулся на нас.
Это было страшно.
Атака легиона — это всегда страшно. Иногда, проверяя выучку центурий, я встаю перед строем и приказываю младшему: шагом — на меня. Строем, без дротиков, молча... Озноб продирает хребет, скулы сами собой твердеют — кажется, я снова на улицах Скироса, и снова сверкающая змея легиона глотает улицу стадий за стадием...
Я кричу: подтянись, левый край, не говно месишь!
Я говорю: четче шаг, сукины дети!
А после, снимая шлем, чувствую пальцами влагу на подкладке...
— Рр-а-а?!
Толпа не уверена. Толпа помнит: ей были обещаны шлюхи, а здесь, вместо того, чтобы покорно лечь и бесстыдно раскинуть голые ноги... Здесь глотает улицу бронзовая змея, змея легиона... Почему-то кажется: это был вечер, закат — в сумерках бунтовать веселее, легче, факелы — какой бунт без резвого огня? — в нетерпеливых руках. Шкура змеиная плавится бронзой...
Я, тогда черноволосый, ныне наполовину седой, смотрю. Прекрасный ужас наступающего легиона — я замер тогда, голова кружилась — замираю и по сей день, стоя перед строем и командуя: шагом — на меня...
Строем, без дротиков, молча.
Дядька Флавий тоже растерялся в первый момент. Но он был умнее толпы (впрочем, даже восьмилетний мальчишка умнее ее) и он был вождем. Простой гончар, мастер, он не умел превращать воду в вино, как бог христиан, зато он умел другое...
Он делал сложное — простым.
— Менты позорные!
Дядька Флавий, бог толпы.
Спустя тридцать пять лет, вспоминая тот день, я вижу: бронзовая змея упирается толстым лбом в лоб бунтующего потока. Двери, доски, плечи — все пошло в ход, когда дядька Флавий сделал сложное простым. Скрипят кости. Я как наяву слышу тот звук — сминаемые тела, трескающиеся ребра. Давит легион, давит поток, никто не хочет отступать. Бронзовая змея против темного быка...
...Говорят, удав охотится, ударом головы оглушая жертву.
Дядька Флавий — в первых рядах, подпирает плечом огромную дверь. Вырванные с мясом бронзовые петли видны мне даже отсюда, со второго этажа, куда меня забросила чья-то заботливая рука. Подо мной — сплошной поток, без просвета. Кажется, спрыгнув вниз, я встану и пойду, как по усыпанному камнями стратуму, оглядываясь и примечая: вот Квинт, скобарь, в перекошенном рту не хватает половины зубов, вот Сцевола, наш сосед, рыжий, как...
Вот дядька Флавий, весь из жил и костей, плечом — в дверь, словно за ней — счастливая жизнь, в которую не пускают. Но дядька сильный, он пробьется...
— Рр-а-а-а! А-а-а!
Из задних рядов легионеров летят дротики.
...Он всегда был силен, мой дядька — даже когда лег под градом дротиков, то умер не сразу. Центуриону пришлось дважды вонзать в него меч, и дважды пережидать конвульсии умирающего... Центурион, плотный и краснолицый, казался мне жутко старым, хотя, думаю, он тогда был моложе, чем я сейчас...
Так умер бог толпы.
... — Я хочу стать солдатом.
— У тебя белое лицо, мальчишка. Еще великий Цезарь говорил: испугайте человека. Если его лицо покраснеет — он храбр, если же побледнеет... Ты — трус, а мне не нужны трусы. Пошел прочь, недоросль!
Трибун цедит слова, гордясь высокомерной, нахватанной — не своей, ученостью. Он молод, лет на семь старше меня, тринадцатилетнего, и ему есть чем похвастаться. Он читал «Записки о Галльской войне», он помнит Цицерона и, наверное, процитирует по памяти «Природу вещей». Мое образование проще: мятеж, дядька Флавий, короткий меч, входящий между ребер, долгие скитания, одиночество, голод и боль... Зато я знаю то, чего не знает кичливый трибун второй когорты семнадцатого легиона.
Я знаю: сложное можно сделать простым.
Я ухожу.
... — Я хочу стать солдатом.
В повадках центуриона есть что-то волчье, хищное, словно бы обладатель повадок недавно вышел из леса и завернулся в человеческую шкуру: кряжистую, с крепкой шеей. Седой ежик венчает круглую лобастую голову. Глаза смотрят задумчиво.
— Дурак, — говорит центурион, широкая ладонь почти ласково прикасается к моему затылку, сбивает с ног. — Ты молод и глуп.
Центурион уходит.
— А ты — старый козел! — кричу вдогонку. — Я достаточно храбр, чтобы сказать это?
Центурион оборачивается, с усмешкой смотрит на меня, сидящего в пыли.
— Достаточно глуп, чтобы крикнуть.
Я ненавижу эту ухмылку так же, как ненавидел бронзовую змею, пожравшую улицу моего родного города...
— Встать, зелень! Подойдешь к Квинту из пятой палатки, получишь пять палок по заднице и одеяло. Скажешь: я приказал. Потом пойдешь на поварню чистить котлы. Все. Проваливай, чтобы я больше тебя не видел...
Я чувствую: он знает.
Сложное сделать — простым.
— Барр-а-а-а!
Воспоминание юности: ревущая центурия, бежит, пытаясь держать строй; крик разъяренного слона «Барра!» в нашем исполнении больше похож на вопль перепуганного слоненка. Перед нами темнеет фигура центуриона Фурия, белеет его лицо; выражения с такого расстояния не разобрать, но я уверен — все мы уверены — что центурион Фурий Лупус, Фурий-Волк, сейчас ухмыляется. Думаю, ненависть нашу он тоже прекрасно чувствует, даже не видя выражений глаз...
— Держать равнение! — его голос легко перекрывает наши вопли. — Левый край, подтянуться!
— Барр-а-а-а!
— Твою мать! — бегущий передо мной споткнулся, выронил деревянный меч, пробежал несколько шагов, заваливаясь вперед и высоко взмахивая руками... Ударил переднего под колени плечом — они упали вместе, ругаясь на чем свет стоит. Я пробежался по упавшему щиту...
— Делай как я! — кричу. Перепрыгнуть барахтающуюся кучу — со щитом в одной руке и здоровенной деревяшкой в другой, в доспехах — не так-то просто. Левой ногой — на спину лежащему — раз! правой ногой — уже на землю — два! Бегу.
— С-сука! — орет сзади обиженный голос. — И ты с-су... И ты! И ты тоже!
По стопам моим, так сказать.
...В тот же день, вечером, Фурий подозвал меня. Все ушли в палатки, на другом конце лагеря кто-то громко требовал «Арторикс!», а волк-центурион — непокрытая голова; седой ежик и глубоко сидящие глаза — улыбался и молчал. И я молчал, только вот не улыбался...
Ненавидел.
— Дурак, — сказал Лупус неожиданно. — Ты правильно поступил сегодня, ты не сломал строй... в настоящем бою ты спас бы этим множество жизней... Но я уверен: сегодня ты ляжешь спать с разбитым ртом. Я не буду вмешиваться. И еще: ты вряд ли станешь центурионом. Все. Проваливай...
— Я стану центурионом, — шептал я, ложась спать. Распухшие губы болели, щека кровоточила изнутри. Из четверых, что напали на меня ночью, трое выполнили команду «делай как я». И среди них не было никого из лежавших тогда на земле...
— Я стану старшим центурионом.
...Мне потребовалось на это двенадцать лет...
— Когда вы толпа, вас легко уничтожить, — говорит центурион, расхаживая перед нами. — Но строй... строй разбить гораздо сложнее... Тит, Комус, ко мне! Защищайтесь!
В следующее мгновение удар в голову валит меня с ног. В ухе — звон, в глазах — темень. Глухой гул.
— Встать!
Привычка взяла свое. Встаю. Даже не встаю — вскакиваю. Кое-как — сквозь туман — углядел Комуса, на его лице — ошеломление. Спорим, у меня такое же?
— Это было просто, — говорит Лупус, потирая здоровенный мозолистый кулак. — Я напал на них неожиданно: раз. И два: они были сами по себе. А ну-ка!
В этот раз я успел поднять щит и придвинуться к Комусу. Кулак центуриона бухнул в щит — я даже слегка подался назад. Потом...
— Делай, как я!
Качнулся вперед, плечом — в щит. Комус повторил за мной. Слитным ударом Лупуса сшибло на землю.
— Делай, как я!
Я занес ногу, целя в ненавистный бок... Я стану центурионом!
Колено опорной ноги пронзила страшная боль, казалось: кипятком плеснуло изнутри... Падаю!
— Врагу что-то кажется простым — сделайте это сложным, — заговорил Фурий, стоя надо мной, обхватившим пылающее колено. Я рычал, стиснув зубы, на глазах выступили слезы. — Скорее всего, в следующий раз он десять раз подумает, прежде чем нанести удар.
— Ненавижу, — хрипел я, — Убью! Сука... Ненавижу.
...Двадцать восемь лет прошло, но я помню, как было легко и просто: ненавидеть тебя, старший центурион Фурий Лупус, Фурий-Волк. И как стало сложнее, когда по навету мальчишки-трибуна — того самого, который был на семь лет меня старше — был отдан под трибунал и казнен волк-центурион...
... — По приказу старшего центуриона Квинта Гарса!
Я вошел в палатку, минуя двух стражей, вооруженных пилумами. Арестованный поднял взгляд, узнал и по-волчьи ухмыльнулся. Ненавижу, привычно подумал я... затем с удивлением обнаружил, что ненависти как таковой больше нет. Есть привычка.
— Этого и следовало ожидать, — сказал Лупус обыденно, словно только меня и ждал, сидя под арестом. — Ты вечно лезешь в неприятности, Тит.
— Я принес меч.
Легкий клинок — даже с ножнами он легче той деревяшки, с помощью которой нас учили владеть оружием — лег перед центурионом.
— И что с того? — усмехнулся Фурий. — Думаешь, я брошусь на меч, как делали опозоренные военачальники? Спасу свою честь?
— Так думает старший центурион Квинт Гарс. Он послал меня.
Я умолчал, что сам пришел к приору с этой просьбой.
— Так думает не старина Гарс, — сказал Фурий, глядя мне в глаза, — так думает трибун второй когорты.
— Но...
— Трибун считает, что победа за ним. Возможно. Но я не дам ему победы так просто... Броситься на меч — сдаться без боя. А на суде я скажу о нашем доблестном трибуне пару слов...
Готов поспорить, ему это не понравится.
— Я рад, что ты пришел, Тит, — сказал центурион. — Хоть ты и поступил по-дурацки... Смирно!
Я выпрямился.
— Возьми меч, вернешь Квинту Гарсу. Пусть отдаст трибуну с пожеланием броситься на меч самому. Скажешь: я приказал. Потом ступай к себе, завтра — марш в полной выкладке, двойная норма... И еще: ты станешь хорошим центурионом. Старшим центурионом... Все. Проваливай, чтобы я больше тебя не видел...
Так умер бог солдат.
Простое для врага — должно стать сложным.
Трудно быть стариком в теле юноши.
Когда смотришь в зеркало и видишь вместо привычного дубленого лица с насмешливыми морщинами в уголках губ...
Впрочем, я не так уж часто видел свое лицо в зеркале. В озере, в реке, в луже, в поилке для скота, в чечевичной похлебке — да. Зеркало для меня диковинка. Это же как надо начистить бронзу...
Впрочем, это не бронза. Серебро? Видел я однажды быстрое серебро, ртуть... Так и хочется взять его в руки и катать лучистые шарики по ладони, любуясь игрой света... Отражение!
Зеркало — это застывшая ртуть. Я понял. Надо же, молодец Тит Волтумий, старший центурион — в седой голове мысли до сих пор шевелятся.
Но главное все же не это.
Лицо — не мое.
Совсем. Даже не римлянин. И не грек. Италиец, может быть... Галл? Фракиец? Гепид? Гот? Герул? Те больше рыжие...
Светло-русые волосы. Мягкий овал лица, небольшая челюсть — вместо моей тяжелой, уши — слегка оттопыренные, явно непривычные к шлему. Шрамов нет. Совсем. Кожа белая, нежная...
И он — тот, что в зеркале — молод.
Даже в пятнадцать лет я не выглядел таким мальчишкой.
— Дим! — зовут за дверью. Мягкий женский голос — так и представляется ладная девушка, с широкими бедрами, рыжеволосая... Эх, было время!
— Дим, — голос становится неуверенным, — с тобой все в порядке?
— Да, — отвечает тот, что в зеркале. — Сейчас выхожу.
Не латынь и не фракийский, даже на германский не очень... Впрочем, на германский похож. Готский? С каких это пор, интересно, я понимаю по-готски? И даже говорю?
— Да не расстраивайся ты так, — утешает голос за дверью. Точно рыжая! Чую, можно сказать... Красивая. Рыжие — они все красивые. — Не каждый же день в астрал ходить. Буря магнитная помешала, еще что-нибудь...
Буря? Магнитная?
...А ведь ее Надей зовут. И она действительно красивая. Вот, набедренная повязка как натянулась — знаю я Надю, хорошо знаю...
Впрочем, не я.
Мальчишка в зеркале знает. И давно он из детского возраста вышел: лет ему двадцать четыре, и родился он в августе... Родителей его... моих... зовут Александра Павловна и Валерий Степанович. А фамилия... родовое имя его... мое...
Атака легиона — это всегда страшно.
— Дима, ты что замолчал?
— Да, — говорю. — Да.
Мой отец Марк, мать Луцилия... А меня уже двадцать лет называют Тит Волтумий. Старший, клянусь задницей Волчицы, центурион!
Сложное сделать — простым.
— Дима!
...Надя говорит, что «после спиритического сеанса» у меня изменился взгляд. Возможно. Мужчина от мальчишки отличается в первую очередь тем, как он смотрит на женщину. Еще Надя говорит, что мой отказ от мистицизма ее радует, потому что — как она слышала — дух мертвеца может вселиться в тело того, кто его вызвал.
Ерунда, говорю я, все это ерунда. Ерунда, соглашается Лисичка. При этом взгляд ее становятся очень странным, застывшим... словно она что-то ищет и — надеется не найти. Я замираю, потому что если однажды Надя найдет... Я, оказывается, уже не могу без нее жить.
Тогда же, открыв дверь ванной, я подошел к ней и обнял. Жаром опалило лицо... Эх, мальчишка, зелень легионная!
— Дима? — губы раскрылись в радостном удивлении. — Ты это... головой не ударился? Нет?
А сама в объятиях млеет, крепче прижимается.
— Ударился, — сказал я. — Когда тебя в первый раз увидел. С тех пор и хожу ушибленный...
— Правда? — в глазах — такой огонь, что душа плавится. — А я знала... Весь из себя холодный, а иногда так посмотришь...
Дурак ты, Дима. Молодой и глупый. Головой в детстве все камни обстучал, наверное — правильно Надя говорит...
Такое простое — сделать таким сложным.
Себя больше врага боишься...
Трудно быть стариком.
Когда чувствуешь себя старым не потому, что ноют былые раны и сломанные когда-то кости предвещают перемену погоды...
Впрочем, старым я себя не чувствовал.
Дураком чувствовал. Сначала все удивляло новизной и необычностью, и, вместе с тем, какой-то странной, изначальной знакомостью... Впрочем, лишь для Тита Волтумия это была новизна — Дима зевал, глядя на тарахтящие безлошадные повозки; зевал вслед пролетающим железным (!) птицам; зевал, глядя на водопад огня ночных улиц; зевал, просто зевал — и вслед за ним зевал центурион. Узнавать было радостно и — скучно.
Скучная радость.
Иногда я путаюсь, присваивая воспоминание Димы центуриону, в другой раз: драка в средней школе номер два почему-то проходит с применением холодного оружия и манипулярного строя. Мудрый центурион Михайлыч...
Старость приходит не с сединой и усталостью.
Моим волосам до седины еще далеко, а уставать за долгие годы службы я привык в одно и тоже время — после отбоя...
Привычка — вот в чем дело.
Я — привык.
Привык быть старшим центурионом. Привык вставать до рассвета, ложится заполночь; привык чувствовать, как холод режет колени под тонким одеялом, привык есть простую похлебку из солдатских котлов... Привык отдавать приветствия и получать сам. Привык к строевому шагу, к тяжести гребенчатого шлема, к ощущению потертостей на затылке и висках...
Боги, мне даже снится этот дурацкий шлем!
Старость — когда начинаешь ценить не удобство, а привычку.
...И даже обнимая теплое, домашнее тело Нади (рыжей моей, лисички, любимой... единственной, хитрой и курносой), лежа под пуховым одеялом в теплом и уютном доме, я долго не могу заснуть.
Стоит мне задремать, я вижу: бронзовая змея разворачивается на улицах Скироса, руки, факелы... Рр-а-а! Летят дротики. Сложное — простым.
И еще... Иногда я вижу холодный лагерь легиона, серое утро — рано-рано — часовые на башенках мерзнут в коротких плащах, на ветках деревьев — черных, осенних — повисла изморозь... Дыхание паром вырывается изо рта. Я шагаю по узкой дороге, закутавшись в шерстяную накидку, голова моя непокрыта, холодный ветер теребит давно не стриженый волос... мне снова тринадцать лет.
Я иду в легион.
Вот так.
Трудно быть.
Когда меняешь работу не потому, что прежняя тебе не нравится или дает слишком мало средств на существование...
Впрочем, я не так уж часто менял работу. Мой послужной список — а работал я в различных охранных агентствах и, иногда, тренером в военно-спортивных клубах — был прекрасен. Меня уговаривали остаться, сулили повышение зарплаты, различные блага и выплаты, угощали коньяком и виски...
Впрочем, я ничего не пью кроме вина.
...Угощали редким вином, дарили оружие и путевки в экзотические места. Однажды побывав в Риме, а после — в Галиции, я зарекся путешествовать. Хотя Лисичке в Риме понравилось...
Первую ночь там я боялся сойти с ума.
Увидев наутро мое лицо, Надя собрала вещи и решительно кивнула: едем домой. Надя? А как же..? Домой.
После мы выбирались только в Подмосковье, к Надиным родственникам.
... — Служили? — оценил мою выправку центурион в сине-черном варварском наряде. — Звание?
— Старший центурион, первый манипул второй когорты семнадцатого легиона, — отчеканил я, — Фракия, третья Готтская компания, четвертая Готтская. Имею награды.
Лицо «центуриона» расплывалось в неуверенной улыбке.
— Ты... это. Да?
«Италия», подсказал Дима, «Майор.»
— Я служил в итальянской армии, — сказал я, — дослужился до майора... Потом уехал, домой потянуло...
Улицы Скироса.
— Ну ты, брат, даешь! — присвистнул «центурион», дружески хлопнул по плечу. — Скажи, что срочную служил... тогда, может быть, поверю, а так...
Он натолкнулся на мой взгляд, поперхнулся, замолчал. Руки потянулись искать шов на брюках:
— Товарищ майор?
— Вольно. Ну что, берете на службу?
Так впервые в жизни я получил работу...
Трудно.
Мне сорок три года. Я родился двадцать семь лет назад, со дня же моей смерти прошло около семнадцати веков. Мое имя Тит Волтумий, а зовут Дмитрием Валерьевичем. Я старший центурион римского легиона, забывший как будет по латыни: упал-отжался. Моя жена — рыжая красавица Надя, которая считает, что мертвые могут вселяться в живых. Ерунда! Мертвые могут вселяться только в мертвых...
Я тому подтверждение.
Моей жажды жизни хватило на двоих.
А может, все это — только сон умирающего на поле боя старого солдата. Я не знаю, как должны умирать старшие центурионы, но очень надеюсь — быстро. Впрочем, мне рассказывали: в миг до смерти перед глазами проносится вся жизнь. Не знаю. Что вспомнил, то вспомнил — и я не собираюсь умирать. Я собираюсь вернуться к моей Лисичке, рыжей, ласковой...
Вернуться, последний раз побыв центурионом.
Самим собой.
Смотрюсь в витрину. Недавно по этой улице прокатилась человеческая волна, гоня перед собой нескольких серых, неосторожно выскочивших на толпу. Легионерам удалось уйти, но брошенные щиты и черные дубинки лежат на мостовой... стратуме... Лежат и чего-то ждут.
Ждут возвращения серых...
Смотрюсь в темное зеркало.
Нет, не центурион. Мирная сытая жизнь расслабила лицо, убрала складки со лба, смягчила линию подбородка. Словно линии с восковой дощечки стерты морщины: лучистые — из уголков глаз, насмешливые — от губ, скорбные — от крыльев носа. Разве это Тит Волтумий, Тит-центурион, гроза легионной зелени?! Одна ухмылка которого заставляла белеть от ненависти сотни лиц?
Не верю.
Мне все еще снится дорога в легион, где я — тринадцатилетний...
— РАЗОЙДИТЕСЬ! — звучит усиленный мегафоном голос. Трубный глас. — ЭТА ДЕМОНСТРАЦИЯ НЕ САНКЦИОНИРОВАНА! ПОЖАЛУЙСТА, РАЗОЙДИТЕСЬ! ИНАЧЕ БУДУТ ПРИНЯТЫ ЖЕСТКИЕ МЕРЫ!
Вот оно. Поворачиваюсь, вглядываюсь в конец улицы. Ползет змея. От стены серых щитов отбегают люди, поворачиваются, грозят кулаками, кричат... Снова бегут. Рядом со мной, у некоего подобия трибуны (как я не люблю это слово!) собирается народ. Из проулка позади меня выныривает и останавливается в растерянности еще одна группа демонстрантов.
— РАЗОЙДИТЕСЬ! ПОЖАЛУЙСТА, РАЗОЙДИТЕСЬ!
Серая змея легиона глотает улицу стадий за стадием... Озноб в затылке.
Снова смотрю в витрину. Есть!
Сквозь гражданскую припухлость проступает знакомая жесткость. От крыльев носа бегут складки; у губ, в уголках глаз — привычные насмешливые морщины... Пробую улыбнуться — выходит совершенно по-волчьи...
Тит Волтумий, старший центурион.
...Я вскакиваю на возвышение, расталкивая народ. Указываю в сторону приближающихся серых:
— Сейчас будет бой! Нужно организоваться!
— Э-э-э? — недоумевает толпа у моих ног. Эх, сюда бы дядьку Флавия! Он бы сейчас сказал то самое... Самое нужное и доходчивое...
— Шлюхи! — ору я. Сделать сложное — простым.
— Путаны! — подхватывает ликующая толпа.
— Менты позорные! — спасибо, дядька Флавий, мертвый бог толпы...
— Менты!
Спрыгиваю с трибуны.
— По центуриям, по манипулам — стройся! — командую я, подхватывая с мостовой потерянный серыми щит. В другую привычно ложится камень. — Делай как я!
Легкая заминка. Сперва растерянно, затем — весело и дружно, выстраивается ряд, еще один. Щиты...
— Куда лезешь! — ору. — Ты и ты — во второй ряд. Ты, со щитом... Да, рыжий, ты! В первую шеренгу! Шевелись, обезьяны!
— Шагом марш! — командую чуть позже. — Подтянуться! Четче шаг!
Они подтягиваются, ровняют шаг, словно мои команды: на жуткой латыни, с фракийскими словечками, им хорошо понятны.
Спасибо, Фурий-Лупус, Фурий-Волк, мертвый бог солдат! Пусть серые помучаются. Их встретит не толпа, где каждый сам за себя, а такой же строй щитов... Нет, не такой же — куда им до профессиональных воинов! — но все же. Ты знал, центурион, главное правило полководца: простое для врага — станет для него сложным.
Шагом — вперед. Строем, без дротиков, молча.
Навстречу движется серая змея, змея легиона — глотая улицу стадий за стадием. Прекрасный ужас — я на миг замираю, как в детстве — и как замирал, будучи старшим центурионом Титом Волтумием, в свои сорок три года и семнадцать чужих веков назад...
— Барр-а-а! — кричу я.
— Урр-а-а-а! — подхватывают остальные. Крик перепуганного слоненка, ей богу!
Озноб продирает хребет, скулы твердеют. Скоро столкнуться лбами змеи: серая, чужая, и наша, где рядом со мной шагает дядька Флавий, вздев могучими руками вырванную дверь. Где на другом фланге, склонив круглую голову, держит строй старший центурион Фурий Лупус, Фурий-Волк, нацепив на губы неизменную ухмылку...
Подобранный щит — непривычно легкий — словно примеряется: вот сюда я приму первый удар чужого щита, чуть поддамся назад, пружиня... заставляя противника потерять равновесие... Затем — толчок плечом. Эх, будет потеха!
Я кричу: Подтянись, левый край, не говно месишь!
Я говорю: Четче шаг, сукины дети!
Будь на мне сейчас шлем, я бы почувствовал влагу на подкладке...




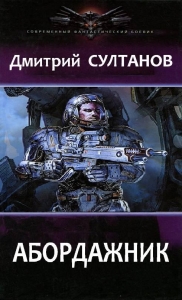

Комментарии к книге «Сержанту никто не звонит», Шимун Врочек
Всего 0 комментариев