Андрей Посняков НОВГОРОДСКАЯ САГА Книга 2. Посол Господина Великого
Глава 1 Новгород. Март 1471 г.
Знал ли ты, что свобода существует
Лишь в школьном учебнике,
Знал ли ты, что сумасшедшие правят нами,
Нашими тюрьмами, застенками…
Джим Моррисон, «Американская молитва»— Имай, яво, шильника, имай!
— Сбоку, сбоку заходи!
— Да что ж вы творите, ироды?! Весь товар-от перевернули!
— Молчи, тетка, не до товару твово — вишь, обманника имаем!
— Сбоку, сбоку давай, Ярема! Эх, уйдет, шильник…
Молодой востроглазый парень в нагольном полушубке и треухе перемахнул через ограду и скрылся где-то на Пробойной. Преследовавший его Ярема — грузный сорокалетний дядька, торговец рыбой — поскользнувшись на собачьем дерьме, ткнулся носом в ноздреватый мартовский снег.
— Эх, ты, Ярема, — подбежав, укоризненно покачал головой его сосед по рядной лавке Парфен-селедочник. Сам-то Парфен хоть и тоже немолод, но и не так грузен, как Ярема, худ, увертлив, ловок — вполне мог бы схватить жулика, ежели б вот не Пелагея-пирожница. Товар, вишь, у ней опрокинули…
— Почто шумим, мужики? — полюбопытствовал, проходя мимо, Олексаха-сбитенщик… вернее, бывший сбитенщик, ныне — Олександр, человек служилый.
Олексаху на Торгу всякий знал, доверяли.
— А ты глянь-ко!
С сопением выбравшись из сугроба, Ярема-рыбник, разжав кулак, протянул Олександру серебряную монету с изображением двух сидящих человеческих фигурок. Монета как монета. Обычная деньга новгородская.
— Обычная? Да ты зубом кусни, человече!
Олексаха так и сделал. С двух сторон монеты остался четкий отпечаток зубов. Фальшивка!
— И вон, ишо такая же! И там…
Олексаха задумался, сдвинув на затылок круглую, отороченную бобровым мехом, шапку.
— Вот что, мужи славные новгородские, давайте-ка сюда деньгу нехорошую. Обманника-то запомнили?
— Ага, запомнишь тут. Парень как парень. Полушубок нагольный — в таких пол-Новгорода — треух на глаза надвинут. Непонятного цвета глаза… волос тоже не виден. Сам, обманник-то, ни высокий, ни низкий, ни худой, ни толстый… средний, в общем… как все.
— Это плохо, что как все, — покачал головой Олексаха. — Еще буде увидите шильника — ловите, иль хоть запомните.
Мартовское солнышко плыло в облаках по высокому небу, пригревало, с каждым днем все сильней, ласковей, топило понемножку снега, разгоняло ночную стужу. Все обильнее капало с крыш, все синее становилось небо, а раз, поговаривали, грохотал уж как-то под утро первый весенний гром. Был ли гром, нет ли — может, и врали. Но что весной все сильнее пахло — все вокруг замечали. Орали на деревьях вороны, пищали синицы, воробьи да прочие мелкие птахи — теплу радовались. Даже Волхов седой заворочался подо льдом, забурчал, затрещал, заругался, чувствуя близкий конец своей зимней спячки.
Стоял Великий пост перед Пасхой, люд православный мяса не покупал, постился, кой-когда перебиваясь рыбкой, да кашей, да огурчиками солеными, да мочеными яблоками — тем сейчас и торговали, да еще рыбьим зубом, да рухлядью мягкой — мехами, издалече ушкуйниками привезенными. Оптом продавали, редко кто шкурками покупал. Торопились купцы — чуть-чуть и растопит весна-красна дороги зимние, по болотам, по рекам проложенные, потянулись уже в родные края гости заморские, свеи да немцы ливонские — кому ж охота в распутицу зазря прозябать, а до лодейных-то путей еще месяца полтора-два — не меньше. Потому и снижались цены. Быстро шла торговлишка-то, уж и не торговались почти, сбыть лишь бы. А быстрота — она в торговле помеха! Мало, что выгоду не соблюсти никак, так новая напасть — то тут, то там фальшивые деньги серебряные обнаруживались — с виду деньга как деньга — а мягка, легковесна! Забили тревогу купцы-ивановцы, многими жалобами посадничьих людей завалили. Да и как не жаловаться-то, коли такая напасть? В колокол ударили, вече собрав. Порешили: разбираться с тем делом посадничьим людям приметливо, фальшивомонетчиков изловить да казнить жестоко, чтоб другим неповадно было. В Волхов их всех, в прорубь! А имущество — на поток всем… Посадничьим в помощь — и софийские люди чтоб! Об Олеге-то Иваныче, человеке житьем, многие купчины были наслышаны. Про хитрость его, да ум, да к сыску способность гораздую…
Вот и ехал себе потихоньку житий человек Олег Иваныч на княжий да посадничий суд, в палаты судебные. От солнца щурясь, орешками калеными потрескивал, шелуху под копыта каурому сплевывая. Оба теплу радовались. И сам Олег Иваныч, и конек его каурый.
Пробежав по Пробойной, парень в нагольном полушубке, резко свернув, юркнул в щель — на Буяна, да затем на Рогатицу, да, чрез улицу, на Славкова. Треух по пути скинул, шапчонку натянул круглую, монашеской скуфейки навроде. На Славкова оглянулся — нет, не гнался никто — шапку набекрень сдвинул — лицо круглое, глуповатое, солнышку подставив, сощурился. Постоял немного так, отдышался, к храму Дмитрия Солунского подошел, тут же, на углу Славкова и Пробойной. Заоборачивался, захлопал глазами бесстыжими. Вроде как искал кого-то.
А не надобно было искать-то. Кому надо — тот уж его углядел давненько, подхватил под руку, отвел за церковь, в место меж оград, безлюдное.
— Молодец, Суворе! Вот те монеты.
Отсчитал: раз, два, три… Три.
— Че-то мало, дядько?
— А много потом будет, Суворе, — ласково заулыбался козлобородый — Митря Упадыш, он-то и ждал-поджидал тут Сувора, с утра еще. По сторонам глазами зыркнул, руку за пазуху сунул…
— Возьми-ко.
Сувор взглянул, поморгал глазами… Хм… Штука какая-то непонятная. Мелкая, вроде отливки кузнечной. Буквицы наоборот… Впрочем, Сувор и нормальных-то буквиц прочесть бы не смог — к грамоте зело ленив был с детства. А умел бы читать… «Денга Новгородска» — вот чего было на отливке написано, да рисунок — два человечка сидят.
— Подложишь Петру-вощанику в мастерскую аль ишо куды, — ласково пояснил Митря. — Главное, смотри, чтоб не нашел. Да не сомневайся, паря, твоя Ульянка будет, и месяца не пройдет!
— Хорошо бы так, — закраснелся Сувор. — Ой, хорошо бы!
— Будет, будет, не сомневайся. Только меня слушай! Да, аспиду тому, софийскому, тоже в кафтанец зашьешь, незаметно, — Митря протянул Сувору пару серебряных денег. — Смотри, не потрать — деньги нечестные. Ходит к вощанику Гришка-то?
— Ходит, сволочь. Кабы не он… Ух! Все, как обсказал, исполню!
Простившись, парочка разошлась в разные стороны. Митря пошел по пробойной к Федоровскому ручью, а Сувор — тоже туда же, только не прямо, а переулками. Спрятанное за пазуху нечестное серебро жгло грудь Сувора.
Солнце сияло в крестах Святой Софии, белило — больно смотреть — крепостные стены, стелилось разноцветьем сквозь витражи окон Грановитой палаты.
Синий, зеленый, желтый, оранжевый…
Олег Иваныч прикрыл глаза рукой, чуть подвинулся на широкой лавке — прям на него лучи-то падали — жарко! И без того в палате — не продохнуть, почитай, вся Господа! Бывшие посадники да тысяцкие, да новые, да Феофил-владыко, князя только не было, Михаила Олельковича, не сдружился он с Новгородом, к Киеву в отъезд собирался.
«Сто золотых поясов» — цвет боярства новгородского — в палате Грановитой собрался. Послание Филиппа, митрополита Московского, слушали да решали насчет посольства московского — принять аль восвояси отправить с бесчестьем. Послание митрополичье не ново для новгородцев было. Не отступаться от старины и благочестия православного увещевал Филипп — будто кто всерьез такое сотворить собирался — не прилагаться к латынским тем прелестям… Типа — к Унии Флорентийской, к Папе Римскому… Многие в зале смеялись: и Киев, на воде вилами писано, к Унии-то, а уж Новгород — и подавно! Чего писать тогда? Ясно чего — то московского князя Ивана рука, не ходить к бабке! Так и писано: «поручены, бо, новгородцы, под крепкую руку благоверного и благочестивого Русских земель государя Великого князя Ивана Васильевича Всея Руси!»
Заволновались бояре, зашептали, закричали прегромко:
— Не хотим московитского князя!
— Спокон веков Новгород сам себе Господин — тако и будет!
«Сто золотых поясов» — Господа. Панфильевы, Арбузьевы, Астафьевы, Борецкие… Тут и Ставр-боярин, куда ж без него-то? Сидел, надменно в потолок глазьями оловянными уставясь, ус покусывал. Иногда поворачивался к выступающим, особо буйным, вот, как сейчас, к Борецкой Марфе. Ух и разошлась Марфа, посадника старого, степенного, Исаака Андреевича вдова, да нового — Димитрия — мать. Стара боярыня, но духом верна вольностям новгородским. Хотя, в принципе, совершенно безвредная женщина — мухи зря не обидит.
— На погибель Новгороду московитское иго!
Ну, насчет Новгорода сказать трудно, что ему на погибель, а вот новгородской свободы в случае подчинения Ивану точно не будет. Хотя и без того лет пятнадцать уж, как формально признает свою подчиненность Новгород, по Ялжебицкому договору позорному. Позорным-то позорный был договор, однако составлен хитро — лазеек для новгородцев много, тем и пользовались.
Неспокойно было в Новгороде, ох, неспокойно! И без московского князя проблем хватало. Простым людям, свободным гражданам новгородским — в Господу путь заказан, боярам только, и то не всем, а самым знатным. Они-то и правили Новгородом, олигархи чертовы. Доправились, блин! Кричали: богато живет люд новгородский, спокойно… Спокойно — это типа стабильно. Дорогой же ценой та стабильность доставалась — бедняков много было в Новгороде, пожалуй, побольше даже, чем в Москве. За их счет и жили, да за счет смердов, всех прав лишенных. Торговлишка, правда, еще… В основном — воск, мед, меха да зуб рыбий. Сырье, в общем. Была б нефть — тоже на продажу бы гнали, коли б кому занадобилась. Ремесленного-то товару… ну, не сказать, чтобы совсем нет… Много в Новгороде мастеров-оружейников — тот же Никита Анкудеев, что Олегу Иванычу шпагу выковал, — много златокузнецов-ювелиров, и по литью, чеканке, механизмам замковым хитрым — тож специалисты есть. Однако они ведь и в Нюрнберге есть, мастера-то. И в аглицких землях, в немецких, в свейских… Зачем же заморским купцам новгородский ремесленный товар нужен, коли свой-то ничуть не хуже, а может быть, еще получше будет? Особенно доспехи да оружие. Бахвалились, бахвалились новгородцы своими кольчужками, а кому они нужны, кольчужки-то ваши, в немецких землях? Там своего железа навалом! Да какого! Полный рыцарский доспех, легкий, да удобный, да прочный — это вам не кольчужка — вещь на века, надежная!
В общем, почти полностью сырьевая экономика, да что там почти… За счет цен на меха да воск и держится хваленый покой новгородский… как и российская такая ж многажды хваленая «стабильность» — за счет нефти да зарплат нищих, что и зарплатами-то назвать стыдно.
Олегу Иванычу иногда аж страшно становилось — до чего похожи были средневековый Новгород и Россия начала двадцать первого века. Те же люди, те же проблемы, да и пути их решения — те же! Словно и не проваливался никуда Олег Иваныч, настолько все то же. Вон, Господа — хоть сейчас делай репортаж из Госдумы. Свои Жириновские, Зюгановы, Путины — все имеются, и не в одном разе даже. Вот купцы-ивановцы — монополисты внешнеторговые — тоже кого-то сильно напоминают, а вот бесправные худые мужики да смерды — совсем как бюджетные нищие россияне — им лапшу на уши вешают, а они веруют, словно в Богородицу-Деву, прости Господи, до чего ж глупые люди!
— Славен Новгород, Господин Великий!
Ну, пока еще славен… свободой да вольностями своими. Вот за свободу эту и голову сложить можно!
— Славься, Отечество наше свободное… Тьфу… Россия, священная наша держава!
Интересно, чем священная? А в Конституции 1993 года, между прочим, сказано о приоритете прав человека над интересами государства. А тут — священная наша держава… Уж куда священней!
Похожи, чего там… И тут и там — мздоимство да ложь. Отъедешь чуть дальше от центра — мерзость и запустение. Воруют. Лес, воск, пеньку, нефть… Все воруют. А вощаные головы всякой дрянью для весу набивают — потом жалуются, что ганзейские немцы их воск колупают. Так вы не кладите туда что попало-то!
Народ новгородский, как российский, на посулы податлив. Хотя не так легковерен — телевидения-то нет, да и газет. Слава Богу, хоть в этом новгородцам полегче. Однако врут на вече наймиты боярские да вечевых мужиков подкупают почти что открыто. Вот вам и свободные выборы. Слава Господу, что хоть вообще выбор есть, — придет Иван московский, и такого не будет! Свобода… Вот — главная ценность! Никто не следил за людьми новгородскими, никто не указывал, всяк сам на себя рассчитывал, пред собой и ответ держал, да еще перед Господом. Свобода… Зря в Новгороде никого смертию не казнили — судили сперва. А на суде, посадничьем да княжьем, — далеко не все хотением боярским делалось. Хватало и честных людей судейских. Облыжно — попробуй засуди кого, вовек не отмоешься! Хотя можно было и проиграть… Но можно было и выиграть, вот взять хоть Олега Иваныча… сколько его ни обвиняли то в убийстве лоцмана, то еще бог знает в чем — а судить все ж не решились без доказательств приличных. Правильно и в России суд понимают, скоро, даст бог, дойдет и до уровня новгородского…
Не то — на Москве. Там Иван, князь великий, — судия высший. Как захочет, так и будет. «Порядок». Не приведи Господь, в России опять так устроится… или в Новгороде. Свобода… Вот та вещь, которую стоит защищать… однако защитников все меньше и меньше. Кто на власть обозлен, кто на суд неправедный, на мздоимство, на лжу, на жизнь свою забубенную. У соседей-то завсегда лучше кажется. То — о Москве…
Кстати, и о Москве.
Вот и посольство московское в дверях нарисовалось. Все ж таки решили принять бояре-то… Во главе посольства муж, умен да славен, — боярин Иван Федорович Товарков, прямой потомок Гаврилы Олексича, что в Невской битве на свеев много страху навел вместе с князем молодым Александром, Невским за то прозванным.
Затихли бояре, ждали.
— Не отступай, моя отчина, от православия, — зачитывал Иван Федорович княжескую грамоту, — изгоните, новгородцы, из сердца лихую мысль, не приставайте к латынству, исправьтесь и бейте мне челом; я вас буду жаловать и держать по старине…
Судя по содержанию грамоты, «старину» великий князь Иван Васильевич понимал весьма своеобразно — как полное подчинение всех русских земель себе, любимому.
Забуянили бояре, восстали с лавок — куда там российской Думе — лавки похватали, вот-вот послу московскому главу размозжат. «Убирайся вон со своим князем!» — кричали, в смысле — катись куда подальше. Ставр, наклонясь, что-то шептал Борецкой, показывая на посла; та кивала, холодно улыбаясь. Феофил-владыка порывался было вступиться за посольство… Куда там!
Общий настрой был вполне ясен — к черту соглашение с московским князем!
Кто-то крикнул про псковичей. Дескать, те б не прочь в посредники.
К черту и псковичей!
К черту!
С бесчестьем вышел из палаты боярин Товарков. Никто не проводил с почетом, лишь кричали да глумились охально.
Олегу Иванычу стыдно стало — все ж при должности теперь немалой. Нельзя так с людьми поступать — особенно с послами. Тихонько выбрался в сени, спустился с крыльца. Догнав Товаркова, схватил за рукав:
— Не гневайся, Иван, свет Федорович. — Поклонился. — Стыдно мне за мужей новгородских! Стыдно…
Улыбнулся боярин, ответил словами княжьими:
— Волны бьют о камни и ничего камням не сделают, а сами рассыпаются пеной и исчезают как бы в посмеяние. Так будет и с этими людьми-новгородцами. Благодарствую за милость. Не знаю, как имя твое…
— Олег Иваныч, человек служилый.
— Слыхал о тебе, человече, — кивнул боярин, — от Ивана Костромича, да от Курицына, посольского дьяка.
Осмеянный надменными боярами, никем, кроме Олега, не провожаем, взлез Иван Федорович на лошадь, оглянувшись, кивнул печально. Уехал на двор постоялый…
Ежели б не Олег Иваныч — совсем бесчестьем закончилось бы посольство московское.
После отъезда Товаркова совет отнюдь не закончился… Олег Иваныч незаметно пробрался на место, прислушался:
— …из мест многих монет серебряных денег бесчестных…
— Рекоша бо, прелюбодейством, тако, что не…
— Изустным Бога-Христа целованием…
Ни черта не понятно, чего хотят господа бояре?
Мысленно плюнув, Олег Иваныч достал из сумы на поясе лист бумаги, перо, чернильницу яшмовую… Пристроился на подоконнике, благо широк, записал для памяти:
Протокол заседания Совета Господ
Новгородской республики.
Присутствовали: архиепископ Новгородский Феофил (министр духовных и иностранных дел), замминистра по безопасности — Завойский О. И., посадник (глава правительства) Дмитрий Борецкой, начальник городского ополчения — тысяцкий Ермил, бояре, два клерка — посадничьих дьяка.
Повестка дня:
1. Рассмотрение входящей документации (Послание митрополита московского Филиппа).
2. Заслушивание московского посла.
3. О фальшивых монетах.
Решения:
По первому вопросу: особых комментариев не последовало.
По второму вопросу: решили единогласно ни на какое соглашение с Иваном московским не идти, пусть довольствуется условиями Ялжебицкого мира.
По третьему вопросу: создана комиссия для расследования распространения в Новгородской республике фальшивых серебряных денег, в составе: Завойский Олег Иваныч — председатель, остальной народ — на его усмотрение. Срок — две недели.
Писано в месяце марте, лета шесть тысяч девятьсот семьдесят девятого от сотворения мира.
Вот так-то лучше будет!
Встав, Олег Иваныч низко поклонился Господе, поблагодарил за оказанное доверие и заверил высокое собрание в том, что приложит все силы к расследованию этого богомерзкого преступления.
— Со шпынями не церемонься, Олег Иваныч, — отечески напутствовал Феофил. — По-московитски с ними, пытать! Геронтий, кат бывший, — в твоем полном распоряжении, денно и нощно.
— Сделаем! Хорошо б серебришка на оперрасходы.
— Вот те грамота… Получишь в казне. Потом отчитаешься.
Не успел Олег Иваныч в дело вступить, как к вечеру уж и людишки были выловлены по фальшивым деньгам бесчестным. Вощаник Петр да Гришаня, человек софийский. На дворе Петра-то обыском тайник сыскали. А в тайнике том — формы отливные для печатанья денег, так-то! Спрятаны были искусно — видать, опытный Петр-то — в кусок воска заколупал. Ежели б не Сувор, подмастерье честнейший, век бы не сыскали! Да и в кафтане Гришани софийского, опять же по наводке Сувора, пять монет серебряных бесчестных отыскались. Откуда они — то Гришаня не сказывал. Схватили обоих немедля, на законы новгородские не оглядываясь, дело-то спешное — да в поруб, посадничьим именем. Еще Сувор на Гвизольфи указывал, князя Олельковича человека свитского, — да того словить не успели, съехал Михаил Олелькович с Новгорода, не заладилось у него с боярами-то. Отъехал в Киев, тем паче — умер брат его старший Семен, князь киевский, — вполне возможно было на вакантное местечко сесть — так чего теряться-то?
Олег Иваныч явился в посадничий поруб с утра, как узнал об аресте Петра и Гришани. Переговорил с обоими — что Петр, что Гришаня об одном молили — об Ульянке. Одна на усадьбе осталась, как бы чего не вышло. Хорошо б на Москву отправить Ульянку, к сестрице старшей. О том и просил Петр-вощаник… Обещав, кивнул Олег Иваныч, задумался. Не такое простое дело — Ульянку из города выпустить, как бы господа бояре не заартачились, а могли вполне — Ставра послушав. Хоть и в должности государственной теперь Олег Иваныч, да родом не вышел — что скажет Господа — бояре знатные, то и делать обязан! Эх, давно пора боярам хвосты прижать, но пока… Пока, поразмыслив, Олег Иваныч решил действовать тайно. Как освободилось времечко — наведался на усадьбу вощаника, с Олексахой вместе. Зря наведался. Не было девицы на усадьбе, вообще никого не было: ни Сувора, ни другого подмастерья, Нифонтия, пес только дворовый был, Полкан… в кровавой луже лежал, стрелой подстреленный. Эх, Полкане, Полкане… Покручинился Олег Иваныч да плюнул — некогда кручиниться-то, надобно Ульянку сыскивать! Кто б подсказал-то…
Олексаха шепнул, вспомнив:
— Есть, Олег Иваныч, на Федоровском ручье колдунья одна, бабка Игнатиха.
Что за Игнатиха? Да где живет?
На той стороне, на Федорова улице.
Вспрыгнули в седла, поскакали.
Черный забор, покосившийся, местами залатанный, древний. Старый дед на лавчонке, у забора.
— Дедко, бабка Игнатиха, не скажешь, где?
— Куды вам Игнатиха?
— Надобна… для зелья приворотного. Да ты не сомневайся, возьми вот медяшек с десяток. Мало? Вот те еще столько же. В каком-каком доме? Том, низком, за вербою? Видим, видим. Ну, благодарствуем, дед. Обратно пойдем — отблагодарим еще.
Изба была старой. Крытой желтой соломой, покосившейся, вросшей — не по климату — в землю. Под стать избе забор — жерди посгнили, погорбатились, кое-где упали на землю. Ворота кое-как держались еще Божьим словом… а скорее, и не Божьим вовсе…
На конское ржание отворилась, заскрипев, дверь. Высунулась из избы бабка, обликом — истинная ведьма. Кривая, костистая, горбоносая. Левый глаз бельмастый, правый — смотрит, аж жжет! Насквозь буравит! Одета бабка в хламиду бурую, на главе плат черный с кистями повязан, в желтой руке — посох рябиновый.
Увидев гостей незваных, сощурилась неприветливо:
— Чего надобно, аль просто так зашли, на погибель свою?
— Не на погибель, бабуся, а за делом. Нет ли у тебя, случайно, зелья какого приворотного?
— Не держим такого, — сверкнула колдунья глазом. — Одни травы от лихоманки.
— Хорошо. Давай травы. Оплата по прейскуранту?
— Чего?
— Сколько стоят-то?
— Полденьги пучок!
— А в рот тебе не плюнуть, бабуля?
— Ладно. Отдам за полпула… только всю связку. Жаб сушеных не надобно ль?
— Ну, если только коньяк настаивать. А вообще, пока нет, не надобно. Давай свои травы.
— Ждите!
Захлопнув дверь, бабка Игнатиха скрылась в избе. Долго не показывалась, искала, видно. Рядом с избой сараюха приткнулась дощатая. Олег Иваныч кивнул Олексахе — проведай. Тот ломанулся мигом, тут же и возвратился докладывать.
— Ничего такого, Олег Иваныч, но бельишко кой-какое сушится.
Усмехнувшись, Олексаха поднял зажатый в руке алый лоскут.
— Неужто пионерский галстук? — пошутил Олег Иваныч. — Частичка комунячьей крови. В общем, белая палата, крашеная дверь.
— Плат-то девичий, — не понял шутки Олексаха. — Красивый плат. Бабки таких не носят.
Тут вышла из избы Игнатиха. Шамкнула ртом беззубым, травы пучок протянула.
— И что — полпула за сей гербарий? Ну, бабка, ты в пролете. Чья, кстати, косынка? Да не смотри ты так, нам твое колдовство — тьфу — напрочь по барабану. Ульянка где, сказывай! Да не бойся, друзья мы… Гришани-отрока волей присланы.
Колдунья, проявив неожиданную прыть, попыталась скрыться в избе. Не на тех напала! Олег Иваныч ловко подставил сапог в щель меж косяком и дверью.
— Чур тебя, чур! — плюнув на гостей, зашипела Игнатиха и сделала последнюю попытку впиться Олегу Иванычу в глаза желтой костлявой рукой.
— Ну ты вообще уж ополоумела, блокадница хренова! — не на шутку рассердился Олег Иваныч. — На костер захотела, кости попарить? Так мы тебе это враз обеспечим… Хватай ее, Олексаха!
В этот момент из распахнувшейся двери выскочила девчонка с черными распущенными по плечам волосами. В руках она держала настороженный боевой самострел. Как и натянула-то, умудрилась? Блеск ее холодных голубых глаз обещал пришельцам мало хорошего.
— А ну, отпустите бабусю, не то хуже будет!
— Ох, как надоели мне эти тинейджеры, — покачал головой Олег Иваныч, поворачиваясь к девчонке. — Ты Ульянка, что ль?
— Не твоего ума дело! Отпускай, сказываю!
— Я — Олег Иваныч. Гришаня, чаю, рассказывал?
— Рассказывал. А не врешь?
— Ну, блин. — Олег Иваныч почесал затылок. — У Гришки родинка под левой лопаткой, так?
— Ну, так, — подумав, согласилась девчонка и покраснела.
— Может, в избу пройдем все-таки? Не май месяц.
Ульянка посторонилась, опустив самострел, и Олег Иваныч, пригнувшись, вошел в жилище. За ним последовала и сама хозяйка, колдунья Игнатиха, ведомая бдительным Олексахой.
— Что с батюшкой? — Ульянка схватила за руку усевшегося на лавку Олега Иваныча. Ничего не отвечая, тот внимательно рассматривал внутреннее убранство избы. Закопченные стены, такой же потолок — избенка была курной, — узкое, едва пропускающее свет оконце, затянутое бычьим пузырем. По стенам висели пахучие пучки трав, выделанные беличьи и куничьи шкурки, в углу — к удивлению Олега — икона Параскевы Пятницы. Пятницы… Где-то уже слышал Олег Иваныч про пятницу-то… В центре, в очаге, сложенном из округлых речных камней, весело пылало пламя.
— Плохо дело с батюшкой-то твоим, — в ответ на Ульянкины мольбы молвил Олег Иваныч. — Пойман и в поруб посадничий брошен! Ну не реви, не реви, не надо. — Он ласково погладил плачущую девчонку по голове. — Слезами, сказывают, горю не поможешь. Хозяйка, может, угостишь чем?
Выпущенная из цепких рук Олексахи колдунья, поворчав, поставила на стол глиняный кувшинец с исполненным квасом. Хороший напиток, хмельной и на вкус приятный.
— Короче, нельзя Ульянке тут оставаться. Сыщут!
— Да как сыщут-то?
— Как, как… Как мы отыскали. Бежать ей надо, бабуся! И чем скорее — тем лучше. Иначе и ее пытать будут. На Москве сестрица есть, батюшка сказывал?
— Так. Гликерья. За Нежданом, двора постоялого держальщиком, замужем, — кивнула Ульянка.
— Примут сестрица-то с держальщиком?
— Про Неждана не знаю. А сестрица, думаю, рада будет… А батюшка-то? А… А Гриша… он что, тоже в порубе?
Олег Иваныч кивнул, задумался.
— Посольство московское не сегодня-завтра отъедет. Поговорю с Товарковым, Иван Федорычем. А ты наготове будь. Ежели что, вот он, — Олег Иваныч кивнул на Олексаху, — заедет конно. Поняла, дщерь неразумная?
— Ой, батюшка…
Поцеловав руку Олегу Иванычу, Ульянка бросилась на колени, к иконе:
— Матушка, Параскева-Пятница, убереги батюшку да Гришу…
— Ладно, не убивайся. Может, и обойдется еще…
Врал Олег Иваныч. Ой, врал, ой, лукавил. Ой, не обойдется. Не обойдется, коль сама Господа за дело то взялась. Хоть и поставлен Олег Иваныч главным — а у бояр, у каждого, свой сыск! Вощаника-то Петра точно казнят — велики улики, а откуда они взялись, разбираться не станут, некогда — упасти бы Гришаню-отрока. Тоже неизвестно — как…
— Коль ты Олег Иваныч, и у меня есть тебе молвить что, — провожая, вышла следом на двор колдунья, бабка Игнатиха.
— Ну, молви, коль есть. Имя вот твое не знаю…
— Марта я.
— Молви, Марта Игнатьевна.
— Есть у тебя враг сильнейший — Ставр-боярин! Пасись его, господине! Пасись! Зело коварен Ставр.
Олег Иваныч усмехнулся: а то он этого раньше не знал:
— Благодарствую, Марта Игнатьевна…
Простились, обратно в палаты поехали — думать, как Петра с Гришаней выручать… Некогда и пообедать было — перекусили на Торгу пирогами заячьими…
Тусклое солнце светило сквозь серую морозную дымку. Медленно прокатившись по небу, склонилось к закату, на миг лишь окрасив оранжевым светом узорочье боярских теремов Неревского конца. Ушло, закатилось за городскую стену, лишь красный отблеск держался какое-то время на золотом куполе храма Федора Стратилата. Из своего терема смотрел на него боярин Ставр сквозь слюду окон. Хлебнув из братины квасу, подсел к столу, скривил тонкие губы в улыбке. Вытащил из дубовой шкатулки березовые квадратики-грамоты, подсвечник ближе подвинул. Горели свечи, потрескивая, стекал, капал плавленый воск.
Перетасовал боярин грамоты, словно карты, недавно во франкской земле придуманные. Вытащил наугад — «Гвизольфи». Усмехнулся, сжег на огне свечи. Следующую достал. «Вощаник Петр». Запылала грамотца. И другая… «Гришаня-отрок». И ее в огонь!
Чем больше грамот сгорало, тем веселее становилось Ставру, радостней, словно судьбы людей зависели лишь от того, пожрет ли — нет ли — огонь маленький квадратик бересты.
Ставр сжег «Гришаню-отрока», захохотал, щелкнув пальцами, романею потребовал. Испил, вновь грамоту вытащил.
«Софья»!
Софья! Боярыня Софья…
Нехорошо усмехнулся Ставр, сверкнул очами оловянными. Шевельнув губами, поднес к огню маленький берестяной квадратик… Сжег дотла, не чувствуя, как пламя опалило кончики пальцев! Заранее сжег, уверен был — никуда не денется Софья. Никуда.
Вечером по приговору веча да суда посадничьего казнили вощаника Петра. Не дожидаясь палача Геронтия, хотели было кинуть по веча велению в прорубь, да слуги посадничьи упросили милосердной смертию казнити — уж больно страшно в проруби то. То и порешили вечники — казнити быстрою смертью. Охочий человек боярина Ставра именем Тимофей вощанику голову отрубил. В порубе отрубил, не прилюдно. Посадник только был, да тысяцкий, да бояр несколько. Неумеючи отрубил, шильник, похабно. Не раз и не два махал саблюкой, покуда голова отделилась от шеи. Все стены кровушкой забрызгал и лицо Гришани-отрока, коего специально на казнь смотреть заставили, за власы держа. Не выдержал отрок, побледнев, сомлел — водицей холодной откачивали. Рекли: завтра твоя очередь, покайся, откуда денжицы взял бесчестные… Не Олег ли Иваныч, человек софийский, дал? Думай, думай, отроче. До утра-то ночь долга! А голову отрубленную мы рядком оставим, чтоб легче думалось!
Узнав о казни, осерчал Олег Иваныч. Заявил сразу — иль все по-моему будет, или — как хотите. Бояре бородищами затрясли — еще чего, будет им кто указывать, Феофил-владыко еле-еле их уломал. Мол, пусть хоть советуются иногда.
Смурной приехал Олег Иваныч на свою усадьбу, что на углу Ильинской и Славной. Завалился на печь, сапог не скинув, скрипел зубами.
— Вот вам и демократия новгородская, вот вам и суд, вот и должность. Как захотели бояре, так и сделали… козлы-козловичи!
Опростал с Пафнутием-служкой да с дедкой Евфимием два кувшина винища хлебного, ругался пьяно, руками махал.
С утра Олексаха зашел. Порешив дела, поехали в корчму на Ивановской — винца выпить. Уж больно поганое настроение у Олега Иваныча было, да и у Олексахи не лучше. Настена, сожительница его, захворала незнамо с чего. Может, простыла, а может, дело похуже — порча! Недаром Настенин сосед на Нутной улице сразу Олексахе не понравился.
— Захворала, говоришь? — Олег Иваныч придержал каурого, сворачивая с Ивановской к Торгу. — После с тобой вина попьем, покуда ж… Есть тут у меня одна знакомая бабка. Только сперва-наперво к посольству московскому заедем. Чай, не успели еще съехать-то.
Глава посольства Иван Товарков принял гостей приветливо, усадив на лавку, угостил квасом, после о делах толковали.
— Возьмем девку, не сомневайся, — выслушав историю Ульянки, покачал головой посольский. — Знает она, где сестрица-то живет?
— Да, говорит, знает. Ну, благодарствую, Иван Федорович. Скорблю, что обошлись с тобой так.
— Пустое, — махнул рукой Товарков. Грустно махнул, безнадежно. Прощаясь, напомнил, чтоб Ульянка утром пораньше пришла, не проспала б.
— Да не должна б проспать, мыслю.
— Вот и славно.
Передав поклон дьяку Курицыну, да Ивану Костромичу, да Алексею-священнику, Олег Иваныч с Олексахой покинули московское посольство и поскакали прямиком к Федоровскому ручью. К бабке Игнатихе в гости.
На сей раз колдунья встретила их приветливо. Сразу провела в избу, у окна усадила. Девка Ульянка, сидя рядом, на лавке, пряла пряжу, напевая грустную тягучую песню — мотив: помесь Зыкиной с Би Би Кингом.
Когда вырастешь, девка, Отдадут тебя замуж. В деревню большую, В деревню чужую, Мужики там все злые, Топорами секутся…— К утру на Москву готова будь, девица, — с ходу сообщил Олег Иваныч, вытащил из калиты на поясе березовую грамоту, писало. Нацарапав буквицы, протянул Ульянке: — Куда подойти, тут сказано. Читать умеешь ли?
— Смеешься, господине? С батюшкой как?
— Да как… — Олег Иваныч запнулся. Отрубленная голова вощаника Петра с утра уже украшала посадничий двор. Ладно, нечего девку расстраивать, все одно уж.
Так и не ответил ничего, Игнатиху-бабку позвал:
— Дело к тебе есть, Марта Игнатьевна, у товарища моего.
Сладились быстро — за полденьги получил Олексаха полный набор колдовских зелий — от порчи, от сглазу, от приворота и даже от возможных превращений в собаку. Последнее зелье взял так, на всякий случай, мало ль, сгодится когда…
Выйдя на улицу, вскинулись в седла. Помчались во всю прыть. На Московскую дорогу сворачивая, не удержал скакуна Олексаха — сшиб на ходу человека в полушубке волчьем, посередке к мосту чрез ручей шел тот, не торопясь особо. Ну и поделом, что сшиб, не фиг посередине улицы шастать, честным людям путь загораживать! Главное, не насмерть чтоб… Да нет, вроде вон, в сугробе шевелится…
— Ах, вы ж, песьи дети, да чтоб вам! — выбравшись из подтаявшего сугроба, пришедший в себя прохожий обрушил на незадачливых всадников потоки отборных ругательств, периодически, с большим знанием дела, перемежая ругань проклятиями, тоже отборными. Где и научился-то?
Что-то знакомое почудилось Олегу Иванычу в его согбенной, но еще крепкой фигуре. Глянул внимательней… Боже!
— Батюшки, никак Пимен-отче!
— Обознался ты, человече, — сразу же отвернулся прохожий. — Какой я тебе Пимен?
— Не обижайся, прошу. Пойдем лучше винца с нами выпьем.
— Делать мне нечего, вино с вами пить, шильниками, — снова заругался прохожий. Однако в корчму пойти согласился…
Да, все-таки профессиональное чутье не обмануло Олега Иваныча, случайный прохожий оказался именно Пименом, еще недавно весьма влиятельным человеком канцелярии Софийского дома, недавно обвиненным — быть может, облыжно — в мздоимстве, симонии и прочих грехах.
— Ты на меня зла-то не держи, господине, за поруб, — хлебнув из чарки стоялого меду, грустно улыбнулся Пимен. — То не корысти ради… А вот ныне и сам — шпыня вместо… — бывший ключник вздохнул. — Феофила тож не виню… передай, когда встретишь. Не сладок теперь хлеб владычий, ох, не сладок. Гришаня-отрок в порубе? За глумы, поди… Нет? За деньги бесчестные? Ну и ну. Чудны дела твои, Господи.
Выпив еще пару чарок, Пимен начал прощаться. Вышел следом и Олег Иваныч. Проводить, уважить.
— Ты вот что, человече, — спускаясь с пустого крыльца, замедлил шаг ключник. — О тех деньгах бесчестных еще Иона-покойничек знал, доходили слухи. С Обонежья они в город идут, да тот путь, видно, кружный. А вот на Обонежье откуда они? То должен был Олекса-ушкуйник вызнать, Ионой посланный. Да сгинул неведомо где, как и Онисифор-инок.
Олег Иваныч вздрогнул, зримо вспомнив тот далекий летний вечер. Деревенский клуб, сбитого лесовозом подростка, рощинский мотоцикл, погоню. И Тимоху Рысь с козлобородым Митрей…
— Про Олексу скажу так: боярыня Софья должна б что знать, — понизив голос, сообщил Пимен и, перекрестившись, быстрым шагом вышел за ворота корчмы.
Софья? Интересно, при чем тут Софья? Очень интересно.
С Софьей продолжал встречаться Олег Иваныч, а как же… Только все реже и реже. И не потому, что разонравилась ему боярыня или он ей… Прусской улицы бояре да слуги боярские слухи разнесли, один другого гнуснее. Дескать, ходит к Софье на двор худой мужичаха, специально для утех любовных нанятый. Олег Иваныч самолично такое слыхал от одного из служек да от агента своего Меркуша, что пономарил в церкви Михаила на Прусской. Все реже заходил к боярыне — видел, мучается Софья от слухов тех, хоть и вид держит, будто нипочем ей.
А вот теперь официальный повод Софью навестить появился. Радоваться аль нет тому — Олег еще не знал.
Падала с крыш капель, синее с редкими розоватыми облаками небо, дышало весною. В куче преющего навоза, у лужи, весело чирикали воробьи. С Торга доносились зазывные крики продавцов и азартная громкая ругань. Из корчмы показался наконец Олексаха.
— Вот что, Олександр, — задумчиво произнес Олег Иваныч. — Полечишь свою Настену — к вечеру скачи на вощаника Петра усадьбу, поищи Сувора. Ежели сыщешь, — Олег Иваныч нехорошо усмехнулся, — мы с ним особо поговорим.
— А ежели как не сыщу Сувора-то?
— Хотя б узнай, где он быть может.
Кивнув, Олексаха вихрем взлетел в седло. Проводив его взглядом, Олег Иваныч подкормил каурого прикупленным тут же, в корчме, овсом и медленно поехал к палатам посадника.
Суд, за отъездом князя, Михаила Олельковича, отправлял лично посадник Дмитрий Борецкой — довольно молодой еще, осанистый мужчина, с густой, падающей на грудь бородой и хмурым отечным лицом. По всей палате на лавках сидели видоки — бояре, да по трое от концов, и судейские дьяки. От жарко натопленной печки парило.
Подсудимый Григорий грустно стоял в углу со скованными толстой железной цепью руками. Увидев Олега Иваныча, чуть воспрянул духом, даже попытался улыбнуться.
— Признаешь ли ты, человече Григорий, что вместе с казненным вощаником Петром занимался деланием бесчестных денег? — глухим голосом вопросил посадник.
— Нет, не признаю, — Гришаня отрицательно качнул головой.
— Тогда откуда ж у тебя в одежде бесчестные деньги? — язвительно осведомился с лавки кто-то из дьяков.
Отрок вздохнул, ничего не ответив. Кабы знать — откуда…
— Довожу до сведения уважаемого суда, что имение с собой бесчестных денег еще не означает их делание! — поклонившись, возразил Олег Иваныч, добавив, что все аргументы против Гришани весьма скудные. Кроме зашитых в кафтан фальшивок, честно говоря, и нету более ничего!
— А те деньги, может, ему и подсунул кто, — загадочно закончил Олег Иваныч. — Настаиваю на продолжении следствия!
— Согласен! — неожиданно поддержал его посадник. — Вину софийского человека Григория в делании бесчестных денег доказанной не считаю. Кто еще что скажет, людство?
Олег Иваныч внимательно вглядывался в Гришаню — вид, конечно, унылый, но не разбитый, как обычно бывает после дыбы. Стоит, с ноги на ногу переминается.
— Так что, так и не сознался? — опять спросили сбоку. Ну, ответ был, в общем-то, ясен. Сознался б, так не стоял бы сейчас здесь.
— Упорный, шпынь.
Посовещавшись с боярами, посадник что-то шепнул дьякам. Те забегали с бумажными свитками, спрашивали мнение бояр, Олега Иваныча, даже самого подозреваемого, Гришани.
Судебный вердикт был следующим: вину софийского человека Григория в производстве фальшивых монет считать недоказанной, дело продолжить дознанием еще на сорок дней, в течении коего срока два раза в день — утром и вечером — сечь отрока плетьми (особый случай!), двадцать раз каждый, ежели и после того не сознается — так и считать невиновным.
Олег Иваныч перевел дух.
Решение было гуманным. Могли бы и дыбу придумать, на случай-то особый сославшись, и жжение грудины соломой, и подвешенье за ребро на крюк, а тут… каких-то сорок плетей в день — не так уж и страшно, тем более исполнитель наказания — наверняка Геронтий. А с ним-то что эти плети — так, тьфу, плевое дело.
Гришаня тоже разулыбался, подмигнул Олегу Иванычу, тот в ответ незаметно показал большой палец. Эх, хорошо, что не было на заседанье боярина Ставра! Шарился где-то боярин, ну и пес с ним.
Обсуждая произошедшее, бояре шумно поднимались с лавок.
Плюгавенький дьяк подбежал к посаднику, тряся бороденкой, зашептал что-то на ухо.
— Еще одно, господа бояре! — останавливая уходящих, поднял руку посадник. Олег Иваныч замер на полпути к Гришане. Ничего хорошего не ждал он почему-то от того плюгавого дьяка, словно предчувствовал что.
— Не так и важно, но… — посадник махнул рукой. — Вместо Геронтия, палача уставшего, Ставр-боярин третьего дня предложил своего человека использовать. Как, господа суд?
— Используем!
— Да без разницы.
— Ну, так и запишем.
Вот так-то. Рано, оказывается, радовались.
Гришаня побледнел, закусив нижнюю губу, обернулся — воины повели его, гремя цепью, — жалобно посмотрел на Олега Иваныча. Тот подмигнул, успокаивая. Весело подмигнул, хоть на душе-то и у самого кошки скребли… Пролетели, выходит, с Геронтием. Жаль… Чужой-то палач — тем более, Ставров, с десятка ударов отроку спину раскроит, инвалидом на всю жизнь сделает. А признайся Гриша — вмиг голову с плеч снимут, или — расплавленное олово в глотку, с фальшивомонетчиками разговор известный. Хоть, кажется, и не принято то в Новгороде. Одна надежда оставалась у Олега Иваныча — узнать, кто палач… может ведь и не доехать палач до поруба-то, лихих людишек на улицах полным-полно.
Пользуясь своим правом, самолично спустился в темницу.
Холодно… Впрочем, не так, как тогда, в ноябре, весна все-таки.
— Исполнил ль просьбу мою? — бросился к нему Гришаня.
— Исполнил, — кивнул Олег Иваныч. — Завтра с утра уедет на Москву Ульянка.
— Вот благодарствую, Олег Иваныч. Дай обниму тебя, — громыхнув цепью, отрок вдруг заплакал навзрыд. — Вощаника Петра жалко, тятьку Ульянкина…
— Не горюй, отроче, — Олег Иваныч потрепал парня по плечу, скривился — самому б не заплакать. Отстранился — некогда было тут с отроком время терять, с новым-то палачом проблему решить надо, да с Олексахой увидеться — как он там, нашел Сувора-то?
Что это именно Сувор подставил вощаника и Гришаню с фальшивками, Олег Иваныч и не сомневался. Бывали и покруче интриги. Вот разыскать бы Сувора этого… да поспрошать вдумчиво, с палачом Геронтием вместе. Глядишь, и сказал бы что. Искать надобно Сувора, искать! Чем там, интересно, Олексаха порадует?
Приехав к себе на Ильинскую, отослал сразу Пафнутия в поруб — пирогов да кваску Гришане отнести. Сам ногами горницу мерял, ждал, волновался. Палач новый с утра приступить обещался… время есть еще — вечер целый. Ах, быстро бежит время… уж и смеркается. Узнать бы, откуда фальшивки в Новгороде берутся, яснее картина б стала. Не похоже, чтоб кустарь-одиночка те монеты делал — уж больно качественно изготовлены. Если б не вес, ничем бы от настоящих не отличались. Значит, серийное производство — большими партиями должны поступать. А кому выгодно подорвать новгородскую экономику? Москве — раз, псковичам — два, Ганзе — три, Литве — четыре… Ну, может, еще и ордену. Ищи, в общем, свищи. Стоп! Софья! Что там говорил про нее опальный ключник Пимен? Она должна знать про Олексу-ушкуйника — как теперь выяснилось, тайного коллегу Олега Иваныча. Именно Олекса, кажется, и напал на след фальшивок в Нагорном Обонежье. Но почему — именно оттуда? Следы замести? Может быть. Да и кузниц там много, хоть на том же посаде Тихвинском, и людишек рисковых хватает. Не надо и завозить чего — прямо там и печатать можно, на дальних погостах. Потом — тайными тропами вывезти…
Но при чем здесь Софья?
Так, может, у нее и спросить? Прям сейчас и ехать? Или… Или все-таки дождаться Олексахи?
Олексаха явился под вечер. Ничего не говоря уселся за лавку, устало вытянув ноги, отпил предложенного сбитня, сообщил с усмешкой:
— Нет нигде Сувора-то. Дружок его, Нифонтий, сказывал — третьего дня последний раз Сувора видывал. Доволен был тогда, Сувор-то, скоро, говорил, в богачестве заживу, к Явдохе в корчму сходим. С тех пор и ни слуху о Суворе, ни духу.
— Ну, правильно, — пожал плечами Олег Иваныч, — зачем он им теперь нужен, Сувор-то? Как говорится, мавр сделал свое дело.
Олексаха поставил на стол корец с недопитым сбитнем, задумался над последней фразой.
— В общем, растает Федоровский ручей — выловим в нем Сувора — так мыслю, — заключил Олег Иваныч. Олексаха утвердительно кивнул, соглашаясь.
— Завтра с утра попытай на всякий случай о Ставре, — прощаясь, дал цэу Олег Иваныч. — За усадьбой его последи, доверенных лиц поспрашивай. Ну, сам знаешь, учить не надо. Да, о палаче его охочем — особливо вызнай. А я пока в другое местечко смотаюсь.
С утра неожиданно повалил снег. Падал, кружась, целыми хлопьями, словно вернула свои права зима-холодица. Серое, покрытое тяжелыми тучами небо ощутимо давило на город, на его храмы, дома, башни и стены Детинца, на всех людей в нем.
Самолично оседлав каурого — слуга Пафнутий приболел малость, всю ночь зубом, сердечный, маялся, — Олег Иваныч тронулся в путь, отворачивая лицо от снега. Проезжая по Ярославову дворищу, повернул голову — какие-то немногочисленные мужики что-то лениво кричали супротив московского посольства… Припозднились чуть мужики-то, посольство уже съехало.
Перемешанный сотнями ног снег на Торгу превратился в грязную глинистую жижу. Олег Иваныч тронул поводья, объезжая кучку мелких торговцев, бывших коллег Олексахи, деловито судачивших о каком-то ночном пожаре. Взъехал на мост. Интересно, что такого может знать Софья об Олексе? И о фальшивых деньгах… И не о том ли пытал ее Ставр тогда, в заброшенной часовне на Лубянице? Так и не заговаривала боярыня про то больше, а Олег Иваныч специально не спрашивал, хоть и чесался язык.
Свернул с Детиничьего мостика на Новинку. Резко запахло гарью. В виду Софьиной усадьбы, на углу Новинки и Прусской, собралась толпа. Олег Иваныч пришпорил коня. Боже! На месте зажиточной боярской усадьбы догорало пожарище! Черные, обуглившиеся стены терема вот-вот должны были рухнуть… Спрыгнув с коня, Олег Иваныч, закрывая лицо мокрым плащом, бросился в терем. Слезящимися от дыма глазами осмотрел горницу, спальню, людскую. Пусто! Лишь на пороге молельни лежал лицом вниз какой-то мужик в сером армяке. Олег Иваныч рывком перевернул его на спину… Никодим! Слуга Софьи… В груди старого слуги торчал кривой татарский нож, по всей комнате тут и там рассыпались кровавые пятна.
— Там, в амбаре, люди, — еле слышно сказали сзади. Олег Иваныч обернулся, узнав в молодом парне дьяка посадничьей канцелярии. Молча кивнув, последовал вслед за ним. Отдышался, пока шел через двор, наполненный плачем. Кричали выпущенные из амбара слуги. Те, кому повезло не быть убитым и не задохнуться в дыму. Хорошо — снег всю ночь шел…
Присланная посадником команда складывала найденные трупы у обгоревшего забора. Средь обожженных тел изредка попадались и женские. У Олега заныло сердце. Подойдя ближе, он внимательно всмотрелся в лица погибших. Нет, никого из них он раньше не знал… хотя… вот та молодая девчонка — сенная Софьина девка, а тот парень рядом — конюх.
— Парень-то кинжалом заколот, — пояснил дьяк. — А девка — удушена.
Веселенькая история… Еще одна посаднику морока — поджог усадьбы, да еще на Прусской, в самом-то боярском гнезде — дело куда как серьезное, на тормозах не спустишь при всем желании.
Опрос по горячим следам не дал почти ничего. Ворвались ночью какие-то шильники, лица черными тряпицами замотаны, поди узнай — кто… Кого сразу убили, кого — в амбар. Что с боярыней? А вот этого не видали. Нет, вроде как возок за оградой стоял — кони ржали… впрочем, следы все снегом засыпало.
В задумчивости, полный тоски и самых нехороших предчувствий, поехал Олег Иваныч на Владычный двор. Владыко Феофил встретил его встревоженный, наслышан уж был о пожаре. Ничем конкретным не порадовал его Олег Иваныч, покачал головой да развел руками — расследование покажет, кто поджег да зачем. Подумав, попросил полномочия усилить — мало ль кого с усердием пытать придется.
— Ты, владыко, грамоту мне выдай особую, с печатью… чтоб не обижались посадничьи да послушались бы…
Выдал таковую грамоту Феофил. Поворчал, но выдал. И в самом деле, не каждая ж собака Олега Иваныча знает, а в грамоте сказано:
«Владычьим именем да Божьим промыслом человек служивый Олег Иваныч имать право имеет да дознаванье производить усердно…»
К полудню посланный к усадьбе Ставра Олексаха, злой да уставший, — шарился по злачным местам ровно собака.
— Нет в городе Ставра, — отдышавшись, доложил он, — ни на усадьбе, ни еще где. Дьячок церкви Дмитрия Солунского — она рядом там — сказывал, вроде как под утро проезжал боярский возок с охраной, куда — Бог весть. Служки на Ставровой усадьбе вольготничают, вино твореное в корчме покупали — видать, и вправду уехал боярин.
— О палаче удалось вызнать?
Олексаха отрицательно качнул головой.
Олег Иваныч задумался. Зрел у него один план, не совсем законный правда, да и не очень продуманный… но… за неимением лучшего…
Подсев на лавке поближе к Олексахе, он что-то зашептал ему на ухо, косясь на дверь — не идет ли кто. Олексаха покивал, улыбнулся. Так и ушел с улыбкой.
Вечером, когда колокола новгородских церквей зазвонили к вечерне, Олег Иваныч, в лучшем своем платье, украшенном крученой золотой канителью, важно прошествовал в посадничью канцелярию.
Узнав его, посторонилась стража, выбежал на крыльцо молодой дьяк — тот самый, что на пожаре встретился.
— По бесчестным монетам новое есть ли? — строго поинтересовался Олег Иваныч.
— Так палач новый еще не приходил, гоподине, — замялся дьяк. — Вот-вот должен… А так у нас уже все готово — и огонь разведен, и кнут, и дыба…
— Молодцы! — похвалил Олег Иваныч. — Не то что наши, владычные… Сразу видно — порядок во всем. Как звать-то тебя, человече?
— Февроний-дьяк, — поклонился посадничий.
— Ну, вот что, Февроний, бери-ко стражу да скачи немедля на сгоревшую усадьбу, в засаду. Верный человек сказывал — вернутся туда шильники, не все богачество взяли.
— Сейчас! — дьяк кинулся одеваться, выбежал в сени… да вдруг вернулся обратно.
— Что, грамота нужна какая? — понимающе усмехнулся Олег Иваныч. — Ну, на! Чти…
— «Владычьим именем да Божьим промыслом человек служивый Олег Иваныч имать право имеет да дознаванье производить усердно», — шевеля губами, прочитал дьяк, вернул грамоту почтительно: — В таком разе — мы быстро. Эй, Почин, Дмитрий… Собирайтеся живее!
Выбежал… снова вернулся:
— А как же охрана, господине? Стража-то к утру придет!
— Ну вот мы до утра тут и посидим, с катом-то новым, поспрошаем шильника да покараулим. Да не бойся, дело это долгое. С усердием пытать будем, сам знаешь, каков злодей-то!
— Да уж, молодой да упорный. Ну, успехов вам!
С этими словами дьяк Февроний ушел окончательно. Заржали на дворе кони — понеслись на Прусскую. Флаг вам в руки…
В сумерках подъехал к посадничьей канцелярии закутанный в бобровый плащ человек на рыжем коне. Поднялся по скрипучим ступеням крыльца, отворил дверь…
— Я кат охочий, от Ставра-боярина, — ухмыльнулся, тряхнув бороденкой козлиной.
— Давно ждем! — обрадованно воскликнул дьяк — молодой беловолосый парень с гусиным пером за ухом и хитроватой мордой. — Сейчас и попытаем…
— Так ты что, один тут, что ли? — подозрительно огляделся кат.
— Все в порубе давно, тебя только и ждут. Спрашивали, на дыбе можешь ли?
— Могу и на дыбе, — важно кивнул палач. — Всяко могу. Ну, веди, человече.
По узкой лестнице спустились в поруб. Дрожало вокруг слабое пламя факелов, разбрасывая по стенам длинные черные тени. С поросших зеленым мхом камней сочилась вода.
Ведущая в темницу дверь, обитая железом, была приоткрыта. Молодой дьяк, осторожно постучав, вошел, пропуская вперед палача.
На широкой скамье, за руки-ноги привязанный, лежал лицом вниз софейский отрок Гришаня. Спина отрока была заголена, напротив скамьи разложены орудия пыток. Реберный крюк, кнутья, плети-кошки, ногтяные иглы да деревянные клинья — вбивать меж пальцами. Незнамо откель и взялись — редко кого пытали в Новгороде.
Рядом с отроком сидел важный дьяк или даже боярин в богатом плаще с накинутым на голову капюшоном и перебирал в руках приспособления для снятия кожи.
— Здрав буди, князь, — поклонился палач. — Сразу и начнем?
Не оборачиваясь, боярин кивнул, ничего не ответив.
Сбросив кафтан, новоявленный кат закатал рукава рубахи, взял в руки кнут, примерился, размахнулся…
Вскочивший боярин резко схватил его за руку.
— Ну, здравствуй, Митря Упадыш! — язвительно произнес он. — Говорят, ты в каты подался?
Узнав Олега Иваныча, Митря попытался было бежать — да не тут-то было! Подскочивший сзади молодой дьяк — Олексаха — ловко завернул ему руку.
Отрок Гришаня со смехом уселся на лавке, показав Митре язык.
— Что, попытал, шильник?
Олег Иваныч показал Митре владычную грамоту, пояснив, что деваться тому некуда. Тот заскрипел зубами от злости… а может, и от испуга. Вид у собравшихся вокруг людей был довольно-таки решительный.
— Нам с тобой церемониться не с руки, — доходчиво объяснил Олег Иваныч. — Либо выкладываешь все о Ставре — куда он увез боярыню Софью, да не связан ли с деньгами бесчестными, либо…
Он не договорил, но стоявший рядом Олексаха красноречиво помахал кинжалом.
— Вижу, ваша взяла, — вздохнул Митря. — Скажу, куды ж мне деваться. Руку-то отпустите, чай, не железная.
Хитер был Упадыш, хитер и коварен. Знал — в чем можно признаться, а что и так, не договорив, оставить.
Рукой махнул, рожу пожалостливей скривил, прогнусавил:
— О бесчестных деньгах ничего не ведаю, хоть сейчас пытайте. А о Софье… о Софье знаю. В псковскую землю повез ее Ставр, в монастырь дальний.
— Зачем в монастырь-то?
— Так не хочет она за него, — пожал плечами шильник и, стрельнув глазами, добавил, что дорогу туда только он, Митрий, знает. Показать может, в обмен на жизнь и свободу. На последнее особенно упирал, зная: частенько тех, кто сказал все, находили потом в Федоровском ручье… как найдут, может быть, по весне глупого подмастерья Сувора. Боялся, что и его туда ж кинут, по себе людей мерил, сволочь.
Напрасно просидела на сожженной усадьбе засада с посадничьим дьяком Февронием. Продрогли все, как стало светлеть — вернулись. Пусто было в приказе, так же пусто — и в порубе. Исчез и подозреваемый, и Олег Иваныч, человек служилый.
В отчаянье принялся Февроний о стенку головой биться — знал, за то, что случилось, кнут — это еще самое малое.
Стражник записку со стола поднял.
— Ди-а… ди-а-ку…
— А ну, дай-ка… — встрепенулся дьяк.
«Дьяку Февронию.
Своим приказом и поручительством Феофила-владыки по вновь открывшимся обстоятельствам бесчестного дела бросился в погоню во псковскую землю, взяв с собою задержанного отрока для свидетельства и нового ката, буде отрок далее противиться свидетельствовать будет.
Писано в Новгороде, месяце марте, в ночь на двадцатое число, лета от сотворения мира шесть тысяч девять сотен семь десятков девятого.
Житий человек Завойский О. И.».— Не много ль берет на себя Феофил? — грамоту прочтя, усмехнулся в усы посадник. — Да и человек этот житий — уж больно прыток.
Поворчал немного посадник, да бросил. И поважнее дела были. Дьяка же молодого пристрожил слегка, в Бежицкий Верх послав для дознания — воровали там зело много.
Глава 2 Псковская земля. Март — апрель 1471 г.
Однажды ночью — спало все вокруг —
В моих дверях раздался тихий стук
И гость вошел…
Хуан Руис, «Книга о хорошей любви»Растаяли, разжижились, рассупонились по весне стежки-дорожки, растеклись коричневой грязью, так что увязнешь — не возрадуешься, будь ты хоть пеший, хоть конный. Ну а обозный ежели — век не проедешь, застрянешь в луже, горя не оберешься. Жди, покуда солнышко апрельское, а скорее, майское, дорогу не высушит. Потом и езди, по сухому-то, либо зимой. Плох месяц февраль — вьюжист, занесет метелями, сугробы взроет, бросит в лицо снежную взвесь — сиди-ка, путник, лучше на печи дома. Еще хуже февраля март, вот уж поистине — никуда не годный месяц, а для торгового дела — просто провальный. Дорог нету, реки ото льда не вскрылись — как ехать-то? Потому и сидели по домам все путние люди — сезона ждали. Одни шильники по лесам шлялись, мужики худые, злыдни. И те — все больше охотой пробавлялись, хоть зверь-то, он по весне быстр, увертлив, голоден.
И черт дернул треклятого боярина Ставра пуститься в путь в марте! С боярыней, похищенной, да со слугами верными. Догоняльщики даже и не ведали — сколь их, человецек-то Ставровых… Самих-то трое всего было: сам Олег Иваныч, Олексаха да Гришаня, куда ж его девать. Правда, был еще и четвертый — Митря Упадыш. Ехал на кобылке кривой с руками взад себя связанными, не доверял ему Олег Иваныч, ох, не доверял. Потому Гришане особо наказывал — глаз да глаз за шильником! Сам-то с Олексахой все больше по сторонам поглядывали, татей да шишей лесных пасясь. Хоть и не должны покуда шалить шиши-то, да бес их знает. Вот и паслись-опасались.
Дорога — лугами да лесом — где подсохла чуть, а где и в снегу еще. Грязи хватало — бывало, лошади чуть не по брюхо увязали. Олег-то Иваныч конька своего каурого не взял, пожалел — на софейских конях скакали, из владычной конюшни. Хоть и хороши кони — а все ж уставали, иногда и под уздцы брать приходилось, вот когда за Митрей смотреть в оба надобно было! Возьмет, шильник, да ускользнет куда в чащу — ищи его потом, козлобородого. А дорогу только он знал. Вот и указывал теперь, в обмен на собственную шкуру. Деваться-то ему — куда? Быстро словили шильника, ишь, палач-доброволец выискался, видали таких.
Во Псковскую землю лежал путь, ежели не врал козлобородый, да с чего ему врать-то, посмотришь — так и лучится простодушием да сердечностью, слова произносит уменьшительно — «лошадка», «солнышко», «камушек». Добрый — спасу нет. Если б не знали его поближе некоторые… особенно Гришаня.
Лет сто назад — чуть поболе — отделился Псков от Новгорода, старшего своего брата, сами по себе стали плесковичи, да чуяли — не совладать одним-то с ворогами окружными: с Литвой да с немцами. Новгород тоже у них теперь во врагах, а в друзьях — Иван Васильевич, князь московский.
Вечером и случилось все. К ночи ближе. Как не хотел Олег Иваныч у чужого кострища вечерять — а пришлось. Одни топи да зыби кругом оказались, некуда путникам бедным приткнуться, окромя как на полянке той, небольшой да мелколесьем укрытой — не сразу и углядишь, с дороги-то. Как солнце за деревьями скрылось — еще немного проехали да принялись место искать для ночлега, покуда совсем не стемнело-то…
Ее Гришаня первым углядел, полянку-то, закричал, рукой замахал призывно. Не понравилось это Олегу Иванычу, почему — и сам не знал пока. Не понравилось — и все! Интуиция…
Отрока отругал тут же — чтоб не орал зря, мало ли какие люди по лесу здешнему шляются, сам к кострищу… Черт… Теплые еще, уголья-то… Знать, не так давно костер брошен, часа три, не больше. А зачем, на ночь глядя, огонь затушивать, когда он как раз к ночи и нужен? Значит, не шибко нужен. Видно, заимка какая поблизости, аль деревня… а то и лагерь воровской! Ишь, как Митря-то встрепенулся, ноздри раздул, прислушивался к чему-то, волчина.
Олег Иваныч тоже прислушался — ни хрена не услышал, как ни старался. Олексаха, покуда хворост собирал, по лесу прошвырнулся. Рядком, недалече. Отпечатки копыт обнаружил да навоз конский, свеженький. Хорошо — если охотники.
Разожгли костер на полянке — в лесу темнеет быстро, а куда деваться-то на ночь глядя — в котелке снег растопили, вот и водица. Побросали круп, да вяленого мясца, да мучицы чуть — поели неплохо, ложки облизав, спрятали, дали Гришане котелок мыть, как самому младшему и положено. Шильника козлобородого покормили тоже, не звери же. Руки развязав, стерегли зорко, покуда ел. Словно обиделся вдруг, Упадыш-то, куда, говорит, я от вас денусь, нешто в лес, к волкам, на погибель?
«А и в лес! — подумал Олег Иваныч. — Такому волчищу там самое и место…»
Подмораживало, на темном небе зажглись первые звезды, желтые, далекие, мерцающие, ровно глаза волчьи. То и к лучшему — завтра, чай, к обеду полдороги высушит. Да и по солнцу-то ехать — это не по дождю грязь месить — куда как веселей да сподручнее.
Нарубив лапника, притушили костер, чтоб не отсвечивал, угли горячие аккуратно в сторонку перетащили — на кострище лежбище устроили теплое, завсегда так ушкуйники в холодных землицах делали. Шкурой медвежьей, специально Олексахой прихваченной, укрылись, сверху лапник — хорошо! Сторожить договорились по очереди. Сначала — Гришаня, потом Олексаха. Олег Иваныч себе третью смену взял — самую-то сонную. Ну их, Гришаню да Олексаху, — молодые еще, да и опыта особого нет. Не то что у Олега Иваныча — в РОВД-то на дежурстве, бывало: только на столе (диван сломан был) прикемаришь под утро, как обязательно что-нибудь да случится. Грабеж какой или — еще хуже — кража в квартире многокомнатной, где один протокол осмотра писать — мозоль на пальце натрешь, от ручки шариковой…
Взгрустнулось Олегу Иванычу. Родное РОВД вспомнил, приятеля Кольку Вострикова — интересно, как он там, сняли ли выговорешник за пьянку? — Рощина Игорька, как же… Нет, скорее всего, удачно выпростало его тогда с мотоцикла, кажется, прямо в реку. Ну, плавать умеет — выплывет, да и не глубоко там. Вот те, с лесовозом, ушли, видать. Жаль… Впрочем, может, и не ушли — соседи перехватили. Много чего вспомнилось Олегу — даже районный прокурор Чемоданов, чтоб его разорвало, ужас до чего был вредный… хотя вроде, если не по работе, так и ничего мужик… ничего.
Сам не заметил, как и уснул Олег Иваныч. Специально старался о Софье не думать — что толку думать-то, когда действовать надо. Вот и действовал. А не Ставровы ли людишки кострище оставили?! Нет, навряд ли они. Считай, на сутки опередили, Ставровы-то… нет, не их кострище, не их…
Перевернулся на другой бок Олег Иваныч, уснул. Крепко, без сновидений. Не то что Софья, а и даже прокурор Чемоданов не приснился.
Его разбудил Олексаха. Взволнованный, парень что-то тихо заговорил, быстро-быстро, так что Олег Иваныч и не врубился спросонья, потому перебил, заставил все обсказать сызнова.
— Люди там, говорю, — зашептал Олексаха. — От нас — полверсты. Разбойные хари!
— Откудова знаешь? — зевнув, переспросил Олег Иваныч.
— Костер палят. С дороги видать — такой кострище, да кони ржут… Никого не боятся! Точно — шиши лесные. Пастись бы их надо. О! Слышь, Олег Иваныч, вроде как голоса…
Затаив дыханье, прислушались. Из глубины леса, переговариваясь, шли люди. В направлении дороги. Но вполне могли и наткнуться на ночующих. Хорошо — костер вовремя притушили.
Вытащив из-под теплой шкуры Гришаню, велели смотреть в оба за Митрей, которого, естественно, будить не стали. Так и храпел шильник — кажется, аж на весь лес.
Оставив Гришаню, Олег Иваныч с Олексахой пошли посмотреть. Осторожно шли, с опаскою. Чтоб не хрустнула ветка какая, чтоб птица ночная не закричала испуганно.
Действительно, люди… Четверо шли по лесной тропе с факелами, хоть и светало уже, вели под уздцы коней. Одеты разно — кто в кафтанец, кто в армяк рваненький, а кто и кольчужкой позвякивал. Все оружны — луки со стрелами, да ножи, да пики. Ну, ясно — воровской народец, рисковый.
И речи вели воровские.
— Успеем до утра-то? — один спрашивал.
Другой отвечал, что успеют, как раз под утро самое то будет — боярина скудоумного на пики поднять… Потом и в монастырь можно, в Мирожский, грех замолить.
— В скиту, под Мирожским, говорят, появились оружные люди, — заметил третий. — Боярин с Новгорода с людьми своими да с жёнкой либо с пленницей…
Притаившийся в кустах у дороги Олег Иваныч навострил уши. Боярин! С пленницей! Не о Ставре ли речь?
Больше ничего не молвили хари, вывели лошадей на дорогу, скакнули в седла, гикнули — только их тут и видали!
Осмотрели костер брошенный Олег Иваныч с Олексахой. Догорал уже, костер-то, в сосновых угольях лишь чуть-чуть билось синеватое пламя. Вокруг натоптано, к соснам поперечные палки прибиты — лошадей привязывать. Видно, не впервой здесь собирались.
Походили около костра Олег Иваныч с Олексахой, снег подтаявший попинали, да, не углядевши ничего, обратно пошли. Обратно не очень таились — уехали уже шиши-то, боярина какого-то на пики вздымать…
Они еле нашли свою поляну, прошли б мимо, если б не жалобный стон.
Стонал Гришаня. Прислонившись спиной к смолистому стволу ели, он прикладывал к голове красный комок снега. Красный — не от лучей восходящего солнца, как сперва подумал Олег Иваныч, нет — от крови красный. От Гришаниной крови-то…
Сбежал Митря Упадыш, недаром спящим притворялся, храпел заливисто. Развязался оборотисто, видно, об сук какой, да поленом Гришане по лбу. У того — аж искры из глаз от изумления! Так и пал под дерево, а шильник ноги в руки — и таков. Ищи теперь его, свищи.
— Хорошо еще — не насмерть прибил, — ощупывая стремительно набухавшую на лбу отрока шишку, усмехнулся Олексаха. — Это потому, что камней поблизости нет, одни поленья… были бы камни…
— Эх, теперь не найдем ни Софьи, ни Ставра, — пригорюнился Гриша. — А все я виноват, лучше б ты, Олег Иваныч, меня палачам в порубе оставил.
— Ладно, не кручинься, — отмахнулся Олег. — Скажи-ка лучше, что за монастырь такой есть тут… Миронов, что ли?
— Мирожский! — встрепенулся Гришаня. — От Пскова к югу. Два лета назад с богомольцами туда хаживал. Хорошая обитель, большая. Там мужской монастырь, а неподалеку — новый, женский. Правда, как игуменью да игумена зовут, не помню.
— Черт с ним, с игуменом, дорогу помнишь?
— А чего ее помнить? — удивился отрок. — В людные места выйдем — всякий покажет. Монастырь, чай, не капище какое! А покуда — по дороге прямо. Ой, как болит-то, Господи!
— Сам виноват, нечего было варежку разевать! На вот деньгу, приложи.
Олег Иваныч передернул плечами — прохладно было с утра-то! Зато потом, когда выехали, — горя не знали. Светило в высоком небе солнце, хорошо так припекало, по-весеннему. Дорога, выйдя из леса, пошла по холмам, так что только в низинах пришлось покочевряжиться, с кочки на кочку скакать, в остальных-то местах сухо было. По пути мужик на лошади с волокушей встретился, сено вез.
Монастырь Мирожский? Да вон, за тем леском и завиднеется. Доброго пути, богомольцы-иноки!
Да уж, похожи они на иноков — с оружием, да в панцирях, да при кольчугах — как заяц на волка. Один Гришаня чуток на богомольца мирного смахивал — рожицей постной, обиженной. Шишку-то на лбу шапкой прикрыл, чудо…
К обеду показалась обитель. Стены толсты, высоки башни — не возьмешь просто так, с ходу! В сам-то монастырь не поехали догоняльщики, Олексаху выслали, разузнать насчет скита богомольного. Коней к корявой сосне привязав, уселись на пригорочке, лица солнцу подставив. И часа не прошло — возвратился Олексаха. Довольный, сияющий, словно рейнский грош! Вызнал, где скит, оказывается. А чего там вызнавать-то, коли в этом скиту завсегда богомольцы постятся — самый-то и пост, как раз перед Пасхой. И посейчас богомольцы там, странники. По говору — люди не простые, ученые. Боярин со слугами и боярыня вдовая. Боярин-то во Псков ехал, в скит завернул, молился. Боярыня, та скрытная — ни с кем не разговаривала, не общалась, да все время слуги вкруг нее кружили. Говорили всем — обет дала боярыня до разговенья ни с кем речей не вести праздных. Не от гордыни обет тот — от чистого сердца.
— Молодец, Олександр! — похвалил Олег Иваныч. — Ну, раз дорогу вызнал, как стемнеет — тронемся.
Скит оказался совсем небольшим — пара топившихся по-черному изб, рубленных в лапу, да жердяной забор — не от людей, от зверей диких больше. Окна в обеих избах были закрыты ставнями. Несло дымом…
Олег Иваныч с Гришаней затаились у забора — Ставровы люди их знали. Олексаха нахлобучил на голову клобук, прогнусавил, в дверь сапогом стукнув:
— Славься, Богородица Пресвятая Дева, и ныне, и присно, и во веки веков.
Чуть не пришибив странника — вовремя отпрянул, — дверь резко распахнулась, и наружу выглянула заспанная недовольная рожа, похожая на богомольца примерно так же, как танк на велосипед.
— Чего надо? — сплюнув, неприветливо осведомилась рожа.
— Мир вам. Переночевать бы да помолитися…
— «Переночевать», — гнусаво передразнила морда. — Ходют тут… Вон, в ту избу ступай!
— Благодарствую, спаси тя Господи! — поклонившись, мелко закрестился Олексаха. — В ту избу, говоришь? Ну, в ту, так в ту…
В другой избе тоже не сразу открыли. Правда, народец там оказался малость поприветливей, истинно богомольный. Два седобородых деда — Амвросий с Елпидистием — да несколько старушенций в черных платках.
Покрутившись по избе и никого больше не обнаружив, Олексаха выскочил на улицу — позвал остальных. Олег Иваныч с Гришаней сразу же произвели на богомольцев самое благоприятное впечатление. Гришаня — молитвами, а Олег Иваныч — просяной кашей, кою начал тут же заваривать, подвесив над горящим очагом котелок с водою.
Поужинав да помолившись, богомольцы улеглись на лавки — спать да слушать гистории о святых прежних да об императорах римских безбожных — Калигуле да Нероне. Гисториями старцев потчевал Гришаня. В лицах рассказывал, где надобно — подвывал страшно.
Олег Иваныч не выдержал, вызвал отрока на двор:
— Ты чего творишь, Гриша? Хочешь, чтоб они вовек не уснули? Чти монотонно, как пьяный дьякон заутреню. Понял?
— Понял, спаси Господи! — перекрестившись, кивнул Гришаня.
Теперь начал читать справно — как и надобно: уы-уы… уы-уы… уы…
Минуты не прошло — позасыпали все, включая Олексаху с Олег Иванычем. Хорошо, Гришаня растолкал обоих:
— Что, спать сюда пришли, что ли?
Те встрепенулись — словно и не спали вовсе.
— Ты, Гриш, тылы прикрывай, а мы пошли.
Ну, пошли, так пошли.
Осторожно пробрались к первой избе, постучали. Олег Иваныч специально за угол спрятался.
— Да что еще?
— То я, странник Божий… — заблажил Олексаха. — В соседнюю-то избу без тя не пускают, боятся, рекли, чтоб пришел кто…
— От, чучелы… Ну, ужо я им…
Недовольно сопя, непреклонный страж выбрался наружу. И тут же получил поленом по кумполу. Это Олег Иваныч вдумчиво использовал недавний опыт козлобородого Митри.
Оглушенного оттащили к забору, связали.
Олексаха в низко надвинутом клобуке вошел в избу первым. За ним осторожненько подался и Олег Иваныч.
Темные сени, приоткрытая дверь — несло дымом — чуть заметное пламя свечи сквозь щель… Притухший очаг. На лавках вдоль стен — спящие. Не так и много: пара молодых парней-слуг, да… батюшки! Сам боярин Ставр Илекович! Храпел, развалясь на лавке, собственною персоной. Хоть сейчас хватай — что и сделали. Не успел боярин очей рассупонить, очухаться — как уже спеленут! А не считай ворон и стражу ночную подбирай лучше, а то поставил пентюха, прости господи.
Интересно, а где же Софья?
Вот в том углу дальнем… Вроде как шкурами загорожено… Ну да, загорожено…
Подойдя, Олег Иваныч отбросил шкуру. Вспрыгнула на лавке боярыня, ровно не спала. Глаза шалые, словно опоенная чем…
— Олег!
— Софья!
И в этот момент застучали, заломились в дверь. Кого там еще черт принес на богомолье?
— Олексаха, глянь-ка.
Тот и ломанулся было… Да не стали его ждать, вошли в избу. Числом многим, оружны, в бронях чешуйчатых, а впереди… впереди Митря-шильник!
Выхватил из очага головню, посветил, ухмыльнулся гадостно, на Олега кивнул с Олексахой…
— Хватай, — вскричал, — обоих, соглядатаев новгородских, с нехорошим делом на плесковскую землю посланных!
— Хватать? — усмехнулись воины. — Нет уж, главного подождем…
Ждали недолго.
Задрожал порог под латными сапогами. Заблестело пламя в блестящих черненых латах, заструился понизу темный плащ. Черный рыцарь! Силантий Ржа!
— Вижу, узнал, Олег Иваныч, — уселся на лавку Силантий, вздохнул. — Что ж, придется тебя хватать, как соглядатая новгородского.
— Хватать их именем посадников псковских, Тимофея Власьевича да Стефана Афанасьевича! — вышел вперед толстяк коротышка с бородкой реденькой.
— То наш псковский друг, боярин Андрон Игнатич! — шепнул Ставру Митря. — В Псков схваченных доставит… а там их и казнят, не долго…
Улыбнулся в усы боярин, взглянув на Софью. Та, бедная, как связали на глазах ее Олега, побледнев, дара речи лишилась, на скамью без сил села. Совладав со слабостью своей, поднявшись, сказала надменно:
— Надеюсь, посадники расправы без суда не допустят!
— Само собой, матушка, — важно кивнул боярин Андрон, Андрон Игнатич, неплохой человек, в общем, несмотря на вид неказистый, добрый и с душой, не то что некоторые… типа вот Ставра иль Митри.
Заполнилась изба воинами, зазвенела бронями да кольчугами — еще больше на улице воинов было, да в другой избе разместились. Старцев и Гришаню-отрока никто и не тронул — мало ли богомольцев. Митря Упадыш шастнул было к избе, но Гришаня его дожидаться не стал — перемахнул чрез ограду да в лес. Иди — полови, побегай!
А в лесу — шум, гам, суета! Войско московское на ночлег становится. Отряд, псковичам на подмогу присланный. Супротив новгородцев да супротив ливонских рыцарей орденских. Не обманул Иван, князь Московский, псковичей, прислал воев. Да с ними — воеводу опытнейшего — Силантия Ржу, коему уже было в поместье пара деревенек под самой Москвой пожаловано да близ Коломны сельцо. Наказано строго: идти как можно быстрей — кабы не успел сговориться Новгород с орденом либо с Литвою. Новгородцев, буде в пути встретятся, не обижать без дела, надеялся еще Иван, что миром ему под руку отойдут новгородцы-то… Ну, с Олегом Иванычем да Олексахой дело иное — Упадышев Митря сразу на них показал как на шпионов новгородских, тут уж нечего делать — надобно во Псков отправлять, на суд посадничий. А чего уж тот суд решит — обменять на кого иль казнить смертию — то Бог весть…
— Эх, Олег, Олег, — присев рядом на лавку, покачал головой Силантий Ржа. — И отпустил бы тебя… а нельзя, бесчестно то. Что псковичи скажут?
— Не грусти, друже Силантий, — усмехнулся в ответ арестованный. — Неужто попросил бы от тебя бесчестья? А на суд посадничий надежа есть! Ни за каким заданьем подлым и никем мы в псковские земли не посланы, о том Ставру-боярину лучше всех известно! Зачем он боярыню возле себя держит, спроси!
— Говорит, в монастырь захотела боярыня.
— То лжа, Силантий! Силою подстричь хочет! Прошу тя, посмотри за боярыней, покуда мне несподручно.
Силантий кивнул. Посмотреть — посмотрит. И насильно подстричь не даст.
— Вот и славно… Верю тебе, Силантий.
Поутру — быстро утро пришло, не заметили — прискакал гонец из Пскова. Конь вороной — весь в мыле — на самом кафтан расстегнут, с груди пар валит. Видно, торопился, гнал…
— Поспешай, воевода Силантий, на реку Синюю, на Городок Красный — псковский пригород! Точат зубы на нашу землицу ливонские псы-лыцари, уж целым отрядом подступилися, вот-вот нападут, без вас не осилим! Поспешай, воевода-князь, поспешай!
Водицы поднесенной испив, пошатнулся в седле гонец. Упал бы — на руки подняли. Осторожно в избу снесли, положили на лавку.
— Поспешайте… — прошептал гонец псковский и, закатив глаза, забылся в беспамятстве.
— Слышали ли, вои? — птицей взлетел в седло Силантий. — Поспешим же, поможем псковичам! Ужо отведают немцы меча за землю Русскую!
— Поможем, воевода-отец! За тем и пришли! Веди же скорее!
Орлами взвились стяги над московской ратью, с гиканьем выехали из лесу воины в кольчугах да тегиляях, оранжевым отражалось солнце в островерхих шеломах…
Андрон Игнатьевич, боярин псковский, проводив отряд взглядом, к пленникам обернулся. Пяток воев при нем остались — свои же, псковские — за конвоиров. Ну, и Митря тут, Упадыш, как же без него-то?
Ставр на коня сел, рядом, на белой кобыле, боярыня. Лоб бледен, на щеках румянец болезненный, глаза пустые, со зрачками широкими. Взгляд — словно и нет ее тут… Даже Олега не узнала. Видно, опоил ее Ставр снадобьем колдовским, на сушеной конопле сваренным.
Сжалось у Олега сердце — понимал, чем грозят Софье подобные варева.
— Ну, мы в обитель Мирожскую. До Пасхи пробудем, — доехав до развилки дорог, простился с Андроном Игнатичем Ставр, свистнул слугам своим. Миг — и нет их уже, рысью к монастырю поскакали. Впереди — сам боярин, под уздцы Софьину лошадь держит. Боярыня — сама не своя — в седле сидит, качается, как бы не слетела. Нет, не слетела. Открылись ворота обители, впустили новых странников.
А боярин Андрон, да Митря, да пленники — дальше во Псков поехали. Один Гришаня-отрок где-то по лесам скитался, ежели волк какой не сожрал…
Спряталось за набежавшим облаком солнце, упала серая тень на дорогу, пробежала по лугу и, взобравшись на холм, сгинула… как сгинуло в один миг все то счастье, на которое так рассчитывал Олег Иваныч. Вот уж не везло мужику, ни в той жизни, ни в этой!
В жарко натопленной зале на лавках вдоль стен чинно сидели бояре. Их длинные шитые золотом одежды ниспадали на пол красивыми складками. Слева от иконы, в узорчатом кресле, восседал посадник, Стефан Афанасьевич, крупный дородный мужчина с длинной иссиня-черной бородой. Рядом с ним, чуть наклонившись, стоял толмач-переводчик. Не просто так стоял, вестимо. Переводил, толмачил…
Рыцарь в блестящих латах, с непокрытой головой и надменным взглядом, что-то быстро говорил посаднику, время от времени поглядывая на реакцию бояр.
— Как посланник ливонского магистра Вольтуса фон Герзе, — еле поспевал за рыцарской речью толмач, — передаю слова его таковы: отступитеся, псковичи, от землицы, что от Красного Городка ошую, испокон веков та землица орденскою была, ею и должна быть.
— Ой, лжет, ой, лжет, лыцарь, — заерзали, зашептались бояре. — Никогда та землица орденской не была…
Выслушав рыцаря, посадник, почесав бороду, встал.
— Не то просит магистр ливонский Вольтус, — медленно произнес он, стараясь, чтобы звучало весомо каждое слово. — Красный Городок да землица, что по Синей-реке, — то псковские сыздревле земли, от них отступитися — чести лишиться. Таков будет ответ Пскова немцам ливонским! Еще скажи… — Обернувшись к переводчику, посадник задумался. — Спроси-ка лучше: что отряд ливонский ныне у Красного Городка делает?
Рыцарь усмехнулся в ответ, тряхнув головою. Пояснил, что отряд тот — для его, личного магистра посланника, охраны — и только.
— Больно велик отрядец для охраны-то! — выкрикнули из дальнего угла. — Да и уж больно красиво лыцари у Городка встали… все дороженьки перекрыты. Ежели б не московское войско, пограбили б землицу-то.
Тут все бояре разом закивали. По их мнению, отряд, присланный на помощь Пскову московским князем Иваном Васильевичем, прибыл как нельзя кстати.
— Еще раз говорю, это только моя охрана, — холодно повторил рыцарь, — и, раз слова магистра фон Герзе не достигли цели, мы уйдем от Городка еще до темна.
— Зарекалася лиса в курятник не лазать!
— Прощайте, господин посадник, и вы, господа псковичи. Жаль, что не договорились.
Рыцарь поклонился и, гордо вскинув голову, быстрым шагом покинул залу. Белый плащ с черным восьмиконечным крестом развевался за его спиною, словно крылья исполинской чайки. Порывом воздуха задуло пламя свечей у входа. Посадник жестом подозвал дьяка:
— Проводите лыцаря. С почетом проводите. От меня лично подарите шубу соболью!
— Сделаем, Стефан Афанасьевич.
Ушел дьяк.
Бояре повставали с лавок:
— Зря отпустил лыцаря, Стефан Афанасьевич, надобно было имать!
— Теперя много зла натворит с отрядом своим ливонец.
— Не натворит, — усмехнувшись, посадник обвел бояр тяжелым пристальным взглядом. — Лыцарь сей, Куно, далеко благородством своим славен. Сказал: уйдут до ночи — значит, уйдут. Кроме того, там и московские вои имеются, — помолчав, добавил он.
Стараясь не упускать из виду скачущих впереди всадников, словно пес, бежал по лесной дороге Гришаня. Дышал тяжело, провалисто, глотал на ходу снег — ноздреватый да темный. И тот-то редко встречался, в низинах только — на дороге-то весь стаял. Видел отрок, как отъехал в монастырь Ставр с Софьей, вернее, лиц, конечно, не разглядел — две конные фигурки, но догадался — а кому еще-то свернуть к обители? Остальные шильники — или воины псковские, черт их знает, как и называть лучше, — поехали прямо. Ехали быстро — видно, до темна хотели попасть в город. Гришаня отстал, по следам только лишь ориентировался да по навозу конскому. Чего он за ними поперся — бог весть. Хотелось, конечно, освободить Олега Иваныча с Олексахой… да вот как только? Трое воинов-конвоиров, Митря-шильник да Андрон Игнатич, боярин псковский. Попробуй, сунься! Да и во Пскове-то, ежели подумать, никого знакомых нет. Правда, говорил как-то на усадьбе казненного вощаника отец Алексей, стригольник, есть и во Пскове хорошие люди, супротив мздоимства церковного выступавшие. Вот бы найти их… Да при этом и Митрю не потерять с конвоем и пленниками. Их наверняка в суд потащат. А судьи кто во Пскове-то? Да как и в Новгороде, посадник, да князь, да сотские. По идее, заседать в княжьих хоромах должны бы. Там же и поруб. Так вот, обязательно ему, Гришане, на тот суд надо! Свидетелем-послухом! Что не воинские люди злые — Олег Иваныч-то с Олексахой, — а мирные новгородские граждане, в земли псковские забрели случайно — вслед за новгородским же боярином. А дела промеж новгородских граждан — их дела, не псковские. Так что должны б отпустить пойманных, ежели разобраться. Правда, поверят ли? Митря-то, Упадыш, наверняка другое говорить будет. Да и Ставр. Еще и его, Гришаню, до кучи схватят. Ну, схватят так схватят, дело такое. Однако выступить свидетелем на псковском суде-Господе — единственный шанс хоть как-то помочь пленным. С хорошим шансом самому превратиться в обвиняемого! Башку отрубить — вряд ли, чай, не Москва, а вот повесить — запросто… Но надежда все-таки есть, попытаться надо… Еще ведь и Софья наверняка молчать не станет. А чтоб вызвали ее на суд из монастыря Мирожского, о том уж Гришаня позаботится, на первом же допросе укажет. Правда, не заткнули б ей там язык, в монастыре-то. От Ставра всего ожидать можно.
Устал Гришаня — с ног валился. Уже не бежал — шел, сапогами грязь загребая. Да все думал. А думы невеселые были… Как и погода. Внезапно поднялся ветер, принес с севера злые серые тучи, быстро затянувшие небо. Хлынул дождь пополам со снегом, вокруг сделалось тоскливо, темно, страшно. Заметет дорогу — не заплутать бы… На дороге лесной никого — ни попутных, ни встречных. Один раз только метнулся из кустов заяц, да где-то неподалеку послышался волчий вой. Вздрогнул отрок — сожрут еще! Кинжал из-за пояса вытащил, в руке накрепко сжал, мало ли. Хоть и понимал — толку-то от кинжала пред волчьей стаей — однако все ж таки как-то поспокойней стало, с оружьем-то. Чавкая, тонули в стылой грязи сапоги, все трудней становилось идти — прилечь бы или сесть, вон, под то дерево, хоть ненадолго, отдохнуть чуть. Остановился уж было Гришаня… Да помотал головой — нет уж! Сядешь — не встанешь, уснешь. Волкам окрестным на радость, ишь, развылись-то, курвины дети.
Постоял немного Гришаня, отдышался — дальше пошел. Напевал про себя для веселья:
— А злая жена мужа батогом бьеть! Батогом бьеть! — Нечего сказать, веселую песенку выбрал!
Дальше больше — на откровенную порнографию перешел, или, лучше сказать, на крутую эротику:
— Аще муж от жены блядеть… — пару строф спел, да больше не стал — постеснялся. Не волков — Господа!
Петь бросив, о приятном попытался думать. О книжице, в келье недописанной, «Физиолог» зовомой. Про тело человечье книжица та да про болезни — занимательна да полезна вельми. Правда, чернец один, с обители Вежищской, сказывал книгу ту в огонь бросить, пришлось Феофилу пожаловаться. Эх, хорошо было до ареста-то…
Гришаня усмехнулся. Стал об Ульянке думать. Как познакомились в апреле… Господи, почти год уже! Как целовались в овине… а потом, в июне, на Ивана Купалу через костер голые скакали, вместе с другими парнями да девками… а после в овсы ушли…
Аж жарко стало Гришане от тех воспоминаний греховных.
Молитву прочтя, к щекам пылающим снег приложил… полегчало вроде.
Темно было кругом, не поймешь — день или вечер. Снег с дождем хороводились. Ползли по небу низкие тучи, ни просвета, ни зги. Вот погодка!
Где-то теперь Ульянка? По-хорошему ль до Москвы добралась, к сестрице своей единоутробной?
Он пришел в Псков к вечеру, успел-таки до темна. Река Великая набухла льдом, как и Волхов, урчала зверем. Славен град Псков, мощны стены его, высоки башни, шатрами к небу вздымающиеся, благолепны храмы Христовы.
Покрутился у ворот отрок — не видал ли кто отрядец небольшой — порасспрашивал…
— А тебе что за дело? — ухватив Гришаню за руку, подозрительно спросил стражник.
— Письмишко от них просила супружница одна, — вывернулся тот, — я б и написал…
— Так ты грамотей, что ли? — удивился стражник.
— Учен, — важно кивнул отрок. — Если чего надобно…
— Надобно! Надобно! Еще как надобно — сам Бог мне тя послал, отроче!
Выказав явные признаки радости, стражник, подменившись с приятелем, приобнял Гришаню за плечи и повел в ближайшую корчму.
Уселись за дальний стол, чистый, выскобленный. Стражник у корчемника бумаги спросил да перьев.
— Поесть бы сначала неплохо, — хитро улыбнулся отрок.
Стражник кивнул, подозвал корчемника, велел постных пирогов с квасом подать.
— Брат у меня есть, Степаном звать, — прошептал, к Гришане склонившись. — У кузнеца Онуфрия работником три лета пробыл… потом подрядился тут к одному… ну, не важно… ушел в общем, до сроку. Оплату ему должен Онуфрий, а?
— Хм… — Гришаня задумался, спросил, когда именно ушел Степан да сколь времени с этого дня прошло…
— Во прошлую весну ушел, — стражник помолчал, вспоминая. — Как раз на Пасху!
— На Пасху, говоришь? — Гришаня прищурил левый глаз. — Ну, тогда торопись, человече. По закону Степан твой имеет право требовать оплаты только год после ухода! Писать бумажицу-то?
— Пиши, пиши, друже!
— Тогда вели песку подать, присыпать…
Написав прошение, Гришаня присыпал чернила песком — чтоб быстрей сохли — и снова повторил свой вопрос о приезжих. Ну, на этот раз стражник, естественно, оказался куда любезней.
— Тебе за весь день надо, отроче?
— Вечер только.
— Козьма-горшечник с глиной проехал с людьми своими…
— Не то!
— Онцыфер-лодочник…
— Тоже не надо!
— Боярин Андрон со людищи да сывязаны иматы…
— А вот об этом — подробней!
Нахватался Гришаня от Олега Иваныча словес разных, вставлял теперь, щеголяя, и надо куда и не надо. Как ни странно, народец его понимал, как вот теперь стражник…
Вызнав дорогу на двор боярина Андрона Игнатича, Гришаня тепло простился с новым знакомцем, хлебнул на дорожку горячего сбитню и, выйдя из корчмы, растворился в сером сумраке улиц.
Усадьбу боярина он обнаружил сразу — стражник настолько подробно описал путь, что к ней смог бы пройти даже слепой. Небольшая такая усадебка — не то что в Новгороде, вот уж где усадьбы так усадьбы — но уютная, с аккуратно обитыми медью воротцами.
Скрипнув, открылись воротца — Гришаня рысью в сторону, за деревом затаился — мало ли. И вправду, не зря спрятался — со двора-то Митря Упадыш вышел! Огляделся, шильник, Гришаню не приметил, ухмыльнулся похабно, бороденку рукой пригладил, пошел куда-то, верно — к бляжьим каким жёнкам… За ним, с опаскою, и Гриша.
Долго шли, коротко ль — завиднелся в конце улицы дом каменный. Небольшой, с подклетью, крыльцо высокое. Весь какой-то неприметный, за кустарником, словно украдкой выстроен. Внутри гульба шла — песни вполголоса (пост все же!) да ругань всякая… Ну, точно — корчма! Да с непотребными жёнками!
Гришаня поначалу и заходить опасался. Стукнут по башке, долго ли! Да и грех. Помялся, помялся у крыльца — все ж про друзей вызнать надо. А как вызнать-то — только через Митрю. Митря — главная к ним сейчас, как говаривал когда-то Олег Иваныч, ниточка. Вот за эту ниточку козлобородую — да и потянуть. Как вот только?
Немного народу оказалось в корчме-то. И с пару десятков человек не наберется. Отрок то сразу смекнул — в угол подался, Митрю увидев. Нет, не успел, не заметил шильник. Засел Гришаня в полутьме, вместе с какими-то немцами — те, судя по разговору, непогоду пережидали. Один — в собольей шубе поверх лат железных — щеголь хренов, спиной к отроку сидел, шуба богатая, в такой только посадникам да князьям ходить, а не всякой торговой шпане немецкой… Вот, интересно, откуда во Пскове немецкие купчишки?
— Поскорей пойдемте отсюда, Куно, — произнес по-немецки другой немец, без шубы, но тоже в панцире. — Мне почему-то кажется, здесь собрались одни безбожники… да и наши люди заждались.
— Подождут, — поставив кружку на стол, отрывисто бросил щеголь. — Впрочем, насчет безбожников ты вполне прав, брат Конрад… Ишь, как хлещут вино в пост! Не боятся… Ну, черт с ними, поехали! Эй, хозяин. Вот тебе грош…
Рыцарь обернулся, и пламя свечи высветило его красивое лицо с модной бородкой.
Так это же…
Расплатившись, немцы вышли наружу.
…это же…
Гришаня лихорадочно соображал, вполглаза присматривая за Митрей.
…рыцарь Куно… Куно фон Вейтлингер! Вот кто может помочь выручить Олега Иваныча с Олексахой! Они ж друзья с Иванычем. Точно… А Митря? Пес с ним… Ежели что — отыщем.
Схватив шапку, Гришаня опрометью бросился из корчмы, на ходу кинув служке медное пуло.
Ага! Вот и рыцари. Садятся на лошадей…
— Эй, мессир Куно! Эх… не слышит… Сейчас как рванут — и не догонишь. Слава Богу, пока тихо едут… разговаривают… Кажется, даже стихами…
Что видел я от знатных дам? Служил им лишь себе на срам. Для дам я грубый нелюдим; Не лучше отношусь я к ним…— Полно, полно тебе, Конрад! Гартман фон дер Ауэ — это не для Пскова и не для подобной погоды! — засмеялся фон Вейтлингер. — Вот, послушай лучше:
Мать, отпусти меня ты, Уж пляшут там ребята; Что может быть чудесней? Я не слыхала так давно Веселых новых песней!Гришаня позади усмехнулся. Эту песню про девчонок он знал от готских купцов. Правда, не знал — кто ее сочинил, помнил только, что какой-то немецкий рыцарь, лет двести назад.
Отрок совсем позабыл осторожность. Он шел за двумя всадниками совершенно открыто…
И они его заметили.
— За нами псковский соглядатай, брат Куно, — шепнул приятелю рыцарь Конрад. — Давай-ка развернемся да проучим нахала!
— Согласен, — кивнул фон Вейтлингер.
Развернув коней, рыцари выхватили мечи и во весь опор погнали на опешившего Гришаню. Тот с ходу забрался на ближайшее дерево. Рыцари — они такие: сначала пришибут, потом разбираться будут!
— А ну слезай, парень!
— Не хочешь? А арбалетной стрелы не хочешь отведать? Сейчас дождешься…
— Не надо стрелой, господа! — по-немецки взмолился отрок.
— Да он совсем мальчишка. И, кажется, говорит по-нашему. Может, не стоит его стрелой-то? Пусть… лучше споет нам песню… Эй, ты, слышишь?
— Песню? Запросто:
Тебя, о дочь родная, Одну ведь родила я, Подумай о позоре, Не бегай за парнями ты… Не бегай за парнями ты… Э… не бегай…— Не причиняй мне горе! — закончил фон Вейтлингер. — Мы здесь бросили медяшку в снег — можешь ее забрать, как отъедем…
— Нужна мне ваша медяшка, как же…
— Что-что?
— Рыцарь Куно, ты меня случайно не помнишь? Ладога, разбойники, Олег Иваныч…
— Олег Иванытч? — рыцарь приструнил рвавшегося в путь коня. — Это мой друг. А ты…
— А я Гришаня из Новгорода!
— Гришанья-новгородец? Теперь узнал. Так что ж ты сидишь там, на дереве, словно сыч?
Набравшийся хмельного Митря (вот уж кто Бога не боялся!), шатаясь, вывалился из корчмы. Осторожно спустившись по крутым ступенькам, он завернул за угол, рассупонив штаты, помочился. И охнул, почувствовав, как ему в бок уперлось холодное острие меча.
В доме псковского боярина Андрона Игнатича спали. Спал и сам боярин, и супруга его, Филомея Марковна, а деток Бог не дал боярину. Внизу, в людской, спали слуги, один лишь пес Агрей не спал на дворе в будке, все ворочался, гремел цепью да брехал иногда. Такой уж был пес. Онисим, сторож ночной, мужик худющий, полушубок набросив, со сном борясь, притулился у двери на лавке. Человече Митрий вот-вот вернуться был должен, да в клети двое шильников заперты, коих завтрева на посадничий суд тащить велено. Вот и поспи тут! Агрей еще этот… цепью своей гремит, сволочуга. Ладно, Митрий-человече, чай, догадается в ворота подубасить. Залает Агрей, тут и он, Онисим, всяко проснется, пустит… О! Кажется, стучит Митрий-то!
Агрей в лае зашелся, аж с цепи рвался.
На двор со свечкой выйдя, пнул пса Онисим — достал лаем своим, чучело! — поспрошал: кто, мол… С улицы что-то буркнули утвердительно. Дотошный Онисим, однако ж, не сразу ворота открыл — маленько засов отодвинул, глянул глазком одним — нет, точно Митрий. А винищем-то от него разит, спаси господи! Несмотря что пост. Вот ведь грешник!
— Ну, заходи, коли Митря.
Темно на дворе, зги не видно, одна свечечка. Вошел в ворота Митрий-человече… за ним отрок какой-то…
— Эй, паря! А ну — охолонь! Охолонь, говорю… Ой!
Отрок вдруг камнем упал прямо Онисиму в ноги. Тот и запнулся, выронил свечечку. Хотел было заругаться… да прикусил язык-то, шеей холодное железо почувствовав…
Отрок — вот сволочуга! — чиркнул кресалом, свечку зажег. Ахнул про себя Онисим — двоих мужиков, в панцирях да с мечами, увидев. Руки связать протянул покорно, а что еще делать-то? Добро боярское спасать, жизнью рискуя? На-кось, выкуси!
— Где иматые, шпынь? — выхватив из-за пояса кинжал, грозно спросил отрок, да так взглянул, так гляделками своими зыркнул… сразу видно — не одну уж душу загубил, нехристь!
Онисим и запираться не стал — себе дороже — покивал на клеть да задрожал мелко… Ключи? Ах, ключи… В людской, вестимо. Не, не надо собачку мечом… сейчас успокоим. Тихо, тихо, Агреюшка. Свои…
Рыцарь Куно фон Вейтлингер сходил с Онисимом за ключами. Удачно сходил — никто не проснулся. Отперли клеть.
— Вставайте, люди добрые!
— Кому добрые, а вам, видно, не очень, — глухо откликнулись из темноты… потом помолчали чуть и молвили уже более радостно: — Олексаха, а это ж никак Гришаня!
— И правда! Гриша, ты как здесь?
— После! — отмахнулся отрок. — Поторапливайтесь, покуда слуги боярские не проснулись.
Словно бесплотные тени, скользнули в открытые ворота, исчезнув в темноте улиц. Один связанный сторож Онисим остался на дворе, рядом с собачьей будкой, и, выждав немного, заголосил…
— Я бы тебе обязательно помог, Олег, — выслушав рассказ Олега Иваныча, покачал головой рыцарь, — но, поверь, у меня не настолько большой отряд, чтобы взять штурмом Мирожский монастырь.
Они сидели впятером в шатре фон Вейтлингера недалеко от реки Синей, за которой виднелись укрепления Красного Городка. Московские всадники в зеленых тегиляях на низкорослых коньках гарцевали на земляном валу и грозили рыцарским сторожам кулаками. Боя не случилось — вовремя вернулся фон Вейтлингер, приказав немедленно отойти. Не столь и много было ливонцев, чтоб устраивать сечу, да не затем, честно говоря, и ехали. Сопровождали посланника магистра, а к Красному Городку подступили так, для куражу больше, даже из арбалетов не стреляли. Хотя, не появись московское войско, кто знает…
Всадник на вороном коне, в черных латах, выехав на вал, повелительно махнул рукой, и московские воины, подгоняя лошадей, скрылись в открывшихся воротах крепости. Последним, оглянувшись на рыцарские шатры, въехал в ворота черный всадник в развевающемся плаще.
Небольшой отряд рыцарей, оставив Городок, расположился на ночлег примерно в полверсте от речки Синей, у поросшей орешником балки. Разбили шатры, кнехты быстро развели костер.
— Думаю, нам не войти в монастырь даже хитростью, — продолжая начатую беседу, почесал бородку фон Вейтлингер. — Московские воины наверняка будут сопровождать нас до самых земель Ордена. А монастырь, насколько я знаю, совсем в другой стороне. Тебе ведь нужен женский?
— Я вовсе не прошу о невозможном, Куно, — Олег Иваныч протянул озябшие руки ближе к наполненной красными углями жаровне. — Просто поведал тебе о своем горе… ты ведь сам спрашивал. И совсем не просил о помощи! Спасибо, ты уже мне помог. И довольно своевременно, надо сказать!
За тонкими стенками шатра брезжил рассвет. Весело переругиваясь, кипятили на костре воду кнехты, в ореховых зарослях чирикали проснувшиеся воробьи, ржали привязанные в балке кони.
— Да, если б Софью спрятали в мужском Мирожском монастыре — было б гораздо легче, а так… В женский-то нас и на порог не пустят. Впрочем, не всех…
Олег Иваныч пристально, словно впервые увидев, рассматривал Гришаню. Рыцарь фон Вейтлингер перехватил его взгляд и усмехнулся.
— Брат Конрад, — тихо заметил он, — как раз прикупил в Пскове сурьму и румяна для своей пассии в Феллине.
— А платье? — враз просек тему Олексаха. — Хотя тоже можно в Пскове купить…
— Эй, эй… Вы что это задумали? — испуганно передернул плечами Гришаня. — Грех ведь! Да еще в пост…
— Никакой это не грех, Гриша, — заметил Олег Иваныч, — а просто-напросто лицедейство!
На следующий день, ближе к вечеру, в ворота женского монастыря постучалась молоденькая девчонка в накинутом поверх летника полушубке и круглой девичьей шапочке, отороченной бобровым мехом. Несколько нескладная и угловатая, но на лицо смазливая. В руках девчонка держала большую накрытую белой тряпицей корзину.
— Ишь, нарумянилась, словно праздник, — осуждающе покачала головою открывшая ворота черница.
— К матушке-игуменье, с рыбкой, — девчонка приоткрыла корзину.
— Ну, проходи, проходи, не стой… — закрывая ворота, буркнула черница. — Посейчас, скажу ужо матушке…
— Девица, говоришь? С рыбкой? — задумалась матушка — сухопарая, довольно хорошо сохранившаяся женщина лет сорока с белым гладким лицом. — Видно, из деревни за куличами на Пасху… Ладно, зови… рыбку засолим.
— Мне б ночесь остаться, матушка, — поставив корзинку на пол, кинулась в ноги настоятельнице девка. — А то темно уж, страшно!
— А ты молитву-то чаще твори, дщерь, вот и не будет страшно! — посоветовала игуменья и, как бы невзначай, провела по девичьему подбородку холодным костистым пальцем.
— Ладно, так уж тому и быть! Оставайся, синеглазая, — с придыханием произнесла она. — Ночесь придешь ко мне в келью, исповедаться.
— Благодарствую, матушка, — в пояс поклонилась девица.
В трапезной монастырской пусто было — пост, на столе бадьица с водой ключевой стояла, три послушницы-молодицы, молитву сотворив, по очереди корцом из той бадьицы воду черпали — пили. Шептались, пересмеивались грешным делом.
— Скажете ль, где водицы напиться? — неслышно проскользнула в трапезную синеглазая девчонка — не монашенская, по одежке видать.
Послушницы вздрогнули, одна аж корец из рук выронила. Упал корец на пол, водой холодной ноги окатив.
— Тьфу ты, прости Господи! — ахнули. — Думали, матушка… А ты-то кто?
— Э… Феврония я… девица.
— Со Пскова?!
— Со Пскова, со Пскова.
Обрадовались послушницы, тут же девицу Февронию утащили в келью — от матушкиных глаз подальше. Спрашивали о том, что во Пскове делается, да не встречала ли случаем Феврония Федота-кузнеца, да Акулину-прачку, да Манефу-коренщицу. То родители послушниц были. Видно, скучали девчонки в монастыре-то, не привыкли еще.
В лесу близ монастыря вечеряли двое — окольчужены, оружны, ухватисты. Костра не жгли — паслись монастырских. Лепешку постную холодным кваском запивая, на монастырь посматривали в нетерпении. Рядом четверка лошадей к деревьям привязана. Хорошие лошади, быстрые, сильные, злые — немецкие. Солнце садилось уже…
— Может, зря, Олег Иваныч, рыцарей с собою не взяли?
— А какой тут от них прок? Внимание привлекать только… Лошадей дали — и ладно, дальше сами управимся. Не в силе ведь тут дело, Олександр, в хитрости!
Помолчали оба, квасу попили. Походили вокруг лошадей, руками помахали — погрелись. Дальше ждать принялись, на небо посматривая. Темнело быстро.
— А еще, говорят, девы, будто на речке Синей водяной объявился — старец страшной, бородища зелена, очи — с плошку!
— Спаси, Господи!
— Хватает тот водяной и пешего, и конного, и мужика и бабу, никому проходу не дает. Особливо девицам!
— Ой, Феврония, какие ты страсти рассказываешь…
— Погодите, еще о волкодлаке скажу.
— О ком?
— Об оборотне богопротивном, что человеков, аки кур, поедает!
— Господи помилуй нас, грешных. Хорошо, у нас пес в обители — Злоб — чистой волкодлак, чужого кого — враз порвет. Но доброй… Кормишь когда, так и ластится… А с виду — чисто волкодлак, спаси, Господи!
— Вот и боярыня молода, что в обитель вашу приехавши, того волкодлака пасется.
— Какая боярыня? Ах, та жена, что не так давно привезена… В келье рядом с матушкиной живет.
— Где-где живет?
— Да ты про волкодлака-то сказывай, Феврония, не томи!
— Скажу, скажу… Вот только матушка ваша велела посейчас зайти ненадолго. Вернусь ужо скоро, ждите, девы!
— Уж ты приди, Феврония. Больно ты нам люба стала!
— Приду, сказал… тьфу… сказала. Ждите! Да, вы волкодлака-то вашего, пса, привяжите, а то, мало ли, чрез двор пойду… Разорвет еще. Страшно. А как приду, отвяжете.
— Ой, боязно, Феврония. Матушка-то не велит по ночам привязывать. Ну да ладно, для-ради тебя токмо… Возвращайся скорей!
Вместо шапки бобровой повязав по-монашески плат, девица Феврония, проворно проскользнув мимо кельи игуменьи (спросила у послушниц — где, у них же и плат взяла), остановилась напротив низкой дверцы в стене, прислушалась. Вроде как за неплотно прикрытой дверью плакали. Наклонилась Феврония, глазом к щелочке приникла.
Жесткая холодная рука вдруг неожиданно схватила ее за плечо!
— Ты что тут деешь, дщерь?
— Ой… Так… к тебе ж и иду, матушка! Сама ж звала…
— Ну, идем, коли пришла.
— Тьфу ты, вот неладно.
— Что ты там шепчешь?
— Да говорю, слава богу, что тебя, матушка, встретила — а то совсем заплутала в обители-то…
Просторна была игуменьи келья — стены темным сукном убраны, позолочены лампады, киот серебряный. На столике у окна — книга, видно Писанье Святое — Библия, в переплете, смарагдами украшенном. Больше ничего не было в келье — скамейка одна низенькая да ложе узкое, жесткое, тканью грубой покрытое.
Как вошли, заперла игуменья дверь на засовец, за руку девицу взяла:
— Сирота, говоришь?
— Сирота, сирота, — та закивала. — Полнейшая…
— Это хорошо… Хочешь к нам в обитель?
— Ой, матушка! Да всю жисть токмо про то и думала-надеялась!
— То ладно. Смотри, будешь меня слушать — не обижу. А покуда, пошли-ко…
Откинув со стены плотную ткань, игуменья отворила узкую дверцу…
За дверцей оказалась спальня. Ложе — широкое, медвежьей шкурой убрано, не то что в самой келье.
— Тут и ляжешь, в ногах. Помоги-ко разоблачиться.
Матушка-настоятельница сбросила с ног небольшие сапожки без каблука и, повернувшись к девице спиною, повелительно кивнула.
Дрожащими руками Феврония расстегнула фибулы.
Медленно сбросив одежды, обнаженная игуменья повернулась к девчонке и ласково положила ее руки к себе на плечи. Белое, красивое лицо, стройная фигура, тяжелые, налитые соком груди пылали жаром.
— Дай-ко сыму с тебя плат. Ой… Ты уж и обстрижена, где коса-то?
— Ммм…
— Не бойся, синеглазая. Давай-ко, подыми руци… Вот…
Сняв с Февронии летник, настоятельница провела руками по ее спине.
— Какая ж ты худая, нескладная… Ну… снимай сарафан-то.
— Ой, матушка… Совсем забыла… Меня ж послушницы ждут. Помолиться вместях договаривались, — девица испуганно прижала руки к груди. — Да и корзина моя там, и вещицы…
— После заберешь. Впрочем… Что за послушницы?
— Да есть там одни… Так я сбегаю, матушка? А то заждутся ведь, искать будут. Потом подумают невесть что…
— Ладно… Иди. Послушницам тем скажешь — ночевать в Евдоксиной келье будешь — она пуста сейчас. Запомнила?
— Запомнила, — кивнув, девица Феврония лукаво взглянула на обнаженную игуменью. — А ты… Ты, матушка, красива вельми. Я быстро обернусь!
— Ну, иди же. Да не задерживайся, дщерь…
— Мигом, матушка, мигом!
— Три раза стукнешь, не перепутай. Да плат накинь, чудо!
Выпроводив девицу, игуменья улеглась на широкое ложе и, проведя руками по бедрам, довольно улыбнулась:
— А ведь не так и стара еще… Не стара!
На ходу завязывая платок, девица Феврония быстро выбежала из кельи игуменьи. Потопала ногами, постояла немного, затем, прислушавшись, на цыпочках подобралась по коридору к двери. К той самой. За которой плакали…
Поскреблась тихохонько. Никакого результата!
Оглянувшись опасливо, постучала громче.
Дверь неожиданно распахнулась. На пороге стояла боярыня Софья — в монашеском платье, на голове плат черен, на плечах телогрея накинута. В больших золотисто-карих глазах стояли недавние слезы.
— Чего тебе, сестра?
— Впусти-ка, боярыня.
Зайдя, девица выглянула наружу, осмотрелась и лишь затем тихо прикрыла дверь. Обернулась:
— Поклон тебе от Олега Иваныча, боярыня Софья!
— Господи…
Боярыня тихо опустилась на узкую лавку, обхватив лицо руками.
— Скорей, боярыня! Не время слезы лить-проливать!
— Не время?
— Бежать надоть! Все в лесу ждет, рядком. И лошади, и одежка, и люди… Ну, и Олег Иваныч самолично! Все очи уж, поди, проглядел! Так что скорей собирайся, боярыня!
— Олег?! Да чего уж мне собирать-то? Готова я… Идем, девица. Скажи хоть, кто ты?
Феврония с усмешкой сняла платок.
— Господи! Никак, Гриша?! Гриша!!!
Со слезами на глазах, Софья обняла отрока и поцеловала его в губы.
— Идем, идем, Гриша.
«Ну, дают бабы, — подумал про себя отрок. — Не одна, так другая на шею вешается!»
Они быстро прошли по темному коридору, первым — Гришаня — дорогу оглядывал, за ним боярыня поспешала проворно.
— Как же мы выйдем-то? — на ходу шептала, спрашивала. — Без игуменьи благословения сторожа нас нипочем не выпустят.
— Верно, не выпустят. Олег Иваныч чрез стену махануть советовал. Разорвете, говорил, какую-то простыню… что это такое, не сказывал… свяжете. Ладно, придумаем. Вон, похоже, ход к стене!
Никем не замеченные, они вышли к стене, представлявшей собою высокий тын из крепких трехсаженных бревен. Со стороны двора к стене была пристроена небольшая площадка — заборол, где хранились увесистые камни да запас стрел на случай нападения — предосторожность по тем временам далеко не лишняя, даже в женском монастыре. На заборол вело узкое суковатое бревно с прибитыми там, где не хватало сучков, перекладинами.
— Лезем, боярыня!
Цепной пес Злоб выбрался из будки, забрехал, привязанный, — молодцы, девчонки, не подвели! Страшен пес, зубаст, лапы толстые, хвостище косматый. Из пасти пена! Как есть волкодлак-оборотень. Худо б было, ежели б не привязан был. Ну, а так — пусть себе лает! Только, конечно, поспешать надо.
На веревку изорвали Гришанин сарафан — не жалко ему носить его, что ли? — перебросили чрез тын… Спустились! Ух, и ловка боярыня, словно каждый день по веревкам лазит! Гришане-то боязно поначалу было, а эта… Уж и не скажешь, что не столь давно слезы лила-проливала!
Спустившись — ноги в руки — и к лесу. Гришка впереди — на коленки голые рубаху натягивал — стеснялся, за ним боярыня, плат по пути потеряла — волосы светлые на ветру растрепались, вьются. Обернулся Гришаня — не Софья то — валькирия-дева!
В лес вбежав, остановились. Нет вокруг никого! А холодно, между прочим, особливо Гришане, в рубахе-то одной поди-ка, побегай…
— Где ж они?
Где… Если б знать.
А! Вот, кажется, лошадь заржала. Ага… И тени какие-то в лесу, близ, замаячили…
А вдруг — не те? Вдруг шиши какие лесные, шпыни ненадобные?
Гришаня ветку увесистую с земли поднял, что попалась под руку, вернее — под ногу, за березу толстую спрятался, ежели что… Софья тоже затаилась. Ждали.
— Эй, Гри-и-иша!!! Со-о-офья!!!
Закричали тени-то… Свои!
Боярыня первой навстречу кинулась — волосы по плечам, валькирия!
— Олег!
— Софья…
— Ну, ну! Хватит целоваться-то, успеете. Одежку скорей давайте, замерз однако.
Вскочив на приготовленных лошадей, поскакали. Быстро скакали, проворно. Хоть и не ждал Олег Иваныч столь рано погони, однако Гришаня подгонял — сказал, что обязательно скоро погонятся, и солнце взойти не успеет. Почему так — не сказывал, но говорил уверенно, видно, знал что-то.
— Где, ты говоришь, Ставр-то с людями? — на скаку кричал отрок Олексахе.
— В монастыре мужском, Мирожском, рядом тут, за холмом только.
— Поспешать надо, им собраться недолго. А дорога тут одна.
Как в воду глядел отрок!
Далеко еще было до рассвета — едва Гришаня с Софьей к лесу припустили — как открылись ворота обители женской. Выскочила на коне послушница, разъяренной игуменьей за боярином Ставром посланная. В Мирожском Ставровы люди не долго не копошились. Услыхали только про побег Софьин, собрались споро.
Ставр на скаку усмехался. Нехорошо усмехался — короткий путь знал. Никуда от него Софья не денется, как и вызволители ее, курвины дети. Перехватим, ужо посчитаемся!
Со злостью хлестнув плетью коня, боярин махнул своим людям, чтоб не пропустили лесную повертку. Она, повертка-то, путь скрадывая, к самой реке выходила, к мосту. А уж мост миновать те никак не могли бы, хоть и неширока речка — да не лето! И не зима — лед-то стаял почти.
Там и встретились, у мосточка.
Только обманулись малость люди Ставровы — избавители Софьины уже чрез мосток переехали — да, затаясь, ждали. Уж не совсем был в лесу-то найденный Олег Иваныч, человек житий, предвидел погоню.
А Ставровы-то — ну, скакать к мостику… А мостик возьми да подломись! А и чего б ему не подломиться? Зря, что ли, Гришаня с Олексахой бревнышки пилили, упарились? Дескать, что это удумал еще Олег, свет Иваныч? А тот посмеивался только да приговаривал чудно: «Пилите, пилите, Шура!» Еще Гришаню заставил лед на речке переколоть, как раз под мосточком… Хорошо, нырять не приказал, сатрап персидский!
А вот и пригодилось все!
Аж душа возрадовалась, как полетели Ставровы на всем-то скаку в речку! Кругом вопли да брызги ледяные… А под мосточком Олексаха с самострелом. Попробуй — выберись! Сам Олег Иваныч, с Софьей да Гришей, из лесочка не торопясь выехал — навстречу Ставру-боярину, вражине лютому…
Ага, навстречу… как бы не так!
Хоть Олег Иваныч и не в лесу найден, так и боярин Ставр тоже не в поле валялся. Умен был, сволочь. За людишками своими не очень-то вперед лез. Как мост подломился — успел-таки коня удержать. Развернулся — и вскачь! Миг — и скрылся из глаз. Иди — лови, попробуй! Моста-то нет.
Ну, и черт с ним, с козлом! — сплюнул Олег Иваныч…
Проскакав по лесной дороге, Ставр свернул влево, к скиту, где оставил пешую часть отряда. Добрался быстро — и стемнеть не успело. Ярость ушла по пути, лишь серые, словно из олова, глаза боярина светились обидой и грустью. Подъехав к скиту ближе, он спрыгнул с коня, помочился на придорожную ольху. Тут и людишки вышли…
— Здесь где-то неподалеку должен быть московский отряд Силантия Ржи, идущий от Красного Городка, — оправившись, тихо произнес он. — Сегодня же разыщите его. Ты, Онфим, поедешь со мной во Псков, выкупим из поруба Митрю Упадыша. Пригодится еще шильник. Остальных жду к вечеру в Мирожском монастыре. Все!
Красным кругом выкатилось из-за дальнего леса солнце. В обеих обителях, мужской и женской, звонили к заутрене. Колокольный звон медленно плыл над весенним лесом, над вздувшимся льдом реки, над коричневой от грязи дорогой. Запели в лесу птицы, проталины зазеленели в солнечных лучах первой травой, заголубело небо — по всему, день обещал быть теплым. Звонили колокола, порывы легкого ветра колыхали ветви деревьев. Приближалась Пасха.
Глава 3 Балтика. Апрель — май 1471 г.
Пусть шторм, пусть ветер, все одно!
Нет, мне другое суждено:
Моя погибель — плаха.
Так что ж дрожать от страха?
Бурхард ВальдисДвухмачтовый когг «Благословенная Марта», принадлежащий почтенному ливонскому негоцианту Иоганну Штюрмеру, вышел из Нарвского порта в конце апреля и взял курс на восток. В трюмах корабля находились бочки с сельдью, несколько десятков штук доброго фламандского сукна и кипрская медь в крицах. Все эти товары хитрый купец, пользуясь ганзейским запретом, надеялся выгодно сбыть в Новгороде, взамен на мед, воск и «мягкую рухлядь», как русские называли меха. Если бы попался «рыбий зуб» — моржовые клыки — герр Штюрмер охотно взял бы и его, правда, не очень на это рассчитывал — вряд ли к маю в Новгород возвратятся лихие ватаги ушкуйников, что промышляли моржа за Мезенскими землями. Кроме груза, на судне находилось четверо пассажиров: добрый знакомец капитана новгородец Олег с друзьями, в числе коих был и один очень красивый юноша с большими золотисто-карими глазами — младший сын одного из немецких баронов, ехавший в Новгород по делам. О том, что на самом деле это была знатная новгородская дама, боярыня Софья, знал только один капитан герр Иоганн Штюрмер. Штюрмер взял Софью на судно, не очень-то считаясь с дурными приметами — женщина на корабле, — но не потому, что в приметы не верил, а по личной просьбе Олега и рыцаря Куно фон Вейтлингера, волею магистра Вольтуса фон Герзе занимавшего не последнюю должность в Ордене. Фон Вейтлингер был членом капитула — высшего Орденского правительства, и ссориться с ним хозяину «Благословенной Марты» было никак не с руки. Впрочем, он и не собирался ссориться, наоборот — рад был угодить.
Кроме самой «Благословенной Марты», вышедший из Нарвы караван насчитывал еще с десяток судов, включая большой трехмачтовый когг новейшей постройки, с высокими узкими надстройками на корме и носу, не выступающими за борта, как обычно, а скорее даже чуть заваленными внутрь. Когг этот — боцман «Благословенной Марты» называл его шведским словом «хольк» — отличался быстротой и маневренностью, правда, вот остойчивостью на волне с судном Иоганна Штюрмера он вряд ли смог бы поспорить. Да и насчет скорости — хоть и две мачты у «Марты», а идет под ветром — любо-дорого взглянуть — обшивка днища вгладь сделана, не внакрой, как принято было. Оттого и брызг меньше, и скорость выше. Хоть и ненадежной считалась такая постройка — да ведь все чаще именно так и строили теперь корабли, что в Любеке, что в Лондоне. Именно так, как недавно рассказывал Иоганну приятель, Пауль Бенеке, был перестроен недавно на Данцигской верфи грузный парусник «Петер фон Россель». И не корабль получился — сказка! Быстрый, как ветер, на любой волне ловок — последняя мачта, бизань, латынский косой парус несла, что ловил любой ветер…
Вот на такой-то кораблик и походил тот трехмачтовый хольк, что шел теперь впереди каравана.
Попутный ветер выгибал дугой паруса, и корабли ходко шли вперед, зарываясь в волны так, что тучи белых брызг достигали форштевня. По правому борту тянулась узкая полоска низкого болотистого берега. Небо у горизонта сливалось с морем.
Большую часть времени Олег Иваныч проводил в каюте, со сказавшейся больной Софьей. Та старалась крайне редко показываться на палубе, что было вполне понятно — опытный матросский глаз вполне мог распознать женщину под мужским платьем. Поэтому и не шастала по палубе Софья, терпеливо сидела в каюте, не раздражая суеверных матросов, коих на судне насчитывалось полсорока человек. Бедный Олексаха тоже выбирался наружу редко, правда, по иной причине — лежал в лежку — маялся, сердечный, морской болезнью — как только ступил на палубу, в Нарве еще, так сразу же и выворотило его наизнанку. Так и не отпускало.
А вот Гришаня с удовольствием болтался по всему кораблю, от бака до юта. Помогал матросам ставить паруса, травил с ними байки — познаний в немецком на это хватало — один раз даже, с разрешения капитана, залез в «сорочье гнездо» — смотровую площадку на грот-мачте, заполненную каменьями да запасом стрел — на случай нападений пиратов, коих на Балтике было — каждый второй, не считая каждого первого. И ста лет не прошло, как прогремела на все поморские города жуткая слава витальеров и ликеделлеров, «друзей Бога и врагов всего мира». Эти пиратские братства наводили ужас на всех, об их вождях — Клаусе Штертебеккере и Годеке Мехеле — ходили жутковатые легенды. Наряду с жестокостью пиратам приписывалась и некая порядочность — так, говорили, что, прежде чем напасть на несчастное судно, ликеделлеры предлагали договориться — оставляли сдавшемуся купцу восьмую часть товара, остальное же доставляли по месту назначения. Кроме обычного морского разбоя, пираты периодически грабили все прибрежные города, до которых только могли добраться, — а не разграбленные облагали данью. Помощью пиратов в те времена не брезговали пользоваться и короли — сами понемногу промышлявшие разбоем, — и Ганза, объявившая войну пиратам. Датская королева Маргарита — особа, не страдавшая излишком гуманности, — для борьбы с пиратами призвала крестоносцев, в начале 1401 года, после упорных морских сражений, пиратские базы были разгромлены, а их вожди — казнены. Очевидцы рассказывали, что когда казнили Клауса Штертебеккера, он попросил исполнить свою последнюю просьбу — сохранить жизнь тем пиратам, мимо которых он сможет пробежать с отрубленной головой… Обдавая окружающих хлещущей из шеи кровью, он пробежал мимо одиннадцати и упал только тогда, когда, несколько озадаченный подобной нечеловеческой прытью, палач сообразил подставить обезглавленному пирату подножку…
— Вот ведь сволочь, палач-то! — выслушав историю, всплеснул руками Гришаня. — Нет, наши, новгородские, палачи — не такие, взять хоть вот Геронтия… Впрочем, ты, Михель, его все равно не знаешь.
Михель — темноволосый паренек чуть помладше Гришани — не так давно был взят на «Благословенную Марту» юнгой, с оплатой в двенадцать шиллингов в день, что составляло ровно на два шиллинга больше обычного жалованья. К тому же на судне еще и кормили. Двенадцать шиллингов составляли около шести грошей, или одну кельнскую марку, или чуть меньше марки любекской. Два шиллинга равнялись одному альбусу. Почти все они, кроме серебряного гроша, представляли собой исключительно счетные, весовые единицы (так же как, к примеру, московский рубль) и использовались при расчетах для удобства.
Олегу Иванычу такая громоздкая система почему-то удобной не казалась, хотя при здешней чеканке монеты — как Бог на душу положит — была вполне оправданной. Даже, казалось бы, одинаковые серебряные монеты — гроши — чеканясь в разных городах, различались по весу довольно сильно. Меньше были распространены золотые рейнские гульдены, существовавшие почему-то в двух видах: легкий гульден (двадцать шиллингов) и тяжелый — двадцать один.
— В общем, без стакана не разберешься! — покачав головой, заметил Олег Иваныч и, потянувшись в небольшой деревянный шкафчик за кувшином, не удержался на ногах — какая-то особенно коварная волна как раз в этот момент сильно качнула судно — повалился на пол вместе с кувшином. Белое рейнское, естественно, вылилось… Хорошо, хоть пол был застелен толстой медвежьей шкурой…
Удобно устроившаяся в уютном небольшом кресле, боярыня Софья, объяснявшая Олегу Иванычу финансовую премудрость, не выдержав, засмеялась.
— Смейся, смейся, Софьюшка. Нет, чтоб руку подать!
Боярыня поднялась с кресла. Пышные светлые волосы — косы, в целях конспирации, пришлось обстричь, — карие, отливавшие золотом глаза, тонко очерченный подбородок, маленький рот, с розовыми, чуть припухлыми, губами. Тонкий стан обтягивала короткая красно-голубая куртка — котта — тонкого фламандского сукна, разноцветные, по бургундской моде — одна штанина черная, другая синяя — штаны-чулки соблазнительно обтягивали бедра. Небрежно отбросив в кресло длинный темно-зеленый плащ, Софья с хохотом протянула руку валявшемуся на медвежьей шкуре Олегу. И снова хищная волна резко подбросила судно. Так, что боярыня, ойкнув, упала прямо в руки Олегу. Тот, естественно, поймал, изловчился. Обхватил, обнял Софью за талию, чувствуя, как тяжело поднимается под коттой горячая женская грудь. Глаза боярыни приблизились близко-близко, волосы растрепались… на кого же она была похожа сейчас, с этой мальчишеской прической? Кажется, на Милу Йовович в роли Жанны д'Арк… Да, действительно, похожа… только…
Прижавшись к Олегу всем телом, Софья провела рукой по его волосам, улыбнулась и жарко поцеловала в губы. Поцелуй был долог…
Руки Олега словно сами собой развязывали тесьму застежек. Полетела в сторону куртка, затем нижняя рубаха… за ними штаны… Изогнулось дугой стройное тело…
Потом они просто лежали на шкуре, укрытые Софьиным плащом, тесно прижимаясь друг к другу. Олег Иваныч ласково гладил боярыню по спине, Софьины руки тоже не теряли времени даром. Миг — и влюбленные снова слились в жарком порыве… новгородская боярыня и скромный старший дознаватель Н-ского РОВД.
Упал со стола кошель с серебром, покатились по полу монеты… Софья схватила одну:
— Видишь, это альбус, в нем двенадцать серебряных геллеров.
— О, Боже! — выдохнув, притворно застонал Олег Иваныч. — Теперь понятно, откуда столько фальшивомонетчиков — столько разной монеты — ленивый не подделает! Как и в Новгороде…
— Что — в Новгороде? — насторожилась Софья. — Обманные монеты чеканят?
— Если б… — вздохнул Олег. — В смысле, ежели б в самом Новгороде чеканили — мы б узнали, рано иль поздно. А так… Чеканят ведь где-то, нехорошие люди. Говорят, напал было на их след один ушкуйник, Ионой покойным посланный. Только нам от того ушкуйника ни жарко, ни холодно — сгинул он… теперь ищи-свищи, что там раздобыл да разведал этот Олекса…
— Как ты сказал? — вздрогнула под плащом боярыня. — А ну, повтори имя!
— Олекса, — недоуменно пожал плечами Олег. — Ушкуйник Олекса… Говорят, из знатных, но не богат был…
— Из знатных… — усмехнулась Софья. — Если хочешь знать, погибший ушкуйник Олекса — мой сводный брат!
Олег так и сел на шкуре:
— Вон оно что. Теперь ясно…
— Что тебе ясно?
— Подожди. Дай подумать…
Так вот, оказывается, зачем нужна была Ставру боярыня, а он-то, дурак, решил, будто любовь здесь. Так вот зачем они и встречались тогда, в часовне. Что-то выведать хотел Ставр об Олексе, вестимо… А где пропал Олекса с людьми? На Паше! Или — в Заволочье… Нет, скорее, на Паше, может, правда, и на другой какой речке — но точно в той стороне, в Нагорном Обонежье — на краю веси! Неспроста ведь именно там впервые столкнулся Олег с людьми Ставра — Митрей и Тимохой Рысью. Что там выведывали они? Сокровища Олексы? А может, и не только это? Может, и сам Олекса кое-что выведал… за что его и убили… а после спохватились — сокровищ взалкали…
Резко распахнулась дверь.
— Олег Иваныч… ой!..
Вбежавший в каюту Гришаня сконфуженно отвернулся.
— Что, отроче, жен не видал безодежных? — поплотней укрываясь плащом, засмеялась Софья. — Ну, повернись, теперь можно. Зачем прибежал-то?
— В море паруса чужие, Михель-юнга разглядел. Иоганн Олега Иваныча кличет на палубу-от…
— Скажи, сейчас буду.
Выбравшись из-под плаща, Олег Иваныч принялся одеваться.
— Не видал я жен, как же, — выходя на палубу, бурчал себе под нос Гришаня. — Не столь уж и много прошло времени-то… Ох, матушка-игуменья… Интерес большой — чтоб она со мной тогда в обители сделала?
В море, прямо по ходу судов, у горизонта, меж изумрудно-синих вздымающихся волн угрожающе белели паруса… Почему угрожающе? А потому что любой парус в то время представлял собой опасность! Тем более — в этих местах. Хоть и разбили ливонцы ликеделлеров, да и законы против пиратства были приняты куда как строгие, а все не унимались, супостаты. Рыскали, словно оборотни-волкодлаки — с утра он почтенный купец, к вечеру — разбойник с алчно горящим взором, утром опять купец. Поди его, вылови, когда и коронованные особы нередко в покровителях ходят, свою долю имея, и — знамо дело — в каждом порту свои люди. Судя по приближающемуся флоту — были такие осведомители и в Нарве, больно уж уверенно шли суда. Словно знали, где именно и кого встретят. Словно? Да стопудово знали, к бабке не ходи! Вот и шли наперерез, нагло да уверенно.
— Один… Два… Четыре…
Забравшийся в «сорочье гнездо» юнга Михель громко считал чужие суда, с каждой минутой становившиеся все ближе… уже настолько ближе, что можно было с полной уверенностью говорить о классе кораблей.
— Семь… Восемь… Одиннадцать…
Команда «Благословенной Марты» проворно забегала по палубе. Готовили бомбарды и кулеврины, подтаскивали ближе к бортам дротики и стрелы, надевали кирасы и шлемы. Готовились. Кое-кто украдкой крестился.
— Тринадцать… Четырнадцать… Пятнадцать… Пятнадцать больших кораблей, герр Штюрмер! И с десяток маленьких!
По приказу капитана втащили на борт привязанную за кормой разъездную лодку — кимбу.
— А может, уйдем? — Олег Иваныч вопросительно посмотрел на капитана.
Тот отрицательно покачал головой, ответил на ломаном русском:
— Нет, не уйдем, герр Олег. Ветер переменился. Пока будем разворачиваться, нас легко догонят. Лучше будем готовы к худшему! Эй, ребята, а ну тащите на корму жаровню да калите камни! Будем драться, господин Олег, и, быть может, небеса дадут нам победу.
Когда чужие корабли приблизились, так что можно стало рассмотреть ванты, в их намерениях ни у кого не осталось сомнений. Пиратские корабли выстроились в одну линию, так же построились и обороняющиеся. Два пиратских холька с высокими надстройками оказались напротив флагмана, остальные тоже разобрали себе по судну. Судя по всему, на бедную «Благословенную Марту» собрались броситься сразу четверо: пара больших двухмачтовых коггов, водоизмещением около ста пятидесяти ластов — чуть поменьше, чем корабль капитана Штюрмера, — и еще два мелких суденышка, шаставших меж остальных судов, словно шакалы.
Неожиданно ударил гром — выстрелили бомбарды флагмана. С жутким воем пролетев по пологой кривой, каменные каленые ядра подняли тучу брызг у левого борта пиратского холька.
В белый свет — как в копеечку!
Второй залп оказался удачней — судя по громким угрожающим воплям собравшихся на абордаж пиратов — на этот раз ядра вполне достигли цели.
Вооруженные матросы капитана Штюрмера давно уже заняли свои места у бортов «Благословенной Марты». Враги приближались. Их паруса и флаги были — по традиции — украшены самыми немыслимыми гербами, большей частью — крестами, а также лилиями, единорогами, леопардами и еще многими другими непонятными животными с зубастыми пастями и вздыбленными, как в период течки, хвостами.
Пиратские когги обходили «Благословенную Марту» с бортов, прижимаясь все ближе. Напрасно стреляли бомбарды: нет, хотя они и могли вызвать панику на атакующем корабле, или, в лучшем случае, повалить мачту, но проделать в борту судна достаточную для потопления дырку — кишка тонка, вернее — калибр маловат, что поделать.
Пушки пиратов тоже не молчали, стлался над самой водой черный пороховой дым, стоял такой грохот, словно рядом забивали сваи. Установленные с бортов кулеврины и бомбарды опасно сближавшихся с «Мартой» пиратов выплюнули огонь. Выпущенные ядра порвали кое-где такелаж — паруса давно уже были предусмотрительно опущены — несколько штук попало в корпус.
Черт с ними — не такой корабль добрый ганзейский когг, чтобы пойти ко дну от подобных пустяковин!
— Почему они не стреляют по палубе? — поигрывая тяжелой секирой, хмуро пробурчал себе под нос капитан Штюрмер. — И совсем не мечут стрел, не считая тех, что попали в «сорочье гнездо». Странно все это… странно.
Размышлять о словах капитана было некогда. С пиратских коггов одновременно метнули абордажные крючья. С двух сторон сдавили, сволочи. Полетели в нападавших камни и стрелы, те скалили зубы, терпели, но в ответ почему-то не стреляли.
Хэк!!!
Скалой выросли за бортом высокие надстройки пирата. Рвали снасти стальные абордажные крючья. Жутко заверещав, пираты бросились в бой. Их было человек сорок — ровно в два раза больше, чем вся команда Штюрмера — вооружены секирами, копьями и короткими широкими мечами… кирасы, кольчуги, шлемы…
Хэк!!!
С жутким скрежетом столкнулось железо. Меч на меч, удар на удар. Хриплые стоны и ругань. Кто-то полетел за борт — там его давно уже поджидали шакалы — мелкие кораблишки. Подбирали своих, принимали на копья врагов.
Олег Иваныч, вооруженный узким мечом — жаль, затерялась в лесах под Псковом шпага, — действовал плечом к плечу с капитаном. А уж тот орудовал секирой с полным знанием дела — летели по сторонам кровавые отшметки, на палубе перед Штюрмером росла гора трупов. Что и сказать — наверняка бил, куда и делась обычная его неторопливость. Удар — расколотый вместе со шлемом череп, удар — перебитые плечи, отрубленные руки. Его уже стали побаиваться, подтаскивали поближе кулеврину… Ага, прицелитесь, как же! Будет кэп стоять, вас, дураков, дожидаться. Рявкнув, кулеврина выплюнула ядро, со свистом пронесшееся мимо Олегова уха. Позади послышался короткий стон — хватаясь за живот, упал на палубу один из матросов. Не помогла и кольчуга. Словно рыба, он ловил воздух губами, пытаясь что-то сказать, пока кто-то милосердный не нанес умирающему смертельный удар в шею.
— Иваныч, сзади!
Олег вовремя обернулся — позади, с занесенной над головой устрашающих размеров секирой, уже подбирался к нему высоченный детина в блестящем, заляпанном кровью, панцире, с голыми, по плечи, руками.
Хладнокровно дождавшись, когда блестящее лезвие секиры пойдет вниз, набирая разгон и силу, Олег Иваныч спокойно сделал шаг в сторону и провел удар в горло. Удивленно вытаращив глаза, детина повалился вслед за секирой. Он умер, еще не успев упасть, — Олег бил наверняка.
Обернувшись, поблагодарил:
— Спасибо, Гриша!
Тут же отбил направленный в лицо меч. Пират попятился, на ходу принимая боевую стойку — выставил вперед левую ногу и несколько наклонил вперед туловище в начищенном панцире. Правую руку с узким мечом разбойник отвел назад, примериваясь для удара. По всем ухваткам его, по уверенной стойке, по холодному блеску в глазах под открытым шлемом Олег Иваныч почуял достойного соперника. Что ж… Как говорится: Ан гард! — К бою!
И пират не обманул его ожиданий. Сделав несколько широких маховых движений мечом над головой, вынудил Олега сдвинуться в сторону, туда, где палуба была скользкой от крови. Хорошо, Олег Иваныч вовремя заметил это. Однако пират совсем не хотел дать ему время для смены позиции — зря, что ли, загонял на скользкое место? Неуловимым движением он чуть повернул меч и с ходу нанес страшный удар сверху вниз, целя в голову и плечи… Немецкая тактика… Те любят бить в голову.
Холодная сталь с силой разрезала воздух.
Опасаясь за целостность своего клинка, Олег Иваныч просто уклонился от удара, отойдя чуть вправо, и, в свою очередь, сделал быстрый обманный финт в направлении левой руки противника. Ну, что ж ты? Давай, защищайся, контратакуй… Ага!
Пират быстро переместился влево, уклонился и, отбив клинок Олега, молниеносно нанес рубящий горизонтальный удар по туловищу соперника… то есть сделал то, что и ожидал Олег Иваныч, который, без особого труда парировав удар, быстро перешел в рипост — ответную атаку… которая и на этот раз оказалась ложной… За ней тут же последовала другая… Целя острием в лицо пирата, Олег Иваныч заставил его нервничать, переживать, ошибаться… Наконец тот ушел в глухую защиту и попятился, отступив на два шага, в недоумении ожидая от врага любой пакости. Хороший фехтовальщик всегда маскирует свои атаки — Олег Иваныч хорошо помнил это правило французской школы. Противник измотан и ошарашен? Тем лучше… Алле! Обманный финт влево… отбив… А сила-то у пирата уже не та! Финт вправо… отбив… А вот теперь пора! На, получи, фашист, гранату!
Сильным ударом снизу Олег Иваныч проткнул противнику шею, и тот упал, заливаясь кровью…
«Хорошо, не на рапирах фехтуем, — неожиданно подумалось Олегу. — Иначе б не засчитали удар, судьи-то — шея, голова, руки уж никак не входили в принятое понятие поражаемой поверхности…»
Впрочем, особенно думать пока было некогда. Слева возник еще один вражеский силуэт в потертом кожаном нагруднике и открытом шлеме… Ну что ж… Ан гард! — К бою! Эт ву прэ? Готов, собачий сын? Ну, тогда — алле! Начали!
Однако ловок, пиратская рожа! Двумя мечами сразу орудует. Интересно, чего в нем больше — понтов или опыта? Вроде молод для опыта-то… значит — понты… Двумя клинками фехтовать — особое умение надо… А ну-ка…
Сделав обманное движение, Олег Иваныч бросился пирату под ноги и уже на излете достал самым кончиком клинка его подбородок… Два меча, жалобно звякнув, упали на палубу, залитую кровью… скользкой кровью… В чем Олег Иваныч тут же имел самую непосредственную возможность убедиться. Поскользнувшись на чьих-то вывалившихся кишках, нелепо взмахнул руками, растягиваясь во весь рост. Хорошо, хоть меч из рук не выпустил!
Сразу трое пиратов набросились на него, словно коршуны на дичь. Один — кривой на левый глаз — нехорошо щерился. Смейся, смейся, шильник!
Удар короткого копья Олег отбил удачно, перекатился на бок — в то место, где он только что был, — ударило, блеснув, кривое лезвие гвизармы. Изловчившись, Олег Иваныч с силой ткнул мечом под кольчужный набедренник пирата. Тот заверещал, падая рядом, накрыв всей своей тяжестью узкий меч… Олег Иваныч слишком поздно сообразил, что допустил ошибку. Вполне возможно, последнюю.
Ухмыляясь, рыжеволосый пират в обтянутой зеленоватой тканью бригантине — железной кирасе и юбке — поднял боевой молот, собираясь перешибить Олегу ничем не защищенные ноги.
Стальной молот с острым навершьем со свистом рассек воздух, с треском пробив палубу. Сам же его обладатель медленно повалился навзничь. Из горла его, рассеченного незаметно подобравшимся сзади доброхотом, фонтаном хлынула кровь. Отплевываясь, Олег Иваныч поднялся на ноги, поднял глаза…
Рыцарь в длинном плаще, блестящем панцире и глухом шлеме с надвинутым на глаза забралом держал в руках широкий кривой нож. С лезвия ножа упала на палубу яркая алая капля, еще дымящаяся…
— Слева!
Олег Иваныч едва успел предупредить неизвестного спасителя — зевать было некогда. Четверо вооруженных гвизармами пиратов подбирались со стороны надстройки на баке.
Гвизарма… Нечто вроде копья, с острым наконечником и кривым, уходящим в сторону лезвием. Таким лезвием удобно резать ноги лошадям. Людям — не менее удобно. И ноги, и горло! Подлое оружие…
Рраз!
Короткая арбалетная стрела — болт — со свистом пущенная откуда-то сверху, впилась одному из пиратов в глаз. Еще одна отскочила от шлема. Выпустив гвизарму, нападавший упал, истекая кровью. Его сотоварищи предпочли укрыться за задней мачтой.
Олег Иваныч поднял глаза. В «сорочьем гнезде» на передней мачте засели двое — юнга Михель и Гришаня. Михель с воплями метал вниз тяжелые камни («каменья метаху!»), Гришаня проворно орудовал воротом, натягивая тетиву арбалета.
Зря, в общем-то.
Когда на абордаж посыпались пираты со второго когга, исход битвы уже вряд ли мог вызвать сомнения. Да и раньше-то… Почему-то поначалу пираты никому не предложили сдаться. С ходу накинулись, словно стая волков…
Олег Иваныч попытался оценить ситуацию.
Способных биться матросов оставалось человек восемь, плюс сам капитан Штюрмер, вон он, цел и невредим, по-прежнему машет секирой… а нападающие действуют как-то вяло, не торопятся попасть под удар, сволочи, ждут все чего-то, выжидают. Кроме капитана, еще боцман… впрочем, нет… вон боцман, с пробитой башкой валяется. Вот еще какой-то длинный парень в кольчуге и с саблей… Олексаха! Живой пока, черт! Так… Ну, Гришаня с Михелем на смотровой площадке… Он сам, Олег Иваныч… И, пожалуй, все… Нет, не все! Еще тот рыцарь в длинном плаще. Вон он, у мачты, подобрал гвизарму, ума хватило… Что хоть за парень-то? Видно, кто-то из команды… Ишь, щеголь, штаны надел разноцветные — черно-синие… Стоп! Какой же это рыцарь? Это ж Софья, мать ее за ногу! Тоже блин, Жанна д’Арк выискалась, Орлеанская, блин, девственница!
А врагов много! Десятка три — это только на первый взгляд, да вон еще, снизу на борта карабкаются, из моря, что ли… нет, с мелких «шакалов» лезут, сволочи, добычу делить торопятся… Ай, кому-то из вас не до добычи будет, к бабке не ходите!
Осмотревшись, Олег удивился — активных действий пираты почему-то уже не вели. Ну, окружили капитана, с двух сторон подобрались к матросам и Олексахе — человек двадцать, это против девяти-то… Смелые… Вон тут еще, за мачтой, прячутся, уроды. Опять одноглазый выглядывает. Жив, выходит, еще, сволочуга! Шугануть их оттуда, что ли? Что-то притихли.
С правого борта когга вдруг разнесся пронзительный звук рога. Все невольно обернулись, вздрогнув. Ну, все — это кроме Олега Иваныча, Олексахи и Штюрмера — те тертые калачи, ни на миг ближайших вражин из поля зрения не выпускали, мало ли…
Протрубили еще раз. Еще одной волной посыпались на палубу пираты — да сколько же их там — расступились почтительно, но по сторонам секли с арбалетами. Пропустили вперед высокого воина в богато украшенных латах. Доспех был почти полный, кроме, естественно, поножей и железных сапог — не сподручно по скользкой палубе прыгать, а так — полный гарнитур: панцирь с позолоченными желобками — уводить в сторону вражеские копья — шарнирные наплечники с гребнями, налокотники, поручи, круглый составной шлем-армэ с опущенным блестящим забралом. В специальной, прикрепленной к шлему трубке колыхались черные перья.
Повертев головой в шлеме, воин осмотрелся и, что-то сказав окружению, решительно направился прямиком к капитану Штюрмеру. Удивительно — но все молча ждали. Олег Иваныч с Олексахой — наверное потому, что понимали — надеяться больше не на что, а два-три, даже десяток убитых врагов ситуацию не изменят, матросы — по той же причине, что толку биться-то, надоело, а тут вроде затеялось что-то, посмотрим, хуже-то не будет. Ребята в «сорочьем гнезде», скорее всего, вряд ли чего думали, скорее всего — у них стрелы да каменья кончились… Нет, не кончились!
Небольшой, брошенный с мачты камешек — так, всего-то с полкило — с грохотом ударил рыцаря в золоченый сустав, смяв гребень. Все вздрогнули, рыцарь пошатнулся, выронил меч… его тут же подняли, почтительно подали, смахнув пыль. Кое-кто направил на верхушку мачты арбалеты.
Рыцарь махнул рукой — опустить, — подняв забрало, повернулся к Штюрмеру:
— Ну, здравствуй, Иоганн! Вот и встретились.
— Ван Зельде! — вздрогнув, произнес капитан. — Хорн ван Зельде!
— Вижу, узнал, — нехорошо усмехнулся рыцарь. — Ты, наверное, думал, мне отрубили голову в Брюгге? Нет, удалось спастись. Тебе на погибель!
— Так вот почему ты не стрелял…
— Да, не хотел лишать себя удовольствия… самолично воткнуть меч в твое толстое брюхо! Как, Иоганн, сразишься со мной?
— С таким же удовольствием, как и ты, ван Зельде! Доделаю работу палача из Брюгге.
— Так ты готов, старая сволочь?
— От сволочи слышу. От сволочи и предателя! — капитан Штюрмер смачно сплюнул на палубу. — Сразиться с тобой давно мечтал я, думаю, как и ты. Только выставлю прежде условие: независимо от исхода поединка ты отпустишь всех моих людей, кто еще жив, разумеется.
— Согласен! Начнем!
Отбросив секиру, капитан Штюрмер выхватил из ножен меч и с неожиданной прытью бросился на соперника.
Скрестились мечи — с искрами! Воины закружили друг перед другом, время от времени нанося удары… Длинный полуторный меч-бастард Хорна ван Зельде со свистом рассекал воздух.
Он оказался силен и подвижен, этот предводитель пиратов с голландским именем, дрался как лев. Впрочем, если капитан «Благословенной Марты» и уступал ему в этом, то совсем ненамного… Правда, этого «совсем» становилось все больше — герр Штюрмер был утомлен схваткой, силы были уже не те, а ярость… что ярость… далеко не всегда заменит она быстроту и силу…
Хэк!
Толпа ахнула, когда неожиданно ловким ударом капитан поразил соперника в ногу. Тот захромал, из бедра, над коленом, выступила кровь… В ярости ван Зельде заработал мечом, словно мельница, так что даже Олег Иваныч залюбовался, настолько все это походило на приемы борьбы у-шу с шестом. Лезвия почти вообще не было видно — один сплошной круг диаметром в полтора метра — зато было хорошо слышно!
Один удар… За ним сразу — второй… Третий…
Со звоном покатился по палубе сбитый с головы Штюрмера шлем.
Четвертого удара не услышал никто.
Только капитан «Благословенной Марты», выронив меч, схватился за шею и медленно осел на палубу, прислонившись спиной к украшенному щитами фальшборту…
— Ты все-таки достал меня, предатель ван Зельде, — умирая, прохрипел Штюрмер. — Все-таки достал… пре…
Он не успел договорить, да и умереть красиво ему не дали. Сильным ударом меча Хорн ван Зельде отрубил Иоганну Штюрмеру голову. Судно качнуло волной, и голова капитана, оставляя за собой кровавый след, покатилась по палубе к правому борту. Одноглазый пират подхватил ее по пути и, насадив на копье, с воплем поднял вверх…
Предводитель пиратов обернулся к матросам:
— Слышали договор? Вам нечего опасаться.
Довольные, те побросали оружие.
— Вам тоже, сир, — ван Зельде подошел к Олегу Иванычу. — И вам… фройляйн!
Олег вздрогнул. Опытный пират с первого взгляда определил в одетой в мужское платье Софье женщину.
Разоруженные пленники были выстроены на корме у разъездной лодки. С мачты слезли юнга Михель и Гришаня.
— Берег не так уж далек, доберетесь, — гнусавил какой-то пожилой бородатый пират. — Ну, а если и перевернетесь на волне — то уж не наша забота.
Довольные, что относительно легко отделались, матросы Штюрмера столпились у шлюпки.
Хорн ван Зельде подозвал к себе Олега Иваныча:
— Вы новгородец?
— Новгородец… да… — Олег Иваныч не очень-то понимал по-немецки, подозвал Гришаню. — Это переводчик… толмач…
— Кто еще есть здесь новгородец?
— Мы… И вот… Эй, Олексаха!
Предводитель пиратов окинул их холодным взглядом и, обернувшись, кивнул своим людям.
Словно давно дожидаясь приказа, те внезапно набросились на ничего не подозревающих пленников, вмиг спеленали их и бросили у борта.
— Хорошо, — удовлетворенно кивнул головой ван Зельде. — Теперь — этих.
Острием меча он указал на матросов, радостно спускающих на воду лодку.
— Всех, кроме юнги.
Их убили разом. Просто перекололи копьями, словно кур, — никто ведь не ждал нападения. Особенно старался одноглазый. Ух, с каким остервенением он выпускал несчастным кишки, какая зловещая ухмылка играла на его губах. А ведь где-то Олег его уже видел… Давно… Нет, не может быть… Скорее всего, просто похож…
Юнгу Михеля не тронули, подвели к ван Зельде. Отложив меч в сторону, он поднял с палубы увесистый булыжник.
— Ты ловко метаешь камни, парень, — криво усмехнулся предводитель пиратов. — Только — не в тех, в кого надо…
С этим словами он быстрым ударом проломил несчастному Михелю череп. Изо рта юнги хлынула кровь, тело его чуть дернулось и застыло.
Пираты деловито покидали трупы за борт и, окатив палубу водой, подняли паруса на передней, неповрежденной, мачте. Пленников заперли в трюме. Когда вели к люку, Олег Иваныч кинул быстрый взгляд на море. Исход битвы не вызывал сомнений — полная победа пиратов. Справа от «Благословенной Марты» выстраивались в линию пиратские корабли, слева догорал какой-то несчастный купеческий когг. Несколько больших лодок, полных людьми, медленно плыли к берегу — видно, остальные разбойники отличались большим милосердием, нежели их предводитель. Над блестящим от солнечных лучей морем, крича, кружили чайки.
Они плыли на север сутки, а может, и больше — в темном сыром трюме время вряд ли поддавалось строгому учету. Один раз вечером вывели на палубу — оправиться, тут же выдали по паре затхлых лепешек из проса и снова загнали в трюм. Хуже всех переносил заточение Олексаха — качка внизу чувствовалась гораздо сильнее. Бывший сбитенщик лежал на тюках с фламандским сукном и тихо стонал. Гришаня вел себя не лучше — впал в какую-то прострацию: то молился, то ругался и ни на какие вопросы не реагировал. То ли смерть юнги на него так подействовала, то ли ранение — зацепило все-таки стрелой левую руку. Олег Иваныч оторвал от его рубахи рукав, как мог перевязал ему рану. Кровь запеклась, остановилась — вот и ладно, а уж насчет антисептики какой, то — на все Божья воля. Захочет Господь — затянется рана, не захочет — загноится, распухнет, изойдет желтым гноем. Ну, тут уж переживать нечего — лично от Олега Иваныча дальнейшее Гришанино состояние зависело мало. Он и не переживал особо, Олег-то Иваныч, не то было время, чтобы тешиться напрасными треволнениями, забот впереди хватало. Помрет отрок аль выживет — тут уж судьба… Жалко, конечно, ежели помрет, кроме Софьи, не было, пожалуй, у Олега человека ближе.
— А лодок многонько к берегу-то поперлось, — ни к кому не обращаясь, заметил Олег Иваныч. — Знать, не все погибли-то.
— Еще бы все, — оторвался от своей ругани-молитвы Гришаня. — Пять коггов купецких сразу же сдались — их и не тронули, я с мачты видел. На лодки выперли — и все дела. На хольке только посопротивлялися немножко… так, для виду… как окружили его разбойники — сразу оружье побросали. Одни мы… Одних нас… Даже и поначалу сдаться не предложили, как принято. Мыслю, у главного супостата счеты какие-то старые с нашим-то капитаном были, Царствие ему Небесное. Да ты, Иваныч, это и сам видел.
— Видеть-то видел, — Олег Иваныч вздохнул. — Только вот никак в толк не возьму — мы-то ему за каким хреном сдались? Чего этому ван Зельде от нас нужно-то? Ишь, как он новгородцев выискивал… Остальных-то убили, а нас, вишь, держат зачем-то. Знать бы — зачем?
— Узнаем еще, может…
Все замолкли. Лишь слышно было, как кричат чайки снаружи да гудит в снастях ветер. В глубине трюма с писком возились крысы. Мерзость какая… Хорошо, хоть Софью держали в каюте. Олег Иваныч передернулся — только «черной смерти» — чумы им и не хватало тут для полного счастья. Крысы — основные ее переносчики. Да не отгрызли бы что-нибудь у спящих-то… Впрочем, грызть им и без этого есть что.
На палубе вдруг забегали, завозились, засвистел в дудку боцман — спускали паруса… бросили якорь.
Приплыли?
Если пираты и прибыли на свою базу, то выводить наружу пленников почему-то не спешили. А может, это и не база никакая вовсе? Может, обычный порт, Ревель или Рига, да та же Нарва. На разбойниках же не написано, что они разбойники, наоборот, все, как один, весьма приличные люди, негоцианты… Один из кораблей слишком уж похож на когг уважаемого герра Штюрмера? Да что вы! А где был построен корабль уважаемого герра? В Любеке. Надо же — и наш там же. Вот и похожи. В трюмах? Сукно, селедка, да несколько ластов меди… хорошая медь, с Кипра, да и сукно — фламандское, самое лучшее! Кстати, вот лично вам, господин ратман, отрез, на память, так сказать, в знак нашей нежнейшей дружбы. Берите, берите, не стесняйтесь. И селедочку!
М-да… Вряд ли кто трюм проверять будет, даже в порту. Эх, знать бы наверняка… А даже если и не порт! Все одно — это пока плыли, не очень-то убежишь — вода уж слишком студена, да лодок на примете нету — а на суше-то сам Бог велел!
— Гриша, там, в тех мешках, что?
— Сукнище, Олег Иваныч.
— Хм… Ладно. А дальше?
— А дальше медь в крицах.
— И у меня тоже. Оружья-то нет никакого?
— Что ты, Олег Иваныч! Папа Римский лично запретил на Русь оружье возить, специальной буллой!
— То-то рыцари не возят, как же! Дай-ка сюда крицу. Ну-ка, попробуем…
Поднатужившись, Олег Иваныч поднял над головой увесистый слиток меди и с силой ударил им в борт.
Ничего!
Даже щепки не полетели!
Морское судно, это вам не какой-то там струг! Поди его, расколупай. Нет, вряд ли выйдет…
Но если хорошенько постараться… И главное, методично, изо дня в день…
— Ну-ка вставай, Олексаха! Хватит лежебочничать, хватай вон крицу.
Пошатываясь, Олексаха поднял крицу… Но ударить не успел — неожиданно распахнулся люк, и в затхлое пространство трюма ворвался свежий, пахнущий соленой рыбой ветер.
— Поднимайтесь по одному, — по-немецки приказал нагнувшийся над трюмом пират. — Да быстро, быстро!
По узкому деревянному трапу пленники один за другим поднялись на палубу. Четверо вооруженных воинов не спускали с них глаз, по очереди связывая поднявшимся руки крепкими сыромятными ремешками.
«Благословенная Марта», в числе других кораблей пиратов, слегка покачивалась на волнах небольшого извилистого залива, у насыпанного из замшелых камней пирса. На каменистом берегу шумели сосны. Их темно-зеленые кроны, казалось, задевали облака, уносясь высоко в небо, янтарно-желтые стволы отбрасывали на скалы четкие длинные тени. Рядом с соснами стоял приземистый, сложенный на высоком фундаменте из валунов, дом-мыза с крытой красной черепицей крышей и узкими слюдяными окнами в свинцовой оплетке. Сразу за домом вилась извилистая тропинка, терявшаяся в дроковых зарослях. Кусты обступали подножие крутого холма с плоской вершиной, поросшей все теми же соснами. На одной из сосен было устроено нечто вроде «воронья гнезда», в котором маячила темная фигурка часового. За соснами угадывалось селение — тощей одинокой цаплей торчал церковный шпиль, да смутно краснели черепицею крыши.
Пленников — Софьи нигде видно не было — подвели к дому, заставили немного подождать у двери и лишь после этого ввели внутрь.
Высокая полутемная зала с черными поддерживающими крышу стропилами, камин у стены. Догорая, в камине трещали поленья. Напротив камина — пара кресел с высокими спинками, на спинках — полустершийся от времени герб, непонятно что изображавший — то ли единорог, то ли корова.
В одном из кресел, вытянув ноги к огню, сидел пиратский вождь Хорн ван Зельде и меланхолично жевал мелкие моченые яблоки, которые брал с большого оловянного блюда, стоявшего на резном столике слева от кресла. Увидев вошедших пленников, капитан пиратов бросил огрызок в камин и недовольно воззрился на охрану.
— Я же сказал — по одному! — раздраженно бросил он по-немецки. — Вот, начнем хотя бы с этого… — ван Зельде кивнул на Гришаню.
— Кстати, где Рейнеке-Ханс? — вспомнив, хмуро поинтересовался он.
С опаской поглядывая на предводителя, кто-то из пиратов тут же сообщил, что Рейнеке-Ханс уже идет, и вот-вот будет, а запоздал — потому как приводил в порядок инструменты.
Последняя фраза очень не понравилось Гришане — пожалуй, единственному из пленников, сносно знавшему немецкий. Отрок смутно догадывался, какого рода инструменты «приводил в порядок» неведомый Рейнеке-Ханс, и эта догадка не вызвала у него особого восторга…
Повинуясь приказу вожака, пираты вывели обратно на улицу лишних — Олега Иваныча с Олексахой — и, велев ждать, уселись на камни рядом. Огромного роста рыжебородый детина, торопясь, шагал к дому с пирса. За спиной его колыхался огромный рогожный мешок с чем-то железно-звенящим, под мышкой было зажато нечто вроде пилы с деревянными зубьями.
— Кат, — с ходу определил Олексаха. — А пила у него деревянная — для пытки, чтоб больнее было.
— Да… влипли, можно сказать, — невесело протянул Олег Иваныч. — Интересно, что мы такого знаем, чтоб этакой пилищей выпытывать?
— А пес их знает, — махнул рукой Олексаха. — Может, для куражу все? Надо было шепнуть Грише, чтоб во всем винился, пытки не дожидаясь.
Олег Иваныч хмыкнул, пояснив, что Гришаня далеко не дурак и сам как-нибудь догадается, что делать.
— Слышишь ведь — пока не кричит!
Действительно, никаких жутких воплей, свидетельствующих о невыносимой боли, из дома не доносилось. Спокойно все было, тихо.
Над морем клонился к закату оранжевый шар солнца. Рыжая пылающая дорожка бежала по темно-голубой ряби от солнца к причалу, упираясь в берег у самого носа «Благословенной Марты», бывшего честного когга. Эх, Иоганн, Иоганн… Как не вовремя ты пустился в это плаванье!
С неожиданно резким звуком распахнулась ставня. Все вздрогнули, обернувшись…
Высунувшийся в узкую бойницу окна Хорн ван Зельде кивнул на сидевших на земле пленников и щелкнул пальцами.
Подталкивая жертвы тупыми концами копий, стражники торопливо ввели их в дом.
Первый, кто бросился в глаза Олегу Иванычу, был Гришаня. Развязанный, отрок сидел в кресле напротив пиратского капитана и спокойно жевал яблоко.
— Кисло, — сморщив лицо, Гриша повернулся к вошедшим. — Не понимаю, как он их ест…
Рыжебородый палач Рейнеке-Ханс скромно сидел в уголке, на маленькой скамеечке, с таким разнесчастным видом, словно ему только что пообещали любимую игрушку, да вот не купили. Рядом, прямо на полу, в аккуратном порядке, несомненно свидетельствующем об определенной строгости мысли, лежали жутковатого вида вещи: широкие и узкие ножи, иглы — большие и поменьше, деревянные тисочки с запекшейся кровью, свинцовые клинья — загонять между пальцами — и округлая железная маска с широкой воронкой. Судя по всему, весь этот богатый арсенал в данный конкретный момент явно не находил широкого применения.
Ну, даст Бог, и дальше так!
При ближайшем рассмотрении пиратский вождь Хорн ван Зельде оказался ничем не примечательным мужчиной лет сорока с небольшим, со смуглым узким лицом, обрамленным длинными темными волосами, небольшой бородкой и черными близко посаженными глазами. Левую щеку его, от виска до рта, пересекал рваный шрам, придававший лицу несколько зловещее выражение. На пирате был дорогой короткий кафтан — вамс с вышитыми золотыми полосками. Узкие полотняные штаны плотно обтягивали мускулистые ноги, обутые в остроносые башмаки лошадиной кожи. На отделанном золотом поясе висел короткий меч и широкий, с ладонь, кинжал — дагасса. Таким кинжалом удобно перерезать горло поверженному врагу — рраз — и готово! Также им, наверное, удобно было бы раздавать гостям нарезанные куски торта. Представив это, Олег Иваныч усмехнулся.
Резко повернувшись к нему, ван Зельде что-то отрывисто сказал по-немецки.
— Спрашивает, действительно ли ты важный новгородский рыцарь, — перевел Гришаня, добавив, что кое-что уже порассказал тут «этому поганому чучелу».
Не дослушав ответа, отрок быстро заговорил, видно, полностью подтверждая вопрос. Выслушав, пиратский вождь улыбнулся. Улыбка его была какой-то некрасивой, хищной — может быть, из-за шрама, а может — и сама по себе.
— Сейчас выкуп назначит — к бабке не ходи! — шепнул Олексахе Олег Иваныч. — Иначе б чего расспрашивал? Во сколько вот только оценит, интересно, комиссионер хренов?
«Знатный новгородский рыцарь» Олег Иваныч был оценен в смешную сумму — сто рейнских гульденов, что примерно равнялось по стоимости шестидесяти мешкам соли, или четыремстам мешкам колотого сахара — по тем временам, роскоши прямо неописуемой. Также на заявленную сумму можно было приобрести четыреста зайцев, тысячу мешков груш, полторы тысячи куриц или восемьсот пар обуви чисто выделанной лошадиной кожи!
Сам Гришаня, как особа не очень знатная, да зато шибко ученая — ван Зельде явно принял во внимание знание немецкого, — потянул на семьдесят гульденов, ну, а Олексаха пошел по самой малой цене — в полтинник.
«Интересно, что больше нужно Великому Новгороду — мы или… две тысячи триста мешков груш?»
Немного подумав, Олег Иваныч так и не пришел к однозначному ответу, решив попозже посоветоваться с Гришаней. Сам он пока больше склонялся к грушам.
— В ожидании выкупа вы будете томиться в темнице, из которой нельзя убежать! — встав с кресла, заверил Хорн ван Зельде и, улыбнувшись, добавил, что и темницей это место обозвать тоже нельзя, скорее — светлицей. Издевался, собака! Грушелюб фигов!
Узилище и в самом деле оказалось довольно просторным и светлым — небольшой скалистый островок у самого входа во фьорд. Пленников отвезли сюда на лодке вместе с мешком сухарей — Хорн ван Зельде вовсе не собирался заморить свой «обменный фонд» голодом. Около двадцати саженей в длину и чуть меньше — в ширину, остров представлял собой вполне надежное место. Ван Зельде не хвастал — убежать оттуда, не имея под рукой лодки, было невозможно. Залив полностью контролировался пиратами, и какое-либо постороннее судно могло появиться здесь только в качестве добычи, так что с этой стороны надежды пленников были бы более чем беспочвенными. С другой стороны, можно было бы попробовать выбраться с острова вплавь… если бы не слишком низкая температура воды, как всегда в этих местах в начале мая — и не скалистый берег фьорда, пригодный для высадки лишь в виду приземистого дома ван Зельде.
— Близок локоток, да не укусишь, — почесав затылок, философски изрек Олексаха и, бросив взгляд на Гришаню, поинтересовался, умеет ли тот плавать.
— Вообще-то умею, — кивнул отрок. — Только здесь вряд ли…
Сняв сапоги, он поболтал ногами в воде:
— Холодно, однако. Да и прибой! Нет, тут только за смертью плавать!
Олег Иваныч был полностью с ним согласен. Кто знает, сколько их тут будут держать, и к концу месяца вода наверняка прогрелась бы достаточно, но… Какой же смысл возвращаться обратно к пирсу, под неусыпные взгляды пиратской стражи и — как на прощанье предупредил ван Зельде — в «братские объятия» палача Рейнеке-Ханса? Да и плыть туда — не меньше версты, уж точно — поди, попробуй!
Островок был скалистым и абсолютно голым, если не считать желтоватых кустов дрока на небольшой, уже поросшей травою площадке, полого спускавшейся к воде. Именно в этом месте и можно было причалить, с остальных сторон остров везде обступали отвесные скалы. На площадке, ближе к скале, была устроена небольшая избенка, скорее даже шалаш — из разномастных досок, накрытых еловыми ветками и полусгнившей соломой.
Внутри строения находился грубо сколоченный стол и пара таких же скамеек, установленных вдоль стен. Выложенный округлыми булыжниками очаг располагался прямо напротив сорванной с петель двери.
— Ты, Олександр, чини дверь, — осмотрев жилище, распорядился Олег Иваныч, — а мы с Гришей наломаем веток. Постараемся быстрее управиться — что-то не нравятся мне вон те тучки… — Он кивнул на выход из фьорда, где, местами сливаясь с водой, туманилась в небе стремительно темнеющая синь.
Они едва успели. Первые капли тяжело упали на землю. Одна, вторая, третья… И тут же хлынул ливень! Настолько быстро, что Олег Иваныч с Гришаней, побросав ветки, еле смогли скрыться в будке. Оно оказалось не очень-то надежным, это укрытие, — сквозь гнилую солому крыши хлестало, пожалуй, ничуть не хуже, чем под открытым небом, так что пленники тут же промокли до нитки и угрюмо уселись на скамейках, словно нахохлившиеся вороны.
А дождь все хлестал, не унимаясь. Завывая, дул ветер, бросая почти к самой хижине злобные холодные волны.
Ливень закончился внезапно, как и начался. Еще капало, когда сквозь дыру в крыше пробился в хижину маленький солнечный луч — упал на лицо Гришане. Отрок зажмурился, покрутил головой, приоткрыл глаза и улыбнулся:
— Солнышко!
— Сами видим.
Не сговариваясь, выбежали наружу — да и что толку было сидеть в промозглой хижине.
Небо прояснилось. В облаках, изумрудно-свинцово-серых, порвались яркой синью дыры, их становилось все больше и больше, тучи позорно бежали к горизонту, жарко полыхнуло в одной из прорех чистое умытое солнце, прочертило расплавленным золотом дорожку в нефритовой голубизне волн. В полнеба, от пирса до открытого моря, растянулась в один миг разноцветная радуга…
Скинув одежду, пленники развесили ее сушиться, сами же принялись носиться друг за другом, чтобы быстрее согреться.
— Эх, хоть бы огня оставили, шильники, — ругнулся Олег Иваныч… и вдруг застыл, глядя прямо перед собой. Стоявшие напротив Гришаня с Олексахой обернулись…
Из-за скалистого берега медленно выплывал белый парус. Вот показалось и само судно — небольшая одномачтовая шебека, изрядно потрепанная штормом. Она чересчур низко сидела в воде, эта шебека, то ли была полна рыбы, то ли воды. Скорее — второе… Да, именно так — кораблик уж слишком сильно зарывался носом в волны, да и вообще двигался как-то не очень уверенно, словно шкипер совсем не знал фарватер…
А может, и в самом деле не знал? Тогда… Тогда это не пираты. Скорее всего, рыбаки с южного побережья Ливонии, застигнутые внезапным штормом. Зря они сюда приплыли, разбойники вряд ли окажут им теплый прием.
Увидев людей, на шебеке быстро подняли еще один парус, и, ухватив боковой ветер, маленькое судно, повернув, ткнулось носом в низкий песчаный берег как раз напротив хижины. Спасшиеся от бури матросы что-то закричали по-немецки.
— Говорят, что они рыбаки, — перевел Гришаня. — У них пробоина в носу — налетели на скалистую отмель. Хотят залатать.
— Пусть латают, нам-то что, — внимательно разглядывая судно, пожал плечами Олег Иваныч. — Только, похоже, их уже заметили. — Он кивнул в сторону пирса, от которого уже отчаливали два пиратских когга. — Плохи ваши дела, ребята! Гриш, объясни им…
Узнав про пиратов, рыбаки лишь махнули руками — один черт, с эдакой дырой никуда не денешься, а взять с них нечего: даже рыбы — и той мало. Что же касается возможного плена и выкупа…
— Что касается вашего выкупа — сумму назначит наш предводитель, — снисходительно сообщили рыбакам с подошедшего когга. — А пока — пожалуйте к нам. Да не вздумайте шутить, наши бомбарды весьма метки!
По узким спущенным сходням рыбаки молча полезли на пиратский когг.
— Эй, а вам что, особое приглашение нужно, триста чертей вам в глотку? — увидев оставшихся на острове людей, возмущенно заорал разбойничий шкипер. Видимо, он был не в курсе насчет Олега Иваныча и его людей — то ли не успели еще сообщить, то ли и не собирались этого делать из соображений секретности.
Олег Иваныч раскрыл было рот ответить… но тут же захлопнул варежку, обернулся, подмигнул сотоварищам — рискнем, мол?
Те разом кивнули, обрадованные, бросились со всех ног на пиратское судно. Вот авантюристы! Даже немного пораскинуть мозгами не дали. Олег-то Иваныч еще б, может, не раз подумал, стоит ли снова в пасть к зверю соваться… А впрочем… впрочем, они и так уже у зверя в пасти. У ван Зельде. Так что хуже не будет, а попытка — не пытка, как не раз говаривал славный товарищ Сталин своему не менее славному наркому товарищу Берии. В крайнем случае, всегда можно и отпереться — на избыточный энтузиазм шкипера пиратского сослаться, тем более все так и было. Гриш, как кораблик-то называется? Не, не тот, пиратский… «Краса Сконе».
Согнанные пиратами в одну кучу, рыбаки расположились на носовой палубе когга. Веселиться особо не веселились, не с чего, но и угрюмыми их было назвать нельзя. Вели себя так, словно и не случилось ничего такого — с бурей, слава богу, справились, а что в плен пиратам попались, так то пустяки, дело привычное. На разбитую шебеку разбойники вряд ли польстятся, выкуп с рыбаков получить — тоже проблематично, так что придется чинить судно да расплачиваться потом уловом. Ну, не впервой…
Рыбацкий капитан уже до того обнаглел, что не стеснялся в открытую выпрашивать на когге необходимые для ремонта инструменты и материалы: доски, гвозди и прочее. Самое интересное — капитан «Красы Сконе», выслушав его, вполне благосклонно кивнул и дал указание боцману обеспечить рыбаков, насколько возможно. Видно, тут и впрямь была принята такая вот форма выкупа. В виде части улова. А какой же улов будет у рыбаков на дырявом судне?
Сам Хорн ван Зельде даже не соизволил глянуть на добычу. Выслушав капитана «Красы Сконе», согласно кивнул — пусть ремонтируются и ловят.
— А буде надумают скрыться, не расплатившись, — найдем и повесим, — закончил предводитель пиратов и, немного подумав, добавил, что хорошо бы оставить в заложники пару рыбаков да их шкипера.
— Будет исполнено, мой господин, — усмехнулся капитан. — Сегодня же эти балбесы начнут ремонт, а заложников я вам пришлю сразу.
Рыбаки отремонтировали свое суденышко довольно быстро. Уже с утра можно было выходить в море. А пока в хижине уютно горел очаг, варилась в котелке вкусная рыбная похлебка, заправленная ржаной мукою, в ней не хватало только конфискованного пиратами чеснока да лука, а так вполне… Олег Иваныч сглотнул набежавшую слюну и задумался. По всему получалось, что вполне возможно воспользоваться пиратской неразберихой и свалить вместе с рыбаками, а там уж… Одно удерживало Олега — Софья. Боярыня находилась здесь же, на острове, в доме ван Зельде. Предводитель пиратов при давешнем разговоре уверил Олега Иваныча, что не причинит боярыне зла и обеспечит ей все условия, какие и полагаются знатной пленнице. Обеспечит… Веры словам пирата не было никакой, пример тому — кровавая расправа с командой «Благословенной Марты». А ведь ван Зельде тогда уверял капитана Штюрмера, что отпустит его людей. Отпустил, блин! Даже юнгу не пожалел, сволочь!
Софья… Что с ней сейчас, и как отразится на ее положении возможный побег новгородцев? Может, осерчает ван Зельде да велит рубить боярыне голову с плеч? Вряд ли, конечно, но… кто его знает. Так что же — не бежать, даже если представилась возможность, сидеть ровно да спокойно ждать выкупа? А будет ли он, выкуп-то? За Софью — возможно, да, но за всех остальных — вряд ли владыка Феофил раскошелится, ой, вряд ли! И тогда уж точно головы покатятся, никому, кроме их владельцев, не нужные… Может, в целях ускорения выкупа, предложить ван Зельде отправить в Новгород Гришаню аль Олексаху? Нет, не пройдет — гонцы-то сразу отправлены. Уже, наверное, добрались до Господина Великого. Эх, Новгород, Новгород… Золоченые купола, сияющие кресты, сахарные стены храмов, Волхов, седой и величественный… Усадьба на Славенском конце, на углу Ильинской и Славной. Сторож Акинфий, завсегда угрюмый, но по-своему добрый; старый слуга Пафнутий, скособоченный от прежних ран; ехидный дедко Евфимий с оглоедами… Наверное, опять уже в шалаше ночуют, оглоеды-то. А Пафнутий баню топит, эх, туда бы сейчас, хоть на минутку…
Загрустил вдруг Олег Иваныч, дом родной вспомнив. Дом родной — да, пожалуй, именно так можно было назвать усадьбу игумена Вежищского монастыря Феофилакта, ныне — архиепископа Феофила. Ограда прочная, высокая — отстроились после пожара-то, Пафнутий с оглоедами новую баньку сложил да амбары, а терем — и не сгорел вовсе. Горница, поди, сейчас вся солнцем прогретая, доски — босиком ступай — теплые, чуть поскрипывают, крыльцо узорчатое, ступени широки, завалисты — ровно боярские. В горнице короба, да сундуки, да полки с записями. Береста, бумага, пергамент. Вместо компьютера грамотцы те. Богатство. Информация. Многие б в Новеграде жизнь отдали за богатство то. К примеру, хоть Ставр-боярин, сволочуга смазливая. Не он ли… Да впрочем, ну его к дьяволу, Ставра! Интересно, выложили ли дубовыми плашками двор на усадьбе, как собирались… Красиво должно получиться: богато, осанисто, степенно, как приличным людям и следует. Говорил как-то Феофил-владыко, что пожалует Олег Иванычу ту усадьбу, за службишку-то. Давно пора. Недаром Гришаня Феофилу эдакую мысль неоднократно нашептывал, покуда книжицу святую перебеливал, «Евангелие». Хорошо перебелил, постарался на совесть. Может, потому и не трогал Феофил отрока до поры до времени, хоть и давно уже можно было.
Эх, усадьба… Неужто — своей будет? Дом… Бог даст, возвратимся домой-то!
Важная государственная служба, славная усадьба на Славенском, сияющие купола Софьи — вот что давно уже стало для Олега Иваныча настоящим домом, родным и теплым, домом, где ты нужен, где тебя ждут, где без тебя по-настоящему пусто. Вот все это — Дом! А не загаженная коммуналка на Петроградской — темная сырая клетушка: серые стены, узкие потолки, это про такие сказал Достоевский, что они душу и ум теснят. Вот уж, поистине! Без стакана — не уснешь!
Олег Иваныч содрогнулся, Петроградскую вспомнив, — как же он мог жить так? Мог ведь как-то… Впрочем, большую часть времени все равно проводил на работе.
С утра и отправились за рыбой. Олег Иваныч, Гришаня, Олексаха — с рыбаками. Те не возражали — лишние руки никому еще не помешали, тем более что шкипер и пара самых здоровых мужиков остались на пиратской базе — заложниками.
Погода благоприятствовала: дул береговой ветер, не сильный, но вполне достаточный, чтобы наполнить заштопанный парус шебеки. Выйдя из фьорда, с подветренной стороны забросили сети. Чуть погодя — вытянули с уловом: сельдь, окунь, кое-где даже затесался угорь. Выпустив сеть обратно, потянули с другого борта. Потом снова — с того… И так — до вечера. Ой, нелегок рыбацкий труд!
Новгородцы тянули сети вместе со всеми — с непривычки вспухли ладони, даже в рукавицах — а к вечеру так заболели спины, уж так разболелись, что и не разогнуться. Один Гришаня ничего — весел, ну, тут, понятно, привычка. Поклоны-то бить тысячами, епитимии наложенные выполняя.
По указу Олега Иваныча отрок выспрашивал про морские пути. Вникал, головой нестриженой кивая. Олег Иваныч с Олексахой тоже бы вникали, но, увы, языками не владели, ленивцы. Зато внимательно присматривались к управлению парусом — ничего, выходило, сложного. Держись за линь да иногда по вантам сбегай. Желательно парус держать по ветру, не то рулевое весло выбьет — миг, и набок суденышко завалить может, море — оно шуток не понимает. Гришаня расцвел вдруг — выяснил: берег северный недалече, вон, с тех сосен наверняка видать. Крепостица в земле той свеями сложена — Выборгом зовется, и свеи там, и финны, и карелы, и новгородские ватаги шастают, видали. Ну, новгородцы — это совсем хорошо, и, главное, почти рядом! Пролив переплыть только. На чем вот, и как? Тут думать надо…
К вечеру вернулись на базу с уловом. Высыпали рыбу у пирса — пластать принялись, соль-то была у пиратов. Бочонков, правда, маловато, да за бочонками, по слухам, сам Хорн ван Зельде завтра поутру решил малый когг отправить, купить в городишке каком приморском. А что, селедка, она и в Африке селедка — сгниет, кому от того хорошо? Ни рыбакам, ни пиратам — никому. Видно, напали рыбаки на косячишко селедочный. Не одну войну такие вот косячишки вызвали, не смотри, что рыба презренная… когда ее не просто много, а очень много, это уже не рыба — а серьезный государственный бизнес. За который и повоевать не грех! Как когда-то королева датская Маргарита. С кем только не воевала — с фризами, ганзейцами, шведами. Причина одна — селедка. Недаром те войны селедочными прозывали…
— Обратный путь запомнил, Гриша? — пластая рыбину кривоватым ножом, тихо осведомился Олег Иваныч. — Из фьорда выйти сможем?
— Запросто, — так же тихо ответил Гришаня. — Вон на ту скалу поначалу держим… ночью там костер палят… затем — на ту сосну, там потруднее будет, ну, так и мы, чай, не когг захватывать будем, а, Олег Иваныч?
— Не когг, — улыбнулся Олег. — Шебекой как-нибудь обойдемся. Далеко ль до берега, точно выспросил?
— Если с утра идти, — задумался Гришаня, что-то прошептал про себя, — до полудня будем… Если ветер попутный да не врут рыбачишки.
— До полудня… Грубо говоря — часа два-три. Ветер вроде попутный будет. Он и вчера такой же дул.
Тут в разговор неожиданно вмешался Олексаха, ткнув в бок сидевшего на земле рядом Гришаню:
— Гляньте-ка!
Все синхронно повернулись. Увиденное их совсем не обрадовало, а даже расстроило, причем — довольно сильно.
От пирса отходила небольшая лодка. Четверо вооруженных короткими мечами пиратов сидели на веслах, еще четверо смотрели в сторону скалистого островка, «темницы, откуда нельзя убежать». Цель их короткого пути не вызвала сомнений. То ли собрались подкормить пленников сухарями, то ли у Хорна ван Зельде появились еще кой-какие соображения насчет новгородских пленников. В общем, хреноватые были дела.
— И что делать будем?
В ответ на Гришанин вопрос Олег Иваныч лишь пожал плечами. А что он, прости Господи, мог предложить? Броситься на стражу с туповатыми ножами, еле годными для разделки селедки? Ну, одного-двух прирежут — дальше? Вон их тут сколько — целая рота. И все прекрасно вооружены. Абордажные сабли, ножи, алебарды, гвизармы, арбалеты. Поди, возьми их за рупь за двадцать! Это не кино про пиратов — это жизнь. Которой здесь очень просто лишиться… если как следует не шевелить мозгами…
Пришлось шевелить.
Правда, удобного случая на что-то решиться ну решительно никак не предоставлялось! К стоящим у пирса судам рыбаков не подпускали, даже не разрешали отлучаться на шебеку, маячившую мелкой сероватой чайкой где-то в самом конце причала. Олег Иваныч, как и все остальные, ловко освободив очередную рыбину от потрохов, быстро обваливал ее в соли и кидал в стоящие рядом бочки. При этом он не забывал следить за фьордом. Ага, вот давешняя лодочка наконец причалила к островку. Легко себе представить, какие рожи в этот момент у находящихся в ней пиратов…
Очередная брошенная рыба полетела мимо бочки. Туда же — вторая… и третья…
И четвертая, и десятая!
И не у одного Олега Иваныча… у всех!
Ё-мое, бочки-то кончились!
Кажется, небольшой запас должен быть в доме ван Зельде. Это кому так кажется? Ах, начальнику стражи. Молодец, Гриша, спасибо за перевод! Ну-ка, скажи ему, что мы вмиг за бочками слетаем… а то, я вижу, больше никому неохота.
Услыхав повелительную фразу начальника стражи, Олег Иваныч и Олексаха, энергично закивав головами, вскочили на ноги.
На узком лице начальника отразилось некоторое недоумение.
— Вы что, не могли моего знака дождаться? — яростно зашептал сзади Гришаня. — Это ведь он спрашивал, кого первого на дно отправить за то, что так медленно работаем! Шутит.
— Шутит? Так объясни ему про бочки-то, — невозмутимо обернулся к отроку Олег Иваныч. — Какие тут, к чертям собачьим, шутки, сам ведь видит — рыбу девать некуда!
Подойдя к главному стражнику, Гришаня быстро заговорил что-то по-немецки. Тот послушал немного, затем благосклонно кивнул и, строго взглянув на Олега Иваныча и Олексаху, повелительно щелкнул пальцами.
Те кивнули и, нарочито небрежно бросив пахнущие рыбой ножи, не спеша направились к дому ван Зельде.
Ни у ворот, нигде поблизости никакой стражи не было. Видимо, пиратский вождь был полностью уверен в собственной безопасности. Снова полутемная клеть… вот и бочки. Узкая, ведущая куда-то наверх, лестница…
Олег Иваныч, приложив палец к губам, проворно поднялся. А крута, лестница-то, настоящая «Stairway To Heaven», как бы на обратном пути не споткнуться. Небольшой зал, чуть поменьше, нежели тот, с камином. Дверь… Ну конечно, где же еще? Но… Замок, однако! Чем бы сковырнуть? Ага, вот, на стенке, под щитом. Похоже на алебарду. Иии — рраз!!!
Со скрипом замок поддался. Дверь отворилась неожиданно легко и бесшумно.
И Олег Иваныч чуть было не получил прямо по лбу увесистым подсвечником из старой позеленевшей бронзы!
Хорошо — увернулся вовремя.
— Когда входите в комнату к даме, любезнейший господин, необходимо представляться! — по-немецки произнесла Софья и, отбросив подсвечник, кинулась Олегу на шею.
— Ты не читал ли аглицкого пиита Чосера? — выслушав спутанный план побега, неожиданно поинтересовалась она.
— При чем тут аглицкий пиит?
— А при том! Знаешь, как аглицкие немцы прозывают людишек, подобными затеями пользующихся?
— Как?
— Авантюристы!
В несколько минут боярыня Софья разнесла план Олега в клочья. Управлять шебекой? А вы знаете, что это не такое простое дело, как кажется? К тому же шебека слишком приметна, если бежать на ней — всенепременно заметят и догонят — когги-то побыстрее будут…
— Да что ж тогда делать-то?
— Лодка, — улыбнулась боярыня. — Свейский берег с любой скалы виден — на лодке с парусом можно дойти. И не так видно — мало ли лодок разбойничьих по заливу ходят. Вон, как эта… — Софья кивнула в распахнутое окно. Прямо на дом пиратского вожака держала курс небольшая лодка, только что отчалившая от островка.
— Вот ее и берите, — выслушав Олега, посоветовала боярыня. — А о господине ван Зельде нам пока беспокоиться нечего — с утра в лес на охоту уехавши. Стой-ка! А ты ведь ростом почти как он…
На берегу, напротив дома, возвратившуюся лодку встречал сам хозяин, Хорн ван Зельде — в своих любимых доспехах работы нюрнбергских мастеров, в круглом закрытом шлеме-армэ с тремя черными перьями. Из-под поднятого забрала торчали одни глаза, черт-те что выражавшие. Рядом с ван Зельде стояли трое оруженосцев в красных плащах и плоских, низко надвинутых на самые брови, шапках. В руках оруженосцы держали короткие копья…
— Разрешите доложить, хозяин, — выбрался из причалившей лодки кривоногий толстяк с потным багровым лицом.
— Мы знаем, что птички уже улетели из клетки, — надменно произнес оруженосец — вероятно, кто-то из новых, что-то толстяк его раньше не видел. — Вам поручается важное задание — прочесать вон те скалы… — оруженосец махнул рукой позади себя. — Приступайте немедленно…
— Но…
— А лодкой воспользуемся мы. Вперед!
Один из воинов — тот самый, кривой на левый глаз, с торчавшей, словно пакля, бородою, пристально вгляделся в обступивших вожака людей.
Толстяк тоже вопросительно посмотрел на ван Зельде. Тот кивнул и сурово нахмурил брови.
Толстяка и его людей словно ветром сдуло из лодки. Наступая друг другу на пятки, они вихрем понеслись к дальним скалам. Последним, оглядываясь, неторопливо бежал одноглазый. Ну, точно, Олег Иваныч с ним уже встречался…
Споро отгребя от берега, оруженосцы подняли парус, и лодка ходко пошла к островку… Вернее, мимо. А чего им там было делать-то, Олегу Иванычу, Олексахе, Гришане и Софье?..
— Какие страшные сегодня глаза у хозяина, — багроволицый толстяк на ходу делился впечатлениями со своими спутниками. — Прям побелели от гнева… Нет, видно задел его за живое этот побег. И если мы их не поймаем… Эй, пошевеливайтесь! Да смотрите в оба!
План Софьи удался бы…
Удался бы блестяще…
Если бы…
Если бы не внезапно налетевший шквал!
И откуда он только взялся? Ведь был почти штиль, лишь небольшой ветерок лениво дул в корму, с каждой минутой приближая беглецов к заветной цели. И вот — на тебе!
Налетев, ветер задул, закружил, забуранил, превращая спокойную до этого морскую гладь в нечто подобное кастрюле с кипящей похлебкой. Завыли снасти, вмиг сорвало парус, унесло черт знает куда в морские просторы.
Потерявшую управление лодку неумолимо несло на скалы… Они становились все ближе, черные, как зубы дракона. И такие же кровожадные! Бурные волны с ревом бились о прибрежные камни, погода разыгралась так, что вход в залив практически не был виден. Одно хорошо — пиратские суда вряд ли осмелятся выйти сейчас в открытое море. Они-то не осмелятся… А вот кое у кого хватило ума.
Три мудреца в одном тазу пустились по морю в грозу — снова, как когда-то на Ладоге, вспомнилось Олегу Иванычу. Что же, черт возьми, делать?
Неужели остров пиратов настолько неприступен с моря? Настолько, что нет там какого-нибудь небольшого заливчика, кусочка пляжа — достаточного — нет-нет, не для корабля — для их маленькой лодки, утлой скорлупки в диких руках стихии?
Всем смотреть!
Вон там, кажется. Нет, не то…
А вот здесь?
Тоже ничего хорошего. Впрочем… А ну, подгребли! Вон, прямо над обрывом — одинокая сосна. А внизу — оголенные корни. Вот они, нависают над морем, и, кажется, даже шевелятся, словно волосы Медузы Горгоны!
Если…
Если схватиться…
…за них… и чуть подтянуться…
Можно вполне удержаться…
Только нужно направлять лодку. И скинуть латы. Вот так.
— А ну, приготовились, ребятишки! Хватайтесь, как подойдем.
Бурное течение, огибающее остров пиратов, подхватило, понесло лодку. Олег Иваныч ворочал кормовым веслом, стараясь хоть как-то выровнять утлое судно. Вот и обрыв. Камни… Нависающие над волнами корни…
— Раз-два!
Прыгнули! И, кажется, зацепились!
Ну, теперь его очередь…
Олег Иваныч бросил весло, поднял вверх руки…
Чертов водоворот закрутил, заболтал лодку, швырнул с размаху о камни, унося обломки в море!
Ударившись головой о борт, Олег Иваныч смог лишь уцепиться покрепче, теряя сознание и полностью отдаваясь на волю стихии…
Трое, выбравшись на утес, с ужасом смотрели, как крепнувший ветер уносил в море обломки…
— Господи! — встав на колени, воскликнула боярыня Софья. — Господи…
А ветер выл, не умолкая, с ревом бились о скалу волны, и ничто не внушало никакой, даже самой малейшей, надежды…
Глава 4 Ревель. Май 1470 г.
И капитан был опытный, и все моря проплаваны,
Он силы был недюжинной — дубы валил плечом,
И нам казалось — много нас, мы сильные и храбрые,
И никакая буря нипочем…
Андрей Макаревич, «Песня о капитане»Софья… Софья, Олексаха, Гришаня…
«Господи Иисусе, сделай так, чтобы они остались живы, сотвори чудо, прошу тебя! Знай, душа моя открыта к тебе, Господи!» — вздохнул Олег Иваныч. И ведь, можно сказать, только все и началось-то у них с Софьей, как… Хоть, конечно, и раньше далеко небезразлична была Олегу новгородская боярыня, а уж теперь-то… Господи!
Закончив молитву, Олег Иваныч подошел за благословеньем к батюшке.
— Слыхали о тебе, господине, — посмотрев на него, улыбнулся священник, отец Феодор. — Поистине, чудесно спасенье твое! Молись, господине, благодарствуй Господу!
— Молюсь, отче, — склонил голову Олег Иваныч.
В узких шерстяных рейтузах, в короткой куртке с модными рукавами с разрезами, в длинном, ниспадающем почти до полу плаще — вряд ли кто из старых знакомцев узнал бы в этом европейского вида господине новгородского житьего человека. Впрочем, нет — узнали бы. По глазам, светло-серым, как низкое балтийское небо, по бородке, аккуратно подстриженной, по… Узнали бы… Если осталось кому узнавать…
Вздохнув, Олег Иваныч купил у алтаря три свечки. Куда вот только ставить их, во здравие или за упокой?
Прикинув, решил все-таки поставить во здравие. Мало ли, может, спаслись тогда. За корни-то вроде цепко хватались.
Выйдя из церкви, Олег Иваныч глубоко вдохнул сырой воздух. Только что прошел дождь, булыжники мостовой скользили под башмаками. Хорошими, надежными башмаками, с пряжками, работы мастера Юлиуса Майера, чья мастерская в конце Длинной улицы, что вела от холма Тоомпеа в гавань. Близкое море дышало сыростью, и нельзя сказать, чтоб это было Олегу Иванычу неприятно — не простая это была сырость, вовсе не затхлая, наоборот — свежая, бодрящая, морская, принесенная свободным балтийским ветром.
Пройдя вдоль по мостовой, он остановился напротив узкого переулка, задумался.
— Тере, герр Олег, — вышел из переулка молодой парень, направился прямо к Олегу Иванычу. В узких штанах, в короткой красно-желтой куртке, на рыжей голове — лихо заломленный берет с длинным зеленым пером.
— Тере, Томас, — поздоровался Олег Иваныч, улыбнулся. Томас Ленстеди был самым молодым мастером Ревеля, города, куда занесла Олега судьба в лице холодных волн Балтики.
Последнее, что он помнил, ударившись о борт лодки, — были горы бело-коричневых брызг и — сквозь них — черные скалы пиратского острова…
Полузахлебнувшегося, его вытащили сетью матросы «Белой коровы» — пузатого одномачтового когга, принадлежащего ревельскому купцу Яану Стерсену, по национальности — шведу. Так Олег Иваныч оказался в ганзейском городе Ревеле, Колывани, Датской крепости, Таллине. Люди, эсты, финны, шведы, издревле селились у холма Тоомпеа. В 1219 году король Дании основал здесь крепость, вообще же под властью датчан город находился до 1346 года, а с того времени — развивался как немецкий ганзейский город, подчиненный Любеку. Лет двести уже жили в нем и немцы, и шведы, положившие начало церковной общине Олевисте, неподалеку от которой была и русская церковь, откуда только что вышел Олег Иваныч. Русские селились около Длинной улицы, отдельным компактным районом, и вере своей не изменяли. Жаль, маловато стало их, русских-то, да и туго пришлось после того, как Ганза свернула торговлю с Новгородом. Тем не менее еще существовала русская община, куда сейчас и намеревался отправиться Олег Иваныч, да вот встретил по пути Томаса. Томас Ленстеди — по происхождению полушвед-полудатчанин — родился здесь, в Ревеле, где, в свою очередь, родились и его родители… Долгое время работал в оружейной мастерской отца, которую и унаследовал совсем недавно, после батюшкиной кончины. Мать Томаса умерла еще раньше, от мора. К русским Томас ходил не просто так — хотел вложить деньги в товары для Новгорода, тайком от магистрата снарядить кораблишко. А что — хороший, не облагаемый налогом бизнес. Только вот, правда, не очень законный… Попадешься — проблем не оберешься. Зато и навар. Русский Томас прилично знал — да на Длинной улице когда-то все, кто хотел, его знали, с русскими издавна жили бок о бок, хоть и кривились католические священники, да куда деваться. Кроме бизнеса, еще одно дельце было у Томаса в русском квартале — нравилась ему Елена, дочь церковного старосты Евлампия, в доме которого проживал сейчас Олег Иваныч, спасенный матросами Стерсена. Сам Стерсен и позвал русских, когда распознал в бреду выловленного из моря русскую речь — случалось раньше, хаживал с товаром в Новгород. Говорил, правда, не так, чтобы очень — но кой-что понимать мог. Староста Евлампий сразу признал в Олеге Иваныче влиятельного софейского человека — доходили слухи через ливонских рыцарей. Узнав, предложил свой дом, оказал почет и уважение, даже денег дал — отдашь, сказал, после, в Новгороде, буде станется… Ой, хитрил Евлампий, явно всего не рассказывал. Планировал, ой, планировал к Новгороду пробиться с товарцем, в обход законов ганзейских. Ну, Бог с ним, с Евлампием, себе на уме был. Олег Иваныч даже иногда задумывался, а не будь он человеком архиепископа Феофила, так ли принял б его Евлампий? Скорей всего — и руки бы не подал, мало ли утопленников с моря вылавливают. Хитер был староста, хитер да речами сладок. Волос черен, борода космата, глаза — туда-сюда — бегают. Тот еще жук. Зато дочка — красавица! Ну, не такая красавица, как, скажем, Софья… Эх, Софья, Софья… И свет белый без тебя не мил, оказывается. Олег Иваныч вздохнул, помянул Господа, потом махнул рукой — что толку вздыхать-то! Надобно выручать и Софью, и прочих, коли живы. А для того — случай подходящий нужен, да не дожидаться его, случая, надобно активно самому готовиться… Тогда и сладится. Так что нечего пока завидовать чужому счастью да красоте Еленкиной, от того Софье легче не станет.
Красива, красива Еленка… Недаром Томас ко двору Евлампия хаживал. Староста его не гнал: хоть иноверец, да богат, и руки к месту, и собственную мастерскую имеет. Чем не жених? А что касаемо веры… Так ведь всякое бывает. Может, и нашим, и вашим выйдет. Вот, человечка, церкви новгородской небезразличного, пригрел… Так, может, и с дочкой что сладится… Нестоек был Евлампий в вопросах веры, когда выгодой пахло, ох, нестоек, алчен! А дочка, Еленка, — чем-то на Ульянку Гришанину походила, только старше чуть. Такая ж черна коса, брови в струнку вытянуты, ресницы долги. Глаза светлые, голубые. На язык востра — а уж непоседа! С утра уже по горницам вертится, все успеет — и обед приготовить, и за прялкой с сенными девками посидеть, и с матушкой — той еще старушенцией — полаяться, а уж батюшка — и не подходи. Он ей слово — она десять. Рот прямо не закрывался. Ну и жена Томасу достанется — красива, да болтлива не в меру. Томас-то, голова рыжая, прямо млел, когда Еленку видел. Она-то, по-московитскому обычаю, взаперти за прялкой не сидела — поди-ка удержи этакое помело! И похоже, что судьбу свою собралась решать сама, безо всякой оглядки на всякую там религию. Как заключил Олег Иваныч — по-европейски решительная девушка. Что и неудивительно — Ревель, чай, не в глуши какой — на перекрестках торговых. Хоть и народишку всего-то тысячи три с гаком, ну, может, чуть поболе. Впрочем, по тем временам — и то много.
Вот и сегодня аж с самого утра по всему дому носилась Еленка. Эйса, кота, искала. Хороший кот Эйс, полосатый — ровно тигра, упитанный. А уж мышей ловит — лучше и не сыскать. Батюшка-то, Евлампий, с матушкой — в церковь к заутрене собирались, ну и Олег Иваныч с ними, там после службы чуть задержался. Хотели дочек с собой, как положено… Ну, младшим-то девкам никуда не деться, а уж Еленка… Пойдет она в церковь в этакую-то рань, как же! Жди-дожидайся… А Олег-то Иваныч, дурачок доверчивый, раньше думал, что все средневековые люди очень религиозны. Нет, попадались, конечно, и набожные, и даже довольно часто. Но были и такие, как Еленка, не сожгли б ее на костре раньше времени, прости, Господи…
Посетовав немного на дождь — и, вправду, помеха в воскресенье-то, — Томас предложил пойти к ратуше, заглянуть в корчму какую-нибудь на примыкающих к площади улицах. Пивка выпить, да, может, чего и покрепче.
— А пошли, пожалуй, — махнул рукой Олег Иваныч. — Все одно поспать не дадут…
Не просто так согласился Олег Иваныч, хоть и симпатичен был ему Томас. Мыслишку насчет корабля затаил. Слышал, как Томас с Евлампием шептались. Контрабандисты, мать их… Видно, не так уж и хороши дела у Томаса в мастерской, как он всем рассказывает, коли лишние деньги понадобились. Впрочем, как любил приговаривать Евлампий — серебришко, оно никогда лишним не бывает. Тем более — золотые рейнские гульдены, замурованные под крышей в приданое Еленке. Она же, кстати, про них и выболтала.
Медь недавно прикупил Томас. Хорошую медь, с Кипра-острова, несколько ластов. То магистрату понятно — конечно, оружейнику всякий металл требуется, и медь в том числе… Требуется. Только не в таком количестве, Томас ведь на алебардах специализировался, на копьях да на гвизардах всяких, редко кто кинжалы заказывал, а мечи — так и вообще никогда, привозных хватало, с Нюрнберга. Олег Иваныч приобрел себе такой — не оружие — чудо! Легкий, прочный, удобный. Клинок стальной. Голубоватый, холодный, у пятки три золотые короны вбиты — клеймо мастера. Правда, шпажка-та, когда-то новгородским оружейником Никитой Анкудеевым выкованная, была ничуть не хуже нюрнбергского меча. Так ведь то товар штучный, а этот меч — чуть ли не серийное производство.
Так вот, о меди…
— Так вот, о меди… — поставив на круглый стол увесистую пивную кружку, Олег Иваныч хитро взглянул на чуть было не поперхнувшегося пивом Томаса. Они сидели в небольшом питейном заведении в подвале у Вышгорода. Как пришли, было пусто, но постепенно зал наполнялся — оно и понятно, воскресенье все-таки. Зажиточные бюргеры в расшитых плащах, весело пропивающие полученную плату подмастерья, торговцы с ближайшего рынка. Пили пиво — темное, крепкое, тягучее — сказка, а не пиво! Такое пиво каждый день пить — больше ничего и не надо для счастья-то. Рядом, на улице, несмотря на дождь, что-то пели странствующие музыканты — жонглеры. Сквозь открытую дверь доносилось заунывное звучанье виолы, свирельные трели и лошадиное ржание. Входившие — здесь все друг друга знали — почтительно раскланивались, улыбались. Кивали и Олегу Иванычу — были наслышаны. Тот уже устал отвечать на поклоны, повернулся к Томасу, сказал усмешливо:
— Да-а, медь можно дорого продать в Новгороде, — потянулся за кружкой.
— Какую медь? — фальшиво изумился Томас, говоривший по-русски с небольшим тягучим — как местное пиво — акцентом. — Про какую такую медь ты говоришь, герр Олег?
Олег Иваныч усмехнулся. Допил пиво, вытер бороду рукавом, пояснил, что медь — дело хорошее, прибыльное, однако ее еще надобно доставить в Новгород.
— Есть один кораблик, у побережья.
— А Ганза?
— А скажем, что в Швецию.
— Ага. Ни с того ни с сего — в Швецию. Что вам там делать-то? У шведов и без вас меди хватает.
— Где хотим, там и продаем!
— Ну, ты это ганзейской магистратуре скажешь. Там люди доверчивые, типа меня.
— А какое их собачье дело?
— Стой, Томас, не распаляйся!
Олег Иваныч положил ладонь на руку Томаса:
— Вот если бы корабль был свейским… хотя бы по бумагам. Ганзе-то к свеям что за дела? Хотя, конечно, на всякий случай утопить могут. Если по-глупому делать, как вы с Евлампием хотели. Авантюристы!
Томас с уважением посмотрел на собеседника и заявил, что поступившее предложение следует хорошо обдумать.
— Ну, вот и обдумай, — согласно кивнул Олег Иваныч. — Помозгуйте вдвоем с Евлампием. Ленке только не говорите — весь Ревель знать будет!
Попрощавшись, Томас вышел в задумчивости. Лил дождь, но молодой мастер даже не замечал текущие за шиворот капли. Даже не поднял капюшон плаща. Думал.
Олег Иваныч не торопясь допил пиво и поднялся, тоже собираясь уходить, как…
Как вдруг…
Его словно током дернуло!
За столиком в углу, который только что заняла подвыпившая компания матросов, он отчетливо увидел знакомую одноглазую рожу!
Пират!
Злобный душегуб, сподвижник разбойничьего капитана Хорна ван Зельде! Что делает он здесь, в ганзейском порту? Наверняка что-то вынюхивает. Не слишком-то поздоровится вскоре кое-кому из этих матросов! Ишь, смеется, гад. Словно плевать хотел на все законы против пиратства. Ну, смейся, смейся… Ревельский палач уж как-нибудь сумеет сделать твою гримасу более угрюмой… ежели ты вдруг окажешься не очень разговорчивым, парень.
Выйдя из пивной, одноглазый пират оглянулся и вслед за матросами направился в гавань. Олег Иваныч чуть было не упустил его, засмотревшись на прыжки и ужимки уличных мимов. Хорошо, успел, обернулся… И, поправив болтающийся на поясе меч, бросился вслед.
Он настиг пирата уже за городскими воротами, на пологом склоне спускающегося вниз, к морю, холма, поросшего малиной и ежевикой. Место было довольно безлюдным — может быть, потому что шел дождь, а может, тут всегда так было. Это и к лучшему: лишние свидетели — делу помеха! Подумав так, Олег Иваныч усмехнулся. Надо же, бывший старший дознаватель, а как антизаконно рассуждает. То с контрабандистами гешефты затевает, то, вот как сейчас, пристает к мирному гражданину, чья вина еще не доказана никаким судом. Правда, еще не совсем чтобы пристал, но…
— Хэй, майн герр!
Резко обернувшись на крик, одноглазый увидел прямо перед собой качающееся острие закаленной стали.
Ан гард! Эт ву прэ? Ах, сабельку вытащил? Ну, тогда — алле!
Пират не очень-то хорошо владел своей саблей — все его рубящие удары — других он, похоже, не знал — сопровождались жуткой руганью и носили скорей устрашающий характер. В первые секунды схватки он и не догадывался, с кем пришлось сражаться… а когда догадался — было уже поздно. Олег Иваныч даже не стал тратить время на излюбленные обманные финты, уклонения, выпады. Была нужда, с этаким-то соперником! Ткнул наугад влево, потом якобы раскрылся и, дождавшись, пока самонадеянный московит начнет атаку с длинного выпада в грудь, круговым движением обвел его саблю и уже собрался нанести сильный удар вдоль клинка противника…
Однако пират не стал того дожидаться, а, бросив саблю, пустился наутек.
На бегу что-то выкрикнул по-немецки, быстро выхватив из-за голенища сапога длинный узкий кинжал. Ах, гад… Раз не получилось саблей, решил кинжалом? Остановившись, одноглазый быстрым отточенным движением с неожиданной силой бросил острое лезвие…
Олег Иваныч чуть дернул кончиком меча, и кинжал бандита с обиженным звоном воткнулся в растущее рядом дерево.
Обескураженный пират развернулся, снова намереваясь дать деру. Олег Иваныч предвидел такой поворот событий, поэтому не стал дожидаться, пока одноглазый наберет скорость, а, как только тот повернулся, с силой пнул его под коленку. Тот с воплем повалился на траву, по которой тут же принялся кататься — до тех пор, пока не почувствовал своей шеей острый холод металла.
— Гут, — усмехнулся Олег Иваныч, мучительно пытаясь вспомнить, как там по-немецки: «Вставай, иди!»
Впрочем, разбойник и так догадался, что от него хотят. Медленно, не делая резких движений, встал. Повернулся, повинуясь знаку. Олег Иваныч ловко — сказывался приобретенный в Новгороде опыт — спеленал ему руки ремнем, придерживавшим плащ. Плащ после этой процедуры пришлось нести на руке, что было не очень-то приятно в дождь, да зато спокойно! С эдаким-то фруктом ушки следовало держать на макушке.
Плененный не молчал, оглядывался, что-то выпытывал у Олега Иваныча по-немецки. Что — пес его знает. Потом вдруг присмотрелся, вздрогнул… Олег Иваныч чуть было не налетел на него, сплюнул:
— Ну, чего встал, дядя?
И тут вдруг одноглазый пират улыбнулся ему во весь свой щербатый рот, словно родному.
— Я ведь узнал тебя, господине, — по-русски ответил он. — С острова ты бежал, от шишей. Те думали — сгинул!
— Да ты русский?! — обрадованно воскликнул Олег Иваныч. Обрадованно — это потому, что теперь отпадала всякая необходимость в посреднике, на роль которого он собирался пригласить Томаса или, на худой конец, Еленку.
— Садись-ка на камень. Поговорим. Что узнать хочу — ведаешь?
— Ни сном, ни духом, господине.
Примостившись на округлом валуне, пират с готовностью воззрился на своего пленителя. Его единственный глаз светился фальшивой радостью. Сидеть разбойнику было неудобно, все время ерзал — пытаясь удержаться на камне, а встать ему дозволено не было. Потому — ерзал…
Олег-то Иваныч не зря присмотрел по пути такой камешек, неудобный. У них, в РОВД, тоже такие стулья были — полуразваленные. Сядешь — и не знаешь, усидишь ли. Один раз на пол завалилась теща начальника, будучи приглашенной свидетельницей по одному пустяковому делу. Прибежавший после ее ухода начальник, кипевший праведным гневом, задал один вопрос: почему до сих пор не починены стулья? На что и получил ответ от капитана Кольки Вострикова. А ответ такой: находясь в данном кабинете, подозреваемый должен думать не о том, как половчее ответить на вопрос дознавателя, а о том только, как бы со стула на пол не сверзиться! Потому — ремонт стульев в кабинете — прямая подмога преступникам. Ловко ответил, стервец. Начальник не знал, что и молвить. Рот открывал только как рыба. А Олег Иванычу слова Колькины вона когда сгодились.
Потому и ерзал сейчас одноглазый на камушке. Ерзай, ерзай, собачий хвост!
— Говори, что про убежавших слышал? Поди, погоня была?
— Да ничегошеньки не знаю, господине. Аз грешный сюды, в Ревель-от, ране ишо был послан, Богоматерью клянусь, Тихвинской!
— Не погань языком своим святое имя, иначе враз головенку отрежу! — Олег Иваныч замахнулся мечом, и шильник испуганно вжал голову в плечи.
— Точно не знаешь?
— Да клянусь…
— Ну, тогда не надобен ты мне боле, — Олег Иваныч недобро усмехнулся. — Сдам я тебя городским властям, пущай башку рубят — про законы супротив пиратов, небось, слыхал?
Одноглазый пал на колени:
— Не губи, боярин! Может, еще пригожусь!
— За каким хреном? Вставай давай, а то прямо здесь прикончу. У, пиратская морда!
— Не торопись, князь, — пойманный неожиданно успокоился и вперился в Олега Иваныча единственным глазом. — Я ведь и еще кой-что знаю. Для ревельского рата бесполезное, а вот для тебя… О Софье-боярыне сказать ли?
Софья? Олегу Иванычу показалось, что он ослышался. Ну откуда эта пиратская морда… хотя…
— Говори, собака! — Олег вытащил меч.
— Остынь, остынь, боярин. Все скажу, все. Только слово сперва дай.
— Какое еще тебе слово?
— Что отпустишь, когда все, как на духу, поведаю.
— А если палача позову?
— Кат? Так те мои слова кату без надобности, а с перепугу мало ль что наболтать можно. Так получу слово?
— Ладно. — Олег Иваныч махнул рукой, лень ему было как следует пытать эдакого морального урода. — Считай, получил.
Дождь шел все сильнее, все чаще стучали по траве капли, за камнем собралась уже изрядная лужа. Олег Иваныч не обращал внимания на дождь, даже плащ не накинул на плечи, так и держал в руке, ибо одноглазый поведал такое…
Во-первых, боярыню Софью пиратам заказал Ставр. Через их посредников в Нарве. Ну, об этом Олег Иваныч и без него давно догадался. Спутников Софьи приказано было убить, то, что они все-таки остались живы, — целиком на совести пиратского вожака, голландца Хорна ван Зельде, имевшего на новгородцев свои виды явно коммерческого характера. Что делалось после побега пленников — одноглазый, похоже, и вправду не знал. Зато знал другое! Вернее — другого. Ушкуйника Олексу, за слова о котором многое бы дали и сам Ставр, и софейский владыка Феофил, и бывший ключник Пимен. По словам одноглазого, отыскал-таки Олекса место, где чеканят фальшивые деньги. Вызнал — и кто чеканит, и зачем. За что и поплатился жизнью. Это — во-вторых… Ну, а в-третьих… В-третьих — наконец-то признал одноглазого Олег Иваныч, недаром тот таким знакомым казался. Вот как только заговорил про Олексу да про Обонежье, так и признал! Вспомнилась распятая на бревне тихвинская проститутка Тонька-Зараза — неплохая, по сути, девка — зверски убитая, с отрезанным языком… за то, что болтала лишнее о банде Тимохи Рыси. Вспомнилась и корчма на окраине Тихвинского посада. И ее одноглазый хозяин…
— Кривой Спиридон! — ахнул Олег Иваныч. — Вот уж, поистине, неисповедимы пути Господни! Как же ты тут оказался, пес? Говори, коль уж начал.
— Слово-то помнишь, боярин?
— Не забыл, не забыл, не сомневайся.
А оказался в здешних краях Спиридон не просто так. Бежал, в колдовстве обвиненный. Серьезнейшее, по тем временам, дело, даже на Ставрову заступу надежды не было. Хотя… Может, к тому делу Ставр-то и приложил руку — слишком уж много знал одноглазый корчемщик. Поступить так — вполне в духе Ставра, вполне… В общем, видала одна баба, будто летала над Тихвинским посадом корова — ревела, аки медведь, а полетав — на двор Спиридона спустилась. Еще и зелье у Кривого нашли, и письмена ведовские. Как ни божился он, что зелье-то — для крепости винной, а письмена — долговые расписки, не поверили. Схватили владычным именем да кинули в поруб. Там же, на посаде Тихвинском. Да вот цепь-то ржавой оказалась. Придушил Спиридон стражника — да ноги в руки. Леса окрестные знал — не раз с кистенем по большой Кузьминской дорожке хаживал. Только на сей раз туда не подался — опасался Ставровых. В Новгород пробрался, да на лодью, матросом. Как раз к сентябрю дело было. На последнюю навигацию успел. По пути пираты встретились. Хорн ван Зельде. Купцы шведские, чья лодья была, биться не решились, восемь частей товара отдали, да были отпущены с честью. Часть команды с пиратами порешила остаться — те еще были людишки, матросы-то — с ними и Кривой Спиридон. За зиму малехо насобачился по-немецки шпрехать, умом да хитростью авторитет себе создал. Вот и был в Ревель на разведку заслан. Тут и словил его Олег Иваныч! Спросил, как выслушал:
— Так что с Олексой-то?
— Нет уж давно в живых Олексы-ушкуйника, — Спиридон пожал плечами. — То наверняка ведаю!
— Может, сам и убил?
— Что ты, что ты, боярин! Прости, Господи…
Зря божился Кривой Спиридон, не боясь Бога. Это ведь он и убил Олексу, по прямому приказу Ставра. Воткнул нож в шею. Про то не признался сейчас Олегу, ну, и того, что порассказал, хватит. Зато про честное слово не забыл напомнить.
— Какое еще тебе честное слово? — возмутился Олег Иваныч, однако, мечом ремни на руках разрубив, пнул ногой одноглазого да напутствовал сердечно: — Пшел отсель, пес!
Обрадованный Спиридон не заставил себя долго упрашивать — враз побежал к морю, в малиновых кустах скрылся.
Олег Иваныч, меч в ножны вложив, в город побрел устало. Пока шел — думал. Пережевывал полученную информацию. Да о Софье все больше вспоминалось. Первую встречу с нею, в Тихвинском храме Успения, Спиридон нехотя напомнил, появлением своим одним, духом тихвинским. В длинном черном покрывале, в черных же, ниспадающих до самой земли одеждах, с бледным красивым лицом и большими золотисто-карими глазами, стояла тогда Софья в храме, показалась она тогда Олегу Иванычу словно сошедшей с иконы. И как он смотрел на нее, не отрываясь, и как Софья вдруг что-то почувствовала, обернулась, встретившись взглядом с Олегом. Тот аж вздрогнул тогда, словно провалился в омут золотистых глаз боярыни… Эх, Софья, Софья…
Погруженный в невеселые мысли, по сторонам не смотрел Олег Иваныч, да и на что там смотреть-то, на море, что ли? Эка невидаль — набралась меж горами вода да плещется. Так и вошел в ворота, да направился в конец Длинной улицы, к Евлампиеву двору. А за ним… А за ним змеей, за углами прячась, крался Кривой Спиридон! Зря, ой зря не пришиб пирата Олег Иваныч, отпустил змеюку ядовитейшую, проявил, так сказать, гуманизм, совсем никому не нужный! Нет, чтоб сразу голову с плеч… Ну да ладно, ужо все мы крепки умом-то задним…
В русском квартале, в доме Евлампия, ждали уже, дожидались. Сам хозяин да оружейных дел мастер Томас. Только они и были, даже Еленка из горницы с позором была изгнана. Знать, дело зачиналось тайное…
Кота за хвост тянуть не стали — прямо за обедом и начали. Пока мясную похлебку с луком хлебали, рассказал Томас про кораблишко, у какой-то там старой мызы на мелководье запрятанный. Хороший такой кораблишко — вместительный. На ход туговат, правда, — так на что она нужна, скорость-то? К середине июня всяко в Новеград пришлепает. С медью, вестимо. От которой барыш — рухлядью мягкой да зубом рыбьим взятый — сам-десять станет, ежели не все сам-двадцать! Тогда можно и свадьбу… Братство православное, правда, покривится изрядно, узнав про Еленку-то. Да то дело поправимое — гульден, он везде гульден! На новую церковную крышу уж всяко наскребет по сусекам Евлампий. Зато внуки его, Еленкины детушки — полноправными гражданами Ревеля уродятся, а заматереют, Бог даст — и в Ганзейский союз не последними людьми пробьются. У Томаса уже и капитан на примете имелся. Знамо дело — швед. Завтра с утра уж и кораблишко осмотрит, имя которому — «Пленитель Бурь». Знал Томас — был такой корабль в Сигтуне, о том ему Пауль Бенеке, капитан знакомый, рассказывал. И про то рассказывал, что сгинул «Пленитель Бурь» где-то в Северном море, то ли от бури, то ли от английских пиратов. Ну, про то еще мало кому известно было…
— А ты, герр Олег, на кораблишке том торговым представителем будешь.
Ну, это само собой, понятно. Зиц-председатель. Чтоб пиратам было с кого головы рубить начинать.
— Риск, конечно, есть, — согласно кивнул Томас. — Но ма-аленький…
— Это почему ж маленький? — усомнился Олег Иваныч. Он вообще был настроен довольно мнительно насчет всего, что касалось непосредственно его персоны.
Томас объяснил — почему риск маленький. В ближайшие дни из Ревеля выходит небольшой караван в Ригу, ничего особо ценного там нет — сукно, шерсть, руда да прочая мелочь — потому купцы на охрану не тратились, да и идти-то, прости Господи, тьфу — всего ничего. Вот этот-то караван пиратов на себя и оттянет.
— Ага, оттянет. Ежели они про него узнают!
— Узнают, — заверил Евлампий. — Пираты, брат, все знают!
— К тому же «Пленитель Бурь» — корабль с осадкой малой, у самых берегов пойдете, чтоб…
— Чтоб, ежели что, на камни сесть аль на берег выброситься, — съязвил Олег Иваныч. — Чай, действует еще «береговое право»?
— Не везде, — тряхнув огненно-рыжей шевелюрой, успокоил его Томас.
Уже темнело, когда довольный Томас покинул гостеприимный для него дом православного старосты Евлампия. Шел, напевая:
Крестьянский сын в деревне жил, Он чудо-кудри отрастил, Они вились до самых плеч, Чтобы волной на плечи лечь. Как шелк был каждый локон, Под шапкой их берег он…За ним, таясь в тени нависающих над узкими улицами домов, кто-то скользил неслышно.
Растрепанный мальчишка-ученик арбалетной стрелой вылетел из богато украшенных дверей дома молодого мастера Томаса, споткнулся на ходу, расшиб ногу… Добрый прохожий поддержал его участливо, в сторонку отвел, подорожник приложил к коленке. Пока прикладывал, беседу вел, о жизни мальчишку расспрашивал. А что жизнь — жизнь, прямо скажем, не очень. Как отдала матушка в ученики, так тому уж два года прошло, еще впереди восемь. Новый-то хозяин, мастер Томас, еще ничего, хоть и прижимист. А уж старый-то, хоть и нехорошо так о покойниках говорить, скупердяй был — куда там! Снега зимой не выпросишь. Да и вредный — чуть что, сразу драться. Ремеслу почти совсем не учил, все больше — сбегай, принеси, подай. Слава богу, помер. Мастер Томас ему не чета! Вчера показывал, как правильно сталь калить, вот это дело! Бегать? Да уж, побегать и при нем приходится, не без этого. Вот, как сейчас, к примеру. На ночь глядя послал в Вышгород, к какому-то шведу. Чтоб быстрей к нему в мастерскую шел… А ежели заупрямится, так, сказывал, спросить, не хочет ли швед тот стать капитаном «Повелителя Бурь». Тьфу-ты, бес попутал… «Пленителя Бурь»… Пленителя, Пленителя, Пленителя… На днях должен отчалить в Новгород. Но… тсс… про Новгород я не говорил. Дело такое… Ой, спасибо тебе, добрый человек, побегу я…
Мальчишка похромал дальше, припадая на правую ногу. Добрый человек посмотрел ему вслед единственным глазом и усмехнулся…
— «Пленитель Бурь», говоришь? В Новгород? Ну-ну.
С утра пораньше в дом герра Альтмайера, агента Ганзейского союза в Ревеле, постучали. Старый слуга, кряхтя, спустился по узкой лестнице вниз, осторожно заглянул в глазок, забранный крепкой решеткой. Странный посетитель. Одет бедно, да еще и кривой на один глаз. А ведь, как гласит примета, — встретить с утра кривого — к несчастью.
— Что вам угодно?
— Господина Альтмайера, — с каким-то варварским акцентом смиренно ответствовал одноглазый. — Дело идет о чести и прибылях Ганзы. Скажи господину, что пришел тот самый Спиридон, что не раз докладывал ему о пиратах.
— Ждите.
Кривой Спиридон — естественно, это был он — покорно уселся на высокие ступеньки крыльца, напротив резной двери. Скрывая небо, над ним нависал второй этаж здания, с закрытыми ставнями, над ним выдавался вперед третий…
По лестнице вновь зашаркали шаги.
— Входите.
Не прошло и часа, как Кривой Спиридон, вполне довольный, вышел из дома ганзейского агента. В карманах его матросской куртки нежной музыкой позвякивали серебряные монеты.
«Пленитель Бурь» — одномачтовый корабль какого-то неизвестного Олегу Иванычу типа — подняв парус, медленно отошел от небольшого причала у старой заброшенной мызы — приземистого строения на замшелом булыжном фундаменте. Из леса к мызе вела узкая дорога… на которой появились вдруг скачущие во весь опор всадники.
— Вон они, вон! — нахлестывая коня, во весь голос заорал первый. — Уходят, триста чертей им в дышло!
Всадники, числом десятка два, подскакав ближе к морю, остановились. Их мокрые от пота лошади тяжело дышали, сбрасывая под ноги пену. В руках всадников виднелись копья и арбалеты, у седел были приторочены большие двуручные мечи. Кровавым светом поблескивали доспехи в свете клонящегося к закату солнца, на головах у большинства были круглые полуоткрытые шлемы — во Франции такие назывались саладами.
— И все-таки они ушли, — провожая недовольным взглядом уходящий корабль, констатировал факт главный — в шлеме, украшенном белыми перьями. — Что ж, придется нагнать их в Нарве.
— А рыцари? — задал вопрос кто-то.
— С рыцарями — договоримся, — с усмешкой ответил главный.
Когда всадники выехали из леса, нижний край красного солнца уже опускался в море.
— В Нарву так в Нарву, — шептал про себя тот, что скакал последним, в рваной матросской куртке, с единственным, горящим злобным огнем, глазом.
Эрик Свенсон, новоявленный капитан «Пленителя Бурь», оказался человеком приятным во всех отношениях, вот только по-русски почти совсем не говорил да слишком уж не дурак был выпить. Пил профессионально — в принципе, все! На что уж Олег Иваныч в этом смысле был в родном РОВД закаленный, но и тот признавал, что по сравнению со Свенсоном он — жалкий любитель. Всяких там медов стоялых, мальвазей-романей и прочего…
Ревель, как член Ганзейского союза, практически полностью контролировал ту часть торговли с Новгородом, которая шла через Финский залив. Перевозили ли товар по воде — через Неву и Нарову, тащились ли по суше, проклиная дороги и лесных шишей, где бы ни шли — все импортируемые из Новгорода товары разгружались и взвешивались в Ревеле. За этим пристально следил главный ганзейский агент Бруно Альтмайер. Его люди знали все: сколько стоил ласт воска в Новгороде и за сколько его продадут в Любеке, какими мехами будут торговать в Выборге, а какими — в Нарве, сколько берут лоцманы в устье Невы в мае и сколько в июле, даже — нападут или нет пираты на очередной купеческий караван — и это мог с большой долей вероятности предсказать герр Альтмайер — маленький сухонький старикашка с морщинистым, похожим на высохшую воблу лицом и вечно слезящимися от конъюнктивита глазами. Уже не только деньги — информация — вот что было главным божеством Альтмайера, когда-то мелкого ганзейского клерка. Лет тридцать назад сидел тогда еще молодой Бруно в конторе в Любеке да переписывал сведения в пыльные толстые гроссбухи. Естественно, вызывал насмешки сверстников, как книжный червь и канцелярская крыса. Хмурился Бруно, но насмешки терпел — слабосилен да трусоват был с детства. Однако умом востер был, да к тому ж услужлив. Не ленился, слово хозяйское исполняя, самолично куда надо бегать. Так и приметили его люди, в Ганзейском союзе не последние. А приметив, по службе повысили — стал Бруно Альтмайер по-первости помощником начальника фактории в Новгороде, там долго не задержался — новая должность светила, в Брюгге. Да и там не усидел — умер прежний агент в Ревеле. Тут и пригодился Бруно с его познаниями в торговле русской. Теперь у него свой каменный дом в Ревеле, приличный доход, почет и всеобщее уважение. Ну, и власть, конечно. Где вы, друзья-пересмешники? Сгинули, кто в бою, кто в пучине, кто в пьянстве — от бедности. Досмеялись, гопники голоштанные…
Знал об Альтмайере и капитан Свенсон, на что способен старец сей — представлял себе хорошо. Потому и спешил, даже за вином, когда запасы кончились, лодку не посылал к побережью. Ну его… Места тянулись дикие, пустынные, всякое случиться могло. Вот придем в Нарву — уж тогда свое наверстаем! В Нарве-то, порту орденском, ганзейцы особо наглеть не посмеют. Великий магистр Вольтус фон Герзе не очень-то их любит. А чего любить конкурентов? Правда, в Финском заливе до устья Невы-реки путь опасен — Альтмайер вполне мог и пиратов натравить, с него станется! Потому думал Свенсон с попутным караваном дальше в Хольмгард идти. Хольмгард — так он по старинке величал Новгород. На орденский-то флот вряд ли пираты накинутся, да и, говорят, потрепали их тут недавно — многим головенки поотрубали, кого и на галеры отправили. И, по мнению Свенсона, правильно. Ведь нет ничего такого на этом свете, чего бы нельзя было достичь умом и хитростью. Ну, добавив чуть-чуть мошенничества. Так, самую малость. Как, к примеру, сейчас. Очень удачно купил этот ревельский парень, Томас, кипрскую медь. И хорошо, что не продал ее у себя в Ревеле. В Новгороде-то в несколько раз больше выручит — да там кое-что прикупит, продаст… С денег тех — и Свенсона доля. Потому — старался. В руках себя держал, много не пил, так, пару кувшинчиков под разговор с приятелем Томаса, новгородцем Олегом. Говорил, конечно, больше сам Свенсон, причем по-шведски. Лишь иногда вставлял пару немецких фраз, что для Олега Иваныча сути дела не меняло нисколько — он что в немецком, что, тем более, в шведском — ни в зуб ногой. Того сам пред собой стыдился, зарок дал, ежели сладится все — обязательно в Новгороде за языки засядет, выучит, да хоть тот же немецкий, вернее, тот его диалект, который был в ходу в Ливонии. Нужное это дело, оказывается! Вот знал бы — не сидел бы, как пентюх, башкой невпопад качая.
Набранные Свенсоном матросы, немцы да эсты — человек с полтора десятка — вид имели жуткий, разбойничий: волоса растрепаны, косынками разноцветными повязаны, фуфайки без рукавов, рожи такие — что только в страшном сне приснятся! Однако дело свое туго знали и капитана слушались беспрекословно. Видно, тоже свою долю имели.
Русского языка не знал никто. Скучно было плыть Олегу Иванычу, тоскливо. Уныло тянулась по правому борту низкая полоска берега, вокруг колыхалось серое давно надоевшее море. При перемене галса хлопал парусом ветер, слюнявя пальцы, что-то кричали друг другу матросы — не поймешь, то ли радовались, то ли ругались.
Меряя шагами палубу, все чаще смотрел Олег Иваныч на север, туда, где так нелепо разошелся его путь с дорогой, по которой ушли друзья и любимая. Куда вот только вела та дорога… К жизни? К смерти? А если б не пытались они бежать, быть может, было бы лучше? По крайней мере — точно живы были бы… Хотя, как знать… Ведь не заплатил бы Новгород выкупа ни за самого Олега Иваныча, ни уж тем более за Олексаху с Гришаней. Дай Бог, за Софью только… Что б тогда запели пираты? Головы б срубили? Или — на галеры? Тогда уж лучше сразу — головы. Видал Олег в Ревельском порту галеру. Венецианскую. Весла — десять человек гребут — стоя. Двадцать гребков в минуту. А попробуй, не погреби — позади профос ходит с плетью… хлестнет — не зарадуешься. У каждого несчастного, к веслу цепью железной прикованного, на шее деревянный кляп висит на веревке. Рот затыкать, чтоб не орали от боли. Так что, похоже, не зря бежали… Ежели живы… Ведь, кажется, уцепились они за корни-то… Кажется… Эх, знать бы наверняка… Да и с Софьей… Чувствовал Олег Иваныч — не будет ее — вроде и жить незачем. Закрутил головой, мысли грустные отгоняя.
В Нарву пришли к вечеру. Встали неприметисто у дальнего пирса, ждали. Поутру планировал капитан Свенсон в город выбраться, узнать про караван, когда отходит. Ну, судя по пустой гавани — с десяток рыбачьих шнек не в счет, — того момента долгонько можно было бы дожидаться. Видно, припозднились немножко — отошел уже караван-то. Если так — плохо дело. На свой страх да риск плыть придется. Ну да — где наша не пропадала. Чем скорее, тем лучше. Порядком уж надоели Олегу Иванычу все эти странствования на чужбине. Домой, в Новгород, хотелось со страшной силой. И чем дальше плыли, тем больше хотелось! Волхов увидеть седой, белые стены, кресты золоченые, купола… Сходить на Торг, делами заняться важными: всяко объявились еще какие шильники, розыска твердого требующие. Вопросы порешать с Олексахой, с Гришаней-отроком посмеяться… С Олексахой? С Гришаней?
Если живы… Если выбрались… Если…
Как много этих «если»!
— Пойду в город, Эрик, — не столько словами, сколько жестами показал Олег капитану. — Развеюсь, а то уж больно на душе муторно. Может, и какую рожу русскую встречу… К ночи явлюсь, всяко.
Он не торопился. Медленно прошелся по пирсу, полюбовался на чаек, на мальчишек, азартно ловивших рыбу, на оранжевый шар солнца, клонящийся к морю. Судя по чистому небу — никаких погодных капризов завтра не ожидалось. Купил у торговки каленых орешков — прошлогодних, вестимо — смотри-ка, сохранились еще.
Какой-то толстый мужчина — в дорогой бархатной куртке, черном берете и с толстой золотой цепью на шее — в сопровождении двух вооруженных стражников важно шествовал навстречу. Стражники, проходя, покосились. Толстяк обернулся… Указывая на «Пленителя Бурь», спросил что-то. И без перевода ясно…
— Я, я, — закивал головой Олег Иваныч. — Шкипер Эрик Свенсон… Он там, на судне, да-да.
Кивнув, толстый направился к «Пленителю Бурь».
Местный портовый чиновник самолично за взяткой пожаловал — подумав, сообразил Олег Иваныч. Что ж, милости просим. На взятки — особо серебришко выделено.
Усмехнулся Олег Иваныч, направился в город, насвистывая.
Город… В иные времена и деревни побольше были. Жителей — вряд ли больше тысячи человек наберется. Ну, пусть полторы. Но красив, собака! Нет, не так, как, к примеру, Новгород, а по-своему, по-европейски… Маленькие уютные улицы, вымощенные камнем, такая же небольшая площадь, полупустая уже. Крича и играя, бегали по площади дети, гоняли палками какой-то тряпичный мяч. Золотился на солнце видный издалека шпиль католического костела… Интересно, действительно позолоченный? Нет, скорее солнышко тут причиной…
Вот, кажется, что-то, напоминающее корчму. Настежь распахнуты двери, народишко туда-сюда бродит. И запах… Вареная, с укропом, тмином и чабрецом, рыба, чесночная похлебка, лепешки. И пиво, само собой…
Олег Иваныч вдруг остро почувствовал, что жутко проголодался. На корабле есть неохота было — кусок в горло не лез, а тут…
Пересчитав захваченные с собою монеты, решительно повернул на аппетитный запах.
Уселся скромненько в уголке, под горящей свечкой. В центре, за длинным столом, гомонили прилично одетые люди — почтенные бюргеры — после трудового дня зашли выпить пару кружечек пива. Напротив, у стены, сидели две странные личности в глухих черных плащах — сразу и не поймешь, то ли гопники, то ли монахи.
Скушав большой кусок печеной цапли с гвоздично-имбирной подливой, сдобренной изрядным количеством перца, Олег Иваныч наконец-то почувствовал себя сытым. Можно было бы, конечно, заказать еще пару жареных в льняном масле дроздов или перепелов со спаржей, да уж вроде и не хотелось есть-то… ну и дороговато, само собой…
— Эй, парень! А принеси-ка еще пива. Бир, бир! Ферштейн?
Нарвское пиво отличалось от ревельского или новгородского. Слаще было и не сказать, чтоб уж очень густое, но тягучее… И пахло… Имбирь? Ну, точно — имбирь.
Быстро выпив литровую кружку, Олег Иваныч заказал еще одну, под моченый горох. Эту уже пил медленнее, осматривался… Впрочем, смотреть-то было особо не на что — бюргеры разошлись уже, монахи тоже собирались…
Поднялся и Олег Иваныч. Расплатившись, вышел на улицу, рыгнул довольно. Прошел чуток. Черт… Еще вдруг одна проблема обозначилась — отлить бы не мешало, после пива-то. Только где вот? Возвращаться обратно в корчму не хотелось — лень было.
Олег осмотрелся. Узкая кривоватая улочка, дома — практически без просвета — сгущающаяся под крышами темень. Блин, негде… А хочется! Ну, черт с ним… Вроде местные бюргеры спать уже полегли — вон, окна-то в домах редко где светятся. Улица пустынна. Ну, была не была…
Только Олег Иваныч развязал тесемки штанов, как где-то рядом послышались голоса.
Тьфу-ты… Надо же, как не вовремя.
А тесемки — не молния, быстро не завяжешь! Не раздумывая, Олег Иваныч быстро втиснулся в узкую щель меж домами.
Люди… Десятка полтора-два, в фиолетовых рясах. Монахи-доминиканцы. Или францисканцы, черт их… Однако… Присмотревшись, Олег заметил у одного короткий меч, у другого кинжал, у третьего кистень… Хороши Божьи люди, нечего сказать! На ночь глядя оружны по городу шатаются, куда только стража смотрит? А… Вот и она, стража-то!
Трое вооруженных кнехтов в панцирях и блестящих шлемах, вынырнув из переулка, направились прямиком к монахам. Дождавшись, те почтительно поклонились, загремели четками. Один подошел ближе, что-то шепнул стражникам, достал кошель. Ну, конечно… Звякнули монеты, стражники, чуть ли не козырнув, пошли своим путем, а монахи… монахи — своим. Последний задержался, оглянувшись, откинул капюшон, посмотрев вслед уходящим кнехтам. Вышедшая на еще не такое уж и темное небо луна серебряным ятаганом отразилась в единственном оке доминиканца.
Спиридон Кривой! Какого черта делает здесь этот тихвинский шильник, пособник пиратов?
Олег Иваныч торопливо зашнуровал штаны. Теперь не опоздать бы, не потерять бы из виду!
Он нагнал их в гавани, почти у самого пирса. Не дойдя до него, монахи — или кто там это был на самом деле — остановились, принялись совещаться, время от времени посматривая на быстро темнеющее небо. И что им понадобилось здесь? Рыбацкий улов или… Или груз кипрской меди?!
Помимо «Пленителя Бурь», Олег Иваныч не усматривал в порту ничего интересного. Значит, этот корабль и является целью монахов, не ходи к бабке!
Но при чем тут Кривой Спиридон?
Воспользовавшись темнотой, Олег Иваныч, рискуя свалиться в воду, спрятался за боковой стороной пирса. У самых ног его тихо плескались волны. Лениво покачивался над гаванью золотистый месяц.
Уже не таясь, монахи вытащили из-под сутан оружие и молча пошли вдоль по причалу. Олег Иваныч — как мог быстро — за ними.
Интересно, что ж получается, эти чертовы монахи что, держат команду «Пленителя Бурь» за полных идиотов? Шкипер Эрик Свенсон производил впечатление весьма осторожного и здравомыслящего человека и наверняка выставил охранение. А по численности доминиканцы и матросы практически одинаковы. Что же касается опыта портовых стычек… достаточно было взглянуть на рожи матросов. Уж кто-кто, а Олег Иваныч на них насмотрелся. Физиономии висельников — ни больше, ни меньше! Так что кто кого — еще вопрос, даже если предположить, что монахам удастся незаметно подняться на борт…
Не дойдя до «Пленителя» саженей полста, монахи остановились. Олег Иваныч высунул голову из за булыжников пирса. Кто-то что-то сказал. От стоявшей рядом шебеки отвалила темная тень. Пошушукалась с монахами. Даже некоторые слова были слышны, жаль, по-немецки болтали. Вот бы где знание языка пригодилось! О чем-то договорившись, тень исчезла… И тут же послышался скрип уключин. Рыбацкая шебека ходко отвалила от пирса, направляясь… нет, не к «Пленителю Бурь». Куда-то на середину гавани. Там уже покачивалось на волнах еще несколько лодок. Четыре… Пять… Десять… Десять! Все — полные людьми. Кажется, в свете луны блеснули мечи и секиры… И еще кажется — будто бы лодки стали ближе… Кажется? Да нет… Они плыли. Плыли к причалу, окружая «Пленителя Бурь», словно волки раненого лося. В каждой лодочке человек, как минимум, с десяток. Выходит — сотня? Выходит — сотня! А что же охрана Свенсона? Спит, что ли?
Олег Иваныч подобрался ближе, так, что в свете луны отчетливо различил такелаж.
Точно — спит вахтенный! Даже шлем на палубу свалился. Рядом — оловянный кувшин… Эх, Эрик, Эрик — не слишком ли доверился ты своим матросам?
А лодки все ближе. И монахи подобрались почти к самому борту… вот-вот бросятся. Чего же ждут? Ага! Не так уж и доверчив шкипер Свенсон — от пирса до палубы корабля — сажени две, сходни, естественно, убраны…
Топот… Быстрый, словно крысиный. Промчались по пирсу какие-то сороконожки. Интересно…
Олег Иваныч всмотрелся, аж почти весь на пирс вылез. Хороши сороконожки — монахи проворно тащили к концу причала длинные широкие доски.
Тем временем с моря подошли шебеки.
Ну, пожалуй, ждать больше нечего! Жаль погибать, с другой стороны — просто взять и уйти сейчас, бросив на произвол судьбы шкипера Свенсона и команду, это было бы нечестно, не по-хорошему как-то. Предательством было бы. Олег Иваныч даже и не думал о том, чтоб сейчас скрыться, — не смог бы потом уважать себя никогда… Уж лучше смерть!
Ладно, пошумим еще!
Стараясь произвести побольше шума, Олег Иваныч ткнул мечом первого попавшегося под руку монаха и с криком «Я убью тебя, лодочник!» бросился по ближайшей доске на палубу судна.
Сбитые по пути монахи полетели в воду…
— Авра-ал! — заорал Олег Иваныч, что есть силы пиная ногами стенки каюты шкипера.
Внезапности не получилось!
Они действительно стоили друг друга — шкипер Эрик Свенсон и набранная им команда.
Не прошло и пяти минут, как на палубу высыпали все. И словно — сна ни в одном глазу. Вооружившийся алебардой шкипер, взбежав на бак, быстро отдавал приказания, выполнявшиеся с такой сноровкой, которая наводила Олега Иваныча на вполне определенные мысли относительно прошлых занятий матросов. Сегодня они мирные моряки, вчера — пираты, завтра… Впрочем, кто знает, что будет завтра?
Сегодня бы продержаться!
Убедившись, что внезапной атаки не получилось, нападавшие изменили тактику, сделав главный упор на шебеки. Со всех сторон полетели на борта абордажные крючья, то тут, то там попрыгали на палубу вооруженные люди. Пока команда «Пленителя Бурь» вполне успешно противостояла натиску. Опыта им было не занимать. Ловко орудуя алебардами, матросы почти очистили палубу.
Звенело железо. Сверкали в свете луны окровавленные лезвия. Хрипя, падали в воду умирающие. Где-то на баке громко ругался шкипер.
Ну — ан гард, так ан гард! Даже не будем спрашивать — эт ву прэ… Судя по тому молодчику с двуручным мечом-бастардом, он явно готов к хорошей драке… Что ж — алле!
Ух! Как просвистело над головой тяжелое лезвие… Олег уклонился, даже и не думая парировать удар, ясно сознавал — не выдержит его клинок подобного — сломается… Значит — тактика изматывания, ложных атак — в общем, все излюбленные приемы Олега Иваныча. Парень-то здоров, однако, — ишь, как шурует, только успевай увертываться. Нагрудный панцирь, рукава закатаны, обнажены мускулистые волосатые руки… толщиной с Олегово бедро каждая. Пижон… А значит, руки-то мы у тебя и выцелим… А ну-ка — ан гош! Ложный выпад влево… Сейчас паренек должен раскрыться… Ага — так и есть… теперь быстрый перевод вправо… длинный выпад с завязыванием… Есть укол! И хороший!
Пронзенная насквозь правая рука противника повисла безвольной плетью… Правда, он все-таки успел быстро перехватить падающий меч левой. Может, с кем-то и прошел бы такой трюк, только не с Олегом Иванычем, который, в принципе, того и ждал… Молниеносный выпад в горло! Альт! Финита… Олег Иваныч оглянулся… И вовремя — позади уже маячил еще один.
Он был вооружен пикой длиной метра три — три с половиной и, обхватив древко обеими руками, удерживал наконечник на уровне груди Олега Иваныча. Левая нога разбойника была выставлена вперед, левая рука выдвинута, являясь вспомогательной, она лишь поддерживала оружие, основной удар наносился направляющей правой…
Совершив короткий замах, противник сделал быстрый выпад, целя Олегу в горло… Что, конечно, можно было предвидеть.
Без труда парировав удар, Олег Иваныч совершил ложный выпад, в свою очередь отбитый разбойником, который тут же перешел в контратаку, являвшую собой простое повторение первого удара. Вообще, противник оказался весьма опасным, опытным, ловким, быстрым. Дело усугублялось еще и явным несоответствием видов оружия. Копье и шпага. Разбойнику-то, видно, частенько приходилось орудовать против меча, а вот у Олега Иваныча опыт сражения с копьями отсутствовал начисто. Потому и действовал он крайне осторожно, не нарываясь. Изматывал, делал ложные финты, ждал… И вроде бы дождался… Противник, которому надоел затянувшийся поединок, перехватил копье и, подняв его повыше, нанес удар в голову, резко, почти без замаха. Олег Иваныч, конечно, отбил его, еще бы… но… но сделал это нарочито неуверенно, медленнее, чем нужно бы, словно действовал уже ну если и не из последних сил, то где-то рядом. И противник это почувствовал! Да, он был хорошим воином и, по идее, должен был пусть и не сразу, но повторить удар, обязательно повторить, только сделав его более сильным… а для этого нужен замах.
Ну, ну, замахнись же, ну!
Олег Иваныч нарочно пропустил пару ударов — якобы в последний момент уклонился. И вот дождался-таки!
Подняв копье над головой, противник замахнулся, снова целя в голову. Очень быстро он все это проделал… навряд ли прошла и секунда…
Но этого вполне хватило Олегу Иванычу! Длинный выпад всем телом… Клинок мелькнул блестящей неудержимой молнией и впился противнику в горло!
Не удержавшись, Олег Иваныч отсалютовал умирающему, подняв клинок вверх — все-таки это был достойный соперник…
Эт ву прэ?
Есть еще желающие? К сожалению, есть. И даже много…
Олег Иваныч уже потерял счет ударам. Орудуя у левого борта, он даже не оборачивался, чувствуя прикрытие с тыла. Первая атака, похоже, была отбита. Шебеки тяжело отвалили от борта «Пленителя Бурь», сгрудились, чтобы, перегруппировав силы, вновь броситься в битву.
Олег не обольщался: сотня человек — это сотня человек, минус, ну, может, с десяток убитых. Их же всего восемнадцать. И трое, кажется, весьма серьезно ранены.
Что-то нужно было придумать. Почему они не кричат, эти монахи-разбойники, не подбадривают себя, почему, наконец, не используют пушек? Продырявили бы борт «Пленителю Бурь» — положение его защитников резко осложнилось бы. Выходит, побаиваются шильники излишнего внимания городских властей. А раз побаиваются — надо его привлечь, это внимание-то. Битва разворачивалась в самом конце причала, практически посередине бухты. У портовых ворот — и то не слышно, чего уж говорить о городских улицах…
Почесав бороду, Олег Иваныч проворно нырнул в трюм. Именно там — он знал — хранились запасы пороха и ядер для двух кулеврин Свенсона. Щелкнув кресалом, Олег зажег свечку. Так и есть — аккуратными рядами лежали на полках небольшие мешочки. Сейчас… Устроим монахам небольшой фейерверк.
— Фейерверк? — заглянул в трюм шкипер, закивал обрадованно головою — догадался, что к чему.
Вместе с Олегом Иванычем стал носить мешки с порохом, складывая их в разъездную лодку — кимбу — на ночь (чтобы воры не умыкнули) затащенную на палубу судна. Плохой порох тогда делали — комки какие-то, рыхлости, пыль. В основном — пыль. Вспоров ножом несколько мешков, Олег щедро рассыпал порох. Кивнул шкиперу. Тот махнул рукой, и матросы, навалившись, сноровисто спустили лодку на воду. Покачиваясь на волнах, кимба билась о борт.
— Пожалуй, близковато, — поморщился Олег Иваныч. — Оттолкнуть бы чем, что ли…
В этот момент шебеки нападавших разом стукнулись носами в левый борт «Пленителя Бурь». Цепляясь за все, что можно, молча, с каким-то остервенением, незваные ночные гости снова полезли на палубу.
Вытащив меч, Олег Иваныч краем глаза взглянул на кимбу. Ее уже кто-то оттолкнул, только, похоже, перестарался — лодка покачивалась на волнах саженях в десяти от судна.
Выхватив факел из рук матроса, Олег Иваныч с силой метнул его в кимбу. Недолетев несколько вершков, факел с шипением упал в воду.
Вновь закипела битва, и уже не до факела стало — быть бы живу. Хмуро звенело железо, хриплые стоны раненых звучали музыкой битвы. Шкипер Эрик Свенсон внезапно возник на баке с луком в руках.
А кимба была уже далеко — ветер нес ее в море.
Факел?
Обмотанные промасленной тряпицей стрелы!
Выстрел…
Еще один…
Страшной силы взрыв потряс Нарвскую гавань! Жахнуло так, что у Олега заложило уши. Огненный красно-желтый шар яркой молнией унесся в черное небо. Подняв тучу брызг, упали в воду обломки. Поднятой волной перевернуло пару шебек. Тяжелые латы тащили людей на дно, лишь немногим посчастливилось добраться до берега. Той же волной «Пленителя Бурь» швырнуло на пирс. Громко треснула лодка, попавшая меж судном и пирсом, и ужасный вопль боли пронзил ночную тьму…
От городских ворот порта, все ближе, текла к причалу прерывистая светящаяся река. То, держа высоко в руках пылающие факелы, спешил к месту битвы отряд городской стражи.
Уцелевшие «монахи» быстро повернули оставшиеся лодки в сторону моря. Их не преследовали — кому надо-то — лишь капитан Эрик Свенсон погрозил им вслед кулаком, поросшим рыжими волосами.
Потом ужинали, уже под утро. Угощали вином начальника стражи. Тот пил охотно, улыбался, поглаживая усы, видно было — доволен. Еще бы не доволен — заработал за какие-то пять минут десять кельнских грошей — и это практически безо всякого риска.
Матросы убирали с палубы раненых и убитых. Раненых шильников стражники уносили с собой, а мертвых пока оставляли здесь же, на пирсе, складывая их аккуратными штабелями.
Уже под утро, проводив начальника стражи, Олег Иваныч быстро осмотрел трупы. Все, как на подбор, крепкие молодые ребята. Под монашескими сутанами — обычное платье: узкие штаны да куртки. Сорванные сутаны валялись рядом, на пирсе. Оружие и доспехи теперь составили законную добычу экипажа «Пленителя Бурь».
— Ганза! — похлопывая ладонью по трофейному панцирю, заявил капитан Свенсон. — Ганза…
Да, похоже, больше и некому было, кроме ганзейцев-то. Это ведь им вольная торговля с Новгородом — нож в горло. Монополисты хреновы…
А вон тот парень, у края пирса, похоже, еще совсем недавно был у Хорна ван Герзе. Иль — показалось?
Олег Иваныч склонился над трупом, заглядывая в широко открытые глаза… Нет, показалось…
Он отошел уже, собираясь подняться на палубу, как вдруг услышал чей-то слабый стон. Обернулся, прислушался… Мало ли, средь умерших затесался и раненый. Олег Иваныч не был совсем уж лишен гуманизма.
Точно — кто-то стонал. Не здесь, на причале, а — ближе к воде…
Перемахнув через каменное ограждение пирса, Олег Иваныч спустился вниз. У самой воды, лежа на животе, стонал раненый. Под правой лопаткой его торчала стрела.
Олег подошел ближе, чуть повернул голову раненого.
Спиридон Кривой!
Единственный глаз шильника замутился, из груди вырывалось прерывистое дыхание.
— Ум-ру… — тихо прошептал Спиридон, узнав Олега. — Поставь… свечечку… Тихвинской…
Олег Иваныч кивнул.
— Грехов на мне много… — собравшись с последними силами, произнес пират. — То ж я… Олексу-то… Подними голову-от. Чтоб море видеть… Вот… — С минуту Спиридон Кривой смотрел вдаль, грудь его, насквозь пробитая стрелой, тяжко вздымалась. — Деньги бесчестные… — выдохнул он. — То — Ставра-боярина дело… Куневичи… Запомни… Куневический погост… Земля Веси… Там… Там… Там…
Пират вздрогнул, голова его бессильно свалилась на грудь, да так и застыла. Из уголка рта медленно вытекала черная кровь, мертвые глаза невидяще смотрели в море. Так умер Спиридон Кривой — тихвинский корчмарь, разбойник и пират Хорна ван Зельде. Что ж, смерть в битве — не самая плохая смерть.
Обломав древко стрелы, Олег положил Спиридона на спину, закрыв ему веки рукою. Светлые волны чуть трогали круглые камни пирса, где-то за городскими стенами показались первые лучи солнца.
Они отчалили в тот же день, как только уладили дела с ратманами — выборными городскими правителями. Подняв парус, «Пленитель Бурь» вышел в открытое море и взял курс на устье Невы. Дул легкий попутный ветер, и судно, тяжело переваливаясь на волнах, медленно продвигалось вперед.
Капитан Эрик Свенсон стоял на корме, прислонившись к фальшборту, и, наблюдая за прибиравшими палубу матросами, напевал себе под нос не лишенным приятности голосом:
Приходи, мой друг, ко мне — Так тоскую по тебе. Так тоскую по тебе, Приходи, мой друг, ко мне! Словно роза — алый рот, Дай забвенье от забот, Дай забвенье от забот, Словно роза — алый рот!Олег Иваныч не понимал слов, но мотив ему нравился. Он вообще заметил, что средневековые люди были очень музыкальны. Песни пели практически все — по поводу и без оного, а такие мелочи, как отсутствие слуха и голоса, здесь никого не смущали. Олег Иваныч и сам бы спел сейчас что-нибудь, да вот что-то не пелось…
Снова навалились, нахлынули мысли. Предстали пред глазами фигуры, словно живые. Софья… Олексаха… Гришаня… Словно живые…
О том, как жить дальше, если близкие ему люди погибли, Олег старался не думать. Как обычно жить. Работать больше. Или… Быть может… Попробовать вернуться обратно? Найти ту реку, где… Больше-Шугозерский погост… Или Спасский? Ну, где-то рядом… Нагорное Обонежье — так называли этот далекий край новгородцы. Край древнего племени весь… Так и покойный Спиридон тоже толковал о нем. Куневический погост. Интересно, это где хоть? Дальше, чем Спасский, или ближе? Нет, навряд ли ближе… Скорее — дальше. А может, вообще в Заволочье?
Нет, к черту старую жизнь! Пока хоть малейшая надежда есть, что Софья жива, — бороться нужно! Бороться! Ну, значит — поборемся.
Светило, било в правый борт солнце, и соленый балтийский ветер нес «Пленителя Бурь» вперед, в Неву, Ладогу, Новгород… Домой…
Глава 5 Новгород. Май 1471 г.
Само существование в Новгороде «литовской партии», добивавшейся присоединения его к Польско-Литовскому государству, сомнительно. Прославленная в историографии Марфа Посадница (Борецкая) упоминается как «злая жена» — главная противница Москвы — лишь в явно легендарном рассказе.
Я. С. Лурье, «Русь 15 века…»Отцвела черемуха, ушли, улетели, унеслись прочь холода, не так уж и редкие во второй половине мая, пришло тепло долгожданное, совсем летнее, такое, что радостно на душе всякому — хоть боярин ты, хоть простой крестьянин-смерд. Весна в этот год выдалась затяжная, морозная, третьего дня еще морозцы по утрам бывали — несмотря на то что конец мая, и вот только вчера повеяло наконец настоящей весной. Да что там весной — летом повеяло!
Солнце грело, светило, жарило — парило, как в бане. В Волхове, за мостом, в понизовье, вовсю плескались мальчишки, да и взрослые мужики — с дальних пятин обозники — скинув одежку, кидались в воду, брызгаясь да храпя, ровно зверь морской, коего ради зуба рыбьего промышляют ушкуйники у моря Студеного на берегу Терском. Накупавшись всласть, бежали обратно к обозам, руками срам прикрыв, хохотали, с девками заигрывали, мимо шедшими, веселились. С Деревской земли тот обоз был, боярина Арбузьева люди. Оброк привезли да меха — рухлядишку мягкую, что успели за зиму запромыслить. Хорошо добрались — ни в грязи-болотине не застряли, ни лихих людишек не встретили, слава те, Господи! Один, правда, прибился в чаще — длинный такой парнище, худющий, ровно три лета голодал. Хороший человек оказался, работящий, спокойный. Федор — мужик, в обозе главный — рад был. Правда, не разговорчив был парень-то, и, видно, бывал уже в Новгороде Великом, как в ворота въехали — так по сторонам глазами и шарил. А на воротах — Федор то приметил — от стражи таился, рожу воротил на сторону. Хоть и не похож вроде на лиходея. Однако, кто его знает, правду старики говорят: чужая душа — потемки. Может, беглый какой… Ну, худа от парня в обозе не видели, а что беглый — его дело. Поговорить с Иваном Григорьичем, тиуном боярским, может, и разрешит парнищу пожить в вотчине-то. Всяко лучше, чем одному по лесам скитаться, ровно волку какому. Ишь, исхудал — кожа да кости. С обозными-то еще подкормился…
Выкупавшись, да постиравшись, да чистые рубахи, что заранее приготовлены были, надев — поехали дальше. На боярский двор, что на улице Кузьмодемьянской, на конце Неревском, Новгорода, Господина Великого. В храмах зазвонили к обедне. Сперва маленькие колокольцы ударили, Кузьмы и Демьяна церкви, что на Холопьей, прости Господи, улице выстроен. Тут же разом и в соседних церквях затрезвонили — у Дмитрия, у Якова, у Саввы… И — гулко так, басовито — в Святой Софьи храме. Уж Софийский-то перезвон ни с чем не спутаешь! Да вон она, Софья-то — купола издалече видать, да и сам Софийский двор от Кузьмодемьянской — три раза плюнуть.
Улица Кузьмодемьянская длинная, через весь Неревский конец тянется, к реке спускаясь — Великую пересекая. Сады яблоневые, цветущие — вдоль всей улицы, да и на дворе боярском. А запах! Этакой-то воздух пить можно! Ложками хлебать — киселя вместо.
Ну, в ворота боярские въехали — не до воздуха стало. Запарка пошла — возы разгружать да в амбары припасы складывать. Тиун — управитель боярский — Иван Григорьевич — мужичина въедливый, хоть и подслеповат маленько. Ни одна шкурка с мездрой мимо рук не пройдет, хорошо, мало таких. Но, что греха таить, попадалися. Ругался тиун, подзатыльники обозникам бил, а то и посохом. Ну, то не плети. Ништо, терпеть можно. Да и видно было, доволен тиун, а что ругался — так то так, для порядку больше. Как же тиуну не ругаться? Мужик-лапотник — он такой, враз хозяину недовольство сделает по лености своей да по глупости. Глаз да глаз нужен. Вот и смотрел тиун…
Покуда суд да дело — и полдень пролетел, не заметили. Вытер Федор пот, рядом с тиуном присел на мешок тихохонько. Хотел про парня поговорить нового… Глядь — ан нет его, парня-то! И когда сбежать умудрился, вроде все время тут, на глазах крутился. Помогал, советовал… И — нет его. Вот ведь жердина тощая! Ну, Бог с ним… Не украл ничего — и то ладно.
Плюнул Федор да с мешка поднялся — в дом пошел, вслед за тиуном. Грамоты писать: что привезли да откуда. Управиться бы до вечера — вечером-то на Ивановскую поспеть хотели — перевезти кое-что.
А парень-то, что к обозу в пути прибился, и вправду не взял ничего — пустой ушел. По Кузьмодемьянской пройдя, оглянулся — нет, не шел за ним никто, не гнался, да и кому нужен-то — свернул на Великую, вот и Детинец виден, но туда не пошел парень, опасался чего-то и, недалеко от рва, через проезжие ворота Разважской башни вышел к Волхову. Велик Волхов, широк, бурунами белыми вспенен — не каждый переплывет, да и холодненько еще. Хотя — купались ребятишки, брызгались. Постоял наш парниша на бережку, бородку светлую почесывая, не хотелось чрез мост идти — Софийский-то двор да Торг — места людные, запросто можно знакомцев каких встретить. То, видно, не надобно было парню. Потому, посмотрев в сторону моста, сплюнул. Вот бы лодку какую… А вон, плывут, плывут рыбаки-то!
— Хэй-гей, рыбачки!
Нет, далековато, не докричишься. Рядом, на песке, пацаны, накупавшись, лежали — спины грели.
— Робяты, до лодок враз доплывете? Медяху дам.
В один миг сорвались мальчишки, в воду попрыгали.
— Скажите там, чтоб сюда гребли!
Нет — так и плывут рыбаки, как и плыли. Может, плохо объяснили мальчишки? А! Вот последняя лодочка. Кажись, поворачивает… Сюда!
— Благодарствую, ребятишки, вот вам пуло.
Ребята — в драку. Пуло делить медное. Аж песок по сторонам полетел да волосья клочьями. Ну, пес с ними, пускай дерутся. Жаль пула — последнее.
Брезгливо песок с лица вытерев, парень рыбаков дождался.
— Как улов? Да куда плывете? К Щитной? Возьмите попутно. Благодарствую, спаси вас Хранитель!
С рыбаками простившись, вылез парень на стороне Торговой, да чрез ворота проезжие — на Щитную улицу. Сады яблоневые прошел, усадьбы да кузни. На Большую Московскую дорогу вышел — задумался. Есть хотелось — аж кишки сводило. В корчму какую сходить? Да ведь сторонился парниша шума да многолюдства… А какая корчма на окраине — Явдохи на Загородской. Там и народу поменьше — с утра-то — да и народец все тертый, болтать да расспрашивать не станут. Правда, стражники могут зайти — ну да Бог с ними. Вот только — даст ли в долг-то Явдоха?
Видно, решил парень, что даст. Потому и повернул налево да зашагал, не оглядываясь. Быстро шел, от встречных лицо отворачивал — таился. Впрочем, всем не до него было — на Торг спешили, а кто — уже и с Торга, с прибытком. Пересмеивались. Пара всадников пронеслась, свернула к Явдохе. Один оглянулся на повороте. Увидев парня, присмотрелся… нахмурился. Бороденкой тряхнув козлиной, крикнул что-то напарнику, сам же, от корчмы поворотив, вихрем чрез дорогу пронесся, к садам яблоневым. Там и запрятался, ожидая. Парня глазами злобными проводив, выбрался, хлестнул коня — в миг един до Федоровского ручья добрался, заворотил в усадьбу:
— Батюшка боярин, шпыня худого на Загородской видал. Имать ли?
Выехав из ворот, медными полосами обитых, помчались вдоль по Московской дороге всадники, числом трое, да с ними возок крытый.
А солнышко светило весело, припекало!
Березки росли вокруг Святой Софьи храма белокаменного. Славные такие, белоствольные, а листва — нежная-нежная, ровно шелк али щеки девичьи. Трава вокруг зеленела ярко — не трава, перина пуха лебяжьего! Ногой ступить жалко — прилечь бы, голову преклонив вон туда, к одуванчикам, да вздремнуть до вечера. А и не дремать, просто так поваляться, в небо глаза уставя. Высокое небо, летнее, цветом — синее-синее, кто море видал — скажет, что — ровно море, ну, а кто не видал — с колокольчиком-цветком сравнивали, да еще с очами русалочьими, хоть и грех это — русалок поминать да прочую нечисть, рядом с храмом-то Божьим.
За березками, у коновязи, смирно — тоже, видно, лень было шевелиться — стояли лошади. Белые, вороные, гнедые. Средь них и конек неприметный, масти каурой. В торбе овес жевал, ушами прядал. Олега Иваныча конек, человека житьего.
После обедни повалил народ из храма. Бояре, купцы, софийские… Черные клобуки, рясы, плащи нарядные, летние — красные, желтые, лазоревые — всякое платье смешалось, шутки слышны были, да такие иногда, что хоть уши на заборе развешивай — не больно-то боялись Господа люди вольные новгородцы. Лишь инок какой, услышав, головой качнет осуждающе… а то и про себя посмеется, кто его знает. Май, июнь скоро…
Во владычных покоях лестница — чисто, с песком, выскоблена. Ступеньки высокие, в сенях прохлада. Поднялся Олег Иваныч в сени, в полутьме нащупал дверь знакомую.
Не сразу и нашел Феофила-владыку — тот у киота стоял, молился. Услышав шаги, обернулся — узнал.
— Ну, здрав буди, Олег, свет Иваныч. Ждал, что придешь. И что вернулся недавно, слышал.
Олег Иваныч поклонился молчком, руку приложив к сердцу. По знаку владыки на скамейку уселся, чуть к столу подвинув. Сдал, сдал владыко Софийский! Высох весь, вроде даже и ростом стал меньше. Видно — не сладок власти великой хлебушек! Однако глаза по-прежнему смотрели пронзительно… Взглянул — ровно дыру выжег. Велел:
— Докладывай!
Про все рассказал Олег Иваныч. Конечно, что дела касалось. О серебряных деньгах фальшивых. Про то, что поведал ему Кривой Спиридон, покойный.
— Куневический погост, говоришь, — выслушав, задумался владыко. — Знакомое место. То в Обонежье Нагорном, там, где Олекса сгинул. Так, ты говоришь, это Ставр его?
— Мыслю так, — кивнул Олег Иваныч. — Само собой, не сам. Людишками.
— То ясно, что людишками. Зачем вот?
Встав с лавки, Феофил подошел к распахнутому окну, вдохнул пахнущий цветущим шиповником воздух. Где-то в кустах заливисто пел соловей.
— Эк, как выводит, — неожиданно улыбнулся владыка. — А ведь совсем неприметная птаха. — Он посмотрел на Олега: — А про Ставра, думаю, ты верно мыслишь. Вот у него откуда доходы-то, не с вотчин разоренных! Видоки прямые есть ли?
Олег Иваныч только развел руками. Откуда ж им быть, свидетелям-то? Кривой Спиридон умер. Тимоха Рысь да Митря Упадыш? Может, что и скажут, если схватить побыстрее, да поприжать…
— Схватить? — Феофил вздохнул, покачал седой головой — постарел, постарел владыко, не тот уж стал, что раньше. — Не можем мы сейчас Ставровых людишек хватать без доказательств веских, ох, не можем! Силен Ставр, глядишь — вот-вот посадником станет, к тому все идет. Да и… — владыко оглянулся по сторонам — это в собственной келье-то! — и понизил голос: — Слухи идут, будто московский государь Иван Васильевич Ставру поддержку оказывает. Слухам тем — верю. — Феофил снова вздохнул. — Многое изменилось в Новгороде, Олег, многое. Вечники — мужики худые, — воду мутят, за Москву… то не сами по себе мутят, кормит их кто-то.
— Да ясно, кто кормит, — Ставр!
— Может, и он… Многие ж купцы да бояре — за подмогу литовскую, за короля Казимира.
— Так Казимир же ничего не обещал, а князь Михаило Олелькович по весне еще на Киев отъехал!
— То и плохо. Чувствую, не убережет своей воли Новгород, ни сил уж нет, ни единства. Все друг с другом собачатся, лаются, аки псы. Митрополит Филипп из Москвы увещевает, чтоб не перешли б мы в веру латынскую, католическую. Да нешто такое можно? В латынство-то? Душу поганить… Лучше уж пусть Иван. По Ялжебицкому-то миру — пущай так и будет!
Прощаясь с владыкой, Олег Иваныч поинтересовался, как быть со Ставром, но прямых указаний не получил — осторожней стал Феофил, осмотрительней. Высказался только — нехорошо будет, ежели Ставр в посадники прорвется. Ну, нехорошо так нехорошо. Олег Иваныч намек понял. Фиг Ставру, а не посадничество! Иначе — кранты. Как только войдет боярин Ставр в должность — сразу все дела против Олега да друзей его велит «возобновить производством». И лжесвидетели тут же сыщутся, только свистни. Это боярскому слову вера, а не его, Олега Иваныча — человека без знатности, без роду-племени, да и вообще — неизвестно откуда взявшемуся. Один Феофил заступа — так ведь и тот не вечен, да и осторожен стал больно в последнее время. И осудят его, Олега Иваныча, за убийство ладожского лоцмана, которого, на самом-то деле, Упадышев Митря живота лишил злодейски. А фальшивое серебро, ясно, Гришане припишут — да на костер, за глумы еще, да за кощуны всякие стригольничьи. Гришане…
Олег сам себе усмехнулся невесело. Вот уж кому, похоже, давно все равно, что там с ним сделать могут. Сгинул, похоже, Гришаня-отрок, в пучине морской, вместе с Олексахой да Софьей… Ведь ничего не сказал о Софье владыко. Говорил только, что приезжали немецкие люди на усадьбу. Тиуна Софьина отыскали, с тем и толковали о чем-то. После, правда, тиуна того никто и не видел.
Выехав с Софийской стороны, проехал Олег Иваныч чрез мост на Торг, да далее — по Лубянице. После свернул на Пробойную. Хотел поначалу — в церковь Иоанна-на-Опоках к купцам «ивановского-ста». Вопросик один надобно было разрешить — качался на волнах у Софейского вымола один мелкий такой кораблишко, потрепанный. «Пленитель Бурь» назывался. Шкипер Свенсон уже с неделю пьянствовал, с Ладоги. Как бы медь не пропил, с него станется, хоть и неплохой вроде мужик. Куда, интересно, ивановцы эту медь сдадут? Кому она нужна-то? Ясно кому — оружейникам, к примеру. Оружейникам… Так какого хрена он тогда к купцам едет? На Торг, потолкаться! Стоп… Нет, не нужно на Торгу с медью светиться. Там купеческих агентов хватает. Хорошо, хоть пока не выяснили — что за кораблишко. Свенсон всем заливал — с селедкой да сукнами — ну, и того было маленько. Но главное — медь. С крупного-то гешефта — и комиссионные крупные. А деньги — они не лишние, тем более что борьба со Ставром впереди. Вернее, новый ее виток. И наживать себе врагов в лице богатейшего новгородского купечества — «ивановского ста» — очень уж Олегу Иванычу не хотелось. Но и заработать хотелось не меньше. На меди-то…
Повернул коня Олег Иваныч и поехал себе к Большой Московской дороге. По Пробойной, мимо Дмитрия Солунского церкви да мимо церкви Климента. Вот и Федоровский ручей, печально знаменитый — давненько в нем — тьфу-тьфу-тьфу — истерзанные трупы не всплывали. Усадьба Ставра — новые ворота, медью обитые, еще какую-то башню мужики строят, ругаются… За ручьем — купол церкви Федора Стратилата сияет, солнцем озаренный, вокруг деревья, цветы. Народишко снует взад-вперед — место людное! Вот и Щитная… Там, вдали, — усадьба и мастерская оружейника Никиты Анкудеева. Того самого, что когда-то шпагу ковал Олегу. Знатный оружейник Никита, не хуже каких нюрнбергских. И клинок был знатный. Новгородской стали… Как сам Олег Иваныч.
Оружейника Олег Иваныч застал в кузне. Зажав щипцами алую раскаленную полосу, он осторожненько постукивал по ней молоточком — тут же ухали кувалдами два оглоеда-молотобойца — только искры летели.
Увидев Олега, кинул Никита полосу в чан с водой — зашипело, забулькало. Отложил молоток в сторону, прядь волос черных со лба откинул, взглянул, прищурившись. Узнал.
— Разговор есть, — поздоровавшись, тихо сказал Олег Иваныч.
В усадьбе, что на углу Пробойной улицы и Федоровского ручья, стучали топоры — плотники возводили воротную башню. На совесть работали — хозяин, боярин Ставр, платил справно. Немного и работы осталось — завести стропила да поставить крышу — и ни пеший, ни конный мимо усадьбы не проскользнет незамечен…
Вечерело. Хоть и светлы уже ночи были, а все ж — не день. Давно уж отзвонили к вечерне. Возвратившись со службы, прошли, гомоня, люди, всадники проскакали. Стуча колесами по бревнам мостовой, проехали последние повозки. Стихло все. Лишь пересвистывались в черных кустах ночные птахи, да в заросших буйной осокой берегах Федоровского ручья глухо квакали лягухи.
Боярин Ставр, в алых сапогах узорчатых, в домашнем аксамитовом кафтане цвета закатного неба, довольно потирая руки, прошелся по горнице. Потянулся, повертел шеей, бородку задрав холеную — взял с полки шкатулку резную, драгоценными смарагдами украшенную.
Открыв шкатулку, вытряхнул на стол квадратики берестяные: «житий человек Олег», «Гришаня-отрок», «Софья»… Посмотрел на имена, усмехнулся. Свечи велел зажечь. По очереди сунул все квадратики в пламя, чуть не обжег пальцы. Засмеялся. Зашарил глазами по потолку, по стенам. Снял с крюка кнут, вдарил с размаху по лавке. Оловянные глаза боярина постепенно наливались кровью.
— Эй, Митря! Тимоха! — распахнув сапогом дверь, вскричал.
Тут как тут — явились. Тимоха Рысь — в рубахе красной, на вороте распахнутой, сам от жары потен, цыганистая бородища растрепана. Митря Упадыш, плюгавец юркий, бороденка трепещет козлиная. Поклонились разом низехонько:
— Звал, батюшка?
— Звал, звал, — поигрывая кнутом, усмехнулся Ставр. — Кнутец сей обновить бы надобно.
Митря с Тимохой осклабились, кивнули понимающе:
— Иматого с поруба тащить, батюшка?
— Тащи, что спрашиваешь? Поговорим, как раз время есть.
Одними губами улыбнулся боярин — в глазах оловянных лютая злоба стояла. Снова прошелся по горнице, кнутом поигрывая. Сапогами попинал лавку. Что-то долгонько ходят… Не случилось ли что?
А так и есть!
Случилось!
Разом ворвались в горницу, с порога кинулись в ноги:
— Не губи, боярин-батюшка! Сбег, песья морда!
Только плюнул боярин. Ну и людишки подобрались у него, простое дело — уследить ни за кем не могут! Зря только жито боярское жрут, сволочуги ленивые!
— Сгною, рыла холопьи! Проверьте все хорошенько — может, не сбег. Может, здесь где таится!
Поклонившись, убежали шильники. По крыльцу сапожищами затопали, на дворню заорали. Ну, пусть… Ух и люди… Тьфу!
Поймают — не поймают — пес с ними. Не то сейчас главное.
Успокоился боярин, кнут на стенку повесил аккуратненько — пускай повисит маленько, потом всяко сгодится. К двери подошел, отворил, прислушался — нет, никто в людской не стоит, не подсматривает — мнительным стал в последнее время боярин. Запахнул дверь плотненько, засовчик задвинул. Обернулся — вздрогнул, за нож схватился! Почудилось, будто тень какая мелькнула… Да тень и есть, его же, боярина Ставра, тень. Вон, пламя-то в свечках играет — вот и чудится всякое. Взял боярин с резного шкафчика кувшинец малый — в чарку налил, выпил единым духом. Медок стоялый, духовит, крепок… Подумав, еще плеснул боярин. Успокоился. Подошел к столу, поднатужился — столешницу отодвинул. Схрон тайный в том столе оказался. Никто про то не знал, кроме самого Ставра. Ну, Митря еще, Упадыш, как-то раз тот схрон обнаружил, но о том помалкивал, знал — не простит боярин. Из схрона шкатулку вытащил Ставр — большая шкатулка, крепкого дерева — с замком хитрым, новгородскими кузнецами за большие деньги кованым. Ключ достал, отпер. Высыпал прямо на стол грамоты берестяные, на лавку уселся, взял одну…
«Дано старосте Плотницкого конца Кириллу, сыну Анфимьеву, два сорока серебряных денег новгородских, да Аниките, сотскому, полсорока денег новгородских, да Онисиму с Ифроимом, мужикам голосистым, по три денги кажному. В том все расписку творили да на Святом Писании поклялися. Кричать будем на вече за Ставра боярина».
— За Ставра-боярина, — вслух перечел Ставр последнюю строчку. — Так-то!
Потянулся довольно, повеселел. Новую грамотицу из кучи вытянул.
«Михайло, церквы Вознесения, что на Прусской, диакон в том роспись дает и Святый крест целует, что все деньги выданы и все людищи на вече кричати будут Ставра-боярина».
Ставра-боярина!
«От Климентия, диака, росписка, куды денги потрачены:
— Ифантьеву Ивану, сбитнику, чтоб на Торгу кричал за Ставра;
— Козину Шумиле, рыбнику, рыбакам бо грил, Ставр-де, боярин, новый вымол супротив Щитной выстроит, да уплату за рыбную ловлю снизит;
— Климину Евфиму, писарю посадничьему, за писаные листы прелестные;
— Жураву Ремину — за то же;
— Игнату Паршину, сотскому — вся сотня за Ставра кричать будет.
Всем — по три деньги новгородских. Паршину Игнату — одна, да десять обещаны, как выкрикнут. Да мелкие монеты медяхи ребятам малым — чтоб пуще по Ярославову дворищу, где вече, бегали да Ставра кричали».
Улыбался Ставр, грамоты те читая — вот он, пост посадничий! Вот она — власть-то, близко-близко! Только руки протяни — и бери, владей, властвуй! А уж как станет посадником — ужо поприжмет неугодных-то людишек. Кому батогов, кому нос рвать, а кому — и головенку с плеч! Так-то!
Полюбовался Ставр на грамоты, сложил все в шкатулку, запер. Схронец столешницей забронил тщательно. Засов отодвинув, распахнул дверь:
— Митря!
Затопал сапожищами, прибег Упадыш, Митря. Сразу в ноги пал, чувствовал, что виноват, собака!
— Нашли?
— Ищем, батюшка! Как сыщем, все жилы вытянем!
— Сыщите сперва. Кто еще в посадники хотел, вызнал?
— Вызнал, батюшка! Епифан Власьевич, боярин с Неревского!
— Хм… Епифан Власьевич, говоришь?
Ставр задумался, встал с лавки:
— Вот что. Добежишь завтра к Климентию-дьяку, скажешь: пусть все людишки его говорят везде — боярин-де Епифан Власьевич обеднел давно, да посадником хочет стать, чтобы деньги себе имати бесчестно. Еще пускай говорят, будто нездоров сильно Епифан Власьевич, да худороден, да пьяница, да на соль пошлины поднять замыслил. Да еще пускай про нынешних посадников скажут, Дмитрия Борецкого да Василия Казимира — дескать, к латынству дюже склоняются от веры святой православной… Запомнил?
Митря кивнул, подобострастно глядя на боярина.
— Так и скажешь. Да! Не жди-ка завтра. Сейчас и скачи к Климентию-то. Возьми вон еще серебришка. Ну, чего встал?
— Мужики с посаду Тихвинского по торжищу сей день бродили. Спокойно все в Обонежье Нагорном, тишь да гладь, батюшка!
— Это хорошо, что спокойно. Скоро наведаемся туда, Митрий. Готов будь. Серебришко пополним, а то поиздержались все, да… да навестим кое-кого в Куневичах. Ох, навестим. Ужо разгуляемся! Там и спытаем кнут новый… ежели здесь, по милости вашей, не придется!
— Не гневайся, батюшка!
— Ладно. Встал, да в путь побыстрее. Дворне скажешь — шильника беглого пускай без тебя ловят. И Тимохи, чай, хватит.
Стрелой быстрой, татарской, вылетел из горницы Митря. Прогрохотал по крыльцу сапогами — на бегу запнулся, сердешный — так и скатился вниз по ступенькам, морду в кровь испохабив. Да на то вниманье не обращал — юшку рукавом утерев — на конюшню подался. Заорал, чтоб ворота поскорей открывали. Коня плетью стегнув — на дыбы конь, да ржать, — выехал. Поскакал, только грязь из-под копыт по сторонам полетела…
Покуда боярин Ставр деятельно планировал черный пиар и подкуп избирателей, житий человек Олег Иваныч Завойский тоже не терял времени даром. Зарабатывал денежки на контрабандной кипрской меди. Ну, это она для Ганзейского союза контрабандная, а в Новгород вошла честь по чести — как положено, с пошлиной за каждый ласт. А что ивановские купцы части навара лишились — так это никакое не нарушение законности, а чисто коммерческий акт. Зато оружейники со Щитной дешевую медяху получили, вернее — получат еще. Вот только повозки бы раздобыть где…
Под вечер подъехал Олег Иваныч на Торг. Коня привязав, потолкался… Эх, был бы Олексаха — враз бы повозки нашлись, да еще б и на выбор. Тот-то пройдоха все торжище знал. Жаль, не судьба Олексахе-то вышла. Панфила попросить, Селивантова, старосту купеческого… Тоже не вышло — приказчик сказывал — закупил-де Панфил Акимыч на Щитной замков да иного какого товару на две лодьи — самолично к свеям отправился, в Выборг-городок. Что ж, не вовремя Панфил в Выборг свалил, ну да ладно — видно, самому мажорить придется.
Жара стояла страшная — к грозе, видно. Душно было, не продохнуть. Уж на что Олег Иваныч кафтан надел летний, цвета сирени, невесомый почти что, да рубаху чистую, льняную — а и то упарился, пот по щекам стекал противно. За пояс наборный, рядом с мечом узким, из Ревеля с собой привезенным, белую тряпицу засунул — пот с лица вытирал. Хоть и не любили новгородцы спать после полудня, как на Москве принято, по-европейски жили, а все же пустело постепенно торжище, к вечерне дело шло. И рыбники давно расторговались, и пирожники, и оружейники. Эдак скоро совсем пусто будет. Неужто никому товар перевезти не надо?
Олег Иваныч подозвал квасника. Испил — скривился, кислый квасок попался да теплый — нагрелся от жары-то. Подался на Ивановскую да к Лубянице — к складам. Суетились людишки-то. Товарец — вроде как кожи — на телеги сгружали.
— Бог в помощь, работнички! Откель будете?
— И тебе того ж, человече! Деревские мы… Боярина Арбузьева люди.
— А старшой ваш где?
— Вона, у Дмитровской церквы! Мужика, кушаком красным подпоясанного, видишь? То он и есть. Звать Федором. Подойди, ежели дело какое.
Поблагодарив мужиков, Олег Иваныч направился в сторону Дмитровской церкви, что упиралась прямо в Ивановскую улицу. Недалече тянулись амбары.
Федор, старший приказчик боярина Аникиты Афанасьевича Арбузьева, — оказался мужиком тороватым — с понятием. Из тех, что ложку мимо рта не пронесут. Узнав Олега Иваныча дело, задумался… Конечно, хотелось бы лишнюю какую деньгу срубить. Да вот обернуться ли к ночи-то…
— Да ночи-то светлые!
— А стража уличная?
— С уличными договоримся!
— Ну, ежели так…
— Так, так! Не думай… По рукам, что ли?
— А! Где наша не пропадала. Эй, мужики, грузи веселей! Сейчас товар на Лубяницу отвезем — и с тобой, к вымолу.
— А далеко ль на Лубянице-то?
— Да не доезжая до церкви Луки. Управимся быстро, ты жди.
Когда управились — резко стемнело. С юга наползала на город темно-сизая туча. Погромыхивало уже где-то за Славенским, вот-вот — и гроза.
С опаской поглядывая на тучу, деревские мужики нахлестывали лошадей — торопились успеть до дождя-то. Тяжело груженные повозки постукивали колесами по бревнам мостовой. В повозках, накрытая рогожей, позвякивала кипрская медь. Рядом с передней телегой, где сидел и старшой Федор, ехал на кауром коньке Олег Иваныч — дорогу указывал. Федор иногда оборачивался недовольно — в последнюю-то телегу уж больно многовато нагрузили, еле прут лошадки-то, как бы ось не лопнула. Да и туча еще — прямо над головою уже, вот-вот грянет!
— Выгрузим — денег прибавлю, — пообещал Олег Иваныч. — На ухаб бы какой не наскочить только.
Сказал — и как сглазил!
Как раз въехали на мостик через Федоровский ручей. Первые-то телеги прошли и да расшатали на съезде бревнышки — давненько уж мост ремонтировать надобно было, да все у посадника руки не доходили. Выскочило бревно, яма образовалась на съезде. Да темень кругом — зги не видно. Вот в эту-то ямину последняя телега и ухнула. Так ось и треснула! Завалился передок — медь покатилась. Мужики кинулись собирать. И тут ка-ак полыхнет! Молния-то!
Ударила где-то рядом с Федора Стратилата церковью. Гром грянул — страшный, аж уши у всех заложило. Ну… и хлынуло, само собой. Разверзлись хляби небесные!
Повернулись мужики к церкви — еле во мгле водяной угадываемой — закрестились, молитву творя. Опять полыхнуло, спаси, Господи, твоя воля!
— Ну, давай, давай, мужички, немного осталось!
Повернув прядавшего ушами коня, проехался вдоль повозок Олег Иваныч. Да и не надо было мужиков поторапливать — и так торопились, вымокли уж до нитки, да и страшно — вона, молонья-то хлещет, за грехи наши!
Посовещавшись с Федором, поломанную телегу решили пока оставить с парой человек для охраны. А уж как те телеги выгрузят — в них оставшуюся медь и довезти, а эту после чинить, иль — ежели не уймется гроза — с собой увезти на пустых повозках.
Так и поступили. Пока ехали по Московской дороге, всадники их обогнали — на возы щурились подозрительно. Потом обратно поскакали, навстречу. Они же… А может, и другие кто, — темень да дождина хлещет, — дома сиднем сидеть в этакую-то погоду, квас исполненный с горячим сбитнем прихлебывать. Пронеслись всадники. Олег Иваныч посмотрел им вослед подозрительно. Мало ль — медью, в телеге-то поломанной на дороге оставленной, прельстятся. Кто их знает… Добрый человек в такую погоду подобру-поздорову по улице-то не рыщет…
— С усадьбы какой-то люди, — как остановились на Щитной пред воротами оружейника Никиты Анкудеева, пояснил один из возчиков. Он по пути успел со всадниками словами перекинуться. — Шпыня какого-то те искали. То ли украл что шпынь тот, то ли боярских девок изобидел.
— Ну, то, конечно, их дело, пущай себе ищут, — задумчиво произнес Олег Иваныч. — Однако повозка-то на мосту, считай, брошена. Что там два человека… Как бы не прельстились.
— Могут, — узнав, в чем дело, кивнул головой подошедший оружейник Никита. — Я б на твоем месте проведал. Да постой, сей раз подмастерьев кликну. Эй, робяты!
Вместе с двумя подмастерьями Олег Иваныч рысью помчался обратно к мосту. Тугие струи дождя хлестали прямо в лицо, под копытами чавкала грязь, в темно-фиолетовом небе сверкала молния.
Двое молодых парней, оставленных Федором сторожить упавшую медь, хоронились невдалеке, под деревьями, что росли близ церкви Федора Стратилата. Все не так мокро, хотя… Главное — не так страшно, все ж таки Божий храм рядом. Телегу поломанную плоховато, правда, видать было, да кому она нужна-то? Вон, промчались в ближайшую усадьбу всадники, да снова стихло все. Один гром гремел превелико. Почудилось вдруг одному из парней — будто выбралась прямо из Федоровского ручья чья-то смутная фигура. Осмотрелась вокруг и юркнула под рогожу в сломанную повозку.
— Смотри-ко, никак шпынь какой!
— Блазнится тебе все. Кому надо-то? Из ручья тем более… Водяной, что ли?
— А может, и водяной! Али еще какая нечисть…
Переглянувшись, оба парня принялись часто креститься на церковный купол.
— Эй, ухари! — вдруг резко окликнули их с дороги. — Телега-то на месте хоть?
— Там. Куды ей деться…
Парни неохотно выбрались из-под деревьев навстречу всадникам. Подумав, сообщили и про водяного. Кто его знает, а вдруг?
— Водяной, говорите? — Олег Иваныч подозрительно взглянул на парней. — Да еще — из ручья выпрыгнул? Брехня! Водяным наша медь без надобности. Однако посмотрим.
Спрыгнув с коня, Олег Иваныч нагнулся к телеге и резким движением сдернул рогожу.
— Стойте все где стоите!
С криком метнулась из телеги мокрая — вся в тине — фигура, навалилась на Олега Иваныча, приставив к сердцу острый засапожный нож. Действительно — водяной, ну ни фига себе, заявочки! Ох, зря Олег Иваныч кольчужку сегодня не поддел под кафтанец, жары побоялся. Вот надел бы — гораздо легче с водяным разговаривать было б! А тут…
— Отойдите, отойдите, ребята! — обернулся Олег Иваныч к подмастерьям. Кто их знает — кинутся еще, делов наделают. А с водяным сейчас договоримся, что-то ведь надо ему? Иначе с чего б из ручья выныривать? Однако странный ножичек у него — никакой и не засапожный…
В призрачной вспышке молнии явственно блеснуло широкое — с ладонь — лезвие… Дагасса! Рыцарский кинжал с широким узорчатым лезвием. Вещь не дешевая. Откуда он здесь, у этого чертова водяного?
Олег Иваныч поднял глаза. Ну и рожа, прости Господи! Вся в тине, мокрая, зеленая, исхудавшая. Одни глаза блестят… А рожа-то знакома!
Еще раз сверкнуло…
Олег Иваныч не поверил глазам. Невероятно… Быть того не может.
— Олексаха, ты ли?
Водяной вздрогнул. Сверкнул страшно глазами — то молния отразилась. И вдруг, бросив дагассу, с ужасным воплем бросился прочь.
— Упырь! — громко кричал он, развивая невероятную скорость. — Упырь!
Олег Иваныч вскочил на коня, бросил подмастерьям, чтоб перегружали медь, как подойдут телеги.
— Я — скоро! Посмотрим, кто из нас упырь…
Покрытый болотной тиной, Олексаха, немного пробежав по Московской дороге, резко свернул на улицу Федорова, что тянулась параллельно ручью. Дождь лил уже меньше, и гроза вроде бы переставала — поднявшийся ветер медленно сносил тучу на запад, куда-то за Неревский конец.
— Эй, Олексаха! Постой! Да погоди же! Ну, блин, марафонец хренов…
Услыхав последнюю фразу, Олексаха неожиданно остановился:
— Ну-ка, повтори, нелюдь!
— Сам ты нелюдь! Чего обзываешься?
Медленно, недоверчиво взирая на Олега Иваныча, Олексаха подошел ближе и вытащил из-под рубахи нательный крестик.
— Изыди, сатана!
— А вот фиг тебе! Не изыду!
Олег Иваныч передернул плечами, но с лошади не сошел, чтоб не спугнуть Олексаху. Тот сделал еще пару шажков. Остановился:
— А ну-ка, перекрестись!
— Да пожалуйста, жалко, что ли?
Олег Иваныч размашисто перекрестился и, в свою очередь вытащив из-под рубахи крест, продемонстрировал его Олексахе:
— Ну, теперь-то признал?
— Признал, — широко улыбнулся парень. — Я уж думал, Олег Иваныч, сгинул ты в пучине морской, а ты вон…
По щекам парня потекли слезы.
Олег Иваныч слез с коня, обнялся с Олексахой.
— Эх, паря, ты даже не представляешь, как же я рад тебя видеть. Что же с вами тогда случилось?
— Да ничего, — Олексаха пожал мокрыми плечами. — Словили нас разбойные рожи. Софью-то потом выкупили, а Гришаня… похоже, того… сгинул…
— Ладно, после обскажешь, в подробностях, — Олег Иваныч сжал губы. — Сейчас закончу небольшое дельце и — ко мне! Там и поговорим ладом.
Уже под утро, в чистых сухих рубахах, они уселись за стол в Олеговой горнице, на углу Ильинской и Славной. Старый, скособоченный от ран служка Пафнутий растопил печь, выставил яства, плеснул березовицы пьяной.
Пираты Хорна ван Зельде настигли их почти сразу — как только набежавшая волна скрыла лодку с Олегом Иванычем. Опытный ван Зельде быстро разгадал их замысел — да и какой еще другой план мог быть у находящихся на острове пленников? Они и не сопротивлялись особо, потрясенные страшной смертью Олега — все хорошо видели, как треснула, напоровшись на камень, лодка и синяя морская пучина поглотила обломки…
Их, Олексаху с Гришаней, хорошенько избив, бросили в подвал, а Софью вполне учтиво препроводили в комнату. В ту же, где она и была. Примерно где-то через неделю приплыли на шебеке посланцы. Сам-то Олексаха их не видел, Гришаня рассказывал, его толмачить брали. Трое — новгородцев, остальные — немцы из Нарвы. Сказывали, что рыбаки, хотя неизвестно еще, что это за рыбаки такие были. Когда прощались с Софьей, и Олексаха их увидал. По рожам — сущие разбойники. Особенно один — с родинкой во всю щеку…
— Не, не как у тебя, Олег Иваныч, боле гораздо! Вот уж поистине — бог шельму метит.
В общем, увезли Софью. Та напоследок просила ван Зельде подождать немного. Дескать — сама роду в Новгороде не последнего — выкупит Олексаху с Гришаней, уж на такое дело всяко денег найдет. Ван Зельде кивнул милостиво — хоть и жесток был, сволочь, а все ж выгоду свою знал. Получше к пленникам отношение стало: из подвала сырого в светлицу перевели, окна, правда, ставнями заложили — да все лучше, чем в подполе-то. Тут на море бури начались, с неделю ветра буйствовали. Вот всю-то неделю и не разбойничали пираты — сидели тихонько на острове, бездельем маялись. Сам ван Зельде в каморку к пленникам зачастил — с Гришаней в шахматы игрывал. Один не ходил, однако — осторожничал. Завсегда пара оглоедов с мечами да копьями у стен стояла — глазищами зыркали. Гришаню, что ли, паслись эдак, иль Олексаху — бог весть. Потом кораблишко в гавань пиратскую заскочил, от непогоды укрыться. Большой корабль, высокий — «карвель» называется или вроде того. Польский. Именем — «Мария Магдалина». Шкипер — ван Зельде знакомец давний — видно, раньше вместе пиратствовали. С ним пара знатных поляков — шляхтичей. Ходили по пирсу — разодеты, что твои павлины — звенели саблями. Потом напились пьяными — песни горланили. Ван Зельде с одним шляхтичем, который еще на ногах держался, к пленникам поднялись — в шахматы поиграть. Шляхтич, уж на что пьяный, а как увидел Гришу — аж ус у него задергался. Подмигнул зачем-то отроку. Ван Зельде скоро играть надоело — шляхтич за доску сел. Ван Зельде смотрел сперва, таращился, потом рукой махнул, ушел. С ним и охранники его. Шляхтич, как один остался, протрезвел весь… А ну — говорит — Григорий-свет, рассказывай, как тут очутился да как его друже пан Завойский поживает. По-русски балакал шляхтич-то, смешно правда, но ничего, понять можно.
Гришаня и поведал все, в краткости, ясное дело. И про то, как пан Завойский поживает. Никак уже, похоже, не поживает, сгинул в морской пучине!
Услыхав про то, шляхтич кулаком по доске шахматной двинул — аж фигуры полетели — видать, расстроился сильно. Потом на нас посмотрел, сказал, чтоб ждали… Чего только — не сказал. Его Кшиштофом звали, шляхтича-то. Шкипер, сказал, на «Марии Магдалине», сволочь редкостная, однако и пьяница. Сейчас с ван Зельде ужрались, а утром в путь надо, в Познань, в «ридны пенаты». Так что — ждать велел…
Гришаня обрадовался, заходил по каморке, что твой кот мартовский. Только что не хвост трубой. К утру явился-таки шляхтич — не обманул. Друзьям Олега Иваныча, говорит, все сделаю и даже того больше, помогу, как смогу, из плена пиратского выбраться. Сказал — сделал. Одежку принес — плащи с капюшонами. Подмигнул, пошли, мол. На корабль весело шли — песню орали. Какую-то «Зборовскую». Сзади четверо шкипера тащили. Изрядно храпел шкипер-то, да иногда, просыпаясь, ругался. Диавола поминал, словно отца родного, прости господи! Погрузились на корабль — отчалили засветло. Буря-то кончилась, нам во благо. Как вышли из бухты, парусами ветер хватанули… Уж на что хольк или фрейкогг кораблишки быстрые, а уж этот… «карвель» — не плыл — летел птицей небесной! Хорош корабль, сказать нечего. Пушки по бортам велики — не то что кулеврины на «Благословенной Марте», вечная будь память купцу Иоганну Штюрмеру да его команде, шайкой пиратской убиенной. А перестроили разбойники «Благословенную Марту»-то — надстройки снесли — пушек понаставили, — куда как грозен стал кораблишко — но, конечно, не чета «Марии Магдалине».
Ну, погони-то мы с Гришаней не ждали — пойди-ка, угонись — но, грешным делом, думали — проспится шкипер, за нас примется: кто таковы да откель… Кабы еще не надумал повернуть обратно — дружку своему, ван Зельде, нас возвернуть. Ничего подобного! Кшиштоф и скрывать не стал, кто мы с Гришаней такие. Так и сказал — от ван Зельде пленники беглые. Шкипер смеялся долго — аж покраснел весь. Ван Зельде-то, оказывается, у него в прошлый вечер все золотишко в кости выиграл — совсем, можно сказать, без порток оставил. Шкипер наш его все каким-то мудреным словом называл — каналья. Радовался, что «эта каналья ван Зельде хоть что-то потерял»! Так и плыли, весело. В Познань придя, простились с Кшиштофом. «Мария Магдалина» на следующий день с утра дале отправилась. То ли в Данию, то ли в Англию. В каперы наниматься, чтоб не так просто разбойничать, а по грамоте королевской. Хотя — разбой, он и есть разбой, хоть по грамоте, хоть как… А мы с Гришаней в Данциге на нарвское суденышко сели. Хорошо — Кшиштоф на дорогу серебришка подкинул, не пожадничал — вот ведь душа-человек, хоть и поляк да католик. Ну, люди, они разные бывают. И в басурманских странах хорошие есть, и на Москве, не только в Новгороде, где и шильников всяких хватает, типа боярина Ставра да людишек его непотребных.
Пришли в Нарву, к причалу встали обгорелому. Третьего дня — ратманы сказывали — побоище там было великое. Пираты какой-то кораблишко решили прямо в гавани захватить — совсем обнаглели! Всю ночь бились, хорошо — доблестная нарвская стража вмешалась — утихомирила разбойников. Так и всегда бы…
Попутного судна до Новгорода так и не дождались. Рыбаки сказывали — незадолго до нас ушел. Какой-то «Пенитель Бурь»… Или «Пленитель»… да пес с ним. Решили с Гришей посуху добираться. Сначала до Пскова — а там уж дорожка знакомая.
Долог выходил путь-то, быстрее хотелось. А как быстрее-то, ежели не на корабле каком? Гришаня и говорит: давай, мол, обождем чуть, вон, с рыбаками — те всю ночь костры жгли, рыбу коптили — хоть денек высидим, а там посмотрим. Не будет ничего подходящего, тогда уж — посуху. Уговорил… на свою голову…
Олексаха отпил березовицы, поморщился…
— Эх, знал бы, Олег Иваныч, наперед, как все сложится-то.
А складывалось все поначалу неплохо. На следующий день, к обеду, подошел к пирсу двухмачтовый когг. Гришаня побалакал с матросами — те в Выборг шли, городок свейский. Не совсем чтоб по пути — однако у Невы-реки высадить могли вполне. Ну, а там уж — с рыбаками чудскими — и до Ладоги недалеко. А Ладога — это уже почти дома. Осталось со шкипером договориться — денег-то маловато осталось. Согласится ли?
Когг тот поутру отплывал, матросы с него приходили к кострам рыбацким, сказывали, шкипер-де порядок любит, оборванцев каких не возьмет. А мы уж и поизносились с Гришаней-то, шутка ли, столько времени незнамо где прошлялись, в баню не ходивши — только волнами морскими и мылись. Поспрошали, Христа ради, у рыбаков, у кого что найдется. Люди хорошие. Кто шляпу дал, кто плащик, кто башмаки. Приоделся Гриша, на когг пошел, договариваться. Сиди, мне сказал, на причале — только на вид не показывайся, шкипера собой не пугай раньше времени. Мне-то вместо него никак не пойти было — речи басурманской не знаю. Вот и таился на причале, за бочками, мало ли — сейчас отчалят. Махнет тогда Гришаня рукой — я и тут как тут, как договаривались… Не махнул Гриша! Вообще на палубу не вышел. Ни вечером, ни с утра… Как отходить стали — я уже неладное почуял — на борт ринулся… И получил багром по башке. Свалился с пирса — не рыбаки бы — не выплыл. А того шильника, что багром меня стеганул, — узнал. Родинка у него — с полщеки. Тот самый, что за Софьей приезжал, к ван Герзе!
Так и пропал Гришаня. Не знаю — жив ли.
Олексаха горестно покачал головою.
— Будем надеяться, — встав с лавки, отозвался Олег Иваныч. — Тебя-то я тоже в живых не чаял увидеть, а вот, вишь ты… Домой иль к Настене своей не ходил ли?
— Нет, — Олексаха покачал головой. — Был соблазн… да Ставровых пасся. Митря-то меня еще на Московской дороге приметил, как шли с обозниками. Я ж потом посуху добирался. Ну и… как ни пасся, а все равно — спеленали, ровно кутенка какого. Хорошо — гроза да темень — не то так и не убег бы…
— Захаживал к Настене твоей, на Нутную… с неделю тому. Сказывала Настена, человечек к ней приходил неприметный… про тебя выспрашивал. Так же и к родичам твоим на Кузьмодемьянскую приходили. То Ставровы люди. Явился бы — враз поймали. Меня вон пока опасаются трогать. Да, чую, недолго то. Вот станет посадником Ставр — и сгноят нас с тобой в порубе — ежели сразу главу не отымут. Меня — за убийство, тебя… найдут за что Ставровы-то… мало ты им насолил, что ли.
Они проговорили до самого утра, до первых лучей солнца. Только когда запели на соседних дворах петухи, улеглись. Олексаха — в людской, Олег Иваныч — у себя в горнице. Долго заснуть не мог — не знал, печалиться вестям Олексахиным или радоваться. А ведь жива, выходит, Софья-то! А значит, даст бог — свидимся! Эх… Стан тонкий, кожа — будто шелк, волосы — волной золотой — глаза карие, теплые… Эх, Софьюшка…
Так и промаялся до утра Олег Иваныч. Все о Софье своей думал.
Утром, как встали — решили: нельзя Ставра в посадники допустить, то верная им погибель! А раз решили — делать надоть. Заседлал Пафнутий каурого — поехал Олег Иваныч на владычный двор, к Феофилу. Уж кто-кто, а Феофил-то давний враг Ставров. И ему посадник такой без надобности.
Поговорив с Феофилом, Олег Иваныч развил бурную деятельность. Во-первых, зашел к владычьим дьякам, пошептался. Во-вторых, к оружейникам на Щитную съездил. В-третьих — к рыбакам, на Софийский вымол. В-четвертых — на Прусскую, в церковь Святого Михаила, к пономарю Меркушу, давнему своему агенту. В-пятых… в-шестых… в-десятых…
По всему городу мотался Олег Иваныч — у Ставра врагов хватало. Даже к Борецким заезжал, к Марфе, прежнего посадника Исаака Андреевича вдовице, матери нынешнего Дмитрия. Обещала Марфа помощь оказать посильную — не лежала и у нее душа к пройдошистому боярину…
На следующее утро, с ранья прямо, Олексаха на Торг подался. Рисковал, правда, да уж ничего, обошлось.
К вечеру по городским концам активно поползли слухи. На Неревском конце поговаривали, будто хочет Ставр-боярин храм Козьмы и Демьяна срыть, да в том месте хоромы свои поставить. На конце Загородском твердили, что не только Козьмы и Демьяна, но и Георгия, и Пантелеймона. Все сроет Ставр-боярин, как только посадником станет. А на Людине-конце судачили, что Ставр-де головой нездоров — в детстве об лавку ударился. На Плотницком утверждали, будто Ставр чернокнижием занимается да колдовством, для той цели и башню себе над воротами строит. А на Славне некоторые божились, что самолично видали, как боярин с той башни на метле летал! А с метлы той искры красные сыпались! Вот страхи-то, спаси господи…
Крестились старухи в церквях, а случись Ставру-боярину проезжать мимо — пальцами на него показывали да клюками потрясали гневно.
А на Торгу-то что творилось! Рассказывали, будто Ставр в латынство впал и к стригольникам переметнулся. Да мало того, еще и волхвует на башне своей. Рыбаки на вымоле Софийском сказывали — трубу диавольскую купил Ставр у голландских немцев и с башни своей богомерзкой на небо по ночам смотрит — то дьячок церкви Федора Стратилата самолично многажды видел. А может, и не дьякон. Может, и пономарь… али просто — прохожий… Но — видели, точно! Люди зря болтать не станут.
Ни днем, ни ночью не знал покою Олег Иваныч. Неделями напролет сочинял про Ставра разные небылицы, одну другой страшней да нелепее. О смысле не особо заботился — помнил Геббельсовы слова — чем невероятнее ложь, тем скорее в нее поверят. Так и действовал. Втихаря, никакими моральными догмами не смущенный. Борьба-то шла не на жизнь, на смерть!
И ведь возымела действие пропаганда Олегова! А как же! На то и расчет был.
Сперва забор на Ставровой усадьбе навозом обкидали. Потом — людишек его, камнями. А в одну из ночей — подожгли воротную башню. Чтоб на метле не летал да не смотрел на звезды…
И главное, никто ведь ни в чем и не обвинял Ставра. Так… пустые разговоры только… А что ворота пожгли — так народишко, известно, тупой да к бунту склонный. А так… На суд владычный вызывали? Нет. Обвинение в колдовстве да в ересях предъявили? Опять нет же! Так в чем же дело, уважаемый боярин Ставр Илекович? Спать не дают? Ну, это уж дела ваши. Можем стражу на ночь дать. Своя имеется? Ну, тем более…
Ни ночью, ни днем не спал Олег Иваныч, иногда кемарил только. И Олексаха не спал, и пономарь Меркуш, и бабка Игнатиха, что колдуньей считалась, и многие… Даже Варсонофий, бывший духовник владычный, ради дела такого с дальнего монастыря приехал. Все трудились, языков да перьев с чернилами не покладая. Знал Олег Иваныч — слухи подогревать надо. Тут только расслабься — враз вся работа прахом пойдет. Нет уж… Ни днем врагу покоя, ни ночью!
Посерел весь Ставр-боярин. С лица спал. С малой охраной куда выезжать — уж и не рисковал боле. Каменюкой кто-то один раз так приложил… Хорошо — в шеломе был воинском, а не то б…
В одну из ночей тихих да теплых не спалось Ставру. Сидел у распахнутого окна, что во двор выходило, думал думы свои невеселые. По всему выходило — не стоило спешить с посадничеством-то. Эдак пришибут еще камнем прямо на вечевом помосте. Нет, тут умней надо. Разобраться сначала, откуда слухи идут. Кто их распускает, лелеет, оплачивает. Потом найти этого доброхота да потолковать… Или — нет. Лучше сразу убить. Только не сейчас — сейчас рано. Весь Новгород пока против Ставра, за немногим исключением. Черт, и серебришко, как назло, кончилось. Надо ехать, запасы пополнить. Заодно — исчезнуть на время, затаиться. Слухи-то, они живой жертвой питаются… а как не будет никого, сами собой и заглохнут потихоньку. Чрез месячишко-другой и не вспомнит никто, что там про Ставра болтали. Да и не до того будет, ежели… Ой, ладно, болтать покуда рано. Исчезнуть, ускакать, уехать… Вернулся ли Митря, что к Климентию-дьяку с порученьем новым хаживал?
— Эй, Митря!
— Тута я, батюшка, — возник в дверях шильник. — Давно уж пришедцы…
— Так что сидишь? Ну, говори, что вызнал Климентий?
— Так то, батюшка, у него в грамоте писано…
Поклонился низехонько Митря, протянул грамоту березовую.
— Свободен покуда.
«Мисеон, послушник… говорил, что Ставр-де, боярин, на метле леташе. Об том ему сказывали на дворе владычном, кто — не помнит. На дворе владычном говорили, то им Геронтий сказывал, кат бывший. А кто кату так сказал, не знамо.
Феодосий-лодочник сказывал, что стригольник Ставр да колдун. То он от рыбаков слыхал, на вымоле Софийском третьего дня разговор про то был. Там и Григорий был, рыбак. Разговор тот слышал. Парень какой-то говорил, молодой, мужики про того парня сказывали — на торгу ране торговал сбитнем…»
Торговал сбитнем? Так-так…
«…бабе той про то сказывала Игнатиха-баба, колдунья…»
Игнатиха-колдунья…
«…и робяты те единодушно показали, что на Торге то слыхали от бывшего сбитенщика Олексахи…»
Сбитенщик Олексаха…
«…от Меркуша, пономаря…»
Пономарь Меркуш…
Снова Игнатиха, колдунья…
Опять пономарь…
А вот и Олексаха…
— Митря!
— Слушаю, батюшка.
— Бери Тимоху да прочих. Вечером приведете мне кого из этих… Только — смотрите, чтоб ни одна собака не видала!
— Сполним, батюшка, не сомневайся!
— Да уж, не будешь тут сомневаться с вами.
Настежь раскрыты ставни и у Олега Иваныча. Сидит, сердечный, упарился. Все сочиняет…
Олексаха неслышно вошел, присел рядом.
— Меркушу скажи, пущай грит, что Епифан Власьевич, боярин, пианица, а Борецкая Марфа — латынница, под Казимира похощет, Арбузьевы де — волхвуют да кудесничают… Про то все ему Ставровы люди говорить велели, денег посулив изрядно. Как кто спросит — чтоб так и отвечал.
— Так, Иваныч, то ж вчера еще сполнено! — удивился Олексаха.
— Да? Ну, что ж — то и к лучшему. Извини, заработался. Хошь, кваску себе плесни… вон, на столешнице.
— Не хочу я, Олег Иваныч, кваску. С делом пришел. Замыслил что-то Ставр — людишки его по вымолам да по Торгу рыщут, кто что кому сказал, выведывают!
Олег Иваныч потянулся, кваску испил из кружки.
— Рыщут, говоришь? Ай да Ставр — быстро опомнился. Но один черт — поздно. Посадником ему уж не бывать сей год, лучше для него — в тину уйти. Спрятаться, скрыться, затихариться где-то. Силы подкопить да деньжат. А вот к осени — и начать. Новый, так сказать, виток политической борьбы. Ставр не дурак — наверняка так и поступит. Ну, а мы ему сюрприз приготовим. Добавим к политической борьбе — классовую!
— Чтой-то я не все твои словеса понимаю.
— Бунтишко организуем, — охотно пояснил Олег Иваныч. — Небольшой такой, локальный. На берегу Федоровского ручья… Как раз к осени и займемся, сейчас пока нечего башку забивать. Как там с русалками?
— Девки готовы!
— Хм. Может, не нужно пока этого… лишнее.
— Да зачем же лишнее, Олег Иваныч, раз готовы-то?
— Что ж… В таком разе — пошмонаем врага в самом его логовище! Ух, как он нас с тобой ненавидеть будет!
— Так он нас и так не шибко любит.
— Это верно. Как Епифан Власьевич-то… точно приедет? Не приболел ли?
— Не, не приболел. Завсегда по пятницам к вечерне туда ездит.
— Ну и славненько. Однако — солнышко уж низехонько. Пора и нам. Пафнутий, седлай лошадей!
Пятничный вечер оранжевел садящимся за деревьями солнцем. Впитавшая недавний ночной дождь почва давно высохла, потрескалась, запылилась, но особой жары, слава Богу, не было. Так, теплынь. И — ни ветерка, ветви на деревьях повисли, словно неживые, те, что ближе к дороге ветки, — давно обломаны, от комаров отбиваться. Много их тут, у Федоровского ручья, комаров-то, ишь, воют, заразы, ровно волки, кровопивцы поганые.
В церкви Федора Стратилата благовестили к вечерне. Тянулся люд с Плотницкого — почитаемой была церковь-то, и не только с ближнего Плотницкого приходили — и с других концов тоже, да вот хоть с Прусской, боярин Епифан Власьевич, со чадами да домочадцами своими. Боярыни только не было — занедужилась, да дочек. А так — сыновья — малые еще отроки, однако же в седле держатся ровно, уверенно — видно, в отца пошли, знатного воина. Дороден был Епифан Власьевич, осанист. Да и храбр — легенды сказывали. И со свеями не раз на окраинах новгородских бился. И с московитами пришлось, лет уж пятнадцать тому минуло… Уж сыновьям скоро столь же, а все не забыть никак поражение позорное да мир Ялжебицкий с Василием Темным, отцом нынешнего московского князя. Всем взял Епифан Власьевич — и знатностью, и храбростью, и дородством, вот только умен был не шибко. Ну, ум-то большой, он ведь боярину-то без надобности, были бы знатность да вотчины. А они у Епифана Власьевича были. В задумчивости ехал боярин, рядом и детки его, малые отроки. Как к мосту чрез ручей подъезжать стали, младший, Ванятка, коня подогнав, к отцу подъехал.
— Батюшка, а мамка намедни сказывала, будто русалки живут в ручье Федоровском, боярином Ставром привороженные. Усадьбу его стерегут. Так ли?
Боярин чуть с коня не пал:
— Что ты, Ванюшка? Не видали тут никогда русалок…
И только он эдак молвил, как прям из воды на мост девица нагая выпрыгнула. С волосами распущенными, зелеными…
— Русалка, батюшка! Русалка! Ой, смотри, смотри! А ты говорил — не видали!
— Не меть в посадники, боярин! Откажися! — строго взглянув на боярина, погрозила пальцем русалка. — Пусть мой боярин Ставр посадником будет. А не то — сгублюу-у-у…
С этими словами прыгнула русалка обратно в ручей. Глянь — а там уж три такие… И в тину поплыли.
Епифан Власьевич не знал, что и делать. Только крестился мелко.
— Имаем, имаем их, батюшка! — детки закричали. — А то ведь извести обещали!
— Имать нечистую силу, имать! — заголосили в народе. А народу-то богато собралось. И парни какие-то, здоровенные оглоедища — дреколье уже где-то повыдергали. Словим, кричат, силу нечистую, во славу боярина Епифана Власьевича, защитника нашего!
Народу крещеному только крикни!
Враз от церкви поворотили. Вниз, к ручью… Большая толпа побежала. Впереди — Епифан Власьевич с детьми да слугами и парни с дрекольем.
— Вона, вона — хвостищем по воде плещет! — на бегу парни кричали. Дрекольем махали… Да как-то неловко — не столько русалок ловить помогали, сколько мешали наиболее активным ловителям. Не раз и не два уж дрекольем тем по ногам перепало. Со стонами в траве да осоке валялись. А и правильно — неча поперед батьки в пекло. Ишь, быстрее боярина решили поймать, ужо… Лежите теперь, загорайте. Чай — не зима, не застудитесь.
И вдруг — исчезли русалки. Вот только что были — били хвостами по тине — и нету их… И куда делись-то?
— Вон они, к Ставру на усадьбу по протоке поплыли!
— Вот он, Ставр-то, богопротивец, с кем дружбу водит! Недаром говорили про него люди…
Парень с дрекольем на боярина обернулся, Епифана Власьевича:
— Вон, Ставровы хоромины… там они… к хозяину своему нечистому возвернулись!
Застилось сердце боярина, выхватил из ножен кинжал:
— А ну, робяты, взыщем же бесовские русалии!
Парни, конечно, — в первых рядах. Боярину на подмогу. Ворота на раз вышибли. Ворвались на усадьбу. Дворня — по щелям разбежалась.
— Жги, робяты, притон колдовской!
Не заметили, кто и первый огонь высек. Да и ненадобно было замечать то. Епифан Власьевич разошелся — все крушил, что под руку попадало. Приговаривал с каждым ударом:
— Это за то, что извести меня захотел! Это — за посадничество! Это — за русалок нечистых! Это — за пианицу! Это — за дурака старого!
Эх и рубился Епифан Власьевич. Башню воротную — считай, один изничтожил. Только щепки кругом летели.
Детки боярские — Гриня с Ваняткой — только верещали счастливо, на батюшку глядючи…
— Слава боярину Епифану! Слава заступнику нашему!
— На посадника его кричать, на посадника!
— Да здравствует посадник Епифан Власьевич!
Ой, приятно старому ду… тьфу… боярину таковы слова слышать! Ой, приятно. Бальзам на душу. Да при детках еще родненьких. Вот уж поистине — не знаешь, где найдешь, где потеряешь. А ведь еще и ехать сегодня не собирался, хорошо, детки настояли — уж больно хотелось им на конях с тятенькой рядом проехаться.
Заполыхала бы усадьба Ставрова, доброхотами подожженная… ежели б не парни с дрекольем. По терему они уж прошмонали — нет боярина да людишек его разбойных, словно в воду канули. А жечь усадьбу — то дело лишнее — ну как огонь на соседние дома перекинется. Думать надо!
Про русалок и позабыли все. Кроме дедки одного, старенького, Евфимия. Давно он у ручья стоял с возком, неприметненько, русалок дожидаючись. Вот и дождался. Со смехом выбежали из кустов девки — тину с волос посмывали, ай, красавицы ядреные — титьки торчком, попки крепкие — дедко не удержался, шлепнул… Завизжали девки — дедку водой обрызгали, сами в возок — одеваться. Жаль вот, дедковы оглоеды с дрекольем запропастились на усадьбе-то. Ну да ладно — и пешком дойдут до дому-то, не велики бояре. А уж девки в ночь на Ивана Купалу нагуляются.
— Но, залетные!..
Губами чмокнув, тронул дедко Евфимий поводья — увез девок-русалок.
Парни его, оглоеды, припозднились. Олега Иваныча на Пробойной встретив — доложились, как и положено. Нет, мол, ни самого Ставра, ни людей его, ни вещиц каких интересных. То же и Олексаха, подбежав, сообщил. Уполз, мол, гад ядовитейший.
— Ну, а что вы хотели-то? — усмехнулся Олег Иваныч. — Ставр — не дурак, проигрывать умеет. Теперь ответного удара ждать надобно. Вот только б знать — откуда.
За Неревским концом садилось солнце. Играли в белесом выцветшем небе оранжево-алые всполохи. Ни туч, ни облаков не было — завтра день обещал быть таким же, как и сегодня.
Год почти, неожиданно для себя подумал Олег Иваныч. Да, почти год минул с того дня, как он оказался здесь, в этом загадочном и, на первый взгляд, непонятном мире. На поверку он не такой уж и загадочный оказался, а с течением времени стал и совсем привычным. Ничуть не хуже прежнего. Вот вызволить бы только Софью. И разыскать, если удастся, Гришаню. С внезапным воскрешением Олексахи вспыхнула в душе Олега угасшая уже было надежда. Вспыхнула с новой силой… чтобы, может быть, вскоре так же быстро угаснуть, теперь уже окончательно? Кто знает… Надо просто надеяться… Нет, не так. Не просто надеяться — действовать, молиться и верить. И да сбудется эта надежда. Аминь!
Глава 6 Июнь — июль 1471 г. Шелонская битва
Мы дрались легко и честно,
И это было прекрасно.
И часто в бою казалось —
Победа в руки давалась,
И нужно самую малость —
Казалось…
А что осталось?
Андрей МакаревичВидеть главную причину войны 1471 года в Новгородской «измене» и «латинстве» можно только в том случае, если следовать тенденциозной и противоречивой версии официальных московских источников.
Я. С. Лурье, «Русь 15 века…»Великая сушь опустилась в то лето на Новгород, на пригороды его и пятины. После майской грозы ни единой капельки не упало больше на землю. Высохли болота, обмелели реки, мелкие — так и вообще исчезли, оставив после себя лишь глинистые потрескавшиеся русла. Частыми были пожары — то тут, то там горели подожженные кем-то леса, окутывая округу черным тяжелым дымом. Давно уже не было такой засухи, старики шептали — не к добру то. В деревнях пересохли колодцы, выгорела трава на выгонах, от нестерпимой жажды жалобно мычали коровы, даже в лесах все живое пряталось в тени по низинам. А белесое, словно выгоревшее на солнце небо ничуть не обещало дождя — ни тучки, ни облачка, одна жаркая бледно-голубая пустыня.
Ой, не к добру сушь такая….
Да и политическое положение Новгорода Великого было не лучше. С южных границ доходили смутные слухи: собирает-де Иван Васильевич, князь Московский, рать несметную — воевать будет Новгород — из-за суши все пути-дорожки открыты — болота-то высохли. Тверь, Псков, Вятка да прочие города стягивали воев своих под знамена Ивана. Надежды части новгородцев на польского короля Казимира не оправдались. Не до Новгорода Казимиру было: зимой еще посадил старый король сына своего Владислава на чешский трон, думал — хорошо будет. Да не очень-то хорошо вышло — конкурент объявился в лице могущественного венгерского короля Матвея Корвина. И Папа Римский поддержал Матвея, и Ливонский орден. Так и втянулась Польша (в унии с Литвой, король Казимир был и Литовским великим князем) в борьбу за чешский престол. Не решился Казимир воевать на два фронта, с Матвеем бы справиться…
Татары, конечно, могли б московитов хорошо потрепать, да и тут незадача! Хитрый Иван Васильевич с крымским ханом Хаджи-Гиреем задружился. Против Ахмата дружили, Большой Орды хана. Так и побоялся тогда Ахмат на Москву нагрянуть. И с татарами, в общем, не вышло у Новгорода.
Немцы Ливонские… Магистр Вольтус фон Герзе все выжидал да выгадывал. Опять же, Матвею Корвину венгерскому помощь обещал, а сил-то у рыцарей — прямо скажем, не очень. Да псковичи еще — тоже для ливонцев проблема — не отдают Красный Городок, хоть убей, Ивану Московскому жалуются. Псковичи и для Новгорода проблема не меньшая — вот уж вражины-то, так и норовят всякую пакость сделать — то посланников задержат, то купцов ограбят, то лаются, аки псы непотребные. Все заступником своим, Иваном, стращают, сволочи.
Худо Великому Новгороду придется, ежели Иван Московский нагрянет, ой, худо. Да еще ведь некоторые и не встанут против Ивана — митрополит Филипп, глава Церкви святой православной, чай, не где-нибудь, а на Москве проживает — вот и повоюй — все равно что против православной веры…
Архиепископ Новгородский Феофил — согбенный от забот многих — устало опустился в высокое резное кресло. Желтое морщинистое лицо его было мрачным, руки заметно дрожали. А ведь еще год назад — орлом летал, кочетом! Да, видно, ухайдакали сивку крутые горки власти.
— Подай-ко братину, человече, — хриплым голосом попросил владыко. Стоявший вблизи Олег Иваныч почтительно протянул ему серебряную чашу с холодным — только из ледника — квасом. Запрокинув главу, шумно отпил владыко, поставил братину на стол, рукою махнул устало — свободны, мол.
Тихо расходились собравшиеся софийские люди, дьяки да житии, ничего хорошего не сказал им Феофил, ничем не порадовал. Из палаты выходя, переглядывались промеж собой, шептались. Не миновать, видно, нынешним летом беды Новгороду.
А снаружи, на улице, было все как всегда. Пахло иссохшей травой и мятой, налетая, играл листьями ветер. В куполах храмов сверкало солнце. За мостом, на Торгу, весело перекрикивались люди.
— А вот подковы, подковы, серебристы-гладеньки! Полденьги десяток…
— Дорого берешь, борода!
— А ты поищи, поищи дешевше-то…
— Сбитень, кому сбитень?
— Да пошел ты со своим сбитнем! Кваску ледяного нет ли?
— Подковы, подковы…
— Сукна, сукна заморские… аксамит, бархат… Не проходи мимо, мил человече! Боярыне своей плат-от возьми! Богатый плат, златыми нитками вышит… Сколько стоит? Да почти даром отдаю, князь! Полденьги…
— Квас-квасок, открывай роток!
— Эй, паря! Ты, ты… С квасом… А ну, давай сюда! Почем квас-то? Сколько? Однако… Да стой ты… Давай уж.
— Кому меду, меду кому? Свежий, липовый…
— Рыба, рыба, всем рыбам — рыба!
— Да снулая твоя рыба-то! Воняет!
— Сам ты воняешь, паря!
— Подковы, подковы…
— Эй, квасник! А квас-то у тя — тухлый! А ну-ка, получи в морду! Нна!!!
На том конце Торга, что ближе к Ивановской, завязалась драка. Двое парней дубасили квасника. Остальные торговцы не вмешивались — считали, что поделом, не хрен протухшим квасом торговать…
Олег Иваныч неодобрительно покачал головой, проезжая мимо. Черт знает, к кому его неодобрение относилось — к парням иль к кваснику.
Свернул с Пробойной на Славную. Бесы бы вас взяли — и тут дрались! Трое подвыпивших мужичков остервенело колотили какого-то рябого парнишу в некрашеной сермяге с заплатками. С десяток человек, обступив кругом, с интересом наблюдали за избиением.
Ну, совсем обнаглели, ни стыда, ни совести! Нашли место — почитай, в самом центре города. Головы, что ль, им всем напекло?
Не долго думая, Олег Иваныч вытащил плеть и, растолкав конем зевак, от души перетянул по спине первого попавшегося.
По-бабьи взвизгнув, тот отскочил прочь.
— А ну, уймитеся, лиходеи! — размахивая плетью, строго прикрикнул Олег Иваныч.
Толпа тут же разбежалась. Избавленный от кулаков рябой парень уселся на траву, вытирая рукавом кровь, обильно сочившуюся из разбитого носа.
— Кто таков? — не слезая с коня, повелительно спросил Олег.
— Микита я, богомолец, — вытерев кровь, сипло ответил парень. — С Тихвинского богомолья пробираюсь, к Софии Святой приложиться…
Олег Иваныч усмехнулся:
— Приложился уже, похоже. А сюда, на Славенский, зачем пожаловал?
— Просьбу одну исполняю, — богомолец исподлобья взглянул на Олега. Кормленый конь с расчесанной гривой, доброе седло, недешевый кафтан. Тонкий, шитый золотыми нитками, плащ яркого травянисто-зеленого цвета. Длинные, тщательно вымытые волосы, холеная подстриженная бородка, глаза — холодные, стальные, властные. У пояса — рыцарский меч в красных сафьяновых ножнах.
Повалился на колени странник:
— Не гневайся, коль что не так, светлый князюшко, сокол ясный!
— Говори, что за просьба. Хм… сокол…
Богомолец шмыгнул носом, пояснил, с опаской посматривая на плеть:
— Усадьбу велено одну отыскать, на Славне. Житьего человека Олега Ивановича…
— Кого?
Олег Иваныч чуть с седла не выпал от изумления. Надо же!
— Кто просил да что?
— Рыбак один был на богомолье, к иконе Тихвинской приходил. С Паши-реки рыбак… Сказывал, рыбачил как-то, видит — струг плывет маленький. Игрушка, вроде как детям малым. Взял, детишкам своим тешиться, а те возьми — да сломай, струг-то… А в струге том — грамота березовая, с писаньем. Что за писанье — рыбаку дьякон Тихвинский прочитал. Писано: отдать в Новгороде, на конце Славенском, Олегу Иванычу, житьему человеку, за то будет от оного награда в две деньги!
— Чего-чего?
Удивился Олег Иваныч, задумался. Ни фига ж себе, заявочки. Письма какие-то приходят, от кого — неизвестно, да еще и заказные — две деньги, ну и цены, однако!
— А ну, давай сюда грамоту!
— Не можно — обет дал.
— Давай, говорю! Пришибу враз! Я и есть Олег Иваныч, человек житий.
Дрожащими руками богомолец вытащил из-за пазухи маленький берестяной свиток и, бросив его на землю, опрометью бросился прочь.
Склонившись, Олег Иваныч поддел свиток острием меча. Подняв, развернул осторожно.
«Житьему человеку Олегу Ивановичу, что в Новгороде на Славне. Подателю — две деньги дать. Пишет сие Григорий, отроче софийский…»
Кто?
«Григорий, отроче…»
Гришаня!
— Эй, рябой… Стой!
Хлестнув коня, Олег Иваныч нагнал богомольца уже у Лубяницы. Кто-то из проходивших купцов подставил страннику ногу. Тот и завалился с разбегу, не вставая, вскинул затравленно голову, не ведая, за какие такие вины гонят его, будто зверя лесного.
— Две деньги ты забыл, паря, — подъехав ближе, Олег Иваныч бросил рябому страннику два сверкающих серебром кружочка. — Бери, бери, заработал. На вот тебе и третью за весть такую!
«Житьему человеку Олегу Ивановичу, что в Новгороде на Славне. Подателю — две деньги дать. Пишет сие Григорий, отроче софийский. Аз и Софья боярыня в заточенье на погосте Куневичи, что на Капше-реке, то Ставрова землица. Покуда живы».
Покуда живы…
По крайней мере, были живы еще несколько недель назад. Но не туда ли рванул Ставр со своими? Отсидеться, покуда не уляжется шум, поднятый не без помощи Олега Иваныча. Может, и туда, в Куневичи. Однако — не далековато ли? Из Новгорода-то долгонько вести идти будут. Да и, в случае чего, обратно быстро не выберешься — места глухие, почти нехоженые. Неясно со Ставром. Зато с Гришаней и Софьей наконец прояснилось!
Не в силах сдержать радость, вбежал Олег Иваныч в первую попавшуюся на пути церковь, свечки поставил да молился истово, Господа благодаря. Было за что ведь! Софья… Софьюшка…
Куневический погост. Чуть дальше, чем у черта на куличках. Дорога не близкая. Отпроситься у Феофила… Пустит ли владыко? Должен. С собой кого попросить? Олексаху, вестимо. Не откажет, да и человек надежный, не раз проверенный. Маловато — вдвоем-то. Кто его знает, кто там в Куневичах? Наверняка действовать надо. Охочих людишек сманить? Нет, дело тайное… да и доверие — вещь важная, а поди, проверь их, охочих-то. Геронтия можно! Он один двоих стоит. Да! Еще и дедки Евфимия оглоедов. В Новгороде-то от них пока какая польза? А так — дальние погосты проверят в Обонежье Нагорном. Куневичи ведь тоже в той стороне. Да ведь — и серебришко фальшивое — оттуда же! Или — не оттуда? Нет, с тех краев. Что-то такое ведь говорил покойный Кривой Спиридон…
Завтра — и просить Феофила!
Завтра не вышло. Не вышло и послезавтра, и дале…
Сгустились тучи над новгородской свободой, все ближе витал над вольным городом удушливый тлен московитского ярма. Купцы, с Владимирских да Тверских краев приехав, доложили: великую силищу собрал Иван, князь великий Московский. Идет на Новгород войною, мир Ялжебицкий порушив! Винит новгородцев в латынстве да в том, что под Казимирову руку перейти хотели, да, старину нарушив, его, Ивана Васильевича, государем не звали. Изветы все то — не вины. В Новгороде и дите глупое им не поверит. Однако — на Москве верили, верили и в Твери, и в Вятке, и уж тем более верили во Пскове. Псковичи… те-то уж рады-радешеньки всякому сраму поверить — лишь бы про новгородцев!
Вот-вот подступят вражеские рати к Новгороду. Болот да рек малых нету — повысохли все от жару, ничто не задержит московское войско.
Стукнули в вечевой колокол. Посадники новгородские выступили, Дмитрий Борецкой да Казимир Василий. С ними и боярин Киприян Арбузьев и другие бояре.
Не хотим, кричали, рабства московского, отстоим вольности новгородские! А не отстоим — так умрем с честию! Много народу поддержало их. А некоторые — и не поддержали. Постояли, послушали, плечами пожали. Понизовым купцам — тем от Москвы прямая выгода — пошлины Иван убрать обещался, как Новгород под себя возьмет. Ремесленникам — мужам новгородским — и тем: кому как… Кто за Новгород, а кто и за Московита, церкви православной заступу. Не гоже, промеж себя судачили, воевать Руси с Русью. То многие слыхали и поддерживали… Смердам, что землицу ратали, однако ж все одно было, что Москва, что Новгород. Один черт — и там и там, всюду кровопивцы-бояре. Своеземцам софийским… Этим-то московиты могли и боком выйти. Отнимут землицу-то! Иди потом, доказывай…
Да еще, ко всему, давно по Новгороду слухи ходили. О латынстве все. Таким словом здесь католичество обзывали. Дескать, решили бояре — Борецкие, Нифантьевы, Арбузьевы да прочие многие — веру святую нарушить, идти под литовского Казимира. Мол, уже и с Казимиром о том сговорились, да и с митрополитом Киевским, что не за православную церковь стоял, за унию подлатынную. Знал Олег Иваныч точно — лжа это, изветы пакостные. Не было никакого сговора с Казимиром — сам при том присутствовал — не было и связей с Киевом. Сам Феофил-владыко не допустил бы такого, свято хранил православную веру, Филиппа уважал, митрополита Московского, а не Киевского униата.
Лжа все!
А стоял за той лжой — Иван, великий князь Московский, что уж и государем Всея Руси себя величать не очень стеснялся. Войско собрав великое, рек: изменил, дескать, Новгород. А ведь лжа то!
Для той лжи был в войске дьяк башковитый, Стефан Бородатый, что все русские летописи почти что наизусть знал. Дело его было — вины новгородские выискивать. Нашлись вины-то, как не найтись, коли великому государю угодно.
Пыльными дорогами, болотами сухими, чрез реки высохшие, шло московское войско. Тянулись к Новгороду кровавые паучьи лапы Ивана. Тремя потоками текли московитские рати. Слева — князь Даниил Холмский да воевода Федор Хромой — вояки опытнейшие, войско отборное. Справа — князь Иван Стрига Оболенский — путь преграждал, чтоб не прошло подкрепление к Новгороду от восточных пятин. В центре — сам Иван Васильевич командовал. В ратном деле не силен, да ведь воеводы на что? Ума хватало к воеводам прислушиваться.
Огромно войско московское, сильно. Землицы в княжестве много, можно воям за службишку жаловать. А как не хватит землицы-то — так и захватить не грех, у соседей. На то и войско. Страшна власть князя Московского, сильна да кровава. Нет на Москве закона, кроме слова княжеского. Все пред ним рабы — от последнего холопа до самого знатного боярина. Захочет князь — и землицы лишит, и головы, может статься. Вот и унижались, гнули спины, сами себя лучшими людьми считая. Ну, то — от дикости. Где Москва-то? В углу медвежьем, да зато лесами, реками, землями полном. Богатство. Много всего — и землицы, и рек, и леса… Пожжет кто — не страшно. А лучше мы сами кого пожжем! Все от князя зависят, он и есть — государство Московское. Служат за землицу людишки, нет людей свободных, все тягло несут — служат. Ни договоров нет, ни княжеских обязательств. Какое еще «вассал моего вассала — не мой вассал»? Слыхом не слыхивали. Это все там, у латынщиков поганых. Мы — не они! Они — не мы. А значит — придурки полные. Мы — лучшие! Все, что у нас, — то правильное! Никому князюшко великий ничем не обязан. Ах, поцеловать бы ноженьки, а если и пнет, что ж — то честь великая…
Не сразу, конечно, подлость таковая складывалась… Но проявлялась уже, проглядывала, проклевывалась!
Доходили о том и до Олега Иваныча слухи — да что слухи — слова правдивые! Плевался Олег Иваныч да про себя радовался — хорошо, Бог сподобил, новгородским свободным гражданином быть — не рабом московским. Теперь бы защитить свободу эту, и не только свою…
Велико войско московское. Каждый дворянин князю служить обязан. Да не сам по себе — «конно, людно и оружно». Людей своих, «боевых холопов», ратному делу туго обученных, с собой приводили. Росло войско. Биться с ворогом каким — великая честь, достойное мужа дело. Не какая-нибудь там торговлишка. Купчины пузатые — те вообще не люди, так, пыль… Каждый знал — будет сражаться справно — будут и слава, и почести, и землицы с людишками. А в чем провинится — отнимут быстро, землицу-то, иди — попрошайничай Христа-ради. Али — и башку с плеч долой, вместе с землицей-то. Как князь великий захочет! Нет закона другого. Раз в два, да в три лета производил государь московский по областям своим перечет, переписывал детей боярских. Сколько кого, да сколько лошадей, да служителей. Затем определял каждому жалованье. Не всем. У кого достаток какой был — те и так служили, без жалованья. Постоянно почти в деле ратном — не война, так на границе службишка, а там стычек — полным полно, с татарами, да с литовцами, да с прочими. А как большая война — все люди служилые воевать идти обязаны.
Лошади в войске большей частью татарские — маленькие, холощеные, иногда и не подкованные вовсе, но выносливые. Посадка в седле высокая — копейного тарана не выдержит всадник, однако же стрелять из лука удобно. Лук и стрелы у всякого имеются, да боевой топор, да шестопер, булавица. Кто побогаче — у того сабля, чешуйчатые латы, под ними кольчужка, на голове шлем. Кто победней — ватным тегиляем обходится да шапкой такой же. Саблей прорубить — трудно, однако ж копейный удар не держит. Пушки-тюфяки тоже имеются, есть и пушкари искусные. Однако ж главная сила войска московского — в единстве. Попробуй-ко кто приказа ослушаться! Ну, и воеводы — рубаки опытные. Не раз и не два в лицо смерти, смеясь, заглядывали.
Шло, ползло московское войско, словно змея ядовитейшая, просачивалось сквозь леса и болота, все ближе и ближе… Эх, Новгород, Господин Великий, видно, и вправду черные дни для тебя настали!
Собиралось в Новгороде ополчение. Бегали, кричали, тысяцкий да сотские. Посадники тут же, на конях белых — Дмитрий Борецкой да Казимир Василий. Хмурились, на людишек глядя. Да и как не хмуриться-то? Отряды собиралися — кто во что горазд. Ладно, оружейники — те в доспехах справных, для себя кованых, да с мечами, со щитами, с рогатинами. А остальные? Кто в панцире ржавеньком, кто в кольчужке какой рваной — не войско, смех один. Воевать опять же не все умели. Это в Москве профессионалы-воины, здесь по-другому. Молодые-то ребята, правда, встречались с ворогом. С псковичами да и со свеями, бывало. Однако до самих битв часто и дело не доходило. Ослабление проводили друг дружке: пробирались на вражьи земли, жгли, грабили, убивали да в полон брали. Редко когда выпадало рубиться. А вот теперь, видно, не миновать того.
Владычный полк стоял угрюмо. Не очень-то хотели с православными биться. На худой конец — уж лучше с псковичами. Хмурились.
Хмурился и сотский, у тюфяков-пушек, со стен принесенных, прохаживаясь. Грузили на телеги те пушки, да ядра каменные, да зелье. Грузить-то грузили… Стрелков вот толковых мало! Оборотился к ополченцам сотский:
— С огненным боем знаком кто?
Тишина. Ну откуда — кожемякам, да мытникам, да приказчикам — огненным боем владеть справно?
Один вылез было. Даже выкрикнул что-то… Но — затихарился вдруг почему-то.
Олег Иваныч как раз на коня вспрыгнул, домой поехал.
Проводил его крикун тот взглядом змеиным. Как уехал, выскочил, оглянулся, заорал громко:
— Я! Я огненный бой знаю… Бери к себе, соцкий, была не была!
Шапку оземь кинув, осклабился… бороденкой тряхнул козлиной.
Ой, сотский, сотский… Змеюгу ты взял, змеюгу!
Олег Иваныч собирался дома. Разложил на лавках кольчужные чулки, рукавицы перстатые, стальные поручи, поножи, панцирь… свой, новгородский. Немецкой-то работы, тот, что у пиратского вожака ван Зельде когда-то позаимствовал, частью скинуть пришлось в лодке-то, ну, кое-что продал в Ревеле. А сейчас бы сгодились латы-то! Панцирь кой-где поржавел — отдал Пафнутию — чистить. Мечом узким взмахнул — то, что надо. Шлем… Вот этот, литовский… С забралом, с бармицей… Тяжел, однако. Может, не брать? Легким обойтись, лика не скрывающим?
Пафнутий воспротивился:
— Что ты, батюшка! А ну как стрела какая? Тяжел, говоришь, шеломец-то? Дак, чай, своя-то ноша не тянет! Да и я с тобой пойду… Позволь уж старому воину… А не позволишь, не обессудь — так уйду. Лучшей смертушки и не надо — голову сложить за Новгород, Господин Великий!
— Да и мы, чай, вместях держаться будем, — вошел в дом Олексаха, в кольчуге, с мечом коротким.
— Откель оружьице?
Смутился Олексаха:
— Настена… От мужа пропавшего осталось кой-что.
Оглоеды собрались. Кольчуги блестят, шеломы — куполами Софийскими, из-под шеломов кудри светлые вьются! Не вои — богатыри былинные!
— Ужо, постоим за Новгород!
Дедко Евфимий аж прослезился, их собирая. Един он на усадьбе и оставался — двор охранять от лихих людишек. Акинфий-то, сторож, вчера еще в ополченье ушел. Нелюдим, нелюдим — а смотри ж…
Немного погодя Геронтий, лекарь-палач, пришел. В бригантине — латах немецких — и откуда они у него? На поясе меч короткий, за плечами саадак с луком. Сел рядом с Олегом на лавку, усмехнулся:
— Невместно мне под московитом, сам знаешь.
Радостно почему-то стало на душе у Олега Иваныча — с этакими молодцами да не победить? Замерла душа в томленье сладостном. Постоим за вольный Новгород, эх, постоим! Сгинем все — не отдадим Родину врагу на поруганье! А погибнем — так за правое дело, за свободу, за вольности новгородские! За достоинство гражданина Республики, за то, чтоб не кланяться всяким, не унижаться, на брюхе не ползать…
На Загородской, в корчме у Явдохи, пили. Человек с полсорока, может, чуть поболе. Вои со стражи башенной, пара сотских да разные. Воинов лично Явдоха за собственный счет угощал. Вином твореным, исполненным — с зельем — для пущей дури, такой, что лошадь чаркой с ног сваливает. Капустой квашеной заедали, чуть сладковатой — померзла за зиму капуста-то. Как выпили, петь-плясать пошли. Да все какие-то невеселые выходили пляски. Пару коленцев выкинув, упрели танцоры — по жаре-то — в обрат потянулись, к лавкам, а кто и на улицу, охолонуть, полежать-поспать под березами на траве мягкой.
К сотским за стол мужичонка один подсел, по виду — ни богат, ни беден — стрижен в кружок, борода козлиная. Разговоры стал разговаривать, мужичонка-то, — дескать, хотят бояре-то к латынянинам перейти да грешничать заставляют — со святой православной ратью биться. А то и не нужно совсем простым-то людям новгородским, другое надо — в единой вере быть, под благословением святым митрополита Московского Филиппа. Иван Васильевич, князь великий Московский, простым-то новгородцам не враг есть, а только переветчикам злым — Борецким, да Арбузьевым, да прочим — что похотят в латынскую веру перейти, да чтоб был Новгород Великий под рукой Казимира Литовского.
— Да то не лжа ль есть? — усомнился один, других потрезвее, сотский, на мужичка козлобородого посмотрел подозрительно.
— Вот те крест! — тут же и перекрестился тот. — Самолично слыхивал, как Марфа Борецкая, да Киприян Арбузьев в Михайлиной церкви под Литву сговаривались. Дескать, придет Иван Василич, все богачество наше порушит.
— Вот сволочи…
— И я про то. Эй, Явдоха! Тащи-ка еще вина доброго!
Долго таскался по Новгороду козлобородый. Из корчмы в корчму. С улицы на улицу. С Плотницкого на Славну. Со Славны на Людин. С Людина на Загородский. Везде про латынство боярское рассказывал. Да про рать московскую православную…
Шла вторая половина июня, жаркая, сухая, с пожарами. Уже с конца мая горели к востоку от Новгорода деревни, леса да острожки — то действовать начал московский полк — рать князя Ивана Стриги Оболенского. В июне выступило из Москвы войско князя Даниила Холмского. Отборная та рать была: государевы служилые люди имели дощатые брони, сабли, ручницы. Отряд огненных стрельцов-пищальников огнестрельным боем непокорных новгородцев сразить собирался. Воеводы у князя Холмского добры: Федор Хромой, да Пестрый-Стародубский, да Силантий Ржа — в черненых доспехах, в плаще черном, в шеломе с забралом причудливым в виде страхолюдной морды. На Шелонь-реку путь держали — там хотели соединиться с псковичами да вместе разом на Новгород идти.
Другое, самого Ивана Васильевича, князя великого, войско чуть попозже выступило — артиллерию-«наряд» везли, похвалялись. С ним и татарин касимовский — Данеяр-царевич. Ужо несдобровать отступникам!
Новгородцам деваться некуда — со всех сторон обложены. Пришлось на части войско делить: одно в Заволочье отправить, против Стриги-Оболенского, другое — «рать кованую» да «судовую» — на Шелонь, против Даниила Холмского. Часть ополчения двигалось по Шелони навстречу псковичам.
Шумели над высохшими лесами злые ветры, знойное солнце, жарило, нагревало тяжелые пластинчатые брони.
По левому берегу Шелони двигалась рать новгородская. В первых рядах — люди именитые, бояре знатные — посадник Дмитрий Борецкой, да Василий Селезнев, да Киприян Арбузьев, да старый боярин Епифан Власьевич. С ними, чуть позади, на верном коньке кауром Олег Иваныч гарцевал, искоса на войско новгородское посматривая. Велика рать, то верно, да только отборных воинов мало — вон, впереди, в доспехах справных, кромя бояр, только люди житии скачут, да те, кто побогаче, — оружейник Никита Анкудеев, да подмастерья его, да прочие оружейники со Щитной. Пластины на латах толстые, стальные, у кого — и сплошняком кирасы, на манер доспехов рыцарских, только у рыцарей-то куда как легче да удобнее. Наши-то оружейники к бою не очень привычны — думают, чем крепче — тем лучше — шутка ли: почти что сантиметр — Олег Иваныч лично измерил, интереса ради — да это еще не считая кольчужицы, под доспех надетой, — в общем, миллиметров тринадцать получается — как у немецкого танка PZ-II. Рыцарские-то латы — прочные, но удобные и не столь тяжелы — килограмм двадцать — двадцать пять, не то что нынешние новгородские — почитай все сорок будут! Попробуй рукой шевельни. Рыцари-то в этаких только по турнирам ездили. Зато и пробить доспехи новгородские затруднительно, разве что ружьишком противотанковым.
Кроме латников, остальные ополченцы куда как хуже выглядели. Кто в панцире, кто в кольчужице драной, кто с копьем, кто с мечом дедовским. Оружие-то ладно — так ведь и умения воинского — кот наплакал. Да и откуда ему взяться, умению-то, у тех же кузнецов, молотобойцев, кожемяк? Ежели и умеет кто драться, так впереди не судный поединок ждал — битва знатная. Не только от воевод в битве победа зависела, но и от сноровки ратной. В бою строй менять, переходы да защиту делать — все взаимодействия требовало, от каждого — мастерства да понимания.
Людина конца проехали ополченцы, за ними Загородский, затем Неревский… Геронтий, с уличанами своими прошествовав, Олегу рукой помахал.
Потом Торговая сторона пошла — Славенский конец да Плотницкий.
Олег Иваныч дождался своих — Славенских, коня пришпорил, замахал рукой Олексахе — тот с Нутной улицы с людишками шел — конь-то в пути пал от жары. Весел был Олексаха — шутил да смеялся, верил — близка победа, вон воинство-то эдакое! Ни конца не видать, ни краю. Голова с воеводами да посадником впереди — еле видать! А хвост, с Плотницкими, еще из лесу не вышел. Многолюдство грозное…
Ничего не сказал Олег Иваныч, услыхав похвальбу Олексахину. Покачал головой только, понимал — не числом воюют, уменьем. Знал — в московском-то войске не сбитенщики да квасники — народец подобрался умелый, сноровистый. Воеводы опытны — каждый свой «наказ» от великого князя имеет, однако и нарушить «наказ» сей, в случае чего, запросто можно, так и сказано: «поступать по делу глядя».
За холмом деревня показалась. Избы бревенчаты, черны, церковь с маковкой, серебристой дранкой крыта. Мусцы — селишко то звалось. Дорога здесь проходила из Пскова к Новгороду. Тут и должны были появиться псковичи, с ратью московской соединиться. Тут их и ждать порешили. По одному вражин разбить.
Спешились, кто о конь был, лагерь творить стали. Разбивать шатры узорчатые, коновязи ставить, кто попроще — ветки на шалаши рубить. Запалили костры, сели полдничать — к вечеру было дело.
Олег Иваныч знакомых навестил в полку владычном. Сам-то он со славенскими шел, в ополчении, не звал его нынче Феофил в полк, не приказывал. А прощаясь, говорил смурно, ровно на смерть провожая. Видно было — не хотел владыко на православного государя руку поднимать, в святой вере русской раскол посеять. Те же мысли и в полку софийском были. Говорили: «Будем с плесковичами биться, а с москвитянами — как Бог…» Как Бог… А как Бог? Конечно, за православных, за Филиппа, митрополита Московского. Вот и смотри на владычный полк, вот и думай.
Где же славенцы-то? Вона, кострище палят… Мужики бугаистые. Нет, вроде не славенцы.
— Откель будете, вои?
— Неревские мы, с Кузьмодемьянской…
— Часом, не видали Славны?
— Кажись, за леском.
— Не, Митроха! За леском — то федоровские. Вон, оттуда мужик за водой пробежал… Его и спроси, боярин! Эй, паря!
Обернулся на ходу мужик — черт здоровенный — к колпаку, низко на глаза надвинутому, приложил руку — от солнца. Присмотрелся к кому-то, прислушался… да вдруг повернулся проворно, да в обрат, к леску побежал, воды не набравши. Только бородища кудлатая дикая на ветру развевалась!
— Чай, забыл что, — пожали плечами неревские.
Олег Иваныч и сам плечами пожал — странный какой-то мужик у федоровских. Хотел уж было дальше ехать — кто-то за стремя дернул. Оглянулся — Олексаха. В руках ведерко кожаное.
— Приходи, Олег Иваныч, ушицу хлебать. Дедко Евфимий ушицу варил — знатная ушица!
— Дедко Евфимий… Как — дедко Евфимий? — удивился Олег Иваныч. — Он же в Новгороде остался, за усадьбой присматривать.
— За усадьбой Настена моя присмотрит, — чуть смущенно улыбнулся Олексаха. — Договорился с ней дедко. Не могу, говорит, так сидеть.
— Ну не мог, дак… Черт с ним, надеюсь, не разграбят усадебку. Где, говоришь, наши-то?
— А вона! За тем орешником… Песни поют, слышишь?
Возмужал Олексаха за последнее время. Заматерел, в плечах раздался. Высок стал, не как раньше — длинен. Да и ума поднабрался — покидала судьбишка-то по землицам немецким да по морю Варяжскому. Волосы отпустил до плеч — как у Олега Иваныча, бородишку завел такую же — во всем старался шефа копировать. Даже слова иногда употреблял Олег-Иванычевы: «Значитца, так и запишем — не шильники вы, шпыни ненадобные!»
Махнул рукой Олексаха, с ведерицем на родник побежал.
Олег Иваныч тронул поводья и медленно поехал на песню.
Из-за лесу, лесу темного, Из-за темного, дремучего, Подымалася погодушка, Что такая нехорошая: Со ветрами, со погодами, Со великими угрозами…Да уж… Насчет ветра еще можно спорить, но угрозы действительно были великими.
— Здорово, огольцы! Уха, говорят, у вас знатная?
— Садись, Олег, свет Иваныч, ложку бери!
Дедко Евфимий сноровисто подложил под садящегося Олега снятую попону. Посмотрел с хитринкой.
Ложку взяв, усмехнулся Олег Иваныч:
— Что щуришься, дед? Знаю про тебя уж…
Вкусна ушица оказалась. По пути еще, в омуте, оглоеды дедовы наловили рыбки. Сеточкой небольшой и поймали, только в омуток бросили. Щука, да сазан, да уклейки. Обмелела от жары река-то — вот в омут рыба и бросилась. Там ее и выловили, где — знали.
Так и не спадала жара, ни дождинки, ни тучки на белесом небе. Одно только солнце — жаркое, сердитое, желтое.
Многие пообедали уж — кузьмодемьянские, яковлевские, федоровские… К омуту пошли — купаться. Хорошее дело — пот походный смыть да от суши охолонуть маленько. Пушкарские последними пришли — уж всю-то реченьку замутили. Стояли на берегу, думали, то ли раздеваться, то ли в обрат идти. С ими и мужик тот, кудлатый. Постоял да в воду. За ним и остальные попрыгали. А кудлатый-то — то там, то сям по реке рыскал, словно черт-те знает что выискивал…
Славенские у костра песни пели.
Красиво выводили оглоеды дедовы, с чувством. Олег Иваныч и не знал раньше, что они так петь умеют…
Соловей мой, соловушко, Соловей мой, птица вольная, Птица вольная, бездомовая, Полетай, мой соловеюшко, На родимую мою сторонушку, На родимую, на любимую… На Славну, на Ильинскую, на Нутную…Купальщики с Федорова улицы мимо прошли, к шалашам своим возвращаясь. С ними и тот мужичага кудлатый — ну, чистый разбойник. Как пришли, подмигнул остальным, посудину плетеную с телеги вытащил… Вино твореное, крепкое, с зельем намешано.
— А глава-то не разболится поутру?
— Не пужайтесь, робяты. Не разболится. Пейте-знайте!
Уговорил.
Выпили федоровские — спать полегли. Кудлатый вокруг них бегал — кому седельник под голову положит, кого кафтанишком накроет.
— Спите, высыпайтеся! А я ужо, до родных добегу, до Плотницких. К ночи и не ждите, утром только вернуся!
Натянув пониже колпак, направился кудлатый к Плотницким, за лесок. Баклажку плетеную с собой прихватил. Шел, улыбаясь, кланялся:
— Здравы будьте, неревские! И вы, запольские! Рогатице — низкий поклон! Ильиной — нижайший…
Везде, по всему левому берегу Шелони-реки, станом стояли ополченцы. У самой деревни — «кованая рать» боярская, а ближе к лесу — там люди попроще. Щитники, бронники, мечники… Мясники, цирюльники, кожемяки… Пирожники, квасники, сбитенщики… Кто за Новгород драться пришел, живота своего не щадя. Кто — против псковичей. А кто и так — за компанию, да и чуть не силой пригнан.
Покивал всем кудлатый — да к речке…
Тут и сторожа выставленная. Молодой парень с рогатиной.
— Кто таков?
— Иванко я. Ушицы наловить, боярину Арбузьеву…
— Арбузьеву, говоришь? — недоверчиво уставился парень. — Я ведь и сам арбузьевский… Что-й-то не припомню тя!
— А ты поближе-то подойди. Да хлебни вон винца доброго!
Достав из-за пазухи баклажку, улыбнулся парню, словно любимому родственнику:
— Ну? Неужто не признал, паря? Я ж тятеньки твоего знакомец давний!
Парень подошел ближе, всмотрелся.
И, охнув, медленно опустился на землю.
— Тихо, тихо, паря. Не шуми.
Кудлатый осторожно подхватил падающее тело и, уложив его на траву, вытащил из-под ребра острый засапожный нож.
— Так-то лучше. А то любопытный ты больно. Кто да откуда… Лежи теперича. Отдыхай.
Осмотревшись, отволок мертвое тело в желтые кусты дрока. Сняв колпак, вытер со лба пот, уселся на корточки, отдыхая. Отхлебнув из баклажки, размахнулся — выкинуть… Чуть подумал — и, осторожно положив баклажину на видное место, как был — в одежде — бросился в реку.
Ближе к вечеру шлялся по берегу парень. Боярина Киприяна Арбузьева человечек дворовый. По приказу боярскому и сюда прибыл — воевать московитов да псковичей. Уж зело не хотелось воевать-то, а что ж — на все боярская воля! Походил парень по берегу, покричал:
— Онисим! Онисим!
Не нашел никого, махнул рукой. Видно, давно уже почивать решил Онисим. Ну, да Бог с ним… Посидел на траве парень, встал. Наткнулся на баклагу плетеную. Видно, потерял кто-то. Пахнет пряно… Хлебнул. Хорошо! Выхлебав до дна флягу, растянулся на траве холоп арбузьевский. Растянулся да заливисто захрапел. Оранжевое закатное солнце красило воды Шелони кровью.
Оранжевым закатом пылали доспехи всадников — московских служилых людей, что со спешным докладом пробирались в Коростынь, к князю Даниилу Холмскому.
Князь Даниил сидел в просторной горнице — ноги в воде парил, болели у князя ноги-то, особливо перед битвой. Рядом, за столом, на лавке — ближние воеводы-советчики: Федор Хромой да Пестрый-Стародубский. В конце июня еще войско князя сожгло и разграбило Русу. От новгородской «судовой рати», пересекавшей Ильмень-озеро, одни ошметки остались. С вестью победной и посланы были гонцы к Ивану Васильевичу. Во главе гонцов тех — Силантий Ржа — воин известнейший да храбрейший. Иван-то Васильевич, государь великий, уже, Волок Ламский проехав, в Торжок прибыл. Там войско московское с тверскими полками соединилось — пошли дальше. На Коломно-озеро.
Застучали по крыльцу сапоги кованые. Распахнулась дверь. Воин в черных доспехах быстро вошел в горницу, поклонился.
— Силантий! — радостно воскликнул князь Даниил. — Как государь-то?
— Смеялся, — кратко ответил Силантий. — Рассказывал ему, как доспехи те тяжкие, что у новгородцев отняли, в воду метали, а иные огню предали, не очень-то нужны, и своих довольно! Про Демон тоже рек князю…
— Ну? — воеводы разом вскинули головы.
Силантий Ржа махнул рукой:
— Не велит государь Демон-городок пока трогать, велит к Шелони идти — с псковичами соединяться. Под Демоном один полк оставляет.
— К Шелони, говоришь… — задумался князь. — Оно так… государю виднее. Ладно, на днях и выступим! Садись вон к столу, Силантий… покушай…
— Благодарствую.
Откушав, совет держали. Как половчее на новгородскую рать ударить. Силантий дело предложил: за правым брегом крутым укрыться — да затем внезапно чрез реку нагрянуть, конницей…
— А пройдут, кони-то? — засомневался дотошный Федор Хромой. — Надо бы видоков послать.
— Пошлем завтра, — согласно кивнул князь. — А так — дельно получится!
Ночью уже распростился со всеми Силантий, спать пошел — трое суток в седле — шутка ли!
И воеводы засобирались.
Не успел Пестрый-Стародубский с лавки подняться — грузен уж больно стал — как шум какой-то с крыльца донесся.
Окрикнул громко князь. Воеводы за сабли — мало ли…
Кольчугой звеня, вошел охранный сотник.
— Спытальника новгородского поймали, князь-батюшка! Рекой пробирался. Хотели голову рубить — кричит, дескать, наш он, московский.
— Да и рубили бы. Однако… — князь задумался, почесал крупную голову. — По реке, говоришь, пробирался?
— По реке, батюшка!
— Ну, тащи сюда, про броды спытаем.
По знаку сотника вооруженные короткими рогатинами воины втащили в горницу мокрого мужичагу с трясущейся кудлатой бородищей.
Посмотрел князь строго:
— Кто таков?
— Тимоха я, Рысью прозванный, Ставра-боярина человечек. Да ваши знать должны…
— Броды чрез Шелонь-реку знаешь ли, Рысь?
— Броды покажу — знаю! Прямо там, у Шелони-реки, под Мусцами, стоит рать новгородская.
— Большая ли?
— Сто раз по сорок!
Князь и воеводы переглянулись. Сто раз по сорок — это почти в десять раз больше, чем все войско Даниила Холмского. Тут задумаешься…
— Кто в рати?
— Ополченье, — Тимоха презрительно махнул рукой. — Почитай, одни шильники… Сидят сейчас, псковичей ждут, трапезничают. А владычный-то полк супротив вас сражаться не очень-то хочет…
— Ополченье, говоришь… так-так… — Князь Даниил посмотрел на своих воевод, улыбнулся: — Как там Силантий говорил? Через реку — да внезапно? Утром… — князь обернулся — в распахнутое окно бил первый солнечный луч, светлый, тоненький, теплый. — Уже, чай, и утро… Собирайте рать, воеводы! Посейчас выступаем, неча зря время терять!
Подобравшись к новгородским позициям в тени высокого правого берега, они вылетели из обмелевшей реки, словно водяные черти. Выскочив, с гиканьем понеслись на ничего не подозревающих новгородцев. Рубили…
Словно железные дьяволы, вылетели на низкий берег — крики и стоны раненых тонули в их торжествующем кличе:
— Москва!
Москва!
Москва!
В панике забегали по полю люди, падая под ударами сабель.
— Москва!
Отрубленные головы катились в реку кровавыми мячиками…
— Москва!
Едва проснувшись, выглядывали из шалашей ополченцы: оружейники, кожемяки, сбитенщики… И, пронзенные копьями, падали прямо в траву, с качающимися шариками росы…
— Москва!
Кто бежал, кто пытался сопротивляться — неумело, неорганизованно, глупо, — конец был один…
— Москва!
Они все шли и шли, воины великого князя Ивана, наваливались с разных сторон, действуя не так числом, как уменьем. Не то — новгородцы, хоть и больше их было. Одно слово, ополченцы — не воины. В их нестройные ряды быстро вклинивались московиты, рубили направо и налево. Они не ведали жалости — новгородская кровь обильно окропила берег Шелони, и воды реки окрасились алым. Кровь была везде — падала тяжелыми каплями с сабель и копий, ручьями текла по земле, скапливаясь в бурых, дурно пахнущих лужах. Стоны раненых и предсмертные крики, смешиваясь, стелились над полем боя отвратительным гулом. Гул этот, все эти вопли, крики, стенания, являлись лишь фоном для жуткого клича — «Москва!».
— Москва!
С этим криком один из московских всадников с маху отрубил голову какому-то подмастерью и, насадив ее на копье, поднял к небу!
— Москва!
Кровь стекала с отрубленной головы на руку, на грудь, на лицо, на бороду московита, с дьявольской улыбкой тот слизывал с губ соленые капли.
— Москва!
Московская рать терзала разношерстное новгородское войско, как маленький охотничий беркут — лебедя, как орел — барана, как мангуст длинную жирную кобру, у которой к тому же и яду почти не осталось.
— Москва!
Солнце, несмотря на полдень, было изжелта-красным, словно и оно жадно впитывало в себя людскую кровь. Пробегающие по небу облака иногда закрывали ненадолго светило, и тогда оно принимало вид румяной застыдившейся девицы. Облака уходили — и воспрянувшее солнце вновь посылало сражающимся свои кровавые жаркие стрелы.
Сшибались во встречной схватке кони и люди, звенело железо, трещали кости, кричали под копытами коней умирающие. Бились… Русские против русских… Пощады не знали… Над ранеными глумились… Пленным новгородцам отрезали носы и уши…
— Москва!
Быстрее всех опомнилась кованая боярская рать. Быстро одоспешились, выехали…
Московские озадачились, увидев медленно приближающиеся к ним железные неповоротливые фигуры в шлемах с опущенными забралами в виде устрашающих зубастых рож. Кто-то перекрестился… Кто-то поджег зелье в ручнице…
Ба-бах!!!
Просвистели в воздухе пули.
Отскочили от лат новгородских, словно горох!
— Господи…
Всадник в черненых латах поднял забрало.
— С боку их, — сказал, усмехаясь. — Быстро наскочить — неповоротливы больно.
Опустив забрало, вскинул копье.
Первым же ударом выбил из седла Киприяна Арбузьева. Тут уж и налетели с боку… Били, стреляли рать кованую — а больше — по лошадям. Упавших в полон брали…
Повели и Киприяна Арбузьева да старого боярина Епифана Власьевича — вот уж кто ошарашенно глазами хлопал — с эдакой-то тяжестью на землю из седла хлопнуться — не всякий и выживет, да уж не привыкать Епифану… Схватили и посадников — Дмитрия Борецкого и Казимира Василия — подвели к князю Даниле. Гордо смотрели посадники, без страха — плен так плен. Так уж суждено, видно. Владычный полк ни одного движенья не сделал — так в сторонке и простоял все время.
Пока рубили…
Пока стреляли…
Пока в полон брали…
Пока берег Шелонский низкий новгородской кровью красился…
— Москва!
Олег Иваныч в с правого фланга бился. Вместе с родными славенскими. Никакого страха не чувствовал — правильно говорят, что на миру и смерть красна. Тем более за родную-то землю! Рядом, плечом к плечу, оглоеды бились — эва, махали дубинами. Пара москвичей точно на другой берег улетела от ударов таких! Дедку Евфимию правую руку арбалетной стрелой прострелили, ничего — левой владел старик не хуже. Рубил врагов по мере сил. Пафнутий, старый слуга скособоченный. Не впервой сталкивался он с московитами — лет пятнадцать назад изрядно приходилось рубиться, еще до Ялжебицкого мира. Там и скрючило его от удара вражеского. Однако — выжил. Там — выжил. А здесь… Неудачно как-то обернулся Пафнутий… Мелькнуло что-то… Тяжелая стрела московская старику прямо в глаз вонзилась. По упавшему телу пара всадников пронеслась — не заметили, а самому-то Пафнутию уже все равно было.
Акинфий, сторож усадебный, нелюдимый… Никогда б не подумал Олег Иваныч, что тот столько ругани непотребной знает! Прямо — виртуоз. Специалист в языкознании… как товарищ Сталин! Упал и Акинфий, копьем московитским пронзенный. Вскричал только: «Ах, вашу!», да так и упал, не продолжив…
Олег Иваныч, стиснув зубы, бился. Вот сразу двое к нему — с сабельками. Удар… Отбивка… Не забыть уклониться от второго… Контратака… Ага, кажется задел а друат… Ишь как размахался-то, сердечный… Все прямо по канонам сабельной схватки — когда нападение отбито, право на укол переходит к сопернику. Ты только попробуй его реализуй… А ну-ка… Резкий выпад влево… Достал-таки! А нечего ворон считать, лежи теперь в травище, ежели не затопчут… А теперь направо… Ах, ты ж, что делаешь, я атакую — и ты тоже? Ну, это уж совсем не по правилам, с саблей-то… Жаль, судьи нет, давно б альт был… Или штрафной укол… Тебе, тебе, не мне! Что зубы скалишь?.. А вот ежели я, скажем, намереваюсь сделать выпад в лицо… Ну-ка, подставь сабельку… Подставил? Вот молодец… А теперь жди, как же… Как на тренировке… Действие первое: смена позиции — вниз и влево… Действие второе: устранение оружия соперника из опасного положения — отбивка… Ну, и действие третье — противнику наносится укол! На, зараза! Ловкость рук — и никакого мошенства. А то, что ты на ложные атаки купился, — ну, так извини, брат, — а ля гер, ком а ля гер…
Удар, удар, удар!
А с индивидуальной техникой боя у вас неважно, господа москвичи!
Вот, извольте, получите-ка!
Получив смертельный удар в шею, московит с хрипом повалился с коня.
Тут и третий нарисовался, не заржавело.
В бок его! Вон где кольчужный край виден… Ага! Не понравилось!
А вы куда скачете? Раз, два… семь… Семеро! Не много ль на одного, господа? А, один за шею схватился… Из наших кто-то поразил, из самострела… Кто? Да Олексаха, вон из кустов рукой машет. Да не маши ты, дурачина, не привлекай внимание, дело свое делай. Опа! Что там за тень промелькнула? Стрела? Но почему так сдавило горло? Аркан… Пере… Черт…
Узкий меч вылетел из ослабевшей руки, выбитый ударом московитской булавы. Накинутый аркан туго сдавил горло…
«Семеро на одного… — успел подумать Олег. — Сволочуги…»
Рать московская, вдесятеро меньшая, наголову разбила новгородцев на Шелони-реке. На берегу левом, низком, валялись, стеная, раненые. Черной тучей кружили стаи ворон — хищные птицы выклевывали глаза трупам. Шастали тут и там небольшие отрядики московитов — собирали оружие.
На коне белом, в окружении бояр именитых да служилых людей, сидел гордо князь Даниил Холмский, в доспехе с зерцалом, плащ длинный, алый, серебром вышитый, на круп коня спускался складками, бороду да кудри седые ветер налетавший трепал — снял князь шеломец-то с головы своей крупной, на котел похожей. Рядом — воеводы ближние: Стрига-Оболенский, Федор Хромой, Силантий Ржа. Силантий — в доспехах черненых, вражьей кровью забрызганных, глядит устало, забрало страшное поднято.
— Велика победа, князюшко! — кто-то из служилых хвалится. — Ой, велика!
Хмурится князь Данила, вроде и не рад особо… Да нет, вот улыбнулся — рад, конечно… но и… жаль ему почему-то людей новгородских побитых, все ж свои, православные, не татары какие, нехристи…
Подвели пленников именитых: посадника Дмитрия Борецкого, да друга его, Казимира Василия, да Киприяна Арбузьева, боярина знатного с Кузьмодемьянской, да Епифана Власьевича, пораненного изрядно, да прочих… Что делать с ними — то государю великому, Ивану Васильевичу решать, как на то его государева воля будет. Смурно идут пленники, о судьбине своей гадают. Один Киприян Арбузьев весел: боярин — везде боярин, деньги есть — откупится.
Покуда суд да дело — людишек московитских с десяток по вражьим обозам шарило. С ними за главного — монах в рясе старенькой, глаза вострые — государева дьяка Стефана Бородатого человек доверенный. Не оружье искали, не припасы, не злато-серебро. Ничего такого не брали вовсе — наоборот, странное что-то делали — выбрав повозку богатую, осмотрелся чернец вокруг, на людишек своих прикрикнул, чтоб внимательны были. Да вытащил из-за пояса свиток пергаментный, с печатями — на печатях тех медведи новгородские. Осмотрясь быстро, украдкой свиток тот в повозку, под рогожу, сунул. Руки потер довольно, кивнул людишкам — те дружненько оружье собирать кинулись да припасы разные — будто за тем только и пришли.
Внимательно смотрел на то Олексаха, в кустах заросших у обоза таившийся. Дивился на чернеца — чудны дела твои, Господи! Рука левая у Олексахи поранена — тряпицей грязной замотана, болит рука-то, как бы огневица не приключилась! Да еще хорошо бы к реке ближе пробраться… Вот, кажется, момент удачный — отвернулись людишки московские, разом все, по команде словно…
Наметился было Олексаха, в кустах приподнялся… И тут же обратно нырнул — вовремя! Воеводы московские к обозу ехали — князь Данила, Стрига-Оболенский, Федор Хромой. С ними свита да люди служилые. Остановились у обоза, спрашивали, что да как найдено. Оружье да припасов всяких кучи осмотрели одобрительно. Тут и монах — к повозке богатой кинулся, отвернул рогожку. Пошарил — вытащил свиток пергаментный… Князю подал.
Развернул свиток князь Даниил, вчитался. Нахмурился страшно.
— Писание сие, — сказал, — зело важное. Договор то с Казимиром Литовским супротив государя Ивана Васильевича, супротив веры православной святой, супротив всей земли Русской! Велите к государю везти немедля!
Отъехали воеводы важные. Олексаха, выждав, к реке сбежал да с разбегу в воду кинулся, вброд. Хорошо, обмелела река-то, повысохла, иначе как плыл бы с рукой пораненной? Выбрался на берег, поднялся на кручу, да через поле — к лесу. Там и упасся.
Олег Иваныч очнулся средь других пленных. Не особенно знатных — щитников всяких, да купчишек мелких, да кожемяк. Шея болела — чуть голова не отваливалась. Сунулся растереть — да руки за спиной связаны. Осмотрелся — два окровавленных трупа рядом, под кусточком валялись. Раны характерные — рваные, широкие, носы да губы отрезаны — не от битвы раны те — от пыток! Нехорошее предчувствие охватило Олега Иваныча, как увидал: московиты к дереву толстому пленника привязали, из толпы выхватив. Ну, толпа-то — человек с пол-сорока не будет. И московитов — десяток, с руками окровавленными. Костер жгли, дичь жарили. Один на костре саблю калил. С ними корчага — винищем твореным на версту разит. К корчаге той почасту московиты прикладывались, рыгали да ругались похабно…
Трое возле пленника стояли, лыбились. Молод пленник был, бледен. Кто-то для острастки в живот пнул парня. Кто таков — спрашивал.
— Нифонтий я… подмастерье… — жалобно ответил пленник. — Я и не хотел супротив вас идти-то, силком заставили — а нет, так в Волхов с моста метнули бы.
Олег Иваныч вздрогнул. Нифонтий… Подмастерье вощаника Петра, недавно казненного в Новгороде по наветам Ставра. Был еще и другой… Соперник Гришани на любовном фронте. Сувор, кажется.
От костра приблизился московит с раскаленной саблей. Протянул осторожненько:
— На, дядько!
Другой, что с пленником рядом стоял, сабельку взял аккуратненько:
— Глаз, он шипит-от…
Рраз!
Одно движение всего и сделал.
Страшно закричал Нифонтий…
Левый глаз его кровавым комком полетел на землю, вырванный из глазницы каленой московитской саблей.
— Ловко, дядько Матоня!
Матоня!
Так он выжил тогда, пес!
Олег Иваныч поежился.
— А вот сейчас… смотрите…
Правый глаз несчастного Нифонтия Матоня вырезал медленно, аккуратно, не обращая внимания на страшные крики.
Кто-то из московитов блевал за кустами.
Расправившись с подмастерьем, Матоня вразвалку направился к застывшим в ужасе пленникам. С сабли его падали на траву темно-красные тягучие капли.
Матоня остановился напротив пленников, нехорошо усмехнулся, всматриваясь в глаза каждому по очереди. Весь вид его выражал торжество и довольство…
Дошла очередь и до Олега Иваныча.
Вздрогнул Матоня… Узнал, сволочь!
И такая дикая радость озарила корявую морду садиста, что Олег Иваныч понял — легкой смерти ему не будет!
Неожиданно бросился вперед, ударил башкой Матоню, прыгнул в кусты.
Далеко не убежал — блевавший в кустах московит сшиб его единым ударом. Попинали ногами — запинали бы до смерти, да вмешался Матоня — потащили к дереву.
А ведь — хорошо попинали! Ребер не поломали, а узлы-то на веревке ослабли! Ну-ка… А вот, так и есть…
Осторожненько, чтоб не увидели, высвободил Олег Иваныч правую руку, пальцами затекшими пошевелил, заругался, отвлекая:
— Сволочи! Козлы! Твари!
— А мы те поначалу язык-от укоротим, — утерев под носом красную юшку, ласково пообещал Матоня. — Ну-т-ко, держи ему голову…
Ага, держите, суки позорные… Вряд ли, конечно, получится против всех — да лучше быстрая смерть, чем такая… А уж этого ублюдка Матоню он с собой на тот свет прихватит — к бабке не ходите!
Дождавшись, когда один из московитов схватил его обеими руками за шею, Олег Иваныч враз выпростал руку, протянул к вражеским ножнам… Миг — и московит упал, заколотый собственной саблей!
Ловко отскочив к росшему рядом дереву, Олег Иваныч нехорошо улыбнулся. Московиты попятились. Матоня страшно завыл, словно упустивший добычу волк, и, взмахнув окровавленной саблей, погнал на противника всех имевшихся воинов…
С радостным сердцем ехал по полю битвы славный московский воин Силантий Ржа. Доспехи черненые сняв, отдал людишкам — чистить, сам налегке ехал — в кафтанце атласном, алом, в рубахе белой, вышитой. На ногах — легкие сапоги козлиной кожи с узорочьем тисненым. На поясе — кинжал един только. Правда, меч двуручный, ливонский, к седлу привешен. Ну, это так — позабыл снять, теперь уж не выкидывать же!
Радостно было Силантию, душа пела. Удачно поход сей складывался, что ни сраженье — то победа. Отбили Заволочье, сожгли Русу, здесь вот, на Шелони, сразились. Главным силам до Новгорода двадцать верст осталось — конец войне близок. А потом… Жалует Иван Васильевич Силантия, слугу своего верного, землишкой со людищами, ох, жалует… Да еще и на выбор! Где б испросить-то? Вот, под Русой — ничего, говорят, да и к Новгороду близко. Иль у Тихвинского посада взять, рядом с иконой святой? На богомолье ездить, грехи замаливать. Но, опять же, земли там бедные, не растет жито. Больше овес да репа. Нет, лучше около Русы взять.
Радостно Силантию. За себя, за Москву, за Ивана Васильевича, великого московского князя. Кто он, Силантий, без государя? Никто. Человечишко рода бедного, захудалого, хоть предки с Олегом на Царьград хаживали. А все ж богатства особого не нажили. В бедности жили. Так и Силантий бы… Ежели б не воля государя великого! Все получил за верную службу — и землицу, и людишек, и почет да славу. И еще, бог даст, получит. Служи только. А что строг государь — так то и правильно. Не будешь строгим — пораспустятся людишки, избалуются. Потому — казнить иногда приходится, прореживать. А то взяли моду, как в поганых странах: «вассал моего вассала — не мой вассал», да правила какие-то выискивают, что они государю должны, а что, страшно и вымолвить, он им. Это подумать только! Будто государь — да еще и кому-то должен что? Хватать таковых надо да казнить лютой смертию, чтобы другим неповадно было!
Задумался Силантий. В задумчивости съехал к реке, лицо сполоснул, да в обрат поехал. На холм уж выбрался — вдруг крики в кустах услыхал… Что за черт? Может, враги недобитые?
Вытащив меч, Силантий Ржа пустил коня вскачь. Мечом над головой вращая, на поляну выскочил, корчагу с вином твореным сбив…
— Что тут у вас?
Вздрогнули все от окрика богатырского — и сами московиты, и пленники.
Узнал Олега Иваныча Силантий, остановил нападавших.
Вложив меч в ножны, спешился, подошел ближе. Протянул руку Олегу:
— Саблю… Этим всем, — Силантий кивнул на пленников, — жизнь… Мое слово!
Замер Олег Иваныч. Может быть — лучше погибнуть с честью? А Софья? А Гришаня? Те-то ведь на него надеются! А он тут возьмет — и амба! Все их надежды предаст. Нет, погибнуть — самое простое. А вот выжить, выбраться, Софью с Гришаней выручить — это куда как потрудней будет… Софью с Гришаней… Нет, не только о них подумал в этот момент Олег Иваныч… О Новгороде подумал, о республике Новгородской… О слабости ее и силе… Одно поражение — еще не конец. Еще не рыщут жадно по мощеным новгородским улицам московитские всадники, еще хватит богатства у Новгорода, еще, даст Бог, будет и сила. Еще посчитаемся… не все потеряно, не все…
Усмехнувшись, эфесом вперед протянул Олег саблю…
Силантий кивнул серьезно, приняв оружие, уважительно поклонился, потом вдруг обернулся… Нифонтия безглазого, воющего, увидав, на Матоню взглянул грозно.
Матоня аж присел от страха.
— Ах, вы тут вона чем тешитесь, шпыни мерзостные?! — в ярость придя, вытащил плеть Силантий.
Да как пошел охаживать!
Поразбежаться не могли воины московитские — знали хорошо воеводу — молча удары терпели, спины подставляя.
— Смилуйся, батюшка…
Долго не успокаивался воевода Силантий, плеть измочалил. Одно дело — в честной битве врагов рубить, другое — как эти, похоть свою богопротивную тешить!
Наконец унялся.
— Пленников — к обозу! — приказал.
На Олег Иваныча указал:
— Этого — ко мне с почетом доставите! Да смотрите у меня!
На коня вскочил — слетел махом с холма — и вскачь, вдоль реки, к шатру княжескому…
Всех пленников в Русу пригнали. Дней с десяток прошел уже после пораженья Шелонского. В Русе сам государь московский был — Иван Васильевич. Строгость свою показал к переветчикам — в обозе-то договор с Казимиром нашли. После казнены были на Москве бояре именитые новгородские — средь них и посадник Борецкой Дмитрий, и друг его Василий Казимир, и боярин Киприян Арбузьев — вот уж не пригодилось богатство-то. Один Епифан Власьевич упасся, то ли прощен был, то ли позабыли про него, дурня старого. Иван Васильевич в кругу ближнем так объяснял те казни: Новгород-де никакая не особая сторона, а его, великого князя, отчина. Потому и бояре — не пленники именитые, а изменники-переветчики, только смерти и достойные. Потому — какое с ними благородство? Какой выкуп? Казнить всех! Головы — с плеч!
Что ж касаемо других людишек, простых… Ох, виноваты и они пред государем великим, ох, виноваты…
К вечеру попросился Олег Иваныч к Силантию-воеводе. Тот встретил ласково, угостил пивом. Дальше беседа пошла.
— Осерчал государь и на простых людишек новгородских, — качая головой, тихо произнес Силантий. — Казни великие могут быть, коли не заступится за них никто… за предателей-переветчиков!
— За Родину свою бились, за свободу да вольности новгородские! — не выдержал Олег Иваныч. — А ты — «предатели»…
— А как же грамота, что в обозе вашем нашли? — взвился Силантий. — Договор с Казимиром!
Олег усмехнулся:
— Ты что, Силантий, совсем уж нас за дураков держишь? Зачем же такую важную грамоту с собою в битву возить? Да лучше б в храме Софийском упрятать подале! Ежели б была она… Ты ж знаешь, я сам в то посольство ездил — ни о чем с Казимиром не договорились, ничего не обещал он…
— А грамота?
— А грамота та — подложная, сам понимать должен! Несподручно Ивану Васильевичу запросто так Новгород воевать, вот и выискивает вины мнимые…
Заскрипел зубами славный московский воин. Ничего не ответил. Отпил пива из кувшинца прямо, губы рукавом вытер.
— Не о том говорим мы с тобой, Силантий, — покачал головой Олег Иваныч. — О пленных думать сейчас надобно! Не только бояр — и простых много. Чего ж их зря губить-то?
Силантий задумался, кивнул согласно.
— Мыслю я — Феофил, владыко новгородский, заступиться перед государем московским может! — закончил Олег Иваныч.
— Феофил? — удивленно переспросил воевода.
— Феофил! — утвердительно кивнул Олег. — Владыко наш князю московскому зла не делал — полк его с вами сражаться не стал, да и прежде того — сколько раз митрополиту Филиппу Феофил честь выказывал. Думаю, не забыл то Иване Васильевич…
— Может, и не забыл, — пожал плечами Силантий. — Но чего ж ты от меня-то хочешь, человече?
— Гонца к Феофилу! — Олег Иваныч взглянул прямо в глаза московскому воеводе. — Иль хочешь, чтоб с пленными было так, как там, на поляне?
Вздрогнул Силантий, опустил плечи. Задумался. Гонца к Феофилу… Что ж, можно и гонца… хуже не будет. Только обставить все по-хитрому…
Встав с лавки, Силантий подошел к Олегу Иванычу и торжественно возложил ему на плечо руку:
— Ты — мой пленник, Олег. Потому — отпускаю тебя покуда под честное слово, как рыцаря славного. Коня дам — скачи в Новгород, к владыке. Все как есть обскажешь! Только… — Силантий оглянулся: — Только — ежели что, сделаем так, будто бежал ты, коня украв, — понизив голос, закончил он. — Попадешься — казнят. Ну, а не попадешься — ко мне возвратишься обратно… Согласен?
Олег Иваныч кивнул, соображая, как бы ловчее проехать… Да не попасться бы…
— Коня у реки возьмешь, на водопое.
Ближе к ночи ринулся прочь Олег Иваныч, коня с реки уведя. Что есть мочи гнал, торопился. Впрочем, никто его и не останавливал — за своего сходил в тегиляе московском, Силантием-воеводой выданном…
Когда коня брал, человечка одного спугнул, у реки-то. Человек тот в камышах прятался, руку пораненную рубахой перевязав. Умело перевязал — видно, знал — как. При виде всадника к кустам метнулся — об бригантину — латы нагрудные немецкие, им же сброшенные, спотыкнулся. Гремнули латы — затаился человек, кинжал длинный в руке сжал. Однако не оглянулся всадник, исчез в дымке ночной. Так и не встретился Олег Иваныч с Геронтием. А тот и не узнал его — поди разбери во тьме-то! Руку раненую под плащ упрятав, пошел на север Геронтий, в урочищах болотных таяся. В деревни, что на пути встречались, иногда заходил осторожно, лекарем бродячим сказываясь, но все больше лесами пробирался. В поясе зашитые гроши серебряные немецкие позвякивали. Не тратил их Геронтий, берег. В пути ягодой да рыбой перебивался, исхудал весь, да зато рука израненная не докучала — быстро на заживку пошла, что и сказать, лекарем Геронтий был изрядным. Дней через несколько вышел Геронтий к реке широкой. То Нева-река была. Мелких купчишек увидев — к ним попросился…
Через некоторое время в Выборге, городишке свейском, новый человек объявился, Герозиус-лекарь. По-свейски да по-немецки (в Выборге немцев много было) не бог весть как говорил, больше по-латыни, да зато лечил как! С год назад тому, как стену городскую строили, сорвался с Ратушной башни камень — да по ноге купчине, мимо проходившему. Так и сохнуть стала нога-то! А Герозиус-лекарь — вылечил! Ну, не совсем уж так вылечил, но гораздо легче стало купцу. И не простой тот купец оказался — городского магистрата член. С тех пор благоволить стали Герозиусу. Так и прижился лекарь. Ну, да счастия ему…
Коня у реки взяв да разминувшись с Геронтием, Олег Иваныч доскакал вскоре до Новгорода. Слеза прошибла при виде стен белокаменных, моста, Волхова, Софии…
Стражники пропустили беспрекословно — в лицо знали.
В грановитую палату вбежав, бросился на колени:
— Владыко…
Глава 7 Коростынь — Москва. Июль — октябрь 1471 г.
Я видела, вброд
Чрез тяжкие воды
Клятвопреступники
И душегубы,
И те, кто чужих
Жен соблазняли,
Идут и холодные
Трупы гложут.
«Старшая Эдда»Обняв Олега Иваныча, Феофил поднял его с колен, выслушал, скорбно поджав губы. Выслушав, молвил:
— Так и я мыслил — ехать к Ивану, просить… Казнит Иван-то Васильевич людишек, никак остановиться не может. Несколько раз уж посольства к нему посылали. Все одно…
Владыка вздохнул.
— Как в Новгороде-то? — поинтересовался Олег Иваныч. — Ставр-боярин не объявлялся ли?
— Не объявлялся Ставр, — качнул головой Феофил. — А в Новгороде — всяко! Кто говорит-де, «большие» люди, бояре, «меньшим» сражаться не давали, а кто совсем другое речет. Да вот, третьего дня переветчика поймали — Митрю Упадыша…
Олег Иваныч насторожился.
— Заколотил тот Упадыш с людишками своими, переветчиками, пушки на забороле! Железьем заколотил — намертво.
— И где ж сейчас тот Упадыш, в порубе?
— Был в порубе, — кашлянул владыко, — да ночью убег — кто-то засовы отворил, стражника убив. Такие вот дела в Новгороде. Ну да ладно — теперь бы людей упасти от гнева Иванова. Сейчас и поедем. Погодь, людей кликну.
Странным казался прежде блестящий город. Каким-то поникшим, чужим, пасмурным, несмотря на сияющее в небе солнце. Позакрывались на мосту лавки, затих Торг, не слыхать было веселой переклички рыбаков на вымолах. Одни лишь вороны каркали, сидя на окружающих храмы деревьях.
Не принял московский государь Феофила. Не захотел. Так и стоял владыко униженно, словно шпынь ненадобный. Терпел поношение — не для себя терпел, для людей новгородских пленных. Остановится ли кровавый московитский зверь — во многом то и от владыки сейчас зависело. Потому и смирил гордость, стоял смиренненько…
Олег Иваныч пред Силантьевы очи явился. Ничем не выказал отношенье свое Силантий, молвил только: «Иного и не ждал!» да, пленника в горнице оставив, вышел. На пороге обернулся — подмигнул:
— Приятель твой старый видеть тебя хочет, жди!
Олег Иваныч пожал плечами — ждать так ждать — чего еще делать-то?
Не долго ждать пришлось. И часу не прошло — ступеньки на крыльце заскрипели. Олег Иваныч на дверь глаза вскинул…
Боярин знатный, в одеждах до полу, златом вышитых — солнце в окно глянуло — смотреть больно. Олег и не узнал сперва, пока не усмехнулся вошедший:
— Ну, здрав буди, вражина!
— Иван… не знаю, как по батюшке?
Снова усмехнулся боярин:
— Зови уж, как прежде звал, — Иван Костромич. Все ж таки из костромских род-то наш вышел…
Не просто так зашел боярин, беседу тайную с Олегом имел. После беседы той, с разрешенья Силантия, дошел Олег Иваныч до Феофила-владыки, что место у шатра государева не так давно покинул обессиленно.
Поклонился владыке, молвил:
— Умные люди московские так сказывали: раз государь перед очи свои не пущает, так пусть поначалу все посольство боярам поклонится, а уж они — братьям Ивановым, ну, а те уж — князю. Да про подарки им не забудь, владыко.
Кивнул Феофил:
— Что ж, пусть хоть так…
Следующим днем московское войско Василия Образца разбило на Двине-реке рать новгородскую князя Василия Гребенки-Шуйского да воеводы Василия Никифоровича. Не поддержали двиняне новгородцев, незачем им то было…
В тот же день Иван Васильевич, великий князь Московский, братьями да боярами уговоренный, гнев на милость сменил: согласился новгородское посольство принять.
Сам Феофил-владыко челом бил государю московскому, в грехах винился. Выкуп за пленников обещал — шестнадцать тысяч рублей, а в рубле тогдашнем сто серебряных денег новгородских было да двести московских. Вдвое больше того выкупа обещал Феофил, что когда-то уплачен был в Ялжебицах.
В шатер государев войдя, склонился владыко:
— Господине великий князь Иване Васильевич всея Руси, помилуй, Господа ради, виновных перед тобой людей Великого Новгорода, своей отчины! Покажи, господине, свое жалованье, уйми меч и огонь, не нарушай старины земли своей, дай видеть свет безответным людям твоим. Пожалуй, смилуйся, как Бог тебе на сердце положит!
Выслушал речь Иван Васильевич, задумался. Тут и братья его, и бояре — кланяться начали, просили за Великий Новгород. Даже Филипп, митрополит Московский и всея Руси, грамоту государю прислал — пощадить просил Новгород.
Усмехнулся Иван Васильевич, бровки раздвинул гневливые — дескать, смилостивился, уговорам внемля. Объявил новгородцам:
— Отдаю нелюбие свое, унимаю меч и грозу в земле новгородской, повелеваю прекратити жещи и пленити и отпускаю полон без выкупа!
Кинулись в ноги новгородцы, валялись…
Договор заключили. По договору тому все с иными странами сношения новгородские — с этого дня только по воле князя великого были. Грамоты вечевые от его же имени выдавались и скреплялись его же печатью. Верховный судья во всех делах Новгорода Великого отныне — Иван Васильевич. Часть Двинской земли отдал Новгород да обязался заплатить «копейное» — что обещали. Иван, правда, милосердие явив, тысчонку скинул — и без того немало выходило…
Стенала выжженная земля новгородская, гордость и войско свое потеряв. Разорена была и обезлюжена, как еще никогда не бывала. Обессилен стал Новгород, обесчещен, как последняя распутная девка!
После жары — поднялся ветер. Целый ураган, буря! Срывал с уцелевших изб крыши, с корнями рвал деревья. Словно сама природа захотела вдруг разорить то, что еще не разорили московиты.
Жители Русы, что бежали в Новгород, возвращались после договора в город свой. По Ильменю-озеру плыли, на стругах да учанах малых, числом за две сотни. Налетела на озеро буря, перевернула суденышки — семь тысяч потонуло враз. Все за грехи наши, Господи…
Когда с радостной вестью посольство владычное вышло — заприметил Олег Иваныч человечка, из шатра Иванова выскочившего. В кафтанце богатом, в шапке беличьей… Обернулся невзначай человечек, стрельнул по сторонам глазами оловянными…
Ставр!!!
Но — откуда?
В шатре московитского государя!
Ставр тоже заметил Олега Иваныча. Узнал. Помахал издалека рукой, усмехнулся змеино. Снова в шатре скрылся.
Эх, хватать бы сейчас Ставра! Да поспрошать бы про Софью да про Гришаню…
Олег Иваныч усмехнулся невесело. Хватать! Самого уж схватили, как бы теперь не голову с плеч…
А к тому дело шло!
Гадюкой болотной пролез Ставр к великому князю. Что шептал — то неведомо, а только после того повелел Иван Васильевич доставить «иматого новгородца Олега» пред свои светлы очи.
— Зовут — пойдем, — пожал плечами Силантий. — Похоже, худо тебе придется, Олега. Ставр-от в почестях ныне у государя. Не знаю, смогу ли выручить.
Иван Васильевич в златотканых одеждах сидел посередине шатра в высоком кресле. Возраст — чуть помладше Олега. Лицо худое, смурное, глаза темные. Взгляд строгий, пронзительный.
— Ты ли новгородец Олег?
— Я, князь, — поклонился Олег Иваныч.
— Просят казнить тебя лютой смертию, знаешь то?
Олег Иваныч усмехнулся:
— Догадываюсь, великий государь. Даже знаю — кто! И почему — тоже.
В смурном взгляде московского властелина неожиданно проскользнуло любопытство:
— И почему же?
— Женщина, — развел руками Олег Иваныч, отвечал дальше без хитрости: — Одну мы женщину любим. Увез ее боярин Ставр, запрятал. Теперь и меня твоими руками жизни лишить хочет.
— А стоит ли любви такой женщина-то?
— Стоит, княже! — без раздумий, в сей же миг ответил Олег Иваныч и, представив боярыню, печально улыбнулся.
Усмехнулся Иван Васильевич, задумался. Поморгал глазами. Потом спросил, не Олег ли за Феофилом тайно в Новгород ездил. Узнал ведь откуда-то! Олег Иваныч украдкой бросил взгляд на Силантия — не повредить бы. Тот кивнул, говори, мол…
— Я, государь, — снова склонился Олег.
— И в обрат вернулся, как обещал… — протянул великий князь, — то похвально вельми. — Подумал немного. — Ну так вот, — молвил громко. — Живота человека новгородского Олега никому не лишать! Тебе, воевода Силантий, полоняника сего при себе держать, не отпускать никуда — на Москву везти! Там поглядим.
Подошел ближе к Олегу Силантий, шепнул в ухо:
— В ноги валися, чудо! Благодари за милость великую.
Ну, куда Олегу Иванычу деваться? Повалился, хоть и противно было. Да и то сказать — лучше в ногах чьих валяться, нежели глупой головы лишиться. Сгодится еще… Против того же Ивана. А в Москву, так в Москву! Между Москвой и плахой — уж лучше Москву выбрать, хоть и не вполне устраивал такой расклад Олега Иваныча…
В самое начало нового, 6980-го, лета, 1 сентября въехал Иван Васильевич в Москву. С победой въехал, до самых палат княжеских не смолкали крики приветственные. Радовалась Москва, государя своего славила криками да звоном благостным колокольным…
Неглинную проехали, Москву-реку — вот и Кремль белокаменный. Стены мощные, валы земляные, башни. Все то при Дмитрии Ивановиче, что татар разбил на поле Куликовом, строено. Допрежь него еще Иван Калита стены ставил, но те поменьше были, да не такие обширные. При нем же и палаты митрополичьи в Кремле, на площади Соборной, заложены были, и церкви. Каменный собор — отсюда и площади название — рядом с палатами княжьими и тут же, в уголке, — маленькая каменная церковь Святого Иоанна Лествичника скромненько притулилась, а напротив — Ризположения церковь, двадцать лет назад митрополитом Ионой возведенная, в память избавления Москвы от татарских полчищ Мазовши-царевича. Ночью жаркой июльской подошли татары злобные, да вдруг отступили внезапно, все добро награбленное в полях да на дороге бросив. Праздник как раз тогда был святой — Положение Ризы. В память того и названа церковь. Тоже небольшая, с одной маковкой.
Звонили колокола на площади. В соборе каменном да в Ризположения церкви. Из палат первый священник Всея Руси — митрополит Филипп государя встречать вышел. Одеяние да клобук златом сияли. Так и запомнили москвичи тот день: синее небо, желтое, золотом отражающееся в церковных куполах, солнце да колокольный звон, плывущий в пахнущем скошенными травами воздухе.
За Неглинной, от реки недалече, на богатом постоялом дворе Неждана Анисимова обедали. Белорыбица, сиг заливной, караси в сметане, пироги с визигой, блины с икоркой красной. Так, не бог весть что, скромненько. Запивали медком стоялым да мальвазией фряжской. Вернее, обедали-то двое: государев дьяк Стефан Бородатый да новгородский боярин Ставр. Сам хозяин лично за столом прислуживал, из горницы красной всех прочих повыгнав. Мордастый, приземистый, бородища лопатой. Редкие волосенки на плешь гребнем зачесаны. Кувшин изрядный с мальвазией из подвалу принес — на стол поставил с поклоном, ушел, дверь затворив. Малую щелку оставил — припал ухом.
— Хорошо ли слыхать?
Отпрянул от двери Неждан, ругнулся. Митря Упадыш, боярина новгородского человек, улыбаясь, сзади стоял, ножичком кривым играя… Пришлось отойти от двери-то.
Пообедав, рыгнул сытно дьяк, боярину кивнул благостно. Посидел немного, мальвазию смакуя. Потом достал из калиты на поясе монету серебряную — деньгу новгородскую. Поставил на ребро, щелкнул ногтем. Завертелась монета, упала со стола на пол со звоном.
— Все, друже боярин Ставр Илекович, — прихлопнув монету сапогом, усмехнулся в бороду дьяк. — С деньгой бесчестной кончать пора — смысла нету боле! Помог ты нам много и многажды же. Мыслит великий государь — и еще, ежели надо, поможет Ставр. Так ли?
— Храни Господь государя великого, Ивана Васильевича, многая ему лета! — растянув узкие губы в улыбке, кивнул Ставр и вновь наполнил рубиновым терпким вином бокалы из тонкого венецианского стекла. Он и без бородатого дьяка знал, что сильно помог московскому великому князю. И деятельно руководил шпионским центром, и мутил воду на вече, и готовил облыжные обвинения самых знатных бояр — хоть бы вот Борецких да Арбузьевых — и, конечно, как мог, подрывал экономику Новгорода, по прямому указанию великого князя пуская в оборот фальшивые серебряные монеты. Последнее занятие больше всего нравилось Ставру — доходу приносило изрядно. Жаль, очень жаль было начинать обманывать грозного московского государя — да делать нечего — прекращать выпуск фальшивок боярин Ставр вовсе не собирался. Получше затаиться — то другое дело.
Распрощавшись с государевым дьяком, Ставр, взяв в руки недопитый бокал, подошел к распахнутому окну, выходящему на двор и дальше, на Неглинную. Горница располагалась на втором этаже в деревянном тереме, украшенном затейливой резьбой. Вообще, весь постоялый двор Неждана не так давно, после очередного пожара, был заново выстроен из смолистых сосновых бревен. И главная, рубленная в лапу, изба, и резное крыльцо, и терем, и хозяйственные постройки — амбар, конюшня и баня. Высокий заостренный тын опоясывал двор по периметру, воротами выходя к Неглинной, где был устроен небольшой вымол — пристань. Богатый был двор у Неждана — хоть куда двор. Только вот про самого Неждана молва худая ходила. Скопидом был на всю Москву известный. Люди говорили — за медяху удавится. Ладно, слуг, — жену родную в бедности держал беспросветной да тиранил ежечасно. Как и Ульянку, свояченицу, девку молодую, с полгода тому на Москву с Новеграда приехавшую. Казнили тогда в Новгороде вощаника Петра — Нежданова тестя. Узнав про то от Ульянки, погоревал немного Неждан — мастерскую-то вощаную в новгородскую казну по суду забрали. Потом махнул рукой — ну ее, мастерскую эту, за ней всяко пригляд нужен, а какой тут, к ляду, пригляд — сам на Москве, а мастерская в Новгороде. А девчонка — что девчонка? Воли ей не давал Неждан особо, работать заставлял — и в будни, и в праздники. Как появилась — сразу ей сказал: у нас, мол, указ такой — все работают. Вот и работала Ульянка… Дел много было: за постояльцами уследи, постелю взбей, с утра — уток, куриц, гусей накорми, к обеду двор подмети, после обеда — пока почивает хозяин — столы начисто выскреби, к вечеру полы везде намой, к ночи… К ночи и отдохнуть можно — молитву творя, да кланяясь — набожен был Неждан. Только не получалось отдохнуть к ночи Ульянке — от усталости без сил на сундук за печкой валилась — там и спала-отсыпалась. С утра — опять то же самое. Плакала украдкой за печкой Ульянка, тятеньку казненного вспоминала, Новгород родной да Гришаню. Гликерья — сестрица старшая, от мужа тайком, Ульянку голубила — то пряник даст, то заедку сладкую сунет. Странно, но от жизни такой не спала с лица Ульянка — наоборот, похорошела, расцвела, заневестилась. Видно, возраст такой подошел, по ночам сны греховные снились. Утром-то и помолиться как следует некогда — работа ждет, вечером — невмоготу, в сон клонит. А Неждан-то сластолюбцем оказался. Он и ранее от жены налево похаживал, на законы наплевав Божески, а уж как Ульянка появилась — ужом увивался Неждан. То ущипнет, то погладит, а то однажды зажал в чулане, задрал юбку… не учел, дурак, что Ульянка девка-то новгородская, ученая. Огрела по лбу поставцом да еще законы прочла, как сумела:
«А всех дел горше есть блуд: всяк бо грех проче тела есть, а блудем свое тело осквернити, тоя бо скверны! Аще муж от жены блядеть…»
Испугался Неждан — не ожидал такого — ко лбу деньгу приложив, вылетел из чулана. С той поры не приставал боле к Ульянке — облизывался только да работой гноил…
Посмотрел в окно Ставр-боярин, допив вино, бокал на стол поставил. Дверь распахнув, высунулся:
— Митря!
— Тута, батюшка!
— Дверь прикрой, шильник!
Ставр понизил голос:
— После обеда пойдешь в Кремль, в приказной палате сыщешь дьяка Стефана Бородатого, отдашь ему вот это… — боярин снял с пальца серебряный перстень, — скажешь — забыл-де, обедая. Еще скажешь — пускай государю напомнит про шпыня одного новгородского, что полоняником почетным у господина Силантия живет. Дескать, зело вреден полоняник тот да колдун, сказывают, как бы не навредил государю… Чуешь, про кого речь?
— Про собаку бешену!
— Пусть так. Ежели встретишь вдруг собаку ту….
— Нож острый в сердце!
Ставр стукнул рукой по столу:
— Молчи, дурень! Нож… Хорошо бы, конечно. Но не сейчас, позже. Нельзя на Москве его живота лишать — государь московский строго-настрого приказал придержать покуда. Ежели ножиком — сразу догадаются, кто… Тут хитрей надо. Ладно… Ежели встретишь, сразу ко мне — докладывай… А там ужо посмотрим. Уразумел?
Митря поклонился низехонько:
— Уразумел, батюшка-боярин!
— Ну, в путь тогда.
Ужом болотным, в армячишке неприметном сереньком, выскользнул Митря со двора на Неглинной. С лодочниками на вымоле сторговался — чрез реку переправился за мзду малую…
Ставр-боярин походил по горнице, потянулся, зевнул сладко. Да в покои спальные отправился. Сам хозяин, Неждан, впереди бежал угодливо, светил свечечкой — темновато было в покоях-то, оконца узенькие ставенками кленовыми заперты. Темно. Дак и на что в спальне светлость-то надобна?
Поклонился Неждан, свечку на лавке оставив, вышел. Постелю направить Ульянку-девку к гостю прислал.
Вошла Ульянка — черна коса, глазки голубеньки. Лицо белое, ресницы длинны, кверху загнуты. Рубаха белая да сарафан синий, тонкий. Под сарафаном — тело молодое, девичье, сладкое. Как нагнулась — захолонуло сердце у Ставра. Подошел сзади, за плечи обнял:
— Благодарствую за постелю, девица!
Ульянку от ласки такой в жар бросило. Вырвавшись, унеслась прочь из спальни, ногами босыми топая. Посмотрел ей вослед боярин, засмеялся. А посмеявшись, на постелю улегся, задумался, ус покусывая. Хороша хозяйская девка. Задрожала верхняя губа у боярина…
Посольский дьяк Федор Курицын встретил Олега Иваныча приветливо. Наслышан уж был о знатном пленнике. Не родом своим знатным — а известностью да дружбой со многими людьми, на Москве важными. С Иваном Костромичом, сыном боярским, с Товарковым, тоже боярином и тоже Иваном, с Силантием Ржой — служилым человеком воинским, с Алексеем-стригольником, из Новгорода в Москву переехавшим. Не запросто так переехавшим — по приглашению государя великого. Нравилась Ивану Васильевичу идея стригольничья — от лишней землицы церковь избавить — и кто знает, что за мысли роились в главе его царственной? Митрополит Филипп шибко переживал из-за того, да побаивался государю перечить.
Дьяк Федор, для порядку повыспросив гостя о здоровье, сразу же начал хвастать новой книжицей латынской.
Олег Иваныч раскрыл: готические буквы, строчки ровные, прямые… пожалуй, что даже слишком ровные…
— Немецкой земли книга неписаная, — пояснил Курицын. — Мастеровым тамошним, Иваном Гутенбергом, специальный станок для оттисков страничных выстроен. В нем — наоборот — буквицы. Прижал — и на тебе, готовая страница. Так, за полдня — и книжица, не год переписывать!
— Да, чудо сие чудесное! — покачал головой Олег Иваныч. — Я всегда говорил, Федор: техника — основа прогресса!
— Чудно ты ругаешься, Иваныч, даже я не всегда понимаю… Это ты по-каковски?
— А черт его… Прости, Господи! — Олег Иваныч привычно перекрестился на иконы в красном углу, посетовал: — Скучно у Силантия в деревне-то. Эх, в Новгороде-то дел непроворот…
— Не можно тебе посейчас скрыться, — потеребил бороду дьяк. — Намедни Иван Васильевич про тебя спрашивал, жив ли… Силантию худо сделаешь, ежели сбежишь. Он за тебя поручился.
— Про то знаю, — со вздохом кивнул Олег Иваныч. — Потому и сижу тут.
Скрипнув, отворилась дверь. Заглянула бородатая рожа. Поздоровалась приветливо.
— И ты здравствуй, Стефан, — кивнул роже Курицын, пояснил Олегу: — То умнейший дьяк государев.
— Наслышан уж.
Поклонившись, дьяк Стефан Бородатый испросил, не сыщется ль у Федора какой дивной книжицы, человечек один спрашивал…
— Сыщется, — усмехнулся Курицын. — Только чуть позже зайдет пусть…
— Так и передам.
Простившись, дьяк Стефан Бородатый затворил за собой дверь. Олег Иваныч тоже решил, что пора и честь знать. И так уж всех навестил, кого можно, кроме Алексея-стригольника, тот где-то далеко жил, на посаде.
Выехав из Кремля на предоставленной Силантием лошади — низенькой гнедой с длинной густой гривой, — Олег Иваныч направился на Горшечную, там, ежели свернуть к Неглинной, по словам Курицына, должен был находиться ближайший постоялый двор. Перекусить давно пора было.
По-московски одет был Олег Иваныч — кафтан узкий длинный, цвета лазоревого, с узорочьем плетеным, на правой груди застегивался, по обычаю православному. Татары, к примеру, точно такой же кафтан налево запахивали. Ну, бусурмане — они бусурмане и есть.
Широко раскинулась Москва, однако город все больше деревянный, каменных-то построек, кроме Кремля, и не видать почти что. Да и в Кремле-то, честно говоря, не так чтоб уж очень. Куда там до Новгорода, Господина Великого! Деревня деревней Москва-то… Избенки курные, заборчики покосившиеся, грязь по колено кругом — ни те пешему пройти, ни конному проехать. Как хочешь, так и выбирайся. Как вот сейчас Олег Иваныч делал, улицы московские люто ругая. Не пройдет и двадцати лет, как появятся на Москве соборы, красоты неописуемой, как стена новая вкруг Кремля станет, с башнями да воротами. Пригласит Иван Васильевич из Италии архитекторов: Аристотеля Фиораванти да прочих фрязинов. Взлетит, размахнется Москва — истинно столица земли Русской! Но это потом… А пока так — скромненько, убого даже…
А вот и двор постоялый. Нижняя горенка — просторна, правда, темновата малость. Ну, ничего — мимо рта всяко не пронесут. Веселья маловато — не Новгород, даже не Псков, уж не Ревель тем более, где корчмы общине городской принадлежали, всяк человек вольный туда хаживал, не пития ради — общения. Обо всем в тех корчмах судачили, а уж главная тема — политика. Не то на Москве. Нет общины, нет и корчем общинных. Все люди — княжьи, все — великому князю обязаны — какие, к черту, разговоры свободные? Питейные дома — только с соизволения княжеского! Государь позволит — владеешь смиренненько, нет… ну уж тут твоя забота…
Народишку изрядно было. Купцы, подьячие, пара детей боярских. Парни какие-то перед Олегом вошли с улицы, шапки сняв, поклонились хозяину:
— Здрав будь, Неждан Онисимович!
Хозяин — приземистый мордатый мужик с маленькими сальными глазками — кивнул им небрежно, Олега Иваныча же увидев — низехонько поклонился… Ба! Да он еще и плешив.
Видно, за боярина важного принял. Кланяясь, правой рукой дорогу указывал:
— Сюда пожалте, батюшка.
Олег Иваныч уютно расположился у открытого окна и, в ожидании заказанной еды, рассматривал посетителей. Так, ничего, вернее — никого — интересного. Обычные люди. Правда, вон та компания подьячих в углу уже изрядненько поднабралась. Песни запели:
Моя дочка ледаща не ночуе дома, Моя дочка ледаща не хоче работати, Да как приде неделя, иде в корчму пити!Однако — и репертуар у них! Похабная какая песня-то… Про дочку-алкоголицу… Только что без ругательств — за то штраф изрядный, а то и кнут. А вообще — ничего, если прислушаться. На «Битлз» похоже чем-то. Не, больше на «Роллингов»… «Рубин Тьюздей»… Эх, всем хорошо тут, да жаль вот, рок-н-ролл не родился еще! А так бы уж так душевно было… Ладно, не родится сам — поможем!
Девчонка хозяйская прибежала — синий сарафан, небелена рубаха, серый плат повязан скромненько. Кувшинец медовый поставила с поклоном да каравай.
— Кушай на здоровье, господине!
— А рыба где? «Кушай».
Усмехнулся Олег Иваныч, на девчонку глаза вскинул. Черна коса, тетивой татарской брови, глаза — омуты…
Мама дорогая!
Ульянка!
Как есть Ульянка!
А — не она? Ну как обознался? Проверим-ка.
— Поклон те, дева, от Гришани-отрока!
Девчонка аж поднос из рук выронила. Всхлипнула, поднос подняв, убежала.
Вот и думай…
Странная она какая-то, Ульянка. Ежели и вправду она это.
Покушал Олег Иваныч рыбу — самолично хозяин плешивый принес — чарку меда выкушал. Тьфу-ты, прости, Господи! А ведь паленый медок-то! Явная корчма — так тут неочищенный самогон называют — да еще с зельем — травами ядовитыми, дурманящими. Дурь такая — утром хоть об пол башкой больной бейся! А мед — для маскировки добавлен. Запахи сивушные отбивать. Его ж совсем мало нужно, меду-то. Капнул — и на тебе. Спьяну-то и не разберешь. Но то — спьяну. А уж Олег-то Иваныч трезв был, как слеза Иисусова. Да и привык к напиткам качественным. Паленку враз распознал. Распознав — обиделся, хозяина жутким голосом кликнул.
А, прибежал, паразит плешатый! Ах ты, тля болотная…
Не дошло до расправы дело.
Нюхнул только кувшинец Неждан Анисимов — сразу все понял. Перепутал, сказал, да к подьячим бросился. С их стола кувшинец забрал, Олегов поставил. Пейте, ребята, веселитеся!
— Вот, батюшка, отведай при мне!
Аккуратно налил в чарочку.
Хватанул Олег Иваныч… О! Другое дело! Сразу видно — медок дорогой, стоялый, выдержанный — пьется как любится!
— Хорош ли медок-то?
— Неплох. Тащи еще рыбы. Али девку свою пришли.
Не прислал плешак девку. Самолично рыбу принес. Ну, черт с ним.
Пообедав, вышел Олег Иваныч на двор коня отвязывать. Глянь, покормили конягу-то, овес в ясли присыпали. И то ладно. Не успел в седло сесть, за рукав схватил кто-то. Оглянулся: девица хозяйская… Глаза заплаканные подняла, молвила:
— Не могла я внутри-то, Неждан там. Жив Гришаня-то?
— Жив, Ульянка, коли поклон передает… — не моргнув глазом, соврал Олег Иваныч, уж больно девчонка выглядела опущенной. Да ведь — и не совсем соврал-то. Наверняка жив отрок, как и Софья жива. Дайте только срок до них добраться!
Выговорилась девка, расплакалась. Про все рассказала, на терем опасливо глядючи. И про работу с утра до ночи, и про тоску лютую, и про Неждана…
Олег Иваныч растрогался, по голове девчонку погладил:
— Неладно живется тебе, девица. Ну, не реви, не реви. А может, в Новгород тебе лучше вернуться?
— А можно? — вспыхнули надеждой глаза Ульянкины, засветились.
Смутился Олег Иваныч, только и буркнул:
— Придумаем что-нибудь. А покуда — жди, дщерь!
Убежала в дом Ульянка, на прощанье рукой махнула. Ишь, как обрадовалась-то! А чему? Чем он, Олег Иваныч, ей помочь может? Сам-то — пленный, и ежели пользуется какой-то толикой свободы, так единственно из благородства и расположения Силантия Ржи, служилого человека Ивана Васильевича, государя московского. Захочет Иван, прикажет — и нет Олега! Вот так-то. Но с Ульянкой надо что-то думать. Может, через купцов попробовать? Или — через дьяков? Может, поедет кто в Новгород… Съездить, спросить? Или — завтра? Нет, чем раньше, тем лучше — вон, как воспрянула, Ульянка-то! Надеется, чай…
Хлестнув коня, Олег Иваныч рысью вылетел на Гончарную. Даже, похоже, на повороте человечишка сшиб. Оглянулся — ан нет его, человечишка-то! Ну, значит, не сильно пришиб. Повернул коня к мосту — дальше уж поскакал без оглядки.
Повезло Ульянке. Через неделю отъезжал в Новгород государев дьяк Стефан Бородатый с подьячими да с охраной. Правда, не шибко люб был дьяк тот Олегу Иванычу, не лежало сердце. Но, как сказал Федор Курицын, Стефан считался человеком честным.
Ага, честным!
Олег Иваныч усмехнулся даже.
Грамотою насквозь лживой Иванов поход объяснять… За неисправление-де новгородское! Куда как честно…
Ну, выбирать не приходилось. Договорились со Стефаном. Тот кивнул важно, обещался дщерь младую куда надо доставить.
Ну, вот, одним делом меньше.
На Гончарной, у поворота, поднялся из грязи мужичонка, бок ушибленный почесывая. Митря Упадыш. Погрозил вослед Олегу Иванычу кулаком, поругался, да, плюнув, на двор Неждана пошел.
На Торгу, на вымолах у Москвы-реки, шумит-кипит-волнуется море людское. Больше рыбой торгуют, да пирогами, да снедью всякой — другой-то какой товар и в городе купить можно, а тут — припасы съестные, сбитень, квас.
— Пироги, пироги с белорыбицей, во рту тают!
— Квас ледяной, с погребу!
— Калачи печеные, на трубе дымной верченые!
— Пироги, пироги…
— Квас…
А пожалуй, что не хуже, чем в Новгороде! Пирогов — тех и поболе будет. Да муки аржаной да пшеничной — пудами, и дешево все — самый обмолот, как раз хлеба поспели. Вот как бы и в Новгороде так…
Посмурнел ликом Олег Иваныч, к вымолам подъезжая. Эх, Новгород, Новгород, похоже, потеряешь ты скоро всю свою вольность, как девка гулящая честь теряет. Это пока управленье прежнее в Новгороде оставалось, да и владыко все тот же — Феофил… И вече… Все так вроде. Правда, главный-то суд — княжий, Ивана Васильевича, государя московского… и Всея Руси. Так-то! Пусть осталось еще кое-что в Новгороде, пусть не до конца еще свободу лапы московитские задушили — однако увяз коготок — как бы всей птичке не пропасть. Потому — выбираться из такой ситуации немедля надо и — всеми способами… То — про Новгород.
Птицы битой хватало на вымолах. И куры, и утки, и дичь: рябчики, перепела, журавли с цаплями. Хоть и жестковато журавлиное мясо — да вкусно, ежели приготовить правильно. Олег Иваныч едал третьего дня журавлей жареных, у Силантия Ржи, под Москвой, на усадьбе. Деревенька — три двора, рядом еще две таких же. Вот и вся землица, великим князем Силантию за верную службу испомещенная. Как называлась деревня — не помнил Олег Иваныч, да и где, к востоку, к югу ли — пес ее знает. По Можайской дороге, кажись. Да и, в общем, не надобно то и знать ему было: все одно один по дорожкам пригородным не поскачешь — шалят в лесах-то. Дадут по башке деревиной — оберут, хорошо, ежели жив останешься. Как ни боролся Иван Васильевич со шпынями лесными — а все выходило неладно, никуда не девались шпыни-то. Потому и не рисковал народец московский числом малым по лесам ездить, в сонмы копился. Крупный-то обоз не по зубам разбойникам. Вот и Олега Иваныча Силантий предупреждал о том. По Москве гуляй — а на усадьбу один не езди — людишек сперва дождись — Харлама Хватова, Онисима Вырви Глаз да Епифана Хоробра. То все — Силантия холопы боевые. Оружный бой знают, да и кулачному зело обучены. С детства раннего на кулачках супротив других деревень дрались.
Олег Иваныч спустился к вымолу. Кричали, толпясь, люди; покачивались на волнах лодки, в темной воде нет-нет да и блистал желтизной сорванный с дерева лист. Осень. Хоть и жарко покуда, и парит солнце по-летнему, — а все уже не лето: холодна в реке водица, вечерами быстро темнеет, да и по ночам жди вскоре заморозков. Но днем тепло было. Олег Иваныч в кафтанчике узком упарился. Расстегнул бы шнурочки — да то по местным, московским, меркам — уж совсем непотребное дело, неряхой прослыть запросто можно, да и так — какое к тебе уважение, коли ты эдак расхристан да чуть ли не телешом ходишь?
Потому и терпел жару Олег Иваныч: уж слишком часто тут исключительно по одежке встречали, да и провожали по ней же. Подойдя ближе к вымолу, увидел Харлама Хватова — борода у Харлама приметная, густая, на спелую пшеницу похожая.
— Эй, Харламе!
Обернулся Харлам, к сердцу руку приложил, поклонился низехонько. Знал — хоть и пленник Олег Иваныч, а хозяин его жалует. Остальные Силантьевы мужики тут же были. Онисим Вырви Глаз, староста церковный, — худющий, как жердина хорошая, азартен, что в бою, что в споре, все божился, хоть и староста: вот те крест, да вырви глаз… так и прозвали. Епифан Хоробр — самый молодой, и тридцати не исполнилось, однако ж храбростью прозвище свое оправдывал — бился, живота не щадя. Особенно татар не любил — лет семь назад увели татары брата младшего в полон. Так с тех пор Епифан брата и не видел. Харлам с Онисимом — женаты, да с детками, а Епифан все приглядывался, ходил бобылем, хоть собой не сказать что страшен больно. Борода окладиста, кудри русые вьются — хоть куда жених, да вот переборчив больно. Уж столько девок по ближним деревням попортил… да и по дальним тоже. Силантий на него ругался, насильно обженить грозясь. Кланялся в ответ Епифан да в бороду усмехался. А в битвах не однажды хозяина своего спасал. Вот и благоволил Силантий к Епифану, иногда не брезговал и за стол с собой посадить — хоть и холоп Епифан обельный. Вот такие вот верные люди Олега Иваныча на вымоле дожидались, дела хозяйские справив. С утра вместе приехали, вместе и возвращаться!
Тут же и тронулись, квасу только баклажку взяли в дорогу. Хороший квасок, забористый. Мужик кривой продавал. Олег Иваныч отпил, губы рукавом вытер, крякнул довольно. Поехали вдоль стены, потом свернули к лесу. В посаде дальнем около избы одной, приземистой, бабы на лавках сидели, от солнца щурясь. Одеты ярко — платы узорчатые, сарафаны алые. Сами — набелены, начернены, нарумянены.
Олег Иваныч с Харламом — он у мужиков за старшего был — о-дву-конь ехали, а Онисим с Епифаном — в телеге. Рогожки хозяйские продали выгодно да подкупили кой-чего из товару кузнецкого, теперь радостно возвращаться было. Бабы, что на лавке сидели, как Епифана увидели, закричали что-то. Епифан отвернулся сразу — не видит будто, да и глуховат вроде как, — проехали. Бабы-то — Олег Иваныч заметил — кто такие: по виду-то и не скажешь. Крашены вроде, да одеты бедновато — хотя и ярко. Сарафаны-то из холста сермяжного, ягодой крашенного, такой в воду макни только — сразу краска слиняет, то есть — сок ягодный. Да посад, что проезжали, — тот еще. Избенки все покосившиеся, соломой крытые, заборы кривенькие, серые — нет, не пахло тут и близко богатством каким да румянами.
Уже как в поля выехали — спросил Олег Иваныч Епифана про баб-то. Епифан кваском подавился. Отрыгнув, рукой махнул да краской залился. А эти-то — Харлам с Онисимом — заржали враз, что твои кони! Епифан еще больше смутился. Он ведь только в битве храбр был да с бабами. А Харлам с Онисимом все больше над Епифаном изгалялись, подшучивали. Онисим даже наизусть чел что-то из номоканона — епитимейника — недаром староста. Слыхал про сию книжицу и Олег Иваныч, от Гришани еще. «Некоторая Заповедь» — один епитимейник назывался, который у Гришани был, — но много и других имелось. Епитимию — покаяние — налагали за прелюбодейства всякие. Типа:
А се грехи:
Прелюбодеяти в руку или во ино что от своея плоти.
Аще кто блуд сотворит со скотом.
Аще лазит жена на жену прелюбодейства для,
Аще лежати створит блуд жена сама в ся,
Или древом, или инем чим…
Гришаня-то епитимейник тот подале от глаз людских прятал. А эти-то наизусть шпарили, смеяся.
— О совокуплении, — нарочито гнусавым тоном рек Онисим: — Аще коя жены дитя родит, не совокуплятися с нею мужу сорок ден. Аще ли нетерпелив, то двадцать ден. Аще ли вельми нетерпелив, то двенадцать дней удержатися… Ты-то как у нас, Епифане? Вельми нетерпелив?
— Да ну вас, срамников, — отмахнулся вконец изведенный Епифан. Повернулся к Олегу Иванычу, поведал вкратце, что там за бабы к нему на посаде цеплялись.
— То гулящие жёнки, да и слободка такая же… Однако я уж три лета как там не бывал…
— Ага, «не бывал», — усмехнулся в усы Харлам. — А кто на той седмице шлялся?
— И не туда вовсе. Хозяин, Силантий Акимыч, за брони чинить послал, на Кузнецкий. За тем и ездил…
— И чрез трое ден вернулся.
Проехав поля, в лес въехали. Синий лес, буреломистый, страшный. Черным местные тот лес прозывали. Самое пристанище для разного нехорошего люда. Харлам на солнце покосился задумчиво — садилось солнце-то, вот-вот за дальнюю рощу закатится. А темнеет быстро — не лето, чай.
Подогнали коней, прикрикнули.
— Посматривай, Олег Иваныч, — предупредил Харлам, настороженно к чему-то прислушиваясь. Онисим с Епифаном вытащили из-под сена кривые татарские сабли. Кровавым светом вспыхнули клинки в лучах заходящего солнца. Где-то — казалось, рядом — заржали кони.
— Неужто не пронесет в этот раз, Господи? — шепотом произнес Харлам и перекрестился.
Ржание доносилось слева, из сосняка. Нет, вот и справа, за буераками… и сзади, с орешника… от болотины…
Впряженная в телегу пегая кобыла вдруг встрепенулась, словно почуяла волка. Остальные кони обеспокоенно прядали ушами. Узкая дорога впереди, казалось, проваливалась, исчезая в заросшей чертополохом и кустарником балке, темной из-за вплотную обступивших ее сосен. Не лежало почему-то сердце у Олега Иваныча к этой балке, ох, не лежало!
Однако — ехать-то надо было. Вот и поехали. А кругом кусты, сосны, темень! Вороны каркают!
Едва спустились вниз, на тебе — прямо поперек дороги лежало дерево. И не поймешь — то ли само упало, то ли помог кто. Рядом, прямо на повороте, росла сосна с большими сучковатыми ветками — старая, корявая, мощная. С одной из веток, ближе к вершине, свисала вниз… то ли вожжа, то ли веревка. То ли вообще чьи-то кишки…
Кивнув на лежащее дерево, Харлам обернулся к тележным:
— Убирайте тихохонько. А ты, Олег Иваныч, ежели что — скачи без огляду, мы прикроем. Никак невозможно, чтоб с тобой случилось что, никак… Ага, глянь-ка!
Олег Иваныч уже и сам увидел. Впереди, из-за черемуховых зарослей, показалась вдруг хрупкая фигурка подростка в черной монашеской рясе, подпоясанной простой веревкой, и в черном же клобуке, низко надвинутом на глаза. Длинные, давно не мытые волосы парня свалялись, лицо было покрыто пылью, глаза настороженно осмотрели обозников.
— Чьих будете, люди добрые? — поклонясь, мальчишка подошел ближе.
Ничего вроде особенного не спросил, даже кланялся вежливо. Но… как-то не так… С вызовом каким-то, нахраписто, вроде как издевательски даже! А глаза-то, глаза — так и зыркали!
— Чьих будем — не твое дело, — тронув поводья, Олег Иваныч подъехал ближе. — А вот ты-то кто?
Мальчишка вдруг вздрогнул и внимательно всмотрелся в него. Что-то промелькнуло в темных глазах парня — узнавание, удивление — что-то… Так и стоял он молча. Пялился, удивленно хлопал ресницами.
— А ну, лови его, ребята! — спрыгивая с коня, неожиданно крикнул Харлам.
Епифан с Онисимом, бросив дерево, рысью ломанулись к мальчишке.
Усмехнувшись, тот быстро отпрыгнул в сторону, к корявой сосне и, когда казалось, что вот-вот дотянутся до него цепкие руки преследователей, схватился за свисавшую вниз веревку, дернул… И вмиг оказался на вершине!
Постоял на ветке, рукой махнул, крикнул:
— Езжайте, мужики, с миром! — Постоял немного, улыбнувшись, добавил: — И ты езжай, господине! Помни русалии да молись Яриле за Степанку.
— Какому, к бесу, Яриле? Да за какого Степанку?
А мог бы и не спрашивать Олег Иваныч. Не было уж на сосне никого. Только где-то неподалеку заржали-затопали кони. И стихло все, словно привиделось. Ни коней, ни ржания, ни мальчишки в рясе.
— Чудны дела твои, Господи! — покачал головой Харлам. — Я-то уж думал — биться придется. Угодил ты, господине, разбойникам!
— Что за разбойники такие? — переспросил Олег Иваныч, очень его интересовал вопрос — чем это он им угодил.
— Язычники то, — пояснил с телеги Онисим. — Из-под Твери откель-то пришедцы, с весны еще, с маю. Вот эдак высматривают да имают конного-пешего, а уж опосля в жертву Яриле богомерзкому приносят в капище своем поганом. А капище-то — тут, за болотиной где-то. Так люди сказывают!
Онисим, а вслед за ним и остальные перекрестились.
Язычники… Много их оставалось еще и в Москве, и в Твери, и в Новгороде. И чем дальше от городов — тем больше. Хотя… с холма, что у Черного леса, Москву видно. А вот поди ж ты…
Вспомнилось вдруг Олегу Иванычу давнее московское посольство. Погоня. Изба в дальнем лесу. Языческие игрища — русалии да танцы полуголых дев. Да как пожгли капище, да выбрались еле… А не оттуда ль отрок-то? Не смотри, что в рясу одет. Может, и вправду язычник. Ну, да Бог с ним, с отроком, главное — из лесу выбрались. За холмом посветлело — выйдя из лесу, дорога пошла полями. Кое-где жнивье было уже сметано, а где-то еще жали — согбенные фигуры жнецов было хорошо различимы на светло-желтом фоне поля. Солнце уже зашло. Смеркалось. Убегающая в поля дорога огибала холмы и небольшую дубраву. За дубравой виднелись избы. То и была конечная цель пути — деревенька Силантия Ржи, московского служилого человека… Добрались, слава Богу!
Последние лучи скрывшегося солнца еще золотили маковки церквей в Кремле, а над Неглинной уже стелился туман. Холодало, от реки явственно несло сыростью. На вымолах рыбаки разложили костры — грелись.
Боярин Ставр захлопнул ставни и, кликнув Митрю, велел тому позвать хозяина — затопить печи. В ожидании тепла хлебнул мальвазеи из небольшого кувшинца, заходил задумчиво по горнице, бороду рукой теребя. Назавтра собирался в Новгород небольшой караванец с понизовым хлебом. С караванцем этим и планировал уехать Ставр — не ждать неделю в попутчики Стефана Бородатого, государева дьяка. Хоть и безопасней было б со Стефаном-то, да не мог больше ждать боярин — были, чай, и в Новгороде делишки… не только в самом городе, но и в дальней пятине его, на Обонежье Нагорном, в погосте Куневичи. Но — там больше дела личные…
Охваченный сладким томлением, обернулся Ставр на скрип двери.
Вошла девчонка — та, с глазами как реки, черна коса, под сарафаном грудь ходуном ходит — поклонясь, квас на стол поставила да принялась постелю готовить гостю… Наклонилась… Эх, хороша девка!
Тут и Митря Упадыш на пороге возник:
— Не видать нигде Неждана, боярин-свет, все оббегал.
— Ну, тогда сам растапливай, — махнул рукой Ставр. — Мерзнуть мне, что ли?
Подошел ближе к девчонке:
— Хозяин-то твой далече ли?
— На богомолье с Гликерьей, супружницей, с обеда отправились в монастырь ближний, — обернувшись, улыбнулась девчонка — ай, глаза ясные! — с полу сор подобрав, добавила, что занемогла третьего дня Гликерья-то, вот и поехали. Теперь уж, видно, там и ночуют, на дворе монастырском, а тут к утру ужо будут.
— К утру, говоришь? — обернувшись, Ставр мигнул Митре. В глазах боярина вспыхнули языки злобного пламени. — Тебя как звать-то, дщерь?
— Ульянка.
Давно уж заподозрила неладное Ульянка. Уж слишком масляны у боярина заезжего глаза делались, когда говорил с ней. Что ему надо — и совсем уж глупая баба сообразит, а Ульянка глупой не была. Потому, в клеть зайдя, не только припасы забрала…
А почуяв неладное, осторожненько подалась ближе к двери. У двери, уперев руки в бока, стоял козлобородый Митря и нехорошо улыбался.
Стоявший перед Ульянкой боярин скривил тонкие губы…
— Не бойся, девка, — прошептал он. — Не бойся…
Сильные руки боярина рванули сарафан и рубаху. Треснула, разрываясь, ткань.
— А я и не боюсь, — увернувшись, Ульянка выхватила из-за пазухи острый широкий нож. — Это тебе, боярин, бояться надо. А ну, пусти…
Узкое стальное лезвие просвистело около боярского носа.
Оторопевший Ставр только слюну сглотнул. Митря, у двери, попытался было помочь хозяину… Да Ульянка зорка была:
— Прочь, козливец!
Не успел Митря, по дурости своей, руку убрать — так кровища и брызнула с ладони…
Ловко проскользнув в дверь, Ульянка бросилась к лестнице.
Навстречу ей слуга боярский попался, бугаина здоровенный с бородищей кудлатой. Тимоха. С ним людишки числом с десяток. Чуть не сбила с ног Тимоху Ульянка. Тот лишь глянул ей вслед, пожал плечами да к боярину направился — караванец-то сейчас уже отъезжал, торопиться следовало.
— Ну, черт с ней, с тварюгой… сыщется еще, — Ставр махнул рукой и велел седлать лошадей. И в самом деле — торопиться следовало.
Быстро вышел боярин. По-дорожному — в плащ длинный одетый — сзади слуги с оружьем да сундуками. Козлобородый на крыльце запнулся, шепнул:
— Девку-то поймать да порешить, батюшка?
Усмехнулся боярин, плечами пожал:
— Будет время — так и сделай. Ты-то здесь, на Москве, остаешься покуда. Не один, с людьми верными. Смотреть пристально! Чтоб понизовый хлеб в Новгород по самой высокой цене пошел! А дьяков каких умаслить — на то те деньги оставлены. Смотри, сам не имай денег-то, враз сыщу!
— Что ты, батюшка-боярин! Ты ведь меня знаешь.
— Потому и предупреждаю. Да, дьякам не забудь про врага нашего напоминать… а то что-то зажился. — Ставр почесал бородку, осклабился: — Думаю, казнить его должны вскоре… коль не позабыл государь. А коли позабыл… Коли позабыл — так тогда — только тогда! — ножичком. Уразумел?
Митря кивнул и злобно ощерился. Тимоха заглянул боярину в лицо:
— Эх, и мне б с ним, батюшка! Мы б того червя… на куски б мелкие… у-у-у…
— Цыц! — охолонул его хозяин. — И без тебя есть кому — на куски. Но — в свое время. Хитрость тут нужна, хитрость да выдержка — не сила. Ты, Тимоха, со мной поедешь — караванец охраною бедноватый, а места худые, шалят.
Почтительно выслушав боярина, Тимоха самодовольно кивнул.
Заржали на дворе кони. Разбуженный служка — спал ведь, сволочь, ну, ужо! — распахнул ворота. Выехали. Топот копыт пронесся вдоль Неглинной и затих за поворотом.
Постоял на дворе Митря, бородищу козлиную почесал… подумал — да к амбару подался. Потом — на конюшню. В овин. Ага, вон, за сеном-то — не синий ли сарафан мелькнул?
Кликнул Митря людишек — один-то опасался, помнил про нож. Так и есть — попалась Ульянка. В овине, на сене хоронилась. Тут и словили б ее, кабы не выскочила. Кинулась Митре в ноги — так, между ног, и проскользнула, Митря только плюнул да замахал руками злобно:
— Лови, лови змеищу!
Со всех сторон окружили Ульянку, вот-вот словят. Уж ухмылялся Упадыш похотливо — что боярину не удалось, ему удастся, вот-вот, вот…
А пока суд да дело, солнце взошло, колокола в Кремле к заутрене благовестили. Блики от лучей солнечных по воде золотыми дорожками бежали, играя. Свежо еще было, холодно даже — ничего не замечала девчонка, не до того. Выскочила на вымол, перекрестилась да бросилась в воду, хоть и холодна водица-то. Приняла холодная вода молодое девичье тело, только волны брызгами колыхнулись. Так и не вынырнула…
Пождали-пождали на вымоле шильники. Митре первому надоело — сплюнул досадливо.
— Черт с ней, — молвил.
Через три дня после отъезда Ставра с Тимохой, в пятницу, Олег Иваныч вновь на Москву наведался. Той же дорожкой — через лес — ехали многолюдством — мужики Силантьевы сено на торжище везли. Пасмурен день был, хмурился. Нет-нет да и дождик накрапывал, сено рогожками укрывали, так ведь все-то не укроешь. А оставить на риге — себе дороже, по приметам всем, дожди выпадали. Сгниет остаток-то, не поместится весь под крышу-то. Заладились было стоги метать — да дождь, будь он неладен. Махнул рукой Силантий, велел завтрева на Москву продавать везти. Вот и везли теперь. Харлам за старшего. Олег Иваныч, пользуясь случаем, с тем обозом сенным ехал — Стефана Бородатого, дьяка, проведать да об Ульянке напомнить. Ну, и саму-то девчонку навестить, конечно. Сказать, чтоб собиралась тайно. Вряд ли отпустит ее Неждан, вряд ли… Не доверял ему почему-то Олег Иваныч.
На постоялый двор Неждана Анисимова он заехал после полудня. С дьяком Стефаном Бородатым еще раз договорился, потом к Курицыну заскочил, с ним поговорил, потом то да се — целый день, как белка в колесе, проболтался.
В питейной горнице сам хозяин гостей обслуживал да рябой парень — Олег его раньше не видел. Впрочем, он никого здесь раньше не видел, кроме самого хозяина да Ульянки. Дождался, покуда Неждан отлучится, подозвал рябого с пивом. Спросил про Ульянку. Рябой в ответ лишь плечами пожал. Пес ее знает, где девка, вроде как с хозяйской супружницей на богомолье уехала.
На богомолье? Ну, дела… Не должна бы, ведь договаривались — государев дьяк Стефан Бородатый ждать не будет. И в какой обители молятся? В Симоновой? Слыхал-слыхал… Недалече… Что? Может, и в Вознесенской? Это ж в другой стороне совсем! Так все-таки где же? У хозяина спросить… Всенепременно так и сделаем. Ах, еще и привратник имеется? Благодарствую. Вот те пуло. Бери, бери, не стесняйся, покуда хозяин не видит.
Ворота. Сторожка — небольшая будка-избенка.
Ты, что ли, борода, сторож будешь? Про хозяйскую племянницу не слыхал ли? Вот, знакомцы просили ей плат передать, в подарок. Не, сказали, чтоб прямо в руки вручил. Не знаешь где? Жаль… Не чего жаль, а кого! Тебя, борода, жаль! Знал бы что — заработал б изрядно. Ну, прощай тогда…
Олег Иваныч отвязал коня и в раздумье выехал со двора на набережную. Медленно ехал, думал: в какой монастырь сначала, в какой — потом. Ну — чисто буриданов ослятя. Сторожу-то и догонять почти не пришлось. Пробежался, пошел с конем рядом. Бородой тряхнув, подмигнул, кивнул на угол — заверни, мол.
За угол так за угол. Олег Иваныч пожал плечами. Завернув, спешился.
— Знаю я кой-что про Ульянку-девку… да про боярина заезжего.
Не порадовали полученные известия Олега, ой, не порадовали! Хотя заплатил сторожу сполна, информация того стоила. По всему выходило — прыгнула Ульянка в реку, от шпыней спасаясь, да не вынырнула… Неужто утопла? Этого только и не хватало, Господи!
Взяв коня под уздцы, Олег Иваныч спустился к Неглинной, к узкому рыбацкому вымолу. Того и не видел, как к сторожу подошли трое, взяли за бороду, один — нож под ребро:
— А ну, человече, выкладывай, что коннику проезжему молвил?
Выложил все сторож — а что же, живота лишаться из-за чужих-то трудностей? Да на фиг надо!
— К реке пошел, говоришь… — задумался тот, что нож под ребро тыкал, плюгавец козлобородый. — А ну, робята, не спи!
У самого вымола двое рыбаков чинили сети. Ниже по течению, за ракитовыми кустами, горел костер. Сидевшие вкруг него люди варили уху. Седобородый дед в длинной сермяжной рубахе деловито помешивал варево длинной деревянной ложкой.
Олег Иваныч подошел ближе, спросил.
Нет, не видали никакой девки.
Видать-то не видали… а слыхать — слыхали. Петро Чуга говорил — выбежала тут одна молодуха утром раненько — да прямо в омут! Вниз головою. Тело? Нет, тела не видели. Но, может, вниз по течению вынесло. Там и искать надо, вряд ли в омуте.
Звоня в колоколец, шли по берегу нищие. Слепцы — калики перехожие. Поводырь — старец с бородищей пегой, на левый глаз кривой. Остальные все слепцы — кто бельмастый, кто — с глазами обычными, не скажешь, что слепой. Пара человек — с повязками на глазах черными.
Спустившись к реке, калики подошли к костру, поздоровались чинно. Уселись, ложки достали. Видно, для них варилась ушица-то. Олегу Иванычу предложили, тот отказался — не голоден был. Но рядом присел, слепцов послушать. Выслушав, свое поведал. Покачал головой поводырь, нет, не вылавливали никакого тела. Ни девичьего, ни мужского. Хотя, может, из братии кто ведает.
Покачал головой Олег Иваныч, прошептал горестно:
— Эх, Ульянка, Ульянка…
Парень молодой с повязкой уху с ложки на себя пролил. Обернулся на шепот:
— Не Ульянку ли девицу поминаешь, мил человече?
— Ульянку, — Олег Иваныч с интересом взглянул на слепого. — Из Новгорода девица… Не видал ли?
Снова встрепенулся парень, чуть котел в огонь не опрокинул. Усмехнулся:
— Видать — не видал, нечем боле видеть-то. А голос ее слыхал… иль похожий. У гулящих жёнок на портомойне. — Помолчал немного слепец, перекрестился, повел головой: — И твой голос знаком мне, человече… Наверное, и ты меня помнишь… Нифонтий я, подмастерье Петра, вощаника новгородского… А Ульянка — дочка его.
Нифонтий…
Олег Иваныч передернул плечами, вспомнив, как ловко лишил парня обоих глаз Матоня.
«Глаз — он шипит-от…»
Нифонтий, Нифонтий… Вот куда ты подался — в калики перехожие. А куда ж еще, слепому-то…
Поблагодарил Олег Иваныч. Дал Нифонтию деньгу серебряную. Вскинулся на коня — в дальний посад поехал, к жёнкам гулящим. Там и отыскалась Ульянка. Олег Иваныча узнав, выбежала радостно.
Через три дня отправил Ульянку со Стефаном. На прощанье кивнул ободряюще:
— Ништо, девка, — молвил. — Будет еще и у вас с Гришей счастье! Верь только.
Подняла глаза Ульянка:
— Жив ли Гришаня-то?
— Жив, — уверил Олег Иваныч. — Жив! А как же?!
Мужик какой-то служивый колеса у телег проверял. Дьяк государев Стефан Бородатый словом с ним перемолвился, кивнув, по плечу мужика похлопал да к Олегу Иванычу направился:
— Пора нам, господине.
Ну, пора так пора.
Тронулись телеги, колесами скрипнули. Мужик, что колеса смотрел, спину распрямил. На Олега Иваныча глянул случайно… Да — бегом, бегом за амбарец…
Махнул рукой Олег Иваныч, Ульянке подмигнул. Дьяка за рукав прихватил:
— Помнишь ли место, Стефане?
— Помню, как не помнить. На Славенском конце Нутная улица. Настена.
— Это, ежели на Ильинской никого не сыщешь в усадьбе.
— И про Ильинскую помню, не сомневайся.
Некоторое время ехал Олег Иваныч рядом с обозом. Потом свернул на Тверскую, задумался. К Федору Курицыну заехать, про государя московского сплетни узнать — помнит ли еще про Олега? Иль забыл уж давно? От того многое сейчас зависело.
Развернул коня Олег Иваныч, медленно поехал вдоль по Тверской, встречь восходящему солнцу. Хоть и студено было пока, да чувствовалось по всему — день теплый будет. Может, один из последних таких дней. Бабьего лета…
На храме Успения, деревянном, маковка златом пылала. Засмотрелся Олег Иваныч — красиво…
Вечером — весть радостная Олегу Иванычу. Вернулся Силантий со двора государева. Иван Костромич, боярин, по выходе шепнул — не гневается больше на житьего человека Олега государь-батюшка. Не упомнит и кто таков даже… Одновременно все ж таки опасаться просил Костромич — кто-то при дворе воду мутит — стропалит против Силантия да пленника его слухами разными. Ну, до государя слухи те не дошли пока. Пока…
— Так что свободен ты отныне, Олега, — махнул рукой Силантий. — Все одно прибытка от тебя мне нет, а Москве ты служить не будешь. Ведь не будешь?
Олег Иваныч упрямо покачал головой:
— Больно уж важен великий князь московский.
— Так на то он и князь!
— Так-то так… Да ведь и я не червь, своим разумом жить хочу — не княжьим. Извини, Силантий, если обидел…
Поскрипел зубами Силантий, однако ничего не сказал. Задумался. После махнул рукой:
— Считай — в расчете я с тобой полностью, так что ежели вдругорядь попадешь — не взыщи. На Москву завтра с утра два обоза идут хлебных, с понизовья. Первый — купца Федосеева, Онфима, второй — Ермила Хмурого. Так что, если поспеть хочешь…
— Спасибо, Силантий. За все спасибо.
С двойственным чувством уезжал Олег Иваныч. Будто чего-то не договорили они с Силантием, не дорешили, не доспорили. Несколько раз спрашивал сам себя Олег — а что заставляло служить московскому князю такого благородного и смелого человека, как Силантий Ржа? Только ли землишки-поместьица? Или действительно верил Силантий в то, что именно Москва — и есть Русь-матушка? А почему не Новгород, не Смоленск, не Киев, не иные какие русские земли? Никак не отвечал на такой вопрос Силантий, лишь в усы улыбался, дескать — почему Москва — то и детям малым ясно. Детям-то, может, и ясно… Московским… А вот насчет киевлян, смолян, тверичей, новгородцев — сильно сомневался Олег Иваныч. Да и — что сказать — насмотрелся, чай, на Москву-то! Считай, почти все привыкли тут по указке жить, не своим разумом. Все от князя зависели — от мала до велика, и все — ну, может, кроме бояр самых знатных — в руке его были. Голосили на всех углах: «Славен батюшка наш, государь Иван Васильевич!» Тьфу-ты, подхалимы чертовы. Батюшка… Иосиф Виссарионович… Погодите, прольет он еще кровушки, батюшка ваш. Ну, если и не он — так его потомки. Неконтролируемая власть — она кровавится, имеет такую нехорошую тенденцию, тем более здесь, в Московии — нравами грубыми далеко в русских землях известной…
Эх, Силантий, Силантий… Дай Бог, чтоб не достала тебя гневная длань твоего князя!
Федосеев Онфим еще с ночи выехал — так на торгу хлебном сказали, опоздал, значит, Олег Иваныч. А Хмурый, Ермил? Убили его вчера. И людишек его, приказчиков. Прямо в корчме перерезали лиходеи! Все, что с ними на корчме было, — как есть пограбили — и оружье персидское, и серебро, и меха — рухлядишку мягкую. Ходили тайные слухи — не хотел Ермил высокую цену держать — замыслил побыстрее в Новгороде расторговаться. Расторговался… В какой корчме убили? Да на Неглинной где-то. Кажись, у Анисимова Неждана. Его и самого, Неждана-то, чуть не убили — духом святым да молитвами упасся — утром в амбаре нашли связанным…
Схватили? Кого — лиходеев? Не, давно их и след простыл. Неждана? А его-то за что?
Усмехнулся Олег Иваныч. Не верил он в совпадения. Ну да черт с ним, то покуда дела московские. Свои бы как-нибудь разрешить. Значит — и Ермила нет, и с Онфимом Федосеевым разминулись… Стоп! А почему разминулись? Он же, Онфим, в ночь только выехал. А конь Силантьев добр — нагнать можно!
Какой, говорите, дорогой поехали? Угу, понял.
Взлетел в седло Олег Иваныч, коня в рысь пустил. К обеду уже был за городом, в деревне, что по пути, справился — проезжал обоз-то, немного и времени прошло. Эвон, за тот холм направились…
А напрямик пути нет ли?
Как нет… Есть… Вон, через лес… Там тропки тонкие… Только не вздумай, мил-человек, поворотить на болото…
Мил-человек и не думал к болоту поворачивать. Просто и не услыхал про него. По лесу версту проскакав, все лицо ветками исцарапал. Тропа-то тоже неприглядисто вилась, глянул — где б срезать — ага, вон, через полянку. Срезал…
Первой увязла лошадь. Подняла голову к небу, заржала жалобно. Так и утянулась в трясину — быстро — Олег Иваныч едва успел выскочить. А холодна, жижа-то… Увязиста…
Как там в фильме про старшину Васкова и девчонок-зенитчиц? «После споем с тобой, Лизавета»? Похоже, тут и петь не придется, вон как засасывает… пылесос прямо.
Лечь на грудь… Ага, вроде легче. Меч в сторону… мешает. Так — ползти, ползти… Вон к тем деревьям. А холодно-то как, господи! Ползти, ползти… ползти… Невзирая ни на что… Вот, кажется, кочка. Нет, на ноги не вставать — тогда точно утянет… Только ползком. Да руками под себя мох подгребать. Ага… Вот они, деревья-то, кажется, ближе… Но и ползти труднее… Так и тянет в глубь, так и тянет… Нет, вперед… Быстрее… Не сдаваться… И руки раскинуть широко… Отдохнуть… Нет, нельзя останавливаться! Вперед, только вперед… Еще чуть… еще… Эх, Софья-Софьюшка… Ох… Это и не деревья вовсе… Трава… А под ней трясина. А там, дальше? Нет, не видно… И на ноги не встанешь, не посмотришь. Выход один — ползти! Ведь не бесконечное же это поганое болото, ведь кончается же оно где-нибудь… Господи… Софья… Софья…
Глава 8 Октябрь — ноябрь 1471 г. Москва — Новгород
Где волк воскликнул кровью:
«Эй! Я юноши тело ем…»
Велимир Хлебников (1915)Огромный матерый волчище завелся вдруг в окрестностях Черного леса. Хоть и раньше пошаливали волки-то, но в эту осень совсем уж не стало спокойствия крестьянам. Ближних деревень жителям, да и дальних… Порезанный скот, утащенная птица, собаки с перегрызенным горлом — и четкие волчьи следы в придорожной пыли, ведущие к лесу. Большие, слишком большие следы для обычного зверя. Да и повадки были необычными — не врывались по осени волки в деревни, зимой только, ближе к весне этак, наглели. А тут… Третьего дня, в самом начале октября месяца, младенца волк утащил. Прямо средь бела дня, от овина, в деревне. Мать, крестьянка Матрена, и оглянуться не успела — только серая тень мелькнула — и нет дитенка. Матрена — в крик, мужиков подняла. Те вилы да рогатины похватали — в лес по следу пустились. Собаки впереди гавкали. А лес-то буреломом недавним завален, неприветист, темен — недаром Черным с незапамятных времен прозван. Попробуй-ко, сыщи тут какого волка, хоть и с собаками. Полаяли, полаяли, сердешные, да озадаченно на поляне закрутились. Словно сгинул волк-то! Вон, на тропинке — явный след… И вот… И там, у малинника… И раз — нет его. Пропал! Мужики в кучу собрались, головы зачесали озадаченно. Глянь, а Чернак, Онисима Вырви Глаз, старосты церковного, пес, зарычал будто… Да как рванет к болотине! Остальные собаки — за ним, с лаем. Переглянулись мужики, рогатины крепче сжали — бросились следом. Кто уже и стрелу к тетиве прилаживал. Азарт! Вот-вот словят волка. Если это волк, а не иной зверь какой или, тьфу-тьфу, кикимора болотная. Не, не должна бы кикимора — на нечисть-то собаки б так не бросались. Выли бы только. Значит — зверь. И — вона! Бок в подпалинах, рыжий, за дубьем промелькнул извилисто… Не похоже вроде на волка-то… Лиса! Эй, стойте, стойте, собаченьки! Стойте! Да где там — стойте… Унеслись, хвостами махая, за лисой вдогонку. Совсем загрустили мужики. Старшой, Онисим Вырви Глаз, рукой махнул. Решили, собак дождавшись, в обрат ворочаться, тем более — туча громадная по небу шла, как раз рядом. То ли дождь, то ли снег… Хорошего мало. Засобирались мужики. Тут и собаки вернулись, закрутились, скуля сконфуженно, — так ведь и не догнали лису-то, в буераках где-то схоронилась рыжая. Эх, зазря бегали — ни волка не добыли, ни лисы, даже хоть зайчишка какого — и то мимо. А может, то и не лиса была? Может, кикимора болотная собак водила? Так, старики сказывали, бывает. Ох, упаси, Господи! Онисим бородищу перекрестил, посмотрел на тучу, подумал маленько. Кивнул мужикам — пошли, мол. Пошли… Обернулся — ан Чернака-то, пса Онисьева, и нету! Заплутал в лесу, что ль? Непохоже, псина опытный. Забеспокоился Онисим — жалко животину родную запросто так потерять. А ну-ка, покличем! Черначе, Черначе! Нет, тихо все. Эти еще, собаки, разлаялись… А ну — цыть! Да искать, искать Чернака-то! Разбежалися собаки вокруг, забегали… Прибежав, хвостами крутили виновато. Щурились. Совсем уж было загрустил Онисим, как вдруг одна собачонка приблудная, мелкая, незнамо и чья — всяк на деревне прикармливал, ежели было чем, — на болото разлаялась. Да не просто так, а со злобством! Словно чуяла там что-то эдакое, человечьему глазу покуда неведомое. И остальные-то собачки тоже — к ней подбежав — зарычали, ощерились. Мужики ближе подошли. Гнилое было болото, утопистое, а сверху — будто ровненькой травкой усажено, зеленое такое, нежное — не одна корова в трясине утопла. Берега вокруг чахлые, топкие, деревьицами тонкими, будто больными, поросшие. Не туда ногу поставил — и все, поминай как звали, — не поможет такое деревце — не уцепишься. Посередке болота островки малые были — то мужики местные знали, завсегда по зиме хаживали, как замерзало болото. Но то зимой — а до зимы еще месяца два, да и не во всякую зиму замерзало болото — в особо морозную только. А летом или вот как сейчас, в осеннюю пору, — не подступишься к островкам, хоть, казалось, и близехонько — протяни руку. Ноги протянешь — пропадешь, сгинешь в вонючей трясине.
Постояли мужики у болота, посмотрели хмуро да, плюнув, пошли обратно в деревню. Две находки их по пути ждали: одна хорошая, другая… Сперва Чернак, пес Онисимов, вдруг у леса в лугах объявился — видно, раньше других домой ломанулся, курва, тучу увидев. Боялся туч Чернак-то, хоть и всем псам пес был. А уж как гроза какая — забивался в будку — бывало, и за цепь не вытянешь! Онисим не стал на собаку ругаться — грех то — пару раз палкой по хребтине перетянул, для порядка… Тут у кустов орешных закружились собаки, завыли. Мужики подошли… Ой, спаси, Господи, от таких находок! Под кустом младенец лежал — не живой, обглоданный. Внутренности да глаза выедены, по кустам сизые кишки кровавятся. Тьфу… Плюнул Онисим, перекрестился. И мужики с ним… Эх, Матрена, Матрена… Было у тебя семеро — осталось двое. Трое ребят по зиме в огневице сгорело, четвертый летом в колодце шею сломал, ну, а пятого… пятого волк окаянный сожрал. Ужо, по зиме обязательно достанем волчище! Никуда, аспид, не денется… ежели только волк это, а не волкодлак-оборотень богомерзкий!
Двое на островке болотном прятались. Один — пожилой мужик с бородой пегой, глаза — словно два шилья, вострые. Второй — парень, отрок еще безусый, тонколицый, смуглый — волосы длинные по плечам из-под шапки лезли. Оба оружны — у мужика топор за поясом, у отрока — нож.
— Не заметили нас мужики-то? — как стих за болотом собачий лай, поднялся на ноги отрок.
— А и заметили, так что? — ухмыльнулся его пожилой спутник, худощавый, с родинкой на левой щеке, такой же, как и у Олега Иваныча. — Все одно не сунутся — тропки тайной не знают. Так что не бойся, Степанко!
— А я и не боюсь, дядько Терентий, — спокойно ответил отрок и положил руку на рукоятку ножа, вырезанную из рыбьего зуба. — После того, что с моими сестрами сделали, — ничего не боюсь. Тому уж скоро год будет… — Степанко вздохнул и поспешно отвернулся, чтобы не заметил Терентий показавшиеся в уголках глаз слезы.
Терентий, однако ж, все равно заметил, ухмыльнулся, сказал зло:
— Не плакать надо — мстить кроваво убивцам!
— Мстить, — горько усмехнулся отрок. — Кабы знать — кому?
— О том боги скажут. А для того — жертву им надо. Да не простую жертву… — Терентий сурово посмотрел на сглотнувшего слюну парня.
Знал, хорошо знал Степанко, какой такой жертвы ждут от него старые боги… вернее, волхв Кодимир, известный остальному миру как Терентий из Явжениц.
После прошлогоднего разгрома капища людьми великого князя Ивана главным волхвом стал Терентий (вернее, Кодимир) для всех тех окрестных людей, кто придерживался еще старой дедовской веры, принося дары древним жестоким богам. Перуну, Даждьбогу, Мокоши… Богател с тех даров Кодимир-Терентий, богател… Все бы ничего, да жаль, уходила старая вера. Мало уж осталось по дальним селеньям истинных язычников, больше двоеверов — и Христу, и Даждьбогу. И вашим, и нашим. Чтоб наверняка молитвы дошли. По назначению. Не тем, так этим. Нет, то не истинная вера. А нет веры — нет денег. Потому и хотел Кодимир жертвы… Не простой жертвы — человеческой. Летом еще срублено на островах болотных новое капище. Идолы взрезаны — ликом суровы, — да беда — живой крови не чуяли. Куры да свиньи — не в счет. Человек нужен! Лучше — девица невинная, с телом крепким, ядреным, наливчатым…
Эх… Не успел Терентий и слюни на губах утереть — в ямину болотную провалился! Враз по пояс увяз в жиже холодной. А и поделом: коль по болотной тропке идешь — не хрен о девках думать! Вскрикнул истошно волхв, взмахнул руками — помогай, Степушко!
Протянул Степанко посох — сам чуть не утоп, но вытянул сотоварища. Обернулся… Вроде как стон, или хрип какой почудился… Бывало — забредет какой путник, через болотину дорогу спрямить, — ан — и нет его, пропадет в трясине. Ну как и сейчас так?
Глянув на спутника своего мокрого, приложил Степа палец к губам. Терентий тоже ругаться перестал, башкой закрутил, прислушиваясь. Ну — точно! Слева, в нескольких шагах, мужик какой-то в трясине бился… Да вот, кажется, уже и выбрался на берег…
— Если из местных кто — топить надо! — тихо прошептал Терентий. — А ну, проверим…
Вылезший из болота мужик точно оказался не местным… и, судя по одежде — ярко-красный кафтан угадывался даже под слоем грязи, — отнюдь не бедным… Вымотанный борьбой, незадачливый путник обессиленно лежал лицом вниз на низком островке, поросшем редкими черными елками.
Мужик. Волосы волнами светлыми по плечам, усы, бородка, на щеке — родинка…
Тот самый, что недавно Степанке в лесу встретился!
Тот самый, что на русалиях в старом капище был… заместо Терентия! Тот самый, с кем супротив медведя вместе боролись… когда из капища горящего выбирались… когда Ратибор… когда сестры… Глукерья, Мартемьянка, Лыбедь…
Сглотнул слюну отрок, вида не показав.
— Видно, не из простых, — прошептал лишь. — Ежели к себе взять да выходить — можно и выкуп получить знатный.
Терентий, видимо, подумал то же самое, поскольку, настороженно осмотревшись, велел отроку мастерить из лапника волокушу. На коей — изготовленной весьма проворно и с большим знанием дела — и поволокли потерявшего сознание путника мокрыми болотными тропами.
К острову вышли — что твои куры — мокрые, в грязи да тине бурой. Точно кикиморы.
Узкий был островок — в треть версты да в версту шириною. Лесом порос густо, все больше ели да сосны. Угрюмые, корявые, страшные. Если и было в Черном лесу самое гиблое место, так вот оно — островок этот, посередь тины болотной. В самой гуще еловых зарослей, где тьма, казалось, поселилась извечно, за высоким тыном, украшенным рогатыми коровьими черепами, хоронилась приземистая изба — грубо, в лапу, рубленная, в землю вросшая, окна — щели узенькие, сквозь волоковое оконце дымок черный вьется.
Отворились ворота, вошли Терентий со Степанкой в избу. Слуга Терентия Огрой — мужик безволосый, беззубый, морщинистый, да немой в придачу, — ворота на засов (от кого только?) заперев, мужика притащенного на лавку к печке перенес да за одеждой чистой бросился, воды котел на очаг поставил — мыться. Вокруг очага — лавки сосновые, стол, по стенам — черепа заячьи, травы пахучие, змеи да жабы сушеные. В углу, вместо иконы, еловые чурбаки размалеваны страшные — идолы. Не изба — капище! В миске серебряной кровь петушиная плещется — за удачное возвращенье хозяйское поутру зарезал Огрой петуха. Все одно уж всех кур переели, да и зима скоро — уходить придется, новое прибежище искать. Замерзнет болото — враз охотники за зверьем всяким нагрянут. Ну, идолов в чаще спрятать — сойдет капище за заимку охотничью. Ярило с ними, пущай пользуются, не сожгли б только избу до весны-то…
Как согрелась водица — разоблачились мыться Терентий со Степанкой. Грязь с груди соскребая, затосковал Терентий. Эх, летом, на Ивана Купалу — три девы нагих его в этом чану купали. Вот где раздолье-то было… С тех пор и перебивался Терентий-Кодимир без женской ласки, что здесь, что в Явженицах. Свою-то жену удавить по весне пришлось — слишком уж много знать стала, старая. Заманил на болото, за клюквой — накинул петельку. Не трепыхнулась. Кинул в болотину — и все дела. Эх, девки, девки… В ноябре месяце русалии устроить надо. С плясками, с игрищами. Ухмыльнулся Терентий, да вздохнул тут же — когда он еще, ноябрь-то. А девку-то уже сейчас хочется! Обернулся на Степанку… Ай, ладный какой отрок. Тощой только да грязен… Может, его сейчас… заместо девки? Что тощой — ладно, а грязен — так сейчас отмоется. Шепнуть только Огрою, чтоб ножик его прибрал подале. Да веревку с амбару принес, покрепче.
— Мойся, мойся, Степанушко! Травку вот возьми, пахучую…
А что потом с ним? В болото? Да ведь проводник надежный, другого и не сыскать. А и не надо другого! Не всю же жизнь по дальним капищам прятаться! А как будет дело какое удачное — можно, чай, в Твери где-нибудь постоялый дворец прикупить. Да почему ж в Твери — а и на Москве! Тем более — и там есть людишки верные. Давненько, правда, не объявлялись. С прошлого году…
Эх, не знал Степанко, что Кодимир-волхв, Терентий из Явжениц, и был главным организатором смерти его сестер. Вернее, смерть их — это уж случайно вышло, а вот про капище старое шепнул как-то невзначай Терентий нужным людям. Слыхал он про старого волхва — неуклонный был старец, не ужился б с таким. Но вот уж с год нет старца, а что уж тому причиной, Терентьевы ль слова, али случай какой, — то боги одни ведают. Перун, Даждьбог, Ярило…
Так что пора кончать со Степанкой — знает больно много. Позвать сперва Ограя, и…
— А дядько Ограй где, Степанушко? На двор вышел? Чтой-то долгонько ходит… Ограй, эй, Ограйко!
И без крика этого ворвался Ограй в избу. Замычал что-то, руками непонятные знаки показывая.
Ну, те знаки Терентию со Степанкой давно ясны были.
Сосна росла на том берегу, на холме — высока, раскидиста. Надо кому из верных людей на островок перебраться — к вершине сосны плат белый привязывали. Тот плат с крыши избяной видать было. Видно, плат-то этот и имел в виду немой слуга.
— Ну, беги, Степа!
Быстро натянув порты и рубаху, отрок выбежал из избы.
Повезло покуда тебе, Степанко! Незнамо как дале будет…
На противоположном берегу болота, на тайном месте, стояли четверо. На конях, с волокушей. Двое — незнакомые, а двое свои, братья-разбойнички. Окромя волхвовства да русалий, давно промышлял Терентий татьбою. Собрал шайку, человек полтора десятка, считая Степанку. В рясу монашескую обрядившись, отрок в местах глухих поживу высматривал. Хорош ли обоз, да велик ли, да оружных много ль. Ежели подходящей добыча оказывалась — враз взлетал на сосну по веревке — знак подавал. Тут и грабили. Трупы да телеги — в болото, оно все скроет. Лошадей да награбленное — что на островке прятали — потом на Москве продавали, был у Терентия там человек знакомый. Не из этих ли? Вон, может, тот, козлобородый? Или вот этот дед, жилистый… взгляд тупой, звероватый…
— Ты что пришел, отроче? Терентия зови.
— Так вы сами-то не пойдете?
— Делать нам больно нечего — по болотинам шастать, — засмеялся козлобородый. Отсмеявшись, кивнул на парней: — Веди этих, пусть до зимы хоронятся… Ну а Терентий — пусть сам к нам поспешит — дело есть важное. — Козлобородый снова засмеялся и азартно потер руки.
Отрок кивнул.
— А вы, — козлобородый посмотрел на молодых парней в одинаковых сермягах, — вы двое — хватайте волокушу. Тащите… Да осторожнее, черти! Груз в трясину не сройте!
Груз… Обернулся Степанко, взглянул краем глаза. Так, любопытства ради.
Сундуки какие-то, оружие богатое, меха — рухлядишка мягкая… Нехилый товарец!
Приняв важный вид, отрок с парнями не разговаривал, лишь буркнул сурово, чтоб точно за ним шли, по сторонам никуда не шарились да ворон не считали. Узнав о козлобородом, Терентий засобирался… Исчез быстро. Объявился к утру лишь — руки потирал довольно — видно, хорошо все у лиходеев сих складывалось.
Ну, пес с ними, с лиходеями. Путник-то, тот, что с болота, — плох был. Так и не приходил в сознанье-то. Пот-то на лбу выступил… да и горячий… Переживал Степа — как бы лихоманка не началась…
Терентий кивнул сурово, опасения Степанкины выслушав. Махнул рукою:
— Ставь воду, отроче, да травы, да ступу тащи…
— Лихоманку изгонять будем, дядько?
— Что будем, то будем. Бражки хмельной изопьете с дороги, робяты?
— А есть?
— Как не быть… на бруснике… Ограй, тащи баклажку.
Пока Терентий выпивал и закусывал с гостями, Степанко с Ограем быстро притащили котел с водой, зажгли-раздули пламя. Молодые разбойники с любопытством смотрели на все приготовления…
Зайдя за очаг, Терентий накинул на плечи медвежью шкуру мехом наружу, надел на лицо носатую маску, взял в левую руку дубовый посох-жезл. Зыркнул на гостей из-под маски — те аж побледнели — уж слишком быстро Терентий из Явжениц обратился в грозного волхва Кодимира. Степанко тоже времени зря не тратил — скинув рубаху, растерся маслянистой травой, так что кожа стала скользкой, как у ужа, залоснилась, замаслилась. После того взял в руки бубен. Ударил тихонько заячьей лапой…
— На море на Окиане, на острове на Буяне… — торжественным речитативом произнес волхв Кодимир.
Тяжело дышал Олег Иваныч. И черт дернул спрямить путь через поляну. С виду — поляна как поляна — а на самом деле — трясина! Хорошо — выбрался. Вроде… Что это там, пред глазами?
Господи — икона! Тихвинская. Рядом с ней женщина, молилась истово. Обернулась…
Софья!
Затем исчезла боярыня — и вновь возникла… Сначала — в церкви Михаила на Прусской — неприступно-гордая… тогда казалось так… А затем… там, в море, на корабле — нагая, невозможно красивая, грешная… И волосы по голым плечам — водопадом…
Потом и корабль исчез.
Деятель какой-то появился. В мундире прокурорском. Советник юстиции районный прокурор Чемоданов. Изрыгая богохульную ругань, прокурор возмущенно потрясал перед самым носом Олега Иваныча тонкими пачками просроченных уголовных дел:
— Что вы себе позволяете, господин майор? Это что — «дела»? Это работа? Это фикция! В деле три листа — и те — материалы проверки! За целый месяц конь не валялся! Что, не могли потрудиться назначить экспертизу? Одна справка липовая в деле… да справка о судимости… тоже липовая. Знаю я, как вы такие справки печатаете! А потерпевший почему не допрошен, свидетели? Ни один! НИ! О! ДИН! Представление буду на вас писать, господин Завойский, представление!
О! Застонав, Олег Иваныч перевернулся на бок.
…На острове Буяне…
…На море-окияне…
…Ищу я этот камень, ищу я этот ключ!
…Сбитню не желает ли, господине?
…Ни одной очной ставки!
…лежит камень Алатырь, на том камне…
…сбитень, горячий, горячий…
…сидят три старца с железными прутьями…
…даю вам три дня на приведение дел в порядок и составление обвинительных заключений, три дня…
…идут к ним навстречу двенадцать сестер-лихоманок…
…а в немецких землях давно уж книги научились печатати…
…Вы куда идете, окаянные?
…не нарушайте больше закон, уважаемый Олег Иваныч…
…Сбитень, сбитень… Купи сбитню…
…Идем в мир, у людей кости ломати да силу вынимати…
…Какой черт эдак повесил карниз, я вас спрашиваю, господин капитан Востриков?
…В обрат воротитеся…
…Сбитень, сбитень…
…Карниз привинчивают болтами к деревянным чопикам, господа офицеры, а не приклеивают скотчем к обоям!
…чем-чем привинчивают?
…тормози, Игорюха! Тормози! Сейчас коляска отва… О! Уже! Господи, куда ж я лечу-то?
Олег Иваныч со стоном заворочался на волокуше… Лучше б не ворочался!
После смены позиции — с левого бока на правый — районный прокурор Чемоданов совсем озверел и, полностью потеряв человеческий облик, скинул с себя мундир и принялся голым скакать по столу с криками: «Лель! Ярило! Лада! Лель!»
С ним скакали еще и неведомо откуда взявшиеся девицы, тоже почти голые… почти дети, ряженные в звериные шкуры, на головах — венки из сушеных цветов. Какой-то маслянистый пацан азартно молотил в бубен знаменитую вещь «Лед Зеппелина» «Моби Дик». Прокурор Чемоданов извивался в пошлом танце, подобно солисту «Бони М» Бобби Фаррелу. Девчонки пели:
Мы тебя пятницу Жили-дожидали, Неделю всю, Весну-красну, Все лето тепло, Всю зиму холодну, Едва дождалися, Глаза охвостали!Потом, взявшись за руки, присутствующие — а все это, как понял Олег Иваныч, происходило в кабинете прокурора — закружили хоровод…
— Как на Олегов день рожденья испекли мы каравай…
— Лель! Лада!
— Хэппи беф дэй ту ю!
— Лада! Лель!
— Пей до дна, пей до дна, пей до дна…
— Да пропадите вы пропадом! — громко закричал Олег Иваныч и очнулся.
Он лежал в каком-то грязном сарае, напоминавшем сельский клуб периода студенческих отработок в колхозе, только вместо портретов членов Политбюро ЦК на стенах висели козлиные черепа. Посреди убогого помещения ярко горел костер, обложенный камнями. Перед костром стоял какой-то мужик в медвежьей шкуре — нет, похоже, не прокурор Чемоданов — и что-то нараспев декламировал, помогая себе чем-то похожим на гигантский фаллоимитатор.
— Который час, мужики? — открыв глаза, поинтересовался Олег Иваныч…
— Никак, очнулся, паря?
Сильно слаб был Олег Иваныч, так что ни рукой, ни ногой. О судьбе своей — и к кому попал — догадался. К тому ж, чтоб ничего такого не учудил — а что, мужик видный, враз от лихоманки оправится, — сковал его Кодимир цепью длинной. Не отвяжешься от цепи той, не порвешь, не убежишь — попробуй-ка! Олег Иваныч пару ночей пытался звено какое расслабить — куда там! Только ногти все изломал да погнул припрятанный втихаря гвоздь.
В избе не все втроем — Кодимир-волхв, Ограй да Степанко были. И остальные разбойники сюда зачастили, к зимнему переходу готовились. Зимой-то на островке опасно оставаться было — ватаги охотничьи по всему Черному лесу шастали, славы дурной не боясь. Да и что сказать — места знатные, дичью изобильные. Разбойники и сами много чего запромыслили: небольшого кабанчика, зайцев да тетеревов-рябчиков. Это не считая цапель, да дроздов, да другой какой мелкой птицы. Во дворе, за капищем, по ночам мясо коптили — днем взгляда зоркого паслись. Олег Иваныч то сквозь оконце узкое видел — не хватало цепи на улицу, хоть и длинна была цепь-то. Длинна — не длинна, однако — только до двери да в сени, к уборной. Так и передвигался, звеня. Хитро цепь натянута — от левой ноги к правому запястью — не очень-то походишь, больше попрыгаешь. Что и делал Олег Иваныч, под любопытные разбойничьи взгляды. Не говорил с ним никто — Кодимир строго-настрого запретил, догадывался, что хитер пленник. Заговорит кому зубы — после поминай как звали. Потому — строго за тем следили. Ограй раз отрока разбойного, Степанку, так палкой по ноге треснул — аж побелел отрок. А и за то только, что, миску с едой подавая, что-то сказал Степанко. Неча! Сказано — не разговаривать, значит — не разговаривать. Вообще, хорошо было бы пленника в амбаре держать, да опасался того Терентий — ночи стояли холодные, враз околеть можно в амбаре-то. А чулана какого в избе не было — отгородили место в уголке дальнем, лавку поставили — там и жил Олег Иваныч, изредка в сени выходя. Двое разбойников денно и нощно за ним следили. Да и сам Терентий с Ограем присматривали.
Все холоднее делались ночи. Темнее, опаснее. Все чаще подергивались по утрам тонким ледком окрестные лужи, а зависавшие над болотом тучи исходили мокрым снегом. По ночам, где-то близ острова, злобно выли волки.
Прислушиваясь, передергивали плечами разбойники, а отрок Степанко беспрестанно читал заговоры:
— На море на Окияне, на острове на Буяне стоит изба, а в избе той сидит старица, а держит она жало. Ты, старица, возьми свое жало, приди ко мни, вынь жало смертное. Заговариваю раны колючия на ногах, на голове, на лбу, на затылке, на бровях и подбородке. Будьте во веки веков на волке сизом, лохматом, в репьях-пегатинах; сидите на волке том — вовек не сходите!
Степанку-отрока давно приметил Олег Иваныч. Вспомнил — не тот ли отрок недавно на деревину вознесся. Тот… Глаз серый, волос длинен, токмо тогда в клобуке монашьем был отрок-то, хоть и нехристь, как видно. А не он ли в прошлом году провожал Олега Иваныча после того, как вместе чудом выбрались из сожженного капища, когда медведь чуть всех не съел?.. Если б не парень один, Ратибором его, кажется, звали… Да, Ратибором…
Олег Иваныч вспомнил прошлую зиму, когда случилось ему проезжать здешними местами. Как спасался от шильников, как оказался в языческом капище, в маске птичьей, принятый всеми за какого-то Терентия из Явжениц. Вспомнил нагих девиц, пляски, свирели и бубны. И как подожгли капище враги, как пришлось бежать подземным ходом, что прямиком в медвежью берлогу вышел…
Как, выбравшись и простившись с раненым Ратибором, спустился к реке, ведомый отроком. Как показались вдалеке, на излучине, возы и кони — караван муромского купца Ефима Панфильева…
— Светлый путь тебе, господине, — сняв шапку, низко поклонился отрок. — Ратибор-то мне старшим братом приходится. Да и сестры с нами, Глукерья, Мартемьяна, Лыбедь… Видал, как плясали?
Паренек улыбнулся.
Олег Иваныч подмигнул ему на прощанье:
— Тор! Ярило! Ты-то кто?
— Лада! Лель! — эхом отозвался отрок. — Степанкой меня кличут.
Степанкой…
А что, интересно, Ратибор тоже здесь, средь разбойников? Спросить бы… Да как спросишь-то, коли главный-то черт, Кодимир-нехристь, смотрит волком, из закутка никуда выпускать не велит. Придумывать что-то надо. Бежать… А как убежишь-то, коли пригляд ежечасный? Да и сговорить кого — попробуй, коль и словом с ним никто не молвится, запрещено. А пообщаться с кем-нибудь нужно, хоть с тем же Степанкой… Вон, сидит на лавке, вой волчий слушает. Заговоры свои читает… Заговоры…
На следующий день занедужил Олег Иваныч. Есть-пить отказывался, руку к челюсти приложив, мычал уныло. Махнул поначалу рукой Терентий, да к вечеру призадумался — не становилось лучше пленнику-то! Как бы не помер от зубной лихоманки, бывали случаи.
— Может, вытянуть зуб-то?
Олег Иваныч только головой покачал, показал на руке три пальца — три, мол, зуба, и все доходят. Вот заговор бы какой помог, верно…
Почесал Терентий бороду, подозвал Степанко:
— Чти, отроче!
Поклонился Степанко волхву, в закуток Олегов зашел, примостился на лавке, начал нараспев:
— Иду я не улицею, не дорогою, а по пустым переулкам, по оврагам, по болотинам. Навстречу мне заяц. Заяц ты заяц, где твои зубы? Отдай мне свои, возьми мои. Иду я не путем-дорогою, а сырым бором, темным лесом. Навстречу мне серый волк. Волк ты, серый волк, где твои зубы? Вот тебе мои зубы, отдай мне свои. Иду я не землею, не водою, а чистым полем, цветистым лугом. Навстречу мне старая баба. Старая ты баба, где твои зубы? Возьми ты волчьи зубы, отдай свои выпалые. Заговариваю я зубы, крепко-накрепко у… Звать-то тя как, запамятовал? Олег Иваныч? …У Олега, свет Иваныча, по сей день, да на веки вечные! Ну, как, человече?
Постонал Олег Иваныч, поворочался на лавке. У очага Терентий-Кодимир с Ограем да парой разбойничков носом клевали, заговор Степанкин слушая. Приоткрыл левый глаз Олег Иваныч:
— Чуть лучше мне, — сказал, — да уж больно громок ты, отрок. Потише чти.
Пожал плечами Степанко, потише так потише.
— Заря зарница, красна девица, полунощница! Во поле заяц, на море камень, на дне Лимарь. Покрой ты, зарница, мои зубы скорбны, рубахой своею от Лимаря, за твоим покровом уцелеют мои зубы…
— Тише, тише, не так громко… — шептал Олег Иваныч.
У очага вроде молчали. Нет, вот поднялся кто-то… Зевая, завалился на лавку. Кодимир-нехристь. Парнишечки тоже к стеночкам привалились. Чти-чти, отрок…
— Враг Лимарь, откачнись от меня, а если будешь грызть мои зубы белые, сокрою тебя в бездны. Слово мое крепко! Ну? Легче ли?
Кивнул Олег Иваныч, на лавке чуть приподнялся, выглянул… Ага — повалились все, спят. Нет, не все. Ограй, черт лысый, нет-нет, да и зыркнет глазом.
— Почти-ко еще, отроче…
— Матушка-крапивушка, есть у меня Олеже свет Иваныч, есть у него на зубах черви…
— Стой, какие такие черви?
— Да это слово такое, в заговоре. Ты не вникай особо… Сейчас я крапивки принесу, к ногам привяжу — утром все как рукой снимет.
Отрок дернулся было к очагу, но Олег Иваныч быстро схватил его за руку:
— Как братец твой, Ратибор, поживает?
Вздрогнул отрок, скривился.
— Плохо, — прошептал горестно. — Не живет вовсе. В прошлую зиму шпыни какие-то живота лишали. И сестер… Глукерью, Мартемьянку, Лыбедь… Лыбедь-то совсем дите была…
Степанко низко склонил голову, длинные волоса его упали на лоб, скрыв выступившие в уголках глаз слезы.
— Все одно найду убивцев, — твердо заявил он. — Все одно… Хоть до смерти искать буду.
— Ты как у татей-то оказался, Степа?
— Да как… — отрок пожал плечами, откинул со лба челку. — Деревню нашу пожгли, братьев-сестер убили. А родителев уж давно не было. Вот и пригрел Терентий — Кодимир-волхв, чтоб ему… Ну, да то пустое. Тебе говорю так — добро твое помню. Знай — нехорошие люди Терентий с Ограем, а есть у них еще подельники — те совсем худы: один зверь зверем смотрит, другой — с бороденкой козлиной…
— Постой, постой, — поднял руку Олег Иваныч. — С бороденкой, говоришь, козлиной? А как зовут его, знаешь?
Задумался Степанко, голову почесал:
— Того, что с бороденкой, — не знаю, хоть и частый он гость у Терентия, а звероватого, кажется, Матоней кликали.
— Матоня!
— Знаешь его, человече?
— Кажется да… причем не только его.
Задумался Олег Иваныч — ситуация-то неожиданно оказалась еще хуже, чем он предполагал. Всякими возможными осложнениями чреватая.
— Бежать тебе надобно! — шепотом посоветовал Степан. — Бежать!
Последние слова Степанко прошептал столь яростно, что зашевелился на своем ложе волхв.
— Тсс! — Олег Иваныч закрыл отроку рот рукою. — Сам знаю, что бежать… Ты-то пойдешь со мною?
— Куда? — отрок тоскливо взглянул в сторону. Видно, не очень-то сладко жилось ему у разбойного волхва Кодимира. Хоть и была надежда на Олега Иваныча слово…
Словно в ответ на его печаль, где-то неподалеку в лесу, за островом, снова завыл волк. Заворочался, заругался на лавке Ограй — лысый слуга волхва.
— Воет и воет, — поежился Степанко. — Не первый день уже. Ребята говорили — недавно в Силантьеве — это деревня тут, рядом с Явженицами — волк младенца унес. Врут! — отрок невесело усмехнулся: — Не волк то, оборотень! Сытые сейчас волки-то, а этот… Ишь, развылся…
— Хо! Так я не очень и далеко, оказывается. Как, говоришь, деревня-то прозывается?
— Силантьево. По хозяину новому, человеку служилому. А что?
— Да так, — Олег Иваныч поднялся на лавке, пристально взглянул на отрока: — Скажи-ка, Степа, хочешь ли отстать от татей?
— Хочу, — с надеждой прошептал отрок. — Да только некуда. Ни родных у меня не осталось, ни знакомых каких…
— Найдем знакомых. Слушай…
До утра почти прошептался Олег Иваныч с отроком, на спящих татей косясь. Воспрянул духом Степанко, про Силантия Ржу услышав. И так-то по округе про Силантия молва хорошая шла. Справедливым показал себя хозяином, мужичков зазря не обижал, наоборот — привечал всячески. Да и у государя в чести — сунься кто! Охотиться страсть как любил — то Степанке любо, сам охотник. Эх, хорошо бы к Силантию…
— В холопы обельные не пойду, — качал головой отрок. — А в служки — пожалуйста! Да по охотницкому делу…
— Кто ж тебя вяжет в холопы-то? К чему приучен, тако и там будешь. Чай, знаешь зверье-то всякое?
— А как же! И берлоги, и тропинки звериные. Вот только… — отрок смутился, — ведун я, хоть и крещен был когда-то.
Замолк Олег Иваныч. Сказал, подумав:
— Ничего, что ведун… был. То не главное. Молись чаще Господу, Степа! Он простит. Да в монастырь какой сходишь, покаешься…
Решили вдвоем уходить, сразу. Сперва-то Олег Иваныч планировал Степана в Силантьево отправить, обсказать, что да как. Да, вишь, в последнее время не отпускал от себя отрока волхв Кодимир, не доверял, видно.
Целый день притворялся Олег Иваныч — словно зубами маялся. К вечеру заснул вроде. К тому времени Степанко тут же, на острове, рябчика запромыслил жирного. Разделал, побросал в котел, сыпанул вместо соли (не было соли-то, кончилась) приправ разных поболе. Столько сыпанул, что, как поели, сморил шильников сон. И волхва, и слугу его, Ограя, и двух парней-разбойничков. Храп стоял — святых выноси, хоть и не простая изба то была, а капище поганое.
На дворе тьма-тьмущая, хоть глаз коли. То беглецам на руку — Степанко болотные тропы — глаза завяжи — знал, а кто прочий… поди-ка, пошастай! Сгинешь в трясине холодной, не ходи к бабке! Правда, насчет Терентия опасение было — болото не хуже Степанки знал волхв — как бы не проснулся не вовремя. Потому — поспешать надо было.
Одетые в высокие сапоги из лошадиной кожи (позаимствованные у разбойников), Олег Иваныч и Степанко осторожно выбрались из избы и скрылись в еловых зарослях. Быстро пройдя лесом, они спустились к болоту, покрытому желтоватым туманом. Закачалась, зачавкала под ногами холодная жижа. Где-то впереди черной стеной стоял лес. Ветер развеял тучи, и теперь на фоне звездного неба выделялись угловатые вершины елей. Тишина стояла… Нет!
Тишину ночи внезапно нарушил истошный волчий вой! Не тоска слышалась в нем, а жуткая лютая злоба. Словно не волк то был, а отвратительный богомерзкий демон. Олег Иваныч поежился, крепче сжав рукоять прихваченного в капище ножа. Шедший впереди Степан обернулся.
— Ишь, развылся-то, — со страхом прошептал он, и шепот его разнесся далеко по болоту, отражаясь от высоких холмов Черного леса. Вой вдруг резко оборвался, словно дикое ночное чудовище услыхало шепот мальчишки.
Олег Иваныч перекрестился. Где-то впереди послышалось утробное ворчанье.
— Постой-ка, — предостерегающе поднял руку Степанко. — Вон на той кочке постоим чуть… Не нравится мне этот вой… да и ворчанье тоже. Заговор честь буду…
Олег Иваныч согласно кивнул. Он и сам чувствовал себя не вполне в своей тарелке — то воет вокруг кто-то, то рычит — поди-ка пойми кто, обычный волк или оборотень? Потому — с заговором Степа хорошо придумал. Может, и поможет заговор-то, отпугнет волкодлака.
— На море Окияне, на острове на Буяне, — вполголоса, вполне традиционно, начал отрок, отнюдь не баловавший слушателей разнообразием вступлений. — На полой поляне светит месяц, в зелен лес, во широкий дол, на осинов пень. Вкруг пня ходит волк мохнатый, на зубах его весь скот рогатый. А в лес волк не заходит, и в дом волк не забродит… Месяц-месяц, золотые рожки, притупи ножи-рогатицы, измочаль дубины, напусти страх на зверя, человека и гада, чтобы они серого волка не брали, теплой с него шкуры не драли. Слово мое крепко, крепче сна и силы богатырской!
— Пропади, сгинь, нечистая сила! — вытащив из-под рубахи нательный крест, как смог, завершил заговор Олег Иваныч.
Смолкло рычанье. Не слышен был и вой мерзопакостный. Только где-то сбоку затрещали кусты да вспыхнули на миг чьи-то глаза желтыми искрами. Вспыхнули — и пропали.
— А ведь, похоже, прогнали волка-то! — покачал головой Олег Иваныч. — Пойдем, что ли? Иль так и будем в болоте сидеть?
— Пошли, — согласился Степанко. — Только осторожно. Мало ли…
Вышли на твердую землю, к плесу. Затрещал под ногами лед в мелких лужицах, по лицу хлестнули мохнатые еловые ветки. Олег обернулся: на востоке, за островом, небо окрасилось алым. Однако не мешало б прибавить шагу.
Подмораживало — хоть и в полушубках овчинных были путники, а все ж сырые-то ноги о себе знать давали. Эх, костерок бы… Да нельзя! Спешить надобно — до Силантьева, чай, недалече. Вон, уж слыхать, как собаки лают! Ну так чего ждать? А ну, ноги в руки… Размахнулся Олег Иваныч через распадок перепрыгнуть… Разбежался, распадок-то уже хорошо был виден… Не слушал, что там кричал Степанко… Прыгнул…
Словно острые акульи зубы сдавили правую ногу!
Адская боль пронзила тело, разнеслась по жилам электрическим током. В глазах потемнело… нет, сознанья не потерял Олег Иваныч, стон сдержав, сел на земле удрученно. На большого зверя капкан насторожили охотнички. Туда прямиком и ухнул… как Юрий Деточкин в чужой «Волге». Улыбнулся Олег Иваныч, фильм старый вспомнив, — надо же, угораздило…
Попытавшись створки разнять, вздохнул тяжко Степанко. Двум мужикам бугаистым та работа по силам, не ему. Пытались вместе — нет, не идет капканище, не поддается. Ну, что ты будешь делать? Да и в ноге боль жуткая — не перелом ли, часом? Ну, освободятся, а дальше? На Степанке верхом ехать? Нет, не обойтись, видно, без мужиков-то…
— Степан, до села далеко ли?
— Не очень. Хочешь, чтоб сбегал?
Кивнул Олег Иваныч, от боли поморщился:
— Сам-то хозяин, Силантий Ржа, вряд ли в деревне. На Москве должен быть. Харлама сыщешь либо Онисима, церковного старосту. От меня поклон передашь, дальше путь покажешь. Не заплутаешь?
— Да что ты, мил человече?
— Ладно, верю, что не заплутаешь. Ну, с Богом!
Степанко бросился было в кусты… но тут же вернулся:
— А ты-то как же? Вдруг зверь какой аль людина лихая? — Отрок осмотрелся вокруг — светало. — Давай хоть ветками прикрою…
Набросав вокруг Олега Иваныча пушистых еловых веток, Степанко кивнул на прощанье:
— Свидимся… — и исчез среди седых елей. Ни одна веточка не хрустнула под ногами.
Олег Иваныч устроился поудобней — нога ныла, конечно, но так, терпеть можно, ежели не очень шевелиться. Сколько там до Силантьева? Собак слышно, значит, примерно версты три… может, пять-семь, не больше. Прибавим пересеченную местность — часа два туда-обратно, плюс там с час на поиски нужных людишек. Всего около пяти часов выходило. Н да-а… Не фонтан. Но — что оставалось делать?
Первые лучи холодного солнца упали на такую же стылую землю, позолотив голые ветки орешника, обступившего небольшую поляну. Быстрая серая тень мелькнула в кустах. Мощные когтистые лапы вынесли на поляну матерого волка. Огромный — раза в полтора больше своих собратьев — зверь принюхался, повел носом. Хвост его чуть подрагивал, на загривке шерсть дыбилась колом. Что-то не понравилось ему в утренней тишине леса. Хищник настороженно обернулся… и в тот же миг исчез в зарослях, словно и не было его тут никогда.
Поскрипывая подпругами, выехали на поляну всадники. Кони заржали вдруг, запрядали ушами.
— Волка, видно, учуяли, — успокаивая лошадь, сипло произнес один из всадников, в длинном теплом кафтане, заячьей шапке и подбитом волчьей шкурой плаще. Поднимался вверх пар от дыхания, узкая козлиная бороденка вся покрылась инеем.
— Их только не хватало, — махнул рукой другой конник, приземистый пожилой мужичина с каким-то звероватым взглядом. — Мало нам своего волка, а, Митрий?
— Уж ты и скажешь, дядько Матоня, — ухмыльнулся Митрий Упадыш. — Поехали-ко лучше к болотине, чай, тут спуск-то?
— Тут должон быть. А вона, тропа-от…
Придерживая лошадей, шильники осторожно спустились к болоту. Пахнуло холодным смрадом.
Деревня Силантьево — три двора — дальше, за околицей — Жабьево, чуть подале — Саймино, ну, а совсем уже далеко — Явженицы, большое село, погост. Вышел из лесу отрок, пересек поле — вот и деревня. Постучался в первую же избу.
— Чего ломишься, паря? — неприветливо осведомилась вышедшая из избы крестьянка с вилами наперевес.
— Харлама ищу… аль Онисима…
— А зачем те Харлам да Онисим? — крестьянка с подозрением оглядывала мокрую одежду парня. Да и поцарапанное лицо пришельца тоже ей не очень понравилось. — Ну, говорить будешь ли? — женщина зачем-то обошла гостя слева… зачем-то? Эх, Степанко, Степанко, совсем ты нюх потерял, расслабился… Покуда баба те зубы заговаривала — двое парнищ с дубьем увесистым с тыла тебя обошли.
— А ну, имай его, робята!
Имай! Вот так-то! А и поделом — неча ворон считать, когда в чужую деревню входишь!
— Куда его, тетка Матрена?
Степан — вырываться:
— Да пустите! Да я ж сам к вам. Да мне бы Онисима… От Олега Иваныча я…
— Не знаем никакого Олега Иваныча. А Онисим на охоту с утра ушедцы, волк-то всю ноченьку выл — так за волком тем…
— Веди его, робяты, в амбар. Придет Онисим, ужо разберется.
— Да не могу я в амбар, там человек в лесу погибает! Да что ж вы… Эх… люди-и….
Не больно-то слушали Степанку. Шляются тут всякие, потом лапти пропадают. Посиди-ка пока в амбаре, паря, покуда Онисим не явится, раз он те так уж нужен. А мы — люди маленькие. Сиди…
Вот и сидел Степанко. Холодно в амбаре, темно. Попрыгал, чтоб согреться. Помахал руками. Щелочку в досках расковырял… Глядь — а в щелочку то острие рогатины так и впилось! Хорошо, глаз успел убрать.
— Еще что расковыряешь — руки обломаю, — заверил страж — давешний парень — и нехорошо рассмеялся. — У меня не убежишь, шильник!
Уселся наземь Степанко, лицо опустил в колени. Плакал… От обиды плакал, бессилья и злобы.
…Митря Упадыш с Матоней, на краю болотины стоя, все глаза проглядели. Ну, где там Терентий с людьми верными? На пятницу ведь тогда уговаривались. Иль — не пятница сегодня? Нет, пятница! Так где ж парень Терентьев, чтоб ему пусто было?
Так и не дождались парня. Сам Терентий чрез болотину со слегой пожаловал. Митря с Матоней удивились.
Нате-здрасте вам, люди добрые! Убег, сказал, парень его, Степанко. Теперь как бы не разболтал про остров-то, не провел бы кого тропами тайными.
Ну, упустил — так лови! Да головенку открутить сразу, чтоб проблем не создавал лишних. Не один убег? А с кем? Впрочем, нам то неинтересно. С мужиком? Что за мужик? Купчина? Ну, невелика потеря. Вот отрок, да, ведает, гад, все тропы тайные. Помочь половить? Ха… Ну, ежели за треть от того обоза сговоримся… Не сговоримся? Твое дело. Ну, мы поехали. За четверть? Гм… Ин — ладно… Поможем, так и быть! Только смотри, Терентий, уговор не забудь. Ну, говори, куда тут убежать-то можно?
Силантьево, Саймино, Жабьево… Явженицы… Это, что ль, где погост? Угу… Знаем. Ну, ты, Терентий, со людищи — в Силантьево да Саймино, а мы — в эти… в Явженицы да Жабьево. Не могли далече уйти, не сподобились. А не в лесу прячутся? Ну, ужо в путь, неча тут рассусоливать.
…Приехали в деревню, в первую избу стукнулись.
— Хлеб да соль, хозяюшка!
Матрена на двор вышла, поклонилась. Одначе смотрела строго. Парней кивком подозвала — мало ли. Нет, вроде не озорничают, не шалят, люди-то незнаемые. Все больше вежливо да с поклонами. Богомольцы, мол, на моленье едем. Да вот беда, ночевали в лесу, дак шпыни какие-то все припасы унесли. Не видали шпыней-то? Мужик собой видный да мелкий такой отрок, волос длинен, сапоги мокрые?
Не видали ль? Мужика не видали, а отрока… Как не видать? Не тот ли отрок у нас в амбаре сидит? А ну, пошли, странники…
Подошли к амбару… Матрена с опаской дверь отворила — всего можно ждать от звереныша — а и нет уж там никого! Только ветер в щелях свищет, так-то! Сбег, поганец! Как отлучился сторож — так и сбег, сволочуга богопротивная! Ну, что ты будешь делать? Однако далеко не убежал еще! Ловите…
Плюнул Терентий, с Матреной раскланялся — вскачь пустил конников. К лесу, да к болоту, да к Саймину. К Жабьеву да Явженицам не стали скакать — там и без них, ежели что, управиться есть кому.
Из оврага выскочив, Степанко оврагами, оврагами ломанулся. К околице выскочил — люди. Эх, не судьба к лесу. Значит — вон та дорожка, к Жабьеву. Там, может, и Харлама повстречать удастся, а то и самого господина Силантия, служилого человека княжеского.
…Охотники по лесу ехали не торопясь. Впереди — Онисим Вырви Глаз, староста церковный. Рогатина при нем, за плечами лук со стрелами, так же и у иных охотников. Силки да капканы проверить выбрались — покуда погода не мокрота да не снег, вон солнышко светит. Пару рябчиков взяв да зайца, на поляну к болотине съехали — только тень серая в кустах промелькнула! Вот он, волк-то! Ату его, ату! Бросились все за волком. Орали, метали стрелы. Нет, опять волчина хитрей оказался! Оврагами ушел, сволочь! Знал, где уходить. По оврагам-то — только лошадям ноги ломать. А пешком не угонишься, за волком-то. Так и ушел волк. Оврагами, таясь, мчался. Выскочил было на поле — нет, люди там — не охотники, по виду-то, однако ж на конях да оружны. Фыркнул волк, в овраг обратно запрыгнул. Глянь: а впереди — человек. Тоже от кого-то бежит, таится! Небольшой совсем человек, недоросток, такому шею перекусить да полакомиться. Вот и добыча. Осторожнее стал волк, тихой сапой за отроком по оврагу покрался. Момент выбирал — прыгнуть… Что там, в руке-то, у человека? Никак, нож острый? Тогда рано еще прыгать-то, погодить чуток надо. Пока дыханье собьет да подустанет чуть…
Ни шатко, ни валко — а чего спешить, отрок-то пропавший не их, а Терентия забота — скакали по дороге Митря с Матоней, лед на лужах ломая. В Жабьеве не видали никого, Явженицы вот только остались, ну, и остальные деревни, да лес еще… Угрюмился в седле Митря, на хозяина своего дулся, Ставра-боярина. Ему-то хорошо, Ставру, приказал имать и везти, так имай и вези! Нет, чтоб тут прихлопнуть Олега-то этого чертова. Мало он им в Новгороде крови попортил, так еще и здесь с ним возись. Так ведь и не словили!
Сплюнул на скаку Митря, глазами по сторонам позыркал. Чу! Мелькнуло что-то в овраге… Тьфу ты, черт, — волк! Нужен он больно…
Матоня с плеч лук скинул — развлечься, наложил стрелу нехотя… Выстрелил, не смотря особо… Дальше поскакали — за холмом уж Явженицы должны показаться.
Описав в воздухе пологую дугу, каленая стрела Матони впилась Степанке прямо в правый бок! Острая боль пронзила тело, забегали в глазах искры, подкосились ноги. Сшибая кусты, упал лицом вниз отрок, взыграла на губах кровавая пена. Последний раз взглянул Степанко вокруг. Пожухлая, тронутая морозом трава, лужа… Последний раз… Хотя, кто знает, может, и выжил бы? Если бы не волк… Волк… Дождался-таки серый своего часа! Прыгнул, рыча, вонзил зубы в тонкую шею. Хрустнули кости, кровь на траву брызнула. Поднял к небу кровавую пасть хищник, заворчал победно и кинулся с остервенением терзать теплое мясо. Запахло кровью…
— Пес с ним, с волком, — махнул рукой Онисим. — Не догоним уже. Хоть капканы да ловушки проверим…
Разъехались мужики по лесу. Один, парень молодой, вдруг в обрат примчался. Глаза круглые.
— Там! Там!
— Что там? Говори толком…
— Человек в ловушку попался!
— Что за человек? А ну, глянем…
Лошадей в лесу спрятав, подошли осторожненько, за елями хоронясь.
Точно — человек. Ветками укрылся, лежит опасливо, по сторонам зыркает. Кивнул мужикам Онисим. Подняли копья, навалились разом, ветки еловые разбросали…
Нож мелькнул в руке чьей-то. Казалось, прямо Онисиму в сердце летел. Да застыл по дороге. Ножик выкинув, улыбнулся лежащий:
— Ну, здравствуй, друже Онисим!
— Господи! Олег, свет Иваныч!
Обратно в деревню полем, мимо оврага ехали. Услыхали — словно рычит в овраге кто-то… Мигнул Онисим охотничкам. Подкрались тихохонько. Волк огроменный в овраге добычу терзал, рыча, ошметки кровавые по сторонам далеконько летели. А ну — на копья его! Обернулся серый, беду почуяв, — да поздно! Обложили уж — никуда не денешься. Прямо в глаза охотникам взглянул волк — точно смерть заглянула — страшный, с пастью кровавой. Рыкнул — да как бросится… Пару мужиков поцарапать успел, сволочь, пока не истыкали копьями. Наземь пав, завыл, издыхая, пасть окровавленную к небу поднял. Так и сдох. Радовались охотники — экий волчина, трофей знатный… Онисим на тело глянул растерзанное… Охнул да перекрестился. Не тот ли отрок, о котором господине Олег говаривал? Позвал мужичков Онисим — на руках Олега Иваныча принесли осторожно. Глянул Олег… Да так и застыл камнем. Не на лицо смотрел — не было лица-то, не на кишки-ошметки кровавые… на сапоги. Те самые сапоги-то… Болотные… Степанкины…
Худо сделалось Олегу Иванычу — уж давно так худо не было — побледнел весь, с лица спал, даже про ногу позабыл пораненную. Останки растерзанные велел на рогожку скласть.
Схоронили… Как положено схоронили, с отпеванием. Батюшка сомневался, правда, православный ли отрок изъеденный — креста-то на нем не нашли нательного…
— Православный, отче, — кивнул Олег Иваныч. — Даже не сомневайся. Истинный христианин… муки принял, как в Риме Древнем…
Принял… Все свое ведовство смертию мученической искупив. Так посчитал Олег Иваныч и решил — правильно, что с отпеванием, да на погосте… средь других-то могилок — все веселее.
Всю ночь пил Олег Иваныч. Не мальвазею, не мед стоялый — те не брали — вина попросил твореного, хлебного, что голову отшибает напрочь. В Силантия хоромах сидел, хозяин-то, приехав, обрадовался. Да только Олег Иваныч невесел был. Пил, покуда не упился совсем. А тогда улегся на лавку… Не помнил — и как. Только слова свои помнил:
— Господи! Прими душу раба твоего, Степана.
Неласково встретил Олега Иваныча Новгород, Господин Великий. Холодом, грязным перемешанным тысячью ног снегом, метелью. Казалось бы, притих, притаился побежденный город, схоронился, подальше от глаз московских, — ан нет! Все так же неумолчно шумел Торг, все так же дрались на мосту через Волхов, все так же благостно звонили колокола храмов. Только над Софьей каркали черные вороны. Много было их — не с десяток, сотнями — и откуда взялись только? Сидели на голых деревьях, наглые, нахохлившиеся, неподвижные — кар! кар! — только ежели кидали мальчишки камни — перелетали лениво. Шептали в народе — не к добру то.
Из храма Софийского вышел Олег Иваныч, прихрамывая, за упокой одну свечку поставив и две — во здравие. На ворон покосясь, во владычные палаты поднялся, по крыльцу каменному, с перильцами узорчатыми. Обрадовался ему Феофил-владыко — не чаял уж и живым увидеть. Усадил, пирогами потчевал, про Москву расспрашивал, про Ивана… То понятно — хоть и осталось покуда вече в Новгороде да Господа, а все одно — под Иваном теперь город, словно девка базарная. Хмурился Олег Иваныч — уж слишком легко расстались новгородцы со свободой. Пока-то вроде не очень-то чувствуется, ан погодите, вспомните еще вольные времена, когда кровью своею умоетесь. Пожалуй, лучше всех понимал это Олег Иваныч — видел и Новгород, и Москву, с Феофилом знаком был, и с Иваном Васильевичем, князем великим. Мог сравнивать. Да, может, и беспорядливо было в последнее время в Новгороде, да, бояре знатные, почитай, всю власть забрали — однако не то, что в Москве. Один человек там свободен — Иван, остальные — пыль под ногами его. Почувствуют то и новгородцы скоро, и чем сильнее будет Иван — тем меньше свободы. И так уж шныряют по городу московские служилые люди — выискивают чего-то, вынюхивают. Ничего, был уже подобный позор у Новгорода — мир Ялжебицкий, да оправился город. Выстоит и на этот раз. Верил в то Олег Иваныч.
Мясной день на Торгу был сегодня. Туши мерзлые, свиные, да бычьи, да прочие на поддонах красными рядами лежали. Тут же их и рубили — продавали, что кому надо: кому бок, кому окорок. Потроха окрест кровавились — сороки с воронами их по округе растаскивали. Кричал народ — торговался…
С грустью смотрел на Торг Олег Иваныч, в родной город возвратился, оказалось — чужой город-то! И не было теперь у Олега Иваныча в городе этом ни кола, ни двора. Усадебку на углу Ильинской и Славны московские дьяки конфисковали. С подачи боярина Ставра. В большую силу вошел боярин — старых знакомых и не узнавал совсем, так, цедил что-то сквозь зубы, когда кланялись. Тех, кто спину не гнул, — а таких еще много было, не привыкли к московитскому рабству — примечал особливо, потом мстил. Феофил Олега предупредил — чтоб опасался Ставра, да Олег-то Иваныч куда как лучше владыки то знал. Вообще не хотел заезжать в Новгород, да все концы здесь остались. На дальний погост, Софью с Гришаней вызволять, один не поедешь. Спутники нужны, люди верные. А где их взять-то? Оглоеды с дедкой Евфимием смертию геройскою в битве Шелонской пали, так же и Пафнутий, старый слуга скособоченный, да и Акинфий-сторож. Вечная им память, упокой, Господи! Геронтий, палач-лекарь? Исчез куда-то Геронтий после Шелонской битвы, может — и сгинул, а может — на чужую сторону подался, никак невозможно ему было под московитами. Дай Бог, выбрался Геронтий, в таком разе — счастия ему и удачи… ну, а ежели все ж таки сгинул — то Царствие Небесное… (В Выборге-городе в тот момент икнулось Герозиусу-лекарю — тот тоже об Олеге Иваныче да о всех знакомцах Бога молил, не навечно в Выборге поселился Геронтий — выждать решил чуть, а как уляжется все — обратно в Новгород пробираться…)
Панфил Селивантов не успел к Шелони — только что от свеев вернулся. Контакты наладил — купцы тамошние еще звали. Приехал домой — а тут такое… Ополченьем Панфил заведовал — что на стенах новгородских врага ждали. Не дождались. Уехал Панфил в Тихвинский посад — кузнецы тамошние далеко искусством славились, — покуда в Новгороде не до замков — тихвинцы на то сгодятся. Шелонь — Шелонью, а торговлю бросать нельзя — кушать нечего будет. Короче, не было Панфила в Новгороде…
Олексаха? Тоже наверняка погиб. Хотя… Все домочадцы с Ильинской на глазах погибали, а вот Олексахиной смерти не видел Олег Иваныч, как, к слову, и Геронтия. Так, может, и жив? Скорее всего… А где может быть Олексаха? Либо на Нутной, у Настены своей, либо — на Торгу. Ехать надобно.
Не советовал Феофил-владыко по городу ездить, ой, не советовал. Узнают, доложат Ставру — не было бы беды! В монастыре бы лучше схорониться дальнем… Кивал Олег Иваныч согласно, владыку слушая, а сам свое думал. Настену на Нутной улице — сожительницу Олексахину — навестить обязательно надо было. Не объявлялся ли сбитенщик? Да и Ульянка там должна гужеваться… ежели довез ее Стефан Бородатый, дьяк государя московского.
Полушубок медвежий надел Олег Иваныч, воротник поднял, шапку бобровую — на глаза. Поди — узнай. На конюшне с разрешения владыки лошадь взял белую. Стегнул, поскакал к мосту.
Клубился, кричал, волновался Торг. Все как и раньше, по-прежнему. Словно не было и нашествия московитского.
— А вот пироги, пироги! С визигой, лещом, белорыбицей! С пылу, с жару, кричат до пожару!
— Возьми, возьми, борода, грудинку — не пожалеешь! Да как же тоща-то? Зато навариста!
— Сбитень, сбитень, горячий…
— Пироги…
Задумался Олег Иваныч, чуть не сбил сбитенщика. Отпрянул тот, ругнулся матерно… Оглянулся Олег Иваныч, к плети рука потянулась — осадить нахалюгу.
Вместо чтоб бежать, наклонился сбитенщик, камень со снегу поднял, зыркнул нагло. А ну, попробуй, перетяни, боярин, плетью — зубами своими подавишься! Нет, не растеряли еще новгородцы свободы!
Плюнул Олег Иваныч, поворотил коня.
Оглянулся: ан сбитенщик-то — за ним! С камнем!
Ах, ты так?
Выхватил Олег Иваныч кинжал, зубы сжал яростно.
Глянь — а сбитенщик прямо к нему бросился:
— Олег Иваныч, ты ли?
Повезло Олексахе — удалося после Шелони к Новгороду пробраться. На усадьбу Ильинскую не ходил — опасаясь, у Настены жил тайно. Редко когда в город наведывался, да все ж приходилось — жить-то надо. Прежнее занятие свое вспомнил. Ульянку — прижилась-таки у Настены девка! — сбитень варить научил, сам и ходил на торжище. Не схватил никто Олексаху, хоть многие знали — Ставру-то боярину не до него было: с конкурентами, пес, расправлялся, доносы дьякам московским строчил денно и нощно. Потому и жив пока Олексаха, слишком уж человечек мелкий.
— Не очень-то надейся, паря. Такая сволочь, как боярин Ставр, и самого мелкого человечишку вспомнит, будь уверен! — усмехнулся наивности Олексахиной Олег Иваныч. — Ну, на Нутную, да побыстрее… Нечего нам тут зря светиться.
В просторной избе Настены и ночевали. Настена — баба справная — детям своим строго-настрого запретила со двора выходить — не сболтнули чего чтоб. Ульянка — а и не узнал поначалу ее Олег Иваныч — в уголке стояла смущенно… потом не выдержала, на шею бросилась.
— Ну, не реви, не реви, девка, — гладил ее по спине Олег Иваныч, успокаивал. Сам со щеки слезу смахнул украдкой. Повзрослела вроде Ульянка, строже стала, только нет-нет — да и зальется смехом.
К вечеру обедать сели. Лепешки просяные, да щец постных похлебали — не разгуляешься особо, у Настены-то, — запили сбитнем. Потом, помолившись, беседовали.
Прислушивалась к разговору Настена, бабьим своим чутьем понимая — снова расставаться придется. Ведала и другое — и у черта на куличках пусть будет Олексаха — все лучше, чем в Новгороде. Словят его тут, не ходи к бабке! А так — пусть в монастыре дальнем отсидится, вон, Олег Иваныч-то, гость дорогой, как раз тоже собрался на богомолье. И ему невместно в Новгороде оставаться. Ну, тем и лучше — двое-то, не один. Кого еще? Геронтий? Нет, не слыхал Олексаха про Геронтия. Может, и жив, да в Новгороде его никто не видал. Селивантов, Панфил, староста купецкий, Олега Иваныча приятель-собутыльник старый? Хм… Он на Шелони не был — тут, в Новгороде, ополченье организовывал, вместе с Макарьевым Кириллом… ну, с кем в прошлый год посольством в Литву ездили. Оба московитских шпионов опасаются. Потому — и найти их в городе — дело дохлое. Скорее всего, к свеям торговать уехали, в Выборг-город, али так ушкуйничают… А Панфил, еще сказывали, ежели и не у свеев уже, то в Тихвин подался — за кузнецким товаром.
На лавке дальней кудель чесали на пару Настена да Ульянка-девка. Песен тягучих не пели сегодня — прислушивались, о чем там мужики шепчутся.
А те до ночи разговаривали. Ульянка на печи к самому краюшку прилегла — слушала.
С утра собираться начали. Настена муки насыпала, да пирогов, да мясца вяленого, что на черный день за печкой лежало. Собрала котомки. Простились быстро — и в путь. Сначала на владычный двор заехали. Повезло там — чернецы как раз паломничать собирались по дальним монастырям да погостам — к Тихвинской Пресвятой приложиться. Пешком шли — труден путь, длинен — так на то и богомолье. Христос, чай, больше терпел. Олег Иваныч с Олексахой, скуфейки монашеские натянув, совсем незаметны стали. Из ворот, обедню отстояв, вышли. Мост прошли, да по Пробойной, да по Московской дороге. К Федоровскому ручью подходя, пастись стали особливо, Олег Иваныч с Олексахой в середину паломников вклинились, головы в плечи втянув. Глазами по сторонам рыскали, не покажется ль кто знакомый… Нет, Бог миловал. На усадьбу Ставрову глянули — топоры там вовсю стучали — артель плотницкая два терема возводила, взамен сожженных. Тын новый уже красовался — высокий, крепкий, обхватистый — над воротами башня… Не боялся теперь Ставр молвы людской, не боялся, что колдуном ославят — а ну, пикни кто! У Москвы теперь в Новгороде главное слово! А боярин Ставр — рожа шпионская — Москвы первый ставленник и самого государя Ивана Васильевича любезник. Так-то! Ну, не вечер еще… видали мы таких ставленников!
Чрез ручей пройдя, у церкви Федора Стратилата остановились паломники. Красив храм, величав, строг. На куполе крест блистает. Помолились, сняв шапки…
— Господи, в добрый путь!
Защемило сердце у Олега Иваныча, обернулся на храм, словно в последний раз. Новгород, Господин Великий. Родной. Для Олега, Олексахи, Софьи… Ну, Софьюшка, ну, милая, продержитесь еще немного с Гришаней… А уж мы… А уж мы постараемся, выручим.
Никем не узнанные, из городских стен вышли — ров по Косому мосту перешли — и вот она, путь-дороженька дальняя! Перевели дух беглецы. Одно дело, почитай, сделали! Выбрались незамеченными… Теперь ищи-свищи, Ставр-боярин!
Переглянулися Олег Иваныч с Олексахой, подмигнули друг другу, усмехнулись. Ну, теперь до Тихвина!
За паломниками возы с сеном тащились от самого Торга. Не отставали, но и вперед не лезли. Аккуратно ехали. Человечек на первом возу сидел неприметный. В полушубке овчинном, треухе заячьем. Внимательно за паломниками смотрел человечек тот. Особенно — за двоими… А как поворотили возы, спрыгнул человечишко с телеги, да к монахам, богомольцам дальним. Олег-то Иваныч с Олексахой уже впереди шли, а этот, вишь, сзади пристроился. Служкой монастырской сказался, отца келаря помощником. Тоже на погост Тихвинский — по пути выходило. Ну, по пути, так по пути. Пожал плечами старшой — иеромонах Георгий — что ж, иди, мол.
Так и пошли.
Олег Иваныч с Олексахой в первых рядах… А позади — человечек в треухе заячьем.
Глава 9 Нагорное Обонежье. Декабрь 1471 г.
А жизнь — только слово, есть лишь любовь, и есть смерть.
Эй, а кто будет петь, если все будут спать?
Смерть стоит того, чтобы жить,
А любовь стоит того, чтобы ждать…
Виктор Цой, «Легенда»Давно то дело было. Ловили рыбаки рыбу на Нево-озере. Ни складно дела шли, ни ладно — не сказать, чтоб сильно везло, так, попадалось что-то. Плюнули было рыбаки — пес с ним, с уловом, видно, день такой… Как вдруг озарилось озеро светом ослепительным, невиданным! Подняли головы рыбаки — да так и застыли в изумлении: распространяя вокруг чудесное сияние, плыла по небу в потоке света икона животворящая. Богородица, Пресвятая Дева, с Младенцем на левой руке…
К Тихвинке-реке плыла икона. По пути пять раз являлась лучезарно, чудеса творя пречудесные, немощных да больных исцеляя. В тех местах народ храмы да часовни ставил: у Ояти-реки на горе Смолковой — Успения Божьей Матери, там же, на Ояти, у Вымочениц — Рождества Пресвятой Богородицы, на Паше-реке на горе Куковой — Явленной Иконы Божией Матери, рядом же, на Паше-Кожеле — Покрова Пресвятой Богородицы, да церковь Всех святых на Тихвинке-реке.
Там, на Тихвинке, на правом берегу, где явилась икона чудесно, тоже принялись храм строить. Поставили за день сруб — утром пришли — ан сруб-то уже на другой стороне реки, силою чудесной перенесенный! Стоит над восточной стороной сруба икона Матери Божией, сияет, словно солнце!
Было то 26 числа июня месяца, в лето 1383 от Рождества Христова.
На месте, иконой указанной, и выстроили храм Божий. Дабы народ привлечь к открытию храма, направили святые отцы в окрестные селения пономаря Георгия, по прозванью Юрыш. Дело исполнив, возвращался Юрыш назад, да, не дойдя до храма около трех верст, увидел вдруг саму Царицу Небесную! В сиянии Божественном, в руках — жезл красный. Рядом с Ней — Николай Чудотворец, сединами убеленный, в одеждах святительских. Повелела Богородица Дева поставить на храме деревянный крест…
На месте встречи Юрыша с Царицей Небесной построили часовню Святителя Николая. Икона же, чудесно на Тихвинке-реке явившаяся, стала в народе прозваньем — Тихвинская. Написана та икона еще при жизни земной Пречистой Девы Марии евангелистом Лукой. Девой самой и одобрена. В Константинополе в честь иконы той был храм воздвигнут Влахернский, там и пребывала икона около пятисот лет, и вот объявилась чудесно в Новгородских пределах, источая чудеса и привлекая к себе паломников со всех земель русских. Благодаря святыне этой неизвестное никому до той поры селеньице Новгорода Великого Обонежской пятины в людный посад превратилось — Пречистенский, или — Тихвинский, как стали все чаще его называть.
Нагорное Обонежье. Не был никогда край этот особо богатым — голод, неурожай, мор частыми гостями были. Родила земля плохо — сыро да холодно, редкое лето жарко — потому лес главным кормильцем был. Охота, грибы-ягоды да промыслы разные. Так и жили погосты, большая часть которых Софийскому дому принадлежала, но были и своеземцы, и даже у бояр некоторых кой-что имелось. Вот свободной, никому не принадлежащей, земли — не было, не считая неудобей разных. Наследовали землицу как хотели — меж сыновьями дробили, жёнки — и те, бывало, владели — не было ни закона, ни порядка особого.
Вот таким вот погостом и был Липно, где паломники пред Тихвином ночевали. На реке Сясь погост стоял. Сясь — то не славянское слово, весянское — комариная, значит. Ну, неизвестно, насколько комариная — зима уж, слава богу, однако река не узенькая, с пристанью. Через Сясь да Воложбу-реку с Балтики можно было к Низовым странам далеким добраться — к Волге да к морю Хвалынскому. Летом частенько лодьи проходили — тем и жили людишки: кто честным трудом лоцманским промышлял, а кто и разбоем. Платил Липно дань на содержание собора Софийского — сперва полгривны, теперь поболе. В центре погоста — деревянная церковь, рядом батюшки двор, да дьяка, да проскурницы. Напротив церкви — изба старосты погостного, с ней — забор об забор — бирича, что на суд кликал да помогал старосте волостелю софийскому оброки сбирать. Кромя храма да тех изб, еще с пяток дворов крестьянских — вот и весь погост. Паломники у Саввы Пичугина ночевали — половника-крестьянина местного. Хороший мужик Савва — опрятный, богобоязненный, и жена его, Аграфена, такая же, и детушки. Изба прибрана чисто — хоть и по-черному топится — пол выскоблен да веником-голичком выметен. Хоть и жарко с вечера натопил Савва, а все ж к утру выстыла изба. На лавках-то еще ничего — а на полу, на сене, где паломники, — холодненько стало. Ну, да не на снегу, не замерзнешь. Олег Иваныч с Олексахой вчера поздненько легли — все Саввины рассказы слушали про икону чудесную, Тихвинскую. Вот и спали — холода не чувствуя — еле-еле растолкал их старшой поутру. Пора было. К обедне хотели попасть в посад Тихвинский…
Потянулся Олег Иваныч, передернул плечами. Кончался отдых — в Тихвине дела надобно было делать: людишек надежных отыскать да проводника по погостам дальним. А то — где там эти Куневичи — пес знает. Говорят, на Капше-реке где-то. У черта на куличках… Хорошо, хоть нога зажила после того капкана, слава те господи!
Хозяевам поклонившись, вышли богомольцы на улицу. Солнце вставало — яркое, чистое — видно, погода направлялась, не то что всю дорогу почти: то снег, то ветер. А тут — и ветер стих, и небо заголубело. Повернулись паломники к церкви, шапки сняв, помолились. Благодарили Господа за день светлый. Олег Иваныч еще и на счастье помолился да на удачу. Очень уж она ему сейчас была надобна.
Человечишко, что по пути к богомольцам пристал, перекрестился по-быстрому, да скорехонько на глаза треух заячий свой надвинул, поднял воротнишко. Глазьями зыркнул. На Олега Иваныча да на Олексаху. А те и не заметили, что давно у них хвост вырос. Не об том думали. Чем дальше от Новгорода уходили, тем меньше опасались людей Ставровых. Расслабились, черти. Покойно было с богомольцами-то — да и холода особые не стояли.
Ходко шли, весело, песни святые пели…
Днесь пресветлая Богородица-Дева Христа-Господа рождает И млеком его питает. Пеленами увивает, В ясли полагает, Звезда пути являет, Над вертепом сияет; Волхвы же понеже Ко Христу приидоша, Трои дары принесеша: Злато, ливан, смирну, Вещь предивну!Хорошо пели, громко, словно на параде, орелики. Почти что на мотив «У солдата выходной, пуговицы в ряд», только веселее.
Успели к обедне.
В посад войдя — прямиком в церковь Успения. Молились. Помолившись, Олег Иваныч с Олексахой от богомольцев отстали. Отца Филофея дождались, настоятеля, у кого Олег Иваныч прошлый год ночевал, с Гришаней вместе. Батюшка лоб нахмурил, потом улыбнулся — узнал.
— Ну, заходи, Олег свет Иваныч, гостем будешь! Много хорошего о тебе слыхал.
Пошли вместе на настоятелев двор, тут же, у церкви рядом.
Человечишка в треухе заячьем тоже за ними поперся, таясь опасливо. Заприметил, куда пошли, у ворот постоял, башку почесал, задумался.
— Не знаю, что и посоветовать вам, — покачал головой отец Филофей, потчуя гостей пирогами. — Людей охочих легко сыщете, а вот Куневический-то погост — дальний, не всякий туда дорогу знает.
— Ну, нам хотя б людей для начала. Кого присоветуешь, отче?
— Корчму, прости, Господи, навестите. Смотрите только с Емелькой Плюгавым не схлестнитесь, непотребных дев повелителем. Любит Емелька ходить, в корчму, куражиться. А лучше — к кузням сходите, на реку. Там много парней молодых приходят к зиме, молотобойцами наниматься… да не всех берут-от.
Так и решили. На берег пошли, к кузням. Хорош был денек-то, недаром солнце с самого утра сияло. Так и не скрылось, до вечера-то, лишь к закату пошло оранжевым. Тихо было, безветренно, небо — не сказать чтоб синее или голубое, скорее белесое, прозрачное, чистое, словно вымытое. Темнело.
От кузней — сараюх щелястых, ветхих, повалил народец, огнем прокопченный. Кузнецы, подмастерья, молотобойцы. Мужики все больше здоровые, осанистые. К ним молодежь, что у реки без дела болталась, с интересом:
— Не нужон молотобоец-то, дядько Кузьма?
— Взял уж. Вот, может, Трофиму… Эй, Трофиме!
— Три полушки в седмицу.
— Одначе маловато.
— И мои харчи.
— Подумать бы.
— Ну, думай, думай, паря! Народишку-то, гляди… Так что — чеши башку!
Тут и Олег Иваныч с Олексахою:
— Заработать хошь, паря?
— Как не хотеть.
— Места здешние знаешь?
— Округу знаю.
— А погосты дальние?
Зачесал бороду молодец, задумался. Головой покачал грустно. Нет, мол, не знаю дальних.
— Молодец, честен. Охоту ведаешь ли?
— Из лука в глаз беличий попадаю!
— Не обманываешь?
— Вот те крест!
Перекрестился парень размашисто. В плечах — сажень косая, кудри русые вьются. Лицо рябое, простоватое.
— Звать-то тебя как?
— Терентием.
— Ну, приходи, Терентий, к Успенья храму, к заутрене. Потолкуем. Откель будешь-то?
— С Мелигижи, половника Елпидифора сын.
— Слыхали про Елпидифора, человек честный.
Так троих выцепили. Все молодые парни. Терентий да Зван с Еремеем. По виду — люди хорошие, вот только жаль — дорог дальних не знают. Пришлось в корчму идти, где ранее Кривой Спиридон хозяйничал… Непонятно было, что и пожелать душе его многогрешной, Царствия Небесного или геенны огненной…
В корчму и зашли. За ними человечек в треухе заячьем ужом болотным проскочил-просочился. В уголке темненьком неприметненько притулился. Навострил уши. До того в малой кузне самострел за мзду малую сторговал по случаю. Малость, правда, испорченный самострел-то — ложе прогнило, да и тетива — не Бог весть. Уж ладно — какой есть пригодится. Тем более — на авось купленный. Положил оружье в котомочку, с болтами-стрелами короткими вместе. Так и в корчму зашел, с котомкою.
Нет, ничего не изменилось в корчме за прошедший год. Те же стены закопченные, тот же очаг, те же лавки. Даже посетители — казалось — те же. Правда, судя по разговорам, больше приезжих. Мясо продавали, убоину. Теперь гулеванили, барыш подсчитав.
— Эй, хозяин, а ну тащи чего хмельного! Да пирогов, да каши!
Олег Иваныч с Олексахой пива взяли по кружке. По осени, как работы земельные кончились, в складчину тихвинцы пиво варили. Вкусное вышло, пиво-то не хуже ревельского. Правда, не много и пили новгородские гости, все больше приглядывались.
К ночи ближе сонмиком небольшим заявились людишки. Человек пять. Четыре бугая и с ними мужичонка мелкий с бородкой редкой, в армячке стареньком. Казалось бы, голь-шмоль перекатная — а как залебезил пред ним хозяин! Да и гости подвыпившие притихли, на лавках раздвинулись.
— Милости просим, Емельян Федулыч!
Уселся мужичонка, армячишко расстегнул, распарился. Бугаи рядом — вроде как охрана — по сторонам посматривали.
Емельян Федулыч… Так вот он какой, местный сутенер Емелька Плюгавый — «непотребных дев повелитель». Маленькое красное лицо — больная печень? — морщинистое, будто печеное яблоко, но, в общем, ничего особенного. Правда, морда хитрая, подозрительная.
Ну, да пес с ним. Пришел и пришел. Сидит, никому не мешает.
Не затем Олег Иваныч с Олексахой пришли, чтоб на «кота» Емельяна пялиться! Дело делать нужно — проводника искать. Вот, из этих-то гостей заезжих — милое дело. Неужто никого из дальних погостов нет?
Есть!
Олексаха нашел. Познакомились, разговорились…
Парень один, Демьян, Три Весла в Лодке — или, для краткости, — Три Весла — с дальнего погоста оказался — с Пашозера. Убоину да дичь с мужиками торговать приехал. Расторговались удачно — теперь вот в корчме гужевались. А что? Можно себе и позволить, расслабиться, после дела-то. С ним рядом мужик на столе спал, шапку под голову подложив, — упился, бедняга. Бывает…
Олексаха с Демьяном — слово за слово… потом по пиву… глядь — и друзья уже, водой не разлей! Обернулся Олексаха, подмигнул Олегу Иванычу. Тот головой кивнул — молодец, мол, в том же духе действуй. Посидел с парнем Олексаха, поговорил… напарника подозвав, кивнул:
— То Демьян Три Весла, с Пашозера, Миколы-весянина сын. Согласен помочь нам… да деньжат заработать, на свадьбу. А, Демьян?
Улыбнулся смущенно Демьян, по-детски совсем, хоть бугаина та еще, кивнул конфузливо.
— Капшу-реку знаешь ли?
— С истоков.
— А Куневичский погост?
— Дорогу ведаю. Родная тетка у меня там, Велисина.
— То хорошо. Поведешь нас, за две деньги?
Демьян аж подпрыгнул на лавке, хоть и производил впечатление флегмы. Еще бы! Две деньги — да ему и присниться не могла такая сумма в самых светлых снах! А тут… деньги, можно сказать, на дороге валялись, не ленись только нагнуться.
Угостили пивком Демьяна. Того и не заметили, как мужик упившийся, что, шапку подложив, на столе спал, с лавки сполз тихохонько, да бочком, бочком — к Емельке Плюгавому. Зашептал на ухо что-то, на гостей новгородских кивая злобно. Жаль, не увидели того гости, не увидели…
Они-то не увидели, да человечек в треухе заячьем, в уголке скромно сидевший, все приметил. И разговор с Демьяном, и мужика пьяного, и Емельяна плюгавца. Встал неприметно, к выходу направился, у лавки, где Емельян гужеванил, остановился, к стене прислонясь — вроде как сомлел немного. Да никто и внимания-то не обратил на него — мало ль было сомлевших — стоит и стоит себе, не блюет, не падает — чего за ним смотреть-то? Вот упадет иль рыгнет на кого — другое дело. Выведут тогда вон под белы рученьки. Да как бы и деньжат своих не лишился, ежели не пропил всех, служки-то корчемные — тати те еще!
— Про Куневичи те двое спрашивали, — сказал мужик Емельяну. Громко сказал, не особливо и таился — гам стоял вокруг, кутерьма, песни. Все одно — никто ни единого словечечка не разберет. Ну, это кому не надо, не разберет, а кто специально за этим пожаловал… как тот, в треухе заячьем… с глазами как омуты…
Выслушал Емельян мужичка, кивнул благостно, бугаев подозвал:
— Вишь, робяты — вон, там два шильника, на богомольцев похожие. Как выйдут, порежьте скорехонько, слова плохого не говоря. Опосля в реку, в прорубь, скинете. Управитесь, четверо-то?
— Да что ты, Емельян Федулыч, неужто не справимся?
— Ну, с богом. Потом возвращайтесь, не мешкайте… На сегодня еще, чай, делишки найдутся. Дуська, змея, за три дни уж не платит, тварь. Вот морду ей и попортите.
— Слушаемся, хозяин-батюшка!
Задумался Емельян, лоб еще больше наморщив. Может, и зря — сразу-то, в прорубь? Нет, не зря… Ставр-боярин давно наказывал — как будет кто про Куневичи спрашивать — на тот свет немедля! За то и от Ставра можно будет деньгу какую срубить, как объявится. А объявиться должен скоро. Есть у боярина какое-то дело в Куневичах, есть…
С Демьяном на утро сговорившись, ушли из корчмы Олег Иваныч с Олексахой. К Успения храму направились, на двор настоятеля, отца Филофея.
Темна ночка была, тиха, звездна. Лишь снег выпавший под ногами поскрипывал, да где-то за рекой, за Фишовицей, истошно выли волки. У, сволочи!
Только повернули от реки — глядь, а навстречу два рыла амбалистых. В руках по дубине.
— Ну, что, посчитаемся, шильники?
— С кем спутали, ребята?
Ага, спутали, как же!
Дубье мимо уха просвистело — еле уклониться успел!
Ах, вы, сволочи! Жаль, мечи на кузнях не прикупили, на завтра оставили. Кинжальчик да кистень Олексахин — малая против дубин подмога!
Ну, тогда ноги в руки…
Да нет, не убежишь, кажется! Сзади еще двое объявились. Тоже с дубинами. Что ж — видно, биться придется.
Эх, Олег Иваныч, Олег Иваныч, волчина прожженный. Расслабился, с Новгорода уйдя, совсем нюх потерял. Вот и расплачивайся теперь! Ладно сам, так еще и Олексаху подставил, от Настены сманив…
— Беги, Олексаха, вон, чрез ограду! Этих я задержу…
Усмехнулся лишь Олексаха, кистенем махнув удачно — по башке попал бугаю, тот и зашатался, чуть дубину из рук не выпустил. Нет, сдюжил, однако. Такому бы в спецназе или в ОМОНе где-нибудь, а не тут, при коте жирном Емельке, подъедаться.
Эх, жаль — ни меча при себе, ни шпаги. Один кинжальчик… Ну — алле!
Изловчился, сделал выпад Олег Иваныч, грудину самому нахрапистому пробив. Заорал тот, заплевал юшкой, на снег повалился медленно. Зато остальные озлобились. Замахали дубьем, сволочи, что твои мельницы! Кинжал, руку зашибив, выбили. Олексаха уже вниз по ограде съезжал, скрючившись… Видно, погибать пора настала…
Замахнулся дубиной шильник, осклабился. Двое других Олега Иваныча окружали, зубищами скрипя злобно.
Крутнул головой Олег Иваныч. Многовато нападавших будет… ну, да ничего, поборемся.
Поднырнул бугаю под руку, схватил у того, что на снегу, дубину.
В миг обернулись бугаины, дубины подняли.
Неудобно фехтовать дубиной-то, чай, не шпага. Однако — обманные финты и тут действовали. Сунул Олег Иваныч дубину вверх — якобы в лоб метил, а на самом-то деле в грудину, перевел резко. Ап! И не успел закрыться бугай! Дубину выронив, с хрипом упал на колени, за грудь схватился. Второго Олексаха жердиной заборной угваздохал. Остальные, такое дело увидев, прочь повернули. Да не долго бежать им пришлось…
Повалились вдруг с ног, по очереди. Сначала один, потом, чуть погодя, — другой. Аккуратненько так легли, друг с дружкой рядком, словно поленницу кто-то укладывал.
Не успел подивиться тому Олег Иваныч — к Олексахе обернулся — жив? Жив! Олексаха дыханье перевел, улыбнулся, кивнул на бугаев тех, что убежать пытались, что, мол, с ними?
Любопытствуя, подошли ближе. Лежали себе бугаи спокойненько на снегу — мертвее мертвого. Из каждого маленькая стрела торчала — болт называется.
Однако ж где тот стрелок неведомый?
Вышел. Из темноты улиц, неслышно, словно тень замогильная.
Самострел наземь бросив, треух снял заячий.
— Хорошо — вызвездило сегодня, так бы и не попасть.
Глянул внимательно Олег Иваныч. Мелкий совсем мужичок, отрок даже… волос темен, ресницы долгие, глаза — как два омута… Глазам своим не поверил!
— Ульянка!!! Ты-то откель здесь, дщерь?
Улыбнулась Ульянка:
— От самого Новгорода с вами иду. Эх вы, не заметили!
Поутру, с помощью отца Филофея, быстро раздобыли коней. Трех лошадок косматых на торжище удачно купили, ну, а двух гнедых сам настоятель пожаловал — владейте пока, а расплата… ужо, вернетесь, расплатитесь.
Кольчужки у местных кузнецов прикупили, мечи, рогатины, самострел Ульянкин наладили — порвалась-таки тетива-то.
До обедни и выехали. Поначалу-то хотели завтра с утра, да слух нехороший звонарь Филофеев принес — будто рыщут по всему посаду Емельки Плюгавого люди, выискивают кого-то, вынюхивают. Да, говорят, ночью двух человек Емелькиных людишки неведомые жизни лишили да двух ранили тяжко. Выслушав, переглянулись Олег Иваныч с Олексахой. Ульянку к кузням послали — нанятых парней покричать. Парни едва на настоятелев двор прибежать успели — сразу и выехали. Чрез Тихвинку-реку по льду проскакали — и лесом, лесом. Далее на дорогу выехали — в Заонежье та дорога вела да к морю Студеному, где ушкуйники спокон веков рыбий зуб промышляли.
В тот же день от погоста Липно въехали на Тихвинский посад всадники числом с десяток. Кони сытые, храпели, сбруя богатая на солнце золотом сусальным блистала. Боярские людишки — по всему видно. Впереди, на белом коне — сам боярин-батюшка. Лицом красив, статен, шуба поверх кольчуги соболья, плащ бобровый за плечами плещется. Паломники многие новгородские узнавали боярина Ставра, кланялись низко. Не смотрел на них Ставр глазами своими надменными, аглицкого олова цветом, лишь усмехался криво. К церкви не завернув, в корчму сразу поехал. Узнав о том, туда же и Емелька Плюгавый заторопился, фишовский смерд. Поклонился боярину низко, на лавку, кивка дождавшись, присел.
О чем говорили они — неведомо, а только после беседы той прибавилось серебра в калите Емелькиной. А сам боярин да люди его поутру — раным-рано — на рысях из посада выскочили — по дороге Заонежской коней гнали.
Невелик погост Куневичи — церква деревянная, да священника с биричем дома, да еще три избы — крестьянские. Тын деревянный, крепкий — не от людей, от волков больше, за тыном, от ворот — к Капше-реке дорога, от сугробов вычищена. Во льду, у берега, прорубь в сажень, на холме — бани. Еще пара деревенек в округе — с холма в ясную погоду видать Порог да Олончино, да своеземца Никифора дом. А вокруг — лес сосновый. Боры темные, непроходимые, летом-осенью ягодами-грибами обильные, зимой — дичью всякой: лосями, кабанами-вепрями, куницей, лисицей, белкой. Это не считая глухарей-рябчиков да прочей мелкой птицы. Охотникам жить можно. С урожаем вот только плоховато было — ну, то смотря какое лето: бывает, жара стоит — тогда и овес, и рожь вызреет, а как зачнут дожди, так одна гнилая капуста да репа. Тем и питались. Да боярину оброк платили исправно. Правда, оброк тот уж больно мал да нищ был, не гневался на то Ставр — понимал: больше и не выжмешь тут ничего. Все хотел уступить софийским землицу, да пока придерживал — места дальние, людей мало, от Новгорода и не доскачешь сразу. Что хочешь, скрыть можно. Или — кого…
Немирно на погосте живали. Ключник — Игнат Лисья Нога — верный человек Ставров, а прочие-то крестьяне да священник, отец Герасим, — давно хозяина сменить хотели. Подозревал Ставр — доносы те писали исправно, да все разобраться некогда с ними было. Крестьяне — те, хоть и на боярских землях, а тоже свой интерес имели — в своеземцы податься. Потому ухо востро с ними держать надобно было. Игнату-старосте в помощь Тимоха Рысь был послан с пятью человеками — с наказом: пленников сторожить зорко, да не трогать до приезда боярского. Тимоха их и не трогал — к боярыне Софье даже и не подходил, а Гришаню похлестал плетью чуток, так, для острастки. Правда, Гришаня после той плети три дня ни сидеть, ни на спине лежать не мог — ну, то ладно, пустяки — жив ведь, как и наказывал боярин-батюшка!
С лета, да что с лета — почитай с весны — томились в заточении пленники, Гришаня да Софья. Слуги Игнатовы за ними следили прилежно — никуда со двора не пускали. Софья — в горнице малой сидючи, песни грустные пела, а Гришаня от нечего делать едва с ума не тронулся — в конце концов нашел себе занятье — игрушки мастерил старосты детям малым, воинов да кораблики. Те кораблики на Капше-реке дети пускали… В один такой кораблик и сподобился отрок тайно записку засунуть.
— Ну вот они, Куневичи, — отвернув покрытую снегом ветку, обернулся к Олегу Иванычу проводник Демьян Три Весла. Четверо суток до погоста добирались, хорошо — хоть с погодой повезло, слава Богу — солнышко светило да подмораживало. Ну, и особого снега на пути не было, не успел еще напасть-то.
Из лесу хорошо был виден холм на том берегу реки — тын, церковь, избы с поднимающимся высоко к небу дымом. Из распахнутых настежь ворот вышли бабы с ведрами. Смеясь, спустились к проруби — стирать… Чуть выше по холму, перед тыном, прилепились баньки, одна — большая, другие поменьше. От той, что побольше, спускалась прямо к проруби крутая ледяная горка. Напарившись — да по ней… да прямо в ледяную водицу! Эх-ма! Здорово! Назад, правда, не очень удобно забираться — Олексаха поежился, как представил, ну, уж очень-то хорошего никогда на свете не бывает.
Оглянулся Олег Иваныч на сподвижников:
— Ну, как дальше изволим делать? Только прошу прямого нападения не предлагать — весь погост нам на меч не взять, то понимать надо.
— Понимаем, господине, — дружно кивнули нанятые в Тихвине парни: Терентий с Мелигижи, Зван да Еремей. С ними и Олексаха кивнул, и Ульянка-девка — в овчине да треухе заячьем — самострел за плечами. Проводник, Демьян Три Весла, на баб, что белье стирали, пялился… понятно, ладно б хоть на голых, а то — на одетых…
— Вон та, в платке с кисточками, — Велисина, тетка моя по батюшке, — кивнул Демьян. — Лет десять уж тут, замужем, за Акинфием, крестьянином местным, половником. У боярина за пол-урожая землицу держит, Акинфий-то. Плохо живут — как урожая нет — боятся, не ровен час, отберет землицу боярин. Иль, того хуже, холопство предложит.
Задумался Олег Иваныч:
— Значит, я так мыслю, Демьяне, особой любви к боярину у тетки да мужа ее нет?
Демьян молча кивнул.
— Ну так иди, навести родственников. Про нас только молчи. Вечерком кликнешь, как потемнее станет. Пред тем вызнай все.
Махнул рукой Демьян, знамо дело, вызнает. Шапку набекрень сдвинув, выехал из лесу.
Всполошились на реке бабы — ну, как лихой человек какой? Ведра с бельем выстиранным побросав, с визгом на холм побежали.
Догнал их Демьян, крикнул:
— Не пужайся, тетка Велисина!
Остановилась Велисина, руку к глазам приложила:
— Ой, бабы! То ж Демьянко, племяш мой, с Пашозера! Да вырос-то как… Прошло летось-то уж совсем сопленосый был… Ой, гостюшко!
— С Тихвина, с ярмарки еду, — спешившись и идя рядом с теткой, важно изрек Демьян. Шедшие рядом бабы с интересом прислушивались к беседе.
Они здорово замерзли к вечеру, Олег Иваныч и его люди, а больше всех — Ульянка, аж нос побелел, пришлось Олексахе растирать снегом нос-то. Больно Ульянке было, да не ревела девка — терпела молча. Костра не жгли — опасались. Как стемнело — факелы зажгли на погосте, мужиков из леса встречали. Потом и факелы погасли. Тишь наступила — ровно и не погост, а холм пустой. Лишь собаки изредка лаяли, хорошо — ветер оттуда, не чуяли псы чужих-то людишек, в лесной чащобе таящихся.
А морозец-то крепчал к ночи! С коней слезши, переминались с ноги на ногу парни, толкались шутливо, руками похлопывали — все молча, болтать запретил Олег Иваныч — мало ли.
На небе — луна огромная, да и вызвездило! Звезды — яркие, желтые, словно глаза волчьи. Вот Матка — Большая Медведица, а вот, рядом, Малая… Больше не знал созвездий Олег Иваныч — и эти-то с трудом вспомнил, и то после того, как парни растолковали. Уж им-то, охотникам, никуда без созвездий. Бывает, и до ночи в лесу проходишь — потом как в обрат возвращаться? По звездам только…
Совсем уж замерзли, как — чу! — захрустело рядом. Парни — за рогатины. Олег Иваныч меч вытащил.
— Иваныч, тут ли ты?
Ну, слава Богу! Демьян…
— По-скорому надо, — распорядился пришедший Демьян. — Да без лошадей, чтоб не ржали. Акинфий у ворот ждет — откроет. Собаки прикормлены… правда, один черт, брехать будут… Ну, тут уж никак.
— Ульянка! Тебе за лошадьми смотреть.
— Да вы что, сдурели? Хотите, чтоб волк меня съел?
— Да не дело девку в лесу одну оставлять. Олексаха мне там надобен. Придется тебе, Зван. По дороге в распадок коней отгонишь, там и костерок можно. Вот те мясо да баклажка с брагой. Трут да огниво есть ли?
— Найдутся, чай. Не впервой, заночую.
— Ну, тогда — с богом!
Черной громадой поднимался на фоне серебристого от лунного света неба холм с тыном. Темнели на белом снегу баньки. Затянулась, подернулась свежим ледком прорубь.
Вот и щель в воротах, протиснулись — мужик с узкой бородой, в лисьей шапке — Акинфий, быстро закрыл ворота.
Псы… Ух, и залаяли! Всполошились… Словно и не люди вошли — волки.
— Скорей в избу, — заперев ворота, махнул рукой Акинфий, с сомнением оглядывая гостей. Не маловато ли будет против Ставровых-то?
Тепло!
Очаг, сложенный из камней, в центре избы. Растекающийся под крышей дым медленно выползал в узкое волоковое оконце. Дуло. Из углов, из щелей, с волока…
Демьянова тетка Велисина — высокая, рано постаревшая женщина, с узким, изрезанным мелкими морщинами лицом — поклонившись, молча указала гостям на длинный стол, сбитый из прочного ясеня. У стола, на лавках, сидело все Акинфиево семейство: двое взрослых сыновей с женами да младшие дети — мальчик и девочка, оба лет по пяти. В зыбках из лыка покачивались грудные внуки. На другой половине избы, за загородкой, шумно дышал скот. Коровы, кабанчики, лошадь. Остро пахло навозом.
В большом горшке красной глины, стоявшем посередине стола, дымилась овсяная каша с сочными кусками мяса. Рядом, прямо на столе, грудой лежали весянские ржаные лепешки с просом — калитки. Поклонившись хозяевам, гости уселись за стол. Перекрестились на висевшие в углу образа. Во главе стола уселся большак — Акинфий. Кивнул — все взяли ложки, потянулись к калиткам. Ели… По команде — таскали из горшка мясо. Велисина — большуга — зорко следила, чтоб мяса досталось всем поровну, судя по ее строгому виду — запросто могла ложкой по лбу огреть ослушника. Никто и не торопился. Поговорка — в большой семье мурлом не щелкай — явно не годилась для этих мест. Не торопился и Олег Иваныч — знал: покуда не поедят, никакой беседы не будет. Управившись с калитками и кашей — запили клюквенным квасом. Вытерли губы, помолчали немного…
Жестом руки Акинфий отправил из-за стола лишних, взглянул строго:
— Демьян сказывал, супротив боярина вы… так ли?
Олег Иваныч степенно кивнул:
— Имеется у нас до его здешних людей одно дело. Чужих тут с лета не видали ли?
— Как не видать, видали, — Акинфий усмехнулся, погладил узкую бороду. — Жёнка одна… сказывают — купецка дочь, аль боярыня… и парень. Жёнку-то я сам не видал, а парня видел. Смурной да лицом бел — словно в подполе держат.
— Может, там и держат. Нам бы освободить тех людей надо. Да так, чтоб ни тебя не подставить, ни семейство твое. Тебе ж здесь жить еще.
Олег Иваныч испытующе посмотрел на Акинфия. Большак задумался.
— Так сделаем, — наконец произнес он. — Завтра поутру Игнат — то ключник боярский — на охоту с людишками своими собрался. Вчера еще собак налаживал. Думаю, дня на три к Сапо-озеру и далее, к Хундольским болотам… Не раз уж он туда ездит — угодья богатые. Так что на дворе его особливые гости останутся — человек бугаистый, борода куделью — с седмицу уж тут, никуда не ходит, стережет все пойманных… боярыню с отроком. Да людишки, что с бородачом этим, кажись, трое всего. Вот тут и навалитесь! А за три-то дни — успеете куда надо. Только так сотворите, будто ночью то случилось, да и…
Не успел Акинфий больше и рта раскрыть — загремели в дверь, застучали. Собаки — псы цепные — залаяли.
Вышел в сени Акинфий. Гости за оружье — да по углам схоронились.
Долгонько Акинфия не было. Только голоса доносились глухо…
Наконец вошел обратно Акинфий. С ним — мужик в полушубке лисьем, с бородой пегой, бровастый.
— Игнат я, — поклонился мужик гостям с усмешкой. — Ключник боярский.
Ничего не понимал Олег Иваныч. Стоял, словно чурка дубовая, глазами хлопал. Вот, вроде б сговаривались против Игната этого… и что же?
— Дочку мою молодшую изобидел человек боярский Тимоха, — усевшись на лавку, угрюмо произнес Игнат. — Смерти ему хочу и людям его. Да боярина пасуся… На охоту вот уезжаю. А вы… — он хитро прищурился, — вы людишки чужие, вольные… седни здесь — завтра там…
Наконец понял все Олег Иваныч. Ну, хитер ключник! И с Тимохой расправиться — и самому не подставиться… Скажет потом — уехал, мол, на охоту, все честь по чести — приехал: на тебе — перебиты все.
Ну, и то дело.
— Как боярыня да отрок?
— Боярыня ничего себе, хмурая только… а отрок третьего дня плетью исхлестан. За непокорство.
Олег Иваныч сжал зубы. Ну, начнем с утреца ужо.
Утром — засветло еще — выехал Игнат со своими на охоту, по пути в ворота Акинфиевы стукнул — пора, мол. Выглянул из избы Акинфий, кивнул.
Осторожно к усадьбе ключника подошли. Псы цепями загремели, залаяли. Жёнка Игнатова специально псов на цепь посадила, она же и ворота отперла. Махнула рукой — заходите — да на терем кивнула — там они.
С теремом-то сложнее вышло — заперт был изнутри на засовец. Задумался Олег Иваныч, подозвал ключницу:
— Ну-ко, постучи, хозяйка!
Барабанили долго — крепок был сон у шильников. Наконец выглянула в дверь заспанная харя, выпялилась недоуменно на Олега Иваныча.
Так и пялилась…
Олексаха, рядом, за углом схоронившийся, изловчившись, схватил сонного шильника за волосы да вытянул на двор — тут и взяли. Связав, в амбар бросили, сами — в терем.
Высок терем, надежен — не по-местному, по-новгородски выстроен. Печи по-белому топятся, ничуть почти и не выстыло к утру-то…
— Там, наверху, боярыня-то, — указав на узкую лестницу, шепнула ключница.
В три прыжка взлетел Олег Иваныч. Сунулся в дверь — заперто. Не изнутри, снаружи. Замок висел изрядный. Обернулся Олег Иваныч к Олексахе.
— Не пришлось бы кузнеца звать, коли ключи не добудем у шильников.
В этот момент в нижней горнице зашумели. Кто-то громко закричал, звякнуло оружие.
Ладно, в таком разе потерпит пока замок-то.
Надо признать, шильники опомнились быстро. Словно черти, выскочили из горницы в сени, что явилось неприятной неожиданностью для Терентия с Еремеем. Еремей был убит сразу — один из шильников с ходу ударил его кистенем в висок. Тихо, без крика, повалился парень на холодный пол, и темная кровь его лужей растеклась по выскобленным доскам.
— Ах, ты ж! — опомнившись, заработал рогатиной Терентий из Мелигижи. Знатно сработал — парой разбойников на свете меньше стало. Остальные, правда, прорвались. Выбежали на улицу, к воротам. Видно, затеяли спасаться бегством…
…пока не увидали нападавших…
Олег Иваныч, Олексаха, Терентий… вот и все, пожалуй. Олег-то Иваныч думал спросонья шильников взять, тепленькими. Да не получилось тепленькими-то.
Один, два… Шестеро… Шестеро против троих. И кстати, почему-то нигде не видно главного злодея — Тимохи Рыси!
Хоть и не умен особо, да хитер был Тимоха, ухватист. Шум услыхав, в окно змеюгой болотной выскользнул, да к овину. Там покуда и спрятался. Сквозь щели глазищами зыркал. А как увидал, что на дворе деется, — выскочил. Секира в руках изрядная. Махнул шильникам:
— Руби их, робята!
Да в самую гущу бросился…
Только секира над башкой ветром кровавым свистела.
Худо б пришлось нападавшим, ежели б не стали вдруг падать враги, один за другим, словно молнией пораженные. Удар копейный отбив, оглянулся Олег Иваныч — Ульянка, на амбар взобравшись, из самострела в шильников целилась. Эх, девка-девка, велено ж те было у Акинфия сидеть, не высовываясь… Нет, не послушала наказа — по-своему сделала. Ну, выходит, и хорошо, что не послушалась. Помощь оказала изрядную. Вот, кстати, и сам Акинфий! С сыновьями в воротах показался. Все оружны…
Смекнули шильники — плохи дела, побросали оружье, сдались. Все, кроме главного — Тимохи. Тот долго не думал — вскочил на поленницу, с поленницы — на овин вспрыгнул, ну, а там и тын рядом. Перемахнул — да таков был…
Был бы…
Ежели б Олег Иваныч за ним не следил пристально. Знал, за кем…
Бросился сразу следом. На поленницу — эх, раскатилась поленница-то, чуть снова не зашиб ногу, капканом когда-то израненную, но успел, удержался, на овин перепрыгнул. С разбега — через ограду… Хорошо — сугроб с той стороны…
От снега и не отряхивался — некогда было. Вон он, Тимоха, к воротам погостным бежит, шильник… Открыты ворота-то, не заперты. Видно, бабы стирать пошли к проруби, али так, после отъезда ключника, закрыть забыли.
За стеной уж, у бань, нагнал Олег Иваныч шильника.
Ощерился тот, обернулся. Ка-а-ак махнет секирой! Еле успел присесть Олег Иваныч — полбашки б точно снесло! Мечом крутанул… Неудачно — коротковат меч, не достать Тимоху. Тот это дело тоже быстрехонько сообразил, осклабился. Все ближе подбирался с секирой. Ну, подходи, подходи. Какое главное правило фехтовальщика? Правильно — быстрота, натиск… и хитрость. Вообще, фехтование весьма интеллектуальный спорт. Тут как в шахматах — прежде, чем сделать ход, старайся предвидеть возможные ответы. Только, в отличие от шахмат, счет на секунды идет… даже — на доли, на четверти. Тяжела секира Тимохина, да и меч коротковат. А значит, заманивать его нужно атаками ложными. А куда заманивать? Олег Иваныч быстро осмотрелся… Ага — есть куда.
Отступил Олег Иваныч к баньке.
Кругами ходил Тимоха, словно волк, для последнего прыжка примеривался. Размахнулся секирой — да сразу ударил, не давая возможности врагу пырнуть в брюхо, хоть и окольчуженное. Опаслив Тимоха был, опытен. Ну да и Олег Иваныч не на помойке найденный — того и ожидал, вмиг отклонился влево. В последний момент изменил направленье удара Тимоха, левее взял. Ну, и то предвидел Олег Иваныч, успел меч подставить, еще бы не успеть…
Страшной силы удар был — переломилось лезвие надвое.
А вот об этом позабыл Олег, увлекся слишком.
Захохотал Тимоха, секиру для удара последнего поднял…
Прыгнул Олег Иваныч, обломок бесполезный выбросив… Пнул ногами в живот шильника, только кольчужка звякнула. Ха! И чего этим решил добиться? Засмеялся Тимоха, отступил в сторону. В ту сторону, куда и надо было. Не ему, Олегу Иванычу. На желоб ледяной, что от бань вел к речке…
Так, смеясь, да ничего не поняв еще, и покатился вниз по ледяной дорожке… Ухнул прямо в прорубь! Только ледок тонкий стеклами разлетелся, да поднялись по сторонам студеные брызги…
Стрелой скатился к реке Олег Иваныч, секиру брошенную подобрал — не выплыл бы гад! Хоть и тяжела для купанья кольчужица — вынырнул Тимоха, об лед затеребил руками. Увидел пред собой в заснеженных сапогах ноги… Глаза подняв, завыл тоскливо, смерть свою близкую чуя…
Не ведал жалости Олег Иваныч — не тот человек был Тимоха Рысь, чтоб к нему какую-то жалость испытывать — ахнул с размаху секирой — раскроил башку надвое! С хлюпаньем ушел под воду шильник, затянула тело под лед водица студеная…
Туда тебе и дорога, Тимоха Рысь. В геенну огненную, кою заслужил ты вполне делами своими черными…
Усталый, опустошенный, вернулся Олег Иваныч на двор ключника Игната. Солнце из-за туч выглянуло, луч желтый прямо на крыльцо пал, высветил… В сиянье том по ступенькам женщина спустилась. В сарафане простом, в шушуне, на плечи полушубок овчинный накинут. Лицо бледное, исхудалое, под глазами круги синие. А сами глаза — прежние, золотисто-коричневые, блестящие! И волосы — из-под шапки, золотом…
Софья…
Поцелуй долгий, жаркий. С Олега Иваныча аж шапка на снег слетела.
— В подпол поди, Олежа, — обнимая, шепнула боярыня. — Гриша там, вчера еще брошен…
Кивнул Олег Иваныч, разжал объятия.
Вошли в нижнюю горницу, Олексаха мечом приподнял половицу. Холодом пахнуло, а уж темень…
— Лестницу тащите, ребята!
— Да не надобно лестницу, — гулко откликнулись снизу, — руку протяните только…
Вытащили отрока. Весь дрожит от холода. Лицо отощалое, узкое, волосы — по плечам. Глаза синие — усмехаются.
— Ну, наконец-то! Явились, не запылились. Давненько вас дожидаемся.
Заплакав вдруг, на шею Олегу Иванычу бросился.
Там же и формы нашли, в подполе. Монеты бесчестные печатать. Упаковали тщательно — на суде пригодятся. Пока схоронили убитых, пока то, се — и вечер подкрался.
К вечеру выехали к Капше-реке всадники боярина Ставра. Остановил боярин коня, задумался.
— До Куневич ведь недалече, а, Митря?
— Недалече, боярин-батюшка!
— К ночи доскачем?
Посмотрел Митря Упадыш на небо, почесал бороденку козлиную, качнул головой отрицательно:
— Нет, не успеем, батюшка… Вон, туча идет, как бы не забуранило. Лучше б в распадке лесном переждать…
Махнул рукой боярин. Пес с ним, в лесу — так в лесу. Велел костер жечь да зимний шатер ставить. Завтра поутру — в Куневичи…
Десяток воинов было со Ставром, не считая Митри. Все окольчужены да оружны — вояки опытные.
С утра раненько засобирались Акинфиевы ловушки да капканы ближние проверить, не попалась ли дичь, ну, заодно и, бог даст, запромыслить кого. Пир на весь мир устроить задумали — в честь помолвки Олега Иваныча, человека житьего, да новгородской боярыни Софьи. Батюшка с дьячком с утра уже крыльцо церковное еловыми ветками украсили, старались. Олексаха с Демьяном, да Званом, да Терентием тоже с Акинфиевыми пошли — зверье промышлять, к обеду обещали вернуться.
Из друзей Олеговых одна молодежь зеленая — Гришаня с Ульянкой — в деревне остались, с кручи на санях пошли кататься. Весело! Олег Иваныч с боярыней своей тоже разок прокатился — да в сугроб оба. Посмеялись, плюнули да пошли в баню — как раз поспела… Первый-то парок — в самый раз!
Красива боярыня — и раньше-то была — пава — а тут еще похудела. Как разделась — ахнул Олег Иваныч — не боярыня, фотомодель для «Плейбоя». Потянул к себе ласково…
Потом парились долго. Попарившись, снова в предбанник вышли. Только приобнял Олег Иваныч боярыню, как в дверь поскреблись острожливо, прошептали елейно:
— Кваску-от, принесли, батюшка.
Это хорошо, квасок-то…
Натянул Олег Иваныч порты, Софья полотенцем прикрылась.
Отперли засовец.
— Ну, давайте квас-от.
Тут и навалились. Неизвестные люди, оружны, окольчужены, злы. Враз спеленали! Ухмылялись противно. А самый-то препротивец — Митря Упадыш в дверях стоял. На пойманных зыркнув, на улицу дверь распахнул, в поклоне согнулся.
Ахнула боярыня, закусил губу Олег Иваныч.
Ставр-боярин на пороге возник, бледный, красивый, в плаще алом. Ухмыльнулся:
— С легким парком, полюбовнички.
Разрумяненные, довольные, возвращались с горки ребята, Гришаня с Ульянкой. Рядом шли, санки вместе тащили. На пригорке остановившись, поцеловались, дальше пошли. Опять остановились. Потянулся Гришаня губами… Да вдруг округлились глаза у Ульянки!
— Что это там за люди, у ворот топчутся? Вроде воины…
Оглянулся Гришаня. Точно — воины. Окольчужены всадники, оружны. А впереди, на коне белом — главный…
Боярин Ставр!
Гришаня схватил Ульянку за руку:
— Вот что, беги-ка к нашим охотникам. Чай, не успели еще уйти далеко — найдешь по следам…
Покачала головой Ульянка:
— Нет, Гриша, беги сам, пожалуй… Я-то, чай, с самострелом лучше тебя управлюсь!
— Чего?!
— Не спорь, Гриша. Беги, — обняв, поцеловала парня Ульянка. — А за меня не беспокойся, я тут в овине спрячусь. Да и ты недолго…
— Ну, смотри.
Еще раз поцеловав девчонку, бросился к лесу Гришаня, обернулся по пути, рукой махнул.
Вытащили из бани обоих. Олега Иваныча и боярыню Софью. Холодновато на улице — да не чувствовали те холода — смерть лютую чуяли.
— А и то хорошо, что вместе, — повернув голову, шепнула Софья и улыбнулась. Усмехнулся и Олег Иваныч.
— Смеются еще, твари, — злобно буркнул Митря Упадыш. — Ужо, досмеетесь… Оу!
Издав жуткий вопль, он вдруг схватился за левое предплечье и закрутился на снегу, словно подраненный заяц. Один из Ставровых — поважнее других, в кольчуге и панцире, заоглядывался, сдвинув шелом на затылок… и вдруг захрипел, захлебываясь собственной кровью. Горло его пробила короткая боевая стрела-болт. Такая же впилась в угол сруба, дрожала… Ставровы соображали быстро — вмиг бросились кто куда. Вот еще один упал, исторгнув из чрева черную тяжелую кровь…
Вытащив меч, Ставр злобно оглянулся на пленников. Однако — тех давно и след простыл. Станут они тут дожидаться, как же! Как только пошла паника — тут же юркнули Олег Иваныч с Софьей в баню да заперлись. Хорошо — получилось связанными-то руками засовец сдвинуть. Теперь бы еще развязаться…
Быстро придя в себя, Ставр заорал на своих людишек, завращал мечом. Троих направил к овину, ползком по снегу, с разных сторон. Остальных поманил пальцем, прищурился:
— Огня сюда!
— Огня? — усмехнулся Олег Иваныч. — Давай, Софьюшка, давай… развязывай… будет ему огонь, будет…
Зубами, губы в кровь рассадив, развязала Софья веревки. Олег Иваныч, понятно, меньше возился. Совком железным угли в печке черпнул… погасли уж?.. нет, тлеют… горячие…
— Ну, Софьюшка… На счете — три… Раз…
Увидел Ставр, как бегут к нему, от неведомого стрелка таясь, берегом, людишки его с факелами. Улыбнулся довольно, повернулся к бане.
— Два!
Три!!!
Словно вихрем сорванная, распахнулась дверь в бане. Выскочил оттуда полуголым чертом Олег Иваныч, угли горящие швырнул в Ставровых, самого боярина с лету совком в лоб припечатал. Зазвенел шеломец, зачихали факельщики.
Не ожидали такого…
А Олег Иваныч и не давал им опомниться! Еще бы — от быстроты теперь все зависело…
Выхватил у ближайшего лиходея саблю. Ну, теперь посчитаемся! Теперь поглядим, кто кого… Бросился к Ставру:
— А ну, иди сюда, козел драный, мать твою перемать!
Все маты сложил, какие знал. Вроде ничего получилось, не хуже, чем у Коли-Лошади, старого питерского зэка. Аж факельщики, прочухав, заслушались.
Кровь хлынула к лицу Ставра — никто его еще эдак не потчевал. Ах ты, сволочь…
— Прочь! — отогнал своих. — Он мой!
А Олегу Иванычу только того и надо! Твой — так твой. Поглядим еще, кто тут чей…
— Ну, козлина, алле!
Противником Ставр оказался опасным. Учен был клинковому бою, и явно на немецкий манер. Все целил мечом в голову… Да и Олегу Иванычу волей неволей немецкого стиля держаться пришлось — окольчужен боярин, в панцире, на голове шелом. Попробуй, возьми его за рубь за двадцать. Никакая верткость не поможет — боярин и в доспехах верток ничуть не менее… ишь как скачет… вот уж поистине — козел.
Олег отчетливо понимал — кольчуга и панцирь делают невозможным обычные финты — поражаемую поверхность представляли лишь лицо под шеломом да ноги. Не надел Ставр полного боевого комплекта — поленился. Он умело берег лицо, опасаясь неожиданного удара, ловко парировал, отбивал и даже делал ложные выпады. Олег Иваныч аж взмок. Угадывал: ага, сейчас вражий клинок пошел на замах… вниз-вправо… но не с особой силой… да и взгляд боярский вильнул… значит… значит, влево будет настоящий удар… А ну-ка!
Подставив саблю, Олег Иваныч ловко парировал удар, направленный в сердце. В свою очередь, перевел саблю влево и тут же сделал молниеносный выпад… не менее молниеносно вытащил клинок обратно… Стальное лезвие меча Ставра с шумом рассекло воздух. Олег тут же атаковал нижнюю площадь — ноги… Есть укол!
Захромал боярин, снег под его ногами окрасился кровью.
Олег не давал врагу передышки. Его сабля летала вокруг меча Ставра легкой быстрокрылой птицей, делая обманные финты и нападая с разных сторон. Если б не доспехи боярина, бой давно бы кончился в пользу Олега Иваныча, а так… приходилось возиться…
Чувствовалось, что Ставр выдыхается, не раз он уже искоса посматривал на своих людишек — один из них держал в руках лук — ожидая момента, когда, обессилев, просто махнет им рукой, в первую очередь тому, что с луком. Олег Иваныч прекрасно понимал своего врага и не питал никаких иллюзий по поводу его благородства. Нет, Ставр будет сражаться, пока это для него относительно безопасно… Тем более, если ему удастся хотя бы ранить Олега. Хотя бы ранить… Мысль эта уже созрела в мозгу Олега… осталось только воплотить ее в жизнь… А ну…
Вызвав Ставра на контратаку, он сделал вид, что в какой-то момент поддался, не раскусив, на обманный финт боярина. Приоткрыл левый бок, в последний момент подставив руку… Черт! Удар оказался сильнее, чем он ожидал. Закапала на снег кровь. Теперь уже кровь Олега. Что ж… Зато как оживился Ставр! И куда девалась его усталость? Ишь, замахал мечом, что твоя мельница!
Олег Иваныч позволил себе чуть расслабиться — не для того, чтобы отдохнуть, нет. Гораздо нужнее было другое — осмотреться, проанализировать ситуацию. Ага… Трое Ставровых рядом. Один с луком. Этот опасен. Очень опасен. Плюс, чуть в стороне — раненый Митря. Тоже змея еще та. Остальные окружают старый овин. Видно, там и засел неведомый снайпер. На крышу не лезут — опасаются, и верно, в общем-то, делают. А снизу им, похоже, снайпера не взять — заперто изнутри крепко. Чтоб зря время не тратить, лучше б огнем. Ну да, сообразили-таки, вон, тащат с посада угли…
А этого, с луком, надо иметь в виду. Переберемся-ка ближе…
Якобы поддавшись атаке, Олег Иваныч начал отступать, пятясь к бане, вернее, к лучнику. Стекали из раны горячие капли… Пожалуй, хватит затягивать.
А Ставр ликовал… Считал уже, что победа близка. Еще один хороший удар… ну, два… И — рраз…
Олег Иваныч вдруг резко упал на снег — поскользнулся. Холодная сталь блеснула в оранжевых лучах морозного солнца. С яростным кличем Ставр нанес последний удар, в сердце…
Вернее, хотел нанести. Перед ним лежал враг, босой, в портах и рубахе, распластанный, измученный и жалкий. Похоже, он уже чуть шевелил саблей.
Боярский клинок с силой ухнул вниз…
Только вместо теплого бьющегося сердца почему-то воткнулся в белый утоптанный снег… Ставр не успел удивиться…
Чуть откатившись в сторону, Олег сделал резкий выпад вверх. Острое лезвие сабли, с хрустом проткнув надменный подбородок боярина, с силой вошло в мозг.
И тут же, не дожидаясь, пока тело боярина упадет в снег, Олег Иваныч с быстротой молнии выдернул саблю и нанес мощный рубящий удар неосторожно приблизившемуся лучнику. Тот закричал, падая…
А вот теперь — осталось двое. Не считая Митри и тех, что ушли к овину.
Олег Иваныч повернулся к оставшимся и чуть качнул окровавленным лезвием. Со страхом глядя на него, Ставровы вдруг неожиданно побросали сабли.
Неужели я настолько страшен? — пожал плечами Олег Иваныч и вдруг услыхал быстро приближающиеся голоса и топот.
От реки поднимались вооруженные люди. Олексаха, Демьян Три Весла, Зван, Терентий из Мелигижи. За ними — Акинфий с сыновьями. С другой стороны подходил к погосту ключник Игнат со своими дворовыми.
— Овин, овин! — крикнул Олег Иваныч подбежавшему Грише. Тот понимающе кивнул, обернулся и призывно махнул рукою.
Вскоре все было кончено. Да, в общем-то, и не понадобилось больше никаких боевых действий. После гибели боярина его люди не очень-то рвались в бой и предпочли сдаться…
Ставр лежал на снегу, лицом вверх. В подбородке его кровавилась рваная рана, открытые глаза цвета английского олова недвижно смотрели в небо.
Олег Иваныч подошел ближе, постоял немного… Нет, ни капли уважения к поверженному не было в его сердце. Ставр получил лишь то, что давно заслуживал, и единственная народная мудрость, которая, по мнению Олега, заслуживала употребления здесь, была «собаке — собачья смерть!». Подойдя ближе, обняла его Софья. Постояв немного, так и пошли они вместе к посаду.
Пленных пока заперли в клети. В подполе выл Митря.
Вечером пировали. Впрочем, пировали — это, наверное, громко сказано. Хотя были на столе и форель с лососью, и стоялый медок, и блины с икрою… Более взрослые-то люди ели аккуратно, мол, не такое еще видали, а вот Гришаня с Ульянкой, не стесняясь, трескали, аж брызги кругом летели!
Олегу и Софье постелили в гостевой горнице в доме старосты. Снаружи, на улице, трещал мороз, а здесь от печи несло жаром. Олег Иваныч погладил по плечу уснувшую Софью, осторожно выпростал раненую руку, замотанную чистой белой тряпицей, подошел к столу, налил квасу… испил. Сел на лавку. Думал… О жизни своей дальнейшей думал, разговоры недавние вспоминал — с Олексахой, с Гришаней, с Софьей…
Новгород… Господин Великий… А Господин ли? После Шелони-то? А что такого произошло на Шелони? Ну, проиграли новгородцы — не войну — битву, ну подписали позорный Коростынский мир… Так прежний-то, Ялжебицкий, не особо лучше был! А забылся… Даст Бог — и этот забудется. Нет, неверно — не Бог… новгородцы к тому должны руку приложить, те, кому дорог Новгород, республика, вече, свобода. Спору нет, силен Иван, князь Московский, войском своим силен, единением. Все, ну, почти все, прямо от него зависят, от милости его государевой. Оттого нет в Москве разброда — пресекается сразу железной рукой. И попробуй-ка, вякни! Не то — в Новгороде. Новгородцы — люди свободные, каждый думает и делает что хочет, и никому ничем не обязаны! Не все хотели республику защищать? Так это их личное дело! Значит, надо сделать так, чтоб хотели… чтоб без вольностей новгородских жизни своей не мыслили. Чтоб знали — кто такой Иван, князь Московский, из тех, кто мягко стелет, да жестко спать. Войско… Да, в этом слабость Новгорода. Ополчение — не московским дворянам чета. Так ведь новгородцы — купцы, ремесленники, служилые — люди занятые, некогда особо воинскими делами заниматься. Да и нужно ли? Может, наемную армию завести? Пожалуй, это выход. Хватило бы только денег… Так особый налог провести через вече… А проголосуют ли? Эх, хорошо Ивану в Москве, чего хочет — то и творит, никакого тебе веча, никаких сомневающихся людишек — те, что вякали, давно собак кормят, а кто упасся — до тех еще доберется плеть княжеская. А здесь, в Новгороде, другой подход нужен. Пиар так называемый…
Олег Иваныч отхлебнул кваску, поморщился — рука-то побаливала. Посмотрел на Софью — эх, и красавица, волосы — по плечам золотом… Снова задумался.
Итак, что произошло с Новгородом и можно ли то исправить?
Проиграли битву с московитами, но сам Новгород цел, спасся. Потому сейчас московиты будут пытаться полностью подчинить город своему влиянию. Верховный суд — уже княжий, по условиям мира, однако есть еще и суд архиепископа, и посадничий… тут можно бороться. Вече — вот что Иван на дух не переносит. Видно, захочет, чтоб не было его в Новгороде. При этом наверняка обставится — дескать, сами же люди новгородские попросили — предатели, чай, найдутся. Нельзя того допустить. Задача номер один — отстоять вече, суд, право. И близко туда не допустить московитов, иначе не Новгород и свобода то будет, а Москва и рабство… Задача номер два, а по важности, пожалуй, не менее значимая, чем первая, — армия. Тут нужно думать, хотя, конечно, наемники — мысль неплохая… В связи с этим — пересмотреть союзников. Пока по старому принципу — кто Москвы враг, тот друг Новгорода. Литва с Польшей, Ливонский орден, Швеция, татары. Татары… Пес их знает, что у них на уме. Конечно, попробовать задружиться стоит. Ганза… С Ганзой мириться немедля! Слишком уж невыгоден ганзейский бойкот Новгороду, слишком велики убытки. Мириться! Пока — можно и на ганзейских условиях, а там посмотрим. Псков… Интересно, с чего это псковичи так Ивана любят? Неужели не понимают, что после Новгорода их черед настанет? Со Псковом не худо сношения тайные наладить. То — стратегический союзник. А тайные — чтоб ливонцев не обижать. Хлеб… Понизовый хлеб — он весь через Москву проходит. Своего-то хлеба нет почти, говорят, новгородская земля родит плохо… А что, шведская или норвежская — лучше? Откуда те же шведы хлеб берут? Узнать… Может, и Новгороду от того прибыток будет. Хлебную удавку ликвидировать — важное дело, лишний козырь из Ивановых рук выбить. Что еще в Москве притягательного для людей новгородских? Вера! Церковь православная… Митрополит, как ни крути — в Москве. Сманить в Новгород? Хм… Идея пока нереальная… Сменить веру? Католицизм, уния? Нет, народ не поймет, да и стремно как-то, вроде как и нерусские будем… Русские… А с каких это пор дикая и отсталая Московия себя Русью кличет? Не дело это, не дело! Новгород — вот она, настоящая Русь, никакая не Москва. Как мысль сию в сердцах людских поселить — о том еще думать надо. Ох, Господи, все дела государственные… Так как же без них, без дел-то? Полномочия министерские, чай, никто не снимал. Даже Иван, деспот московский, не догадался! Феофила надо срочно от Москвы отворачивать… с этим должно заладиться — видел воочию, что из себя Москва представляет. Эх, кабы не вера… Еще б посадника из наших поставить… или… или — самому? На ближайших выбора выставиться. Кандидатом. От нерушимого блока коммунистов и беспартийных, блин. Смешно, конечно, да и, пожалуй, рано. Поначалу имидж себе сделать, а то начнут кричать — представитель спецслужб в посадники метит… Хотя, знаете ли, бывали прецеденты. Ладно, покуда и другой сойдет посадник. Вот боярин тот, что с русалками воевал… как бишь его… Епифан Власьевич… А что, кандидатура подходящая — и знатен, и Москву не любит… правда, не Спиноза… ну, умные люди и без него, чай, найдутся… Ну, вот такой, в общих чертах, план. Удачным будет — воспрянет Новгород с новой силой. Ну, а неудачным… Впрочем — как это неудачным? Обязательно удачным получится, действовать только надо и не сдаваться. Ну, заодно и о себе подумать неплохо было б. Усадебку на углу Ильинской и Славной, говорят, московиты конфисковали. Ай-ай-ай… Это они поторопились, однако. Ничего, отсудим! Это вам не Москва беззаконная — как князь решил, так и вышло. Еще и компенсацию пускай выплачивают. За моральный ущерб. Да, а усадебка-то, чья? Феофила… Москвичи конфисковали. Отсуживать я буду. Пускай-ка Феофил мне ее и подарит! И какую-нибудь вотчину… вот хоть Ставрову… И буду я боярин знатный… Стоп! Они, кажется, все в писцовых книгах записаны… бояре да вотчины… а что написано пером, то не вырубишь топором. Топором-то не вырубишь, а ножичком осторожненько соскрести можно… да другое имя вписать. Гришаню и попрошу. Здрав будь, Олег Иваныч, боярин-батюшка! Во, размечтался… Хотя не зря же в песне поется — «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!». Господи! Вот остолоп! Самое главное-то и забыл! На Софье жениться! Прошу, любезная госпожа боярыня Софья Михайловна, вашей руки и сердца…
— Наконец-то слышу умные речи! — послышался в тишине избы ехидный голос Софьи. — А то ведь думала — умру, не дождуся…
— Так это я вслух размечтался?! — хлопнул себя по лбу Олег Иваныч. — Вот, блин! Впрочем… Согласны ли вы стать моею законной супругой, боярыня?
Улыбнулась Софья. Встала с постели — нагая, волосы по плечам — подошла к Олегу. Обняв, поцеловала жарко. И понял тут Олег Иваныч — вот оно — то, ради чего, по большому счету, и жить стоит. Обнял боярыню, в глаза заглянув золотистые, шепнул лишь:
— Любимая…
Через несколько дней небольшой отряд выехал из Куневичского погоста в направлении на Тихвин и дальше, к Новгороду. Длинен был путь, да хорошо ехали, весело, с песнями. Во главе отряда скакал знатный новгородский боярин Олег Иваныч Завойский. (Гришаня сказал, что с писцовыми книгами проблем не будет.) Впереди ждала боярина нелегкая борьба, любовь и слава. На поясе его, в золоченых трофейных ножнах, покачивался острый закаленный клинок. Клинок новгородской стали…




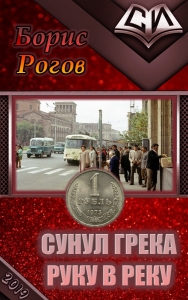
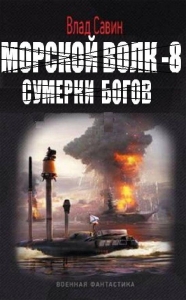
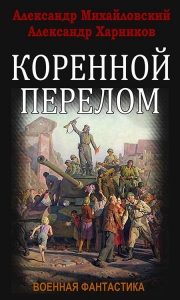
Комментарии к книге «Посол Господина Великого», Андрей Посняков
Всего 0 комментариев