Андрей Валентинов, Генри Лайон Олди Механизм жизни
С благодарностью посвящается Виктору Гюго, Александру Дюма, Жюлю Верну, Роберту Льюису Стивенсону, Чарльзу Диккенсу – титанам, на чьих плечах мы стояли…
Увертюра[1]
Я – обезумевший в лесу Предвечных Числ!
Мой ум измучен и поник
На берегах спокойных книг,
В слепящем, словно солнце, мраке;
И предо мной во мгле теней
Клубком переплетенных змей
Взвиваются хмельные знаки.
Эмиль Верхарн1. Allegro Едет улан, едет…
Князь Волмонтович достал свои пистолеты.
Тяжелый ларь, выточенный из темного палисандра, со стуком опустился на столешницу. Еще два, попроще, из светлой груши, уже стояли на месте – слева и справа, как почетная свита. Стол крякнул, дрогнул всеми четырьмя ножками. Господа постояльцы – они с выдумкой чудят. Три ларя, набитые железом? – предыдущий гость мамзелей с Невского приводил, танцы на скатертях устраивал…
Ничего, выдержали-с.
«Терпи, москаль! – пригрозил Волмонтович в ответ на столовую жалобу. – Не нравится? Слона из зверинца приведу, краковяк на тебе выкаблучивать!»
Стол, как и вся мебель в комнате, вызывал у князя глухое раздражение. Ему здесь не нравилось – ни квартира, ни «гостиный дом» Технологического института, где довелось остановиться, ни столичный град Санкт-Петербург. Век бы сюда не ездить, сырым туманом не дышать!
Х-холера ясна!
Пистолеты успокаивали, настраивая на философский лад. Хоть что-то доброе есть в этом мире! Здесь вы, друзья верные, со мною. Все бросят, все покинут, одни вы не предадите – до гроба. Вместе живем, вместе помирать будем.
Не страшно, не впервой!
Оружие Казимир любил с детства. Что еще, пшепрашем, должно интересовать зацного шляхтича герба Божаволи – в голубом поле серебряная передком вверх подкова? Стеклянные шарики? Куклы в цветных платьицах? Отцовская сабля стала первым, до чего дотянулись детские пальцы. Матушка сердилась, батюшка же, уланский поручник, улыбался в густые усы: «Держи крепче, сынок. Привыкай, в жизни сгодится! Ой, сгодится!»
Сгодилось, отец. Ой, как сгодилось!
Пистолеты князь возил с собой, по морям да разбитым дорогам. А как иначе, если ни кола, ни двора? Дом на двух ногах, на стертых подметках… Андерс Эрстед, добрая душа, не возражал, но глядел не без иронии. Сумасброд ты, друг Казимир! Ладно бы редкости скупал – в золоте и каменьях, цены невиданной. К таким и впрямь можно сердцем прикипеть. Знавал Волмонтович любителей – все ковры зброей обвешаны, словно арсенал в Потсдаме. А толку, ежели вдуматься, чуть. Не оружие – гробы вапленые.
Волмонтович искал то, что поновее, позаковыристее. Вот, скажем… Не удержался, открыл-таки грушевую крышку. Затем крышку иную, мореного дуба – под первым ларцом второй спрятан. Незачем чужим взглядам по казенной коробке с надписью «Тула» скользить.
…Стволы – с узором, «букетный дамаск». На верхних гранях – жучки-буковки: «Иван Полин». Полин – без малого Пулин. Славная фамилия, к ремеслу – в самый раз. Пистолеты и легче, и меньше обычных, и шесть пулек в каждом, как в новомодном преферансе.
Если заранее не знать – не догадаешься.
Опустились на место крышки. Вздохнул князь: не насмотрелся. Вчера куплено, утром пристреляно. Нарочно на Стрельну ездил. Смеялся: стрелять на Стрельне – хорошая примета.
– Уланы, уланы, Малеванны дети, Не одна панёнка Попадет к вам в сети…Про чудо-пистолеты Волмонтович услыхал на войне. Однополчанин поведал, ротмистр Джигунский. В Туле, куда ротмистра занесло по пути из тобольской ссылки, увидел он диво – пистолеты с магазинной коробкой на шесть пуль. Ловко коробка встроена – в рукоять. Придумал это пан Полин; давным-давно, при царице Катарине, чтоб ей в пекле сгореть. Для войска не годится – сложно, дорого.
Для знатоков же, людей рисковых…
Когда друг Эрстед сообщил, куда на этот раз ехать придется, Волмонтович сперва лишь плечами пожал. Петербург? – да хоть Иркутск, какая к швабу разница? Но на душе кисло стало. Или он москалей не встречал? Встретился бы еще – не на Невском проспекте, гуляя с датским паспортом в кармане, а в чистом поле, в конном строю, с пикой на изготовку. Увы, Эрстед ехал в Россию по сугубо мирным делам. Петербургский практический технологический институт собирал гостей на великий праздник – открытие филиала Общества по распространению естествознания.
По всей Европе филиалы работают. Теперь и в России будет.
Звали на открытие Эрстеда-старшего, почетного члена Петербургской академии наук с 1830 года. Но тот отговорился, младшего брата вместо себя направил. Князь сию осторожность вполне одобрил. Пан академик серьезными вещами занимается, державными. Такого за кордон отпускать боязно.
Мало ли кому тайны алюминиума спать не дают?
– Бабка умирала И шептала: «Боже! Будут ли уланы На том свете тоже?»Адрес, где можно сторговать чудо-пистолеты, Волмонтович узнал в Англии. Чарльз Ширк, лондонский знакомец, помог. Великим оказался докой по части стрельбы! И сам мастерил – скрещивал, как в племенном питомнике, барабанное ружье американца Коллиера с изделием француза Мариетта.
Что с того выйдет, точно не знал, но обещал фурор.
Вот диво! Адрес подсказал англичанин, продал же тульских красавцев немец-вестфалец – в маленькой лавке на Васильевском острове. До печенок проверил клиента: долго беседовали, с намеками, пришлось даже письмо Ширка показать. Работу Полина за так не купишь – каждый ствол на учете.
– Едет улан, едет, Зброей ясной светит, С каждой девкой ласков, Каждую приветит…Большой ларь Волмонтович открывать не стал. Там все известно. Пятиствольник Ленормана, жуткое чудище о семи стволах работы мсье Девизма, капсюльный скорострел «Мариетт». Это еще что! Ширк рассказывал, будто Самуэль Кольт, моряк из Североамериканских Штатов, обещает в скором времени создать «идеальное оружие». Пока дальше деревянной модели не продвинулся, но лиха беда начало.
«Идеал» – это как? Не иначе с бесконечными пулями, воздухом вместо пороха и запалом от утреннего перегара. Дохнул – ба-бах!
– Любят нас невесты, Мужние и вдовы, За улана ласку Жизнь отдать готовы…Добавить к арсеналу капсюльную трость-трехстволку да барабанщики-пятизарядники работы того же Полина – хватит гайдуцкую чету вооружить! Есть и третий ларец – длинный, вроде футляра под флейту… Стоп, одернул себя князь. Открывать не станем. И так сглупил – показал «флейту» друзьям. Эрстед тут же попросил ларец в подарок: для музея в Эльсиноре. Посетителям – радость, заведению – доход, а носильщикам – облегчение. Меньше тяжестей придется грузить при очередном переезде.
В самом деле, зачем современному человеку кусок ржавчины с гнилью?
Торбен Йене Торвен вначале тоже музей помянул. Затем присмотрелся, взглянул на князя исподлобья, губу закусил. Плохо глядел отставной лейтенант. Знать не мог, но, видать, почуял что-то. Эх, Торвен, оловянный солдатик в шинели не по росту…
«Это военное преступление! Вы… Вы ответите!..»
Плохое знакомство у них вышло. Двадцать лет минуло, а не забывается. Лейпциг, осень надежд, октябрь 1813-го. «А я бы его все-таки убил. Голыми руками убил бы, гере полковник. Жаль, вы не позволили». Донесло ветром, услышал чужие слова надпоручник Волмонтович по прозвищу «Кат». Понял с лету, хоть и по-датски сказано.
– Но сильней всех любит И зовет жениться В саване шелковом Вражья Молодица…Неправда, что оружие говорит лишь с людского позволения. Старое железо, как старый человек, – любит поболтать. В музей «флейту»! А лучше – в речку, хоть в серую Неву, хоть в желтую Хуанхе. Зачем таскаю? Эрстеду соврал: наследство от прадеда. То есть не соврал даже.
Встало в памяти, как живое…
2. Adagio Флейта мертвого лога
– Каждого улана Встретит и приветит И веселой свадьбой Встречу ту отметит…Казимир Черные Очи допел куплет, подкрутил левый ус. Знай наших! Бочку хмельного меда, считай, уже выиграл. Бились хлопцы об заклад, что атаман ночью в Тотенталеш не сунется. Храбр, мол, да умен. Кто к бесам-упырям на съедение собственными ногами пойдет? Возражать князь не стал, но взял на заметку: как из долины вернусь, бочку стребую. Из принципа.
Нечего в атамане сомневаться!
Сверкнуло лунное серебро в черных окулярах. Шевельнулся на небе Царь-Месяц, сдвинул брови. Не одобрил хвастовства. Волмонтович даже устыдился на миг, но быстро пришел в себя. Молчи, месяц! Случись что, не тебе ответ держать.
Расхлебаю, пся крев!
Вторую неделю он искал гайдуцкий клад. Бродил лесами и горными склонами. Мирча Вештаци, старый разбойник, за двадцать лет до Наполеона спрятал богатства своей ватаги в дубовый сундук, зарыл невесть где, а сам голову под гусарскими саблями сложил. Про заветное добро в Семиградье все знали. Искали, но без лишнего усердия. Скверную славу оставил разбойник, одно прозвище чего стоит.
«Вештаци» – колдун; и не простой, а мертвячий.
Хоть и сгинул Мирча без прощального слова, но все-таки, поговаривали, есть след: воткнул он в свежую землю ятаган с золотой рукоятью. Примета верная – железо ржавым прахом пойдет, золото останется. Гора, где чета стояла, не Монблан. За двадцать лет каждую травинку ощупать можно.
Так и делали – раздвигали кусты и траву любопытными носами.
Расспросил Волмонтович тех, кто постарше, на самодельной карте пометки нарисовал, а после весьма удивился. Всё братья-гайдуки осмотрели, а в Тотенталеш не стали заглядывать. Toten Tal – Мертвый Лог. Там и днем страх до печенок пробирает, а ночью сунешься – костей не соберешь.
Как после такого не пойти?
– Гу-у-у!..
Поправил Казимир Черные Очи свои окуляры; подумал и снял. Месяц – не ясное солнце, глаза не мучит. Лес руки-ветки тянет, под ногами ямы, как старые могилы, а из чащи филин здоровается. Ну, будем искать?
– Гу-у-у-у! – согласился филин.
– Сам ты «гу-у-у», бездельник! – огрызнулся князь.
Пани Ночь все переменила. Днем князь даже прикинуть успел, откуда поиск начинать. Зато сейчас… Месяц-череп в небесах, порушенная земля под ногами. Что тут искать, кроме смерти?
– Гу-у-у-у!
– Х-холера!
– Noapte bunа, хлопче! Зачем пожаловал?
Зря ты сетовал, князь, что Мирча Вештаци подзабыл ночную службу. Хотел дорогу спросить? – вот, накликал. Встал мертвяк перед атаманом, костяной рукой махнул. Волосом сед, рожей – синюшен. На плечах – гнилые лохмотья. Желтые ногти кожу сапог прорвали.
– На ужин пришел? Так чего ж один? Мало тебя для меня, голодного…
Ощерились кривые зубы. Ухватили воздух пальцы.
– Гу-у-у… – филин поразмыслил и умолк.
– Неплохо, пан колдун, – оценил Волмонтович. – В самый раз для ярмарки во Вроцлаве. А в Краков, или там в Варшаву не пустят. Грязен ты, дзяд, не эстетичен. Саван надень, что ли? Только выстирай загодя и клыки мелом почисти.
Присмотрелся – как есть правда.
Не пустит колдуна в Краков санитарный инспектор.
– Сейчас, пан Мирча, упыри во фраках ходят, с манишками. В туфлях лаковых. Иначе тебя красотка к шейке белой – ни за какие коврижки…
Химерный колдун оказался смышлен не по чину: отступил на шаг, голову склонил, прищурился. Дивны дела твои, Создатель! В Мертвом Логу упырь на упыря пялится.
– Ах, вот отчего ты так боек, – шевельнул белыми губами Мирча Вештаци. – Кровь вытри, морда неумытая. А после уж попрекай, сопляк!
Взмахнул ладонью Волмонтович, коснулся щеки. Х-холера! Умывался же, песком речным лицо тер. Удачно вечером вышло – у входа в долину бродягу-цыгана встретил. Бежал тот от жандармов, от тюрьмы, наткнулся на погибель. Удивлялся еще, отчего гайдук, не пожелав удачи, принялся с плеч рубаху стягивать.
– Сопляк ты, – со смаком повторил Мирча. – Не будь я сегодня в добром гуморе… Зачем тебе мой клад? Дурное золото, порченое. Мое слово разве что святой отчитать сможет, да нет святых в наших краях…
Ругаться не хотелось. В своем праве нежить.
– Не нужно мне твое золото, Мирча-разбойник. Не из жадности пришел, от скуки. От такой скуки, что смерти хуже. Хочешь – гони, хочешь – выслушай.
Сели упыри на сырую траву, вынули из-за кушаков люльки. Достал князь огниво. Чиркнул – раз, другой. Красный огонек высветил мертвые лица. Спрятался Царь-Месяц, сгинула во тьме Полярная звезда. И огонек пропал – испугался того, что миру явил.
Анатолийский табак, конфискованный у турков-купцов, пах серой.
– Кличут меня ваши Казимиром Черные Очи. Почитают за арам-баши, три четы подо мной ходят. Родом я из земель литовских, что прежде в Речь Посполитую входили…
Укрыли тучи долину. Сгинул Тотенталеш. Замолчал филин, уступив место холодному ветру. Тот ухать не умел, зато свистеть был горазд. Курится трубка за трубкой. Тянется к небу серный дым.
– Не пугал бы я тебя, Казимир. Не из пугливых ты. Только плохи твои дела, парень. Совсем никакие. Пропадешь скоро. Хлопцев погубишь – и сам сгинешь. Худо быть мертвяком, упырем – хуже. А ты не мертвяк, не упырь и не человек живой. Один лишь Maestru Necurat, не здесь будь помянут, ведает, какая беда с тобой стряслась. Поклонись ему, а? Глядишь, ответ даст.
– А под хвостом ему поцеловать не надо? Не верю я твоему Хозяину, Мирча. Никому не верю. Разве что одному датскому полковнику, но он сейчас в Америке угрей ловит. Думаю, не поспеет к сроку. Только это я и без твоей мудрости знаю…
Сквозь тьму – красные точки-угольки.
– Мало ты знаешь, Казимир-сопляк. Ни жить, ни помирать не выучился. Думаешь, я тут клад стерегу? На что он мне, мертвому? Висит, как жернов на шее, упокоиться не дает. Вот и хожу, чтобы отдать его первому встречному дурню. Объяснить по-честному и отдать. Дюжину встретил – все отказались. Думали, отпущу с миром – в жизнь, на свет ясный… Таков он, мой клад: возьмешь, не возьмешь – все едино пропадать. А тебе скажу: бери. Хуже не будет, а твоим парням долгой жизни не обещано. Пусть напоследок порадуются, в кабаках столы червонцами украсят. Здесь он, клад, за кустами. Бери! И будет тебе подарок особый…
Костлявая рука потянулась к кушаку, достала что-то длинное, темное.
– Не ты первый, Казимир, в такой беде мучишься. Оставил мне прадед эту пистолю – на крайний случай. На три сердца она заклята: кровью, правдой, обидой. Все в ней – и жизнь твоя, и смерть. Понял ли?
– Нет, – честно ответил Волмонтович.
И – только зря голос потратил. Никого рядом с ним, лишь дым над травой. Потянулись пальцы ко лбу – крестное знамение сотворить…
– Гу-у-у! – встревожился филин, и князь вовремя остановил руку.
Из скверной стали ковали Мирчин ятаган. Клинок проржавел насквозь, осыпался кусками в траву. Золото не подвело – осмелев, месяц прянул из-за тучи, высветил тусклую рукоять. Возле злата, для пущей верности, две мертвые головы – смотрят пустые глазницы в ночную тьму. На одной рыжие волосы уцелели, от другой – две половинки остались, как от ореха.
Поглядел Казимир Черные Очи на черепа. Помянул колдуна-мертвяка теплым словом. А там и подумал: головы-то две!
Моя, выходит, третьей будет?
3. Allegretto Банкет с фейерверком
Не соврал Мирча Вештаци. И клад нашелся, и кровь пролилась. Передрались гайдуки за сундук с червонцами, прибавили к двум черепам груду новых. А как трупы землей засыпали и принялись добро делить, Волмонтович, всех удивив, взял себе не золото, а то, что поверх него лежало, – старинную пистолю, ржавую да грязную. Завернул в тряпку, сунул в походный мешок.
Спасибо за подарок, брат-упырь!
Только через полгода, в далеком северном Копенгагене, нашел он время для пистоли. Отчистил ржавчину, грязь отмыл, маслом ружейным смазал. Глянул и присвистнул. Тройной колесцовый замок, ореховое ложе, слоновая кость, гравировка… Откуда такое у гайдуцкого прадеда? С чьего трупа снято? Ученые мужи из музея в Амалиенборге подсказали – Италия, город Брешия, работа мастера Рафаэля Уголино. И год разобрали: 1572-й, Варфоломеевская ночь.
Спустя несколько лет князь прочел в книжке про гайдуков, что знали они «заклятие последнего боя», страшней и гибельней которого на свете нет. И про Мирчу Вештаци, кровавого душегуба, прочел. Была у атамана пистоля итальянской работы – если не брешут, на три сердца заклятая. Не расставался с нею Мирча, но так ни разу и не выстрелил.
Волмонтович погладил холодное дерево ларца. Молчишь, чудесная «флейта»? Молчи и дальше, старая смерть!
Стол заскрипел с облегчением. Тяжелые лари один за другим отправлялись туда, где им и место, – на пол, в дальний угол. Пистолет князь так и не выбрал. Зачем? Не в суданских мы джунглях, не в лесах разбойничьей Корсики. Здесь – град Санкт-Петербург, центр просвещения и изящных искусств. Хоть гаубицу-«единорог» за собой вози по Невскому проспекту – не поможет.
– Уланы, уланы, Малеванны дети, Не одна панёнка Попадет к вам в сети…Князь поправил галстук, скользнул взглядом по зеркалу в ореховой раме. Отражаемся? Славно! Еще Польска не сгинела!
И помрачнел князь, как туча над Мертвым Логом.
О падении Варшавы он узнал посреди Индийского океана. «Сюзанна», шхуна Ост-Индской компании, на которой они плыли из Китая, повстречалась с «систер-шипом» – «Арабеллой», шедшей встречным курсом. Торговля – дело серьезное, время – деньги. «Сестрички», поприветствовав друг друга затейливой комбинацией сигнальных флажков, сблизились всего на пару минут.
На чисто вымытые доски палубы с тяжелым стуком упала пачка лондонских газет. За год подшивка, не меньше. Взял князь Волмонтович наугад, развернул одну – старенькую, пожелтевшую. И схватился бы за сердце, когда б могло оно еще болеть, сердце-то. Нечему в груди закричать, все выгорело, онемело, стальной коркой обросло.
Лишь стон из-под брони: Варшава!
…Шестого сентября 1831 года царские войска штурмом взяли западный пригород Варшавы – Волю. Потеряв всякую надежду, правительство повстанцев отказалось вооружить народ и поспешило сдать столицу. В ночь с седьмого на восьмое сентября была подписана капитуляция. А наутро гривастые казачьи кони уже били копытами по булыжнику варшавских мостовых.
Finis Poloniae!
Сказал бы: «La commedia è finita!» – да не до смеха.
В успех восстания князь не верил с самого первого дня. Как только узнал о «ребелии»,[2] понял: тонуть мятежу в крови. Шляхта, ничего не забыв и ничему не научившись, начала не с призыва к совместной борьбе всех народов России против николаевского деспотизма, не с аграрной реформы, а с требования «исконных» восточных воеводств – и с бессмысленной резни безоружных «москалей» в охваченной бунтом Варшаве. «Рrzeklêty idioci!» – буркнул Волмонтович и перестал читать редкие газеты, попадавшие в Китай из Европы. Что толку? Между ним и Отчизной – полсвета. Не долетишь, не доскачешь, не докричишься.
Что сделать? Напиться в хлам?
Бывший надпоручник 8-го полка Доминика Радзивилла сделал все, что мог. В Париже, улучив свободную минутку, он отправился в отель Ламбер на острове Сен-Луи. Особняк в действительности не был отелем. Дом на днях купила княгиня Чарторыйская, супруга Адама Ежи Чарторыйского, человека с бурным прошлым и смутным настоящим. Министр иностранных дел при Александре I, затем – ссыльный, лидер восставших поляков, Председатель Национального правительства, сейчас беглый князь Адам числился главой Повстанческо-Монархического союза.
Отель Ламбер он превратил в крепость, откуда грозил России. Парижский особняк – против Царского Села. Польский король де-факто, князь Адам пытался продолжить борьбу в эмиграции.
К Чарторыйскому сперва прорваться не удалось. У отеля прогуливались три соотечественника – грозные усачи, готовые разорвать в клочья любого, кто сунется без приглашения. К счастью, меж усачами Волмонтович встретил давнего, еще с войны, знакомца – племянника князя Адама. Тот рискнул – свел гостя с дядей. Разговор вышел долгим и небесполезным. При расставании князь сказал князю:
– К вашим услугам!
Это не было пустой фигурой речи.
Второй раз приехав в Париж в связи с угрозой инженеру Карно, Волмонтович опять пошел в отель Ламбер. Он еще не знал, что в скором времени придется удирать в Ниццу кружным путем. Он знал другое – до конца года ему, скорее всего, предстоит побывать в Санкт-Петербурге. На днях Андерс Эрстед «порадовал» друга Казимира известием о том, что осенью, в крайнем случае зимой им светит поездка в российскую столицу, на открытие филиала Общества.
Датский паспорт князя оказался очень кстати.
Казимир Волмонтович, волей случая – тайный эмиссар короля де-факто Чарторыйского, не строил особых иллюзий. В Петербурге, несмотря на прохладное отношение чиновников и горячую любовь III отделения Собственной его императорского величества канцелярии, проживало много поляков. Кое-кто даже не забыл о долге перед Родиной. Но что могут сделать несколько десятков (пусть даже сотен!) горячих голов? Поджечь Зимний дворец? Пустить горящий брандер в кронштадтскую гавань? Неплохо бы, конечно.
Что дальше?
Мучила совесть. Про отель Ламбер он не сказал Эрстеду ни слова. И про риск, взятый на себя, а значит, распространявшийся на них двоих, – тоже. Это случилось впервые за годы их знакомства. Дружба против чести, любовь к несчастной родине – против любви к человеку, которому ты обязан большим, нежели просто жизнью. Тайна грызла Волмонтовича так, как не грыз голод в бытность князя Паном Гладом.
* * *
Прогуливаясь между двумя мостами – Конюшенным и Полицейским, – князь посматривал по сторонам. Название второго моста прямо-таки вопияло об осторожности. Волмонтович знал, как следят за иностранцами в русской столице. Злой и остроумный француз Курбе, мастер карикатуры, нарисовал беднягу-иноземца в окружении толпы шпионов, роющихся в его багаже и даже в постельном белье. Датский паспорт позволял без помех въехать в Северную Пальмиру, но не избавлял от надзора. И пусть в это утро набережная Мойки была пуста, князь спиной чувствовал чье-то пристальное внимание. Не удержался, свернул за угол, в переулок, украдкой выглянул…
Никого.
Х-холера!
Дальше шел, не оглядываясь. Будь что будет! На людном Невском стало легче, тем более он уже пришел. Вот и костел Святой Екатерины. Высокая арка, коринфские колонны, изящные скульптуры над фасадом… Сюда собирались на службы католики Петербурга. Самый распоследний шпион, самый бдительный жандарм снимет шляпу и прикусит язык. «Пан пóляк» в своем праве. Молиться в Божьем Доме никто не запретит, даже его величество император!
Волмонтович шагнул на каменные ступени.
Письмо от Чарторыйского он отдал причетнику в первый же день по приезду. К посланию от «короля де-факто» князь присовокупил несколько слов от себя. Неведомые друзья в Петербурге могут рассчитывать на бывшего надпоручника. Даже если придется поджигать Зимний.
Сегодня князь должен был получить ответ.
– …Зимний пока жечь не станем. С пожарами вообще погодим. Матка Боска, это же варварство, в Эрмитаже – тысячи картин! Леонардо, Рафаэль, Рубенс… Когда наши жолнежи войдут в Петербург, будет что подарить варшавским музеям. Но если вы согласны помочь… Рискну пригласить вас к одному верному человеку. Академик Александр Орловский, художник. Не слыхали? Воевал у самого Костюшко, герой, боец из железа! У нас намечается приватный bankiet с фейерверком. Такой ветеран, как вы, пан Волмонтович, имеет полное право поучаствовать. Согласны?
– Давайте адрес.
Акт I Фокусы Антона Гамулецкого
Бартоло. Век варварства!
Розина. Вечно вы браните наш бедный век.
Бартоло. Прошу простить мою дерзость, но что он дал нам такого, за что мы могли бы его восхвалять? Всякого рода глупости: вольномыслие, всемирное тяготение, электричество, веротерпимость, оспопрививание, хину, энциклопедию и мещанские драмы…
Бомарше, «Севильский цирюльник»Вся земля наша мала и ничтожна, и мы должны искать средств к жизни в иных мирах; земля же, этот прах предков наших, должна быть возвращена тем, кому принадлежала.
Николай ФедоровСцена первая Все пути ведут в Петербург
1
– Семь! – объявил Шевалье.
– Равны, – с удовлетворением кивнул игрок, лысый как колено.
Оба углубились в подсчеты.
– Шестьдесят пять по масти.
– Столько же.
Над столами плавали волны табачного дыма – слои призрачной паутины. Шелест карт, шуршание ассигнаций… Огюсту казалось: он угодил в паучье логово, и его умело «пеленают», готовясь к трапезе.
– Квинт на шести.
Выдержав паузу, он не дождался ответа и заявил следующую комбинацию:
– Кварт-мажор.
– Прошу предъявить.
– Пожалуйста, – Огюст воспрял духом. – Три на валетах.
– Четырнадцать на десятках.
Проклятье! Он собирался объявить «пик», подняв свои очки сразу до шестидесяти. Но перебитый «хвалёж» лишал его этой возможности.
– Прошу предъявить.
Соперник молча выложил на стол четыре десятки.
– Принято. У вас на словах все? У меня тоже.
– Ваш выход.
Шевалье вздохнул и зашел с туза.
Письмо от Бригиды он получил вчера. Плотный конверт без обратного адреса, внутри – листок дорогой бумаги с зеленоватым оттенком. Золоченый вензель в правом верхнем углу. Легкий аромат духов.
Дорогой Огюст!
Обстоятельства заставляют меня покинуть Париж и без промедления отправиться в Санкт-Петербург. Одна мысль об этом путешествии приводит меня в отчаяние. Россия – не та страна, где я хотела бы встретить зиму. Я предпочла бы Ниццу; возможность вновь увидеть тебя… Но – увы. Есть обязательства, которые вынуждают нас поступать вопреки нашим желаниям.
Я не знаю, сколько времени мне придется пробыть в России. Боюсь, мы можем больше не встретиться. Хотя это и к лучшему для нас обоих. Поначалу я опасалась, что наши встречи закончатся печально для тебя. И все еще опасаюсь – но, кажется, ты сумел отыскать «противоядие», чему я очень рада. Не знаю, как тебе это удалось. Теперь я сама ощущаю то, что, наверное, чувствовали близкие мне люди. Меня тянет к тебе, я грежу о встрече. В первые дни после нашего расставания случались минуты, когда я готова была бросить все и мчаться к тебе. Потом стало легче. Надеюсь, со временем ты отпустишь меня окончательно. Я справлюсь с этим, Огюст. Я сильнее, чем думает кое-кто.
Вот еще одна причина, по которой нам не стоит видеться.
Не ищи меня. Прощай.
Любящая тебя Бригида.Стоит ли говорить, что первым же порывом молодого человека было немедля мчаться в Санкт-Петербург, отыскать баронессу – и больше никогда с ней не расставаться?! Туманные намеки на зловещие «обстоятельства» лишь распалили в сердце пожар. Ей угрожают! Она бежит из Франции за тридевять земель, в снега варварской России. Одна, в страхе, преследуемая врагами; боясь навлечь опасность на возлюбленного…
Как должен поступить в этом случае настоящий мужчина?
Выехать из Ниццы в тот же день Огюсту помешал сущий пустяк: средств, оставшихся у него, на поездку не хватало. Не идти же в Петербург пешком? Дорога через всю Европу, поиски Бригиды в чужом городе, где кусок хлеба, говорят, стоит дороже, чем в Париже – эклер с шоколадным кремом…
Самый простой и очевидный выход – взять в долг у Эрстеда – Шевалье с сожалением отверг. Полковник не откажет, но Огюст и так многим обязан датчанину. Как он сумеет отдать долг, молодой человек представлял слабо, а посему поставил на данном варианте жирный крест. В буквальном смысле – крест-накрест зачеркнув первый пункт составленного им списка. Заголовок сочился бодрой безнадежностью: «Как быстро раздобыть денег?»
Итак.
1. Одолжить у Эрстеда (зачеркнуто).
2. Одолжить у князя Волмонтовича (зачеркнуто).
3. Обратиться к… (недописано; зачеркнуто).
4. Прибегнуть к ясновиденью.
Над четвертым пунктом Огюст долго размышлял, в итоге решив начать с него. Тут он по крайней мере ничего не теряет. Не сработает – в любой момент переходим к следующей идее.
5. Выиграть в карты.
В Париже они с приятелями-студентами, бывало, до утра сражались в мушку, пикет или новомодный безик. Обычно Шевалье везло. Пару раз он даже захаживал в игорные дома: сперва проигрался, но не слишком, потом сорвал куш, учинив на радостях грандиозную попойку. Короче, способ как способ.
Ибо финальные пункты выглядели откровенной авантюрой.
6. Найти клад.
7. Ограбление почтовой кареты.
Огюсту не терпелось ринуться на поиски богатства, но время близилось к ужину. А Волмонтович еще с утра объявил, что ужинают они у какого-то Вахтанга-кацо. За столом Шевалье сидел как на иголках. На вопросы отвечал невпопад, и вскоре от него отстали. Вино с непроизносимым названием «Усахелоури», терпкое и густое, вязало рот. Лепешки с острым сыром и зеленью не впечатлили. Однако едва седой, похожий на орла Вахтанг-кацо водрузил на стол блюдо с кусками баранины, жаренной на углях…
Со стороны могло показаться, что молодой человек решил наесться заранее на всю будущую дорогу в Санкт-Петербург. В отель Огюст вернулся, едва дыша. Дико хотелось спать. Ополоснув лицо, чтобы освежиться, он принес из гостиной стул и устроился в ванной комнате, напротив зеркала. Деньги. Ему нужны деньги. Срочно. Бригида! На письме не было даты – бог весть, сколько оно шло из Парижа в Ниццу!
Бригида. Деньги…
Вокруг стали роиться снежинки. Снег белым пухом ложился на пол… на мерзлую кладбищенскую землю… на мрамор и гранит надгробий. Шапка-сугроб венчала крышу склепа. Тяжелая дверь приоткрыта, словно приглашая внутрь, в царство тьмы и тлена. Над входом вырублена рельефная надпись. С трудом разбирая готические буквы, Огюст прочел длинную польскую фамилию. Фамилия тут же забылась; вместо нее иней вывел совсем другое – «Waldec-Ermoli».
Бригида! Это ее склеп. Все мы смертны, никого не минет чаша сия. Но когда?! Огюст шагнул вперед, в усыпальницу. На кладбище началась пурга, буран набирал силу. В отдалении слышался стук лопат, долбивших оледеневший грунт.
Возникли голоса людей:
– Yes! I found it! Now I’m rich! We all are rich!
– Don’t yell so loud, Joe! Be careful…[3]
Кладбище исчезло. Шевалье увидел компанию бородачей – они толпились на каменистом берегу ручья. Куртки из кожи, штаны, вымазанные в земле, стоптанные сапоги… Рядом валялись заступы. Люди стояли у свежевырытой ямы. Радостно хлопая друг друга по плечам, они передавали из рук в руки камень величиной с кулак. Находка блестела на солнце желтым металлом.
Картина затуманилась. Во мгле, влекомый ветром, мелькнул обрывок газеты. Огюст плохо владел английским, но даже он понял заголовок статьи: «Золото в Калифорнии!» Калифорния? Это где-то в Североамериканских Штатах. Там найдут золото.
Или уже нашли?
«…и что прикажете теперь делать? – думал он спустя минуту, тупо глядя на себя в зеркало. – Взять билет на пароход? Отправиться в Америку? Разбогатеть, вернуться через пару лет – и выяснить: Бригида покоится в склепе… Нет! У меня мало времени. Возможно, у меня его вообще нет, как у Галуа. Продать сведения о золоте? Кому?! Кто поверит откровениям провидца-шарлатана? Полковник обмолвился, что у него доверительные отношения с Ротшильдами… Может, выгорит?»
Промучившись около часа, Огюст оставил вариант с Ротшильдами про запас, внеся его в список восьмым пунктом.
Он опять сунулся в будущее, желая высмотреть что-нибудь более полезное – итоги ближайших скачек, например. Но Механизм Времени закружил его и стремительно увлек в даль Грядущего – туда, где ждал лабиринт с бурой жижей. Не донес, бросил на полпути в безводной пустыне…
Проснулся Огюст в ванной, к полудню. Во рту ночевал эскадрон гусар, голову лучше бы отрубили. Однако решимость раздобыть денег лишь укрепилась. И молодой человек отправился на поиски игорного дома.
2
– …Леза!
Он взял восемь взяток из двенадцати, что дало дополнительные десять очков. Последний «королик» остался за ним, но от общего проигрыша в четвертом пикете это не спасло. Черт дернул играть «на разницу», а не «под ставку»!
А как удачно все началось…
Шевалье полез за деньгами. Лысый только с виду выглядел неотесанным чурбаном. Дымил, подлец, вонючими «папелито», сморкался в грязный платок, прихлебывал из фляжки – а сам то на «белой» карте «репик» обломает, то «открытый капот» возьмет…
– Еще партию, мсье?
– Боюсь, моему другу пора. Его ждут по важному делу.
Волмонтович, как всегда, возник словно из-под земли.
– Спасибо, я уже иду. – Шевалье встал из-за стола. – Вы проводите меня, князь?
– Полковник ждет у входа. А я, с вашего позволения, заменю вас. – Волмонтович приятно улыбнулся лысому. – Вы не против, сударь?
– Ничуть.
Игра продолжилась.
– Я не слепой, мсье Шевалье. Вы нуждаетесь в деньгах. Верно?
Огюст уныло кивнул. Проницательность датчанина расстроила его едва ли не больше, чем проигрыш.
– Просить в долг вам не позволяет гордость. Что ж, это хорошее качество. Предлагаю вариант, при котором вы не будете чувствовать себя должником. Мне нужен секретарь. О жалованье договоримся.
– Мсье Эрстед, я ничего не смыслю в юриспруденции!
– И слава богу! – рассмеялся полковник. – Секретарь мне нужен как представителю Общества по распространению естествознания. Вы закончили Нормальную школу, вольнослушатель Сорбонны, ученик покойного Кювье… Уверен, вы прекрасно справитесь. Но есть одно условие.
– Какое? – насторожился Шевалье.
– Завтра мы покидаем Ниццу. Сегодня я получил письмо от брата. Дела Общества требуют моего присутствия в России. Вам придется меня сопровождать.
– В Россию?!
– Да. Мы едем в Санкт-Петербург.
«Кто из нас ясновидец?» – с ужасом подумал Шевалье. Он боялся поверить в такую удачу. Шестым пунктом в списке стояли поиски клада. Вот он, клад, имя которому – Андерс Сандэ Эрстед! Но нет ли при кладе рогатого сторожа, от которого несет серой?
С некоторого времени Огюст боялся случайных совпадений.
– У вас остались дела во Франции?
«Андерс Вали-Напролом», – вдруг пришло на ум странное прозвище. Огюст не знал, откуда оно родилось, но увидел раскисший голштинский (почему – голштинский?) снег и на нем – трупы в зеленых мундирах. Когда ему захотелось рассмотреть мундиры поближе, чтобы понять, чья это форма, все исчезло.
Августовская Ницца смеялась над призраками зимы.
– Нет.
За время пребывания в Ницце он закончил некролог, посвященный Галуа, и отправил текст в «Ревю Ансиклопедик». Также он выслал Альфреду копию рукописи погибшего брата с наказом размножить по мере сил и разослать по научным изданиям. Один экземпляр Шевалье велел спрятать получше – на всякий случай.
– Тогда я хочу услышать ваш ответ.
– С благодарностью принимаю ваше предложение, мсье Эрстед. Здесь меня ничего не держит. Я готов отправиться навстречу Судьбе. Даже если я – дон Хуан, а Судьба – каменный Командор…
– Скверная шутка, друг мой, – на лестнице, ведущей в игорный дом, объявился Волмонтович. – Во-первых, вы не дон Хуан, уж поверьте моему опыту. Скорее уж Лепорелло. Во-вторых, у Судьбы нет чувства юмора. Еще накаркаете… Впрочем, я рад, что вы едете с нами.
И князь спрятал в карман сюртука пачку ассигнаций.
3
На почтовой станции было малолюдно.
– Три дня от Парижа до Страсбурга, – сказал барон фон Книгге. С рассеянной усмешкой он наблюдал, как потный, красный от беготни и вина почтальон грузит распряженную карету. – Это если повезет с погодой. Неделя – Дрезден. Там хорошие дороги. Пять дней – Варшава. Еще неделя, хотя полагаю, что дольше, – Рига. Девять оставшихся дней, и мы в Санкт-Петербурге, дитя мое. Месяц в дороге, бок о бок. Целый месяц романтики гостиниц и пейзажей, несущихся за окнами. Ты не рада? Заверяю, небеса будут расположены к нам.
Словно желая опровергнуть слова ясновидца, начался мелкий дождь. Суеверные почтари говорили, что отъезд в дождь (лучше – в ливень) к удаче. Если так, Эминента ждала удача, хотя и не ахти какая.
– Отпусти меня, – безнадежно попросила баронесса Вальдек-Эрмоли. – Умоляю, отпусти…
В «ты», с каким Бригида обращалась к Эминенту, крылось странное, не подобающее ситуации бесстыдство. Так разговаривает жена с мужем, с которым ее связывают тысячи ниточек: привычка, усталость, дети и тайны. Так беседуют сообщники, если один решает выйти из дела и боится мести второго. Так запойный пьяница, оставшись без гроша, фамильярен с трактирщиком, втайне рассчитывая на стаканчик в долг.
Очень богатое «ты» звучало в устах вдовой баронессы.
– Я тебя не держу, дитя мое. Уходи, если сможешь.
– Тебе хорошо известно, что я вынуждена возвращаться.
– Мне? Да, известно. Думаешь, я не знаю, к кому ты ездила в Ниццу? Ты правильно думаешь. Не знаю, но догадываюсь. Я перестал видеть этого мальчишку Шевалье. Он прячется от меня, или кто-то его прячет – в снегу. Мне доступен лишь буран – снег вертится, и я слепну. Нет, я не ревную, дитя мое. Ты вольна в своих поступках.
Почтальона у кареты сменила свита фон Книгге. Великан Ури, кряхтя, подавал багаж на крышу, рыжий прохвост Бейтс привязывал баулы и коробки веревками к поручням. Если власть Эминента над людьми была велика, то над чемоданом, от тряски упавшим в канаву, он власти не имел.
– Зачем я тебе в Петербурге, Адольф?
– Я рад видеть тебя рядом с собой. Красивая женщина – есть ли в мире лучшая спутница? Кроме того, вдова с титулом – ключ ко многим домам. Ты нужна мне, дитя мое. Ты голодна?
– Не твое дело.
– Значит, голодна. После Ниццы ты изменилась. Не знай я, кто ты есть, я бы сказал, что ты с этим Шевалье поменялась ролями. Ты бегаешь за ним, а он прячется в снегу. Ничего, сегодня ночью, на постоялом дворе, я накормлю тебя. Ты ведь хочешь этого, дитя мое?
Баронесса не ответила. Но ноздри ее затрепетали, как у голодного, почуявшего дым костра, где жарится кабанья печенка. В глазах возник и сразу угас лихорадочный блеск. Если случайный соглядатай ничего не понял бы из их разговора, то Эминент, вне сомнений, хорошо знал, что имеет в виду.
– Я расскажу тебе притчу, девочка. Одному скромному ясновидцу сделали предложение, от которого трудно отказаться. Ему предложили участвовать в Апокалипсисе. Нет, роль Всадника устроители спектакля сочли слишком ответственной для нашего героя. Ему отвели должность пастыря народов. Мелкого такого пастыря, скорее, конвоира, чья задача – гнать по этапу роту каторжан. Ясновидец был молод, возвышен; жив, в конце концов! Идеалы – страшная вещь… Тем не менее он успел задуматься: о каких народах идет речь, если в финале представления все мертвы?
– Мне холодно, – без выражения сказала баронесса.
Оба кутались в плащи: шерстяной капот с рукавами и капюшоном – у женщины, крылатка с пелериной – у мужчины.
– Пройдет. Ночью я накормлю тебя, и ты согреешься. Так вот, наш ясновидец стал задавать вопросы. О, ему ответили! Да, все мертвы, сказали устроители. Закон природы. Но мертвецы встанут и пойдут, если вы поможете нам. Все до единого, от начала времен – марш-марш в счастливое, прелестное Грядущее! Вам даже ничего не придется делать. Вы только согласитесь, все остальное мы сделаем сами. Мы даже уступим легионам мертвецов Землю и уйдем – в горние сферы, далеко-далеко…
Сухая, затянутая в перчатку рука сделала выразительный жест. Сразу делалось ясно, как далеко собирались уйти неведомые устроители Апокалипсиса. Неделя пути от Страсбурга до Дрездена для них – детский лепет. За неделю они умчат на восьмое небо! Лицо Эминента оставалось бесстрастным, но баронесса видела: фон Книгге расстроен.
Она редко видела его таким.
– Ясновидцу хватило ума отказаться. Прошли годы, и он узнал о мальчике, который вырастет, станет нищим философом и выкрикнет в небо безумную идею – Воскрешение Отцов. Сперва ясновидец посмеялся. А потом смех кончился и началась холера. Мертвые хоронили своих мертвецов, и наш герой задумался: где кончается безумие и начинается завтрашний день?
– Скучная притча, Адольф, – баронесса зевнула. – В чем мораль?
– Мораль в том, что я еду в Россию. Мораль в том, что я, возможно, не с тем воюю. Мораль спрятана в ларце, на волшебном острове. Там в лабиринте плещется хитроумная слизь, а вокруг мигают синие огни. Ты что-нибудь поняла, дитя мое?
– Нет.
– И славно. А я хочу понять.
Кучер, здоровенный детина с животом, достойным Гаргантюа, проходя мимо Ури, с одобрением хлопнул великана по плечу. Дескать, могуч ты, парнище! – так и мы не пальцем деланы… Хлопок мог бы оглушить быка. Рыжий Бейтс, свесившись с крыши, ждал, что приятель ответит кучеру тем же. Зрелище обещало быть замечательным. Увы, Ури огорчил рыжего – он аккуратно подал наверх очередной баул, легонько, словно ребенка, потрепал детину по рукаву и улыбнулся тому, сдвинув шляпу на затылок.
Лицо Ури, лишенное благотворной тени от шляпы, произвело на кучера неизгладимое впечатление. Он икнул, протер глаза, икнул еще раз и молча побрел к лошадям. Там детина долго стоял, ткнувшись лбом в шею чалой кобылы, прежде чем опомнился и стал собирать упряжь.
Икота никак не желала отпустить кучера.
– Ты хочешь убить какого-то русского мальчика? – спросила Бригида. – Да, Адольф? Ты едешь убивать?
– С чего ты взяла?
– В последнее время ты много убиваешь. Я сама – убийца, я такое слышу. Как капельмейстер – фальшь в оркестре. От тебя пахнет кровью.
– Не говори глупости. Слава царя Ирода меня не прельщает. Да и у мальчика, склонного к философии, есть покровители куда лучше, чем дряхлый Иосиф и несчастная Мария.
– Не кощунствуй!
– И не думаю. Я просто хорошо знаю, чем кончаются покушения на детишек, и не хочу заложить основу новой религии. О детях, не вошедших в возраст, надо беседовать с их родителями. До отца далековато, да и незачем, зато дед… У нашего мальчика есть чудесный дед. Я не хотел бы ссоры с ним. Как ты думаешь, дитя мое, много ли на земле людей, с кем я не хотел бы ссоры?
– Очень мало, Адольф.
– Вот ты и послужишь ключиком к дверям дома этого деда. Очаровательным золотым ключиком.
– Я не ошиблась. Ты едешь убивать. И для начала ты уложишь меня в постель к какому-то деду. Моя постель холодна, в ней замерзают. Зачем тебе ссора с опасным дедом, если есть я? Старик расскажет мне о своей жизни, старики любят поговорить… Раз, другой, и на кладбище появится свежая могила.
Эминент с удовольствием расхохотался.
– Дитя мое, ты просто прелесть! Во-первых, дед нашего мальчика – вовсе не старик. Шестьдесят лет – не возраст для таких, как мы. Во-вторых, если он и захочет пооткровенничать с тобой, то надолго его рассказ не затянется. Ты же помнишь, как это было у нас с тобой, а? Поверь, венерабль ложи Орла Российского разбирается в тонких материях. Иначе он погиб бы еще поручиком, под Измаилом…
– Что же нас все-таки связывает, Адольф? – еле слышно спросила баронесса.
– Может быть, любовь? – предположил Эминент. – Ибо сильна, как смерть?
Кажется, он не шутил.
Хотя, имея дело с фон Книгге, ничего нельзя было знать наверняка.
4
– Как вы говорите? Енгалычев?
– Князь Енгалычев, Петр Матвеевич, – терпеливо повторил генерал Чжоу. – Вольнослушатель Сорбонны. Возвращаюсь на родину согласно волеизъявлению моего батюшки.
– Извольте обождать, ваше сиятельство.
2-й секретарь Императорского Российского посольства во Франции помассировал виски, вздохнул и склонился над паспортом Енгалычева. Татарин, думал секретарь. Университеты им подавай. У секретаря дико болела голова, отчего он был в раздражении. Сейчас оформим паспорт – и домой, под одеяло, да горячего бордо с корицей, и рому туда побольше…
При Александре I в посольстве жилось проще. Запретив губернаторам выдавать заграничные паспорта, император ввел их выдачу только в Санкт-Петербурге, с разрешения высших чиновников. Губернским властям было предписано сообщать обо всех возвращающихся из-за границы – лично его величеству, на имя высочайшей канцелярии. Это резко сократило поток желающих – а главное, способных – выехать в Париж. Смута наполеоновских баталий канула в прошлое; посол зевал да волочился за мадемуазельками.
Секретари полировали ногти в ожидании обеда.
Когда на престол взошел Николай I, вроде бы начались послабления. Но в посольстве хорошо понимали: вольность – ненадолго. И со дня на день ждали свеженький указ государя, после которого рассчитывали вовсе избавиться от визитов докучливых земляков. Про указ ходили слухи – один другого краше. Для получения паспорта российский дворянин должен был выплатить все долги, уладив дела с кредиторами. Далее в «Санкт-Петербургских ведомостях» он публиковал объявление о намеченном отъезде за рубеж – не менее трех раз, на русском и немецком языках.
За каждую обозначенную там персону в казну платился рубль серебром.
В проекте нового указа также предполагалась справка об отсутствии претензий, медицинское заключение врача, назначенного полицейским приставом, – дамы рыдали, воображая ужасы осмотра; уплата пошлин (сто рублей с персоны за полгода) и, наконец, категорический запрет на вывоз детей в возрасте от десяти до восемнадцати лет, как наиболее подверженных влиянию бунтарских идей.
Дети были залогом возвращения родителей.
– Ваше временное удостоверение?
– Вот оно. Сдаю, сообразно правилам.
Генерал Чжоу протянул секретарю чистый лист бумаги, надрезанный по краям ножницами из алюминиума. Он очень ловко умел надрезать чистые листы. Секретарь внимательно прочитал несуществующую запись, кивнул и спрятал бумагу в бюро.
– Все в порядке, ваше сиятельство.
Опасаясь незаконной иммиграции, французские власти на границе отбирали паспорта у иностранцев. Вместо паспорта гость получал удостоверение с указанием пункта назначения. Обменять «временку» можно было лишь в посольстве, если ты заблаговременно позаботился предупредить, дабы твой паспорт отправили туда с курьером, или в забронированной заранее и отмеченной в удостоверении гостинице.
– Я тороплюсь.
– Уже, уже…
Китаец не боялся, что подлог раскроется. Бумага в бюро к вечеру превратится в горстку пепла. А секретарь напрочь забудет, что возвращал – верней, оформлял заново, что было разрешено лишь в особых, подлежащих регистрации случаях, – паспорт князю Енгалычеву. Он и фамилии-то такой не вспомнит: Енгалычев. Это пустяк, мелочь, не заслуживающая внимания Посвященного. Вот просто стоять, ничего не делать и ждать, сохраняя лицо, – это гораздо труднее, чем заставить дубовую голову секретаря разболеться в должной степени.
Сердце генерала кипело, как забытый на огне чайник.
Вчера Чжоу Чжу имел неприятный разговор с Эминентом. Неблагодарный, как все варвары, ясновидец счел долг генерала оплаченным, но назвал помощь китайца чрезмерной. Он ясно намекнул, что, заражая Париж холерой, генерал преследовал какие-то свои цели, о которых умолчал.
«Вы упрекаете меня?» – холодно спросил Чжоу.
«Нет, – ответил фон Книгге. – Я подвожу итоги».
«Вы хотите оскорбить меня?»
«Нет. Я прощаюсь с вами».
После этого стало решительно невозможно просить о второй услуге – розыске герра Алюмена. У генерала сложилось впечатление, что это и было причиной грубости обычно вежливого Эминента. Но идти дальше, пытаясь докопаться до корней, означало ссору. Тратить же силы, затевая бессмысленную, грозящую затянуться войну, Чжоу не имел права. Что-то подсказывало китайцу, что срок жизни его нынешнего тела, несмотря на молодость, близится к концу.
Следовало, как сказал фон Книгге, подводить итоги – и готовиться к переселению. Чжоу Чжу не доверял дерзкому варвару, по прихоти судьбы способному видеть Грядущее в деталях, недоступных китайцу. Прорицая судьбу русского мальчика, варвар мог скрыть важные знамения.
Если так, генерал вернется – спросить с герра Эминента.
– Какой маршрут вписывать, ваше сиятельство?
– Петербург, – ответил генерал Чжоу.
Чиновник вновь заскрипел пером.
Сцена вторая Ромео ищет Джульетту
1
Обязанности секретаря оказались не обременительны. Шевалье мучило подозрение: неужели полковник взял его из личного расположения? Даром есть хлеб Огюст не желал. С другой стороны, ему предстояли поиски Бригиды. Чужая страна, загадочный русский язык, загадочная русская душа…
А если полковник завалит его делами?
Вдоль Шлиссельбургского тракта, нагоняя уныние, тянулись ветхие хибары. От рыбацких слобод воняло требухой. Карета скакала на ухабах. У Огюста лязгали зубы, он едва не откусил себе язык. Решив было, что таков весь Петербург, он дал маху – под колеса лег булыжник мостовой, объявились дома в три этажа. Сверкнул позолотой купол Свято-Троицкой церкви; в небе поплыл колокольный звон.
Чумазый малец в разлетайке бросился под копыта:
– С пылу, с жару! – Мелькнула корзина с пирогами. – Налетай!
Набережные, закованные в гранит. Мощеные тротуары. Стрельчатые окна, лепнина карнизов; статуи на фронтонах домов. Центр города являл собой роскошь, завернутую в убогость предместий, как в шелуху.
Суматошный день приезда напоминал лоскутное одеяло: сценки без начала и конца. Голова кругом, все от тебя чего-то хотят, и не поймешь – чего. Поначалу они остановились в гостинице. Едва успев привести себя в порядок, Эрстед отправился с визитом в Технологический институт. Шевалье, как секретарь, сопровождал патрона. Увы, при попытке войти произошла заминка. Бдительный страж, толстяк в мундире темно-синего сукна, встал стеной: не положено! Неприемный день. Получите разрешение у директора и приходите в среду.
Шевалье недоумевал: это полицейский чин или же цивильный служащий?
Ни французского, ни немецкого страж не знал. К счастью, Эрстед по-русски – включая денежную мзду – убедил цербера позвать начальство. Явился очередной мундир – с обшлагами черного бархата. Представился мундир инспектором, а узнав, кто перед ним, куда-то послал стража. Тот, побагровев, никуда не пошел, а инспектор на недурном французском пригласил гостей в кабинет директора.
Дальнейшая череда мундиров запомнилась Огюсту смутно. Выяснилось, что попечители института приготовили Эрстеду квартиру в «гостином доме» на Большой Конюшенной. Давно потеряв нить разговора, Шевалье решил, что их собираются поселить в конюшне – очень большой, где места хватит на всех, – и воспринял петербургское гостеприимство с полным равнодушием.
Последовал новый переезд.
Смеркалось. На улицах зажглись масляные фонари – газовое освещение сюда не добралось. Шевалье с удовлетворением отметил, что волков поблизости нет. Зря, выходит, его пугали «медвежьей дырой», где по ночам рыщут разбойники, а днем не дают проходу цыгане с балалайками.
«Конюшня» оказалась четырехэтажной, с портье и прислугой. Им отвели правое крыло второго этажа – семь комнат. Инспектор отрекомендовал гостям ресторацию «Simon-Grand-Jean» и удалился. Остаток вечера прошел в распаковке багажа. Ресторацией Шевалье, завершив ужин, остался разочарован: кухня не отличалась от парижской.
– Будет вам кулинария а-ля рюс! – утешил его князь. – Еще намаетесь…
Наутро Эрстед велел Огюсту разобрать бумаги, имеющие касательство к делам Общества. Предстояло отослать шесть писем, после чего Шевалье мог быть свободен. На встречу, назначенную вечером, датчанин отправлялся без секретаря.
2
Совесть требовала отработать жалованье. Любовь гнала на поиски Бригиды. В итоге Шевалье выбрал третье – отправился завтракать. Благо в «Кондитерской Доминика» на углу варили славный кофе; да и румяные пышки были выше всяких похвал.
Здесь имелись свежие газеты (у папаши Бюжо довольствовались «Шаривари» недельной давности). Россия начала нравиться Огюсту. Отыскав «Journal de St-Petersbourg», издаваемый Министерством иностранных дел на французском языке, он пролистал новости политики, статью о светском скандале… Неслыханная удача! Дальше публиковались списки приехавших в город иностранцев.
«Вряд ли Бригида путешествует под чужим именем. Значит, должна быть в списке…»
О баронессе Вальдек-Эрмоли нигде не упоминалось. Как же так, она ведь сообщала… Огюст хлопнул себя ладонью по лбу, едва не расплескав кофе. Ну конечно! Бригида, вне сомнений, прибыла в Петербург раньше. Нужно взять предыдущие выпуски.
Подшивка за месяц нашлась быстро. Старания были вознаграждены – да, баронесса приехала на прошлой неделе. И что дальше? Где ее искать? Шевалье вздохнул, расплатился и отправился «по службе».
К полудню он рассортировал документы. Устав Общества, меморандум, списки адресов, рекомендации… Придавив стопку бронзовым пресс-папье, Шевалье взял письма и спустился на первый этаж.
– Где мне найти ближайшее почтовое отделение?
– Нижайше извиняюсь, мсье. Боюсь, ближайшее вам не подойдет.
К счастью, портье сносно болтал по-французски. Он был облачен в ливрею, похожую на мундир, или в мундир, похожий на ливрею, – не разобрать. Вскоре до Шевалье дошло: портье старше, чем кажется. Предупредительность, гранича с подобострастием, делала из мужчины застенчивого юношу.
– Почему же?
– Прошу прощения, мсье… Вы ведь не говорите по-русски, да? А в ближайшем никто не говорит по-французски. Осмелюсь дать вам совет: зайдите на Главный почтамт. Там вы сумеете объясниться. Если желаете, я нарисую вам, как пройти.
– Буду признателен, – кивнул Шевалье.
Портье нырнул под конторку, зашуршав бумагами, как целый выводок мышей. Огюст полез в карман за монетой, дабы вознаградить служащего, когда в голову ему пришла мудрая мысль.
– А скажите мне, сударь… Где у вас обычно останавливаются иностранцы? Я имею в виду, знатного происхождения?
– Извольте-с! – портье выскочил из-за конторки, как пробка из бутылки шампанского. Казалось, он только и ждал этого вопроса. – Гостиниц для указанных вами господ в Петербурге четыре. Дом Серапина, что у Обухова моста, заведение господина Кулона на Михайловской площади; трактир Демута – рядышком, на Большой Конюшенной. И «Лондон» напротив Адмиралтейства
У Шевалье голова пошла кругом.
– Кликнуть извозчика, мсье? Я ему растолкую, чтоб подвез вас к каждой гостинице по очереди. Тут, правда, и пешком недалеко…
Портье изогнулся вопросительным знаком.
– Я бы прошелся пешком. Не заблужусь?
– Никак нет, мсье! – просиял служитель. – Сей момент!
В воздухе мелькнул чистый лист. Из бюро выпрыгнула чернильница. В руках портье, словно по волшебству, возникло перо. Чувствовалось: рисовать карты ему не впервой. Не прошло и десяти минут, как план был готов. Шевалье восхитился: улицы вычерчены ровно, как под линейку, названия подписаны по-французски и ниже – русской кириллицей, дабы гость мог сличать таблички на стенах домов с картой. Гостиницы и почтамт – отдельно, кружками; «гостиный дом» института – крестиком.
– Превосходно! Вам бы в топографы идти! Вот, возьмите за труды.
Огюст вручил портье серебряный рубль, хотя поначалу думал ограничиться монетой вдвое меньшего достоинства. Здесь она называлась, если верить Волмонтовичу, загадочным словом «poltinnik».
– Премного благодарствую, мсье!
В дверях Шевалье оглянулся:
– Скажите… Зачем у вас в газетах печатаются списки гостей-иностранцев?
– Мсье шутит? – изумился портье.
– Нет, мсье серьезно…
– Иначе нельзя-с! Как же полиция будет знать, кто изволил посетить Санкт-Петербург?
– Полиция? А зачем полиции это знать?
– А вдруг понадобится кого-то разыскать? Взять под наблюдение? Нет, мсье, порядок есть порядок. Полиция все должна знать заранее…
Настроение у Огюста Шевалье испортилось категорически.
3
Погода переменилась.
Сделалось ветрено. По небу в панике неслись редкие клочья пуха. Метались голуби, булькая и гадя на что ни попадя. Казалось, пух для облаков драли из них. Палые листья танцевали на тротуаре мазурку. Прохожие щурились, спешили поднять воротники.
Порыв ветра едва не вырвал карту из рук Шевалье. Огюст сверился с планом и отправился на почтамт. Велико было искушение первым делом проверить трактир Демута – вдруг сразу повезет?! Однако чувство долга победило. До улицы, которая так и называлась – Почтамтской – он добрался без приключений. Дважды к нему обращались с вопросами, и Огюст отвечал фразой, которую выучил под руководством Волмонтовича:
– Извинить, я не понимай русски. Французский, нет?
Князь предупредил: фраза намеренно искажена. Чтобы сразу видели: перед ними иностранец. Иначе решат, что издевается. Одному немцу нос расквасили – не умничай, бритая морда! Фраза действовала безотказно. Огюста оставляли в покое, а бородач в поддевке даже перекрестился вслед.
Здание почтамта впечатляло. Три этажа, портики с фронтонами; въезд для экипажей… Не сразу Шевалье отыскал отделение корреспонденции: здесь больше занимались перевозкой пассажиров, нежели письмами. Лишь спустя час, а то и два он выбрался наружу.
Теперь – на поиски!
Сверяясь с табличками на домах, имевшимися, увы, далеко не везде, Огюст двинулся в путь. От жуткой кириллицы рябило в глазах. Засмотревшись на шпиль Адмиралтейства, он не сразу сообразил, что добрался до первой цели.
«Трактиръ «Лондон» – гласила вывеска.
– Прогулка по городу? Фаэтон, ландо, «эгоистка»?[4]
Хлыщ в сюртуке, протертом на локтях, говорил на хорошем французском. С первого взгляда его можно было принять за поиздержавшегося дворянина. Но второй, более пристальный взгляд рассеивал иллюзию. Фатовато напомаженные усики, цилиндр высотой с Вавилонскую башню, а главное – алчный блеск в глазках выдавали хлыща с головой.
– Осмотр шедевров архитектуры? Иные увеселения?
В скромном желании срубить деньжат по-легкому он был не одинок. Сбоку подкатился толстячок, задорно сверкая стеклышками пенсне. Привстал на цыпочки, потянулся к уху:
– Доступные мамзели, мсье! Чистые, приветливые! Индийские баядеры? – тьфу, и в подметки, знаете ли…
К ним уже спешил господин феноменального роста, ухмыляясь с неприятным радушием. Более всего он напоминал паяца, растянутого на дыбе. У входа в «Лондон» прогуливался квартальный надзиратель, делая вид, что происходящее его нисколько не касается. Шевалье побоялся даже вообразить, что предложит ему «паяц», – и сбежал в трактир, игнорируя посулы.
– Чего желает мсье? Комнату? Обед?
За стеной звучала музыка, смех; кто-то, надсаживаясь, провозглашал здравицу. Лестница, застеленная ковром, вела на второй этаж – в номера.
– Я зашел справиться об одной госпоже.
Портье заметно поскучнел. Шевалье сунул руку в карман, позвенел вескими аргументами – и скука превратилась в саму любезность.
– Кого ищет мсье?
– Баронесса Вальдек-Эрмоли, – Огюст бросил на конторку серебряный «poltinnik». – Недавно из Парижа.
Монета исчезла как по волшебству.
– Увы, – портье шуршал страницами. – Среди наших постояльцев сия госпожа не числится.
– Вы уверены?
– Мне очень жаль, мсье…
Снаружи его ждали. К троице «хлыщ-толстяк-паяц» добавился легион новых бесов. Сразу взять клиента в оборот они не рискнули, ибо Огюст решительно направился к квартальному. Тот с интересом следил за развитием ситуации. Не дойдя до надзирателя каких-то пяти шагов, молодой человек резко сменил направление – и свернул в переулок. Бесы кинулись было вдогонку, но отстали, признав поражение.
Позади добродушно хохотал квартальный:
– Ай да французик! Молодца! Обставил вас, мазуриков…
Неудача преследовала Огюста. Портье листали регистрационные книги: нет, не значится. Ноги устали. Несмотря на заверения, что «тут все рядом», он изрядно отмахал по городу. В животе угрюмо бурчало – пообедать Шевалье не успел.
У Демутова трактира, последнего в списке, Огюсту предложили сераль пейзанок, жаждущих большой и чистой французской любви, набор столового серебра, «лучший опиум из Англии», коллекцию непристойных миниатюр «Сны Бомбея» и чудо прогресса – тульский samovar. Шевалье с трудом вырвался из лап доброжелателей и нырнул в двери заведения.
– Вальдек-Эрмоли? Увы, мсье…
«Приплыли», как выразился бы капитан Гарибальди.
– Вы в затруднении, душа моя? Нуждаетесь в помощи?
Рядом обнаружился один из дежуривших у входа бесов, который опиум и «Сны Бомбея». Он разительно изменился: был майский жук, стал светский лев. Грива каштановых, с проседью, волос, мужественное лицо, щеки гладко выбриты… Сетка багровых жилок на носу и скулах, изобличая любителя выпить, внушала собеседнику доверие: кто из нас без греха?
Фрак он носил на два размера меньше, чем следовало.
– Нет, – Огюст на всякий случай отодвинулся. – Разве что вы занимаетесь частным сыском…
– Я, Яков Брянский? – свое имя лев произносил торжественно, басом, по-ослиному растягивая в «Иа-а-ков». – Частный сыск?! Уморил, голубчик! Сразил каленою стрелой! И в страшном сне…
Отсмеявшись, он ухватил Шевалье под локоток:
– Внемли, душа моя. В поисках истины, а тем паче человечка, Господь вас упаси от приватных сыскарей… Все они прохвосты! Жулики! Это вам говорит Брянский, а он знает толк в жизни! За ваши денежки они найдут разве что шкалик водки…
– Куда ж мне обращаться? – Огюст был сбит с толку. – В полицию?
– Да ни боже ж мой! Этак вы сами в Сибирь загремите. Все зависит от того, душа моя, кого именно вы ищете. Ежели, к примеру, это благонамеренный дворянин, – лев заговорщицки подмигнул, – а тем паче дама…
– Угадали.
– Триумф! Ликование народов! – Французский льва оставлял желать лучшего, но выбора не было. – Вы – любимец Фортуны, душа моя! Вы нашли драгоценный алмаз! Подобрали в пыли! Разрешите представиться: Брянский Яков, сын Григорьев, – он раскланялся, отчего фрак опасно затрещал. – К вашим, знаете ли, разнообразным услугам.
– Огюст Шевалье. Но вы сказали…
– Сказал! И на плахе повторю: сыскари – прохиндеи! Всеконечные шарлатаны! Брянский же не таков, нет! Сам Каратыгин рыдал, как дитя, внимая моему монологу! Великий Мочалов клялся: Брянский, ты гений! Пред государем-императором лицедействовал…
– Вы актер? – Шевалье не удалось скрыть разочарования. – Как же вы беретесь помочь мне?
– Ах, чистое сердце! – лев прослезился от нахлынувших чувств. – Сразу видно: сущий вы младенец! Дабы сыскать даму в Петербурге, надо быть вхожим в свет. Понимаете? Вхожим! Уж кто и вхож, как не Яков Брянский?! Где блистают дамы? Верно, душа моя: балы да театры! А кто всюду зван? везде желанен? Кого привечают, как родного? И кто всей душой жаждет вас осчастливить?
Он взял паузу, дожидаясь ответа. К сожалению, Огюст молчал, и актеру пришлось раскрыть эту невероятную тайну:
– А никто боле, кроме Якова Брянского! Так и запомните: никто! Славь, Муза, героя!
Напор актера потрясал. Такой человек мог быть полезен. Но голос осторожности звучал даже сквозь бурю и натиск подержанного льва.
– Допустим, вы убедили меня. Как дорого вы цените свои услуги, мсье Брянский?
– Ах, оставьте! Кто говорит о деньгах?! Неужели вы так меркантильны, душа моя? Не верю!
Актер тряхнул гривой. Он сделался прям, как столб, упер руку в бок и демонстративно отвернулся от собеседника; верней, повернулся к нему в профиль. Слова сорвались с губ Огюста прежде, чем молодой человек успел оценить театральность позы:
– И в мыслях не имел вас оскорбить!
– Я знал, знал! Ваши помыслы чисты! – воспрял лев, заключая Шевалье в объятия. Треск фрака служил ему аккомпанементом. – Что деньги? Прах! Металл презренный! Моей наградой будет лишь одно – двух любящих сердец соединенье! Но опасенья ваши мне понятны: вокруг кишат мздоимцы и плуты. Я ж не таков! Я злата не ищу. Я вас люблю, как сорок тысяч братьев! А посему отбросьте колебанья! Так трусами нас делает сомненье, и начинания, вознесшиеся мощно, сворачивая в сторону свой ход, теряют наше к ним расположенье… Вот вам залог моей сердечной дружбы!
Он царственным жестом протянул Огюсту кусок картона.
– Извольте! Контрамарка в Александринку. У меня там пустячная рольца – мизер, не стоит разговора. Но разве ж они могут обойтись без Брянского?! На коленях умоляли: мол, короля играет свита… Ладно, я снизошел. Не все ж представлять благородных отцов? Отыщете меня в антракте, я вам поведаю, что разузнал. Как зовут нашу Джульетту?
– Баронесса Вальдек-Эрмоли, – сдался Шевалье.
Актер его покорил – и темпераментом, и внезапным бескорыстием.
– Портрет есть? – деловито спросил Брянский.
– Увы, – развел руками Огюст.
Лев нахмурился:
– Это осложняет дело. Портрет возлюбленной надо иметь. Лучше в золотом медальоне… – Он ободряюще хлопнул молодого человека по плечу: – Не унывай, душа моя! Мы отыщем вашу возлюбленную! Там подмажем, тут поедем…
– Но вы же говорили…
– Не мне, не мне! Как ты мог подумать, несчастный?! Брянский слов на ветер не бросает! Я помогаю вам из душевного расположения! Мне ль не знать, как тоскует сердце в разлуке? Как тягостен миг вдали от любимой? Но не все вокруг таковы, душа моя. Черная алчность, интриги завистников, корысть… Тому дай, сему поднеси – а в итоге, глядишь: сладилось дело! Встретились два любящих сердца!
– Сколько?
– Сущие пустяки! Разве сорок рублей – деньги?!
– Ну, пожалуй…
Шевалье прикинул, какой наличностью располагает.
– Лишнего не потрачу! Ежели что останется – верну, как Бог свят! Можете считать, ваша суженая уже с вами. А не отужинать ли нам? Время позднее, не грех подкрепить силы телесные!
Лев попал в точку: у Огюста живот сводило от голода.
– С удовольствием!
– Отрадно зреть единение помыслов! Идем, Ромео! В сем богоспасаемом трактире подают отменную хреновуху. Мы скрепим наш союз согласно старинному русскому обычаю! А какая здесь стерлядь…
4
– Прав был князь, – сообщил Огюст платяному шкафу.
Шкаф с сочувствием промолчал.
Вторая попытка стащить панталоны также не увенчалась успехом. Молодой человек оступился, заплясал джигу и едва не растянулся на паркете. Волмонтович как в воду смотрел: «Будет вам кулинария а-ля рюс!» Кулинария – ладно, с трудом, но переживем; зато выпивка… Ну почему бы не взять под дивную стерлядь вина? Хорошего белого вина?! Легкого, нежного, полезного даже невинным младенцам…
Но Брянского разве переспоришь?
Коварная «хреновуха» бултыхалась в желудке. По организму она расползалась неравномерно, смещая равновесие к хаосу. Ноги выписывали кренделя, мостовую штормило. Огюст плохо помнил, как добрался до гостиного дома. Кажется, его довел Брянский. А портье, ласково утешая гостя народными русскими пословицами, помог взобраться по лестнице…
Стыдно-то как!
В какой-то момент Огюст осознал, что сидит на кровати со спущенными панталонами. Тут дело наконец пошло на лад. Минута – и он облегченно рухнул в белый сугроб одеял и простыней. Сугроб взвихрился снежным пухом; Шевалье даже испугался, что порвал подушку. Но подушка оказалась ни при чем. Вокруг мельтешили снежинки, сворачиваясь в знакомую двойную спираль.
Закружилась голова – гораздо хуже, чем прежде. Гигантский штопор увлекал Огюста за собой, ввинчиваясь в черный хрусталь небес. Сил сопротивляться не осталось. Движение ускорилось, перезвон ледяных шестеренок сложился в смутно знакомую мелодию; она убаюкивала, пела колыбельную…
Должно быть, он заснул. А когда очнулся и попытался открыть глаза – ничего не увидел. Его окружала непроглядная тьма. Тьма еле слышно вздыхала и шевелилась. К горлу подкатил комок тошноты. Это сон? Он умер? Ослеп?
Его похоронили заживо?!
– Приношу извинения. У нас маленькие неполадки. Внеплановая суперпозиция солитонных полей. Не волнуйтесь, сейчас все исправим.
Голос был знакомый. Глаз-Переговорщик?
У Огюста отлегло от сердца.
– Это я виноват, – ляпнул он первое, что пришло на ум. – Хватил лишку. Стерлядь, сами понимаете… ох, и стерлядь!.. Надеюсь, я у вас ничего серьезного не повредил?
Повисла долгая пауза. Шевалье даже успел забеспокоиться: не обидел ли он Переговорщика? – но тут глаз заговорил вновь:
– Удивительно! Вы правы! Опьянение меняет метаболизм организма, а это, в свою очередь, сказывается на волновой структуре супергена. Приемный комплекс был настроен на вашу стандарт-матрицу, вот и случился сбой. Обычно ясновидцы не злоупотребляют… Впрочем, это не мое дело. Извините за вторжение в частную жизнь. Сейчас операторы наладят связь; заодно и вас приведем в норму. Ну как? Чувствуете?
Головокружение исчезло. Мысль о «хреновухе» больше не влекла за собой желание удавиться.
– Здорово! – восхитился Шевалье, счастлив от такого благотворного вторжения в его частную жизнь. – А я, когда обратно вернусь, тоже буду трезвый?
– Гарантий дать не рискну, – замялся глаз. – Есть некий шанс…
Особой уверенности в его голосе не ощущалось.
– Ладно, так просплюсь. Кстати, у меня до сих пор темно, как в угольном мешке… Ой!
Яркий свет обрушился без предупреждения. Шевалье отчаянно заморгал (чем, прости Господи?!) – и зрение пришло в норму. Перед ним торчал волосатый ствол пальмы, уходя ввысь.
– Все в порядке?
– Д-да…
– Вы не против, если мы совершим прогулку по острову?
– Н-нет… не против…
Эту пальмовую рощу он до сих пор видел лишь издали. Перламутровый песок, обломки раковин блестят на солнце; в вышине – шелест тюрбанов резных листьев. Шум прибоя действовал успокаивающе. Лабиринт отсюда был едва различим. Его местоположение определялось по синим огням, время от времени вспыхивавшим на вершинах пирамидок.
– Рад, что вы снова навестили нас. Еще раз простите за доставленные неудобства.
– Да ладно, я сам виноват… – Если бы мог, Огюст расшаркался бы и потупил взор. Угораздило же вломиться в Грядущее пьяным в стельку! Что подумают потомки о буйном предке?! – Знаете, я вас не вижу. А вы меня? Как вы определяете, что я уже объявился?
– Мы не видим вас. Мы вас ощущаем. Если вы, к примеру, работаете в лаборатории, вы ведь заметите, что… – глаз задумался, подбирая слова. Казалось, Переговорщик лабораторию представлял совсем иначе, чем гость, – что в помещение кто-то вошел?
– Человека – замечу. Призрака – вряд ли.
– Да, пример неудачный, – вздохнув, согласился Переговорщик. – Хорошо, зайдем с другого боку. Как по-вашему, электрический ток – материален?
– Разумеется!
– Но ведь вы его не видите, верно? Как вы определите наличие тока в проводнике?
– По запаху.
– А, вы шутите! – догадался глаз. – Очень смешно. А если всерьез?
– При помощи гальваноскопа. Или по отклонению магнитной стрелки.
– Отлично! Теперь представьте, что гальваноскоп или компас – один из ваших биологических органов. Вам не нужно смотреть на приборы, чтобы определить: рядом объявился новый источник электротока. Вы это просто чувствуете.
– Компас – мой орган? Очень интересно…
Складывалось впечатление, что два философа – бестелесные Сократ с Платоном – прогуливаются меж тропических деревьев, ведя познавательный разговор. Огюст словно оседлал пони-невидимку, повинующегося мысленным приказам всадника-призрака.
Подарить, что ли, идею мэтру Дюма для пьесы?
– Хорошо, наличие тока определяют приборы. А наличие… э-э… в смысле, присутствие души? Она что, тоже…
– Конечно! Материя существует не только в виде корпускул.
– Атомов?
– Да. Атомов и еще более мелких частиц. Каждая частица одновременно является волной. Корпускулярно-волновой дуализм… Ох, простите! В ваше время эта теория еще не создана. Но само понятие электромагнитных волн Фарадей ввел как раз в 1832 году! Если совсем просто: любому вещественному объекту соответствует определенная волновая структура, невидимая глазом. Сложнейшую композицию излучений человеческого организма и можно назвать душой. Волновая матрица личности. В вашем хроносекторе нет приборов, способных ее зафиксировать. А мы умеем воспринимать и корпускулярный, и волновой диапазон.
– И для этого отращиваете себе новые органы?!
Бурлящая жижа, глаз на стебельке, крылатый «демон»; морская тварь исчезает в тошнотворной массе… Люди ли вы, потомки?! – в очередной раз задал себе вопрос Шевалье и не нашел ответа.
Пальмы остались позади. Они выбрались на берег океана. У горизонта по аквамариновой глади скользила темная черточка. Молодой человек вгляделся – и море рванулось навстречу. Казалось, услужливый лакей подал Огюсту подзорную трубу.
Исполинский корабль рассекал волны, оставляя за собой узкий пенный след. Несомненно, это было творение рук человеческих: спиральные башенки, паутина черных проводов, обтекаемые формы надстроек… В то же время корабль напоминал восставшего из глубин библейского Левиафана. Ни парусов, ни мачт; дымящих труб или гребных колес тоже не наблюдалось. Корпус, уходя в воду, лоснился мокрой кожей. По ней часто пробегали неприятные судороги. Неожиданно «корабль» изогнулся всей своей тушей, меняя направление, плеснул хвостом – да-да, мощным китовым хвостом! – и с невероятной скоростью понесся за горизонт.
Шевалье и без встроенного в задницу биокомпаса почуял: Переговорщик с интересом наблюдает за реакцией гостя.
– Новые органы? – как ни в чем не бывало продолжил глаз. – Да, и их тоже. Но не это главное. Все дело в балансе: «волна – корпускула». Мы способны его регулировать. То, что вы называете «душой», – по большей части волновая структура, а тело – по большей части корпускулярная. С появлением хромосомных вычислительных машин это различие перестало быть существенным. Мы научились изменять свои тела, сливать их воедино, воспринимать волновой диапазон непосредственно, общаться в нем…
– Сливать воедино? Этот ваш лабиринт с блевотиной?..
Шевалье с омерзением покосился в глубь острова.
– Экий у вас буйный ассоциативный ряд! – деликатно хихикнул собеседник. – Вы правы, это и есть мы. Объединенные плоть и разум; если угодно – тела и души. В любой момент каждый из нас волен вырастить из общей биомассы индивидуальное тело и разорвать солитонно-волновой контакт.
– Но зачем вам это?!
– Разве в ваше время ученые не работают сообща?
– Да, конечно. Но…
– Вот и мы работаем в коллективе. Лабиринт – это исследовательская лаборатория. А «блевотина», как вы остроумно изволили выразиться, – коллектив сотрудников. В ваше время ученые, чтобы обменяться идеями, собирались в одном месте. В наше время они объединяются в общую биологическую структуру. Поверьте, это намного эффективнее.
«Эффективнее? – Огюст представил себя, растворенного в одной ванне с Кювье, Галуа и Фарадеем. – Кровь Христова! Мы бы такого набулькали! А потом приходят Якоби с Гауссом – и прыг к нам…»
– Над чем вы… э-э… работаете? – осторожно поинтересовался он.
– А вы уверены, что готовы услышать ответ? Боюсь, что нет. То, что вы видите, до сих пор вас шокирует. Значит, имеет место подсознательное отторжение, «футур-шок». Если я отвечу сейчас – вы можете понять меня превратно. Увы, имелись случаи…
На баррикадах было проще, подумал Шевалье. Взять бы ружье на изготовку, поставить хитроумного Переговорщика к ближайшей стенке и спросить в лоб: скрытничаете, гражданин потомок? Запираетесь? А ну-ка излагайте: что у вас в небе за черные ромбы летают? «Накопители душ», да? Зачем вам наши души? Для чего вы их копить собрались?
Так ведь не ответит. Растечется по стенке: стреляй, не стреляй…
– Ладно, буду привыкать. Как насчет более обширной экскурсии? Я ведь, кроме пальм, моря и этой вашей лаборатории, ничего не видел. Или у вас везде так?
– Ну что вы! Уверен, вам… понравится… – голос глаза слабел. – Адаптации это будет… способствовать… извините, мы вас теряем…
Дальнейшие слова утонули в вое бурана. Песок вздыбился, закручиваясь спиралью. Не песчинки – мириады шестиконечных снежинок роились вокруг Шевалье, складываясь в штопор Механизма Времени.
«Дурак я, дурак! – успел подумать молодой человек. – Надо было спросить: где жила в Петербурге осенью 1832-го баронесса Вальдек-Эрмоли! А вдруг сохранилось в архивах…»
Сцена третья Рисуй, Орловский, ночь и сечу![5]
1
Зеленое стекло брызнуло во все стороны. Осколки, отрикошетив от прочной кладки, со звоном упали на пол. Аминь бутылке!
– Еще, панове?
Князь Волмонтович без особой спешки опустил руку с пистолетом. Оружие было чужим, непривычным; отдача эхом гуляла в плече. Двое, стоявшие у двери, – плечистый и худосочный, – переглянулись. Тот, что пожиже, кивнул, явно желая продолжения. Но его сосед внезапно хмыкнул и огладил пышные седые бакенбарды.
– Не стоит, пожалуй, – плечистый шагнул вперед. – Князь, ваше искусство выше всех похвал. Бардзо добже! Панове, самое время подняться наверх. Там тоже будут бутылки, но, слово чести, не пустые. Вы нас поразили, князь, только и мы вас удивим. Такого вина вы не пили нигде!
– Даже в Париже? – усомнился Волмонтович.
– Что Париж! В раю – и то не поднесут!
Усмехались полные, сочные губы. Ноздри большого породистого носа с наслаждением втягивали воздух, словно дышали теплыми ароматами Италии, а не сыростью промозглого Санкт-Петербурга. Взгляд глаз-вишен лучился радушием. Гостя развлекали от чистого сердца, истинно по-шляхетски. Побились на саблях, бутылки пулями покрошили; теперь к вину приступим… Князю вспомнился Марко – лихой гайдук из его четы. Такой же был веселый и улыбчивый, душа-парень. И убивал со смаком, ухмыляясь и отпуская немудреные шутки. Времени хватало – жертвы Марко умирали долго, радуя и выдумщика, и благодарных зрителей.
Арам-баши Казимир Черные Очи пыток не одобрял. Запрещал, карой грозил; кое-кого избил в хлам за непокорство. Но разве за всем уследишь?
– А стреляете вы, князь, славно, ой, славно! У нас в отряде под Рацлавицами тоже один мастак был. За сто шагов гусар из седла вышибал. На траву валились – что твои тетерева!
Сухо поклонившись в ответ, Волмонтович в очередной раз пожалел, что ввязался в это темное дело. Никаких заслуг он за собой не числил. Пустая бутылка – не царский гусар. Если и была трудность, то в оружии. Молчун-слуга – глухонемой? – каждый раз подавал новый пистолет. Начал с дуэльных – тяжелых «кюхенрейтеров»; закончил седельными «туляками», из тех, что берут в дорогу опытные путешественники.
Может, в этом и задумка?
Стрелять многие умеют. А с незнакомым оружием совладать, всадить пулю без пристрелки – пусть не в человека, в бутылку – одного искусства мало. Тут чутье требуется. Пистолет не во всякой руке арию запоет.
– Милости прошу, ясновельможные! Интересно, князь, а вино вы сумеете на вкус распознать? Наверх и налево, пожалуйста! Ступеньки, ступеньки!..
Вообще-то хозяин дома в силу скромного происхождения не имел права звать гостя как равного – просто князем. Должен был титуловать с уважением: «ваше сиятельство». Дружескую фамильярность Волмонтович позволял немногим; например, полковнику Андерсу Эрстеду, сыну аптекаря.
Холера ясна! – что же, теперь позволить и сыну корчмаря?
Подумал князь, еще раз подумал, цыкнул на свой гонор – и решил не заострять вопрос. Куда уж острей? И так по бритве ходим.
Петербург он знал скверно. Невский проспект и соседние улицы – еще так-сяк. Но за серой, вечно угрюмой Невой для Волмонтовича начиналось Тридевятое королевство. Кажется, район назывался Каменный остров. Ничего особенного, только вместо многоэтажных громадин с безвкусной лепниной на фасадах – аккуратные домики среди жидких садов. Улицы, впрочем, остались прежними – ровными и прямыми, как шеренги солдат на параде в высочайшем присутствии.
Прав, сто раз прав Адам Мицкевич, ненавистник царской столицы! «Всё скучной поражает прямотой. В самих домах военный виден строй…»
– …Рим создан человеческой рукою, Венеция богами создана, Но каждый согласился бы со мною, Что Петербург построил Сатана.То, что без пана Нечистого не обошлось, князь понял, когда карета, в которой его везли, остановилась возле скромного особняка. Дом как дом, копия соседей – желтая штукатурка, красная немецкая черепица, литая калитка из чугуна ведет в сад.
Зато хозяин – плечистый здоровяк с седыми бакенбардами…
Письмо Чарторыйского, привезенное князем из Парижа, было адресовано «Мonsieur А.». В тексте также не фигурировало никаких имен. Предосторожность разумная, но Волмонтовича устно предупредили, с кем он будет иметь дело. Доверенным лицом «польского короля де-факто» в Северной Пальмире был человек, чье имя действительно начиналось на «А», – Александр Орловский. О нем князь слыхал, да и немудрено – «Мonsieur А.» числился в людях известных.
Волмонтович даже подумал, что резиденту следует жить скромнее.
Сын корчмаря из провинциального Седлица, Орловский с юных лет возлюбил двух прекрасных панёнок – Живопись и Войну. С первой его свела княгиня Изабелла Чарторыйская, случайно увидав рисунки молодого Александра. Паренька отправили в Варшаву, в мастерскую Норблина, придворного живописца Чарторыйских. Там Орловский и познакомился с будущим «королем де-факто», князем Адамом. Учение шло успешно – пейзажи, натюрморты, верины. Но более всего начинающему живописцу нравились батальные работы – походы и сражения. Гусары в атаке, уланы с пиками наперевес, огонь бивачных костров. Он словно кликал панёнку Войну; манил о свидании, звал быстрыми взмахами свинцового карандаша…
Вызвал!
Война не стала томить верного поклонника. Над гибнущей Польшей ударил набат – Тадеуш Костюшко звал соотечественников под свои знамена.
Восстание!
Орловский поклонился нежной панне Живописи, поцеловал ей белые ручки – и сел на коня. Он стал уланом, как и сам Волмонтович двадцать лет спустя. Герой мчался на встречу со своей любовью. Панёнка Война улыбалась кавалеру сквозь пороховой дым.
– Уланы, уланы, Малеванны дети, Не одна панёнка Попадет к вам в сети…Под Рацлавицами уланы атаковали батарею пушек. Картечь ударила в упор – первый поцелуй возлюбленной. Орловский выжил, отплевался кровью; скрипнув зубами, перенес страшную весть о падении Варшавы и плене Костюшко. Прощай, свобода!
Польша, прощай!
От кандалов и Сибири спасло негласное заступничество покровителя – слово князя Чарторыйского тогда еще имело вес. С горя художник ушел в загул, скитался, пристал к труппе бродячего фокусника; затем опомнился, внял уговорам – переехал в Петербург, где возобновил роман с панной Живописью. Он по-прежнему рисовал уланов и гусар, сражения и бивуаки повстанцев, гордые лица полководцев. Романтизм входил в моду, рисунки шли нарасхват. Опекун художника Чарторыйский набирал силу, заведя дружбу с тезкой Орловского – цесаревичем Александром Павловичем, а также с его братом, великим князем Константином, «другом поляков».
Ходили слухи, будто сыновья императора поклялись на иконе Божьей Матери – восстановить Польшу. Вот станет Александр императором, разберется с российским хаосом, даст крестьянам свободу…
Возлюбленные панёнки не обманули, щедро наградили своего рыцаря. Орловский стал знаменит, вышел в академики. Комнаты в Мраморном дворце, выставки, щедрые гонорары, восторги и хвалы. И панна Война была рядом – согревала жарким дыханием. Дважды поднималась Польша, пытаясь отвоевать утерянную свободу. Последний раз – недавно, в 1830-м. Чарторыйский уже тянул руку к древнему венцу Пястов…
Не сложилось.
Видать, мало молились поляки Черной Богородице Ченстоховской. Пали красно-белые знамена, загремели стальные кандалы. Вместо мечтателя Александра на русский престол воссел жестокосердный Николай. Пушками расчистил путь к власти. Великий князь Константин отсиживался в Варшаве, забыв все обещания, данные друзьям-полякам. А потом и его не стало – в разгар восстания холера забрала царского брата. Поговаривали, холера та была в больших чинах и при хорошей должности.
Слишком многим мешал цесаревич Константин.
После его смерти Орловский лишился службы и крова над головой. Шептались, что художник, мужчина в летах, серьезно болен. Князь Чарторыйский, отправляя Волмонтовича в Россию, особо просил справиться о здоровье «Мonsieur А.».
Навести в Петербурге справки несложно. Услужливый половой в Демутовом трактире, куда Волмонтович заглянул на часок, сообщил, что «Орловский, который академик и рисует», тяжко захворал еще в мае, съехал с казенной квартиры и пропал. Вроде бы даже помер.
Где отпевали? – говорят, в костеле Святой Екатерины.
Где похоронили? – говорят, на Выборгском кладбище, где католики…
Если Сатана и не строил Петербург, то лапу когтистую определенно приложил. Возле чугунной калитки особняка на Каменном острове Волмонтовича встречал сам Александр Орловский. Ошибка исключалась – лицо художника-воина князь видел на портретах. Широкоплечий здоровяк с густыми бакенбардами, надо лбом взбит пышный кок; темные брови, пронзительный взгляд хищной птицы… Седины и морщин прибавилось – шестой десяток близился к завершению, – но о болезни не шло и речи. Более того, проводив гостя в маленькую залу, пан Александр предложил размяться по случаю холодного утра. Две сабли, старинные «корабелки», были уже приготовлены. Потом они спустились в подвал, и слуга выставил первую бутылку.
Ogień! Рierwszy… Drugi…
Огонь! Третья…
Расшибая беззащитные скляницы, Волмонтович прикидывал: следует ли спросить пана Орловского о панихиде и Выборгском кладбище? Рассудил: не стоит. Чарторыйский не ошибся в старом друге. Кто станет следить за тяжко хворым, а тем паче – покойником? Знакомым же легко объяснить, что беспокоились они зря: на Выборгском похоронили другого Александра Орловского римско-католического исповедания. Имя и фамилия не редкие, спутать просто…
Задумка была хороша. Именно это и смутило. Александр Орловский дружил с Живописью и Войной. Казимир Волмонтович был не разлей вода с Вражьей Молодицей – той, что берет в плен храбрейших уланов. И отчетливо слышал ее шепот.
Ясновельможная панна Smierć гуляла рядом. Не поймешь, за кем пришла, по чью проклятую душу…
2
– «Асу», токайское. Если поставщик не врет, с самой Токай-горы.
– Этим вы меня не удивите, пан Орловский. – Волмонтович отставил бокал, не почувствовав вкуса. – У меня были кое-какие дела в Трансильвании. Там токай, даже наилучший – не редкость. Гордость Венгрии!
– России, пан Волмонтович, – уточнил пан Пупек. – Виноградник на склоне Токая куплен царем Петром больше века тому назад. Даже Токай под москалями.
На худосочного пана Пупека князь вначале и внимания не обратил. Принял если не за лакея, так за дворецкого. Немудрено – сам Пан Бог распорядился, чтобы пана Пупека в упор не замечали. Телом тощ, лицом неказист, голосом тих. Разве что фамилия завидная, без смеха не выговоришь. Господин Пупок, мелкая фитюлька рядом с грозным Орловским.
Только в зале, за вином, Волмонтович начал понимать, что не всяк пуп – прост.
– Европейцы слишком поздно замечают опасность, – вел далее пан со смешной фамилией. – Это, увы, традиция. Венгров они заметили, когда те уже обосновались в Моравии. И на монголов сперва поплевывали. Тогда им повезло, наши предки оказались молодцами, прикрыли от беды. А вот турки чуть не взяли Вену…
– И вновь наши подсобили, – хмыкнул Орловский. – Без короля Яна Собесского пропала бы Европа. Глядишь, до Парижа османы бы добежали. Прыткие, пся крев, что твои блохи!
Пан Пупек кивнул.
– С русскими та же история. Они-то уже брали Париж. И вновь Польша закрывает собой Европу от смертной беды. А французы с англичанами царю Николаю разве что дупу его августейшую не целуют… – Тихий голос окреп, вскипел яростью. – Видит Матка Боска! Все видит, Заступница!
Орловский встал, расправил плечи, сжал крепкие кулаки.
– Всю жизнь я посвятил борьбе за свободу Польши. Это не хвастовство, панове. На Суде Страшном мне есть чем оправдаться. Мы пробовали всё, что может изобрести разум, что подсказывали нам любовь и ненависть. Готовили рокоши и заговоры, интриговали, льстили, обольщали. Когда Наполеон взял Москву, на миг поверилось… Но мы проиграли все войны и все сражения. Не стану спрашивать – почему. Спрошу иное: как действовать дальше? Вас не зря прислали из Парижа, князь. Что нам делать?
Волмонтович почувствовал себя самозванцем, Отрепьевым, которого его гоноровые предки пытались впихнуть на московский престол. От него ждут совета? Не скажет ли пан зацный, только что из Парижа, как нам матку Польшу из праха поднять?
– Я – армейский надпоручник, панове, – взвешивая каждое слово, начал князь. – Вам же нужен скорее фельдмаршал или гетман коронный. Могу лишь пересказать, что слыхал от его милости Чарторыйского. Все он мне поведал или малый краешек открыл – судите сами.
Помолчал, собрался с мыслями.
– Наши друзья в Париже и Лондоне считают, что возрождение Польши возможно лишь после военного разгрома Российской империи. Для этого уже сейчас следует создавать основы будущей коалиции – и широко пропагандировать наши идеи среди европейской общественности. Лозунг «Свобода Польше!» должен быть на слуху у каждого, кто считает себя цивилизованным человеком…
Да, именно так рассуждал «король де-факто». Да, Лондон и Париж приняли решение о подготовке всеевропейской войны против варварской России. Поляки в их раскладе – колесная спица, но спица острая. Борьба за Вольную Польшу объединит всех – и крикунов-революционеров, и пугливых либералов, и мудрых консерваторов. Невидимые колеса вертятся, невидимые часы отсчитывают время, оставшееся до первых залпов.
Чарторыйский сказал своему курьеру многое. Сам же Волмонтович не спешил откровенничать с новыми знакомыми. Об Орловском он по крайней мере наслышан, а вот невзрачный пан Пупек оставался загадкой. Мало ли? Лишним ушам ни к чему слышать о таинственном «Клабе», взявшем на себя координацию будущего похода, о планах создания «твердой власти» во Франции взамен скомпрометированного режима короля-гражданина, о козырной «турецкой карте», которую предстоит бросить на стол в решающий момент. Им, полякам, помогают – этого достаточно.
Кто помогает?
Само собой, иезуиты. У Черного Папежа к России нежная любовь. Не верите? Ну тогда масоны – эти всюду пролезут. Говорят, даже на Северном полюсе открыли для самых-самых избранных Арктическую ложу – «Полярная звезда» называется.
Вопросов, впрочем, не задавали. Орловский слушал, не пропуская ни звука. Глаза горели темным огнем, костяшки на сжатых кулаках побелели. Пан Пупек остался невозмутим, как манекен в модной лавке. Взгляд в мировое пространство, подбородок вздернут, словно пану-грубияну приспичило харкнуть в лепной потолок. Безликий скучал. Студент университета забрел к школярам, постигающим азы наук. Дважды два – четыре…
Похоже, про закулисный «Клаб» он знал больше Волмонтовича.
– Подготовка займет лет пятнадцать-двадцать, – подвел князь итог. – Эти годы не должны пройти даром.
В ответ прозвучал тяжкий вздох.
– Пятнадцать? Двадцать? – Орловский провел широкой ладонью по лицу. – Не доживу, не увижу. Холера, жаль! Вы правы, князь. Время не терпит отлагательств. В письме говорится о посылке наших агентов в Киев, Вильно и Минск…
– И в Петербург, – уточнил пан Пупек.
Следовало лучше думать, соглашаясь на роль гонца, понял Волмонтович. Вражья Молодица, незримо стоявшая у стола, с одобрением кивнула, улыбнулась жарким ртом. Или ты, хлопец, думал, что меня минуешь? Ой, зря думал! От меня сам Калиостро не убежал со всеми его чудесами египетскими. А ты, надпоручник, считай, второй срок по земле ходишь.
Не жирно ли будет?
Накатил страх – такой, что смерти пуще. Собрал князь силы в единый узел, выдохнул:
– Захрестили мы смерть, захрестили старую, До завтра, до пислязавтра, до свитлого свята…Беззвучно двигались губы, роняя слова древнего заклинания, прозрачные до немоты. Услыхал он их в детстве от бабки-ворожеи. Память у мальчонки, что грифель у Орловского, – ошибок не ведает. Не знал лишь маленький Казимир, что пригодится ему бабкино наследство – ой, пригодится!
– Смерть, выйди геть, Выйди з нашего села…Отпустило, хвала Пресвятой Деве. Собеседники ничего не заметили – задумались. За рубежом коалицию сколачивают, смерть Империи куют. А им чем заняться?
– Послал я двух верных парней в Малороссию, – заговорил Орловский. – По селам проехаться. Наречие хохляцкое им ведомо, за поляков не примут. Послушают, о чем хлопы толкуют, да и прикинут: можно ли тех хлопов на рокош против царя поднять? «За нашу и вашу свободу!» – такие слова дорогого стоят. Отняли москали у хохлов вольности казачьи, на панщину погнали. Есть у меня один сорви-голова на примете – Устим Кармалюк из-под Каменца. Заризяка, из Сибири сбежал, кандалы порвал. Таких бы Кармалюков с дюжину!..
– Этого мало! Мало!
Умолк вояка-художник. Пан Пупек же сверкнул ледяным глазом. Куда только скука девалась?
– Панове! Европейская или нет, война нам не поможет. Наполеон уже брал Москву – и что? Мы тоже приходили в Москву двести лет назад, сажая на русский трон Владислава Вазу. Мы были сильнее, грамотнее, богаче. Но победили не мы – и не круль Бонапарт. Не пора ли сделать выводы?
Он оглядел присутствующих, ожидая ответа.
– «Не ходи на Москву!» – Волмонтович отпил еще глоток токайского. – Карл Клаузевиц сказал, что в Книге Войны эту заповедь должно записать на первой странице. Россию следует бить на окраинах, чтобы хлопы-рекруты не понимали, зачем царь их туда послал. А еще лучше за границей, под Аустерлицем или Фридландом…
…Или в Турции, подумал он. Под Карсом и Плевной, среди голых холмов, где хорошо живется лишь холере. Но про «турецкую карту» решил пока молчать.
– Именно так, – согласился пан Пупек. – Вы правы. Нельзя делать русских жертвами и героями, нельзя будить народ. Героями и жертвами должны быть мы, поляки. Пока москаль спит, Империя не страшна. Дряхлые мушкеты, парусные фрегаты; уральские заводы поставлены еще при Петре. Империя – не народ! – не выдержит напора, если сюда придет Европа. Удар по Финляндии, освобождение Польши, высадка в Крыму, на Камчатке; бунт в Малороссии и в Белой Руси… Надо отбросить Империю в Азию, оставив наедине с кочевыми ордами. И это можно сделать, панове!
Был пан скучен, стал страшен. Ликом прежний, голосом – тот же, а приглядишься, и дрожь по хребту. В Трансильвании князь точно бы уверился – упырь, мертвяк без погребения.
Чур меня, чур!
– Россия идет вперед семимильными шагами, – вел дальше пан Пупек, нимало о своем упырстве не подозревая. – Заложены на верфях первые пароходы. Принято решение о строительстве железных дорог. Со всей Европы сманивают лучших специалистов. Я уже не говорю о школах и университетах. На днях состоится открытие филиала Общества по распространению естествознания. «Свадебным генералом» приглашен ученый варяг, брат самого Эрстеда. Через двадцать лет Россия станет закованным в сталь монстром…
– Не станет.
Все как есть переменилось. Пан Пупек только что не горит и пар из ушей не пускает. Орловский же спокоен и тверд, будто сталь.
– К нашему великому счастью, панове, – не станет. При царе Петре страна разделилась на новых и старых. Последних – море, первых – горсть. Большинству русских не нужны пароходы и научные общества. Они их ненавидят. На что православная церковь послушна трону, но и она выступает против школ. Александр Пушкин, мой хороший друг, как-то сказал: правительство – единственный европеец в России. Он ошибся – министры с фельдмаршалами тоже не желают перемен. Сегодня построят завод, а завтра придется освобождать хлопов, чтобы было кому работать на том заводе…
Художник оправил фрак. Жестом остановил пана Пупека: я не закончил!
– Не правительство опасно. И даже не ужасный шут Бенкендорф с его жандармами. Только один человек способен вести Россию в Европу – и против Европы. Он велит строить пароходы, приглашать ученых и открывать секретные лаборатории. Не делай он этого – Россия оставалась бы сонным ленивым медведем. Без него страна остановится. Преемник молод, а родичи слабы и враждуют…
– Чтобы погубить корабль, не обязательно брать его на абордаж, – поразмыслив, согласился пан Пупек. – Достаточно выбросить за борт капитана.
– А знаете, панове, – Волмонтович глянул на бутылку с токайским, словно хотел пальнуть по ней из пистолета. – Был у меня приятель, ротмистр Джигунский. Занесло его как-то под Аустерлиц, на высоты Праттена. Москалей там крепко потрепали, это всем известно. Но не все знают, что царь Александр в тот день едва не угодил в плен. Его отбили казаки, хотя Джигунский, если верить ротмистру, уже держал пана царя за ворот. Я спросил, отчего он Александра не зарубил, раз уж в полон взять не удалось. А ротмистр губу кривит: «Кому он, царишка, нужен? Рубить всяких…»
– Александр нам не мешал, – рассмеялся Орловский. – Он был нерешительней пана Гамлета, на нем играли, как на флейте, все, кому не лень. С таким царем можно было спокойно готовить воскрешение Польши. Его брат Константин нам даже помогал. Проживи он чуть дольше – кто знает? Но этот, нынешний…
Называть вслух имя не требовалось. Палача и губителя Отчизны знал каждый поляк – и каждый проклинал. Боже, покарай krwawy pies, царя Николая! Матка Боска, отвернись на миг!
– Смерть тирану!
В три голоса выдохнули – дружно, страшно.
Вражья Молодица, четвертая в компании, равнодушно кивнула. Отчего бы и нет? В ее хороводе каждому найдется место, будь ты хоть царь, хоть пастух, хоть уланский надпоручник.
– Погодите! – опомнился Волмонтович. – Командование повстанцев в 1830 году запретило всякие покушения. Если русского царя убьет поляк… Николай станет мучеником! Начнется священная война, нам не простят его кровь и через тысячу лет. Мы не сумеем прикончить каждого москаля!
– Увы, – не без сожаления согласился пан Пупек. – Но почему обязательно поляк, дорогой князь? Император Петр Федорович, дед нынешнего, поссорился с датчанами, а убила беднягу собственная жена. Царя Павла, врага Британии, помог отправить на тот свет душка-царевич Александр. Наши друзья-декабристы были в шаге от успеха, если бы Булатович не струсил… Кто сейчас остался из царской родни?
Художник качнул седой головой:
– Мать-императрица, брат Михаил, дети… Не выйдет, панове. Бояре нынешние не чета прежним. Немцы, остзейцы – вот кто стоит у трона. Швабы не предадут. А посылать наемника опасно – раскопают…
– И закопают, – вздохнул Волмонтович. – Нас вместе с Польшей. Родина – заложница, панове. Поэтому тиран и не боится. Говорят, он ездит с малой охраной…
– Чаще вообще без охраны. – Орловский дернул себя за пышную бакенбарду. – Лишь с фельдъегерем или с тем же Бенкендорфом. Что же выходит? Поляк его убить не должен, русский – та же история; за каждым иностранцем – слежка… Тут лишь Пан Бог способен помочь.
– Решено, – не стал спорить пан Пупек. – Тирана убьет Бог. Согласны?
– Бог?!
Волмонтович решил, что ослышался.
– Вы имеете в виду несчастный случай?
– Подпилить опоры моста? – Орловский развеселился, чуть в пляс не пошел. – Дорогой князь! Все это уже проделывали без нас. И что в итоге? Царь благополучно уцелел, а дюжина тех, кого назначили виновными, отправилась за Акатуй. Русские правы, считая, что у каждого несчастного случая есть фамилия, имя и отчество. Так нас разоблачат еще вернее, чем если бы мы наняли итальянского bravo.
– Но есть случаи иные.
Пан Пупек дернул уголками рта, давая понять, что он в добром гуморе.
– Представьте, князь, что с небес упадет метеорит – прямо на темечко его величества. Да-да, метеорит, существование которых наука наконец признала. Что в итоге? Тиран мертв, а его опричники даже не знают, как объявить народу. Русские суеверны, для них метеорит – Божья кара. Государь согрешил, и Господь лично прибрал мерзавца. Значит, факт такой смерти скорее всего скроют. Геморроидальные колики, как у императора Петра Федоровича; апоплексический удар, как у его сына… Но слухи пойдут, и мы получим кроме смерти врага – осуждение всей его политики. Преемнику, юному Александру, придется с этим считаться, не так ли?
– Погодите! – Волмонтович залпом допил вино. – Вы способны вызвать метеорит из мирового эфира?
– Железный? Да! – расхохотался Орловский. – С помощью очень-очень большого магнита. Князь! Пан Пупек упомянул небесного гостя в качестве примера. Есть иные Божьи кары, не менее грозные. Как карают грешников?
– Молнией, допустим.
– Именно. Если вы задержитесь в Петербурге, мы вам продемонстрируем нашу – верней, Божью – молнию.
Казимир Волмонтович молчал. Не только из-за Вражьей Молодицы – умирал, убивал, всяко бывало. Но эти двое втягивали в кровавое дело самого Творца. Пусть лишь фигурой речи, не всерьез. Хотя отчего же? «Не поминай имени Господа Бога твоего всуе». Третья Заповедь, Синайская Скрижаль…
Заговорщики не слишком почитали Завет: и Ветхий, и Новый.
Сцена четвертая Часовщик и его голова
1
Над лестницей, ведущей наверх, парил ангел.
Задумчив, он распростер крылья, словно хотел обнять каждого посетителя. Закутать в пуховую метель, спасти от бед; не наставить – отнести на путь истинный, баюкая, как любимое дитя. В правой руке ангел держал валторну. Держи он трубу, и Апокалипсиса не миновать. А валторна – милое дело, мир во человецех.
Сбросив пальто на руки служителю, Эрстед залюбовался крылатым. Магниты, понял он. Не скрытые нити, не обман зеркал – магниты и металл, из которого ангел сотворен. Сколько же лет надо было искать точку приложения сил? Подбирать вес статуи, исполненной в человеческий рост; экспериментировать, раз за разом, уподобясь Саваофу, карающему Люцифера, ронять посланца небес на грешную землю – головой вниз, кубарем по ступенькам…
Год? Пять? Десять?!
– Позвольте ваш цилиндр, сударь…
– Что? Да, конечно…
Служитель, кланяясь, принял цилиндр. Его не смутило, что посетитель, увлечен зрелищем, ответил на немецком. За шесть лет кто только не перебывал в «Храме очарования»! – сперва на Большой Мещанской, а позже, когда возникла нужда в более просторном помещении, на Невском проспекте, в доме баронессы Энгельгардт.
Поднявшись по ступенькам, устланным багрово-рдяным ковром, на верхнюю площадку, Эрстед вздрогнул от неожиданности. Едва нога коснулась белого, с прожилками, мрамора, как ангел зашевелился. По золоченому телу метнулись блики. Еле заметно подрагивая крыльями, он поднес валторну ко рту. Металлические пальцы обласкали инструмент – с точностью, достойной виртуоза-музыканта.
«Увертюра к «Вильгельму Теллю», – узнал Эрстед по первым тактам мелодии. – Фокусник любит Россини? Забавный выбор…» Охотничья тема наводила на размышления.
Кто здесь ловец, кто добыча?
Когда он вошел в демонстрационный зал, там уже сидели десять посетителей. Затаив дыхание, они озирались по сторонам. Дамы ахали от восторга, мужчины вели себя сдержанней, показывая, что им ничего не в диковинку. Лишь плотно сжатые губы и блеск глаз выдавали возбуждение. Сам по себе зал был невелик, но система зеркал на стенах превращала его в новое чудо света. Ощущение безграничной, уводящей вдаль анфилады усиливали кубки и вазы, расставленные повсюду с особым смыслом. Их отражения, множась, создавали иллюзию музейной выставки – бронза, фарфор, витые ручки…
Собравшиеся, словно по команде, уставились на Эрстеда. Особенно усердствовал суровый господин в мундире профессора Академии художеств – с золотым шитьем по обшлагам и воротнику. Выпучив глаза, профессор аж вспотел от напряжения. Все чего-то ждали, затаив дыхание. Сделав шаг за порог, датчанин понял – чего именно. По обе стороны от входной двери стояли два лакея-великана. Приветствуя нового гостя, они склонили головы, и холодок пробежал по спине Эрстеда.
Лакеи были куклами.
Он не вскрикнул, к общему разочарованию. Хотя, проходя дальше, не мог избавиться от чувства, что куклы смотрят ему в спину – живыми, уставшими от ежедневной маеты взглядами. Взяв бокал шампанского с подноса, который предложил ему слуга-арап, Эрстед пригубил вино и сделал вид, будто с интересом изучает зал. Арап не уходил: крутился вокруг, ловко вертел подносом. Кучерявый, губастый, он лоснился, как наваксенный сапог. Сделав неудачный пируэт, слуга поскользнулся на полу, натертом воском. Никого, к счастью, не задев и не обрызгав, бокалы улетели в дальний угол.
– Ах ты, мерзавец!
Кричал старичок – мелкий и седенький. Гневаясь, он топал ногами, словно ребенок. Не дождавшись от подлеца-арапа извинений, старичок сунул руку за отворот сюртука и выхватил пистолет. «Это дурная шутка», – подумал Эрстед, машинально отступая подальше от слуги. В ту же секунду грохнул выстрел. Дамы завизжали, самая нервная упала в обморок, подхвачена суровым профессором…
Глаз у старичка был верен, а рука тверда, как у отставного военного. По ливрее арапа расползлось кровавое пятно. Захрипев, слуга упал на колени, а там и лег ничком. Короткая судорога, и тело замерло. Из-под трупа текла красная струйка.
– О Боже!
– Да что же это?.. маменька, мне дурно…
– Врача!
– Полицию!
– Не извольте беспокоиться, господа! – старичок спрятал пистолет. – Сию минуту воскресим…
Мелким бесом он подскочил к покойнику.
– Вставай, хамово племя!
Не дождавшись ответа, старичок пнул мертвеца в бок:
– Вставай, кому сказано!
Повинуясь, арап стал медленно подниматься на ноги. Рот его был оскален, снежно-белые зубы сверкали жемчугом. Двигался слуга рывками. Постепенно жесты его вновь становились естественными. Пятно крови никуда не делось, но теперь все отчетливо видели, что арап – не человек.
Автомат, на манер «маленького турка» Пинетти.
– Браво, – в наступившей тишине, такой густой, что ее можно было резать, как масло, сказал Эрстед. – Браво, мэтр Гамулецкий! Я восхищен, честное слово…
Старичок раскланялся, блестя озорными глазками.
– Вы отлично стреляете, – добавил Эрстед.
Он ясно видел дырку от пули на ливрее автоматического арапа. В «Храме очарования» все что угодно грозило оказаться иллюзией. Но эта дырка была подлинной. Если ты видел столько ранений, что иному хватило бы на пять жизней, ошибка исключалась.
– Мой отец, Марк Гамулецкий, – фокусник с гордостью подбоченился: ни дать, ни взять, герой-воробышек, – служил в прусской армии. В чине полковника, знаете ли. Пистолет – моя первая игрушка в детстве. Я починил сломанный замок «жилетника» в пять лет.
И Андерсу Эрстеду, полковнику Черного Ольденбургского полка, стало ясно, что Антон Маркович Гамулецкий никогда не воевал.
2
Дальнейшие чудеса были восхитительны. Никто из посетителей не пожалел, что выложил за вход четвертной ассигнациями – билет в ложу Александринки (на премьеру «Елены Прекрасной», да-с!) стоил пятью рублями дешевле. Купидон, точивший стрелу, привел дам в экзальтацию. Амур, взлетев из вазы, окончательно добил прекрасных зрительниц. Луку амур предпочитал арфу, ловко бренча мотивчик из фривольного водевиля.
– Ах!
– О-о-о!
– Чудо!
Часы отбивали время, повинуясь приказам гостей. На зеркальном столике танцевали бумажные фигурки. Механический кот мяукал из угла. Механическая змея, шипя, ползала между ножек стульев. Механический петух кричал зарю. Карточный пасьянс раскладывался сам собой и, что удивительней всего, каждый раз сходился.
– Маменька, смотрите!
– Всякое видел, Евграф Алексеевич. Но такого…
– Charmante!
Голова чародея, отделанная под бронзу, отвечала на вопросы. В голове без труда узнавался создатель «Храма очарования». Приплясывая рядом, словно бодрый труп, вставший после гильотины, мэтр Гамулецкий уговаривал почтенную публику спрашивать еще.
Заинтересовавшись, Эрстед спросил у головы по-немецки: какова формулировка закона Бойля – Мариотта? Голова ответила без запинки, с чудесным берлинским произношением. Тогда Эрстед перешел на французский: каковы же отклонения от сего закона? Голова, не чинясь, стала перечислять отклонения, щеголяя парижским выговором.
В ответах легко узнавались результаты исследований академика Эрстеда-старшего.
– Достаточно!
– Спросите у нее, будет ли война с турком!
– Фи, как скучно!
– Маменька, велите ей сказать: идет ли мне шаль…
Едва уговорив собравшихся потерпеть, Эрстед предпринял еще один эксперимент. С разрешения фокусника он взял голову и перенес ее к зеркальному столику, где установил рядом с бумажными танцорами. Во время переноски голова без умолку болтала на шести языках. Обождав, пока «чародей» сделает паузу, датчанин спросил:
– Что говорил о науке Конфуций?
Вопрос был задан по-китайски.
С минуту голова молчала. Зрители ждали, не мешая. Ни слова не поняв в вопросе, гости тем не менее искренне радовались посрамлению фокусника. Так толпа в цирке с замиранием сердца ждет падения канатоходца.
– Маменька, она умерла?
– Жива… моргает!..
– Тот, кто учится, не размышляя, – с ехидцей прервала молчание голова, – впадет в заблуждение. Тот, кто размышляет, не желая учиться, окажется в затруднении. Добавлю от себя: достойный муж не видит чести в посрамлении собеседника.
Окажись здесь отец Аввакум из пекинской миссии, он опознал бы фуцзяньский диалект. Впрочем, «чародей» повторил свой ответ и по-русски: для общего вразумления.
Еще полчаса восторга, и публика, возбужденно гомоня, покинула зал. Эрстед задержался. Оставшись с фокусником наедине, он дождался, пока старичок отсмеется. По щекам Гамулецкого текли слезы, он радовался, как ребенок. Неизвестно, всякий ли раз он хохотал, едва зрители уходили. Над кем смеялся фокусник, также осталось загадкой. Но Эрстед не чувствовал ни малейшей обиды.
Смех Гамулецкого был заразителен и простодушен.
– Ваше искусство выше любых похвал, – наконец сказал Эрстед по-немецки. – Нет, я предполагал, что увижу высокое мастерство… Но вы просто покорили меня.
– Пустяки, – отмахнулся фокусник. – Любой хороший механик…
– Не любой. Отнюдь не любой. Замечу, что вы во всем превзошли своего учителя. Давний спор завершился, как по мне, полной вашей победой. То, что я увидел…
Старичок оставил веселье. Черные слезящиеся глазки внимательно уставились на гостя. Чувствовалась в Гамулецком скрытая пружина. Даже когда он стоял на месте, а это с мэтром случалось редко, все казалось: вот-вот он подпрыгнет, хлопнет в ладоши и отчебучит лихую шутку.
– Учитель? – спросил Гамулецкий по-русски. – Кого вы имеете в виду, Андерс Христианович? Кемпелена с его «шахматистом»? Пинетти? Вокансона? Семейство Жаке-Дрозов? Вы уж объяснитесь, голубчик, уважьте старика…
Датчанин не помнил, чтобы сообщал фокуснику имя своего отца.
– Я имею в виду Калиостро, – он тоже перешел на русский, желая попрактиковаться. – Насколько я знаю, Антон Маркович, вы были в числе его последователей. Варшавский кружок, да?
– Насколько вы знаете… – задумчиво повторил Гамулецкий. – А насколько вы это можете знать, Андерс Христианович? Варшава, милая Варшава… Когда я вступил в «Египетскую ложу», вам, голубчик, полагаю, было годика два, не больше. Когда же я последовал за Калиостро в Париж, вам исполнилось семь. Что-то я не припомню в нашем окружении столь молодых людей…
Зеркала на стенах вдруг проявили странный характер. Создавая иллюзию пространства, они отражали все: кубки, вазы, стулья, столы, «воскрешенного» арапа, стоявшего без движения… В анфиладе залов не было одного – людей. По идее, десятка два Гамулецких беседовали бы сейчас с двадцатью Эрстедами, когда б не упрямый норов зазеркалья.
Там и раньше никто не отражался, вспомнил датчанин. Только куклы, не люди. Как же он это делает?
– О вас и Калиостро мне рассказывал барон фон Книгге.
– Филон? – фокусник назвал фон Книгге старым иллюминатским прозвищем. – Охотно верю, голубчик. Ваш барон отличался редкой болтливостью. Он всем рассказывал про всех и ухитрялся извлекать из этого сугубую пользу. Обычно это приводит к неприятностям, но не у Филона. И что же он вам поведал о нас с Калиостро?
Последняя фраза была произнесена с нескрываемой иронией. Ему восемьдесят лет, подумал Эрстед. Святой Кнуд! – ему восемьдесят лет, и он бодр, как юноша. В Варшаве Калиостро торговал «эликсиром молодости»… Нет, это невозможно!
– Фон Книгге утверждал, что вы поссорились с его сиятельством, – на иронию датчанин ответил иронией, помня, что графским титулом Калиостро наградил себя сам, желая ни в чем не уступать конкуренту, графу Сен-Жермену. – Дескать, вы побились об заклад, что повторите все кунштюки мага, не прибегая к египетской лжи и дурно пахнущей трисмегистике. Механика, физика и толика ума. Маг обиделся и предрек вам поражение. По словам фон Книгге выходило, что Калиостро даже в тюрьме Сан-Лео, больной и сопротивляющийся яду, сохранил величие духа…
– А я? – расхохотался Гамулецкий. – Я, значит, на свободе и не сохранил?
– Прошу извинить меня, мэтр. Барон сказал, что вы – часовщик.
– Этим он желал оскорбить меня? Ах, Филон, Филон…
Эрстед почувствовал, как холодок бежит у него по спине. Он ясно видел, что Гамулецкий не произнес ни слова. Сокрушенный вздох «Ах, Филон…» раздался у датчанина за спиной. Обернувшись, Эрстед заметил, как шевелятся ярко-красные губы у головы «чародея», забытой на зеркальном столике. Бледность воскового лица, повторяющего черты фокусника, оттенялась зеленой, как свежая трава, чалмой.
– Да, я часовщик, – продолжила голова, не смущаясь вмешательством в чужую беседу. – Но я – превосходный часовщик. Желаете послушать мою кукушку? Гните угол,[6] и добро пожаловать! Шестеренки, колесики, рычаги, и никаких, прости Господи, магистериев…[7]
«Чародей», в отличие от живого Гамулецкого, был брюзгой и циником.
– Хотите чаю? – погрозив голове пальцем, фокусник сменил тему разговора. – Никита! Чаю нам в залу…
Обращаясь к лакею-невидимке, он не повысил голоса. Но Эрстед не сомневался, что таинственный Никита явится без промедления, как джинн, вызванный из медной лампы, и принесет все необходимое. В ожидании чая Гамулецкий вприпрыжку расхаживал от стены к стене, забыв о собеседнике. Датчанин не мешал ему. Наблюдая за старичком, похожим на птицу в поисках крошки хлеба, Эрстед вспоминал давний разговор с фон Книгге. В те дни они уже успели поссориться из-за Месмера, чье «пагубное» влияние отдалило ученика от учителя. Но полный разрыв маячил впереди.
В истории, рассказанной Эминентом, крылся намек. Близость, а позже – ссора Калиостро и Гамулецкого во многом повторяла историю отношений фон Книгге и Эрстеда.
– Часовщик, – ворчала голова, пока Никита, бородатый детина в ливрее, войдя в зал, расставлял на втором столике чашки, блюдца и пузатый самоварчик. Болтовня головы лакея не беспокоила: видимо, привык. – А кто тогда Калиостро? Аптекарь? Вот ваш батюшка, Андерс Христианович, он был аптекарь, и знатный аптекарь. Небось не прописывал «халдейскую жижицу» вместо пилюль от запора…
Фокусник хихикал. Обида головы его забавляла.
– Десять лет, милостивый государь мой! Десять лет я трудился, чтобы найти точку и вес магнита и железа, дабы удержать ангела в воздухе. Помимо трудов немало и средств употребил я на это чудо. Часовщик…
– Хватит! – прикрикнул фокусник. – Постыдись!
– Нечего мне стыдиться, – огрызнулась голова. – Пусть враги мои стыдятся…
И умолкла.
– Присаживайтесь, голубчик, – Гамулецкий энергично взмахнул рукой. Так предлагают бежать наперегонки, а не чаевничать. – Никита с китайской травкой «на ты». Заварит лучше, чем в Пекине. Вы бывали в Пекине?
– Бывал, – Эрстед присел к столу.
– Вот и расскажете старику, каковы нынче мандарины…
3
Петербург – не Пекин, даром что оба – северные столицы. Зеленому чаю здесь предпочитали черный. Как с первой минуты заявил фокусник: «Черные чаи по натуре и по образу приготовления здоровее для русского сердца!» И налил гостю полную чашку – не в пример китайским малюткам, рассчитанную на голиафа.
Никита расстарался на славу. Лоснились поджаристые бока калачиков. На особом блюдце лежал колотый сахар. Блестя зеленой горкой, манило крыжовенное варенье. Эрстед кинул в рот кисло-сладкую ягодку и зажмурился.
Вкус был божественный.
– Брали у Аничкова моста, в лавке купца Белкова, – рассказывал Гамулецкий, вспотев, словно от долгого бега. Щеки и лоб он промокал клетчатым платком, огромным, как полковое знамя. – Цыбик[8] чаю, прости Господи, в пятьсот рублей встал. Рассыпали его, вышло шестьдесят фунтов. Жить можно, отчего не жить…
– Можно, – поддакивал Эрстед, косясь на молчаливую голову.
Ей фокусник чаю не предложил.
– Китайцы-хитрованы красят чай прусской синькой. Травят нашего брата. Тут глаз да глаз нужен: смотри, что берешь…
– Зачем?
– Что – зачем?
– Зачем синькой красят?
– А для красоты, – уверенно заявил фокусник. – Народ копеечку за пользу платит, а гривенник – за красоту! Ради барыша родимую мамку в эфиопа разрисуешь…
И вновь сменил тему, будто маску скинул:
– У меня к вам, Андерс Христианович, просьба есть. Вы, насколько мне известно, в химической науке зело сведущи. И явились к нам по приглашению Технологического института. А я с Технологическим давно вот так…
Он ударил пальцем о палец, показывая, как близко сошелся с институтом.
– Государь наш намерен вскоре обнародовать «Положение о Корпусе горных инженеров». А это значит, что при институте будет учреждена Горная школа. Наберут детей чиновников, рожденных не во дворянстве, главнейшим образом из заводских нижних чинов и мастеровых. И станут растить кондукторов для службы по механическо-строительной части. Спрóсите, на кой им я занадобился, а того паче, вы, голубчик? Так я отвечу, не чинясь…
Блестя молодыми зубами, Гамулецкий схрупал кусок сахара.
– Взрывчатка, милостивый государь мой. Самое оно – хоть для горного дела, хоть для производства веселых фокусов! Я в таких вещах кое-что смыслю. Порох – старье, пустая забава. Мы с вашим почтенным братом давно в переписке на сей счет состоим. И вот сподобился: пишет мне академик Эрстед, дай ему Бог всяческого здоровья, про хитрую штуку – ксилоидин. Дескать, ему помощник из Парижа все подробно отписал: что да как. Опыты профессоров Браконно и Пелуза – в изложении юного медика, господина Собреро. Ну, я – калач тертый, мне любого черта рукой потрогать надо. Проверил в мастерской…
Эрстед слушал с интересом. Он не знал, что Торвен отослал брату рецепт новой взрывчатки. «Пожалуй, – усмехнулся он, – наш хромой юнкер и в аду исхитрится отправить в Копенгаген чертежи дьявольских котлов. По серному телеграфу…»
– Славная штука, – продолжал меж тем фокусник. – Горит лучше пороха. Жаль, нестойкая. Думал повозиться, к делу приспособить, а тут вы, голубчик… Не поможете старику? Ваш-то опыт, да к моим забавам… Великое дело сотворим!
– Посрамим Калиостро? – не удержался Эрстед.
Гамулецкий замолчал. Сейчас он выглядел на все свои восемьдесят. Это не походило ни на дряхлость, ни на болезнь. Из фокусника будто вынули пружину, как из бесенка, спрятанного в табакерке. По-прежнему бодрый и румяный, он вдруг сделался человеком прошлого века. Стена времени встала между полковником Эрстедом и коллежским регистратором[9] Гамулецким – учеником барона фон Книгге и учеником графа Калиостро, – разделив их явственней тюремной решетки.
– До сорока лет, – отставив чашку, сказал фокусник, – я вел жизнь довольно рассеянную и не всегда правильную. Обладая некоторыми средствами, я мог себе это позволить. Если что-то и было в моей молодости хорошего, так это знакомство с Джузеппе Бальзамо.[10] Для людей я – ничуть не меньший мошенник, чем он. Поверьте, голубчик, это так…
Эрстед улыбнулся.
– Позвольте вам не поверить, Антон Маркович. Я все-таки различаю ученого и шарлатана. Инженера и авантюриста. Или, если угодно, физика и колдуна.
– У вас слабое зрение, – ответил Гамулецкий. – Вот я голубчик, никогда не нуждался в очках. Колдовство – это непонятная для зевак физика. А физика – колдовство, объясненное профессорами. В моем споре с Калиостро мы оба проиграли. Спор – это всегда проигрыш. А уж война – всегда поражение. Даже если одного спорщика задушил в тюрьме надзиратель, а второй открыл «Храм очарования» для забавы почтенной публики.
– Ты не часовщик, – буркнула голова чародея, о которой Эрстед успел забыть. – Ты баснописец. Тебе бы, Антоша, мораль под ослов с мартышками подводить. Осел был самых честных правил…
Старичок хмыкнул и взял калачик.
Сцена пятая Случай шаток, опыт обманчив
1
– Не пора ли спать, дитя мое? – спросил Эминент.
Долговязый, нескладный в ночной сорочке из батиста, смешной в ночном колпаке, натянутом на лоб, он топтался в дверях. Ни дать, ни взять, пожилой, обремененный заботами супруг явился к молоденькой женушке, рассчитывая, что этой ночью к нему придет кураж – и все получится наилучшим образом.
Спектакль разыгрывался для единственного зрителя – Бригиды.
Сидя у трюмо, полураздетая, она хорошо видела фон Книгге в зеркале. Глаза-льдинки, утиный нос, треугольник подбородка. За поведением «благородного отца» из водевиля скрывался опытный доброжелатель и надежный покровитель. Эминент действительно покровительствовал ей – как считал нужным; и желал добра – в его понимании.
Сейчас он явился без стука, ненавязчиво давая понять: кто в доме хозяин. Зачем он снял не квартиру, а целый особняк на одной из самых дорогих улиц Петербурга, Бригида не знала. Где поселились Бейтс и Ури, она тоже не знала. И откуда в доме взялась прислуга – молчаливая, два-три слова по-немецки, не более, – нет, не знала и знать не хотела.
Действия хозяина не обсуждались.
– Ты очень красива, – он сказал это без тени чувства, спокойно, будто обсуждал дорогую коллекционную вазу. – Тебе не надо чернить волосы настоем грецкого ореха. Ни к чему рисовать жилки на висках, чтобы оттенить бледность кожи. Незачем красить губы. В мое время любили пышечек, нынче в цене чахоточные. Ты хороша вне гримас моды. Я рад, что ты не отказала мне в этой поездке.
«Как будто я могла!» – молча воскликнула Бригида.
Словно подслушав, Эминент улыбнулся:
– Один человек как-то сказал, что моя любовь слишком требовательна. Дескать, я творю благодеяния с расчетливостью механизма. Не прощаю отказов. И без стеснений беру слишком большую плату. Что ж, допускаю, частично он прав. Но никто не упрекнет меня, что я дарю неполной мерой. Время идти в постель, дитя мое. Воистину сегодня ты прелестней, чем в день нашей первой встречи. Помнишь?
Баронесса кивнула, вставая с пуфа.
По странной прихоти судьбы впервые они встретились там же, где Бригида в первый раз увидела своего будущего мужа, барона Вальдек-Эрмоли, – в Вене, на приеме у князя Меттерниха. После приема был дан бал. Кружились пары, оркестр играл «Deutsch Waltzen», только начавший входить в моду, и сплетники по углам танцевальной залы хихикали, передавая друг другу слова Байрона – в гневе, увидев собственную жену, осмелившуюся на вальс с другим мужчиной, лорд воскликнул:
– О Боже! Здоровенный джентльмен, как гусар, раскачивается с дамой, будто на качелях! При этом они вертятся, подобно двум майским жукам, насаженным на одно шило…
Обычно Эминент не танцевал. Но юная полячка была восхитительна. Раскрасневшись, смеясь, отдаваясь вальсу в объятиях человека много старше ее самой, которого вскоре назовет супругом перед Господом и людьми – чтобы однажды превратить его в самоубийственный, хохочущий перед смертью костер, – Бригида зажгла огонь в давно остывшем сердце фон Книгге.
«Вы не откажете мне, мадмуазель?»
«Вам часто отказывают, мсье?»
«Никогда».
«Самонадеянный ответ. Хорошо, не буду нарушать традицию…»
Единственный танец, и они расстались.
Второй раз они встретились в Страсбурге, в местном соборе Нотр-Дам. Бригида, недавно овдовев, стояла у знаменитого «Столба Ангелов», молча глядя на изображение Страшного суда. Ни говоря ни слова, Эминент встал рядом.
Из собора они ушли вдвоем.
Крепка, как смерть, любовь, и стрелы ее – стрелы огненные. Фон Книгге разучился любить. Да и чувство это в его понимании могло бы поразить, если не ужаснуть того смельчака, кто рискнул бы заглянуть в душу бывшего Рыцаря Лебедя. Но целый день и целую ночь Эминент провел так, словно еще ни разу не умирал. Голодная после смерти мужа, Бригида с легкостью приняла его ухаживания. Они много говорили – верней, как было принято у прелестной вдовы, говорил только мужчина.
Проклятье! Фон Книгге даже не принял во внимание странности ореола вокруг собеседницы. Всматриваться? изучать? делать выводы? – нет! Не сейчас! Ему хотелось жизни, обыденности, банальностей, если угодно, и все, что составляло суть Посвященного, властной рукой отодвинулось на задний план. Даже у выкованного из железа человека случаются минуты слабости.
Он рассказывал о таких вещах, о которых не знал никто. Он выворачивал себя наизнанку. В конце концов, всегда в его воле заставить женщину забыть чужие тайны. Улыбаясь, Бригида внимала исповеди. Не слишком вслушиваясь, не слишком удивляясь. Слова обтекали ее, словно теплая вода. Она испытывала сытость, с какой не шел в сравнение ее предыдущий опыт.
И вдове не пришло в голову задуматься: почему?
Лишь в постели Эминент опомнился. Когда его жизненная сила не ручейком, а половодьем хлынула в лежащую рядом, уже засыпающую красавицу – стальная воля фон Книгге встала плотиной на пути «живой воды». Бригида тоже очнулась от дремы. С ней это случилось впервые – никогда раньше насыщение не прекращалось насильственным способом.
– Вампир и маг, – грустно сказал Эминент. – Старая сказка, дитя мое…
– Я не вампир! – вскинулась баронесса.
– И я не маг. Я – нечто большее. Или худшее. Как и ты, собственно. Кто сделал тебя, девочка?
Она не желала отвечать. И ответила, не желая:
– Доктор Юнг.
– Молчаливый? Славная работа. И что мы теперь будем делать?
– Разойдемся? – предположила Бригида.
Она не надеялась, что ее опасный любовник согласится без долгих объяснений. Но случилось чудо: Эминент встал, оделся и ушел. На пороге он обернулся. Лицо фон Книгге выражало жалость и что-то еще, от чего у Бригиды задрожали руки.
– Если захочешь найти меня, дитя…
Он сказал ей, как она сможет его найти, и шагнул за порог.
Утром она пообещала себе, что никогда не станет искать его общества. Спустя неделю она уверилась, что они расстались навеки. Через полгода она забыла о нем. Через двенадцать месяцев она нарушила клятву. В годовщину их связи к горлу подступил комок. Бригида поняла, что умирает. Что время повернулось вспять, что она – маленькая девочка, которую не сегодня-завтра обступят камни фамильного склепа, холодные и сырые.
Казалось, не было никакого доктора Юнга, а другие лекари – бессильны.
Она быстро нашла Эминента. Должно быть, он почуял ее нужду заранее. И снова говорил фон Книгге, а Бригида слушала. На сей раз его слова ложились на душу не живительным теплом, а суровым приговором. Перед вдовой сидел самодельный мертвец – дваждырожденный, возвращенный к жизни тайным искусством и египетской летаргией бродяги, спящего в чужом гробу.
Баронесса Вальдек-Эрмоли не знала, что это: египетская летаргия. А барон фон Книгге не захотел объяснять. Главное она поняла: ток, возникший между ними, неприроден. Даже если не брать во внимание неприродность самого образа жизни Бригиды – витальная сила Эминента годилась лишь для него одного. Вкусив от нее, Бригида уподобилась курильщику опиума, попавшему в зависимость от драгоценного снадобья.
Она не могла жить без любовников – собеседников-смертников. Но и без любовника-Эминента, даже если тот онемеет и не скажет ей больше ни словечка, она теперь тоже жить не могла. Заменить его было некем. Могила в Ганновере стала прибежищем, водоемом, откуда требовалось пить, и для Бригиды. Сперва – раз-два в год, затем – чаще, ибо этого требовало естество женщины. Эминент давал ей вкусить от своих щедрот, кормил, что называется, «с руки». Это насыщало, пьянило, но не шло на пользу. После она мучилась судорогами, испытывала головную боль; тело ломило, как от лихорадки, подступала тошнота. Но иначе…
Без поддержки фон Книгге ей снились камни склепа, кричащие:
«Иди к нам, ты наша!»
В Ницце в сердце Бригиды закралась безумная надежда. На миг ей показалось, что рядом с Огюстом она избавится от постыдной, гнусной зависимости. Увы, тем, кто в аду, велено оставить надежды.
…«Чего же ты ждешь от меня?» – думала она, засыпая рядом с Эминентом. Ей было плохо. Ей было хорошо. Она знала, что сегодня не увидит во сне – склеп. Помолиться, чтобы небеса послали сон о молодом французе? – нет, это слишком. Не надо. Будет стыдно. Не слушайте меня, небеса. Впрочем, вы давно уже меня не слышите.
В спальне царила тьма.
– Не всегда в нашей воле состоит быть любимыми, – тихо сказал фон Книгге, лежа с закрытыми глазами. – Но всегда от нас самих зависит не быть презираемыми.
2
– Екатерина Семеновна, богиня, позвольте вам представить! Баронесса Вальдек-Эрмоли, вчера из Парижа. Впервые в нашей Северной Пальмире. Баронесса, осчастливьте! Позвольте в свою очередь… княгиня Гагарина – единодержавная царица трагедии, как сказал поэт…
Гусар разливался соловьем. Молод, брав, хорош собой, он нравился женщинам и знал это. С языка сами собой рвались комплименты. Удержаться было трудно, почти невозможно. Но гусар, опытный ловелас, помнил: хвалить одну даму в присутствии другой – опасней рубки с поляками. Княгиню – еще можно, она в возрасте. Красотка-баронесса не возревнует. Ничего, после спектакля, с глазу на глаз, когда мы лихо приволокнемся за парижской венерой…
Скажи кто гусару, что еще час назад он знать не знал никакой баронессы, что собирался бравый поручик не в Александринку, на водевиль «Забавы Калифа, или Шутки на одни сутки», а на пирушку к штаб-ротмистру Завальному, – не поверил бы. За саблю бы схватился: врешь, каналья! Знал, собирался, мечтал препроводить в ложу!
Ишь, моду взяли: боевых офицеров смущать…
Улыбнувшись гусару, Бригида жестом отпустила его прочь. Кому-кому, а ей отлично была известна убедительность Эминента. Билет в ложу куплен заранее; прогулка по Невскому, напротив театра – лихо соскочив с извозчика, поручик налетает на фон Книгге: умоляю простить, нет, это вы простите, ах, моя проклятая неуклюжесть; пять минут разговора о недавнем – возмутительном, оскорбительном! – указе, позволявшем всем офицерам носить усы, хотя раньше это высочайше дозволялось только гусарам, да еще уланам, этим выскочкам… Странный жест – словно фон Книгге, комментируя указ, решил подкрутить офицерику левый ус. И вот мы представлены княгине Гагариной. Дальше – твое дело, девочка. Хочешь, не хочешь – трудись.
Эминент бывает убедителен не только с гусарами.
– Рада знакомству, княгиня.
Она заняла место в ложе, рядом с Гагариной. Не спеша начать разговор, княгиня с интересом, не смущаясь, изучала новую знакомую. Во внимании Гагариной крылось что-то профессиональное. Так цыган рассматривает лошадь; так генерал склоняется над картой будущего сражения.
Пожалуй, это даже могло польстить.
Бригиде подумалось, что раньше она – да кто угодно! – потерялась бы рядом с Гагариной. Княгиня и сейчас оставалась красавицей. Темно-голубые, как сапфиры, глаза, девичьи ресницы; каштановые, не слишком густые волосы уложены в гладкую прическу. Лицо с греческой камеи – строгий, благородный профиль…
И бриллианты – Гагарина искрилась августовским звездопадом.
– Вы приехали с мужем? – спросила княгиня.
– Увы, нет. Я давно овдовела.
– Вы говорите по-русски с польским акцентом.
– Я родилась в Вильно.
– Красавица-вдова, – задумчиво сказала Гагарина. Она слегка выпрямилась, пригасила блеск взгляда, как если бы примеряла эту роль на себя. – Польская кровь. Титул. Из Парижа. Вы произведете фурор, милая моя. Этот гусарик разве что слюни не пускал…
Ее манера изъясняться была настолько естественной, что Бригида улыбнулась.
– Вы мне льстите, княгиня. Думаю, Петербург весь у ваших ног.
– Лесть – верный способ отпугнуть меня, баронесса. Я хорошо знаю себе цену. У моих ног? – да. Весь Петербург, двадцать лет тому назад. Пожалуй, даже десять. В «Федре» я не имела равных. Вы не поверите, но в те поры у меня не было нужды в драгоценностях. Я обходилась турецкой шалью, и все. Белая шаль, с букетами роз. Это сейчас…
Достав золотую табакерку, княгиня открыла крышку, усыпанную рубинами, и взяла добрую понюшку. Чихнув, Гагарина продолжила:
– Теперь я гожусь лишь в наперсницы чужих тайн. Милочка, у вас есть тайны?
– У каждой женщины есть тайны, – пожала плечами Бригида.
– Но не каждая женщина любопытна, как я. Вы приехали одна?
– Нет.
«Заинтересуй ее, – наставлял Эминент. – Найди слабое место. В молодости она не терпела соперниц. Ни на сцене, ни в жизни. Веди себя независимо, но отдавай ей должное. И помни: Гагарина больше любит говорить, чем слушать…»
Зал заполнялся публикой. С потолка, удобно расположившись на плафоне, на суматоху взирали боги Олимпа. Зевс изучал ярус за ярусом, ища достойную замену плаксе-Европе. Для полноты картины Громовержцу не хватало лорнета. Гера любовалась голубой обивкой мебели, выгодной на белом фоне стен. Масляные лампы успели измарать копотью и стены, и обивку. В грядущем это обещало стать серьезной причиной для ремонта.
– Значит, с покровителем, – кивнула княгиня. – Не смущайтесь, баронесса. Я не из тех жеманниц, которые падают в обморок от воздушного поцелуя. Полжизни я прожила с покровителем. Не хотела бросать сцену. Он умолял, настаивал, шел против семьи; я отказывалась, рожала ему детей – и снова играла, играла… Наконец сдалась – минутная слабость, хандра. Мы повенчались – в Москве, в церкви Тихвинской Божьей Матери. И вот, пожалуйста: была Федра, Антигона, Мария Стюарт – стала княгиня Гагарина. Как полагаете, равноценная замена?
Взяв крохотный бинокль, Гагарина навела его на ложу напротив.
– О, Росси, – княгиня рассеянно улыбнулась. – Я не знала, что за ним сохранили одно место. Вы слышали эту сплетню, баронесса?
– Я вся внимание, княгиня.
Сплетни? Бригида даже не знала, кто такой этот Росси. Зато она неплохо изучила биографию Гагариной. Эминент позаботился вооружить свою посланницу. «Выверни русскую княгиню наизнанку, – смеялся фон Книгге, – получишь дворовую девку. Или кумира подмостков, если угодно…» Сестры Семеновы, дочери крепостной крестьянки от хозяина-помещика, орлицами вознеслись на петербургскую сцену – старшая, Екатерина, блистала в трагедиях, младшая, Нимфодора, пела оперу. Их боготворили, из-за них стрелялись. Обе считали всеобщее обожание естественным ходом вещей. Обе не брезговали интригами, если речь заходила о сценической карьере.
Обе любили роскошь и славу.
Целомудрие сестер также было практического толка – когда два закадычных приятеля, князь Иван Гагарин и граф Мусин-Пушкин, предложили им содержание, сестры без колебаний согласились. Такое покровительство означало свой дом, открытый для высшего света, выезды, кареты, лакеев на запятках, туалеты от лучших модисток, услужливых компаньонок… Ну и детей, разумеется. Как же без этого? Екатерина вне брака родила четверых, Нимфодора – троих. Впрочем, если Екатерина все-таки стала княгиней Гагариной, приведя вдового князя под венец, то Нимфодора по сей день «наслаждалась» свободой – овдовев, Мусин-Пушкин не спешил взять пример с друга! – и продолжала петь, отдавая предпочтение ролям юных девиц.
«В вас есть кое-что общее, – Эминент разговаривал с Бригидой без стеснений, не заботясь, ранит он чувства баронессы или нет. Даже с великаном Ури он вел себя деликатнее. – Кроме происхождения, разумеется. Вы ставите цель и идете к ней через любые препятствия. Вас не мучит мораль. Не останавливают предрассудки. Больше всего на свете вы цените жизнь. Ты должна ей понравиться… Сделай так, чтобы Гагарина пригласила тебя к себе в дом. Вместе со мной. Это очень важно, запомнила? Скажи ей, что я – твой покровитель. Больше не говори ничего. Она любопытна…»
– Дать вам бинокль? Росси – итальянчик слева…
– Спасибо, княгиня. Я вижу без бинокля. Воротничок до ушей, бакенбарды… Кто он?
– У вас чудесное зрение. Завидую. Он – архитектор, строил здание театра. На днях подал в отставку. Уволился, как сказал мой муж, «от всех занятий по строениям, кроме ремонта сего зала, буде таковой понадобится Отечеству». Смешной человек… Беден, как церковная мышь, и горд, как дьявол. Государь сомневался в прочности свода, так он заявил: «Если свод обрушится, Ваше Величество, повесьте меня на стропилах прилюдно!» Довольный, государь пожаловал ему ложу в прижизненное пользование. И знаете, что сделал Росси?
– Что?
– Стал торговать местами. Продавал кому ни попадя, лишь бы платили. Ему вечно не хватало денег… Представляете, сенатор Дмитриев явился смотреть патриотическую драму «Освобожденная Москва», а рядом с ним сидит купец Семирылов! Оптовые поставки овса и льняного семени… Скандал! Дошло до государя, тот в возмущении, велел у Росси ложу отобрать. Как видите, сжалился, именное место оставил…
Бригида вежливо улыбнулась. История бедняги-архитектора оставила ее равнодушной. Раздумывая, как навести Гагарину на идею приглашения, она шарила взглядом по залу, словно желая найти там подсказку. Партер, раёк…[11] мундиры студентов, фраки мещан, самой попугайской расцветки… Наверное, она забылась. Сердце зашлось в отчаянной пляске, кровь отлила от лица. Княгиня что-то говорила, но Бригида не слышала.
В проходе, ожидая, пока его пустят в середину ряда, стоял Огюст Шевалье.
– Я жду вас с визитом, милочка. Вы обязательно должны посетить нас. Обычно мы живем в Москве, но осенью месяц проводим в Петербурге. Я оставлю вам адрес. И покровителя вашего берите, не стесняйтесь. Мой муж будет душевно рад, он любит новую компанию. После спектакля мы обсудим время…
– Что? – спросила Бригида. – Ах да, конечно…
3
Расставшись с баронессой, Эминент минут пять стоял без движения. Затем отошел от здания театра к Невскому проспекту. Он чувствовал себя юношей и стариком; хотелось крикнуть во все горло – и лечь спать. Это удивляло Человека-вне-Времени, давно забывшего, что значит возраст тела.
Что значит возраст души, он помнил хорошо.
Тайные, казалось, навсегда умолкшие струны вдруг подали голос. Словно фон Книгге вышел на сцену, готовясь начать монолог. «Рыцарь Лебедя, или Суета сует», – подумалось барону. – Трагедия? Водевиль? Неужели фарс?..» Чувство сцены усугублялось гением архитектора. Кто бы ни возводил Александринский театр, открывшийся для публики месяц назад, в конце августа, он знал свое дело. Если Эминент сейчас находился возле рампы, спиной к публике (вопреки канонам актерского мастерства, но сообразно складу натуры барона), то белоколонный портик Александринки, над которым летела квадрига Аполлона, смотрелся великолепной декорацией.
Самое высокое здание в ансамбле, окружавшем площадь, выше даже Аничкова дворца, театр утверждал: «Vita brevis, ars longa!»[12]
– …случай шаток, опыт обманчив, суждение затруднительно, – тихо смеясь, продолжил Эминент начатый театром афоризм. Латыни он предпочел древнегреческий, как, собственно, и звучали эти слова в оригинале, произнесены великим Гиппократом. – Врач должен не только быть готов делать то, что верно, но и подготовить пациента к сотрудничеству… Что скажешь, паяц?
Театр промолчал.
Нищенка в драном салопе отшатнулась – и кинулась прочь. Только что старуха крутилась рядом, обихаживая «барина» в надежде на милостыньку, и вот – салоп мелькнул у Публичной библиотеки, сгинув в сумерках. У побирушек – чутье, Эминент знал это.
Он двинулся по Невскому. Будочник, накрывшись рогожей, лез зажигать фонарь. Прохожие сторонились, не желая залить маслом одежду. Кто-то споткнулся об алебарду будочника, прислоненную к стене; упав, старушка жалобно загремела. Из открытых дверей кондитерских пахло свежей сдобой. Толпа артельщиков, топая, как стадо слонов, обсуждала, куда им пойти. Выбор был невелик: Демутов трактир, куда артельщиков могли и не пустить, погнушавшись чином, и заведение Палкина на углу с Малой Морской.
В Демутовом, если верить крикунам, подавали кулебяку, ради которой стоило рискнуть. Зато Палкин ловко рекламировал себя в газете, что вызывало у артельщиков уважение.
«Старайся, дитя мое. – Эминент мысленно обращался к Бригиде. – Иначе я очень, очень огорчусь…»
Барон мог бы остаться у театра, проследив за беседой дам так же ясно, как если бы сидел с ними в ложе. Но фон Книгге не желал оставлять малейший, самый воздушный след, по которому сведущие люди могли бы опознать его участие в деле.
Встреча с князем Гагариным должна носить случайный характер.
Иначе – нельзя.
Иван Гагарин напоминал луковку. Начни чистить – возрыдаешь. Крепенький, ядреный, он носил столько масок, что и сам, казалось, забыл: где же настоящее лицо? Для державы – сенатор, действительный тайный советник, кавалер многих орденов. Для друзей – меценат, учредитель Общества поощрения художников, ценитель изящной словесности. Для широкой публики – богач, кутила, сластолюбец; завсегдатай скачек, разбирающийся в лошадях не хуже, чем в живописцах.
И наконец, для тех, кто видит суть вещей, – знаменитый масон, первый в списке учредителей ложи Орла Российского, лучший Мастер Стула в Петербурге, почетный член лож Петра-к-Истине, Соединенных Друзей и Ключа-к-Добродетели.
Крылось в князе еще кое-что – в середке, в горчайшей сердцевине. Записанный отцом на втором году жизни в Преображенский полк, а затем, на пятом году – в Измайловский, в девятнадцать лет князь был произведен в прапорщики. Он знатно повоевал: штурм Измаила, Георгиевский крест, подпоручик, поручик, капитан-поручик…
Про него писал генерал-аншеф Суворов в рапорте:
«…дал повеление лейб-гвардии Измайловского полка прапорщику князю Гагарину приставить лестницы, по которым быстро взошли на вал, опрокинули неприятеля и бастионом овладели. С первыми вскочил он на бастион, и когда вся колонна, прибыв туда, простирала поражения в левую сторону по валу – он рассеявшихся в первом стремлении егерей собрал, храбро атаковал с ними неприятельские толпы и, отразя оные, присоединился к колонне».
Не кланяясь пулям, кидаясь в рукопашную, стоя под ядрами турецких пушек, Гагарин не получил ни единой царапины. Однополчане говорили, что он заговоренный, и были ближе к истине, чем думали сами.
«Явиться без выкрутасов, как Посвященный к Посвященному? – в который раз думал Эминент. – Нет, нельзя. Интерес к внуку, даже незаконнорожденному, он может счесть оскорблением. Или просьбой о помощи – тогда я буду ему должен. А так… Одна дама пригласила другую; мужчины пьют вино и судят о политике, а позже, оставшись наедине, – о ножках балерин. Он спросит, зачем я приехал в Петербург. А ведь он обязательно спросит…»
– Соловей мой, соловей, Голосистый соловей! Ты куда, куда летишь, Где всю ночку пропоешь?Навстречу, приплясывая, шел сильно выпивший купчик. Рыдая от удовольствия, он басом выводил: «Cау-лау-вей мой… ы-ы… т-ты куда?!» – и хватал прохожих за плечи, желая облобызать. Вокруг купчика вился некий хват в засаленном картузе: подпевая козлетоном, он все норовил запустить тощую лапку в карман чужой сибирки.[13]
Прохожие купчиком брезговали, вора же подбадривали возгласами.
– Побывай во всех странах, В деревнях и в городах: Не найти тебе нигде Горемышнее меня, Ой, горемы-ы… ы-ы!.. м-иня-а…Опровергая идею своей абсолютной «горемышности», купчик разразился хохотом, врезал хвату в ухо тугим кулачищем и, не оборачиваясь, заплясал дальше по проспекту. Барон фон Книгге аккуратно разминулся с ним, переступил через бесчувственного воришку и продолжил путь.
«Нет, я не стану скрывать причину своего визита в Россию. Бесполезно. Венерабль ложи Орла сразу почует ложь или нежелание быть откровенным. Если сквозь броню наружу донесется хотя бы отголосок интереса к семье Гагариных… Скрытность такого рода – худший вид вражды. Масонский Петербург – неуютное место, когда ты не по нраву мастерам лож. Да, император Александр запретил масонство, император Николай подтвердил запрет, и верноподданные «вольные каменщики» склонились пред царской волей. Это – для простаков, но не для меня. Я-то знаю, что тайная жизнь Северной Пальмиры кипит пуще прежнего…»
– У меня ли у младой, В сердце миленький дружок…Бас скрылся за поворотом.
В доме Энгельгардтов горели окна. В зале на втором этаже звучала скрипка в сопровождении рояля. Там давали концерт. Окна светились и в левом крыле, в «Храме очарования» иллюзиониста Гамулецкого – несмотря на позднее время, публика желала чудес.
«Каждому – свое, – краешком губ улыбнулся Эминент. – Одним – «Sonata in B minor», другим – механический арап. Калиостро был бы рад, обнаружив, в какое ничтожество превратился его иуда-ученик. Шестеренки, рычаги… Знают ли петербургские масоны о моем участии в развале ордена иллюминатов? Знает ли об этом князь Гагарин? Если да, у него есть причины видеть во мне врага. Хотя вряд ли – я не оставлял следов. Даже молния, убившая курьера, не несла печати Рыцаря Лебедя…»
От Невы тянуло сыростью.
«Я расскажу ему про генерала Чжоу. Он поймет…»
Сцена шестая И наш дружок-француз в осьмнадцатом ряду…
1
– Извольте пройти на место!
– Что?
– Сударь! Займите ваше место!
– Да-да…
– Мсье! Вы мешаете!
– Конечно…
– Вы и французского не знаете?!
– Отчего же… я француз…
– Сядьте наконец, господин француз! Или я позову капельдинера!
– О да, я уже…
Не отрывая взгляда от ложи с Бригидой, толкая зрителей, шипящих от негодования, наступая им на ноги и забывая извиниться, Огюст Шевалье пробрался в середину ряда. Цель его поисков – предмет страсти, как говорилось в пошлых романчиках, – явившись на манер deus ex machina,[14] словно издеваясь над всеми усилиями молодого человека, просто уничтожила Огюста.
Казалось бы, он должен был сойти с ума от радости. Нет, он сходил с ума от страшной мысли: «Что, если это намек? Подсказка судьбы? Ты ищешь ее, глупец, сгораешь от волнения… А она преспокойно ждет начала забавной комедии. Что, если письмо – ложь, фальшь? Подачка, брошенная нищему?! Я должен увидеться с ней. Иначе…»
Что – иначе, он не знал.
Из ямы вступил оркестр. Под флейты и скрипки – липкие, тягучие, как разомлевшая на жаре халва, – открылся занавес. Декорации изображали дворец Гаруна аль-Рашида. Сам калиф, прославленный хождениями в народ инкогнито, в глубине сцены пел дуэт с наложницей Зобеидой.
Калиф хандрил. Даже не знающему русского языка сразу делалось ясно: хандра – страшная штука. Грядет очередная царская забава, и спасайся, кто может. Водевиль обещал быть веселым. Наложница подчеркивала это скромным – в пределах, разрешенных цензурой, – танцем живота.
Сопрано Зобеиды срывало аплодисменты партера.
Танец – стоны райка.
Во всем зале лишь Огюст Шевалье пренебрегал спектаклем. Для него сценой была ложа с баронессой. Впервые он понял, что значит выражение «пожирать глазами». Следствие проклятого дара Бригиды? Шевалье не желал выяснять: так оно или нет? Музыка длилась, заворачивая его в нервно дрожащий кокон. Он не знал, что композитор писал этот комический водевиль, находясь в заключении и ожидая ссылки. Просто скрипки подсказывали – много знания, много печали, смейтесь, пока в силах…
Упала первая снежинка. Вторая. Бархат и золочение вокруг Бригиды. Сотая снежинка. Голубая обивка кресла. Тысяча снежинок. Две тысячи. Сырость щербатых камней. Вьюга. Молчание склепа. Мириад снежинок.
Кладбище.
Он уже видел это кладбище – в зеркале, ища способ покинуть Ниццу. Огюст замотал головой, замычал, разучившись говорить. Его ткнули локтем в бок. Сквозь кокон он едва почувствовал толчок, но склеп исчез. Вернулась ложа, Бригида, красивая пожилая дама рядом с ней…
Дама следила за представлением, нервничая.
Огюсту даже показалось, что при первой возможности дама ринулась бы на сцену, в тычки погнала дуру Зобеиду и с радостью заняла бы место наложницы.
Снежинки заплясали вокруг женщины. Бриллианты на ней вспыхнули ледяным огнем. Лед плавился, чернел, превращаясь в траурное покрывало вдовы. «Разорена, – шепнули издалека, злорадствуя. – А не гордись, не строй царицу…» Кресло сгинуло, вдова стояла на коленях, протягивая кому-то прошение. «За дочь… – бормотала она. – За Наденьку молю… нижайше…»
Ответный шепот окреп, превратился в брезгливый тенорок:
– Дочь? В монастырь.
– За что?!
– А не бегай от законного супруга…
Ложа обернулась съемной квартиркой. Дряхлая мебель, скудость обстановки; нищета. Вдова, сильно постарев, билась на кровати в тифозной горячке. Рядом скучала угрюмая сиделка, мелькая спицами. Шарф, который она вязала, – желто-красный, как огонь, – стекал на пол, на снег, растапливая холод, возвращая театр, ложу, Бригиду, даму в бриллиантах…
Огюст зажмурился.
Когда он открыл глаза, все было по-прежнему. Калиф покинул сцену, уступив место коротышке в чалме – визирю, что ли? Визиря сопровождал кордебалет игривых джинний-фигуранточек и палач. Наложница стала обсуждать с визирем способ развеселить аль-Рашида. Кордебалет резвился; палач скучал.
В палаче без труда узнавался Яков Брянский.
Слов льву не досталось. Молчание он компенсировал позой, способной заменить трагический монолог. Чувствовалось, что головушек он отсек – хоть пирамиду строй. Что ятаган ему – брат, дыба – сестра, плаха – мать родная. В Европе прогресс, гильотину сочинили, гяуры необрезанные… А мы по старинке – коврик расстелил, махнул сплеча, и пошла душа мусульманская в рай, гурий щупать.
О Аллах, куда смотришь?
Тюбетей сползал Брянскому на нос. Он и это превращал в пантомиму: морщился, корчил рожи, пытаясь бровями, не привлекая к себе визирского внимания, подкинуть тюбетей на место…
Публика хохотала, дурак-визирь принимал это на свой счет.
Пока Шевалье глядел на ужимки Брянского, у него созрел план, как подать Бригиде весточку о себе. Не в ложу же к ней вламываться, право слово! Да и не пустят небось – кто ты такой, черная кость…
Оставалось дождаться конца первого акта.
2
За кулисы Огюст пробрался внаглую.
Едва занавес закрылся, не дожидаясь, пока стихнут аплодисменты и публика потянется в буфет, он по лестницам, которых в театре было великое множество, сбежал с галерки в зал. Кинулся к сцене, наскоро оценил глубину оркестровой ямы, вихрем взлетел на огражденье боковой ложи – «Pardon, madame!..» – три шага, прыжок, и молодой человек исчез за складками бархата. Попасть в уборные артистов можно было и по коридорам, обманув бдительность служителя. Примазаться к компании офицеров, желающих засвидетельствовать свое почтение голенастым джинниям, а то и самой наложнице Зобеиде, пока грозный калиф курит трубочку на лестнице…
Шевалье решил рискнуть, выиграв время.
Его появление на сцене никого не удивило. Рабочие, кряхтя и бранясь вполголоса, таскали декорации – второй акт предполагал улицу в Багдаде, где по ночам, как известно, все спокойно. Калиф, оказывается, не ушел курить. Сняв тюрбан, он чесал длинным ногтем лысину – словно записывал суру из Корана. Вокруг аль-Рашида бегал человечек в черном фраке, похожий на грача. Что грач на бегу втолковывал лысому владыке, осталось для Огюста тайной, но выглядел калиф жалко.
Нырнув в кулисы, молодой человек быстро нашел дверь, ведущую к уборным. В первой же гримерке его встретил радостный визг:
– Ой, хорошенький!
– Pardon… excusez-moi…
– Французик! – ликовал кордебалет.
– Славный какой!
– Иди к нам, французик…
Лишь мысль о баронессе спасла Шевалье. Вторая уборная, третья… пухлая Зобеида неглиже грозит ему пальчиком, медля уйти за ширму… визирь пьет из фляжки, крякает от удовольствия… гримируется бас – огромный, голый по пояс…
– И какая охота была бы мне вас обманывать?
– А Шекспир?
– Уверяю вас честью и совестью, что Шекспир – сущая дрянь…
– Брянский? – кричал Огюст, чувствуя, что пропадает в этом вертепе. – Мсье Брянский?
– Здесь он, ваш Брянский…
Кто-то сжалился, указал: да вон же, в конце коридора! Когда лев увидел Огюста, в первую минуту, казалось, Брянский готов был задать стрекача. Господь с ним, со спектаклем! Палач – не калиф, заменят. А давешние, уже потраченные сорок рублей, которые буян-француз вознамерился отобрать силой, – это вам не кот начихал!
Вот, сами видите: за ворот хватают, лишают божьего дыхания…
– Ищу! – захрипел Брянский. – Весь в поисках, душа моя!
– Она здесь!
– Кто?
– Она! Третья ложа!
– Бенуар?[15]
– Бельэтаж!
– Третья? Дама рядом с княгиней Гагариной? – в минуты опасности Брянский соображал молниеносно. – Душа моя! Знаю, знаю, хотел известить! Скажу без ложной скромности – моими стараниями… Не случай привел нашу Джульетту в театр! Нет, не случай, а провидение в лице скромного короля сцены!..
– Она должна узнать, что я тоже в театре!
– Разумеется, душа моя! Едва кончится третий акт…
– Немедленно!
– Но как? Водевиль сейчас продолжится!
– Ты сделаешь вот что…
Выслушав требования Шевалье, лев скис.
– Да ты хоть понимаешь, душа моя…
– Убью! – тихо пообещал Огюст.
И лев поверил: этот убьет.
3
– Шампанского, Степан! – велела в антракте Гагарина.
Бригида ничего не имела против шампанского. На нее вино действовало слабо, а княгиня явно была не промах насчет бокала-другого. Присутствие в зале Шевалье так потрясло баронессу, что весь первый акт Бригида просидела как на иголках. И с опозданием сообразила: ей вовсе незачем подпаивать новую знакомую. Поручение Эминента выполнено, они приглашены к Гагариным.
Можно беседовать о пустяках.
– В субботу, в семь часов, – княгиня словно подслушала ее мысли. – Вы где остановились, милочка? Степан приедет за вами с каретой.
– Большая Миллионная, дом 6.
– Снимаете квартиру?
– Мы сняли весь дом. Он скромный, но очень уютный…
– Ваш покровитель не стеснен в расходах! – Гагарина расхохоталась. Расторопный лакей успел вернуться, и княгиня взяла с подноса бокал «Veuve Clicquot». – Скромный домик на Миллионной! В начале улицы, возле Мраморного дворца! Боюсь, мое шампанское покажется вам дешевой кислятиной. Вы, должно быть, привыкли к напиткам королей…
Улыбнувшись шутке, Бригида тоже взяла бокал. Ей было очень трудно сдерживать себя. Все существо баронессы желало одного: бегом покинуть ложу и броситься искать Огюста. Сейчас она хорошо понимала, что испытывали ее собственные жертвы, исповедуясь перед очаровательной убийцей, ложась в гибельную постель – и позже преследуя свою смерть со страстью влюбленного.
Рядом с молодым французом она чувствовала себя обычной. Такой, как все. И хотела, чтобы это длилось вечно.
Если что и удерживало Бригиду, так это страх перед Эминентом.
– Взгляните, милочка! – Гагарина указала на ложу напротив. – Вот спектакль, какого вам не покажут в других театрах. Знаете, кто это? Дорого бы я дала, чтобы услышать, что же он говорит Натали…
В ложе ссорилась семейная чета. Юная, очень бледная красавица сидела, глядя строго перед собой. Щеки ее пылали, как у чахоточной. Над женщиной стоял смуглый, похожий на эфиопа господин во фраке. Ритмично взмахивая рукой, он выговаривал супруге, раздражен и пылок. Левый мизинец «эфиопа» украшал длинный футляр-наперсток из золота. Казалось, из наперстка вот-вот ударит молния, испепелив дерзкую.
Бригида улыбнулась, стараясь успокоить волнение души.
– Я перескажу вам их разговор, княгиня. У меня очень тонкий слух.
– Это невозможно, милочка! В зале так шумно!
– И все-таки… – она сосредоточилась, отсекая лишние звуки. – Он говорит ей: «Я должен был на тебе жениться, потому что всю жизнь…» Короче, без нее он был бы несчастлив. «Ma famille augmente, mes occupations me retiennent forcément à Pétersbourg… les dépenses vont leur train, et n’ayant pas cru devoir les restreindre la première année de mon mariage, mes dettes ont augmenté aussi…»[16] Но он не должен был…
– Что? Что именно?
– Поступать на службу. И, того хуже, опутывать себя денежными обязательствами. Кто-то смотрит на него как на холопа. Я не расслышала, кто именно. Он не хочет быть шутом ни у кого, кроме как у Господа Бога. Дальше что-то о зависимости, которую он налагает на себя из нужды. Это унижает его… Кто этот человек, княгиня?
Гагарина взяла новую понюшку табака.
«Вы просто клад, дорогая моя, – было написано на лице княгини. – Если я о чем-то и мечтала всю жизнь, так это о подруге с таким чутким слухом. Жаль, что мы не познакомились раньше, когда я еще блистала на сцене…»
– Это Пушкин, милочка. Мой давний и страстный поклонник. Я была в расцвете зрелости, он был юн. Поэт, знаете ли, любимец музы… «Одарена талантом, красотою, чувством живым и верным, она не имела соперниц!» Так он писал обо мне тринадцать лет назад. Теперь я – старуха, а он женат. Я забыта публикой, он – мишень для язвительных насмешек. Любой рогоносец смешон, а рогоносец, лишенный возможности отомстить, – смешон вдвойне.
– Если он знает о своих рогах, – Бригида вгляделась в бледную супругу «эфиопа», немую как могила, – у него всегда есть достойный ответ оскорбителю. Или в России запрещены дуэли?
– Запрещены. Еще при Петре Великом. Ослушников велено карать смертью.
– Значит?
– Ничего это не значит, дорогая моя. Запрет никто не соблюдает. Стреляются, как везде. А смертную казнь победителю легко заменяют Кавказом или Сибирью. Либо вовсе откладывают наказание на неопределенный срок. Здесь иные запреты… Наши российские дуэли – рабы «Табели о рангах». К примеру, мой муж – действительный тайный советник. Значит, губернский секретарь, коллежский асессор или статский советник, захоти они стреляться с Иваном Алексеевичем, могут лишь скрежетать зубами от бессилия. Низший разряд лишен права вызвать к барьеру высший. А если обидчик так высок, что выше его только Господь… Вы догадываетесь, о чем я?
Бригида кивнула.
– У бедняги Пушкина было единственное средство уберечь жену. Но в мае Натали родила девочку, оправилась после родов и теперь беззащитна. Пока она ходила в тягости, государь не раз выговаривал Пушкину при всех. Дескать, он рассчитывал, что Натали будет блистать на балах, а не сидеть взаперти! Как это – брюхата?! Зря, что ли, государь заплатил долги поэта? Дал допуск в архивы? Пожаловал камер-юнкером?[17] У нас говорят, милочка: долг платежом красен…
– Теперь я понимаю, княгиня…
– Что?
– Чьим шутом он не хочет быть.
– Все понимают, дорогая моя. И он сам прекрасно понимает. Да уж коли выпала судьба ходить в шутах… Я это знаю лучше многих. С младых ногтей на сцене…
Бригида ждала, что Гагарина помянет и свое «холопское» происхождение. Нет, на это откровенности княгини не хватило.
Ревнивец-поэт тем временем угомонился. Золотой мизинец прекратил блистать, пылкость речей угасла. Болезненный румянец исчез со щек красавицы, не сказавшей по сей час ни слова. В ложе супруги были наедине; точно так же, как и княгиня Гагарина с баронессой Вальдек-Эрмоли, если не считать лакея Степана.
По обычаю, заведенному Николаем I, дамы высшего света сидели в ложах одни, без мужчин. Их спутники занимали первые ряды кресел в партере. Но для супружеских пар, по понятным причинам, делались исключения. Если муж желал изъявить жене свои претензии – лучше театра места было не найти.
В оркестровой яме заиграли вступление ко второму акту. Занавес открылся, явив взорам багдадскую улицу. Повелитель правоверных – он был в маске – пел комические куплеты, обращаясь к молчаливому палачу. По замыслу постановщика, это усиливало юмор ситуации. Когда калиф замолчал, палач внезапно вышел на авансцену.
Оркестр умолк. Похоже, выступление палача не подразумевало музыкального сопровождения. Калиф замер в недоумении. Он протянул руку, словно намереваясь силой вернуть наглеца на место, но опомнился и не стал ничего предпринимать.
– И я хочу сказать дозволенные речи: Любовию кипя, влюбленный жаждет встречи…Дребезжащий тенорок палача вызвал смешки в зале. Одна Бригида не смеялась. Она была убеждена, что палач смотрит прямо на нее – не отрываясь, гримасничая, как если бы хотел сказать что-то, понятное лишь им двоим.
– И наш дружок-француз в осьмнадцатом ряду Охвачен страстью весь, пылает как в бреду, И если не узрит предмета воздыханий, То, жизнь прервав свою, утопится в лохани…Смех усилился. Машинально Бригида глянула в сторону райка. Привстав с места, ей махал рукой Огюст Шевалье. Кто-то сзади дернул его за одежду, призывая сесть. Не желая затевать скандал, молодой человек послушался, но взора от ложи с баронессой не отрывал. Губы его шевелились.
«После спектакля, – скорее почувствовала, чем прочла Бригида. – Мы должны… встретиться…»
На сцену выскочила толпа придворных в ярких одеждах. На руках они несли спящего башмачника, которому по пробуждении намеревались втолковать, что калиф – это он и никто иной. О своих намерениях придворные громким хором уведомляли весь Багдад. Палач убрался в кулисы, внимание зала сосредоточилось на пляске вокруг башмачника.
– Это ваш покровитель, милочка? На галерке? Не думаю, что ему по карману аренда особняка на Миллионной…
Улыбаясь, княгиня Гагарина указывала табакеркой на француза.
4
– Обычное дело, милочка. Нас, актеров, часто просят сослужить почтовую службу. Со сцены можно многое сказать, если знать как. Червонец, и вот уже в монолог вплетается лишний стих. Кто у нас сегодня в палачах? Яшенька Брянский? Ну, этот прохвост за алтын целую арию состряпает. Ишь ты, дружок-француз в осьмнадцатом ряду… Признайтесь, солгали насчет покровителя?
Княгиня пребывала в наилучшем расположении духа.
– Отчего же солгала? – Бригида с трудом вернула себе самообладание. – В субботу и увидите, кто покровительствует бедной вдове. Уверена, он вас не разочарует. Ни вас, ни вашего благородного супруга. А этот хорошенький мальчик… Нравится? Да, мне тоже. Он тайно приехал за мной из Парижа. Бывают такие минуты, когда хочется безумствовать. Отдаться чувству, не отягощенному расчетом. Вы понимаете меня?
– Преотлично, голубушка! Один дарит средства, другой – любовь. Моя сестра Нимфодора избегала вторых, отдавая предпочтение первым. Говорила, что сердце должно подчиняться голосу рассудка. И что? Ее граф так и не женился на ней. А для любви, скажу честно, Нимфа уже старовата. Давайте выпьем за истинность чувств. Степан, еще шампанского!
«Один дарит средства, другой – любовь, – словно эхом, отдалось в душе баронессы. – Один – средства к жизни. Другой…»
Наверное, Бригида слишком сильно сжала бокал. Хрупкое стекло треснуло, брызнуло осколками. Вино пролилось частью на пол, частью на платье. Заохал, заволновался лакей, готов бежать, куда прикажут: за врачом, капельдинером, извозчиком, за флаконом с нюхательными солями…
Осколки пощадили пальцы Бригиды. Но острый край ножки бокала вспорол ладонь. Густая, одинокая капля крови сползла на запястье – и, не дождавшись своих сестер, потеряв надежду превратиться в багровый ручеек, засохла. Понимая, что делать этого не следует, и не зная иного выхода, баронесса Вальдек-Эрмоли медленно, очень медленно раскрыла ладонь – так, чтобы видела княгиня.
И изумилась, потому что Гагарина осталась равнодушной.
– Вы понравитесь моему мужу, милочка, – приветливо сказала бывшая актриса. Она без особого интереса изучала светло-розовую, быстро бледнеющую полоску – то, во что превратился опасный порез. – У вас много общего. На нем тоже все заживает, извините за вульгарность, как на собаке. Иван Алексеевич говорит: это у него с войны. Цыганка заговорила: от пули, от стали. У вас тоже цыганка?
– Нет, – Бригида порадовалась, что голос ее звучит обыденно. – У меня доктор. Иоганн Генрих Юнг-Штиллинг, вестфалец. Я лечилась у него в детстве.
– Не дадите адресок? У меня ужасная мигрень…
– Увы, княгиня. Это был чудесный врач. Не сомневаюсь, он легко бы справился с вашей мигренью. Скажу больше, вы бы почувствовали себя совершенно другим человеком. Но, к сожалению, мой доктор давно умер.
– Жаль, – вздохнула Гагарина. – А наши все шарлатаны. Берут деньги и кормят обещаниями. Не находите, милочка, что эта Зобеида безбожно фальшивит? Я бы гнала ее со сцены взашей…
Сцена седьмая Запачкать легче, чем очистить
1
– Сами видите, Андерс Христианович! Получить ксилоидин – не фокус. Ваш дражайший братец, умница из редких, переслал самые подробные инструкции. Что и как делать надобно; а главное – чего ни в коем разе делать не надобно, во избежание преждевременного взрыва! Но вот беда: для сколько-нибудь длительного хранения ксилоидин непригоден. Полюбуйтесь: сей образец получен вчера…
Гамулецкий, облаченный в халат из бязи, выкрашенной синькой, вприпрыжку, как мальчишка, подскочил к приземистому шкафу со множеством ящичков. Что-то мурлыча себе под нос, он принялся выставлять на лабораторный стол склянки с грязно-белым содержимым. Энергия этого человека поражала. «Мафусаил, право слово! – невольно подумал датчанин. – После него хоть потоп…»[18]
– …сей – три дня назад. А этому красавцу уже неделя…
Подвал, в котором они трудились, тянулся под всем домом Керстена на Почтамтской улице, где квартировал Гамулецкий. Большую часть подвала занимала механическая мастерская. Под химическую лабораторию фокусник отвел едва ли четверть помещения. Остальное пространство, отгороженное от лаборатории шкафами, занимали верстаки с разложенными на них деталями и заготовками, тиски и тисочки, станки сверлильные и шлифовальные с ножным приводом – и прочая машинерия.
Металл таинственно поблескивал из сумрака.
– Извольте сравнить!
Эрстед склонился над склянками. Каждая была аккуратно подписана: название вещества, дата и время получения. Не всякий химик датского Королевского общества мог похвалиться такой скрупулезностью! В первой хранился рассыпчатый порошок, чуть желтоватый, как цейлонский жемчуг. Порошок во второй склянке имел серый оттенок и выглядел комковатым. В третьей же лежала грязная «размазня».
Более всего она напоминала манную кашу, плохо сваренную на воде.
– Похоже, ксилоидин притягивает влагу из воздуха, – пожал плечами датчанин. – Свойство известное…
– И называется оно гигроскопичностью! Как же, знаем-с. Но что с этим прикажете делать, голубь вы мой? Ведь влага нейтрализует все горюче-взрывчатые свойства вещества. Позвольте крошечную демонстрацию. Малюсенькую, считай, детскую…
Разумеется, без «крошечной демонстрации» Гамулецкий, штукарь до мозга костей, обойтись никак не мог. На дальнем конце стола, водружен на чугунную треногу, лежал плоский кусок мрамора с отбитым краем. Судя по поверхности камня, изъязвленной кислотами и местами закопченной, «демонстрации» на нем производились с завидной регулярностью. Высыпав на мрамор чуточку порошка из первой склянки, Гамулецкий запалил от ближайшей свечи длинную лучину.
– Осторожно, Антон Маркович!
– Не извольте беспокоиться, милостивый государь мой! – Глазки старика задорно блеснули. – Не впервой!
Яркая вспышка озарила лабораторию. Порошок сгорел с легким хлопком, энергичнее, нежели горела бы аналогичная порция пороха. Зато дыма образовалось гораздо меньше.
– А вот так горит трехдневный…
Комковатый порошок злобно зашипел, стреляя искрами, и наконец вспыхнул. Эффект не шел ни в какое сравнение с начальной пробой. «Размазня» же гореть отказалась наотрез.
– Что скажете? В моем подвале сухо, образцы хранились в закрытых склянках. И тем не менее…
– Скажу, что в таком виде ксилоидин непригоден ни в качестве горной взрывчатки, ни для вашего иллюзиона. Возможно, причина повышенной гигроскопичности – в содержащихся примесях. Тут я вижу два пути решения проблемы. Первый: получить как можно более чистый препарат. И второй: напротив, значительно увеличить количество примесей. Фактически создать новый состав на основе ксилоидина.
– И какой из этих способов, по-вашему, более прост?
– Запачкать всегда легче, чем очистить, – датчанин усмехнулся. – Дайте-ка подумать…
Он прошелся по лаборатории. От движения воздуха пламя свечей заколебалось. По стенам метнулись тени – словно из небытия, желая помочь опытам, явилась целая свора призраков с дипломами. Когда Эрстед, задумавшись, сунулся в мастерскую, с высокого табурета орлом взлетел расторопный Никита, ожидая распоряжений. Но Гамулецкий из-за спины гостя махнул слуге рукой:
«Ничего не надо, сиди и жди!»
Сразу же фокусник замер вновь, сделавшись тише мыши. Недавняя шумная оживленность сгинула без следа. Ученый варяг пытается решить проблему? Отлично-с! Не будем мешать.
Быстрым шагом вернувшись к лабораторному столу, Эрстед ухватил склянку с наиболее сухим порошком. Поднес к глазам, сощурился, вглядываясь.
– У вас не найдется увеличительного стекла?
Гамулецкий звонко щелкнул пальцами. Менее чем через минуту Никита с поклоном вручил гостю тяжелую лупу – на длинной ручке, в черепаховой оправе. Датчанин высыпал щепоть порошка на чистое стекло, придвинул жирандоль – большой фигурный подсвечник – и погрузился в изучение.
– Структура волокнистая, – пробормотал он спустя некоторое время, от рассеянности перейдя на немецкий, – как и следовало ожидать. В этом одна из причин. Поры, пустоты, рыхлость… повышенное сродство к влаге… Ха! Есть идея!
– Да? – встрепенулся Гамулецкий.
– Если мои предположения верны, то, заполнив пустоты между волокнами, мы значительно уменьшим гигроскопичность ксилоидина. А если удастся получить однородную твердую массу… Только и сам наполнитель должен быть весьма горюч. Ну-ка, где тут у вас органические растворители?
Работа закипела. Гамулецкий со скоростью мартышки, ворующей орехи, выставлял на стол бутыли с растворителями. Как истинный иллюзионист, он извлекал их не пойми откуда – из карманов, что ли? Никита расставлял кюветы и клал возле каждой по фарфоровому шпателю. Эрстед придирчиво изучал этикетки. Большинство банок было подписано на двух языках: по-русски и на латыни.
Не то что в лаборатории Лю Шэня, припомнил он. Там даже иероглифы не везде имелись. Восточная мудрость – дело хорошее, но европейский аккуратизм нам привычнее. Отобрав четыре растворителя – ацетон, двууглеродистый водород,[19] винный спирт и эфир, – Эрстед принялся рассыпать по кюветам сухой ксилоидин.
Услужливый Никита сунулся было с подсвечником – глазки! глазки поберегите, сударь! – но наткнулся на бешеный взгляд датчанина и шарахнулся прочь, едва не опалив себе бороду.
– Куда с открытым огнем?! – зарычал на слугу Андерс, превратившись из душки-ученого в разъяренного полковника Вали-Напролом. – Смерти нашей хочешь?!
– Никак нет-с, вашбродь! – бедняга аж взопрел. – И в мыслях не имел!..
– Запомните, любезный, – остыв, датчанин похлопал слугу по плечу. – С огнем к этим жидкостям лучше не соваться. Если их пары вспыхнут – выскочить не успеем!
Он обернулся к Гамулецкому.
– Сразу видно, Антон Маркович, что вы занимались больше механикой и физикой, нежели дурно пахнущей матушкой-химией. Как мастерская ваш подвал неплох. Но как химическая лаборатория… Ваше счастье, что на воздух не взлетели, вместе с домом. На будущее я бы рекомендовал подыскать более приспособленное помещение… Ладно, продолжим.
Поначалу Эрстед хотел ограничиться четырьмя составами на основе чистых растворителей. Но, сделав смотр ряду кювет, выставленных старательным Никитой, – точь-в-точь корабли на параде! – он вдруг усмехнулся. Давно мы как следует не экспериментировали!
– А ну-ка, дружок, принеси мне еще канифоли и воску. И ружейного пороху. Только смотри не подожги! – он погрозил Никите пальцем. – Вас, Антон Маркович, не затруднит записывать составы, которые я стану диктовать? Буду признателен. Да, и передавайте мне бумажки с записями…
Выставив перед собой шесть мерных стаканчиков, он глянул пару на просвет: хорошо ли вымыты?
– Итак, записывайте: кювета номер один. Ксилоидин – две мерки, ацетон – полторы жидкие унции. Кювета номер два: ксилоидин – две мерки, спирт винный – полторы унции. Кювета номер три…
Четверть часа, и от воздуха в подвале осталось одно название. От гремучей смеси паров слезились глаза, першило в горле и кружилась голова. Гамулецкий от греха подальше перебрался в мастерскую, где при свете жирандоля писал на верстаке под громкую диктовку варяга. Отчаянно чихающий Никита, прикрывая лицо платком, бегал от хозяина к мучителю с готовыми записками, которые Эрстед подкладывал под кюветы, дабы не запутаться в составах. Одному лишь полковнику Вали-Напролом, казалось, все было нипочем. Раскрасневшись более от научного азарта, нежели от эфира с ацетоном, он продолжал наполнять кюветы и орудовать шпателями, перемешивая содержимое.
Работать приходилось в полутьме, считай, на ощупь, опасаясь придвинуть подсвечник ближе. Он и так изрядно рисковал, но остановиться не мог и не желал.
– Двадцатая кювета! Три мерки ксилоидина, полторы унции ацетона, пол-унции эфира, унция спирта, три мерки пороху и две щепотки канифоли. Ф-фух, это последняя! Записали? Давайте сюда, и пойдемте-ка на улицу! Пусть сохнет…
2
Когда они выбрались из подвала, фокусник трупно-зеленым цветом лица напоминал восставшего покойника. Эрстеду сразу вспомнился штурм Эльсинора шведами-мертвяками. Он даже испугался: как бы с мэтром не приключилось беды – в его-то возрасте! Однако все обошлось. При помощи флакона с нюхательной солью и бокала «Мартеля» Антон Маркович быстро восстановил силы, телесные и душевные.
Хозяин с ехидцей поглядывал на гостя:
«Что, боялись, я заставлю себя уважать?[20] Не дождетесь!»
Сам Эрстед надышался ядовитой дрянью куда сильнее Гамулецкого, но старался не подавать виду. Если уж старик так держится, нам и подавно грех давать слабину. От нюхательной соли он отказался, но поданной Никитой еде – пирогу-рыбнику, мясной кулебяке и соленым груздям – отдал должное. Как и смородиновой настойке, которую хозяин всячески рекомендовал. Откушав с немалым удовольствием, Эрстед убедился: иллюзионист знает толк не в одних китайских чаях да хитроумной машинерии.
Два часа пролетели стрелой. Вставая из-за стола, полковник был готов к дальнейшим подвигам.
– Спускаемся? Думаете, времени прошло достаточно?
– Уверен. Все органические растворители, которые я использовал, весьма летучи. По крайней мере предварительные результаты будут видны.
В подвал спускались с опаской. Эрстед распорядился, чтобы Никита с подсвечником шел позади всех. Едва, мол, махнут тебе рукой – замри на месте и дальше не суйся. Однако страхи оказались напрасны. Вонь в подвале ощущалась, но вполне терпимая. Можно дышать, не боясь грохнуться в обморок.
– Ну-ка, поглядим…
Картина в большинстве кювет не слишком вдохновляла. Желто-белесая жижа, точь-в-точь моча больного диабетом, еще не посетившего лечебный курорт в Лугачовице, – или жалкий осадок под слоем мутной жидкости.
– Теперь мы знаем: ксилоидин в двууглеродистом водороде не растворяется, – констатировал неунывающий Эрстед, сверившись с записками. – Зато смеси растворителей…
– А это что такое? – Гамулецкий стоял в дальнем конце стола, у последних номеров. – Смотрите, Андерс Христианович!
И, прежде чем датчанин успел его остановить, проворно запустил руку в кювету.
– Побойтесь Бога, Антон Маркович! Зачем же руками хватать?
Неугомонный старик виновато потупился:
– Привычка. Все надо на ощупь попробовать…
– Хорошо, что там не было кислоты или щелочи. Обожглись бы, – ворчливо выговаривал ему Эрстед. – Кстати, а где образец?
Он уставился на кювету, испачканную черной грязью. За исключением нее, кювета была пуста.
– У меня в руке, – тоном удачно напроказившего мальчишки сообщил восьмидесятилетний фокусник. – По консистенции напоминает сырую глину. Мнется, лепится… и сохнет прямо в пальцах. Вот, извольте взглянуть.
Гамулецкий продемонстрировал кругляш неправильной формы. Более всего тот напоминал крупную сливу, черную от спелости.
– Хм… любопытно… – забыв о наставлениях минутной давности, датчанин в свою очередь ткнул в кругляш пальцем. На образовавшуюся вмятину он воззрился, как Моисей на пылающий куст. – Говорите, быстро высыхает?
– Совершенно верно, голубчик.
– Если не возражаете, помните его еще чуточку. Глядишь, скорее застынет. Тогда и увидим, что у нас получилось.
Не сговариваясь, оба естествоиспытателя опустили глаза на листок бумаги, где были перечислены компоненты «сливы».
– Значит, смесь растворителей. Плюс дополнительный загуститель… С остальным разберемся потом. Есть у меня подозрение, Антон Маркович, что вы держите самый перспективный образец.
Гамулецкий продолжал усердно мять «сливу» в пальцах. Та уже не пачкала руки. Когда по прошествии четверти часа образец застыл окончательно, он походил на толстую сигару, которую изваляли в угольной пыли. Забрав «сигару» у иллюзиониста, Эрстед в задумчивости постучал ею по столу, колупнул ногтем.
– Твердая, как камень. Гвозди забивать можно.
– Вы изобрели молоток! – хихикнул старик. – Мастеровые вас благословят! Но нас, если вы помните, интересует другое применение этого чуда. Испытаем?!
Взгляд хозяина дома пылал боевым задором.
– Только не здесь! Мы понятия не имеем, каков будет эффект. Нужно уединенное место, где мы проведем испытания без свидетелей. Иначе нас могут неправильно понять.
– Вы совершенно правы, Андерс Христианович! Как же это я дал промашку? Случись взрыв – мигом примчится полиция, жандармы… Нет, нам с вами эксцессы ни к чему. Тем паче вы иностранец, особа под подозрением…
В словах и движениях Гамулецкого пробилась суетливость, ранее не свойственная мэтру. Это неприятно удивило Эрстеда.
– Едемте за город! Я велю Никите пригнать извозчика.
– Погодите. Вы ведь помните, в чем заключалась исходная проблема?
– Гигроскопичность!
– Вот и проверим. Никита, графин воды и стакан!
Наполнив стакан, Эрстед окунул туда «сигару» и пару минут болтал ею в воде. После чего извлек предмет исследований, провел по нему пальцем.
– Ни малейших признаков размягчения. Дайте мне платок.
Он тщательно вытер образец и протянул его хозяину дома:
– Убедитесь, Антон Маркович. Никаких следов влаги.
– Замечательно, голубчик! Едемте!
3
Миновав здание Лесного института, пролетка выбралась на Муринский выезд. Петербург остался позади. В спину летел перезвон колоколов; по правую руку за деревьями маячила россыпь крестьянских изб, крытых соломой, – «богоспасаемое сельцо Спасское», как пошутил Гамулецкий. Свернув на развилке влево, к лесу, пролетка отмахала, подпрыгивая на ухабах, еще сажен сто и остановилась.
– Приехали, – сторожась извозчика, шепнул Эрстеду фокусник. – Место тихое, безлюдное. Даже будочника тут отродясь не видали…
Сидевший рядом с кучером Никита велел тому «вертать» к выезду и ждать там, спрыгнул на землю и помог хозяину выбраться из пролетки. Эрстед обошелся без помощи слуги. Когда они углубились в лес, багряно-золотое великолепие осени, столь редкое для здешних промозглых краев, обступило людей. Под ногами шуршала палая листва. Датчанин дышал полной грудью, наслаждаясь горьковатой прелью.
«Ну не кощунство ли, – думал он, – нарушить эту глубокую мирную тишину грохотом взрыва? Отравить густой и терпкий воздух гарью? Увы, наука требует жертв…»
Смеркалось. Последние лучи солнца насквозь пронизывали лес. Пурпурные спицы тыкались в заросли, высвечивая часть шершавого ствола, ажурное кружево кустарника, грозди рябин, ядреный подберезовик с листком клена, прилипшим к масляной шляпке; наособицу торчал черный пень, похожий на постамент для языческого изваяния.
Пристроив «сигару» на краешке пня, Эрстед взял у Никиты пороховницу и стал насыпать дорожку. Он не хотел рисковать.
– Прошу всех отойти подальше.
Слуга с готовностью повиновался, резво удрав чуть ли не в самую чащу. Гамулецкий, сгорая от любопытства, попятился с неохотой, не дальше соседнего дерева. Эрстед сперва хотел настоять, чтобы старик ушел подальше, но решил не вступать в долгий спор и достал серебряную коробку с фосфорными спичками. Едва порох вспыхнул, он со всех ног бросился прочь – и силой увлек фокусника за могучий дуб, способный выдержать удар пушечного ядра.
Вовремя!
Шипя и искря, веселый огонек добежал до образца. «Сигара» ярко вспыхнула. Миг спустя она подпрыгнула и со свистом, как ракета, ушла в полет – к счастью, в противоположную от экспериментаторов сторону. Преодолев футов тридцать, «сигара» с оглушительным грохотом взорвалась. Заполошное эхо раскололо молчание леса. С веток посыпались листья; захлопали крыльями птицы, крича от испуга.
– Вот это да! – восхитился Эрстед. – Не ожидал, право слово…
– Великолепно, Андерс Христианович! Восхитительно! – Подвижное, как у обезьянки, лицо фокусника лучилось искренним, детским счастьем. – Подлинный триумф! От души вас поздравляю! Я нисколько не сомневался, что вы – блестящий ученый, но сегодня… Голубчик, вы превзошли самого себя! Сердечно вам благодарен. Ах, какие перспективы! Горное дело, фейерверки… Это готовый фокус! Завернуть такую штучку в табачные листья… Я назову этот номер «бешеная сигара»!
Эрстед молча слушал восторги Гамулецкого. Ему не нравилось напавшее на старика словоизвержение. За безобидным монологом ощущалось напряжение нервов. Отставной ученик Калиостро, иллюзионист был не так прост, как хотел казаться. «Что же я в действительности сотворил? – запоздало подумал датчанин. – Подарок горнякам? Фокус-покус?
Кому дадут прикурить «бешеную сигару»?
В каком лесу?»
Сцена восьмая Вражья молодица
1
Лес молчал, ожидая.
– Nie! – выдохнул князь Волмонтович. – Nie, nie i nie!
И повторил по-русски, резко и грубо, словно ставя жирную кляксу вместо подписи:
– Нет, господа!
Вздохнул, глянул наверх, в просвет между облаками. Поймал зрачками тусклый луч солнца – и совсем ни к месту вспомнил, что не захватил с собой «пекельные» окуляры. С вечера выложил на стол, протер бархоткой, прикинул, что в немецкой лавке возле Гостиного двора надо бы купить удобный и легкий футляр…
Запамятовал, х-холера! И теперь как ни в чем не бывало смотрит на солнце. Оно же, позабыв службу, вовсе не торопится выжечь его упыриные очи. Решило попрощаться, да?
– Видит Бог, не хотелось бы говорить… Но вы, князь – предатель. Или трус, что еще хуже.
Странно, он не узнал голос. Густой бас Орловского и сухой скрежет пана Пупека спутать нельзя, но в этот миг князю показалось, что с ним говорит кто-то третий. Без всякой охоты он оторвал взгляд от неожиданно милосердного светила; осмотрелся. Нет, никого не прибавилось. Просека в лесу, осенние листья под копытами лошадей, напряженные лица спутников.
Злые глаза, злая речь.
– Ваша жизнь нужна Польше, князь. Не рискнув ею, вы легко потеряете честь. Честь природного шляхтича!
На сей раз не спутаешь. Орловский! Сын корчмаря из Седлица учит князя Волмонтовича шляхетству. Посмеяться бы!
– Просим зацного пана подумать еще раз. Очень просим!
А это пан Пупек. Завел-то, запел! Прямо-таки «Мы, Божьей милостью круль Пуп, Первый сего имени…»
– Пану предстоит возвращение в Петербург. Без нас дорога выйдет опасной!
Самое время послать наглецов иным маршрутом – в коровью дупу через двадцатый плетень на полусогнутых. А затем показать, что может сотворить с хамами предусмотрительно взятая с собой трость. Забегают герои, пся крев!
Волмонтович все-таки сдержался. Значит, трус и предатель?
А вы – кто?
Начиналось все идиллически. Дни стояли ясные, не по-здешнему теплые, и Орловский, великий любитель конных прогулок, предложил выехать за город. Лошадей взяли в Манеже, возле Адмиралтейства. Пришлось раскошелиться, зато конь попался князю отменный – статный вороной «англичанин», с которым он подружился на первой же версте. Орловский воссел на серого в яблоках жеребца; пан Пупек, явив нежданную ловкость, оседлал гнедую норовистую кобылу.
– Gotowe, panowie? W przód! Hoj-da! Hoj-da!
Миновав последнюю городскую заставу, всадники, не торопясь, направились по пустому в это утро Московскому тракту. Через несколько верст свернули на проселок. Тихие рощицы в желтой листве, узкая речушка, деревня… Волмонтович пожалел, что не удосужился изучить карту столичных окрестностей. Но спутники не стали томить его неизвестностью. Ехали они в сторону Царского Села, путь же избрали особый. Снова деревенька (чухонская, как пояснил всезнающий пан Пупек), лес, просека; тихий погожий день… Недолго стоять тишине! Именно здесь, в захолустье, в скором времени предстоит лечь первой российской «чугунке». Загремит железо, ударит в небо столб пара, двинутся колеса по чугунным рельсам…
Прогресс не ведал границ и пределов.
О железной дороге рассказывать выпало пану Пупеку. Уже после первых фраз Волмонтович понял: и поездка, и маршрут избраны не случайно. В первую встречу его убеждали словами. Настала очередь дел.
Дорога задумывалась как испытательная. Пан Пупек не без удовольствия сообщил, что год за годом все проекты «чугунки» удавалось класть под сукно – при помощи влиятельных лиц из польской общины Петербурга. Впрочем, особо стараться не пришлось. Против сухопутных пироскафов выступила церковь, видя в них страшный соблазн и поругание устоев. Восстало Министерство финансов – министр Канкрин жаловался на бюджетный дефицит и напоминал о российской зиме, делавшей, по его мнению, невозможной круглогодичную эксплуатацию и без того затратной дороги. Против такого довода не мог возразить даже император, при всей высочайшей любви к новинкам техники. А недавно появился еще один веский аргумент. В Англии, цитадели прогресса, при открытии очередной «чугунки» умудрились задавить не кого-нибудь, а министра, отвечавшего за ее строительство.
Выстроил себе дорогу британец – в рiekło!
Так бы и скучать России, трясясь в громоздких тарантасах, но, к явному неудовольствию пана Пупека, в последний год все стало быстро меняться. Откуда ни возьмись объявился в столице какой-то Мальцев – то ли инженер, то ли заводчик из невеликих. Ездил он по Европам, вернувшись же, кинулся к государю, принявшись его смущать да искушать западными соблазнами. Все, мол, на Святой Руси плохо: и ружья кирпичом битым чистим, и пушки льем, как при Грозном. Главное же – с дорогами беда. С дураками – ладно, потерпим, а дороги – важнейшее дело! На турка да на Шамиля еще можно солдатским шагом поспеть.
А вдруг приплывут англичане с французами?
Поначалу царь велел отправить искусителя в желтый дом. Однако передумал, стал слушать. Министр Канкрин хотел вмешаться, но двери задом прошиб, ободренный государевым пинком. И вот – дорога. Пусть еще в проекте, на листах бумаги. Слово царево – золото. Сказал – значит, будет «чугунка».
А за нею вторая, третья…
– Что случится через двадцать лет? Какой станет Россия? – завершил рассказ пан со смешной фамилией. – Думайте, князь. Ох, думайте!
Долго думать не дали. После полудня остановились в придорожном трактире, отобедали чем Бог послал; проехали еще версту-другую, свернули в лес…
– Нет, господа. Нет, нет и нет!
2
– Это ваше последнее слово, князь? Или за вас отвечает ваша смелость?
Снова чужой голос – не пойми чей, ниоткуда. Услышав такое, всякий схватится за оружие – или вцепится оскорбителю в горло. Его дважды назвали трусом. Его, «золотого» улана, урожденного шляхтича герба Божаволи!
Волмонтович чуть не расхохотался. Можно и в горло, ага. Большой на этот счет опыт имеется. То-то удивятся панове заколотники! Впрочем, не успеют. Разве что булькнут напоследок.
Объясниться? Если разум не потеряли, поймут. Но о чем сказать? Обо всех – и поляках, и русских, – кого эти стратеги кладут под топор? Он ведь и сам рискует не только своей жизнью. Случись что, погибнет не только никому не нужный отставной упырь. Пострадает и Андерс Эрстед, и мальчишка Шевалье. Уже за одно это князю, спасенному когда-то датчанином с большим сердцем, не будет прощения ни здесь, ни в аду…
Но что Пупекам чужая судьба?
– Наши жизни, панове, – прах. Но не прах – Польша, Речь Посполитая.
Не удержался князь, задрал голову к небу. Ты на месте, солнышко?
Ну и славно!
– Что бы вы ни придумали, какую бы штуку ни изобрели, русские в конце концов догадаются. Мы убиваем их царя! Царя, панове! Убийц станут искать сто лет – но отыщут, слово чести, значительно раньше. Не нужно улик – достаточно подозрения. Пятно все равно останется. Кровавое пятно – на Польше! Что тогда? Для нас Николай – тиран, для них – государь-батюшка, родной отец миллионов русских от Балтики до Охотского моря. Мы бьем в сердце Руси – в помазанника Божьего! Они перестанут мстить, лишь когда умрет последний поляк.
Задохнулся, умолк. Неужели не поняли?
– Тирана покарает Господь, – скучным голосом отозвался пан Пупек. – Князь! Вам достаточно взглянуть на ту… штуку, что мы изобрели, и вы все поймете. Успех обеспечен!
– У нас были трудности со взрывчатым веществом, – подхватил художник. – Но теперь, как сообщили мне доверенные лица, все решится в самом скором времени. Такого оружия нет ни у кого в мире!
Сомкнулись косматые облака. Последний, робкий луч. Прощай, солнце!
Не поняли…
Вороной конь, новый друг, с сочувствием блеснул темным глазом. Волмонтович улыбнулся в ответ: поскачем, брат?
– Мы ждем два дня, – пулей ударило в спину. – Вспомните, что вы – поляк, князь!
Хотел смолчать, да не сдержался.
– Мои предки – литвины, из Белой Руси. Два года назад вы подняли восстание, но свободу обещали только полякам. Когда-то Речь Посполитую основали три вольные, три равные нации – поляки, литвины и, между прочим, русские. А какая Польша нужна вам?
Вороной понесся прочь, топча мертвую листву.
– Едет улан, едет, Конь под ним гарцует, Убегай, девчонка, А то поцелует…Когда ударили первые капли дождя, Волмонтович понял, что заблудился. Дз-зябл! Он придержал коня – и вспомнил все разом: облака, ставшие тучами, внезапные сумерки среди бела дня, попытки умницы-вороного свернуть не туда, куда направлял его утонувший в раздумьях всадник… Конь не спешил, то и дело переходя с прибавленного шага на правильный. Волмонтович мысленно похвалил животное, умеющее верно распределять силы. Не то, что он сам – разговор вымотал чище Лейпцигской баталии. Видать, и силенок поубавилось, и возраст уже не тот.
Просека, впереди – еще одна, малым крыжем-перекрестком. Осенний лес, бурка туч над головами. Хвала всем святым, капало негусто. У перекрестка князь натянул поводья:
– То в какую сторону, пан Woronoy?
Конь мотнул головой – налево, на узкую просеку. Изловчился, заглянул человеку в лицо. Туда, мол!
– Нет! – спохватился князь, оценивая обстановку. – Если заблудился, всегда езжай по ogólne… по широкой дороге. Есть такое правило, пан Woronoy. То прошу пана прямо.
Конь не без сомнения заржал. Миновав перекресток, встал, словно в болоте увяз. Вновь заржал: с тревогой, отчаянно.
– Не бойся! – подбодрил его князь. – Нам ли упырей страшиться?
Не к месту вспомнился пан Пупек с его угрозами. Кого пугаешь, дурной пупок?
– Лихим же людям, честно скажу, лучше нам путь не заступать. Да и кому мы здесь нужны?
Конь понурил голову, сделал несколько шагов – и вдруг перешел на собранную рысь. Понимал, молодец, как седоку меньшее неудобство доставить. Вспомнил князь, чему в отрочестве был учен: три десятых повода, семь – шенкеля. Вперед, пан Woronoy!
Hoj-da!
– Едет улан, едет, Зброей ясной светит, С каждой девкой ласков, Каждую приветит…Мчат сквозь сумерки конь и всадник. Расступается лес, открывает путь лихому улану. Дождь – и тот перестал, удрал до срока в темные тучи. Езжайте с Богом, а я ночью наверстаю.
– Но сильней всех любит И зовет жениться, В саване шелковом Вражья Молодица…Стук копыт, шелест потревоженных листьев. Шум сонного леса… Вперед! Дорогу Волмонтович не вспомнил, но рассудил, что не в Сибири он и не в Монголии. Широка просека, значит, куда-то ведет – если не в Петербург, то в чухонскую деревню.
Приедем – разберемся.
– Каждого улана Встретит и приветит…Ай! Вовремя вспомнил князь, о ком поет, прикусил язык. И без твоей милости, панна Молодица, вечер проведу, не заскучаю. Бросил взгляд налево – пусто, лес да дорога. Хвала Заступнице! Направо поглядел…
Очи бы протереть – и окуляры, что на столе забыл, заодно.
Х-холера!..
Светлая тень по-над лесом. Белая всадница среди серой мглы. Не скачет – скользит. Ни ударов копыт о дорогу, ни конского храпа. Белое на сером…
Накликал!
3
В призраков Казимир Волмонтович не верил, что весьма дивно, если вспомнить его биографию. А вот не верил, да! – причем не сердцем, а вполне сознательно. В детстве, когда сверстники ночью через кладбищенскую ограду лазили, теша отвагу шляхетскую, малыш Казик лишь свистел с презрением. Если слишком приставали, пересказывал слова ксендза, отца Жигимонта. Не признает святая католическая Церковь нежить и нелюдь – и верить не велит. Все, что в ночь встретишь, – либо земное, людским разумом постигаемое, либо мара, дуля от пана Нечистого. Только хлопы призраков страшатся!
На кладбище, впрочем, залез – на спор, дабы отстали.
Мудрости отца Жигимонта хватило надолго, считай, на полжизни. Вновь поговорить о нечисти довелось уже не с ксендзом, а с академиком Хансом Христианом Эрстедом. Едва очухался князь после первого сеанса электричества, тут любопытство и забрало. Навидался всякого, пора по полочкам разложить. У Эрстеда-младшего спрашивать не стал, постеснялся. Зато академик, человек Большой Науки – считай, тот же ксендз, только из иного департамента.
Странное дело, но объяснения ученого мало отличались от сказанного священником. Разве что ссылался Эрстед-старший не на папские буллы, а на иные догматы – научные. Призраки, сказал академик, – гримасы физики и обман чувств. А в конце разговора признался, что некие «явления» посещают его с самого детства. Не слишком часто, но регулярно. Все виденное он аккуратно заносит в особый дневник. Разберется Наука, и не с таким разбиралась.
Ободрил, нечего сказать!
Князь закусил губу. Скачет? Скачет! Белая тень на коне бледном, в светлом плаще с капюшоном, с пелериной, будто в саване могильном. Молодая, строгая, из-под капюшона пряди волос выбиваются.
Ты ли, Молодица? Из песни пожаловала?
– К-куда? Куда, пся крев?!
Эх, пан Woronoy! Верил тебе, как с человеком речи вел. А ты чего сделал? Кто тебя просил за белой тенью сворачивать? А ежели бы она в пропасть нырнула? В омут речной?!
– Stoj, cholera!
Громко голос прозвучал, спугнул вечернюю тишину. Встали разом – два коня, два всадника. Был лес, явилась поляна, а в центре – беседка из камня-мрамора. Удивился князь: выходит, мы в парке? А там и понял: нечему дивиться.
Сюда, видать, и заманивали.
Рука потянулась к верной трости, притороченной к седлу. В кого стрелять станешь, улан? В призрачную всадницу? Во Вражью Молодицу из песни? В девушку, что заблудилась меж аллей – или просек, кто их в России разберет?
Или в самом деле храбрость заговорила? Во всю глотку благим матом заорала?
– Serez-vous m’aider à descendre le cheval?[21]
Шляхтич – и в лесу шляхтич. Если дама обращается с просьбой – спеши к ней, не размышляя. Кто она – случай, обман зрения или панна Smierć – не важно.
– Oui, мadame!
– Я опоздала на встречу, мсье Волмонтович. Не по своей вине, но опоздала. Мсье Орловский указал, в какую сторону вы поехали, остальное было несложно. Эти места я знаю с детства. Пришлось, правда, сделать крюк. Вы избрали странный маршрут, князь!
Капли дождя, злясь, барабанили по крыше. Беседка оказалась вместительной, спрятав от непогоды и людей, и животных. Осталось место и мраморному Аполлону, для которого вся красота и строилась. Стучи-колоти, пан Дождик.
Не страшно, мы в домике!
– Собственно, мсье Орловский и виноват. Хотел договориться с вами лично, он по-своему очень ревнив… Что с вами, князь? Такое впечатление, что вы увидели призрак.
Волмонтович лишь сглотнул. Очки надо было брать, х-холера! Тогда бы не скользили белые пятна вдоль кромки леса, не чудились «явления»! Обман чувств, как и объяснял пан академик. Правда, окуляры у нас обычные, без зрительных хитростей. Черное стекло – защита от солнца. Но… Допустим, привык видеть все сквозь темный занавес, вот и вышла осечка.
Могло такое статься? По крайней мере логичнее встречи с призраком.
– Зовите меня Хеленой. Только не мадам – мадемуазель.
Придираться Волмонтович не стал. Хелена – значит, Хелена. Мадемуазель. А вот поинтересоваться, чем он, скромный путешественник, обязан столь романтической встрече, хотел – и не успел.
– Я искала вас, князь, чтобы сказать: вы правы. Императора Николая должен убить русский. Мы нашли такого человека. Но и вы тоже нужны. Наш кандидат излишне горяч, ваша твердая рука – залог поддержки на крайний случай.
Все стало ясно.
4
– Вы не ошибаетесь, князь. Русские любят «царя-батюшку». Однако даже в простом народе хватает недовольных. Раскольники, сектанты; родственники тех, кого отправили в Сибирь… Впрочем, наш случай много проще.
Мадемуазель Хелена взмахнула изящной ручкой.
– Представьте себе дворянина. Род древний, но захудалый. Не богат, не слишком привлекателен; немолод, наконец. Но этот жантильом встретил очень красивую девушку. Первую красавицу России! Сыграли свадьбу. Однако на свою беду молодожены попались на глаза его величеству. Наш император – великий ценитель женской прелести. Говоря языком черни, бабник.
Волмонтович чуть не присвистнул.
Господи, как просто! А он про Святую Русь толковал!
– Остальное, думаю, понятно. Над незадачливым мужем потешается весь Петербург. Все, что он может сделать, – оставлять супругу в тягости, чтобы та пореже танцевала на балах в Зимнем. Смешно! Но это нам смешно, а ревнивцу не до смеха.
– Все просто, – повторил Волмонтович уже вслух. – О женщины!
– О мужчины! – рассмеялась в ответ Хелена. – Между прочим, чтобы отправить меня на охоту за вами, кое-кому тоже пришлось очень постараться. Обошлось без ревности – мне пообещали иное…
Уточнять девушка не стала, как и Волмонтович – переспрашивать. Гуляй они ясным днем в Булонском лесу, все было бы понятно: панна Хелена не прочь пококетничать. Правда, мы не в Булони…
– Как видите, князь, даже в случае неудачи все будут говорить не о политике, а о ревнивце, поднявшем руку на развратника. Но вы постарайтесь, чтобы неудача прошла стороной. Незадачливого супруга мы с вами назовем – мсье Cricket…
– Pan Swierszcz, – механически перевел князь. – А по-русски?
Хелена вновь засмеялась:
– Так и будет – Сверчок. Мелюзга, которая вопреки пословице не желает знать свой шесток. Нравом он истинный африканец: страстен, горяч, необуздан. Вот вы и побудете рядом; русский и поляк – вместе. За нашу и вашу свободу! Za naszą wolność i waszą! Правильно?
Волмонтович кивнул.
– Раз так, я… мне надо подумать… – Голова слегка кружилась. В висках стучали назойливые молоточки. Мысли путались. Хелена казалась прекрасной, ради нее хотелось совершить подвиг. – Если сами русские считают, что смерть тирана – в интересах их родины…
– Не только России, князь!
Лицо Хелены исчезло в густых сумерках.
– Это часть великого замысла, проекта, который осуществляется уже больше века. Для его пользы работали многие – алюмбрады, масоны, французские инсургенты, британские виги; Клаб, декабрь на Сенатской площади… Свободная федеративная Россия станет союзником Объединенной Европы – континента без границ и таможен, с единым гражданством и законами. Еще две федерации охватят Северную и Южную Америку. Мы объединим лучшую часть Человечества, а потом поможем остальным народам Земли! Представляете? Вы успеете увидеть зарю Прекрасного Нового мира!
На какой-то миг Волмонтович поверил – так убедительно звучали ее слова.
– Я вряд ли успею. А вы?
– Не стоит об этом, князь. Каждый получит свое. Я прогулялась по осеннему лесу, вдохнула чистый воздух, побеседовала с настоящим мужчиной. Даже сумела чем-то помочь Будущему. Со мною щедро расплатились… А сейчас – пора!
Она вывела кобылу из беседки, ловко вскочила в седло.
– Прощайте! И не ищите встречи со мной, князь. Не торопитесь!
– Мадемуазель! Куда же вы?!
Ему не ответили. Силуэт всадницы растворился в вечерней мгле. Волмонтович успел лишь заметить, что девушка скачет не к покинутой ими просеке, а в лесную глушь.
– И что пан Woronoy изволит посоветовать? Ехать вслед за нею?
– Или тебя, пан Казимир, бабка в детстве сказками не баловала? – сказал в ответ верный конь. – Или не знаешь, куда такие девки по ночам ездят? По чьей воле? Велено тебе не торопиться – не торопись!
То есть не сказал, конечно, – лишь гривой мотнул.
Но вполне мог бы.
Сцена девятая О вы, счастливые науки!
1
– Ваше сиятельство, к вам посетитель.
– Кто?
– Мэтр Гамулецкий. Говорит, ему назначено.
– Впусти. И оставь нас.
– Слушаюсь…
«…и повинуюсь», – хотело добавить ехидное эхо, но оробело и сочло за благо промолчать. Давно изучив характер хозяина дома, эхо хорошо знало, когда шуточки уместны, а когда – лучше воздержаться.
– Здравия желаю, ваше высокопревосходительство!
Возникший на пороге старик молодцевато щелкнул каблуками. Эхо вздохнуло. Что дозволено фокуснику, запрещено ему, тайному дыханию особняка.
– Здравствуйте, Антон Маркович. Присаживайтесь. У вас есть новости?
Густой, низкий голос хозяина наполнял кабинет до краев. Он растекался маслом, проникая в каждую невидимую глазу щель. Наружу, однако, голос выплескиваться не спешил. Окажись по чистой случайности кто-нибудь за дверью – не расслышал бы ни слова.
Гамулецкий проследовал к свободному креслу. Рядом, на столике черного дерева, горела одинокая свеча. Ее пламя отражалось в полированной поверхности. Казалось, в темной глубине кто-то стоит, подняв над головой еще одну свечу. Когда иллюзионист сел, свет рельефно облил его всего: лицо, сухонькую фигуру, нервно сцепленные пальцы рук. Хозяин же остался в тени. Угадывался лишь массивный силуэт в громоздком, похожем на трон «вольтеровском» кресле у камина – холодного, несмотря на осень.
– Так точно, ваше высокопревосходительство. Разрешите доложить?
– Не паясничайте, Антон Маркович. Роль прапорщика вам не идет.
– Ну почему же? В отставку я вышел коллежским регистратором, а в «Табели о рангах» сей смехотворный чин как раз и соответствует воинскому прапорщику. Как прикажете в таком случае обращаться к, считай, генерал-аншефу?[22]
– Вы прекрасно поняли, о чем я. Давайте к делу.
– С удовольствием. Новости у меня самые наилучшие. У нас есть взрывчатка! Чудо, а не взрывчатка. Сильнее пороха и абсолютно не подвержена действию влаги. Велите приступать?
– Ну-ка, поподробнее, – в голосе хозяина кабинета не чувствовалось доверия. – Что значит: есть? Два дня назад не было, и вдруг – voila? Прямо как в одном из ваших трюков.
– Никаких трюков, ваше высокопревосходительство! Исключительно достижения передовой химической науки! Опыты увенчались успехом. Мы провели испытание, и эффект превзошел все наши ожидания!
– «Мы»? С каких это пор вы стали именовать себя подобно его величеству?
– Прошу прощения, я неточно выразился. Опыты и испытания я проводил не один. На наше счастье, в Петербурге ныне гостит замечательный ученый из Дании – Андерс Сандэ Эрстед, младший брат академика Ханса Христиана Эрстеда. Он и помог мне разработать новый взрывчатый состав. По чести сказать, он сам его и изобрел на глазах у вашего покорного слуги.
В кабинете повисла тягостная пауза. Тишина сгущалась, грозовым облаком нависнув над умолкшим стариком. Эхо забилось в угол, пламя свечи явственно съежилось.
– На наше счастье? Вы, не посоветовавшись, привлекли к делу постороннего человека – иностранца! – и осмеливаетесь утверждать, что это «на счастье»?
На Гамулецкого было жалко смотреть.
– Что, если ваш Эрстед, как человек умный – а другим брат Отца Алюминиума быть не может! – что-то заподозрит? Сообщит в полицию? Вдруг ревнителям из Третьего отделения придет в голову вызвать его на допрос? Думаете, Эрстед станет от них скрывать ваши эксперименты?
– Помилуйте, ваше высокопревосходительство! – заторопился старик. – Да он ничего не знает! Наши истинные цели я держал в тайне, ни словом не обмолвился, ни единым намеком! Между прочим, я навел справки об Эрстеде. Сторонник парламентаризма, попал в Дании в королевскую немилость, был выслан из страны. И чтобы он сам побежал в полицию? На основе смутных подозрений?! Нет, я в это не верю.
Хозяин молчал, погрузившись в размышления. Затаив дыхание, фокусник ждал приговора. Тишина сделалась гулкой, словно в кабинете не осталось живой души. Наконец фигура в кресле шевельнулась. В круге света, как из небытия, возникли две холеных руки, украшенные полудюжиной массивных перстней. Масляный блеск золота, острые вспышки камней: кровь рубина, зелень изумруда…
На мизинце левой руки имелся золотой с чернением «коготь» – длиной в добрых два дюйма. Гамулецкий завороженно наблюдал, как пальцы правой руки снимают «коготь». Внутри футляра, кинжальчиком в ножнах, обнаружился длиннющий ноготь, любовно отполированный до перламутрового блеска. Руки на миг исчезли. Когда они вновь явились из темноты, правая держала табакерку, похожую на миниатюрный гробик. Чудо-ноготь аккуратно поддел крышку и скользнул в «домовинку». Обратно он вынырнул не пустой: желобок ногтя был наполнен желто-коричневым порошком.
Нюхательный табак? Знать бы, какого сорта…
Руки скрылись в тени. Послышался долгий удовлетворенный вздох. Пауза. Эху в углу захотелось чихнуть, но оно не осмелилось.
– Ваше радение о нашем общем деле похвально, Антон Маркович. И то, что вы в итоге получили нужный состав, также весьма отрадно. Но вашу веру в наивное неведение господина Эрстеда… Я ее не разделяю. Надежнее всего было бы устранить опасного свидетеля.
Гамулецкий дернулся, словно получил электрический разряд. Судорожно глотнул воздух, желая что-то сказать…
– Терпение, любезный Антон Маркович, – властный жест остановил старика. – Я еще не закончил. Повторяю: так было бы надежнее всего. Но я не сторонник радикальных мер. Вольно или невольно, этот человек помог нам и заслуживает благодарности. Кроме того, исчезни в Петербурге ученый-иностранец, явившийся по приглашению… Начнется самое тщательное расследование. А людей Бенкендорфа не стоит недооценивать.
Хозяин сухо рассмеялся.
– Похоже, мне придется лично познакомиться с вашим изобретателем, дабы составить о нем впечатление и решить, какие шаги следует предпринять. Надеюсь, он меня не разочарует.
Фокусник нервно хрустнул суставами пальцев.
– Не волнуйтесь вы так, Антон Маркович, – голос из темноты звучал ласково. – На будущее настоятельно рекомендую вам быть осмотрительней. Любые отклонения от плана – согласовывать со мной. В обязательном порядке. Вы меня поняли?
– Я вас прекрасно понял, ваше высокопревосходительство! Я привлек господина Эрстеда исключительно для пользы дела. Впредь я не позволю себе подобных вольностей!
– Вот и хорошо. А сейчас я бы хотел, чтобы вы прибегли к вашему дару ясновиденья. Надо лишний раз удостовериться в успехе нашего предприятия. Обстоятельства изменились – благодаря вам, между прочим! Я должен знать, не отразится ли это на предстоящих событиях. Все необходимое находится на столике в углу, справа от вас.
– Как прикажете, ваше высокопревосходительство.
Старик встал и с достоинством поклонился.
– Желаете, чтобы я заглянул в Грядущее в вашем присутствии?
– Да. Приступайте.
– Хочу предупредить вас: опыт не обязательно увенчается успехом. Подглядывание в замочную скважину времени – дело деликатное. А мы с вами не впервые изучаем наше, как вы изволили выразиться, предприятие…
– Я знаю.
Гамулецкий с легкостью юноши выскользнул из светового круга. Свеча мигнула от разочарования. Тень среди теней, старик бесшумно переместился в указанный угол комнаты. Не скрипнула ни одна половица. Неуловимое движение руками – пасс иллюзиониста? – и на втором столе, притаившемся во мраке, вспыхнули сразу три свечи. Чувствовалось, что хозяин кабинета далек от суеверий, утверждавших, будто три свечи – к покойнику.
Меж свечами обнаружилась ваза из богемского хрусталя, наполненная водой, и рядом – темный, гладко отполированный камень. Старик протянул цепкую лапку, ухватил камень, зажал в кулаке.
– Турмалин не напоен солнечным светом, – сообщил он по прошествии минуты. – Это хорошо. На «повторе» излишняя яркость окулуса[23] – во вред.
Он раскрыл ладонь и замер, держа камень над вазой. Казалось, Гамулецкий и сам окаменел, превратясь в статую. Не было заметно ни дыхания, ни дрожи в пальцах. Свечи вокруг вазы разгорелись на диво ярко, но в кабинете не сделалось светлее. Большую часть комнаты по-прежнему накрывала сумрачная тень. Камень на ладони вбирал весь свет, не давая ему распространяться дальше.
– Пожалуй, достаточно, – старик резко сжал кулак.
Свечи, как по команде, мигнули – и погасли, оставив в воздухе запах горячего воска и горелых фитилей. Во тьме булькнул камень, ныряя на дно вазы. Эхо отважилось выйти из угла, и едва слышный плеск загулял по кабинету.
– Желаете видеть, ваше высокопревосходительство?
Хозяин не шелохнулся.
– Действуйте, Антон Маркович. Мне будет достаточно того, что увидите вы.
В вазе, где лежал окулус, возник призрачный, дрожащий свет. Так мерцают гнилушки в чаще леса. Мало-помалу свечение разгоралось. Теперь оно опалесцировало, напоминая отблеск луны на глади пруда. В воде проявилась картина – сперва туманная, она становилась все отчетливей.
Трое всадников, пустив лошадей ходкой рысью, едут по раскисшей дороге. Лиц и деталей одежды не разобрать – лишь темные фигуры в лучах заката. По правую руку возникает опушка леса… Вспышка! Еще одна!
Еще!
Там, где раньше были всадники, разгорается миниатюрное солнце. Меркнет. На дороге в агонии бьется лошадь… И вновь трое едут по дороге. Вспышка! На сей раз – одна.
И – темнота.
Дорога. Всадники. Старик-фокусник ждет вспышки, но ее нет. Миновав опушку, верховые скрываются за поворотом… И снова – трое на дороге. И опять…
Сюжет повторялся, каждый раз – с вариациями. Всадники исчезали в слепящем пламени, благополучно скрывались за поворотом; двое обгорелыми куклами валялись на дороге, а третий несся прочь, дав шпоры коню. Билась, издыхая, лошадь…
– Исход неоднозначен. Кто-то погибнет. Но кто? Я не вижу…
Видение начало меркнуть. Поверх уходящей в глубину, подернувшейся рябью троицы возникла всадница – одна-одинешенька. Девушка в плаще, с откинутым капюшоном, верхом на нервной кобыле. Порыв ветра взметнул светлые волосы незваной гостьи. Взглянув в лицо Гамулецкому, девушка приветливо улыбнулась.
Старик отшатнулся в ужасе.
В следующий миг все исчезло и камень в вазе погас.
– Боже! Зачем… зачем вы привлекли еe?!
Гамулецкий задыхался. Казалось, его сейчас хватит удар.
– Вы забываетесь. Здесь я решаю, кого привлекать к нашему делу, а кого – нет. Благодарю за сеанс. Я больше не задерживаю вас, государь мой.[24]
В голосе хозяина кабинета стыл февральский лед. Тот самый, который минутой раньше старый фокусник увидел в глазах светловолосой.
Ученик Калиостро, побившийся с учителем об заклад, знал толк во льдах.
2
– Volna, vo bregi udarjaja, Klubitsja penoju v trave. Vo hram, sijajuschij metallom, Pred tron, ukrashennyj kristallom…Пироскаф разворачивался. Волна ударила в борт, и Андерс Эрстед невольно сжал пальцы на поручне. Он уже успел пожалеть, что согласился на «un peu de marche» по Финскому заливу. Хорошо еще шторм, обещанный Санкт-Петербургской обсерваторией, задержался где-то западнее Котлина. Ветер свежел с каждым часом. На серых гребнях волн забелели барашки – хищные, острые…
– Pospeshno prostiraet hod; Vencem zelenym uvjazennoj I v vise, veschaet, oblechennoj Vladychice rossijskih vod…Эрстед был смущен. Человек по природе сдержанный, он не понимал аффектацию спутника. Солидный седой господин, урожденный рrince russe, столь расчувствовался при виде морских далей, что принялся декламировать возвышенный гимн – на русском языке, но с чудовищным французским, а то и немецким произношением, что превращало гимн для Эрстеда в дикую абракадабру.
– Reka, kotoroj prolivajut Velikie ozera dan’ I koju gromko proslavljajut Vo vsej vselennoj mir i bran’!..Пироскаф вновь качнуло. Эрстед скосил глаз на корабельное колесо, врезавшее свои округлые лопасти в воду. Странно, что они еще плывут, а не проводят экскурсию в мире балтийских рыб. Корабль был мал, дряхл и примитивен. От носа до кормы – шагов двадцать; от борта до борта – хорошо, если пять. А уж колеса! Старичок «Анхольт», на котором пересекали бурный Эресунн, в сравнении с этой лоханью казался пришельцем из будущего.
Впрочем, князя Ивана Алексеевича Гагарина их вояж приводил в восторг. Во всяком случае, гулкий бас полнился торжеством:
– Ty schastliva trudom Petrovym; Tebja i nyne krasit novym Racheniem Elisavet…– «Elisavet»? – удивился Эрстед. – Неужели, ваше сиятельство, цитируемая вами ода посвящена этому… извините, средству передвижения?
Пироскаф и впрямь именовался «Елизавета». Что ж, гордый разрезатель волн вполне мог служить личной яхтой принцессы Елизаветы, дочери королевы Анны Датской. Для эпохи Ришелье – в самый раз.
– Средству передвижения? – рассмеялся Гагарин, запахивая роскошную, с бобровым воротом, шинель, накинутую поверх зеленого вицмундира. Весело сверкнули золотые пуговицы, украшенные «сенатским чеканом»: колонной с надписью «закон». – Вам не по душе наш корабль? О-о, вы еще не видели, какая тут прежде стояла труба! Кирпичная! Пришлось заменить. Так сказать, не по сезону.
Эрстед с опаской оглядел помянутую трубу. Да-а… Лучше бы не менять, лучше бы полным комплектом – в корабельный музей. Что же так радует князя? Или он из тех любителей старины, что предпочитают древние руины уютному дому, а приличному судну – гиблый самотоп?
Романтик, не иначе!
С князем-романтиком довелось познакомиться на пышной церемонии открытия филиала Общества по распространению естествознания. Народ сошелся избранный, при орденах и лентах. Явился великий князь Михаил, зачитав Высочайшее напутствие, доставленное утром из Москвы с фельдкурьером. В этом Эрстед не увидел ничего особенного – его величество Фредерик Датский тоже не упускал возможности продемонстрировать свое благоволение господам ученым. Но если в Дании монаршие визиты выглядели скромно, по-домашнему, то здесь появление великого князя затмило все прочее, включая цель собрания. Хорошо еще сам Михаил не запамятовал, зачем приехал, предложив сделать перерыв в восхвалениях «отеческого попечения наук тщанием и радением е. и. величества» – и открыть наконец заждавшийся филиал.
Великий князь был рыж, суетлив – и определенно носил корсет.
Эрстеду он не понравился.
Кто именно познакомил его с Гагариным, Эрстед не запомнил. Зато уж сам Иван Алексеевич сполна использовал краткие минуты их разговора. Вскоре Эрстед уже знал, что рrince russe преклоняется перед наукой, верит в умеренный прогресс (в рамках закона!) и очень-очень любит театр. После скромного намека на свое личное участие в создании филиала Гагарин рассказал смешную историю о том, как буквально бежал из Москвы – дабы успеть на открытие.
Наивный Эрстед решил, что его новый знакомый стал жертвой страшной русской gendarmerie – побег! стрельба!.. – но все оказалось проще. Иван Алексеевич служил в московском департаменте Правительствующего Сената, а заодно был членом комитета Общества поощрения художников, которое сам же и основал.
«О, сбежать от дел труднее, чем от жандармов!»
Улыбчивый меценат пришелся Эрстеду по душе. Когда на следующий день он получил от Гагарина приглашение на морскую прогулку, то сразу согласился. Ему думалось, что кататься будут все, посетившие открытие. К удивлению датчанина, на пароходе они с князем оказались единственными пассажирами.
Отказаться? – неудобно.
И, мысленно помянув святого Кнуда со святой Агнессой, Эрстед ступил на скрипучие сходни «Елизаветы».
– Увы, ваше сиятельство. Почти ничего не понял. Рискну предположить, что в стихах, зачитанных вами, речь шла о бушующем море. Белая пена волн, суровые утесы – и сильные люди, которым покорилась стихия.
– Ого!
Веселые, детские глаза Ивана Алексеевича затянулись серым туманом. Дрогнули яркие, полные губы.
– Чутье же у вас, мсье Эрстед! Ломоносов, «Ода в благодарение Елизавете». В ней и про море, и про пену… И про тех, кто построил на болотах великий город. Стихи посвящены императрице, но славят скорее Государыню Науку.
– О вы, счастливые науки! Прилежны простирайте руки И взор до самых дальних мест…Исчезла странность произношения. Голос князя помолодел, на бледных щеках заиграл румянец. Сгинул туман во взоре. Эрстед мысленно извинился перед рrince russe. Ну пригласил покататься на музейном экспонате по холодному морю. Что за беда?
Андерсена бы сюда! Вот кому бы понравилось…
– Не бойтесь, не утонем, – Гагарин усмехнулся, прочитав его мысли. – Лохань только что из ремонта. Хотели списать, но мы не позволили, скинулись по лепте. Бегает! Это первый русский пироскаф, мсье Эрстед. Понимаете? Самый-самый первый!
«Лохань», бодро терзавшая колесами воду, увиделась в ином свете.
– Искренне прошу прощения, ваше сиятельство. И у вас, и у мадемуазель «Елизаветы». А за то, что вы не дали этой смелой девице погибнуть… Позвольте пожать вашу руку!
Палуба ушла вниз. Но рукопожатие оказалось сильнее.
Пироскаф-пионер, презирая шторм, катящийся от Котлина, шел в открытое море. Ветер уносил прочь клочья черного дыма, узкий нос рассекал волны. Творение Разума бросало вызов и стихии, и беспощадному времени, чье дыхание несло старость.
– Пройдите землю, и пучину, И степи, и глубокий лес, И нутр Рифейский, и вершину, И саму высоту небес. Везде исследуйте всечасно, Что есть велико и прекрасно…– Ломоносов был не только поэтом, – увлеченно рассказывал Гагарин. – Великий ученый; не побоюсь этого слова, европейского значения. Жаль, мир узнает о нем не скоро. Европа ленива и нелюбопытна.
– Не вся! – заступился Эрстед за родной континент. – В университете мне приходилось читать статьи Ломоносова в шведских журналах. Насколько я помню, он самостоятельно открыл закон Лавуазье. Да! Он еще предположил, что на Венере есть атмосфера. Правильно?
– Вы химик? – удивился Иван Алексеевич. – А мне вас представили как юриста! Вижу, вы уверенно шествуете вслед вашему брату, столь богато одаренному…
Эрстед в смущении хотел возразить, но меценат не позволил:
– Это тем более похвально, что нынешний век ведет к узкой специализации. К глобальному людскому муравейнику, где каждая особь знает лишь свой маневр…
Как меняется мир, подумал датчанин. Двадцать лет назад, командуя Черным Ольденбургским, полковник Эрстед защищал Данию от орд ужасных сosaques de Russie. Хорошо, что все это в прошлом!
Беседа плавно перетекла к корням науки. Гагарин подчеркнул, что Ломоносов, будучи столпом естествознания, в то же время и не думал отрицать Божье могущество. Эрстед вспомнил француза Лапласа, отвергавшего помощь Всевышнего в научных делах, но Иван Алексеевич покачал головой:
– Граф-якобинец, Бонапартов министр. Вдобавок франкмасон. Чему удивляться? Скажите мне, дорогой мсье Эрстед, какой предмет во всех науках наиболее сложен для исследования?
– Человек, – без колебаний ответил Эрстед.
– Именно! Не потому ли, что он сотворен по образу и подобию Божьему? Будь мы обычные выродки царства животного, что бы в нас имелось сложного? Проблема отсутствия хвоста? А ежели пойти далее? Что есть самое трудное в человеке, чего нынешней науке пока не решить? Не сама ли жизнь людская, не ее ли скоротечность? Вспомните, сколько кудесников и шарлатанов обещали людям долголетие и бессмертие! Да не поверим мы всяческим Калиостро, но разве не увидели они главное?
Эрстед пожал плечами:
– Такое – вне науки. Все рожденное и сотворенное бренно. Человек материален, а материя не вечна.
– Известная нам материя. Но что будет завтра?
Ответить изумленному датчанину не дали.
– Нашу плоть не сохранить вечно. Но не придет ли ей на смену плоть иная, тлению и распаду недоступная? Не позволит ли это не только сохранить нас самих, но и воссоединить всех, когда-либо живших, в едином Человечестве? Нет-нет, не спешите сомневаться в моем разуме! Лучше подумайте, что мы и так постоянно занимаемся воскрешением наших предков. Ибо какое другое имя может быть дано собиранию различных памятников, вещественных и письменных, кои сохранились от самых отдаленных времен? Уже сейчас для воспроизведения прошедшего наука имеет в своем распоряжении лаборатории, физические кабинеты…
– Музеи, – подсказал Эрстед и улыбнулся, вспомнив дорогой ему Эльсинор. – Совершенно согласен с вами, ваше сиятельство. Но мы воскрешаем лишь следы Прошлого. Образы наших предков, строй их мыслей, ход давно ушедшей жизни…
– Так сделаем же следующий шаг – воскресим их самих! Плоть бренна, но вечен эфир и его энергии. Воскрешенные станут их частью и заполнят Вселенную – наш новый общий дом. Не станет ли это действительно величайшей целью Науки, достойной нас, созданий Божьих?
Голос Ивана Алексеевича звучал с твердой уверенностью. На миг Эрстед даже забыл, где находится. Исчезло осеннее море, истаяло дерево палубного настила. Вокруг был эфир – бесконечный, искрящийся огнем, полный жизни. Эта новая жизнь уже не теснилась на поверхности давно покинутых планет. Она кипела всюду – могучая, молодая, растекаясь по простору Вселенной.
Великий, всепроникающий и всемогущий Механизм Жизни.
– Это… Это невозможно, – выдохнул он. – Невозможно – и прекрасно. Если бы! Человечество стало бы Абсолютным Духом Гегеля, воплотившимся в Себе Самом. Вы счастливее меня, ваше сиятельство. Вам доступны сияющие высоты. А я… Предел моих мечтаний – всего лишь конституция для Дании. Смешно?
Гагарин был серьезен.
– Не смешно, дорогой мсье Эрстед. Чтобы обойти весь мир, нужно сделать первый шаг. Может быть, он труднее и важнее последнего, решающего. А то, что вы пока не верите… Это не страшно. Главное, вы уже знаете.
3
Прощались на Английской набережной, возле роскошной княжеской кареты. Добрейший Иван Алексеевич все порывался доставить своего «нового искреннего друга» в гостиный дом института, но Эрстеду хотелось пройтись пешком. После уходящей из-под ног мокрой палубы брусчатка мостовой казалась истинным парадизом. Как подметкой ни стучи – не провалится. Надежность тверди успокаивала, помогала вернуть ясность чувств. Перед глазами до сих пор плавали обрывки чудесной, невероятной фантазии: Разумный Эфир. Люди – жившие, живущие и те, кому еще только предстояло жить. Воскрешенные, спасенные от Смерти…
Чудесная сказка!
Гагарин оказался человеком чутким и понятливым. Он дал совет перед пешим гулянием принять na pososhok, воспользовавшись запасами из гостеприимной кареты. Pososhok откушали из крохотных серебряных чарочек. Глоток – и по телу разлилось, пульсируя, жидкое пламя.
Сообразуясь с моментом, Иван Алексеевич угостил гостя ямайским ромом.
– В субботу прошу ко мне! Всенепременно, мой дивный мсье Эрстед, – воскликнул он, прежде чем повторить процедуру. – В столицу я прибыл с супругой, и мы решили возобновить наши обычные приемы. Представьте, в театре она уже успела свести знакомство с одной баронессой – та буквально на днях из Парижа… Слух – потрясающий! Впрочем, что я вам рассказываю? Придете – лично узнаете все новости.
Эрстед кивнул.
– Благодарю, ваше сиятельство. Обязательно загляну. Да! – спохватился он. – В Санкт-Петербург я приехал не один. Со мной секретарь…
Судя по недоуменному лицу Ивана Алексеевича, разливавшему вторую порцию рома – слугам он сию ответственную миссию не доверил, – князь не понял, при чем тут какой-то секретарь. Ну берите секретаря, отужинает в лакейской…
– …и близкий друг.
– Разумеется! – при упоминании друга Гагарин просиял весенним солнышком. – Ваш друг тоже из Дании?
– Из Польши. Точнее, из Литвы. Князь Волмонтович, мой знакомый еще с Лейпцигской кампании 1813-го.
Разговаривая, Эрстед смотрел поверх красных черепичных крыш, подпирающих тучи. Когда он опустил взгляд, лицо Ивана Алексеевича излучало радушие и приятное веселье. Разве что левое веко чуть-чуть дрожало.
– Говорите, князь Волмонтович? Братья по оружию?
Как благородный отец в водевиле, он всплеснул руками. Сверкнули многочисленные перстни. Левый мизинец Гагарина украшал золотой наперсток в виде когтя. Эрстед в молодости что-то слышал о таких безделушках (кажется, от всезнайки Эминента!), но не мог вспомнить, что именно.
– Прекрасно, душевно; я бы даже сказал – трогательно… Лейпцигская кампания? Я тогда управлял двором великой княгини Екатерины Павловны в Твери. Заслужил Святого Александра с алмазами.[25] Нет, с алмазами – это позже, через три года… Ах, память совсем никуда! В каком чине вы воевали, дорогой друг мой?
– В чине полковника. Черный Ольденбургский полк.
– Боже! Опять совпадение! Мужем великой княгини был принц Георг Ольденбургский… Скажите, полковник, вы верите в совпадения? В случайности? В счастливые стечения обстоятельств?
– Не слишком.
– Вы абсолютно правы. В том, что с нами происходит, нет никаких случайностей – ни общих, ни частных. Как вы сказали? Князь Волмонтович? Обязательно приходите и князя пригласите от моего имени! Я буду очень, очень рад…
Его сиятельство князь Гагарин, меценат и театрал, сенатор и действительный тайный советник, учредитель петербургской ложи Орла Российского, лучший Мастер Стула в столице, почетный член лож Петра-к-Истине, Соединенных Друзей и Ключа-к-Добродетели – нет, он не спешил садиться в карету. От залива дул холодный ветер. Петербургское небо срывалось первыми каплями дождя. Но Иван Алексеевич не обращал внимания на погоду, глядя в сторону, куда ушел его новый друг.
Губы князя еле заметно шевелились. Истомившись в ожидании, лакеи решили, что барин молится, и ошиблись. Старый масон читал Ломоносова:
– Никто не уповай вовеки На тщетну власть Князей земных: Их те ж родили человеки, И нет спасения для них!Апофеоз
[26]
Водевиль закончился поздно.
Зрители разъезжались в каретах, звали извозчиков, дежуривших у театра; кто победнее, уходил пешком, громко обсуждая игру актеров и музыку Алябьева. Приплясывая на ступеньках, Огюст мерз. Вечером похолодало, над городом собрались тучи; то и дело срывался дождь.
Он не заметил, откуда появилась баронесса.
– Где ты остановился?
Ему почудилось, что сперва прозвучал вопрос, а уж потом рядом встала она. Узнав, что живет Шевалье в гостином доме, причем в снятой квартире он не один, Бригида не стала долго размышлять.
– Сними номер в Демутовом трактире. Жди, я приду. Не обещаю, что скоро, но ты жди. Вот деньги…
В руке Огюста возникли ассигнации и пригоршня монет. Он машинально посмотрел: сколько? – ничего в сумерках не разобрал и почувствовал себя мерзко. Приживал, дон Жуан на содержании! Забыв, что искал баронессу по всему Петербургу, он чуть было не швырнул эти проклятые деньги на землю.
– Дурачок… Какой же ты у меня дурачок! Неужели ты хочешь, чтобы я пришла к тебе в этот твой… как его? – гостиный дом? К твоим спутникам?
Нет, он этого не хотел.
– Жди. Я очень постараюсь…
Портье номер сдал не сразу. Даже при виде звонкой мзды, нелепо большой, ибо Шевалье не отличал червонец от империала,[27] он колебался. Чувствовалось, что заведение приличное и под надзором. Мало ли кто сейчас говорит по-французски? По счастью, прилично одетый молодой человек имел при себе паспорт, а упоминание о приглашении Технологического института, которое Огюст смело распространил на свою скромную персону, решило дело.
Баронесса задерживалась. Томясь, Шевалье расхаживал по комнате. Он уже плохо понимал, что сделает, когда она придет. Схватит в объятья? Начнет выговаривать? Устроит скандал? Признается в любви? Кинется спасать, не успев даже поинтересоваться: от кого ее спасать и нужно ли?
В смятении чувств он упал в кресло. Стену напротив украшало трюмо в резной рамке. Листья, амуры; позолота утратила блеск, но еще держалась. Скоротать время? – отчего же не скоротать, подумал он, криво ухмыльнувшись дурному каламбуру.
И взглянул в зеркало, как в омут бросился.
Механизм Времени капризничал, не желая запускаться. Целую вечность Огюст имел удовольствие наблюдать лишь собственную унылую физиономию. В какой-то момент померещилось: зеркало запотело. Огюст решил встать, чтобы протереть мутную поверхность. Его качнуло вперед, и он, как в колодец, ухнул во внезапно разверзшуюся прореху Мироздания.
От падения захватило дух. Вокруг веселыми мушками роились снежинки, подмигивали алмазными блестками:
– Кто в колодец к нам упал, В нашу компанию, к Маржолен? К нам свалился Шевалье — Гей, гей, от самой реки!..Угольная чернота «колодца» сменилась бирюзовым куполом неба, раскрывшегося над головой. В тридцати шагах плескалось море, лизало перламутр песка. У самой кромки рос гриб-исполин – высотой с двухэтажный дом. Слоновая кость «ножки», крыша-«шляпка» бросала на песок густую бархатную тень. Захотелось потрогать «гриб» – гладкий? шершавый? горячий?
Увы, руки отсутствовали.
– Ну, это можно и поправить.
В воздухе, переливаясь, возникло марево. Миг, и оно оформилось в прозрачную человеческую фигуру. Лица не разглядеть, а вот пропорции, насколько мог судить Огюст, у призрака были идеальные.
Аполлон, да и только!
– Мы уж вас заждались, – заявил призрак.
– Мы знакомы?
– В некотором роде, – марево хихикнуло. – При первой встрече вы сочли меня ангелом.
– А вы представились лаборантом! То-то я думаю: где я слышал ваш голос?
– Любопытная конверсия коммуникативных импульсов, – загадочно пробормотал ангел-лаборант. – Вы, случаем, не поэт? С поэтами бывает…
– Хочу выразить вам свою признательность! – обвинение в стихотворстве Огюст пропустил мимо ушей. – Вы ведь мне, как ни крути, жизнь спасли…
– Да ну, чего там, – от смущения призрак пошел густо-лиловыми разводами. – Вы бы в любом случае выжили. Индетерминизм зафиксированных исторических событий… Против рожна, знаете ли, не попрешь.
– И все равно – спасибо! Я, между прочим, перед вами еще и виноват.
– Это в чем же?
– Проболтался глазу, что вы со мной разговаривали. Я ж не знал, что вам не положено! Надеюсь, вам не сильно влетело?
– Кому вы проболтались?!
– Ну, Переговорщику. Он грозился вам нагоняй устроить.
Последовавшей реакции Шевалье никак не мог ожидать. Лаборант зашелся в хохоте, да так, что размазался в бесформенную кляксу, утратив образ и подобие человека. Огюст даже испугался за него.
– Глаз! Ой, не могу! Эк вы его приложили! – призрак выбрасывал во все стороны радужные жгутики. Те игриво шевелились на манер бахромы медуз. – Точно: глаз! За всеми следит, во все лезет, до всего ему дело есть… Насчет нагоняя не сомневайтесь – устроил по первому разряду! Только нам не привыкать. Оно даже к лучшему вышло – потом он остыл, признал, что контакт прошел успешно, без побочных эффектов… Вот мне и поручили вас встретить.
– А сам он где?
– Жена у него рожает, – лаборант беззаботно махнул рукой, оставив в воздухе стеклистый шлейф. – Вас не дождался, полетел к ней. А меня за себя оставил: вдруг вы объявитесь!
– Полетел? На крыльях, что ли? – растерянно выдавил Огюст.
Ему и в голову не приходило, что Переговорщик – бесплотный голос, торчащий из жижи глаз – может быть женат, как всякий нормальный мужчина. И в ответственный момент, оставив работу на подчиненного, вполне способен поспешить к супруге.
Слишком это было… по-человечески.
– На крыльях – долго. Мы их больше для удовольствия выращиваем. Коллектив – дело хорошее, но после рабочей недели знаете, как хочется в индивидуальное тело?! Полетаешь пару часов – просто заново родился! Можно еще жабры, хвост, плавники – и на глубину. А когда по делу торопишься – тут или через матричный проектор, или в фантомном теле. Если во плоти приспичило – тогда диффузным проницателем. Это… ну, вроде летательного аппарата.
«Матричный проектор» и «диффузный проницатель» остались для Шевалье загадкой. Зато он обратил внимание: лаборант запнулся перед словами «летательный аппарат». Искал подходящий аналог? Полеты для них – вчерашний день?!
– Вам сформировать фантом? Вы же заказывали экскурсию?
Предложение прозвучало до безумия буднично. Вроде: «Вам подать экипаж?»
– Давайте! – азартно выпалил Шевалье.
Бесплотность закончилась. Вместо нее возникло ощущение силы – бьющей через край, упругой, восхитительной. Так чувствовал бы себя шарльер – до отказа наполненный водородом, рвущийся в небо! Огюст с восхищением рассматривал новое «тело», игравшее сполохами. А потом оттолкнулся от песка – и взлетел!
– Здорово! Оказывается, быть призраком – совсем неплохо!
– Фантомом, – ворчливо поправил его лаборант. Оставшись внизу, он задрал голову, присматривая за расшалившимся гостем. – Призраки – нестабильные образования без материального носителя. Как правило, с поврежденной структурой волновой голо-матрицы личности. Если у них и сохраняется сознание, они ощущают свою ущербность и страдают от этого. Спускайтесь, а?
Как спуститься обратно, Шевалье не знал. Он просто захотел оказаться на земле – и плавно спланировал к подножию двухэтажного «гриба». Коснувшись «ножки», он ощутил гладкую и теплую поверхность. Затем пальцы без всякого сопротивления вошли внутрь. Шевалье отдернул руку. Он поймал себя на том, что ему начинает нравиться в Грядущем, – и занервничал по-настоящему.
Потомки ведь на то и рассчитывают! Завлечь, искусить, переманить на свою сторону…
– Ну что, полетели? На экскурсию?
Одним движением лаборант перетек ближе и взял Огюста за запястье. Слабое покалывание, как от прикосновения к наэлектризованной поверхности; вслед за этим их руки срослись. Наверное, Шевалье должен был испугаться. Но страха не было. От лаборанта к нему текла спокойная уверенность, сдобренная толикой мягкой, необидной иронии. Ничего плохого не случится, говорил ток, никому не причинят вреда…
«Потому что я вам нужен! Надо быть настороже… Тысяча чертей! – а вдруг он читает мои мысли?»
В любом случае лаборант даже виду не подал.
– Вперед!
Небо рванулось навстречу.
Скорость ошеломила Шевалье. Поток воздуха пронзал фантомное тело насквозь. Это бодрило: ветер, обдувающий тебя изнутри! Сверкая под солнцем, гладь моря стремительно уносилась назад. Возникли на горизонте и сразу исчезли, нырнув под воду, лоснящиеся корабли-левиафаны. Прямо по курсу возникла линия берега, надвинулась, развернулась панорамой. Полоска золотистого пляжа, темный малахит мха, облепившего скалы…
«Кровь Христова! Никакой это не мох! Это деревья! Тропические деревья, чьи кроны сливаются в сплошной зеленый покров! А у берега, на отмелях…»
На теплых отмелях плавали сотни шишковатых кожистых шаров. Их окружали решетчатые пирамидки, торча прямо из воды. На вершинах вспыхивали знакомые огоньки.
– Это скотоферма? Здесь выращивают… э-э… морских коров?
– Коров?!
Лаборант рассмеялся – верней сказать, неприлично заржал. Вибрации его веселья передались Огюсту. Он едва не расхохотался следом, хотя и не понимал, в чем юмор ситуации.
– Как это называлось в ваше время? Родильный дом?
– Родильный дом? Для кого?!
– Для женщин, конечно!
– И где же… роженицы? Неужели внутри шаров?!
– Эти шары и есть роженицы!
– Это – женщины?!
– Ох, зря я вас сюда притащил, – покаянно вздохнул лаборант. – Ладно, зависнем на пару минут. Я попытаюсь вам объяснить.
От зрелища шаров, мерно покачивающихся на легкой зыби, Огюста начало подташнивать. Он почел за благо отвернуться. Ладно, крылья или жабры. С этим он готов был смириться. Но отказаться от человеческого облика, да еще во время беременности?! Кого же родят эти, с позволения сказать, «женщины»?!
– Вы не забыли, что тело для нас – понятие относительное?
Шевалье угрюмо кивнул.
– При этом мы все равно остаемся людьми, поймите! Сознание, личность, генетическая информация, солитонная матрица… Уверяю вас, после родов все дамы примут вполне антропоморфный вид. А сейчас им так удобнее; оптимальнее… Приятнее, в конце концов!
– Приятнее?!
– Ну да! Я читал, у вас беременность доставляла женщинам много хлопот. А ее срок? Это же вообще кошмар – девять месяцев…
– А теперь?
– Теперь женщина сама регулирует срок вынашивания. Управление хромосомным компьютером на базе человеческого генома позволяет ускорить развитие плода. Без всяких побочных эффектов!
Шевалье с сомнением покосился вниз, на шары.
– Эта форма тела – наиболее удобная для будущих матерей. Плюс водная среда, комфортная температура; оплачиваемый декретный отпуск… Что бы вы сами выбрали, а? Девять месяцев тошноты и беспокойства – или три-четыре месяца сплошного удовольствия?
Огюст честно постарался взглянуть на проблему непредвзято.
– Я бы выбрал, – внезапно улыбнулся он, – девять месяцев сплошного удовольствия! Считайте, убедили. Вас тоже учили на Переговорщика? Неплохо получается, мой ангел!
– Ничему меня не учили! Экспресс-курс факультативно… Скажу вам по секрету: ерунда это все! Хронопсихология, методики архаичной коммуникации, психотипы… Просто один найдет общий язык даже с питекантропом, а другой – нет. Полетели дальше? Хотите посмотреть на Париж?
– Хочу!
Они набрали высоту, поднявшись над облаками. По идее, в горних высях царил лютый холод, но фантомные тела имели неоспоримые преимущества. Будь летуны во плоти – превратились бы в ледышки.
Их курс пересекла капля жидкого пламени.
– Стратосферный экспресс. На посадку пошел.
Далеко внизу проплыл едва различимый птичий клин.
– Летим над Европой.
Огюст не преминул воспользоваться «эффектом приближения». Он рассчитывал увидеть огромные мегаполисы, здания-великаны, уйму самодвижущихся экипажей и летательных аппаратов… Вместо этого в поле зрения попадали сплошь леса, луга и прочая первозданная природа. Изредка среди буколических пейзажей возникали циклопические сооружения в виде ячеистых спиралей, растущих из земли. Они напоминали осиные гнезда и переплетения блестящих лиан.
– Летим над энергетическим комплексом. Левее – нанофабрика. Универсальное производство: из атомов и молекул собирается все – техника, пищевые продукты, одежда… Хотя одежда – это для пижонов. Ею в наше время мало кто пользуется. Дальше – система орбитальной связи…
– А люди? Где люди?!
– Все производства – автоматические. Люди заняты более интересными вещами.
– Например?
– Наука. Искусство. Освоение других планет…
– Планет?!
– Разве Переговорщик вам не рассказывал? Мы же вышли в космос!
– Луна? Марс?
– Солнечная система давно освоена. Пройденный этап! – в голосе лаборанта звучали нотки гордости, словно это он самолично пешком освоил всю Солнечную систему. – Мы летаем к звездам. Семьдесят две колонии! – там народу гораздо больше, чем на Земле…
– Сколько туда лететь? Годы? Столетия?!
– В биологических телах – да. Но мы ведь не связаны плотью… Кстати, вон ваш Париж.
Скопище каменных коробок, рассеченное каньонами улиц, простиралось на многие лье. Рукотворный струп на теле природы? Огюсту сделалось стыдно за такое сравнение. Величайший город Европы, плод усилий гениальных архитекторов, столица его родины – «струп»?!
Стыдитесь, гражданин Шевалье!
Большая часть города выглядела незнакомой. Вглядевшись, он узнал Нотр-Дам, здание Сорбонны, улочки Латинского квартала… На Марсовом поле, ближе к Сене, возвышалась решетчатая конструкция. Она отдаленно смахивала на одну из пирамидок, окружавших Лабиринт, только увеличенную во сто крат.
– Эйфелева башня, – лаборант проследил за его взглядом. – Визитная карточка Парижа! Построена в XIX веке. Когда точно, не помню.
– В мое время ее еще нет. И не скажу, чтобы я был этим сильно огорчен. Она портит вид. А это что за черный брусок?
– Небоскреб Монпарнас. XX век.
– Небоскреб?
– Ну… высотное здание. Забыл, сколько в нем этажей. Около шестидесяти, кажется.
– Ого!
Блестящая поверхность небоскреба выглядела зловеще. Да и весь город казался чужим, неприветливым. Что-то еще, кроме извращенной архитектуры, вызывало у Огюста безотчетное чувство тревоги. Через пару минут он сообразил – люди! На улицах их не было.
Париж опустел, как и Земля.
– Разумеется! – лаборант был искренне удивлен. – Париж уже давно – город-музей. Исторический памятник. Как и Лондон, Токио, Нью-Йорк, Санкт-Петербург… Здесь никто не живет.
Музей. Памятник. Город-мертвец, лишенный жизни. Мог ли Огюст вообразить, что подобная участь постигнет кипящий, великолепный Париж? Тоска взяла за горло, сжала ледяные пальцы. То, что Шевалье – фантом, не имело для тоски никакого значения.
– Чувствую, вы загрустили. Слетаем на орбиту? Посмотрите наши станции, ретрансляторы…
– На орбиту? В космос?!
От одной мысли о предстоящем «вознесении» захватило дух. Мигом позже земля провалилась вниз, и они начали быстро набирать высоту.
– Вы говорили, что люди больше не привязаны к плоти? Как мы сейчас?
Небесная синь темнела, наливалась густыми фиолетовыми тонами. Над головами зажглись первые звезды. Взвыл и остался позади Великий ветер, Отец всех ветров, не поспевая за фантомами.
– Есть много вариантов свободы, – непонятно ответил лаборант. – Главное – исходная волновая матрица. Память, структура личности – все в комплексе. Душа, если вам так проще. А тело можно вырастить любое… Была бы подходящая биомасса! Ну вот мы и в космосе.
Черная пустота Вселенной потрясала. Колючие глаза звезд изучали пылинку, осмелившуюся взлететь. Во тьме полыхал косматый шар Солнца. Неожиданно лучи его высветили огромную плоскость, проплывающую рядом. Взгляд с трудом охватывал гигантскую конструкцию, и Шевалье не сразу сообразил, что перед ним.
– Орбитальный накопитель, – буднично сообщил «ангел».
Этот черный ромб Огюст уже видел с земли. Накопитель душ! Размеры «ромба» потрясали. Что ты говорил, ангелок? «Тело можно вырастить любое…»? Что же тогда для вас – проблема? Вы устремились в космос, к другим звездам и планетам; Земля опустела…
Вам не хватает душ? Для освоения новых миров?!
Как же ты сразу не догадался, Шевалье-от-самой-реки! Что делают в твое время, когда не достает добровольцев для освоения новых территорий? Правильно, молодой человек: государство отправляет туда заключенных. Каторжников-переселенцев. Их руками Англия сейчас осваивает дикую, смертельно опасную Австралию. Чем потомки лучше английских лордов? Им нужна рабочая сила…
Только не тела – души!
Вот для чего их лазутчики проникли в прошлое. Вот для чего им нужен ты, Огюст Шевалье! Какая роль уготована тебе жижей в Лабиринте? Вербовщика? Надзирателя? Конвоира? И потянутся караваны плененных душ по звездным путям, обретая в других мирах новые тела – чтобы под надзором стражи работать на благо потомков.
«В поте лица твоего будешь есть хлеб, – вспомнил он, – доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят…»[28]
– …а вот орбитальная исследовательская станция. Мы начинаем сокращать их число. Во многих отпала надобность, а околоземное пространство они захламили изрядно. Вон проходит метеоспутник. С помощью таких мы регулируем климат… Извините, нам пора. Фантомное тело имеет свои недостатки. Космические излучения вызывают эффект эйфории – опьянение эфиром…
* * *
Угольно-черный ромб плыл над Землей.
Сгусток тьмы, он тенью скользил по орбите. Яростные лучи Солнца ненадолго делали его видимым, проявляя, словно монохромный снимок. Ромб исправно поглощал ураган волн, бушующий в эфире, но, в отличие от турмалина Гамулецкого, не мог поглотить его полностью.
Ромб не был одинок. Вслед за ним по орбите, караваном в пустыне, тянулась вереница ромбов-близнецов, образуя вокруг планеты рукотворное кольцо. А внизу, как ни в чем не бывало, вращался зелено-голубой шар, кокетливо кутаясь в дымчатую кисею облаков. Казалось, ни Земле, ни ее обитателям нет дела до траурного пунктира, опоясавшего мир.
Лишь единственный смельчак заинтересовался диковинным ожерельем.
Великий ветер, Отец всех ветров, собравшись с силами, вознесся на немыслимую высоту – туда, где разреженный воздух подобен иглам мороза, просеянным сквозь сито. Здесь, на границе своих владений, он встретился с космическим братом – Солнечным ветром. В последнее время они виделись редко. Впрочем, что значит время для двух странников?
Миг? Вечность?
Нет разницы.
Никто не знает, о чем говорили эти двое на языке дуновений и частиц. Вскоре один умчался прочь, к далеким созвездиям, а второй продолжил путь в заоблачных высотах, на границе запретной для него ледяной пустоты. Даже Великим положен предел. Но не это тревожило Отца всех ветров Земли. Глупо сетовать на извечный порядок. Наслаждайся доступным – избежишь разочарований.
Эфемерным жителям Земли было неведомо это мудрое правило. Их жадность не знала границ. Недра гор и пучины морей, царство Великого ветра и держава его солнечного брата – дальше, глубже… Компания черных ромбов, опоясавшая Землю, – свидетельство их упрямства. Великому ветру не нравились эти правильные до тошноты геометрические фигуры, несущиеся в первозданной пустоте.
И не потому, что он не мог до них добраться.
В ромбах, зиявших в небе, словно дыры в Бездну, крылась угроза. Вызов основам миропорядка. Круговорот причин и следствий грозил дать сбой. Что случится, если ромбы застрянут осколками антрацита в жерновах бытия, в шестеренках Механизмов Времени и Пространства? Механизма Жизни, наконец!
Ну что этим людям неймется, в самом деле?!
Вздохнув, Отец ветров оторвал взгляд от смутных высей. Внизу, сквозь дыру в ватном одеяле облаков, был виден город: некогда – обиталище двуногих эфемеров, теперь – музей под открытым небом. Блестели на солнце купола церквей. Шло рябью море крыш – рыжих, серых, черных. Чужеродно смотрелись редкие вкрапления зелени. Еще более чужеродными выглядели небоскребы – башни, сверкающие металлом и стеклом.
За ними глаз не сразу замечал одинокий шпиль Адмиралтейства.
Город рассекали пустынные реки улиц и проспектов, деля его, словно огромный пирог. Где их былое многолюдье? Праздные толпы гуляк, потоки угрюмых работников; стайки любопытных туристов? Город застыл, замер. Сон? Каталепсия?
Смерть?
Лишь вода в гранитных венах каналов текла по-прежнему. Нева поддерживала видимость жизни в угасающем теле. Великий ветер помнил город другим. Ему захотелось повернуть время вспять – услышать шум голосов, посмеяться над суетой…
Почему бы и нет?
Но прежде, чем Земля послушно крутнулась в обратную сторону, набирая разгон, Великому ветру привиделось странное. Лабиринт улиц заполнила бурлящая жижа. Она пенилась, вздымалась, проникала в окна домов, стремясь утопить город в себе. Земля завертелась волчком, дымясь от спешки, лучи Солнца упали с горних высот, и там, где они касались жижи, она вскипала, испаряясь. Струи пара устремлялись ввысь – дальше, дальше, прочь от тверди…
Поток бесплотных душ возносился к небесам. Увы, пророчества лгали – там их ждал отнюдь не обещанный рай.
Там их ждал – ромб.
Акт II Божья кара
Так как обычно принято утверждать, что знание о будущих событиях точным знанием являться не может, то дело обстоит таким образом, что я поначалу не верил в свою возможность предсказывать посредством моих природных данных, унаследованных от предков. Я все время недооценивал свои способности, данные мне природой…
Мишель Нострадамус, «Послание Генриху II»Итак, и стыд рождения, и страх смерти сливаются в одно чувство преступности, откуда и возникает долг воскрешения, который прежде всего требует прогресса в целомудрии. В нынешнем же обществе, следующем природе, то есть избравшем себе за образец животное, все направлено к развитию половых инстинктов.
Литургия верных и есть превращение процесса питания и рождения в воссоздание, или Всеобщее Воскрешение. Николай ФедоровСцена первая Все пути ведут в петербург (Продолжение)
1
– Придушу! – выдохнул Торбен Йене Торвен.
Затем трезво взвесил свои возможности и уточнил:
– Перестреляю!
Пин-эр взглянула с пониманием: мужчина гневается. Она могла бы посоветовать глубокоуважаемому дедушке[29] с десяток менее шумных, зато куда более мучительных способов расправы с врагами, но девичья скромность велела молчать. И китаянка продолжила листать альбом модного художника Эжена Делакруа. Бесстыжего Эль А Хуа за его блудливые рисунки она бы, пожалуй, распилила бамбуковой пилой.
Чай давно простыл. Парижские отшельники слишком увлеклись: Пин-эр – альбомом, датчанин – письмом, пришедшим с последней почтой.
«…а посему, глубокоуважаемый гере Торвен, мой милый батюшка, я, почтительная Ваша дочь, спешу разоблачить сей Мерзкий Комплот и повергнуть их заговор к стопам Вашим. Смею добавить, что помянутая вдова Беринг летами стара, зраком страховидна, нравом же, как вещает всеобщий глас, подобна зверю-крокодилу. Однако же Злокозненные Родичи твердо порешили отдать Вас на растерзания ея ненасытности, поелику от покойного мужа, тайного советника Беринга, оная вдова унаследовала истинный Клад Маммоны…»
«Милый батюшка» с трудом удержался от комментариев. Близких родственников у него не осталось. Прошлой зимой скончалась тетушка, когда-то ставившая на ноги маленького сироту. Зато имелся целый легион дальних родичей – наглых и жадных. Теперь этот «комплот» определенно спелся.
Еще бы! «Клад Маммоны»!
«…Увы, милый батюшка, замысел их более зловещ, нежели кажется поначалу. Ибо заговорщиков поддерживает дланью своей мощной Его Величество, желающий пристроить помянутую вдову Беринг, дабы убрать зверя-крокодила подалее от Королевского Двора в Амалиенборге…»
Одно успокаивало – с такой дочерью все беды можно делить пополам. Маргарет Торвен, несмотря на нежный возраст, гранитной скалой стояла за отца. Нежный возраст? Зануда скривился, как от зубной боли. Да она уже Жорж Санд читает! А король-то, король!
Ну, Фредерик, ну, Брут…
Под аккуратной подписью дочери имелась приписка.
«Папка! Она правду пишет, ей-богу! – вопили буковки, выплясывая джигу. – Эта Беринг меня погладить хотела, но я не дался. Щенок я ей, что ли? И конфету не взял! Твой Бьярне Торбен Торвен».
Пора возвращаться домой, понял Торвен. Гордец Карно упокоился под густым слоем негашеной извести; друзья, как писал из Ниццы полковник Эрстед, уехали в далекий Петербург, а жизнь требует своего. Тридцать восемь лет, впереди ничего, кроме старости и вдовы Беринг.
– Едем!
Трость прыгнула в руку. Он шагнул к окну, закрытому ставнями. Зверь-крокодил, говорите? Поглядим!
Как гласит пословица, в Париж ведет десять дорог, а из Парижа – целых сто. Если, конечно, очередной Комитет общественного спасения не перекроет заставы.
– Тушары? Это у которых контора в Дровяном тупике? У них же не кареты, а «кукушки»! На таких при Регентстве ездили. Тесная, тяжелая… Знаете старую байку? В дилижансах места одинаковые, зато пассажиры бывают трех классов. Как в горку ехать, первый класс остается сидеть, второй – рядом идет, третий – карету толкает. У Тушаров все места – третий класс.
Торвен в ответ показал объявление, выполненное в три краски: «Анри и Жан Тушар – лучшие дилижансы! Отправление и прибытие – строго по расписанию…»
– Они еще и не то пообещают, – презрительно хмыкнул Альфред Галуа. – Если всему написанному верить… Между прочим, у нас в Конституции написано, что Франция – свободная страна!
Юный революционер был неисправим, но в дилижансах разбирался. Семья Галуа, живя в Бур-ля-Рен, услугами «кукушек» пользовалась регулярно.
– Нам на Фобур-Сен-Дени, – рассудил он.
Не споря, Торвен повернул в указанную сторону.
– И вот что, гражданин Торвен…
Всю дорогу Галуа-младший требовал совета в наиважнейшем из вопросов: как ему стать настоящим революционером. Новым Робеспьером. Дантоном.
Маратом, parbleu![30]
Мягкие намеки на то, что живопись – тоже неплохое занятие, отвергались с порога. Юноша решительно осуждал даже своего друга Асканио Собреро, излишне полюбившего Мадам Химию в ущерб Деве-Революции. Революции не нужны химики!
Сам Асканио сегодня прийти не смог – лежал в больнице Сальпетриер после очередного опыта. На сей раз, ко всеобщему удивлению, ничего не взорвалось, зато выделился некий газ, в результате чего молодой итальянец начал весело смеяться.
Этим он и занимался третьи сутки подряд.
– Для революционера, – жестокосердый Галуа и не думал сочувствовать приятелю, – все науки – только помеха. Главное – сила воли и жизненный опыт.
– Правильно! – Торвен не к месту вспомнил кривую улочку Строжет, где в трехэтажном особняке обитает старая ведьма Беринг, заботливо стерегущая «Клад Маммоны». – Сила воли, говорите? Вот и отправляйтесь-ка на каторгу. Лет на двадцать.
«Дзинь-дзинь!» – кандальным звоном откликнулась трость, угодив по люку канализации.
– К-куда? – не понял революционер.
– В Тулон! Цепи, тачка, красный колпак. Сырость казематов. По воскресеньям вместо мессы – «пропускание через табак». Это, значит, бросают вас на каменный пол и лупят сапогами, пока кровь горлом не пойдет. А карцер там в отхожем месте, чтобы всё прямиком на голову. Только так выковываются истинные вожди!
Сам Торвен никогда в Тулоне не был и в детали тамошней жизни не вникал. Зато водил знакомство с великим любителем романтики – Хансом Христианом Андерсеном.
– А когда выйдете на свободу… Вернее, как вынесут вас на носилках, так и бросайте клич: «Гвафдане! На баввикафы!» Зубов-то не останется…
В ответ раздалось обиженное сопение.
– Хронический насморк, – развивал мысль Зануда. – Гниение надкостницы. Лысина до самых ушей. Одно хорошо – личной жизни это не помешает. Не будет ее у вас – личной. По-латыни сие именуется красивым словом «impotentia». Перевести?
– Гражданин… Мсье Торвен! Давайте сменим тему! Вы говорили, что мсье Андресану, вашему знакомому, понадобится иллюстратор во Франции…
Торвен постарался скрыть улыбку.
– Ан-дер-се-ну, молодой человек. Да, понадобится. Но учтите, хорошая иллюстрация – это вам не баррикада. Она, извините, труда требует.
Разговор свернул в конструктивную колею. Удовлетворен, Зануда под мерный стук трости пустился в объяснения, увлекся, воспарил к высотам…
…и не заметил Чарльза Бейтса.
– Рыжий? Где? – он растерянно завертел головой. – Вы о ком, Альфред?
– Так вон же! Тот самый, что у дома Карно.
– Что?!
– Я еще его рисовал, помните?
…Бакенбарды торчком, нос похож на свиное рыло, изо рта торчат кривые зубы. Пристань у Эльсинора. Заброда с зонтиком и дуэльным пистолетом.
«Вы слишком добры, сэр!»
У парня оказалась отличная память и острый глаз. Торвен же заброду увидел в последний миг – в толпе, куда тот поспешил нырнуть. Рука прохвоста взлетела вверх, коснулась нелепого войлочного колпака…
Не иначе, поприветствовал?
– Вы говорили, мсье Торвен, что рыжий – слуга того, другого, с орденом… Я еще спросил, не шпион ли он. А вы сказали, что он – это смерть. Что вы имели в виду, а?
Зануда молчал. Париж – та еще деревня, но жизнь отучила верить в совпадения. Он огляделся, ища табличку с названием улицы. Ага, Фобур-Сен-Дени. Над дверью в доме напротив – огромный щит. Черный силуэт кареты, гривастые лошади бьют копытами, рвутся в дальний путь.
Тоже совпадение?
– Кадет!
– Слушаюсь, мой генерал!
Отставной лейтенант мысленно возгордился.
– За рыжим! Близко не подходить, в разговор не вступать. Проследить до гостиницы или квартиры. Встречаемся у меня в номере. Бегом… Марш!
Трость ударила по булыжнику – сухой барабанной дробью.
– Есть!
Свежий ветер унес юношу. Торвен без особой нужды потер ноющее колено. Здоровые ноги – лучшее оружие, что ни говори! Порывшись в кармане, он извлек кошелек и выудил золотой кругляш с «грушей» – профилем короля-гражданина. Подумав, достал второй. К кому сбежал рыжий-зубастый, конечно, важно. Но вот куда он собрался ехать…
Ворон по кличке Предчувствие каркнул, ударил клювом по сердцу. Торвен подбросил монеты на ладони, сжал в кулаке.
И шагнул под копыта черных коней.
2
Пин-эр страдала.
Девушка из хорошей семьи с детства приучена «сохранять лицо». Сообразное поведение – лучший фимиам дружбы, учил Кун-Цзы. Но когда волнуешься, места себе не находишь… Разве она – белоручка-наложница из Запретного города, боящаяся запачкать ладони пылью?
…или кровью.
Увы, глубокоуважаемый дедушка ее не понимал. Это было очень обидно и грустно. Вначале китаянка жалела, что лишена дара речи, но вскоре поняла: это к лучшему. Что бы она сказала дедушке? Не считайте меня ребенком? Позвольте разделить с вами груз забот?!
Запрет смыкал уста. Дочь наставника Вэя лишь беззвучно шевелила губами, цитируя великого Ли Бо.
Летят осенние светлячки У моего окна, И терем от инея заблестел, И тихо плывет луна. А я, одинокая, только о нем Думаю ночи и дни. И слезы льются из глаз моих — Напрасно льются они.– Такие дела, фрекен, – подытожил Торвен, нимало не подозревая о девичьих страданиях. – Посетив вышеописанную контору дилижансов, мне удалось установить, что помянутая компания наших давних недоброжелателей собралась в город Санкт-Петербург…
Девушка не выдержала – вскочила. Чашка, упав на пол, разлетелась вдребезги – обозначив восклицательный знак, отсутствовавший в речи Торвена.
– Кассир перед моим приходом объяснил указанному рыжему субъекту, что прямое дилижансное сообщение между Парижем и Петербургом отсутствует. Билеты надлежит брать до Кенигсберга, а уже оттуда направляться в российскую столицу – морем или опять-таки дилижансом.
Речь Зануды сегодня звучала по-особенному занудно. Знай Пин-эр глубокоуважаемого дедушку чуть лучше, догадалась бы, что тот вообще не здесь.
«Где вы, лейтенант?»
«У расстрельной стенки, мой полковник!»
В случившемся Торвен винил исключительно себя. Поездка Эрстеда в Петербург не нравилась ему изначально. Что там искать у этих русских? Дорогу в знойную, заросшую пальмами Siberia? «Моему любимому ученику! Запомните меня таким, дорогой Андерс…» Кажется, полковник забыл и это.
Легкий шорох отвлек от грустных мыслей. Положив на колени лист бумаги, Пин-эр что-то старательно выводила свинцовым карандашом. Не иначе, очередной иероглиф. Торвен без энтузиазма прикинул, что девицу придется оставлять на чье-то попечение. В безнравственном, полном греха Париже! Тьера, что ли, попросить?
Не к Дюма же обращаться…
Когда иероглиф был дорисован и предъявлен, Торвен даже смотреть на него не стал. Все и так ясно – в темных глазах девушки сверкала сталь:
«Едем!»
– Фрекен! Позвольте напомнить вам об обстоятельстве пусть не романтичном, но существенном. У вас нет паспорта. Документа. Бумаги…
Для пущей убедительности он извлек собственный паспорт и указал на подписи и печати.
– Мы, к сожалению, не в счастливом и свободном Срединном царстве, где в паспортах не нуждаются. Мы в дикой Европе. Что вы скажете пограничной страже? Точнее, что предстоит говорить мне? Я бы мог купить или украсть чужой паспорт… Но на чье имя? Едва ли вас примут за француженку…
– Н-н-нье-е-е-ет!..
Зануда даже не удивился. Сил не осталось.
– Я йе-еду!!!
Девушка, кажется, сама испугалась. Ладонь упала на рот, Пин-эр замотала головой; окаменела, прислушиваясь к чему-то невидимому, страшному. Выждав минуту, осторожно убрала руку от лица. И выдохнула с облегчением.
Что бы ни грозило вырваться из китаянки на волю – оно тоже хотело в Петербург.
Торвен сел в кресло и закрыл глаза. Последняя капля, последняя пуля. Фрекен Пин-эр едет, и хоть наизнанку вывернись. Маршрут прямой и ясный: Париж – Кенигсберг – Петербург – Siberia. А ему что теперь делать? Помирать? Так нельзя, вдова Беринг ждет…
Прикажете поднять белый флаг, лейтенант?
– Мальбрук в поход поехал, Миронтон, миронтон, миронтень…Видя, что глубокоуважаемый дедушка погрузился в глубокую медитацию, Пин-эр тихонько вздохнула – и совсем уж было решилась погладить Железного Червя по плечу, когда в дверь постучали.
Рука отдернулась в мгновение ока.
– Это кадет Галуа, – успокоил ее Торвен. – Пришел доложить о раскрытии злодейского кубла. Фрекен, я что-нибудь придумаю. Мы едем завтра вечерним дилижансом…
3
Из Четырех Великих Творений Пин-эр справилась лишь с одним – «Путешествием на Запад». Она и не собиралась читать всякую скукотищу. Воспитанной девице из благородного дома полагалось ограничиться древней поэзией. В крайнем случае – перелистать что-нибудь из исторических хроник, однако не увлекаться: слишком умных не брали замуж.
Луне не затмить солнца, жене не быть мудрее мужа!
Пин-эр не спорила, предпочитая учиться у отца совсем иному – что, впрочем, тоже не слишком подобало «цветку лотоса».
Однажды их дом посетил важный гость. Цвет его пояса и размер шарика на шапке взывали к крайнему почтению. Отец заранее предупредил, чтобы языкатая Пин-эр не спорила и даже не пыталась вступать в беседу. Девушка покорилась, но слушала внимательно, не пропуская ни одного яшмового слова. Важный гость был умен, начитан и едок, как перец, привезенный из Бахромы Мира. Среди прочего он поделился истиной, которую обронил великий Янь Юань, ученик Кун-Цзы из княжества Лу. Путем длительных размышлений Янь Юань пришел к выводу, что в прадавние времена боги сотворили не Человека, а Мужчину. Женщины же – это прирученные очеловеченные обезьяны. В качестве доказательства приводилась элементарная истина – ни одной женщине не прочесть Четыре Великих Творения.
Слаб обезьяний мозг!
Что-о-о-о?!
На следующий же день Пин-эр отправилась к соседу, высокоученому дядюшке Хо. Тот крайне удивился, но требуемые свитки одолжил. Увы, Творения и впрямь были скучны, а порой откровенно раздражали. Войско Сокрушителя Царств Чжугэ-ляна идет в первый поход… во второй… в сто тридцать третий. Одно царство сокрушили, второе… пятнадцатое…
А вот «Путешествие на Запад» понравилось. Приключения святого монаха, путешествующего в веселой компании оборотней и бесов, увлекли девушку. Она даже позавидовала им – столько увидеть, со столькими подраться. Ни дня без мордобоя!
Отличная книга!
Теперь она сама путешествовала – правда, в данный момент не на Запад, а на Восток. И была уверена: без приключений не обойдется. Недаром Ен Тор Вин хмурился перед отъездом. Ясное дело – грядет славная драка! У нее нет подорожной, а значит, каждую границу придется пересекать с боем. Ради этого Пин-эр безропотно согласилась надеть неудобный для драки наряд – и дала слово во всем слушаться глубокоуважаемого дедушку.
Путь на Восток обещал быть чрезвычайно интересным.
Вышло иначе. Город сменялся городом, скрипучая повозка без спешки катила от станции к станции. На остановках Ен Тор Вин шел на почтамт; в дороге же читал письма и сочинял ответы. Пин-эр оставалось глядеть в окошко. Разочаровали ее и пограничные стражники. Глубокоуважаемый дедушка без лишних слов предъявлял им свою подорожную, стражники смотрели на бумагу, на дедушку и, наконец, – на девушку, кивали и желали счастливого пути.
Некоторые позволяли себе странные ухмылки.
Спросить она не решилась. Не иначе, совершенномудрый дедушка знает заклинание «Трех Чудес и Шести Появлений», позволяющее уговорить даже беса из свиты Янь Ло. Разве что ухмылки стражи… Уж не готовилась ли некая ловушка?
Ловушек не встретилось, и Пин-эр заскучала.
В городе Ван Пине[31] – мрачном, похожем на огромную тюрьму – Ен Тор Вин сообщил, что дальше повозка не поедет. Следует нанять другую повозку или плыть морем – на корабле быстрее. Но сейчас осень, и ожидаются шторма.
Девушка вспомнила славный «Анхольт», мысленно поежилась, но храбро нарисовала иероглиф «цзюэ», означавший «решительность» и «твердость». Ее спутник, пожав плечами, сказал, что «цзюэ» – это да. Но есть ли смысл рисковать? Пин-эр настаивала, даже изобразила изящный силуэт пироскафа с большими колесами и черным дымом над трубой. Однако, как выяснилось, пироскафы ходят редко, значит, придется сесть на парусник.
Отдаться на милость коварному Фэнбо, богу ветров? Осенняя Балтика – не залив Бохай. Глубокоуважаемый дедушка колебался. Волновалась и девушка: что ждет их в столице суровых «лао маоцзы»?[32] Всю стражу на границе, если та вдруг перестанет ухмыляться и возьмется за алебарды, перебить не удастся. Но спрашивать мужчину, не грозит ли ему опасность, – верх неприличия!
По приезду, решила Пин-эр, удвоим бдительность.
4
На Нарвской заставе иностранцев проверяли с особым рвением, даже – произвол! – требовали предъявить багаж к досмотру. У двух дам изъяли модные журналы, доктор из Кенигсберга лишился дюжины бутылок вина, а худосочный студент – томика избранных писем Сен-Симона.
Oh, que le despotisme russe![33]
На пистолеты Торвена глянули кисло, но изымать не стали. Зато паспортом занялись всерьез. Зануда едва успел жестом урезонить Пин-эр: китаянка уже начала дышать экзотическим образом, готовясь к рукопашной. К счастью, обошлось. Документ вернули, старший караула приложил два пальца к сияющей каске – и вдруг подмигнул:
– Hochzeitsreise? Nun, ja Vorstand der Liebe![34]
Торвен втайне надеялся, что способности Пин-эр к языкам все-таки имеют границы. Тем более акцент у служивого был ужасающий. Но едва дилижанс тронулся, девушка извлекла свой непременный блокнот и вывела на чистой странице:
«PASSEPORT».
Подумав, она добавила вопросительный знак.
Торвен долго изучал запись, словно это был особо заковыристый иероглиф. Познания спутницы в письменном французском оказались для него не слишком приятным открытием. И где только выучилась? Должно быть, у полковника. Плыли из Китая – времени много, вот в каюте, долгими вечерами, под плеск волн… Сатана заешь эту женскую тягу к образованию! Мало Зануде дочери с ее Жорж Санд…
Он вздохнул – и без комментариев отдал паспорт в нежные ручки.
Будь что будет!
Вывезти китаянку в Россию невозможно – это ему объяснил датский посол в Париже. Девушке даже не позволят покинуть пределы милой Франции. И вообще очень странно, что ее до сих пор не арестовали. Холера помешала, не иначе.
Зануда не дрогнул лицом, но позволил себе ужасающую вольность: в мыслях обозвал Андерса Эрстеда романтиком. Легко гере полковнику спасать заморских принцесс! А кто, прошу прощения, должен этих принцесс оформлять?!
Хромая больше обычного, он выбрался из негостеприимных стен посольства. В душе плескалось ослепительное, кристально чистое отчаяние. Собрать армию бедолаг, не имеющих виз? Брать российский кордон приступом? Глянув в затянутое тучами небо, он воззвал к святому Кнуду и святой Агнессе, хотя и понимал, что уважаемые праведники его, протестанта, слушать не станут. Король Фредерик на каждом шагу их поминает – а все равно Норвегию отобрали.
– Камрад?! Торвен?
Зануда уставился на чиновника, выбравшегося из кареты, не в силах сообразить, чего от него хотят. Чиновник тоже растерялся, но повторил попытку:
– Это очень хорошо, хорошо, прекрасно, Если братья заодно и живут согласно!Тесен мир! Где только не встретишь бурша из родного Burschenschaften? Камрады обнялись, и чиновник, оказавшийся вторым секретарем посольства, потащил Зануду в свой кабинет. Терять было нечего, и Торвен рассказал все, как есть.
Секретарь без стеснений высказался о способностях камрада влипать в неприятности, затем отпер сейф и извлек стопку чистых бланков. Поразмыслив, спрятал обратно. Китаянка со свежим датским паспортом, выданным в Париже, привлечет внимание на первой же заставе. Задержат, пошлют запрос в посольство.
Что дальше?
Не желая толкать камрада на должностное преступление, Торвен уже был готов откланяться, когда секретарь хлопнул себя по лбу, скверно ухмыльнулся…
– Нет! – вскричал Зануда, узнав, что именно ему предлагают.
Затем подумал – и рукой махнул.
– Давай!
На следующий день столицу Франции покинул датский подданный гере Торбен Йене Торвен с супругой, записанной в его паспорте как фру Агнесса Пинэр Торвен. Имя Зануда выбрал, рассчитывая на заступничество привередливой святой. Он надеялся на чудо. На то, что раскосая «фру» сойдет для пограничной стражи за милую причуду стареющего бабника. Сам же паспорт с фиктивной записью Торвен намеревался съесть сразу по прибытии в родную Данию.
Глядишь, Пин-эр ни о чем не догадается.
В последнем пункте его план провалился начисто. Это ясно читалось во взгляде новобрачной, въезжающей в Санкт-Петербург. Приглядись Зануда повнимательней, то прочел бы еще и из «Путешествия на Запад», черт бы побрал высокоученого дядюшку Хо:
«Видно, еще в прошлом нашем перерождении было нам суждено жить вместе – стать мужем и женой. Не знаю почему, великий князь, ты сторонишься меня и не хочешь выполнить свой супружеский долг…»
Сцена вторая Чижик-Пыжик, где ты был?
1
– Так ты, оказывается, шпион, Торвен?!
Как прикажете отвечать? Русские в подобных случаях просят: «Ne veli kaznit’!» Так ведь Москва слезам не верит, кнутом слезы сушит. А уж Петербург!..
Казалось бы, кому интересны дела давно минувших дней? Да, наглый щенок под чужим именем прошагал в русских колоннах полвойны. Шпион? Шпион, конечно. Но не хватать же почтенного датского подданного за давние грехи?
Был Иоганн фон Торвен – и весь вышел.
Или не весь?
– Я-то думаю, про какого Торвена мне ваш Андерсен пишет? И такой Торвен, и этакий, и вся грудь в крестах, герой-разгерой. Матка Боска, хоть сразу в Рай на белом коне… Тебя же убили! Клаузевиц, фон-барон, мне лично отписал. А ты, оказывается, живой! – да еще и шпион в придачу…
Обнялись. Замерли на миг.
Закусил губу шпион Торвен. Не заплакать бы ненароком! Стареем, сантименты в горле комом…
– А ты, Станислас? На кого ты стал похож? На клячу, что под Дорогобужем околела? Пишет мне Андерсен: есть, мол, в Санкт-Петербурге книжный червячок, переводами на молочко с булкой зарабатывает. Перышком вместо сабли машешь? Стыдись, гусар!
– Эх!
В две глотки выдохнули, взялись за руки:
– Брошу, брошу эти страны и махну туды я, Где у старых у панов жены молодые!..Почтенный дворник, ветеран Бородино, глазам своим не поверил. Прямо у подъезда, каблуками в лужи!.. Цыгане, прости Господи. И не пьяные вроде.
А с виду – сурьезные господа!
– Сяду, сяду на коня, стремечко из стали: Помни, помни, как меня звали-прозывали!Как звали, как прозывали… Прапорщик Иоганн фон Торвен, немец. Корнет Станислас Пупек, поляк. Душный, пыльный август 1812-го.
Ходи, пляши, разговаривай! За спиной – горит Смоленск. За спиной – пол-России под французом. Армия – последняя надежда – отступает, уходит в никуда. Терять нечего, кроме Москвы, так и ту Барклай-предатель сдать готов. Краткий привал, чудом найденная склянка зеленой– по кругу.
Пляши, Торвен! Пусть и немец-перец, да вместе с нами принимаешь и смерть, и позор. А что шваб ты тонконогий – не беда. У нас тут и немцы, и поляки, и татары с черкесами. Ковчег пана Ноя – от француза по хлябям драпаем, пяток не жалеем.
– Чтобы вы узнали истого поляка, Пропою, танцуя, я вам краковяка!Поляк – это корнет Пупек. Нет, не «фон». Ох уж эти швабы, без «фона» – не персона. Просто пан Пупек из Великих Гадок, что под Познанью. Пупок из Большой Гадости. Имей в виду, Торвен, это я сам про себя шутить могу. От иного услышу – саблей побрею.
– Шапку сдвинем набекрень, каблуком притопнем, Если выпьем и станцуем – может, и не сдохнем!Остановились, дух перевели.
Словно в зеркало смотрелся Торвен, глядя на давнего приятеля. Где очи яркие, где черный чуб, румяные щеки? Полно, да Станислас ли перед ним? Телом тощ, лицом тускл, усы – и те спрятались, под самые ноздри ушли.
И Пупек кривил бледные губы. Не выдержал – утер слезу рукавом:
– Ну тебя, Торвен! Разворошил душу, как конь – копну сена. Пошли, потопчем мостовую. Расскажешь, кто ты таков на деле, как немцем стал… И отчего все эти годы вестей о себе не подавал, холера швабская!
Бдительный дворник, провожая взглядом странных господ, прикидывал, что следует доложить о них квартальному. Ишь, удумали! Краковяк на Мойке чешут!
Не иначе, шпионы…
А начиналось все скучно. Поселившись в Демутовом трактире, Зануда велел Пин-эр отдыхать, после чего бегло пролистал утренние «Le Miroir» и «Le Furet» – газеты, издававшиеся для иностранцев. Увы, «Le Miroir», аккуратно извещая читателей о каждом госте, прибывшем из-за рубежа, ничего не сообщала об Андерсе Эрстеде. «Le Furet», хоть и звалась «Хорьком», тоже не проявила должной пронырливости.
Изучить старые номера?
Торвен озаботил этим мордатого лакея, сносно изъяснявшегося по-французски. Тот моргнул наивными голубыми глазами, всосал мзду в ладонь и поклялся к следующему утру разузнать «assez tout» – все как есть. «Мсье Эрстед? По приглашению Технологического института? Найдем-с, не извольте беспокоиться!» Зануда был уверен, что мордатый сперва сообщит о его просьбе в полицию, а то и в страшное Troisie’me Division,[35] но особой беды в том не видел.
Эрстед приехал в Россию официально, по приглашению. Старший брат-академик отправил вдогонку своего помощника? – обычное дело.
Презирая безделье, он покуда решил заняться иными делами. Ибо Ханс Христиан Андерсен умел перекладывать свои многочисленные заботы на чужие плечи.
Тоже талант, если вдуматься.
В начале следующего года здешний издатель Смирдин намеревался выпустить в свет сборник стихов гере романтика. Проблема была с языком – переводчиков с датского в Петербурге не нашлось. Зато нашелся выход – неунывающий Андерсен накропал французский подстрочник, что решило дело. Некто, скрывающийся под псевдонимом С. Познанский, охотно взялся за работу. В письме, догнавшем дилижанс в Кенигсберге, «дяде Торвену» было велено оного Познанского отыскать и лично проконтролировать ход работы.
Адрес прилагался.
Изучив план города, Торвен поправил галстук и бодро зашагал по улицам, стуча тростью. Нужный дом он нашел со второй попытки, узнал от дворника, что барин из шестой квартиры вот-вот изволят вернуться, решил обождать…
И столкнулся со Станисласом Пупеком нос к носу.
Черт тебя дернул, Зануда, в ответ на изумленное: «Фон Торвен? Ты?!» ляпнуть, что никакой ты не «фон». Окажись приятель-корнет сволочью… Вышлют как пить дать. В крайнем случае доведется позвенеть кандалами, совершая экскурсию по Зауралью.
Зато не придется объясняться с Пин-эр.
2
– Kleine Siskin, – кивнул Торвен. – Птица чиж скромного размера. А что такое «pyzhik»?
Пан Пупек хмыкнул.
– Зануда ты, Иоганн. Тебя нужно показывать тем, кто считает занудой меня. Пыжик – олененок. И заодно мех с бедняги…
– А еще шапка из этого меха. Пока доступно. Итак, птица чиж скромного размера в шапке из меха олененка вымыл нижние конечности в реке Фонтанка…
– Матка Боска! – Пупек даже руками развел. – Иоганн, это же просто песня! Там поется не про птицу, а про студентов в желто-зеленых мундирах. Их и прозвали чижиками-пыжиками!..
Торвен едва сумел сохранить серьезный вид. Русский язык он и в лучшие времена знал вприглядку, поэтому попытался суммировать услышанное на более знакомом:
– Chizhik-pyzhik, was Sie schon? Im Fontanka Füße waschen…– Это ты по-швабски? – поляк с подозрением глянул на конкурента-переводчика. – У тебя «Füße» без артикля. Плохо вас, шпионов, в Копенгагене готовят.
И оба затянули на два голоса:
– Чижик-пыжик, где ты был? На Фонтанке ножки мыл. Вымыл ножку – и упал, Снова ноги замарал!Выкушанный штоф Russische Wodka придавал пению дополнительную искренность. Торвен внезапно понял, что Петербург начинает ему нравиться.
– Эх, раз-два-три-четыре! На хозяйкиной квартире Днем и ночью чижик спал, Уходя от ней, зевал!Встречные прохожие шарахались в сторону. Самые пугливые крестились втихомолку. Распелась немчура! Не иначе, праздник на их немецкой Straße!
Чур нас, чур!
Трость-пушинка легко касалась мостовой. Ноги сами летели вперед, а в голове обозначилась давно позабытая ясность. Дела шли неплохо. Переводчика для Андерсена отыскал, в железа не куют, в Сибирь не отправляют. А все прочее, включая вдову Беринг…
Решится, никуда не денется!
– Чижик-пыжик, мой соколик, Что ты ходишь, как католик? Бери косу, молоток, Иди ко мне в холодок!Под «Kleine Siskin» прошагали весь Невский. Пан Пупек то и дело, извинившись, оставлял Торвена одного, сам же исчезал неведомо куда. Возвращался быстро, через минуту-другую. Зануда даже не пытался проследить, за какой угол сворачивал общительный поляк. Дела у человека! Остальное – не наша шпионская забота.
Когда же песня закончилась, он с удивлением сообразил, что проспект давно позади. Перед ними – огромное здание с куполом и сияющим золотым шпилем. Справа пустырь, застроенный деревянными балаганами, вдали – темный силуэт Зимнего дворца…
– Налево, Иоганн, – пан Пупек был трезв и серьезен.
Трость в руке налилась свинцом.
3
– Ты воевал за свою Данию. Я – за мою Польшу. Наполеону я не верил – мелкий провинциальный сатрап. Угодил на престол и потерял голову от счастья. Я верил Александру, русскому царю. Он обещал… У Александра это очень хорошо получалось – обещать. Восстановить Польшу, вернуть Пястов на престол… Клялся, божился, даже подписал проект Конституции. Чем все кончилось, ты знаешь. Мою Родину опять разрезали на части. Мы оба проиграли, брат Торвен. Но Дания все-таки осталась на географических картах. Польша же – только в учебниках истории… После войны я ушел в отставку, не захотел служить лжецу. А в 1830-м Польша воскресла – чтобы вновь погибнуть.
Здание, вдоль которого они шли (Адмиралтейство, разъяснил пан Пупек), казалось бесконечным. Окна, подъезды, лупоглазые мраморные пугала, черный чугун пушек. Линейный корабль-левиафан, завязший в чухонских болотах.
– Про братьев Эрстедов я много слыхал. Твой полковник, как я понимаю, младший? Это его изгнали за идею ввести конституцию в Дании? Смело, я тебе скажу, очень смело. Между прочим, и Андерсен – карбонарий в душе. Прислал мне сказку про парижского мальчишку, которому нагадали, что он умрет на троне. Он и умер – когда в июне 1830-го штурмовали королевский дворец. Ребенок с пулей в сердце истекает кровью на монаршем горностае. Какой образ! Не читал?
Торвен отвечал односложно. Постукивал тростью по камню мостовой. Прикидывал, куда клонит давний знакомец – и куда ведет. Очень хотелось на миг оказаться в Копенгагене и узнать у доверчивого Ханса Христиана Андерсена: кто именно подкинул поэту адресок переводчика С. Познанского, он же Станислас Пупек?
В случайность верилось плохо.
– Знаешь это место?
Левиафан остался позади. Открылось пространство – гулкое, пустое, насквозь продуваемое холодным ветром. Гранитный камень посередине, силуэт всадника на вздыбленном коне.
– Петровская площадь. Ее еще называют Сенатской. Здесь все и случилось.
Зануда хотел переспросить, но вовремя вспомнил.
– Восстание? Семь лет назад? Но это ведь русские! Какое тебе, поляку, дело до их домашних ссор? Феодальные сеньоры решили посадить на престол принца Константина вместо неугодного им Николая…
– Не говори глупости, Торвен, – пан Пупек сверкнул глазами. – Феодальные сеньоры? Мицкевич ответит тебе лучше, чем я.
Он шагнул вперед, встал спиной к Медному Всаднику:
– О где вы? Светлый дух Рылеева погас, Царь петлю затянул вкруг шеи благородной, Что, братских полон чувств, я обнимал не раз. Проклятье палачам твоим, пророк народный!Торвен постарался не дрогнуть лицом. Слишком велик был контраст между «Чижиком-пыжиком» и высокопарным стихом. Слишком переменчив оказался пан Пупек. Интересно, за кого тебя здесь принимают, Зануда? За единомышленника конституционалиста Андерса Эрстеда?
За эмиссара датского республиканского подполья?
Гере Андерсен как-то с восторгом пересказывал «дяде Торбену» свеженькие идеи коллеги Мицкевича. Дескать, три народа – польский, еврейский и почему-то французский – составляют триединый Израиль, призванный спасти грешное человечество. Такая себе интернациональная троица мессий, своим бегством с «рек вавилонских» торящая дорогу в светлое Грядущее.
Устроим квартет? Предложим Дании сыграть на контрабасе?
– Нет больше ни пера, ни сабли в той руке, Что, воин и поэт, мне протянул Бестужев, С поляком за руку он скован в руднике, И в тачку их тиран запряг, обезоружив…Зануда мысленно согласился – не с Мицкевичем, с тираном. А если бы народные пророки вывели взбунтовавшиеся полки на Ратушную площадь Копенгагена? С «воинов и поэтов» станется! Старый Фредерик – из тиранов тиран, одна вдова Беринг чего стоит! Значит, выводим полки, разворачиваем пушки жерлами на Амалиенборг, для верности расстреливаем безоружных парламентеров…
«Нет больше ни пера, ни сабли в той руке…»?
Хвала святому Кнуду – и святой Агнессе хвала!
– Можно любить Старый порядок, – поляк словно подслушал его мысли. – Любить с его коронами, мантиями и рыцарскими орденами. Но старина – это не только побрякушки, брат Торвен. Это еще и право сильного. Право войны и грабежа. В прошлую войну у вас забрали Норвегию. Скоро наступит очередь Шлезвига и Голштейна. Пруссия с каждым днем сильнее, проклятые швабы не успокоятся, пока не восстановят державу Барбароссы. Что тогда останется от твоей малютки Дании?
На этот раз пуля угодила в яблочко. Двадцать лет назад о державе Барбароссы молодому Торвену говорил Карл Клаузевиц. Горячился, обещал скорый и быстрый «аншлюс» исконно немецких провинций… Прапорщик Иоганн фон Торвен, патриот из Голштейна, внимал с радостной улыбкой.
Торбен Йене Торвен, помощник академика Эрстеда, хмурил брови.
– Нам не помог даже Бонапарт, – вздохнул он. – Чью помощь предлагаешь ты? Кучки польских инсургентов? Или ты думаешь, что Данию спасет революция?
– Нет! Данию спасет Объединенная Европа. Общий дом – без границ, армий и безумных тиранов. Тогда ни Дании, ни Польше – никому! – не придется больше бояться. Понимаешь?
Ответа пан Пупек ждать не стал. Отвернувшись, он быстро зашагал к подножию монумента. Торвен захромал следом. В голове резвился и бил клювом наглый Чижик-пыжик. Догнать поляка удалось только у Всадника: Пупек стоял возле черных букв латинской надписи.
– «Петру Первому – Екатерина Вторая». Жуткий монумент, брат Торвен. Болтают, что осенними ночами Он срывается с пьедестала и носится по улицам. Утром находят раздавленные трупы. Александр Пушкин обещал написать об этом поэму…
Торвен с подозрением глянул на Всадника, но ничего монструозного не обнаружил. Тонны позеленевшей меди на могучем валуне… Хорошо быть протестантом и не верить в идолов!
– Здесь есть следы картечи. 14 декабря пушки били прямо по Петру. Удобнее было целиться… Я тебя не убедил?
Зануда пожал плечами.
– Насчет Объединенной Европы? Об этом мечтают уже больше века. Что толку? Благих пожеланий уйма, но всегда что-то мешает.
– Вот! – пан Пупек с болью указал на монумент. – Вот кто мешает!
Зануда хотел было возразить, но вспомнил, что именно царь Александр, большой мастер обещаний, гарантировал Швеции аннексию норвежских земель. И сдержал слово. А император Николай – лучший друг Пруссии, мечтающей об «аншлюсе» Южной Дании.
– Россия – жандарм Европы! Она грезит Империей, лежащей между двух океанов – от французского Бреста до японской Иокогамы. Русские уже в Америке! Они владеют Аляской, укрепляются в Калифорнии и Орегоне, – рука поляка, словно вооруженная саблей, наотмашь рубила воздух. – Европа останется клеткой с голодными крысами, пока монстра не скинут с пьедестала!
Торвену почудилось, будто круглые глаза Всадника в ответ блеснули злым огнем. Не зря Медному выпала честь возглавить здешнюю Дикую Охоту. Мертвые всадники на мертвых конях – догонят, сомнут, втопчут в окровавленную грязь… Вернулся давний, забытый страх. Декабрьский вечер, казачий разъезд уходит в сторону прусских аванпостов; разговор о Дикой Охоте с полковником фон Клаузевицем. Тогда он, Торвен, чувствовал себя предателем – первой жертвой Охоты. Может, если бы он не лукавил с гордым и доверчивым Клаузевицем, если бы покаялся…
…или хотя бы съездил на его могилу.
Дикая Охота мчалась по заснеженным полям. Скалились желтые зубы, пустые глазницы мерцали красными угольками. Медный Всадник вел отряд теней. Рядом, отставая на полкорпуса, ехал на черной худой кобыле корнет Пупек. Смеялся узкой щелью рта, заглядывал в очи мертвого Царя…
Не по твою ли душу едут, Торвен? Не за твоими ли друзьями?
– И что теперь? – Остатками воли Зануда прогнал видение. – Кликнешь сюда «двунадесять языков»? Я видел горящую Москву. А потом видел горящую Европу. Rassa do! Мне не за что любить русских. Но если бы они сожгли Париж с полудюжиной иных столиц в придачу – они были бы правы! Может, ты и Андерсена переводишь ради революционной пропаганды?
Он задохнулся сырым невским воздухом. Серебряная рукоять трости жгла пальцы.
– Двунадесять языков! – не без удовольствия повторил пан Пупек. – Мысль не из худших, брат Торвен. Но ты прав – войной проблему не решить. А твой Андерсен… Подберешь десяток ударных текстов? Или мне прямо к нему обратиться?
«Революционер Андерсен? Это будет похлеще вдовы Беринг. На баррикады они парня не затащат. А вот касательно всего остального…»
– Пойдем отсюда, – уже мирным тоном предложил поляк. – Холодно, ветер с реки. Еще насморк схватим. Завернем в рюмочную, тут есть неподалеку…
– Нет, Станислас, – Торвен встал как вкопанный. – Ты уж договаривай!
Поляк взял его под руку:
– Пошли, пошли! Не хочу, чтобы Он подслушивал…
4
Александр Павлович Романов, наследник российского престола, не хотел быть царем – ординарным деспотом в бесконечной очереди владык Востока. Ученик республиканца Лагарпа мечтал об иной доле. Он хотел стать президентом – первым президентом Российской федеративной республики. Ради этого царевич даже перешагнул через кровь – согласился возглавить заговор против отца.
Республика стоила отцеубийства.
Император Александр не тратил времени даром. Сразу же после коронации он отправил послание Томасу Джефферсону, президенту Северо-Американских Штатов и творцу Декларации Независимости. Тот ответил. В письмах, написанных хитрой «цифирью», рождался план преобразований. Вокруг царя сплотился кружок «молодых друзей». Верховодил Ежи Чарторыйский, желавший помочь России стать свободной – ради свободы родной Польши.
Za naszą wolność i waszą!
Шли годы. Смутный вначале замысел обрастал плотью. Этому не смог помешать даже обезумевший от жажды всевластия корсиканец. Разгромив Наполеона, Александр вернулся из Парижа – и продолжил работу. В 1817 году Польша получила Конституцию. На открытии сейма царь впервые открыто заявил о том, что ждало впереди Россию.
И ошибся – враги оказались предупреждены слишком рано.
В 1818 году Конституция России – Уставная грамота – была подписана. Началось создание тринадцати российских «держав» – штатов. Первой на очереди была Москва. Свой полувековой юбилей Александр думал встретить на посту Первого Президента. Юбилей он обещал отпраздновать в Варшаве, столице братской страны – независимой Польши. До желанной цели оставалось чуть-чуть – шажок-другой…
Не сложилось.
Против выступили все – от царских родичей, грозивших Александру участью его отца, до диких помещиков, готовых собирать по медвежьим углам ополчение в защиту «традиций». К тому же Европа, на помощь которой царь рассчитывал, вновь занялась революционным огнем.
Александр устал от борьбы. Александр сдался.
Александр предал.
Тогда упавшее знамя подхватили другие…
– Ты меня что, вербуешь?
– Нет. Здесь, брат Торвен, справятся без тебя. У вас же с Эрстедом найдутся дела дома. Мне почему-то кажется, что именно ты напишешь первую Конституцию Дании.
– Я не верю в Конституцию. Я не верю в прогресс. В Объединенную Европу я тоже не верю. И вообще, мне хочется в Китай. Знаешь, Станислас, я даже тебе завидую…
– Не раскисай, пехота! Надеюсь, вечером ты свободен? Издатель Смирдин по случаю открытия нового магазина устраивает шикарный банкет для ее величества Литературы и ея верных слуг. Приходи! Выпьем, краковяку отчебучим!
– Чижик-пыжик с головой угодил в Фонтанку! А панёнка и гусар пляшут спозаранку!Сцена третья Итак, ваш сын безумен…
1
Утром следующего дня, собираясь на встречу с Эрстедом, Зануда в очередной раз оценил достоинства новообретенной супруги. Пин-эр оказалась готова к выходу раньше его самого. Она поначалу не доверяла европейским нарядам, но теперь вошла во вкус, не только удачно подбирая одежду, но и быстро в нее облачаясь без посторонней помощи – что женщинам, судя по семейному опыту Торвена, было не свойственно.
Длинная тальма-безрукавка, плащ с лисьей опушкой, мягкий берет кокетливо заломлен набок – фрекен Фурия уступила место фру Прелести. Китаянка лукаво подмигнула: любуйся, муженек!
С такой женой не стыдно и на люди выйти…
Зануда сглотнул. Следовало сказать какой-нибудь комплимент. Он совсем уж было собрался, но вместо этого громко кликнул извозчика. «Дело прежде всего!» – убеждал себя Торвен, забираясь в пролетку. Уши его пылали двумя факелами, и от смущения он уставился на кучерскую спину, словно там были записаны все тайны мира.
Увы, спину украшала всего лишь бляха из жести, гласившая: «Нумер 543». Над «нумером» начинались широченные плечи, бычья шея извозчика и, наконец, – шапка ярко-желтого, предписанного ездовому сословию цвета.
– Н-но, мертвые! – оценил его внимание кучер, без особой нужды щелкнув кнутом. – Барин! Mein Herr! Может, песню? Зонг, стало быть?
– Was?! – Торвен потер ноющий висок. – Песня? Nein! Nicht! Нет!
– Эт можна! Для господ приезжих – завсегда!
– Nein-Nein! Nicht-nicht! Нет-нет! Не шли мне, meine Lieblings, патрет…«А-а-а-а-а-а-а!» – возопил Зануда; к счастью для окружающих – мысленно. Сегодня он наконец понял, что означает слышанная в далеком 1812-м русская поговорка:
«Утро добрым не бывает!»
– Наша große любовь уж Vergangenheit, Ich dich больше не целовайт!Наслаждаясь вокалом, Торвен в очередной раз ужаснулся тому, в каком виде доведется предстать пред светлые очи гере полковника. Что Эрстед о нем подумает? «Позвольте поинтересоваться, юнкер… Какое именно событие вы имели честь вчера отмечать?» И что ответить? Новоселье у издателя Смирдина? Пристраивали к мировой культуре сочинения гере Андерсена?
Ой, голова!
– Neva-fluss течет в море-акиян, А я от горя, meine liebe, пьян…Рядом беззвучно смеялась Пин-эр. Проявив чуткость, девушка не стала добивать дряхлого бурша. Даже принялась записывать рецепт спасительного лекарства, перемежая иероглифы рисунками загадочных плодов. Торвен лишь рукой махнул. Не поможет!
Вообразил, старый дурак, что тебе снова двадцать…
К его чести, до гостиницы он вчера добрался своими ногами. Даже смог принять рапорт мордатого коридорного, поджидавшего его со списком адресов. Скользнув взглядом по верхней строчке, убедился, что полковник Эрстед действительно в Петербурге, и, вполне удовлетворен, принялся проводить с лакеем строевые занятия. Мордатого спасло лишь появление вышедшей на шум Пин-эр. При виде девушки отставной лейтенант присмирел и…
Торвену стало холодно. Словно за шиворот прыгнула толстая и мокрая лягушка. Вчера они… То есть он… Он что-то пытался ей объяснить, сказать. Или даже сказал…
Святой Кнуд и святая Агнесса!
Коляска, управляемая тенором-полиглотом, бодро катила по мостовой. Улыбаясь, фру Торвен ненавязчиво поддерживала гере Торвена под локоток. Оставалось одно – покориться судьбе.
– Даже не знаю, фрекен, что вам рассказать, – вздохнул Зануда. – Господа русские писатели обсуждали литературные проблемы. Бурно. Активно. И повторяли много раз…
Из вчерашнего кутежа запомнились жалкие обрывки. Гере Smirdin – острый оценивающий взгляд из-под густых бровей. Гере Krylov – о-о, sehr groß Krylov! Все толковали о каком-то гере Pushkin, но Зануда оного не приметил. Зато навеки запомнил парившую в воздухе птицу-фразу: «A teper’ vyp’em za…»
В самом скором времени начались чудеса. Например, из стены вышел призрак Ханса Христиана Андерсена. Вначале показался длинный нос, затем хитрая физиономия. Блеснул знакомый, полный ехидства взгляд…
Торвен не удивился, напротив, обрадовался. Явился! И правильно, пусть сам теперь разбирается с переводчиками-карбонариями и своим участием в мировой революции. Поймав призрак за лацкан, Торвен так все ему и высказал. Андерсен спорить не стал, согласился, после чего последовало очередное «A teper’ vyp’em…» – и обнаглевший призрак предложил выпить на брудершафт.
Нацеловавшись, Андерсен сошел с ума. Уверял, что взял псевдоним и теперь известен как Николай Васильевич Гоголь. Зануда счел это очередной фантазией гораздого на шутки Ханса Христиана. Тем более что к их компании присоединился еще один призрак, вышедший ради разнообразия не из стены, а из висевшего на ней портрета и оказавшийся американцем – Эдгар, или Аллан, кто его разберет. Андерсен заявил, что про портрет он обязательно чего-нибудь напишет, потом раздалось волшебное «A teper’…» – и они по русскому обычаю soobrazili na troih. Американец, не закусывая, стал рассказывать какие-то ужасы про мертвых «панночек»; Андерсен каркал вороном, завещал в случае его безвременной смерти тела не погребать до тех пор, пока не покажутся явные признаки разложения, и продавал Смирдину за сумасшедшие деньги «Повесть о том, как поссорился Честный Трубочист с Храбрым Портняжкой» – но, укоряем совестью, отдал повесть даром для альманаха «Новоселье»…
Что было дальше, Торвен не помнил. Он в мыслях осудил себя на десять суток гауптвахты – и подумал, что город Петербург не так уж плох. Вот только что скажет Эрстед?
– Leben больше не стану, поверь, Застрелюся, купимши Gewehr…2
– Вы по поводу пленных? Можете не беспокоиться. Я их уже расстрелял.
Волмонтович рассеянно помахал рукой в воздухе, словно разгоняя табачный дым. В левой руке князь и впрямь держал трубку с длинным чубуком, но она давно погасла.
Торвен и Пин-эр переглянулись в недоумении. Китаянка колебалась: приветствовать князя книксеном, разученным в Париже, или лучше не надо? Зануда, втайне нервничая, принял официальный вид: грудь колесом, каблуки вместе, на лице – вежливая маска.
– Какие пленные? О чем вы?!
В следующую секунду память догнала его. 1813 год, октябрь. Вечер у походного костра. Тогда, в бликах пламени, бледное лицо Волмонтовича выглядело пепельным. А потом князь снял черные окуляры…
Торвена пробрал озноб.
«Вы, кажется, датчане? По поводу пленных?.. Я уже расстрелял эту сволочь…»
– О, у нас гости! – до князя, кажется, лишь сейчас дошло, кто перед ним. – Рад видеть всех в добром здравии. Что привело вас в это логово тирании?
Странное дело: сколько лет знакомы, а Зануда все не мог привыкнуть ни к мрачному юмору поляка, ни к самому Казимиру Волмонтовичу как явлению природы.
– Не время веселиться, – он решил брать быка за рога. – Эминент в Петербурге! Не знаете, где сейчас полковник? Вам грозит опасность…
– Да-да, полковник…
Волмонтович в задумчивости прошелся от стены до стены. Резко остановился, щелкнув пальцами на манер испанских кастаньет. Качнулся с пятки на носок.
– Полковник отправился на рекогносцировку.
– Простите?
Известие об Эминенте князь явно пропустил мимо ушей. Это было совсем не похоже на осторожного, предусмотрительного Волмонтовича.
– Располагайтесь!
Широким жестом пригласив гостей в апартаменты, князь убрел куда-то в глубь квартиры. Торвен последовал за ним. В гостиной князя не обнаружилось.
– Подождем, – вздохнул Зануда. – Я все-таки надеюсь получить вразумительный ответ.
Пин-эр с сомнением покачала головой, но все же присела на обтянутый набивным шелком диванчик у окна. Торвен выбрал место за столом – с таким расчетом, чтобы видеть входную дверь. Он покосился на китаянку – та сидела как на иголках.
В глазах девушки читалась тревога.
– А, вот вы где!
За время отсутствия Волмонтович успел облачиться в новехонькую шинель. На голове его красовался шелковый цилиндр – такой высоченный, что ловкий фокусник спрятал бы туда двух-трех кроликов и голубку в придачу. Без привычного черного плаща князь выглядел незнакомцем. В руках он нес два ларца, которые с грохотом водрузил на стол.
– Пардон, меня ждут дела. Нет-нет, сидите!
– Мне необходимо увидеться с гере Эрстедом!
– Так ждите его здесь.
В первом ларце обнаружилась пара пистолетов незнакомой Торвену системы. Князь взял оба, отошел к стене и замер – словно раздумывал, как половчее спрятать оружие под шинелью.
– Вы уверены, что полковник скоро вернется?
– А? – Черные окуляры неприятно сверкнули. – Разумеется, вернется. Если только не уплывет за угрями в Америку…
Не договорив, князь шагнул к столу так стремительно, что Зануда вздрогнул. Однако Волмонтович всего лишь вернул пистолеты на место. Пробормотав: «Ясна панна!» – он сорвал с головы цилиндр и церемонно раскланялся перед Пин-эр. В ответ с губ китаянки слетел тихий стон; точнее, жалобное поскуливание. Но девушка взяла себя в руки. Встав, она старательно изобразила книксен.
– Ваша супруга – ангел, пан Торвен! Мои поздравления!
– Благодарю…
«Откуда вы знаете, что я записал фрекен Пин-эр своей женой?!» – хотел спросить Зануда. И не спросил. Поведение Волмонтовича не располагало к логической беседе.
– Прошу прощения, ваше сиятельство, – он сделался до оскомины вежлив. – Вы здоровы? Может быть, подошло время лечения электричеством?
– Я? Нездоров?
Волмонтович с изумлением воззрился на доброжелателя. Даже окуляры снял, что случалось с ним редко. В глазах князя клубился туман, заволакивая взгляд бессмысленной мутью.
– Нет, вы только послушайте! Я нездоров!
Князь расхохотался. Смех его напоминал карканье вороны. Швырнув цилиндр на стол, он чуть ли не бегом пересек комнату и остановился у окна, спиной к гостям. Торвен замялся, не зная, как продолжить разговор, и в его ладонь лег сложенный вчетверо лист бумаги.
Стараясь не шуршать, он развернул записку.
«Chien – terreur. Prince – malheur».[36]
Флюидического «пса», который, если верить рассказу Эрстеда, был заключен в девушке, Торвен воспринимал скорее как метафору. Однако сомневаться в чуткости китаянки не следовало. «Метафора» чуяла беду. Что же стряслось с князем?!
– У меня болит сердце, пан Торвен.
Волмонтович смотрел на него в упор. Прятать записку было поздно. Но князь, кажется, не интересовался чужой перепиской.
– Виной тому не болезнь, нет! Могу ли я спокойно смотреть на то, что кровавый тиран делает с моей родиной?
На щеках Волмонтовича проступили багровые пятна. Так выглядят больные чахоткой – или крайне взволнованные люди. Святой Кнуд! Куда подевалась обычная невозмутимость князя? Такого Волмонтовича Торвен видел впервые.
– Пся крев! Коронованный мерзавец задумал уничтожить Польшу! Вы читали его проклятый Манифест? «О новом порядке управления и образования Царства Польского»?!
– Увы, не читал.
– И правильно. Вам-то зачем? – в голосе князя звучала горечь. – Думаете, русский медведь ляжет спать? Ошибаетесь! Польша ему на один зубок! И знаете, что он сделает с вашей фрау Данией?
Дикой кошкой прыгнув к столу, Волмонтович распахнул второй ларец и выхватил оттуда пару «барабанщиков». К счастью, стволы их были направлены в потолок, а не на слушателей.
– То я вам скажу, пан секретарь! Думаете, тирана остановят решения Венского конгресса? Ха! Плевать он на них хотел! Где польская Конституция, я вас спрашиваю? Где наша армия? Где Сейм польский?! Нет больше Польши! Нет! Есть провинция Империи Российской! Провинция, холера! Глухая окраина…
Князь нервно заметался из угла в угол. Торвен упустил момент, когда пистолеты исчезли из его рук – видимо, спрятал-таки под шинель, изыскал местечко.
– «Органический статут» читали?! То ж чистое глумление над шляхтой! Не желаете пятки лизать? – в Сибирь, на вечное поселение! Воевод – на виселицу, вместо них сядут губернаторы…
Взлетев на нос, окуляры скрыли лихорадочный блеск глаз.
– Ничего, пан Торвен! Еще Польска не згинела! Грядет гнев Божий! Каждый честный патриот станет орудием в руке Его!
– Опомнитесь! – Зануда еле дождался, пока в горячечной речи князя возникнет пауза. – Это безумие!
– Безумие?! Нет! То кара Божья!
И Волмонтович, как ветром подхваченный, вылетел из гостиной. Лишь глухо хлопнула входная дверь.
– Rassa do! – в сердцах выругался Торвен. – Мало мне одного Пупека…
Растерян и подавлен, он обернулся к Пин-эр, ища совета. «Надо ждать», – беззвучно шевельнулись губы китаянки. В подтверждение она легонько хлопнула ладонью по дивану.
– Вы правы, фрекен, – согласился Зануда. – Все, что мы можем, – это ждать гере Эрстеда. Ну разве что еще читать из «Гамлета»…
И, мрачен, как туча, он начал монолог Полония:
– Итак, ваш сын безумен; нам осталось Найти причину этого эффекта, Или, верней, дефекта, потому что Дефектный сей эффект небеспричинен. Вот что осталось, и таков остаток…3
– Лейтенант?! Фрекен Пин-эр?! Вот так сюрприз!
Андерс Эрстед был шумен, бодр и слегка навеселе: макинтош нараспашку, щеки горят румянцем, глаза блестят. Похоже, дело шло на лад – естествознание, источая аромат ямайского рома, распространялось наилучшим образом.
– Какими судьбами?!
– Недобрыми, полковник. Ты в курсе, что Эминент в Петербурге?
Перемена настроения у Эрстеда случилась так быстро, что Зануда испугался: не подхватил ли полковник княжеское помешательство? Миг – и на Торвена глядел совсем другой человек. Трезвый, собранный; скулы затвердели, меж бровей обозначилась знакомая складка.
Не сняв макинтош, Эрстед присел к столу.
– Ты уверен?
– Я уверен, что они выехали из Парижа сюда. И вряд ли задерживались в пути.
– Они?
– Фон Книгге слишком велик, чтобы ездить без свиты.
– Думаешь, он явился по мою душу? – криво ухмыльнулся Эрстед. – Что, если у него другая цель? Галуа, Карно… Кто следующий? Проклятье! Я понятия не имею, на кого он мог нацелиться в Петербурге!
Зануда тихонько вздохнул. Да, в этом был весь полковник.
– Цель Эминента – ты. И не увиливай…
На стол лег лист бумаги, покрытый иероглифами. Оказывается, дочь мастера Вэя тоже зря времени не теряла. Эрстед стал читать, морща лоб – его познания в китайском были далеки от совершенства.
– Фрекен Пин-эр считает, что следует нанести удар первыми. Затевая бой, надо стремиться к скорой победе, иначе оружие напрасно затупится. Это из Сунь-Цзы, фрекен?
– Я хотел сказать то же самое! – поразился Торвен.
Карандаш вновь забегал по бумаге. Зануда и не предполагал, как далеко продвинулось изучение китаянкой европейских языков. Сам он за столь краткий срок вряд ли освоил хотя бы азы иероглифики.
«Epoux et épouse – commun bodhiszattva. Me – bonheur».[37]
Торвен отчаянно покраснел.
– И как вы себе это представляете? – поинтересовался Эрстед, списав румянец юнкера на возбуждение перед боем. – Устроим пальбу с рукопашной возле Адмиралтейства? Меня не радует перспектива провести остаток дней в Сибири! Ты еще предложи вызвать фон Книгге на дуэль!
– Дуэль? – задумался Торвен. – А что? Где-нибудь за городом…
– Сперва Эминента нужно разыскать. Думаешь, это просто? Особенно если он не захочет, чтобы его нашли. Кроме того, вызови я фон Книгге, выбор оружия останется за ним. А вдруг он предложит дуэль на ядах? На каких-нибудь «жезлах Анубиса»?
Встав навытяжку, Торбен Йене Торвен щелкнул каблуками. Искалеченная нога не посмела перечить – послушалась, как миленькая.
– Дуэль отменяется, полковник. Будем сидеть сложа руки и ждать, пока Эминент превратит нас в буйнопомешанных… Святая Агнесса! Князь! Как же я сразу не сопоставил…
– Что именно?
– Два часа назад он умчался неизвестно куда. А перед этим вел себя хуже Гамлета. Размахивал пистолетами, спасал Польшу… Я никогда не видел князя столь неуравновешенным.
– Думаешь, это влияние фон Книгге? – Эрстед нахмурился. – Ты прав, в последнее время князь сам не свой. То прострация, то пламенные речи о бедственном положении родины… Мы почти не видимся – он постоянно где-то пропадает. И не говорит – где…
– Не пора ли провести сеанс электролечения?
– Нет, рано. Да и симптомы другие. Ни упадка сил, ни сонливости… Скорее наоборот: неестественное возбуждение, резкие перемены настроения…
– Вот-вот! Работа Эминента!
– Воздействие на рассудок? Внушение навязчивых идей, ведущих к мозговым расстройствам? Правда, князь носит браслеты из алюминиума… С другой стороны, быть может, лишь благодаря им он еще не свихнулся окончательно!
Эрстед вскочил, швырнул макинтош на спинку кресла и забегал по гостиной. Сходство с князем неприятно поразило Торвена.
– Что, если Волмонтович, – предположил Зануда, – в помрачении решит, что «кровавый тиран» – это ты, полковник? А князь – «орудие возмездия» в руке Божьей?
– Вполне в духе фон Книгге, – согласился Эрстед.
Бросив метаться, он уставился на гостей. Словно оценивал: не находятся ли и они под влиянием Эминента? Зануде сделалось не по себе. Если мы исполнимся подозрений, не зная, кому верить; если каждую минуту будем опасаться удара в спину…
– Торвен, я виноват, – тень легла на лицо Эрстеда, состарив полковника лет на двадцать. – Я очень виноват перед Волмонтовичем. Видел же, что творится с ним! – и не предпринял ничего. Ни-че-го! Дела, приемы, встречи… А о друге – забыл. Мне стыдно, лейтенант. Хорошо, что вы приехали. Надеюсь, еще не поздно…
Он с досадой ударил кулаком в ладонь.
– Если причина недуга – расстройство потоков флюида, то дело поправимо. Магниты у меня с собой, науку Месмера я не забыл. Надеюсь, князь позволит мне… – Не закончив, Эрстед умолк и прислушался. – Кажется, к нам гости.
Торвен потянулся к ларцу с пистолетами – в здравом рассудке князь никогда бы не бросил оружие на столе! – и выругал себя за глупость. Никто не хранит оружие заряженным. Зато Пин-эр была уже на ногах. Хищной лаской скользнув вперед, китаянка встала между полковником и входом в гостиную. Хлопнула дверь, которую Эрстед забыл запереть.
Быстрые шаги в прихожей…
– Эминент в Петербурге! – с порога выпалил, задыхаясь, Огюст Шевалье.
Сцена четвертая Ангел-магнетизер
1
Над лестницей, ведущей наверх, парил ангел.
Князю ангел не понравился с первого взгляда. Еще и валторна в руке… Не огненный меч, но раздражает. Крылатый загораживал дорогу в рай: куда? стой, прах! Не торопясь взбежать по лестнице, Волмонтович задержался в холле. Уставился на ангела сквозь черные окуляры – как к барьеру вызвал.
Князю хотелось стрелять – до озноба, до судорог. Утром, днем, вечером. Ночью. Он знал: выстрелит – и все пройдет. Наступит рай, и никаких лишних ангелов на пороге. Ведь это же так просто, да?
Да, неслышно кивнула белокурая всадница Хелена.
– Позвольте вашу шинель…
– Не дам.
– Извините, вашескородие… – служитель занервничал. – Нельзя в шинели-то… Не положено-с. У нас тут «Храм очарования», иллюзион для благородной публики… Концерты, опять же, случаются…
– Это очень хорошая шинель, – как идиоту, разъяснил князь служителю. Волмонтовичу было странно: все вроде бы ясней ясного, а этот болван не понимает. – И очень дорогая. Я купил ее в магазине на Литейном. Там же полковник купил себе английский макинтош из влагозащитной ткани… Нет, хлоп, я не дам тебе свою шинель.
– П-почему, вашескородие? – бледнея, служитель отступил к гардеробу.
Он с детства боялся сумасшедших. И ни за какие деньги не соглашался встречать гостей на маскарадах, заведенных в доме Энгельгардтов с позапрошлого года. Маски с носами и потешные хари приводили служителя в ужас, словно он угодил в «желтый дом».
– Потому что ангел. Понял?
– Д-да…
– Вот тебе четвертной за билет. А вот гривенник на водку.
Отвернувшись, князь тут же забыл о дураке. Вчера, расставшись с Эрстедом у магазина верхней одежды, он зашел в костел Святой Екатерины. Знакомый причетник, озираясь по сторонам, передал Волмонтовичу привет от художника Орловского. У меня для вас поручение, сказал причетник. Завтра вечером вы должны встретиться с паном Гамулецким, иллюзионистом. Наш, из варшавских, не извольте беспокоиться. Невский проспект, дом Энгельгардтов; у Казанского моста. Там вам передадут кое-что.
«Что?» – спросил князь.
Говоря начистоту, усмехнулся причетник, Божью молнию. Хвала Господу нашему, близок День Гнева! Вы возьмете молнию и постараетесь, чтобы, кроме вас, ее никто не увидел. Это очень важно: никто, кроме вас.
«Что дальше?» – спросил князь.
Дальше, ответил причетник, наступит послезавтра. На рассвете вы с молнией выедете туда, где уже однажды катались с паном Орловским. Помните? Московский тракт, чухонская деревня близ Царского Села… Лошадь будет ждать вас в Манеже. Конюхи предупреждены, деньги уплачены.
«Вороной?» – забеспокоился князь.
Вороной, успокоил причетник. По дороге к Царскому Селу вас встретят и укажут верный путь. Место выбрано и подготовлено. Тиран уже скачет из Москвы. Матка Боска, небеса на нашей стороне! Душитель польских свобод спешит к любовнице, а встретит мстителей… Стрелять будет пан Сверчок. Молния – для него.
«Я хочу стрелять, – предупредил князь. – Я очень хочу стрелять».
Вы – второй. Если пан Сверчок не доведет дело до конца.
«Хорошо. Я зайду к Гамулецкому за молнией».
– Эй! Человек! Прими шинель.
– В-ваше… ск-кородие…
– В чем дело?
– Б-боюсь…
– Не бойтесь. Это хорошая шинель.
– Так вы ж-же, в-вашество…
– Что?
– Н-не давали…
– Я?
Трясясь и еле удерживаясь, чтобы не выскочить на проспект с истерическим воплем «Караул!», служитель принял у Волмонтовича шинель. Впрочем, плевать князь хотел на испуг лакея. Беда в другом – ему не хотелось идти к ангелу. Даже за молнией, гори она синим пламенем. Зря он зашел в «Храм очарования» пораньше, желая взглянуть на представленные здесь фокусы…
Пся крев! Стыдись, улан!
Ступенька, другая; третья. Десятая. Багряный ковер рекой крови ложился под ноги. Золоченые спицы блестели так, что глаза жгло огнем даже под черными стеклами окуляров. Князь шел, как в рукопашную.
Едва он ступил на верхнюю площадку, крылатый подлец над головой, словно издеваясь, поднес валторну к губам – и заиграл из «Вильгельма Телля». Князь любил Россини – «Севильский цирюльник», «Отелло», «Дева озера», – но сейчас он согласился с Анри Бейлем, полагавшим композитора свиньей.[38] Хорошо еще, что белокурая Хелена была рядом. В последние дни, со счастливого мига их встречи в лесу, девушка практически не покидала Волмонтовича. Рядом, в горе и радости, в богатстве и бедности, в болезни и здравии…
…пока смерть не разлучит нас.
Еще шаг, и он оказался строго под ангелом.
«Десять лет я трудился, чтобы найти точку и вес магнитов и железа, дабы удержать ангела в воздухе. Помимо трудов немало и средств употребил я на это чудо…»
Что ж, воистину чудо. Сотни посетителей «Храма очарования» любовались им без всякого для себя вреда. Но иллюзионист не знал, что однажды под ангелом, окунувшись в мощное магнитное поле, встанет князь Волмонтович – тот, кто был убит и воскрес неизвестно чьим попущением, в чьих жилах пляшет живое электричество угрей из Америки, а на руках и ногах, как у индийской танцовщицы-баядеры, тускло блестят браслеты из драгоценного алюминиума.
Лишь Пан Бог всеведущ – и оттого предусмотрителен.
2
От ангела снизошло сияние.
Звуки валторны разрослись в целый оркестр. Князь увидел себя посреди бальной залы, танцующим с Хеленой мазурку. Временами мазурка, и без того идущая по кругу, превращалась в вальс – Волмонтовичу неодолимо хотелось не только кружить по зале, но и кружиться самому. Каблук о каблук. Подскок на левой ноге. Сойдясь близко-близко – завертеться снежным бураном: раз-два-три, раз-два-три…
Что-то было не так. Неправильно.
Князь страстно желал понять: что? – но сияющие глаза Хелены придвигались вплотную, и нить рассуждений терялась. Главное: выстрелить. Помочь Пану Богу (пану Сверчку?) навести молнию на цель – и в рай. В вечный танец.
Мы и тебя, полковник Эрстед, возьмем – как же это, в раю без друзей…
– Однообразный и безумный, —застрекотало из угла, —
Как вихорь жизни молодой, Кружится вальса вихорь шумный; Чета мелькает за четой…«Чета? – князь вспомнил, как в бытность Казимиром Черные Очи предводительствовал тремя гайдуцкими четами. – Эрстед прислал мне письмо в Семиградье. «Запомните это слово, – писал он, – алюминиум, «светоносный». В нем ваша судьба, ваш диагноз и ваше лечение…»
Хелена нахмурилась. Ей не нравилось, что партнер отвлекается на какого-то Эрстеда. Князь же напротив, едва вспомнив полковника, почувствовал, что трезвеет. Зала исполнилась резкого, неприятного света, напоминающего сверкание Вольтова столба. Блеск свечей померк, уступил пространство захватчику.
Князю показалось, что он – стрелка компаса, ищущая полюс. Или, если угодно, ствол орудия, направляемого на цель.
Танцоры, роясь вокруг, подмигивали Волмонтовичу. Он узнавал их – не всех, но многих. Вот совершает променад Мирча Вештаци, хранитель клада. Вот скачут, подбоченясь, русские военнопленные, расстрелянные князем под Лейпцигом. Идет вприсядку казак, зарубленный у корчмы. Лупит ладонями по коленям цыган, выпитый близ Тотенталеша. Слева, справа, напротив – ни одной живой души, сплошь покойники.
Мертвецы смеялись без злобы: танцуй! вертись! ты наш, родной!
Из дам он узнал лишь Бригиду – та стояла на пороге залы, как будто сомневалась: войти или выйти? Рядом с ней, держа спутницу под руку, на князя смотрел барон фон Книгге. Он тоже не спешил присоединиться к танцующим, в знак чего имел шпоры на сапогах.[39]
Заболела голова. Ладони-невидимки ударили по ушам – оглушили, превратили звуки оркестра в ватные затычки. Расхотелось стрелять. Чувствуя, как холодный пот струится вдоль хребта, князь вдруг понял, что не так. В его танце с Хеленой вел не кавалер – дама.
– Хелена!
Она стерла улыбку с лица. Стало ясно: эта мазурка, или вальс, черт побери их обоих, – на троих. Помимо девушки, пару Волмонтовичу составлял некий господин в сенаторском мундире красного сукна, с «Анной-на-шее».[40] Бесстыже нарушив канон, да и приличия, надо сказать, сенатор цепко держал князя с Хеленой – направляя и подталкивая.
– Холера ясна! Вы забываетесь, ваша милость!
Заметив, что его присутствие обнаружено, сенатор отступил на шаг. Лицо человека исказилось, превращаясь в маску – посмертную маску из гипса. Миг, и сенатора заступили танцоры, а сам он бегом кинулся к выходу из залы. Почтенный господин сейчас напоминал горе-охотника, преградившего путь тигру лишь затем, чтобы выяснить: порох в его ружье отсырел.
Вслед за ним ринулась прочь Хелена.
– Стой! Стой, курва!
Сгинул бал мертвецов. Темный лес, ничем не похожий на парк с беседками, встал отовсюду. Мерзавца-сенатора, хитроумного штукаря, не было видно нигде. Зато Вражья Молодица – белокурая всадница – мчалась во весь опор, горяча кобылу, не разбирая дороги. Путь за ее спиной зарастал буреломом – так рубцуется рана.
Не узнал! Зажмурил ясные очи, ручки целовал; верил, как Матке Боске…
– Пан Woronoy! Где ты, брат!
И конь явился.
Взлетел улан в седло. Ожег лихого жеребца плетью. Догоню! Меня, князя Волмонтовича, – вести в чужой пляске, как глупую панёнку? Дурачить, колпак шутовской примерять?! Не прощу!.. Синие искры шипели в крови, текущей по венам. Валторна ангела звенела трубой Судного дня. Билась злоба в висках, в сердце, в печенках, прожженных насквозь чистейшей, будто «царская водка», ненавистью.
Черный, как ночь, несся обманутый кавалер за девицей, белой как снег.
– Захрестили мы смерть, захрестили старую, До завтра, до пислязавтра, до свитлого свята…Трещал сухостой. Охала, расступаясь, чаща.
Колоколом гудел лес.
Князь скакал не один. Пан Глад, пан Никто, пан Игрок, пан Кат и пан Гайдук летели плечом к плечу с озверелым Волмонтовичем. Гей, уланы! – вон она, кобыла бледная, вон и плащ белый, мелькает бродячим огоньком в сплетении ветвей.
Стой, Вражья Молодица!
Свадьбу играть будем!
– Смерть, выйди геть, Выйди з нашего села…Нет.
Не догнал.
* * *
– Мою шинель!
– Вот она, вашескородие! Вы уходите?
– Да.
– А фокусы? Иллюзион?
Служитель не мог поверить своему счастью. Гость – по всему видать, офицер в отставке, свихнувшийся на кавказской войне, – который минутой раньше вертелся под ангелом в безумной пляске, вернулся не за тем, чтобы разодрать бедняге-лакею горло зубами.
Он всего лишь – слава тебе, Боже! – решил уйти.
– Фокусы? Спасибо, насмотрелся.
3
– Торвен, останься у дверей.
– Я с тобой, полковник.
Зануде почудилось, что вернулся 1814-й – год, когда они с Эрстедом, как и все офицеры Черного Ольденбургского полка, перешли на «ты». Только война не закончилась – длится. И мирная суета на Невском ничего не значит для этой странной, бесконечной войны.
– Мне нужен верный человек у дверей, лейтенант.
– Думаешь, к фокуснику придет подмога?
Торвен огляделся. Извозчики, доставившие их компанию к дому Энгельгардтов, уже уехали. На проспекте царило обычное вечернее столпотворение. Сюртуки, фраки, мундиры, шинели; чепцы, капоты, атласные, не по сезону, тюрлюрлю…[41] Выстроившись гуськом, еле-еле плелись экипажи. Кареты здесь ездили медленно, зато франты всех мастей сломя голову неслись за каждой юбкой. В искусстве заглядывать дамам под шляпки, едва незнакомка окажется под фонарем, местным поручикам и губернским секретарям не было равных. Если кивер военного и спорил с цилиндром «шпака», то лишь в одном – кто отважней на фронтах любви.
– Гамулецкий не ждет подмоги, – ответил Эрстед, хмурый и сосредоточенный. Складывалось впечатление, что он намерен брать здание приступом и раздумывает: где поставить артиллерию? – Старик ничего не подозревает. Он сидит в ожидании гостя и пьет чай. В худшем случае бранится, что князь задерживается. Видишь? У Гамулецкого темно. Пара свечей, и все…
Полковник рассуждал здраво. Если правое крыло здания, где сегодня давали концерт Филармонического общества, светилось огнями и из распахнутых окон над проспектом неслось грозное начало 9-й симфонии Бетховена, то третий этаж левого крыла, отведенный под «Храм очарования», был мрачен и тих – мрачней и тише книжной лавки у входа, закрытой на ночь.
– Бетховен? Это хорошо, – буркнул Волмонтович, поигрывая тростью.
Свет ближайшего фонаря отражался в черных окулярах князя, делая его похожим на филина – хищника, в голодную зиму способного управиться даже с лисицей.
– Случись лишний шум, никому не будет дела. Надеюсь, мы успеем до «Оды к радости».[42] Не хотелось бы портить финал…
И князь спел с мрачной угрозой:
– Обнимитесь, миллионы! Слейтесь в радости одной!..Сейчас Волмонтович был такой, как всегда, и даже хуже, потому что злой до чрезвычайности. Бледные щеки горели красными пятнами – хоть прикуривай! Голос, дивный баритон, то и дело срывался в неприятную, нутряную хрипотцу. Торвен подумал, что князь стал похож на обычного человека – и слава богу. Зато два часа назад, когда Волмонтович, весь буря и натиск, ворвался в комнату, где кипел диспут на тему «Как спасать упрямого поляка?» – и с порога, ударив себя кулаком в грудь, закричал:
– Я болван, панове! Я – курвин сын, холера мне в печенку…
О, Зануда понял, что прожил жизнь не зря.
– Бейте меня, панове! Плюйте в глаза! Только выслушайте…
Диспут о мерах по спасению прервался сам собой. Обычно молчаливый, на этот раз Волмонтович разразился целым монологом. Всем остальным волей-неволей досталась роль слушателей. Если бы руководство Технологического института узнало, что за заседание проводит в гостином доме Общество по распространению естествознания, собрав под одной крышей двух датчан, поляка, француза и китаянку…
Рота жандармов уже ждала бы у подъезда.
Князь не скрыл ничего. Париж, отель Ламбер, поручение «короля де-факто» – Эрстед молчал, темный, как ночь, ни словом не упрекнув друга. Заговор, борьба за свободу Польши, рассылка агентов – Торвен налил себе еще стакан чаю, понимая, что молодость, проведенная в чужом мундире, вернулась и, похоже, выйдет боком. Смерть тирану, Божья кара, молния, ждущая в «Храме очарования», – кусал губы Огюст Шевалье, не зная, встать горой за питерских «Друзей Народа» или обойтись без лишних баррикад.
Вражья Молодица, умопомрачение, ангел с валторной – неизвестно, что поняла из рассказа князя Пин-эр, но китаянка подошла к Волмонтовичу и обняла его, как брата по несчастью.
– Магниты! – задумчиво сказал Эрстед. Во взгляде его разгорелось пламя научного интереса. – Проводник, помещенный в поле действия сильного магнита… Нет, не проводник, а «лейденская банка»! Утечка заряда, вращательный момент, ускорение флюида… Любопытный эффект, господа! Это революция не только в физике, но и в месмеризме! Я непременно должен отписать об этом брату…
Он вздохнул и поправился:
– Если, конечно, останусь в живых.
– Обратиться к властям? – предложил Торвен, морщась от собственной добропорядочности. – Сообщить о заговоре? О подготовке покушения на государя? Пусть примут меры…
Эрстед покачал головой:
– Нельзя. Князь пойдет на виселицу первым, как эмиссар Чарторыйского. В крайнем случае, учитывая чистосердечное раскаяние, его отправят на каторгу в какой-нибудь Зерентуй. Я потащусь рядом, звеня кандалами. Взрывчатки мне не простят. Сволочь Гамулецкий!.. горное дело, веселые фокусы… Ни один следователь не поверит, что я не знал истинной цели эксперимента. Если сильно повезет, меня вышлют из России под конвоем. А в Данию, на имя нашего доброго Фредерика VI, уйдет депеша, где Андерса Эрстеда окончательно оформят как главное пугало Европы. В Англии взорвал броненосец, в России чуть не взорвал императора…
– Беру свои слова назад, – согласился Зануда. – По этапу пойдем все. Шевалье припомнят его революционные подвиги в Париже. Пин-эр сделают агентом китайской разведки. Ваш покорный слуга, вне сомнений, – матерый датский шпион. Или, учитывая хромоту, сам гере Дьявол. Полковник, у вас есть идеи получше?
– Да, – лицо Эрстеда еще оставалось лицом ученого, занятого проблемой магнитов. Но из глаз, как из окон подозрительного дома, уже выглядывал старый приятель: Андерс-Вали-Напролом. – Надо сорвать покушение. И как можно быстрее покинуть пределы Российской империи. Господа, собирайтесь! Мы едем в гости к мэтру Гамулецкому. Думаю, он заждался…
Китаянка шевельнула губами.
«…и дамы», – прочел, а скорее догадался Торвен, приноровившийся к немоте любимой супруги. По мнению дочери наставника Вэя, полковник категорически ошибся, заявив: «Господа, собирайтесь!» Следовало сказать так: «Господа и дамы, собирайтесь!»
Или даже поставить дам первыми.
4
– Лейтенант, жди здесь. Если фокусник каким-то чудом сбежит от нас с князем, он не должен выйти из дома. Я рассчитываю на тебя. Фрекен Пин-эр, останьтесь с ним. Мсье Шевалье, обойдите дом вокруг. Если найдете черный ход, встаньте там. Повторяю, Гамулецкий мне нужен живым.
Уже без пререканий Зануда заступил на пост.
– Для допроса, полковник? – поинтересовался он. – Пытать будем?
– Обойдемся без пыток. Я не хочу, чтобы он донес заговорщикам о нашем внеплановом визите. Надо выиграть время. Запрем старика у нас на квартире. А перед отъездом из Петербурга – выпустим. Надеюсь, друзья, никто не прячет под сюртуком пару «жилетников»?
Брать с собой пистолеты Эрстед категорически запретил. Волмонтович закатил скандал, требовал, умолял – нет, и все. Нам, сказал полковник, только пальбы на Невском не хватало. Велика баталия! – скрутить старика восьмидесяти лет…
Им повезло. В вечерней толпе гуляк, фланирующих по проспекту, Légion étrangère[43] затерялся так же безоговорочно, как песчинка – в Аравийской пустыне. Чиновники, барышни, гвардейцы, студенты, артельщики – река текла по тротуарам, без удивления огибая, без раздражения толкая недвижный островок у дома Энгельгардтов. Ближе к Казанскому мосту дремал будочник, опершись на алебарду. На миг очнувшись, он проводил смутным взором Огюста Шевалье, быстрым шагом двинувшегося в обход здания, пробормотал что-то вроде: «Экий детина! ей-богу, ражий детина! чтоб его батьке…» – и снова погрузился в сон.
– За мной, князь!
В холле никого не было. Служителю, с детства боявшемуся сумасшедших, повезло – он с полчаса как ушел. Иначе, вновь увидев «свихнувшегося офицера», бедняга мог и чувств лишиться. Взлетев по лестнице, Волмонтович быстрым шагом миновал опасное место под ангелом. Нет, ничего – на этот раз магниты не стали шутить с князем дурные шутки.
Следом на верхнюю площадку ступил Эрстед.
Крылатый, уставясь на полковника сверху вниз, и не подумал дудеть в валторну. Завода ему хватало на строго отмеренное время – до последнего визита гостей. С утра ангел требовал, чтобы в нем подкрутили пружину. Иначе он отказывался музицировать.
– Вперед!
Сцена пятая Ода к радости
1
Демонстрационный зал окутали сумерки. Гам с Невского едва доносился сюда, отсечен закрытым окном. Две свечи горели на зеркальном столике, за которым сидел Гамулецкий. По странной прихоти, в столе огоньки свечей не отражались. Зато они всласть отыгрывались на зеркалах стен – складывалось впечатление, что в искусственной анфиладе залов, замерев навытяжку, стоит орда лакеев с канделябрами.
Света в реальном пространстве это почему-то не прибавляло.
– Вы опаздываете! – сварливым тоном заявил старик. – Я устал ждать…
– Добрый вечер, Антон Маркович, – перебил его Эрстед. – У русских говорят: лучше позже, чем никогда. Это ничего, что я без приглашения?
Фокусник вскочил, едва не опрокинув стол. Дрожащей рукой схватив подсвечник, он поднял его вверх. Язычки пламени дрогнули на фитилях; свет – мигающий, нервный – облил полковника с головы до ног. Миг, и свет волной перетек на Волмонтовича, стоявшего чуть позади. Сам Гамулецкий при этом утонул в темноте. Лишь на седых, гладко зачесанных волосах играли блики, как на мотке серебряной проволоки.
– Штукарь! – с презрением сказал князь. – То вы здесь, панове, все штукмейстеры…
В черных окулярах его возникли два человечка со свечами. Но вряд ли это были лакеи – скорее уж два артиллериста с фитилями, готовые поднести их к запалам орудий.
– Мы не причиним вам вреда, – Эрстед говорил спокойно, без угрозы, опасаясь за здоровье старика. Восемьдесят лет, как-никак. В эти годы муха без предупреждения сядет, и заказывай место на кладбище. – Сейчас вы без принуждения пойдете с нами. Тот предмет, который вы должны передать князю, мы возьмем с собой. Если вы будете благоразумны, все закончится наилучшим образом…
Странное ощущение не покидало Андерса Эрстеда. Он чувствовал, что внимание фокусника, все душевные силы Гамулецкого направлены не на него, хотя именно полковник был здесь гостем нежданным и опасным. Нет, старик не отрывал взгляда от князя; губы его тряслись, и ниточка слюны спустилась из угла рта на гладко выбритый подбородок.
– А я предупреждал. Беги, Антоша, чего уж там…
Эрстед узнал голос: брюзгливый, скрипучий. Реплику подала голова «чародея», невидимая во мраке. Звук шел из угла – там размещалась полка, служившая голове прибежищем на ночь.
– Это невозможно, – еле слышно откликнулся старик. – Даже Калиостро не сумел бы изгнать ее, встань она за плечом. Боже, что вы наделали… Вы погубили нас! Скажите, вы человек?
– Да уж поболе вашего, – обиделся князь. – Андерс, друг мой! Сей древний пан мне изрядно надоел. Не пора ли завершать наш визит?
– Беги, Антоша, – повторила голова. – Бегом беги…
И рассмеялась – противным, дробным смешком.
Гамулецкий отступил на шаг. Бежать старику было решительно некуда – выход из зала загораживали двое сильных, имеющих военный опыт мужчин. Эрстед вспомнил о пистолете, из которого иллюзионист стрелял в арапа-автомата. Действительно, фокусник сунул руку за отворот сюртука, выхватил оружие – и, вздохнув, швырнул его на пол.
Пистолет был разряжен.
Громыхая по паркету, оружие улетело в угол – туда, где до сих пор хихикала голова «чародея», знающая ответы на все вопросы. Дрогнули огоньки свечей в зеркальных панно. Словно в ответ, из темных глубин раздались шаги. Они приближались, делались громче, и наконец к столику вышел арап с подносом в руках.
– Убей! – приказал Гамулецкий.
Не промедлив и краткой доли мига, арап запустил подносом в лицо Эрстеду. Тот едва успел пригнуться. Метательный снаряд просвистел выше, дуновение воздуха легко взъерошило полковнику волосы. За спиной раздался треск и звон. Кажется, поднос вдребезги разнес одно из зеркал.
Что-то произошло с отражениями свечей. Потеря бойца нарушила строй – по стенам пробежала рябь, огоньки задвигались, их стало больше. Эрстед почувствовал слабое головокружение. Усилием воли он заставил себя сосредоточиться на арапе – автомат шел к ним, выставив руки вперед.
«Драться с куклой? Пуля не причинила ей ущерба…»
Позади вскрикнул князь. Сразу же раздался звук удара – трость Волмонтовича угодила по чему-то твердому, обмотанному материей. Бросив взгляд через плечо, Эрстед обнаружил, что князь уже вступил в бой. Напротив Волмонтовича, стараясь вцепиться увертливому поляку в глотку, топтался один из лакеев-великанов, охранявших двери «Храма очарования».
Второй лакей заходил князю с тыла.
– Нам – лозу и взор любимой, Друга верного в бою! Видеть Бога – херувиму, Сладострастие – червю…От княжеского баритона дрогнули огни в анфиладе призрачных залов. Опережая естественный ход 9-й симфонии, неслышимой отсюда, князь затянул «Оду к радости» – торопя финал, один за всех, заменив и четверку солистов, и хор, положенный по замыслу великого Бетховена.
Трость порхала в воздухе на манер дирижерской палочки. Каждый взмах заканчивался хрустящим, зубодробительным аккордом. Ре-мажор – солнечная, сверкающая тональность «Оды…» – воцарилась в «Храме очарования». Даже стены налились желтизной осеннего леса. От этого не стало светлее, но голова «чародея» взвыла волком, угодившим в ловушку.
– Как светила по орбите, Как герой на смертный бой, Братья, в путь идите свой, Смело, с радостью идите!Было жутко видеть, как лакеи продолжают упорствовать, загоняя князя в угол. Человек хотя бы охнул от боли – нет, эти двое ни стоном, ни гримасой не реагировали на трость, когда она ломала в автоматах какие-то «кости». Ловко присев, Волмонтович дважды рубанул наотмашь, над самым полом. Лакей, чье лицо было исковеркано ударами до неузнаваемости, споткнулся и упал на колени.
Раздробленные щиколотки не позволили ему встать.
Второй автомат оказался проворнее, перехватив трость на лету. На миг они застыли – лакей и князь, – силясь вырвать оружие друг у друга. Чем закончилось противоборство, Эрстед не увидел. Сцепившись с арапом, он катался по паркету. По счастливому стечению обстоятельств, оба дрались у входа в зал, мешая Гамулецкому выскочить наружу и кинуться наутек.
Впрочем, фокусник не предпринимал никаких попыток уйти. Недвижен, бессловесен, он ждал на безопасном расстоянии от дерущихся – и лишь поминутно утирал пот, градом катившийся по лицу.
– Радость льется по бокалам, Золотая кровь лозы, Дарит кротость каннибалам, Робким силу в час грозы…Арап, сукин сын, обладал мертвой хваткой. Как бульдог, он вцепился в полковника – сколько Эрстед ни отрывал его твердые, холодные пальцы от своего горла, колотя чертову куклу изо всех сил, арап вновь и вновь лез к глотке врага. Дважды оба вскакивали, и тогда Эрстед обрушивал на куклу град ударов – но школа английского бокса служила ему плохую службу.
Кулаки, разбитые в кровь, и все.
Чудом вывернувшись в очередной раз, полковник не стал повторять прежних ошибок. Ухватив механического кота – тот, к счастью, в драку не лез, – он обрушил увесистого, обтянутого черной шкурой «зверя» на затылок арапа, стоявшего на четвереньках. Дикий мяв, раздавшийся в ответ, насмерть перепугал Эрстеда. Но цель была достигнута – крякнув, арап ткнулся лбом в пол, дважды дернулся и замер в непотребной позе.
Тяжело, с хрипом дыша, полковник хотел кинуться на помощь Волмонтовичу. Но этого уже не требовалось. Не прекращая петь, князь отпустил драгоценную трость, обеими руками схватил лакея за ливрею – и, поднатужась, вскинул куклу над собой. Жилы на висках поляка вздулись. Казалось, они сейчас лопнут, родив снопы трескучих искр.
– Гордость пред лицом тирана, Пусть то жизни стоит нам, Смерть служителям обмана, Слава праведным делам!Окуляры чудом держались на месте, но их жутко перекосило. Грозя выскочить из орбиты, левый глаз князя блестел над верхним краем черного стекла. Геракл, побеждающий Антея, – Волмонтович на миг застыл, должно быть, впервые в жизни сфальшивив мимо нот, и обрушил жертву на ее обезножевшего напарника.
Хруст, треск, и лакеи легли без движения.
– Где штукарь? – задыхаясь, спросил князь.
2
Гамулецкого в зале не было.
Лишь в зеркалах, укрепленных на стене возле закрытого окна, выходящего на Невский, колебались огоньки свечей – отмечая бегство темной, маленькой фигурки. Блестели седые волосы – будто иней расписал стекло зимней ночью. Блеск множился, приближаясь, в то время как сам фокусник удалялся от потрясенных зрителей. Похож на воробья, спасающегося от кошки, он бежал, скрывался в мерцающих далях…
Исчез.
– Проклятье! – Эрстед схватил подсвечник.
С исчезновением старика, в чем бы ни заключалась суть его подлого трюка, со стенами тоже начало твориться неладное. Они вообще перестали отражать пламя. Так, слабые блики, похожие на отсвет звезд в морских волнах, – и все. Тьма сгущалась, в двух шагах ничего нельзя было разобрать.
Демонстрационный зал схлопывался, уменьшался в размерах, грозя раздавить дерзких захватчиков. Если бы не шум со стороны Невского, который вдруг зазвучал громче прежнего, можно было бы испугаться.
– Князь! Мы должны отыскать эту молнию… Вы в курсе, как она выглядит?
– Нет, – спокойно ответил Волмонтович. С каждой минутой он все больше становился прежним: невозмутимым, язвительным, предприимчивым. – Но, полагаю, мы сразу узнаем ее. Молнию ни с чем не спутаешь, друг мой…
Не нуждаясь в освещении, князь сдернул окуляры и быстрым шагом стал прочесывать зал. Доверяя поляку, Эрстед остался на месте. Он хорошо понимал, что не сумеет двигаться во мраке без лишнего грохота. Опустив взгляд, он вздрогнул – в зеркальном столике, в ореоле света, всплыв из глубины, проступило чье-то лицо, искаженное гримасой ужаса. Седые клочья бакенбард, трясется надо лбом пышный кок; брови мучительно сдвинуты, как от приступа боли…
Эрстед наклонился, желая получше рассмотреть странный портрет. Но лицо сгинуло, и полковник увидел лишь самого себя. Тени, подумал он. Мерещится всякое…
– Нашел!
Жестокое разочарование постигло Андерса Эрстеда, когда он увидел – что принес из тьмы князь Волмонтович. Итогом поисков была сошка для мушкета, давным-давно вышедшая из употребления в армиях цивилизованного мира. В Дании про это старье забыли еще при Фредерике Реформаторе. Дубовая, окованная железом, сошка была похожа на рогатину с концами неравной длины, один из которых был загнут крюком, а второй заострен. Пожалуй, она могла бы послужить «копьем» в рукопашной…
Но – молния?
Вот когда Эрстед пожалел всерьез, что фокусник сбежал. Взять бы старого паяца за грудки, тряхнуть как следует, не смущаясь почтенным возрастом… Ему пришло на ум разыскать голову мэтра Гамулецкого и, за отсутствием оригинала, расколотить об пол вдребезги. Впрочем, эту идею полковник счел мальчишеством.
– Вот еще…
Помимо сошки, князь принес кожаную, плотно набитую подушку – такие берегли плечи мушкетеров от отдачи. Швырнув добычу под ноги другу, Волмонтович опять растворился в темноте.
– У вас там склад хлама, князь? – крикнул вслед Эрстед.
– Отчего же? – донеслось из мрака. – Есть и дары прогресса…
Прогресс подарил князю два увесистых ящичка и плоскую коробку. Пока Эрстед раздумывал, вскрыть подарки сейчас или обождать до возвращения на квартиру, – Волмонтович успел последний раз сбегать туда-сюда и притащить заключительную часть наследства Гамулецкого.
– Штука! – язвительно сказал князь, намекая на «штукаря».
«Штука» оказалась длинномерной, в рост человека. Для конспирации она была завернута в ткань с кистями и бахромой, более всего напоминающую старое полковое знамя. Приняв ее от князя, Эрстед чуть не выронил загадочный предмет – тяжелый, зараза, фунтов сорок-пятьдесят! Не сдержав любопытства, он уложил «штуку» на пол, второпях размотал ткань, поднес ближе подсвечник…
– Пищаль? – спросил князь.
Перед ними лежало ружье странного вида. Оно и впрямь напоминало древнюю пищаль – из таких, примостив оружие на топор-бердыш, русские стрельцы палили по предкам Волмонтовича у Земляного Вала.[44] Толстый ствол, самодельное ложе, приклад, как у французского мушкета; в казенной части – какие-то патрубки, рычаги…
– Дома разберемся, – решил Эрстед. – Уходим!
Вновь завернутую пищаль князь, не слушая возражений, сунул под мышку вместе с сошкой. В другую руку он прихватил один из ящиков. Полковнику осталось нести всего ничего: второй ящик с коробкой да подушку.
– Никто не выходил! – доложил Торвен, дежуривший у входа.
Рядом с ним, без особого успеха прячась за китаянку, топтался Огюст Шевалье. Лицо француза было виноватым; казалось, он ждал неминуемой взбучки. Так, вспомнил Эрстед, выглядели новобранцы-часовые, уснувшие на посту и разбуженные оплеухой проверяющего.
– Черный ход… – начал Шевалье, пряча глаза. – Я его не обнаружил. Мне стало… э-э… плохо. Со мной бывает. Я… Мсье Эрстед! Выслушайте меня!
Эрстед ободряюще хлопнул молодого человека по плечу, чуть не выронив подушку.
– Не беспокойтесь, гере секретарь. Фокусник так или иначе сбежал.
– Сбежал?
– Да. Вашей вины здесь нет.
– Я не про фокусника! Я про покушение! Оно провалилось…
– В каком смысле?
Если чего-то и не хватало Андерсу Эрстеду в беспокойном городе Санкт-Петербурге, так это сумасшедшего секретаря.
– Он утверждает, – вмешался Торвен, принимая огонь на себя, – что мы сорвали покушение. В смысле, как говорят русские, многая лета царю-батюшке. Хотя, если верить нашему пророку, многая лета государю не обещана. Сколько там было, мсье Шевалье? Пятьдесят пять? Шестьдесят?
– Едем на квартиру! – велел Эрстед. – Там все расскажете… Извозчик!
В ответ из окон концертного зала раздалось:
– Обнимитесь, миллионы! Слейтесь в радости одной!..3
Огибая дом в поисках черного хода, Огюст с трудом избежал двух драк и одного вызова на дуэль. Оскорбления – не в счет. По-русски он не отличил бы пожелания здравствовать от пожелания сдохнуть от болячек. Спешить, расталкивая толпу, здесь дозволялось лишь петербуржцам. Французов же принимали, что называется, в штыки.
– Пардон! Пардон, мсье…
В спину неслась глухая брань.
Мокрый, красный от бега, Огюст выскочил к Екатерининскому каналу. Возле Казанского моста его и прихватило. Встав у гранитного парапета, молодой человек изо всех сил старался не упасть. В глазах рябило от снежинок. Пренебрегая сезоном, не располагающим к метелям, шестерни Механизма Времени вцепились в рассудок жертвы, перемалывая его на муку.
Город качался, проваливаясь в сугроб. Минута, и сугроб растаял. Вода поднатужилась, рванула кандалы набережных – и освободилась. Вознесясь над опустевшим, словно в нем никогда не было людей, Петербургом, Огюст в растерянности смотрел, как река, бурля, затапливает улицы и проспекты.
Он боялся не видений, нахлынувших в крайне неудобном месте. Он боялся себя самого. Дар ясновиденья нес множество хлопот – так начинающий кавалерист скорее сломает голову, нежели справится с арабским скакуном. Еще не хватало заснуть у моста, под открытым небом! Примут за бродягу или пьяницу, свезут в каталажку… Прошлой ночью, дожидаясь баронессу в номерах Демутова трактира, он тоже заснул. Едва Грядущее, бурча затихающим голосом ангела-лаборанта, скрылось за пеленой веков, Шевалье провалился в сон – хоть из пушки над ухом пали! – и не проснулся даже от прихода Бригиды.
Она не захотела его будить. Стояла, не чуя усталости, рядом с креслом, слушала, как он храпит. Легко, боясь потревожить, касалась спутанных волос. Задернула шторы, чтобы рассвет не побеспокоил его. Присела на пуф, не отрывая взгляда от спящего. И рассмеялась поутру, когда он, едва открыв глаза, кинулся к ней.
С постели они встали после полудня. Велели подать в номер поздний завтрак и бутылку вина. Хохотали, болтали о пустяках – лишь бы не опомниться, не заговорить о главном. Урвав клок счастья, расправлялись с ним на ходу, второпях. Так мальчишка, удирая от сторожа, грызет краденую грушу, стараясь насытиться прежде, чем добычу отберут, да еще и по загривку накостыляют: не воруй, сукин сын!
А потом наступило отрезвление.
И баронесса Вальдек-Эрмоли сказала Огюсту Шевалье, с кем она приехала в Санкт-Петербург. Вопрос – почему ты не хочешь бросить Эминента навсегда?! – остался без ответа. Не хочу? Очень хочу, милый. Не могу. Извини, тебе ни к чему знать о причинах.
Не спасай меня, ладно?
Пропадешь.
Они поссорились. Прислуга радовалась, подслушивая за дверью. Это был настоящий скандал двух любовников – шумный, истеричный, бессмысленный и беспощадный, как поджог дворянской усадьбы толпой мужиков. Оба выворачивали грязное белье наизнанку, словно соревнуясь, кто наговорит больше гадостей. По-библейски могуч, скандал освежал их вином, кормил яблоками, заряжал мерзкой, гнилой энергией.
Что здесь было от проклятого дара Бригиды, а что – от безысходности? Шевалье не выдержал первым. Хлопнув дверью, он понесся от страсти к дружбе, от любви к долгу. И понимал: не уйти. Хоть весь мир пробеги насквозь…
Почему он вспомнил это сейчас, летя над искаженным Петербургом? Наверное, потому, что внизу, по мосткам затопленных тротуаров, заячьей скидкой несся человек. Один-одинешенек, спасаясь от разлива времени. Огюст ясно видел беглеца. Крылья падшего ангела – бился на ветру черный плащ. Колпак паяца – чудом удерживался на голове шелковый цилиндр. Маска африканца – страх делал лицо смуглей, чем оно было на самом деле.
Локтем несчастный прижимал к боку какую-то книгу.
Презирая потоп, за человеком мчались двое всадников – два оживших монумента. То и дело поднимая коней на дыбы, они гнали добычу, не сомневаясь в успехе охоты. Первым скакал великан с кошачьими усами, увенчанный лавровым венком на манер римских императоров; следом торопил коня лейб-гвардеец в парадном мундире и каске.
Так преследуют негра-раба, удравшего с хлопковых плантаций Алабамы.
Приглядевшись, Шевалье с внезапной остротой понял, что второй всадник не столько заботится поимкой бедняги-человечка, сколько желает догнать первого, поравняться с ним, а то и обойти на полкорпуса. «Не догонишь!» – зло подумал Огюст, не зная, откуда взялась эта злость. Словно подслушав его мысли, всадники остановились на всем скаку.
Казалось, они были сделаны не из металла, а из стекла – и побоялись разбиться вдребезги, налетев на преграду. Волна взбесившегося Механизма Времени, подхватив беглеца, вознесла его на немыслимую высоту – и окаменела пьедесталом. Склонив голову, задумчив и спокоен, зверь глядел на ловцов. Встав над потопом в городе-пустыне, несчастный молчал, и в молчании его Огюсту слышался приговор.
Не говоря ни слова, великан развернул коня и умчался прочь. Гвардеец задержался. Вынуждая коня приплясывать на задних ногах, он из-под козырька каски мрачно изучал возомнившую о себе жертву.
– Принял бы ты участие в событиях 14 декабря, – спросил гвардеец, – если б был в Петербурге?
Беглец кивнул.
– Непременно, государь. Все друзья мои были в заговоре, и я не мог бы не участвовать в нем. Одно лишь отсутствие спасло меня, за что я благодарю Бога!
Птица на каске ожила, хлопнув крыльями.
– Довольно ты подурачился, – тень легла на лицо офицера, и без того не слишком приветливое. Чугунная рука огладила бакенбарды, узкие, как бритвы цирюльника. – Теперь будешь рассудителен, и мы более ссориться не будем. Ты станешь присылать ко мне все, что сочинишь. Отныне я сам буду твоим цензором…
И гвардеец ускакал вслед за первым всадником, надеясь все-таки догнать его. Не удивляясь своему знанию русского языка, ничему не удивляясь, Огюст Шевалье успел заметить, как по водам, кипящим возле копыт, бежит рябь – странная, похожая на рисунок. Двуглавый орел, спустившись с небес в бурный разлив, держал в когтях ленту с надписью:
«Николаю I, императору всероссийскому. 1859».
– Il y a beaucoup du praporchique en lui, – сказал беглец, обращаясь к Огюсту, – et un peu du Pierre le Grand…[45]
И Петербург сделался прежним.
Сцена шестая Учись умирать!
1
– 1859-й? – без особого доверия спросил Эрстед. – Ну, допустим. Хотя скачка двух памятников вдоль разлива времен… Как по мне, слишком сильное допущение. Но откуда вы знаете, что его величество не был успешно поражен «молнией»? Монумент ему могли воздвигнуть и спустя четверть века…
Глядя на смущенного француза, Торвен представил, как является к гере академику и официально заявляет: «Знаете, дядя Эрстед, я тут бредил… Так вот, быть вам национальным героем. Наш славный король Фредерик вручит вам Большой крест Даннеборга. Сто, нет, двести тысяч людей с факелами в руках проводят вас в последний путь. В числе первых за гробом пойду я, граф фон Торвен, автор датской Конституции. Вам нравится, дядя Эрстед?»
И радостный гере академик велит добрым санитарам свезти гере помощника в дом призрения – туда, где на окнах крепкие решетки.
– Мне кажется, что памятник был поставлен вскоре после смерти императора, – упрямо набычился Огюст. – Не спрашивайте, почему. Я не знаю. Кажется, и все. Молния? – нет. Кому суждено быть отравленным, того не сожгут…
Молодой человек вздрогнул. Странный холод охватил все члены его тела. На миг почудилось, что в гостиной, у окна, прогибая паркет чудовищным весом металла, встал недавний гвардеец в каске с орлом. Сдвинув тонко очерченные брови, он с усилием, словно был разбит параличом, поднял руку и, погрозив Огюсту пальцем, дал совет:
«Учись умирать!»[46]
Колыхнулись шторы, моргнули язычки свечей, и Чугунный Гость исчез. Никто, кроме Шевалье, его не заметил, никто не услышал роковые слова. Но взгляды всех обратились на француза – так бледен, так испуган был он.
Эрстед нахмурился:
– Фон Книгге оказал вам, как в басне Лафонтена, медвежью услугу. Он дал развитие вашему дару ясновиденья – и не научил, как им верно, а главное, безопасно пользоваться. Представляю, что бы случилось, если б моему брату предоставили в распоряжение химическую лабораторию Грядущего – и не объяснили, как пользоваться тамошними приборами и реактивами. Гере академик быстро взлетел бы на воздух…
– У меня нет никакого дара! Я имею в виду, раньше не было…
И снова дрожь пробрала Огюста. На этот раз незваным гостем явилась – память.
«…я все-таки сомневаюсь в правдивости твоего, мой Огюст, мрачного предсказания о том, что я больше не буду работать. Но признаюсь, оно не лишено оснований. Быть ученым мне мешает как раз то, что я не только ученый. Сердце во мне возмутилось против разума; но я не добавляю, как ты: «Очень жаль…»
Это были строки из письма Эвариста Галуа Огюсту Шевалье, от 25 мая 1832 года.
Огюст уже плохо помнил, что именно предрекал несчастному математику за неделю до роковой дуэли – и в какой форме. Но тогда это казалось простым предостережением. Что, если… Нет, не может быть! Стараясь обуздать волнение, Шевалье сел в кресло и закрыл глаза. Перед внутренним взором бурлила и пенилась лаборатория Грядущего, в которой медленно растворялся академик Эрстед-старший.
Тишина воцарилась в гостиной.
– Ладно, – прервал молчание Андерс Эрстед, не зная о печальной судьбе старшего брата. – Вернемся к нашим молниям. Князь, умоляю, потрудитесь уложить эту красавицу на стол. У меня дико ноет поясница. Чертов арап… Мсье секретарь! Вы в Грядущем не видали подобных монстров?
Шутил полковник или говорил всерьез – ответа он в любом случае не дождался. Огюст сидел в полной прострации. Видя, что толку от француза не будет, Эрстед приступил к созерцанию «красавицы», выложенной князем на всеобщее обозрение. Судя по внешнему виду, это был плод преступной l’amoure de trois[47] – ублюдок бомбарды, тромбона и паровой машины.
– Что скажешь, лейтенант?
– Скажу, что тут не хватает кое-каких частей.
– Этих?
Князь выставил на стол ящики и коробку. Волмонтович уже взялся за крышку большего из ящиков, когда на Торвена накатило. Содрогнувшись, он ощутил себя в шкуре бедняги Шевалье. Только прозрение явилось не из будущего – из прошлого. Рассказ кабатчика Бюжо, трагическая гибель инженера Лебона; оружие, похожее на хищное насекомое, так и не добравшееся до Военного министерства…
Жадный хоботок патрубка. Лапа рычага. Зубчатые колесики, все в блестящей смазке. Прорезь загадочного назначения. Ствол калибром под два дюйма.
– Погодите, – он жестом остановил Волмонтовича, и князь, как ни странно, послушался. – Майне герен! Перед нами электрический пистолет Вольта!
– Пистолет?!
– Ружье, пушка – не важно! Важен принцип. Если я прав, в одном из ящиков должна находиться герметичная емкость с газом. В коробке – гальваническая батарея. А во втором ящике…
– Заряды!
Князь извлек из ящика стальной лоток, в ячейках которого тускло блестели пять металлических цилиндров. Из донышка каждого торчал запал.
– Без сомнения, внутри – разработанная мной взрывчатка на основе ксилоидина, – кивнул Эрстед. – Вот вам и «бешеные сигары»… Нет, но каков прохвост! Веселые фокусы… Да уж, повеселиться господа заговорщики собирались на славу! Этот состав отлично взрывается даже без оболочки. А в корпусе из чугуна… Куда там пороховым бомбам! Вот вам, князь, и Божья кара собственной персоной. Газоэлектрический бомбомет!
Волмонтович, чья страсть к оружию была всем хорошо известна, уже вертел в руках лоток с ксилоидиновыми зарядами. Обнаружив зубцы, идущие по краю, князь хмыкнул – и с неожиданной легкостью одним движением вогнал лоток в прорезь, украшавшую казенную часть бомбомета.
– Добже, добже… – бормотал он, взявшись за рычаг.
– Осторожней!
– Не волнуйтесь, панове. Я не собираюсь здесь стрелять.
Истории папаши Бюжо князь не знал, но в точности повторил действия инженера Лебона, как их описал хозяин кабачка «Крит». Сказались годы практики и чутье искушенного стрелка. Когда через твои руки прошла добрая сотня ружей и пистолетов всех возможных систем, разобраться со сто первой – плевое дело.
Бомбомет ожил, едва князь потянул рычаг на себя. Защелкали-завертелись колесики «часового механизма». Одно из них вошло в пазы меж зубцами на лотке, образовав червячную передачу, – и лоток быстро пополз внутрь кожуха. Там, внутри, лязгало и стрекотало с деловитостью механического сверчка. Из патрубка, словно жало, высунулся металлический штырь.
– Впуск газа, – указал на него полковник. – Открывает клапан.
Рычаг дошел до упора. Выждав секунду, князь отжал его в исходное положение. Снова стук шестерней; «жало» нырнуло в логово. В кожухе что-то явственно провернулось – и замерло.
– Знал бы Алессандро Вольта, чьи руки возьмутся усовершенствовать его изобретение… А главное, с какой целью. Так, что у нас здесь?
В первом ящике обнаружились еще пять снаряженных лотков с бомбами. Тридцати зарядов хватило бы, чтобы разметать в клочья Левиафана. Во втором ящике, как и предполагал Зануда, хранилась металлическая емкость. От нее шел короткий патрубок с предохранительной крышкой. Запас газа: болотного? светильного? Впрочем, не важно. Гальваническая батарея в коробке окончательно расставила все точки над «i».
– Батарея крепится на полке сбоку. Сюда цепляются клеммы, – вслух комментировал Эрстед, не спеша, однако, проделывать описываемые действия. – Емкость с газом привинчивается сюда… Вот нарезка. Рычаг на себя – заряд встает на место, закрывая канал ствола. Электрический запал находится внутри казенной части. Туда при доведении рычага до упора через клапан подается газ… Возврат рычага – клапан закрывается, а заряд отсекается от остальных. Спусковой крючок – замыкатель цепи. Воспламенение газо-воздушной смеси…. Выстрел! При этом загорается запал бомбы. Попадание. Взрыв. Далеко ли наш монстр стреляет? Шагов на сто – сто пятьдесят, вряд ли больше…
– Я в восторге, полковник, – весь облик Зануды противоречил сказанному. – Смею напомнить, что Гамулецкий сбежал. Наверняка заговорщики уже в курсе наших действий. Мы спутали им карты. У нас в руках вещественное доказательство – бомбомет Вольта-Гамулецкого. Как полагаете, майне герен, им есть смысл оставлять нас в живых?
2
Со дня своей смерти Казимир Волмонтович не видел снов.
Никогда.
Ревитализация животным электричеством и браслеты из алюминиума вернули его к жизни, однако вернуть сны не смогли. За двадцать лет князь привык и смирился. Досадная потеря, но он терял и больше.
Сегодня все было иначе. Смежив веки, Волмонтович не впал в обычное забытье, а словно волей злого чародея перенесся из квартиры на Большой Конюшенной – не пойми куда. Густая кровь заката текла в незнакомую комнату через застекленный эркер. В шандале на витой ножке плакали свечи – три толстухи. В углу стоял подрамник с картиной: походный бивуак, гусар набивает трубку, к нему склонился приятель, хохоча во всю глотку. Карандашные эскизы разбросаны по полу; лежит палитра с пятнами засохшей краски…
А вот и живописец – у мольберта.
Захотелось шагнуть ближе, глянуть через плечо художника. Однако князь не мог двинуться с места; застыл мухой в янтаре. «Холера!» – мигом позже до Волмонтовича дошло очевидное: это же сон! Двадцать лет не пересекались их тропинки, немудрено и не признать.
«Не бойся, – шепнула память. – Во сне так бывает».
«Я? Боюсь?!»
Кипя от возмущения, князь пригляделся к хозяину мастерской. Халат синего атласа не мог скрыть могучего телосложения живописца. Седые кудри рассыпались по плечам, кисть в правой руке взлетела, как маршальский жезл. Орловский, курвин сын?! Поклеил нас в дурни, а сам картиночки рисуешь? Ждешь, пока дело сладится?! Руки зачесались ухватить пана академика за шиворот, в ясны очи плюнуть:
«Что ж ты творишь, пся крев?!»
Мимо взбешенного князя скользнул размытый силуэт. Человек? Призрак? – женщина. Плащ цвета августовских сумерек. Волосы – южная ночь; искрятся в глубине золотые крупинки звезд. Мерещится? Во сне и чертову бабушку встретить – милое дело…
Тихо встав за спиной Орловского, гостья любовалась работой. Обернувшись, улыбнулась Волмонтовичу, пальцем погрозила: «Молчи! Не мешай…» – и князь узнал ее. Были светлые волосы, стали черней черного. Был плащ белый, стал темный. А так – знакомей знакомого.
«Беги, дурень!»
Застрял крик в глотке, не сумел вырваться. В гости к художнику пришла Хелена, Вражья Молодица. Вместо Бледной Госпожи – Ночь Глухая. Орловский вздрогнул, повернул голову… Увидел. Сказать: «побледнел» – ничего не сказать. Лицо с прожелтью – не лицо, пергамент мятый. Губы затряслись, ноги подкосились; упал пан академик на колени.
Пощады просить захотел? – так бесполезно.
Наклонилась Хелена, поцеловала Орловского в лоб – легко-легко, как мать целует любимое дитя на сон грядущий, – и шагнула к зеркалу. Высокое, в человеческий рост, венецианского стекла, в массивной раме, оно украшало дальний конец мастерской.
– Стой!
Расточились оковы. Вернулся голос.
За Вражьей Молодицей гоняться – себе дороже станет. А ну как догонишь, что тогда? Но не думал об этом князь. В первый раз ушла, во второй не уйдет, курва… Лишь на миг задержался он возле Орловского: жив? мертв?!
«Прими, Господи, душу…»
Отразился в зеркале коридор. В конце его разгоралось желтое свечение, где в сердцевине, как зародыш в желтке, сидел человек. Мундир красного сукна, «Анна-на-шее»; пальцы унизаны перстнями. Свиделись, пан сенатор, третий-лишний?
Ладонь ткнулась в ледяную поверхность: нет, не пройти в зазеркалье.
Остановилась Хелена перед сенатором. Тот нахмурился, катнул желваки на скулах. Склонил голову: вот он я, весь твой. Не бегу, не прячусь. Делай свое дело, раз пришла. Вражья Молодица чиниться не стала – поцеловала в лоб сенатора, как перед тем академика, и сгинула.
Была – и нет.
Умирать сенатор не спешил. Сидел в кресле, похожем на трон, нюхал табак; вперял взор в сумрак коридора. Почудилось Волмонтовичу: его высматривают, его ищут. Словно напоследок спросить о чем-то хотят. Не вынес пытки князь, отпрянул от зеркала.
С тем и проснулся.
Переход от сна к яви был мгновенным. Из-под неплотно задернутой шторы в комнату вползал серый утренний свет. На кушетке, укрыт стеганым одеялом, безмятежно похрапывал Торвен. Вчера они с Пин-эр наотрез отказались возвращаться в гостиницу. Уговоры полковника действия не возымели.
«О вас никто не знает. Месть заговорщиков вам не грозит. Зачем обнаруживать себя раньше времени? Нам может понадобиться ваша помощь…»
«И когда же она понадобится? Когда нас не будет рядом?!»
«Ничего, справимся…»
«Да вас на минуту оставить нельзя!»
Пин-эр молча уселась на диван, давая понять, что ее не сдвинуть с места и шестерке лошадей. В итоге даме выделили отдельную комнату, а ворчливого Торвена определили на постой в спальне Волмонтовича. Что же разбудило князя? Не храп постояльца – это точно…
Кто-то открывал входную дверь.
Пистолеты князь отверг сразу. Пальба ни к чему, да и заряжать долго. Трость? Слишком длинна, в прихожей не развернуться. А если врагов окажется не один и не два… В одних кальсонах, босой и голый по пояс, Волмонтович выскользнул в коридор – и миг спустя уже был на кухне. Топорик для колки дров он заприметил еще в первый день.
Вот и пригодился.
Не дыша, князь замер за дверью, ожидая визита незваных гостей. Бить надо обухом, рассчитывая силу. Нужен хоть кто-то живой, для допроса. Зря они понадеялись, что в центре города заговорщики не рискнут напасть. Полковник был уверен: время терпит. День-другой, а там – купить билеты на дилижанс до Риги…
В глубине квартиры скрипнула половица. Кажется, в покоях китаянки. Это хорошо. Если что, Пин-эр поможет управиться.
Дверь на кухню открылась. Князь взмахнул топором.
– Доброго утречка, барин. А я вам завтрак принесла. Пышечки свежие, с пылу, с жару. Колбаска краковская – я ж помню, вы любите! – маслице, варенье кружовенное… Что ж вы, барин, сами с топором-то? Ручки белые трудите, а? Федька, подлец, обещал дров наколоть – ужо я ему, бездельнику…
Болтая без умолку, старуха-кухарка выгружала продукты на стол. Маленькая, горбатая, она была шустрой, как мышь. Из-под чепца с оборками блестели любопытные глазки, часто-часто моргая.
– Что ж вы голый-то, барин? В одних, прости господи, подштаниках, по дому бегаете… Никак дурное приснилось? Это ничего, бывает. В прошлом годе тут прохвесор московский жил, так он, как злоупотребит рябиновой, тоже все с топором по комнатам бегал. Чертей гонял – очень уж его черти донимали. Рассольчику принести? У меня рассол ядреный, самолучший…
Пин-эр старалась хохотать беззвучно. Но князь все равно услышал.
3
Завтрак прошел в бодром молчании.
Так сидят за столом на поминках, ближе к середине застолья. Шкалик горькой лег на душу, кровь играет, но забыть о причине собрания, пойдя в пляс, – рановато. Добавить бы! Вот и пьем за упокой, частим, хлопаем рюмку за рюмкой. Грудь колесом, ус – винтом, в глазах – мы живы! мы-то еще живы!..
…пока еще живы. Что да, то да.
Бурная ночь аукнулась каждому. Князь после конфуза с кухаркой лег заново; провалился в привычное бессонье, часа на три. Охал Эрстед, маясь поясницей. Храпел француз – всхлипывал, как дитя, и опять в храп. Втихомолку бранился Торвен: во сне, наяву ли, сам не знал. Чудилось ему, что гостиный дом штурмуют. Вдоль Большой Конюшенной гарцует эскадрон гусар-мертвецов, поднят по тревоге тайным искусством фон Книгге. Пальба по окнам, дым, крики, скалятся черепа под черными киверами; полковник в ответ лупит из бомбомета…
Короче, к столу еле выползли.
Время для завтрака выпало позднее. На Невском случилась и первая, и вторая смена народу. Сонные чиновники разбрелись по департаментам. Мальчишки-разносчики и мужички-работнички в сапогах, густо заляпанных известью, уступили тротуар боннам и гувернерам всех мастей. Те, выгуляв свору бледных воспитанников, в свою очередь готовились отойти в лучшие края – то бишь домой, где кофий и фортепьяно, – предоставив улицы чиновникам по особенным поручениям, бегущим сломя голову в оправдание надежд высокого начальства. Но в квартире Андерса Эрстеда царила неприятная, чуждая центру Северной Пальмиры тишина.
Мелкий дождь, падая с небес, и тот избегал заветного подоконника, чтобы, упаси Боже, не отбить барабанную дробь.
– Андерсен пишет мне, что начал новый роман. – Торвен не выдержал первым. Он готов был заговорить о чем угодно, лишь бы не молчать. – Спрашивает совета насчет названия: «Kun en Spillemand».[48] Что скажете, господа?
Господа сосредоточенно жевали. Единственная за столом дама украдкой пожала плечами. Для Пин-эр не было лучшего названия, чем «Путешествие на Запад».
– О чем роман? – без особого интереса спросил Эрстед.
– Не имею удовольствия знать. О содержании наш поэт сообщает мало, кроме того, что работает под влиянием испытываемого им духовного гнета. Отказался от мечты получить воздаяние на земле и утешен мыслью о мире ином.
Полковник кивнул:
– Все ясно. Мой брат задерживает ему жалованье. А критика по-прежнему остра на язык. Ничего, съездит в Европу, развеется… – Эрстед осекся, вспомнив, как «развеивался» он сам во время поездок в Европу. – Кто главный герой романа? Надеюсь, в финале он обретает успех и богатство…
– Главный герой, по словам гере Андерсена, в конце погибает. И, как я понял, не в одиночестве. Гере Андерсен вообще полагает, что читатель черств душой и не в состоянии сочувствовать сразу многим героям. А посему большую их часть автор должен регулярно умерщвлять, для облегчения восприятия. Если в начале романа героя приносит аист, в конце необходимо похоронить обоих: и человека, и птицу. Закон жанра…
У Огюста Шевалье, намазывавшего масло на хлеб, дрогнула рука. Промахнувшись, он испачкал себе обшлаг сюртука. Тихо чертыхаясь, француз стал вытирать масло салфеткой, отчего рукав быстро превратился в полноценный бутерброд.
– И значит, я сразу после завтрака еду за билетами, – невпопад закончил Торвен. – Дилижанс до Риги, да? Деньги у меня есть, не беспокойтесь.
– Мне нравится, – сказал Волмонтович.
– Что? Название?
– Нет, билеты.
В дверь сунулась кухарка. Судя по ее озабоченному лицу, Федька, который подлец, опять ходил незнамо где, и старушке приходилось исполнять лакейские обязанности.
– Туточки это… письмецо вам, барин…
В руках кухарки дрожал начищенный до блеска поднос. Когда она вносила в комнату гору снеди, кофейник и сахарницу, никакой дрожи не наблюдалось. А четырехугольник письма – вот поди ж ты!
– От кого? – спросил Эрстед.
– Лакей ихнего сиятельства князя Гагарина доставил. Велел – в собственные ручки прохвесору Эрстедову…
Судя по усилившемуся тремору, кухарке вспомнился «прохвесор»-москвич, любитель побегать с топором за чертями. А ну как и этот? Решит, что в конверте – бесы, и давай экзорцировать… Когда Эрстед взял послание, одарив кухарку гривенником, старушка вздохнула с нескрываемым облегчением – и испарилась.
Полковник вскрыл конверт.
«Дорогой друг мой! Смею напомнить, сегодня вы обещались быть у меня в гостях. Боясь нарушить ваши планы, душевно просил бы вас, а также спутника вашего, князя Волмонтовича, явиться ранее прочих гостей. Есть вещи, о каких я хотел бы поведать вам с глазу на глаз, не отягощая прием, устроенный моей супругой, научными беседами, утомительными для большинства собравшихся. Льщу себя надеждой, что призыв мой не останется без внимания. Когда бы вы ни собрались, карета будет ждать вас у подъезда.
Имею честь быть с совершенной преданностию и почтением,
князь Иван Алексеевич Гагарин».– Через мой труп, – сообщил Зануда, когда полковник закончил читать вслух.
Он предпочел бы, чтобы вся компания сидела на квартире безвылазно до самого отъезда в Ригу. Но у Андерса-Вали-Напролом, как обычно, имелось другое мнение.
– Да ладно тебе, лейтенант. – Эрстед допил кофе и аккуратно промокнул губы салфеткой. – Отставить панику! Не станут же, в конце концов, резать нас в гостях у сенатора…
– Он сенатор? – внезапно заинтересовался Волмонтович. – Этот Гагарин?
Сняв окуляры, князь протер их краем скатерти и жестом попросил передать ему письмо. Читать чужую переписку – это было настолько не в характере поляка, что Эрстед без возражений подчинился. Князь изучал письмо долго – на взгляд Торвена, слишком долго.
– Почерк, – наконец сказал Волмонтович. – Андерс, ты обратил внимание на почерк?
– Да, – кратко ответил полковник.
Заинтересован, Торвен в свою очередь потянулся глянуть на письмо Гагарина. Буквы, трясясь, как паралитики, плясали краковяк. Две кляксы портили написанное. Местами от сильного нажима бумага порвалась. Почерк – словно курица лапой…
– Это записку писал больной человек, – тихо заметил Торвен.
– Пожалуй, – согласился князь. – Я бы сказал: смертельно больной. Андерс, мы едем?
Сцена седьмая Пан никуда не бежит
1
Контора акционерной компании фон Францена, ведающей устройством пассажирских рейсов, располагалась на Малой Морской улице, возле Торговой площади.[49] Отсюда отправлялись дилижансы до Москвы, Риги и Ревеля, а также по Белорусскому тракту до Радзивилова. Добраться до конторы без приключений было истинным подвигом. Дорогу преграждал «Рабий рынок» – биржа труда под открытым небом, где желающий мог нанять за гроши медников из Олонца, пильщиков из Вологды или каменщиков из Ярославля.
Здесь пахло дегтем, кислой овчиной, а в особенности – нищетой.
Хромая, Торвен сильней обычного опирался на трость – и проклинал извозчика, высадившего их в начале рынка. В толчее требовалась предельная осмотрительность. Миг рассеянности – и ты лишался часов или становился работодателем артели бурлаков, согласных тянуть твою расшиву[50] вдоль по Volga-matooshka.
Получив задаток, бурлаки исчезали навсегда.
В конторе Торвен был вознагражден за свои мучения. Согласно сезонному расписанию, первая половина осени считалась летом, а значит, в каждом «нележансе», как остроумно выразился дежурный вагенмейстер, для пассажиров резервировалось шесть мест. Вторая половина осени числилась зимой, и мест становилось меньше в полтора раза. Ровно столько занимали объемистые шубы господ, решивших оставить промерзший насквозь Петербург.
Зимой пятерке беглецов пришлось бы распределяться по двум дилижансам. Сейчас же они поместились в один, отправлявшийся на Ригу завтра, в полдень. Рейс был дополнительный, и места не успели разобрать.
– Пять билетов? – вагенмейстер сделал запись в книге учета. – Не опаздывайте, сударь, ждать не станем. В эдакую слякоть больше девяти верст в час никак не сладить. А нам до темноты кровь из носу надо в Волосове быть. Не в лесу же ночевать, а? Пожалте пятьсот рубликов…
Дождь снаружи усилился. Раскрыв зонтик, Пин-эр взяла Торвена под локоть. Он хотел было отобрать зонт у китаянки, ибо мужчине приличествует брать даму под опеку… Увы, ничего не получилось. Китаянка вцепилась в бамбуковую ручку – клещами не отодрать. Наверное, почуяла голос родины – бамбук, не осина! Она указала на трость Зануды, потом – на его больную ногу и осуждающе фыркнула.
– Торвен! Матка Боска! Куда ни сунусь, везде ты…
Перед ними стоял Станислас Пупек. Подняв воротник шинели, надвинув на брови суконную фуражку с красным околышем, отставной корнет высунул наружу один нос – и часто-часто шмыгал им: от насморка или от радости встречи. Складывалось впечатление, что Пупек с рассвета на улице и изрядно продрог.
– Далеко собрался, брат Торвен?
– В Ригу.
– А я – в Ревель.[51] Тетушка хворает, надо присутствовать. Наследство, будь оно неладно! – хочешь, не хочешь, кланяйся старой клуше… Целую ручки ясной панне!
Быстро, словно клюнул, Пупек приложился к руке Пин-эр, держащей зонт. Глазки поляка блестели из-под козырька фуражки, с любопытством изучая экзотические черты «панны». Зануда внутренне напрягся, ожидая беды – ничего, обошлось.
Дочь мастера Вэя уже привыкла к варварским обычаям.
– Представь меня, Торвен! Как-никак сослуживцы…
– Гере Пупек, – Зануда кивком указал Пин-эр на поляка. – Э-э… из Больших Гадок. Мы воевали вместе. Гере Пупек, позвольте представить вам мою жену, Агнессу Торвен.
Что поняла фру Торвен, сказать было сложно. Улыбнувшись поляку, она зонтиком изобразила в воздухе ряд хитрых загогулин. Разбирайся мужчины в иероглифике, прочли бы из «Дао дэ цзин»: «Благой муж в мире предпочитает уважение, но в войне использует насилие». А разбирайся они в фехтовании боевыми крюками, вне сомнений, опознали бы прием «Золотой карп применяет коварство».
Увы, изящные аллегории пропали втуне.
– Что тебе в Риге? – поинтересовался Пупек.
Торвен пожал плечами:
– Дела.
– Новость слыхал? – видя, что собеседник не расположен к откровенности, Пупек зашел с другого бока. – Орловский умер! Да-да, брат Торвен, – сам Орловский! Академик, гений кисти… Все поляки Петербурга уже знают и скорбят.
– Мои соболезнования…
Зануда не понимал, чего хочет от него отставной корнет. А ведь Станислас чего-то хотел, ждал, просто ел чету Торвен сверкающими глазками.
– Скажу по секрету, – вел свое Пупек, – скверно умер пан Орловский. Говорят, черти забрали. Слуга поутру глянул в лицо мертвецу – до сих пор горькую пьет. Страх запивает. А я так полагаю, что убили академика… Поглумились сперва, а там – иди, душа, в рай! Как считаешь, кому мог помешать известный художник?
Торвен еще раз пожал плечами. Может, незнакомый ему Орловский нарисовал шарж на высокую особу? Изобразил в непотребном виде? Нет, за такое не убивают.
– Значит, в Ригу? – поляк вновь резко сменил тему. – А я в Ревель. Дилижансы на Ревель от Сенной уходят, надо бежать… Ну, даст бог, еще свидимся. Мир тесен, брат Торвен. Целую ручки!
И растворился в дожде, как сахар в стакане чая.
Опять тащиться через Торговую площадь Торвену расхотелось. Он огляделся в поисках извозчика, никого не обнаружил – и решил пойти другим путем. По идее, если двинуться в конец улицы, а там взять левее, переулками, то можно выбраться на Мойку, откуда до Большой Конюшенной – хоть пешком, если нога не подведет, хоть на лихаче за сущие гроши.
Стараясь идти бодрым шагом, дабы не огорчать Пин-эр, он прикидывал, как в Риге их компания сядет на парусник до Копенгагена. И в самом скором времени – Фредериксбергский холм, Конгенс Нюторв, особняк гере академика; уютная, родная каморка под лестницей, сопение гоблина в камине, тишь да гладь…
– То прошу пана до тарантаса. И без глупостей!
В спину уперся ствол пистолета.
2
– Присаживайтесь, господа…
Князь Гагарин принимал гостей по-простому, будто деревенский помещик. Темно-зеленый бархат шлафрока, шалевый воротник из черной лисы… Внезапно став крошечным, щуплым, Иван Алексеевич утонул во всем этом великолепии. Руки до кончиков пальцев спрятались в широких, с меховой оторочкой, рукавах. В кудрявых волосах прибавилось седины, под глазами набрякли синие, неприятные мешки.
Огромное, похожее на трон кресло, в котором князь сидел, по-детски подобрав ноги, довершало картину. Впрочем, Гагарин не выглядел больным. Скорее это был человек, которому очень трудно жить. Будто лямку тянул – вот добредем до привала, упадем в траву и закончим несуразный поход…
– Полагаю, ваше сиятельство, что мы не вовремя. – Эрстед не спешил сесть. – Если вам неможется…
– Мне можется, – перебил его Иван Алексеевич. Низкий голос Гагарина остался прежним, властным и раскатистым. – Мне не хочется. Мне уже ничего не хочется. Разве что напоследок взглянуть на человека, способного отослать смерть прочь. Хотя…
Дергая щекой, он прищурил левый глаз – будто целился из ружья.
– Да, вижу. Вы ведь не вполне человек, князь?
– Уж не меньше вашего, – с обидой буркнул Волмонтович. – Ecce homo![52]
Оба князя не отрывали взгляда друг от друга. Эрстед почувствовал себя лишним. В душе закипало раздражение. Волмонтович знаком с Гагариным? Давняя вражда? Фамильные дрязги?
– Электричество? Мне мерещатся искры в вашей крови, князь, – бормотал Иван Алексеевич, сверля Волмонтовича правым, широко открытым, как если бы в него был вставлен монокль, глазом. Сейчас Гагарин напоминал беднягу, разбитого апоплексическим ударом. – Ага, браслеты… Что это за браслеты? Я ничего не понимаю! Гамулецкий жаловался – вы разломали его холопов…
Все встало на свои места. Задохнувшись от внезапной ясности, Андерс Эрстед глядел на хозяина дома, скорчившегося в кресле, – кукловода, стоявшего за заговором цареубийц. Так и виделось: из рукавов шлафрока свисают оборванные нити, которые еще недавно вели к марионеткам. Впрочем, часть кукол наверняка послушна его приказам до сих пор.
А они с Волмонтовичем угодили прямиком в ров со львами.
– Мы с князем дурно воспитаны. – Эрстед шагнул вперед. – Нам чрезвычайно не нравится, когда нас пытаются убивать. Надеюсь, ваше сиятельство примет это во внимание…
Он осекся, не поверив своим ушам. Нет, ему не померещилось: Иван Алексеевич смеялся. Содрогаясь всем телом, выпростав руки и ударяя ладонями по подлокотникам «трона», – хохотал, как ребенок. По щеке Гагарина катилась одинокая слезинка.
Уж не повредился ли он рассудком на краю могилы?
– Уморили вы меня, господа. Как есть, уморили! Неужто и впрямь решили, что я пригласил вас для смертоубийства? У меня в доме?
– А что, твоя милость велит вывести нас на двор?
Волмонтович поднял руку, желая снять окуляры, но передумал. Тонкий слух поляка говорил: к дверям никто не подкрадывается.
– Прошу вас, садитесь. Мне трудно задирать голову, беседуя с вами.
Мазнув взглядом по креслам, словно выискивая скрытый подвох, Волмонтович демонстративно хмыкнул – и сел в то, что ближе к двери.
Эрстед занял соседнее.
– Мне осталось недолго, господа. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Я не намерен мстить. Поздно, да и глупо, если по чести. Но я хочу… я должен… Князь, мне жизненно необходимо это знать! Как вы отослали домой мою смерть?
– Она ваша? Панна Хелена? – Волмонтович в свою очередь захохотал, что с ним случалось редко. – Курвина дочь! Так и знал: не моя! То, пше прашем, зачем вы послали ее ко мне?
Прежде чем ответить, Гагарин извлек из складок шлафрока миниатюрный гробик, на поверку оказавшийся табакеркой. Эрстед кисло поморщился. Его всегда раздражало пристрастие мистиков к дешевым эффектам. Сенатор, меценат, заговорщик, наконец, – а туда же! Сняв золоченый футляр с непомерно длинного ногтя на мизинце левой руки, Иван Алексеевич зачерпнул из «гробика» малую толику табачка, сделал понюшку…
Лицо его посвежело, на щеках проступил румянец.
– Я виноват перед вами. Мне требовался второй номер для Сверчка. Вы, князь, подходили по всем статьям: поляк, эмиссар Чарторыйского, офицер с боевым опытом… Увы, добром вы не соглашались. Пришлось прибегнуть к особым методам.
– Но вам-то чем помешал император?! – не выдержал Эрстед. – Вы же в фаворе!
– Я хорошо помню Сенатскую площадь в декабре 1825-го. Не все тогда пошли на эшафот и в Сибирь. Оставшиеся – не забыли и не простили. Братство может проиграть сражение, но не войну. Ах, какие были идеи! Соединенные Штаты России, Объединенная Европа… Нынешние горе-прогрессисты, утратив всякий смысл, простодушно-циничны. Завтрашние консерваторы станут наглыми циниками. Настоящее человечества есть ложь, и ложь организованная! Но человечество станет воплощенной истиною, когда перевооружится новым устройством общества… и начало будет положено в России!..
Гагарин умолк, переводя дух. Только сейчас Эрстед увидел, как мало жизни осталось в этом человеке. И поразился силе воли князя, которая одна, надо думать, удерживала Ивана Алексеевича на белом свете.
– В 1825-м мы рассчитывали на людей и силу оружия. На сей раз я решил заручиться дополнительной поддержкой. Моя смерть… Не стану утомлять вас, господа, подробностями нашего с ней договора. Скажу лишь, что Хелена была заклята на три сердца. Императора она забрала бы сразу, Сверчка – вскорости; вас, князь, – спустя некоторое время. Что ж, она и так заберет троих. Орловский уже мертв, я – умираю.
– Кто третий? – Волмонтович наклонился вперед. – Говорите!
– Не знаю. Слово чести, не знаю.
– Зачем же ваша милость ломает эту комедию?
– Я предлагаю честный обмен. Вы рассказываете мне, как вам удалось сорвать мой план, – а я помогаю вам избежать гибели от рук моих союзников. Без сомнения, они жаждут вашей крови. Договорились?
Во взгляде Волмонтовича, обращенном к Эрстеду, стоял вопрос. Поляк и сам слабо понимал, каким образом справился с Вражьей Молодицей.
– Хорошо, – кивнул датчанин. – Мы согласны. Во всяком случае, я попробую.
Он взял паузу, собираясь с мыслями.
– Скажите, Иван Алексеевич… Вы знаете, что такое «лейденская банка»? И что происходит с ней в поле действия сильного магнита?
Вместо ответа Гагарин взял вторую понюшку.
3
– Пан никуда не бежит. Пан кульгавый, расшибется…
Торвену показалось, что сзади никого нет, кроме пистолета. Это пистолет разговаривает. Ствол вместо пули выбрасывает слова – точно в цель. Стараясь идти как можно медленнее, Зануда сделал шаг, другой, третий.
– То пан молодец…
Ствол исчез. Ничего больше не упиралось в спину. Но голос остался – за плечом, где и полагается стоять лукавому бесу. Конвоир, кем бы он ни был, знал свое дело. Так безопаснее, да и надежнее – сохранять дистанцию между собой и хромым пленником.
«Военная косточка?» – подумал Зануда.
В переулке, куда они свернули, находились склады камня. Исаакиевский собор, строясь неподалеку, пожирал материалы, как Молох – детишек. Гранит серый и розовый, белый мрамор из Ла Винкарелла, порфир из Ферганы, бадахшанский лазурит… Собор возводили уже четверть века – сплетничали, будто архитектору Монферрану нагадали смерть по завершению работ: вот, мол, и тянет. Судя по тому, что склады были закрыты, а переулок словно вымер, архитектор мог считать себя бессмертным.
В конце переулка ждала легкая карета, запряженная парой чубарых меринов. На козлах, поигрывая кнутом, сидел кучер – бравый усач, похожий на унтер-офицера в отставке. Дождь нимало не смущал кучера. Даже не подумав укрыться какой-нибудь дерюгой, он ухмылялся во весь рот.
– Jeszcze Polska nie zginęła, —вполголоса запели сзади, —
Kiedy my żyjemy, Co nam obca przemoc wzięła, Szablą odbierzemy…[53]Стараясь не делать резких движений, Торвен обернулся на ходу. Конвоир оказался плотным коротышкой с грудью, напоминающей пивной бочонок. Пистолет он скрывал под полой непромокаемого макинтоша. По тому, как конвоир держал оружие, делалось ясно – в случае чего он не промахнется.
Дальше, под вывеской «Кирпич братьев Мижуевых», прижалась к стене Пин-эр. Рядом с китаянкой, держа нож у ее шеи, стоял человек с постной физиономией святоши. Окажись здесь князь Волмонтович, сразу узнал бы причетника из костела Святой Екатерины.
– Не потребно глядеть, пан. Идите с Богом…
Коротышке повезло: последние слова в его жизни были обращены к Господу. Такие везунчики без пересадок попадают в рай – есть мед серебряными ложками. Не договорив, он всхрапнул по-лошадиному, широко раскрыл рот, откуда потекла струйка крови, и начал поворачиваться – всем телом, как сомнамбула.
Под его затылком, похожа на косицу парика, торчала рукоять ножа.
– …kiedy my żyjemy…
Причетник с изумлением смотрел не на компаньона, а на собственную руку. Запястье было сломано, кисть висела тряпкой. Боль еще не пришла, и он недоумевал: как же так? Куда делся нож? Почему немеют пальцы? Минуту назад причетник больше всего боялся, что дамочка – башкирка, что ли? – завизжит, и придется затыкать ей рот. Лучше пусть в обморок падает: дотащим, не велика корова. Приказ, полученный им, недвусмысленно гласил: взять обоих без шума, трупов не оставлять. Для дамы приготовили отдельную коляску с крытым верхом – экипаж ждал в соседнем переулке, пока карета увезет опасного пленника, и подъехал бы без промедления…
Он не понял, что прекратило его терзания. Просто «адамово яблоко», символ грехопадения, вдруг встало поперек горла. Дышать было невмоготу. «Всякое дыхание да хвалит Господа…» – в ушах, летя с небесных хоров, возникли голоса ангелов. Захрипев, причетник опустился на колени, как перед алтарем, и упал ничком. Ноги его неприятно дергались. Следом, будто только этого и ждал, упал коротышка. Пистолет, выскользнув из-под макинтоша, ударился о мостовую.
Выстрел прозвучал до смешного глухо.
Торвен видел, как Пин-эр, не успев отойти от склада, с размаху села на землю. Складывалось впечатление, что один шутник-невидимка встал позади девушки на четвереньки, а второй изо всех сил толкнул ничего не подозревающую жертву. Пуля угодила ей в ногу выше колена. Должно быть, китаянка приложилась копчиком – лицо ее дико исказилось, она выгнулась от боли; бесстыдно задрала плащ, подол платья, нижнюю юбку, резким движением разорвала панталоны, желая видеть рану…
– Курва! Ах ты, курва…
К ним, размахивая кнутом, бежал кучер. Заступив усачу дорогу, Торвен поднял трость. «Двое хромых против одного здорового?» – если Зануда и молился о чем-то, так только об устойчивости. Свистнув, кнут обвил трость; кончик плетеного ремня чиркнул Торвена по щеке. Ему почудилось, что это был край бритвы. Королевский подарок рванулся прочь из руки, едва не вывихнув хозяину пальцы. Торвен воспользовался рывком – и в нелепом броске упал на проклятого кучера.
Оба покатились по лужам, вцепившись в кнутовище.
Куда улетела трость, никто не заметил.
Усач оказался силен, как бык. Вырвав оружие, единственное, какое осталось в их распоряжении, он вскочил и, бранясь, принялся наотмашь хлестать Торвена. Пряча лицо, Зануда вертелся волчком. Ему повезло: увлекшись, кучер поскользнулся на мокром булыжнике. Не дожидаясь, пока экзекуция продолжится, Торвен кинулся вперед, ухватил мерзавца под коленки – и, в пылу драки не заметив, что кнутовище угодило ему по голове, дернул на себя.
Так удаляют гнилой зуб, отчаявшись сладить с ним чем-либо, кроме здоровенных клещей. Крякнув, кучер грохнулся на мостовую, словно мешок с тряпьем. Навалившись сверху, Торвен вцепился в жилистую, скользкую от пота и дождя глотку. Тело под ним плясало краковяк, билось рыбой, выброшенной на берег. Но отодрать Зануду от кучера смогли бы разве что святой Кнуд вкупе со святой Агнессой, явись они в безлюдный переулок – и реши проявить милосердие к задыхающемуся католику.
К счастью, у святых имелись другие неотложные дела. Лицо кучера приобрело сине-багровый оттенок. Тело обмякло, пустые, рыбьи глаза уставились в серое небо. Нет, рай воистину не мог быть таким – выцветшим, набрякшим, как тряпка для мытья полов. Мелкая морось сыпалась на лицо, щеки, мокрые, поникшие усы…
Небо скупо оплакивало свежепреставленных рабов Божьих.
Торвен с трудом разжал пальцы, сведенные судорогой. Перевернулся на спину и немного полежал в грязи, жадно дыша. Казалось, это его горло только что сжимали мертвой хваткой. Тело набили ватой, в ней прятались острые гвозди, норовя вылезти в самых неожиданных местах. Нашарив трость – предательница валялась совсем рядом, – он попытался встать и едва не растянулся снова. Голова кружилась, в темени стучал клювом чижик-пыжик. Зануда бережно ощупал макушку. Пальцы сделались липкими от крови.
Ничего, Железный Червь. Справимся.
Он постоял на четвереньках, успокаивая головокружение. Встал; пошатнулся, ловя равновесие, оперся на трость. Так, стоим. Уже хорошо. Теперь – Пин-эр. Наверное, по китайским обычаям этот бой можно засчитать за обряд венчания. Супруги спасают друг друга, давая клятву верности на сто перерождений…
Китаянка сидела на мостовой, привалясь спиной к стене склада, и внимательно изучала пулевую рану на бедре. Выглядела Пин-эр скорее удивленной, нежели испуганной. Только губы подергивались, выдавая боль, которую она испытывала.
Вид женской наготы привел Торвена в отчаянное смущение. Подумав, он пришел к выводу, что это последствия драки. А что? Один солдат после рукопашной пьет, как сапожник, другой плачет, третий кается; четвертого от дамских ножек в пот бросает…
«Стыдись, лейтенант! Пожилой, женатый человек…»
Это расстояние далось ему трудней, чем восхождение на Фредериксбергский холм. Когда же он увидел рану китаянки вблизи, все фривольные мысли, черт бы их побрал, мигом улетучились. Нога Пин-эр страшно отекла, превратившись в колоду, сизую и распухшую. Такое случается при сильных ушибах и переломах. Но при чем тут пулевое ранение? На военные увечья Торвен насмотрелся всласть. Входное отверстие от пули – маленькое, аккуратное; крови немного…
Что происходит?!
С ногой девушки начались странные метаморфозы. Отек пришел в движение, собираясь вокруг раны – нарыв, вулкан воспаленной плоти с кратером в центре. Из кратера сочилась густая кровь. Под набухшей, темно-синей кожей проступали, чтобы тут же исчезнуть, тугие «желваки». Торвен дернулся помочь, сорвал шейный платок – перевязать…
И замер, не зная, что делать.
Пин-эр застонала сквозь зубы. Из «вулкана» выплеснулась очередная порция «лавы». В ране возник тусклый блеск. Он приближался, двигался наружу…
– Пуля! Она выходит! Потерпите…
Последнее сокращение мышц – и кусочек свинца со стуком упал на булыжник. Отек стал медленно опадать, рассасываясь.
– Все хорошо. Пуля вышла. Дышите глубже, – Торвен молол любую чепуху, лишь бы не задумываться над увиденным. – Сейчас мы поедем домой… все уже позади…
Загнав смущение к дьяволу в задницу, он перетянул платком рану.
– Вы можете подняться?
Девушка честно попыталась. Две опоры: стена склада и плечо мужчины. Та-ак, осторожненько, встаем… Святой Кнуд! Простите, фрекен, я не думал, что вам будет так больно.
Вы не ушиблись?
Торвен беспомощно огляделся. Бежать за извозчиком? В его состоянии «бежать» – это очень сильно сказано. Да и любой извозчик при виде грязного, окровавленного субъекта первым делом кликнет полицию. На нас напали, господин полицмейстер, мы защищались… Пострадавших задержат «до выяснения». Время будет потеряно, Эрстед без них не уедет, а покидать Петербург надо без промедления.
Что же делать?
Взгляд Зануды уперся в карету похитителей, и отставной лейтенант обозвал себя идиотом. Не иначе, кнут кучера вышиб последний ум. Доковыляв до убитого коротышки, он стащил с него макинтош. Хвала индейскому каучуку и шотландцу Чарльзу Макинтошу![54] – непромокаемый плащ пострадал от грязи куда меньше, чем одежда Торвена.
Заодно пригодилась и шляпа кучера.
Вожжи Зануда держал в руках дважды. Ему не исполнилось и десяти, когда малыша решили приобщить к катанию в коляске. Что ж, говорят, третий раз – счастливый.
– Простите, фрекен… фру Торвен. По-другому у меня не получится.
Крякнув, он взвалил Пин-эр себе на плечо – римлянин, похищающий сабинянку, – и, тяжело опираясь на трость, с трудом переставляя ноги, потащил жену к карете.
Вскоре после отъезда экипажа в переулок въехала крытая коляска.
– Пся крев!
Это было все, что сказал Станислас Пупек при виде трупов.
4
– Признаться, я рассчитывал на несколько иное объяснение. Смена полярности, говорите?
– Да, ваше сиятельство. Я в этом уверен.
– Это хорошо, что вы уверены. Скажу честно, мсье Эрстед, я мало что понял из вашего рассказа. Но вы исполнили уговор. Если я не разбираюсь в физике, то в людях я все-таки разбираюсь. И слышу, когда мне лгут. Для меня это столь же очевидно, как для вас… Ну, не знаю! Законы Ньютона, что ли?
Гагарин сухо рассмеялся. В задумчивости он провел длинным ногтем по подбородку, бросил взгляд на высокие напольные часы – те громко тикали в углу, отмеряя сроки.
– Я много знаю, господа. Не сочтите за похвальбу, право слово. Я играл со смертью, как ребенок – с волчком. Живой? мертвый? – это противоположность, которой в действительности нет. Даже церковь есть общество живых, имеющее своей целью умерших, их всеобщее воскрешение. Храм жреца был колыбелью моей физики. Мастерская исследователя – колыбель вашей. Вы из другой касты. Магниты, вольтов столб, электрические заряды… Мы видим мир по-разному.
– Я ученый, – пожал плечами Эрстед. – И вижу мир, как ученый.
– Ученый, мистик… Это две стороны медали: аверс и реверс. Сдается мне, ни один из нас не видит всю медаль целиком. Я не обольщаюсь тем, что называется торжеством над природою. Взять ведро воды и, обратив его в пар, заставить работать – не значит победить природу. Это даже не победа над ведром воды. Нужно видеть, как эта побежденная сила отрывает руки-ноги у работников, чтобы поумерить свои восторги; очевидно, что эта сила не наша, ибо не составляет нашего телесного органа.
– Я готов возразить вам, ваше сиятельство.
– Вот-вот. Не сомневаюсь, что ваши возражения будут оригинальны. Мы оба ошибаемся, мня себя исключительными прозорливцами. Помните слепцов из притчи, захотевших узнать, что есть слон? Но, как говорится, долг платежом красен. Пора исполнить мою часть уговора.
Князь начал подниматься из кресла. Создавалось впечатление, что тело Ивана Алексеевича сделано из богемского стекла и от неосторожного движения готово разлететься на тысячи острых осколков. Встав, Гагарин с минуту ждал чего-то, держась за спинку «трона», и наконец решительным шагом пересек кабинет.
Сев за письменный стол, он придвинул стопку дорогой бумаги с водяными знаками и обмакнул перо в чернильницу.
– Вам нельзя оставаться в Петербурге, – сильный голос треснул, как порченый кувшин. – Уезжайте немедленно. Лучше – сегодня; максимум – завтра. Но только не на Запад. В Европу бежать нельзя, вас перехватят по дороге.
Перо скрипело, взлетало, ныряло в чернильницу, выныривало обратно, вновь приникая к бумаге… Гагарин ухитрялся писать и говорить одновременно.
– Не переоцениваете ли вы возможности ваших товарищей, князь?
В вопросе Волмонтовича сквозил неприкрытый скепсис.
– Нет, князь. Устранение августейшей особы – дело серьезное. А мы – не самоубийцы и рассчитывали добиться успеха. С кем легче разделаться: с помазанником Божьим или с путешествующими по России иностранцами? В Петербурге или на пути в Данию ваши жизни не будут стоить и гроша.
– И что же вы предлагаете?
– Вам необходимо предпринять шаг, которого от вас не ждут. Уехать, но туда, где вас не додумаются искать. Скажем, в Тамбовскую губернию. Этим вы собьете мстителей со следа.
Гагарин умолк, давая гостям возможность осмыслить сказанное.
– А что? – поляк вдруг щелкнул пальцами. – Панове, мне по сердцу это безумие! Переждем в глуши до января, а там реки встанут, и мы в санях, по укатанному снежку – на юг, в Одессу. Сядем на корабль; глядишь, Гарибальди подвернется… Холера! Уж в тамбовских лесах нас точно не найдут!
– Тем более в моем родовом гнезде.
Сдернув окуляры, Волмонтович уставился на Гагарина.
– Вы не ослышались, господа. Тамбовская губерния, Елатомский уезд, деревня Ключи – там расположено одно из имений нашей семьи. Сейчас я пишу письмо моему сыну, Павлу Ивановичу. Он примет вас, как подобает. Зимой ваш след затеряется, и вы спокойно оставите Россию. Вряд ли за вами продолжат гоняться по Европе – если, конечно, вы не постараетесь ради этого. Сейчас изложу подробно, как добраться до Ключей…
Перо опять заскрипело.
– Скажите, ваше сиятельство, – Эрстед прошелся по кабинету, разминая ноги. – Почему вы нам помогаете? Я вижу кучу причин, но ни одна из них не кажется мне убедительной. Вина, благородство, осторожность, хитрость… Подлость, наконец. В сложном соединении ваших действий присутствует элемент, который я не в силах определить.
Гагарин поднял на него глаза: тусклые, мертвые.
– А вы наблюдательны, друг мой. Когда Гамулецкий рассказал мне, что вы изобрели новую взрывчатку, я навел о вас справки. Так вот, кроме прочего, я выяснил, что вы учились у двоих людей: Франца Месмера и Адольфа фон Книгге. И в итоге сделали выбор в пользу первого, порвав со вторым. Месмер, скажу по чести, мне безразличен. Но фон Книгге виновен в разгроме ордена иллюминатов, а идеи Вейсгаупта, возглавлявшего орден, мне близки. Если бы не предательство этого иуды, политическая карта Европы сегодня выглядела бы иначе. Мы никогда не встречались, но я считаю фон Книгге своим врагом. А он, как сообщили мне, считает врагом – вас. Враг моего врага…
Его голос набрал силу:
– Вот адрес, дорожные пояснения и рекомендательное письмо. С Богом, господа. Прощайте. В этой жизни мы больше не увидимся.
Подтверждая приговор, в часах хрипло ударили куранты.
Сцена восьмая Путешествие из Петербурга в Москву
1
– Баронесса Вальдек-Эрмоли и барон фон Книгге.
– Ваша светлость!
Глубокий поклон.
– Ваша светлость!
Второй поклон. И ручкой эдак, на европейский манер. Эминент подумал, что в забавном сочетании поясного поклона с заграничным кунштюком – весь Петербург. А французский у лакея хорош. И для титулования лучше подходит: в русском нет отдельного обращения для баронского титула.[55]
Молодцы хозяева, вышколили.
Он позволил себе улыбнуться одними губами. И мысленно отметил, что входит в роль. В образ автора книги «Об обращении с людьми». Человека, которого благородство обхождения интересует в сто раз больше, нежели проблемы будущего цивилизации.
– Позвольте ваш капот, мадам. Ваш редингот, мсье…
На лестнице гостей встречал мажордом в парадной ливрее, важный, как епископ на мессе. Мрамор ступеней, непременная бордовая дорожка с золотой каймой по краю. Резной дуб дверных створок, бронза ручек с львиными мордами. Берлин, Вена, Париж, Санкт-Петербург – куда ни приедешь, везде одно и то же.
Двери торжественно распахнулись.
– Баронесса Вальдек-Эрмоли! Барон фон Книгге!
Бас мажордома набатом раскатился под высокими сводами гостиной. На вошедших хлынула густая волна запаха горячего воска. За окнами стемнело, гостиную освещали сотни свечей – в канделябрах по углам, в двух люстрах, сверкающих хрустальными подвесками. Фон Книгге глубоко вдохнул – и замер.
…оплывают сталагмиты свечей. Ушел вверх потолок, выгнулся, превратясь в храмовый купол. Масляные блики пляшут на иконостасе: серебряный оклад, строгие лики святых… На возвышении – темный гроб. Его, шаркая, обходит священник в черной рясе, похожий на ворона. Блестит на груди наперсный крест. Слова заупокойной молитвы взлетают над головами собравшихся, дробятся о своды, возвращаются стаей птиц, скребутся мышами по углам. Качается в руке кадило, запах ладана мешается с запахом воска…
Отпевание. Кто-то умер.
Кто?!
Эминент попытался шагнуть ближе, заглянуть в гроб. Что-то не пустило его. Неуступчивая, упругая сила ограждала гроб от посягательств. Он взглянул под ноги. Неровная, белая, будто мелом начерченная линия кольцом опоясывала возвышение. Дым из кадила повалил клубами…
Плавящийся воск. Духи женщин. Табак и вино – это мужчины. Что еще?
В доме Гагариных пахло смертью.
– Ах, милочка! Я так рада, что вы пришли! Господин барон?
– Ваше сиятельство! Сколь велика для меня честь находиться в вашем обществе! О-о, ваше колье… Оно прекрасно! Но в сравнении с вашими глазами меркнут любые бриллианты. Я бы даже сказал – звезды, если бы не боялся прослыть льстецом.
Княгиня лукаво погрозила Эминенту пальчиком:
– Да вы настоящий дон Хуан, барон! Женщине опасно быть подле вас…
– Ни в малейшей степени! Я для прекрасных дам – что домашний котенок. Баронесса, подтвердите!
– Я, кажется, говорила вам, княгиня, – Бригида сделала неопределенный жест, – что в искусстве приятной беседы барону нет равных?
– И вы ничуть не погрешили против истины, милочка! Барон, зовите меня Екатериной Семеновной. Позвольте познакомить вас с моими гостями. Не мне же одной наслаждаться вашим красноречием!..
Княгиня блистала. Комплименты приукрашивали действительность, но не противоречили ей. Атлас морской волной облил высокий стан, алмазное колье играет огоньками свечей; лучатся глаза-сапфиры на лице греческой богини.
– …князь Гагарин…
Гагарин?! Ранее Эминент не встречался с хозяином дома лицом к лицу. Но присутствие Посвященного в зале он бы ощутил еще на лестнице. Кто это? Статный красавец в темно-синем мундире обер-гофмейстера. Да ему и сорока нет!
– …директор Императорских театров. Стараниями Сергея Сергеевича в Петербурге построили Александринский театр и открыли театральное училище…
– Сердечно рад, ваше сиятельство. Знатный род поддерживает свою славу достойными деяниями. Вы приходитесь родственником хозяевам дома?
– О, вне сомнений. Но родовое древо Гагариных разрослось так пышно, что я не хотел бы утомлять вас вычислениями степени нашего родства. Кстати, барон! А вы, в свою очередь, случайно не родич того самого фон Книгге? Я имел удовольствие читать его «Reise nach Braunschweig». Смеялся, как ребенок…
– Отвечу вам вашими же словами: о, вне сомнений! Но к чему утомлять вас вычислениями степени нашего родства с покойником?
Оба расхохотались, довольные друг другом.
– Славу рода составляют дела его отпрысков. Уверен, барон, книги вашего предка будут читать и наши потомки…
Лица, мундиры; шелест платьев, блеск драгоценностей.
– Это честь для меня…
– Давно ли вы в Петербурге, господин барон?..
– …неп’еменно посетите! З’елище фее’ическое…
– Ах, баронесса! Мы так соскучились по парижским новостям!
Четверть часа, и процедура представления завершилась. Гусарский полковник, большой любитель рейнвейнов, уверился, что нашел в лице барона истинного знатока. Шатаясь, он увлек фон Книгге к окну, дабы немедленно обсудить достоинства урожаев 1775 и 1786 годов. К счастью, поддерживать светский разговор на любую тему не составляло для Эминента труда.
– Зеленых рюмок двинут строй Из стран, где Рейн вдохновенный Бушует грозною волной, Вот он, веками освященный, Йоганнисбергер золотой!Запах смерти усиливался. Болезнь? Старость? Несчастный случай? Дуэль? Яд? Нет, здесь пахло иной, особой смертью. Той, что является по вызову из киноварных чертогов – и не спешит вернуться обратно, не насытившись. Такую смерть не обмануть личиной чужого тела, от нее не укрыться за кисеей заемного существования; не заговорить, как простенькую, гулящую смертушку от пули или клинка.
Встречу с ней можно отсрочить, но не избежать.
Эминент слышал о Посвященных, заключивших договор с собственной смертью. Это было трудней, чем слетать на черте из Мадрида в Стокгольм, и опасней демона в табакерке. Подписав контракт с жертвой, временно получавшей статус хозяина, смерть верно служила у человека на посылках. Корми меня, выгуливай, позволяй дышать, и ты неуязвим. Словно живой любовнице, ей давали женские имена: Беатрис, Анна, Хелена. Суеверие? охранный заговор? – фон Книгге не знал.
Сам он даже не пробовал сделать что-нибудь подобное. Здесь ему был поставлен предел – и хорошо, потому что не мясу играть с тигром. Неужели Гагарин из этих, смертновластных?
Вокруг свечей мерцали густо-фиолетовые ореолы. Хрусталь люстры налился дымом, канделябры надели траур теней. Голоса звучали шорохом палой листвы. Украшения на дамах вспыхивали зарницей, рдели каплями крови.
Гости – не видя, не слыша, не чуя – подспудно нервничали. Сквозь светский лоск нет-нет да и прорывался безотчетный страх. Во взгляде, в повороте головы; в дрожи руки, пролившей шампанское. В визгливом, громком возгласе:
– …терпкость! В рислингах она бывает чрезмерна!
– В 75-м, полковник, приказ о сборе урожая опоздал на две недели. И был собран виноград, пораженный благородной плесенью…
– Это легенда!
– Я слышал об этом от очевидцев…
– Очевидцы? Ха!
Кипятясь, гусар притопнул ногой. Звякнули шпоры со щегольскими колесиками. Общую нервозность пришпорили, как норовистую кобылу, – сердца понеслись вскачь, кое-где затеялись бессмысленные споры.
– Вы абсолютно правы, полковник.
– Я всегда прав! На обеде у тайного советника Андреева рейнским обносили по два раза: к стерляди и кулебяке…
Нужно поскорее увидеться с хозяином, думал Эминент. Тогда все разъяснится. Присутствия одного из высших масонов Петербурга он по-прежнему не ощущал, но это ничего не значило. Запах смерти притуплял чувства. А разложить аккорд, звучащий в особняке, на отдельные ноты, фон Книгге не хотел: подобное считалось меж равными дурным тоном.
– Ужин скоро подадут…
Лакеи с серебряными подносами бесшумно, как призраки, скользили меж собравшимися. Директор императорских театров и молодящийся старик во фраке, похожий на восставшую из саркофага мумию, обсуждали перестановки при дворе. Троица дам терзала Бригиду, высасывая нектар парижской моды. Полковник мрачно молчал, уставясь на поднос. Рейнское отсутствовало, а выбор между шампанским и бордо сильно затруднял гусара.
Воспользовавшись паузой, барон подошел к княгине.
– Простите за нескромный вопрос, Екатерина Семеновна. Где же его сиятельство? Я страстно желаю засвидетельствовать мое почтение вашему благородному супругу…
– Ах, разве я вам не сказала? Иван Алексеевич с утра занемог. После обеда ему стало лучше, так он сразу засобирался и спешно выехал в Москву. Сказал, в Сенате возникли какие-то важные дела.
Фон Книгге вздохнул без малейшего притворства:
– Жаль. Я много слышал о князе. Надеялся познакомиться лично…
– Надеюсь, вы еще не покидаете Петербург? По возвращении Ивана Алексеевича у вас будет такая возможность. Не скучайте, барон, я скоро к вам присоединюсь…
Занемог? Эминенту не требовался оракул, чтобы сложить два и два. Внезапная болезнь князя – и запах смерти в доме. Масонская ложа Орла Российского скоро лишится своего предводителя. Сколько осталось времени? День? Три? Неделя? Надо спешить – выехать следом, нагнать по дороге, переговорить на интересующую тему, пока это еще возможно…
«А если ты опоздаешь?» – спросил барон сам себя.
…неуступчивая, упругая сила ограждала гроб от посягательств…
Фон Книгге больше не требовалось заглядывать в гроб. Он и так знал, кто лежал в дубовом ящике. Он даже увидел место: Новоспасский монастырь. Удастся ли при надобности переступить «малый вавилон» наяву?
Да или нет – надо спешить.
Но уйти сразу, не нарушив приличий, он не мог. Улыбаясь, дыша смертью, болтая о пустяках – каждую минуту Эминент боялся, что утратит самообладание, ибо терял драгоценное время.
2
Казалось, сама судьба восстала против него.
Часы протекали сквозь пальцы, собирались лужей у ног – и из каждой капли подмигивала неудача. Остаток ночи, вернувшись с приема, фон Книгге провел, как индийский факир – на иголках. Сон, вызванный усилием воли, не освежил. В мозгу, как в зеркале, отражающем слякотный облик Петербурга, клубились тучи – серые, глухие. Утром, вместо того чтобы отправить за билетами расторопного Бейтса, Эминент пошел в контору сам.
– Когда ближайший дилижанс на Москву?
– Через три дня, от Сенной площади.
– А раньше? Сегодня?!
– Извините, ваше благородие… Раньше никак нет.
Эминент мог многое. Кондуктор принял бы осиновый лист за билет, пассажиры раздумали бы уезжать из города, освободив места; кучер гнал бы лошадей не за страх, а за совесть… Да что там! – отдохнув после штурма Эльсинора, он сумел бы накликать небольшой шторм в Финском заливе или поднять к жизни ту пакость, что спит на дне Ладоги. Но превратить тыкву в карету, мышей – в лихую упряжку, а крысу – в кучера…
– Что же мне делать?
– Вы уж, ваше благородие, на перекладных…
Гагарин опережал его на сутки. Это если удастся выехать немедленно… Чутье подсказывало: чтобы застать князя живым, надо перехватить его до Москвы, в дороге. Вне сомнений, Гагарин спешил в белокаменную умирать. У него там наверняка есть склеп в храме – семейный, намоленный от случайных вторжений…
Запах смерти висел в сыром воздухе, указывая путь.
К счастью, как успел выяснить Эминент, скользкий масон выехал в путь на своих, а в России это не зря называлось: на долгих. Личный экипаж надо беречь; собственных лошадей грех загонять насмерть… До Москвы – более семисот верст. Княжеская карета съест это пространство за неделю. Дилижанс – считай, втрое быстрее, но дилижанса нет.
На перекладных – четверо суток, если повезет.
Поразмыслив, Эминент отверг и эту идею. Для езды на перекладных требовалась подорожная, оформленная в полиции. С этим бы не было ни хлопот, ни задержек, но российская бюрократия – враг пострашней технического прогресса. Количество лошадей, выделяемых на дорогу, зависело от чина и звания путешественника, вписанных в подорожную. Кто в мелком чине, платил верстовые прогоны за двух-трех коней, зато, к примеру, действительный тайный советник Гагарин, соберись он куда по казенной надобности, получил бы разрешение и на полтора десятка.
Полицейский крючок, единожды взглянув в глаза фон Книгге, с легкостью записал бы его хоть полным генералом, хоть государем-императором. И лошадей бы отвел, не скупясь. Но поддерживать личину у каждого шлагбаума, морочить замученных смотрителей в аду почтовых станций, отводить глаза гневным сановникам и раздраженным офицерам, требующим свежую упряжку; уничтожать записи, могущие вызвать подозрение, в каждой регистрационной книге…
Догнать Гагарина выжатым, как лимон? – слишком опасно.
Оставалось ехать на вольных. Здесь не требовалось подорожной; и нужда была одна – в деньгах. Но Эминент редко стеснял себя в средствах. Добравшись на извозчике до Лиговки, он в Московской Ямской слободе нанял ямщика с кибиткой – и вскоре уже несся к Софии, первой почтовой станции по дороге на Москву.
Баронессе он велел оставаться в Петербурге. «Хоть умри, а жди!» – бросил Эминент в раздражении и вздрогнул. В сказанном ему почудился отзвук пророчества. Бейтс получил другой приказ – не торопясь, следовать за хозяином до Тверской заставы. Там рыжий мошенник должен был получить новые указания.
С собой фон Книгге взял одного верного Ури.
Дождь преследовал их по пятам. Доски, которыми были вымощены трактовые «колесопроводы», набухли влагой и под копытами превращались в щепки. Двуглавый орел, мокрый как курица, уныло моргал на фронтоне почтового дома. Отдельная халупа для почтальонов, ледник да две конюшни с сеновалом довершали скуку пейзажа.
Верстовой столб разъяснял: «От Санкт-Петербурга – 22».
– Барин-батюшка, дай на водку!
Выпив, ямщик крякнул и без понуждений согласился везти доброго «барина-батюшку» хоть к турецкому султану. На деле это означало два часа пути до Гатчины – там Эминент хотел нанять новую кибитку со свежей упряжкой.
– Гони!
– Эх, залетные!
«От Санкт-Петербурга – 44 1/2» – столб мелькнул и исчез.
Грязь летела из-под колес. Ури дремал; привалясь к теплому боку великана, заснул и Эминент. Во сне звенели колокольчики под дугой. Во сне пел ямщик: длинную, бесконечную жалобу без цели и смысла. Деревья на обочине роняли листву. Кублом гадюк шипел щебень под колесами – тракт на этом участке содержали в порядке. Мелькали чугунные перила мостов, украшенные императорским гербом…
– Барин-батюшка, дай на водку!
Ночевали в Чудове – ямском селе под Новгородом. Незадолго до этого Эминенту пришлось урезонить кучера – тот ни в какую не хотел ехать дальше Любани, ссылаясь на заморенность упряжки.
– Бери новую кибитку, барин!
– Нет.
– Как нет, ежели да? Хошь, с любанскими столкуюсь?
– Не хочу.
– Задешево, а?
Взмах руки, и ямщик сделался покорен. Сбив на затылок войлочный гречневик, он гнал коней в дождь и темень, пока не миновал переправу через Волхов. Отпущен фон Книгге, он сел на пороге чудовской конюшни, еле слышно замычал – и так просидел всю ночь, забыв обо всем. Наутро его отпаивали чаем и крепчайшим самогоном. Детина весь закоченел, но с порога не вставал, пока не увели силой.
Судьба ямщика не интересовала Эминента. В воздухе висел сладчайший запах смерти. Ошибка исключалась: карета Гагарина побывала в Чудове. Но ночевал князь не здесь.
– Гони!
Должно быть, он надышался смертью. Ее аромат отличался от всех прочих смертей, каких фон Книгге навидался, – случайные, насильственные, долгожданные, безвременные… Он уже плохо понимал, за кем гонится. За упрямым масоном? за ответом на вопрос? за беглой возлюбленной? – Хелена! ее зовут Хеленой… – в осеннюю мглу, в ненастье, мимо бревенчатых, крытых соломой изб, меняя ямщиков, как щеголь – перчатки, утонув, словно ребенок – во чреве матери, в душном нутре кибитки…
Кружилась голова.
День и ночь слились воедино.
Гуси, гогоча, бродили по его ганноверской могиле.
Ури куда-то исчез, вместо него рядом, ухмыляясь, сидел князь Гагарин. «Вы тот, кого я ищу!» – вместо ответа князь всплеснул рукавами шлафрока и улетел в небо, такое же грязное, как раскисшая дорога. На его месте воссел Андерс Эрстед, ученик, ставший врагом, что-то рассказывая про магниты. Мы оба не правы, перебил его Эминент. И ты, и я тратим силы на погоню и борьбу, но погоня не имеет смысла, а борьба нелепа. Она пахнет улыбчивой, белокурой смертью – мой дорогой Андерс, запомни меня таким, потому что я должен тебя убить! Иначе ты станешь презирать меня… Вцепившись в горло Эрстеда, фон Книгге душил его, не прибегая к тайным искусствам – мужчина против мужчины, пальцы против мускулов! – и мучился, потому что ничего не получалось…
– Мы извиняемся, – страдальчески кряхтел Ури. – У нас очень толстая шея…
Великан не знал, отчего патрон разгневался на него. Он лишь видел, что патрону скверно. У Эминента не хватало сил сдавить его горло как следует – так, как сам Ури с радостью сдавил бы горло Великого Докторишки, сшитого из всех врачей мира. Стараясь, чтобы патрон не повредил себе руки, бедняга ворочался, бормоча разные глупости.
– Нам огорчительно это насилие…
На облучке ежился насмерть перепуганный ямщик, боясь, что варнак-барин в конце концов доберется и до него. Но миг просветления, властный пасс – и ямщика больше не волновало ничего, кроме дороги.
От мокрого армяка шел пар.
3
На Тверской заставе он протрезвел.
За час до этого коляска местного помещика, в которой ехал Эминент, увязла в грязи, и могучий Ури пришелся кстати. Почему коляска? Куда делась кибитка? Он смутно помнил, что в Торжке не нашлось ямщика. Наверное, помещик случайно подвернулся под руку. Толстый, гладко бритый дворянин правил лошадьми, не слишком задумываясь, отчего взял попутчиков до Твери, хотя ранее собирался в Черенчицы.
Солдат-инвалид возился со шлагбаумом. У будки зевал офицер. За лесом копошилось бледное солнце. Лохматый кобель, задрав ногу, метил верстовой столб. Чего-то не хватало. Фон Книгге выбрался из коляски, потянулся, чувствуя, как болит все тело, – и понял, что запах изменился. Гагарин был здесь совсем недавно. Но смерть больше не пьянила Эминента, вызывая странные видения. Обычная, тоскливая, простая, как копошение червей, смерть. Ну, сенатор, шталмейстер, кавалер орденов, ну, венерабль ложи Орла…
Эминент обнажил голову.
Здесь, на заставе, князь Гагарин умер.
Офицер подтвердил его правоту. Действительно, его сиятельство изволили отдать Богу душу именно здесь. Тело повезли дальше – его сиятельство завещали похоронить их в Новоспасском монастыре, в фамильной усыпальнице. Вы родственник, ваше благородие? Нет. Друг? Да, пожалуй.
– На третьи сутки отпоют. Можете не торопиться, ваше благородие. Тут до Москвы – с гулькин нос…
– Я и не тороплюсь, – ответил Эминент.
Он готов был поклясться, что перед самой смертью Гагарин с кем-то беседовал. С кем? О чем?! В воздухе, перьями из крыла черного ангела, носились отголоски странного обряда. Опознать действие не удавалось. Впервые фон Книгге задумался о том, что все – внезапное бегство князя из Петербурга, смерть на скаку, желание лечь в гробницу предков, загадочный обряд – могло иметь одну-единственную цель.
Не допустить встречи Ивана Алексеевича Гагарина и Адольфа фон Книгге.
– Скажите, офицер… Где я могу нанять экипаж?
«Живой или мертвый, – слушая разъяснения начальника заставы, Эминент улыбался неприятной, скользкой улыбкой, – в карете или в гробу… На мои вопросы, ваше сиятельство, вы ответите».
Сцена девятая Новоспасский монастырь
1
Вправо от ворот уходила стена из белого камня – с бойницами и крытой галереей. Слева высилась толстенная башня с конической крышей. Куда там жалкому Эльсинору! – такую крепость без осадной артиллерии не взять. Да и с артиллерией…
Это, как говорят русские, еще бабушка надвое сказала.
Из стены выступало основание колокольни с аркой наружного входа. Сама колокольня походила на именинный торт – бело-желтый крем, прослойки из зеленой глазури, свечи колонн. Грозя распороть небеса, тускло пламенела маковка. За оградой виднелись купола храмов: золото, бирюза, малахит.
И над ними – целая рощица крестов.
По мглистому небу неслись табуны облаков. Ветер подгонял их, ухарски свистя. Расплатившись с извозчиком, фон Книгге поднял воротник редингота и зашагал по раскисшей дороге к монастырю. Следом топал верный Ури, поглубже надвинув шляпу – подарок доброго патрона. Штурмовать обитель Эминент не собирался. Он войдет тихо и мирно, как честный христианин.
Знай монахи, что за гость приближается к Новоспасскому, – отгородились бы святыми ликами, ударили бы в колокола, защищаясь молебном. Но все они, от молодых послушников до отца игумена, пребывали в счастливом неведении.
Укрывшись в створе ворот от срывающегося дождя, гостей поджидал чернец в клобуке. У монаха мерзли руки. Ежась от ветра, он прятал ладони в рукавах рясы. Подойдя, фон Книгге сотворил крестное знамение – трехперстное, на православный манер. Перебросив саквояж в левую руку, Ури неуклюже последовал его примеру.
– Благословите, отче.
– Бог благословит, странники.
Монах закашлялся, деликатно прикрывая рот. Чувствуя, как ткань редингота впитывает зябкую влагу, Эминент ждал, пока кашель успокоится. Он специально заговорил по-русски с ужасающим прусским акцентом. Пусть чернец видит в нем единоверца из далеких краев, допустим, из Эккертсдорфа, неискушенного в российских обычаях и обращениях к духовенству.
– Дозволите нам войти?
– Дом Божий открыт для всех.
Посторонившись, чернец освободил дорогу. Фон Книгге про себя усмехнулся, сохраняя на лице благочестивую маску. Есть сущности, каким без приглашения заказан вход в храмы. На Эминента это ограничение не распространялось, но формальности облегчали задачу.
– Да хранит тебя Господь, сын мой…
Миновав подворотную арку, барон обернулся. Ури отстал, и монах стоял рядом с великаном, заглядывая ему под шляпу. В створе царил сумрак, однако ни скудость освещения, ни особые свойства шляпы не явились помехой для чернеца. Он все прекрасно видел: шрамы, разновеликие глаза…
Вместо ужаса или омерзения монах излучал сочувствие.
Убогие близки Творцу, вспомнил фон Книгге. И ощутил слабое беспокойство: «Каким же тогда привратник видит меня?»
По-русски Ури не понимал. Слыша участливые интонации, он благодарственно гугукал, склонив голову. Чернец уверился, что несчастный ко всему прочему еще и нем, и осенил Ури крестным знамением.
– У вас доброе сердце, сын мой. Пригрели убогонького, в услужение взяли, – он обернулся к барону, не зная, что, по большому счету, недалек от истины. – Господь вознаградит вас за милосердие!
Фон Книгге вздохнул с облечением. На него внезапная прозорливость монаха не распространялась.
– Не ради воздаяния стараюсь, преподобный отец. И полно об этом. Издалека ехал я, зная о святости вашей обители. Хочу поставить свечу во здравие болящей супруги. Не подскажете, куда мне идти?
– С превеликой охотою! – чернец просиял. – Церковная лавка близехонько, у входа. А путь вам укажет брат Феодосий. Эй, брат Феодосий!
Проходивший мимо юный монашек вздрогнул, как от трубы архангела, и бегом поспешил к привратнику.
– Проводи сих рабов Божьих в лавку, – наказал ему чернец. – А потом отведи в храм, куда скажут. Идите с Богом…
В лавку монашек, не желая мокнуть, зашел вместе с гостями. Вместе с Ури они топтались у порога, пока барон изучал ряды полок с иконами. Миниатюрные образки, двух– и трехстворчатые складни, простенькие «доски», лики в серебряных и золоченых окладах; ниже – нательные кресты, четки из кипариса…
Свечи.
Купив дюжину свечей у дородного дьякона, они вышли наружу. Дождь стих, но небеса хмурились.
– Вам в какой храм, а? – спросил монашек. – У нас их много!
И начал перечислять, старательно загибая пальцы:
– Преображения Господня – раз, Покрова Пресвятой Богородицы – два, Знамения Богоматери – три… Они все рядком стоят!.. еще Святителя Николая чудотворца, так он больше для братии, возле келий… – Инок запнулся, вспоминая, что упустил. Было видно: в монастыре он недавно. – Ага, в колокольне, преподобного Сергия Радонежского! Так куда вести?
Грех гордыни пылал на лбу монашка. Храмами обители он хвастался, будто сын купца – отцовскими складами товара. Близость Ури его не пугала: шляпа действовала наилучшим образом. Это лишь привратник не в меру глазастый попался.
– Если вас не затруднит, преподобный отче, – доведя прусский акцент до абсурда, фон Книгге источал фимиам вежливости, – проводите нас к Преображенскому собору. Ваше благочестие станет порукой, что мы на верном пути.
Он поздно сообразил, что переигрывает. Монашек уже косился на него с подозрением. С обходительными господами у сопляка были связаны какие-то неприятные воспоминания. На «преподобного отца» инок не тянул: ни внешностью, ни возрастом. Бледное лицо, на носу и щеках – прыщи, руки в цыпках. Отчаянно моргая, мальчишка напоминал совеныша, разбуженного средь бела дня.
– Ага, – невпопад кивнул он и заторопился вперед.
Эминент отлично чуял след. Он прошел бы по нему и сам, но отказываться от сопровождения не хотел. Даже от затравленного монашка можно получить кое-какие душеполезные сведения. Перестарался с елеем? – это поправимо. Инок болтлив, надо только чуточку ему помочь…
– Преподобный отче! Не в тех я годах, чтобы бегать наперегонки. Давайте умерим шаг… А вы нам расскажете о монастыре, что сами пожелаете.
Монашек успокоился.
– Белый дом видите?..
Обращение «сын мой» не шло у мальчишки с языка. Он уж и так, и эдак – ни в какую, хоть убей! Эминент не прилагал к этому усилий: чернец робел без посторонней помощи, что весьма забавляло барона.
– Там владыка Поликарп живет. Там же иереев принимает, и мирян, когда снизойдет. А ежели кого из братии зовет – берегись! Непременно епитимью наложит, к гадалке не ходи…
«Гадалка» прозвучала явным диссонансом. Заробев гнева грозного владыки, монашек невольно ускорил шаг, но, вспомнив о просьбе спутника, застыдился. Под ногами поскрипывала жухлая трава. Ветер тоскливо свистел в голых ветвях осин. Кучка иноков граблями прилежно сгребала палую листву.
Часы на колокольне показывали четверть пятого пополудни.
– А вон и Скорбный Преображенский…
Четыре бирюзовых купола мнились клочками чистого неба. Пятый, центральный, отблескивал темным золотом. Собор напоминал корабль, упрямо идущий через свинцовое море туч.
– А скажите-ка, преподобный отец… Поздно ли в обители спать ложатся? Успеем ли мы помолиться?
Монашек беззаботно махнул рукой:
– Сто раз успеете! Еще вечерни не было. Мы ее в пять служим.
Собор приближался, нависая уже не кораблем – ледяным айсбергом с крутыми уступами и провалами окон-пещер. В глубине кое-где теплился неяркий свет.
– В соборе мы только летом каждый день служим. А сейчас – в Никольском. Во-он его маковка, над братским корпусом. Видите? Туда вся братия и соберется. Молитесь, сколько душа требует…
Робость, старательно изображаемая фон Книгге, сделала свое дело. Брат Феодосий разливался соловьем. «Значит, вечерня будет в Никольском, – отметил Эминент, приветливо улыбаясь. – Это хорошо. «Братский» корпус и храм на отшибе, далеко отсюда…»
К паперти вела каменная лестница. Барону вспомнился рассказ полковника «красных уланов», с которым случай свел его в Марселе. Полковник хохотал, вспоминая, как после взятия Москвы решил устроить здесь конюшню. Стойла в соборе! – кавалеристу это казалось дико смешным. Помешала сущая нелепость: подлецы-русские обожают крутые ступени, и лошади не смогли подняться наверх… Пришлось отвести под конюшню соседнюю церковь – «Le temple de Notre Dame icone»,[56] – где лестницы не было.
У входа в собор обнаружилась странная роспись. Против ожидания, храм охраняли не святые, а философы и поэты со свитками в руках. Эминент узнал Орфея, Аристотеля, Плутарха, слепца Гомера…
– Владыко говорит, это в назидание, – счел нужным разъяснить Феодосий. – Вся мудрость языческая – ничто перед Словом Господним! Вот пусть и мокнут на паперти. А внутрь – зась!
Греки исправно мокли, не жалуясь на судьбу, и являли собой образец истинно христианского смирения.
– Нас тут не запрут? – с тревогой спросил барон. – У меня дела в городе…
– Да что вы! Пока вечерня, пока ужин… А задержитесь, так причетник явится свечи гасить – он вас на двор и попросит. Брат Тихон все осматривает, прежде чем двери замкнуть.
– Вы нас успокоили, преподобный отец.
Барон перекрестился и, сопровождаемый Ури, принялся взбираться по крутым ступеням, чувствуя себя уланской лошадью. Однако брат Феодосий не пожелал их покинуть. «Вернешься, сразу к работе приставят, – явственно читалось на лице монашка. – А так при деле, никто не прицепится…»
Двери отворились без скрипа – петли смазывали исправно. Эминент снял цилиндр, пристроил на согнутой руке. «Шляпу! – зашипел инок на промедлившего Ури. – Шляпу-то сними!..» Расхрабрившись, он хотел добавить: «Сын мой!» – но тут великан запоздало стащил с головы шляпу, и брат Феодосий онемел. «Сссы-ы-ы…» – только и выдавил он, истово крестясь, после чего бегом вылетел из храма.
Уж лучше граблями махать…
Высокие своды были расписаны фресками. Дюжина свечей и две лампады горели перед величественным пятиярусным иконостасом. Остальное пространство тонуло во тьме. Алтарная часть делилась на три округлые абсиды. В центральной помещался алтарь; левая пустовала.
Фон Книгге глянул направо – и увидел гроб.
2
…итак, мы скажем, что Иисус вовсе не собирался основывать новую религию, а лишь хотел восстановить естественную религию и разум в их древних правах. Для пояснения можно будет привести множество текстов из Библии. Таким образом, все споры между сектами прекратятся, как только найдется разумное объяснение Христова учения, будь оно правильно или нет. Тогда эта публика увидит, что только мы – истинные и настоящие христиане, а после этого мы сможем сказать еще больше против попов и князей. В дальнейших, более высоких таинствах мы должны будем раскрыть благочестивый обман и разоблачить ложь всех религий и их связь между собой…
Он вздрогнул, как от толчка, и открыл глаза. Давний разговор с Вейсгауптом встал перед ним столь зримо, что барон даже засомневался: что это было? Яркое воспоминание о днях расцвета иллюминатов? Сон наяву? Зов прошлого?
Эминент мысленно отчитал себя. Это никуда не годится. Особенно – перед сложной процедурой, отягченной местом действия. С тех пор, как он утверждал необходимость постепенного разоблачения христианства, минуло полвека. Однако взгляды барона не претерпели изменений. Религия – обман, фикция. Милостыня для «нищих духом», как говорят сами церковники.
То, что намеревался совершить фон Книгге в Преображенском соборе, тянуло на вечную анафему. Однако Эминента это не смущало. А вдруг он нащупал «камешек», который сдвинет с места упрямую лавину изменений в Грядущем? Finis sanctificat media,[57] как говорят иезуиты.
Ури имел на этот счет особое мнение, но помалкивал.
В храме царила темень египетская. Лишь негасимые лампады горели парой огненных глаз, отбирая у мрака лики Спасителя и Богородицы. Остальные свечи погасил причетник два часа назад. Поздних гостей, чинно сидевших на скамье в углу, он не заметил, хотя трижды, шаркая, проходил мимо них.
Простейшее действие – отведение глаз – в храме потребовало от барона куда бóльших усилий, нежели обычно. Он не сомневался: с усопшим доведется попотеть. Особенно если покойник – князь Гагарин.
Эминент еще ни разу не поднимал Посвященного. Это вам не моряки-утопленники… Тело Ивана Алексеевича лучше не беспокоить, обратившись напрямую к духу – с соблюдением приличий и извинениями, как равный к равному.
То, что оба равных умерли, кто раньше, кто позже, – несущественно.
Чиркнув спичкой – к запахам воска и ладана добавилась едкая вонь фосфора, – фон Книгге запалил одну из купленных в лавке свечей. Зажечь ее от лампадки было бы опрометчиво – обряд мог пойти насмарку. Свечу он вручил Ури, и оба проследовали к правой абсиде, где на возвышении покоился закрытый гроб. Эминент не сомневался, кто лежит внутри. Крышку для этого поднимать не требовалось.
Как и для вызова духа усопшего.
Вскоре пять горящих свечей окружили гроб. Связывать их линиями пентаграммы барон счел излишним. Пентакль он создал мысленно, зафиксировав на «изнанке». Вонючие снадобья и амулеты – для восторженных неофитов. Это им пусть поют макбетовские ведьмы:
– Пясть лягушки, глаз червяги, Шерсть ушана, зуб дворняги, Жало гада, клюв совенка, Хвост и лапки ящеренка — Для могущественных чар Нам дадут густой навар…Он зажмурился, нащупывая средоточие. Посмертные эманации ощущались с трудом, на грани восприятия. Какие-то жалкие обрывки… Влияние собора? Или князь перед смертью принял меры предосторожности?
Вспомнилось прозрение, явившееся на приеме у Гагариных. Священник с кадилом, «малый вавилон», преграждающий путь к гробу… Нет, это случится позже, при отпевании. И хорошо, что позже, – он всегда пасовал перед «малым вавилоном». Должно быть, кто-то из московских масонов расстарается…
– Будь рядом, Ури.
– Мы рядом, – прогудело над ухом. – Мы просим не беспокоиться…
Со стороны могло показаться, что ничего не происходит. Эминент замер в трансе: глаза закрыты, руки разведены и обращены ладонями к гробу. В соборе царила тишина. Не слышно было даже дыхания двух людей. Мертвец звал дух мертвеца.
Тщетно!
Обитель духа пустовала. От эфирного тела остались клочья. Глубоко вздохнув, барон открыл глаза. В первый миг пламя свечей показалось ему нестерпимо ярким. При возвращении из тонкого мира так бывает.
Но что стряслось с князем Гагариным?
Ситуация имела только одно объяснение. Дух старого масона покинул тело, переселившись в новое – либо находится в поисках оного. В подобное верилось с трудом. Вот если бы речь шла об азиате… Увы, факты – упрямая вещь.
Эминент не привык отступать. Если дух исчез, что остается?
Правильно – тело.
– Ури, сними крышку.
С задачей великан справился играючи. Заскрипели гвозди, покидая твердое дерево. Под сводами заметалось разбуженное эхо. Крышка легла на пол, позади свечей. Ури не удержался, заглянул в гроб – и попятился, спеша из освещенного круга во тьму. Гагарин лежал в гробу, одет в парадный мундир сенатора, с орденской лентой через плечо. В чертах покойного чудилась укоризна: зачем? не тревожьте…
Это не остановило барона. Ладонь его легла на грудь Ивана Алексеевича. Тени в глазницах Гагарина сгустились – два угольных провала, ведущих в ад. В глубине зародилось слабое мерцание. Тени отступили; обозначились плотно закрытые веки. Они становились прозрачными, пока не превратились в подобие слюдяных пленок – «мигательной перепонки» змеи.
Стеклянный взгляд уперся в Эминента.
– Вы тот, кого я ищу, – барон убрал руку.
Покойник молчал.
– Вы меня слышите?
Тишина.
– Отвечай мне!
Гнев фон Книгге обрушился на упорствующего мертвеца. Однако и это не произвело никакого эффекта. Перед бароном лежала пустая оболочка, неспособная к осмысленным действиям. Поморщившись, барон тронул ладонью не грудь, а лоб князя. Если духа нет, а тело молчит – остается память.
След, ведущий в прошлое.
…лошади встали как вкопанные.
– Да что ж ты?.. да как же… – по-бабьи запричитал кучер.
Смеркалось, и он не заметил, как посреди дороги объявился человек. Откуда и взялся, ирод? – не иначе, из-под земли вырос, спаси и сохрани! Разогнавшись на пологом спуске, кучер не удержал бы упряжку, даже заприметь он безумца издалека. Но лошади! сами!.. да как же? да что ж ты…
Не торопясь, словно гулял по Невскому, человек направился к карете. Щегольски одет, он опирался на тросточку с рукоятью в виде головы змеи. Серебряный гад тускло блестел, ловя свет заката. Кучер угрожающе замахнулся кнутом:
– Стой! Стой, говорю!
«Разбойники? – закралась шальная мысль. – Атамана вперед? А шайка по кустам хоронится… Ох, скулы-то татарские, беда неминучая!..»
Глаза-щелочки мигнули, и кучер окаменел. Не в силах шевельнуться, глухой как пень, несчастный превратился в восковую куклу. Последним, что он услышал, был звук открывающейся дверцы. Миг тягостного ожидания, и князь Гагарин с трудом выбрался наружу. Запахнуть шинель он и не подумал. Вид у Ивана Алексеевича был – краше в гроб кладут. И, значит, грудной жабы он мог не опасаться.
– Вы тот, кого я ищу, – сказал, приблизясь, Чжоу Чжу.
Гагарин закашлялся.
– Вы тот, кого я не ждал, – ответил он, восстановив дыхание.
– Я проделал далекий путь, – настаивал китаец.
– Нуждаетесь в отдыхе?
– Нет.
– В еде? Питье? Дружеской беседе?
– Я нуждаюсь в вас.
С минуту Иван Алексеевич колебался.
– Как вас зовут, сударь? – спросил он.
– Меня, недостойного, сейчас зовут Чжоу Чжу.
– Не только сейчас, – губы князя дрожали, но прищур темных глаз хранил былую остроту. – Я вижу ваш дух. Он слишком подвижен, чтобы ограничиться жалким «сейчас».
– Я тоже вижу ваш дух, – невозмутимость китайца была нарушена. Наклонившись вперед, забыв о приличиях, он жадно всматривался в собеседника. Казалось, змея с тросточки делает то же самое, шевеля раздвоенным жалом. – Готов поклясться, у нас есть кое-что общее… Но я пришел не за этим.
– Зачем же?
– Я хочу поговорить о вашем внуке.
– Вы полагаете, милостивый государь мой, что имеете на это право? – палец князя уперся в китайца. Умирающий, измученный дорогой, Иван Алексеевич был страшен. – Преградить мне путь? Интересоваться моей семьей?
Вместо ответа китаец встал на колени. Поклонившись князю, он уперся лбом в грязь – и замер. Цилиндр слетел наземь, откатившись в сторону. Рядом с беззащитным затылком Чжоу Чжу рыло землю конское копыто. Левая пристяжная нервничала, фыркая и косясь на подозрительного человека.
Далеко, в чаще, заухал филин.
– Встаньте, – наконец сказал князь. – Прошу вас в карету. И развяжите моего кучера – я тороплюсь. Поговорить мы можем и в пути…
Закат творил чудеса. Пробившись сквозь ветки, лучи сплетались в диковинные фигуры. Чудилось, что за плечом Гагарина стоит белокурая девушка, держа под уздцы тонконогую кобылу, и хмурится, недовольная поздней встречей.
Стая птиц перечеркнула небо, и видение сгинуло.
3
Проклятый китаец!
Покидая Париж, барон надеялся, что больше никогда не увидит генерала Чжоу. И вот – надежды пошли прахом. Он сосредоточился, пытаясь удержать обрывок мертвой памяти. Картина исчезла, осталась лишь безвидная тьма, глухой стук колес, шум ветра за стенками кареты – и голоса.
– Я доверяю вашему прозрению, господин Чжоу. И не доверяю тому человеку, к кому вы обратились до меня. Это урожденный интриган и предатель.
– У меня он тоже вызвал подозрения.
– Которым из моих внуков вы интересуетесь? У меня много детей от первого брака, немало и от второго… И, как следствие, много внуков. Чей это сын? Дмитрия? Григория? Константина?..
– Я говорю о сыне вашего первенца, Павла Ивановича.
– У Павлуши нет сыновей.
– Это не так!
– Я хотел сказать: нет законных сыновей. Павел живет во грехе, с какой-то сомнительной девицей. Я не раз предлагал ему отыскать достойную партию… Увы, он отказывается. А брать в расчет ублюдков, рожденных вне брака… Увольте. Я и своих-то начал считать лишь после того, как обвенчался с их матерью, женившись во второй раз. Вы полагаете меня циником, господин Чжоу?
– Я полагаю вас мудрым и здравомыслящим человеком. Рад, что вы без особых чувств упоминаете об этом внуке. Тем легче нам будет найти общий язык…
– Ничего подобного. При чем здесь чувства? Это кровь, моя кровь, а остальное – светские условности. Так говорите, от моей крови случится гибель мира? Да еще и от Павлушиного корня? Забавно… И лестно, как ни крути. Сколько лет нашему ниспровергателю основ?
– Три года.
– Да вы Ирод, господин Чжоу! Разумеется, вы желаете убить ребенка. А ко мне, надо полагать, явились за благословением? Боитесь, что я стану мстить?
– Отвечу вам вашими же словами: ничего подобного.
– Тогда зачем я вам понадобился?
– Царь Ирод, которого вы изволили помянуть, ошибся. Варвары склонны к опрометчивым решениям… Избиение младенцев? Вы не хуже меня знаете, чем закончился погром в Бет-Лехеме. Ища вас, я надеялся, что вы поверите мне – и поможете отыскать иной, более гуманный способ.
– Что вы предлагаете?
– Скажу прямо: до этой встречи я не знал, что предложить. Теперь же… В нашем с вами сходстве – корень решения. Впрочем, и в различии – тоже. Вы умираете, и рядом нет иного воспреемника, кроме меня. Что вы скажете об искажении кармической линии?
– Господи, какова ирония судьбы! И речь идет о Павлушином сыне… Воскрешение Отцов! Когда вы увидите Павла Ивановича, господин Чжоу, вы поймете, о чем я! А вы искуситель, вы просто сам дьявол… Как вы думаете это обустроить? Мой незаконнорожденный внук, предмет вашего интереса – в деревне под Тамбовом. Мы же приближаемся к Москве, и дальше мне не доехать.
– Дальше не надо. У меня есть подходящее зеркало.
– Допустим, я соглашусь. Скажите, сударь дьявол…
– Что?
– Кто из нас будет считаться должником? Вы? Я?!
– У вас говорят: будем квиты…
Голоса исчезли.
Слышался только гул бурана – время полыхало в топке Мироздания, пожирая часы и дни. Вскоре звук вернулся. Беседовали по-прежнему двое: князь Гагарин и кто-то еще. Не китаец? – нет, не он… Присутствие второго человека, даже когда он молчал, ощущалось Эминентом с особенной, неприятной остротой.
«Кто ты? – беззвучно спросил барон. – Маска, я тебя знаю?»
И вздрогнул, сообразив: да, знаю.
– …Тамбовская губерния, Елатомский уезд, деревня Ключи – одно из имений нашей семьи. Сейчас я пишу письмо моему сыну, Павлу Ивановичу. Он примет вас, как подобает. Зимой ваш след затеряется, и вы спокойно оставите Россию…
Скрип пера.
– Скажите, ваше сиятельство… Почему вы нам помогаете? В сложном соединении ваших действий присутствует элемент, который я не в силах определить…
– Я навел о вас справки. Кроме прочего, выяснилось, что вы учились у двоих людей: Франца Месмера и Адольфа фон Книгге. И в итоге сделали выбор в пользу первого, порвав со вторым. Месмер, скажу по чести, мне безразличен. Но фон Книгге виновен в разгроме ордена иллюминатов, а идеи Вейсгаупта, возглавлявшего орден, мне близки. Если бы не предательство этого иуды, политическая карта Европы сегодня выглядела бы иначе. Мы никогда не встречались, но я считаю фон Книгге своим врагом. А он, как сообщили мне, считает врагом – вас. Враг моего врага…
…фон Книгге почувствовал, что задыхается. Палач вздернул его на виселицу, и петля сдавила горло. Вот-вот сломается шея… Подтверждая приговор, где-то далеко – в прошлом? в будущем?! – ударили хриплые куранты. Собрав волю в кулак, он оборвал сеанс ясновиденья, возвращаясь душой в Преображенский собор. Свечи, мрак по углам, укоризна на ликах святых, чьи-то пальцы на горле – ледяные, чугунные…
Мертвец, сев во гробе, душил его.
Верный Ури не вмешивался. Великан доверял патрону: если того душат, значит, так надо. Когда-то, защищая Эминента от воображаемой опасности, он вторгся в обряд и поплатился за это неделей каталепсии. С тех пор Ури получил строгий приказ: ждать, пока ему не велят действовать.
Сейчас приказ мог стоить барону жизни.
Любой другой труп, восстань он на фон Книгге, уже корчился бы в домовине. Поговаривали, что лорд Байрон, создавая в пьесе «Манфред» образ гордого и могущественного чернокнижника, начисто переписал третий акт после случайного знакомства с Эминентом в Венеции. В частности, финал украсился монологом:
– …мне покорялись И более могучие, чем ты, Я вел борьбу с владыками твоими, — Сгинь, адский дух! Я власть имел, но я обязан ею Был не тебе: своей могучей воле, Своим трудам, своим ночам бессонным И знаниям тех дней, когда Земля Людей и духов в братстве созерцала И равными считала их.О нет, не былая мощь Гагарина, не тайное его искусство послужили причиной тому, что барон ничего не мог поделать с князем. Сила духа Эминента, направленная на покойника, не встречала сопротивления. Она проваливалась в ватное безразличие мертвеца – казалось, в теле не осталось ничего, что прежде оживляло его. Такое не происходит даже с полуразложившимися от времени трупами. Лишь смутный отголосок памяти – …если бы не предательство этого иуды… – толкнул Гагарина к нападению. Но он скорее напоминал один из автоматов Гамулецкого, чем умершего человека, восставшего против своего мучителя.
Ненависть угасла, не успев разгореться. Но пальцев князь не разжимал. Заговоренное от стали, огня и яда тело намеревалось довести дело до конца – механически, закоченев в последнем усилии.
– Ури!
Крика не получилось. Слабый хрип, и все. Левой рукой вцепившись в запястье князя, правой Эминент замахал великану, надеясь, что Ури поймет его правильно. Давно фон Книгге не испытывал такого унижения. Грубая сила против силы – тут Ури не было равных. Но просить могучего швейцарца отодрать от патрона бессмысленный труп…
Проклятье!
– Мы колеблемся. Мы нуждаемся в указаниях…
Язычки свечей наливались аспидной чернотой. Мутилось сознание. Ирония судьбы! – умереть в соборе, над вскрытым гробом, чтобы тебя нашел на полу сонный причетник…
– Возможно, нас после станут бранить. Но мы согласны…
Воздух! Живительный воздух хлынул в легкие. Кашляя, чувствуя, как по щекам текут слезы, Эминент растирал горло. Он не верил, что свободен. Рядом с ним Ури бережно, как дитя малое, укладывал покойного князя в гроб. Расправлял скорченные члены; проведя ладонью по глазам, закрыл веки…
– Ты спас меня, Ури.
– Нам удивительно это слышать. Нам очень хочется уйти отсюда в гостиницу. Мы хотим есть, хотим пить…
– Хорошо. Верни крышку на место.
У выхода из собора, прежде чем велеть засовам открыться, барон обернулся – и долго смотрел на тихий гроб, похожий на табакерку исполина.
– Вы тот, кого я искал, – еле слышно сказал Эминент.
И почудился ответ:
«Вы тот, кого я не желаю видеть…»
Апофеоз
…Кровавое коло – багряный круг – исполинское пятно…
Оно разлеглось в сердце ненавистного Петербурга. Исчезли дома, сгинули ровные стрелы-улицы, ушли в землю подернутые зеленью монументы. Кровь, кровь, кровь – от горизонта до горизонта, по ровной, словно плешь, чухонской пустыне… Живых нет, лишь он один – черная муха в густой темно-красной луже. Маши крылышками, сучи лапками – не спасет. Смрад бил в ноздри, разрывал мозг, сводил с ума. Не было сил открыть глаза. Что он увидит? Трупы друзей грудами старого тряпья лежат в грязи? Лица искажены последней болью? Не крови он боялся, нет, не ее.
Но кровь, в которой он стоял, пролилась зря.
Проиграли и живые, и мертвые. Мертвецам легче, их уже ничто не беспокоит. Но что делать ему, уцелевшему? Запах гнили туманил сознание, багровые волны с плеском подступали к ногам, лизали сапоги.
Может, все-таки открыть глаза?
Станислас Пупек разлепил тяжелые, как крышка гроба, веки. Расстегнул крючки шинели, брезгливо поморщился, ожидая, пока тяжелое сукно сползет с плеч на пол.
– Сожги это, Франек. Но сперва – мыться!
Мысль о горячей ванне и намыленной греческой губке была соблазнительней, чем девка-искусница с Пряжки. Погрузиться в воду с головой, тереть мочалкой кожу – до боли, до красноты…
– Мыться!
Франек невозмутимо кивнул. Грязную шинель он держал в руках. Как и подхватил, загадка. На то и Франек – давным-давно, когда все еще были живы, приставили батюшка с матушкой к сынку-непоседе верного хлопа. Франек Лупоглазый – спокоен, как лед в кадушке. Только что вместе развозили трупы, от обоих смертью несет…
«Не беда, панёнок, – слуга улыбнулся краешком рта. – Не трать зря сердца. Развезли, по углам растыкали; живыми, вольными домой вернулись. Теперь можно и ванну…»
От этой улыбки второй раз проснулся Станислас Пупек. Рванул ворот сюртука: ванну тебе, быдло? С маслом розовым? Девки такое любят!
– Франек, друг!
Помолчал, собирая мысли, как друзей после боя.
– Ты вот что… Бери половину денег. Паспорт я тебе выправил. Уезжай! – первым дилижансом. Доберись до Познани, до наших Гадок. Там Ежи, брат мой, на хозяйстве. Он тебя помнит, не прогонит. Свечку за меня поставишь!
– Ванну горячую? Или как обычно?
На лице Франека не отражалось ничего, кроме обыденной заботы. Привередничает панёнок – ванну ему горячую, для здоровья вредную…
В последние годы все, кому до этого было дело, заметили, насколько изменился отставной корнет Станислас Пупек. Жаркий, будто головня, взрывчатый, как граната с тлеющим фитилем, гусар стал похож на собственную тень. Тихий, незаметный, скользящий. Орловский одобрял, по плечу лапищей хлопал:
«Славный из тебя конспиратор! За призрака сойдешь!»
Призрак? – нет, все проще. Взял пан Пупек на заметку: хочешь стать невидимкой, вообрази себя Франеком. Лицо слуги вспомни, глаза, улыбку. Вот ты и пан Никто! Порой срывался, оживал, но редко…
– За ошибки надо отвечать, Франек! Это я сватал на дело клятого Волмонтовича! Я Орловского уломал… И Торвена, убийцу датского, я встретил. И парней за ним я послал… Самому нужно было! Самому!
Кровавое коло, багряный круг. В том кругу, недвижимы – Анджей и Лешко, братья двоюродные. А еще тезка – Станислав, причетник из костела Святой Катаржины. Его, связного, вообще нельзя было сдергивать с места… Тело усача Анджея в переулке оставили – больно тяжел оказался. Причетника к костелу отвезли, к стене привалили. В темноте поглядишь – за живого примешь. Вышел святой человек воздухом подышать, о небесах задумался…
А Лешко-коротышка на Охту попал, в придорожную канаву. Лихой район, случайному мертвяку там не удивятся.
С трупами – Франекова идея. Сам Пупек одного хотел – лечь рядом, четвертым. Не позволил Лупоглазый. Тряхнул за грудки, дурные мысли вышиб, а после разъяснил, что к чему. Найдут всю троицу сразу – землю рыть станут, а до правды докопаются. Если же по одному – глядишь, обойдется. От гвалта даже польза будет.
Смотри, свет, как безвинных поляков режут в Петербурге!
– Найди Гамулецкого, Франек. Этот шут много знает. Не убивай, сюда волоки. Хочу послушать, какую арию он мне споет.
Усмехнулся Лупоглазый. Молодец, панёнок, такой ты мне нравишься! Ободрила Пупека улыбка верного хлопа. Учил он когда-то хитрую науку математику. Вот тебе задачка, корнет, с иксами-игреками…
Решай!
– Гамулецкого, допустим, уберем. Так, Франек? Из наших больше никто выдать не сможет. Кто остался? Датчане? – наверняка уже в Ригу катят. Ну и скатертью…
Глянул слуга – будто пикой в грудь ударил.
– Прав ты, Франек. Нельзя их живыми оставлять. Вдруг пан Эрстед мемуар сочинить вздумает?
Торвена, шваба датского, вслух не помянул. Стыдно, ой, стыдно… Франек, как о шпионе узнал, сразу сказал: убей вражину, панёнок! Без лишних слов – убей! Сам не можешь – мне прикажи. Дал слабину Пупек, не послушал хлопа. Вспомнил, как хромал давний приятель, как пот со лба утирал. Калеку прикончить – великая ли честь для шляхтича?
И вот – три мертвых товарища после калеки. Сволочь ты, Торвен, если подумать. Не захотел тихо помереть вместе со своей татаркой. Ты – сволочь, а я – слюнтяй и дурак. Нельзя отпускать! Никого из вас – нельзя… Знал бы, что кораблем поплывете, нанял бы бриг с охтинскими головорезами. Тебя, Торвен-друг, заставил бы по доске пройти. А Волмонтовичу серебра бы не пожалел – в глотку залить.
– Как притащишь Гамулецкого, пройдись по нашим. Нужны трое-четверо со слугами. Такие, что глотки режут, совета не спрашивают. Бери чистых пред законом, чтобы подорожную легко выписали.
Кивнул слуга; одобрил. Трудна задачка, икс на игреке сидит, синусом погоняет – тем больше чести. Заодно и причина есть самому пану Пупеку на белом свете задержаться. Не довелось с тираном посчитаться – значит, в доме приберемся.
Все косточки выметем!
– Ванну. Гамулецкого живьем, – резюмировал Франек. – Людей со слугами. И не вздумай опий курить, панёнок! Вернусь – учую…
Насквозь видел хозяина верный хлоп. Знал – не удержится, достанет из «хованки» трубку, купленную в Ливерпуле. Пять лет назад отпустил Франек панёнка к англичанам – одного, с наемным дурнем-лакеем. А как вернулся Пупек, поздно стало. Опий – хуже блудливой актриски, не надоедает. Бился Франек, хитрые штуки изобретал, да не смог от зелья отучить. Порой месяц панёнок держался, два, три, а там – все едино…
– Учую – убью, – подвел итог слуга, не дрогнув лицом. – Тебя убью и себя порешу. Спасу пана от геенны и муки вечной, а сам – как выйдет. Негоже шляхтичу от дури китайской дохнуть. Клятву батюшке твоему давал – не жизнь сыну сберечь, так честь…
– Не будет опия, Франек. Честью клянусь.
Поверил слуга.
Ушел.
А после ванны, после двух чарок ставленной вудки – накатило, подступило к горлу. Выходит, все напрасно? Вся жизнь – зря? Не мог отставной корнет слово чести сломать. Но кроме опия имелся у него в запасе ларец из кипариса.
Когда понял пан Пупек, что не спасет его от дурмана ни верный Франек, ни Черная Богоматерь Ченстоховская, а только панна Smierć, решил не тянуть – зарядить пистолю, стать на колени возле отцовского портрета… Никто бы не помешал, да штукарь Гамулецкий объявился. Тайно – всевидящий Франек, и тот не проведал. Подарил фокусник ларец с пахитосками, перевязанными зеленой ниткой. Каждая – с мизинчик, на полторы затяжки. Курнешь – много увидишь, далеко улетишь. И на опий после не тянет.
Открыл ларчик пан Пупек.
Обожгла горло первая затяжка.
– Курва ты, – сказал он Хелене. – Приходишь, когда не кличут. По ночам шляешься, в постель к мужикам лезешь. Со всеми готова к венцу пойти…
Улыбнулась в ответ Хелена:
– Твоя правда, Стась. Курва я, со всеми добра. И с тобою пойду! – жди, недолго осталось…
Хороша панна, красива – у живых такой красоты не встретишь. Разве что у мраморного ангела над могилой. Но тот – камень, твердь резная. Хелена же… Здесь она, белокурая, рядом, вот-вот губами губ коснется.
– Буду я твоей. Буду любить тебя верно. Недолго, правда, так под солнцем любовь коротка. А за мои ласки станешь ты служить мне. Здесь я – курва, у себя же – королевна!
Ушла горечь. Сладки затяжки, как поцелуи. Давно пора пахитоске сгореть, а все не кончается…
– Гордый ты, Стась. Над панами – пан. Таким и Орловский был. Пышный – не подступись. А как шагнул со мною к венцу… Курва я, значит? Поглядел бы ты, каким теперь пан Орловский стал – в моем-то королевстве!
Расхохотался гусар:
– Ай, королевна! Может, в царстве-государстве твоем встречу я доброго лекаря? Пусть разъяснит, отчего именно ты мне мерещишься. Говорили люди ученые, что призрак-мара соткан из наших тайных страхов. Вот и дивно мне: не встречал я похожих. Да и Хелен среди знакомых панночек не было.
– Не встречал ты таких, как я. А что не веришь, не беда. Поверишь. Тут тебе, сладкий, и льгота выйдет. Со многими ты меня познакомил, свиту мою пополнил… За то тебе я благодарна. Но втрое – что свел ты меня с милым дружком, с Казимежем Волмонтовичем. Всех я люблю ради долга. А с ним иначе вышло. Бегаю я за ним, как последняя шлёндра, а он от меня…
– Пошла вон, холера! Лучше бы Франек цепью меня к стене приковал… Мара ты, хворь моя, или нечисть из пекла – разберемся. Вон!
Нет Хелены. Один серный дым, а сквозь него – отсветы пламени.
Не к лицу гусару бояться, да и поздно уже.
* * *
– Нет, панове, не серьезно это, – рассудил пан Краков. – Верить тому, что штукарь в тазике углядел? Увольте, не в таборе цыганском живем.
Остальные были вполне согласны. Пан Лодзь усмехался брезгливо, пан Вильно ус крутил, а пан Варшавский и вовсе плюнул:
– Безделица, панове. То пан регистратор коллежский в Неву нырять не склонен. Вот и тешит нас байками. Кончайте его, пан Познанский. Есть Гамулецкий – есть забота, нет Гамулецкого…
Пан Познанский, он же пан Пупек, с ответом не спешил. Молчал, смотрел на мэтра Гамулецкого. Фокусник напоминал мешок с костями. Такой себе пан Лантух, который сперва от души встряхнули, а после к стене прислонили. Стоять неудобно, падать нельзя – Франек Лупоглазый рядышком пристроился.
– Подождем, – рассудил он. – Орловский ему верил.
Гамулецкий что-то булькнул в ответ.
Метельщиков Франек собрал не пойми откуда. Те осторожничали, вместо фамилий назвались по городам. Пан Пупек стал для них Познанским – сгодился псевдоним для дела! Как Торвен говорил? «Перышком вместо сабли машешь»? Увидишь ты мое перо, Иоганн…
Компания нервничала. О князе Гагарине метельщики даже не слыхали, не их ума дело; покойника Орловского уважали не слишком. Кто остался? Станислас Пупек? Который с французского на москальский вирши перекладывает? Гамулецкого-штукаря они и вовсе в грош не ставили. А вот Франека Лупоглазого – побаивались. Отчего да почему – пан Пупек решил не задумываться.
Первым делом компания порешила отправить на невское дно Гамулецкого, доставленного вездесущим Франеком. Раз уж метём-метелим, отчего бы не начать с фокусника? Зажился – век без малого небо коптит, пора и честь знать.
– Поверьте, господа! – отчаянно воззвал старик, косясь на Франека. – Эрстед и остальные… Они не в Риге, не в Копенгагене! Я видел в вазе, я знаю точно. Они едут в Тамбов!
– Эрстед хочет в Тамбов! – спел циничный пан Лодзь на мотив из популярного водевиля. – Кстати, панове! Знаете, как в Петербурге зовут сезонников из Тамбовской губернии? Тамбовские волки! Выходит, в их стае – пополнение!
– Я видел, видел!.. – старик был на грани помешательства.
– В тазике, – поддержал пан Краков. – По которому яблочко бегает. Свет мой, яблочко, скажи… Где скрываются злодеи? В чем их злобные затеи? Знаете, пан Познанский, теперь я понимаю, почему вы с Орловским провалили дело. С таким, извиняюсь, оракулом…
Никто бы не спас старика. Но скрипнула дверь, и вошел незнакомец в извозчичьем армяке. Поклона не отдал, ни на кого не взглянул. Франеку Лупоглазому на ухо пошептал – и сгинул, как не бывало.
– Штукарь правду сказал, – сообщил Франек. – На Московской заставе видели датчан. В ведомость записали. А подорожная у них до Тамбова.
Эх-ма!
Первым захохотал пан Лодзь, любитель водевилей, – да так, что огонь свечей дрогнул. К нему присоединился усатый пан Вильно. Гамулецкий – и тот не выдержал, прыснул тенорком. Понял – не убьют. Лишь Станислас Пупек смеяться не стал. Что в Тамбов враги поехали – хорошо. Не надо за море плыть. Но и по Руси-матушке с опаской ехать придется. Надо причину придумать. Отчего это толпа поляков со слугами в Тамбов катит?
Как это сказал пан Лодзь? Тамбовские волки?!
– А не сходить ли нам, панове, в Зоологический музей? Тот, что открылся летом вместо старой Кунсткамеры? Франек, помнишь Юзека Оссолинского? Его брат в музее служит, у академика Брандта…
Франек Лупоглазый кивнул. Он тоже не смеялся. Не по чину? не хотелось? – нет, просто не умел. Не сподобил пан Бог.
* * *
Великий ветер, Отец всех ветров, знал тысячи дорог в послушном, покорном его желаниям небе. Любому хватило бы сотой доли. Но Великий ветер искал новые, изумляясь громадности мира. Даже Ему, не ведающему преград, не объять все. Люди-людишки, малые букашки, вы еще мечтаете покорить мир?
Попробуйте для начала его увидеть!
…Кровавое коло – багряный круг – исполинское пятно. Оно лежало на месте хорошо знакомого Санкт-Петербурга. Исчезли дома, ушли в землю монументы. Кровь, кровь, кровь… Ужаснувшись видению, Отец ветров ощутил странное притяжение круга. Ловушка?! Но кто осмелится ловить ветер? В чьей это власти? Мгновения текли, земля становилась все ближе, тяжкий дух отбирал силы. Игры кончились, и пути кончились, это всерьез, на самом деле… Вместо страха Великий ветер ощутил давно позабытое веселье.
Лóвите, значит?
Ну, лови́те!
Над самой землей, над булькающей лужей, он резко свернул влево, в сторону прячущегося во тьме Финского залива. Неведомая сила забеспокоилась, сгущаясь, рассекла небо десятками щупальцев-прожекторов, ударила огнем сигнальных ракет, высветила в зените силуэт Черного Ромба. Время сгустилось, переплетая Вчера с Завтра. Кровавая лужа кипела, превращаясь в бассейн с живой, движущейся плотью…
На миг, на малое дыхание, ветер потерял веру в себя. Грядущее стало Прошлым? Хаос притворился Космосом? Отец ветров подивился их мощи, поразился наглости – и рванул ввысь.
Ловите!
Лопнули стальные обручи, и растаял Ромб, и сгинула кровь. Земля стала привычной: спит Петербург, горбятся крыши домов, молчит серая гладь залива… Но кровавая топь не исчезла без следа. Она лишь сгустилась, переливаясь в зыбкий пунктир. Красный след тянулся на юго-запад от ночного города. Сила, дерзнувшая посягнуть на ветер, торила путь по осенней России, устремляясь в глушь леса, раскинувшегося от Тулы до Воронежских степей.
Из чащи звучал волчий вой. Предупреждение? Вызов на битву? В ответ с небес ударил оглушительный свист – Отец ветров скликал сыновей.
Небо отвечало Земле.
Акт III Механизм жизни
– Обнимитесь, миллионы!
Слейтесь в радости одной!..
Фридрих Шиллер, «Ода к радости»На мой вкус, ни один роман нельзя считать первоклассным, если в нем нет хотя бы одного героя, которого можно по-настоящему полюбить, а если этот герой – хорошенькая женщина, то тем лучше.
Чарльз ДарвинНиколай Федоров – святой. Каморка. Не хочет жалованья. Нет белья, нет постели. Он составил план общего дела всего человечества, имеющего целью воскрешение всех людей во плоти. Во-первых, это не так безумно, как кажется. Во-вторых, и главное, благодаря этому верованию он по жизни самый чистый христианин. Ему 60 лет, он нищий и все отдает, всегда весел и кроток…
Рассказывал ему об искусстве. Он одобрил.
Лев Толстой, дневники и письмаСцена первая Пустодомы
1
Ванюша. Ну ж, скажи!
Фома. Не смею, брат…
Ванюша. Пустое,
Я камердинер, ты приказчик был, так нам
Всё можно знать.
Фома. Быть так, скажу. Село княжое
Заморской сволочью, что князь прислал в него
Для экономии, для фабрик, для заводов,
Разорено вконец; а хуже и того…
Эрстед зааплодировал, перебивая диалог.
«Заморскую сволочь» поддержали. Овации прокатились по зале – жидкие, ибо народу собралось мало. Сам хозяин усадьбы, сияя, будто именинник, звонко хлопнул в ладоши. На лице его расплывалась детская, счастливая улыбка. Павел Иванович Гагарин, тамбовский помещик, был душевно рад. Гостю по сердцу домашний театрик? – пожалуй, единственное в этой жизни законнорожденное дитя Павла Ивановича…
Лучшей награды он и не желал.
Сегодня, по случаю окончания траура, в Ключах давали премьеру «Пустодомов» Шаховского. Усопший батюшка, князь Иван Алексеевич, мог быть доволен. Покойник при жизни любил актеров, а пуще того – актрис. Погляди с небес, родной, полюбуйся.
Водевиль играли днем. Новомодную манеру, заведенную в Петербурге упомянутым Шаховским в бытность его руководителем театрального училища, при которой зала погружается в темноту, а высвечивается лишь сцена, здесь не признавали. Полагали, что скупердяй Шаховской просто экономит на казенных свечах. Что ж это такое, когда в партере хоть в жмурки скачи? В ложах со своей свечкой сидеть прикажете-с? И брали ведь – кто сальную, кто восковую, а иной и лампу вез в театр, желая разглядеть соседа при всех его орденах, соседку в ее бриллиантах…
Зала в усадьбе ничем не походила на столичный театр. Импровизированная сцена, минимум декораций. Полукруг стульев – ореховых, с гнутыми спинками, в чехлах из белого коленкора. Над фортепьяно горбится пьяненький Терентий, музыкант из крепостных. Талант! Божья искра! Налей шкалик, Шопена выдаст, налей второй – Бетховена, но трезвым «до» от «фа-диез» не отличит. Потолок над Терентием был расписан гирляндами «даров земных» – меж плодами и цветами сновали райские птицы и презабавные монстры с рожками.
Тусклый свет лился в залу снаружи. Блики плясали на стенах, выкрашенных яркой медянкой. Окна выходили в сад – унылый и скучный, как титулярный советник, раздетый на улице грабителем. Дождь, спотыкаясь, бродил меж сливами и яблонями. Поздняя осень в Вялсинской волости не баловала народ солнышком, в отличие, скажем, от ее сестры-итальянки. Зима-матушка – та каждому выдаст соболью шубу.
Только когда ж она, зима?
Здесь не топили. Считалось достаточным, что две печи в соседней гостиной задними «зеркалами» отдают тепло нахлебницам: спальне и зале. Эрстед мерз, вертясь на жестком стуле. Редингот, накинутый поверх сюртука, спасал плохо. Датчанин с завистью поглядывал на Павла Ивановича, на трех его соседей-помещиков с семьями – ради искусства, а вернее, борясь со скукой провинции, как Иаков – с ангелом Господним, те рискнули выехать в ноябрьскую распутицу; на сожительницу Гагарина, дворянскую девицу Макарову – тишайшее, бессловесное существо, не надеясь встать под венец, она исправно рожала благодетелю то дочь, то сына…
Казалось, это они, а не Эрстед родились на берегу Большого Бельта.[58] Во всяком случае, холод их не донимал.
Совершив круг, взгляд раз за разом возвращался к Павлу Ивановичу. Спектакль мало интересовал Эрстеда – какая-то шутка из жизни российских дворян. Актеры-холопы представляли господ со знанием дела. Да и автор пьесы не скрывал сарказма, выводя героев в комическом виде. Что тут смотреть, если зрители – те же персоны? Зато радушный хозяин…
– Ваше мнение? – спросил Павел Иванович три дня назад, дав гостю прочитать пьесу.
– Je ne sais pourquoi, – отшутился Эрстед по-французски, подмигнув присутствующему при разговоре Шевалье, – dans la comedie il n’est seulement pas question du Danemark…
– Pas plus qu’en Europe,[59] – не задумываясь, отбрил в ответ Павел Иванович.
Лицо его на миг приобрело хищное, язвительное выражение, несвойственное Гагарину. Но раньше, чем Эрстед успел отметить сей переход и подивиться ему, черты помещика вновь вернулись к обычному добродушию. Так стул с брошенной на него шинелью в темноте мерещится чудовищем, но зажги лампадку – и куда делся страх?
За две недели, проведенные в Ключах, Эрстед не сумел до конца привыкнуть к тому, что, глядя на Павла Ивановича, он видел Ивана Алексеевича. Умопомрачительное, невозможное сходство отца и сына – оно воспринималось бы чудом, когда б не полные противоположности характеров. То, что в облике покойного князя было живостью, в облике его первенца проявлялось как рассеянность. Бодрость волшебным образом перерождалась в суетливость; задумчивость – в вялость, энергичность – в нервическое возбуждение.
Даже вислый нос у родителя наводил на мысль о селезне, а у наследника – об утке.
Вчера, в кабинете, угощая Эрстеда наливкой из смородины, Павел Иванович вдруг начал читать вслух из Ломоносова: «О вы, счастливые науки! Прилежны простирайте руки и взор до самых дальних мест…» «Ода в благодарение Елизавете» преобразилась – голос отцовский, да ритм сгинул, и напор исчез. Иногда в стихах пробивалась резкая нотка, возрождая в памяти облик мертвеца, но по большей части ода текла тяжко, извилисто, как текут реки в этих болотистых местах.
На стене кабинета посмеивался потрет – Иван Алексеевич, двуличный сенатор.
2
Князь. Ну что, пошел ли в ход
Свекольный сахар? А?
Фома. Пошел, и круглый год
С Покровки мужички день-деньской работали,
Под свеклу десятин до сотни распахали,
А сахар выслан к вам по вешнему пути.
Князь. Три пуда?
Фома. Весь он тут.
Инквартус. Невыгодно.
Ванюша. А сладок
Он был, как рафинат.
Князь. Не может быть!
Фома. Ахти!
Я чуть не позабыл. Газетчику в подарок
Мусье в Немецию коробочку послал
За то, чтоб он об нем в газетах написал.
И снова Эрстед не удержался от аплодисментов.
«Немеция» восхитила его. Особенно в исполнении тенора Фомы, кривлявшегося, как макака в зоологическом саду. А уж европейские устремления «князя», внедрявшего, согласно пьесе, в своем селе «плантации, заводы, скотоводства и трехверстный водовод…». Не чета Павлу Ивановичу, видному театралу!
Судя по распорядку дня, Гагарин-сын делами не интересовался вовсе.
На почтовой станции в Вялсине станционный смотритель, узнав, к кому едут «немцы», предупредил, что Павел Иванович – недееспособен. Склонен к ваперам, как здесь называли истерические припадки; несет гиль и городит забоданы.[60]
– Взят семьей под опеку-с! До суда дело не дошло, – смотритель подмигивал, гримасничая. – Только сами понимаете, ваше высокоблагородие…
Если это и было правдой, то опека не тяготила Павла Ивановича. Жил он на широкую ногу, в средствах не стеснялся. Неподалеку, близ крупного торгового села Сасово, имел еще одну усадьбу, куда хотел перебраться после Рождества – и звал гостей с собой. В Ключах он, как признался в случайной беседе, владел восемью сотнями душ. На вопрос, сколько душ ему принадлежит в иных деревнях, замялся, долго думал, загибая пальцы, – и сказал, что спросит у эконома.
Шевалье, присутствовавший при разговоре, позже сказал Эрстеду, что в каждом российском помещике ему теперь видится мсье Люцифер – владелец легиона грешных душ.
Люцифер, не Люцифер, но был Павел Иванович, милейший человек и хлебосольный барин, с чертовщинкой. По усопшему батюшке рыдал горькими слезами. На поминках выпил рюмочку, другую… А потом встал, побледнел лицом – и в присутствии младшего брата Константина Ивановича заявил:
– Вопрос об обращении Солнечной системы в хозяйство есть вопрос об отношении сознательной силы к силе слепой. Клянусь вам, господа, чем больше выставим мы разумных сил, тем успех вероятнее!
– К чему бы это, Павлуша? – ласково спросил Константин Иванович. Он давно привык к курбетам брата. И не стеснялся обществом, зовя Павла Ивановича при всех по-семейному: «Павлуша». – Вот уж не ждали, не гадали…
– А к тому, что если разделить всю Солнечную систему на число погибших умов, то окажется, что на каждый ум придется некоторая ее часть. Вот и батюшка, встав к новой жизни, окажется помещиком в сферах небесных. Каждому – владение, никого не обидим…
– Ну и славно, Павлуша. Ты садись, отдохни…
Этот случай был не единственной странностью. Гостей с рекомендательным письмом от усопшего отца Павел Иванович принял, как родных. От Эрстеда и вовсе не отходил, каждую минуту норовил угостить чем-нибудь либо сделать подарок. Интересовался науками, политикой, делами европейскими; в последних проявил неожиданное знание предмета, легко переходя с языка на язык – французский, английский, немецкий. Как-то обмолвился, что служил в Коллегии иностранных дел, да вышел в отставку – по здоровью. Пел дифирамбы академику Эрстеду-старшему, как светочу прогресса, хватал собеседника за рукав:
– Ваш брат!.. о-о, ваш великий брат!..
Тут Павла Ивановича и заклинило. Лицо его стало безвольным, как у идиота, из уголка рта потекла слюна. Он потупил взор, взмахнул рукой…
– А имена, что на скрижалях вековых Науки Дании сыны поначертали! Они нам говорят о светлой звездной дали, О тайных силах и небесных, и земных!Все бы ничего, но Павел Иванович говорил по-датски – без малейшего акцента. Голос его остался прежним, глубоким и низким, но интонации… Эрстед похолодел, узнав манеру чтения. Так декламировал стихи Ханс Христиан Эрстед; более того, так гере академик декламировал свои стихи.
Но Эрстед-старший никогда не писал ничего подобного! Стихи, судя по содержанию, скорее могли принадлежать Андерсену; если угодно, Андерсену в авторском переводе гере академика с датского на датский.
– Любуюсь Зунда светлой полосой, Что окаймляет берег наш волнистый И пылью орошает серебристой… Люблю, люблю тебя, мой край родной!Павел Иванович запнулся. Черты его мало-помалу стали обретать смысл и волю. Копия отца, сейчас он был похож на Ивана Алексеевича, как никогда. Казалось, отец всплывает из глубин сына, как водяной – из глубокого омута, гоня прочь разыгравшихся бесенят. Едва самообладание вернулось к Гагарину, сходство поблекло, вернувшись к исходному противоречию: лицо такое же, но характер иной.
– Я что-то говорил? – рассеянно спросил он. – Не обращайте внимания, душа моя. Со мной бывает…
Заверяя хозяина, что все в порядке, Эрстед дал себе зарок: при следующем приступе исхитриться – и наскоро исследовать, что происходит с флюидом Гагарина. «Теория кризисов» Месмера подводила под такие припадки научную базу. Всякая нервно обусловленная болезнь стремится дойти до высшей точки своего развития, чтобы тело могло исцелиться. Припадок – попытка тела выздороветь, провоцируя кризис. Но достичь апогея без помощи опытного магнетизера, увы, невозможно.
Что ж, подходящий случай не заставил себя ждать.
3
Инквартус. Хоть философия системами богата,
Но цель одна. Пример: Зенона стоицизм,
Пиррона скептицизм, Спинозы реализм
И Фихтов ихтеизм с Берклея идеизмом,
Сократо-платонизм с антропофилеизмом,
Супернатурализм, перипатетицизм,
Доризм, пифизм, кратизм, фиксизм и фатализм;
Так без софизмов я всё кончу силлогизмом,
Что правды ригоризм вы греко-русицизмом
Хотели выразить – и я вас угадал.
Радимов. Да из каких земель вас князю Бог послал?
Философа Бог послал князю сложным путем. Если в целом – из Польши; если в частностях – из Парижа через Ниццу и Санкт-Петербург. Дивный баритон, каким были исполнены куплеты Инквартуса, не оставлял сомнений – это он, Казимир Волмонтович собственной персоной.
И грима не надо – черные окуляры да вид надменный.
Сыграть в «Пустодомах», что называется, «с листа», гордый поляк согласился без уговоров. Фактически сам предложил. Единый раз глянул на репетиции, как поет «философию» местный паяц, запинаясь на каждом «изме», погрозил дураку пальцем, отчего тот и вовсе язык проглотил – и пошел к Павлу Ивановичу с благой вестью.
Эрстед просто диву давался. Наверное, сказалась тяжкая дорога в Ключи, более похожая на спуск в ад. Призрак Вергилия все время маячил неподалеку. «Вы часом не Данте-с? Проводить?» – безмолвно вопрошал он, более похожий на чиновника XIV класса, нежели на поэта. «Земную жизнь пройдя до половины…» – распутица, дожди, замызганные станции; «я очутился в сумрачном лесу…» – жидкий чай, коляски, кибитки, дрожки, пьяные офицеры требуют лучших лошадей; «утратив правый путь во тьме долины…» – ухабы вынимают из тебя душу, копыта топчут ее в хлам…
Три недели кошмара!
Уже в окрестностях Москвы сатана превратил дороги в кашу. Да и были ли они, дороги? Мосты вечно чинили – иногда приходилось ждать до двух суток. На ночлег становились где попало: в ямских селах, на станциях, в крестьянских избах. В Твери ночевали у советника губернского правления, еще недавно – ссыльного Федора Глинки. Случайно встретились у «рогатки» – советник возвращался в город из имения жены; слово за слово, вспомнили войну – и до утра проговорили о баталиях Наполеона, обсудив их со всех сторон.
При отъезде Глинка подарил Эрстеду «Записки русского офицера», подписав книгу: «Вчерашнему врагу, сегодняшнему другу – от арестанта Петропавловской крепости, награжденного золотым оружием за храбрость». Смысла автографа Эрстед не понял, но поблагодарил.
И снова – чавканье колес в грязи…
Если б не Волмонтович, пропали бы. Вездесущ и всемогущ, князь поспевал всюду. Казалось, он отрастил себе шесть рук и четыре ноги, как индийский божок. Чудо! – он даже был приветлив с окружающими. От его приветливости драгунский капитан, желающий сей же час стреляться «через платок», делался шелковым и растворялся в тумане. Ямщик гнал, как бешеный, – лишь бы не оглянуться через плечо, не увидеть вопрошающий блеск окуляров. Генерал отказывался от курьерской тройки в пользу Эрстеда. За минуту до того генерал топал ногами и грозился Сибирью, да вот подкрался сбоку Волмонтович, пожелал доброго здоровья…
– Езжайте с Богом! – провожал их генерал, крестясь втихомолку.
А еще Волмонтович носил Торвена на руках. Из кибитки – в здание станции, от порога – на кровать с пестрой занавеской; к столу – поесть горячего, на двор – в ретирадное место, и снова – в сырую темень кибитки. Ходить самостоятельно Торвен не мог. Удар кнутовищем не прошел даром. Мало того что нога-упрямица, считай, отнялась, так еще и рана на голове воспалилась. Что ж делать? – при первом удобном случае требовали нагреть воды, промывали, меняли перевязки. В Гатчине нашли цирюльника, обрили раненого наголо – для простоты лечения.
– Держись, юнкер! – бормотал Эрстед, глядя, как клочья волос падают на грязный пол. – Держись, прорвемся…
– Полковник? – спросил Торвен. – Ты где?
Глаза у него были белыми, как у вареной рыбы.
В Новгороде доктор, притащен князем за шиворот, продал какую-то вонючую мазь – клялся, что поможет. Узнав, что раненого везут дальше, раскричался. Поминал Гиппократа и кузькину мать, настаивал, чтобы пациента оставили здесь. «Вы убиваете его, господа!..» Честное слово, Эрстед испугался – не воплей доктора, нет. А вдруг медик прав? Неужели придется с чужого, холодного почтамта отправлять письмо в Копенгаген:
«Дорогой брат! С прискорбием сообщаю, что Торбен Йене Торвен, мой давний друг и твой верный помощник…»
– Готовьте лошадей, – перебил доктора Великий Зануда. Привстав на локте, он грозил Эрстеду кулаком. Казалось, мысли полковника были для Торвена открытой книгой. – Я еду…
И вновь опрокинулся в забытье.
Этот кулак Эрстед видел всю дорогу. Едва возникала мысль оставить Торвена на чье-то попечение, избавить от тряски и мучений, дать отлежаться в тепле – вот он, кулак. Грозит. Следом, мол, поползу, найду, догоню – и спрошу по всей строгости. Слышишь, полковник? Слышу, чего там. Князь, станция – выносите гере Торвена…
Иногда раненого нес Шевалье. И никогда – сам Эрстед. Не давали, оттесняли; запрещали. В Тамбове он узнал: Торвен предупредил князя – ни за что. Полковник уже однажды вынес меня с поля боя. Хватит. Не мальчик, шестой десяток до половины разменял – нечего ему в грузчики рядиться… Узнаю, что таскал меня, убогого, – не прощу.
Ночью сбегу из кибитки.
– Ну вы и царь, пан Торвен, – ответил Волмонтович. – Князей в носильщики определяете? Ладно, мне не в тягость…
Всю дорогу Пин-эр не отходила от раненого. Ехала с ним бок о бок, ухаживала, как могла, шептала что-то – заговоры? молитвы? Когда Торвена одолевал бред – трогала виски, шею, пальцами пробегала по ледяным рукам, как по клавишам фортепиано. Сильные и ласковые, взятые китаянкой аккорды дарили сон.
В Рязани Торвен встал на ноги.
Денег проклятая дорога жрала в три горла. Понимая это, Эрстед еще в Петербурге кинулся по банкам – за наличными. Филиала Ротшильдов он не нашел. В прочих же банках при одном упоминании о Ротшильдах все двери закрывались. Эрстед ничего не понимал, пытался объясниться, настаивал…
– Вы из Пруссии? – по-немецки спросил у него один из посетителей банка «Штиглиц и K°». – В Берлине тоже нет филиала Ротшильдов.
– Знаю, – кивнул Эрстед. – Но в Берлине Ротшильды сотрудничают с банкирским домом Блайхредера. Здесь же…
Посетитель, хорошо одетый молодой человек, рассмеялся:
– А здесь они не сотрудничают ни с кем. Барон Штиглиц категорически против. Лично писал государю, что закроет свою коммерцию, если этим позволят… Вы поняли меня? А что, Ротшильды должны вам денег?
– С кем имею честь? – сухо спросил Эрстед.
Молодой человек приподнял шляпу:
– Евзель Гаврилович Гинцбург, винный откупщик. Купец 1-й гильдии, к вашим услугам. В Петербурге по торговым делам, с разрешения обер-полицмейстера на три недели. Завтра возвращаюсь домой. Тут рядом есть хороший трактир. Не побрезгуйте…
Спустя час Эрстед стал обладателем кругленькой суммы.
– А вдруг я лжец? – спросил он у молодого человека. – Шарлатан? Вы ведь даже не взяли у меня расписки…
– Зачем? – искренне удивился тот. – Вы показали мне письмо Натана Ротшильда. А я, поверьте, разбираюсь и в людях, и в подписях. Да-да, несмотря на возраст. Вы ведь это хотели сказать? Считайте, что я не дал вам в долг, а вложил деньги в будущее предприятие.
– Какое? – теперь настала очередь Эрстеда изумляться.
– Когда я захочу открыть собственный банкирский дом, вы дадите мне рекомендацию к Ротшильдам. Как считаете, они согласятся на сотрудничество?
– Уверен, что да, – ответил Эрстед.
Он тоже разбирался в людях.
4
Радимов. Послушай, ты учен
И добр, мне кажется, то ежели захочешь,
То в доме у меня быть можешь помещен.
Поедем-ка со мной в деревню.
Инквартус. Я согласен,
Однако ж давеча ваш довод был неясен.
Радимов. В деревне объясню. Ну что ж, мои друзья,
Вы закручинились? уж больше нет печали!
От пустодомства вы одни ли пострадали;
Но не у всякого есть добрая семья!
А вот тут всласть похлопать не дали.
Терентий сыграл бравурную коду. Актеры отошли назад, к стене – кланяться без разрешения барина им не годилось. Павел Иванович привстал со стула, обернулся к зрителям, готовясь принять должную порцию хвалы – устроителю театра браво! виват! – лицо помещика выразило приличествующую случаю скромность…
– Господа! Здравствуйте, господа! Я прибыл с тем, чтобы сообщить вам презабавное известие…
В дверях залы стоял Константин Иванович Гагарин. Плащ он сбросил в передней, фуражку – тоже, желая предстать перед собравшимися во всем великолепии. И впрямь, был Константин Иванович чудо как хорош собой. Высокий, статный, кудрявый, он имел одну простительную слабость – волей отца не пойдя по военной службе, в отличие от третьего брата, Александра Ивановича, ныне – штаб-ротмистра Гродненского гусарского полка, он одевался как отставной офицер. Венгерка – синего сукна; золото шнуров, блеск бахромы. Серые рейтузы обшиты черной кожей, как у истинного кавалериста. Кушак с перехватами, щегольские сапожки…
Предводитель губернского дворянства, приравнен к чину IV класса «Табели о рангах», Константин Иванович числился, что называется, статским генералом. И мог бы не столь откровенно завидовать военным, открывая всем детскую, несбывшуюся мечту. А вот поди ж ты!
Чудны пути желаний человеческих…
– Что случилось?
Павел Иванович нахмурился. Хозяина разрывали на части два противоречивых чувства: раздражение помехой и радость от визита брата, коего он любил.
– У губернатора несварение? В Тамбове решили открыть Институт благородных девиц?
– Куда там! Бери выше, Павлуша!
Гости затаили дыхание.
– Господа! В нашу богоспасаемую губернию прибыл экспедиционный отряд из Санкт-Петербурга! От Академии наук! Во главе с адъюнкт-профессором Оссолинским, из Зоологического музея… И знаете, что они собираются делать? В жизни не догадаетесь…
Константин Иванович взмахнул руками, словно намеревался взлететь.
– Они хотят ловить монстру! Да-да, натуральную монстру!
– Тамбовского волка? – неудачно пошутил кто-то.
– Именно! Его превосходительство при таком известии впал в меланхолию. «Константин Иванович, – говорит он мне, – помилуйте! Где ж я им монстру-то возьму? Разве что почтмейстера Бутейкина головой выдать… Он, как запьет, хуже всякой монстры…» Я ему: «Полно, Евграф Федорович! Поищут, не сыщут и уберутся восвояси…» А он мне: «Не знаете вы жизни! Если в столице восхотелось монстры… Господи! То им недоимки по казенным повинностям на три года вперед, то чудо-юдо вынь да положь!» И пьет нервические капли…
Эрстед шагнул ближе к вестнику:
– У вас в лесах действительно водятся монстры? Есть случаи нападения на людей? Свидетели?
– Из Петербурга виднее, – отмахнулся предводитель. – Раз Академия наук, значит, будут и случаи. Нет, господа, каков лабет![61] И ведь неполитично сделать вид, что мы в стороне. Уже и газеты пишут…
Он потряс «Тамбовскими известиями», зажатыми в кулаке.
– Извольте насладиться! – Константин Иванович развернул газету. – «В деревнях Вирасы и Дашкино, а такоже в казенном селе Енгуразово таинственный кровопийца за три ночи убил два десятка коз и более пятнадцати овец. На шеях трагически умерщвленных животных зияли следы укусов, сходных с пулевыми ранениями. Нам сообщают, что в позапрошлый вторник на берегу реки Цны подьячим Макаром Усовым найден пятипалый след с ужасными когтями. Адъюнкт-профессор Оссолинский полагает, что загадочный зверь есть не кто иной, как чупакабр – «козий кровосос», хорошо известный в Аргентине…»
– В Аргентине! – зашелестело по зале. – Ишь ты!.. в самой Аргентине…
– «Профессор утверждает, что тамбовский чупакабр схож с собакой, ежели скрестить бордоского дога с ярославской борзой, но гораздо больше размерами. Шерсть на нем медно-красная с темной остью, морда черная, и на спине есть горб. Экспедиция, цель которой – положить конец…» Нет, господа, это не чупакабр! Это макабр,[62] клянусь…
Чувствуя, что они здесь лишние, актеры под шумок убрались из залы. Задержался лишь Терентий – уронив голову на плечо, музыкант спал. Пальцы его тихо наигрывали прелюдию ля минор Шопена.
– И ты, брат! – Павел Иванович весь покраснел от возбуждения. – И ты не привез Оссолинского ко мне? Вовек не прощу!
– Увы, Павлуша. Оссолинский сиднем сидит в Тамбове и бомбардирует почтамт депешами о ходе экспедиции. Заодно он снабжает газетчиков сведениями из жизни аргентинских чупакабров. В остальное время губернатор отпаивает его рябиновой. Книжный червь еле жив после дороги. Его уже завалили приглашениями, но Оссолинский тверд: из Тамбова – ни ногой. Зато его отряд бодр и весел и уже второй день квартирует в уездном городке…
Константин Иванович ухмыльнулся:
– В нашем любимом, в нашем прославленном уездном городе N. Не так ли, господа?
Помещики дружно засмеялись – в отличие от Эрстеда, им была понятна шутка предводителя дворянства.
– Часть их вместе со слугами завтра выедет в имение генерала Хворостова. Генерал, страстный охотник, обещал дать егерей для устройства облавы. Божился, что станет жаловаться государю, если его помощь отвергнут. Ну, сутяжничество Хворостова, равно как его охотничьи подвиги, нам всем хорошо известны…
И снова смех – видимо, сутягу-генерала здесь знал каждый.
– Господин Эрстед! Для вас у меня особый сюрприз. Едва я заикнулся при столичных естествоиспытателях, что в наших краях гостит полномочный представитель Общества по распространению естествознания… Вы бы видели их ликование! Надеюсь, вас не затруднит пройти со мной в кабинет?
– А я? – обиженно спросил Павел Иванович.
– Конечно, Павлуша, – как ребенку, улыбнулся Константин Иванович старшему брату. – Разумеется, и ты с нами. Вас же, господа, я не стану более утомлять своими рассказами. Ах да, чуть не запамятовал! Я ведь прибыл не один… Милейший человек! Достойнейший! Уверен, вы сразу полюбите его. Павлуша, это сослуживец Александра, воевал на Кавказе; летом вышел в отставку… Он здесь проездом – нашел меня, желая передать поклон от брата. Князь Енгалычев, господа!
В дверях стоял азиат, одетый в щегольский европейский костюм. Должно быть, он задержался снаружи, следя за разгрузкой своего багажа, и вошел в залу только сейчас. Вертя в пальцах тросточку с рукоятью в виде змеиной головы, князь Енгалычев без особой приязни смотрел на собравшихся. Казалось, он разрывается на части между долгом, который велит ему остаться, и желанием немедленно покинуть усадьбу.
– Здравствуйте, господин секретарь! – сказал Эрстед по-китайски, не обращая внимания на вопросительные взгляды со всех сторон. – Вот уж не ждал… Как поживает достопочтенный цзиньши Лю Шэнь?
Змея с тросточки сверкнула рубиновым глазом.
– Надеюсь, – Константин Иванович повел рукой в сторону лже-Енгалычева, – мы уговорим князя задержаться на день-другой. Наше тамбовское гостеприимство…
– Непременно уговорим, – поддержал его Волмонтович, до сей поры молчавший. Поляк стоял у фортепиано, кривя губы в радушной усмешке. – Я хоть и сам тут в гостях, ни за что не отпущу князя без доброго кутежа. Матка Боска! Спасибо, заступница! – свела, порадовала…
В костюме потешного философа Инквартуса, в гриме, блестя окулярами, Волмонтович был бы смешон – да вот не был.
Сцена вторая Белая перчатка
1
– Pardon! Pardon, monsieur…
Огюст Шевалье с трудом пробрался к выходу.
Зрители во главе с хозяином усадьбы обступили нового гостя, вовлекая его в традиционный для здешней скуки хоровод – вопросы, сплетни, поиск общих знакомых, сложные родственные связи… По мнению Огюста, в России с ее чудовищными пространствами каждый был каждому если не кузен, то dever’ или svojak. Молодому человеку показалось странным, что в оркестре гостеприимства первую скрипку играет князь Волмонтович – поляк ни на шаг не отходил от Енгалычева. Но Волмонтович слишком часто давал повод к изумлению, чтобы его внезапное радушие всерьез заинтересовало Шевалье.
В передней лакей, облаченный в гороховую ливрею с галунами, «строил амуры» дворовой девке. Завидев, что француз собирается выйти из дома, лакей оставил девку жевать кончик косы – и кинулся к барину с плащом в руках:
– Извольте надеть! Зябко-с…
Шевалье позволил накинуть плащ себе на плечи, но уходить не спешил. Внимание его привлекла газета, забытая на столике в углу. Должно быть, Константин Иванович привез. Первую страницу занимала перепечатка из «Le Miroir» – репортаж о похоронах князя Гагарина. То, что в Москве и Петербурге давно стало достоянием прошлого, в провинции еще продолжало занимать умы.
Огюст взял газету.
«…панихида совершена была в храме Преображения Господня… у гроба, молясь за усопшего… депутация от Правительствующего Сената во главе с… безутешная вдова, рыдая… во время пения «со святыми упокой и вечная память!»… общая картина вызывала самые умилительные чувства…»
Снежинки закружились у стен.
Сплетаясь в ажурные цепочки, они опутывали переднюю, лакея, глупо хихикавшую девку. Огюста зазнобило под плащом. Со времени отъезда из Петербурга – нет! с того часа, когда ему явились два памятника, скачущие по набережной Невы! – Механизм Времени не тревожил молодого человека. Огюст втайне надеялся, что излечился; и мучился тревогой, ибо не знал: хочет ли выздоровления?
Если снежинку повернуть вокруг оси, проходящей через ее центр…
«…среди пения запричастного «не имеем иной помощи и иной надежды»… богослужение совершали священники… с тремя диаконами… приезжим раздавались экипажи за весьма солидную плату… по требованию ямщиков, задавшихся корыстной целью содрать, сколь возможно…»
Дом исчез, растворился в метели. Коченея от холода, Огюст стоял в огромном соборе. Мундиры, ордена, траурные ленты – толпа жадно следила за гробом, расположенным в алтарной части. Люди словно надеялись, что покойник вот-вот встанет, чихнет и скажет:
«Извините, я передумал…»
Оплывали свечи. Масляные блики плясали на иконостасе. Шаркая, гроб обходил священник в черной рясе. Качалось в руке кадило, запах ладана мешался с запахом воска. Какой-то старик с трясущейся головой, одетый проще остальных, показался Шевалье знакомым.
Но он так и не вспомнил, кто это.
«…прежде чем гроб с телом усопшего был отнесен в подклет храма… протоиерей Симеон Соколов, шагнув ближе, бросил на гроб белую перчатку – известный символ известного общества…»
«Розенкрейцер! – шепнула вьюга в ухо Огюсту. – Ложа Нептуна…»
Ничего не понимая, молодой человек смотрел, как перчатка дохлым голубем лежит на крышке гроба. По собравшимся прокатился тихий ропот. Трудно сказать, было это одобрением, предвкушением скандала или просто выдохом после долгого ожидания. Огни свечей дрогнули. Ветер завыл, где-то застучали невидимые ставни – с угрозой и печальным предзнаменованием.
– Здоров ли барин?
– Что?
– Э-э… Comment ça va?
– Ça va bien, et vous?[63]
Собор растворился в буране. Растерян, удручен, Огюст вновь стоял в передней. Напротив, выпучив глаза, мялся лакей. Похоже, его знание французского ограничивалось уже прозвучавшим вопросом. Повторно же спросить, как дела, он боялся.
Кивнув невпопад, Шевалье вышел из дома.
Ноябрь в Ключах показался ему летом после вьюги Механизма Времени. С непокрытой головой, хрипло дыша, Огюст с минуту простоял на крыльце. От свежего воздуха в голове прояснялось. Восстановив спокойствие, он спустился вниз, в расположенную неподалеку беседку. Дождь, упустив добычу, с гневом заплясал вокруг.
Развернув газету на середине, молодой человек продолжил чтение.
«Милостивый государь, Александр Христофорович! Еще в 1824 году г. статский советник Ольдекоп без моего согласия и ведома перепечатал стихотворение мое «Кавказский пленник» и тем лишил меня невозвратно выгод второго издания, за которое уже предлагали мне в то время книгопродавцы 3000 рублей. Вследствие сего родитель мой, статский советник Сергей Львович Пушкин, обратился с просьбою к начальству, но не получил никакого удовлетворения, а ответствовали ему, что г. Ольдекоп перепечатал-де «Кавказского пленника» для справок оригинала с немецким переводом, и что к тому же не существует в России закона противу перепечатывания книг, и что имеет он, статский советник Пушкин, преследовать Ольдекопа токмо разве яко мошенника, на что не смел я согласиться из уважения к его званию и опасения заплаты за бесчестие.
Не имея другого способа к обеспечению своего состояния, кроме выгод от посильных трудов моих, и ныне лично ободренный Вашим превосходительством, осмеливаюсь наконец прибегнуть к высшему покровительству, дабы и впредь оградить себя от подобных покушений на свою собственность.
Честь имею быть с чувством глубочайшего почтения, благодарности и преданности,
Вашего превосходительства,
милостивый государь,
покорнейшим слугою
Александр Пушкин(опубликовано с письменного дозволения автора)».Снежинки прожгли газету насквозь. В дыре, окаймленной инеем, Шевалье увидел тесную комнату. Желтая краска стен, буфет, шандалы увиты крепом; два окна выходят во двор, где вертится снег. Посреди комнаты, на черном катафалке, стоял гроб, обитый красно-фиолетовым бархатом с золотым позументом. Незнакомый Огюсту покойник был задернут покровом из палевой парчи – довольно подержанным и взятым, скорее всего, напрокат. Курчавые волосы усопшего разметались по атласной подушке, впалые щеки до подбородка окаймлялись бакенбардами.
В ногах дьячок читал псалтырь.
В соседней гостиной собралось много народу. Люди крестились; то один, то другой подходили и благоговейно целовали покойному руку. Один из скорбящих задержался у гроба – Вяземский, шепнула вьюга за окном… – и, сняв с руки белую перчатку, бросил ее в гроб.
Буран ворвался в комнату – закружил, завертел, возвращая гигантскую пустоту собора, соединяя гроб и гроб, одну перчатку с другой в кощунственном рукопожатии. Чувствуя, что видение уходит без возврата, и радуясь этому, Огюст Шевалье схватился за столбик беседки, уронил газету на каменный пол – и вдруг сообразил, что за старик тряс головой у первого гроба.
Это был Эминент.
Боже, как он ужасно выглядел!..
2
Однажды вечером в час небывало теплого осеннего заката в Москве, на Козьем болоте, вблизи церкви Святого Спиридона Тримифунтского, появились два господина. В самом их появлении не заключалось ничего особенного: погожий день располагал к прогулкам. Однако вид прибывшей парочки даже случайному прохожему наверняка показался бы странным. Вглядевшись, он изумился бы пуще, более того, ускорил бы шаг, желая покинуть сии места. И в самом деле! Первый из этих двоих казался сущим лондонским денди – гибкий стройный красавец во цвете лет, двигавшийся с изяществом танцора. Шляпы франт не носил. Волосы, знакомые со щипцами парикмахера, слегка вились, яркие губы еле заметно улыбались, почти не разжимаясь ни при улыбке, ни при разговоре. Наряд незнакомца удивлял экстравагантностью. Ветхая, от старьевщика, шинель с переставленными пуговицами была легкомысленно распахнута. Под нею, в очевидный контраст, красовался новенький, с иголочки, фрак лучшего московского сукна, именуемого в здешних лавках «аглицким». Наимоднейший фасон сочетался с оригинальным колером – «наваринское пламя с дымом и пеплом».
Все это дополнялось сапогами, начищенными до блеска, и легкой тростью с набалдашником из белой кости.
По левую руку от денди шествовал громоздкий широкоплечий урод – настолько страшный, что случайный прохожий, о коем речь шла выше, в первый миг не поверил бы своим глазам, приняв урода за ряженого. Тот и сам ведал о таком приеме, пытаясь скрыть обезображенный лик под простецкой шапкой с опушкой из собачьего меха, надвинутой на самые брови. Столь же прост был извозчичий армяк, грозивший треснуть от первого же движения могучих плеч. В дополнение ко всему урод шествовал с протянутой ладонью, доверху наполненной медной мелочью.
Монеты позвякивали, как бубенцы тройки.
Миновав храм, двое вступили в иной удел – в царство молодых саженцев, многим из которых предстояло пережить первую зиму. Это был бульвар Патриаршего пруда, разбитый тщанием и иждивением генерал-губернатора князя Голицына. Деревья приживались плохо, требовалось регулярно подсаживать новые, отчего бульвар напоминал поле, утыканное хворостом. Впереди маячил пруд Патриар, последний из трех, когда-то украшавших Козье болото, однако незнакомцы не спешили туда, предпочитая гулять у кромки юного парка.
Говорили по-французски. Денди – приятным баритоном, урод – хрипловатым баском. Впрочем, первые же фразы легко выдавали очевидное обстоятельство: сей язык для обоих – чужой.
– Мы никак не можем разобраться со здешними монетами, – озабоченно вещал урод, тряся медяками. – Нам сказали, что в России ходят рубли и копейки. Однако сегодня мы узнали, что есть еще полтина, гривенник, алтын с пятиалтынным, семишник, целковый и вдобавок какая-то странная «дэнга». Мы даже не можем сказать, много тут – или не слишком.
Денди покосился на кучу мелочи и ничего не ответил.
– Мы не знаем также, стоит ли соглашаться на эту работу. Невелик труд в течение дня изображать в балагане чудовище, пойманное в горах Персии, но наши услуги могут понадобиться Эминенту. Сегодня утром он чувствовал себя не лучше, чем вчера. Если бы не его строгий приказ, мы ни за что бы не ушли в город…
Монеты вновь зазвенели. Чудовище из Персии спрятало их в кожаный мешочек, который, в свою очередь, был пристроен за кушаком. Все это проделывалось на ходу, с удивительной легкостью и сноровкой. Денди стер с лица улыбку, резко взмахнул тростью:
– Никаких балаганов, мсье Шассер! Деньгами займусь я. А вы не отходите от Эминента ни на шаг. Старикан, увы, совсем плох.
Вместо ответа урод громко засопел. Нахмурился, замедлил шаг.
Остановился.
– Мсье Бейтс! Прежде всего мы просим… Нет! Мы запрещаем говорить о добром Эминенте в таком тоне. Слышите?! Что бы он ни делал, вы обязаны отзываться о нем с почтением. Иначе… Иначе мы назовем вас грязной и неблагодарной свинособакой![64]
Сказано было так убедительно, что денди не рискнул спорить.
– Извините, мсье Шассер. Больше не буду.
– Кроме того, мсье Бейтс, мы просим обращаться к нам по-прежнему. Нам и так нелегко привыкнуть к вашим постоянным метаморфозам.
Неблагодарная свинособака и тут не стала возражать.
– Договорились, Ури! Мне и самому нелегко. Так и тянет вновь стать славным дядюшкой Бенджаменом. Сэр-р-р! Привычка, черт ее дери!..
Чарльз Бейтс мысленно ругнул себя, положив на дальнейшее внимательней следить за речью. Бесцеремонный дядя Бен и в самом деле не спешил его отпускать. Месяцы в чужом облике не прошли даром.
Но теперь этому пришел конец.
С лицом дядюшки Бейтс расстался перед въездом в Москву, когда увидел Эминента. Барон ничего не стал объяснять, но бывший актер сразу понял: все изменилось. Из монастыря вернулся не сверхчеловек, воскреситель мертвецов и провидец грядущего, когда-то выдернувший Чарльза из тесного гроба. Всесильный исчез, пропал под сводами храма, его же место занял кто-то иной.
Старикан…
В Москве разочарованному Бейтсу пришлось все делать самому: искать квартиру, гонять Ури за покупками и на почтамт, распоряжаться насчет завтраков и обедов. Эминент молчал, без спора соглашаясь с тем, что ему предлагали. Ничего не объясняя, уходил, молча возвращался, на прямые вопросы не отвечал ни «да», ни «нет». Дни текли без смысла и надежды. На какой-то миг Чарльз растерялся – многолетняя привычка жить чужим умом сковала ледяными цепями.
Затем он сцепил акульи зубы – и ринулся в бой.
Прежде всего следовало раздобыть денег. Обычно их выдавал Эминент, просто доставая из кармана. Ясного намека «старикан», увы, не понял, даже отвечать не стал. Бейтс втихомолку выругался – и направился в ближайший театр. На многое он не замахивался – иноземец, не знающий языка, годится разве что в уборщики или в рабочие сцены. В лучшем случае дадут поднос – выходить в водевилях немым лакеем. На последнее Бейтс и рассчитывал. Понимая, что встречают по одежке, он на последние сбережения справил модный фрак.
Нищего на службу не возьмут!
Ему повезло. В Малом театре рабочие не требовались, но кто-то из начальства оценил внешний вид гостя. Ему предложили постоять, пройтись, поклониться. Бейтс представил себе, что он – Джорж Браммель, усмехнулся, расправил плечи…
После того, как он практически без акцента повторил реплику: «K vam chelovek s dokladom!», его взяли на роли гостей «без речей» и слуг. Бейтс был счастлив, но везение только начиналось. В зал, где его пробовали, заглянул толстый коротышка – Михаил Семенович Щепкин. Великий актер легко говорил по-французски, и они смогли объясниться. Узнав, где и с кем приходилось играть новичку, Щепкин вытер платком лысину и предложил Бейтсу повторить длинную фразу, смысла которой Бейтс не уловил.
Фразу он воспроизвел, но от волнения не уследил – раздвинул губы, блеснув желтизной клыков.
– Uh ty! – восхитился Щепкин. – Kakov zlodey!
Все прочие с ним тут же согласились. Бейтс был отконвоирован в дирекцию и зачислен в труппу до весны – играть негодяев, подлецов-иностранцев и коварных соблазнителей. Ему велели учить русский язык – и не водить дружбу с загадочным, но явно опасным господином по имени Zeleniy Zmiy. Получив аванс и предписание с утра явиться на репетицию, Чарльз Бейтс совершенно успокоился.
В Москве они не пропадут.
Мир был восстановлен, и неразлучная парочка зашагала меж саженцев к Патриару. Берег старого пруда словно вымер. Еще одна странность осеннего вечера – Козье болото рано опустело. Никто не остался встретить закат у водной глади. Бродячие собаки, облюбовавшие эти места, тоже куда-то исчезли, испугавшись неведомого, подступающего с близкой темнотой.
Но ушли не все. Один человек остался, примостившись на деревянной лавочке, вкопанной у берега. Не заметить его было мудрено. Он сидел, втянув голову в плечи и сцепив руки на животе. Лицо окаменело, лишь бледные губы время от времени шевелились, не издавая ни звука.
Бейтс и Ури встали рядом. Великан сопел, уставясь себе под ноги, англичанин улыбался, любуясь отражением неяркого осеннего солнца.
Вода в пруду блестела, как ртуть.
– Зачем пришли?
Вопрос погасил улыбку актера.
– Мы пришли… мы… – Ури радостно встрепенулся. – Добрый вечер, Эминент. Мы были на почтамте. Вам письмо из Петербурга…
– От баронессы.
Сообразив, что это не вопрос, Ури раздумал уточнять.
Худая рука в серой перчатке взяла конверт, брезгливым движением сорвала печать. Текли минуты. Вечер катился дальше, навстречу неизбежной ночи; налетел ветер, бесцеремонно вцепился в края бумаги, исписанной мелким почерком. Лишь хриплое дыхание Ури нарушало тишину.
– Скверно.
В голосе Эминента не было ни горечи, ни сожаления.
– Фрау Вальдек-Эрмоли просит помощи. Моей помощи. Через неделю после нашего отъезда ей стало плохо. Петербургские врачи разводят руками. Она спрашивает, нет ли в России – или в Европе – нового Генриха Юнга. Увы, боюсь, теперь даже Молчаливый не в силах ей помочь.
Бейтс и Ури переглянулись.
– Девочка умирает. Надеюсь, она поймет это лишь перед самым порогом. Надежда уменьшит боль. Вы, кажется, не слишком ее любили, Чарльз?
Актер вздрогнул. «Любили» – яснее не скажешь.
– Я желаю смерти только врагам, мистер Эминент. И то, признаться, не всем. Баронесса – из нашей компании. Рискну предположить, что ей нужен не врач. Ей нужны вы.
– Да, ей нужен я. К сожалению… Я стал слишком невнимателен, друзья. Как вы провели день?
Бейтс уступил сцену нетерпеливому Ури. Тот стал подробно рассказывать о своих похождениях, закончившихся в балагане на Солянке, где наивному швейцарцу довелось представлять персидское чудище. Ури был этим очень горд. Для пущего эффекта он извлек из-за пояса мешочек с монетами – тряхнул, засмеялся. Сам же Бейтс сообщил лишь, что устроился на службу.
Эминент с равнодушием кивнул, чем несколько обидел Бейтса.
– Молодцы, – похвалил он. – Свой день, к сожалению, я провел не столь плодотворно. И не хотелось, но пришлось. Я был на похоронах князя Гагарина.
Стая ворон мелькнула над прудом, летя к церкви.
– Я уже видел все это – в Петербурге, на приеме. Гроб, ворон-священник – наперсный крест, седая борода… Русскому пастору казалось, что он – главный, что именно ему доверено проводить душу в последний полет. Старик ошибся – хороня христианина, хоронили масона. Братья разработали хитрый ритуал: непосвященный слеп, но знающий увидит сразу. Еще у церкви я заметил кобыл темной масти, впряженных в траурный экипаж. Ни одной светлой – и ни одной вороной. И барабанщик – нашли мальчонку, поставили в стороне… Белая черта вокруг алтаря – «малый Вавилон», незримая крепость. Белая перчатка, брошенная на гроб…
Эминент помолчал.
– Но и братья-масоны ошиблись. Точнее, опоздали. Духом покойного уже успели распорядиться. Когда я смотрел на гроб, темнота назвала мне имя: Хелена… Никогда не заключайте договоров со Смертью, мистер Бейтс! Это самообман. Она и так получит свое.
Актер хотел что-то сказать, но великан его опередил:
– Так вот почему вы отпустили нас гулять по городу! Мы не понимаем, мы растеряны, мы расстроены. Зачем вам было ходить на похороны страшного кадавра? Нет-нет, мы больше никогда не оставим вас одного! Страшный кадавр увидел вас, унюхал. Он может вернуться, выползти из-под земли, вновь напасть на вас. Это из-за него вы заболели. Он же чуть не переломал вам все кости! Зачем вам мертвецы, зачем вам смерть? Для чего вы говорите о Смерти как о живом существе?
Чарльз Бейтс, все эти годы считавший Ури большим ребенком, на сей раз был совершенно с ним согласен.
– Мистер Эминент, – подхватил он, – Ури абсолютно прав. А я, уж простите за дерзость, добавлю. Вы когда-то сказали нам, что наша цель – борьба за Будущее. Меньше крови, больше счастья – это ваши слова, сэр. Вам не кажется, что вы свернули куда-то не туда? Некромантия, черная магия… Для чего мы убиваем ученых? Чтобы миром правили китайские колдуны? Мне поздно спасать душу, но все-таки позвольте заметить: я вам больше не помощник. Обожду, пока вы поправитесь, заработаю денег, чтобы вам с Ури хватило на первое время, – и распрощаюсь. Если вы правы насчет баронессы… Считайте, что у вас стало двумя слугами меньше.
– Бунт на корабле, мистер Бейтс? Деньги на первое время – как трогательно, как мило! Не хочу вас разочаровывать, Чарльз… Даже сейчас мне не составит труда убить вас, не вставая с места. А наш малыш забросит труп в этот дивный пруд. Искать вас не будут. Кому нужен беглый английский висельник? Ури, ты готов?
Швейцарец засопел, развел ручищами:
– Мы даже не знаем, Эминент. Раньше нам казалось, что вы – самый-самый добрый из людей. Вы помогли нам, выходили, не дали сойти с ума. Спасли от страшных лекаришек, которые хотели разрезать нас на части. А вчера нам приснилось, что вы прячете в саквояже железную пилу. Мы не бросим вас, ни сейчас, ни потом, но мы никогда не станем убивать. И вы не станете. Мы позаботимся об этом!
– Даже так…
Эминент закрыл глаза. Он долго молчал, затем вновь посмотрел на вечернее небо. Ночь опускалась на Москву, стирая краски и размывая контуры.
– Наверное, мне следовало бы огорчиться. Друзья и верные слуги проверяются не в радости – в беде. Вы оба нужны мне, я не закончил ряд важных дел. Вам даже трудно представить, насколько важных. Ради этого, мистер Бейтс, можно стать некромантом. Но я успокою вашу совесть – вам не придется бросать меня. Я не болен, друзья…
И прежде чем Ури закричал, прежде чем Бейтс отступил на шаг, Адольф Франц Фридрих фон Книгге выдохнул резко и зло:
– Я умираю! Слышите?! Я – умираю!
3
– Ну наконец-то!
После вереницы гробов остров Грядущего показался Огюсту землей обетованной. Желто-зеленая клякса на поверхности океана; соленые языки волн лижут песок берега. Отчаянно мигают огни на вершинах пирамидок.
Кажется, у потомков стряслась какая-то суматоха.
– Где вы пропадали?!
Отвечать Шевалье не спешил. Бестелесно паря в горних высях, он изучал творившееся внизу. Жижа в Лабиринте бурлила и пузырилась, закручиваясь воронками, норовя выплеснуться наружу. «Несварение?» – Огюст в очередной раз углядел аналогию с кишечником. И тут же поправил сам себя:
«Научный диспут?»
– Я не пропадал. Я был занят.
– Столько времени? Мы боялись, что потеряли вас навсегда!
– А я, между прочим, и не обещал регулярных визитов.
– Но вы ведь проявляли интерес! – невидимый глаз-Переговорщик был обескуражен. В голосе его пробились нотки любовника-зануды, безуспешно допытывающегося, отчего предмет страсти потерял к бедняге интерес. – Спрашивали, шли на контакт…
– Ну, проявлял. Спрашивал. А вы все ходили вокруг да около! Футур-шок, видите ли!
– Футур-шок отменяется, – поспешил заверить глаз. – Работаем по ускоренной программе.
– С чего бы это вдруг?
– Темпоральный канал нестабилен. Вас может отрезать в любой момент. Поэтому я должен заручиться вашим согласием.
– Согласием? На что?
– На сотрудничество, разумеется! Если вы добровольно согласитесь сотрудничать с нами, канал стабилизируется. Нам нужно спешить…
«Это вам нужно спешить, граждане потомки! А нам торопиться некуда. Не терпится заполучить ценного вербовщика? Проболтался ваш лаборант, пока начальство к жене летало…»
– Как ваша супруга? Родила?
– Супруга? – Переговорщик не сразу понял, о чем речь. – Да, спасибо. У нас дочка. Вчера их навещал…
– Поздравляю!
– Благодарю… И давайте не будем отвлекаться. У нас мало времени.
– Мало? У меня этого времени целые сугробы!
«Надо сбить его с толку, – Огюст был в восторге от собственного коварства. – Заставить нервничать. И внезапно спросить о сути дела. Главное – не дать опомниться…»
– Вот эта ваша лаборатория, башенки… Из чего они изготовлены?
– Из алюминия. Сплав на его основе.
– Но ведь это безумно дорого! Алюминиум дороже золота!
– Какое это имеет значение? – глаз нервничал. – Сейчас алюминий – один из самых дешевых металлов.
– Значит, сделали из чего подешевле?
– Да что вы ерунду молотите! – возмутился глаз, забыв обо всем, чему его учили в школе Переговорщиков. – Это очень важный проект! Понадобилось бы – сделали бы из золота. Из платины! Из иридия, черт побери! Но для успешной работы коллект-матрицы необходим алюминий.
– Почему?
– Да зачем вам это?! Это же частности!
– Обожаю частности, – нагло перебил его Шевалье. – Итак?
– Ну ладно, – послышался тяжкий вздох. – Долгое время роль алюминия в организме человека была неясна…
– В организме?!
– А вы как думали?! – озлился глаз, но быстро взял себя в руки. – В человеческом теле содержится 30–50 миллиграммов алюминия. Это немного, но важность данного элемента трудно переоценить. Вот смотрите…
В воздухе перед Огюстом возник человек – прозрачный, как стекло. Внутри его послойно стали проявляться кости, мышцы, нервные волокна, внутренние органы… В крови, текущей по сосудам, в мозгу, в остальной плоти – всюду искрились серебристые блестки.
Должно быть, они изображали атомы алюминиума.
– Как видите, алюминий присутствует практически везде. Наибольшая его концентрация приходится на мозг, – длинный светящийся палец ткнул в серебристое облачко, которое роилось внутри черепа, – кости, печень и легкие. Там алюминий имеет свойство накапливаться с возрастом.
Серебристых блесток в указанных местах стало заметно больше.
– Алюминий участвует в образовании фосфатных и белковых комплексов, в энергообмене организма, в процессах регенерации тканей; влияет на функцию околощитовидных желез…
Оседлав любимого конька, глаз заговорил лекторским тоном.
– Избыток алюминия провоцирует перевозбуждение нервной системы и может привести к болезням Альцгеймера и Паркинсона: слабоумие, дрожание конечностей, психические расстройства… Недостаток же ведет к торможению нервной деятельности и замедлению реакций. Долгое время люди не знали, как с этим бороться, пока не научились управлять своим хромосомным биокомпьютером. Теперь избыток ионов алюминия мы используем во благо. Блиц-регенерация? Повышение физических возможностей? Пожалуйста!
Стеклянный голем начал меняться. Поток блесток устремился к спинным мышцам и позвоночнику. Там атомы алюминиума принялись усердно трудиться, вращаясь по сложнейшим орбитам. Кости и мышцы трансформировались: голем отращивал крылья! Шевалье вспомнился «демон», так испугавший его во время первого визита в Грядущее.
– Повышенная активность нервной системы, если направить ее… гм… в нужное русло, позволяет нам общаться на волновом уровне, создавать коллективные волновые супергены…
Блестки зароились в мозгу; вокруг головы возник нимб.
– Хорошо, хорошо! – не выдержал Шевалье. – Вы научились использовать алюминиум внутри организма. Но зачем строить из него целый лабиринт? Эти пирамиды… Не грызете же вы их, в самом деле?!
– Сами их грызите! – фыркнул Переговорщик. – Просто контакт с внешним алюминием… как бы это вам объяснить?.. Он помогает правильно настроить внутреннее управление. В ваше время это назвали бы сродством атомов. Тонкие поля металлической решетки алюминия входят в резонанс с колебаниями ионов алюминия в организме, и при помощи волновой модуляции…
Слово «сродство» было Огюсту знакомо. Остальное – не очень.
– …на основе групп Галуа.
– Галуа?!
– Да, Эвариста Галуа, вашего друга. Гипотеза Таниямы-Шимуры, попытки доказать, что целая молекула ДНК одного эллиптического уравнения может быть поставлена в соответствие целой молекуле ДНК одной модулярной формы… основы кодирования супергена…
Голос Переговорщика отдалялся, таял. Двойная спираль, сотканная из снежинок-шестеренок, свилась вокруг Шевалье. Заключила в хрустальный звон, закружила, понесла прочь.
– Кто вернуться к нам спешит, В нашу компанию, к Маржолен? Это бедный шевалье, Гей, гей, от самой реки…Остров исчезал. Небо надвигалось блестящей гранью кристалла Вселенной. В последний миг Огюсту почудился отчаянный крик, летящий из неимоверной дали:
– Вы только вернитесь! Обязательно вернитесь!..
Сцена третья Китайские церемонии
1
Кабинет Павла Ивановича ничем не походил на отцовский, за одним-единственным исключением – в нем тоже стояло «вольтеровское» кресло, похожее на трон. Сейчас его без спросу занял Константин Иванович, развалившись медведем и подкручивая усы. В остальном же кабинет был обычной берлогой философа из провинции. Полки с книгами большей частью пустовали, напоминая щербатые челюсти старика. Подоконник украшали горшки с бальзамином. Над камином стояли часы с Наполеоном – вместо треуголки император надел ночной колпак. На стене портрет Гагарина-отца соседствовал с гравюрой на меди, изображавшей цветы герани, и раскрашенной литографией «Московские сбитенщик и ходебщик».
Литографией сейчас любовался Андерс Эрстед, раздумывая, где достать такую же для музея в Эльсиноре. Уж очень сбитенщик походил на усатого Розенкранца, а ходебщик – на отощавшего в университете Гильденстерна. Можно и герань прихватить. Внизу сделаем подпись на стародатском: «От Гамлета – любезной моей Офелии…»
– Я поклялся, что привезу вас! – закончил рассказ Константин Иванович.
– Живым или мертвым? – уточнил Эрстед.
Предводитель дворянства густо, со вкусом расхохотался. Чувствовалось, что он ценит юмор собеседника, но из всех шуток предпочитает свои.
– Помилуй Бог, Андерс Христианович! Разумеется, живым и здоровым. Вы же не тамбовский волк? – или этот, не к ночи будь помянут, чупакабр… Слово чести, я и сам с радостью отправился бы на охоту. На монстру, понятное дело, не рассчитываю, но кабана, а то и лося взяли бы… Знаете, какой кабанище удружил прошлой осенью Хворостову? Пятнадцать пудов, не шутка. А рыло, рыло-то! клыки! – куда там чупакабру…
– А что? – внезапно сказал Эрстед. – И поеду!
Он представил себя стоящим над поверженным кабаном. Рыло, клыки, и датский полковник попирает чудище ногой. Кабан в воображении вдруг превратился в гигантскую собаку (рыло почему-то осталось на месте), покрытую вместо шерсти грубой щетиной. И заголовок в газете: «Варяг сразил монстру!» Его величество Фредерик прочтет, растрогается, снимет опалу, второй орден даст…
Не умею отдыхать, подумал Эрстед. Ну совершенно не умею.
– Завтра с утра и отправимся, – Константин Иванович брал, что называется, быка за рога. – В моей коляске. Доставлю вас к господам естествоиспытателям и дальше – в Тамбов. Обещался губернатору… Морока! – слыхали о высочайшем Манифесте? Всех дворянских детей, кто родился до получения отцом потомственного дворянства, перевели из «обер-офицерских детей» в почетных граждан. Их новенькие благородия… Носить шпагу, впрочем, не разрешили.
– Всех? – встрепенулся Павел Иванович. – Всех перевели?
До того он молча сидел на пружинной кушетке, разглядывая ногти.
– Законных детей, Павлуша. Законных. – Константин Иванович подмигнул со значением. – Да ты не волнуйся. Подрастут твои огольцы, отправим их в гимназию. Содержание я выделю, раз обещал. Девчонок же…
– Девочек я оставлю при театре, – твердо сказал, как отрезал, Павел Иванович.
Чувствовалось, что это давняя и больная тема.
– Хорошо, – младший брат не стал спорить. – Андерс Христианович, вы встаньте пораньше. Я с зарей отправлюсь…
– Одной коляски нам не хватит. – Эрстед испытывал неловкость, став свидетелем такой сцены. – Гере Торвен тоже собирался в город, на почтамт. Вместе с… э-э… вместе с фру Торвен.
Демонстрируя на «рогатках» паспорт гере помощника, валявшегося без чувств в кибитке, Эрстед получил ясное представление о матримониальных переменах в жизни своего бывшего лейтенанта. Вот так оставляй их в Париже… Он даже переговорил на эту тему с Пин-эр – если считать разговором вопросы датчанина и ответные записки китаянки. Особенно его вдохновила идея о том, что отношения мужа и жены подобны отношениям чая и чайника.
А может, Эрстед просто не так понял Пин-эр.
Последнюю неделю здоровье Торвена укрепилось, хотя он оставался довольно слаб. Зато упрямство возросло вдвое. Смотреть «Пустодомов» гере помощник отказался, предпочтя уединение, но Эрстед знал – стоит уехать туда, где есть благословенный почтамт, без Торвена, и жизнь превратится в ад.
– Я велю Прошке запрячь мою коляску, – вмешался Павел Иванович. – Он дождется господина Торвена…
Речь его сделалась бессвязной. Миг, и он вовсе замолчал. На лицо сползла идиотическая гримаса, памятная Эрстеду по недавнему припадку. Плечи Гагарина мелко подергивались, как у танцующей цыганки. В прошлый вторник к усадьбе подкатил целый табор – Павел Иванович выпил рюмку водки, поднесенную ему, расплатился крупной ассигнацией, пошел в пляс, неуклюже хлопая себя по бедрам. Бородачи в красных рубахах терзали гитары; вокруг барина вилась танцовщица – звон монист, трепет сдобной груди…
– La Bête du Gévaudan, – внезапно сообщил Павел Иванович по-французски. И продолжил на отменном английском: – For this was the land of the ever-memorable Beast, the Napoleon of wolves. What a career was his! He lived ten months at free quarters in Gévaudan and Vivarais; he ate women and children and shepherdesses celebrated for their beauty; he has been seen at broad noonday chasing a post-chaise and outrider along the king’s high-road, and chaise and outrider fleeing before him at the gallop. He was placarded like a political offender, and ten thousand francs were offered for his head…[65]
Это было ужасно. Он говорил отчетливо и членораздельно, при том что рот Павла Ивановича дергался невпопад словам.
– Чудовище, – несчастный, брызжа слюной, воздел руку к потолку, – принадлежало к разряду еще не виданных особей. Рыжая шерсть с черной полосой вдоль хребта, свиная голова с огромной пастью…
– Выйдите! – забыв о приличиях, велел датчанину Константин Иванович. – Мой брат болен. Это скоро пройдет.
Эрстед шагнул к кушетке.
– Это пройдет еще скорее, если я останусь.
– Выйдите!
Предводитель еле сдержался, чтобы не добавить сакраментальное, пахнущее дуэлью «…вон!».
– Врачей не стесняются. Я в силах помочь…
– Вы врач?
– Господин де Моранжье предлагал для уничтожения Зверя прислать в Жеводан армейский полк…
– В некотором смысле. Помолчите, вы меня отвлекаете…
Эрстед уже крепко держал Павла Ивановича за запястья. Без магнитов ему было трудно регулировать флюид. В свое время Франц Месмер отказался от магнитов, сведя лечение к силе магнетизера, но мало кто знал, что в опале, в конце жизни Месмер-старик вновь понял и принял значение намагниченного металла.
– Поднимите голову! Смотрите мне в глаза!
Как ни странно, Павел Иванович подчинился. Да что там! – Константин Иванович и тот привстал в кресле, вняв приказу. Увы, ему был виден лишь профиль датчанина. Предводитель собрался уж было встать, обойти стол и приблизиться к этому властному, очень убедительному человеку, чтобы встретиться с ним взглядом… В последний момент напряжение отпустило рассудок Константина Ивановича, и он сообразил, что слова Эрстеда предназначались его брату.
Шумно выдохнув, он откинулся на спинку кресла и не произнес больше ни слова.
– Вы здесь! Вы слышите меня? – вы здесь и сейчас, и больше нигде…
Впервые Андерс Сандэ Эрстед столкнулся с таким странным течением жизненного флюида. Казалось, из Павла Ивановича во все стороны тянутся тоненькие ниточки. Извиваясь, они шарили в пространстве – во времени? – делаясь похожими на щупальца медузы. Некоторые из них наливались жаром, не опасным, но, вне сомнений, чуждым общему флюиду носителя. Приливы и отливы жара совпадали с речью и молчанием Павла Ивановича.
– Все хорошо. Вы слушаете меня, и вас ничего не тревожит. Когда я хлопну в ладоши, вы уснете. Ваш сон будет крепок и непродолжителен. Пробудившись, вы будете полны сил. Я считаю до пяти. Один, два… три…
Маску идиота на долю секунды сменили памятные черты Гагарина-отца. Отец словно выглянул из-за угла, убедился, что ребенок в безопасности, что его вмешательства не требуется, – и ушел заниматься своими, более важными делами.
– …четыре…
Павел Иванович перестал дрожать.
– Пять!
– Не выпить ли нам коньяку? – спустя пару минут спросил Константин Иванович, отойдя от мирно посапывающего брата. – У Павлуши в бюро есть славный «Remi Martin». Это я ему привез в октябре… Если, конечно, он не прикончил последнюю бутылку. Но вы и дока, господин Эрстед! Я сам чуть не заснул…
2
Павел Иванович Гагарин родился крепким и здоровым.
Позже выяснилось, что он родился больным.
Младенческие годы Павлуши были ясны и безоблачны, как небо над летней рекой. Отец, шталмейстер двора великой княгини Елены Павловны, в первенце души не чаял. Мать кудахтала над чадом, как наседка. Мамки-няньки, дядьки-пестуны… Если и не хватало птичьего молока, то не беда. А может, и хватало. Говорят, кто отведает сказочный Ornithogalum,[66] тот узнает языки птиц, и зверей, и всех тварей земных…
Вот Павлушенька и узнал.
Трех лет от роду, забавляясь деревянной лошадкой, он вдруг повернулся к маменьке, зашедшей в детскую приласкать младенца, и внятно сообщил:
– La vie est courte, et le ciel c’est pour toujours, mon enfant![67]
Слаба здоровьем, маменька упала в обморок.
Врачи, приглашенные на консилиум, развели руками. Дитя румяно, кушает отменно; вон профессора анатомии Брагеля схватил за бороду – не отдерешь. Что? Излагает по-французски? Радоваться надо… Иному недорослю жениться пора, а он Париж от Пореченска не отличит. Прописали горячее молоко на ночь, забрали гонорар – и нет врачей, как не бывало.
Спустя неделю Павел свет Иванович на чистом испанском послал няньку в такое место, что бедную женщину едва отпоили подогретым хересом. Вот ведь закавыка! – по-испански нянька ни гу-гу, а все поняла, до тонкостей… Младенец же захихикал, повторил адрес по-русски, уставясь в пространство незамутненным взглядом идиота, и забился в корчах.
«Бесноватый!» – аукнулось меж прислуги.
Хотели призвать священника, но отец, Иван Алексеевич, строжайше запретил. Сказал, узнает про болтунов – языки вырвет. И заперся с малолетним сыном в кабинете. Что уж они там делали, какого беса экзорцировали, один Бог ведает. Только долго не выходили. Может, и до завтрашнего утра.
Бедная маменька Елизавета Ивановна не знала, что и подумать. К счастью, она к этому времени успела родить второго сыночка, Митеньку, и ходила тяжелая в третий раз, так что за наследниками дело бы не стало. Если Павлушенька…
Ох, прости Господи меня, дуру!
Спаси и сохрани!
Господь спас и сохранил. Правда, вышел князь Иван Алексеевич из кабинета – краше в гроб кладут. Белый до синевы, звонкий, как заиндевевшая ледышка. Щелкни, разлетится осколками! Сказался больным, неделю из дома ни ногой. Лежал на диванчике, читал Монтеня. Лакеи дивились: пил князь, как не в себя. Хмель же бежал пьяницы, все боялся взять в охапку…
А ребеночек?
А что ребеночек? Приступы одержимости стали реже и, даже начавшись, быстро завершались. Случалось, месяцами жил Павлуша как любое роженое дитятко; было и по полгодика. В военную службу его отец записывать не стал. Сыновей много, слава богу, есть кому повоевать за Отечество. Александр Иванович – вот кто небось до генерала дослужится. И Дмитрию Ивановичу быть в генеральском чине, носить эполет с двумя звездами, с «жирной» канителью. Ну и хватит, пусть остальные молодцы по цивильной части…
Образование Павел Иванович получил отменное. Службу начал в Коллегии иностранных дел – мундир зеленый, шитье серебром. Хорош собой молодой дипломат! Начальство благоволит, от невест отбоя нет. Лови момент, княжич! А он месяц, другой, и подал рапорт: желаю, мол, послужить России за океаном…
И уехал куда подале – в российское генеральное консульство в Филадельфии.
Причина отъезда осталась для всех загадкой. Чем не угодил столичным чинам? Что брякнул невпопад? Молва прочно связала Павла Ивановича, обуянного внезапным припадком словоохотливости, графа Каподистрию, статс-секретаря Коллегии, и Александра Пушкина, которого царь за вольнодумие хотел сослать на Соловецкие острова, но передумал и назначил переводить для Коллегии с французского свод молдавских законов. Правда или нет, но вскоре после отъезда Гагарина-младшего в Америку граф Каподистрия был отправлен царем на воды в Швейцарию «для поправления здоровья», а вернее сказать, в отставку.
Пушкин же в этот год написал «Узника».
– Сижу за решеткой в темнице сырой. Вскормленный в неволе орел молодой, Мой грустный товарищ, махая крылом, Кровавую пищу клюет под окном…Четыре года, проведенные Павлом Ивановичем в «Городе братской любви»,[68] покрыты мраком. Что делал, чем занимался – бог весть. Доподлинно известно одно: в год его приезда из Филадельфии был сразу же отозван в Петербург чрезвычайный посланник и полномочный министр, действительный тайный советник Петр Полетика. Болтают, что Полетика умолял начальство об этом, ибо Гагарин по прибытии имел с ним личный разговор – и перепугал действительного тайного советника до смерти.
Няньку отпаивали хересом. Посланника – ромом.
В 1826 году Полетика издаст в Лондоне на французском языке книгу «Очерк о состоянии Соединенных Штатов Америки», подписавшись псевдонимом «Русский». В России книга так и не выйдет, категорически запрещена цензурой. А Павла Ивановича сразу по выходу «Очерка…» вернут обратно на родину, допросят на предмет «Русского» – и мигом выведут в отставку.
Сплетники увяжут эти факты друг с другом, покрутят в руках на манер кукиша – да и выбросят за ненадобностью.
На этом карьера Павла Ивановича закончилась. На семейном совете, где главенствовал князь Иван Алексеевич, было решено взять старшего сына под негласную опеку и, не дожидаясь, пока его сошлют в Сибирь, сослать куда поближе – в тамбовские имения.
– Батюшка! – после совета не сдержался Константин Иванович, человек горячий и откровенный. – Вы ведь его лечили! Чего ж совсем не вылечили?
Князь непонятно ухмыльнулся:
– Смерти моей хочешь, сынок? Не торопись, успеешь…
В провинции был Павел Иванович тих и безгласен. Неприятностей особых не доставлял, жил мирно, с соседями ладил. Приступы донимали его нечасто. Гости, делаясь свидетелями припадка, не слишком изумлялись – мало ли чудаков на белом свете? Зато хлебосол, добрая душа… Внешнее сходство с родителем тоже никого не удивляло – сын и должен походить на отца, чего уж там. Удивляло другое: казалось, сын помимо черт лица норовил подхватить от столичного батюшки и все его привычки.
Биографию тщился повторить, что ли?
Увлекся театром, в усадьбе завел труппу из крепостных; наезжая в Тамбов, волочился за актрисами. Все хотел жениться на трагических героиньках, подражавших таланту Семеновой, – оттащили за уши, запретили. Первый раз в жизни Павел Иванович кричал, ножками топал: не удержите! Не сейчас, так в старости женюсь![69] Обидевшись, в имении жил во грехе с дворянской девицей Макаровой – Елизаветой Ивановной, полной тезкой покойной маменьки Павла Ивановича. Так и звал ее: «матушка моя» – не стесняясь окружающих.
Был плодовит, как старый князь, – Макарова рожала ему каждый год.
А брат Константин Иванович жил рядом – приглядывал…
3
– Куда же вы?
– Извините, Константин Иванович. Я обещал князю Волмонтовичу, что присоединюсь к нему в самом скором времени. Уверен, мы с вами еще вернемся к этому разговору.
– А сеанс? Вы проведете с Павлушей месмерический сеанс? Настоящий? Я читал, что нужен ушат с магнитной водой…
– Обязательно. Но позже.
– А коньяк? Здесь еще полбутылки…
– И коньяк – позже. Укройте брата пледом, ему полезно тепло…
– Когда он проснется?
– Уже скоро. Будет хорошо, если по пробуждении он сразу увидит вас. Присутствие родственников благотворно влияет на распределение флюида.
– Не забудьте – завтра с зарей!
– Да, я помню…
Константин Иванович вздохнул, берясь за бутылку. Украдкой вздохнул и Эрстед: став невольным свидетелем месмеризма, предводитель дворянства, как это бывает с впечатлительными людьми, сделался чрезвычайно словоохотлив. Его рассказ о брате был интересен Эрстеду. Полковник собирался сдержать слово и провести с Павлом Ивановичем полноценный сеанс нормализации флюида…
Но сейчас его действительно ждали внизу.
Двух князей – настоящего и фальшивого – Эрстед заприметил еще из окна кабинета. Со стороны Волмонтович и китаец, прогуливаясь по осеннему саду, вполне могли сойти за закадычных приятелей, что встретились после долгой разлуки и теперь поглощены увлекательной беседой. В увлекательности беседы Эрстед нисколько не сомневался. А потому спешил присоединиться – пока не начались пальба и рукоприкладство. Он не знал, чего опасается больше: хитрой восточной каверзы со стороны китайца – или того, что гоноровый шляхтич без обиняков свернет «Енгалычеву» шею.
Каким же фанатичным упрямством надо обладать, чтобы плыть за врагом из самого Китая, следить по всей Европе и настигнуть в российской глуши! Упорство азиата вызывало уважение – и тревогу.
В гостиной датчанина пытались зазвать за стол. Помещики с семьями как раз усаживались слегка закусить перед тем, как в столовой приняться за настоящий ужин. Сославшись на неотложное дело, Эрстед дал обещание вскоре присоединиться к компании – и ретировался. Бегом миновав переднюю, он запнулся в темных сенях, едва не упал и, чертыхнувшись, вылетел на крыльцо.
Беседка, увитая гирляндами плюща, живо напомнила ему визит к Лю Шэню. Молодой француз, читавший в беседке газету, лишь усиливал сходство. Холодный март в Пекине, Волмонтович декламирует стихи Андерсена…
История свивалась в кольцо, норовя ухватить себя за хвост.
Эрстед заторопился в обход дома. Под ногами чавкало. Сапоги сделались пудовыми – к подошвам липли комья грязи и палые листья. Дождь, моросивший с утра, утих, но прелести пейзажу это не прибавило. Голые яблони с немым укором тыкали ветками в серую дерюгу небес. Эй, там, наверху! Хоть снегом наготу прикрой, что ли? Две мраморные статуи – Амур и Венера – с недоумением взирали друг на друга.
«Мать, куда нас занесло?» – спрашивал Амур.
Венера отмалчивалась.
Китаец и Волмонтович фланировали меж деревьями едва ли не под ручку. Прямые, как жерди, внимательные до оскомины. Каждый поигрывал тростью – на свой оригинальный манер. Оба не спускали друг с друга глаз, но вцепиться в глотки не спешили. Эрстед перевел дух, подобрал суковатую палку, счистил с обуви грязь, чуть помедлил, чувствуя себя не в своей тарелке; забросил палку вглубь сада…
И уже без спешки двинулся дальше.
– Гутен таг, герр Алюмен.
Китаец учтиво приподнял шляпу. Говорил он на превосходном немецком, как и во время последней их встречи в Фучжоу. На миг Эрстеду почудилось: туго взведенная пружина вот-вот сорвется, и Волмонтович…
Нет, ничего не произошло.
– Огнестрельного оружия у него нет, – деловито сообщил поляк. – Возможно, кинжал или клинок в трости. Не подходите к нему ближе чем на три шага.
Эрстед кивком поблагодарил князя за заботу.
– Гутен таг, герр секретарь. Или – ваше сиятельство? Вы ведь нынче титулованная особа…
– Наедине зовите меня Чжоу Чжу.
– Вы проделали долгий путь, герр Чжоу. Но, боюсь, совершенно напрасно. Тайна серебра Тринадцатого дракона – больше не тайна. Вы опоздали.
– Я знаю.
– Тогда зачем весь этот маскарад? Не можете смириться с тем, что мы ускользнули от вас? Считаете это оскорблением? Желаете смыть кровью?
– В определенной степени да, – не стал отпираться китаец.
– Ваша настойчивость делает вам честь. Но назовите хоть одну причину, которая мешает мне сдать вас российским властям как китайского шпиона, незаконно присвоившего чужое имя и титул? Уверен, в Третьем отделении вас встретят с распростертыми объятиями.
Эрстед блефовал. Его самого в Третьем отделении мог ждать неприятный сюрприз.
– Не думаю, – китаец улыбнулся, словно прочтя его мысли, – что вам захочется связываться с местной полицейской бюрократией.
– Ничего, нам не привыкать. Опыт имеется. Думаете, датские бюрократы чем-то лучше российских?
– Есть и другой выход, – вмешался Волмонтович. – Долг платежом красен. Что скажет пан Чжоу насчет ватаги головорезов, которая совершенно случайно повстречает его на дороге? Точь-в-точь как в Фучжоу? Места дикие, разбойнички пошаливают… И никакой бюрократии!
Тонкие пальцы китайца нервно стиснули голову кобры. Амур с Венерой, делая вид, что происходящее им совершенно безразлично, с интересом прислушивались к беседе. Нечасто в усадьбе Гагарина случались подобные коллизии. По правде сказать, никогда не случались. Грех пропустить столь драматичное представление!
– Если я скажу, – трость Чжоу Чжу начертала в грязи замысловатый иероглиф, – что прибыл сюда вовсе не ради мести… Что я вообще не рассчитывал на встречу с вами… Вы мне, конечно, не поверите?
– Нет.
– И правильно сделаете. Я бы тоже не поверил. Увы, меня связывает обязательство, которое я не могу нарушить. Иначе я постарался бы взять вас обоих под контроль – либо покинуть Ключи немедленно. Но долг требует моего пребывания здесь. А мои силы имеют предел. Я вынужден предложить вам сделку.
– Продолжайте, герр Чжоу.
Волмонтович хмыкнул, не скрывая скепсиса, и поправил окуляры. «Если вы рассчитываете заговорить нам зубы и выкинуть какой-нибудь фортель, – читалось на лице князя, – то я вслед за Данте рекомендую: lasciate ogni speranza voi ch‘entrate…»[70]
– Я готов дать слово, господа, что отказываюсь от намерения поквитаться с вами. Закончив свои дела здесь, я немедленно уеду. Мы больше никогда не увидимся. По крайней мере в этой вашей жизни. Также я не стану покушаться на вас чужими руками.
Эрстед в задумчивости поскреб бритый подбородок.
– Допустим. Что потребуется от нас?
– Вы в свою очередь дадите слово чести не покушаться на мою жизнь, не выдавать меня властям – и не препятствовать мне в исполнении моего долга.
– Для этого мы должны знать, в чем заключается ваш долг.
– Разумно, – кивнул китаец. – Я не клялся хранить тайну. И готов удовлетворить ваше любопытство.
– Это не любопытство. Это элементарная осторожность.
– Как вам будет угодно. – Чжоу Чжу улыбнулся во второй раз: холодно и неприятно. – Мой долг – исполнить обещание, данное Ивану Алексеевичу Гагарину, отцу хозяина здешней усадьбы.
– Пся крев! – Волмонтович вздрогнул. – Вы и с ним знакомы?!
– Мы виделись один раз, перед смертью князя. Этого оказалось достаточно.
– Достаточно – для чего?
– Для того, чтобы князь доверил мне свою ци. Я – посланник. Княжеская ци со мной, в надежном резервуаре. Она ждет того момента, когда я перелью ее в избранного князем мальчика. Мальчик здесь, в Ключах.
– Они родственники? Я имею в виду, князь и мальчик?
– Это внук Ивана Алексеевича, внебрачный сын хозяина усадьбы. Не волнуйтесь, пересадка ци не повредит здоровью ребенка. Не считая кармической коррекции, он даже сохранит исходную личность. О да, герр Алюмен! Я действительно искал не вас. Когда б не заступничество вашего покровителя… Поверьте, я настиг бы вас еще во Франции.
– Моего покровителя? О ком вы говорите?!
Эрстед был сбит с толку. Он полагал, что Чжоу Чжу – агент Тайной канцелярии… И вдруг, как снег на голову – ци князя Гагарина, какие-то мальчики… Вспомнив историю Павла Ивановича, датчанин ощутил легкое возбуждение – так с ним случалось всегда, когда цепь размышлений складывалась в логичный итог. Неужели при помощи герра Чжоу мертвец хочет повторить то, что уже однажды сделал со своим сыном безо всяких посредников?
«А что он сделал?» – спросил Эрстед сам себя.
– Я говорю о человеке, который носит имя Эминента.
– Холера! – поляк угрожающе взмахнул тростью. – С ним вы тоже знакомы?!
– Что вы знаете о холере?! – голос китайца на миг сорвался.
– О холере? Все!
Волмонтович гордо подбоченился.
– Похоже, я недооценил вас, господа, – сказал Чжоу Чжу после долгого молчания. – Теперь мне ясно, почему герр Эминент не захотел указать мне ваше местопребывание. Более того, по-моему, он был в ярости. Расстались мы с ним далеко не лучшим образом.
Может, китайцу что-то и стало ясно, зато Эрстед вообще перестал что-либо понимать. Фон Книгге отказался выдать его заморскому мстителю? Пришел в ярость? Не Эминент ли совсем недавно приложил все усилия, чтобы отправить блудного ученика в мир иной?!
– Хорошо, герр Чжоу. Я согласен. Но при одном условии.
– Вы хорошо подумали, друг мой?
– Да, князь.
– Вы уверены, что он не ударит нам спину? При первом же удобном случае?
– Уверен.
– Извините, что прерываю ваш увлекательный диалог, – вмешался Чжоу Чжу. – Что за условие?
– Я хочу присутствовать при вашем опыте пересадки ци.
– Мы хотим присутствовать, – уточнил Волмонтович.
Он по-прежнему не доверял китайцу.
– Я так и думал, что это будет вам интересно. И как ученому, и как мастеру ци-гун. – На миг Чжоу Чжу задумался. – Но вы обещаете мне не мешать?
– Если не возникнет опасности для наших жизней.
– Не возникнет. По рукам, как говорят в России?
И Чжоу Чжу протянул Эрстеду узкую ладонь.
Какое-то движение в окне второго этажа привлекло внимание датчанина. Китаец и Волмонтович стояли спиной к дому; сейчас лишь Эрстед мог видеть окно гостевой комнаты, раздвинутые шторы – и напряженную фигуру Пин-эр. Дочь наставника Вэя, упершись лбом в стекло, глядела в сад. Чувствовалось, что она в любую секунду готова, не тратя времени на мороку со шпингалетом, выбить раму собственным телом – и кинуться на Чжоу Чжу.
В воздухе повисло рычание – еле слышное, скорее морок, чем звук.
Отвернувшись от окна, Эрстед медленно – так медленно, словно боялся наступить на гадюку, – шагнул вперед и скрепил уговор рукопожатием. Когда он вновь поднял взгляд, Пин-эр в окне уже не было.
Сцена четвертая Воскрешение отцов
1
– Нет-нет, майн герр! Климат и теплое море сами по себе никак не могут лечить. Они лишь способствуют правильному циркулированию жидкостей в организме, улучшают аппетит, но исцелить не способны. Если требуется бальнеологическое лечение, то надо найти подходящий курорт, подобный карлсбадскому. Вспомните исследования великого Давида Бехера о принципах воздействия целебных вод…
Эминент улыбнулся, не открывая глаз. Деликатный Ури пытается говорить вполголоса. Напрасно! Малыша слышно даже через закрытую дверь.
– Мы также обязаны упомянуть последние статьи француза Жанна де Карро о пользовании естественными банями на основе горячих источников. Особенно, на наш взгляд, перспективно грязелечение, как наиболее активный метод воздействия…
Собеседник швейцарца, московский врач, на свою беду, понимал по-немецки. С чем и попал в оборот.
– Поэтому мы рискнем возразить вам, майн герр! Поездка в Южную Италию не поможет герру Эминенту. Ему следует прописать нечто более действенное…
Доктора привел сам Ури. Всю ночь великан не спал, ворочался под старым армяком, утром мрачно бродил по квартире, затем взмахнул могучей ручищей, словно хотел прибить кого-то, – и убрел искать «лекаришку».
Кажется, результатом он остался не слишком доволен.
– Из малыша получился бы прекрасный врач, – тихо заметил Чарльз Бейтс. – Он понимает… Нет! – он чувствует, когда человеку больно. Откуда парень нахватался всей этой медицины? Неужели у своего Франкенштейна?
– Прощайте, майн герр, – донеслось из-за двери. – Главное, что переломов и мозговой горячки нет. Вы нас очень обнадежили. Да-да, все предписания будут выполнены. Мы лично проследим. Сейчас же идем в аптеку.
– Может, и впрямь съездим в Италию? – без особой уверенности предложил актер. – Жаль, денег мало. Я постараюсь что-нибудь придумать…
Эминент не стал спорить. Теплая Италия, холодная Москва…
Его хворь не вылечишь переменой климата.
Первый раз за много лет барон фон Книгге не знал, что делать. Вначале он растерялся, затем растерянность сменилась страхом и наконец – равнодушием. Ури напрасно волновался: у него не было переломов. Ушибы, полученные по время схватки у гроба, не слишком досаждали.
Но что-то все-таки сломалось.
– Я видел сон, – бросил он, по-прежнему не открывая глаз. – Мы гуляем с вами, Чарльз, у пруда, любуемся закатом. Всё как вчера, но на мне почему-то белый мундир – прусский, старого покроя. И орден, как полагается. Мы говорим о постановках Шекспира, вы, как обычно, возражаете… Вдруг я чувствую боль. Орден исчез, вместо него – сквозная рана. Кровь запеклась, плоть почернела, и я понимаю, что ухожу. Выливаюсь сквозь эту рану, как вода из дырявого кувшина. Смотрю вокруг – мы не в Москве, а в Ганновере, на старом кладбище…
Продолжать он не решился. Бейтс тоже молчал, кусая губы. О бродяге, лежащем на ганноверском погосте, актер не догадывался. «И слава богу!» – решил Эминент. Чарльз и так считает его некромантом. Что бы он сказал, узнав правду?
Рана на месте ордена… Эминент стиснул зубы, еле сдерживая стон. Не в этом ли ответ? Сила, годы питавшая его, выплеснулась, ушла в пустоту, водопадом рухнула в пропасть. Остались жалкие крохи – так шлют деньги бедному родственнику, мало заботясь его делами.
Проклятый мертвец!
Следовало не раскисать, впустую тратя драгоценные дни, а срочно ехать в Ганновер. Искать подходящее тело – здоровое, полное жизненной энергии. Найти, провести летаргирование; уложить в могилу. Или не искать. Бейтс и Ури – подходят оба. Чарльз, конечно, лучше. Умничать вздумал, актеришка? Характер показывать?
Сам тебя выкопал – сам и закопаю!
Эминент подивился собственной кровожадности – и внезапно понял, что это конец. Малышу Ури незачем стараться. Он, Адольф фон Книгге, уже никого не убьет. Странно, еще недавно он с завидной регулярностью навещал могилу в Ганновере. Очень нравилось читать надпись на собственном надгробии. Это ли не торжество над Костлявой?
Завидуй, Калиостро, в своем гнилом гробу!
Волна давней гордости отступила, ушла в песок, сменившись иным чувством – стыдом. Есть такой стыд, который горше смерти.
– Вы читали «Фауста»?
– Разумеется. Всякий образованный человек следит за публикациями такого титана, как Гете. Жаль, что нам с вами доступен лишь фрагмент.
Табличка из бронзы, привинченная к надгробной плите, букетик увядших левкоев. Плачущий юноша, не успевший на похороны своего кумира.
– Андерс Сандэ Эрстед, к вашим услугам. С кем имею честь?
– Живейшие и лучшие мечты В нас гибнут средь житейской суеты…– Андерс Сандэ Эрстед! В последний раз я называю тебя по имени. Отныне ты для меня – не ученик, не друг и даже не соперник. Ты – враг, которому я объявляю войну. У тебя нет больше прав, кроме одного – права умереть…
Думать об Эрстеде было мукой. Эминент вдруг представил, что слышит эту историю от кого-то другого… Нет, не он нынешний, возомнивший себя всемогущим, – Филон, молодой алюмбрад, не побоявшийся бросить вызов целой Европе. Тогда он еще умел ценить друзей. Что бы он сделал с самим собою, поднявшим руку на ученика?
Бессилие открыло дверь боли. Почерневшая плоть вокруг раны-невидимки сжалась, легла на сердце могильной плитой.
– Вам плохо, Эминент? Д-дверь, где этот Ури с его лекарствами? Эминент, не молчите, прошу вас! Чем я могу помочь?
Стало только хуже. Чарльз Бейтс, которого он в мыслях закопал на ганноверском кладбище, дежурит возле его постели. Не бросил, не сбежал. А ведь это ты, фон Книгге, моралист и учитель жизни, сделал парня убийцей!
– Знаете, чем больна баронесса, Чарльз?
Тот растерялся, но Эминент и не ждал ответа.
– Вы не любите ее, зовете вампиром. Она, конечно, не упырь из модных романов… Но тем, кто с нею близок, глупо завидовать. Когда-то я выручил ее. И теперь она умирает, потому что я больше не в силах подкармливать ее с ладони. Я знаю симптомы. Она не может общаться с людьми, каждый разговор – хуже казни; у нее идет горлом кровь. А я не волшебник, Чарльз. Да, я искренне старался помочь – вам, Ури, Бригиде. Человечеству. Как мог, как считал нужным. А теперь… Какой бы требовательной ни была моя любовь, она слабей времени. Мое же время подходит к концу.
Бейтс хотел что-то возразить, но передумал.
– Я как-то говорил вам, Чарльз: пусть нас судят по делам. Очень надеюсь, что сделанное – сделано не зря. А кровь… Я хотел обойтись каплей, чтобы остановить реку. Иногда даже в ущерб делу. Вспомните! – я пожалел Огюста Шевалье. Просто пожалел, хотя этот мальчишка – не из числа друзей.
– Пожалели? – Во взгляде Бейтса блеснуло изумление. – Вы ли это, патрон? Не пора ли вам на Сицилию? Любоваться морем, мечтать о мировой гармонии?
Эминент пропустил издевку мимо ушей. Да, актер перестал его бояться. Из «патрона» он, сильный, не знающий жалости, превратился для Бейтса в больного старика.
Пусть!
Стало легче. Нет, сегодняшнему Эминенту есть что сказать вчерашнему Филону, если призрак явится из Прошлого – требовать ответа. За Будущее надо бороться. Меньше крови, больше счастья… Но без крови не обойтись. Помнишь, Филон? Ты разгромил орден алюмбрадов, желая предотвратить всеевропейскую резню. Кое-кто погиб, но тысячи уцелели. Потом ты помог свергнуть Робеспьера, а ведь это тоже кровь, тоже смерть. Но косой нож гильотины, убив тирана, спас остальных. Люди выжили, увидели Грядущее.
Все это не зря!
Вспомнились мечты – давние, юношеские! – о Прекрасном Новом мире, который им, неравнодушным людям Века Просвещения, предстоит выстроить. О, они уже любовались его контурами, его смутным силуэтом! Прекрасные города, прекрасные люди, голубое небо, незаходящее солнце… А потом ему показали иное. Бурая жижа, затопившая мир, – и Лабиринт в ее сердцевине. Мудрый-мудрый, совершенный-совершенный. Люди – слизь, человечество – океан грязи. В первый раз, прозрев такое, Эминент просто не поверил. Чувства могли обмануть, видения – исказиться. Когда же он понял, что ошибки нет, то вспомнил далекий июньский день 1794 года…
Нет, граждане, усмехнулся барон. Не июньский. Отменили июнь вместе со Старым Режимом. 20 прериаля Второго года Республики. Париж, Национальный сад, бывший сад Тюильри. Террор в расцвете. Смелые погибли, трусы молчат, но и им не уцелеть. Зеленолицый Робеспьер, Первосвященник Смерти, сбросил маску. Его повелением Конвент отменил христианского Бога, даровав добрым французам новое божество, всемогущее L’Être Suprême – Верховное Существо.
Ярким пламенем пылает картонная статуя Безбожного Атеизма. Скипидарная вонь, почтительно-испуганный шепот. На Робеспьере голубой камзол и черные брюки, в руке дымится факел. Первосвященник лично проводит аутодафе. А над всем возвышается медный кумир Мудрости, изваянный гражданином Давидом. Торжествуй, Верховное Существо! Зрите, французы! Зрите, жители Земли: Новый Бог, повелитель террора, отец гильотины, ступил с Небес на послушную твердь.
Неузнанный и незаметный, фон Книгге стоял в толпе, наблюдавшей за камланием. Ему было весело. Наивный палач Робеспьер не замечает, что близок день 9 термидора – и эшафот для Первосвященника. Не править тебе миром, Верховное Существо!
Все-таки есть Бог, граждане!..
Впервые увидев Лабиринт, Эминент вновь почувствовал запах скипидара. Бурая слизь, маленький остров; пирамидки из серебристого металла сгрудились вокруг пенящегося ушата. Прекрасный Новый мир, почему ты таков?
– Книгге… фон Книгге…
Собственное имя донеслось издалека, из-за темного горизонта. Почудилось? Кто станет звать его? Кому это по силам?
– Адольф Франц Фридрих, барон фон Книгге…
2
Над головой полыхнула беззвучная синяя вспышка.
Шевалье невольно зажмурился. На сей раз его выбросило у подножия одной из пирамидок, окружавших Лабиринт. Имейся у Огюста тело, потомки сейчас любовались бы испуганным троглодитом. Но тела ему не выделили, и слава богу. По крайней мере не так стыдно.
Рядом булькнуло, и он поспешил вернуть себе зрение. Над бортиком торчал старый приятель: одинокий глаз на толстом стебле.
– Как хорошо, что вы вернулись! – глаз радостно моргнул. – В прошлый раз контакт прервался так неожиданно! Мы опасались…
– …что потеряли меня, – закончил за него Шевалье. – Какие-то однообразные у вас опасения, не находите? На моей персоне что, свет клином сошелся?
– В некотором роде. Не свет, но большой фрагмент вашего хроносектора. Мы очень заинтересованы в сотрудничестве. Жаль, если вас отрежет. Давайте перейдем к сути вопроса, а?
Будь глаз барышником, подумал Шевалье, много бы с такими увертками не наторговал. Отрежет? Меня? Молодому человеку представилось сверкающее лезвие Вселенской Гильотины, неотвратимо рушащееся из небесных высей. «А может, это и к лучшему? – вкрадчиво шевельнулась змея в сердце. – Меньше знаешь – крепче спишь! И не придется делать выбор, гадая: морочат тебя потомки или нет…»
Однако природная любознательность оказалась сильнее.
– Хорошо. Я готов вас выслушать. Только с одним условием.
– Каким?
– Мне надоело говорить с глазами на стебельках. С пустым местом, с фантомами! Явитесь мне в человеческом теле! Вы можете его вырастить?
– Могу… – глаз замялся.
– Ну?
– Инструкцией по темпоральным контактам это не рекомендуется. Возможно, мой вид вас шокирует. Мы ведь меняем тела… как это?.. как перчатки! И не привыкли долго поддерживать одну форму.
– Но у вас есть тело?! Лично ваше, единственное и неповторимое?
– Есть, – покаянно признал глаз.
– Вот и выращивайте! Сию минуту. Чем быстрее справитесь, тем скорее получите меня в свое распоряжение. А иначе разговора не будет!
Огюст сам не понимал, что на него вдруг нашло. Далось ему это тело! В конце концов, упрись глаз, Шевалье согласился бы выслушать его и так.
– Ладно-ладно! Обождите минуту, я сейчас…
«…оденусь», – мысленно закончил за него Шевалье.
Над алюминиевым бортом вспух склизкий полип, стремительно увеличиваясь в размерах. У Огюста создалось впечатление, что из глубин Лабиринта восстает гигантский фаллос.
«Ох, он доиграется! Сменю ему прозвище – то-то лаборант повеселится!..»
«Фаллос», словно подслушав чужие мысли, опомнился. Невидимый резец принялся высекать из слизистой колонны фигуру человека. Вот проступила голова, плечи, рельефные мышцы живота, мускулистые руки…
Человек перебрался через бортик и легко спрыгнул на песок. Слизь высыхала, превращаясь в гладкую кожу, слегка тронутую золотистым загаром. Огюст невольно вспомнил «фантомное тело» ангела-лаборанта. Если тот пропорциями напоминал Аполлона, то Переговорщик позаимствовал фигуру у молодого Геракла. Статен, широк в кости, но не столь массивен, как победитель Немейского льва.
«Да ему и тридцати нет!» – изумился Огюст.
Чресла Переговорщик целомудренно прикрыл набедренной повязкой. Шевалье подозревал, что это лишь видимость и глаз вырастил ее из «коллективной плоти» Лабиринта. Если они крылья с жабрами выращивают… Интересно, она снимается или приросла к телу?
Спросить он постеснялся.
А вот лицом сей Вергилий[71] ничем не походил на Геракла. На изображения настоящего Вергилия он, впрочем, походил еще меньше. Скорее уж – заносчивый испанский кабальеро, готовый вызвать на дуэль любого, кто косо на него посмотрит. Секунду поколебавшись, Переговорщик отрастил себе черную эспаньолку, отчего сходство с испанцем усилилось.
– Удовлетворены?
По лицу Переговорщика пронеслась зыбкая рябь – как по воде в ветреный день.
– В-вполне, – икнул Огюст.
Глаз прошелся туда-сюда по песку. Остановился напротив места, где завис в воздухе бестелесный Шевалье. Внимательно изучил пустое пространство перед собой. У Огюста создалось впечатление, что глаз видит его насквозь.
– Скажите, Огюст… Вы никогда не задумывались, что смерть – это несправедливо?
3
– …всех?!!
– Всех.
– Абсолютно?!
– Да.
– Но ведь это несметное количество!
– Очень даже сметное. Учитывая естественную погрешность, чуть больше ста миллиардов. Вполне реальное число.
– Вы издеваетесь надо мной?!
– Нет. Я предельно серьезен.
Раздавлен, расплющен, размазан тонким слоем по песку, Шевалье судорожно пытался собраться с мыслями. Да что там мысли – тут бы самого себя собрать! В сравнении с тем, что обрушил на его несчастную голову Переговорщик, меркли коллективная плоть Лабиринта, ледяные шестеренки Механизма Времени, полеты над обезлюдевшей Землей…
– Вы – боги?!
– Ну какие мы боги? – усмехнулся Переговорщик.
Он задумчиво подергал свою чудесную эспаньолку. Сквозь кожу проступила сетка вен – словно корни растения-паразита оплели руку. Миг, и рука вновь сделалась гладкой.
– Мы – люди. Мы – это вы. Просто возможностей у нас больше. Поверьте, мы бы не взялись за проект, который нам не по силам.
– Но я-то вам зачем понадобился?! Вы что, не можете воскресить меня без моего согласия?
– О, вы – особый случай! – встрепенулся Переговорщик. – Вы не просто один из предков, кого мы собираемся вернуть к жизни. Вы – нечто большее. Знаете, что такое телеграф?
Кажется, подлец-глаз решил отыграться за прошлый визит.
– Знаю, – буркнул Огюст, припомнив плавание на «Клоринде» и разговор с Эрстедом. – Устройство для быстрой передачи ин-фор-ма-ции по проводам на дальние расстояния.
– Отлично! Теперь представьте, что из прошлого в будущее тянутся сотни и тысячи «проводов» – темпоральных каналов. Вроде того, по которому проекция вашей матрицы попадает сюда. По этим «проводам», как вода по трубам, и будут поступать к нам волновые матрицы людей из прошлого. Собственно, уже поступают. Понятно?
– Вроде да…
– Замечательно! Так вот, вы и есть телеграфная станция – аппарат и оператор в одном лице. Ретранслятор. Вернее, станете им, если согласитесь.
– И что я буду делать?
В душе Огюста вновь проснулась подозрительность. На миг представилось: днями и ночами он носится по Парижу, хватая за рукав каждого встречного – и предлагая подписать договор с потомками на будущее воскресение.
Разумеется, кровью.
– Ничего! Абсолютно ничего. Живите, как раньше. Передача информации происходит автоматически, без всяких усилий с вашей стороны. В итоге мы дадим новую жизнь всем, с кем вы когда-либо виделись, разговаривали, сидели за одним столом; кого случайно коснулись, проходя по улице. Всем вашим родным, близким, друзьям – ну, и лично вам, разумеется. Подумайте об этом!
Шевалье честно задумался.
Ему представилась Земля, превращенная в огромное кладбище. Каменные заросли крестов и обелисков – до горизонта, сколько хватает глаз. Но вот могилы начинают разверзаться – выворачиваются пласты дерна, осыпаются рыхлые комья. Из гробов встают мертвецы в истлевших саванах, выстраиваются в колонны: тьмы и тьмы, бессчетные легионы. А с неба, из черных ромбов, на землю низвергается дождь – мириады душ спешат найти покинутые тела, вдохнув в них повторную жизнь…
…тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; и судим был каждый по делам своим. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное…
– …Вы собрались устроить Апокалипсис?!
– И вы туда же! Какой Апокалипсис?!
Переговорщик выглядел огорченным.
– Ну как же? Мертвецы восстанут во плоти…
– Ага, и сто сорок четыре тысячи праведников войдут в Царствие Небесное! Остальных – в геенну огненную. Знаем, читали. За кого вы нас держите?
– У вас в геенну отправятся все без исключения?
– Шутка, – догадался Переговорщик. – Смешно. Нет, правда, смешно!
– Рай на Земле – еще смешнее. Для всех, да?
– Если хотите – да! Пробуждение в волновом состоянии; разъяснение ситуации. Создание фантомных тел. Экскурсии, преодоление футур-шока…
Переговорщик вновь принялся мерить шагами песок. Семь шагов – вперед, семь – назад. Он доходил до невидимой стены и поворачивал обратно. Тело «потомка» расслаивалось, рождая призрачных двойников – они следовали за хозяином, а затем втягивались обратно. В какой-то момент цепочка двойников растянулась от одной «стены» до другой, и Переговорщик преодолел все семь шагов в мгновение ока, вобрав фантомов по дороге.
– …будут созданы полноценные биологические тела. С возможностью последующей модернизации. И, заметьте, никакого разверзания могил! Думаете, почему вы не видели людей во время обзорной экскурсии? Для кого выстроены все эти нанофабрики и энергокомплексы?
– Почему? Для кого?
– Мы освобождаем Землю для вас, наших предков! А сами уходим к звездам, осваивать новые миры. Вот обеспечим вас телами, энергией, пищей, одеждой – а там сами решайте, какой образ жизни выбрать. Вернуться к прежним занятиям, работать, учиться; остаться на Земле – или последовать за нами! Нам не хватает людей для освоения космоса. И мы будем рады, если часть предков…
Шевалье вздрогнул. Значит, сами решайте? Кого-то соблазнят посулами лучшей жизни вдали от Земли, переполненной воскресенцами, кто-то купится на романтику странствий. Остальных, если заартачатся, и не спросят! Вперед, под конвоем! – звеня кандалами, осваивать для потомков новые миры…
И Земля – пересыльная тюрьма.
«Не слишком ли мелко для Грядущего? Столь грандиозный замысел – Воскрешение Отцов! – и столь убогая цель: обеспечить себя дармовой рабочей силой? Что, если они и впрямь бескорыстны? Хотят вернуть сыновний долг? Что, если никакого подвоха нет, и это и есть Прекрасный Новый Мир, о котором мы мечтали?»
Ловушка? Утопия?
– …ответьте!
– Вы поставили меня перед трудным выбором. Я не знаю, верить вам или нет. Принимая решение, я должен представлять себе его последствия. Что будет, если я откажусь?
Переговорщик со вздохом опустился на песок. Сел, скрестив ноги, понурил голову. На него было жалко смотреть.
– Ничего не будет. Связывающий нас темпорал закроется. Мы больше не увидимся. Разве что вас удастся воскресить с помощью другого ретранслятора… Навредить вам за ваш отказ мы тоже не сможем – и не захотим. Зачем? Каждый выбирает для себя.
– А ваш проект?
– Как-то справимся. – Переговорщик уныло махнул рукой. – Вы не единственный ретранслятор в вашем секторе. Не скрою, у вас очень высокий потенциал. Один такой объект… О, простите! Короче, вы – большая удача. Обязан предупредить, что с вашим предшественником у нас тоже не сложилось. Отказался, знаете ли, наотрез.
– Предшественник?
– Да. Потенциал гораздо выше вашего; сам вышел на контакт… Увы, оказался упрям, как осел, – на сей раз Переговорщик забыл извиниться. – Старая песня про Апокалипсис. Вот почему мы так осторожничали с вами.
– Кто он, если не секрет? Я с ним знаком?
– Исключено. Он умер до вашего рождения. Адольф фон Книгге, барон.
– Эминент? То есть как это умер? И как это мы не знакомы? Очень даже знакомы! Живехонек ваш телеграфист! Даже излишне, как по мне…
– Не может быть, – строго заявил Переговорщик. Однако в глазах его мелькнула искорка интереса, гоня уныние. – Вы ошиблись. Адольф Франц Фридрих фон Книгге умер в 1796 году. Полагаю, кто-то мистифировал вас, выдавая себя за покойника.
– Тогда полковник Эрстед тоже ошибается. А уж он-то отлично знает фон Книгге! Говорю вам: барон жив! И весьма деятелен. Кстати, это он инициировал у меня способность к путешествиям во времени. Не знаю уж, благодарить его или проклинать.
– Активация вторичного ретранслятора? Да, он способен… Вы точно уверены, что это фон Книгге?!
Переговорщик снова оказался на ногах. Таким возбужденным он не был даже во время рассказа о проекте.
– Абсолютно. Совсем недавно мы оба находились в России. Правда, не встретились, о чем я ничуть не жалею.
– Если фон Книгге жив… если вы с ним увидитесь…
– Надеюсь, что нет.
– …передайте ему! Обязательно передайте, прошу вас! Он все неправильно понял! Какой, в черную дыру, Апокалипсис! Апокалипсис – наихудший исход истории Человечества. Вдумайтесь: сто сорок четыре тысячи праведников попадают в рай, а остальные мучатся в аду. Это же кошмар! Это означает, что на вечные муки обречены ВСЕ!
– Почему все? – оторопел Шевалье.
– А разве настоящий праведник может спокойно нежиться в раю, зная, что его друзья, родные, соседи, наконец, – в Преисподней? Возможна ли праведность без сострадания? Без любви к ближнему?! Я, извините, не ориентирован религиозно, но с этим тезисом полностью согласен. Праведники, скорбя о близких, будут в раю терзаться во сто крат горше, нежели грешники в геенне! И так пребудет во веки веков…
– Кошмар… – только и смог выдавить потрясенный Огюст.
– Это не моя идея. Так писал Николай Федоров, заложивший основы нашего проекта. Он был уверен, что печального итога можно избежать. Для этого надо не ждать Страшного Суда, но самим воскресить своих Отцов! Да, так и писал: Отцов. Матерей он не рассматривал. Что поделать: дикие нравы, издержки воспитания… Простите, я отвлекся. Федоров предлагал собрать атомы, из которых состояли тела живших ранее, и сложить их заново. Но сбор атомов – занятие архитрудоемкое, а главное, бессмысленное. Тела – не проблема. Главное, извлечь из прошлого волновые матрицы людей.
– И женщин тоже?
– Всех! Структуру личности, память, генокод. Если угодно – душу. Этим мы и занимаемся…
Они не боги, понял Шевалье с болезненной остротой. Не ангелы. И не демоны. Они не всеведущи. Эминент легко обманул их своей ложной смертью. Они не всемогущи. Переговорщик умоляет его, Огюста Шевалье, «троглодита» из глубины веков, о помощи. Всеблаги ли они? Вряд ли. Даже если намерения у потомков самые благородные… Революции часто заканчиваются гильотиной и расстрелами. Насколько потомки мудрее нас?
Все ли они учли?
Ему чисто по-человечески был симпатичен Переговорщик, бросивший работу, чтобы слетать к рожающей жене. Веселый ангел-лаборант, спасший Огюсту жизнь – и не унывающий, даже получив нагоняй от начальства. Пожалуй, он бы хотел видеть их среди своих друзей. И если фон Книгге, лжец и убийца Галуа, отказался от сотрудничества…
– …умоляю! Если вы встретите фон Книгге – раскройте ему глаза! Он умный человек, он поймет. Темпорал может открыться вновь. Мы не держим на него зла, мы открыты к контактам…
– Если фон Книгге меня встретит, – вздохнул Огюст, – он, скорее всего, постарается меня прикончить. Тем не менее, если случай сведет нас, я передам ему ваши слова.
– Ну а вы, вы сами?! Что вы решили?
– Не знаю. Мне стыдно признаться, но я боюсь. Боюсь сделать ошибку!
– У нас нет времени!
Рукопись Галуа, вспомнил Огюст. Je n’ai pas le temps. У меня нет времени…
– Поймите меня правильно.
– Канал истончается…
– Мне нужно подумать.
– Я буду ждать вашего ответа!.. Мы будем ждать!..
4
– …Адольф Франц Фридрих, барон фон Книгге…
Имя, произнесенное там, где нет ни времени, ни пространства, ни материи; где безраздельно царствует один лишь Эфир. Имя, повторенное дважды и трижды. Твое имя! Даже будучи при смерти, Посвященный слышит зов.
И решает, что делать дальше.
Эминент не колебался ни секунды. Пусть телом он угасает в четырех стенах, не в силах выйти на улицу. Пусть! Дух его по-прежнему свободен. Ухватившись за имя, долетевшее из вышних сфер, как за нить Ариадны, фон Книгге устремился прочь – из бренной плоти, из ноябрьской Москвы. Тонкий мир сомкнулся вокруг, закружил, увлекая в глубины безвременья. Наверное, стоило бы превратить унизительное кувыркание в плавное скольжение, внеся толику Порядка в окружавший Хаос.
Но он экономил силы.
Покинутое тело расслабилось, лежа на кровати, задышало ровнее. Разгладились черты лица. А там, в невидимой дали, нить-имя натянулась, дрожа от напряжения. Барон ощутил себя отчаянно бьющейся форелью, которую подтягивает к берегу умелый рыбак. Накатила злость, и фон Книгге усмехнулся, помолодев душой.
Это мы еще посмотрим, кто тут рыба!
В зыбком хаосе проступила двойная спираль – снежный вихрь бушевал впереди. Путеводная нить вела в крутящуюся мглу, но эфирное течение сносило Эминента в сторону. Значит, придется поднапрячься.
– …Огюст? Огюст Шевалье?!
Окрик застал Огюста врасплох. Скользя во вселенском «штопоре», он завертел головой, высматривая источник зова. В той стороне, где бурлило Настоящее, темный силуэт раздвигал витки спирали Механизма Времени.
«Тысяча чертей! Да я здесь не один…»
Натужно заскрежетали шестерни. Вращение замедлилось. Мигом позже, в облаке искрящейся ледяной пыли, взору Шевалье явилась птица-тройка – крылатая упряжка. Три черных лебедя, клекоча по-орлиному, несли золоченую гондолу с загнутым носом. Коренник зло косил на Огюста налитым кровью глазом. А в гондоле, крепко сжимая вожжи, стоял…
– Эминент?!
– Я тот, кого вы звали.
– Я? Звал?!
Огюста понесло на тройку, нервно хлопающую крыльями. Молодой человек задергался, пытаясь избежать столкновения. Его мотнуло из стороны в сторону, шваркнуло о вращающуюся «стену». Зубцы снежинок обожгли спину резкой болью. Шевалье заорал, и гондола пронеслась мимо, обдав его ветром – неожиданно теплым, с запахом курятника.
Огюст закашлялся, выплевывая черный пух, набившийся в рот. Кувыркаясь в спирали, он видел: Эминент разворачивает упряжку.
– Да стойте же, Шевалье!
В ответ молодой человек бешено заработал руками и ногами, как пловец, сражающийся с бурным течением реки. Прочь, скорее прочь! «У меня нет тела! – пришла на ум спасительная мысль. – Это все лишь видимость! Он ничего не может мне сделать. Или может?!»
Узнать ответ на практике Огюст не стремился.
– Остановитесь! Нам надо поговорить…
«Ага, как же! Что-то многим я понадобился для задушевной беседы!»
Взмахи аспидных крыльев приближались. Хлопанье оглушало; длинные шеи змеями тянулись к Огюсту. Из разинутых клювов изверглось горячее, смрадное шипение. В ушах рос хрустальный звон, от него пухла голова. В мозгу сработала тайная заслонка – предохранительный клапан в паровом котле, – и наружу, зерном из прохудившегося мешка, посыпались…
Говорят, перед смертью человек успевает вспомнить всю свою жизнь. Один раз Огюст уже умирал, но тогда все было иначе. Сейчас же он просто фонтанировал картинами-воспоминаниями. Клубясь вокруг, они создавали подобие реальности. Кладбище Монпарнас, толпа у гроба Галуа. «Во имя будущего!.. Трудовой Пари-и-иж!..» Мраморный ангел. «Вам налево, сэр!..» Свет наверху темной лестницы. Неторопливо спускается кто-то – человек, который сейчас догоняет его в буране.
«Нашего врага зовут Эрстед. Андерс Сандэ Эрстед…»
Кабачок «Крит». Альфред Галуа склонился над листом картона. «Сколько стоит ваш рисунок?..» Огонь чужого тела. Бриджит светится падающей звездой. Сабельный клинок входит в живот. Качается под ногами палуба «Клоринды». «За борт бесов!» Рвется туманный кокон.
В глаза бьет солнце.
Ницца. Дым вонючих «папелито», шелест карт. «Мсье Эрстед, я ничего не смыслю в юриспруденции!» Тряский дилижанс. Булыжник мостовых. Кружат в небе голуби.
«Эминент в Петербурге!»
Экипаж скачет на ухабах, лязгают зубы. Стонет Торвен. «Добро пожаловать в Ключи, господа!» Приезд брата хозяина усадьбы. С ним – по европейской моде одетый азиат. Взгляд узких, внимательных глаз задерживается на Шевалье.
«Вы его знаете, мсье Эрстед?» – «Держите с ним ухо востро, Огюст…»
– Стойте! Это генерал Чжоу! Это – смерть…
Буран взвихрился, отсекая Шевалье от дьявольской гондолы, укутал белым саваном. И отступил, оставив в центре пустого пространства. По обмороженному лицу текли слезы. В пяти шагах плясала белая мгла.
«Я в оке снежного тайфуна. Что-то разладилось в Механизме Времени?»
Сквозь вьюгу проступило темное пятно. В ледяной круг шагнул фон Книгге, брезгливо отряхивая снег с сюртука. Все, добегались. Огюст машинально взялся за пояс. Наваха отсутствовала.
– Оружие вам не понадобится. Я не собираюсь на вас нападать.
– Как вы не собирались нападать на Галуа? На Андерса Эрстеда? Зачем вы убили Эвариста?! Зачем лгали мне?!
– У меня нет времени на объяснения.
Знакомые слова: «У меня нет времени…»
– Человек, которого вы мне показали…
– Я показал?!
– Не перебивайте!
Крик хлестнул наотмашь, словно плеть. Огюст попятился.
– Извините, Шевалье. Тот человек, китаец… Он сейчас рядом с вами?
Эминент замолчал, как если бы каждое слово давалось ему ценой огромного усилия, и уточнил:
– Рядом с Эрстедом?
Взгляд фон Книгге был взглядом бесконечно усталого, больного старика.
Сцена пятая Истребить и оформить чучелом
1
– Просим, ваше превосходительство! Просим!
Эрстед обернулся. Торвен и Пин-эр уже скрылись за углом, утренняя улица пуста, только он – и двое в длинных форменных шинелях.
– Все уже собрались, вас одного и ждем…
Блестящие пуговицы, ухоженные усы. У того, который слева, – кончиками вверх, у того, что справа, – вниз.
– Господин городничий лично звали-с…
В глазах – служебный долг. Кипит и плавится, вот-вот наружу брызнет.
– Вы уж поспешите, ваше превосходительство…
Эрстед помотал головой, вышибая из ушей невидимые пробки. Детская привычка, помогает лучше соображать. Во время университетских экзаменов весьма способствовало.
– Господа ученые приехали! Все начальство! Из уезда многие. Так что монстру будем ловить. А без вас, ваше превосходительство, никак.
– Не ловится?
– Без вас? Не может такого быть!
«Вот я и превосходительство, – тайком улыбнулся Эрстед. – Спасибо тамбовскому волку!»
Письмо, украшенное печатью бурого сургуча, Константин Иванович, чертыхнувшись и сославшись на дырявую память, отдал ему в коляске. Сургуч оказался крепок, а канцелярит, на котором составили послание, – заборист, как крепчайший «ерофеич» на двунадесяти травках. Одно и ясно – ловить надо, ибо монстра всех поедом ест.
Скоро, пророчат, доберется до властей.
Колонны в здании, выстроенном в характерном для провинции стиле classicisme pour les pauvres,[72] оказались деревянные, грубо выкрашенные белилами. Будучи по натуре естествоиспытателем, Эрстед не утерпел, ткнул пальцем.
Похоже, дуб. Quercus robur ординарный.
Колонн было много – и у входа, и в широком вестибюле, и внутри, по периметру овальной залы. В такой обычно устраивают танцы. Но сейчас залу сплошь уставили креслами и стульями (первые в центре, вторые – по бокам). Длинный стол под красной скатертью, графин с водою, серебряный колокольчик; над всем этим – потрет императора Николая в полный рост.
Конногвардейский мундир, суровый взгляд. Яркие губы вот-вот дрогнут, изрекая:
– Эрстед? Опять ты?!
К счастью, портрет молчал. А вот зала при виде гостя разразилась рукоплесканиями. Смущенного полковника потащили за стол, где уже восседали чиновные господа в мундирах и при орденах. Эрстед с трудом отбился, устроившись в одном из кресел. Соседнее тут же заняла пышная дама средних лет. Говорила она нараспев, низким грудным контральто:
– Mein Name ist Amalia-a von Klyugenau-u![73]
Амалия оказалась свояченицей городничего и в придачу – вдовой. Последнее было сообщено с особенным выражением:
– A-a-ach, ich bin eine Witwe!..
Чувственная вдова оказалась здесь не случайно. Именно ей выпала честь служить переводчицей für liebe Gäste.[74] Фрау Амалия уточнила, что этой чести она добилась не без борьбы, после чего томно вздохнула. Эрстед не на шутку испугался. Сказать, что он не нуждается в переводе? Нет, оскорбленная вдова может оказаться страшнее монстры…
Пока он размышлял, заседание началось.
Вздохи фрау Амалии не слишком способствовали пониманию ситуации. Впрочем, Эрстед и без вдовы сообразил, что очутился не на научном форуме, а скорее на совещании «лучших людей» города. Самые лучшие – толстяк-городничий и уездный предводитель дворянства, рыжий детина при Владимирском кресте, – оказались за столом, все прочие расселись где попало. Наука тоже присутствовала – ее олицетворял худой живчик в мундире и при монокле, представленный как ассистент досточтимого адъюнкт-профессора Оссолинского.
Сам профессор избрал резиденцией Тамбов, где обустраивал штаб экспедиции Академии наук.
Некоторое время Эрстед не мог решить, как ко всему этому относиться. В существование загадочной «монстры» верилось не слишком. В просвещенном XIX веке зоологические открытия если и возможны, то отнюдь не в европейской части России. Центральная Африка, джунгли Амазонии; в крайнем случае Тибет или Камчатка.
Но, извините, Тамбов?!
В уютной обжитой Европе «монстры» тоже попадались – на страницах газет, особенно тех, где имелись проблемы с тиражами. Среди зоологов существовал негласный уговор: на подобные глупости времени не тратить. Зачем отбивать хлеб у бульварных писак? Однако в Тамбове каша заваривалась серьезная. Городничий едва успевал наводить порядок – от желающих выступить не было отбоя. Видели! Видели ее, монстру, лично проклятую наблюдали, слышали-с!
Своими глазами, своими ушами!
– Er selbst hatte kaum den escaped von Monste-е-еrn. Was für ein Alptrau-u-um![75]
Спасский уезд, Лебедянский, Елатомский, Шацкий, снова Лебедянский. А в Моршанском-то, в Моршанском – хоть в лес не ходи! Всех жрет, прямо-таки с костями глотает.
Эрстед не знал, что и думать. Еще в Ключах он предположил, что речь идет о необычной миграции волков – явлении не частом, но вполне объяснимом. Серые гости, переселяясь, поста не держат, отсюда и редкая для осеннего времени агрессия. А у страха глаза велики – и уши на затылке.
Волнуясь грудью, дышала Амалия фон Клюгенау. Ораторы воздевали кулаки к давно не беленному потолку. Хмурил густые брови толстяк-городничий. Доколе? Доколе, монстра, ты будешь испытывать наше терпение?!
Но вот слово взяла Наука. Господин ассистент, фамилию которого фрау Амалия ненавязчиво опустила при переводе, успокоил собрание. Паниковать нет оснований. Наука и ея верный форпост – Императорская Академия – бдят. Чудище разъяснено, зафиксировано и описано. Осталось одно: изловить и отправить в Кунсткамеру. Пленить in situ;[76] если же не выйдет – истребить и оформить чучелом.
Решительность ассистента пришлась по душе всем собравшимся, включая Эрстеда. Его лишь удивил бурный оптимизм. Вести приходят со всей губернии, значит, «монстра» не одна. Ловить – не переловить! Словно угадав его сомнения, ассистент поспешил объясниться. Большинство сообщений, в том числе из многострадального Моршанска, он отнес к встречам с обычными волками, опасными по случаю массовой миграции. Отсюда – слухи и неизбежная паника.
«Ага!» – возгордился Эрстед.
– Но! – ассистент воздел палец вверх.
– A-a-aber! – жарко дохнула фрау Амалия.
Но именно в Елатомском уезде слухи нашли подтверждение – полное и несомненное. Более того, стая неведомых науке существ выслежена и обложена в лесу неподалеку от имения генерала Хворостова.
Извольте видеть!
Двое мрачных и сосредоточенных лакеев развернули холст. На нем смелыми мазками, в две краски – черную и оранжевую – был изображен тамбовский волк. Эрстед невольно вздрогнул. Виной тому был не талант рисовальщика и не «O-оh, ich habe A-а-а-а-ngst!»[77] переводчицы, чуть не упавшей в обморок. Если до этой минуты происходящее казалось ему розыгрышем, грандиозным недоразумением…
Первый же взгляд на холст обжег память хлыстом.
Эльсинор!
…Тень обрела фактуру. Морда узкая, уши острые, как у эльфа. Гребень вдоль спины, широченная грудь, хвост-веревка с львиной кисточкой. По бокам – темные пятна; по хребту – черная полоса…
Рисовальщик был точен – и пятна на месте, и черная полоса. И уши похожи, разве что чуток пошире. Монстра чертовски напоминала Жеводанского Зверя, каким его изображали со слов очевидцев. Внезапно Эрстед сообразил, что шум в зале стих и он уже не сидит, а стоит с поднятой, как у школьника, рукой. Десятки глаз выжидательно смотрят, и отступать поздно.
– Meine Herren! – решительно начал он. – Господа!..
Ехать на облаву решили немедленно, все вместе, включая фрау Амалию. Как объяснил городничий, у генерала Хворостова дело на мази. Егеря взяли след, оружия же в имении хватит каждому: старик славился охотничьим арсеналом. Следовало спешить – хитрая монстра ждать не станет.
Кто-то уже командовал подать коляски к крыльцу. Охотники весело переговаривались, с завистью поглядывая на датского полковника, с «монстрой» уже сражавшегося и оную победившего. Эрстед улыбался, едва успевал отвечать на поклоны…
…что-то было не так.
Уже в коляске, под «Н-но, мертвые-е-е!», он наконец понял – что именно. С ассистентом профессора Оссолинского удалось познакомиться лично и даже кратко переговорить. Тот представился фон Ранцевым, уроженцем Вюртемберга. По его словам, он в начале 20-х годов был приглашен в Петербург на штатную должность при Кунсткамере, принял российское подданство и начал всерьез задумываться о переходе в православие.
В теологических вопросах Эрстед был не силен, но Германию объездил вдоль и поперек. Швабский диалект, на котором говорят в Вюртемберге, ни с чем не спутаешь. А фон Ранцев произносил немецкие слова иначе, на смеси Lausitzer и берлинского. Полковник был готов поручиться, что для герра ассистента язык великого Гёте – не родной. Lausitzer – средненемецкий диалект. На нем говорят в Позене, бывшей польской Познани…
Познань? Так он же поляк!
2
– Значит, договорились, фрекен. Я зайду на почту, а вы погуляете по улице. В переулки не сворачивайте, с прохожими не загова… В смысле, не общайтесь. Я быстро!
Наставление звучало в меру сурово. Мужчина несет ответственность, таков его долг. Оставалось одно – поклониться в ответ, пряча улыбку в уголках рта. И только когда Торбен Йене Торвен, кивнув, отвернулся и шагнул на крыльцо почтамта, Пин-эр позволила себе выпустить улыбку на волю. Все в порядке, мой яшмовый супруг. Не волнуйся.
Злая Верная Собака стережет твою спину!
Разницу между «фрекен» и «фру» она уловила сразу – и теперь не без удовольствия отмечала их чередование в мудрых супружних устах. С утра – дважды подряд «фру». Потом «фрекен» – когда садились в коляску. Как подъехали к городу – снова «фру». Сейчас – «фрекен».
Яшмовый супруг, можно считать, на службе.
Девушка подождала, пока за Торвеном закроется дверь, и осмотрелась. Вспомнилась притча, рассказанная дядюшкой Хо, – про черепаху, никогда не видевшую водяного дракона. Встретясь с ним нечаянно, она так испугалась, что еле осталась жива. Встретясь во второй раз, черепаха опять испугалась, но уже не так сильно. А в третий раз черепаха расхрабрилась, подплыла к дракону и заговорила. Даже к самому страшному страху привыкаешь, смеялся дядюшка Хо. Время – оружие мудрецов!
Правда, сосед не сказал, чем закончился для черепахи разговор с драконом.
Осматривалась Пин-эр больше для порядка. Если в Северной столице опасность подступала со всех сторон, то в глубинке дышалось легче. Собака дремала в глубине сердца, свернувшись в клубочек. Лишь иногда, на всякий случай, она настораживала уши.
Откуда враги в сотнях ли от Петербурга?
Улица, несмотря на позднее утро, пустовала. Пара случайных прохожих, пролетка без кучера… Уезд – везде уезд, что в Поднебесной, что у варваров. И лица привычные. Китайца не встретишь, зато в губернии проживало много даданей.[78] В местном наряде, в капоре, надвинутом на самые брови, Пин-эр могла сойти за уроженку Тамбова – если не слишком всматриваться.
Рядом с почтамтом тянулись лавки – маленькие, средние и такие, что претендовали на звание «магазина». Девушка медленно шла по дубовому настилу, гордо именуемому здесь «trottoir», останавливаясь у входа – или у витрины, ежели таковая случалась. Лавки ее не интересовали – после парижских и петербургских салонов. Пин-эр лишь отмечала про себя, что именно видит. Одежда, медные изделия, шляпки, снова одежда. Книги, посуда. Опять одежда, да какая уродливая! Охотничьи ружья, сапоги, картина на шелке, очень похожая на знаменитый «Праздник Цинмин на реке Бяньхэ» работы Чжан Цзэдуаня. Глиняная посуда, опять шляпки…
Милосердная Гуаньинь!
Все еще не веря, девушка бросилась назад. Чжан Цзэдуань?! Откуда? И впрямь, это он, великий мастер династии Сун. Копия? Даже если так, откуда она здесь? Над лавкой красовалась вывеска, исполненная в три краски: «Алимов и сын. Колониальный товар». Зайти? На минутку?
Чжан Цзэдуань в России! Что скажет дядюшка Хо?
– Рэхим итегез![79] Просим, сударыня! Исэнмесез?[80]
В лавке было темно. Ставни едва приоткрыты, огня никто не зажигал. Хозяин спешил к гостье – улыбчивый, маленький, в смешной шапочке с желтой кистью.
– Чем могу услужить?
«Зажгите лампу!» – чуть не сказала Пин-эр, но вовремя спохватилась. С улыбчивым купцом справится даже однорукий старик, не евший целую неделю. И не драться она сюда пришла. Надо спросить о картине… Но как? Просто ткнуть пальцем?
Видя ее колебания, Алимов хлопнул себя по лбу:
– Менэ бу биткэ языгыз![81]
На стойке возник лист бумаги. Следом за ним – свинцовый карандаш. Вновь подумалось о лампе. У купца что, глаза совиные? Смешок – сухой, короткий, словно ветка треснула. Наклонясь над бумагой, Пин-эр удивилась этому несообразному веселью…
И нырнула в черный океан.
– Połóż siê bezpośrednio do gardła, – велел пан Варшавский, приподнимая голову слабо стонущей Пин-эр. Алимов замешкался, и поляк повторил по-русски, резко и зло:
– Прямо до горла лей! Смотри, чтоб не захлебнулась. Живой нужна.
Татарин угодливо закивал, принял из рук метельщика флягу. Пан Краков, стоя в углу, дернул усом, крутанул в воздухе короткой дубинкой.
Хмыкнул:
– Ile ci płaсą że łajdak?[82]
Пан Варшавский с презрением глянул на суетящегося лавочника:
– Trzydzieści rubli srebrnych.[83]
3
Торвен взвесил стопку конвертов в руке. Прочесть – или успеется? Не о судьбах мира, в конце концов, речь! Почтмейстер, лично выдававший корреспонденцию, моргнул с недоверием, поджал губы. Мало того что иноземец, так еще и писем – целая гора. Ох, не к добру! Начальство интерес проявит, ревизора пришлет.
Честным людям столько писем ни к чему!
Кожей почувствовав отношение, Торвен решил проявить вредность. Присел к чисто выскобленному столу, отодвинул засохшую от горя чернильницу. С вызовом глянул на хмурого почтмейстера. Тот поморщился, отвернулся.
Конверт налево, пакет направо…
Три письма от гере академика – обождут. Два письма от Ханса Христиана Андерсена – тоже. Первое отправлено из Копенгагена, на втором вместо обратного адреса стоит «харчевня в Шпессарте, где разбойники». Ага, гере поэт наконец-то отправился в европейский вояж, что весьма отрадно.
Пакет направо, конверт налево…
Два письма от дочери криком кричали: «Открой!» Но Торвен сдержал первый порыв. Маргарет – взрослая девочка. Да и незачем читать про дела семейные при почтмейстере! Последним лежало письмецо, надписанное готическим шрифтом. Ниже шел перевод на русский – для особо непонятливых. Рука Торвена дрогнула. Генрих фон Эрстет, компаньон юридической фирмы «Эрстед и фон Эрстет», писем не любил – и брался за перо в исключительных случаях. Заныл ушибленный затылок, печать на сургуче превратилась в мерзкую рожу, подмигнула, высунула бурый язык…
«Дорогой Торвен! Гонца, несущего дурную весть, как известно, казнят без всякой жалости. Но лучше им стану я…»
Зануда знал, что мир не без добрых людей. Он лишь не догадывался, сколько их на свете – добрых. На каждой миле, под каждым кустом; в каждой тараканьей щели. Донесения о похождениях отставного лейтенанта и его «татарской супруги», фру Агнессы Пинэр Торвен, оказывается, приходили в Копенгаген регулярно. В ответ грянул гром – из Амалиенборга, из высочайших покоев. Его величество, не мелочась, обещал «оттяпать сукиному сыну башку и кое-что в придачу». Сплетники добавляли, что государь изволил помянуть некую «таинственную незнакомку», которую негодяй Торвен увел из-под ольденбургского королевского носа.
Плаху, пылящуюся в музее, заботливо покрыли лаком.
Гром вызвал эхо. Торвенова родня заявила, что отныне никакого Торбена Йене знать не желает. Вдова Беринг предъявила к уплате пачку перекупленных векселей, за которые Торвен имел неосторожность когда-то поручиться. А фрекен Маргарет была вынуждена прекратить занятия в пансионе. Подробности Генрих обещал рассказать лично – если, конечно, дорогой Торвен не проявит благоразумие и не попросит политического убежища где-нибудь в Южной Америке.
Великий Зануда аккуратно сложил письмо, спрятал во внутренний карман сюртука. Посмотрел на чернильницу, ища сочувствия.
Старушка смутилась.
– Чижик-пыжик, где ты был? Я на плаху угодил…Почтмейстер встрепенулся, не веря своим ушам.
Торвен же собрал конверты, уложил их в дерюжный мешок с черным силуэтом двуглавого орла – и, встав из-за стола, захромал к выходу.
– С-сударь! – не выдержал почтмейстер, человек в душе очень славный. – Майн герр! Водочки тяпнете-с? Оно, говорят, того… Помогает.
С сожалением отказавшись, Зануда вышел на крыльцо – и не удивился еще одному письму. Мальчишка-татарчонок сунул депешу, поправил на голове лохматую шапку:
– Якши!
Убежал.
«Твоя девка у нас, Торвен. Не делай глупостей, выполняй, что скажем. Девку меняем на известную тебе железяку…»
Последнее в этот день письмо – краткое послание Эрстеда об отъезде на охоту – догнало Зануду, когда он садился в коляску. Вернувшись в Ключи, он выяснил, что Волмонтович тоже отбыл на охоту. Категорически запретив себе переживать – или рассчитывать на чью-то помощь, – Торвен заперся в своей комнате и оставил записку полковнику: сухую, деловитую. Писать завещание не стал – прощаться перед боем не принято.
А наследники и так найдутся.
Более всего он жалел о фитильной гранате, с которой в прежние годы ходили на штурм усачи-гренадеры. Изделие архаичное, но полезное. Увы, в поместье гранаты не водились. Те, что прилагались к бомбомету, лучше не трогать – ввиду полной технической неясности.
Прежде чем отправиться на задний двор за лопатой, чтобы выкопать припрятанную в тайном месте «железяку», Торвен еще раз перечитал условия похитителей. Место «обмена» – рядом с усадьбой, у моста через Цну. Из этого факта всякий, даже не обладающий методическим умом, мог сделать вывод: за их компанией внимательно наблюдали. Они же – что Эрстед, что Торвен – вели себя как последние идиоты.
Прервав бесполезное самобичевание, Зануда с грустью вспомнил мрачные стены Эльсинора. Увы, теперь воевать придется не с честными мертвяками.
– Чижик-пыжик, где ты был? В черный лес гулять ходил…4
Ночной холод кусался – мелкая шавка чуяла слабых, нападая сзади. Торвен пожалел, что не оделся теплее. А, какая разница? Зимой 1814-го тоже в рыбьих шинелишках мерзли из-за паскуд-интендантов, что ничуть не мешало героически гибнуть. Болеть не успевали. Будь Зануда романтиком, пришел бы в восторг. Ночь, ветер, одинокий герой спешит на выручку прекрасной даме… Хоть поэму пиши, хоть некролог. Но поскольку до такой широты взглядов Торвен не дорос, то успокоился иным.
Все мы смертны, всем свой час назначен.
Пробираясь к берегу реки, ведя под уздцы лошадь, навьюченную бомбометом, хромая и чертыхаясь от боли в искалеченной ноге, ясно понимая, что в самом скором времени его убьют и без затей скинут труп в воду, Торбен Йене Торвен странным образом чувствовал себя помолодевшим.
Юнкер, слово чести!
– Взял я бомбу, взял и две, Зашумело в голове…Под ногами чавкала каша из прелых листьев. О, это была та еще каша! – готовая без затей слопать кого угодно. Лошадиные копыта плюхались в нее с сочным шмяканием. Взвизгивала трость, утыкаясь в мягкое. От сырости ломило кости. Одинокая звезда, глянув в просвет туч, повисла над берегом на серебряной цепочке.
Кто-то шуршал в зарослях бересклета.
Выбора не было. Торвен знал, что просто тянет время. Бомбомет? – пожалуйста. Прикончить хромого инвалида? – сколько угодно. Да, он взял пистолеты, но не питал особой надежды, что ему дадут воспользоваться оружием. Хорошо, если они вообще приведут Пин-эр к реке.
А если нет?
«Святой Кнуд! – он не молился, а спорил с молчаливым святым. – Почему в жизни имеешь дело исключительно с циничными негодяями? Тогда как в книгах негодяи возвышенны до икоты… О, этот длинный монолог о подлости и коварстве… Почему мою судьбу сочинил мизантроп Андерсен? Почему не человеколюбивый Вальтер Скотт?»
Впереди забелела стайка берез. До берега, до кручи у моста, указанной в послании, оставалось немного. Так сказал Торвену бесхитростный Павел Иванович – не зная, с какой целью гость интересуется окрестностями. Если б знал, наверняка бы не пустил. Снарядил бы курьера в город за полицией, забегал бы по дому, суетясь: ах, что делать? ах, беда-то какая…
Ополчение бы стал собирать – громить врагов.
Нет уж, мы сами. И один в поле воин. Полковник с князем на охоте, монстру ловят. Им не до тебя. Ты, брат Зануда, и так едва преодолел искушение взять с собой француза. Славный был бы обмен! – жизнь молодого человека на помощь с упрямицей-лошадью! Ты ведь не рассчитывал, что Шевалье укроется в засаде? – а потом, внезапно, в решающий миг…
Шагай, юнкер. Твое дело – не упасть.
Силы были на исходе. Взять в конюшне лошадь, объяснить конюху на пальцах, что барину требуются пустые вьюки, выкопать бомбомет, кое-как приспособить чертову тяжесть на спине бедного животного; и все – пешим ходом, покрикивая на дуру-ногу: молчать! ать-два!.. Спасибо королевской трости – терпела, вела. Прощайте, ваше величество. Не велите казнить. Попросите кого-нибудь, пусть научит – споете зимним вечером, вспоминая вашего лейтенанта:
– Чижик-пыжик, где ты был?
За спиной ухнул филин. С трудом продравшись через орешник, Торвен не сразу понял, что круча – вот она. Внизу дышала сонная река. На черной глади плясали озябшие искры. Моста видно не было. Лошадь фыркнула, попятилась, едва не свалив Зануду на землю. Он привязал лошадь к стволу какого-то дерева, плохо различимого во мраке, и подошел к обрыву, нащупывая, как слепой, дорогу концом трости.
Он не знал, зачем рискует. Так и свалиться недолго…
– Доброй ночи, Иоганн, – сказали рядом.
И добрая ночь упала Торвену на голову.
5
– …кончай его, панёнок.
– Обожди, Франек.
– Чего тут ждать? Не можешь, вели мне. Я дорежу.
– Обожди, говорю!
Торвен застонал. Ему было плохо; ему было холодно. Плащ промок насквозь. Влага пропитала и сюртук, добираясь до сорочки. Он с трудом сел – помогая себе связанными руками, заваливаясь набок. Ничего не видя, скользя в грязи, отполз назад. Спина ткнулась в шершавый ствол.
Все.
Дальше некуда.
Удаляясь, чмокали копыта. Тихо, чуть слышно… Звук исчез, растворился в унылом гомоне чащи. Лошадь с бомбометом увели. А злодей спорит с другим злодеем. Не спешит резать. Значит, можно надеяться на монолог.
Благодарю, святой Кнуд. Спасибо, святая Агнесса.
– Хочешь жить, Иоганн?
– Нет.
Такое короткое слово – и так трудно произнести. Совсем ты плох, Зануда. Уволит тебя гере академик. Зрение возвращалось, но рывками, издеваясь. Хорошо, хоть голос знакомый.
– Нет, Станислас, – язык распух и еле ворочался. – Не хочу.
– Вот и я не хочу. Это ты заставил меня жить дальше.
– Как?
– Там, в переулке, – помнишь? Трое покойников. Это были мои друзья, Иоганн.
– Меня ты тоже звал другом, гусар. Врал, что ли?
Из тьмы проступило лицо. Станислас Пупек, бледный, как смерть, сидел перед Торвеном на корточках, заглядывая в глаза. По лицу отставного корнета тек пот, словно он держал на плечах все грехи мира.
– Нет, Иоганн. Не врал.
– Я не Иоганн. Тебе это известно.
– Какая разница?
– Никакой.
– Ерунду молотишь, панёнок, – вмешался кто-то, стоявший так, что Торвен не мог его видеть. – Смешно слушать. Отойди, я сам…
– А как же твоя честь, гусар? – спросил Торвен, чувствуя на горле лезвие ножа и не зная, правда это или предсмертный, простительный страх. – Ведь слово давал…
– Нет у меня больше чести. – Пупек встал, зябко передернулся. – Сдохла моя честь. Ты ее кончил, Иоганн, в переулке. Останемся при своих: я без чести, ты без жизни. Режь его, Франек. Все, наговорились.
Нож медлил.
– Кто это, сволочь?
Пинок чуть не сломал Торвену ребра. Охнув, он выгнулся дугой – и приложился о дерево многострадальным затылком. Как ни странно, полегчало. В мозгу прояснилось, слух сделался острым, как бритва. Шаги. Приближаются. Второй Зануда везет второй бомбомет?
– Кто это, спрашиваю? Кого ты взял с собой?!
Никого, хотел ответить Торвен. И не успел. Потому что из орешника вышел Белый Тролль. В руке Тролль держал цепь. Обруч на одном конце цепи смыкался на запястье незваного гостя, а конец волочился по земле, на манер хвоста.
– Матка Боска! – охнул пан Пупек, отступая к обрыву. – Так то ж пани Торвенова!
Пин-эр шла с закрытыми глазами, высоко задрав подбородок. Казалось, она не видит дорогу, но чует ее нюхом. Раздетая, босая, в одной нижней юбке и сорочке, китаянка белела в ночи привидением. Цепь ожила, взмыла в воздух, описав сложную восьмерку. Звенья тихо шелестели, вплетая шорох-контрапункт в симфонию примолкшего леса.
Миг, и цепь снова опустилась в грязь.
«На ней нет ошейника! – сражаясь с легионом бесов, рвущих голову на части, Торвен ясно видел шею китаянки. – Сняли, мерзавцы!.. польстились…» Он не знал, к каким последствиям может привести утрата драгоценного ошейника. Должно быть, одурманенная похитителями, Пин-эр вся попала во власть собаки, укрытой в ее теле. И сейчас ину-гами, взяв след, вел спящую, бесчувственную женщину сквозь тьму. Чего ты хочешь, пес-призрак?
Спасти? Отомстить?!
– Цепь! Цепь вырвала… Чертова баба!
– Не трусь, панёнок. Глянь! – она ж еле жива…
Словно актриса, услышавшая подсказку суфлера, Пин-эр упала на колени. Лицо китаянки превратилось в маску чистого страдания. Не человеческую – звериную. Власти ину-гами хватило, чтобы вести тело по следу, но пробудить женщину от мучительного сна пес не мог. Кинуться на врагов, имея в своем распоряжении не дочь наставника Вэя, гибельную фурию, но пьяную от опия, вялую тряпку?
Пин-эр жалобно заскулила.
– Вот же славно! Обоих кончим, и возвращаться не надо…
Запрокинув голову к небу, китаянка скулила, не переставая. И вдруг завыла – дико, пронзительно. Так плачет умирающий от голода зверь, жалуясь луне на несправедливость мира. Зовет: где же ты, моя хищная правда? Приди, забери – видишь, не могу больше…
Дрогнула звезда над рекой. Упал вниз луч – тонкий, острый. Шпага, не луч. Понимая, что сходит с ума, не в силах слышать вой, Торвен смотрел, как в том месте, где звездный клинок полоснул берег, распахивается трещина. Из нее тянуло гнилью, безумием и влажной духотой. Шевелились в глубине какие-то хвощи – белые, жирные. Порхали мохнатые бабочки – серебро крыльев, усики в зазубринках.
А ину-гами все выл, все звал.
Раздвигая края трещины, наружу просунулась морда – узкая, с острыми ушами. Повела носом, принюхиваясь. Нутряной хрип ответил вою. Миг, и гиена, знакомая Торвену по осаде Эльсинора, выбралась вся, целиком. Темные пятна на боках, черная полоса вдоль хребта делали гиену частью ночи. Хлестал по ляжкам хвост, украшенный на конце львиной кисточкой. Сверкали клыки в оскаленной пасти.
Текла на землю слюна.
– Господи! – дрожа, выдохнул пан Пупек.
Следом, визжа от нетерпения, уже лезли другие гиены.
«Ах, мой милый Андерсен! – успел подумать Торвен, прежде чем потерять сознание. – Все прошло. Все…»
Сцена шестая Тамбовские волки
1
…благословенно будь, беспамятство!
Дивные видения бродят в тебе. Что ни случись, все возможно. Старик Аристотель с кувалдой логики, схоластик Оккам с бритвой упрощений не властны здесь. Кому тут раздолье? – лишь печальному недотепе Андерсену с гусиным пером наперевес. Ведь правда, Зануда? Ведь так, да? Почему ты молчишь?
Отчего не кричишь благим матом?
Равнодушен, безгласен, не открывая глаз, зная, что умер и обречен видеть вечный кошмар – «…какие сны в том смертном сне приснятся?..», – смотрел Торбен Йене Торвен, как гиены рвут на части человека с ножом. Тот не сопротивлялся. Да и человек ли это был? – так, мясо. Выпучив жабьи глаза, моталась окровавленная голова. Рот, разинутый в беззвучном вопле, чернел помойной ямой. Неподалеку две тощие гиены, ворча, кружили у тела недвижного Пупека. Гусару выпала большая удача – обморок. Лишившись чувств от страха, он сделался для монстров запретен. Вцепились пятнистые дуры, мотая головами, – и сразу отпустили. Видать, в носы обморочным уксусом шибануло, отпугнуло.
Кодекс чести, что ли?
Благословенно будь, беспамятство…
Из трещины лился млечный блеск, затапливая берег. У дерева, к которому Торвен совсем недавно привязывал лошадь, стояла другая кобылка – лунной масти. Ее, успокаивая, похлопывала по крупу юная девица, прекрасней которой не рождалось на земле. Даже Анна-Грета Торвен в подвенечном платье, смеясь и не зная, что впереди ждет чахотка верхом на лунной кобылке…
Нет, сказал себе Зануда. Нет.
А что нет, сказать забыл.
Он собрался встать и пойти к белокурой всаднице. Знал, что нога послушается. Этой ночью любые ноги бегают. Хоть на край света, хоть за край. Но красавица лукаво погрозила ему пальцем: лежи, мол! рано еще. Она так и промолчала: рано. От ее жеста гиены присмирели, отбежали к трещине. Оставив лошадь, девица – «Хелена! меня зовут Хелена…» – приблизилась к лупоглазому мертвецу. Не чинясь, опустилась на колени, поклонилась до земли – и поцеловала мертвого в лоб.
Тот зашевелился, встал и убрел себе в лес, не обернувшись.
Пана Пупека же поцелуем обделили. Мимоходом погладив спутанные, мокрые от пота кудри поляка, Хелена прошла мимо бывшего гусара и встала над Пин-эр. Долго, не отрываясь, она смотрела на китаянку. Затем присела на корточки, как недавно сидел сам Пупек у связанного Торвена, и протянула вперед ласковые руки – ладонями вверх.
Звала?
Тело китаянки окуталось слабым мерцанием, делаясь похожим на чертову трещину – безумие, духота и тихий блеск. А Хелена все просила, все подманивала. Будто несчастного, обиженного людьми и судьбой, недоверчивого зверя уговаривала: иди сюда. Хватит, мол. Намучился. Нет больше голода, и страха нет. Есть свобода – не из милости, не по чужому умыслу.
Ну иди же, не бойся.
Благословенно будь, беспамятство! Лишь в тебе из мерцания, из дрожащего, как мокрая шавка, света может выйти лохматый пес. Ворча с угрозой и на всякий случай виляя хвостом, он приседал от сомнений, втягивал в плечи лобастую башку, но добрался наконец до Хелены. Облизал девичьи руки. Благосклонно стерпел, пока его гладят, треплют шерсть на загривке, запускают в нее тонкие пальцы, – и, не оглядываясь, пошел к трещине.
Гордый, вольный.
Сияющий.
У самого разлома пес вскинул голову к небу и завыл. Хриплое торжество разлилось над рекой, гоня отчаяние прочь. Гиены засуетились, повизгивая. Сбившись теснее, они гурьбой кинулись следом. Так и ушли – ину-гами и его стая. Честное слово, Торвен чуть сам не ушел вместе с ними.
А что?
Рано еще, во второй раз промолчала Хелена, отвязывая кобылку. Лежи, дурачок. И – отдалился, стих в лесу стук копыт. Закрылась трещина. Смолк плеск реки. Недвижно вокруг, мертво.
Лишь тогда шевельнулся в грязи недоеденный пан Пупек.
2
Не гневен был пан Бог – печален. Жалел грешную душу, что склонилась пред Ним, ожидая приговора.
– Что же ты натворила, душа? Или не ведаешь, какова плата за смертоубийство? За предательство ближнего своего? Не будет отныне счастья на земле потомкам и родичам твоим; ты же в Царствие Моем не найдешь покоя. Терпеть тебе муку кромешную в глубине могильной, особенно в тот миг, когда кто иной такое же злодейство свершит. Станет мертвец, тобой отягощенный, корчиться да доски гробовые рвать. И длиться этой муке, пока всадник-призрак неприкаянный по мглистым Карпатам путь свой торит – и пока Суд Мой не настанет.
Нечего душе в ответ сказать, а все-таки решилась:
– Страшен приговор твой, Господи. Но не за злато гибну, не за власть. Приму вечную кару за родную землю, за мой народ-страдалец. За такое и геенна огненная – награда.
Нахмурился пан Бог грозовой тучей.
– Думаешь, за то, чтобы народ твой жил в счастье и покое, дозволено тебе губить товарищей боевых? людей безвинных? «Лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб…» Помнишь ли, чьи слова? почему сказаны?
– А Тебе? – спросила упрямая душа. – Тебе дозволено? Не Ты ли велел Моисею встать пред фараоном и сказать: «Отпусти народ мой!»? Не Ты ли знал, что не согласится фараон, если не принудить его рукою крепкою? Не Ты ли поразил Египет чудесами Твоими?
Долго думал пан Бог.
– Молчи, – сказал наконец. – Молчи, душа! Сам страшусь грядущей муки твоей, а потому укажу тебе тропинку к спасению. Грехи же твои скрою до Суда. Иди!
Не поверила душа в такую невиданную милость, не успела обрадоваться. Закружило ее осенним ветром, ударило ночным холодом, пронзило лютой болью…
– Пся крев! – простонал корнет Пупек. – Хлопцы, подсобите!
Думал – кричит, но быстро понял – еле шепчет.
– Гей, есть ли кто рядом?
Одно хорошо, что жив. Промахнулись французы, спасла пани Ночь, выручила. Только рано радоваться. Голова – словно ею из пушки выпалили. В колене – боль толчками. Кровит раненое плечо. Шинель на боку – в клочья.
– Хлопцы! Иоганн, холера швабская! Где ты?!
Пересилил муку гусар, встал, разлепил ясны очи. А как огляделся, как прищурился сквозь тьму… Даже брань в глотке застряла. Франека убили клятые лягушатники! – вон Лупоглазый, весь в листве гнилой. От духа кровавого в мозгу круженье. Эге, да тут и девка лежит, в беспамятстве! Кто ж раздел девку? – небось французы снасильничали.
А фон Торвена хотели в полон взять. Связать умудрились!..
Качнулся Пупек, чуть не упал. Пуста голова, как бутылка из-под сливовицы похмельным утром. Вытряхнули память ядром из орешка. Где ты, прошлый день? Где ты, нынешняя ночь? Из ушей, что ли, выскочили? Что дрались – ясно, что побили нас – тоже. И сабля куда-то делась, и одежка на плечах чужая. Ни ментика, ни кивера, ни доломана…
Что же делать?
Перво-наперво Иоганна выручать, пока лягушатники не вернулись. Вот и нож – под ногами валяется. Удачно! Станислас попытался уцепить с земли костяную рукоять. Не вышло с первого раза. Он застонал, закусил соленые от крови губы. Не время раскисать, корнет. Сам погибай, а товарища выручай! Вцепился в нож, как утопающий – в канат, брошенный ему с корабля. Шагнул, спотыкаясь, к фон Торвену; наклонился, прикидывая, как ловчее разрезать веревку. И замер, поймав ответный взгляд – как на французский штык наткнулся.
Страшно смотрел Торвен. Дрогнула рука, выронила нож.
– Иоганн! Ты чего? Это же я, Пупек из Гадок!
Молчал шваб. Будто не товарищ боевой перед ним, а лютый враг.
– Мы ж со Смоленска знакомы…
Даже боль отступила, давая дорогу страху. Похолодел Станислас Пупек, смертным потом взмок. Что-то, видать, случилось этой ночью. Плохое, скверное.
– Не узнал? Я это… давай, веревки разрежу…
– Режь…
Корнет обрадовался, закивал:
– Смеяться будешь, Иоганн! Хоть и не время для смеха. Представляешь! – не помню ни арапа. Где французы? где мы? какой месяц нынче…
Веревка упала в подмерзшую грязь. Не спеша подняться на ноги, фон Торвен поморщился, размял затекшие руки; на четвереньках скользнул к убитому Франеку. Корнет едва удержался, чтобы не протереть глаза. Матка Боска, во что мы все вырядились? Кто же в цивильном воюет? В разведку ходили? Нет, с гусара ментик только вместе с кожей сдерешь… И оружие, оружие где? Сабля верная, куда ты ушла?
Стволу пистолета, направленному в лоб, он не слишком удивился.
– Ого! Ну и пистоля у тебя, Иоганн! Где оторвал? Знаешь, в человека целить нельзя. Раз в сто лет и незаряженное пальнет. Панну под деревом видел? Кто она – татарка? пленная? И… А что у тебя с лицом?
Дружище Торвен не спешил. Медленно встал, опираясь на трость, как дзяд ветхий. Сунул за пазуху дивную пистолю, огляделся. Корнет ждал, холодея. Что в памяти дыра – ладно, контузия. Бывает. Но что стряслось с Иоганном? Ровно не фон Торвен он, а свой собственный батюшка.
Ведь швабу и восемнадцати нет!..
Девушка была без сознания. Станислас кое-как напоил ее из фляги, найденной при Франеке. Положил на лоб мокрый платок, а под голову – свернутую шинель. Снимал с себя – дивился: ткань чужая, пуговицы незнакомые…
– Какой сейчас год, пан Пупек?
– Да брось ты, Иоганн! Двенадцатый, какой еще!
– И где же мы с тобой?
– Где, где… На войне!
– Точно, что на войне…
Голос фон Торвена звучал так странно, что корнета пробрал озноб. Он подумал, с силой провел ладонью по лицу, взглянул на пальцы.
– Х-холера! Иоганн, я спятил, да? Умом тронулся?
И тут фон Торвен улыбнулся – впервые за весь разговор.
– Нет, просто здорово ушибся. Скоро все вспомнишь, а я помогу. Двадцать лет с войны минуло, приятель. Я к тебе в гости приехал, в Петербург. А нас с тобой на охоту позвали, в Тамбов – чудо-волка ловить, для Кунсткамеры. История эта долгая…
– Нет, – твердо сказал пан Пупек, истинный шляхтич. – Врешь ты или тоже безумен – истории обождут. Давай выбираться, Иоганн. Не ровен час, французы нагрянут. Я девушку понесу, а ты уж хромай, как получится. Ногу зацепило, да? Ничего, найдем врача…
«Тут бы самому не ударить лицом в грязь! – думал он, поднимая тяжелую, будто смертный грех, девицу. – Ох, колено! Ладно, дотащу… как-нибудь…»
3
– Вы уже встали, князь?
– И даже раздобыл нам чаю. Кофе тут не в чести.
Волмонтович посторонился, давая проход. Чувствуя себя медведем-шатуном, Эрстед выбрался из ветхой избушки. В сей хибаре они провели ночь. «Варягам» любезно предоставили лучшие апартаменты – прочие естествоиспытатели, включая генерала Хворостова, ночевали у горевших до утра костров.
К счастью, Амалию фон Клюгенау удалось оставить в генеральском имении. За столом Эрстед, не скупясь на краски и душераздирающие подробности, описывал даме прелести бивуаков. К беседе не замедлил присоединиться гостеприимный хозяин, поведав с десяток занимательных историй:
– …а утром глядим: примерз! Каков ремиз, а? И на веках – иней…
– Oh, mein Gott!
– …промазал. Ерошка заряжать – куда там! Кабан его с ходу – хрясь!
– О-о-о!
– Клыками, значит, в пузо. Кишки наружу…
В итоге фрау Амалия сделалась задумчива и вскоре сообщила, что столь мужественное занятие, как охота, – не для нее, слабой и впечатлительной. Вдову заверили, что буде «монстру» изловят – ей покажут первой. На чем вдова и успокоилась, милостиво докушав поросячий бочок. Генерал тайком подмигнул Эрстеду: какова монстра! – и датчанин проникся к старику искренней симпатией. Склочный нрав Хворостова, равно как манера постоянно перебивать собеседника, не стали тому помехой.
Ей-богу, пустяки в сравнении с юностью души!
К месту охоты выехали бурной толпой: генерал с челядью, фон Ранцев, компания охотников, отряженных Академией наук, со слугами… Судя по выговору, охотники были, как и фон Ранцев, поляками – либо польскими немцами. «Что, в Академии русских не нашлось?» – подивился Эрстед. Однако спросить постеснялся. Если в тамбовской глуши водятся монстры из Эльсинора, в имении Гагарина гостят датчане, француз, поляк, китаянка… Ах да, еще и герр Чжоу образовался! – то почему бы не пожаловать в эти края и целой компании земляков Волмонтовича? Не хватает лишь его величества Фредерика VI – вступиться за несчастных «песиков», если таковые сыщутся.
Оловянная кружка с дымящимся чаем обожгла пальцы.
– Благодарю, князь.
Волмонтович прискакал вчера поздним вечером. Его сопровождал испуганный насмерть курьер – гонца посылали в Ключи сообщить князю о решении Эрстеда. Злой, как черт, князь едва не загнал лошадь. Он дулся на Эрстеда, не скрывая обиды. Почему не предупредил загодя? Почему не спросил совета? Приспичило, да?! Холера! А ну как сожрет вас та «монстра» без меня и не подавится?!
Впрочем, князь скоро оттаял. На вопрос, как там поживает герр Чжоу, ворчливо сообщил, что следить за китайцем он поручил Шевалье. Да, кстати: сукин сын азиат нервничает. Твердит: у вас, господа, три дня. Больше ждать не могу. Иначе резервуар треснет и все ци выльется.
Хотите присутствовать при опыте? Извольте поторопиться!
«Поторопиться? – Эрстед отхлебнул чаю, стараясь не ошпарить губы. – Хорошо ему говорить! Ах, герр Чжоу, Эминент, покойник Гагарин… Не воевать бы нам! Соединить бы вашу мистику с научным подходом – взвесить, измерить, подвести теоретическую базу… Да мы бы горы свернули! Наши академики тоже хороши: «Шарлатанство! Оккультные бредни!» Месмера затюкали, стервецы…»
– Так что кулеш готов, ваши благородия…
Рядом возник крепенький мужичок из дворни Хворостова. Мужичок зябко прятал кисти рук в рукава зипуна. Кудлатую шапку, похожую на кедровую шишку, он нахлобучил по самые брови.
– Пожалте до компании…
От костра тянуло сытным запахом. Животы откликнулись энергичным бурчанием. В два глотка допив остывший чай, Эрстед поднялся с колоды для рубки дров – и вместе с князем двинулся к костру.
– Здравствуйте, генерал.
Хворостов, помнится, минут пять орал на «варяга», размахивая руками, прежде чем датчанин понял: старик категорически требует, чтобы гости обращались к нему запросто, безо всяких «превосходительств». Генерал и сейчас ворочался, пыхтел, дергал плечами – делал гимнастические упражнения, исключительно полезные для организма. Полезней их Хворостов полагал только водку, и то если много.
Подле него дрожали от страха кусты крушины. Тряслись ветки, кое-где покрытые черными, сморщенными ягодками. Ой, горе-горькое – убежать бы, да корни держат…
– И вам не хворать, полковник. Как спалось?
Эрстед выдавил из себя кислое подобие улыбки.
– Спасибо, не жалуюсь.
– Что-то вы, пардон, смурной. Бодростью неглижируете? – зря. На охоте азарт нужен, кураж. Чтоб глаз горел, а рука не дрожала. Ванька! Кулеша нам, живо! Махнем по стопочке, а?
«С утра?!» – ужаснулся датчанин.
Но генерал был так убедителен, что всякая возможность спора исключалась. Серебряные чарки возникли, словно по волшебству. Под густой кулеш «ерофеич» пошел как родной. Эрстед не удержался, махнул и вторую. Хворостов к тому времени прикончил остаток; теперь старик ревел бугаем, давая распоряжения.
Лагерь пришел в движение.
– Все знают свои нумера? Господин фон Ранцев! На каком стоите? Филька, сукин сын! Запорю! Почто ассистенту его нумер не доложил?!
Меж деревьев копился густой туман. Подкрадываясь к людям, он мешался с дымом костра, рождая зыбкий, причудливый хоровод фигур. Эрстеду некстати вспомнилась «Клоринда» с ее призраками. Гомон вооруженных людей, мачтовый ствол сосны – все это усиливало сходство. Сейчас кто-нибудь заорет: «За борт бесов!» – и где прикажете искать в лесу кальмара?
Он проверил ружье, одолженное ему генералом. Заряжено ли? Не отсырел ли порох на полке? Нет, все в порядке. Не удержался, любовно огладил костяной приклад. «Алмазная грань», гравировка; замок простой, без излишеств, удобный спуск. А вот и клеймо: «Иван Лялин». О Лялине он когда-то слышал от Волмонтовича.
Не зря генерал расхваливал ружье!
– Подъем, господа! Зверь ждать не будет…
Зябкая морось пропитала воздух насквозь. Игнорируя законы физики, она не желала ни падать, ни испаряться. Кора липы, за которой укрылся Эрстед, сочилась влагой. Хорошо хоть палая листва лежала здесь сплошным ковром. Грязь не так липла к сапогам. В целом позиция выглядела удачной. Впереди открывался узкий лог, почти голый, если не считать прядей жухлой травы да редких кустов бересклета. Зверь, выбежав, окажется как на ладони. Далее начинались заросли лещины, перемежаемые буреломом. Там легко могла спрятаться хоть волчья стая, хоть кабаний выводок.
Издалека донеслись крики загонщиков, стук колотушек и стрекотанье трещоток. Ну наконец-то! Датчанин успел продрогнуть. Это только Волмонтовичу все нипочем! Словно подслушав его мысли, князь сделал отмашку рукой – и снова прильнул к ружью.
Еще на бивуаке к Волмонтовичу подошел фон Ранцев. Отведя князя в сторонку, он попросил: не согласитесь ли вы держаться поближе к господину Эрстеду? Вы, говорят, человек бывалый, военный, а на охоте всякое случается. Прикройте ученого мужа, сделайте милость. Волмонтович ассистента выслушал с превеликой серьезностью – и кивнул. Мол, прикрою, не извольте беспокоится. Просвещать фон Ранцева насчет «людей военных» князь не стал. Кому какое дело, при каких обстоятельствах он впервые познакомился с Андерсом Сандэ Эрстедом, полковником датской армии?
В любом случае он не собирался отходить от друга.
Однако просьба князя насторожила. А своему сердцу Казимир Волмонтович привык доверять. Эрстеду достался крайний правый номер. Князь же занял позицию рядом, в пяти шагах, пристроив ствол капсюльного штуцера в развилке ольхи.
Он ждал.
4
– Наше дело – попасть! – наставительно молвил пан Краков, присоединяя последнюю клемму. – Все? Ох, и почерк у того Гамулецкого, я вам скажу. Вернемся, точно придушу.
Он помахал листом бумаги, густо исписанным синими чернилами.
– Горшок для газу на месте…
– Емкость, – поправил образованный пан Варшавский.
На бомбомет он глядел с брезгливостью. Изделие старого штукаря раздражало Варшавского. В ответ пан Краков лишь рассмеялся и потянул рычаг. Щелчок, легкое жужжание. Невидимое колесико сдвинуло стальной лоток с места. Он дрогнул, пополз внутрь кожуха.
– Работает, клята химера! – пан Краков закрутил длинный ус. – А вы сомневаться изволили. Для справного артиллериста все сойдет, хоть труба водосточная – лишь бы палила. Теперь сошку вкопаем – и годится.
Он с удовлетворением хмыкнул. Утро выдалось холодным, но это не портило настроения метельщика.
– При каноне стояв И фурт-фурт ладував, И фурт-фурт, и фурт-фурт, И фурт-фурт ладував…Пан Варшавский едва стерпел. Очень уж хотелось заткнуть уши.
– Говорил я тому Франеку. И пану Познанскому говорил. Для чего вся эта химерия? А вдруг не сработает? Дело простое, проще некуда. Зарезать – и в Цне утопить. Пусть на разбойников грешат, много их тут, лайдаков.
– Перша куля летела, Правэ вухо видтяла, А вин всэ щэ стояв, И фурт-фурт ладував…– Пан Краков! Тише, прошу вас! Услышат…
– Ну и что? Мы же на охоте. Народу полно, кто поет, кто водкой себя бодрит. А насчет «зарезать»… Будь они москали, сошло бы. А тут – иноземцы. Без Третьего отделения не обойдется. Пусть на пана Всевышнего думают. Покарал грешников редким природным явлением, именуемым… Ваш человечек в Академии наук не подведет?
Пан Варшавский кивнул:
– Оформим по высшему разряду. Здешние обыватели век нас помнить будут. Сперва «монстра», потом – редкий метеор с Луны, Тамбовское Диво. Аномалия здесь, пан Краков. Пересечение энергетических, не побоимся того слова, магистралей. И диссертации напишут, и экспедиции пришлют. На сто лет работы хватит. Задумка, я вам скажу, красивая, но уж больно сложная. На нитке все висит.
– Не на нитке, пан цивильный, – наставительно уточнил артиллерист. – На тра-ек-то-рии!
– Чверта куля летела, Праву руку видтяла, А вин всэ щэ стояв, И фурт-фурт ладував…– Да прекратите же! На душе тошно. Где пан Познанский? Где Франек? Обещали же следом за вами приехать…
Пан Краков развел ручищами:
– «И фурт-фурт…» Ох, извиняюсь. Оттого, пан Варшавский, Речь Посполитая все баталии за последний век и просрала. Жолнежи в поле, а воеводы в шатре, медок смакуют. Не по сердцу мне эта публика: что Франек, хлоп гоноровый, что хозяин его. Если по чести, их тоже подмести надлежит. Вместе с паном Гамулецким, само собой.
– И с помещиком Гагариным, – согласился пан Варшавский. – А вдруг наши герои письмецо со всеми подробностями в Ключах оставили? А? После Тамбовского Дива знатный кавардак начнется. Вот под шумок мы в имение и наведаемся. Подпустим красного петуха?
Артиллерист расхохотался басом.
– Сделаем! А сейчас и без воевод обойдемся. Куда целить, известно. Когда стрелять – тоже. С волками Франек здорово придумал, головастый, пусть и хлоп. Видали волчар? Франек их у сасовских ловцов купил. Злые, я вам скажу, точно дьяволы. Мы им морды черной фарбой выкрасили, чтоб страшнее было. Пускаем их на левый фланг, панове охотнички канонаду начинают, а мы, как пальбу заслышим…
– Помню, ни к чему повторяться. Они стреляют – мы начинаем. Да только не дело это! Если пан Познанский так и не изволит пожаловать… Заварил кашу, а теперь в кусты? Вы уж, пан Краков, Франека на себя возьмите. Юркий хлоп, уйдет. А от вас не уйдет.
Пан Краков самодовольно кивнул.
– Хробаки вже його Подточили давно, А он всэ щэ стояв, И фурт-фурт ладував…5
Загонщики приближались. Уже можно было разобрать отдельные голоса, ранее сливавшиеся в общий галдеж. Эрстед вытер вспотевшую ладонь о лацкан макинтоша. Не успел он снова пристроить палец на спуске, как на левом фланге шарахнул выстрел. Казалось, пастух хлестнул бичом, подгоняя стадо. Кто стрелял? по какому зверю? – за деревьями видно не было.
Еще выстрел – и отчаянный визг.
– Волк, – бросил Волмонтович.
Он хотел что-то добавить, но вдруг умолк и деловито поднял штуцер. Наискосок через лог, прямо к ним, ломился молодой кабанчик. Не матерый секач, но уже далеко не подсвинок. Штуцер гулко бахнул, как гвоздь забил. Не хрюкнув, кабанчик покатился в траву, пару раз дернулся и замер.
Словно в ответ, из зарослей лещины ударила дымная стрела с огненным наконечником. По ушам мягко хлопнули ладони великана: бум-м-м! Щеку Эрстеда обдало жаром. В спину толкнулся грохот, властный и басовитый, едва не швырнув полковника наземь. Если бы не липа – не устоял бы. Случайный воробышек чирикнул на плече, разорвав клювом плотную ткань макинтоша.
Повернув голову, Эрстед увидел застрявший в дереве осколок металла.
– Бомбомет, курва! Ложись! Сейчас опять выпалят!
«Перелет, – с запозданием дошло до полковника. – Засаду устроили слишком близко…» Он едва успел последовать совету князя. В зарослях полыхнуло во второй раз. Прежде чем вжаться лицом в мокрую горечь листьев, Эрстед успел засечь место, откуда стреляли. Волмонтович уже бежал туда через лог, на ходу доставая пистолет.
Взрыв!
По спине забарабанили комья земли. Осколки с чмоканьем впивались в сырую кору. Где-то неподалеку с треском повалилось дерево. Взводя курок ружья, Эрстед разглядел за кустами, там, откуда летели бомбы, две темные фигуры. «Газовый заряд» почти не давал дыма. Целиться было легко.
Отдача мощно толкнула полковника в плечо.
– …пан Варшавский!
Единого взгляда хватило пану Кракову. Что ж он, мертвецов не видал? Вместо лица – кровавое месиво. Белеют осколки кости. Нет больше пана Варшавского.
«…и фурт-фурт ладував…»
Пан Краков развернулся к бомбомету. Через лог к нему, быстрей кровного жеребца, несся человек. Без шапки, шинель нараспашку; вместо глаз – две черных дыры. Пан Краков хотел перекреститься – жаль, времени не осталось. Что ж, у артиллеристов – свои молитвы. Он плавно повел стволом, ловя бегуна в прицел. Славную штуку учудил старичок Гамулецкий, знатно палит…
Ладонь легла на рычаг перезарядки.
Чернодырый торопыга, не останавливаясь, вскинул руку. Похоже, его пистоль был сработан той же сволочью Гамулецким, черт бы побрал штукаря. Три выстрела хлестнули подряд, сливаясь в залп. Удар, звон – одна из пуль угодила в бомбомет.
– Курвин сын!
В плечо пану Кракову с размаху вонзился каленый штырь. Обжег, швырнул прочь от «клятой химеры». Рукав сразу набух темной кровью. Выругавшись, метельщик шагнул назад к бомбомету. Ничего, старая метла чисто метет. И левой рукой управимся, холера… Крякнув, он вернул тяжеленное оружие на сошку, зажал приклад под мышкой, вздрагивая от боли. Рычаг не давался, выскальзывал из мокрых пальцев.
А быстроногий гаденыш уже змеей вился меж стволами орешника.
Нет, не успеть.
Бросив дурную махину, пан Краков рванул из-за пояса пистоль. Но пальцы чернодырого – Матка Боска! так то ж окуляры… – клещами сомкнулись на запястье. Силен был пан Краков, подковы гнул играючи. А тут – не сдюжил, застонал. Хрустнули косточки по-цыплячьи. Кувыркнулся пистоль наземь. Взорвалась бомба, да не там, где следует, а в точности между бровями горемычного пана Кракова. Это его змей пекельный, недолго думая, лбом в переносье звезданул.
Как и окуляры-то уцелели?
– На могиле трава Второй год проросла, А он всэ щэ стояв И фурт-фурт ладував…Ветки над головой качаются. За ветками – хмарь серая, мутная. Фурт-фурт, шепчет ветер в желтой траве. На земле ты еще, пан Краков. Не к сатане в дупу катишься. Ну, раз жив – вставай. Хватит разлеживаться. Вон пистоль валяется. Манит. А вот и курвин сын – бледный, как упырь измогильный. Не добил меня, собака? Живым взять надумал? Пожалел?
Ой, зря.
Я тебя жалеть не стану.
Ноги вы мои, ноги! Зачем отнялись? И руки – плетьми. Лежишь ты, пан Краков, как та колода. Глазом левым косишь – то на чернодырого, то на пистоль заветный. Близок локоть, да черта с два. А упырь махину на сошку водрузил, рычаг дергает. Что ж ты творишь, лайдак в окулярах? Решил чужое дело закончить?
Дружка своего в ад отправить?
6
Привстав на одно колено, Эрстед спешно перезаряжал ружье. Сюрпризы не заставили себя долго ждать. Он едва успел забить в ствол пыж, как сбоку громыхнул выстрел. В лицо брызнули ошметки мокрой коры. По краю лога к полковнику спешили ближние номера – господа столичные естествоиспытатели в сопровождении вооруженных слуг. Последним бежал ассистент фон Ранцев. На миг задержавшись, он вскинул к плечу английскую двустволку, взял прицел…
В лещине полыхнуло. Упасть или укрыться полковник не успел. Но этого и не потребовалось. Фон Ранцев, так и не спустив курка, превратился в огненный шар. Сейчас, играя со смертью, Эрстед получил прекрасную возможность увидеть в действии «божью кару», которую готовили для российского императора. Взрыв разнес жертву в клочья, оставив на земле обгорелое пятно.
Остальных расшвыряло в стороны.
Двойной грохот лишил полковника слуха. Глухой, как пень, борясь с тошнотой, Эрстед с трудом повернул голову – и увидел, как в лещине встает жаркий факел. Там, в жирном, клокочущем огне, что-то билось в судорогах, пытаясь спорить с пламенем.
– Казимир!
Не помня себя, забыв об наемных убийцах, Эрстед со всех ног кинулся через лог. Он не видел, как нырнули в лес и исчезли в чаще двое уцелевших поляков. Не видел егерей Хворостова, бегущих к нему, генерала, ковыляющего следом, – ничего, кроме костра, разожженного за кустами.
И того, что жило в костре.
– Казимир!!!
В руках горящий князь держал развороченные останки бомбомета. С силой размахнувшись, он отправил проклятое оружие в полет – в самую гущу бурелома. Что-то каркнул; должно быть, выругался, да горло не сдюжило. И боком повалился в черную траву.
Пушечным ядром Эрстед проломился сквозь кусты, не обращая внимания на ветки, хлещущие по лицу. На ходу скинул макинтош, набросил на князя, сбивая пламя. Упал на колени, обжигая ладони, стал хлестать подлые, лезущие наружу язычки огня. Смрад паленого бил в ноздри, въедался в кожу.
«Пуля! Пуля повредила клапан… пробой искры…»
Медленно, с усилием, Волмонтович повернул к нему страшное, обугленное лицо. Из-под правой ключицы князя, глубоко войдя в тело, торчал обломок рычага.
– Взорвался… кур-р-рва…
Князь надсадно закашлялся, содрогаясь.
– Больно… очень…
Зацепившись дужкой за ухо, болтались окуляры – невредимые, словно заговоренные.
* * *
Раненых и убитых увезли.
Лес замер. Умолкли птицы. Затаилось зверье по норам-ухоронкам. Стих ветер. Лист, задержавшийся на ветке, и тот не шелохнется. Ни шороха, ни звука.
Когда лопнула тишина?
Был лес, стало отражение в пруду. Запустил кто-то камень наугад, пошли круги по воде. Раскрылась трещина, выпуская стаю. Гиены? Да что вы! Спросите натуралиста, знатока африканской саванны, – любой скажет, что нет таких гиен. А вожак стаи – этот уж точно не имел права на существование.
Тут и к натуралисту не ходи.
Выл ину-гами в изувеченном лесу. Задрав к небу морду, творил панихиду. Тоска вплеталась в гарь и страх. Плыла над землей. Над рекой, до самого моря. От Тамбовской губернии до далекого, сказочного острова Утина. Мертвый пес оплакивал погибших.
Сидя вокруг, молчали гиены.
Апофеоз
– Вот он, – сказал Чжоу Чжу.
Мальчик трех лет от роду сидел на полу, сосредоточенно изучая деревянную лошадку. Игрушка была крохотной, с детскую ладошку. Но резчик постарался на совесть – даже грива вилась по ветру, как настоящая.
За спиной ребенка, в углу, стоял киот с образами. Божья Матерь, держа на руках младенца, кротко смотрела на незваных гостей. Рядом плескал крыльями архангел Гавриил. А четверка евангелистов – те вовсе готовы были выскочить из оклада и кинуться в бой. Кто такие? – хмурился Лука. Зачем пожаловали? – набычился Матфей. Негоже… – поджал губы Марк.
А Иоанн шарил по избе глазами: нет ли топора?
Топора не было. Были ухват, помело и кочерга. Зеркало с полотенцем. Железная кровать за занавеской. Медный гребень на шнурке. Горшки, чашки. Священник Николай Федоров, крестивший мальчика, числился в зажиточных. Не только свою фамилию он мог предоставить в распоряжение малолетнего Коленьки и его старшего брата Саши. Да и крестный отец, Федор Карлович Белявский, редкой души человек, готов был поделиться с малышами всем: хоть собственным именем, предоставленным для отчества, хоть средствами к существованию.
Но денежного вспомоществования не требовалось. Константин Иванович, дядя незаконнорожденных, строго следил, чтобы дети взятого под опеку брата ни в чем не нуждались.
– Что это? – спросил Эрстед, указывая на приступок печи.
– Лопата, – машинально ответил Огюст.
– Лопата? Странная лопата… Для чего она?
Молодой человек сосредоточился, вспоминая.
– Ею сажают пироги.
– Куда? В тюрьму?
– В печь.
– Да вы знаток, мсье! Откуда такие сведения?
– Из Парижа…
Огюст не врал. Позапрошлым летом, в компании Эвариста Галуа, он посетил архитектурную выставку на Марсовом поле. Там, вдоль так называемой Rue de Russie, стоял резной фасад в русском стиле. За фасадом, в числе прочего, располагалась и привезенная из России изба – с крытым двором и флигелем. Ее якобы пронумеровали по бревнышку и восстановили точь-в-точь как надо. За десять франков гид болтал без умолку…
– Вы мне мешаете, господа!
Китаец жестом попросил всех прекратить пустые разговоры. У Огюста на языке уже вертелся вопрос – почему, кроме ребенка, в избе нет ни души? Куда ты спровадил всех, азиат? – но задать его француз не решился. От Чжоу Чжу он ждал пакости в любую минуту. Спасибо Эминенту, просветил насчет восточного коварства, холера вас заешь обоих…
Praemonitus praemunitus.[84]
* * *
Разговор в Механизме Времени запомнился Огюсту до мельчайших подробностей. Лебеди, снежинки; старческое дребезжание в голосе барона. Нет, он не верил фон Книгге. Он ему и сейчас не верил. И все-таки – поверил. Тысяча чертей! Две бешеные лошади разрывали француза пополам. Если Эминент солгал, если он по-прежнему желает Андерсу Эрстеду смерти – китайцу не следует мешать в его предприятии.
Если же барон сказал правду…
«Этот Чжоу – враг?» – напрямик спросил Шевалье у полковника, когда тот вышел из комнаты, где лежал умирающий Волмонтович. От Эрстеда пахло вонючими мазями и безнадежностью. Врач, срочно привезенный из уездного города, как уже знал Огюст, просто диву давался. По словам медика, любой другой на месте князя давно бы отдал богу душу. А поляк еще упрямился, еще хрипел, дрожал от боли и глядел в потолок левым, выпученным глазом – правый выжгло при взрыве.
– Окуляры… – слышалось в хрипе.
– Наденьте на него окуляры, – махнул рукой врач. – Какая теперь разница…
Эрстед долго не отвечал. Думал о чем-то своем, кусал губы. Он сильно постарел за эти дни. В волосах прибавилось седины, резче проступили морщины. Наконец, даже не спросив, откуда Огюсту известно подлинное имя китайца, полковник кивнул:
«Да, враг. Не делайте глупостей, мсье Шевалье. Враг, не враг – мы скрепили договор рукопожатием…»
«Вы – романтик! – хотел сказать Огюст. – Можно ли доверять…»
Но вместо гневной филиппики, уже вертевшейся на языке, он отвернулся – и, желая прервать неловкое молчание, зашел к Волмонтовичу. Это было опрометчиво. Молодой человек еле сдержался, чтобы сразу не выскочить прочь. Даже показалось, что князя тут нет. Скорченная, дрожащая мумия, вся в повязках с примочками – разве это князь? Тусклый свет из окна. Вонь масла герани. Словно кто-то прямо в розарии свалил кучу гнилых яблок. Миска с томлеными яичными желтками. Жирный купидон смеется на раме зеркала.
Черные дыры окуляров на обгорелой маске.
Шевалье полагал себя человеком опытным, знающим, что такое гибель друзей. Ничего он не знал. Смерть Галуа потускнела в сравнении с этой огненной нелепицей. Чувства и разум огласили приговор: да, Волмонтович умрет. Не сегодня, так завтра. Откровенность врача – безусловный некролог. В то же время Шевалье, как ребенок, надеялся на чудо. Пусть умрет. Князь и раньше умирал. Казацкая пика – помните? Ведь это ничего не значит. Ведь правда?
Ну скажите, что правда!
– С-с… с-сюда-а…
От дивного баритона осталось шипение змеи. Содрогаясь, Огюст приблизился к князю. Он корил себя за впечатлительность, но ничего не мог поделать. Сердце грозило сломать клетку ребер и удрать на двор. Грех так думать, но он предпочел бы, чтобы Волмонтович уже отдал богу душу.
Господи, за что мучаешь?
– С-с… с-слуша-а… кита-а…
– Китаец? Что китаец?
– С-сде… дела… ш-ш… с-слуша-а…
Огюст слушал. И с убийственной ясностью понимал: он исполнит все, что велит ему князь. Пусть это чистое безумие, но отказывать умирающему нельзя. Да и кто нынче не безумец? Вон и Торвен приволок в усадьбу какого-то умалишенного, полагающего, что он гусар и воюет с Бонапартом. К счастью, гусар оказался безобиден. Когда Торвен вновь слег с головокружениями, он ухаживал за гере помощником, как за родным, – и все беспокоился, чтобы на усадьбу не напали французы.
Огюсту безумец не доверял, полагая его шпионом.
Когда вчера, ближе к вечеру, в Ключи приехали чины из Тамбова, безумца спрятали. На всякий случай. Если уездные исправники никаких шуток, кроме четвертного в карман, не понимают, то уж товарищ полицмейстера, титулярный советник Митянин… Заберут бедолагу – воевать Бонапарта в желтом доме. С чинами приехал газетчик, прощелыга с блокнотом. Он заранее успел накатать репортаж с места происшествия.
Теперь волк пера жаждал фактов для оживления.
«Как мудро заметил адъюнкт-профессор Оссолинский, мы живем в эпоху великих научных переломов. Метеорный дождь с Луны, сама возможность какового еще недавно категорически отвергалась европейскими академиками, трагически сотряс Вялсинскую волость. Ужасная гибель экспедиции, о которой мы писали в прошлом нумере… генерал Хворостов свидетельствует, что огнь небесный пожирал самое себя, и грозится подать в суд…»
Газетчик тоже обещался подать в суд. Ибо никому не позволено бить репортера в морду. Ну и что? Да будь он хоть трижды просветитель и брат датского физика! Что, трудно показать, где лежит князь-обгорелец? Ведь помрет же! – и ни слова нашим любезным читателям… Вон? Что значит вон? Вы забываетесь, милостивый…
Вот тут и вышло в морду.
Чины, выпив водки на посошок, увезли брыкающегося газетчика силой. Тамбовское Диво устроило всех. Дождь с Луны, и никаких закавык. Свидетельства подтверждают. А кто там жив, кто мертв – дело врачей да гробовщиков.
Скорее гробовщиков, как ни прискорбно.
– Хорошо, князь. Я выполню все, что вы велели.
– С-с… с-спаси…
– Отдыхайте. Вам вредно волноваться.
– Я бы… с-сам…
И вдруг, приподнявшись на подушках, Волмонтович подвел итог прежним, твердым и звучным голосом:
– Сам не могу. Значит, вы сделаете.
* * *
– Мы можем чем-то помочь, герр Чжоу?
– Можете. Сядьте на лавку и ни во что не вмешивайтесь. Хотя… Герр Алюмен, взгляните в это зеркало. Что вы видите?
Китаец, мрачно улыбнувшись, протянул Эрстеду дешевое зеркальце в оправе из ракушек, скрепленных клеем. Не говоря ни слова, полковник уставился на собственное отражение. Он смотрел долго, как показалось Огюсту, целую вечность. Чжоу Чжу не торопил его.
А ребенок все играл лошадкой, словно был в избе один.
– Да, вы правы, – наконец сказал Эрстед, хмурясь. – Я скверно выгляжу. Это были не лучшие дни в моей жизни. Увы, герр Чжоу, надо признать, что я старик. Пожалуй, я вдвое старше вас. Самое время осесть в Копенгагене, греть ноги у камина и писать мемуары. Надеюсь, наш добрый Фредерик простит мне конституционные грехи юности…
– О да, вы вдвое старше меня, – согласился Чжоу Чжу. – А как же иначе? Больше вы ничего не скажете?
Эрстед взвесил зеркальце на ладони.
– Тяжелое… Кое-что скажу, герр Чжоу. У Месмера был железный жезл. Не вдаваясь в подробности, замечу лишь, что весил этот жезл несуразно мало. Это противоречило всем законам природы. Я поначалу удивлялся, а потом, когда стал учиться работе с жизненным флюидом, кое-что понял.
– Что вы поняли? – нетерпеливо перебил его китаец.
– Что нечего лезть к природе с моей куцей линейкой. Так вот, ваше зеркальце… Оно слишком тяжелое. А я уже умею работать с флюидом. Что получится, если поймать этим зеркалом луч солнца? Солнечный зайчик? Или что-то другое, особенное?
Чжоу Чжу еще раз улыбнулся:
– И снова я недооценил вас, герр Алюмен. Ладно, давайте резервуар сюда.
– Можно и мне? – удивляясь собственной наглости, спросил Огюст.
Видя, что китаец не возражает, он взял зеркало у датчанина. Никакой обещанной тяжести молодой человек не ощутил. Из экзотической рамки на него глянула знакомая, довольно унылая физиономия. На заднем плане, смазывая очертания стены с парой дрянных лубков, повешенных в качестве украшения, падал густой снег.
…снег?!
– Это кто глядит в окно На нашу компанию с Маржолен? Это бедный шевалье — Гей, гей, от самой реки…Хрусталь подлецов-колокольчиков. Шепот ледяных минут. Шорох инеистых часов. Какой-то важный господин. Он отстранил Огюста и занял место в центре зеркальца. Красный мундир, орден на шее. Господин выглядел неживым. Да он и был неживым – синюшная бледность щек, потухший взгляд. Впрочем, господин задержался ненадолго. Его сменил мальчик с лошадкой. Мальчика – гимназист в фуражке. Гимназиста – лысый старец с седой, раздвоенной на конце бородой. За старцем маячил сундук, покрытый изношенным пальто. Стол со стаканом чая. Библиотечные полки. Горят рукописи: дым, язычки пламени. Монастырское кладбище – прямо на глазах оно превращается в парк для гуляний.
«Существенною, отличительною чертою человека являются два чувства – чувство смертности и стыд рождения. Можно догадываться, что у человека вся кровь должна была броситься в лицо, когда он узнал о своем начале, и как должен был он побледнеть от ужаса, когда увидел конец в лице себе подобного, единокровного. Если эти два чувства не убили человека мгновенно, то это лишь потому, что он, вероятно, узнавал их постепенно – и не мог вдруг оценить весь ужас и низость своего состояния…»
Темнота и верчение снега.
– Что вы видели?
Огюст вздрогнул. Оказывается, он уже некоторое время не смотрел в зеркало, а совсем наоборот, выставив руку, направлял зеркало на играющего мальчишку. Зачем он это сделал, Огюст не знал.
– Что?!
Жадно, словно нищий у витрины мясной лавки, Чжоу Чжу вперил взор в молодого человека. Черты китайца исказила странная гримаса. Шевалье не знал, что с таким же выражением лица генерал Чжоу умолял Эминента продолжить показ картин будущего – яркие образы вместо цифр и фактов. Но у француза заныло под ложечкой. Сглотнув, он молча вернул зеркало владельцу и постарался изгнать из головы хрустальный звон.
– Я начинаю жалеть, что согласился на ваше присутствие, – после долгой паузы сказал Чжоу Чжу. – Но слово есть слово. Все, пора. Не волнуйтесь, господа. Это очень простой обряд. На моей родине он известен тысячи лет. Варвары полагают, что умирают полностью и навсегда. Мудрецы же знают, что навсегда – это фикция, а полностью – обман чувств. Впрочем, оставим философию.
Из кармана сюртука он достал маленькие ножницы.
– Алюминиум? – тихо спросил Эрстед, глядя на инструмент.
– Серебро Тринадцатого дракона, – кивнул китаец.
Сняв со стены лубок «Притча о блудном сыне», он выдрал картинку из самодельной рамочки и принялся сосредоточенно кромсать ее. Ножницы резали плотную бумагу без малейшего труда.
* * *
Честно говоря, Огюст проморгал тот момент, когда все изменилось. Только что молодой человек внимательно следил за китайцем – Чжоу Чжу разбрасывал по избе обрезки лубка, немузыкально вскрикивая, – и вот уже никакой избы нет.
Людей окружала сплошная стена бурана. Матово-белая, она шла синими сполохами. Хитрец-китаец заточил всех в фарфоровый чайник, расписанный не снаружи, а изнутри. Вот-вот хлынет кипяток… Минута, другая, и потрясение улеглось. Стало ясно, что буран, ярясь, не в силах поглотить жалкий клочок земли, огороженный кострами с восьми сторон. Вопреки всему, обрезки пылали ярче крошечных солнц. Соприкасаясь с пламенем, вьюга усмиряла свой разгон.
Эрстед не проявлял удивления. Пожалуй, для него изба оставалась на прежнем месте. Зато ребенок выронил лошадку, сунул в рот большой палец и, увлеченно чмокая, воззрился на зимнюю круговерть. Огюст подумал, что в этом возрасте дети должны вести себя осмысленней. Хотя мало ли…
Заведем семью, тогда и выясним.
Видя интерес малыша, Чжоу Чжу бросил ему зеркальце. Дитя попыталось ухватить подарок на лету, неуклюже взмахнуло рукой… Ударившись о землю у ног ребенка, зеркальце разбилось вдребезги. Брызнули осколки, на лету превращаясь в широкие, красно-желтые лучи. Их, вертясь дробинками, пронзали ракушки. Каждая издавала басовитый гул, словно заключенное в раковинах море просилось на волю. В тех местах, где они ударялись о стену бурана, возникали дыры.
Аспидно-черные ромбы.
Огюсту стало страшно. Иррациональный, нелепый ужас вцепился в глотку, отнимая дыхание. В ромбах занималось тусклое мерцание. Если присмотреться, можно было заметить в глубине некое движение. Люди, события; незнакомые пейзажи. Все это быстро исчезало, растворялось в черноте. Лишь ближайший к Шевалье ромб светился, не переставая. В нем синел океан, вспыхивали огоньки на пирамидках и молчал остров с алюминиевым Лабиринтом.
Никогда еще Лабиринт не был так далеко.
– Обнимитесь, миллионы! Слейтесь в радости одной!..Из немыслимой дали ветер принес обрывок «Оды к радости». Вряд ли Бетховен с Шиллером предполагали радость как слияние миллионов в бурлящей жиже Грядущего – или соединение «волновых матриц» в утробе ромба-накопителя, плывущего по орбите вокруг Земли. Но музыка явилась как нельзя кстати – отрезвила, вернула ясность рассудку.
Забыв о ребенке, буране и острове, Огюст Шевалье смотрел на китайца. Куда и делся хлыщ в европейском костюме, ровесник самого Огюста! В двух шагах от них с Эрстедом стоял зрелый воин в чешуйчатом панцире. На груди воина, готов в любой миг сорваться с зерцала в полет, скалил клыки дракон. За спиной Чжоу Чжу реяло знамя – золотые иероглифы на кроваво-красном шелке. Те же цвета, что и у лучей-осколков…
В руке китаец держал алебарду, готов разить без пощады.
– Я здесь! – завопил Шевалье – Я!.. здесь!..
Бессмысленные слова. Никчемный крик. Пустая глупость.
Еще чуть-чуть, и будет поздно.
– Я тот, кого вы ищете!
Так Огюсту в минуту опасности велел кричать Эминент.
* * *
– Ты тот, кого я нашел!
Буран лопнул по шву, впуская бешеную тройку лебедей.
К кому обращался фон Книгге, осталось загадкой. К Огюсту Шевалье? К Андерсу Эрстеду? К генералу Чжоу? Правя упряжкой, он не стал тратить время на пояснения. Хлопая крыльями, лебеди свернули в сторону. На лету барон ударил китайца треугольным щитом, отбросив к границе вьюги. О да, сегодня у Эминента был и щит, и меч, и витой рог у пояса. Куда и делся серый сюртук! – его сменила длинная рубаха с вышивкой по подолу. Голову венчал шлем, похожий на корону, где вместо зубцов красовался все тот же лебедь, выполненный из черненого серебра.
Увы, новый наряд не мог скрыть дрожь рук и морщины на лице.
– Вы?!
Чжоу Чжу замахнулся алебардой.
Буран отступил, расширяя арену схватки. Один из костров выгнулся дугой, плюясь искрами. Казалось, шерсть на костре стала дыбом от ярости. Миг, и пламя обернулось синим тигром. Хлеща могучим хвостом, оскалив клыки, каким мог позавидовать дракон с панциря, зверь в два прыжка оказался рядом с китайцем.
Вскочив на тигра верхом, генерал Чжоу ринулся в бой.
Забившись в дальний угол, вне себя от потрясения, Огюст нервно хихикал. Этого не может быть! Это бред, галлюцинация, как на «Клоринде»… Сейчас, расшвыривая снег и черные ромбы, к ним прорвется солнечный луч – и все сгинет. Настанет утро – обычное, скучное. Он пытался разглядеть, куда делся ребенок, и знал, что в любом случае не кинется спасать дитя из дикой свалки. Закроет голову руками, останется на месте, проклиная свою трусость…
Ребенка видно не было.
Эрстед же по-прежнему не двигался с места. Он лишь взволнованно озирался по сторонам. Так ведет себя слепой, когда в его присутствии завязывается драка. «Что происходит?» – беззвучно шевелились губы полковника. И, не дождавшись ответа, снова задавали вопрос.
– Вы нарушили слово чести! Предатель!
«Я?» – недоумевая, шепнул датчанин.
«Это я предатель», – понял Огюст. Ну и ладно. Ну и пусть. Он не знал, что сделал. Спас их? Погубил? Оказался пешкой в чужой игре? Что-то плеснуло за спиной Шевалье, и он обернулся, весь дрожа. Господи! Да это же ромб с Лабиринтом! Остров Грядущего не приблизился ни на шаг. Нет, он стал еще дальше, еле различим в темной геометрической фигуре, кувырком летящей по орбите.
«Он скоро исчезнет совсем…»
– Согласен! Я согласен!
Второй вопль Шевалье был не более разумен, чем первый. И эффекта не произвел никакого. Все так же бились лебеди с тигром. Разил меч, свистела алебарда. Паноптикум, думал Огюст, стараясь укрыться за стенами вечной цитадели – иронии. Кунсткамера. Шарлатанство; отвод глаз. Ирония разшибалась вдребезги о безукоризненную ясность: если что, они все погибнут. Их с Эрстедом трупы найдут в избе священника, вынесут на двор остывшие тела – и начнут судачить, что да как, да отчего, да при чем тут безвинное дитя…
Опять приедут исправники, газетчик…
– Я согласен! Вы слышите, черт вас побери?!
Он душу готов был продать за будущее воскрешение. Что там сказал Переговорщик? Сто миллиардов? Гори они огнем, миллиарды! – я, единственный, неповторимый… Телеграфной станцией, каторжником в космическую Австралию, святым духом – да слышите вы или нет?
Остров молча удалялся.
– Кто тут на весь мир кричит О нашей компании с Маржолен? Это бедный шевалье — Гей, гей, от самой реки…Ромбы моргали в круговерти вьюги. Не в силах следить за схваткой, Огюст смотрел в черноту, обрамленную снегом. Десятки, сотни, тысячи окошек в ночь. И в каждом, проступая из морозной тьмы, узорами инея на стекле, возникало лицо. Мать. Отец. Дедушка Пако. Академик Кювье. Братья Галуа. Бригида. Князь Волмонтович. Дюма в поварском колпаке. Папаша Бюжо. Рыжий мерзавец Бейтс. Николя Леон. Пеше д’Эрбенвиль. Капитан Гарибальди. Сальваторе даль Негро. Яков Брянский. Павел Гагарин. Инвалид Мерсье. Пин-эр. Торвен с компрессом на лбу. Урод-швейцарец Ури. Ребенок с лошадкой.
Эминент. Чжоу Чжу.
Андерс Сандэ Эрстед.
Все, кого он знал. С кем дружил и враждовал; к кому был безразличен. Мимо кого, задев рукавом, прошел на улице. Кто дарил ему жизнь. Кто желал его смерти. Все.
Без исключения.
– Я согласен, – тихо сказал он. – Слышите вы или нет, я согласен.
И Огюст Шевалье достал свои пистолеты.
Если по чести, у него был всего один пистолет. И тот – хоть на помойку выброси. Бог его знает, зачем умирающий Волмонтович сунул Огюсту изъеденный ржавчиной хлам. Длинный, похожий на флейту антиквариат давно справил юбилей – четверть тысячелетия, не меньше. Музейная редкость, да еще и незаряженный.
«Стреляй! – велел князь. – Если станет невмоготу, стреляй…»
Ну как, спросил себя Огюст. Невмоготу?
И спустил курок, ни в кого особенно не целясь.
* * *
Великий ветер, Отец всех ветров, спал в своих звенящих чертогах. Даже ветер, случается, устает. Даже ему иногда снятся сны. Сны о тех удивительных пространствах, куда и Великим заказан путь – на рубеже яви и грезы. Там вихри шестиконечных снежинок, вращаясь, совершают бесконечные операции симметрии. Там плетется двойная спираль из Минувшего в Грядущее. Там в серебряных берегах плещутся волны Вечности, грозя захлестнуть землю и устремиться к звездам. Там обретают зримый облик сожаления и чаяния, страхи и надежды.
Там сходятся в поединке живые и мертвые.
О люди! Жалкие эфемеры, вы ухитрились проникнуть и сюда. Не потому ли, что всегда грезили о Вечности? Или вы – всего лишь сон Отца ветров?
В оке снежного тайфуна синий тигр бился с черными лебедями. Прятался в тенях забытый всеми ребенок, глядясь в разбитое зеркало. Пляшущие отражения сменяли друг друга, двоились, накладывались – судьба, задумавшись, подбрасывала на ладони кости.
– Я согласен!
На что ты согласен, однодневка? Зачем тебе ржавый пистолет?
Беззвучный гром выстрела сотряс твердь и небеса. Сражающиеся застыли, оледенев. Распалось кольцо бурана. Снежинки заново плели спираль – прочь, прочь от места битвы. Во вчера, в завтра, на все стороны света, вокруг Земли – и дальше…
Случается, путь в тысячу ли преодолевается одним шагом. Мгновение растягивается на тысячелетия. И не важно уже, прекрасно это мгновение – или наоборот. Великий ветер устремился следом за вьюгой, желая узнать, куда ведут ее дороги. Отца всех ветров мучило любопытство – смешное, человеческое чувство.
Спящий, он мог себе позволить такую слабость.
Вьюга, плеща спиральным рукавом, ринулась на Восток. Туда, где в пределах Поднебесной империи над гробницей древнего генерала гордо реяло знамя: золото иероглифов на алом шелке. На крыльях вьюги сюда долетел и немой грохот выстрела. Знамя выцвело, потускнело – черная тень на бумажной ширме реальности. Вихрь изорвал ширму в клочья; тень распалась, расточилась. Вокруг заплясали иные тени – словно легион бесов-чиновников спешил утащить обрывки знамени в преисподнюю.
Чего не увидишь во сне?
А вьюга уже неслась на Запад. Над горами Алтая, над пустынями Кара-Кумов – в Европу, туда, где Великому ветру слышался тихий стук сердца. Биение замедлялось; грозя остановкой, метроном торопил вьюгу. Сквозь метель проступило ганноверское кладбище. Скромная, забытая Богом и людьми могила. Тусклая бронза таблички:
«Адольф Франц Фридрих фон Книгге».
Сердце ударило в последний раз. В тишине из-под земли дохнуло жаром. Обгорела жухлая трава, просел земляной холмик. Трещина зазмеилась по камню плиты. Сгорбилась, покосилась ограда. Как человек от горя, могила в единый миг состарилась на десятилетия. А в пепле уже копошились юркие снежинки, плетя кружева.
Сделав круг над Ганновером, вьюга вернулась на Восток, в Россию. Буран взял в осаду жалкую деревеньку – приземистые избы, усадьба на пригорке, дорога вьется вдоль реки… Прочь от Ключей удалялись двое всадников. Мужчина в черном, в темных окулярах, верхом на вороном жеребце – и белокурая девушка на тонконогой кобылке. Жених с невестой, рука об руку ехали они, думая каждый о своем – и Великому ветру не было доли в их пути.
Все дальше и дальше, все тише и тише…
Никого.
Вьюга же мчалась по кругу, заворачивая в горы Трансильвании. Там, борясь с пургой, щурясь от зимней крупы, бьющей в лицо, шел молодой упрямец. Он замерзал, но все карабкался по склонам, сжимая в посиневших пальцах старинный, схожий с флейтой пистоль. Наконец впереди, в Мертвом Логу, который даже отчаянные гайдуки обходили стороной, замерцал теплый огонек. Упрямец из последних сил ускорил шаг. Костер! А предрассудки оставим невежественным селянам. Мы как-никак Нормальную школу закончили, вольнослушатели Сорбонны…
В Мертвом Логу царила тишина. У костра сидел человек. Седые космы, одежда – лохмотья. Из дырки в сапоге торчит обломанный желтый ноготь.
– Вы тот, кого я ищу.
– Ты тот, кого я ждал, – ответил Мирча Вештаци, хранитель клада.
Он достал трубку, ухватил жаркий уголек из костра. Упрямец ждал, пока хозяин Тотенталеша раскурит турецкий табачок. Наконец сизый дым поднялся над горами, окутывая их предрассветной дымкой.
– Князь просил вернуть…
Мирча Вештаци взял пистоль, заклятый на три сердца. С минуту глядел, как скользят по стволу блики костра. Один, два; три…
– Отстрелялся? – разлепил старик губы. – Ну и ладно.
– Можно, я у вас погреюсь?
– Грейся. Пока время есть. Скоро рассвет…
И Великий ветер решил, что пора просыпаться.
Кажется, пока он спал, что-то изменилось под небесами.
Эпилог
Я – обезумевший в лесу
Предвечных Числ!
Доколе ж длительная пытка
Отравленного их напитка,
Вливаемого в грудь с высот?
Как знать, реальность или тени
Они? Но, холоден как лед,
Их роковой закон гнетет
Чудовищностью нарушений!
Эмиль Верхарн1. Allegro Амалиенборг
Что значит быть прокаженным, Торбен Йене Торвен понял, как только шагнул на мраморные ступени Амалиенборга. Близился час королевского приема. Публика при орденах и лентах деловито сновала вверх и вниз, с рвением раскланиваясь и с натугой улыбаясь. Зануда последовал их примеру, вежливо поздоровавшись со знакомым камергером. Он даже приподнял цилиндр, надетый ради визита во дворец.
И что же?
Камергер отшатнулся. Точнее, его отбросило к стене, украшенной батальными полотнами. Чур меня, чур! Сгинь, ужасный призрак!
Торвен удивился, повторил попытку – и понял, что действительно болен. Увы, его хворь была много хуже ординарной чумы. От королевской немилости не спасают ни лекарства, ни карантины. Давние приятели стекленели взглядом, отворачивались. Наиболее впечатлительные спотыкались на гладком полу. Самые стойкие и закаленные смотрели насквозь, не замечая в упор.
В огромном, ярко освещенном зале приемов Зануду окружил межпланетный эфир. Редкие атомы спешили изменить орбиту, лишь бы не оказаться поблизости от изгоя. Чему удивляться? Царедворцы – народ нежный, трепетный, с исключительно развитым верхним чутьем. И заговорить не с кем, и уйти нельзя – явился по высочайшему приглашению. Его величество возжелали видеть отставного лейтенанта. Если судить по поведению господ в мундирах, исключительно ради того, чтобы лично огласить смертный приговор.
Пожав плечами, Торвен принялся изучать портреты династии Ольденбургов. Лики величеств и высочеств, прописанные маслом, взора не отводили, но глядели хмуро. Иного Зануда и не ожидал. Все полтора года, минувшие со дня его возвращения в Копенгаген, он провел тихо и незаметно, общаясь лишь с семьей – и с Эрстедами. Родня забыла о нем, старые знакомцы никак не могли найти дорогу к его дому.
Даже письма стали приходить реже.
Фрекен Пин-эр, во избежание пересудов, поселилась в домике покойной Торвеновой тетки, под опекою близкой подруги матери. С венчанием, равно как с регистрацией брака, вышла заминка. Паспорт с фальшивой записью Зануда предусмотрительно уничтожил сразу после пересечения датской границы. В городской же ратуше первым делом возжелали изучить документы будущей – бывшей? нынешней? какой?! – фру Торвен.
В подлиннике, сказал бургомистр. На китайском. И в переводе, заверенном нотариусом и Королевским научным обществом. И вообще.
Видя, что дело – швах, Торвен в конце концов махнул рукой на приличия, плюнул на жалкие остатки своей репутации и переселился к невенчаной супруге, благо подросшая дочь вполне справлялась с домашним хозяйством. Честные копенгагенцы охнули – и возвели вокруг беззаконной четы Торвен невидимую, но мощную стену. Хватало и прочих забот. С векселями, предъявленными грозной вдовой Беринг, удалось разобраться. Хуже было с пансионом для Маргарет. Дочь изгоя недостойна учиться вместе с детьми добропорядочных горожан. Девушку даже не хотели пускать на уроки танцев. Что, впрочем, ее ничуть не огорчило – Маргарет всерьез увлеклась математикой.
Торвен отнесся к происходящему философски. Хотя иногда, если честно, тянуло вспомнить молодость – и сломать чью-нибудь особо паскудную челюсть. Увы, приходилось терпеть. Он успокаивал себя тем, что иначе поступить не мог, а значит, жалеть не о чем.
Сделал, что должен, – и будь что будет.
Однажды, когда особенно допекло, он отпросился у академика Эрстеда и съездил в маленький немецкий город Бург. Сойдя с дилижанса, направился прямиком на кладбище – и положил две белые лилии на могилу генерала фон Клаузевица. Стоял тихий зимний день, такой же холодный, как и тот, в полузабытом декабре 1812-го, когда они виделись в последний раз. Бывший прапорщик русской армии Иоганн фон Торвен беззвучно глотал слезы, а в ледяной Вечности, подступившей, если верить Писанию, к самой душе его, стихал топот копыт Дикой Охоты.
Вернувшись, он продолжил отшельничать.
И вот – королевский вызов.
Первый раз в жизни Торвен позволил себе усомниться в преимуществах абсолютной монархии. Стать жертвой тирана – не лучший жребий. От портретов веяло самодержавной тоской. Повернувшись лицом к залу, он вдохнул разреженный эфир, полюбовался почтенными спинами и сиятельными затылками. Стайки рыбок-прилипал крутились возле жирных акул. Самая большая стая пристроилась в центре, под газовой люстрой, окружив толстяка-генерала с орденской лентой через плечо.
Отставной лейтенант хмыкнул. Этот уж точно здороваться не станет! Небось на золоте ест, на соболях спит, на людишках верхом ездит! Словно почуяв крамолу, генерал величественно обернулся, вздернул тонкие брови:
– Торвен? Ты?!
Прилипал унесло девятым валом. Толстяк, не разбирая дороги, проломился сквозь толпу, ухватил Зануду за плечи, тряхнул от души.
– Привет, лейтенант! Не забыл, что мы на «ты»?
– П-привет! – с трудом выдавил Торвен. Немного подумал и на всякий случай уточнил: – Привет, экселенц!
– Помнишь, помнишь! – захохотал генерал. – А почему в гости не заходишь? Я уже полгода как в Копенгагене. Забегай, без чинов, без мундира и…
Он криво усмехнулся, кивнул на прилипал и уточнил:
– Без этой сволочи.
Зануда сглотнул. Против генерала он ничего не имел. Тот и впрямь заслужил право обращения на «ты», председательствуя на прощальном обеде офицеров Черного Ольденбургского полка в далеком 1814-м. Когда Андерс Вали-Напролом внес предложение отбросить казенное «вы», толстяк зааплодировал первым. А перед этим он, штатгальтер Норвегии и губернатор острова Фюн, с изрядным выражением прочел королевское послание.
Фредерик VI не жалел похвал для волонтеров.
С тех пор они виделись очень редко – отставной лейтенант Торбен Йене Торвен и бывший штатгальтер, а ныне наследник датского престола Христиан Ольденбург. У каждого оказались свои собственные дела.
– Есть новость, – толстяк перешел на шепот. – Там подписали «слоника».
Он победно улыбнулся и щелкнул себя по ленте.
– Поздравляю!
Торвен сообразил, что там что-то переменилось. В прежние годы его величество наотрез отказывался жаловать нелюбимого родственника в кавалеры ордена Слона.[85]
– И ввели в Тайный Совет. Наконец-то! Ты вот что, Торвен. – Улыбка исчезла. Лик Христиана Ольденбурга был надменен и строг. – Нас обоих не слишком любят, лейтенант. Учти это – и приходи в гости. Понял?
Генеральское рукопожатие оказалось неожиданно крепким.
Вокруг зашумела толпа. Наиболее смелые прилипалы взялись писать круги в опасной близости. Царедворцы присматривались к изгою, имеющему столь чиновных покровителей. Кое-кто рискнул пожелать доброго дня. Зануда стоял столбом, даже не пытаясь осмыслить происходящее. Добрый принц Христиан, обнимающий фронтового товарища, столь же естественен, как и теория теплорода. Что все это значит?
Долго размышлять ему не дали. Отставного лейтенанта вызывал король.
В кабинете его встретили воем – долгим и тоскливым. Торвен вжал голову в плечи, решив, что довел-таки монарха своими прегрешениями и тот позабыл от гнева человеческую речь. Выть на ослушника – вполне по-королевски.
– Тихо, Полоний! Вот видите, Торвен! С вами даже реликтовые хищники не желают знаться. Ну, тихо, мой славный, успокойся…
Зануда чуть не присвистнул. А кто это у нас жмется к шторе? Старый приятель – «пёсик» из Эльсинора с оторванной лапой? Родной братец тамбовских «волков»?
– Иди, Полоний! Обидели собачку…
Его величество лично соизволил открыть дверь, выпуская изрядно перетрусившую гиену. Перед тем как исчезнуть, хромой Полоний повернул голову в сторону страшного гостя и по-собачьи взвизгнул.
– Вы невозможны, лейтенант, – резюмировал король, затворяя двери. – Тем не менее мы пригласили вас, дабы рассеять глупую сплетню. Наши слова о топоре и плахе отнюдь не следует понимать буквально. Более того, если мы и гневаемся на вас, то вовсе не за выбор вами подруги жизни. Но почему вы не поставили нас в известность? Почему не пригласили на свадьбу? Святой Кнуд и святая Агнесса! Нам казалось, что мы с вами – не чужие.
Речь Фредерика VI звучала сурово. Фамильный нос торчал багинетом, целясь в лоб ослушнику. Сильные пальцы хищно сжимали трость. Но, как ни крути, король – о Господи! – извинялся.
– Толки о моей женитьбе, ваше величество, преждевременны. Я немедленно пришлю в Амалиенборг нижайшее приглашение, едва решится вопрос о подданстве будущей фру Торвен. Без этого ни о каком венчании не может идти речи.
Его величество почесал нос и указал тростью на стул:
– Садитесь. Мы пригласили вас, отставной лейтенант Торвен, не ради ваших личных дел. Мы нуждаемся в совете юриста. Скажем больше, совет требуется по весьма щекотливому вопросу…
Зануда кивнул – щекотка была по его части.
– Нам нужно назначить некое лицо на важную должность. Однако сие лицо – скромного происхождения. Мы в затруднении.
Тоже мне, проблема! Торвен еле удержался, чтобы не развести руками. Как выразился принц Христиан? Подписали «слоника»?
– Наградите это лицо орденом Слона, государь. Уверен, за наградой стоит длинная очередь. Намекните тем, кто числится в списке первыми, что орден они получат лишь вместе с вашим кандидатом. Поверьте, они сами придумают ему заслуги и все прочее. Еще и умолять вас станут! А кавалеру высшей награды можно пожаловать, скажем, графский титул. Графа – в Тайный Совет, после чего назначайте хоть…
Он вовремя прикусил язык.
– Хоть наследником престола, – закончил король. – Вы циник, лейтенант! Увы, ход наших мыслей оказался сходен, что никак не говорит в нашу пользу. Зато совесть чиста. Сами предложили – сами и расхлебывайте, граф фон Торвен.
– Нет! – выдохнул Зануда. – Государь, нет! За что?!
Дрожащие пальцы с трудом нащупали край столешницы. Но предательница-трость, копия монаршей, с громким стуком покатилась по полу, не позволяя сбежать.
– И не пытайтесь падать на колени, – король безмятежно улыбнулся. – Указ о назначении вас членом Тайного Совета мы подписали еще вчера. Равно как и представление в Геральдическую палату. Надеюсь, вам известно, что в нашей Гренландской колонии есть поселение, которое называется Тырвен? Неизвестно? Ладно, это не имеет значения. Я велел заменить в названии одну букву и дал сему майорату статус графства. Он ваш, любезный. Вкупе с гербом: белый медведь на лазоревом поле. Вы морщитесь? Странно! Неужели вы не хотите, чтобы ваша дочь стала фрейлиной, а сын – гвардейским офицером?
Маргарет – во фрейлины?! Бьярне – в компанию к напыщенным идиотам?! Торвен понял, что еще миг – и он завоет не хуже тамбовской «монстры».
Его величество мстил истинно по-королевски.
– А вы думали, граф, что попали в сказку Андерсена?
Несмотря на весь свалившийся ужас, Торвен успел сообразить, в чем секрет дружелюбности принца Христиана. Не фронтового товарища, никчемного калеку заключил толстяк в объятия, а графа, коллегу по Тайному Совету…
Фаворита, rassa do!
– Вы еще не знаете самого неприятного, Торвен, – иным тоном добавил король. – Вы действительно очень нужны нам. Как член Тайного Совета, вы будете готовить созыв первого датского парламента. А вместе с этим… Да, вы угадали. Принятие Основного закона. Конституцию вам придется сочинять, ваша светлость. И не говорите, что сие вам ненавистно. Лучше это проделаем мы, чем наш наследник и шайка господ либералистов. Пусть Дания шагнет в Грядущее по воле нас, любящих Господа и чтящих Традицию!
Спорить не приходилось. Торвен потер щеку, что было признаком тяжелой умственной работы.
– Парламент эти господа должны у вас попросить, государь. А мы соберем пока Совещательные сеймы[86] по провинциям и обратимся к сословиям. Пусть народ выскажется – и по поводу конституции, и по поводу либералистов. Скоро вам придется ограждать эту публику от любви добрых датчан. Не растащили бы по косточкам!
Король кивнул:
– Мы рады, что вы уже приступили к работе. Однако поведайте нам, что нового у наших добрых друзей, братьев Эрстедов? Надеюсь, алюминиум – не финал, а только начало?
– Эрстедов? – растерялся Торвен. – Святой Кнуд и святая Агнесса! Это что же выходит, государь? Из-за вашей конституции мне придется оставить работу у гере академика?
– Из-за нашей конституции, – наставительно уточнил его величество. – Нет, любезный, и не рассчитывайте. Ответственности перед наукой с вас никто не снимает. Вы создадите новый комитет при нашем правительстве – по техническим исследованиям. Более того, именно вы его и возглавите.
Свежеиспеченный кавалер и граф глубоко вздохнул, в очередной раз констатировав, что у фортуны скверное чувство юмора. Не зря Торбен Йене Торвен считал себя занудой.
– Да, насчет конституции, – вспомнил король. – Хотим предупредить заранее. Вздумаете привлечь к сочинению гере Андерсена… Плаха скучает по вам, граф!
2. Adagio Гавр
– Успех, мсье Бейтс! Несомненный успех! О-о-о-о! Поверьте моему опыту, это начало славы! Ваш театр станет украшением не только Гавра, но и всей Франции!
Чарльз Бейтс бледно улыбнулся:
– Вы мне льстите, мсье Дюма. Это лишь репетиция…
Владелец театра «Эдмунд Кин» скромничал – или боялся сглазить. На генеральный прогон «Ричарда III» были приглашены не только господа из гаврской мэрии, но также десяток занесенных свежим ветром знаменитостей. Среди последних оказался и мсье Три Звезды. Помогла случайная встреча в Париже. Александр Дюма сразу же вспомнил, кто был лучшим другом Первого Денди, и с охотой принял приглашение.
В театре лихорадочно заканчивали отделочные работы. Красили, развешивали, лакировали. Премьера намечалась на следующей неделе. Чарльз Бейтс собирался блеснуть. Украшение Гавра и всей Франции? Отчего так мелко?
– Сама ваша идея – британский театр во Франции… О-о-о-о! В первый миг она показалась мне безумной. Английская сцена в Галлии, в стране Мольера и Расина? Не нонсенс ли? Но потом я прикинул… У нас живут тысячи англичан. Десятки тысяч приезжают ежегодно. Многие французы интересуются культурой Туманного острова. Так отчего бы и нет? У вас острый глаз!
– И нюх, – хмыкнул польщенный Бейтс.
Похвала Дюма – неплохо для начала. Вдохновленный увиденным, мэтр пообещал написать о новом театре статью. Это само по себе прекрасно. Но если он выполнит и второе обещание…
– Я не забуду, мсье Бейтс, – Дюма словно читал его мысли. – Следующая моя пьеса – ваша. Но уговор! – вы играете на английском. Французская премьера намечена в Париже. С переводчиком, если надо, помогу. Будете смеяться, меня уже на датский стали переводить. Мсье Жан-Кретьен Андерсен сотворил чудо из «Нельской башни». Кстати, он сейчас в Париже. Я напишу ему, чтобы приехал к вам на спектакль…
Дюма был щедр – по крайней мере на обещания. Чарльзу Бейтсу оставалось лишь благодарить. Кто знает? Может, пойдет дело? Ça ira – как говорят оптимисты-французы.
Леди Фортуна благожелательно кивала.
– Как поживает Браммель? Я, кажется, нашел издателя для его книги.
Улыбка погасла.
– Боюсь, мсье Дюма, он не способен даже порадоваться. Браммель находится в лечебнице. Апоплексический удар, второй за два года. Джордж никого не узнает. Сейчас он – гость страны призраков. Из-за этого мы и переехали в Гавр. Здесь хорошие врачи.
– «Чудак, не бросающий друзей в беде!» – кивнул Дюма. – Браммель не ошибся в вас, мсье Бейтс. Держитесь! Таким, как вы, помогает Бог.
Расставшись с говорливым мэтром, Бейтс направился по узким улочкам вечернего Гавра к морю, в портовую слободку. Театр арендовал здание в древнем квартале Святого Франциска, в сердце города, зато его владелец обходился более скромным жилищем. Потому и не решился пригласить Александра Дюма в гости. Бедность – худшая рекомендация. Эту мудрость Бейтс осознал еще в детстве, среди грязных лачуг Теддингтона.
В родной поселок он так и не решился заглянуть. Для семьи, как и для английского Закона, Чарльз Бейтс по-прежнему был грабителем и убийцей. Посещать мать-Британию пришлось в осточертевшей личине дядюшки Бенджамена. Что поделаешь, сэр-р-р? Д-дверь, судейские совсем озверели!
Не приехать Бейтс не мог – в Ричмонде, в графстве Суррей, хоронили Эдмунда Кина. Великий актер упал без чувств прямо на сцене, играя Отелло. Едва успел произнести знаменитое: «Здесь путь мой кончен, здесь его предел». Приходская церковь, сиплые голоса певчих; дождь бьет в тусклые витражи…
«Здесь путь мой кончен…»
Никем не узнан, Бейтс помог прикрепить скромную бронзовую табличку к церковной стене. В памяти вновь и вновь всплывали слова, когда-то сказанные Кином: «Не копируйте, Чарли. Играйте, черт возьми! И станете актером, обещаю!» Долгие годы рыжий прохвост вспоминал их с грустной усмешкой. Актером? Смешно сказать… А ведь мог бы!
– …Залив слезами сцену, Он общий слух рассек бы грозной речью, В безумье вверг бы грешных, чистых – в ужас, Незнающих – в смятенье и сразил бы Бессилием и уши, и глаза.Он едва не остался в Москве – Малый театр желал продлить контракт с обаятельным «злодеем». Но Эминент был очень плох. А в далеком французском Кале ждал, едва оправясь от первого удара, Джордж Браммель.
Странное дело, но именно Первый Денди, славившийся своей абсолютной непрактичностью, здорово им помог. Выручило и Время – над Британией дули ветры перемен. Старый король умер, его преемник, не слишком уютно чувствуя себя на престоле, дал отмашку на проведение парламентской реформы. В Палате общин верховодили суровые и решительные виги. Палата лордов, последний оплот и защитник традиций, поклялась скорее умереть, чем одобрить «крушение основ». Однако, к собственному удивлению, проголосовала «за».
Лорд Джон Рассел в смущении разводил руками. Принимать поздравления он отказывался. Ох, уж это лордское непостоянство!
Кое-что изменилось непосредственно для Браммеля. После смерти Георга IV, его личного врага, новый монарх назначил знаменитого эмигранта – «короля Кале»! – британским консулом. Жалованье положил пустяковое, но это было лучше, чем ничего. Официальный статус позволял решать многие проблемы. Благодаря консулу Бейтс и Ури нашли работу в одном из местных отелей, где останавливались английские туристы. Швейцарец вначале здорово смущался, опасаясь своим видом отпугнуть клиентов. Первый Денди помог и в этом – набросал эскиз сюртука, подобрал галстук, лично сходил вместе с Ури к портному. Скромный великан стал неузнаваем. От него уже не шарахались, напротив, уважительно снимали шляпы, именуя «notre beau oncle Uri».[87]
Выслушав горячую благодарность, Браммель церемонно раскланялся. Но все хорошее кончается. Новый апоплексический удар нокаутировал Первого Денди, уложив в больницу. Почти одновременно пришла весть о смерти Кина.
После похорон Бейтс заехал в Лондон. Долго бродил по городу. Из газеты он узнал о самоубийстве виконта Артура Фрамлингена, пойманного в клубе на воровстве серебряных ложек. «Скормил бы я всем коршунам небес труп негодяя; хищник и подлец! Блудливый, вероломный, злой подлец! О, мщенье!» Отомстить не удалось, но это не огорчило Бейтса. Прошлое сгорело дотла, надо думать о будущем. В «Собачьей канаве», отвечая на вопрос, что поделывает «славный парень Чарли Бейтс», он, не задумываясь, сообщил, что его племянник-эмигрант собирается открыть театр. Где? Во Франции, в Гавре. Там полным-полно соотечественников, особенно весной и летом. Сборы обеспечены.
Как будет называться театр?
«Эдмунд Кин».
Дверь в рыбацкую хибарку была открыта. Чарльз Бейтс знал причину – внутри горел камин, настоящий английский камин. Огонь не гасили даже в теплую погоду. На уголь уходила немалая часть их скромного бюджета. Иначе нельзя – одному из постояльцев требовался живой огонь.
– Это я, Ури! – он бросил шляпу на стол. – Разве сегодня не твоя смена?
– Мы поменялись, – швейцарец оторвал взгляд от толстого медицинского журнала. – Мы хотели узнать, как прошла репетиция. Мы очень волновались.
Ури с осени работал в больнице – той самой, где лежал Браммель. Числился санитаром, однако не первый месяц помогал дежурным врачам. Это давало дополнительный приработок. «Лекаришки» вначале отнеслись к странноватому великану с недоверием, но быстро убедились в его сообразительности. Главным же было то, что Франц Шассер очень хорошо относился к пациентам. Врачи им сочувствовали, он же – любил и болел их болью.
«Учитесь, коллега! – твердили медики. – Сдадите экзамен на фельдшера…»
Мечтой Ури было открыть где-нибудь в Южной Германии грязелечебницу – современную, оборудованную по последнему слову науки. Швейцарец хотел помогать больным без помощи стальной пилки.
Общения с хирургами он избегал.
– Как наш? – спросил Бейтс, садясь. – По-прежнему?
Ури грустно кивнул, указав в сторону камина.
Черные угли, красный огонь.
Седой, как лунь, древний старик не отрывал глаз от затейливых переливов пламени. Наконец он усмехнулся и взял свинцовый карандаш. Лист бумаги был заранее пристроен на деревянном пюпитре. Несмотря на огонь, по мнению старика, в углу царила темнота. Поэтому над камином всегда горела масляная лампа.
Кивнув с удовлетворением, старик начал писать. Он занимался этим весь день, отвлекаясь лишь на самое необходимое. Тарелка каши, чашка чая. И – живой огонь. Когда камин гас, старик начинал волноваться. Плакал, прятался под одеяло; скулил, как испуганный щенок. Газеты он читал каждый день. Разговаривал редко, чаще всего – невпопад. На вопросы не отвечал. На теплом халате носил орден – маленький белый крестик.
Золотая корона, узорный синий бант.
Из написанного им можно было составить толстую книгу. Но никто не мог разобрать ни единого слова. Незнакомыми были даже буквы – не латиница, не кириллица, даже не расшифрованные Шампольоном египетские иероглифы. Случалось, старик рисовал, но его эскизы были столь же непонятны, как и фразы.
– Репетиция прошла успешно, Эминент, – бодрым голосом начал Бейтс. – Труппа с бору по сосенке, такие же бродяги, как я, но… Получается! «Ричарда III» я выбрал, потому что все знают текст пьесы. Его всюду играют… А вышло удачно: спектакль вроде визитной карточки. Какой же английский театр без Шекспира?
Не переставая работать карандашом, старик времени от времени кивал. Мол, продолжайте. Он любил слушать новости. Если давно не рассказывали – нервничал. Услышанное одобрял – улыбался, гримасничал; бывало, что и кланялся.
Он ничем не болел. Для своих восьмидесяти лет выглядел бодро. Врачи, приводимые Ури, просто диву давались. А что пишет ерунду… Чему удивляться? Возраст, мсье, возраст. И все-таки Бейтсу казалось, что где-то в глубине, за стеклом блеклого взгляда, скрывается прежний Эминент. Несколько раз, когда Ури не было рядом, он пытался серьезно поговорить со стариком – достучаться, услышать разумную речь.
Тот, кто был Рыцарем Лебедя, Филоном и, наконец, Эминентом, слушал, не перебивая. Улыбался. Не отвечал.
– Вот так, патрон, – вздохнул Бейтс. – Если повезет, поднакопим деньжат. Ури откроет свою лечебницу. А вы… Вы сможете переехать в большой дом с прекрасным камином. Или у вас другие планы?
Старик внезапно встал – и протянул Бейтсу рисунок.
– Ури! Ты что-нибудь понимаешь?
Настала очередь швейцарца удивляться.
– Мы видим море. Мы видим кораблики. Мы видим два берега. Рыбки. Морское дно. И длинная дорога прямо между рыбок…
– И цифры, – перебил Бейтс. – Патрон никогда прежде не писал цифр. Тысячи, миллионы… Смотри, тут какие-то буквы.
Надписи оставались загадкой. Рыбки, кораблики…
– Ури! Помнишь, о чем мы говорили вчера вечером?
– Мы удивлены. Вчера мы говорили, как обычно. Мы рассказывали новости…
– Был шторм, – перебил великана Бейтс. – Я рассказывал, что корабли из Англии не могут войти в гавань. И еще о том, сколько ежегодно теряет экономика наших стран из-за плохой погоды в проливе. Верно?
Он указал на листок.
– Знаешь, что это? Туннель под Ла-Маншем! Эскиз – и расчеты предполагаемых работ… Патрон, что вы от нас скрываете?
Старик, не отвечая, протянул зябнущие руки к камину. Тепло. Сытно. Хорошо. Мальчики здоровы. У Чарли скоро премьера. Правительство вигов включило в бюджет ассигнования на социальные программы. У Якоби в Петербурге какие-то сложности с «магнитным аппаратом». Но Якоби умница, справится. А в Дании, кажется, все-таки соберут первый парламент.
Думал он об этом или нет, но Адольф Франц Фридрих фон Книгге был счастлив.
3. Allegretto Эльсинор
Теплым майским днем двое молодых людей – юноша восемнадцати лет и девушка годом младше – любовались окрестностями Эльсинора. Место для этого они выбрали не вполне обычное. Посетители знаменитого музея имеют полную возможность осмотреть замок с достаточной высоты, поднявшись на одну из четырех башен, окружающих двор. В указанный день башнями соблазнились многие – по случаю воскресенья музей был полон гостей. Эти же двое устроились особо, на площадке пятой, «вобановской» башни, примыкающей к музею с тыла. Туда пускали далеко не всех. Строгий караул решительно пресекал попытки любопытствующих заглянуть за ея гладкие стены. О том, что находится внутри, ходило немало слухов, наверняка же знали лишь избранные.
Как видно, молодые люди числились в счастливцах.
По виду они не слишком отличались от большинства своих сверстников. Юноша был высок, широк плечами, носил густые светлые волосы и уже брился, о чем свидетельствовали свежие царапины на загорелых щеках. Одевался он просто, отдавая предпочтение серой матросской блузе. Единственным украшением служил яркий шейный платок, завязанный хитрым узлом. Девушка же была одета со всей приличествующей ее полу строгостью. Длинное темное платье сочеталось с изящным чепцом. Миловидная внешность показалась бы случайному зрителю романтичной, даже легкомысленной, если бы не излишне серьезное выражение лица. В руках девица держала не веер, не сумочку – и даже не входивший в моду лорнет! – а тяжелую подзорную трубу. Управлялась она с этим устройством, не слишком популярным у датских фрекен, с удивительной ловкостью, наводя трубу то на серую гладь Эресунна, то на квадрат замкового двора.
Легко предположить, что влюбленная пара, воспользовавшись оплошностью караульных, взобралась на секретную башню для сердечной беседы. Но это было бы ошибкой. Говорила только девушка. Тон ее был столь решителен, что прервать монолог не представлялось возможности.
– Гере Андерс Сандэ Эрстед-младший! Если вы еще раз назовете меня «вашей светлостью», я сочту, что вы дразнитесь. В этом случае – берегитесь! В пансионах, из которых меня регулярно исключали, я умела находить для своих обидчиков прозвища, до которых не додумался бы сам Ханс Христиан Андерсен. Не хочу прослыть хвастливой, но одна моя бывшая подруга до сих пор заикается…
– Маргарет! – рискнул вставить слово юноша. – Я вовсе не…
– Фрекен! Фрекен Маргарет Торвен! – отрезала девушка. – И не иначе. Между прочим, мой батюшка терпит обращение «граф» только от его величества, и то по старой дружбе. Ну, представьте, гере Эрстед, что не моему, а вашему уважаемому отцу король вздумал пожаловать титул. Приятно ли, когда к вам обращаются «ваша светлость» или, не приведи святая Агнесса, «ваше высочество»?
Юноша рассмеялся.
– Я чувствовал бы себя персонажем Дюма! Фрекен Торвен! Я лишь хотел обратить ваше внимание на новую статую у замковых ворот.
– Принц Ольгер работы Бертеля Торвальдсена. Классицизм в чистом виде, скука смертная. Нашему ваятелю до сих пор кажется, что на дворе XVIII век. Не спорю, исполнено изрядно…
– Это не принц, фрекен Торвен. Все думают, что это принц. Но внешность – иная.
Маргарет удивленно вздернула брови.
– Король, – пояснил юноша, – велел запечатлеть в камне облик некоего сержанта. Бедняга погиб, защищая замок. Теперь он – страж Эльсинора.
– Сеньор-сержант Оге Ольсен, – тихо сказала Маргарет. – Я не знала… Увы, гере Эрстед. Иногда мне кажется, что наши родители исчерпали весь запас подвигов на десять поколений вперед. В наши годы они уже воевали… Нет, я не хочу войны! Но нельзя же превращаться в комнатную герань! Представьте, вчера король предложил мне шифр[88] фрейлины. Я еле сдержалась. Особенно когда этот дряхлый любезник начал что-то плести про «лучший цветок Амалиенборга». В тот миг мне более всего хотелось записаться в карбонарии!
Эрстед-младший отвернулся, желая скрыть улыбку. Но девушка все-таки заметила и смутилась. На встречу с его величеством Маргарет напросилась сама. Надо же было наконец женить слишком робкого батюшку! Король не удержался от кислой мины, но обещал решить вопрос с будущей графиней фон Торвен в ближайшие дни.
– Я заметила его величеству, что статус фрейлины помешает мне заниматься неевклидовой геометрией. Государь в ответ изволил напомнить, что законы королевства Датского не позволяют девицам поступать в университет. Феодализм! Вам-то, гере Эрстед, слава богу, никто не мешает изучать вашу ботанику…
– Если бы! – юноша печально усмехнулся. – Знали бы вы, фрекен, какие у нас на факультете обскуранты! «Волею Божьей цветок состоит из стеблевой части, листовой и генеративной. Амен!» Мой научный руководитель уже пять лет не может добиться разрешения на экспедицию в Центральную Америку. А вдруг тамошние кактусы недостаточно благочестивы?
– Отправляйтесь в Гренландию, – с невозмутимым видом предложила Маргарет. – В наш майорат Тырвен. Вся тамошняя растительность – целиком в вашем распоряжении. Карликовая береза, лишайники, голубика… И много-много тюленей. Когда отцу слишком надоедают родичи, он приглашает их на охоту – в феврале месяце. Посидим, мол, у ночного костра, побродим по леднику, звездами полюбуемся. Слыхали? У нас зимой даже спирт замерзает! На полгода хватает – ни одного надоеды…
Молодые люди рассмеялись, восстанавливая нарушенный было мир. Девушка отошла от каменного зубца и шагнула туда, где, за еще одним рядом ограждений, внизу находился круглый дворик башни. Он не пустовал. Весь центр занимала странная конструкция из рычагов, кронштейнов и шестерней, в середине которой блестела сфера из серебристого металла. Не менее дюжины работников суетились вокруг, прикрепляя все новые детали.
Все это напоминало хранилище яйца арабской птицы Рух.
– Вначале я думал, что сие будет летать, – удрученно молвил Эрстед-младший. – Нечто вроде управляемого шарльера с трубой, как у пироскафа. Но дядя объяснил мне, что пока ни один движитель, ни паровой, ни электрический, не способен обеспечить устойчивый полет. Теперь я полагаю, что данный объект предназначен для плавания.
Девушка оживилась.
– Подводная лодка? Батюшка считает, что морские державы должны подписать конвенцию, запрещающую использование подводных кораблей для войны. Зато для науки такая лодка бесценна. Ничего, гере Эрстед! Когда-нибудь мы узнаем и этот секрет!
– Секрет… Нагородили наши уважаемые родители секретов! Не жизнь, а древнеримские катакомбы…
– Ты преувеличиваешь! – раздался сзади веселый голос. – Просто катакомбы, дорогой мой Андерс, надлежит исследовать постепенно. Не торопись, и всюду успеешь. Кстати, я тебя опять разочарую. Это – не подводная лодка.
Молодые люди обернулись. Увлечены беседой, они не заметили появления на башне новых гостей.
– Такой проект действительно был, – продолжал Андерс Сандэ Эрстед-старший, раскрасневшись от подъема по лестнице. – Но его величество зарубил сей замысел на корню. Именно по причине его неблагородства. Так вот, насчет тайн. Мсье Шевалье как раз начал рассказывать о своей поездке в Россию…
В этот миг на каменную площадку ступил и Огюст Шевалье. Поклонившись, он невозмутимо поинтересовался:
– Мне надлежит повторить все с начала?
– Петербургский эпизод опустим, – смилостивился Эрстед-старший. – Что там интересного? Ничего, включая заседание филиала Общества в высочайшем присутствии…
– Что тоже, признаться, выглядело тоскливо.
За эти годы Огюст Шевалье поездил по свету. Он даже умудрился побывать за океаном, в Канаде и Северо-Американских Штатах. Работа у Эрстеда оказалась хлопотной, что француза ничуть не огорчало. Плохо было лишь с учебой. В Копенгагенском университете допотопных животных изучать отказывались, не веря в само их существование. Оставался Париж, где Шевалье сдал экстерном за два курса.
Однако дальше дело застопорилось.
Древние монстры с горькой укоризной глядели на Огюста из музейных витрин. Однако в Париже ему хватало иных забот. В каждый свой приезд он обходил математический Олимп, пытаясь добиться публикации работ Эвариста Галуа. Господа академики обещали, сочувствовали, но дело замерзло намертво. Иные светила, из Германии и Англии, даже слышать не желали о статьях какого-то «мальчишки».
Шевалье недоумевал: это глупость – или нечто худшее?
– А что говорят там? – спросил Эрстед-старший. – Они-то уж точно должны знать: как и когда…
– Говорят, – отмахнулся Огюст. – И как, и когда. Просто я всякий раз забываю по возвращении, что именно. Я же вам объяснял: Механизм, системы защиты… Я даже не помню, скоро это произойдет или через пятнадцать лет.
– Жаль.
– А мне-то как жаль! Впрочем, это событие могло еще не стабилизироваться…
– То есть? – не понял Эрстед.
– Ну, потомки утверждают, что для обитателей хроносектора точные даты событий стабилизируются не сразу. Я, к примеру, уверен, что видел стариков Галуа у гроба сына, а мэр Бур-ля-Рена готов биться об заклад, что отец Эвариста умер за три года до того. Вот мсье Торвен поет про чижика-пыжика… А мне в Петербурге сказали, что эту песенку сочинили буквально на днях.
– Вы шутите, Огюст?
– Ничуть. В ней смеются над студентами Императорского училища правоведения, а оно всего месяц назад открылось на Фонтанке. Но, право слово, я не удивлюсь, если лет через сто всем будет доподлинно известно, что училище открыли не в 1834-м, а скажем, в 1835-м.
– Вы верите этому?
– Не знаю. Очень уж похоже на розыгрыш. – Шевалье нахмурился. – Хотя, с другой стороны, время – капризная материя. «С историей можно позволить любые вольности при условии, что сделаешь ей ребенка». Знаете, кто это сказал?
– Потомок? – предположил Эрстед.
– Дюма! Простите, мадмуазель Торвен, этот Дюма все свернет если не на кулинарию, так на сальности… Ну что, мне продолжать?
Общество Друзей народа перестало существовать, разгромлено полицией. Судьба сберегла Галуа-младшего от тюрьмы. Парень уехал вместе со своим другом Собреро в Италию, мать и прибежище всех искусств, чтобы не мозолить глаза властям и всерьез заняться живописью. Старший брат Огюста, Мишель Шевалье, напротив, был в фаворе. Выйдя из стен узилища, он стал советником Тьера, а затем направился за океан – изучать железнодорожные и водные пути сообщения Соединенных Штатов. Поговаривали, что под этим предлогом бывший сен-симонист выполняет секретные поручения французского правительства. Именно в Америке братья и встретились. Полон оптимизма, Мишель звал Огюста на государственную службу.
Отказ его огорчил.
Прошлое осталось далеко позади, лишь изредка напоминая о себе. В конце 1833 года, будучи по делам в Кенигсберге, Огюст потратил три лишних дня, чтобы посетить маленький городок в соседней Польше. Там его не знали и не ждали. С трудом он разыскал пожилого ксендза, с еще бóльшим – убедил того нарушить молчание. Наконец патер Ян поверил странному гостю, и они вместе навестили кладбище на окраине.
…Эту историю патер Ян вспоминать не любил. Ночь, громкий стук в дверь, растерянный голос сторожа. Старичок-инвалид молол чепуху: дескать, ключ от склепа ему пришлось выдать, потому что служба такая, но посмотреть надо, ибо здесь и до беды недалеко. Священник, когда понял, о чем речь, ахнул, схватил фонарь…
Они опоздали.
Дверь фамильного склепа была раскрыта настежь. Мертвое тело, еще не успев остыть, лежало на могильных плитах. В седых волосах блестели снежинки. Скрюченные пальцы вцепились в бронзовый ключ. Но незримые врата отверзлись сами, пропуская заблудившуюся душу.
Баронесса Вальдек-Эрмоли приложилась к предкам своим.
И вот – снова Россия. Ехать из Петербурга в Тамбов Шевалье не собирался. В одну реку дважды не входят! Но его уговаривали всей Академией. Еще бы! «Мсье! Вы же – живой свидетель Тамбовского Дива! Просим, умоляем…»
– Тамбовское Диво – не метеорит. Это утка. Газетная, – решительно заявила фрекен Торвен. – Мне так батюшка сказал. И добавил, что если человека как следует ударить по голове, то он увидит не только Жеводанского Зверя, но и победу мировой революции. Батюшка знает, у него опыт.
Шевалье не стал комментировать, ведя рассказ дальше.
Его спутником оказался давний приятель Торвена – некий Познанский, известный переводчик и автор популярнейшего очерка «Пережившие Диво». Очерк вышел отдельной книгой в издательстве Сытина. Автор, правда, ограничился рассказами очевидцев. Собственные воспоминания он, к всеобщему удивлению, опустил – не иначе, готовил новую книгу.
В Тамбове француза засыпали версиями. Метеорный град с Луны пробудил дремлющие свойства местной природы. Ядовитые миазмы привели к массовым галлюцинациям. Магнетическая флюидарность позволила видеть изнанку реальности…
«Аномалия!» – сказали ученые.
«Одурмания!» – с пониманием откликнулся народ.
Пока его спутники записывали показания свидетелей, имя которым было легион, и бродили по лесу в поисках осколков Лунного Камня, Шевалье тайком заехал в Ключи.
– Что такое «Ключи»? – заинтересовался Эрстед-младший.
– Nogler, – перевел с русского на датский Эрстед-старший. – Такая деревня. Мы жили у тамошнего помещика. Я когда-нибудь расскажу тебе поподробнее, Андерс…
С хозяином Шевалье не встретился – у Павла Ивановича Гагарина случился очередной приступ. Зато удалось перекинуться словечком с его братом. Константин Иванович был любезен, но о прошлом вспоминал без воодушевления. Суета, беготня, лишние толки.
Легко ли жить в Диве по самые уши?
Более всего Константина Ивановича расстроил внезапный отъезд князя Енгалычева. Что за моветон-с? Даже попрощаться не изволил, татарин! Шевалье кивал: да, вы совершенно правы. У него перед глазами стояла даже не могила, а так, ямка, в которой они с Эрстедом наскоро погребли останки китайца. Когда выстрел прервал обряд, на полу избы обнаружился не человек, а странная чепуха. Обгорелый скелетик, уродливый череп с кулачок. Тонкие косточки то ли рук, то ли лапок, изломанные спицы-ребра…
Как выразился переводчик Познанский по другому поводу: «не мышонок, не лягушка, а неведома зверушка».
Ямку-могилу Шевалье обошел десятой дорогой. Зато посетил иную – ухоженную, под мраморным надгробием. Будучи католиком, князь Волмонтович не имел права на место среди православных могил. Гостя, однако, уважили, отправив на вечный покой рядом с кладбищенской оградой – у самых ворот, под высокими старыми ивами. Белый мрамор, зеленая трава…
И свежие цветы.
Местные крестьяне отчего-то прониклись к покойному особой симпатией. Его гибель не связывали с Дивом или нашествием «монстров». В деревнях судачили, что добрый пан-поляк порешил себя из-за любви. Будто бы пришло письмо из далекой Польши прямо в Ключи, а в том письме сказывалось, что умерла его возлюбленная, прекрасная паненка Елена. Не выдержало сердце верного рыцаря Казимира, взорвалось гранатой. Вот и видят его лунными ночами на вороном коне рядом с белокурой всадницей – Еленой-невестой. Даже песню сложили о том, как приключилась в селе страшная беда – застрелился чужой человек, бесшабашная голова.
Пришлось хоронить без пенья и ладана.
– Фольклор, – отрезала фрекен Торвен. – Белоснежка и семь подземных троллей. Призрак Храброго Портняжки. Гере Эрстед! Не смешно ли в наши дни верить в такую ерунду?
Отец и сын, не зная точно, кому задан вопрос, переглянулись.
– Народные предания по-своему поучительны, – начал старший. – Обобщение векового опыта. Есть многое на свете, друг Горацио…
– Вы слишком категоричны, Маргарет, – вздохнул младший.
– И нет уж кожи на костях, нет каски, нет колета, лишь меч в руках скелета, – замогильным голосом продекламировала девушка. – Ришелье был прав, когда предлагал не выделять средства на гуманитарное образование. Из моего последнего пансиона меня выгнали из-за блюдца – самого обычного, мейсенского фарфора. С его помощью классная дама беседовала с духами, а мне вздумалось защитить основы материализма… Вы не станете возражать, гере Эрстед, если ваш сын покажет мне отдел флористики?
Спорить никто не решился. Стуча каблуками, молодые люди отправились в долгий путь по винтовой лестнице, ведущей к подножию башни.
– Блюдце, – задумчиво повторил Андерс Эрстед. – Бедная классная дама. А ведь у Торвена еще и сын растет! Кстати, о детях… Вы видели в Ключах того ребенка, Огюст?
Шевалье вздрогнул. Мальчик трех лет от роду сидит на полу; в ручках – деревянная лошадка, крохотная, с ладонь. На стене – киот с образами. Огромные глаза Пресвятой Девы, прижимающей к груди Младенца…
Рад бы забыть, да нельзя.
– С маленьким Николя все в порядке, – преувеличенно бодро откликнулся он. – Он совершенно здоров. В развитии не отстает от сверстников. Зимой бегает в одной рубашке. Пытались надеть на него зипун, шапку – орет как резаный. Что ж, отстали. Тем паче он ни разу не простудился. Говорят, аппетит плохой. Ест очень мало – хлеб, чай, соленая рыба…
– Внешность? Глаза? Сходство с отцом? С дедом?
Шевалье честно старался вспомнить детское лицо. Тогда, в Ключах, ему почудилось… Он подумал… Нет, память молчала. Зато вдали, у края мира зазвенели хрустальные колокольчики.
– Это кто опять спешит В нашу компанию, к Маржолен? Это кто спешит сюда — Гей, гей, от самой реки?– Нет, сходства я не заметил. Ребенок как ребенок. Вам не кажется, что мы сами заводим себя в тупик? Все-таки должна быть грань между наукой и шаманством. Металл, двигатель, электричество… В конце концов, вымерший мегалозаур! – все это есть, оно познаваемо…
– А ваш Прекрасный Новый мир с ромбами и бассейнами – всего лишь сон, – смеясь, подхватил Эрстед. – Сюжет для баллады. У будущей графини фон Торвен наблюдалось психическое расстройство, излеченное методом шока. Бедняга Волмонтович страдал малокровием. Солнце же, как показывают многократные визуальные наблюдения, вращается вокруг Земли. Знаете, Огюст, в таком случае я предпочту остаться романтиком. Мир сложнее, чем это кажется нам. Жизнь не описать математическим методом, не разложить по пробиркам. Служить прогрессу – не значит замкнуться в границах сиюминутного Познания. Иначе мы возведем не Храм Науки, а очередное капище с фанатиками-жрецами и идолами, вымазанными кровью. Допустим, мы ошиблись. Допустим, вы – нелепый сновидец, а Воскрешение Отцов – мечта, сказка. Но разве такая мечта не вселяет надежду? Встретиться через века! Подняться над Временем, встать над Смертью? Я согласен работать на такую мечту, как Сизиф. Можно сказать, что камень раз за разом скатывается обратно. Но можно сказать, что мы раз за разом поднимаемся на вершину. Что вам больше нравится, Огюст?
Он сорвал галстук, расстегнул ворот рубашки, шагнул к краю башни.
– Смотрите! – рука его указывала вниз, на серебристую сферу. – Еще двадцать лет назад в это никто бы не поверил. Алюминиум не был даже сказкой. Теперь же мы видим своими глазами…
– И с полным основанием можем поинтересоваться: а зачем это нужно?
Академик Ханс Христиан Эрстед выбрался наверх, страдая одышкой.
– Красиво и прочно – это первый ответ. Но за первым неизбежно следует второй. Сейчас эта идея совершенно безумна, поэтому я и позволил себе рискнуть. Желаете знать, что это будет?
Усмехнувшись, академик глянул вверх, в зенит, в небесную синеву – и подмигнул замершему в ожидании Великому ветру.
Отец всех ветров терялся в догадках.
Январь 2008 – январь 2009Примечания
1
Увертюра (от франц. ouverture, вступление) – инструментальное вступление к драматической композиции (опере или оперетте), обычно в трех частях. Увертюры писались для того, чтобы дать опоздавшей публике время занять место в зале.
(обратно)2
Бунт против державной власти.
(обратно)3
– Да! Я нашел его! Теперь я богат! Мы все богаты!
– Не ори так громко, Джо! Будь осторожен… (англ.)
(обратно)4
Фаэтон и ландо – коляски с открывающимся верхом. «Эгоистка» – легкая коляска на одного седока с кучером спереди.
(обратно)5
«Бери свой быстрый карандаш, рисуй, Орловский, ночь и сечу!». А. Пушкин, «Руслан и Людмила».
(обратно)6
Угол – так называли двадцать пять рублей.
(обратно)7
Магистерий – философский камень.
(обратно)8
Цыбик – ящик с чаем, от сорока до восьмидесяти фунтов.
(обратно)9
Коллежский регистратор – младший гражданский чин 14-го класса. Антон Гамулецкий в этом чине вышел в отставку в 1808 году
(обратно)10
Настоящее имя графа Калиостро. Красивую фамилию Калиостро он присвоил сам, взяв ее у своей покойной тетки Винченцы Калиостро.
(обратно)11
Раёк – верхний ярус театра; галерка.
(обратно)12
Жизнь коротка, искусство вечно! (лат.). В античности наука и искусство – единое понятие. Собственно, Гиппократ имел в виду искусство медицины. Для Эминента это звучит вызовом: «Жизнь коротка, наука вечна!»
(обратно)13
Сибирка – короткий кафтан, который часто носили купцы и лавочники; обычно синего цвета, сшитый в талию, без разреза сзади, со стоячим воротником.
(обратно)14
Бог из машины (лат). В античном театре – явление божества, спускавшегося с «неба» в специальном механизме, которое разрешало все проблемы героев.
(обратно)15
Бенуар – ложи по обеим сторонам партера на уровне сцены. Бельэтаж – первый ярус балконов над партером и амфитеатром.
(обратно)16
Семья моя увеличивается, мои занятия вынуждают меня жить в Петербурге… расходы идут своим чередом, и так как я не считал возможным ограничить их в первый год своей женитьбы, долги также увеличились… (франц.)
(обратно)17
Придворное звание камер-юнкера соответствовало чину статского советника (V класс), что подчеркивало расположение государя к Пушкину, на тот момент всего лишь титулярному советнику (IX класс). Это звание, пожалованное императором, обещало быструю карьеру. По военной табели фактически капитану дали бригадирскую должность (выше полковника, ниже генерала-майора).
(обратно)18
Мафусаил, дед Ноя, прожил почти тысячу лет. Умер он перед самым потопом, начало которого Вышней волей было отсрочено на неделю – ради траура по патриарху. «После нас хоть потоп» (франц. «Apres nous le deluge») – сказано маркизой де Помпадур в утешение Людовику XV, проигравшему битву при Росбахе.
(обратно)19
Двууглеродистым водородом тогда назывался бензол (С6Н6). Поначалу формула бензола была неверно определена как С2Н. Термин введен М. Фарадеем, учеником Х. Эрстеда-старшего, доложившим об открытии нового вещества Лондонскому Королевскому обществу летом 1825 года. В российском учебнике 1831 года «Свойства началъ химическихъ, и некоторыхъ соединенiй ихъ» это соединение называется елеотворным (маслообразующим) газом.
(обратно)20
Заставить себя уважать – идиома, близкая к «сыграть в ящик», «дать дуба» и пр., то есть умереть. Ср. ироническое у Пушкина в «Евгении Онегине»: «Он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог».
(обратно)21
Вы не поможете мне сойти с лошади? (франц.)
(обратно)22
Военный чин генерал-аншефа был в 1796 году заменен на чин полного генерала (от кавалерии, инфантерии или артиллерии). Старомодность термина, употребленного Гамулецким, подчеркивает почтенный возраст иллюзиониста. По «Табели о рангах» чин генерал-аншефа приравнивался к цивильному чину действительного тайного советника.
(обратно)23
Светоч (лат.).
(обратно)24
Подчеркнутое обращение к низшему. К равному обращались: милостивый государь мой. К высшему: милостивый государь.
(обратно)25
Имеется в виду орден Св. Александра Невского, полученный князем Гагариным в 1813 году. «Алмазы», то есть дополнительные бриллиантовые знаки к уже имеющемуся ордену, записанные отдельной строкой в орденский формуляр, князь заслужил позже.
(обратно)26
Апофеоз – заключительная торжественная массовая сцена оперы. Обычно апофеоз носит монументальный характер и исполнен особого подъема, величия.
(обратно)27
Червонец (в этот период времени) – трехрублевая золотая монета. Империал – золотая монета достоинством в десять рублей.
(обратно)28
Бытие 3: 19.
(обратно)29
Дедушка – почтительное обращение к старшему у китайцев.
(обратно)30
Черт возьми! (франц.)
(обратно)31
«Королевский город» (кит.) – Кенигсберг.
(обратно)32
«Волосатики» (кит.) – русские (шутливо-пренебрежительное).
(обратно)33
О этот русский деспотизм! (франц.)
(обратно)34
Свадебное путешествие? Ну, совет да любовь! (нем.)
(обратно)35
Третье отделение (франц.). Имеется в виду Третье отделение Собственной его величества канцелярии, в чье ведение входили высшая полицейская безопасность, административная высылка и собрание сведений о лицах, находившихся под надзором полиции.
(обратно)36
Собака – страх. Князь – беда (франц.).
(обратно)37
Муж и жена – общий бодисатва. Я – счастье (франц.).
(обратно)38
Анри Бейль, писавший под псевдонимом Стендаль, отметил в 1820 году: «Россини – практически конченый человек. Он один ест столько, сколько трое обжор, вместе взятых. Он невероятно толст и поглощает по двадцать стейков ежедневно. Короче говоря, он стал отвратительной свиньей».
(обратно)39
Явиться в бальную залу при шпорах означало заявить о своем отказе от танцев. Военные франты иногда пренебрегали этим знаком, что приводило к казусам – великий князь Константин, танцуя с Нарышкиной, запутался шпорами в ее шлейфе, отчего оба упали на пол.
(обратно)40
Орден Св. Анны 2-й степени.
(обратно)41
Вид легкой накидки.
(обратно)42
9-я симфония, начинаясь трагической темой, завершается «Одой к радости» на слова Шиллера.
(обратно)43
Иностранный легион (франц.).
(обратно)44
Имеется в виду освобождение Москвы от поляков в 1612 году.
(обратно)45
В нем много от прапорщика и чуть-чуть от Петра Великого (франц.).
(обратно)46
Николай I (1796–1855) умрет по официальной версии – от простуды. Лейб-доктор Мандт, дежуривший у постели больного, боясь расправы, сбежит за границу – где и расскажет, что император в связи с поражением в Крымской войне велел дать ему яду. Факт отравления подтвердит и протокол вскрытия тела, составленный анатомом Грубером и опубликованный им в Германии. За эту публикацию Грубера посадят в Петропавловскую крепость. «Учись умирать!» – сказал Николай I на пороге смерти, прощаясь с внуком, будущим царем Александром III.
(обратно)47
Любовь втроем (франц.).
(обратно)48
«Всего лишь скрипач» (дат.).
(обратно)49
Первое название Исаакиевской площади.
(обратно)50
Речное плоскодонное судно.
(обратно)51
Тогдашнее название Таллина.
(обратно)52
Се человек! (лат.) Сказано Пилатом, выведшим Иисуса из судилища.
(обратно)53
Еще Польша не погибла,
Пока мы живем,
Все, что взято вражьей силой,
Саблями вернем…
«Песня польских легионов в Италии», позднее «Мазурка Домбровского» – гимн восстания поляков в 1830–1831 годах.
(обратно)54
В 1823 году шотландский химик Чарльз Макинтош, измазав рукав сюртука раствором каучука, обнаружил, что рукав не промокает. Взяв патент на изобретение, он основал компанию «Charles Macintosh and C°» по производству непромокаемых плащей.
(обратно)55
«Вашей светлостью» в России титуловали светлейших князей. Бароны же именовались просто: господин барон. Общий их титул не отличался от дворянского (ваше благородие). Формула обращения была единственным отличием российских баронов от рядовых дворян.
(обратно)56
Храм иконы Божьей Матери (франц.). В 1813 году храм был заново освящен.
(обратно)57
Цель оправдывает средства (лат.).
(обратно)58
Пролив между островами Фюн и Лангеланд (родина Эрстеда), соединяющий Балтийское море и пролив Каттегат.
(обратно)59
– Не знаю, почему, только в комедии нет и речи о Дании…
– Не более, чем в Европе (франц.).
(обратно)60
Гиль – чепуха, ерунда. Забоданы – вздор.
(обратно)61
Проигрыш в карточной игре; иносказательно – трудное положение.
(обратно)62
Макабр (франц. macabre) – танец смерти. Средневековое изображение людей, танцующих вместе со скелетами, призванное напоминать живым о неизбежности конца.
(обратно)63
– Как дела?
– Хорошо, а у вас? (франц.)
(обратно)64
Свинособака (Schweinhund) – одно из самых оскорбительных немецких ругательств.
(обратно)65
Жеводанский Зверь (франц.).
Это была земля незабвенного Зверя, этого Наполеона среди волков! О, что у него была за карьера! Он ел женщин, детей и пастушек во всей их красе; видели, как он среди бела дня преследовал дилижанс с верховым по королевскому тракту, и карета и верховой удирали от него в ужасе, галопом. Повсюду с ним расклеивали плакаты, как с политическим преступником, и за его голову было обещано десять тысяч франков… (англ.). Р. Л. Стивенсон «Путешествие с ослом в Севенны», 1879 г.
(обратно)66
Птицемлечник, птичье молоко (лат.).
(обратно)67
Жизнь коротка, а небо – навсегда, дитя мое! (франц.).
(обратно)68
Филадельфия по-гречески означает «Братская любовь».
(обратно)69
И впрямь – история Ивана Гагарина и актрисы Семеновой в скором будущем почти буквально повторится с Павлом Гагариным и оперной примадонной Ольгой Вервициотти. Впрочем, родня не даст им обвенчаться. Их сын, Александр Ленский-Вервициотти (1847–1908), станет знаменитым актером и режиссером Малого театра.
(обратно)70
Оставьте всякую надежду, вы, входящие сюда (итал.). Из «Божественной комедии» Данте; надпись на вратах ада.
(обратно)71
Вергилий – римский поэт. В «Божественной комедии» Данте он выступает в роли психопомпа – проводника по кругам ада.
(обратно)72
Классицизм для бедных (франц.).
(обратно)73
Меня зовут Амалия фон Клюгенау! (нем.).
(обратно)74
Для дорогого гостя (нем.).
(обратно)75
Он едва спасся от чудо-о-овища. Какой кошма-а-ар! (нем.).
(обратно)76
На месте нахождения (лат.).
(обратно)77
О-о, мне стра-а-а-ашно! (нем.).
(обратно)78
Дадань – татары (кит.).
(обратно)79
Добро пожаловать! (татарск.)
(обратно)80
Здоровы ли вы? (татарск.)
(обратно)81
Напишите вот на этом листе! (татарск.)
(обратно)82
Сколько ты заплатил этому негодяю? (польск.)
(обратно)83
Тридцать рублей серебром (польск.).
(обратно)84
Предупрежден – значит, вооружен (лат.).
(обратно)85
Высший из датских рыцарских орденов. Знак ордена представляет собой фигурку слона, покрытую белой эмалью, с синей попоной. На аверсе расположен крест из пяти бриллиантов, на реверсе – инициалы правящего монарха. На спине слон несет башню и мавра с копьем.
(обратно)86
С 1834 года в Дании начали собираться Совещательные сеймы. Дарованный королем Основной закон, официально не названный «конституцией», позволил сохранить стабильность в стране до 1848 года, когда новая «либеральная» конституция, принятая королем Фредериком VII, спровоцировала кризис, едва не разрушивший королевство. Страна была спасена правительством при активном участии министра А. С. Эрстеда, в скором времени возглавившего кабинет в качестве премьер-министра. В настоящее время король Фредерик VI считается в Дании последним великим монархом.
(обратно)87
Наш славный дядюшка Ури (франц.).
(обратно)88
Особый знак отличия: золотой с бриллиантами, увенчанный короной вензель персоны, при которой фрейлина состояла.
(обратно)
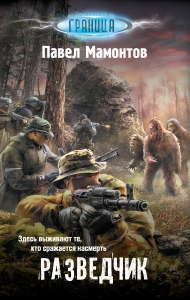

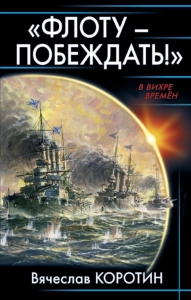

Комментарии к книге «Механизм жизни», Андрей Валентинов
Всего 0 комментариев